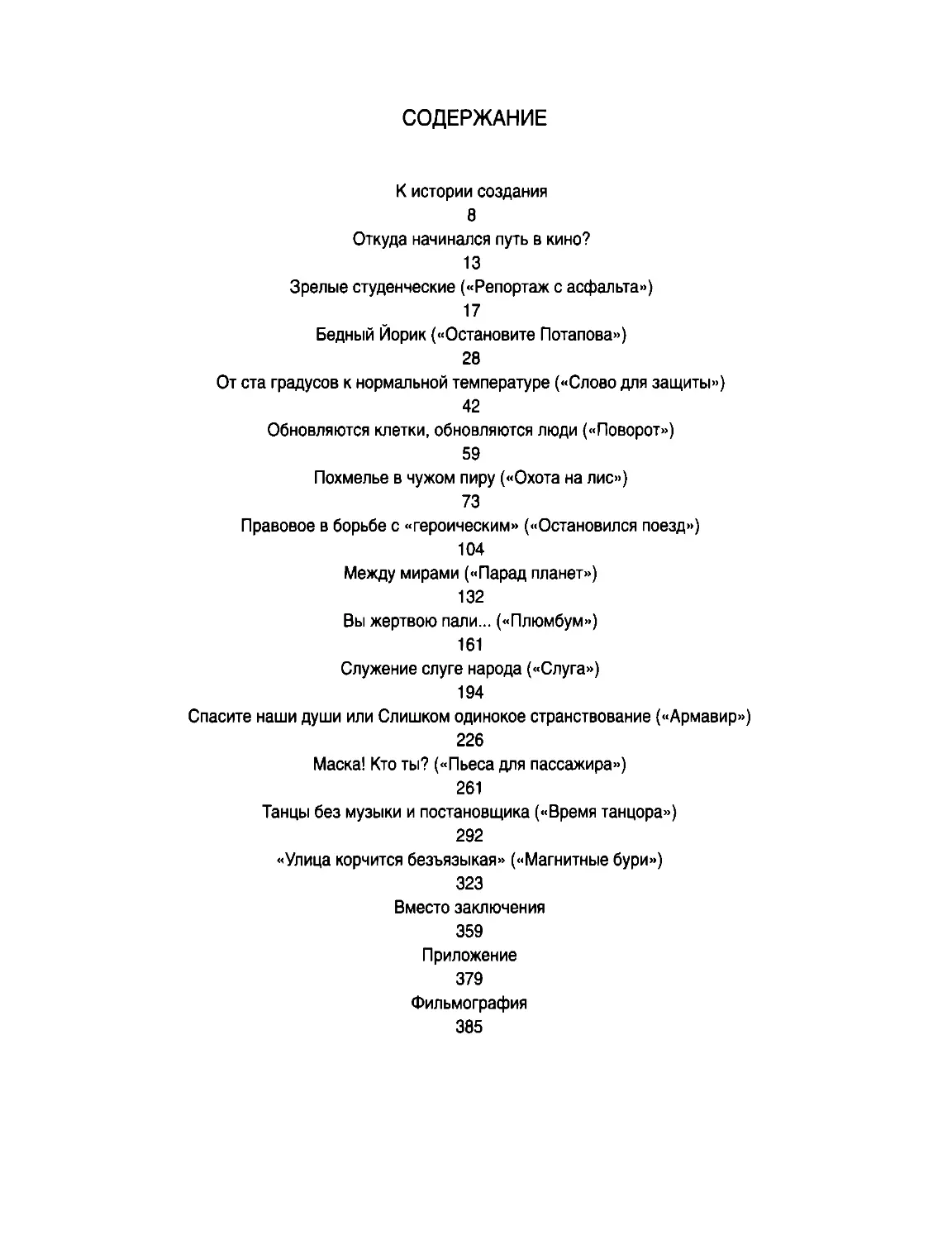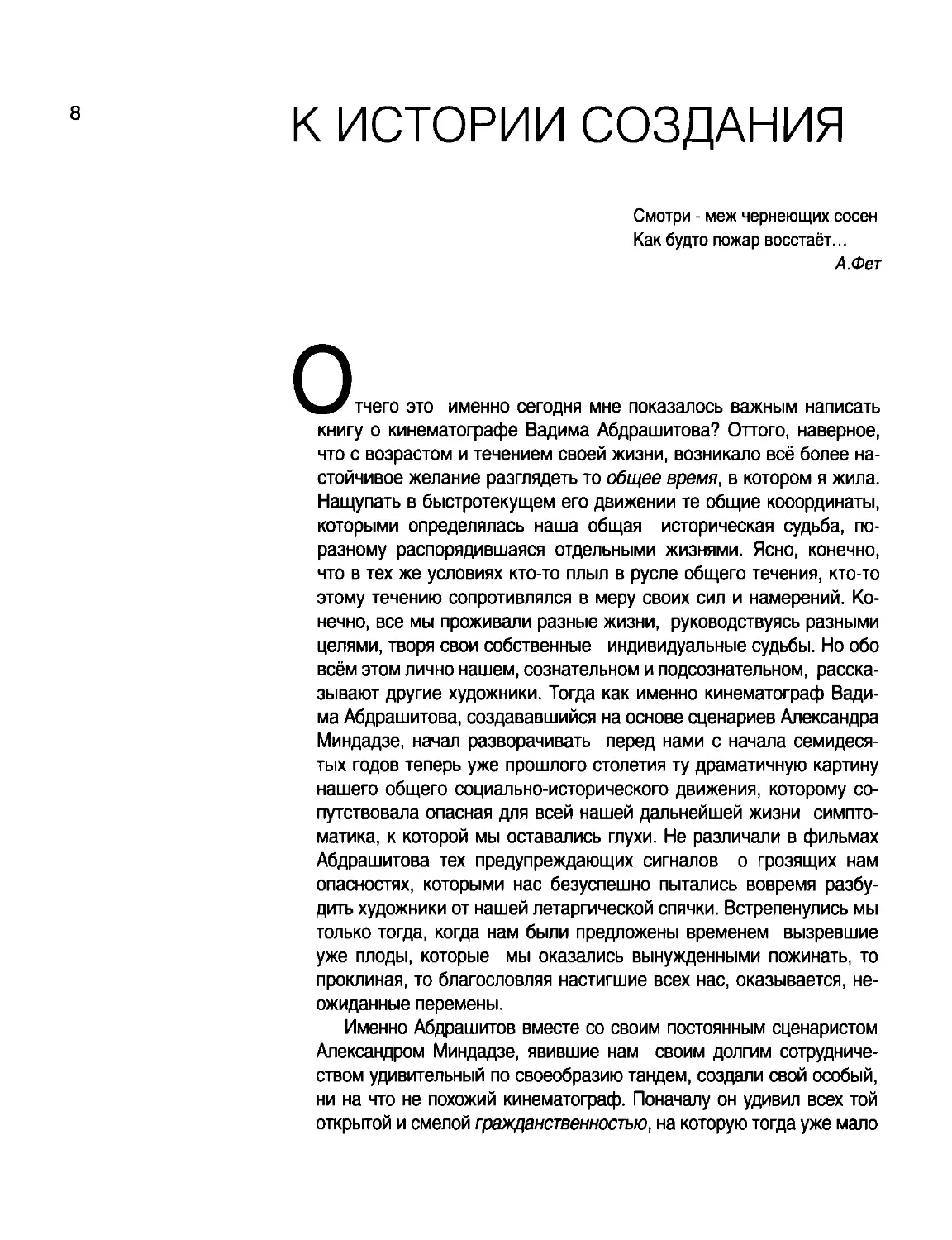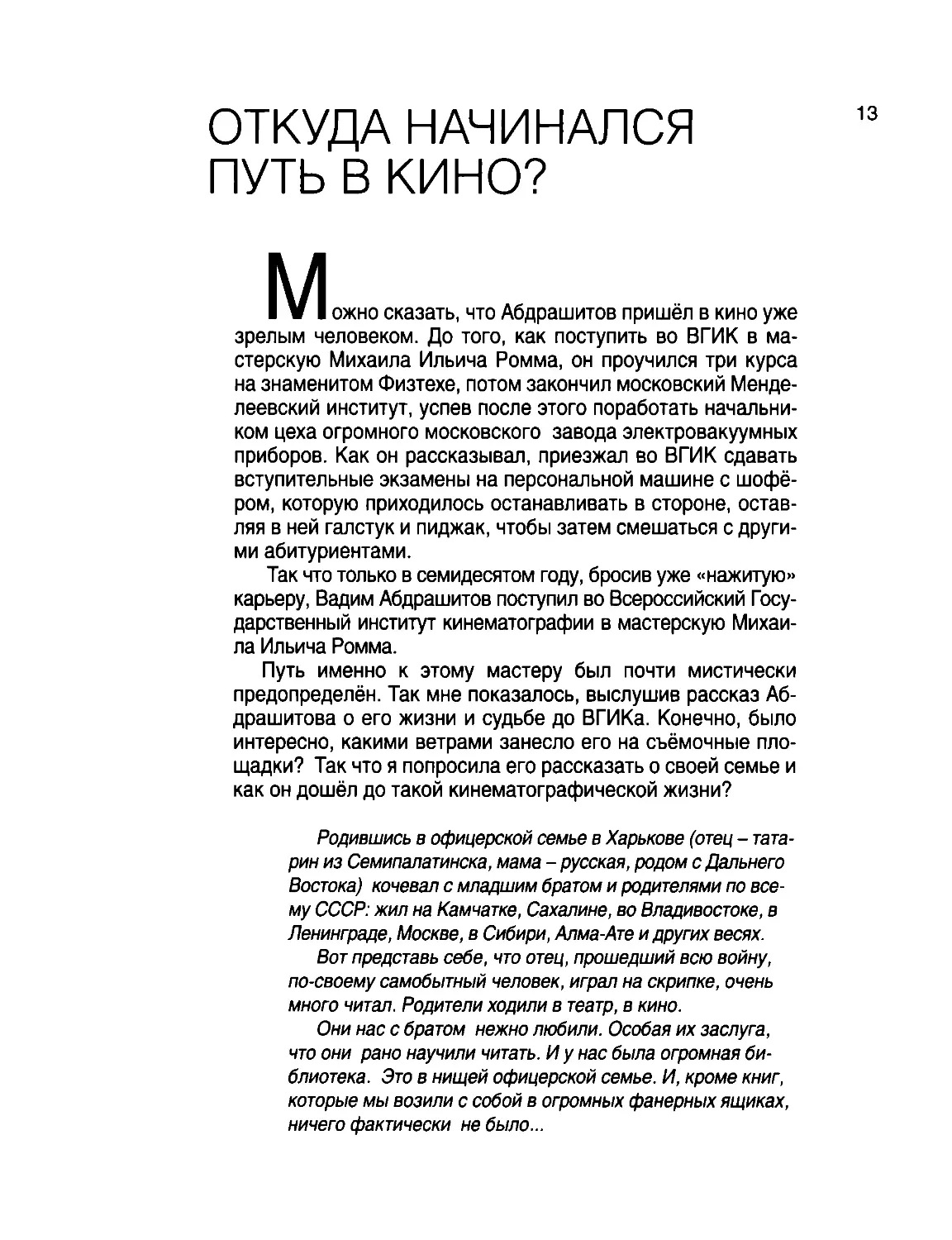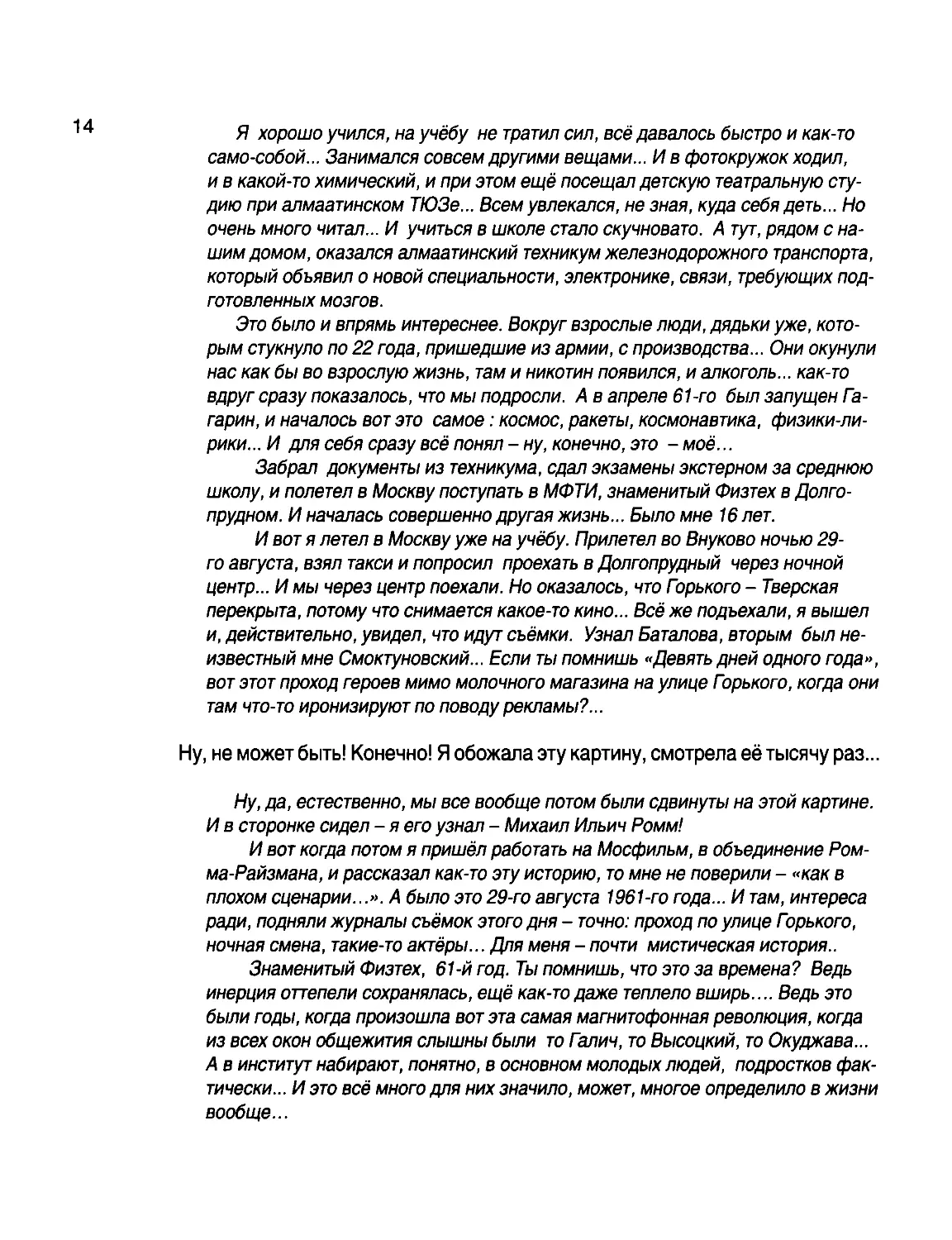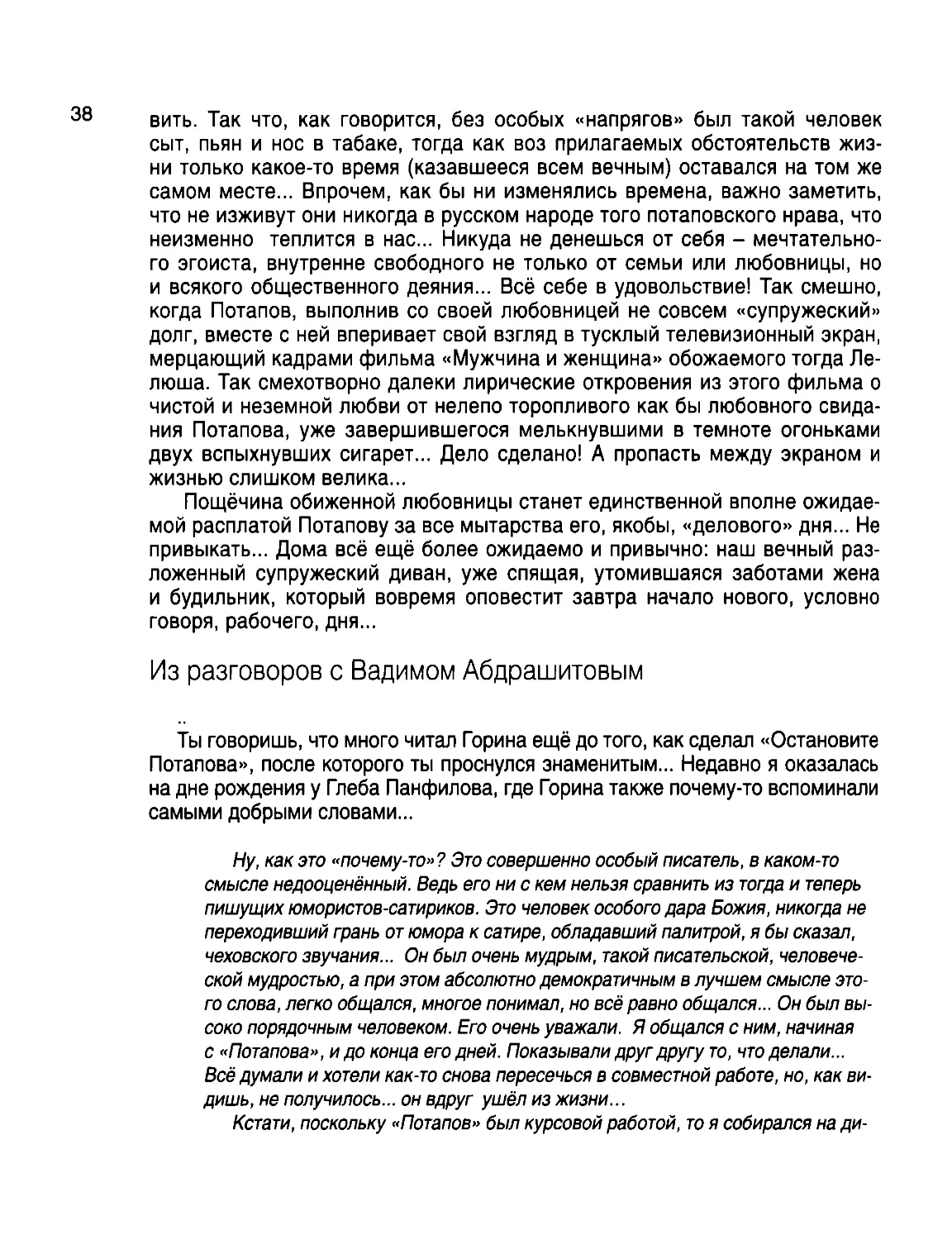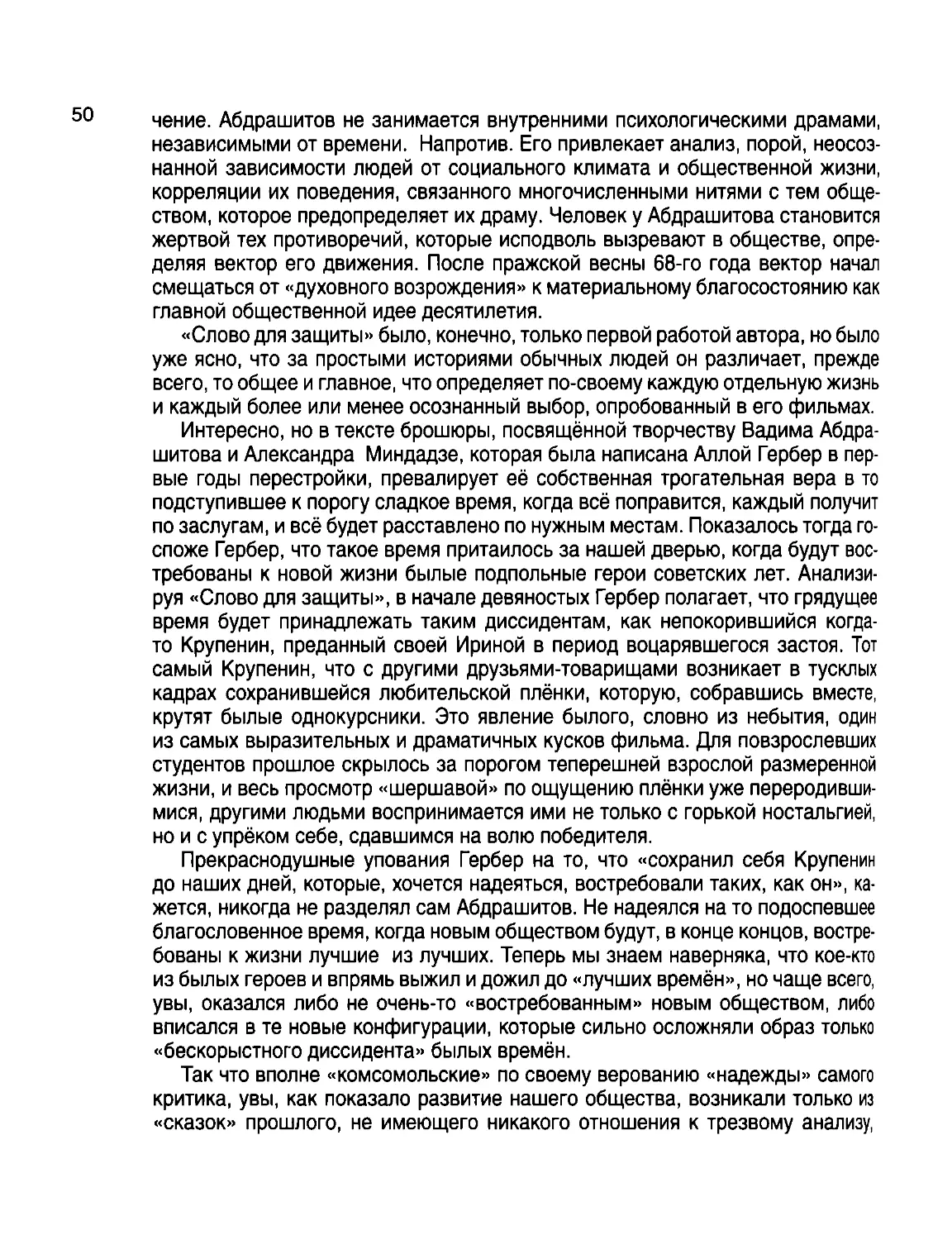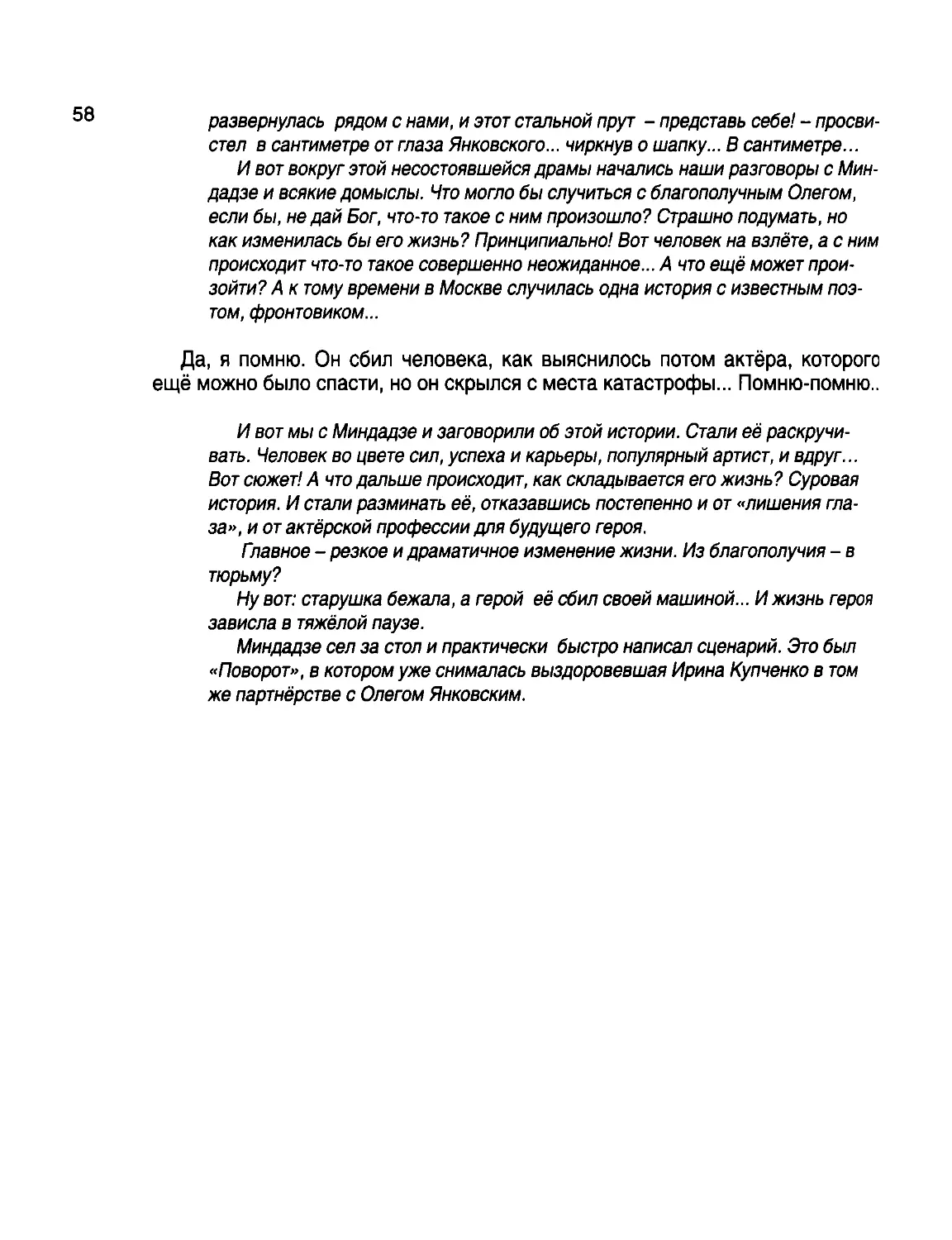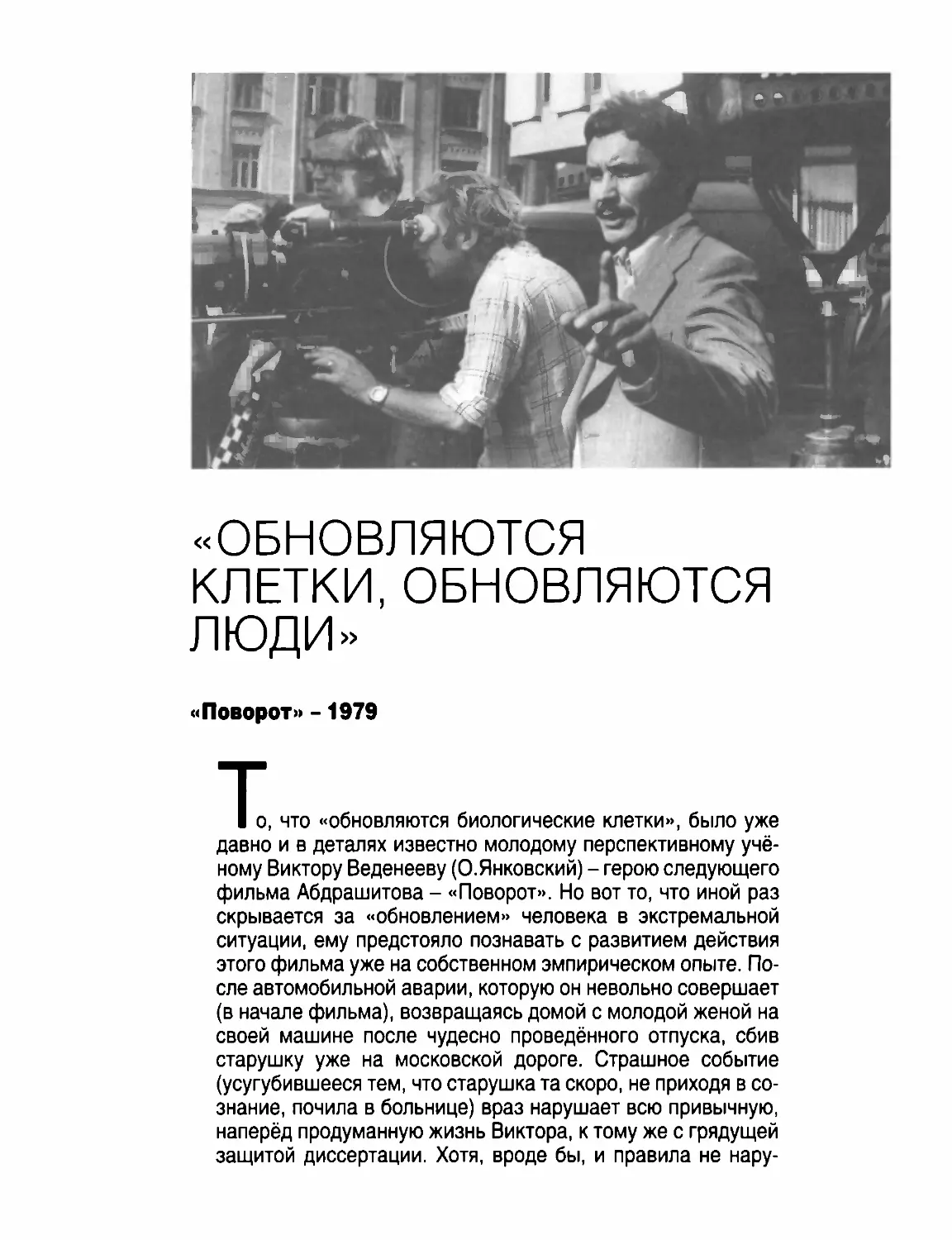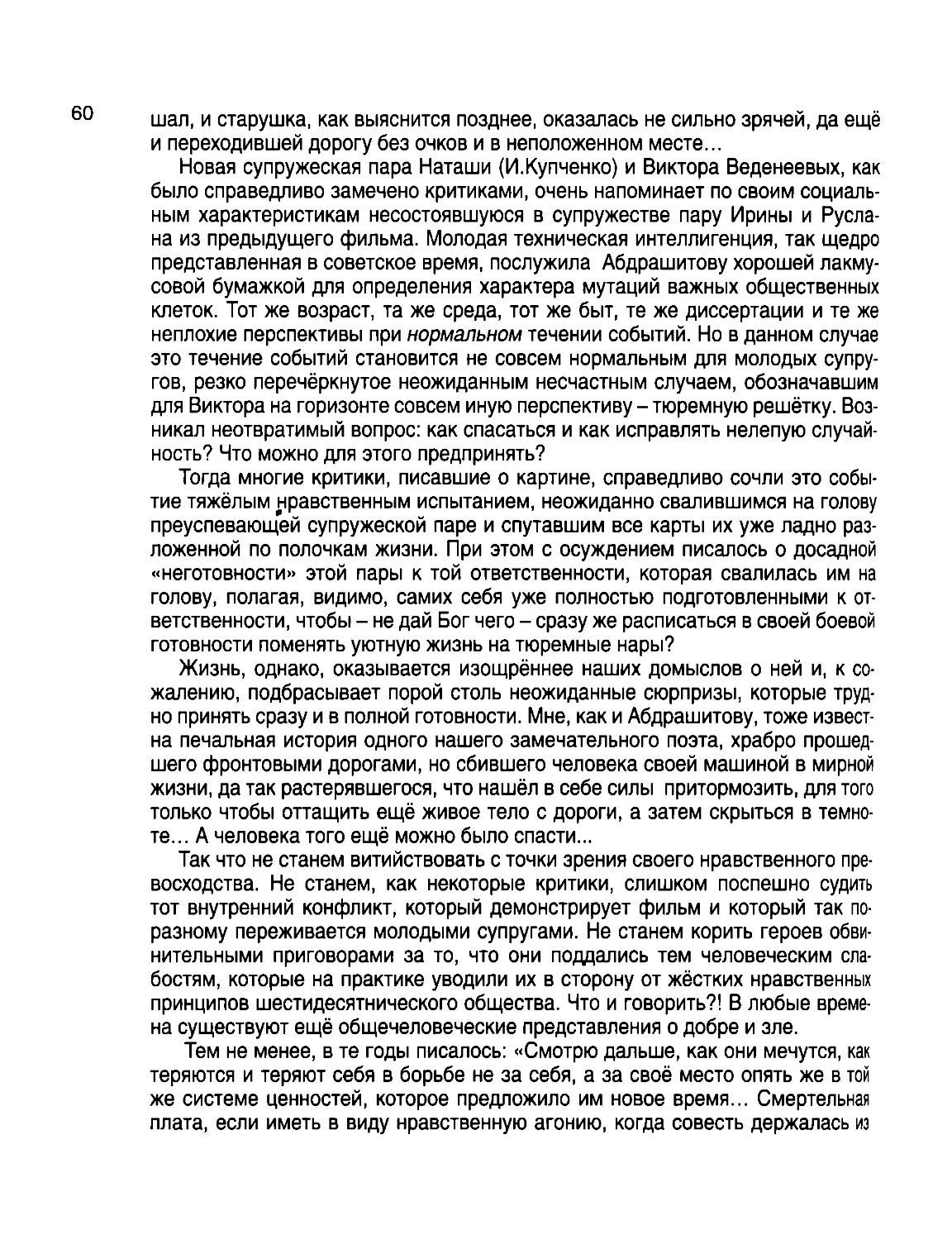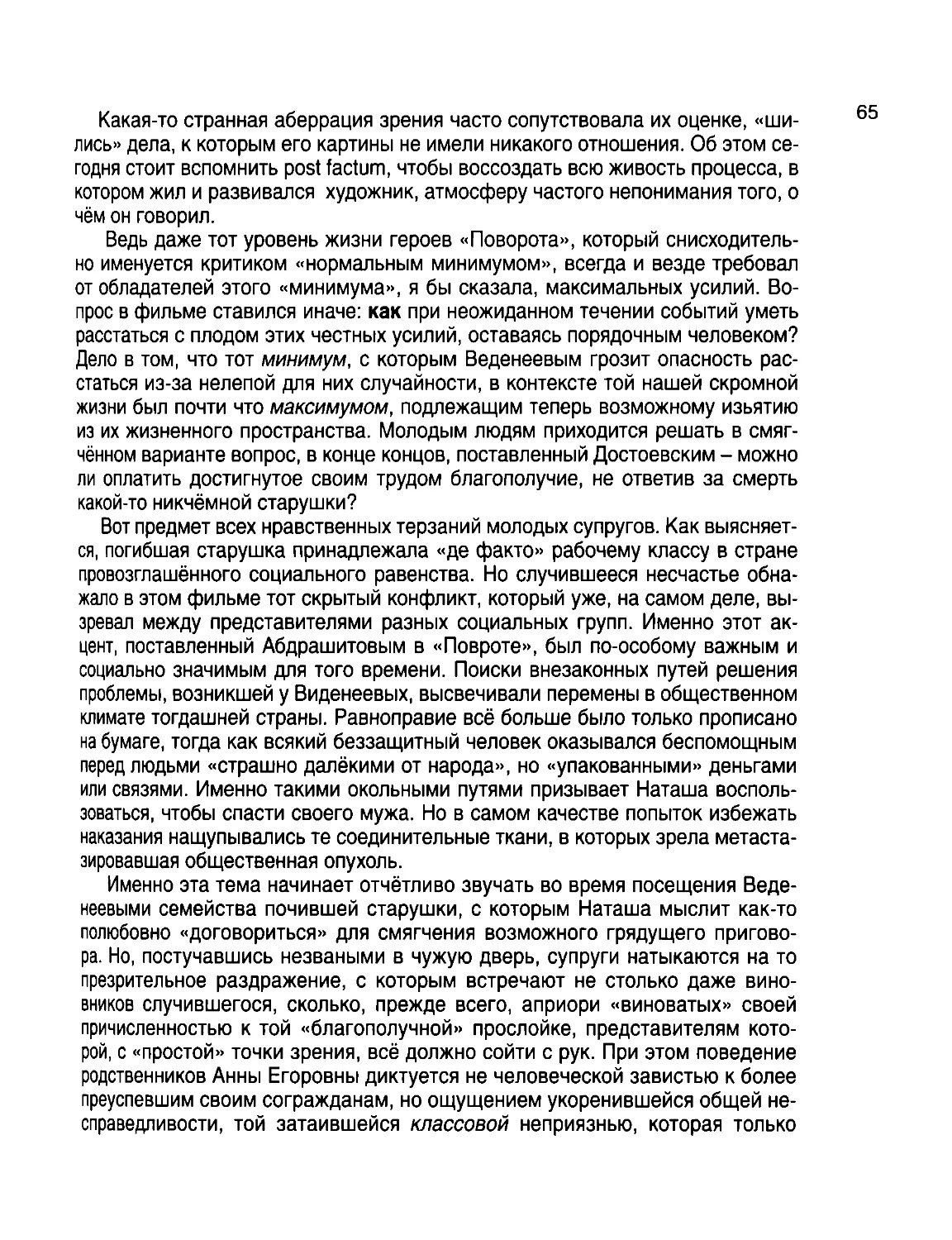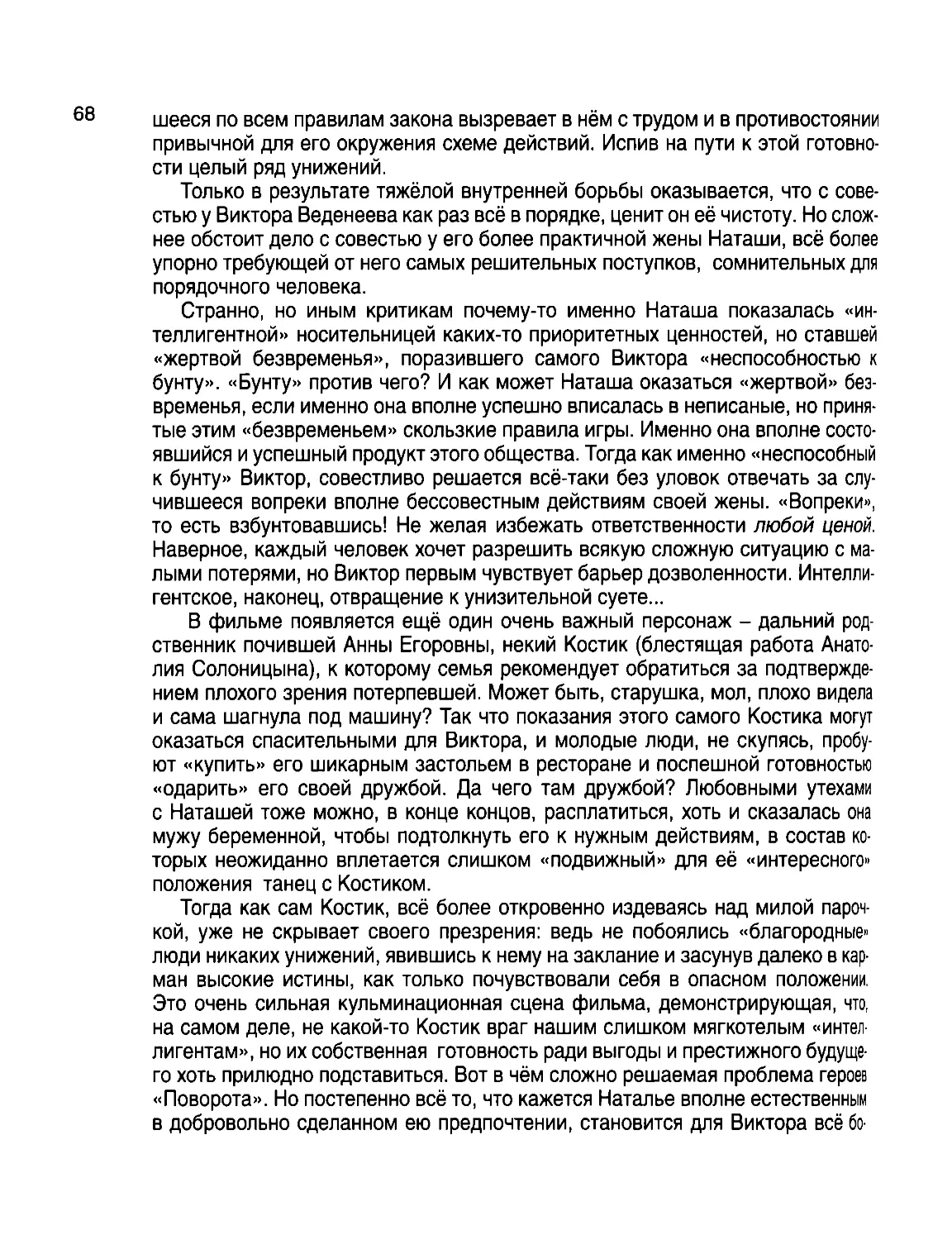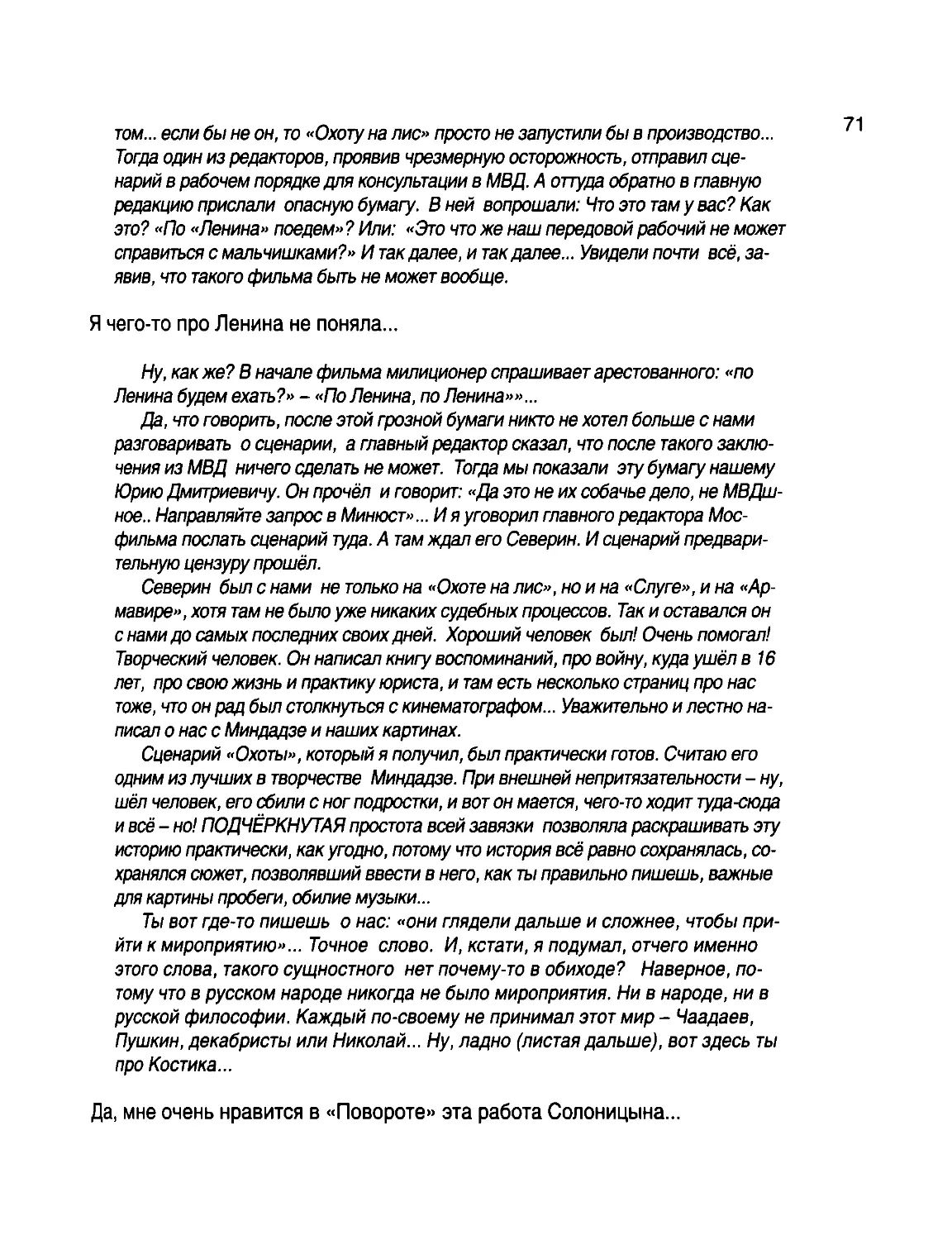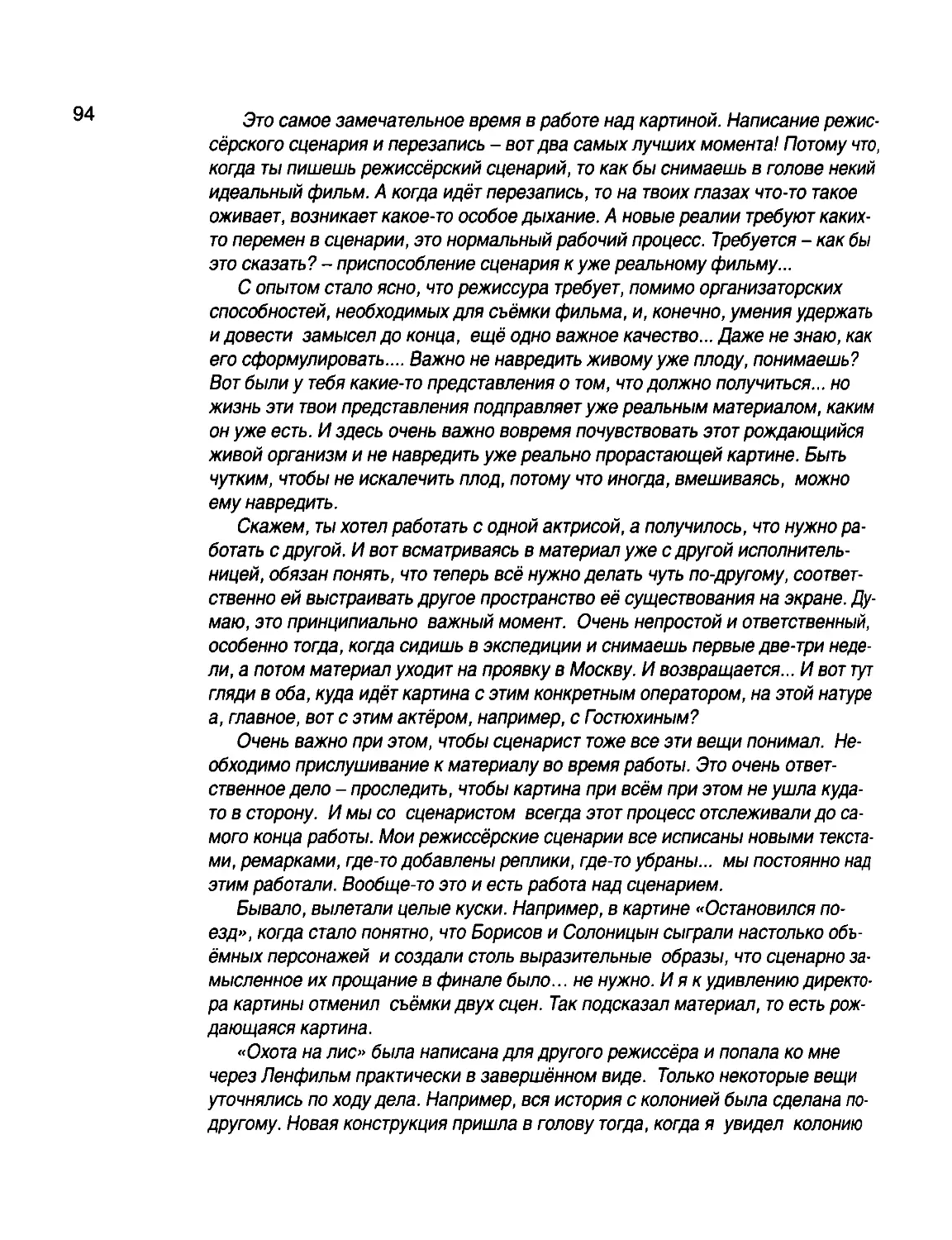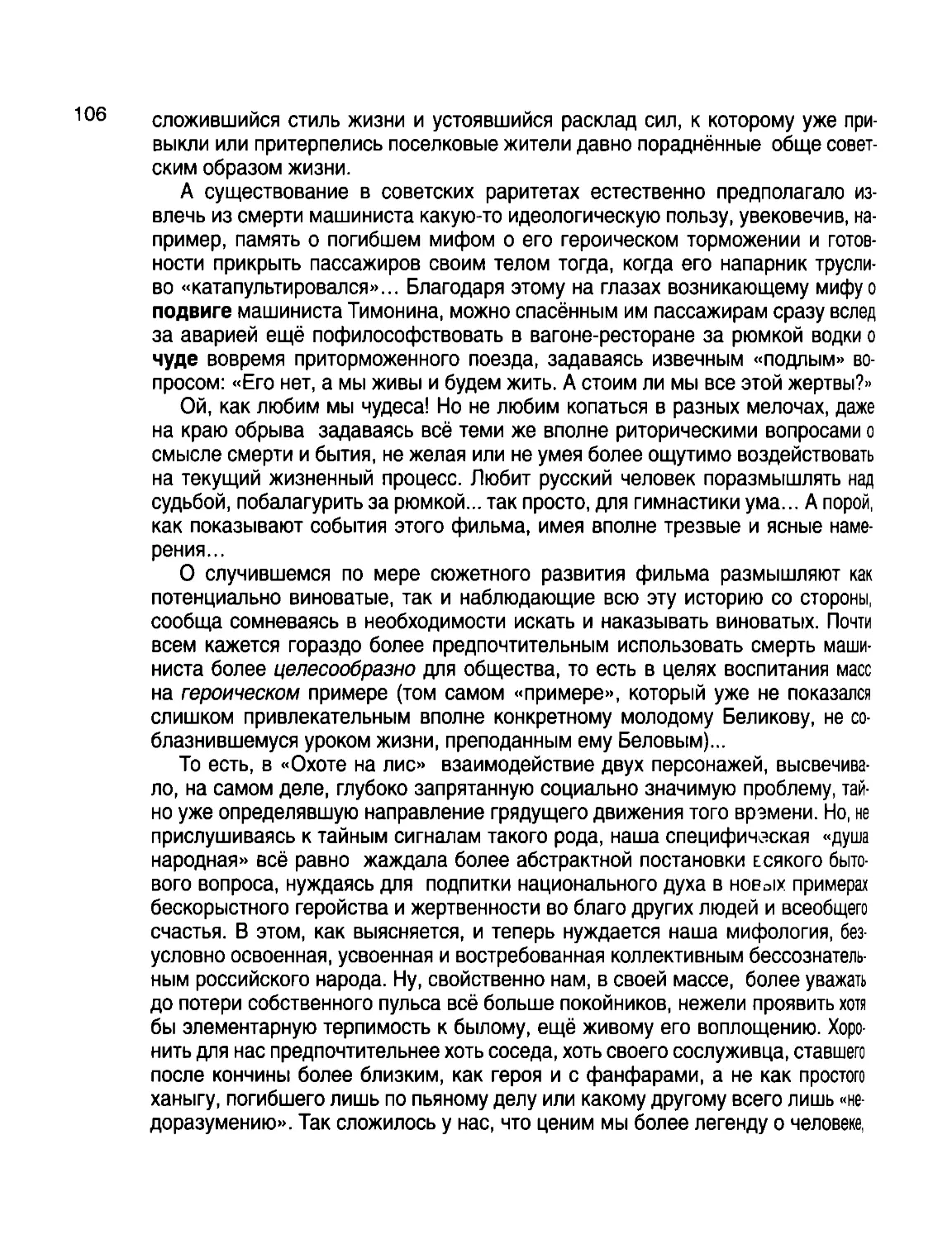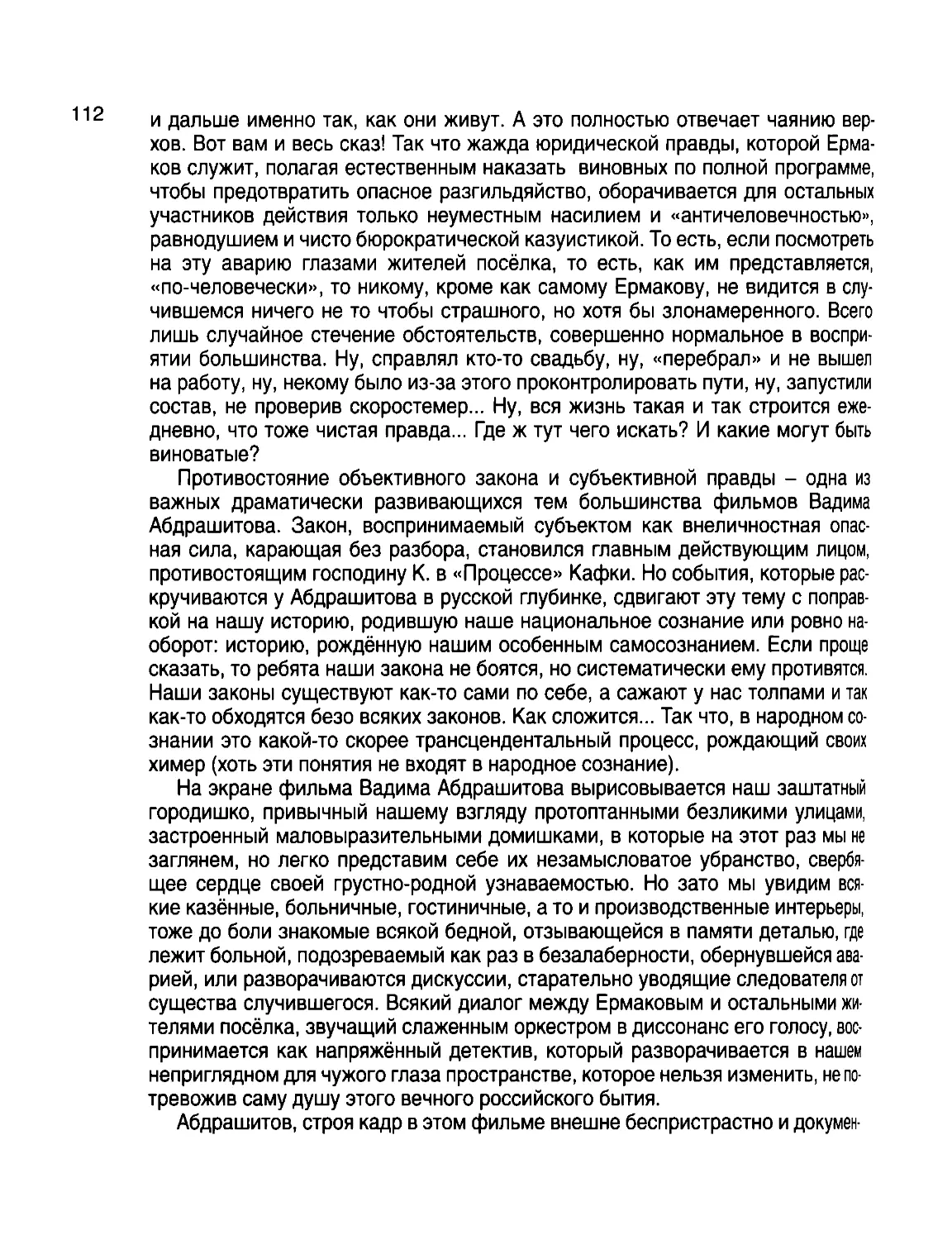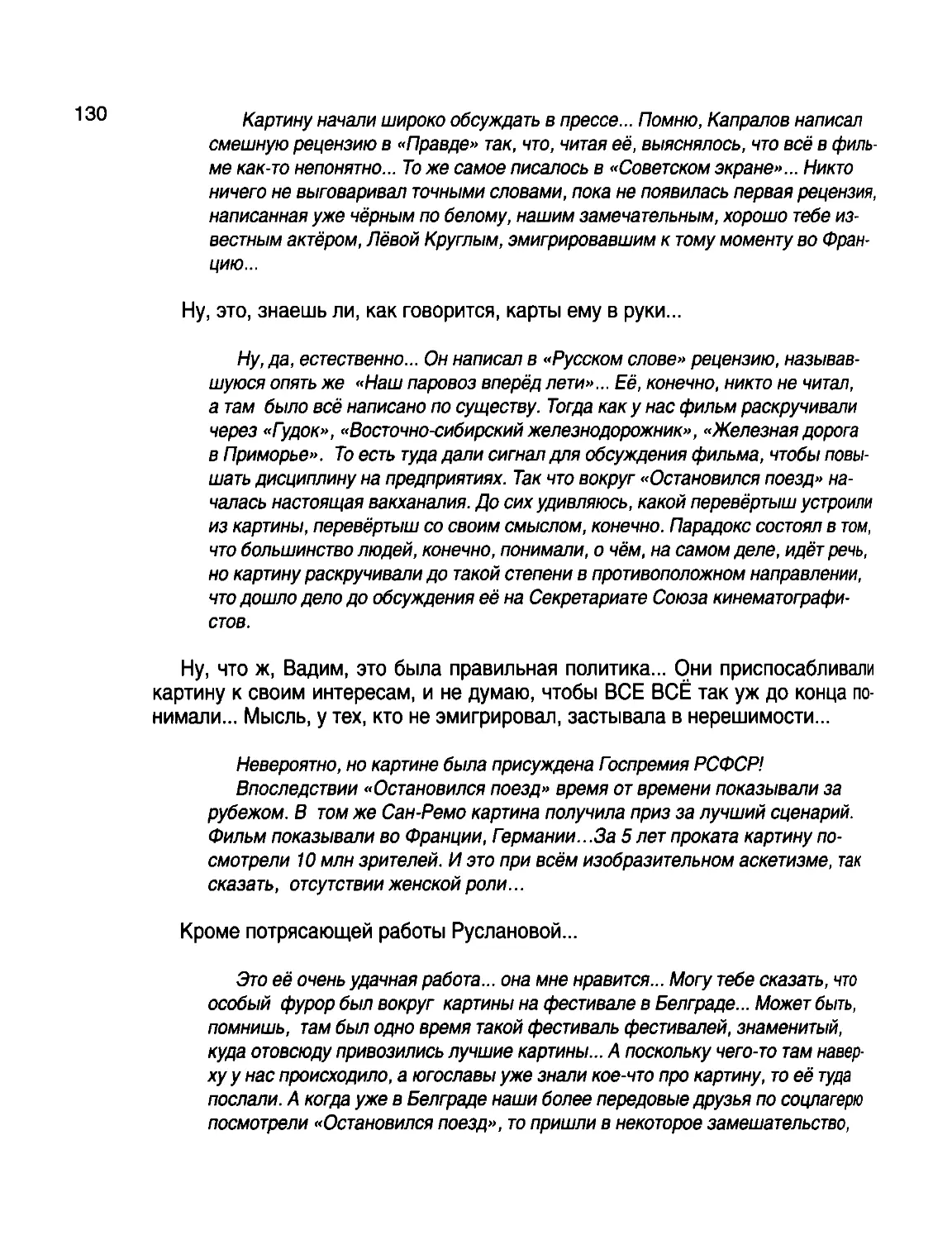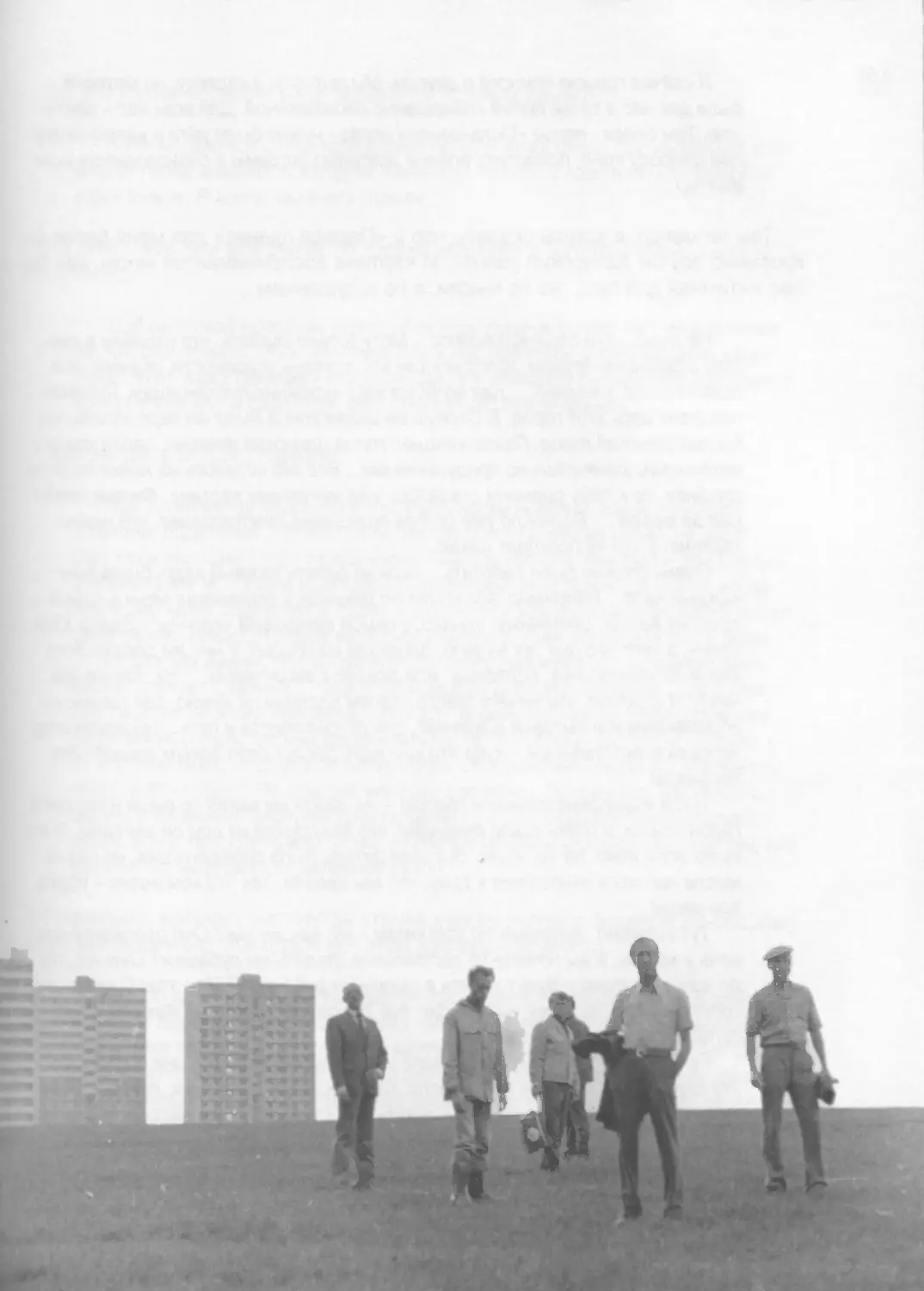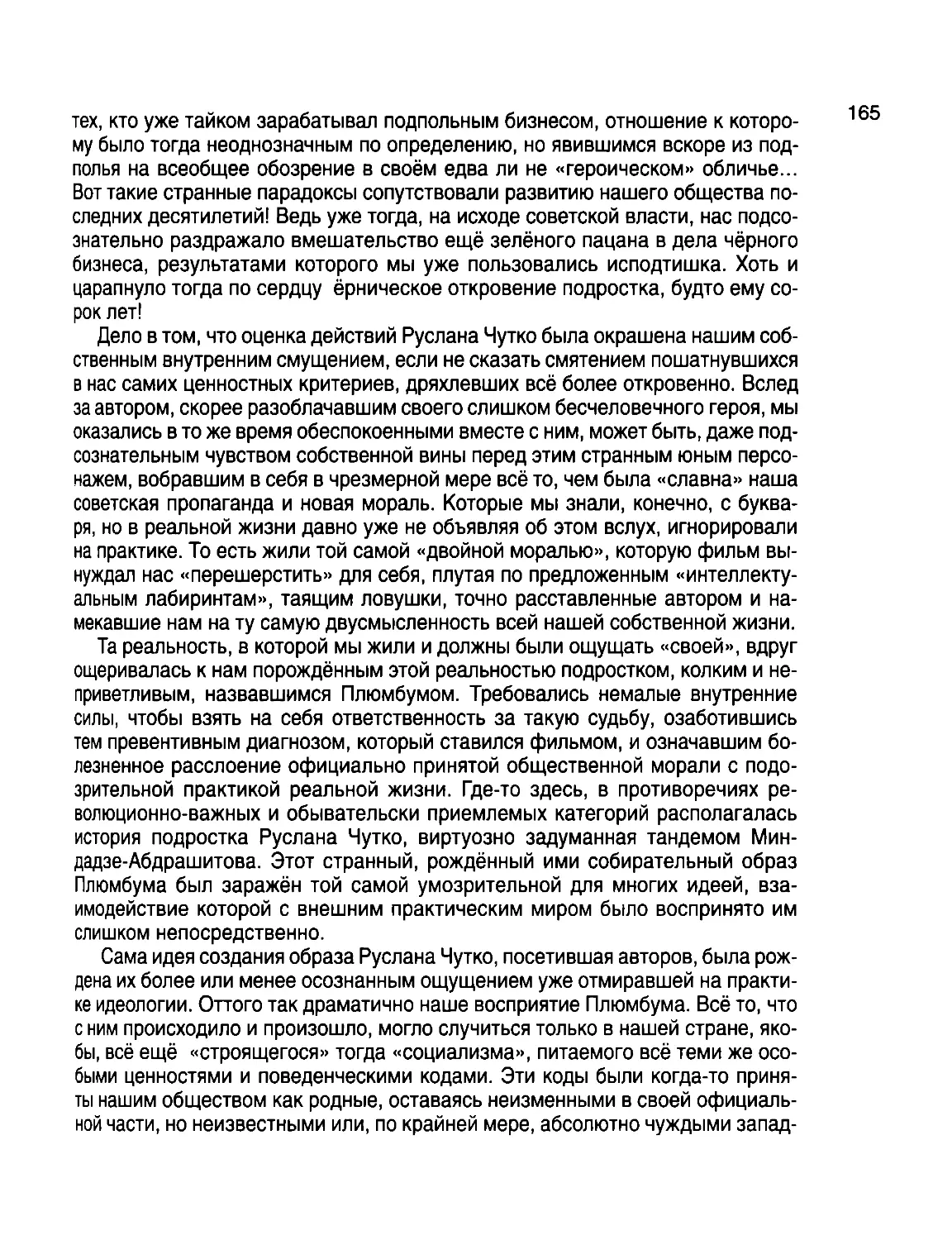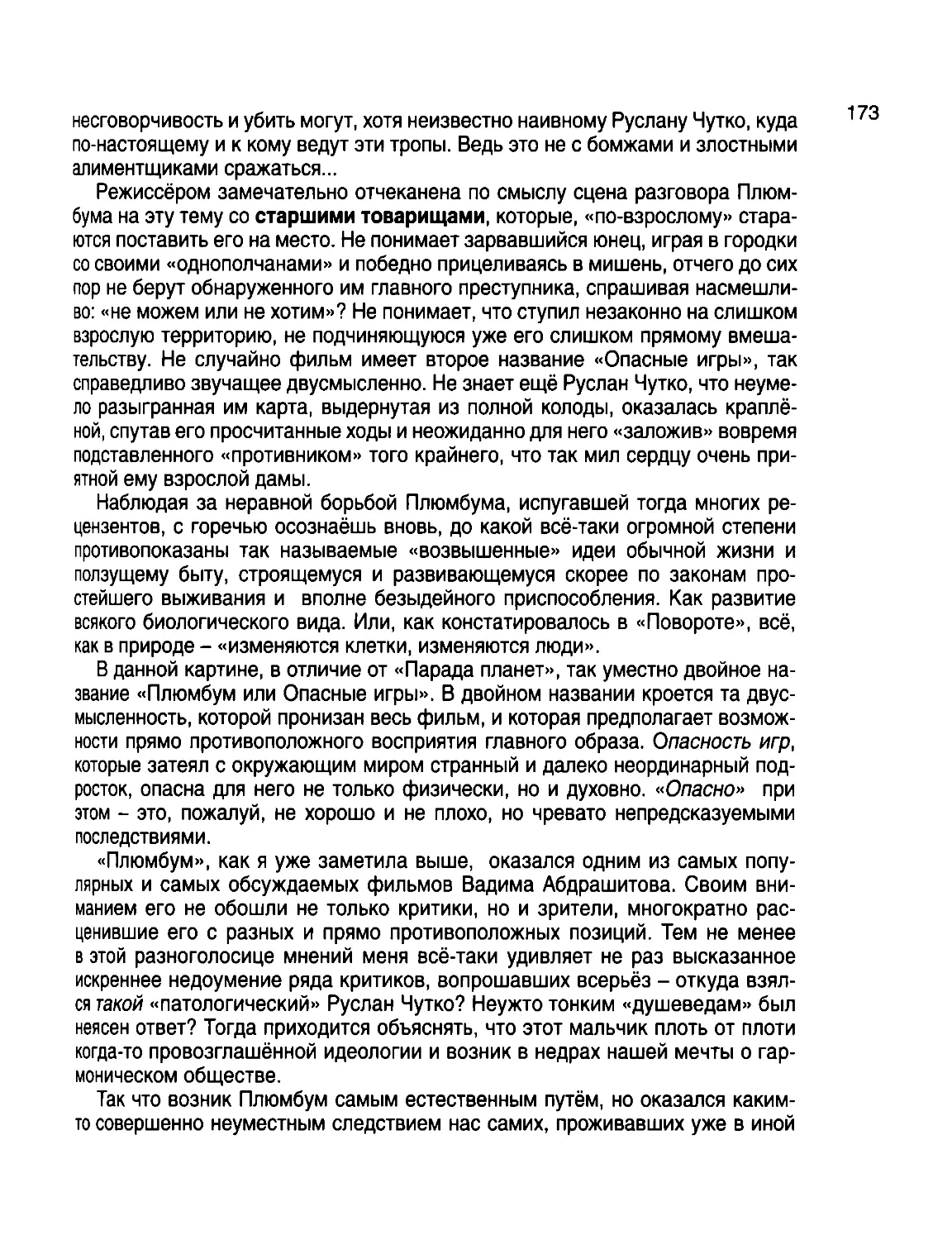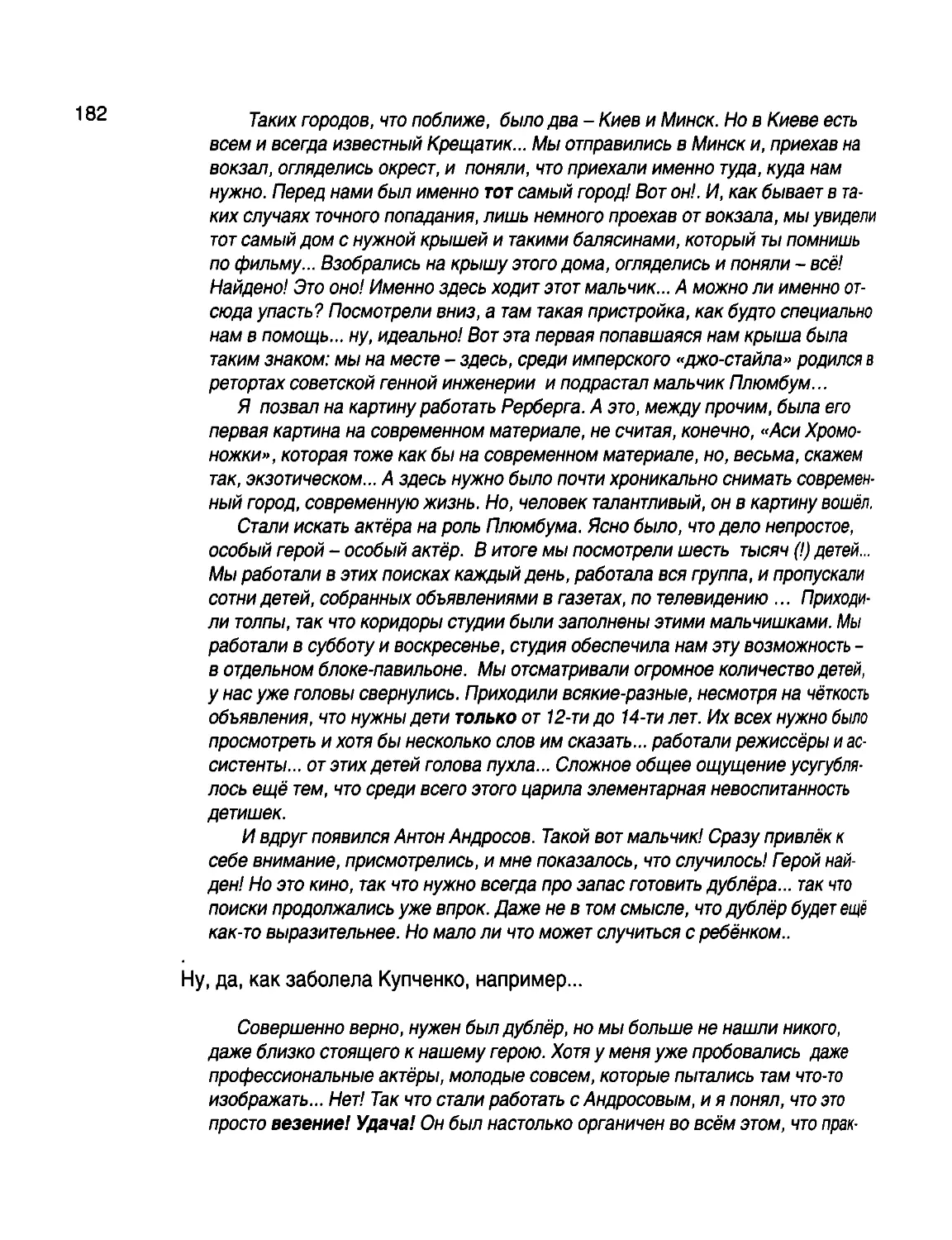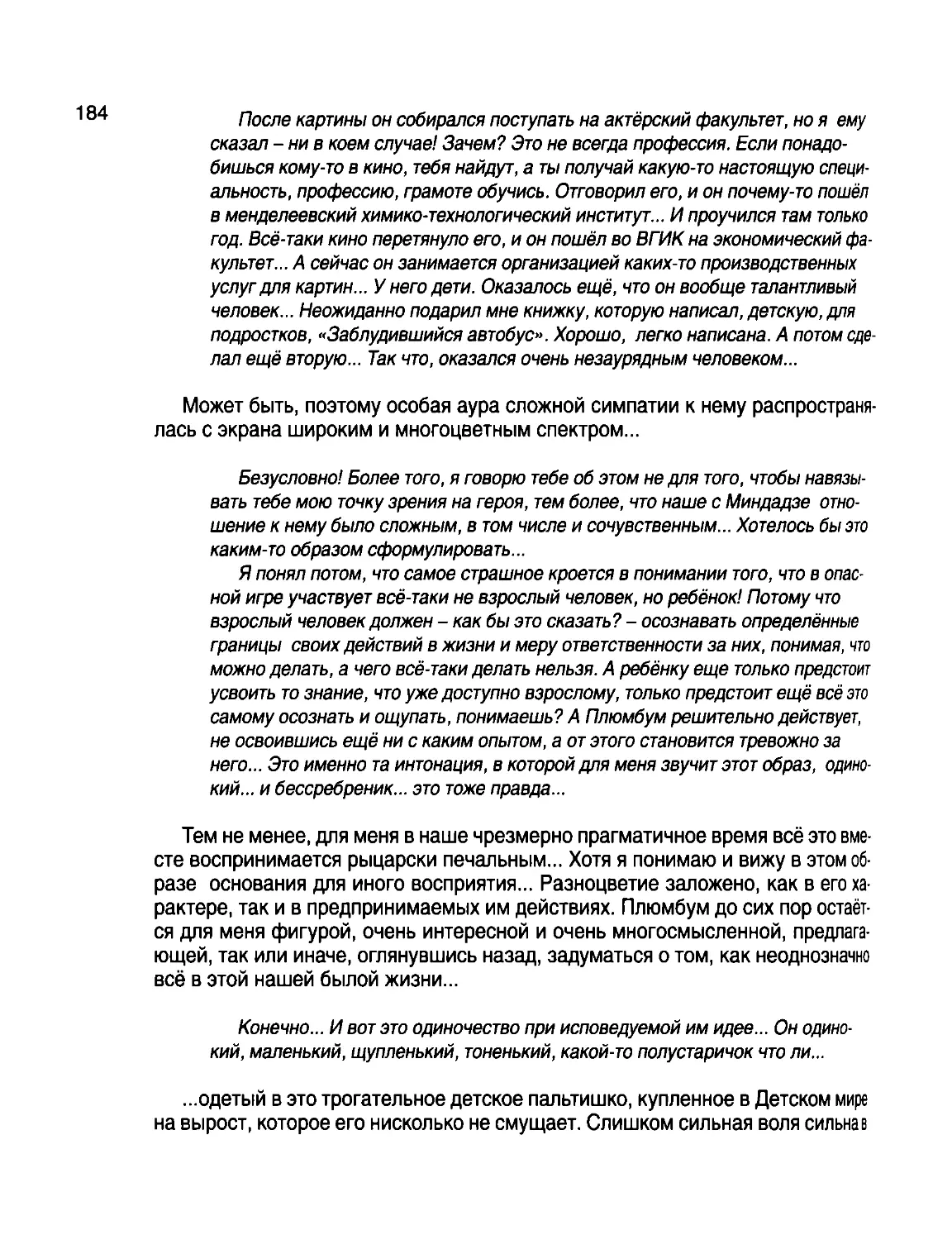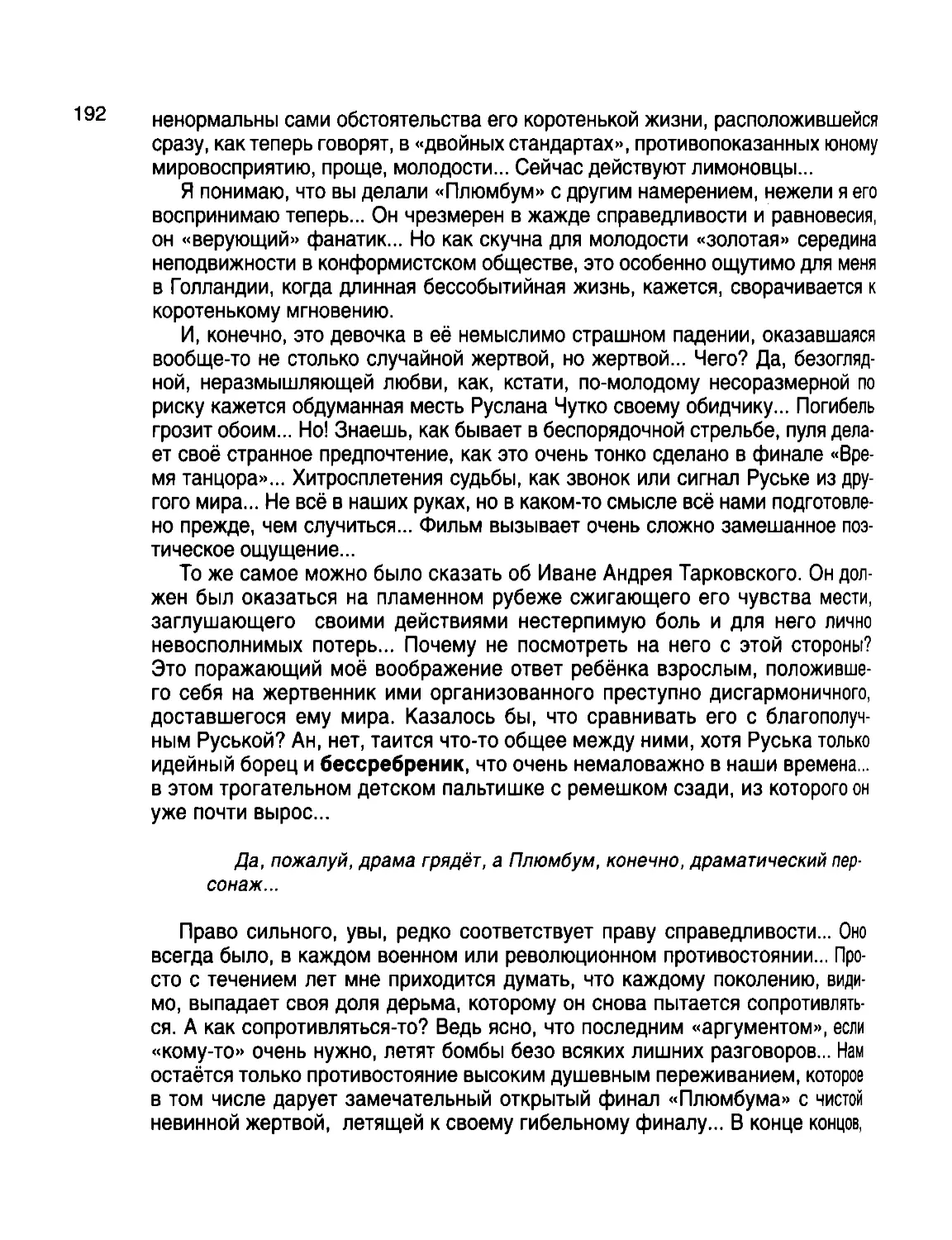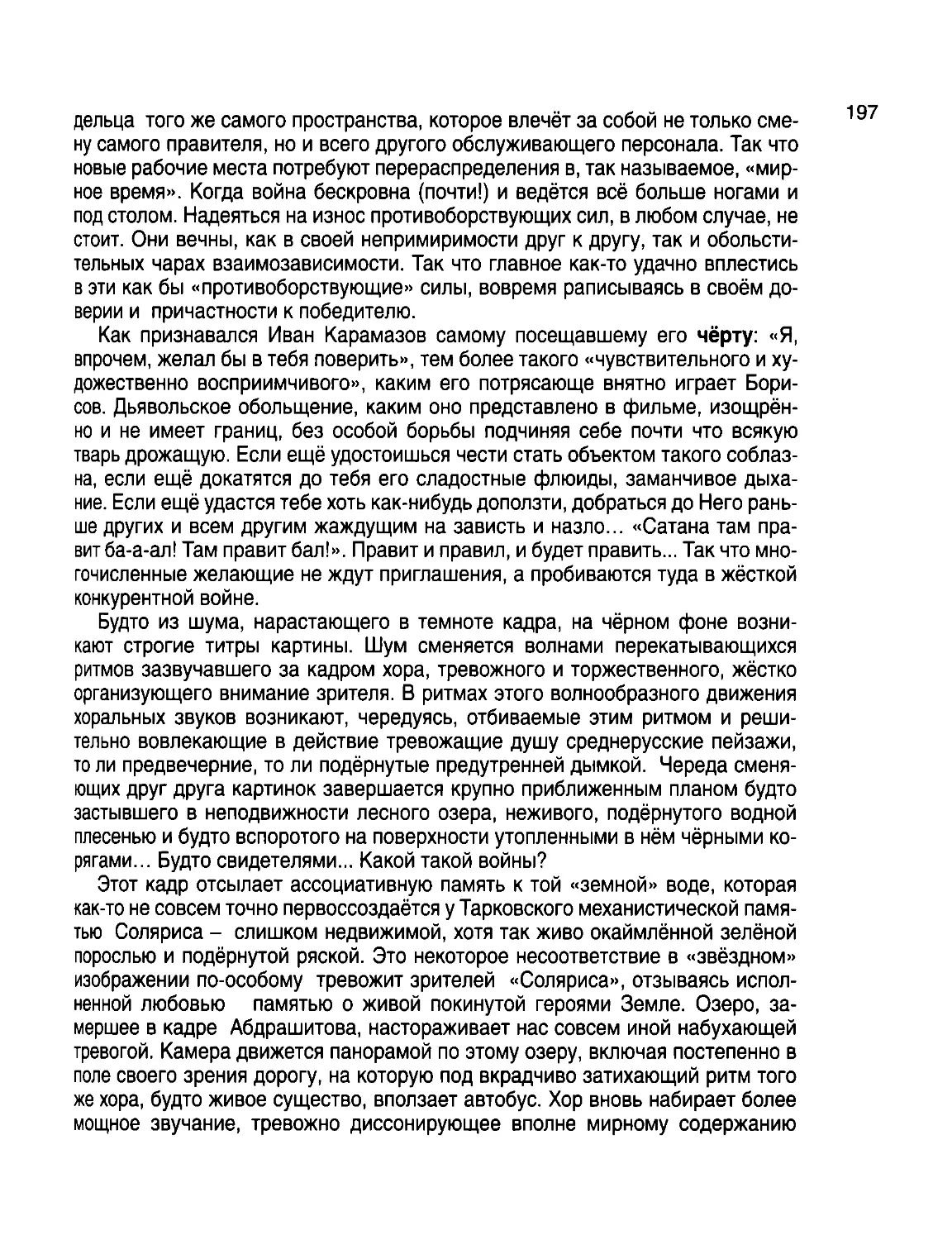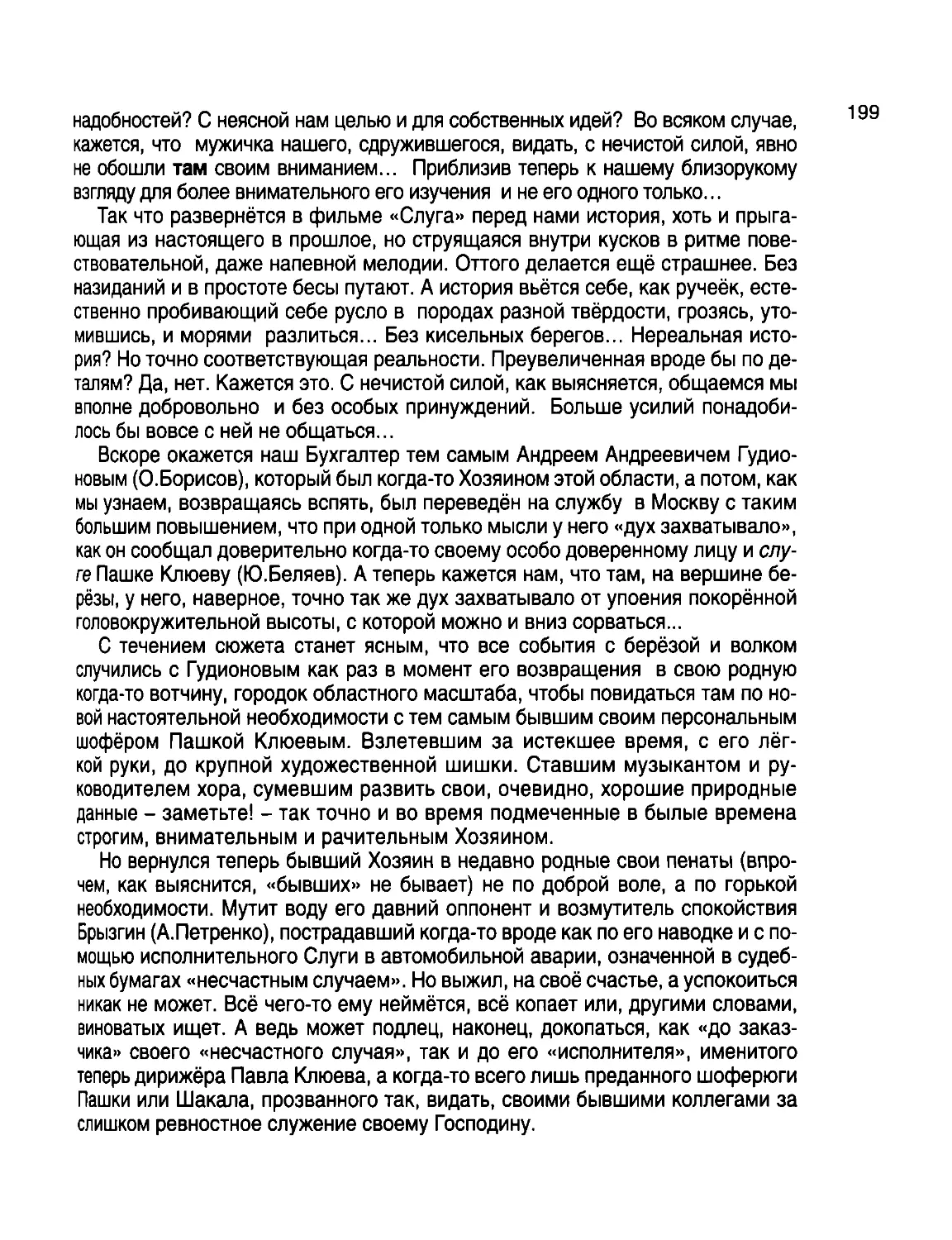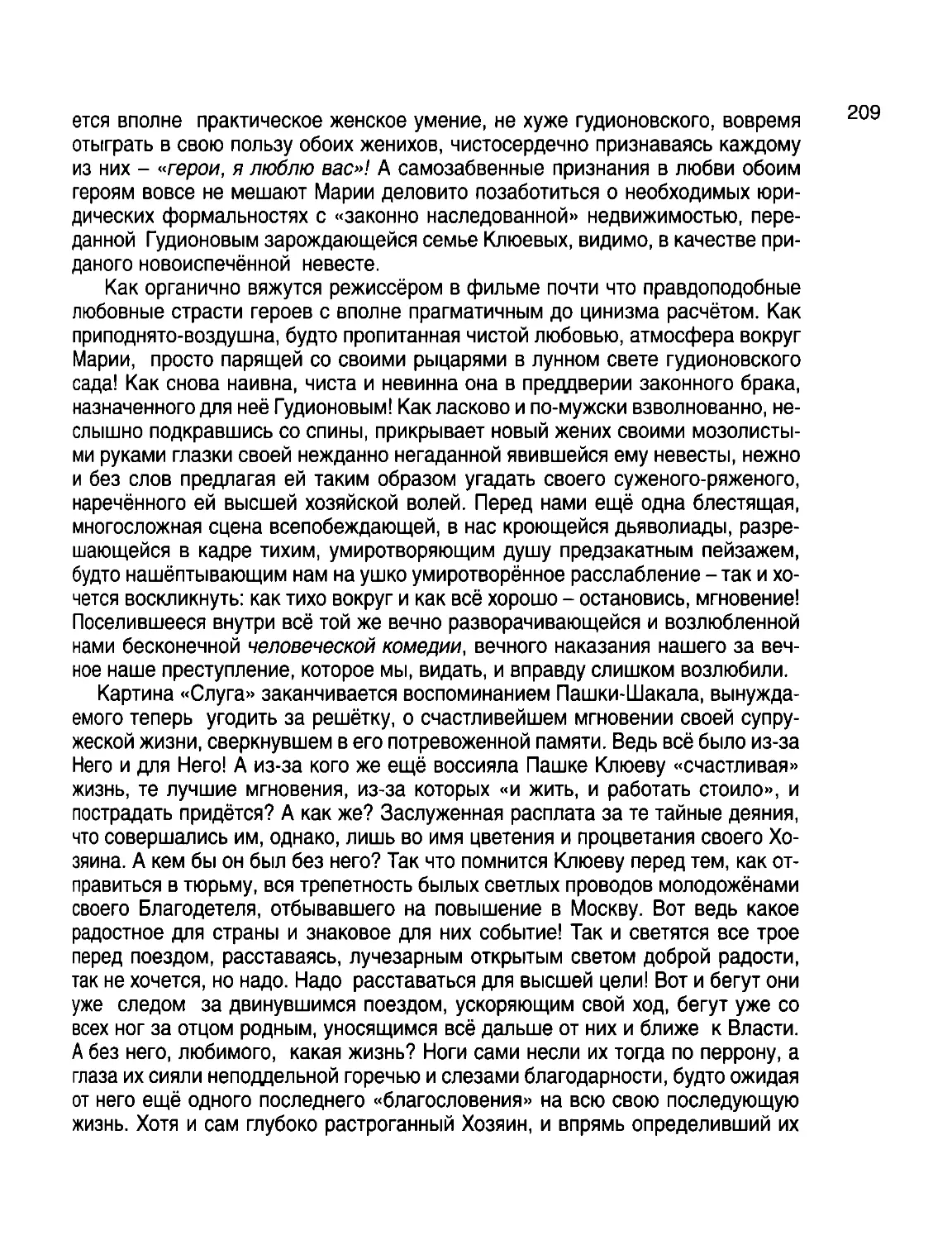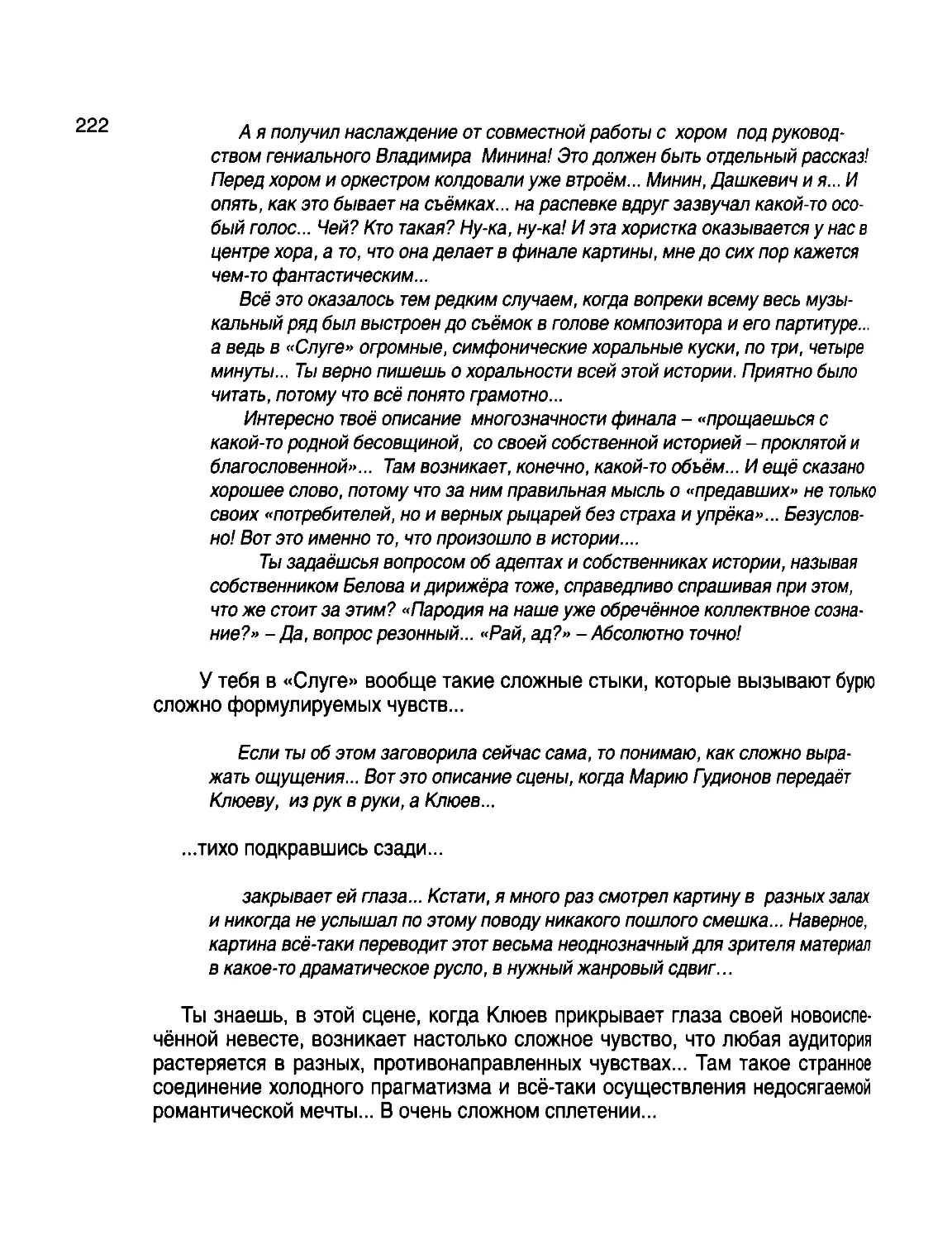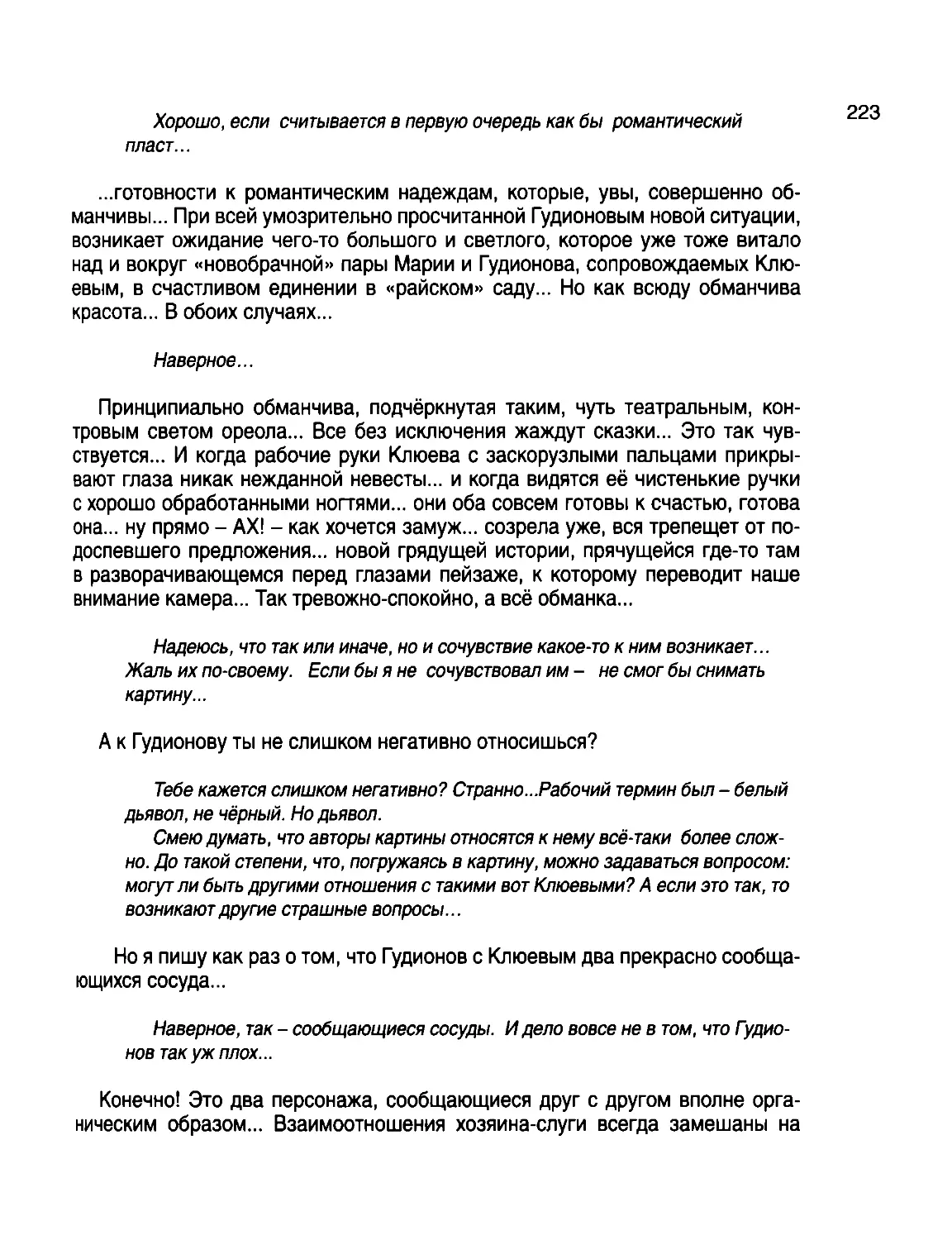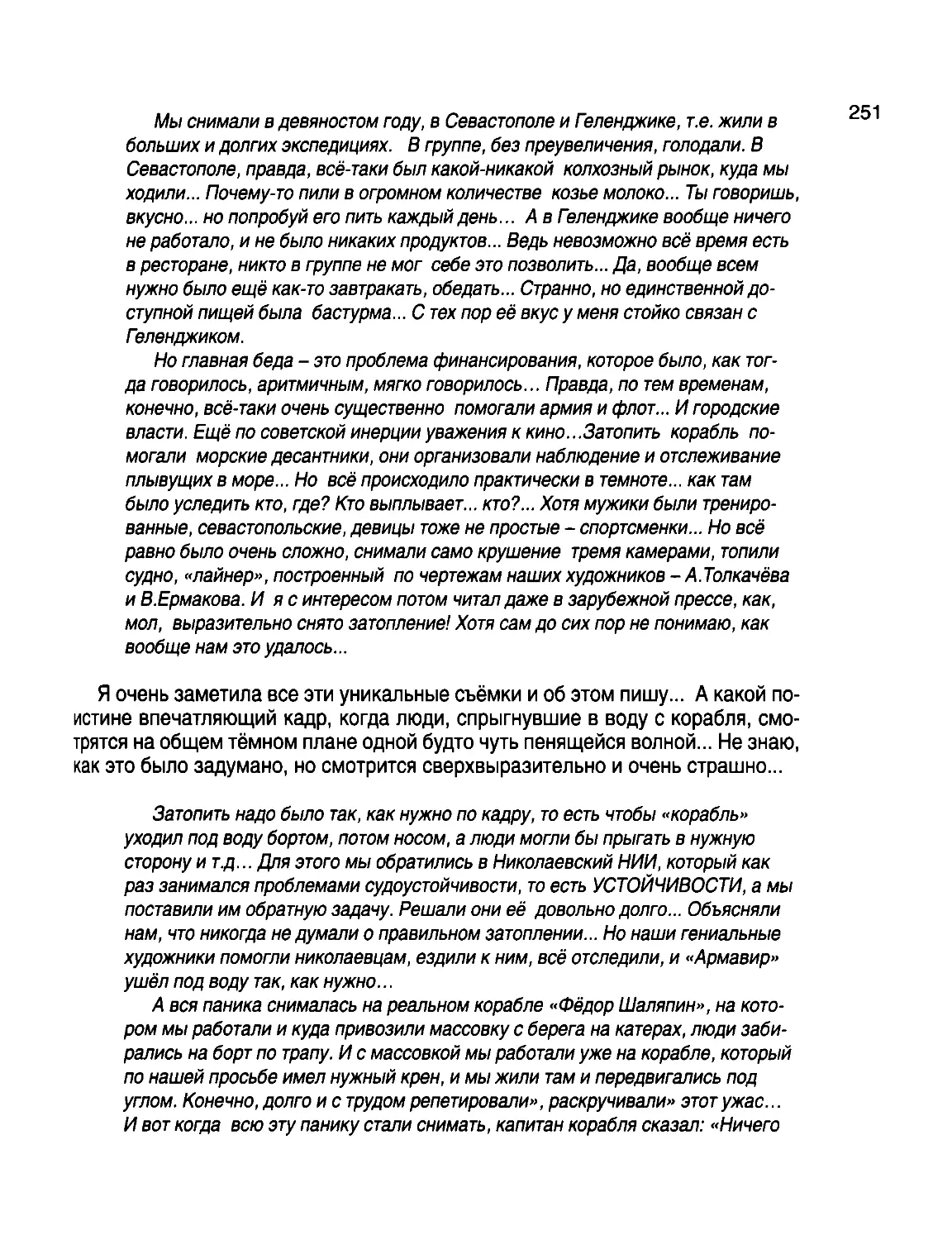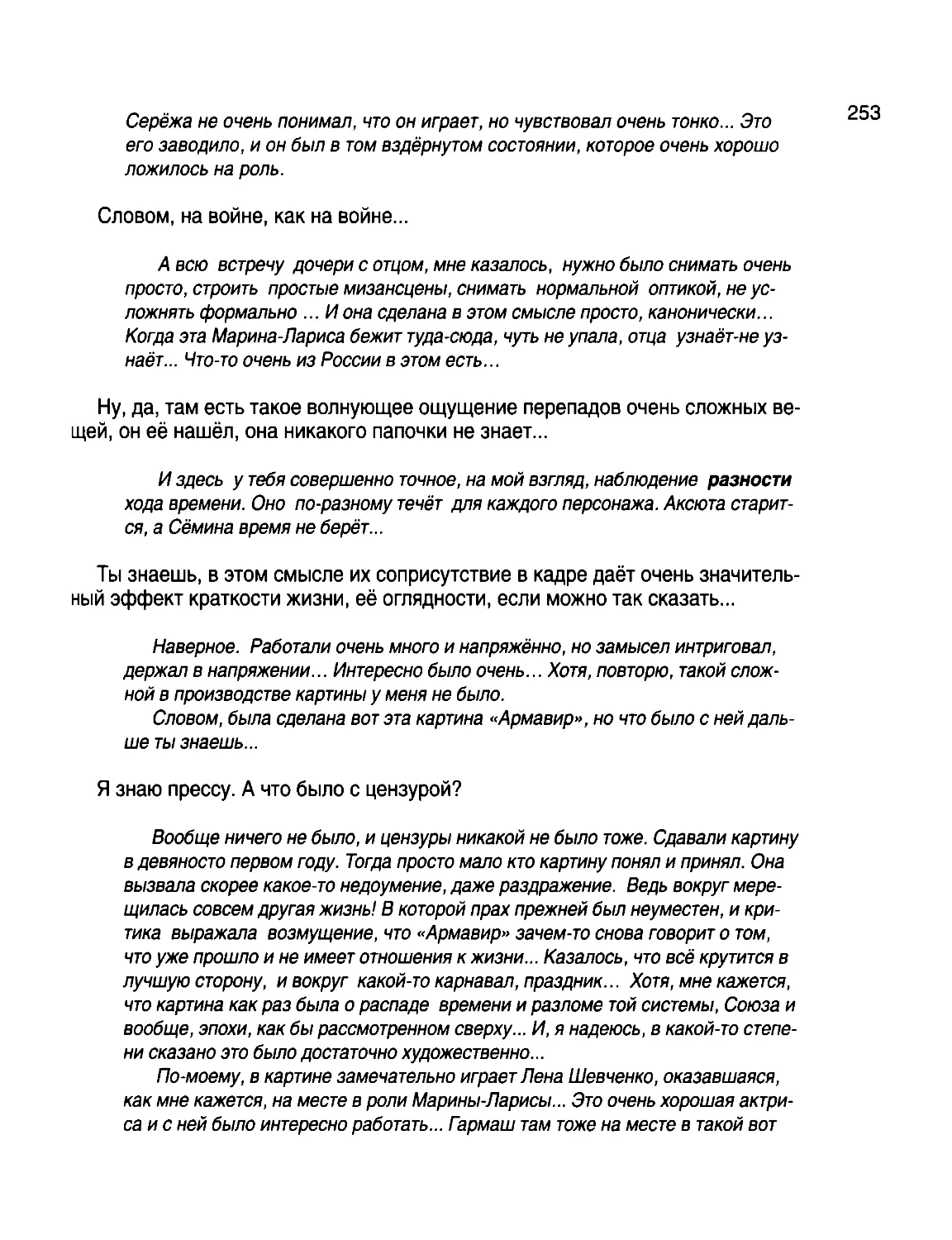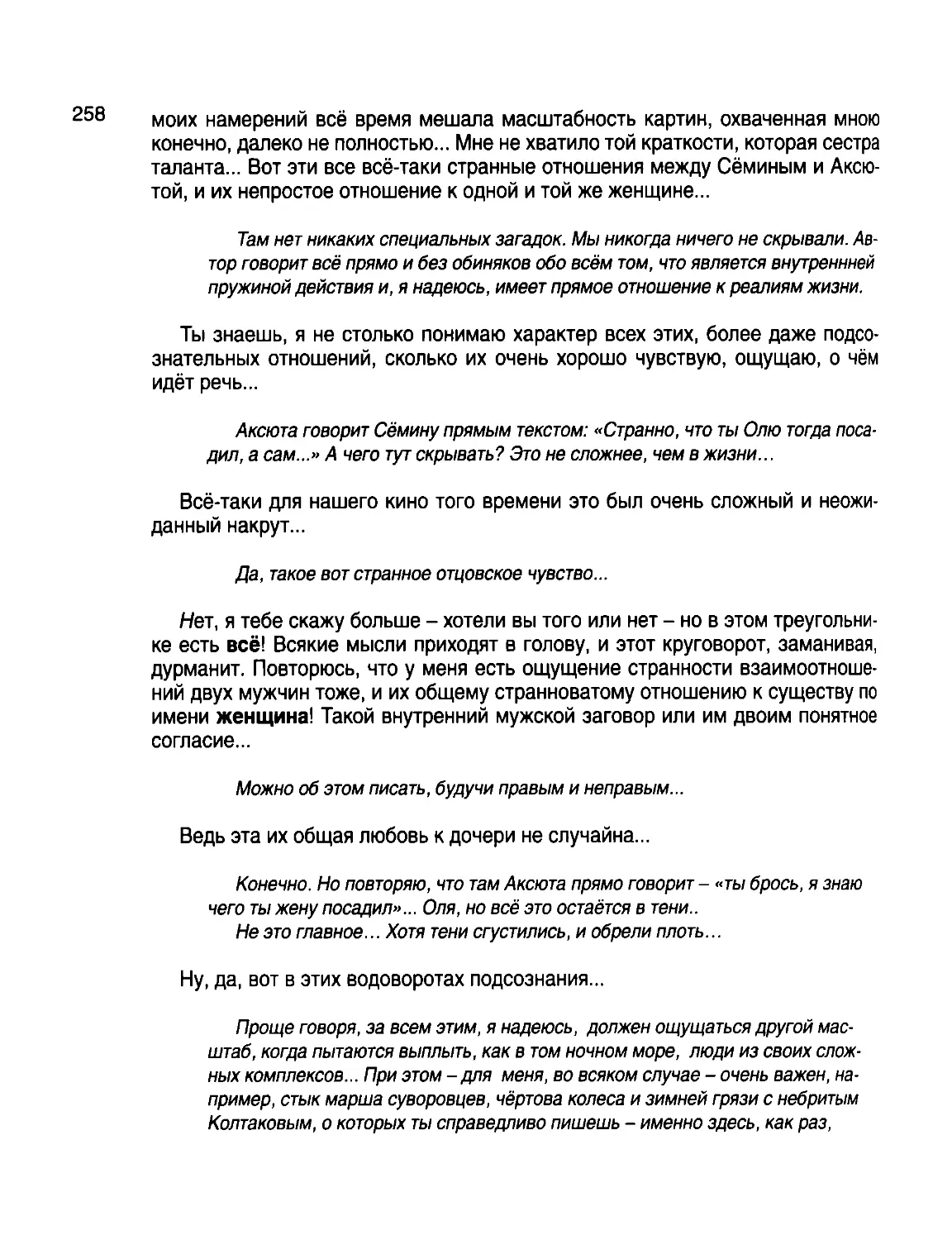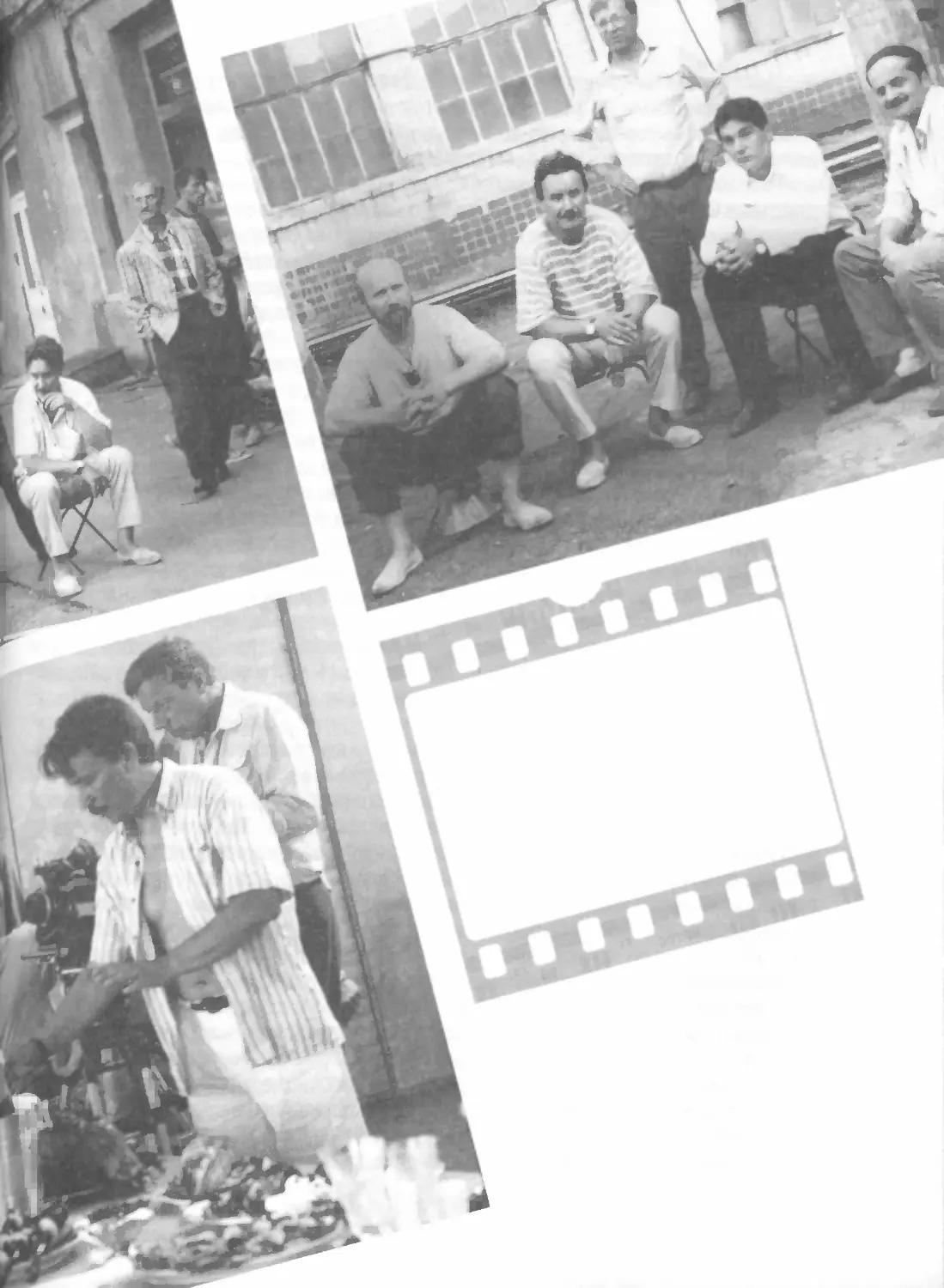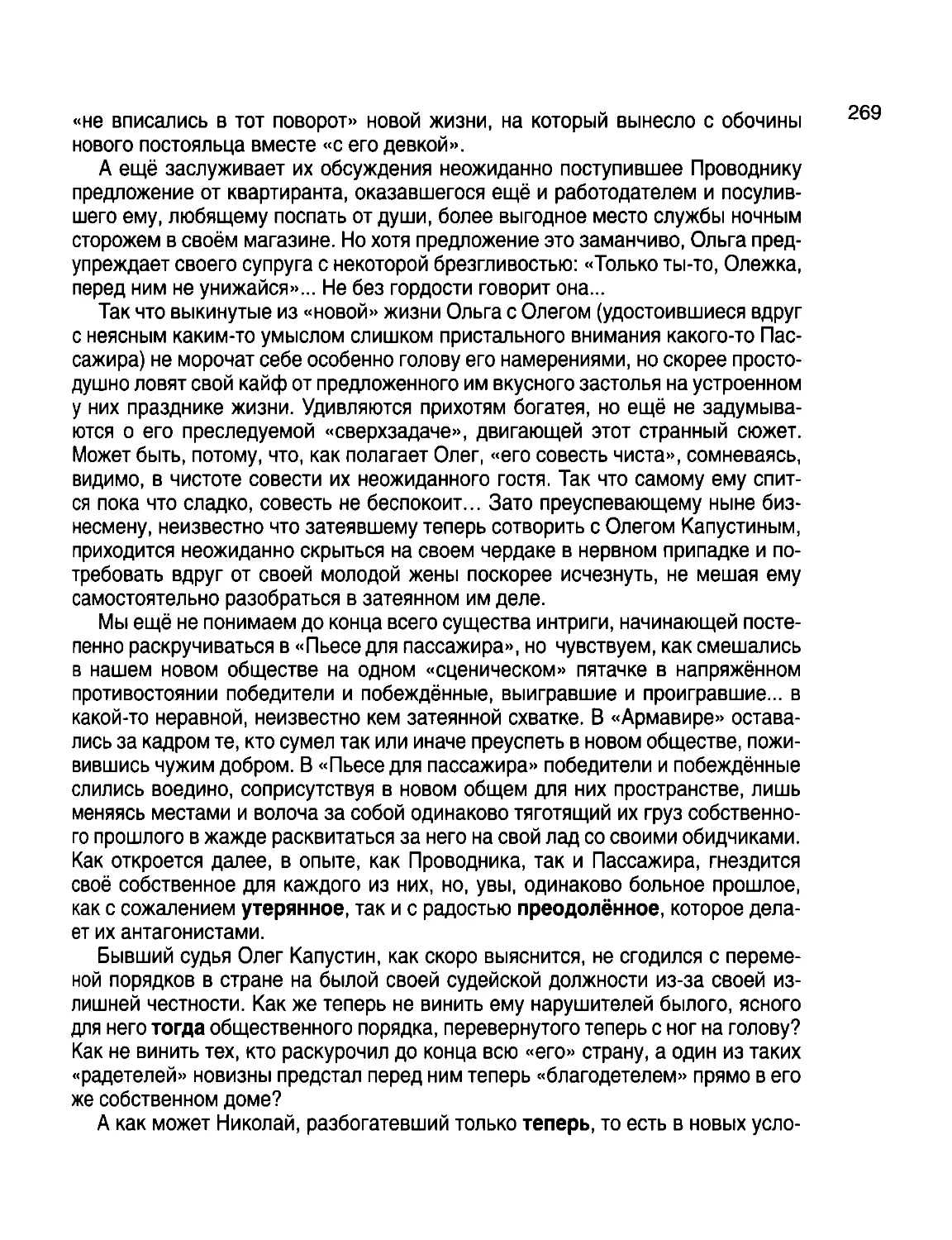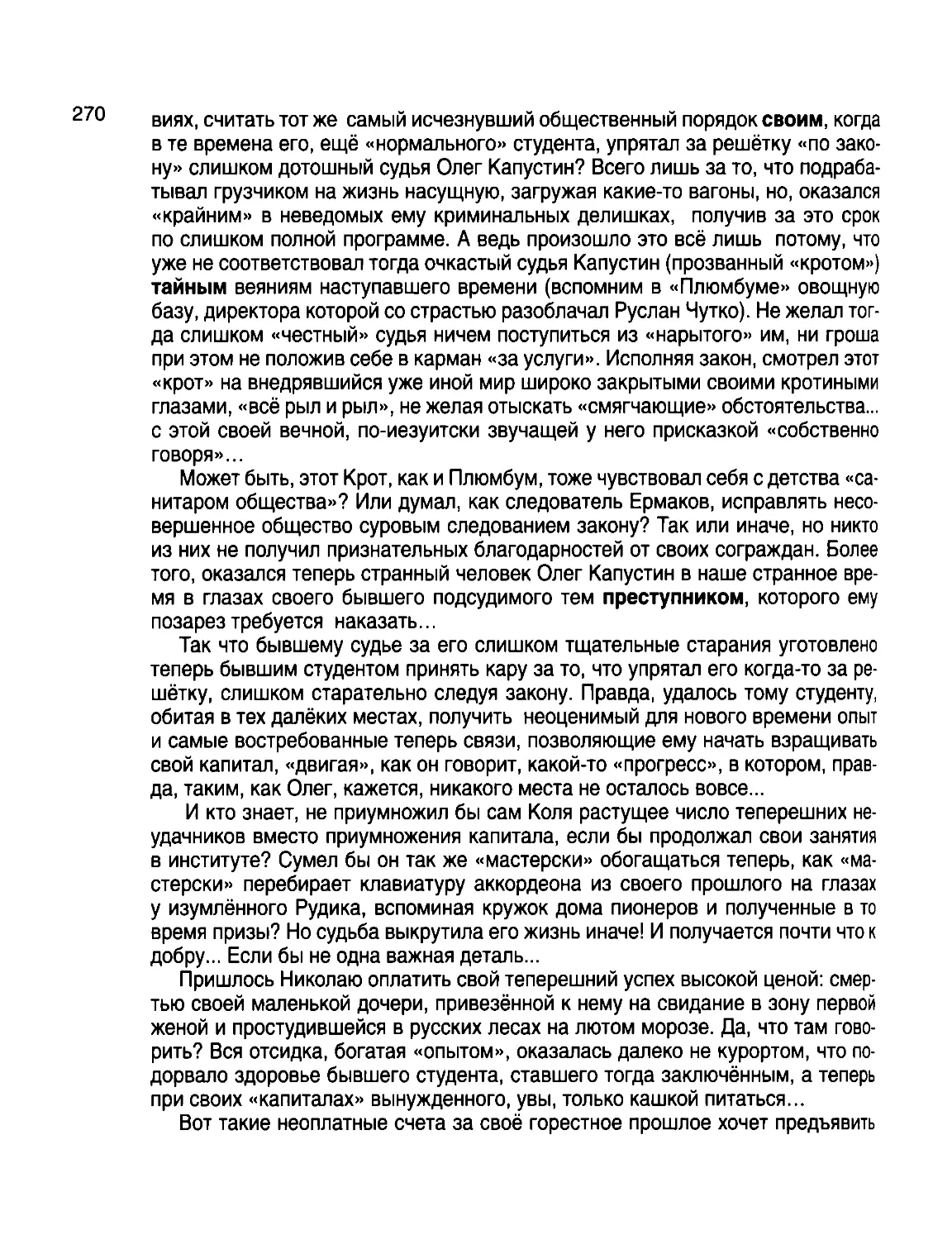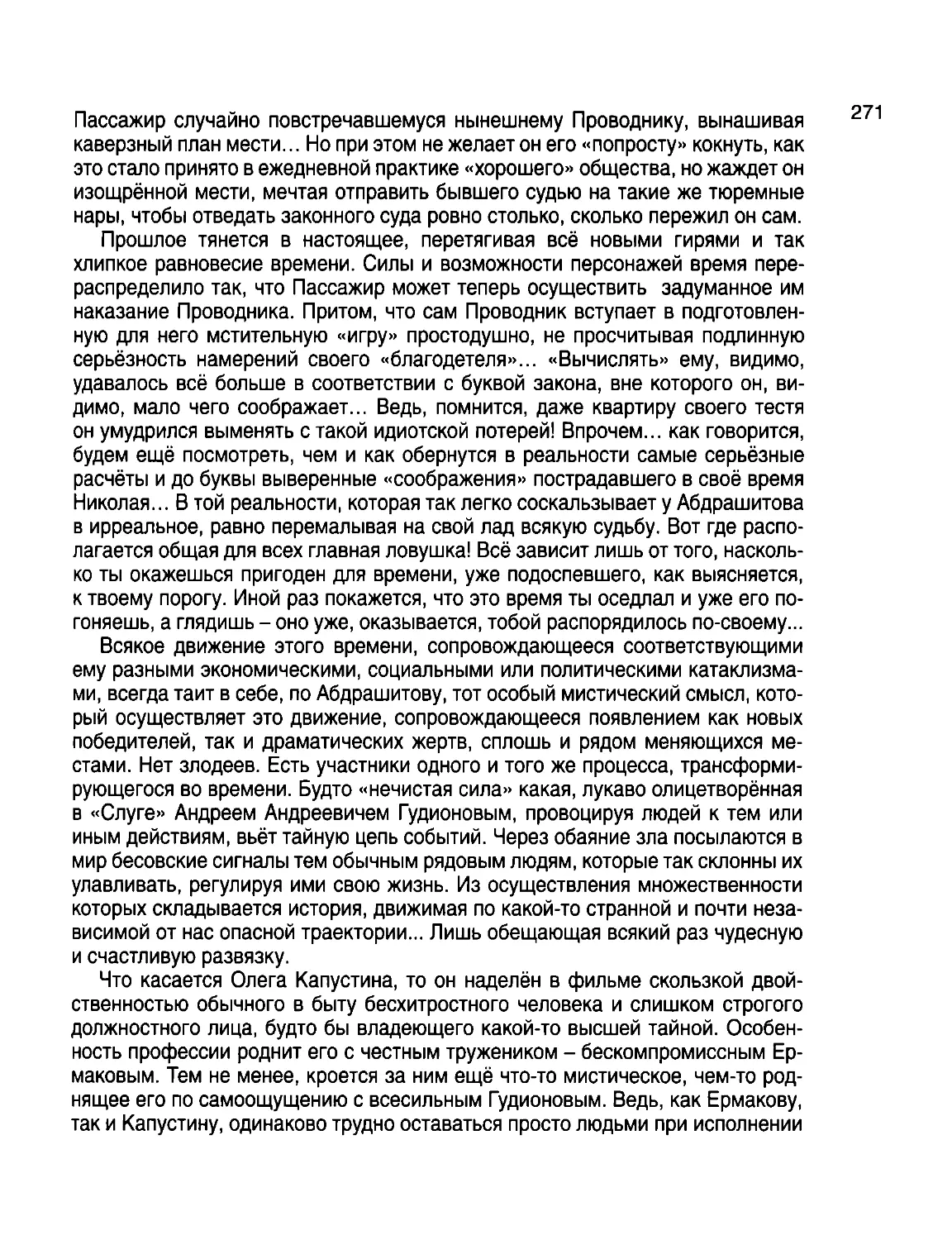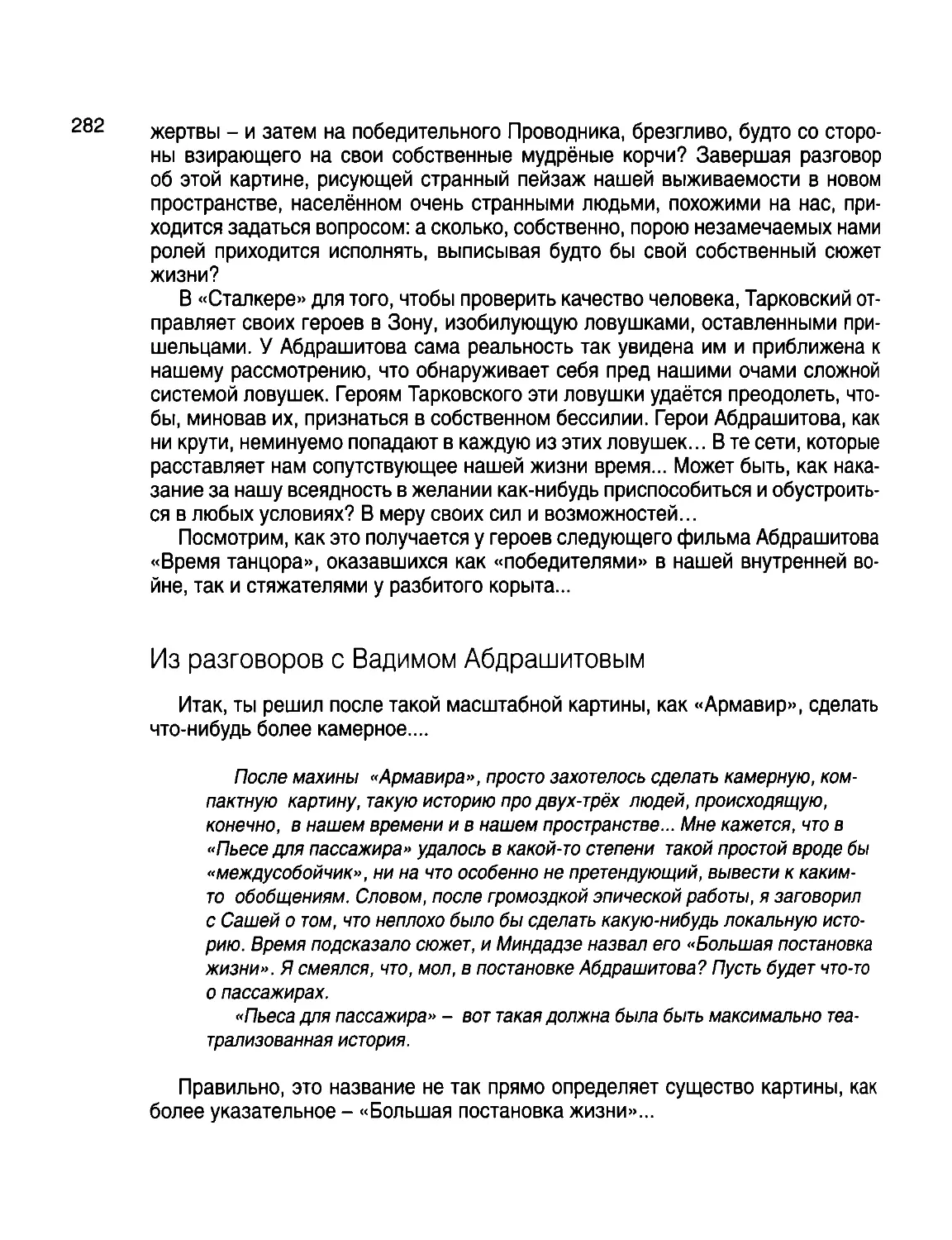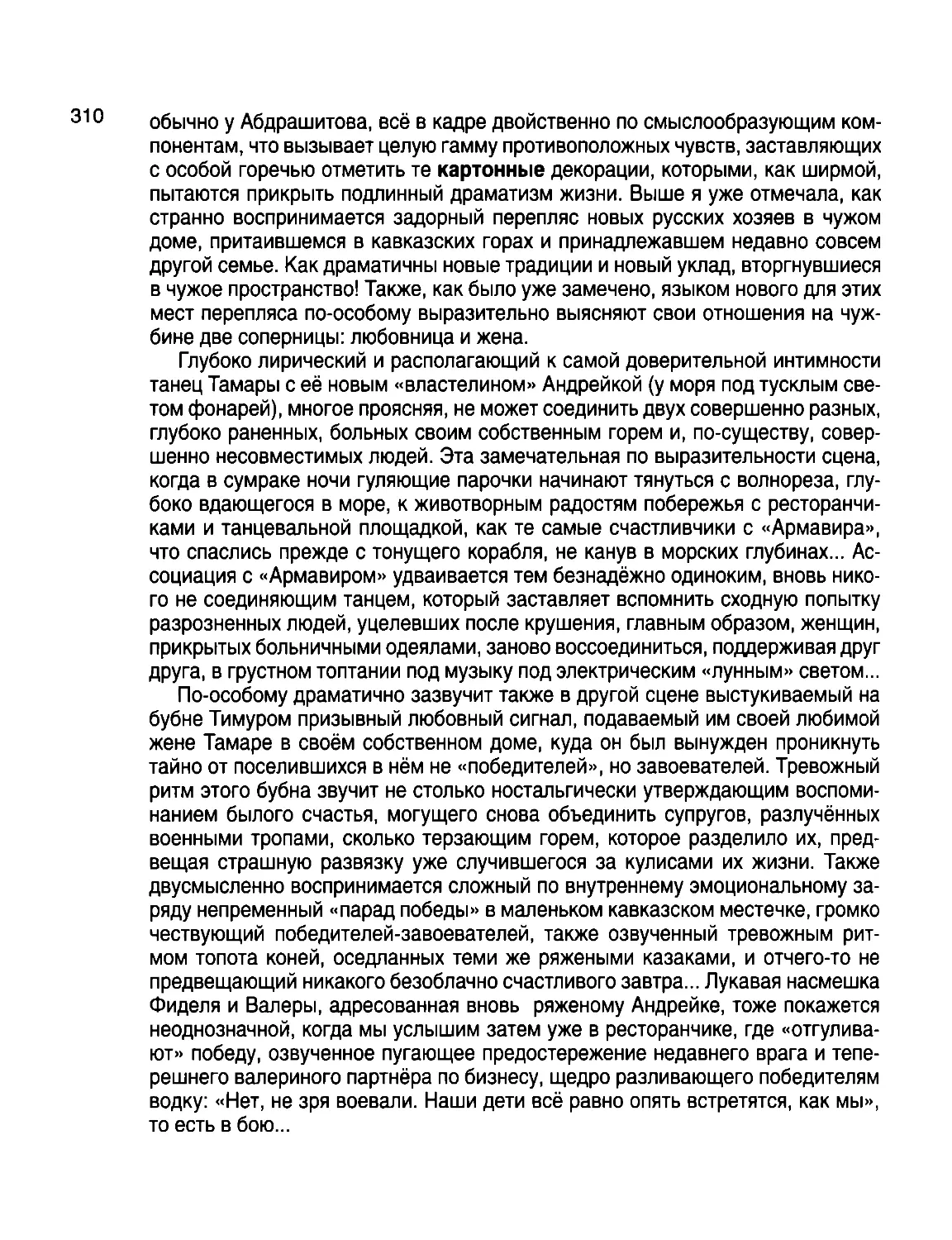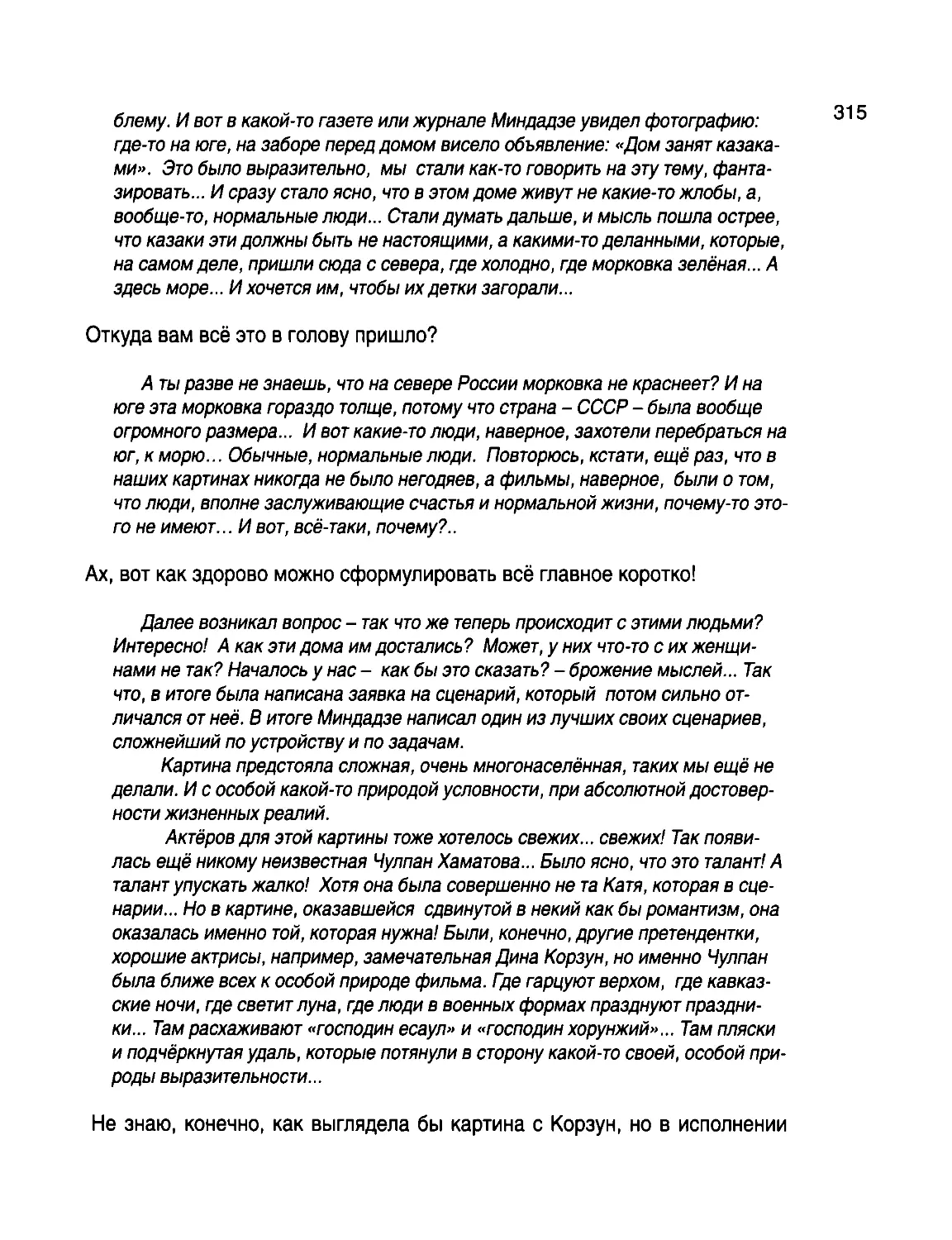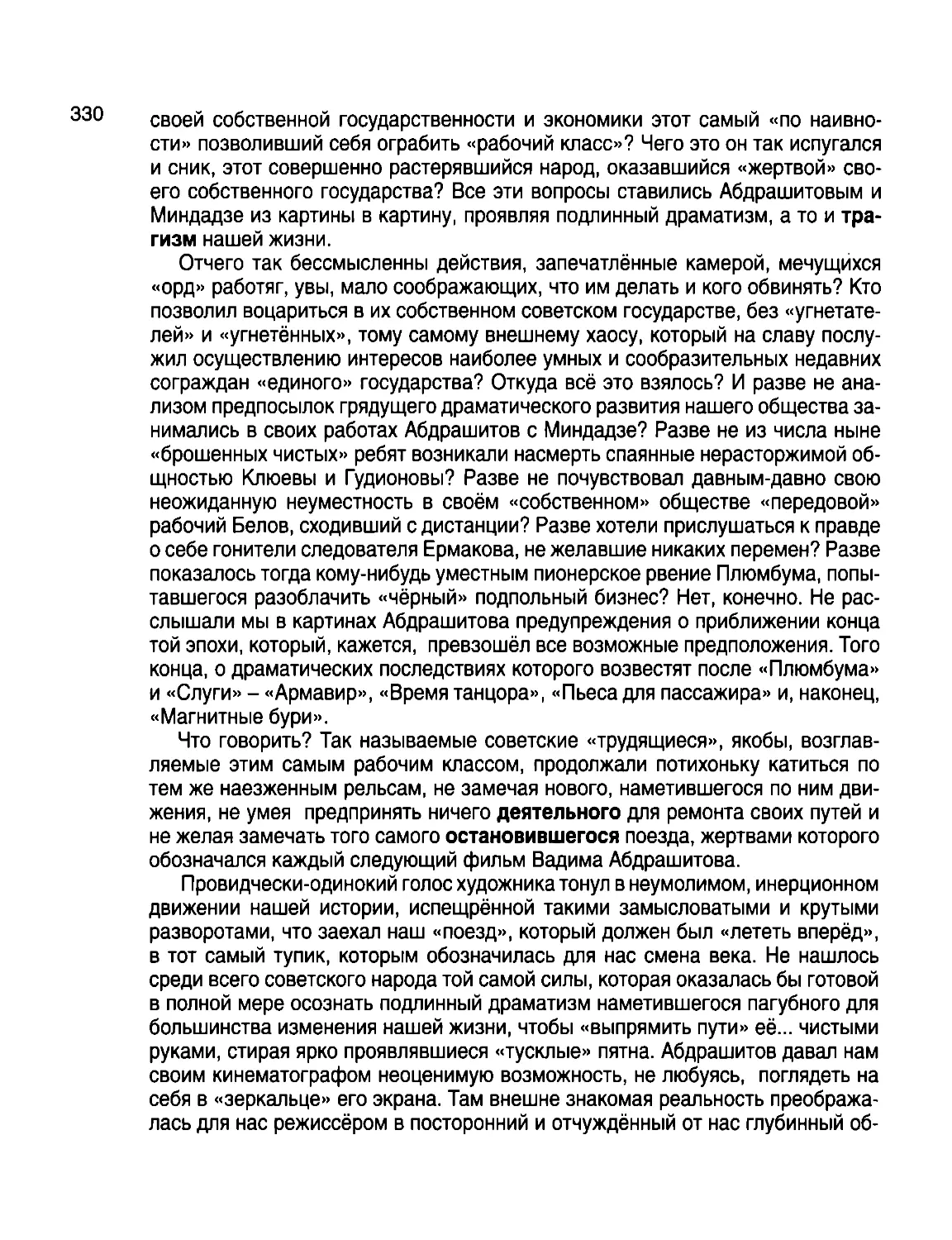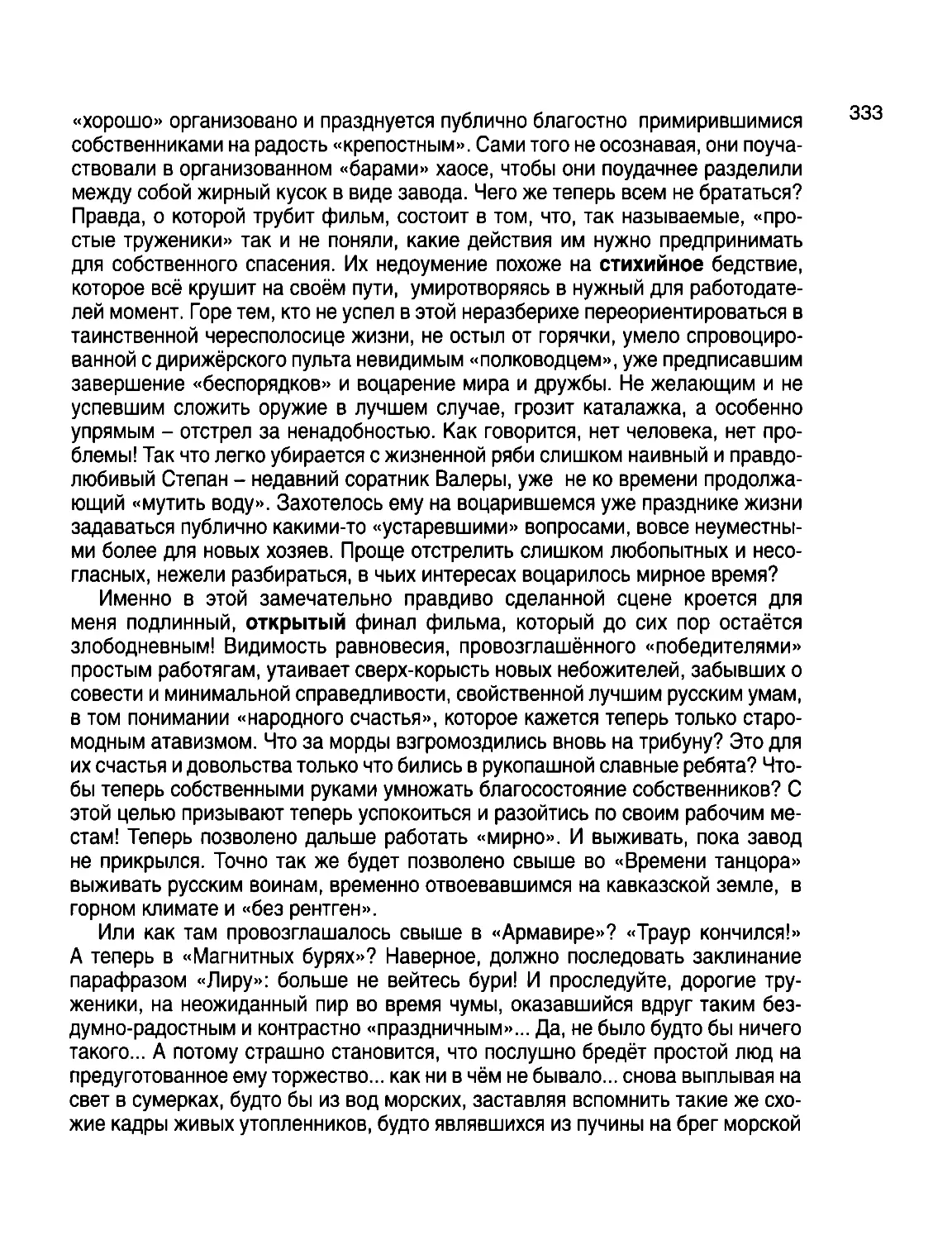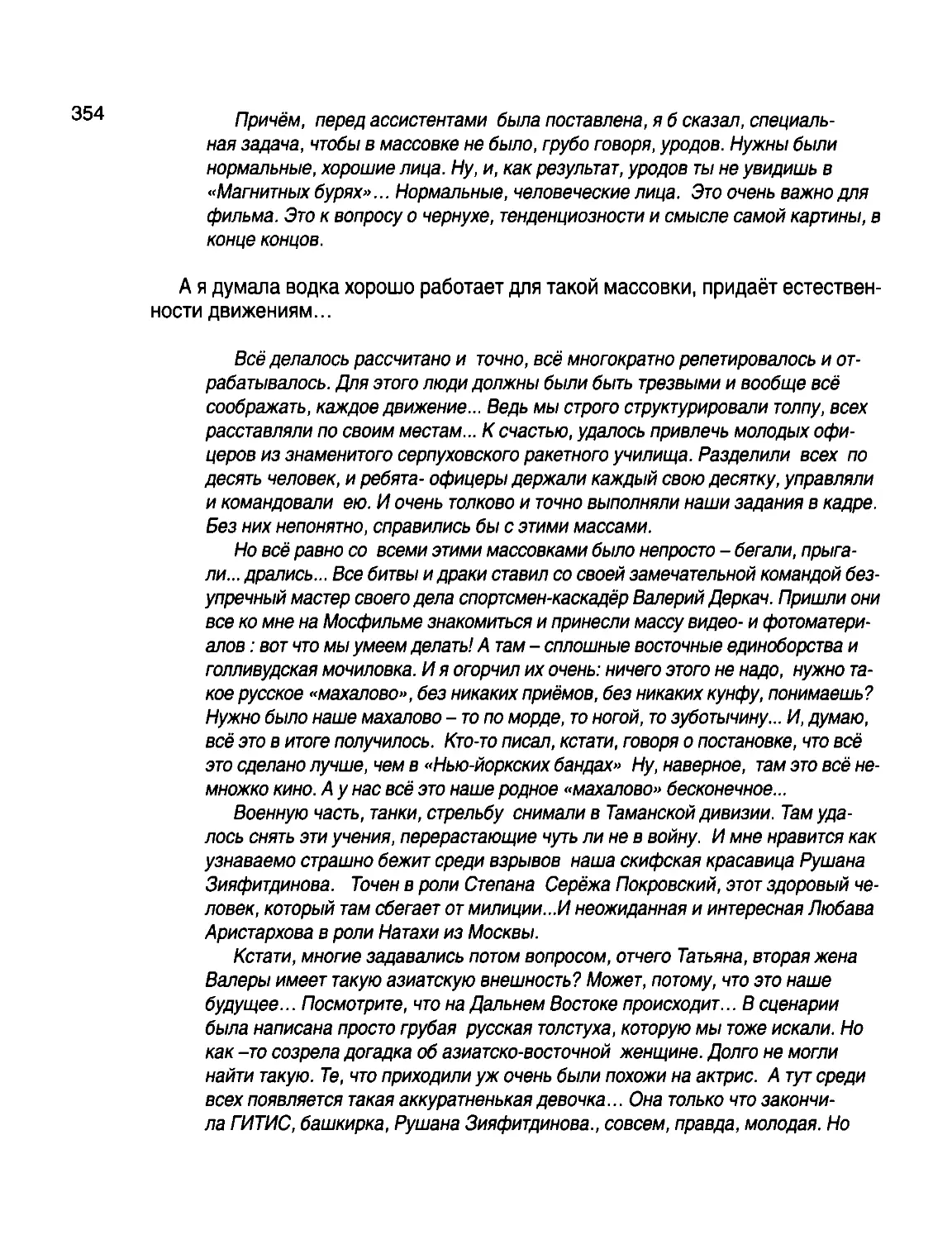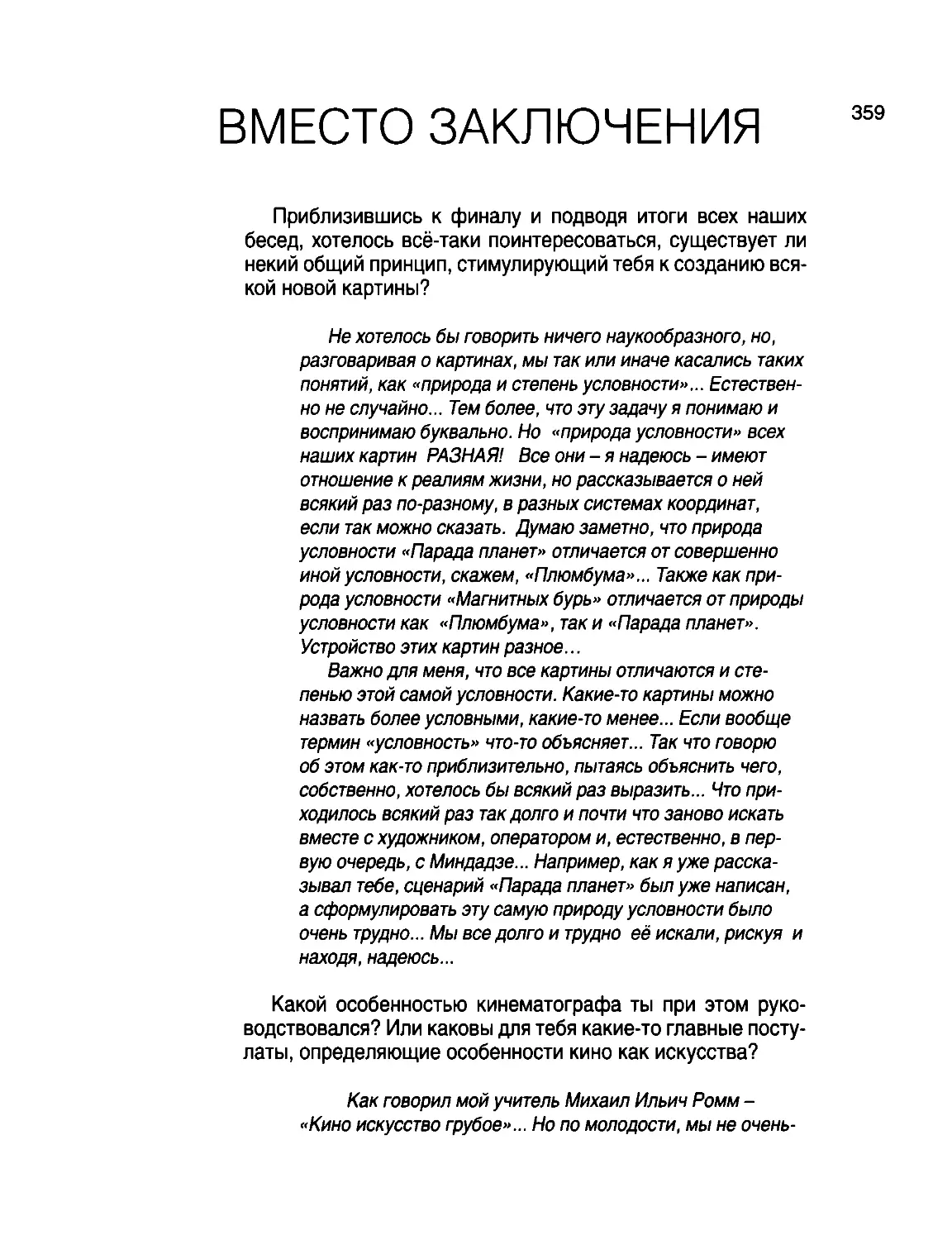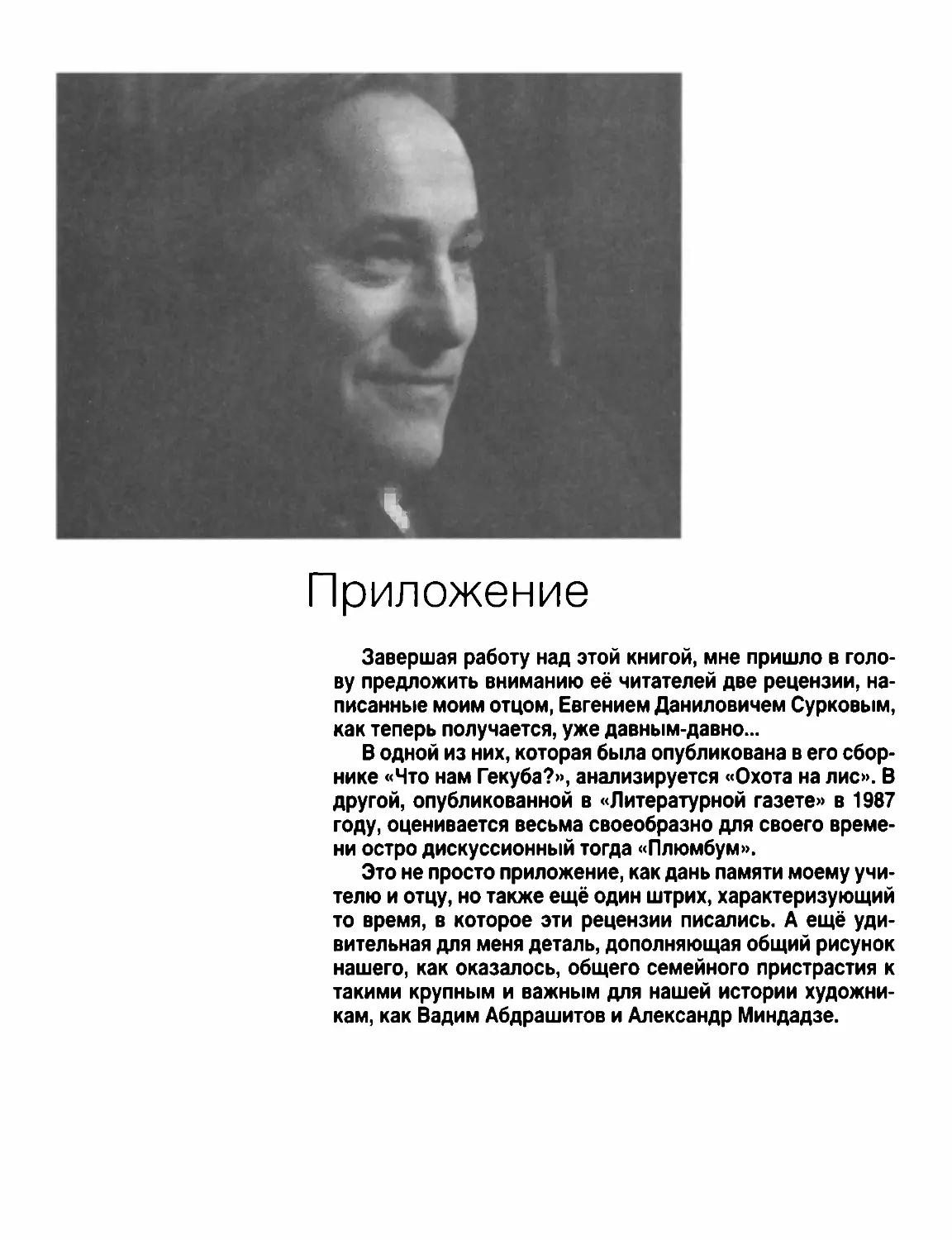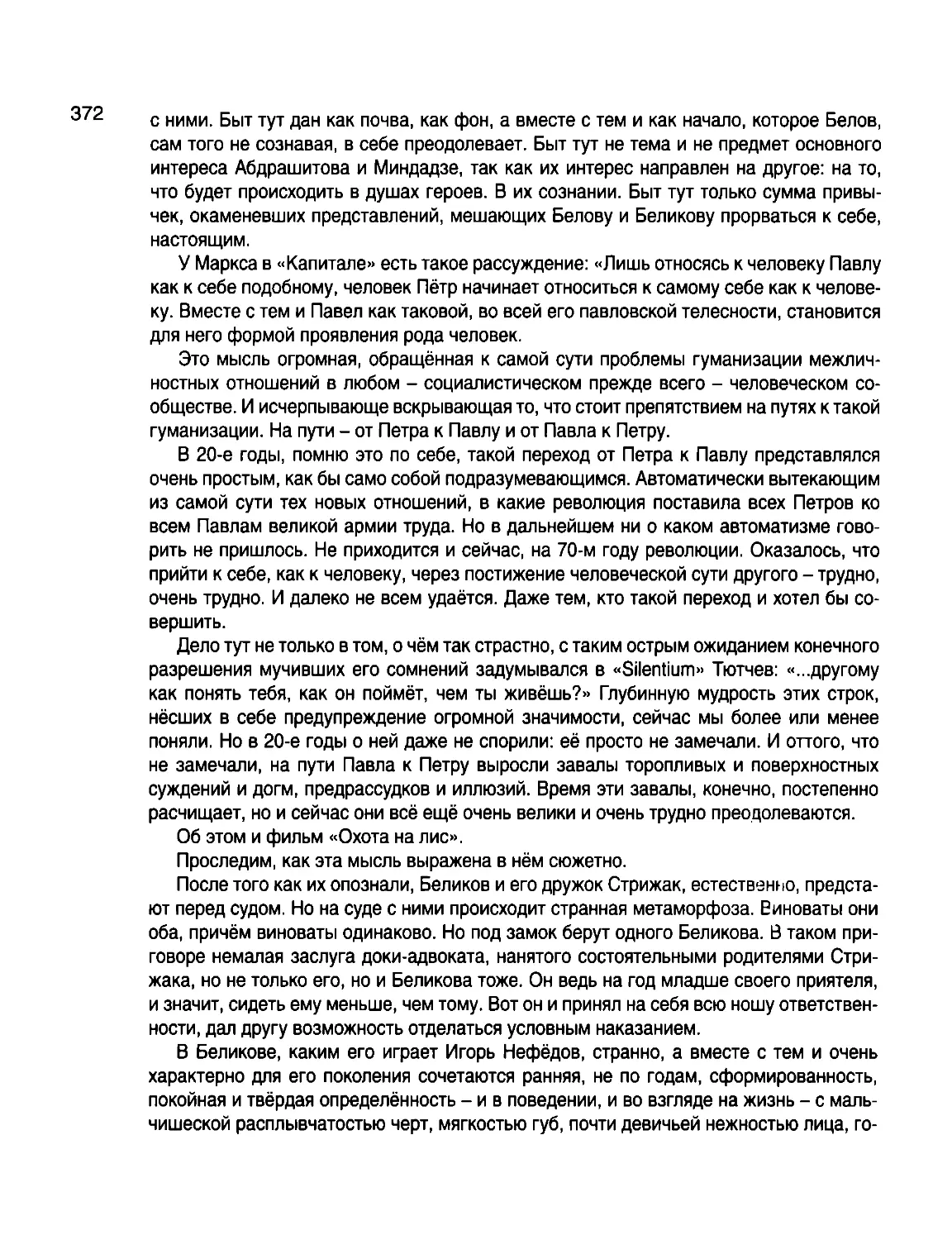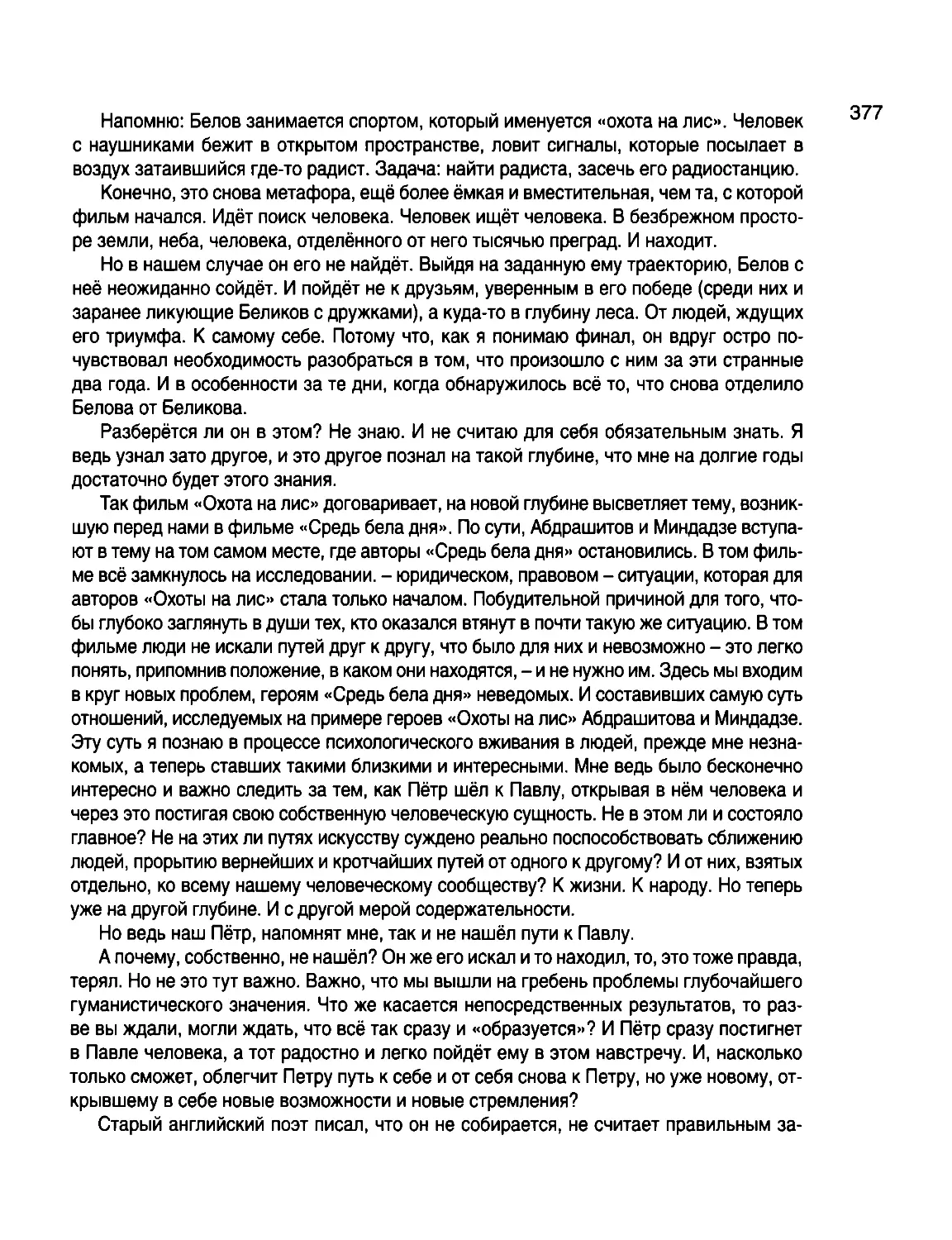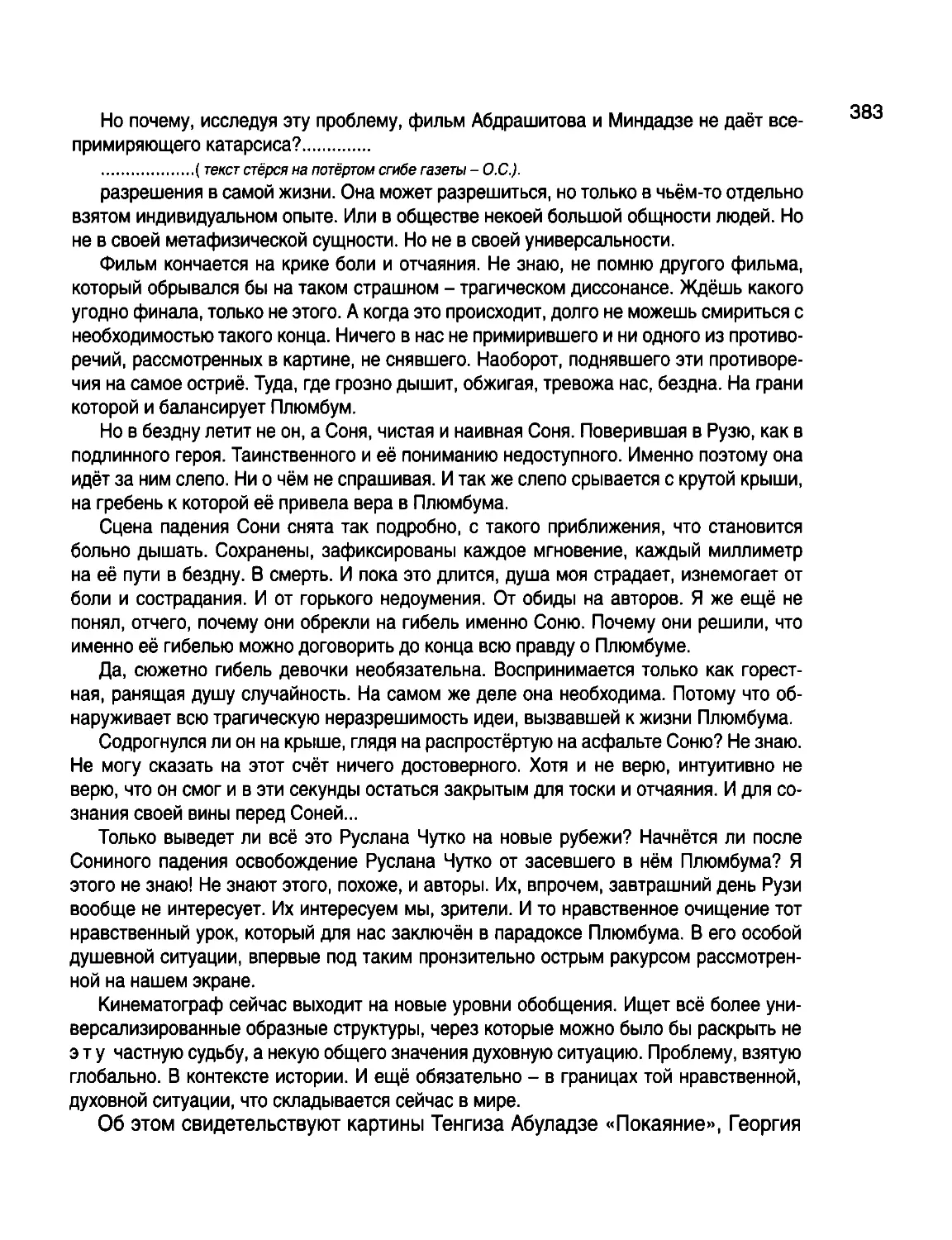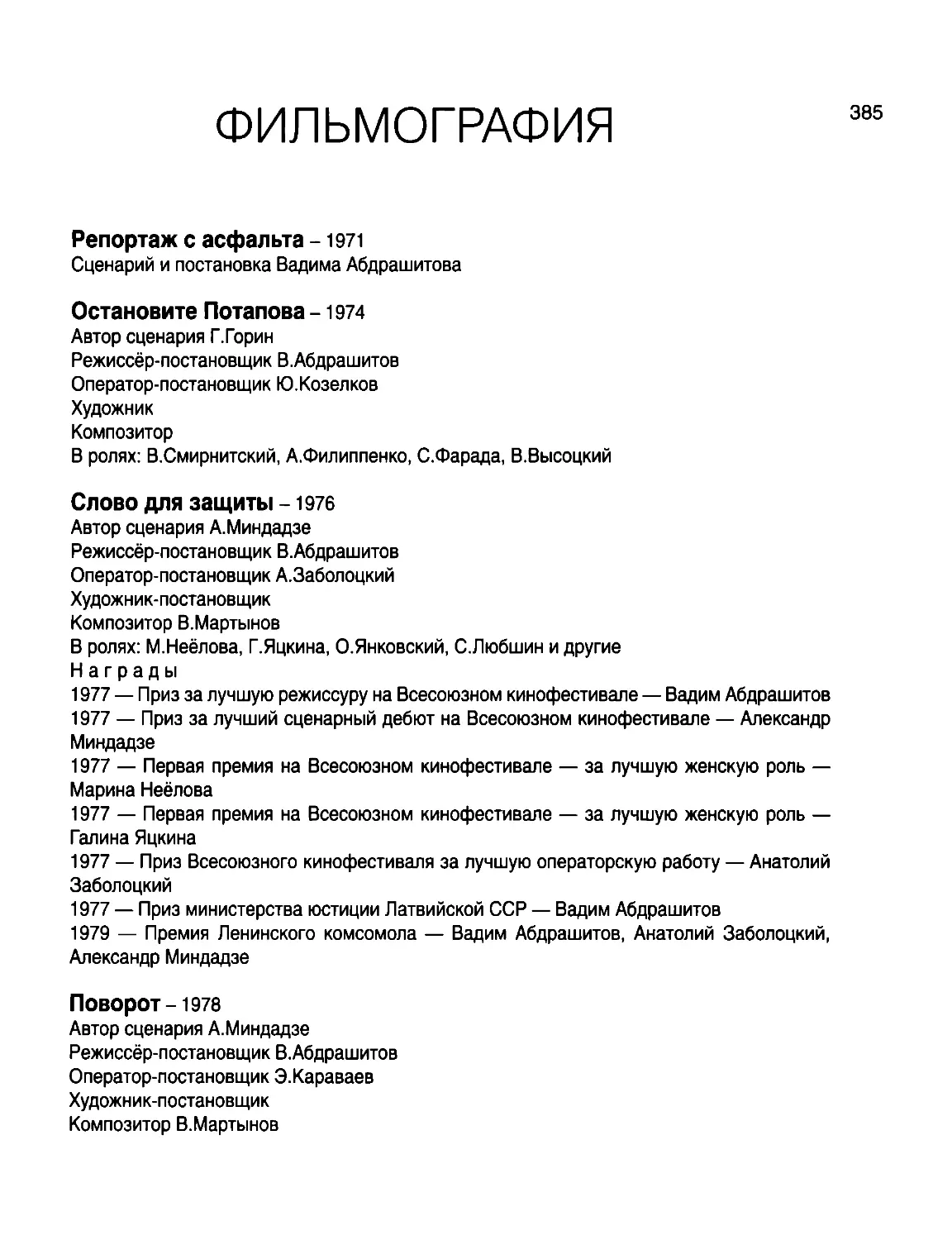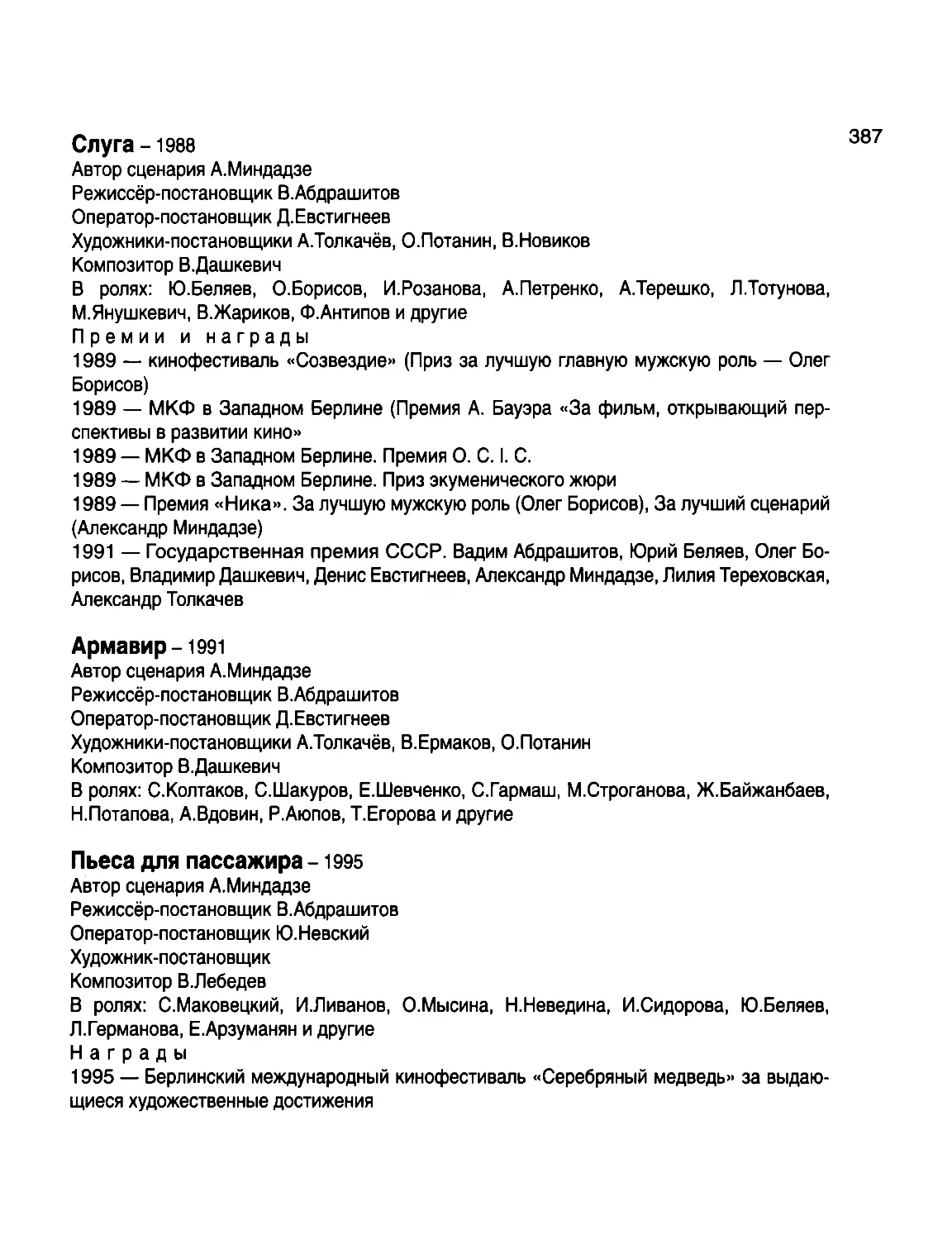Текст
ВРЕМЯ
Ь КАК СУДЬБА в фильмах Абдрашитова
Ольга СУРКОВА
ВРЕМЯ КАК СУДЬБА в фильмах Абдрашитова
Ольга СУРКОВА
ВРЕМЯ КАК СУДЬБА в фильмах Абдрашитова
МОСКВА ИМЛИ РАН 2014
ББК 85.33
С90
Оформление и макет А.Ю. Никулина
О.Е. Суркова. Время как судьба в фильмах Абдрашитова.
С90 М.: ИМЛИ РАН. 2014. - 392 с
Фильмы Вадима Абдрашитова, снятые по сценариям Александра Миндадзе, обозначили одну из самых ярких и значительных страниц в развитии российского кинематографа. В былое советское время они становились предметом острых дискуссий, возбуждали широкий зрительский интерес. В послеперестроечной России картины тех же авторов, скрывавшие за внешне активным социальным действием мистическое таинство судьбы, не получили, увы, соответствующего их значимости общественного резонанса.
Книга Ольги Сурковой, известной, прежде всего, своими работами с Андреем Тарковским и об Андрее Тарковском, заново и очень личностно переосмысливет картины Абдрашитова. Эмоционально окрашенный анализ приобретает дополнительную глубину в разговорах критика с режиссером. Следуя за автором книги от фильма к фильму, читатель получает захватывающую возможность «увидеть» или «пересмотреть» не всегда простые для восприятия кинопроизведения.
ISBN 978-5-905999-16-1
© О.Е. Суркова, 2014 г.
©А.Ю. Никулин, макет, оформление, 2014 г.
Памяти моих любимых родителей Олимпиады Трофимовны Калмыковой и Суркова Евгения Даниловича, чьи судьбы так отчётливо определялись их временем.
СОДЕРЖАНИЕ
К истории создания 8 Откуда начинался путь в кино? 13 Зрелые студенческие («Репортаж с асфальта») 17 Бедный Йорик («Остановите Потапова») 28 От ста градусов к нормальной температуре («Слово для защиты») 42 Обновляются клетки, обновляются люди («Поворот») 59 Похмелье в чужом пиру («Охота на лис») 73 Правовое в борьбе с «героическим» («Остановился поезд») 104 Между мирами («Парад планет») 132 Вы жертвою пали... («Плюмбум») 161
Служение слуге народа («Слуга») 194 Спасите наши души или Слишком одинокое странствование («Армавир») 226 Маска! Кто ты? («Пьеса для пассажира») 261 Танцы без музыки и постановщика («Время танцора») 292 «Улица корчится безъязыкая» («Магнитные бури») 323 Вместо заключения 359 Приложение 379 Фильмография 385
8
К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
Смотри - меж чернеющих сосен Как будто пожар восстаёт...
А.Фет
тчего это именно сегодня мне показалось важным написать книгу о кинематографе Вадима Абдрашитова? Оттого, наверное, что с возрастом и течением своей жизни, возникало всё более настойчивое желание разглядеть то общее время, в котором я жила. Нащупать в быстротекущем его движении те общие кооординаты, которыми определялась наша общая историческая судьба, по-разному распорядившаяся отдельными жизнями. Ясно, конечно, что в тех же условиях кто-то плыл в русле общего течения, кто-то этому течению сопротивлялся в меру своих сил и намерений. Конечно, все мы проживали разные жизни, руководствуясь разными целями, творя свои собственные индивидуальные судьбы. Но обо всём этом лично нашем, сознательном и подсознательном, рассказывают другие художники. Тогда как именно кинематограф Вадима Абдрашитова, создававшийся на основе сценариев Александра Миндадзе, начал разворачивать перед нами с начала семидесятых годов теперь уже прошлого столетия ту драматичную картину нашего общего социально-исторического движения, которому сопутствовала опасная для всей нашей дальнейшей жизни симптоматика, к которой мы оставались глухи. Не различали в фильмах Абдрашитова тех предупреждающих сигналов о грозящих нам опасностях, которыми нас безуспешно пытались вовремя разбудить художники от нашей летаргической спячки. Встрепенулись мы только тогда, когда нам были предложены временем вызревшие уже плоды, которые мы оказались вынужденными пожинать, то проклиная, то благословляя настигшие всех нас, оказывается, неожиданные перемены.
Именно Абдрашитов вместе со своим постоянным сценаристом Александром Миндадзе, явившие нам своим долгим сотрудничеством удивительный по своеобразию тандем, создали свой особый, ни на что не похожий кинематограф. Поначалу он удивил всех той открытой и смелой гражданственностью, на которую тогда уже мало
кто решался. Однако, начиная с «Охоты на лис», за прямым драматургическим действием их картин начали будто прослушиваться странные, тревожащие будто бы некий подземные толчки, которые подталкивают назвать этот кинематограф (по точному определению Майи Туроской) сейсмографическим, то есть прямо-таки предсказывающим климат истории будущего.
С Вадимом Абдрашитовым меня роднит не просто общий год нашего рождения, но единовременное проживание на этой земле, отмеченное теми же историческими катаклизмами. Это они прослушивались его сейсмическим кинематографом теми самыми «подземными толчками», которые сигналили нам о неотвратимо вызревающем в нашей стране конфликтном пространстве, оказавшемся нашим уделом. Так что нам, соучастникам одной и той же общественной судьбы, видно, не дано возблагодарить Бога за то, что мы родились в эпоху «исторически неинтересную». На глазах нашего поколения совершался напряжённый переход из послевоенного времени в мирное, происходила скачкообразная смена власти от Сталина к Хрущёву, а расцветавшая «оттепель» сменялась затем тем недвижимым временем «застоя», который казался тогда всем вечным, безнадёжным и совершенно «исторически неинтересным». Но... Неслышимые «толчки времени» всё-таки свидетельствовали, видимо, «для умных» о том, что за кулисами царившей «неинтересности» и общественной скуки вызревал, на самом деле, тот мощный взрыв, который однажды накрыл всех нас, резко смешав все привычные для нас координаты. Вдруг все мы оказались скопом и сразу неожиданно выброшенными в сверхнапряжённое пространство очень даже «исторически интересного» времени, представленного всем нам многоактным непредсказуемым историческим действом с открытым финалом.
Для большинства всё это произошло именно неожиданно и «вдруг», тогда как кинематограф Вадима Абдрашитова давно толковал из фильма в фильм об опасностях тех противоречий, в которых мы «скучно» и безответственно жили, не подозревая о зреющем распаде всей нашей идеологии и страны, только что называвшейся Союзом Советских социалистических республик. Весь этот неясно тлеющий процесс, чреватый, оказывается, невиданным, грандиозным взрывом, наблюдался и фиксировался в картинах Абдрашитова и Миндадзе, оказавшихся на своём подвижническом пути вполне одинокими странниками, как в советском, так и российском кино. Ведь на наших глазах вялое и «исторически неинтересное» время превратилось в бурное и захватывающе интересное, то есть опасное. Это его приближающиеся «подземные толчки» были услышаны и зафиксированы странными оракулами своего времени, приумножившими своими картинами тот исторический опыт, который становился для их зрителей личным переживанием.
Одиннадцать картин Абдрашитова, располагаясь между 1976-м и 2003-им годом*, последовательно рассказывали о том, как рядом с нами вызревали все те проблемы, которые привели к полному переделу всего нашего уже вчерашнего общества. При
‘«Слово для защиты»- 1976, «Поворот» - 1978, «Охота на лис» -1980, «Остановился поезд» - 1982, «Парад планет» - 1984, «Плюмбум» -1986, «Слуга» - 1988, «Армавир» - 1991, «Пьеса для пассажира» - 1995, «Время танцора» - 1998, «Магнитные бури» - 2003, не считая ещё двух студенческих короткометражных картин, сделанных в студенческие годы - «Репортаж
с асфальта» (1971) и «Остановите Потапова» (1973)
10
этом с самого начала для многих обольстительной перестройки, кажется, ни Абдрашитов, ни Миндадзе не испытали никакого восторга от случившихся перемен, примыкая к тому малому меньшинству, которое, вглядываясь в существо процесса, не ожидало никаких грядущих райских кущ. Не поддавались ребята никакой царившей вокруг общественной эйфории. Поэтому диалог их послеперестроечных картин со зрительным залом становился всё более затруднённым. Очарованное переменами большинство не сумело или не захотело вглядеться пристальнее в существо тех проблем, которые и после развала Союза продолжали исследоваться картинами Абдрашитова, не поддержало предлагаемый ими диалог. Не решилось задуматься следом за авторами о грустных предпосылках грядущей общественной судьбы. Не приложило усилий к тому, чтобы постараться разглядеть в текущей нашей повседневности за обыденными фактами те формирующиеся механизмы, что уже начинали работать против нас по своим неотвратимым законам, предопределяя дальнейшее движение всего нашего общества.
А ведь именно кинематограф Абдрашитова ещё в советское время начал настойчиво твердить из фильма в фильм о глобальном неблагополучии в советском «королевстве». А кто ещё так открыто, как Абдрашитов с Миндадзе, уже тогда заявлял о начавшемся гниении всей нашей корневой системы? Кто чуял так отчётливо запахи того тления, которое вскоре займётся неугасимым тусклым пламенем предопределённости всей нашей дальнейшей судьбы? Кажется, только эти картины так последовательно воссоздавали тот подлинный образ слабо проявленной для нас реальности, которая приобретала на экране, точно на рентгеновском снимке, свои подлинные очертания, диагностирующие течение заболевания.
К сожалению, творчество Абдрашитова было мало и куцо осмыслено критикой, несмотря на отдельные блестящие статьи. Думаю, что написанное об этих картинах слишком неразборчиво и сбивчиво, чтобы ясно и во всей целостности представить себе привнесённый ими поистине неоценимый и недооценённый вклад в нашу культуру, в понимание самих себя. Не скрою, что, порой, меня раздражала слишком изменчивая точка зрения некоторых моих коллег, не адекватно судивших картины Абдрашитова в момент их появления на экране, а затем, годы спустя и походя, справедливо признававших те же самые картины «классическими». Не раз случалось, что венчали режиссёра из грязи да в князи post factum, толком не объяснившись и лишь постепенно соображая, что уже сказанное в его картинах, как оказывалось с течением времени и событий, многое предвосхитило из того, что с нами, увы, происходило и произошло на самом деле, чтобы мы шли-шли и дошли до жизни такой, которая у нас теперь есть.
Ещё бы! Кто ещё так отчётливо предвидел весь драматизм нашей исторической судьбы? Кто разглядел и осмелился ещё до всяких «перестроек» говорить о тех процессах, которые предопределяли дальнейшее разрушение всего нашего общества, казавшегося незыблемым? Кому ещё удалось создать такую целостную череду картин, осмыслявших всегда только нашу современность, в которых нет ни одной проходной и случайной? Кто из фильма в фильм охватывал тот общий процесс, который касался каждого из нас, как гражданина именно этой страны? И кто ещё говорил об этом так глубоко и сущностно, всё более сложно читаемым содержанием кадра, чтобы наше, не вселяющее особых надежд местное, начинало идентифицироваться, увы, со всеобщим?
11
Разумеется, был целый ряд других блестящих режиссёров, высказывавшихся также внятно, ярко, горько и нелицеприятно о разных «драматизмах» того же самого времени. Но никто из них не сумел или не захотел, не решился, не позволили, наконец, бессменно оставаться на той передовой линии, где определялась вся наша общая грядущая судьба, всякий раз мерцавшая у Абдрашитова своей предопределённостью в раскрашенном бытовыми подробностями пейзаже нашей жизни.
До сих пор остаётся неясным, каким образом удавалось режиссёру в советское время снимать свои картины, уже с афиши гласившие, что «поезд остановился», не скрываясь и будто минуя цензуру? И почему приходилось ему же так часто быть не услышанным в бесцензурном постперестроечном пространстве той «свободы», которая, как выяснилось, широко распахнула двери коммерческой мути, так сильно потеснив пространство для распространения и обсуждения не очень коммерческого кино, снова размышляющего о пагубных тенденциях нашего современного общества? В результате всех этих естественных для данного общества процессов так и хочется снова задумываться от том, от чего же мы всё-таки освободились, а, главное, ради чего?
Снова задаваясь нашими больными вопросами, Абдрашитов выстраивает свои фильмы вслед за сценариями всё более мастерски и виртуозно по мысли с непомерной, подчас, для иного зрителя смысловой и эмоциональной нагрузкой на единицу площади кадра. Не все успевают, сориентировавшись в многосложности кадра, проскочить в люфты, оставляемые режиссёром для более простого общения с предметом изображения. Может быть, эта книжка нужна ещё для того, чтобы облегчить кому-то порой слишком сложный и трудный путь к абдрашитовскому экрану?
Тем более сегодня, когда в условиях обретённой «свободы», художникам стало ещё труднее пробиваться к своему зрителю, легко преобразившемуся в «потребителя», требующего развлечений. Узок стал круг тех искателей скрытых смыслов, что таятся в фильмах Вадима Абдрашитова на разной глубине в легко узнаваемых приметах быта. Не хватает всё более тех «ныряльщиков» в глубины его кинематографа, где скрывается тревога о грядущей метафизически значимой общности нашей судьбы, тускло мерцающей где-то на горизонте, но равно уготовленной нам всем, даже разведённым общественным или имущественным положением на разные полюса, но одинаково нивелированным перед лицом внеличностного социума? Этот вершащий наши судьбы обезличенный социум становится в фильмах Абдрашитова той экзистенциальной бездной, на краю которой всякий обречён на свою бесплодную борьбу за своё маленькое существование, сбитый с толку в тщетной попытке нащупать дно для опоры.
Как известно, кинематограф искусство коллективное, но я всегда считала подлинным автором настоящей картины всё-таки режиссёра, за которым последнее слово даже в выборе самого блистательного сценария. Ведь рука режиссёра всё-таки последней определяет звучание самого лучшего сценария, пьесы или инсценировки. О том же свидетельствует столь богатая театральная практика. Ну, как сравнить интерпретацию Островского Серебренниковым, Захаровым или Малым театром? Поэтому о фильмах, как конечном продукте постановщика, мне казалось важным поговорить именно с Абдрашитовым, подготовив с ним серию объёмных интервью.
12
Побеседовать я предложила режиссёру давно, но он заупрямился, заметив, что ему интереснее читать зрительские соображения о своих картинах. Тогда я решила соблазнить его к разговору серией коротких очерков о его картинах. Но когда пред моими очами выстроились в длинный ряд все одиннадцать картин, то серия очерков стала неумолимо перерастать в довольно увесистую книгу, никоим образом не претендующую на всю полноту охвата такого уникального явления, как кинематограф Абдрашитова, требующий своих дополнительных исследователей.
Думаю, что этот кинематограф, создававшийся на основе сценариев Миндадзе, будет ещё неоднократно рассмотрен в разных аспектах, подвергнут строгому киноведческому анализу, разложен на составляющие той особой образности, которая таит в себе многозначность смыслов. В контексте этих смыслов будут снова интерпретированы совершенно уникальные актёрские работы и по-особому лаконичная выразительность кадра, усиленные в своей многозначности такими сложными и выразительными музыкальными решениями. Иных исследователей, наверное, увлекут картины Абдрашитова и сценарии Миндадзе, как важная составляющая общего кинопроцесса и отчётливое влияние их работ на других авторов.
Моя задача скромнее и компактнее. Меня всегда побуждало к действию моё собственное эмоциональное впечатление от того или иного конкретного произведения искусства. Именно это впечатление заставляло меня начинать крутиться вокруг и около того, что на меня так сильно воздействовало, чтобы нащупать рычаги этого воздействия и попытаться, сформулировав их для себя, отыскать адекватные слова признательной любви к художнику. Моя книга написана для того, чтобы поделиться с другими пережитыми мною ощущениями и впечатлениями, возникавшими у меня в связи с работами этого крупнейшего Мастера.
О картинах Абдрашитова тянуло написать что-то внятное для того, чтобы разобраться с очертаниями собственной жизни и своих взаимоотношений с родным отечеством. Ведь погружаясь в абдрашитовский кинематограф, у меня неизменно возникало ощущение дополнительного жизненного опыта, расширенного и углублённого его экраном. Никто другой не проанализировал так сложно те призраки главных идей советского прошлого, что, поселившись в наших душах, совершали свои странные витки, руководя подчас исподволь нашим поведением и нашими страстями...
Случайно я оказалась первопроходцем на пути изучения такого целостного явления, как кинематограф Абдрашитова, не касаясь отдельной значимости работы Миндадзе. Тем не менее, моя работа оказалась трудной и кропотливой, заняв каким-то образом годы. Не приходилось мне раньше вспахивать такую плодородную целину. Время от времени, блуждая в словосочетаниях своих текстов, я показывала их Абдрашитову, записывая на магнитофон кое-что из наших разговоров по этому поводу. Со временем мне показалось, что наши разговоры сильно разнообразят, а, может быть, иногда проясняют мои собственные, тоже не всегда одинаково ясные для восприятия тексты. Таким образом, данная книжка сложилась, в конце концов, из двух сочетаемых, надеюсь, частей...
13
ОТКУДА НАЧИНАЛСЯ ПУТЬ В КИНО?
ожно сказать, что Абдрашитов пришёл в кино уже зрелым человеком. До того, как поступить во ВГИК в мастерскую Михаила Ильича Ромма, он проучился три курса на знаменитом Физтехе, потом закончил московский Менделеевский институт, успев после этого поработать начальником цеха огромного московского завода электровакуумных приборов. Как он рассказывал, приезжал во ВГИК сдавать вступительные экзамены на персональной машине с шофёром, которую приходилось останавливать в стороне, оставляя в ней галстук и пиджак, чтобы затем смешаться с другими абитуриентами.
Так что только в семидесятом году, бросив уже «нажитую» карьеру, Вадим Абдрашитов поступил во Всероссийский Государственный институт кинематографии в мастерскую Михаила Ильича Ромма.
Путь именно к этому мастеру был почти мистически предопределён. Так мне показалось, выслушив рассказ Абдрашитова о его жизни и судьбе до ВГИКа. Конечно, было интересно, какими ветрами занесло его на съёмочные площадки? Так что я попросила его рассказать о своей семье и как он дошёл до такой кинематографической жизни?
Родившись в офицерской семье в Харькове (отец - татарин из Семипалатинска, мама - русская, родом с Дальнего Востока) кочевал с младшим братом и родителями по всему СССР: жил на Камчатке, Сахалине, во Владивостоке, в Ленинграде, Москве, в Сибири, Алма-Ате и других весях.
Вот представь себе, что отец, прошедший всю войну, по-своему самобытный человек, играл на скрипке, очень много читал. Родители ходили в театр, в кино.
Они нас с братом нежно любили. Особая их заслуга, что они рано научили читать. И у нас была огромная библиотека. Это в нищей офицерской семье. И, кроме книг, которые мы возили с собой в огромных фанерных ящиках, ничего фактически не было...
14
Я хорошо учился, на учёбу не тратил сил, всё давалось быстро и как-то само-собой... Занимался совсем другими вещами... И в фотокружок ходил, и в какой-то химический, и при этом ещё посещал детскую театральную студию при алмаатинском ТЮЗе... Всем увлекался, не зная, куда себя деть... Но очень много читал... И учиться в школе стало скучновато. А тут, рядом с нашим домом, оказался алмаатинский техникум железнодорожного транспорта, который объявил о новой специальности, электронике, связи, требующих подготовленных мозгов.
Это было и впрямь интереснее. Вокруг взрослые люди, дядьки уже, которым стукнуло по 22 года, пришедшие из армии, с производства... Они окунули нас как бы во взрослую жизнь, там и никотин появился, и алкоголь... как-то вдруг сразу показалось, что мы подросли. А в апреле 61-го был запущен Гэ-гарин, и началось вот это самое: космос, ракеты, космонавтика, физики-лирики... И для себя сразу всё понял - ну, конечно, это - моё...
Забрал документы из техникума, сдал экзамены экстерном за среднюю школу, и полетел в Москву поступать в МФТИ, знаменитый Физтех в Долгопрудном. И началась совершенно другая жизнь... Было мне 16 лет.
И вот я летел в Москву уже на учёбу. Прилетел во Внуково ночью 29-го августа, взял такси и попросил проехать в Долгопрудный через ночной центр... И мы через центр поехали. Но оказалось, что Гэрького - Тверская перекрыта, потому что снимается какое-то кино... Всё же подъехали, я вышел и, действительно, увидел, что идут съёмки. Узнал Баталова, вторым был неизвестный мне Смоктуновский... Если ты помнишь «Девять дней одного года», вот этот проход героев мимо молочного магазина на улице Гэрького, когда они там что-то иронизируют по поводу рекламы?...
Ну, не может быть! Конечно! Я обожала эту картину, смотрела её тысячу раз...
Ну, да, естественно, мы все вообще потом были сдвинуты на этой картине. И в сторонке сидел - я его узнал - Михаил Ильич Ромм!
И вот когда потом я пришёл работать на Мосфильм, в объединение Ромма-Райзмана, и рассказал как-то эту историю, то мне не поверили - «как в плохом сценарии...». А было это 29-го августа 1961-го года... И там, интереса ради, подняли журналы съёмок этого дня - точно: проход по улице Гэрького, ночная смена, такие-то актёры... Для меня - почти мистическая история..
Знаменитый Физтех, 61-й год. Ты помнишь, что это за времена? Ведь инерция оттепели сохранялась, ещё как-то даже теплело вширь.... Ведь это были годы, когда произошла вот эта самая магнитофонная революция, когда из всех окон общежития слышны были то Галич, то Высоцкий, то Окуджава... А в институт набирают, понятно, в основном молодых людей, подростков фактически... И это всё много для них значило, может, многое определило в жизни вообще...
15
Да, бобины в квартире моей подружки Писаржевской поистине незабываемы... У её отца, известного публициста, хранились километры записей Окуджавы, Вертинского, всякие авторские, блатные песни... Мы просто млели надо всем этим...
А в театре что происходило? Мы ездили в Москву по ночам, чтобы выстаивать очереди за билетами в «Современник»... Мужала Таганка, невероятными какими-то способами мы туда попадали...
61-64-й... вот это особая череда годов. На экраны вышли фильмы итальянского неореализма. 61-й или 62-й год - это «Рокко и его братья» Висконти! Можно представить, что всё это значило для нас, молодых, незрелых?
Ну, как же? Я даже помню, как, будучи подростком, старалась говорить низким голосом моей любимой героини Патриции Хольман, «Три товарища» были для нас настольной книгой...
И плеяда наших гениальных поэтов. Вот это было вообще наше всё... Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский... А что стали печатать в толстых журналах? В 62-м - «Один день Ивана Денисовича» в «Новом мире»! Чуть позже выходит сборник Андрея Платонова, томик Кафки, «Тарусские страницы»... Невероятное что-то - согласись? - по всем делам! Такой ренессанс. То есть, иными словами, время как-то подтягивало, требовало какой-то самореализации, хотелось что-то такое самому делать...
Не случайно появились в институтах мощные «Устные альманахи», начался КВН, многотиражки помолодели... Я много фотографировал, писал для институтской газеты, делал какие-то репортажи...
Время будто открывалось каждому человеку и требовало отклика...
Не гасило человека, но как-то заряжало его. Когда я сейчас смотрю на теперешнюю молодёжь, то понимаю, что где-то здесь между нами принципиальная разница. Там наша молодость совпала, условно говоря, с какой-то молодостью страны, понимаешь? А сейчас ситуация как бы обратная... Сейчас у молодых... обстоятельства жизни иные и состав атмосферы совсем другой...
Конечно, потом стало ясно, что откатный процесс шёл уже тогда, после оттепели похолодало... Но как много значили эти три года, 61-64-й, для зреющей молодости! Хрущёва сняли уже в 64-м, но, по инерции, конечно, что-то ещё продолжалось, тем не менее... И в 66-м вышел «Июльский дождь», а в 68-м оттепель окончательно закончилась. Но те годы, думаю, очень многое определили в судьбе нашего -и не только - поколения.
Я всегда любил кино, и у меня в то время каким-то странным образом, я даже не могу понять каким... как-то постепенно... созрело во мне, даже не «созрело» - очень громко сказано - выносилось ощущение, что всё равно буду заниматься кино, режиссурой... Даже уверенность...
На «Устные альманахи» в институт приезжали кумиры того времени -
16
Арам Хачатурян, хоккейный вратарь Юрзинов, Григорович, Михаил Ильич Ромм в свете «9-ти дней» тоже приехал к молодым физикам, студентам... И начал говорить... Он был гениальным рассказчиком. Имел неслыханный авторитет в обществе. К нему пришёл весь Физтех, и из Москвы подъехали гости... И сидели, раскрыв рты. И он говорил часов до 12-ти ночи, студентов нужно было уже отпускать спать... Тогда Ромм пообещал, что завтра приедет снова. И назавтра опять рассказывал до ночи обо всём на свете - о кинематографе, о театре, о политике, о литературе, науке... Отвечал на бесконечные вопросы о «9-ти днях», про Аксёнова, Окуджаву и так далее... Снял пиджак, курил свои «Краснопресненские»... Ноя и не мечтал, к нему поступать... И не думал...
Вот как складывается судьба, прямо-таки сводила вас... как интересно...
Я поехал во ВГИК после третьего курса, разобраться что к чему. Стало ясно, что надо завершать образование, отрабатывать его 3 года по тогдашним законам, и только потом поступать.
Еду обратно и думаю - надо начинать готовиться и всё-таки поснимать на киноплёнку. ..А на Физтехе не было никакой любительской киностудии. Были такие в других вузах: в МИСИ - строительном, в Менделеевском - очень мощная по тем временам. Руководил ею студент ВГИКа, мой потом замечательный товарищ Гэрман Гуревич... Короче говоря, я перевёлся в Менделеевский и сразу стал снимать. А поскольку пришёл туда из Физтеха, с хорошими оценками, то много предметов перезачёл, и всё теперь свободное время отдано было подготовке ко ВГИКу - снимал, монтировал, что-то писал, много читал, много смотрел...
Ну, ничего себе! Я не знала такие подробности...
Закончил Менделеевский хорошо, меня звали в аспирантуру, но я пошёл работать на производство, выбрав Московский завод элетровакуумных приборов - он был по прямой от дома ветке метро. Положенные три года отработал в цеху, закончив начальником этого цеха. Всё это весьма пригодилось потом.
А в 1970 как раз набирал мастерскую Ромм. Всё сошлось.
ЗРЕЛЫЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ
А
/Жбдрашитов, конечно, трудоголик. В работу он вкладывается целиком, всегда зная, чего он хочет. Так что вги-ковский период, который трудно назвать применительно к Абдрашитову ученическим, оказался для него более чем плодотворным. Обе студенческие работы начинающего ре-жисёра - «Репортаж с асфальта» и «Остановите Потапова» - пополнили сокровищницу выдающихся студенческих работ, удостоенных множеством премий. После того, как вторую курсовую работу засчитали дипломом, путь молодого режиссёра лежал прямо на студию «Мосфильм», куда его пригласит работать великий Юлий Райзман.
А пока уже первая курсовая работа режиссёра «Репортаж с асфальта», сделанная в мастерской Ромма в 1971-м году, была не только отмечена призом за лучший режиссёрский дебют на фестивале студенческих фильмов, но ещё более того - очень высоко оценена обожаемым Мастером курса Михаилом Ильичом Роммом, много размышлявшим в
18
те годы о специфике киноязыка и его принципиальном отличии от языка литературы, живописи или театра. Он писал: «Очень порадовал меня Абдрашитов, ученик мастерской, снявший учебный фильм «Репортаж с асфальта» чрезвычайно глубокого содержания, и нет ни одного слова и звука. Это кинематограф. Молодой парень уже приходит с ощущением вещественности кинематографа, которое заменяет его словесность, его традиции театральности и живописности. Существо вещей в этом репортаже видно и чувственно сильно, это и есть кинематограф».
После таких слов, адресованных одним из классиков нашего кино не прославленному, маститому специалисту, а всего лишь студенту, трудно, как я уже заметила, говорить о начальном периоде робкого ученичества или неуверенных поисков начинающего режиссёра. Не было в творческой биографии Абдрашитова никаких первых клякс на чистом заглавном листе. Он сразу начал заполняться «послужным списком» отчётливым, каллиграфически выверенным кинопочерком, обнаружившим уже в первом фильме абсолютно профессиональное владение документальной камерой, умение с этой камерой наблюдать и думать, свободно оперируя затем теми резкими, ритмически выверенными монтажными стыками, которые в сочетании двух кадров рождали непростой третий смысл, называвшийся кулешовским.
Интересно заметить, что говоря о «сложном содержании «Репортажа с асфальта», Ромм этого содержания не называет, может быть потому, что не хочет его озвучивать, дабы не «поспешить» навредить своему ученику. То что наверняка прочитывалось Мастером в столкновении кадров, умалчивалось по тем временам вполне сознательно, чтобы не навлекать на его голову лишнего недоверия и подозрительности. Поэтому не формулирует Михаил Ильич прозвучавший в картине драматический приговор толпе, растворяющей в себе индивидуальность. Сомнения режиссёра вызваны так называемым, цивилизационным процессом, сплошь и рядом нивелирующим самобытность личности.
Хочу подчеркнуть ещё раз, что фильмам Абдрашитова с самого начала сопутствовало порой дипломатически выверенное, а порой вполне искреннее недопонимание, ибо всякий привычный для нас предмет рассматривался режиссёром под особым и всегда неожиданным углом зрения. Потому с самого начала то, что он говорил с экрана в полный голос, имело тенденцию восприниматься в пол уха. Наверное, ещё и потому, что с самого начала его высказывания сильно опережали вяло зреющее общественное сознание, склонное ещё понежиться в своих романтических мечтах, уже отягощённых, на самом деле, сопутствующими этим мечтам катаклизмами реальных взаимоотношений человека и общества.
Огромное, подавляющее большинство населения Советского Союза, воспитанного в духе коллективизма, но искренне очарованного маленькими радостями отдельных квартир, не могло разделять многие заблаговременные тревоги молодого автора. Как ни странно, но именно у него, также воспитанного на идее коллективизма, возникли опасения о растворении индивидуальности в толпе. В
19
атмосфере наступившего торжества маленьких «буржуазных» радостей от своей собственной жилплощади в разраставшихся мегаполисах, странно было уже тогда озаботиться молодому человеку вроде бы побочным продуктом единообразия жизни, сопутствующей достижениям «цивилизационных» процессов.
Пропустили или сознательно не огласили всю остроту проблем, поднятых в своей работе самостоятельно мыслящим студентом, как толпы, сминающей индивидуальность, так и издержек так называемого «прогресса», своими «благами» тоже равняющего людей на свой лад. Все жили ожиданием «хорошей» жизни, восхищаясь возможностями человека, которому теперь найдётся достойное применение. Как писал под впечатлением недавней войны один поэт «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей»... А тут у режиссёра возникали уже наперёд какие-то не совсем «наши» рефлексии...
Радость «строительства новой жизни» вытесняла былые беды и обещала только счастливое будущее. Так верилось после недавней войны в чудодейственные свойства мирной жизни. Так хотелось «забить» на тяжёлую деревенскую жизнь и, пожиная урожаи урбанизации, лакомиться плодами разумно и благородно устроенного общества, планово расселявшего своих граждан по отдельным квартирам многоэтажных домов.
Жизнь и движение городской толпы в «Репортаже с асфальта» были сняты, как я сказала, документальной камерой, а затем мастерски склеены Автором в том резком, музыкально просчитанном ритме, который объединял весь отобранный материал в общий, жёсткий, графически завершённый рисунок упорядоченной городской красоты, регулируемой чрезмерной управляемостью общего для всех движения. Всякий следующий маршрут был предусмотрен общей организационной целесообразностью, стирая всякое своеволие движения, как стирается в толпе индивидуальность лица. Странно для тех лет, но в сопоставлении отснятых кадров в фильме уже тогда отчётливо сквозила не свойственная нашей тогдашней общественной мысли тревога о грядущих драмах больших городов и больших толп. Та тревога, о которой много позднее писал писал, в частности, М.Уэльбек, заявляя, что вокзал Монпарнас являет собою тот образец архитектуры, где «соблюдено необходимое и достаточное расстояние между светящимися табло с расписаниями поездов и электронными автоматами, принимающими заказы на билеты, в нём вполне оправданной расточительностью всё кругом облеплено стрелками, указывающими путь к поездам. Таким образом, вокзал позволяет западному человеку со средним или выдающимся интеллектом добиться желаемого перемещения в пространстве, сводя к минимуму толкучку, дорожную суету, потерю времени... Вся современная архитектура - громадный механизм для ускорения и упорядочения движения людей» (стр. 28).
Предвосхищая соображения Уэльбека, высказанные им позднее, городская толпа у Абдрашитова в «Репортаже с асфальта» движется также предопределяемая указателями в ритмах и скоростях, определяемых степенью собственной перенасыщенности, где каждый находится в полной зависимо
20
сти от общего движения, а отдельные лица просто неразличимы. Ясно, что в муравейнике не разбежишься просто так и куда угодно. Пути предопределены внеположенными правилами, как для людей, так и для машин, как стрелками правил движения, так и указателями, предусмотренно расставленными на пути движения, точно военная команда:
ЛЕТАЙТЕ. СМОТРИТЕ. ВЫПИСЫВАЙТЕ. ПРИОБРЕТАЙТЕ. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ. ПОСЕЩАЙТЕ. И, наконец, СТОЙТЕ.
Но, согласитесь, что все эти детали нужно было ТАК увидеть и ТАК распределить, скрепив сосредоточенно горькой авторской мыслью, чтобы они складывались в тревожный образ несвободной взаимозависимости. Хотя, как я уже заметила, в те времена то ли никто не заметил подлинного намерения Автора фильма, то ли умолчал о нём, как это, видимо, сделал Михаил Йльич Ромм, опасаясь подвести под монастырь своего высоко оценённого им ученика. Снова повторю, что умолчание или недоговаривание смысла будет и впредь сопутствовать каждой картине Абдрашитова.
Безликие толпы людей, движущиеся, будто по команде, намеченными путями, были расцвечены в средней части фильма приближенной к нам портретной галереей лиц, выхваченных из толпы... окрашенных живыми, подвижными, индивидуальными чертами, увиденными и замеченными заинтересованно любопытствующим авторским взглядом. Эти лица возникнут у Автора из предписанного большим городом единообразия, чтобы снова раствориться в том же человеческом множестве, распадающемся затем на отдельных людей, скрывающихся после рабочего дня за одинаковыми окнами типовых квартир блочных домов, множащихся в кадре ровными сотовыми ячейками.
За несколько лет до «Репортажа с асфальта» вгиковский фестиваль сверкнул замечательной картиной «Начало» выдающегося документалиста Артура Пелешяна. Документальные кадры в его фильме формировались и двигались волей режиссёра в нужных ему ритмах, чтобы продемонстрировать размах и энергетику человеческих толп, массы людей, жаждущих глобальных перемен... то ли в могучем единении, то ли в пугающем, взрывоопасном противостоянии, так или иначе чреватом вулканическим выбросом вызревшей энергии... то ли историко-эволюционной, то ли освежающе-революционной, то ли заведомо катастрофической... Так или иначе, но Пелешян с «ужасом во взоре» замирал «у страшной бездны на краю», скорее всё-таки с восхищением... Как на берегу бушующего моря-океана...
У Абдрашитова в кадре только спешащие толпы большого города, в которых стирается индивидуальная значимость отдельных персонажей, вынужденных тупо двигаться по той же самой колее, чтобы не смешать все предписания опасным хаосом уже неконтролируемого движения. Всякие толпы, вырвавшиеся из-под контроля, агрессивны и небезобидны. В смысловом пространстве штормовых всполохов народного гнева, зреющего в недрах нашей теперешней жизни, будет подготовлена последняя на сегодняшний день картина Абдрашитова «Магнитные бури», о которой поговорим к финалу этой книги...
21
Но это будет значительно позднее. А пока в неподвижных «застойных» заводях середины семидесятых толпы двигались в «Репортаже с асфальта» лишь послушным обезличенным стадом, ещё не таящим в массовом порядке никаких взрывоопасных идей. Лишь учуянная Автором обезличенность индивидуальной жизни, стёртой всеобщим существованием, составляла драматизм повествования.
Сюжет фильма окольцовывался Автором в первом и последнем кадре монотонно неотвратимым движением катка. Это движение катка, выравнивающее асфальт, стирающее и выглаживающее всякие неровности, напоминало в образном смысле «наезд» на всякое разнообразие, мешающее бесцветному, единообразному «застойному» человеческому существованию. Причём всякая не «побочная», но сопутствующая образу мысль никогда не звучала у Абдрашитова как-то надсадно или слишком очевидно. Но именно так виделась тогда режиссёру чрезмерная усреднённость нашей жизни, когда большинство советских граждан были ещё преисполнены самыми благими ожиданиями, полагаясь на справедливое развитие нашего общества. Во всяком случае, многим тогда верилось в то, что говорилось, писалось и обещалось.
Тем не менее, образ большого города, создаваемый режиссёром в то время, уже сильно напрягал наше внимание и казался очень далёким от прекраснодушия. Мирная жизнь чеканилась у режиссёра на экране по-военному звучащими командами, обозначенными направляющими указательными стрелками: ВВЕРХ, ВНИЗ, НАПРАВО, НАЛЕВО, или ПО КРУГУ, обещающими, вроде бы, только безопасность движения. Но это движение, по-особому препарированное режиссёром в кадре и за монтажным столом, расширялось в образном отношении дополнительным смыслом предопределённости пути по команде и по кругу тогда, когда казалось, что большинство народа, следуя правилам, надеялось на сносную «правильно» организованную жизнь.
Так и жили, пока всё текло, как казалось тогда, почти что нормально. Но что же всё-таки означало нормально? Стабильно? Привычно? Как норма жизни? Как норма, скучная или желаемая? Как сложность в эту норму не вписываться или обязанность непременно в неё вписаться?
Очень странно, но именно теперь, в современной муторной жизни, полюбилось нашему народу её одно странное словечко - однозначность, симптоматичное, увы, как диагноз времени. Именно тогда, когда разрешили так называемый плюрализм мнений, общество, кажется, стало воспринимать жизнь и её ценности так однозначно, будто в военное время - однозначные отношения, однозначные оценки, однозначные решения, однозначные мнения, однозначные нормы... и всё вместе оказывается нормальной однозначностью существования, названного сегодня свободным...
В каждом фильме Вадима Абдрашитова всякая по видимости нормальная ситуация всегда выворачивается им своей неоднозначностью, становясь предметом его художественного анализа. Как мы увидим дальше, художник стремится обнаружить и продемонстрировать нам не однозначность, но пугающую
22
амбивалентность и многозначность всякого общественно-социального процесса. Потому, оказывается, так нелегко решиться начать распутывать весь туго закрученный образный клубок, таящийся в работах режиссёра, чтобы он до конца развернулся для нас целостным, заложенным в нём художественным рисунком. Без потерь.
Каток из «Репортажа», выравнивающий асфальт, уверенно располагается в кадре, будто бы всех нас закатывая и выравнивая своим движением... под одну гребёнку. Сопоставляя монотонное движение катка с будничной жизнью, ассоциативно возникает мысль о её единообразии и однообразии, которые какой-нибудь Уэльбе скоро назовёт «Жизнью, как супермаркет». А пока в первой учебной работе молодого режиссёра сквозь решётку на тротуаре и утрамбованную под ней землю пробивается вверх к жизни и солнцу только один-един-ственный ствол мощного дерева. Видимо, в этом мире, как хочет сказать автор, суждено выживать и плодоносить лишь редким поштучным экземплярам, выживающим вопреки предлагаемым для всех обстоятельствам.
Интересно, что именно такой же каток становился символическим предметом в руках благородного рабочего в знаменитой дипломной картине Андрея Тарковского «Каток и скрипка». Но как сильно с течением лет изменился контекст знакового использования этой машины! Наивно романтическая точка зрения шестидесятника Тарковского, сопрягавшего в своей картине в дружеском единении каток в руках рабочего со скрипкой в руках интеллигентного мальчика, сменилась исторически-процессуальной точкой зрения Абдрашитова, трезво и иначе мыслящего художника нового поколения.
Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым
Вадим, мне хотелось бы, чтобы, знакомясь с моими текстами, ты рассказывал о значении и судьбе каждой твоей работы. Как они возникали, как выстраивались тобой, какие смыслы в них вкладывались? Может быть, они не всегда совпадают с моими домыслами и впечатлениями? Хотелось бы по хронологии проследить также, какие события разворачивались вокруг и около твоих работ...
Я думаю, что дело не в том, что каток является образом наступления цивилизации... Хотя, может быть, в этом что-то есть... Но, надеюсь, не это главное...
Ты хочешь сказать, что тебе было интереснее лицо, теряющееся в толпе?
Да, конечно, толпа и лицо... и эта мысль в «Репортаже», как мне кажется, достаточно выражена. Ведь есть там люди с намёком на характер, но становясь атомами в толпе, эти характеры теряются... А толпой обезличенных людей очень легко управлять, что было уже неоднократно доказано историей... На самом деле это могло бы быть безо всякой цивилизации... толпы существо
23
вали всегда... Ты права, наверное, когда пишешь потом, как всё это из «Репортажа» откликнулось в «Магнитныхбурях»...
Ты делал «Репортаж» уже на первом курсе, так каким образом ты справлялся? Сам снимал или как?
Это было первое задание, которое обычно практиковал у себя в мастерской Ромм... Может быть, это делается не во всех мастерских, но в методологическом смысле само по себе это чрезвычайно ценное для студентов начало, оно касается важнейшего - категории отбора... и я сам сейчас даю студентам задание сделать РЕПОРТАЖ, устный, письменный, на видео. Репортаж - о чём хотите... Сегодня чисто технически сделать это гораздо легче, а тогда не было, естественно, никакого видео, был каменный век... Мы должны были снимать на 16мм-плёнке. Но у меня был опыт и 35-мм-й. Так что попросил Ромма разрешить работать на 35мм... Нашёл для этого оператора, студента-заочника Игоря Скачкова... Достал у приятелей камеру «Конвас», накупил плёнки, насколько денег хватило, и мы с оператором два месяца снимали на улицах Москвы этот репортаж, два месяца... Там даже виден перепад погоды, люди в лёгкой одежде и потеплее одеты... мартовские холода... снимали в Москве с телеобъективом, наблюдали... Получили, как ты догадываешься, огромное количество киноматериала... Картина длится всего 7 минут, а материала было часа на два, отсняли материала примерно один к двадцати. Смонтировал его достаточно просто, потому что, как ни странно, к фильму был написан очень такой конкретный сценарий...
А кто тебе писал?
Сам писал, конечно, выстроил всю структуру... так что заранее было понятно, что снимать и как снимать... Замысел был оформлен в трёхчастную структуру. Материал наш обрабатывался - страшно сказать - на студии «Военфильм»! Одна моя подруга по ВГИКу, по распределению попавшая туда, тайно вносила материал на проявку и тайно его оттуда выносила уже отпечатанный...
Да, похоже, что с военной охраной уже тогда было плоховато...
Если помнишь, среднюю часть «Репортажа с асфальта» держит музыкальная основа, 15-я соната Бетховена. Очень своеобразное исполнение Томашевского и Кисилевского, двух выдающихся польских пианистов. Между прочим, именно услышав эту вещь, я, помню, получил толчок к этому замыслу, во всяком случае его структуры и темпоритма...
Когда мы показывали на экзамене свои работы, то Ромм ничего особенного не сказал, просто поставил по пять баллов, фактически, всем, кто просто сумел снять картину в тех непростых условиях...
24
Я помню, что он собирался использовать этот фильм в своей картине...
Да, это было... А пока о письме Ромма, которое ты цитируешь. Он написал его С.Герасимову, потому что они собирались вместе написать учебник по кинорежиссуре. Очень жаль, что этого не произошло, потому что многое можно было ожидать от диалога столь разных художников... Особенно по тем временам. Хотя они с большим уважением относились друг к другу, при том, что были принципиально разными режиссёрами и людьми...
Именно в процессе этого диалога, когда они всё плотнее общались в связи с предстоящей общей работой, Ромм писал Гэрасимову, что такое вообще искусство кино, назвав очень мало людей, имён, режиссёров или авторов, которые, с его точки зрения, чувствуют саму природу кинематографа... Он упомянул немногих современников, кажется, Хуциева и следом меня... Статья эта в журнале «Искусство кино» во ВГИКе наделала много шума. Начали заново пересматривать «Репортаж»... А мне это, естественно, помогло запуститься со следующей работой...
В то время Ромм делал фильм «Мир сегодня». Для нас, своих студентов, он устроил просмотр материала, фактически, первой сборки картины на Мосфильме. Мы сидели в зале, человек тридцать, а он сам в первом ряду комментировал весь просмотр. Своим знаменитым особым голосом. Это была просто фантастика...
Мы смотрели первую складку «Мира сегодня» в мае, а в июне Ромм увидев «Репортаж с асфальта», решил вставить его в свою картину. Тому была особая причина. У него была отснята для картины вся зарубежная часть - Китай, Франция, много Европы, был какой-то американский материал... Он работал с замечательным оператором, Гэрманом Лавровым... Но случилось так, что в самом Союзе они к тому моменту не сняли ни кадра. Так что когда Ромм увидел «Репортаж с асфальта», то, подозреваю, найдя в нём созвучие своей картине, решил вставить семиминутный репортаж в свой фильм. Мне сказали об этом наши педагоги. Я, конечно, был весьма впечатлён. Начали поиски исходных материалов, стали ко всему этому готовиться и подготовили... а в ноябре... Ромма не стало. Ну, а те, кто пришли заканчивать роммовскую картину, в нём уже не нуждались...
Внезапный уход Ромма из жизни вообще для меня загадка, потому что, так или иначе, делал он абсолютно богоугодное дело... И почему Всевышний не дал ему его завершить? Всего-то 70 лет... Но не дал Он ему доработать, доделать эту картину... Этот фильм был бы о таком феномене XX века, как массовый психоз, о механизмах сколачивания человека в толпу, которая легко управляется, и так далее... Вся эта тема решалась, понятно, на материале того времени, то есть культурной революции в Китае, мао-дзедунизме, гитлеровской Гэрмании... Авторы ездили по всему миру и по всем синематекам, привезли огромное количество чрезвычайно интересного материала.
Жаль, тогда не было видео. Наверняка сняли бы прямо с экрана этот пред-
25
фильм. ..Нов памяти всех смотревших моих товарищей до сих пор это осталось мощным впечатлением.
Я не видел ничего в этом роде более сильного и мощного... Ну, монтаж аттракционов в буквальном смысле слова... как был сделан по этому принципу «Обыкновенный фашизм»... Но там фашизм, как таковой, не позволял из-за тематики слишком сильно «аттракционить», понятно? Фашизм уже предполагал авторскую тенденциозность, более активное авторское присутствие... А в «Мире сегодня» можно было оставаться как бы «объективным» наблюдателем, и быть легче в форме...
Ну, а «Репортаж с асфальта» получал всякие награды, что очень помогало мне запускаться со своей следующей довольно сложной картиной...
Ты имеешь в виду, понятно, «Остановите Потапова»?
Нет, между «Репортажем» и «Потаповым» была ещё снята работа вместе с моим однокурсником Александром Бибарцевым под названием «Просто Петров», учебный игровой фильм. Это была экранизация рассказа писателя Валерия Алексеева. Рассказ назывался «Некто Петров». Задание было на десять минут, но мы с Сашей скооперировались, так чтобы сделать двадцатиминутную работу. К этому времени к нам в мастерскую пришёл Лев Александрович Кулиджанов...
А сценарий тоже кто-нибудь из вгиковцев делал?
Нет, мы сами писали, это же экранизация... Снимали в Малаховке, на одной генеральской даче. Это была забавная история и единственный раз, когда я снимался актёром. Там у меня была такая молчаливая роль будущего зятя хозяина дачи. Этакая психологическая драма из жизни молодёжи. Дача реально генеральская, но было понятно, что это какой-то партийный работник. У него дочь красавица, а я играл её жениха, будущего зятя партийного босса. Гэрой мой помалкивал, но было ясно, что вскоре и дочь, и дача, и власть будет у него в руках. Новое поколение приходило к власти. По сюжету героиня, подружка красавицы, привозит с собой на дачу, чтобы одной не ехать, какого-то приятеля. Отмечался день рождения дочери-красавицы. Мы уехали в эту Малаховку, жили там и снимали... Приехали уже с отснятой работой, смонтировали её, озвучили, и стали показывать.
И тут педагоги и мастер были сильно озадачены, потому что у нас получилась абсолютно простодушно сделанная история про особую номенклатурную жизнь, про - прямо скажем - классовые различия, что-то от Джиласа, если кто помнит его «Новый класс». Фильм был про безуспешную попытку вот этого приглашённого по фамилии Петров, как бы разрушить обнаружившуюся социальную границу... Уходил он при этом ни с чем - границы остались на крепком замке. Мой герой провожал его до калитки этой дачи и саркастически усме-
26
хался: «До свидания, одинокий разрушитель миров, желаю удачи в следующей попытке». Так что, возможно, получилась, мягко сказать, тенденциозная история. Был вроде бы простой бытовой материал, а получилась какая-то если не антисоветчина, то, во всяком случае этакое «анти»... И мастер курса, Кулиджанов, разобрав работу, недолго думая сказал: «я ставлю вам обоим по пять баллов, в работе есть достоинства, но работу нужно смыть». Такое указание было дано Учебной студии, и работы больше вроде бы нет! Но, как-то по ошибке, по недосмотру, одна копия всё-таки была напечатана, а потом уже негатив смыт. Так что эта копия всё-таки физически существовала, многие её видели, а, может быть, и существует до сих пор.
А тогда учебная жизнь продолжалась, и я очень хорошо помню, как в феврале 72-го года, читая «Литературную газету», на 16-й полосе обнаружил «Остановите Потапова!» Гэигория Гэрина, один из лучших его рассказов. Я сразу пошёл на кафедру и написал заявку на эту экранизацию...
«Бедный» Иорик
«Остановите Потапова!» -1972
U
I I азвание этой главы шутливо и чуть двусмысленно в попытке как-то соответствовать лёгкой иронической интонации курсовой работы Абдрашитова «Остановите Потапова», сразу, безо всякого преувеличения, прославившей его и засчитанной потом дипломом. Этот короткометражный фильм снимался по рассказу нашего известного юмориста и писателя Григория Горина, и своей молодой насмешливостью очень отличался ото всех последовавших затем работ режиссёра, скреплённых постоянным сотрудничеством с Александром Миндадзе. По отношению ко всему творчеству Абдрашитова картина «Остановите Потапова» видится мне стоящей вполне особняком, но ярко демонстрирующей подвижную способность режиссёра снимать ровно так, как того требует избранный им материал и возникший у него замысел.
Я помню, как наслаждалась этой картиной студенческая аудитория, наблюдая за похождениями легко узнаваемого проходимца Потапова, каждое движение которого, испол-
29
ненное показной серьёзности, вызывало в зале хохот. Над кем смеялись студенты? И над собой, конечно, тем более что картина имела потом ровно такой же бурный успех и за стенами ВГИКа, предопределив, как я уже сказала, прямой путь режиссёра со студенческой скамьи в штат киностудии Мосфильм, куда, посмотрев эту работу, его пригласит в своё объединение Юлий Райзман.
На сегодняшний момент в галерее всех дальнейших работ Абдрашитова этот фильм является единственной экранизацией оригинального литературного произведения, так органично преображённого режиссёром в очаровательную киноисторию, рассказанную им легко, эмоционально, убедительно, с озорством и лукавой улыбкой. То, что являлось для Горина едкой сатирой, окрашено в фильме скорее беззлобным юмором. За фигурой героя просматривается тот драматизм безгеройного времени, которому так соответствует безответственное поведение Потапова, предпочитающего кураж предлагаемой ему временем видимости серьёзной жизни. Такого Потапова, посмеявшись и над собою в его лице, хотелось не столько осудить, сколько пожалеть, проявив к нему (к себе?) некоторую снисходительность в одинаково знакомой нам всем атмосфере будто бы очень большой сосредоточеннойсти на деле, скрывавшей нашу вечную круговерть между отвратительным «нужно» и милым сердцу «не хочется». Поёрничать, наблюдая за героем, и сознаться самим себе в узнаваемости его стараний, оставаясь собою и при своих интересах, казаться общественно ценным персонажем. Общая для всякого простого народа принятая условность необходимости для спокойной жизни общественного маскарада - так что бедный, бедный... именно Йорик, живущий в каждом из нас...
Потапов в безукоризненном исполнении Валентина Смирнитского всем стилем своей жизни прямо-таки иллюстрирует нашу очень народную мудрость -«хочешь жить, умей вертеться». Вертеться, по возможности не очень утомляя себя, но соображая и быстро реагируя на предлагаемые жизнью обстоятельства. Если начало рабочего дня в офисе обозначилось грустным известием о похоронах бывшего одноклассника, то нужно поскорее попасть к директору за отгулом, а чтобы попасть к директору, нужно пококетничать с его секретаршей, пообещав ей билет в недосягаемую Таганку... А чтобы получить билет, нужно пообещать главе профкома и держателю вожделенных билетов отдежурить на улице в народной дружине после работы, а чтобы не терять это время зря, можно ещё навестить подзабытую любовницу и вернуться домой уставшим, едва добравшись до раскладного дивана, на котором уже спит жена... И завтра снова по кругу... Много комбинаций удаётся осуществить Потапову в течение такого вместительного рабочего дня, чтобы максимально облегчить свою жизнь, и всё-то ему удаётся, и всё выкручивается и получается, попадая в поле зрения насмешливой кинокамеры. Удаётся даже среди мирских дел выкроить время ещё на просмотр первого акта знаменитого «Гамлета» с Высоцким, сопроводив туда секретаршу, которая всегда может понадобиться, хоть и смешала встреча с прекрасным другие планы, но отчасти эстетическое впечатление отложилось в голове кое-какими текстами... и Пастернака тоже,
32
включённого Любимовым в спектакль... «Я один, всё тонет в фарисействе», - бормочет себе под нос Потапов, скользя трусцой по московской улице в поисках такси...
Картина «Остановите Потапова» умно и изящно рассказала о безразличии, как защитном способе выживания легко узнаваемого героя, естественно манкирующего всякими обязанностями, не только служебными, но, увы, и семейными тоже. Умение увиливать ото всякой ответственности сопутствовало многим в той странной жизни. Так что Потапов, подшучивая в предлагаемых ему обстоятельствах, может быть, порою больно для других, но всегда выгодно для себя, устранялся тоже от серой, скучной повседневности, умея не вникать в непременно отягощающие нормы так называемой честной и «порядочной жизни».
Потапов в фильме Абдрашитова скользил и летел по поверхности убогой каждодневное™ не положительным героем или строителем светлого будущего, но вполне милым обманщиком и обаятельным проходимцем, точно соответствующим эпохе развивающегося социализма. Этого миража провозглашённой идеи гармоничного и справедливого общества. По-особому располагавшего за ту же зарплату к внешне деятельному безделью. Время, не слишком отягощавшее своих тружеников служебными обязанностями, заполнялось ими, особенно в рабочее время, отвлекающими внимание хобби, лёгкими интрижками и ни к чему не обязывающей семейной жизнью с женой-одноклассницей или однокурсницей. Даже воспитание ребёнка, зачастую с младенчества по тем временам пристроенного в ясли, было не слишком обременительным, сводясь всё больше к незлобивым подзатыльникам. Для полноценной жизни нужно было Потапову, как и большинству его сограждан, только успевать оказаться в нужное время в нужном месте. Даже на собраниях, где «отдел реализации представляет планы отделу стандартизации», можно было, появившись с опозданием, но с виноватым лицом, умудриться ещё втихаря, «принимая активное участие», отыграть с коллегой, скрываясь за спинами других коллег, очередную партию в припрятанные на этот случай карманные шахматы...
Всегда ухитрялся Потапов, быстро проглядев в автобусе передовицы газет о кознях капиталистов, растущих удоях и незапланированном перевыполнении планов, оторваться от постылой действительности в родное царство репортажей об очередном футбольном матче или победах наших фигуристов. Можно такое асоциальное поведение научно назвать эскапизмом. Но, ежели пренебречь наукой, то просматривалась ещё в Потапове наша родная посконная ленная «благодать», в которой так вольготно русской душе... «Застойный» социализм лишь способствовал мечтам Потапова о «райских» кущах, которые грезятся ему в сновидениях, сидящему в качалке на фоне цветущего садану, чем не обломовщина, обуютившаяся в так называемом строительстве нового общества? С той разницей, что не имеет возможности советский гражданин Потапов, подобно Обломову, наслаждаться этой благодатью, не вставая с дивана. Приходится подсуетиться ради неприкосновенности этой своей
34
благодати в специально возведённой собственной крепости. Можно сказать эгоизма и невмешательства, которые требуют некоторых специальных усилий для своего обустройства. А потому должен позаботиться Потапов о том самом запасе прочности, который обеспечивает ему желанную независимость. Этот сомнительный для нас и очевидный для самого Потапова «капиталец» можно сохранять, а то и приумножать лишь видимостью деятельности. Достаточно вспомнить грациозный «деловой» пробег нашего героя по лестницам своего учреждения, в кружении почти балетном. Потапов - это наш особенный и весьма распространённый русский тип, избавиться от которого совершенно невозможно. Как отменить Россию.
Подлинная суть фильма «Остановите Потапова» скрывается самим автором под видимостью гражданской задачи, так называемой в то время «борьбы с тунеядцами», то есть отдельными проходимцами и «нетрудовыми элементами», которых тогда регулярно «прорабатывали», как в стенгазетах, так и в самом массовом сатирическом журнале «Крокодил», тщетно призывая к общественному самоочищению. «Остановите Потапова!» похоже на заглавие в стенгазете, а также могло бы красоваться на плакате, призывающем к борьбе с той самой «нечистью», которая мешает нашей «замечательной» жизни. Потапова, по законам того времени, нужно было высмеивать и осуждать в соответствии с прописанными правилами социалистического общежития, гласившими, что «таким среди нас не место!»
Но сколько всех нас ни обличай, мы всё равно остаёмся верными своим предпочтениям и некоторым особенностям национального сознания, в котором таятся лучшие сказания про Иванушек-дурачков и Илью Муромца, пять лет на печи просидевшего. Потапов, конечно, никак не Илья Муромец, но некоторые особенности маски «дурачка» им унаследованы. Оттого зритель смеётся весело и миролюбиво, а не слишком осуждающе, кое-в чём узнавая самих себя. Нам близко знаком этот Потапов, вечно родной обаятельный проходимец, не готовый «перевоспитываться» всерьёз ни за что на свете. Он наш плоть от плоти - великий умелец ничего неделания. Не поддаётся он никаким общественным проработкам, всегда умея устроиться потеплее и поудобнее, лукаво избегая всякой ответственности. Русские снисходительны к своим слабостям - повторю, узнавая в Потапове самих себя. Нет силы, способной нас массово «онемечить», приучив к систематическому, кропотливому, разумному труду. Подлинная жизнь Потапова состоит из организованной им череды приятностей для себя, а внешняя жизнь - не более чем видимость, в которой он только делает вид, что живёт. Но для него нет ничего сладостнее полного неучастия в тех самых видимостях, которых он счастливо для себя избегает.
Потапов легко и в приятность себе всё сотворяет так, чтобы семья не отягощала, работа не изнуряла, а скорбь не давила на душу. Зачем ему перенапрягаться и ворошить то, что давно осело на обочинах его памяти? Для него естественно умение жить в организованном для себя малом побочном пространстве, где можно существовать лишь себе в удовольствие и грезить
35
под «сенью струй» о малых радостях футбола, шахмат, необременительных связей, мысленно пребывая в сновидениях яблочного цветения. А дальше? Да хоть трава не расти! И никаких гамлетовских рефлексий по поводу «быть или не быть»... Есть, был и будет. Точка.
Очаровательная, не столько сатирическая, сколько юмористическая миниатюра сплетена Абдрашитовым изящным узором точных бытовых подробностей, бегло и без усилия скреплённых нитью замечательно точного исполнения Смирнитского, так органично преобразившегося в Потапова, легко порхающего по жизни. Впрочем, кажется, что актёр вовсе не преображался, так естественно обаятелен он в этой своей органике. Хоть и не всякое его действие приятно для его ближайшего окружения, но сотворено оно на лёгком дыхании и узнаваемо до мелочей.
Радиопередачи, как фон жизни. А жизнь в тесноте крошечной квартиры, как сон. Обшарпанная дверь подъезда и замызганный телефон-автомат, как незамечаемые вечные атрибуты нашей жизни. А забрызганный грязью автобус и бег с препятствиями к нему, дарующему короткий покой с газетой, через колдобины, отработанный до мгновения, тоже привычная норма. Выстроенные на работе рядами конторские столы коллег, телефоны и звонки... не столько деловые, сколько «по личным вопросам»... Иногда грустным... Сообщили вдруг, что умер школьный приятель... Так что трудовая жизнь может теперь разнообразиться вожделенным отгулом, который превращается в незапланированную прежде поездку на кладбище в служебной машине, любезно предоставленной начальством... А там пред очами Потапова предстанут ровные ряды одинаковых свежих могил, ещё не облагородившихся многолетней растительностью. Всякая деталь знакома до боли, возникающей где-то внутри сердца у внимательного зрителя на просмотре каждого следующего фильма Абдрашитова. Эта боль от считывания с экрана опознавательных знаков того ушедшего времени, в котором мы крутились вместе с Потаповым, умело преодолевая кружившие нам голову повседневные проблемы и заботы. Процесс этого преодоления описан у Абдрашитова с грустной самоиронией с элементами абсурда... Когда режиссёр сопоставляет с лёгкой насмешкой своего Потапова с таким модным в те годы Гамлетом Высоцкого на подмостках Театра на Таганке, как знамя свободомыслия и сопротивления того времени... Билетов всем Потаповым, конечно, не хватало, но нашему, как всегда, удалось совершить выгодную для себя сделку, и без труда, играючи получить вожделенный билет в безразличное для него «святая святых» того времени...
Театр на Таганке, куда рвались толпами за глотком свободы, отпускавшейся там каждому зрителю дозами, нормированными сценой... А в зале останавливалось дыхание, когда Гамлет Высоцкого начинал декламировать, по воле режиссёра, перемешивая шекспировский стих с пастернакровским: «Гул затих, я вышел на подмостки... Я ловлю в далёком отголоске, что случится на моём веку»... Наше всё, как сказал другой поэт, возникало в этот момент «осязаемо, грубо и зримо».
36
Но не наш Потапов замирает надолго над вечными гамлетовскими вопросами или драматичными строками Пастернака, своевольно совмешёнными в том любимовском спектакле. Знаменитые, исполненные драматизма строки поэта вызывают улыбку, когда Потапов мурлычит их себе под нос, скользя целенаправленной рысцой от обещанного дежурства на улице к своей любовнице - «Я один, всё тонет в фарисействе... Жизнь прожить, не поле перейти». Всё это имеет отношение к Потапову с точностью до наоборот и звучит комически в устах «героя», вполне приспособленного к «потреблению» своего времени. Чуткость и особый слух помогают Абдрашитову расслышать особенности текущего момента с абсолютной точностью. И потому каждый следующий друг за другом фильм определяет, будто термометр, точно настоящую температуру времени, в которой жили наши соотечественники.
Так по абдрашитовскому Потапову до сих пор можно судить о том, как жили и умудрялись выживать большинство наших служащих «с высшим образованием» на том далёком уже отрезке времени... На какие спектакли они предпочитали при этом ходить и какие стихи читали. Путешествуя следом за режиссёром из фильма в фильм, ловишь себя на том, что просматриваешь ленту собственной жизни...
Глядя «Потапова» уже сегодня, сорок лет спустя, кажется, будто портреты и ныне известных актёров, до сих пор развешанные в фойе театра на Таганке, тянутся к нам через соответствующие кадры фильма особой прозрачной аурой своего времени, сохраняя аромат той атмосферы, к которой довольно-таки равнодушно относится сам Потапов. А всплывающие в памяти через эти портреты сценические герои тех лет, создававшиеся тогда Любимовым, свидетельствуют сегодня о чистой наивности тогдашних мечтаний... вроде бы о большей справедливости, о большей критичности к себе, о бескорыстной честности и том лучшем будущем, что, кажется не слишком заботили безответственных Потаповых, вовсе не готовых к общественной борьбе в ущерб собственным малым удовольствиям.
Романтичных шестидесятников сменяли советские мещане семидесятых, скользившие по жизни цепким приспособленческим взглядом, далёким от проклятых вопросов бытия. Для обустройства они не нуждались в тех пронзительных риторических вопросах, которые задаются Гамлетом останкам «бедного Йорика» - «где твои шутки?» У лёгкого обаятельного проходимца Потапова шуток этих всегда навалом, только другого свойства: помогающих не разоблачать этими шутками время, но максимально комфортно обустраиваться в нём, умея вовремя пошутить, предпочитая в фальшивой общественной жизни свой собственный, как тогда с осуждением говорили, «личный мирок»...
Ах, какое великое множество таких наших Потаповых в русской земле! В советских учреждениях того времени они чувствовали себя по-особому вольготно. Скромные зарплаты выплачивались исправно, независимо от качества службы. Можно было на эти деньги не только жить, но ещё съездить отдохнуть, а чуть «поднапрягшись», постепенно и квартирку обета-
38
вить. Так что, как говорится, без особых «напрягов» был такой человек сыт, пьян и нос в табаке, тогда как воз прилагаемых обстоятельств жизни только какое-то время (казавшееся всем вечным) оставался на том же самом месте... Впрочем, как бы ни изменялись времена, важно заметить, что не изживут они никогда в русском народе того потаповского нрава, что неизменно теплится в нас... Никуда не денешься от себя - мечтательного эгоиста, внутренне свободного не только от семьи или любовницы, но и всякого общественного деяния... Всё себе в удовольствие! Так смешно, когда Потапов, выполнив со своей любовницей не совсем «супружеский» долг, вместе с ней вперивает свой взгляд в тусклый телевизионный экран, мерцающий кадрами фильма «Мужчина и женщина» обожаемого тогда Ле-люша. Так смехотворно далеки лирические откровения из этого фильма о чистой и неземной любви от нелепо торопливого как бы любовного свидания Потапова, уже завершившегося мелькнувшими в темноте огоньками двух вспыхнувших сигарет... Дело сделано! А пропасть между экраном и жизнью слишком велика...
Пощёчина обиженной любовницы станет единственной вполне ожидаемой расплатой Потапову за все мытарства его, якобы, «делового» дня... Не привыкать... Дома всё ещё более ожидаемо и привычно: наш вечный разложенный супружеский диван, уже спящая, утомившаяся заботами жена и будильник, который вовремя оповестит завтра начало нового, условно говоря, рабочего, дня...
Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым
Ты говоришь, что много читал Горина ещё до того, как сделал «Остановите Потапова», после которого ты проснулся знаменитым... Недавно я оказалась на дне рождения у Глеба Панфилова, где Горина также почему-то вспоминали самыми добрыми словами...
Ну, как это «почему-то»? Это совершенно особый писатель, в каком-то смысле недооценённый. Ведь его ни с кем нельзя сравнить из тогда и теперь пишущих юмористов-сатириков. Это человек особого дара Божия, никогда не переходивший грань от юмора к сатире, обладавший палитрой, я бы сказал, чеховского звучания... Он был очень мудрым, такой писательской, человеческой мудростью, а при этом абсолютно демократичным в лучшем смысле этого слова, легко общался, многое понимал, но всё равно общался... Он был высоко порядочным человеком. Его очень уважали. Я общался с ним, начиная с «Потапова», идо конца его дней. Показывали друг другу то, что делали... Всё думали и хотели как-то снова пересечься в совместной работе, но, как видишь, не получилось... он вдруг ушёл из жизни...
Кстати, поскольку «Потапов» был курсовой работой, то я собирался на ди
39
плом экранизировать также рассказ Гэрина, который мне очень нравился. Даже сценарий уже был готов под названием «Гэоза в горах»...
Но снять эту картину было не суждено. Когда я собирался уже приступить к работе, судьба, в лице Юлия Райзмана распорядилась иначе...
Рассказ Гэрина «Остановите Потапова» я прочитал в «Литературке» и сразу понял, что именно это я буду делать... Так что сразу во ВГИКе на кафедре заявил о своих намерениях.
Гэрин не выразил энтузиазма, сказав: «Кто же вас запустит с таким рассказом, что вы? Вы вообще-то внимательно его прочитали? Не запустят, конечно». Я предложил всё же сесть и написать сценарий. Но Гэрин ответил, что это пустая затея, так что ничего писать он не собирается. Он был крайне скептичен... Сценарий я написал сам.
Не буду говорить о деталях, каким образом был переработан литературный материал, но своим студентам показываю литературную основу, сценарий, а потом сам фильм. Думаю, это лучшая форма обучения, чтобы объяснить, что, как и для чего делается в кино...
В рассказе меня в первую очередь привлекло сочетание глубины замысла и лёгкости и артистичности, с которыми Гэрин выражает довольно печальную истину: для нормального функционирования в советском обществе было достаточно просто формальной лояльности к власти. Это был главный механизм спокойного существования... Сейчас смотрю вокруг и вижу опять отлаженный тот же механизм.
Ну, не знаю... Мне скорее видится в картине не «формальная лояльность» Потапова к власти, но умение скрыть своё полное безразличие к ней, умение именно «легко и артистично» (и в этом ты точно следуешь Горину!) маскировать свой подлинный эскапизм... Вот что скрывается в твоём фильме под видимостью «борьбы с мещанством»... Это во многом характеризовало жизнь большинства из нас... А, кроме того, витиеватые «правильные» разглагольствования при минимуме действия - это тоже, с моей точки зрения, очень русская черта, получившая в «застойное время» самую плодотворную почву...
Но вообще-то моя затея с «Остановите Потапова» всё-таки в целом несколько смущала нашего мастера Кулиджанова... А, главное, что картина получалась в производстве в четыре раза длиннее нормативной... Долго пришлось убеждать мастера, но в итоге приказ о запуске он подписал. Работали мы затем очень быстро, просто хорошо были подготовлены к съёмкам, заранее была сделана подробная фотораскадровка и т. д. Всё-таки, мы сняли половину полнометражной картины - 40 минут!
Были во всё это мероприятие задействованы все мои друзья-товарищи, бесплатно, конечно, помогавшие... Но времени едва хватало, пришлось всё снять в приемлемые сроки и на бюджет 10-минутной картины. Плёнки, конеч
40
но, не хватало, и я её как-то там сам подкупал, как выходило, разную плёнку... На картине работали два оператора...
Очень долго выбирали актёра... Понимаешь, такая роль, что вроде бы каждый может сыграть... но выбирали очень долго и как-то сложно, пока в зоне внимания не появился Смирнитский, который... ну, идеально вошёл в картину со своей особой обаятельной улыбкой...
Он ведь уже снялся у Богина?
Тем и был знаменит. Я пошёл ещё посмотреть его в театре и убедился, что именно он нам точно подойдёт... Смирнитского эта работа тоже заинтерсовала... Съёмочное время было очень напряжённым, но в итоге появилась картина «Остановите Потапова». Она сразу стала известной, попала на фестиваль, и её стали показывать по творческим домам, постоянно возить на просмотры туда-сюда..
Когда я показал готовую картину Гэрину, он пришел в восторг, отдал должное сценарию, актёрам. Приятие было полное, и Гэрин начал друзей собирать на просмотры... Помню тогда Женя Сидоров посмотрел... да, огромное количество народу... У нас были бесконечные премьеры то тут, то там...
В итоге, как тогда водилось, после ВГИКовского фестиваля, «Потапова» показали в доме творчества кинематографистов в Болшево. Так тогда информировали мэтров, чего там всякие молодые снимают... Как потом узнал, картину посмотрела хорошая компания: Райзман, Габрилович, Высоцкий, Юткевич, Аркадий Райкин, Утёсов... Вот такие великие... Как я понял, картина, наверное, понравилась, произвела какое-то впечатление, потому что Юлий Яковлевич Райзман, руководитель одного из творческих объединений «Мосфильма», дал команду, чтобы со мной связались. Я приехал в Болшево. Там наслушался всяких комплиментов, а Райзман жёстко сказал: «Хватит вам учиться, пора уже работать, делом заниматься, давайте защищайтесь этой работой... Хотите я договорюсь со ВГИКом?». Вот так не состоялся мой дипломный фильм «Гроза в горах».
А я пришёл режиссёром на Мосфильм, где работала тогда вся редактура, и все те люди, что работали ещё с Роммом в «Обыкновенном фашизме»... В то объединение, которое и было образовано Роммом и Райзманом. Можно сказать, к себе попал...
t t t
Оказавшись в штате Мосфильма, начал искать сценарий для первой постановки. Хотел предложить экранизировать «Обмен» Трифонова, но эту затею отвергли. Так что я стал читать всё, что хранилось в портфеле студии. Продолжалось это больше года. Я был в штате Мосфильма, но зарплату, между прочим, не получал. А в семье был уже ребёнок. Нужно было как-то работать, содержать семью. Я не получал ни копейки, хотя по тем замечательным време
41
нам молодому специалисту обязательно предлагали работу. Кто это им сейчас предложит?
А тогда мне предлагали и совместную постановку с чехами про газопровод «Дружба», и ещё что-то, и ещё... Но кино вообще делать трудно, если к этому относиться серьёзно. Должен заработать некий двигатель, «движитель», понимаешь? Мне нужно, чтобы очень захотелось делать именно этот фильм... Нужно, чтобы это было моё... Прочёл, наверное, около двухсот сценариев... Как в своём объединении, так и в соседних, перечитал также ленфильмовские запасы... Всё искал, искал... трудно сказать что именно, но не получалось так, как с рассказами Гэрина, ну, не срастались никак эти сценарии со мной. Причём среди прочитанного встречались, конечно, хорошие сценарии, по которым потом были сделаны вполне приличные картины... Но всё это было не моё.
Пока не появился в этом потоке сценарий под названием «Кто-то должен защищать» неведомого мне тогда молодого автора Александра Миндадзе. Я начал его читать - и раз! - прочёл пять страниц и понял, что этот сценарий я стал бы делать.
Мы встретились в старом Доме кино на Поварской и отправились в буфет. Вспомнили, что раньше встречались с ним на фестивале, где получали какие-то призы, он за сценарии, я за картины. Сценарии его запомнились. А Миндадзе вспомнил «Репортаж» и «Потапова» - так что появился общий знаменатель каких-то наших пристрастий и интересов. Были все основания начинать работать над картиной, которая впоследствии стала называться «Слово для защиты». И мы сразу же, буквально с первой минуты, окунулись в работу, вступили в наш, что называется, бесконечный диалог, продлившийся потом более четверти века.
В лице Миндадзе я встретил замечательного, абсолютно профессионального драматурга. Очень творческого, крайне ответственного за своё дело. На мой взгляд - он один из лучших отечественных кинодраматургов, написавший целый ряд сценариев - открытий. Почти всегда это были прорывы в новое: в материал, мысль, форму. Каждый раз перед нами стояла совсем новая задача. Я начинал картину с нуля: никакой опыт не работал, ведь все наши картины разные. Разумеется, сначала Миндадзе должен был на литературном уровне решить массу творческих проблем. Это было всегда трудно, но нам именно поэтому было интересно: мы не повторялись. Считаю это творческим везением, что 11 картин мы сделали вместе.
... Начались сложности с пробиванием сценария сквозь редактуру Гэскино. Цензуре не нравилось, что женщина, обвиняемая в покушении на убийство, давала нравственный урок вполне порядочной советской женщине. Запуск затормозили. Я этих людей до сих пор вспоминаю. Вот не пропустим сценарий и всё тут! Тогда Юлий Яковлевич Райзман нацепил на лацкан Звезду Гэроя Соцтруда и направился к Начальникам Гэскино. Мы с Миндадзе ожидали его в коридоре. Он задержался там не более пятнадцати минут, и вопрос был решён. Короче говоря, он пробил этот сценарий.
ОТ СТА ГРАДУСОВ К НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
«Слово для защиты» -1976 год
« лово для защиты» оказалось первым полнометражным фильмом Вадима Абдрашитова и положило начало его многолетнему сотрудничеству с Александром Миндадзе вплоть до их последней совместной работы «Магнитные бури».
В основу сюжета этого фильма была положена бытовая криминальная драма, хотя центральное действие разворачивалось вокруг не совсем обычно складывающихся взаимоотношений подсудимой Валентины (Марина Неёлова), покушавшейся на жизнь своего сожителя, и её адвоката Ирины (Галина Яцкина). Выяснение адвокатом обстоятельств, которые побудили Валентину попытаться убить своего возлюбленного Виталика (Станислав Любшин), изменившего ей по «деловым» соображениям, становились
43
поводом для самой Ирины пересмотреть свои собственные слишком «здравые», как ей подумалось, взаимоотношения со своим женихом Русланом (Олег Янковский). Грядущая свадьба Ирины со своим давним приятелем, постепенно ставшим женихом, спланированная только по холодному здравомыслию, постепенно обессмысливалась для неё рядом с той стоградусной любовью на грани кипения, которой естественно и без оглядки пылала к своему Виталику Валентина. Кипящие страсти подсудимой, готовой к жертвенной любви, заставляли её адвоката задуматься о собственных, вполне прагматических намерениях, называемых бракосочетанием.
Вся история до поры счастливой любви Валентины, с которой мы встречаемся уже в следственном изоляторе, остаётся за кадром, возникая постепенно в её разговорах с адвокатом. В достаточно пунктирном рассказе обвиняемой прослушивается история крушения безоглядной, полной самоотдачи любви, оскорблённой холодно продуманными, вполне прагматичными действиями возлюбленного, с которыми ей было невозможно смириться. В горячности оскорблённого чувства Валентина предприняла попытку покушения на убийство. Ведь простая девчонка, оказывается, с самого начала обеспечивала нелёгким трудом не только семейную жизнь с Виталиком, но и его обучение. Любила своего «очень талантливого» возлюбленного до умопомрачения, до такой степени, что даже для пополнения семейного бюджета тайно сдавала свою кровь в донорском пункте, почитая за счастье дать своему сожителю образование в хорошем институте, чтобы он получил шанс встать на ноги.
Однако высокий и жертвенный романтизм чувств Валентины вступает в противоречие с очевидной для других холодной расчётливостью возлюбленного. Воспользовавшись добровольной готовностью Валентины отдавать ему всё и до конца, Виталик, закончив институт, встречает другую девушку, гораздо более выгодную на новом этапе для дальнейшего карьерного роста. Теперь он готов к новому «разумному» браку, поспешив переселиться из жалкой вагиной комнатёнки в куда как более привлекательную квартиру новой невесты. Их былая общая жизнь и совместные былые планы отброшены им за ненадобностью, как ракета, устремившаяся ввысь, отбрасывает отработанную уже ступень.
Но, учитывая всё своеобразие условий для карьерного роста в советском социуме, нужно было Виталику избавится от Валентины непременно по-тихому и без скандалов, чтобы не замарать свою деловую анкету. Только в этом случае нет препятствий после успешной защиты диссертации и брака с перспективной девушкой из хорошей, «нужной» для дела семьи, устремиться молодому специалисту прямым путём работать за границу, пускай для начала в Бангладеш. Чего стоила для Виталика рядом с маячащей на горизонте карьерой какая-то вполне умозрительная порядочность простой девушки Валентины? Ну, было и было. Тогда как сама Валентина, потрясённая и оскорблённая цинизмом Виталика, не может и не хочет смириться с новой для себя ситуацией, решаясь отравить себя вместе с ним. Довести задуманное преступление до
44
конца ей случайно не удаётся, а потому причиной её ареста становится только обвинение в покушении на чужую жизнь.
Вся эта предыстория, годная для обычной любовной мелодрамы, заинтересовала Абдрашитова в ином аспекте. Заявленный в сценарии конфликт оказался для режиссёра благодатной почвой для исследования на примере индивидуальных судеб тех социальных сдвигов в обществе, которые меняли иерархию духовных ценностей большинства наших советских граждан.
Режиссёр рассказывал в «Слове для защиты» не просто какую-то отдельную историю преступного намерения обиженной женихом девушки совершить убийство, которому адвокат, учитывая обстоятельства, старается определить возможно более мягкое наказание. Нет. Конфликтным действующим лицом фильма становилась сама воцарившаяся в семидесятые годы атмосфера приспособленческой бесстрастности, последовательно всё более остужавшая накал высоких страстей и намерений, более свойственных общественному климату шестидесятников.
В «Слове для защиты» превалирует отчётливый интерес Автора к тем переменам и сдвигам в общественных настроениях, в которых романтические ценности шестидесятников подменялись практичной буржуазностью с поправкой на специфические условия социализма. «Навоевавшись» и намечтавшись в минувшие шестидесятые годы об утерянных идеалах романтического социализма, осознав страшный факт сталинского наследия, в семидесятые годы наши граждане стараются изо всех сил разными способами благоустроить свою жизнь, иссякнув в своих дерзаниях разумного переустройства пошатнувшегося на их глазах общества, теряющего надежду увидеть обновлённый «социализм с человеческим лицом».
Но, как говорится, «в семье не без урода». Не все динозавры вымирают одновременно. Так что кое-кто из последних воителей или попросту «чудаков» не желали сдаваться. Они составили истончившуюся прослойку общества, названную диссидентской. Это идейное меньшинство постепенно налаживало теперь уже почти что подпольную борьбу за права и «свободы» советских граждан при молчаливой поддержке большинства своих былых сотоварищей, получавших постепенно квартирки и размещавшихся там по кухням, ставшим теперь знаменитой приметой того времени, с гитарами и песнями. Авторскими песнями «сопротивления» официозу и ностальгической грусти по былым временам. Но кто, однако же, не горюет о своей юности, когда яблоки были слаще, воздух чище, а ночи темнее?
После достопамятной пражской весны 68-го года надежды советских интеллектуалов на лучшую, «свободную» жизнь рухнули, и произошло окончательное размежевание немногочисленных не сдававшихся сопротивленцев, названных диссидентами, с молчаливым большинством, решившим, не оглядываясь более назад, тихо делать свои частные дела в предложенных обществом условиях. Как там у Чехова? Пришло время «дело делать, господа, дело делать». И большая часть советского народонаселения последовала своими
45
действиями за этой немудрёной мыслью. Занялась своими вполне практическими делами по жизнеустройству, которые не оставляли более времени и места никаким действиям бескорыстных и жертвенных «комсомольских богинь». Былых мечтателей со своими бедами и не осуществившимися надеждами время рассаживало по «синим троллейбусам», кружащимся в романтических сумерках...
«А комсомольская богиня? Ах, это, братцы, о другом»... О другом, право же...
Об этом всё более ускользающем «другом», питавшем шестидесятников, невидимом и неслышимом, но ранящим ещё не тронутые коррозией души, ведёт свой рассказ Вадим Абдрашитов в дебютном фильме «Слово для защиты». Но какое отношение имеет к этому новому состоянию общества простая девушка Валентина, естественная и простодушная, больная своей личной болью, далёкая ото всяких общественных идей и не пожелавшая поначалу никакой помощи никаких адвокатов? Однако, по мере развития сюжета окажется по-особому важным взаимодействие адвоката со своей подзащитной, которая, не ведая того, заставляет успешную женщину пересмотреть, устыдившись, свои жизненные принципы и весь образ жизни, далёкий от бескорыстия былых романтических героинь. Целостность существования девушки (чуть было не совершившей преступление!), но способной любить бескомпромиссно и до конца, становится неожиданно горьким укором совести её адвоката, слишком легко вступившей в беспринципный для себя, «нелюбовный» сговор со своим женихом ради, как тогда говорили, «мещанского» благополучия.
Постепенно история жизни простой девушки Валентины, всё более полно открывающаяся в её рассказах, вызывает у адвоката не только всё большую симпатию к ней, но и переоценку собственной жизни, всё более подчинённой смирению с утерей былых идеалов, будто навсегда канувших для неё в лету. Внутреннее и главное действие «Слова для защиты» развивается в смыслово значимом пространстве пересечения двух судеб, обусловленных особенностями текущего времени, на своеобразие течения которого эти судьбы имеют обратное влияние. Вот такая двойная закольцёванность причинно-следственных связей становится с самого начала характерным признаком особого миропонимания Абдрашитова и Миндадзе.
Так что защита Валентины становится для адвоката всё более интимно значимым, важным и лично её трогающим действием. Потому что история именно этой и такой девушки воскрешает из небытия в её собственной памяти былую целостность чувств и намерений, ныне преданных и подменённых сухой меркантильностью соображений. Так что постепенно и всё настойчивее всё то, что её окружением воспринималось естественным и нормальным, соответствуя принятому поколением образу жизни или жизненному коду, начинает отчётливо тяготить Ирину, толкая её к переменам собственной судьбы.
Так получается с течением фильма, что не столько адвокат помогает Валентине защищать себя перед законом, сколько подзащитная начинает ока-
48
зывать всё большее воздействие на образ мыслей и чувств своего адвоката. Пепел «комсомольских богинь», ещё не тронутых тлением распада семидесятников, начинает всё более настойчиво стучать в её сердце. Пробуждает тоску об утерянном и вытесненном на задворки памяти. Не случайно коллеги Ирины, подшучивая над накалом страстей Валентины, называют её Антигоной. Ведь оказалась она на скамье подсудимых за свою неуместно однозначную и негибкую страсть к своему ненаглядному Виталику, не умея приспособиться к его здравому смыслу и вполне практичному решению всей своей дальнейшей судьбы, в которой для неё не остаётся никакого места. Погоревали и будет! Пора уже жить дальше. Но Валентина оказывается той девушкой, которая готова, пожалуй, ради своей страстной идеи, специфически свойственной вообще русскому сознанию, горы свернуть и себя положить на заклание своему любимому, хотя и предавшему её человеку. Ну не умеет она чувствовать по-другому и любить «разумно», наполовину, без чрезмерной готовности к полной отдаче.
Безоглядное служение разного рода идеям, столь свойственное вообще российскому сознанию, продолжит интересовать Абдрашитова. Он будет возвращаться к этой теме в разных контекстах: как в фильме «Остановился поезд», так и в «Плюмбуме», замечая модификации этого сознания во времени и разную степень общественной востребованности тех или иных идей.
А пока в «Слове для защиты» подозреваемая в преступлении Валентина оказывается не одинокой в своём временном заточении, получив себе в союзники вполне успешную молодую адвокатессу, жаждущую её защищать уже не только по роду своей профессии, но и по зову души. Становясь свидетелем душевных мытарств своей подзащитной, Ирина начинает ощущать встревожившую её компромиссность собственной жизни. Ведь она собралась замуж за хорошего человека и давнего друга не по любви, а по разумным соображениям. Обеих героинь разного интеллектуального, образовательного и профессионального уровня сближает, оказывается, общенациональная генетическая предрасположенность к тем сильным и бескорыстным чувствам, которым чужд всякий холодный расчёт, называемый практичной буржуазностью. Тяготит, оказывается, Ирину предпочтённая ею, но чуждая по существу шкала ценностей, которую Валентина не приемлет интуитивно. Так что теперь, оказавшись рядом со своей подзащитной, Ирина понимает ошибочность своего выбора, чувствуя вдруг собственную ущербность.
Занимаясь правовым делом своей подзащитной и вникая в особенности её преступления, Ирина всё больше сочувствует ей, обвиняя себя в неискренности действий и помыслов, которой она готова оплатить видимость своей «правильной», добропорядочной жизни, «как у всех». Анализируя и наблюдая поведение беззащитной в своей естественности Валентины, она всё более корит себя за компромисс, заключённый с собственной совестью, позволивший ей предать былую любовь с «несостоявшимся» не карьерным человеком ради разумного брака без страстей. Вот так всё-таки обстоит дело с некоторыми
49
нашими русскими барышнями, готовыми если уже не на комсомольский подвиг, то, по крайней мере, на любовное подвижничество. Ну, неуютно и скучно их душам в тихом и вполне «нормальном» для других семейном гнездышке!
Уже в первой своей картине Абдрашитов вместе с Миндадзе точно нащупывают особенности тех конфликтов, которые во многом определяли скрытый драматизм общественной атмосферы семидесятых годов: неподвижной, обещавшей общественно равнодушным Потаповым более или менее благополучное существование в безыдейном пространстве тихого соглашательства. Но то, что легко и органично воспринималось всякими Потаповыми, не годилось другим нашим соотечественникам. В «Слове для защиты» улавливаешь время торжества куцых страстей, оскопляющее сложную «идейность» русской женщины, не готовой поступиться цельностью своих чувств, чтобы спокойно перекочевать из мира борений в восторжествовавший мир того «безыдейного», «повзрослевшего» большинства, в который так удачно вписался жених Ирины - Руслан. Но никак не подходит героиням картины предложенное временем обмельчавшее жизненное пространство, в котором все прелести жизни исчисляются прилично меблированной квартиркой. Кроется в наших дамах что-то такое от декабристок, которым в данном случае, вроде бы, не за кем следовать по этапу. Вот в чём проблема!
В контексте нового настроения и внутренне тревожного состояния Ирина, встречаясь с друзьями «юных лет», по-особому взволнованно воспринимает просмотр любительской чёрно-белой плёнки, стёрто по изображению запечатлевшей одну из студенческих вечеринок, ярко звучащую такими живыми и общественно заинтересованными спорами и разговорами. Среди оживающих на плёнке теней прошлого видится ей также былой возлюбленный - слишком свободомыслящий студент, кажется, и теперь не отказавшийся от прежних идеалов. Но Ирина выбрала другую дорогу! Хотя просмотр фильма воскрешает в ней забытый молодой бунтарский дух, которому претит продуманная спокойная супружеская жизнь без любви. Начинает вызывать раздражение принятое решение «разумного» сговора с собою. Не радует более Ирину ни грядущая свадьба, ни мебель, приобретаемая в кредит. Никак не приживается в её сознании «нормальная» буржуазная схема жизни. Без высшей цели, самопожертвований, без тюрем и баррикад. Нет. Нашим «комсомольским богиням» хочется бунта, а не смирения перед скучной обыденностью. Не умеют они урвать от «бытовухи» толику эгоистического довольства, подобно безответственному «соглашателю» Потапову, легко и с радостью для себя умеющему насладиться жизнью безо всякой ответственности.
Вот такие растяжки в характерах вполне типических персонажей предлагает Абдрашитов. Характерах, вступивших во взаимодействие со своей средой обитания. Нет и не будет при этом в картинах Абдрашитова, как говорили в советские времена, «отрицательных» или «положительных» героев, плохих или хороших, любимых или нелюбимых автором. Может быть, только мало симпатичный Виталик, оставаясь в тени, имеет, скорее, только функциональное зна
50
чение. Абдрашитов не занимается внутренними психологическими драмами, независимыми от времени. Напротив. Его привлекает анализ, порой, неосознанной зависимости людей от социального климата и общественной жизни, корреляции их поведения, связанного многочисленными нитями с тем обществом, которое предопределяет их драму. Человек у Абдрашитова становится жертвой тех противоречий, которые исподволь вызревают в обществе, определяя вектор его движения. После пражской весны 68-го года вектор начал смещаться от «духовного возрождения» к материальному благосостоянию как главной общественной идее десятилетия.
«Слово для защиты» было, конечно, только первой работой автора, но было уже ясно, что за простыми историями обычных людей он различает, прежде всего, то общее и главное, что определяет по-своему каждую отдельную жизнь и каждый более или менее осознанный выбор, опробованный в его фильмах.
Интересно, но в тексте брошюры, посвящённой творчеству Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе, которая была написана Аллой Гербер в первые годы перестройки, превалирует её собственная трогательная вера в то подступившее к порогу сладкое время, когда всё поправится, каждый получит по заслугам, и всё будет расставлено по нужным местам. Показалось тогда госпоже Гербер, что такое время притаилось за нашей дверью, когда будут востребованы к новой жизни былые подпольные герои советских лет. Анализируя «Слово для защиты», в начале девяностых Гербер полагает, что грядущее время будет принадлежать таким диссидентам, как непокорившийся когда-то Крупенин, преданный своей Ириной в период воцарявшегося застоя. Тот самый Крупенин, что с другими друзьями-товарищами возникает в тусклых кадрах сохранившейся любительской плёнки, которую, собравшись вместе, крутят былые однокурсники. Это явление былого, словно из небытия, один из самых выразительных и драматичных кусков фильма. Для повзрослевших студентов прошлое скрылось за порогом теперешней взрослой размеренной жизни, и весь просмотр «шершавой» по ощущению плёнки уже переродившимися, другими людьми воспринимается ими не только с горькой ностальгией, но и с упрёком себе, сдавшимся на волю победителя.
Прекраснодушные упования Гербер на то, что «сохранил себя Крупенин до наших дней, которые, хочется надеяться, востребовали таких, как он», кажется, никогда не разделял сам Абдрашитов. Не надеялся на то подоспевшее благословенное время, когда новым обществом будут, в конце концов, востребованы к жизни лучшие из лучших. Теперь мы знаем наверняка, что кое-кто из былых героев и впрямь выжил и дожил до «лучших времён», но чаще всего, увы, оказался либо не очень-то «востребованным» новым обществом, либо вписался в те новые конфигурации, которые сильно осложняли образ только «бескорыстного диссидента» былых времён.
Так что вполне «комсомольские» по своему верованию «надежды» самого критика, увы, как показало развитие нашего общества, возникали только из «сказок» прошлого, не имеющего никакого отношения к трезвому анализу,
52
предпринятому Абдрашитовым уже в первом фильме «Слово для защиты», исключающем всякие «дамские» придыхания и оценивающем время всегда ясно и безо всяких прикрас. Никаких призрачных фантомов, любимых нашими «просвещёнными» кругами. С самого начала - никаких упований ни на диссидентов, ни на «комсомольских богинь».
Можно сказать, что, начиная свой путь в кино, Абдрашитов видел дальше и сложнее, чем оценивалась та же ситуация доверчивыми и романтичными мечтателями. Увы, но приходится признавать, что нигде и никогда не мерещились режиссёру никакие счастливые финалы. А потому особенно странно, что его кинематограф как целое мог просуществовать в советское время, так или иначе проскакивая мимо бдительного ока цензоров. Может быть, оттого, что его нелицеприятные высказывания были слишком прямыми, чтобы заподозрить его в какой-то нелояльности. Странный парадокс! В интерпретациях его работ искались всякие разные обходные пути, сглаживающие самую суть поставленных им вопросов. Удивительно, но в контексте социалистического реализма его фильмы с самого начала ни разу не продемонстрировали хотя бы краткого мироприятия (простите за вольность словообразования).
Героиню «Слова для защиты» судят в фильме за чрезмерность честной любви, обернувшейся преступлением, к человеку, этой любви не заслужившему, а лишь воспользовавшемуся предоставленными ему «услугами». Но картина всё-таки рассказывает не о любви как таковой, но об её неуместности в «правильной» и отструктурированной системе жизнеустройства, предложившей иные ценностные ориентиры. Ориентиры, которые только что презрительно именовались в советском обществе «мещанством», которые клеймились «приспособленчеством» разных Потаповых и претили всегда неуёмному и «мятежному» русскому духу. Тесно ему казалось вне высоких любовно-духовных порывов. Ведь как у нас всё происходит? Одним такое «c’est la vie», «се ля ви», говоря по-русски, и задарма не надо, а другие неплохо и с удовольствием благоустраивают свои норки, не гнушаясь всяким подручным материалом. Вот где гнездилось существо рассмотренной в фильме драмы.
Анализировалась не история преступления, но взаимодействие двух, вроде бы, противоположных женских судеб - обвиняемой и её адвоката. Но в процессе общения Валентины с Ириной становилось ясным определённое сходство как одиноких женщин, так и их возлюбленных, наиболее успешно вписавшихся в семидесятые годы. Оба мужика полностью соответствуют тем возобладавшим ценностям, с которыми неуютно сосуществовать обеим женщинам. Не воспламеняется их женская душа новой «ценностью» просто «благополучной жизни», делового успеха и приобретательства. Так что вполне «нормальный» для своего времени Виталий Федяев, делово распорядившийся своей будущей судьбой, никак не мог соответствовать бескорыстию стоградусных страстей своей «комсомольской богини» Валентины. А Ирина, сопоставившая свою собственную ситуацию с ситуацией подзащитной, решается переломить
53
вызревшую, но фальшивую для себя конструкцию своей жизни с преуспевающим Русланом, разрывая связь, вроде бы уже окольцованную грядущим с ним браком, но без любви. Тянут её бередящие душу воспоминания о наивных былых страстях с идеалистом Крупениным.
В фильме сплетаются режиссёром не просто две разные любовные истории, но два способа жизни молодого поколения семидесятых годов. Предпочтения их выборов. Сдача общественных позиций в угоду «процветания» нового общества, в котором негласно восторжествовало моральное равнодушие в пользу более или менее успешных Потаповых. Или нежелание смириться с новыми общественными ценностями, которые демонстрируют любовные драмы обеих героинь. Не вписываются они в новое компромиссное время. По разным причинам. Но обеих героинь Автор оставляет равно одинокими на своих перепутьях.
В «Слове для защиты», несмотря на заглавие, фактически нет как судебного разбирательства, так и преступления, требующего юридического наказания. Но есть чисто русская расплата, настигающая наших героинь - отсутствие веры в настоящее и надежды на светлое будущее, которые не определяются для них такой категорией, как достаток. Таким, как они, нет жизни без «неба в алмазах».
А умение делать карьеру как-то не ценилось у нас «народной молвой», обзывавшей это умение - глупо или умно? - приспособленчеством. Ведь для карьеры нужно было приспосабливаться к данному обществу, а не сопротивляться ему, как это было принято у нас в хорошем обществе. Так что «осовет-ченная» русская душа ещё не принимала всё то, что давно уже было названо нормой в «цивилизованном» мире, где добродетелью считается то, что Гербер называет в России «нравственной деградацией поколения». Нам более возвышенные ценности подавай, а не гнусные сребреники...
Так что в следующей картине «Поворот» появится новая героиня в исполнении Ирины Купченко, о которой её свекровь (актриса Олимпиада Калмыкова) заметит своему сыну с некоторым укором, что прежняя его жена не в пример нынешней «не рвалась так зарабатывать деньги».
Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым
Вадим, расскажи, пожалуйста, как проходила работа над первым фильмом?
В каком-то смысле я не был на студии новичком.
Когда меня пригласили, и я пришёл на Мосфильм, студию уже знал довольно хорошо, потому что проходил практику в группе у Андрея Смирнова на картине «Осень». Отработал от звонка до звонка, от кинопроб до сдачи фильма. На картине была замечательная компания: тогда ещё молодой Смирнов, оператор Саша Княжинский, художник Алик Бойм. и звукооператор с
54
которым потом мы работали на моих картинах, Ян Потоцкий. Ну, славная, весёлая компания интересных и толковых людей. Снимали в Карелии, Питере и на студии в павильонах. В общем, к работе я был готов.
После непростого запуска «Слова для защиты» сложности продолжились. Впрочем, это мягко сказано. Врагу не пожелаю катастрофу, которая чуть не произошла со мной.
Были отличные пробы, после которых на картину утвердили замечательный квартет - Купченко, Янковский, Неёлова и Любшин. Все молодые, замеченные, набирающие силу... Оператором пришёл Толя Заболоцкий, который остался к тому моменту без Шукшина... Может быть, это был человек из другого кинематографа, но настоящий профессионал. Начали вместе работать, снимать и снимать. И всё было бы хорошо, но вдруг Ира Купченко заболела, и совершенно неожиданно для всех врачи запретили ей и сниматься и работать в театре. А треть картины уже была отснята. И картину остановили. Первую картину. Катастрофа.
«Сочувствую» - сказал мне генеральный директор Сизов... Ну, а я, что называется, «попал»! Гоуппа распускается, картина закрывается...Мы ходим по кабинетам, незнаем что делать...И я понимаю, что надо ломать ситуацию... На студии знали, что я опытный производственник, бывший начальник цеха... Это всё имело значение. Так что я направился в генеральную дирекцию, понимая, что всё это просто авантюра, но пошёл...
И Сизов согласился дать мне возможность на оставшиеся деньги и в прежние сроки снять картину заново с новой актрисой... Это означало, что за вычетом выходных у меня оставались два дня, чтобы эту актрису найти. Ею оказалась Галина Яцкина, которой я очень благодарен. Она фактически ушла из театра, из семьи, от ребёнка и отдалась картине целиком. И только благодаря её совершенно самоотверженной отдаче, все остальные актёры могли остаться на своих местах - и Неёлова, и Любшин, и Янковский. Фильм был снят. Я, конечно, и сейчас вижу в картине и следы спешки, и ограниченность в финансах, но... Сняли.
Картина имела успех. Посмотрели её 35 млн зрителей, что сейчас даже представить невозможно. О ней много говорили зрители, писали, иногда даже толково, критики. Фильм наполучал много всяких наград.
Но тот, ранний, материал остался в монтажной. И мы сели с монтажёром и собрали его. И, конечно, стало абсолютно наглядным, что это две разные картины. Не то, чтобы хуже или лучше, но получилась другая история. Про другое! С Купченко речь шла о женщине, в общем, духовно развитой, которая задыхается в бездуховности той самой реальной жизни советского «послеот-тепельного» времени, о которой ты пишешь. Ас Галей Яцкиной получилась не менее любопытная история о вполне советской женщине, в которой просыпаются вдруг неожиданные чувства, просыпается ощущение дефицита чего-то, что потом и в «Охоте на лис» не сможет сформулировать и Белов... В общем, тоже интересная история, но... другая.
56
Это всё - об актёрах. Выборе их и утверждении в ролях. На самом деле речь идёт об утверждении смысла картины.
Так ты всё-таки в обычной ситуации идёшь от актёра к роли или от роли к актёру?
Видишь ли, когда ты утверждаешь актёра, то - при прочих равных условиях, то есть с теми же партнёрами и на тот же сценарий - ты должен понимать, что утверждаешь не просто какой-то полутон, какой-то обертон, какой-то такой нюанс в будущей картине... Нет, на самом деле, ты решаешь вопрос, о чём именно будет эта картина с этим актёром? Потому что с одним актёром будет одна картина, а с другим другая. И так всегда. И вовсе не потому, что один лучше или хуже другого, интереснее - не интереснее... Но утверждая актёра, ты утверждаешь некое концептуальное, смысловое ударение. А уже в зависимости от этого ударения начинает по-разному прочитываться смысл фильма, как в зависимости от логического ударения по-разному прочитывается одно и то же предложение.
Так что большевистская цензура была в этом смысле гениальной, бдительно отслеживая не только сценарий, который запускали, нои- обязательно! -кинопробы! Они понимали, что с разными актёрами, конечно, получат разное кино. Чётко соображали, что в актёре таится смысловое звучание будущего фильма.
Ну, да! Помнишь, как запрещали снимать Чурикову, Быкова, Булгакову?
И все эти запреты касались вовсе не эстетики, но идеологии. Многих актёров часто не утверждали просто потому, что понимали -в их исполнении картина приобретёт нежелаемое звучание. Иногда даже, контролируя материал, останавливали картину в процессе съёмок и меняли актёров. Таких историй много.
Но у меня были утверждены все актёры, которые очень охотно откликнулись на сценарий, потому что в нём была современность в самом прямом смысле этого слова. Было то выписанное ощущение времени, которое меня безусловно привлекло в сценарии Миндадзе. Потом, когда мы начали работать вместе, естественно многое дописывалось... Было очень важно передать ощущение такого внутреннего послеоттепельного ХОЛОДКА, поселившегося в людях 70-х годов, ощущение возникшей духовной паузы... Это было в атмосфере того времени, всюду и везде ощущаясь как-то по-разному... Что замечательно описывал в своей «городской» прозе Юрий Трифонов. Им зачитывались все. Мы и с актёрами всё время говорили об этом. Знаю, что сильное впечатление она производила на Олега Янковского... Он, конечно, работая на «Слове» почувствовал, что именно ему предстоит воплощать на экране вот этого трифоновского героя «безгеройного» времени.
57
Скажи, пожалуйста, а в сценарии уже был прописан просмотр вот этого любительского фильма с Крупениным?
Честно сказать, я не помню... Возьми сценарий, посмотри...
Ну, что сценарий? Он часто переписывается под готовый фильм, а меня интересует первоначальный вариант...
Вот не знаю, не помню... неважно... Но важно, что вполне невинную картину мы сдавали с трудом. Кстати, очень много вопросов вызвал как раз просмотр этого любительского фильма... И ещё не понравилась общая такая атмосфера... как бы это сказать?... невесёлости. «Ну, что это там у вас наша славная советская женщина непонятно чего мается»...
Ну, видишь, правильно и точно почувствовали...
В картине всё это и вправду есть. Но вроде бы за руку не схватишь.
Хотя, должен тебе сказать, вся эта вечеринка с просмотром старого любительского фильма особенно раздражала начальство, даже собирали у Сизова всю главную редакцию. Как они ярились! А я в непонимании разводил руками и уверял, что «готов поправить». Я никогда не возражал и всегда соглашался с поправками. Но никогда ничего не делал. «Ну, конечно, я готов поправить, но совершенно не понимаю, что там такого особенного на вечеринке? Вспоминают, как они встречали Фиделя Кастро, читают стихи, что в этом печального?» А редактура и впрямь не могла сформулировать обвинение... «Ну, смотрят на себя уже повзрослевшие молодые люди... Ну, грустно, конечно, возникает какая-то ностальгия»... Мне возражают, что там что-то ещё такое эдакое...
Ты замечаешь, что уже в этой картине есть многослойность смыслов. Редактура эту особенность тоже почувствовала. И просмотр любительской хроники внутри картины, надеюсь, ненавязчиво переводил размышления или ощущения зрителя в другую плоскость, чем просто мелодрама о несчастной любви. Домашняя плёнка, на которой наши герои запечатлены в молодости, в сущности, говорит о сегодняшней их потерянности. Ещё молоды, но уже ощущение некого тупика...
Никаких поправок я не делал. Ситуация затягивалась, и как-то, что называется, рассосалась...
... Заканчивались съёмки. Когда мы снимали финальную сцену фильма на платформе Белорусского вокзала, был какой-то перерыв, мы стояли, ждали кого-то... С нами вместе стоял уже известный тогда, успешный, даже модный, актёр Олег Янковский... Прямо тут же, на этой платформе, где снималась последняя сцена...
Лихо подъехал таксист прямо на перрон, подвезли кого-то из наших. Машина была с радиосвязью, из багажника торчал прут антенны. Машина резко
58
развернулась рядом с нами, и этот стальной прут - представь себе! - просвистел в сантиметре от глаза Янковского... чиркнув о шапку... В сантиметре...
И вот вокруг этой несостоявшейся драмы начались наши разговоры с Миндадзе и всякие домыслы. Что могло бы случиться с благополучным Олегом, если бы, не дай Бог, что-то такое с ним произошло? Страшно подумать, но как изменилась бы его жизнь? Принципиально! Вот человек на взлёте, а с ним происходит что-то такое совершенно неожиданное... А что ещё может произойти? А к тому времени в Москве случилась одна история с известным поэтом, фронтовиком...
Да, я помню. Он сбил человека, как выяснилось потом актёра, которого ещё можно было спасти, но он скрылся с места катастрофы... Помню-помню..
И вот мы с Миндадзе и заговорили об этой истории. Стали её раскручивать. Человек во цвете сил, успеха и карьеры, популярный артист, и вдруг... Вот сюжет! А что дальше происходит, как складывается его жизнь? Суровая история. И стали разминать её, отказавшись постепенно и от «лишения глаза», и от актёрской профессии для будущего героя.
Гпавное - резкое и драматичное изменение жизни. Из благополучия - в тюрьму?
Ну вот: старушка бежала, а герой её сбил своей машиной... И жизнь героя зависла в тяжёлой паузе.
Миндадзе сел за стол и практически быстро написал сценарий. Это был «Поворот», в котором уже снималась выздоровевшая Ирина Купченко в том же партнёрстве с Олегом Янковским.
«ОБНОВЛЯЮТСЯ
КЛЕТКИ, ОБНОВЛЯЮТСЯ
ЛЮДИ»
«Поворот» -1979
что «обновляются биологические клетки», было уже давно и в деталях известно молодому перспективному учёному Виктору Веденееву (О.Янковский) - герою следующего фильма Абдрашитова - «Поворот». Но вот то, что иной раз скрывается за «обновлением» человека в экстремальной ситуации, ему предстояло познавать с развитием действия этого фильма уже на собственном эмпирическом опыте. После автомобильной аварии, которую он невольно совершает (в начале фильма), возвращаясь домой с молодой женой на своей машине после чудесно проведённого отпуска, сбив старушку уже на московской дороге. Страшное событие (усугубившееся тем, что старушка та скоро, не приходя в сознание, почила в больнице) враз нарушает всю привычную, наперёд продуманную жизнь Виктора, к тому же с грядущей защитой диссертации. Хотя, вроде бы, и правила не нару
60
шал, и старушка, как выяснится позднее, оказалась не сильно зрячей, да ещё и переходившей дорогу без очков и в неположенном месте...
Новая супружеская пара Наташи (И.Купченко) и Виктора Веденеевых, как было справедливо замечено критиками, очень напоминает по своим социальным характеристикам несостоявшуюся в супружестве пару Ирины и Руслана из предыдущего фильма. Молодая техническая интеллигенция, так щедро представленная в советское время, послужила Абдрашитову хорошей лакмусовой бумажкой для определения характера мутаций важных общественных клеток. Тот же возраст, та же среда, тот же быт, те же диссертации и те же неплохие перспективы при нормальном течении событий. Но в данном случае это течение событий становится не совсем нормальным для молодых супругов, резко перечёркнутое неожиданным несчастным случаем, обозначавшим для Виктора на горизонте совсем иную перспективу - тюремную решётку. Возникал неотвратимый вопрос: как спасаться и как исправлять нелепую случайность? Что можно для этого предпринять?
Тогда многие критики, писавшие о картине, справедливо сочли это событие тяжёлым нравственным испытанием, неожиданно свалившимся на голову преуспевающей супружеской паре и спутавшим все карты их уже ладно разложенной по полочкам жизни. При этом с осуждением писалось о досадной «неготовности» этой пары к той ответственности, которая свалилась им на голову, полагая, видимо, самих себя уже полностью подготовленными к ответственности, чтобы - не дай Бог чего - сразу же расписаться в своей боевой готовности поменять уютную жизнь на тюремные нары?
Жизнь, однако, оказывается изощрённее наших домыслов о ней и, к сожалению, подбрасывает порой столь неожиданные сюрпризы, которые трудно принять сразу и в полной готовности. Мне, как и Абдрашитову, тоже известна печальная история одного нашего замечательного поэта, храбро прошедшего фронтовыми дорогами, но сбившего человека своей машиной в мирной жизни, да так растерявшегося, что нашёл в себе силы притормозить, для того только чтобы оттащить ещё живое тело с дороги, а затем скрыться в темноте... А человека того ещё можно было спасти...
Так что не станем витийствовать с точки зрения своего нравственного превосходства. Не станем, как некоторые критики, слишком поспешно судить тот внутренний конфликт, который демонстрирует фильм и который так по-разному переживается молодыми супругами. Не станем корить героев обвинительными приговорами за то, что они поддались тем человеческим слабостям, которые на практике уводили их в сторону от жёстких нравственных принципов шестидесятнического общества. Что и говорить?! В любые времена существуют ещё общечеловеческие представления о добре и зле.
Тем не менее, в те годы писалось: «Смотрю дальше, как они мечутся, как теряются и теряют себя в борьбе не за себя, а за своё место опять же в той же системе ценностей, которое предложило им новое время... Смертельная плата, если иметь в виду нравственную агонию, когда совесть держалась из
61
последних сил, с каждой секундой уступая бездуховному натиску времени». А виной той агонии является то, что они «отошли от своего времени (оно так до конца и не стало их временем)». Критик снова ведёт речь о тех же 60-х годах -времени их юности...
Но если в «Слове для защиты» «светлые» шестидесятые годы настигали своих не в меру «повзрослевших» героев обаянием юности, плохо отфокуси-рованными кадрами запечатлевшего их когда-то любительского фильма, то нравственная проблема, поставленная перед молодожёнами приключившимся с ними несчастным случаем, носит, скорее, вневременной характер. Человеком нужно оставаться всегда, но разве мало было подлецов в «благословенные» шестидесятые годы! И где найти тех счастливцев, которые сумели так плотно и вовремя вписаться в тот таинственный орден шестидесятников, который гарантировал им индульгенцию от «плохого поведения»? Так что кажется странным, спустя десятилетия, так близоруко идеализировать героев того памятного для нашей истории десятилетия, которые с наступлением перестройки, увы, позволяли себе на наших глазах не всегда самые нравственно безупречные превращения...
Мне кажется, что поведение супругов Веденеевых или, выражаясь возвышеннее, их «нравственное состояние» и «кодекс чести» расцениваются в фильме не по какой-то отдельной шестнидесятнической, но по вечной шкале ценностей. Ведь к концу семидесятых юношеские плёнки совсем припорошились толстым слоем пыли, скрывшись с глаз повзрослевших молодых людей, которые все меньше оглядывались на прошлое, но всё больше приглядывались к механизмам успеха своего времени. Время вносило свои коррективы, к которым Абдрашитов вместе со своим сценаристом Миндадзе всегда был внимательно чуток. Видел он, что не только шестидесятые годы, но и недавно ещё объединявшая всех война всё больше уходили в историю, стираясь из памяти, а так называемая «интеллигенция» не чуралась порой любым способом благоустроить свою жизнь. Этот вектор общественных перемен был замечен и выделен для нас автором фильма, обращавшим наше внимание на драматическое расслоение будто бы «единого советского народа». Негласно всё менялось с точностью до наоборот, а официально провозглашаемые ценности никак не соответствовали реалиям каждодневной жизни, которая развивалась по своим правилам, никак не писанным социализмом. Ровно в параметрах тех же скрытых общественных перемен настигнет тяжёлая драма передовика производства Белова в следующей картине Абдрашитова «Охота на лис».
Следуя за развитием действия этой картины, замечаешь, как по-разному воспринимают супруги Веденеевы случившееся с ними несчастье, особенно после наступившей смерти старушки Анны Егоровны. Наташу Веденееву беспокоит не столько факт смерти как таковой, к которому, так или иначе, чувствует себя причастным её муж, сколько возникшая досадная опасность «обнуления» радужных перспектив семьи. Тогда как сам Виктор мучается, прежде всего, самим фактом случившегося, полагая себя вольным или неволь-
64
ным виновником гибели другого человека. Всё его нутро тем более противодействует спасительным акциям, предпринимаемым молодой женой, чем решительнее и деловитее она действует. Туман проясняется, и спасение любой ценой, предлагаемое Наташей, всё больше окрашивается для него тяжёлым чувством стыда, разводя его с супругой на разные полюса.
Действуя всё решительнее, жена забирает у растерявшегося мужа все бразды правления этой историей в свои руки. Она готова крутиться и юлить, регулируя ситуацию в их семейных интересах, не допуская никаких рефлексий, лишь бы уладить ситуацию любой ценой, лишь бы избежать наказания и продолжить намеченный прежде победный путь. Тогда как самого Виктора всё настойчивее посещают мысли, не позволяющие ему избежать чувства тяжёлой гнетущей вины, требующей для очищения честного суда и соответствующей закону расплаты. Хоть и располагается эта нравственная кон-траверза - принимать или не принимать страдание во имя искупления - в маленьком, внутрисемейном пространстве, заставляя супругов многое передумать и переоценить, в том числе и друг в друге.
Нравственный выбор, предложенный Виктору неожиданным поворотом судьбы, не имеет ни времени, ни границ, ни государственности, как бы нам ни претила советская власть. Зато особая сложность взаимоотношений Веденеевых с родственниками Анны Егоровны определяется именно конкретными особенностями семидесятых годов, когда вес социальных групп в обществе стал сильно смещаться в пользу более имущих. Только на фоне этого важного для Абдрашитова скрытого общественного процесса нравственная проблема Веденеевых приобретает особую социальную значимость.
Иным критикам даже диссертация, к защите которой готовится Веденеев, показалась лишь разоблачающей его «галочкой в жизненных планах, рядом с отдельной квартирой, машиной и поездкой в отпуск на юг...» Странно! Потому что Виктор Веденеев видится в фильме скорее даровитым учёным, которые также встречались в Советском Союзе, ценимым как сотрудниками, так и руководителем его диссертации. Перед нами никакой не подлец, но вполне порядочный человек, в конце концов, не готовый к подлостям, к которым подталкивает его жена в сложившейся ситуации. А диссертацию он, видимо, написал не только для галочки. Так что не стоило критику ополчаться на героя фильма, памятуя в начале перестройки только о нашем «позорном» прошлом, обеспечившем всем лишь «нормальный минимум (выделено мною!), который - вот в чём трагедия - потребовал от поколения максимум человеческих вкладов».
Да. В сложной ситуации взаимоотношений со своим зрителем оказывается художник, если усилия его трудов попадают волею его критиков в совершенно чуждый для него самого контекст. Контекст, волнующий, скорее, гражданские чувства этих критиков, но не имеющий никакого отношения к его собственному высказыванию. Частенько так случалось с картинами Абдрашитова, что дискуссии о них уходили в глухую периферию собственно им поставленных проблем.
65
Какая-то странная аберрация зрения часто сопутствовала их оценке, «шились» дела, к которым его картины не имели никакого отношения. Об этом сегодня стоит вспомнить post factum, чтобы воссоздать всю живость процесса, в котором жил и развивался художник, атмосферу частого непонимания того, о чём он говорил.
Ведь даже тот уровень жизни героев «Поворота», который снисходительно именуется критиком «нормальным минимумом», всегда и везде требовал от обладателей этого «минимума», я бы сказала, максимальных усилий. Вопрос в фильме ставился иначе: как при неожиданном течении событий уметь расстаться с плодом этих честных усилий, оставаясь порядочным человеком? Дело в том, что тот минимум, с которым Веденеевым грозит опасность расстаться из-за нелепой для них случайности, в контексте той нашей скромной жизни был почти что максимумом, подлежащим теперь возможному изьятию из их жизненного пространства. Молодым людям приходится решать в смягчённом варианте вопрос, в конце концов, поставленный Достоевским - можно ли оплатить достигнутое своим трудом благополучие, не ответив за смерть какой-то никчёмной старушки?
Вот предмет всех нравственных терзаний молодых супругов. Как выясняется, погибшая старушка принадлежала «де факто» рабочему классу в стране провозглашённого социального равенства. Но случившееся несчастье обнажало в этом фильме тот скрытый конфликт, который уже, на самом деле, вызревал между представителями разных социальных групп. Именно этот акцент, поставленный Абдрашитовым в «Повроте», был по-особому важным и социально значимым для того времени. Поиски внезаконных путей решения проблемы, возникшей у Виденеевых, высвечивали перемены в общественном климате тогдашней страны. Равноправие всё больше было только прописано на бумаге, тогда как всякий беззащитный человек оказывался беспомощным перед людьми «страшно далёкими от народа», но «упакованными» деньгами или связями. Именно такими окольными путями призывает Наташа воспользоваться, чтобы спасти своего мужа. Но в самом качестве попыток избежать наказания нащупывались те соединительные ткани, в которых зрела метастазировавшая общественная опухоль.
Именно эта тема начинает отчётливо звучать во время посещения Веденеевыми семейства почившей старушки, с которым Наташа мыслит как-то полюбовно «договориться» для смягчения возможного грядущего приговора. Но, постучавшись незваными в чужую дверь, супруги натыкаются на то презрительное раздражение, с которым встречают не столько даже виновников случившегося, сколько, прежде всего, априори «виноватых» своей причисленностью к той «благополучной» прослойке, представителям которой, с «простой» точки зрения, всё должно сойти с рук. При этом поведение родственников Анны Егоровны диктуется не человеческой завистью к более преуспевшим своим согражданам, но ощущением укоренившейся общей несправедливости, той затаившейся классовой неприязнью, которая только
66
разогревается слишком целенаправленным визитом людей абсолютно другой социальной прослойки. Между этими людьми сразу не находится общего языка, точно наши герои ступили не на свою, а на чужую территорию, не зная, собственно, куда вывезет эта кривая и каким образом можно договариваться. Видимость «нужной» для дела человеческой интонации зародится позднее, когда сообразительная Наташа придумает себе беременность, чтобы убедить мужа в необходимости предложенных ею действий и разжалобить несговорчивое семейство...
Точно заподозрили в семействе Анны Егоровны, что молодые люди отягощены не столько раскаяниями и муками совести, сколько страстным желанием любым способом уйти от ответственности, которая может разрушить их жизнь. Что им-то «слишком успешным», до нас, убогих?! Растопчут и перешагнут через нас ради себя, любимых. «Им» можно всё и поболее, чем простому работяге, «не кончавшему ниверситеты»... Зря, мол, думают эти «умники», что им всё с рук сойдёт - и отбрешутся, и откупятся. А закон в России всегда был, как всякому известно, что дышло...
Абдрашитов был тем редким режиссёром, который глубоко понимал состояние социума и умел говорить о самых главных, основополагающих и фундаментальных сдвигах, происходивших в нашем тогда ещё социалистическом обществе, именовавшемся то государством «рабочих и крестьян», то «единым и монолитным». Причём, осознаваемые режиссёром процессы интересовали его не в своей публицистической заострённости, а в точных психологических перверсиях. Как говорится, все мы больны своим временем, но далеко не всегда смели, умели и могли так же мужественно и ответственно, как он, предвидеть те неминуемые грядущие перемены, которые были чреваты для нас судьбоносными сдвигами.
Вся образная система в фильмах Абдрашитова работала таким образом, чтобы через отношения людей просматривалась сама природа конфликтов, возникающих в его фильмах не из-за плохих характеров или недостатков воспитания, а сложно работающей внутри нас идеологии, того общественного климата, продуктами которого мы, так или иначе, являемся. Резкое, неприязненное отношение рабочей семьи к «чистеньким» интеллигентам было априори заложено фальшью официоза, гласившего, что простые труженики являются хозяевами этого государства, тогда как все его привилегии постепенно присваивались более узким кругом совсем других людей, избегающих огласки.
Увидев молодых людей, семейство Анны Егоровны уже с порога подозревает сомнительность неотвратимости грядущего наказания, а потому во что бы то ни стало готово упрятать Веденеева в тюрьму, ни за что не позволив ему выйти сухим из воды. Они сделают всё, для того чтобы восторжествовал закон, и непременно накажут слишком умелого да гладкого, совсем «зажравшегося», с их точки зрения, интеллигента. Получат они свою сатисфакцию! Тем более что мужественная готовность Виктора всё-таки отвечать за случив-
68
шееся по всем правилам закона вызревает в нём с трудом и в противостоянии привычной для его окружения схеме действий. Испив на пути к этой готовности целый ряд унижений.
Только в результате тяжёлой внутренней борьбы оказывается, что с совестью у Виктора Веденеева как раз всё в порядке, ценит он её чистоту. Но сложнее обстоит дело с совестью у его более практичной жены Наташи, всё более упорно требующей от него самых решительных поступков, сомнительных для порядочного человека.
Странно, но иным критикам почему-то именно Наташа показалась «интеллигентной» носительницей каких-то приоритетных ценностей, но ставшей «жертвой безвременья», поразившего самого Виктора «неспособностью к бунту». «Бунту» против чего? И как может Наташа оказаться «жертвой» безвременья, если именно она вполне успешно вписалась в неписаные, но принятые этим «безвременьем» скользкие правила игры. Именно она вполне состоявшийся и успешный продукт этого общества. Тогда как именно «неспособный к бунту» Виктор, совестливо решается всё-таки без уловок отвечать за случившееся вопреки вполне бессовестным действиям своей жены. «Вопреки», то есть взбунтовавшись! Не желая избежать ответственности любой ценой. Наверное, каждый человек хочет разрешить всякую сложную ситуацию с малыми потерями, но Виктор первым чувствует барьер дозволенности. Интеллигентское, наконец, отвращение к унизительной суете...
В фильме появляется ещё один очень важный персонаж - дальний родственник почившей Анны Егоровны, некий Костик (блестящая работа Анатолия Солоницына), к которому семья рекомендует обратиться за подтверждением плохого зрения потерпевшей. Может быть, старушка, мол, плохо видела и сама шагнула под машину? Так что показания этого самого Костика могут оказаться спасительными для Виктора, и молодые люди, не скупясь, пробуют «купить» его шикарным застольем в ресторане и поспешной готовностью «одарить» его своей дружбой. Да чего там дружбой? Любовными утехами с Наташей тоже можно, в конце концов, расплатиться, хоть и сказалась она мужу беременной, чтобы подтолкнуть его к нужным действиям, в состав которых неожиданно вплетается слишком «подвижный» для её «интересного» положения танец с Костиком.
Тогда как сам Костик, всё более откровенно издеваясь над милой парочкой, уже не скрывает своего презрения: ведь не побоялись «благородные» люди никаких унижений, явившись к нему на заклание и засунув далеко в карман высокие истины, как только почувствовали себя в опасном положении. Это очень сильная кульминационная сцена фильма, демонстрирующая, что, на самом деле, не какой-то Костик враг нашим слишком мягкотелым «интеллигентам», но их собственная готовность ради выгоды и престижного будущего хоть прилюдно подставиться. Вот в чём сложно решаемая проблема героев «Поворота». Но постепенно всё то, что кажется Наталье вполне естественным в добровольно сделанном ею предпочтении, становится для Виктора всё бо
69
лее сомнительным. Наступает окончательное отрезвление, приторможенное неожиданно обнаружившейся беременностью жены.
Ведь едва пережив сложную в его положении новость о возможно грядущем прибавлении семейства, Виктор тем более потрясён спектаклем, разыгранным супругой перед Костиком. Всё, что происходит в ресторане, только помогает Виктору решиться, наконец, отвечать за содеянное по закону, расставив всё в своей голове по своим подлинным местам. Не сокрушаться преждевременно утратой своего благополучия, ставшего вдруг таким призрачным, но позаботиться своевременно о сохранении собственного достоинства.
Вот где кроется существо непонятого некоторыми бунта Виктора против принятых в то время форм поведения, диктовавшегося лишь присвоенным себе правом сильного, а также деньгами или связями. Кто смел, тот и съел! Опомнившись, наконец, Виктор нащупывает ту твёрдую почву под ногами, на которую он предлагает опереться и Наталье, протягивая ей тем самым, выражаясь метафорически, ту самую «луковку», которая поможет ей, смирившись и оглядевшись окрест без суматохи, заново различить со стыдливой совестливостью, что к чему и почём...
Что касается развязки фильма, то по закону выяснится почти полная невиновность Виктора Веденеева. Но едва ли можно назвать такую развязку только счастливым концом для наших героев. Слишком оба они подсуетились заранее, чтобы заработать самим себе иное наказание без суда и следствия, ставшее той ложкой дёгтя, которая подпортила им бочку новобрачного мёда. Ибо неожиданная драматическая ситуация, выпавшая на их долю, заставила их как-то иначе и по-новому поглядеть друг на друга, то есть поглядеть обновлённым взором. Так что, проследив действие фильма и возвращаясь к названию этой главы, приходится заметить, что обновляются, не только клетки, но и люди, особенно на поворотах. Только, к сожалению, обновление это у людей в отличие от клеток, не всегда гарантирует улучшение породы для наиболее полноценного выживания «homo-sapiens».
А теперь, подойдя к следующему фильму Абдрашитова «Охота на лис», открывавшему новое десятилетие, следует заметить, что обе предыдущие работы при всём своём заметном своеобразии оказались всё-таки лишь предысторией к тому настоящему явлению, каковым становится далее кинематограф Вадима Абдрашитова, создававшийся в сотрудничестве с Александром Миндадзе. О нём будут говорить и спорить многие годы - о его особенностях и новациях, его высказываниях и предостережениях о грядущем течении нашего времени, означенного позднее переходом «советского» пространства в «российское».
Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым
Ты уже рассказывал, какое событие, едва не ставшее трагическим для Янковского, подтолкнуло вас с Миндадзе к «Повороту»... Да ещё наслоилась на вашу фантазию вся эта история с поэтом...
70
Так постепенно появился «Поворот». Название не менялось. К работе вернулась Ира Купченко, очень важно было участие в картине Олега Янковского. Он тогда набирал опыт и силу, в том числе и на наших картинах, утверждая за собой особый потенциал актёра, олицетворяющего в ролях героя нашего времени, вплоть до «Полётов во сне и наяву» и-до полного краха личности - в картине «Мы, нижеподписавшиеся» Гэльмана и Лиозновой. Всё это готовилось, конечно, генеалогически. Этот герой суммарно возник из его работ, замечательно насыщенных в итоге артистическим дарованием и человеческим обаянием Олега. Янковский был совершенно особый, отдельный человек, отличавшийся - при таком вот артистизме, при внешней лёгкости - ещё мудростью по жизни. Вёл себя всегда очень порядочно, оставаясь в чём-то даже наивным и очень славным человеком, к тому же очень хорошим товарищем. Всегда интересовался самыми сложными задачами замысла... Очень живой был человек, очень живой...
А «ПОВОРОТ» прошёл спокойно в цензурном отношении, да?
Да, скорее именно так. Была одна смешная история. Помнишь, советская власть боролась со всеми «недостатками» кампаниями, волнами. И если она боролась с чем-нибудь конкретно сейчас, то что-то другое, вчера ещё невозможное, проходило. И хотя были какие-то претензии к встрече Веденеевых с родственниками погибшей, к репликам Назарова, вроде там «разъездились тут больно!», вот чего-то такого... но главная борьба, к счастью, шла с курением на экране. А Люба Стриженова, игравшая невестку погибшей женщины, курила у нас в разговоре с Янковским и Купченко. А тут говорят - ВЫРЕЗАТЬ! То есть как вырезать? А переснять нельзя. Да, как хотите, но чтобы не было видно, что она затягивается. Поэтому, если присмотреться, то Люба курит у нас, как Змей Гэрыныч, то есть, хотя она не затягивается, но вдруг из ноздрей у неё идёт какой-то дымок...
Были ещё чисто юридические проблемы, связанные с фильмом, которые нам помогал решать один совершенно особый человек Юрий Дмитриевич Северин, ставший потом нашим верным старшим другом. Мы многим ему обязаны. Если бы не он, то судьба не только этой картины, но и других, и нас самих, осложнились бы существенно. Ведь когда наседали на нас чиновники и цензура, то требовали заключений из специальных ведомств, МВД, министерства юстиции и т.п. Защиту картин от всех них взял на себя наш консультант - -тогда замминистра юстиции РСФСР.
Это был совершенно уникальный человек! Я считаю встречу с ним большим везением в своей в жизни.
Вот что такое процесс съёмок в советское время! Немыслимая сегодня деталь - кому какое дело? Ты с ним и дальше консультировался?
Да, начал он ещё с судебного процесса в «Слове для защиты», а потом понадобился и в «Повороте», хотя сам процесс идёт там какую-то секунду. А вот по
71
том... если бы не он, то «Охоту на лис» просто не запустили бы в производство... Тогда один из редакторов, проявив чрезмерную осторожность, отправил сценарий в рабочем порядке для консультации в МВД. А оттуда обратно в главную редакцию прислали опасную бумагу. В ней вопрошали: Что это там у вас? Как это? «По «Ленина» поедем»? Или: «Это что же наш передовой рабочий не может справиться с мальчишками?» И так далее, и так далее... Увидели почти всё, заявив, что такого фильма быть не может вообще.
Я чего-то про Ленина не поняла...
Ну, как же? В начале фильма милиционер спрашивает арестованного: «по Ленина будем ехать?» - «По Ленина, по Ленина»»...
Да, что говорить, после этой грозной бумаги никто не хотел больше с нами разговаривать о сценарии, а главный редактор сказал, что после такого заключения из МВД ничего сделать не может. Тогда мы показали эту бумагу нашему Юрию Дмитриевичу. Он прочёл и говорит: «Да это не их собачье дело, не МВДш-ное.. Направляйте запрос в Минюст»... И я уговорил главного редактора Мосфильма послать сценарий туда. А там ждал его Северин. И сценарий предварительную цензуру прошёл.
Северин был с нами не только на «Охоте на лис», но и на «Слуге», и на «Армавире», хотя там не было уже никаких судебных процессов. Так и оставался он снами до самых последних своих дней. Хороший человек был! Очень помогал! Творческий человек. Он написал книгу воспоминаний, про войну, куда ушёл в 16 лет, про свою жизнь и практику юриста, и там есть несколько страниц про нас тоже, что он рад был столкнуться с кинематографом... Уважительно и лестно написал о нас с Миндадзе и наших картинах.
Сценарий «Охоты», который я получил, был практически готов. Считаю его одним из лучших в творчестве Миндадзе. При внешней непритязательности - ну, шёл человек, его сбили с ног подростки, и вот он мается, чего-то ходит туда-сюда и всё- но! ПОДЧЁРКНУТАЯ простота всей завязки позволяла раскрашивать эту историю практически, как угодно, потому что история всё равно сохранялась, сохранялся сюжет, позволявший ввести в него, как ты правильно пишешь, важные для картины пробеги, обилие музыки...
Ты вот где-то пишешь о нас: «они глядели дальше и сложнее, чтобы прийти к мироприятию»... Точное слово. И, кстати, я подумал, отчего именно этого слова, такого сущностного нет почему-то в обиходе? Наверное, потому что в русском народе никогда не было мироприятия. Ни в народе, ни в русской философии. Каждый по-своему не принимал этот мир - Чаадаев, Пушкин, декабристы или Николай... Ну, ладно (листая дальше), вот здесь ты про Костика...
Да, мне очень нравится в «Повороте» эта работа Солоницына...
72
Мне тоже! А ещё там очень хороша Ира Купченко... Она всё про всех понимает и понимает, что надо выживать. И для этого идёт на всё.
Словом, «Поворот» создавался в уютной, хорошей рабочей атмосфере? С Купченко и Янковским...
И ещё с оператором Элизбаром Караваевым, мастером своего дела, порядочным, толковым человеком.И замечательным художником Володей
Коровиным, с которым перешли вместе в «Охоту».
ПОХМЕЛЬЕ
В ЧУЖОМ ПИРУ
«Охота на лис» -1980
самого начала новая работа Абдрашитова «Охота на лис» обещала зрителям вновь ещё одно судебное разбирательство. Вроде бы, не слишком серьёзное, которое, наверное, будет потом квалифицироваться «обычным» хулиганским нападением. Даже не в целях ограбления, а так просто, со скуки... Захотелось молодым ребятам поразмяться, «позаимствовав» несколько рублей на кино у случайного прохожего, наградив его парой зуботычин. А теперь этот прохожий, оказавшийся уже потерпевшим, сидя рядом с водителем в милицейской машине с забинтованной головой и заметным фингалом под глазом, помогает опознавать и вылавливать в городском парке под покровом ночи своих обидчиков. Колесят они для этого по тёмным дорожкам парка, высвечивая фарами жмурящихся от этого света молодых людей, сбившихся в стайки по скамейкам и кустикам, скрывающихся там от взрослого мира со всеми своими делами и делишками.
74
Но сразу же, с первых кадров, как это умеет делать Абдрашитов очень деликатными средствами, мы чувствуем, что становимся свидетелями не просто очередной криминальной истории, но чего-то глобально тревожащего, расползающегося по кадру каким-то дополнительным посторонним для простого хулиганского случая всё более сгущающимся напряжением. Что-то тут, кажется не совсем то, что прямо названо, или даже вовсе совсем другое... Так или иначе, но этому двоякому ощущению, безусловно, способствует сопровождающий кадры музыкальный ритм, всегда расширяющий у Абдрашитова смысловое пространство его картин. Будит этот ритм в зрителях опасливую тревогу, будто за прямым экранным действием натягивается какая-то неясная, невидимая нам, но угрожающая струна... между...
Ну вот именно! Между кем и кем? Кто, собственно, повстречался на узенькой парковой дорожке в неурочный час? Что, в самом деле, так серьёзно и тревожно могут не поделить между собой «простой» взрослый мужик и, как вскоре выяснится, добросовестный заводской работяга Белов с юным Беликовым и его компанией? Вот вопрос, который снова и снова будет возникать всё более настойчиво с движением действия и определять эту самую скрытую от прямого взгляда внешне сдержанную, но взволнованную по существу интонацию, которая соответствует всё более напрягающемуся внутреннему состоянию главного героя в блестящем исполнении Гостюхина. Не каждый день приходилось нам любоваться работягой, таким настоящим и органично существующим в своей драме, хотя советское время баловало нас бесконечными вереницами в том числе и ярких «образов рабочих».
Тем не менее, герой этой картины Абдрашитова переживает для себя по-особому трудную драму, пока мы вместе с ним постигаем вовсе не причину, но природу всё более озадачивающего его конфликта. Что уж такое важное может не поделить с мальчишкой доблестный представитель рабочего класса? Да ещё, как выяснится, хороший семьянин, «передовик производства»! Какая собака могла пробежать между ним и какими-то ещё не оперившимися «птенцами», едва достигающими своего совершеннолетия, с вызывающими по тем временам нестриженными волосами? Неужто что-то такое специальное кроется за почти что невинной «шалостью» скучающих молодых людей, замахнувшихся на случайного прохожего? И каким главным вопросом задаётся сам Автор, раскручивая свою вроде бы незатейливую историю, если ему удаётся с продвижением к финалу всё более отчётливо раскрывать для нас, как я уже сказала, не столько причины, сколько скрытую от нас природу конфликта, расставляющего жертву и палача в совершенно новой для нас конфигурации?
Отслеживая и воссоздавая, вроде бы, не Бог весть какое значимое событие, Абдрашитов видит обозначившийся за этим событием новый, негласно уже существующий раздел жизненного пространства, того фундаментального, привычно главного и незыблемого в нашей жизни, что называлось её тогдашним экономическим и социальным «базисом». Режиссёр задаётся странным по тем временам вопросом: на каких таких перепутьях без явных крутых
75
поворотов оказались, того не заметив, по-особому меченые временем герои данной картины? Каким образом и почему незаметно как-то для большинства разделилось наше тогдашнее «бесклассовое» общество даже в одной и той же социальной прослойке на неведомые нам какие-то новые образования?
Ведь внешне малозначимый конфликт возникает внутри представителей того же самого работящего простого населения. Мать подсудимого Беликова, которую мы коротко увидим в суде, скромно притулившейся на скамейке, ничем особо не примечательна, смущена и безгласна. Она так узнаваемо характерна для этой среды, что невольно на ум приходит нехитрая мысль о её предполагаемом сходстве с матерью самого Белова, наверное, тоже вынянчившей своего сына тихо и в одиночку, только что в послевоенные годы. А потому в процессе слушания дела возникает у Белова к Беликову почти что родственное жалостливое чувство, побуждающее его ринуться защищать не обидчика, но родного, в сущности, для себя человека. Тем более, когда он понимает, что такое же наказание вовсе не грозит второму соучастнику данного преступления - сыну гораздо более обеспеченных, «грамотных» родителей, которые сумеют «отмазать» своё чадо, оплатив лукавого адвоката. Как схожа сама природа этого «классового» неприятия с конфликтом такого же рода, рассмотренным в «Повороте»! Ведь, не дожидаясь покорно никакого суда, мать второго соучастника преступления так же, как и Веденеевы, поторопится заблаговременно заявиться к Белову, чтобы «полюбовно» и загодя обо всём с ним договориться. Та же наступательная манера поведения негласного «высшего» сословия, и тот же характер подозрительности простого люда к таким «договорщикам».
Больно осознавать простодушному Белову, что причиной, позволяющей приятелю Беликова уйти от ответственности, как ему кажется, является его принадлежность другой, гораздо более «ухоженной» социальной грядке, изначально чуждой ему самому, если не враждебной. С горьким подозрением наблюдает он за судебным процессом, незаслуженно выгораживающим более «упакованного» заботливыми родителями главного, с его точки зрения, виновника преступления. Ведь сам Белов ни за какие коврижки не пошёл ни на какой сговор с чрезмерно «прыткими» родителями своего обидчика, что, однако, не помешало им освободить своё чадо прямо на его глазах, «купив» себе адвоката, который помог им упрятать за решётку одного Беликова. Неужто и впрямь «всё покупается и всё продаётся» в нашем общенародном государстве? С этим подозрением Белов никак не может смириться, всё более настойчиво чувствуя себя виноватым в том, что упёк в колонию беззащитного парня, родную косточку. Душа ноет, не давая никакого покоя, кровоточит сочувствием к Беликову, жаждет восстановления попранной справедливости.
Чувствует Белов себя обязанным после такого сомнительного суда вытащить парня на волю и переориентировать на правильные жизненные ценности, громко провозглашённые государством и принятые им самим на вооружение. Эти ценности в почётном, честном труде. В перипетиях такой борьбы за
76
освобождение Беликова определится тот судьбоносный для Белова перекрёсток, на котором до конца проявится дотоле неведомый ему, но вызревший в обществе драматический конфликт, исследованный в фильме. Режиссёр следом за сценаристом высветит в потёмках официоза некое особое напряжение, таящееся в реальной жизни. Оказывается, именно такое напряжение незаметно сгустилось уже за порогом простого и уютного быта работяги, неожиданно разводя его с подростком, вроде бы душевно и социально ему родственным, на разные полюса. Своеобразное «прозрение», посетившее Белова впервые в зале суда, формулируется им поначалу с народной непосредственностью собственным «обвинением», брошенным адвокату: «Хорошенькая работа... Одного, значит, топите, а другого выгораживаете? Ну-ну».
Требует душа Белова справедливости, не позволяя оставить Беликова в беде, вроде бы как им самим и спровоцированной. Так что хочется простому мужику безо всякого адвоката «защитить» мальчонку собственными силами, своего неожиданно возникшего «подзащитного». Ведь двое дубасили его, а срок почему-то будет тянуть только один Беликов? Было, конечно, и прежде в советском кино немало картин, в которых разные благородные рабочие помогали встать на путь истинный всяким заблудшим овечкам. Только «Охота на лис» говорит в этом контексте об иной вызревшей проблеме, вскрывая кардинальные изменения в подлинно существующей общественной ситуации, негласно и незаметно для нас воцарившейся в нашем социалистическом семействе.
Начиная с «Охоты на лис», всё более отчётливо и рельефно формируется та принципиально важная особенность авторского высказывания Абдрашитова, которая позволяет нам разглядеть собственное общество в его реальных, умалачиваемых или трусливо незамечаемых нами противоречиях, в которых мы существовали. Тех противоречиях, которые незримым образом, будто водовороты, фатально втягивали в себя наши жизни, точно гальку перешлифовывая наше сознание и подсовывая нам какие-то сатанинские игры в собственные перевёртыши. Герои фильмов Абдрашитова не столько мимикрируют, приспосабливаясь к переменам в обществе, сколько само общество устраивает своим гражданам те неожиданные для них рокировки, в результате которых они перестают узнавать своё собственное отражение в зеркале иных душ. Этот процесс достигнет своего апогея в «Армавире», а пока попробуем разобраться в том сюжетосложении, которое предложила жизнь в «Охоте на лис», вывернув наизнанку все самые что ни на есть базовые ценностные ориентиры Белова.
Незаметно для участников жизненных передряг получается так, что виновные и обвиняемые меняются местами, сцеплённые вместе только единством места, времени и действия, но равно посторонние и тому, и другому... Ну, занесло каждого туда, где он родился. Так что, вспоминая Камю, можно сказать, что не столько действующие лица оказываются у Абдрашитова «посторонними» в этом мире (это не из их мироощущения), сколько сам социум оказыва
77
ется для них посторонним медиумом, определяющим исподволь всё их существование.
Как я уже заметила, кажется Белову, что роднит его с Беликовым такое же трудное и похожее детство, когда приходилось и ему не раз оступаться. Но, опираясь на свой опыт, знает Белов, что преодолел голодную безотцовщину, выдюжил, благодаря спорту и армии тоже, упоминание о которых уже тогда резало чей-то более изнеженный слух.... А теперь Белов честно трудится, занимая на заводе своё крепкое заслуженное и, как ему кажется, уважаемое рабочее место. Обзавёлся хорошей семьёй. Отчего бы теперь не протянуть ему свою «отеческую» мозолистую руку заплутавшемуся «по жизни» пареньку? Не оградить его от «произвола» чистеньких да упитанных, не только засадивших его за решётку, но ещё, как выяснится, соблазняющих его «лёгкой» жизнью левых заработков, противопоказанной самому Белову? Чувствует он на себе всю ответственность за дальнейшую судьбу Беликова, хочет помочь ему не просто «исправиться», но занять своё собственное достойное и уважаемое рабочее место, которого сам когда-то добился. Совесть мучает, требуя принять участие в судьбе своего «беззащитного подзащитного», не передоверяя его будущее слишком «учёным» и «сообразительным» приятелям...
В этой борьбе за Беликова предстоит, однако, Белову с горечью осознать, как круто поменялась в обществе вся система ценностных координат и как далеко от официальных деклараций расположились совсем иные жизненные приоритеты, уже прекрасно воспринятые новым, незнакомым племенем, предпочитающим теперь признанию на «доске почёта» хороший левый заработок в кармане. Деньги «не пахнут» для них более, а от газетных передовиц веет идеологической фальшью, очевидной в каждодневной практике.
Следуя за течением фильма, попадаешь в сущностно разрушительные противоречия нашей былой жизни, которые не замечались тогда с той остротой, которую продемонстрировал Абдрашитов в «Охоте на лис», понимая формирующуюся драматическую предопределённость самого вектора нашего движения, всё более отчётливо разделявшего отцов и детей. Как писал мой отец об «Охоте на лис» вскоре после выхода картины: «вызвала эта картина затаённое недоброжелательство одних и равнодушие других, потому что в ней сказалось то новое слово, к восприятию которого критика не была готова».
Удивительно, но получилось так, что «живительный» воздух перестройки ещё более запутал ситуацию вокруг этой картины. Не заметили критики, как писал там же мой отец, что: «Абдрашитов и Миндадзе наделены таким даром - видеть за фактом скрытую от других суть», которая так и осталась закрытой для иных критиков. Для них конфликт этой картины показался, как теперь говорят, «однозначно» ясным и определённым. Из лихих девяностых годов показалось кому-то, что вся проблема отцов крылась в непонимании детской правоты, предлагалось даже в «Охоте на лис» поменять местами истца с ответчиками, посадив избитого подростками Белова на скамью подсудимых. Неужто так провинился бедный работяга только потому, что сопротивлялся
80
тем наметившимся переменам в «перераспределении» средств, которые казались тогда обыкновенным воровством, лишь потом названным «ростками» новой экономики? Корит кое-кто из критиков вполне серьёзного мужика начала восьмидесятых за сопротивление тому, что в начале девяностых покажется прекраснодушным идеалистам давно чаемым благом, правда для начала укокошившим в нашей стране разом и крестьян и рабочих...
Как писал Достоевский: «Можно видеть факт, видеть его самолично сто раз и всё-таки не получить такого впечатления, как если кто-нибудь другой, человек особенный: станет подле вас и укажет вам тот же факт, но только по-своему, объяснит его сам своими словами, заставит вас смотреть на него своим взглядом. Этим-то влиянием и познаётся настоящий талант», который, увы, так часто не воспринимался в своей полноте многими из профессионалов, писавших о кинематографе Абдрашитова и Миндадзе.
Читая сегодня некоторые рецензии, замечаешь порой, как странно менялось восприятие критиков в поспешном намерении во что бы то ни стало соответствовать самым «прогрессивным» веяниям нового времени, тормозившим на самом деле их собственное свободное и не ангажированное этим временем восприятие художественного текста. Слишком агрессивная ненависть к нашей недавней истории начинала в иных статьях перехлёстывать всякий здравый смысл. Былое оказывалось таким ненавистным, что казалось естественным обвинять не напавшего на Белова Беликова, «героя» грядущей жизни, но так возненавидемого «гегемона» Белова, слишком преданного идеалам ушедшего времени. Не было у таких критиков желания и духовного намерения, следуя за режиссёром, разглядеть в рабочем мужике ту самую драматическую жертву, каковой, он на самом деле, являлся, слишком простодушно доверившись уже не работавшим на практике ценностям. Как всё же свойственно нам в пылу новых восторгов и надежд, не задумываясь непременно выплёскивать вместе с водой и ребёнка!
Так один из критиков, передёргивая странно воспринятый конфликт, положенный в основу сюжета, разводит на разные непримиримые полюса почему-то неприятного для себя работягу Белова и милого сердцу юнца Беликова с его компанией. При этом критиком не воспринимается в «милых» молодых людях, прежде всего, важный для Автора, тяжёлый и отнюдь не побочный продукт того же самого времени, подменявшего уже на практике отмирающую идеологию лишь лукавым денежным ловкачеством.
Никогда не забуду, как в брежневские ещё времена один знаменитый кинорежиссёр вещал на пляже в Пицунде, размахивая руками, про особенности текущего «исторического» момента: «Неужели вы не видите, что на небесах начертано крупными буквами только одно единственное слово «ОБОГАЩАЙТЕСЬ!». Так что имевшие уши задолго улавливали информацию, необходимую для дальнейшей жизни...
Этот призыв заставлял чьи-то сердца, радуясь, биться учащённее. Однако время, увы, скоро продемонстрирует нам, что именно означали для нашей
81
страны - если хотите, в нравственном отношении - так резко сменившиеся ценностные ориентиры. Кто пал жертвой тех пламенных перемен? Чем расплатились? Кого не досчитались? Удивительно, но, как догадался или интуитивно почувствовал Абдрашитов, за конфликтом Белова с его юным обидчиком просматривалась достоверно точная и ещё недооценённая в полной мере, общая психологическая ситуация в стране, уже скоро предвещавшая грядущие нелёгкие перемены. Латая сегодня расползающиеся дыры нищеты, как людей, так и производства, можно лишь догадываться о неисчислимости понесённых убытков. Что ж говорить на фоне нашей общей былой слепоты о какой-то «недальновидности» нормального здорового мужика Белова, который оказался в дураках только потому, что слишком «некритично» доверился преподанным ему в школе жизненным ценностям? Как можно говорить о его недальновидности тогда, когда грядущие победители жизни уже оказывались столь неразборчивыми в способах получения своих заработков и привилегий? Да, уж, НЕ ПИОНЭРЫ рвались к тому самому обогащению, которое для кого-то уже было так ясно прописано на небесных скрижалях нашей скукожившейся истории!
Жаль, что, как водится у нас, вовремя не разглядели, не почувствовали и, как обычно, не расслышали уже тогда всю напрягавшую нашу жизнь опасность, которой пронизано всё действенное пространство «Охоты на лис», сигналившее уже тогда о серьёзном неблагополучии в советском «королевстве». Несколько лет спустя эта опасность, возглашённая в «Армавире» воем включённой сирены, расползётся по кадру уже полной, совершившейся катастрофой. А ещё в самом начале восьмидесятых годов внутри того общества, которое называлось общенародным, вызревало уже то самое противостояние между уходящими в прошлое его зиждителями и теми, кто умел ловить рыбку в мутной водичке, то есть новым нарождающимся классом вершителей теневой экономики, обещая выплеснуться на крутом повороте теми последствиями всей нашей истории, свидетелями которых мы скоро оказались. Трудно представить теперь, что ещё тогда именно Абдрашитов с Миндадзе так точно ощущали и задолго предчувствовали те невидимые закулисные сдвиги, которые затем лягут в основу грядущего общества, уже подоспевшего к нашему порогу.
Став свидетелями этих сдвигов и наслаждаясь в начале девяностых агонией так называемого социализма, в послеперестроечной эйфории меньше всего наши наиболее «передовые» интеллектуалы думали о таких практических и «низменных» вещах, как сохранение производства, зарплаты, здравоохранения или образования, определявших судьбы простых людей, из которых складывается такое понятие, как народ. Так что мало интересовал нас в преддверии новой зари, как показалось некоторым критикам, «устаревший» и уже ненужный новому времени «недалёкий» работяга Белов. Потому обновлённому временем взору некоторых «ценителей» картины виделась в образе заслуженного рабочего только та «отрицательная зона», вход в которую прямо-таки грозил человеку «перерождением в античеловека». В эту зону не
82
должно было вступать такому «прогрессивному» молодому человеку, как Беликов. Так что после такого рода умозаключений приходится сегодня с некоторой тоской задуматься о тех, кто выше всех в тот момент бросал чепчики, приветствуя полный развал страны...
Ведь писали с наступлением «перестройки», что: «если копнуть поглубже, то выяснится, что Беликов - первое (sic!) испытание» в жизни нашего Белова, которого он не выдержал, то есть в свете дальнейшего развития истории неправильно понял первое наступление на себя тех «правильных» ребят, которых позднее назовут братками. А виновато в недомыслии Белова - как показалось критику - наше былое социалистическое общество, сделавшее из «непокорного Белова покорного, взрастив и вскормив его своими руками, не вооружив нравственно, сделав его неспособным самому себе вынести приговор».
После таких странных слов приходится возразить, что если кто-нибудь в этой картине оказался вооружённым нравственно, то это именно совестливый Белов. Или в том виновен, что сам себе приговор не вынес? Право, какой нерасторопный! Нужно было, не питюкая вовсе, класть себя со товарищами поскорее на историческую гильотину с радостной улыбкой на устах, что, в конце концов, от них и требовалось, чтобы понравиться просвящённой интеллигенции... Чтобы не мешали праздник праздновать новым глашатаям «прогресса»...
А что же, на самом деле, говорил художественный текст Абдрашитова, не опосредованный его неточными толкователями? Ведь читая некоторые статьи, я вовсе усомнилась, о каком, собственно, фильме идёт речь? Неужто и впрямь об «Охоте на лис»? Может быть, с иными критиками мы и впрямь смотрели разные картины, если кому-то из них удалось даже отыскать каких-то «безупречных» героев, вовсе небывалых в картинах Абдрашитова, наполненных всегда живыми, «бывалыми», то есть узнаваемыми людьми.
Именно таким, легко узнаваемым человеком был в «Охоте на лис» Белов - всего лишь нормальный и честный мужик... совестливый, а потому только и потревоженный несвойственными ему сомнениями. Вполне добротный человеческий материал! А потому и страдающий! Кое-что переживший уже в своей жизни до драматической истории с Беликовым. Просто новые, предложенные ему неожиданной ситуацией «переживания» оказались вовсе не привычного для него свойства. Ясно было, что за спиной у Белова, «не кончавшего университетов», непростое, конечно, детство, и потребовалось ему немало специальных усилий, чтобы оказаться не в исправительной колонии, как Беликову, а у рабочего станка на заводе.
Другое дело, что именно стычка с буйным молодым человеком бесповоротно нарушила его душевный баланс, не просто достигнутый в борьбе с жизнью и с собой (а как же?), который был так сильно поколеблен неожиданным для него разворотом отношений с измордовавшим его пацаном, так похожим на него самого в молодые «ветреные» годы. Поэтому хочется Белову до душевной боли вытащить Беликова из тюрьмы и «выпрямить» ему дорогу к «пра-
84
вильной» жизни, которой он сам достиг в соответствии с преподанной ему системой ценностей. Где же здесь угнездиться какой-то «покорности», привидевшейся в Белове критику?
Напротив, характер у него сильный, упрямый и, на свой лад, очень самостоятельный. Чувствует он себя вполне хозяином жизни, не выслуживается перед начальством, не оформляет себе никакое «шефство» для галочки, как «взятку» для пополнения семейного капитала. Так что, наблюдая за ним, видишь, что вооружён он «нравственно» очень неплохо, не бросая в беде не просто своего обидчика, но задевшего его своей судьбой брата меньшого, с которым отношения не складываются, в конце концов, из-за незримых, не зависящих от них обоих обстоятельств. Об этих самых закулисных обстоятельствах, формирующих судьбы и новое сознание людей, всякий раз ведёт со зрителем свой диалог кинематограф Вадима Абдрашитова. Имеющий уши да услышит!
Главная драма между Беловым и Беликовым возникает в момент их разночтения этого самого кода «нравственности», хотя это мудрёное слово едва ли из их лексикона. Главный герой «Охоты на лис» не столько разговаривает, сколько чувствует. Каким поражающе ёмким крупным планом, одним из лучших в советском кино, одаривает нас Гостюхин, когда досрочно освобождённый только его усилиями Беликов предпочитает его обществу и мотоциклу такси, на котором его встречают сердечные дружки, включая ещё и того самого ненавистного соучастника преступления, которого от тюряги «отмазали» родители!
Но в отличие от Белова, то же самое событие, поразившее Белого в самое сердце, воспринимается тем же критиком на удивление благосклонно - ну, мил отчего-то её сердцу именно Беликов, оглоушивший со скуки в темноте парка здоровенного мужика. Моральная фора, видно, даётся ему, как провозвестнику, слишком однозначно воспринятых критиком грядущих перемен. Раздражает сама мысль, что «милый» юноша, которому, наверное, найдётся сомнительное место в новом обществе, мог совершить тогда какое-то «преступление», которого, с точки зрения критика, он, оказывается, «вовсе не совершал»... Таким пустым местом видится Белов нашей «аристократии».
Мы так подробно останавливаемся на восприятии этой картины для того, чтобы разобраться в специфике тех сложностей, которые в своё время мешали её полноценной оценке. Возникает важное ощущение, что конфликт критика с материалом фильма носит тот же общественный характер, что и сам как таковой драматический контрапункт фильма, подтверждая потерю взаимопонимания между разными группами общества, подготовленную его непростым развитием. Сам предпринятый в статье анализ картины до смешного наглядно демонстрирует как раз ту же самую общественную метаморфозу, которую так цепко ухватили авторы «Охоты на лис». То расслоение нашего общества, которое уже тогда демонстрировало, как «далека наша «интеллигенция» от народа», как мало этот народ интересует её в контексте собствен
85
ных вымечтанных «ценностей». Свободолюбие? Но для себя родных! Вот, к сожалению, тот принцип, который продемонстрировала в переломный для нашего общества момент, видно, по-особому отшлифованная советским строем наша новая «русская демократия». Свой приход ознаменовала она пышными всходами «тощих» идей, оставлявших за бортом её «царственного» внимания своих собратьев, обобранных новым обществом, забывая - будем надеяться временно - о совестливости лучших русских умов. Да чего там? Почему бы не оглоушить в темной неразберихе оторопевшее большинство?
Белов Абдрашитова не роденовский мыслитель. Не тонкий интеллектуал, а простой работяга. «Необразованщина»! Но как можно было вершителям наших общественных идей засчитать ему это в вину, полагая незазорным для «хороших парней» расправиться с ним дважды: и физически, и морально? Что же удивляться тогда сегодняшним браткам, буквальным и мимикрировавшим в «большую» жизнь, свободно вершащим свои злодеяния? Как можно было не углядеть в «Охоте на лис» нашим замечательным интеллектуалам всей той глубины драмы, которой так встревожилась «простая» душа Белова? Как можно было только умиляться Беликовым, чуть «не расколовшим котелок» случайному прохожему и не испытавшему по этому поводу никаких особых угрызений совести, лишь благосклонно и снисходительно принявшему от своей жертвы досрочное освобождение? И всё это, наверное, потому что чувствует острым своим чутьём юный «герой» нашей грядущей истории, что наступают его времена, и именно перед ним расстилается «светлое» будущее...
И не то чтобы в этом приближении нового времени был виноват какой-то неплохой парень Беликов, больше плывущий по течению, которое помимо него и Белова уже объективно формируется тем общественным раздраем, который так точно чувствуется Абдрашитовым. В его картинах всё более громко и отчётливо начинает сигналить драма смещённых с пьедестала и девальвированных общественных ценностей, на которых возводилось советское государство, не сумевшее или не пожелавшее разобраться внутри себя в причинах того общего сбоя, который на своей шкуре пережил вроде бы простой и «наивный» работяга Белов. Но ещё - не забудем! - мастер специфического вида спорта, называемого охотой на лис и предполагающего умение ловить в эфире сигналы, посылаемые противником, каковым становится для него его время - этакая простота без пестроты. Той пестроты сомнительных ценностей, которая совсем заморочила головы нашим былым интеллектуалам с наступлением перестройки, оказавшись такой востребованной тарабарщиной, скрывавшей подлинные разломы, столь разрушительные для нашего общества.
В самой художественной ткани «Охоты на лис» эта мысль запрятана глубоко в приметах обычной каждодневной жизни. Она не формулируется Абдрашитовым сколько-нибудь прямолинейно, преобразовываясь в правдивом столкновении двух очень живых характеров, узнаваемых до трепета душевного.
86
Искусное умение режиссёра точно соотносить людей со средой их обитания является ключевым в его методе работы. Советскому времени, изображённому в фильме, принадлежат как разрушенная церковь (нечастая примета советских фильмов), так и неплохо функционирующий ещё заводской цех, который станет полем битвы в «Магнитных бурях». Как неприветливая пустота книжного прилавка, так и огромный зал нового кинотеатра. Вечной России принадлежит сиротливая и безалаберная бедность с её ободранными зданиями, облупившимися казёнными стенами холодного судопроизводства, малая обустроенность огромного пространства, протоптанного всё более тропинками да отдельными ухабистыми дорогами. «Завоеванием» нового послевоенного времени на этом пространстве можно считать лишь блочные многоэтажки с вожделенными отдельными квартирками со всеми удобствами, обустроенными почти одинаково и с относительным довольством. И застолья, традиционно щедрые нашими «богатыми» русскими пирогами, колбасой и салатами «оливье», которыми порой не только водку закусывают, но и «кислое» вино, как увидим в фильме, по случаю...
Действие «Охоты на лис», как и большинства последующих картин Абдрашитова, происходит в узнаваемом пространстве этих маленьких среднерусских городков, населённых нашими среднестатистическими жителями. Провинциальные места и местечки, расположившиеся в отдалении от Садового кольца, становятся барометром, характеризующим общественную ситуацию в стране. Это они посылают сигнал неблагополучия в тогда ещё реальном советском государстве, возведённом на ценностях, должных восприниматься тогда незыблемыми. Этим ценностям соответствует всей своей жизнью, следуя им по естественному желанию души, главный «строитель того общества» рабочий передовик Белов. Но именно ему предстоит осознать, столкнувшись с Беликовым и его друзьями, неожиданное для него пренебрежительное неприятие новыми молодыми людьми всех оценочных критериев его жизни. Хотя, конечно, не столь точно формулирует для себя простой советский гражданин настигшее его несчастье, которое определяется осознаваемой им разделительной чертой с новым наступающим поколением. Кто эти ребята, откуда они?
Белов впадает в сложное психологическое состояние, чувствуя себя обиженным и униженным каким-то мальчишкой. В умозрительном смысле этот вопрос остаётся для него и для автора открытым для размышлений и болезненно кровоточащим. Не формулируя даже для себя свою окончательную мысль, Белов ощущает всё происшедшее правильно и глубоко, глубже, увы, чем некоторые зрители этого фильма. Он поражён тщетностью своих усилий, направленных во спасение, как ему казалось, заплутавшегося Беликова, который посматривает на него чуть свысока и снисходительно, посмеиваясь непониманию Беловым всего «цимиса» жизни. Неужто парень посмел воспользоваться взрослым человеком только для досрочного освобождения, отвергнув всякое духовное наставничество и оставив его тем самым попросту в дураках?
88
Вот то необходимое, изнутри грызущее самоощущение, с которым остаётся натужно думающий свою думу Белов. Вот новое для него, глубоко потаённое внутреннее пространство, которое жжёт его изнутри, лишая былого покоя. Закравшееся подозрение враждебности новой грядущей жизни, не родившись, ворочается где-то глубоко-глубоко внутри его души и сердца. Это подозрение, так точно уже тогда освоенное авторами, скоро станет прозрением, которое посетит не только Беловых, но большинство из нас. В скором будущем! Оттого ещё так неточно тогда и в то время восприятие тем же большинством настоящего и прямо сказанного содержания «Охоты на лис».
А как трогательна и по-хорошему простодушна жена Белова в исполнении Муравьёвой, как слаженно её собственное внутреннее пространство, беззащитно открытое любимому супругу. Не златоусту, но крепкому мужику, за которого она опасается, которого ревнует, к которому до сих пор неравнодушна. Такие женщины цельно и глубоко чувствуют. А та внешняя «грубость» в отношении к жене и сыну, в которой некоторые критики снова всерьёз обвиняют Белова, из арсенала каких-то абстрактных категорий морали. «Неотёсанный» Белов скорее застенчив в отношениях с женой, неспособный ей что-нибудь объяснить в абсолютно новой для себя и внеположенной ему ситуации. Да, она, разобравшись что к чему, жалеет своего мужа и понимает его без слов. Маета да страдания терзали её, пока подозревала своего любимого в неверности. А что ещё подумаешь, коли так изменился и витает мыслями где-то на стороне?
Ведь до всей этой напасти, скрутившей её мужа, жили «как все». И, между прочим, очень даже неплохо. А теперь посетил её супруга тот духовный разлад, с которым оставит его в финале автор картины. Конечно, Белов не Есенин земли русской, но тот справный мужик, на которых, как говорится, земля наша держалась, если ещё и теперь держится...
Конфликт Белова обозначился теми обесцененными для Беликова ценностями, которым он, будучи на них воспитанным, простодушно доверился и воспользовался в своей жизни. Принял сердцем, выполнил всё, как надо, и в люди вышел. Так что был наш не слишком «простой» Белов, не освоивший «аристократических манер», доверчивым к преподанным ему истинам, оказавшимся вдруг нежизнеспособными, а потому неожиданно обманными... Ох, как тонко почувствовал он свою сущностную неуместность рядом со своим «подопечным» заключённым Беликовым. «Подопечным» ему лишь на бумаге и в правовых действиях, но не желающим воспринимать его достойным примером «для подражания». Ведь учили тогда народ, если не на «героических», то на «положительных» примерах, так почему более не кажется этот пример заразительным для Беликова? Почему не производит на него никакого впечатления пример добросовестного рабочего, хорошего семьянина, пьющего в меру и занимающегося спортом?
Глядя через тюремное окошко, куда определили Белова на свидание с Беликовым для его «перевоспитания», видит он волейбольную игру юных заклю
89
ченных. Видит он иную и, увы, огромную Россию молодых и несовершеннолетних преступников, в число которых, он и сам мог угодить в былые, детские и, видать, не слишком романтические годы... Ах, какая страшная и выразительная панорама лиц и характеров разворачивается перед нами на экране! Ошеломляющая и, кстати, продлённая в наши времена такими же новыми портретами тех же «героев» без роду и племени, которые живут по собственным законам и уже традиционно и привычно составляют всё более внушительную часть нашего населения. Но - подумать только! - Абдрашитов тогда сумел добиться разрешения снимать заключённых молодых ребят документально и в настоящей колонии. Ах, какой неожиданный для советского времени и впечатляющий документ, блестяще освоенный режиссёром и абсолютно органично вписавшийся в остальную художественную ткань. Кто виноват в этих изломанных судьбах? Отчего всё именно так? На этот вопрос тяжёлой думой отзывается совесть Белова, готового принять на себя ответственность за такого, как Беликов, что тот принимает с плохо скрываемой снисходительностью. Вот именно этого не сможет ни понять, ни пережить, в конце концов, герой Гостюхина, чья, действительно, вполне «правильная» жизнь неожиданно осложнилась совершенно новыми и трудно переживаемыми для него ощущениями...
Чувствует Белов, что остался в дураках со всеми своими «примитивными» жизненными приоритетами, но не может понять почему... Почему Беликову кажется правильным поменьше работать и при этом «зашибать» побольше денег любым путём? Почему для него лучше по кабакам «тащиться», чем спортом заниматься и рыбу удить? Почему собственный труд Белова и весь стиль его жизни более не уважаем этими мальцами, как внушалось тогда молодёжи на всяких собраниях и в тех немногих учебниках, которые он сам штудировал? Что случилось, когда вдруг оказался невостребованным его непоказной общественный и гражданский темперамент?
Вот такое наказание так или иначе жестоко настигло рабочего Белова за то единственное преступление, которое он совершил, замешкавшись и более не поспевая, оказывается, за безжалостной для него поступью времени, негласно отменяющего уже принятую им систему жизненных координат. Прозрение, как наказание для работяги, потерявшегося в той общественной казуистике, которая объявляла основной ценностью «труд на благо развития нашего социалистического общества». А молодым людям виделась к тому моменту совершенно другая приоритетная ценность, называвшаяся личным преуспеянием любой ценой и на свободном пространстве, не обременённом никакими показными лозунгами, отдающими фальшью и действенными теперь только для таких недотёп, как сам Белов, плохо ориентированных в этом новом времени...
Как же теперь, осознав всё это, жить человеку, продолжая соответствовать уже принятым им принципам, ставшим кровными, и соблюдая те писаные законы, которые уже выглядят в глазах новой молодёжи только смешными и нелепым, лишь дискредитируя их носителя? Это вам жизнь, а не «кино про войну», которое с таким удовольствием и пониманием смотрит Белов дома
90
по телеку, точно зная, кому сочувствовать и какой победе радоваться в ясном понимании, кто НАШИ, а кто ВРАГИ...
Подводя итоги «Охоты на лис», надо заметить, что по видимости нам была рассказана только обычная бытовая история с криминальным оттенком. Но за этой видимостью отчётливо просматривалась сложная картография времени, определившего конфликт между персонажами и вынудившего их стать, если хотите, идейными антагонистами на «баррикадах», прочерченных глубокими противоречиями, назревавшими в обществе. Противоречиями, свидетельствовавшими о том, что никакого особенного положения гегемонов де факто уже не существует, а престиж тяжёлой профессии придуман учёными умами, тогда как негласный магнит тянет туда, где крутятся деньги. Обо всём этом Абдрашитовым было сказано ещё тогда, когда никто не решился прочитать полный текст его послания или, как теперь говорят, меседжа. А ведь это был только 1980-й год!
Тем не менее это киноповествование выводилось режиссёром далеко за пределы обычной драматической истории потрясающими по выразительности и художественной точности кусками тренировочных пробегов Белова, мастера спорта по «охоте на лис», по лесам и долам нашей страны, троекратно прослаивающими основной сюжет. Каждый пробег, достойный отдельного самостоятельного анализа, по-разному «озвучивает» случившиеся события, становясь интонационно тем камертоном, означенным режиссёром, который расширяет смысл представленного нам действия.
От пружинящего и собранного, точно следующего цели первого пробега нашего героя до его нежелания в финале картины вообще ориентироваться далее в нашем «родном» пространстве, когда он, выражаясь спортивным термином, сходит с дистанции... Нужный камертон задаётся ритмом бега и звуков, ощутимо организующих действие по настроению и смыслам, ощутимых зрителем вкупе почти на биологическом уровне: от интенсивной пульсации крови в аорте до полной потери давления, выводящей Белова из игры. Само финальное действие, ритмизированное всё менее напористым и всё более вялым бегом, кажется определяется осознаваемым героем концом огромного драматического действа, в которое он был включён волею своего времени, определившего его судьбу и выводящего его бытовую драму прямо-таки на трагедийный уровень.
Беловых теснят подрастающие Беликовы. Отсидев свой укороченный срок в тюрьме, они готовы к дальнейшей жизни. А вот Белов оказывается сурово наказанным не каким-нибудь мордобоем, но так неожиданно нарисовавшимся ему и замаячившим перед глазами новым миропорядком, по-существу, выводящим его в тираж, как общественно значимую единицу.
Вот такая история...
Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым
91
А как тебе всё же удалось запустить картину? Неужели начальство ничего «страшного» для себя не почувствовало?
Почувствовало, конечно...
Но не очень понимаю, почему ты так называешь эту главу, хотя, конечно, твоё авторское дело...
Да, потому что, образно говоря, встреча с Беликовым пробуждает Белова от социально-общественного летаргического сна... Думал, определился правильно в правильном месте, но очнулся... а вокруг всё чужое, «гулял»-то, оказывается, уже не со своими, а совсем другими...
Ну, может быть... Когда ты пишешь о Белове, то говоришь о содержании «Охоты на лис», о том, что, действительно, не слишком понималось тогда нашими критиками... Мне интересно, когда ты пишешь, что, «вспоминая Камю, можно сказать, что даже не столько они становятся посторонними в этом мире - это не их мироощущение - сколько сам социум становится для них посторонним». Мне кажется, это точно и, наверное, относится также ко «Времени танцора», «Армавиру»... Именно не люди чувствуют себя посторонними в социуме, но социум их не принимает и отторгает...
Это очень существенно для замысла, о котором ты так точно пишешь. Хочу сказать вот что. Ведь режиссёр на разных стадиях работы, решая всякие проблемы, практически постоянно находится в состоянии мучительного дуализма. Представляешь и ощущаешь будущий фильм эмоционально точно, но это своё эмоциональное ощущение нужно объяснить простыми, грубыми словами всем тем, кто с тобой работает, оператору, художнику, актёрам... Но, формулируя задачу в слове, огрубляешь чувство. Ты же, когда пишешь о фильмах, наоборот, окунаешься в атмосферу фильма, формулируя затем вербально свои переживания и чувства, возвращая обратно результат воздействия на тебя картины. Это интересно. Есть вещи, которые я не смог бы сформулировать для себя, делая «Охоту», именно так, как ты это делаешь, говоря о социуме, постороннем для всех... Для меня применительно к Белову более отчётливо звучала тема краха идеологии гегемона.
Знаешь, Вадим, когда Белов так вяло бежит в финале, постепенно сходя со своей дистанции, то прямо рыдаешь... Вот тебе и крах! Как идеологии, так и самого гегемона...
Ну, а что касается молодых людей, то ты увидела в них то, что не заметили иные критики, а именно, что это отнюдь не побочный продукт времени, по
92
добравшийся уже к кассе... И заметь, этот фильм делался ещё в 1979 году, когда никто слишком серьёзно ко всему этому не относился. Так, отдельные погрешности жизни...
Вот ты цитируешь здесь кого-то из режиссёров, воскликнувших тогда, что «на небесах светится только одно слово - ОБОГАЩАЙТЕСЬ!» Мне тоже приходилось такое слышать... Значит эта идея всё же витала в воздухе...
Наверное... но я, как дитя того времени, была крайне смущена... Мне хотелось тогда социализма с человеческим лицом, но я была очень антибуржуазна и меня совершенно не устраивала перспектива такого развития...
Да, всё это в полной мере возникнет позднее. Но картина эта уже тогда имела весьма тяжёлую биографию.
Возвращаясь к сценарию, в котором было много достоинств при чисто внешней непритязательности, отмечу ещё раз подчёркнутую простоту сюжета. Но простая история позволяет аккомпанировать себе совсем непросто, объёмно, насыщенно, потому что внешне незамысловатый сюжет, как каркас, всё равно сохраняется. Поэтому можно было без ущерба для него ввести всё это обилие пробегов, музыки, красоту русских пейзажей, их цвет, осенний, зимний... Можно было наполнять эту картину природой... Это всё то, что подсказала жизнь... Скажем, когда снимаешь пробег по лесу, то он становится не просто одной из сюжетных «тем», но самим содержанием... Потому финальный уход героя в этот лес, куда-то, полнился тем смыслом, который тебя, как ты говоришь, поразил...
И тут надо сказать, что, как автор сценария, Миндадзе весьма ответственно относился к своему делу, к сценарию.. Но не упирался и не цеплялся за написанное, как это бывает с иными сценаристами, но был чуток и подвижен к реалиям, которые в съёмки всегда привносит жизнь. «Привносит» в буквальном смысле этого слова - то есть погода, место действия, сроки съёмки, конкретность данного актёра. Не какого-то там задуманного, умозрительного героя, а вот этого, который снимается и требует для себя, конечно, корректировки написанного. Сценарий никогда не был для Миндадзе догмой, но руководством к действию. Он всегда отслеживал взаимодействие сценария с реалиями съёмок, работая над сценарием вплоть до сдачи картины. Творчески гибким был во время работы.
Вот идёт, например, перезапись, а ты вдруг чувствуешь, что зазвучавший музыкальный кусок совершенно по-новому окрашивает эпизод, заставляя его продлить, или, наоборот, сократить. Во время перезаписи возникают какие-то дополнительные, неожиданные нюансы в уже знакомом материале, за что я люблю этот процесс, когда никого уже нет вокруг, а ты один на один с материалом... и звук вот этот, соединяемый с изображением...
Помню у Тарковского, это тоже был любимый период работы...
94
Это самое замечательное время в работе над картиной. Написание режиссёрского сценария и перезапись - вот два самых лучших момента! Потому что, когда ты пишешь режиссёрский сценарий, то как бы снимаешь в голове некий идеальный фильм. А когда идёт перезапись, то на твоих глазах что-то такое оживает, возникает какое-то особое дыхание. А новые реалии требуют каких-то перемен в сценарии, это нормальный рабочий процесс. Требуется - как бы это сказать? - приспособление сценария к уже реальному фильму...
С опытом стало ясно, что режиссура требует, помимо организаторских способностей, необходимых для съёмки фильма, и, конечно, умения удержать и довести замысел до конца, ещё одно важное качество... Даже не знаю, как его сформулировать.... Важно не навредить живому уже плоду, понимаешь? Вот были у тебя какие-то представления о том, что должно получиться... но жизнь эти твои представления подправляет уже реальным материалом, каким он уже есть. И здесь очень важно вовремя почувствовать этот рождающийся живой организм и не навредить уже реально прорастающей картине. Быть чутким, чтобы не искалечить плод, потому что иногда, вмешиваясь, можно ему навредить.
Скажем, ты хотел работать с одной актрисой, а получилось, что нужно работать с другой. И вот всматриваясь в материал уже с другой исполнительницей, обязан понять, что теперь всё нужно делать чуть по-другому, соответственно ей выстраивать другое пространство её существования на экране. Думаю, это принципиально важный момент. Очень непростой и ответственный, особенно тогда, когда сидишь в экспедиции и снимаешь первые две-три недели, а потом материал уходит на проявку в Москву. И возвращается... И вот тут гляди в оба, куда идёт картина с этим конкретным оператором, на этой натуре а, главное, вот с этим актёром, например, с Гэстюхиным?
Очень важно при этом, чтобы сценарист тоже все эти вещи понимал. Необходимо прислушивание к материалу во время работы. Это очень ответственное дело - проследить, чтобы картина при всём при этом не ушла куда-то в сторону. И мы со сценаристом всегда этот процесс отслеживали до самого конца работы. Мои режиссёрские сценарии все исписаны новыми текстами, ремарками, где-то добавлены реплики, где-то убраны... мы постоянно над этим работали. Вообще-то это и есть работа над сценарием.
Бывало, вылетали целые куски. Например, в картине «Остановился поезд», когда стало понятно, что Борисов и Солоницын сыграли настолько объёмных персонажей и создали столь выразительные образы, что сценарно за-мысленное их прощание в финале было... не нужно. И як удивлению директора картины отменил съёмки двух сцен. Так подсказал материал, то есть рождающаяся картина.
«Охота на лис» была написана для другого режиссёра и попала ко мне через Ленфильм практически в завершённом виде. Только некоторые вещи уточнялись по ходу дела. Например, вся история с колонией была сделана по-другому. Новая конструкция пришла в голову тогда, когда я увидел колонию
95
собственными глазами. Она диктовалась, в первую очередь, конкретным жизненным материалом и конкретностью актёра.
По- особому остро чувствовал свои возможности великий Олег Борисов. Он брал свой текст и говорил: «а можно вот здесь запятую перенести? Потому что смотри, что здесь получается ритмически - тра-та-та... тра-та-та-та-та»... Вплоть до запятых! И мы следовали, конечно, его пожеланиям... Поразительно, как тонко он чувствовал все вещи, очень чувствовал...
Может быть, потому, так по-особому выразительно звучат везде диалоги, они прямо ложатся на слух...
Также с Гэстюхиным менялись какие-то реплики, фразы... Много чего подсказала жизнь в «Охоте на лис», безусловно... Повезло, что на выборе натуры мы наткнулись на этот разрушенный храм... Мне кажется, этот эпизод с храмом и «лисой» кое-что даёт картине серьезное.
Вообще, я не думал, что «Охота» окажется столь насыщена замечательными пейзажами, разных сезонов, разной тональности и красок. Природа вдруг стала слагаемым смысла фильма, приобрела содержательность!
Умозрительно картина представлялась более интерьерной, более пространственно замкнутой. Но просмотр первого же материала подсказал, уточнил, расширил экран. В него настойчиво входила природа: лес, поля, речка, просёлки... И стало ясно, что раз картина начинает требовать расширения объёма, более широкого выхода на природу, надо ей подчиниться и поправить замысел. Надеюсь, что это фильм обогатило, вошло в него существенным слагаемым...
Эти пейзажи столь лирично снял замечательный оператор Юрий Невский. «Охота» - его несомненная творческая удача. С ним мы сделали много картин. И весьма разных. Он и «Поезд» снимал, и «Охоту», и «Танцора», и «Пьесу»... Он очень хорошо умеет снимать актёров. И наш Белов прекрасно изображён Невским.
А как вы нашли Гостюхина?
Мы так долго искали актёра на роль Белова, что катастрофа уже близилась... Тогдашнее производство свято требовало полного соблюдения времени и сроков. А мы всё продолжали искать, говоря, что нужен как бы молодой Шукшин. Легко сказать! В итоге никого не было, хотя у меня на пробах перебывало много претендентов на эту роль... Но какая-то в них была неубедительность... ну, не то, не то, не то... Нет актёра и всё! Хотя перебирали уже и в Питере и в Свердловске... Тогда всё это работало слаженно, инфраструктура была крепкая, несмотря на отсутствие e-mail’а и интернета. Пересылали фотографии, подсказывали, мол, посмотрите там-то, в той-то картине, в том спектакле... Но ничего не помогало...
И вот мы едем с картиной «Поворот» на Всесоюзный кинофестиваль...
96
Помнишь, был такой замечательный фестиваль, ежегодно проходивший по столицам тогдашних республик? Ехали мы тогда ночным поездом в Ригу. Фестивальным было отведено два вагона, забитых народом со всей страны... Путешествие, конечно, превращалось в одно большое дружеское застолье: многие учились вместе, где-то вместе работали, с другими давно не виделись... Ясно, что ложились, и вставали, конечно, поздно...
И вот, когда утром я вышел в коридор, то в вагоне было ещё тихо, все спят, начало мая, вот такая погода за окном солнечная, тёплая, как сейчас... А из Москвы выехали - был какой-то дождь... А тут за окном какой-то такой радостный, праздничный пейзаж... ну, просто сама жизнь, весна! Разгар весны... Никого нет, и только у одного окна стоит сумрачный человек и, нахмурясь, смотрит на эту природу с тяжеленной мрачностью.
Меня просто потряс этот замечательный стык праздничного пейзажа и мрачности этого человека... Как-то по-особому он смотрел на всю эту красоту за окном... Странно... Чёрт, жаль, что это не актёр... Ведь тогда Гэстюхина ещё никто не знал. Не актёр, думаю, но очень похож на то, что нам нужно... Может какой-нибудь оператор, директор? Возвращаюсь в наше купе и говорю Миндадзе: «Пойди посмотри, в коридоре стоит наш настоящий Белов. Посмотри на него!» Тот посмотрел и говорит: «Ну, точно! Не актёр, конечно, но похож...»
Но это был как раз-таки актёр, и тоже ехал на фестиваль с картиной «Восхождение», которую ещё никто не видел. Поэтому Гэстюхина не знали, к на актёра он не был похож вообще.
Как раз из-за этого, случалось, что во время съёмок «Охоты на лис» охранники не пускали его на съёмочную площадку... Знаешь, как вокруг съёмок толпятся всякие любопытствующие люди... Он подходил в своей беловской рубахе, а его милиционеры не пускали: «куда, куда это ты? иди отсюда...» -« Я артист, здесь работаю...» - «да, пошёл ты, артист.......
Так что у нас появилась надежда. Мы познакомились, показали ему свой «Поворот» и посмотрели на фестивале «Восхождение» Ларисы Шепитько. Он замечательно сыграл роль Рыбака, а там есть, что играть! Шекспировского размаха роль.. Очень мощно сыграно! Они с Плотниковым по Риге всё парой ходили и, подшучивая над ним, Гэстюхин называл его «альпинистом», потому что, мол, «восхождение»...
Белов был найден. Рассказали Гэстюхину про сюжет, про замысел... Но с трудом... Непросто было сформулировать актёру всё то, что замысливалось. Кто и что его герой? Но я сказал ему так: «Знаешь, ты видел медведя в зоопарке? Вот чего он маячит, шатается туда-сюда? А он не понимает, что он в неволе. Не понимает, что в клетке, но эту неволю, эту клеть чувствует, чувствует он что-то... Вот так и твой герой будет маячить по картине... Вот, собственно, и всё!»
И стали мы с ним работать... Теперь нужно было подыскивать ему жену, потому что с супругом определились. Возникла идея позвать Муравьёву, которая тогда только что засветилась в «Москва слезам не верит». Конечно, это было не прямое решение... Другой каскад, другая палитра... Я даже сомневался
97
вначале. Но провели пробы и увидели, что всё сладилось, смотрятся они вместе интересно...
Их супружеская пара настолько органична в картине, что сейчас даже не понятно, в чём можно было сомневаться...
Да, именно такая естественная пара получилась... как раз то, что было нужно, чтобы появилась, так сказать, соответствующая степень условности...
Нашли молодых «хулиганов» - Нефёдова и Харатьяна, и поехали в Серпухов, на Оку, в эти замечательные места. И как-то дружно, активно начали снимать.
Но судьба «Охоты на лис» оказалась весьма суровой! Что с ней делали!..
И что же? Хотя удивительно, что эта картина вообще могла появиться...
Нам всё время давали поправки. Я отказался делать те, что уже ломали картину. Есть поправки, которые картину царапают, а есть те, которые её уже ломают.
Ну, да, я помню эту известную историю иссечения из «Охоты» предфиналь-ного куска драки между Беликовым и Беловым...
Да, какой был эпизод! Но у нас хотели вырезать шесть эпизодов! Я в очередной раз ничего не сделал для правки, после всяких худсоветов, обсуждений, совещаний. И... был вызван наверх, к генеральному. Сизов сидел в кабинете, перед ним лежал подготовленный приказ и авторучка. Он сказал - «читай приказ». Я читаю: «За невыполнение... отказ... снять с картины и уволить режиссёра Абдрашитова». Понял? - Понял. - Я подписываю. Сизов спрашивает: «Почему?» Я отвечаю, что не могу калечить картину. Но он говорит, что не может без поправок сдать картину. «Ясно?» - «Ясно!». И ждёт ещё от меня чего-то... Ждёт... И подписывает приказ о моём увольнении. Всё? «Всё. До свидания» и пошёл. А он говорит вслед: «Сердца на вас всех не хватит...». Так сказал, по-человечески - «сердца не хватит»...
А я оказался на третьей картине уволенным с киностудии «Мосфильм». Все вздрогнули. Мне звонят, в том числе так называемые «вражьи голоса», не хотите ли прокомментировть вашу ситуацию? Я молчу. Пауза. Проходит день. И приказом по студии создаётся «зондер команда» во главе с Райзманом. С картины убраны те монтажёры, с которыми я работал, а новым монтажёром назначена парторг монтажного цеха,славная, милая женщина, которой выдан гигантский перечень поправок, сочинённых Павлёнком. Был такой зам у министра, известный человек, много вреда принёсший отечественному кинематографу. Он бесновался, партбилет свой бросал на стол, такие спектакли устраивал. Чего только не пробовал... Тем более, что это был для меня первый скандал такого рода. Ну, было выкручивание рук, но не до такой степени.
А тут создана уже команда. Монтажницы мои отказываются делать по
98
правки без меня. Их убирают приказом по цеху. Звонок телефонный ко мне домой и плачущий женский голос говорит: «Вадим Юсупович, поймите меня правильно... Что делать? Меня приказом обязали, вот буду резать вашу картину»... Плачет... страсти вокруг, страсти... Денег никаких нет, зарплату мне попридержали. Д тут Райзман чувствует себя оскорблённым, что под списком поправок использовали его имя, включили в зондер-команду, требует переписать приказ.
Но вот уже и поправки все сделаны, шесть эпизодов вырезаны, и приказы выполнены, и везут эту новую копию показывать в Гэскино министру, Ерма-шу. Отказываюсь ехать с этой картиной, это не мой вариант, и я уволенный. Везут без меня. Но, несмотря на то, что поправки были даны его замом, Ер-маш приходит в неистовство - «Вы что мне привезли? Это что за обрывки? Сюжет непонятен, ничего не ясно! Если поправлять, то делайте как-нибудь с умом!»...
Фильм возвращают на студию, и я чувствую, что чего-то там у них не получается... Что-то такое там наверху происходит... Видно, не всё так просто... Ещё один день проходит. А на четвёртый день мне передают, что меня вызывает Сизов. Прихожу к нему и первое, что он меня спрашивает - «ты не давал какие-нибудь интервью нашим врагам, вроде «Свободы?» Я говорю, что нет, всё сижу и думаю, как сделать поправки. То, что вы предлагаете, у меня как-то не получается. А в сделанном фильме я вроде бы ничего страшного не вижу, всё то же самое уже было в других фильмах. Про концлагеря было... А у нас просто колония, в которой ещё спортивными мероприятиями занимаются... Ну, что здесь крамольного? Но никто так, как я не пострадал - меня-то вы рублём наказали и увольнением... А за плечами, скажу тебе, был уже печальный опыт сдачи «Слова для защиты». И специальный худсовет уже созывался, и некоторые коллеги уже потоптали нас ногами.,.
Тогда Сизов говорит: «Езжай сам сдавать картину министру». И мы поехали, я взял свой вариант. Сели в зале, пошла проекция. Показываю: «Вот сцена в магазине. Её хотят вырезать... вот здесь тоже, и это...» - «Не знаю, - говорит - можно и оставить, ладно....... И доходим, наконец, до эпизода этого самого избиения перед финалом после ресторана, а я на голубом глазу спрашиваю: «Ну, и что тут такого? После ресторана обычная драка...» Зажигают свет, и Ермаш говорит: «Значит так, у меня есть замы, у них претензии к картине, и я не могу совсем ничего не предпринять после их замечаний» - Но, как я могу шесть эпизодов вырезать? - «Решайте, решайте, какой вырезать»... Понимаешь, да?
Ещё бы! Всё понимаю, конечно...
А мне что делать? Все эпизоды сюжетные. Но нужно вырезать - один! Доходим до того, что мне предлагается вырезать либо эпизод игры в волейбол в колонии, либо вот это избиение - «решайте до завтра!» Такой выбор...
99
И мы приняли решение: оставить волейбол и вырезать драку, сюжетную единицу, оставив шрам, который, конечно, виден до сих пор. Но уверен, что это было правильное решение! В оставшемся эпизоде в колонии, эпизоде как бы внесюжетном, на самом деле заключено гораздо более существенное, тогда как избиение в каком-то смысле и предопределено всем предыдущим и поэтому понятно, эпизод равен самому себе... Хотя это был очень хороший эпизод... Они уходили из ресторана, чего-то там балагурили, выпивши, и вдруг - раз! и Белов получает снежок в спину... Помнишь, он сам запустил снежок в вышедшего из тюрьмы Беликова? А теперь снежок возвращается Белову... не специально, а так просто, играя, и даже не в него специально... Он поворачивается, а это Беликов - ну, ты это чего? И начинает... и пошло... И вдруг всё это переходит в драку... и было это очень хорошо сыграно! На втором или третьем ударе Беликов падает, и вся эта шпана угрожающе окружает Белова, а Беликов, лёжа на снегу, и отплёвываясь кровью, останавливает их, мол, сам я виноват... И уходит Белов, уходит в темноту парка, как сам побитый. .. Хорошая сцена! Ты представляешь, чего нам стоило на это решиться? Но выхода не было. Надо было спасать картину.
Кстати, недавно Гэсфильмофонд уговаривал меня вставить обратно эту сцену драки между Беловым и Беликовым после «мирного» ресторанного застолья... Но я не знаю, зачем это делать теперь, когда картина уже состоялась в том виде, в котором она есть...
«Охоте» дали какую-то низкую категорию, наказали рублём... Но картина всё-таки шла... пускай третьим экраном, но по тем временам это было достижением... Хотя не было никакой рекламы, ничего не было, фильм замалчивался... Хотя несколько хороших статей появилось, конечно, немного по-эзоповски написанные, но, в общем, фильм к внимательному зрителю пробивался.
Неожиданно мне звонят: «Собирайтесь с «Охотой на лис» на Международный кинофестиваль в Сан-Ремо». Как это, что? Как могла эта картина всплыть? Ничего не понимаю.
Но, на самом деле, большой привет за это моему другу, кинорежиссёру, Али Хамраеву. Он с какой-то своей картиной уже был на этом замечательном фестивале авторского кино в Сан-Ремо.. По тем временам это был просто классный фестиваль, на котором я потом побывал дважды...
Надо же... Я тоже была в Сан-Ремо со всей семьёй и топтались там на открытой концертной площадке, расположенной наверху, где довольно регулярно выступал Рихтер...
Как обычно бывает, незадолго до фестиваля, в Москве работал отборщик, эмиссар из Сан-Ремо, смотрел какие-то предлагавшиеся ему картины. И совершенно случайно в ресторане Дома Кино он встретился со знакомым ему Хамраевым, которому рассказал, что не может найти картину для своего фестиваля...
100
Ну, да, место встречи изменить нельзя...
И Хамраев подробно рассказывает ему об «Охоте» и истории с ней. Тогда этот отборщик заявляет начальству Госкино, что решил взять на фестиваль картину Абдрашитова «Охота на лис». Там растерялись, не поняв, где тот успел увидеть фильм, и откуда такое решение? Отборщик настаивал.
И, как понимаю, начальники решили, что легче картину туда отдать, чем затевать очередной скандал. Таким образом, «Охота на лис» ещё и за рубеж попала. Так что потом о ней много писали, особенно, как ни странно, венгерская критика... Также проявили внимание итальянцы. Я получил приз за режиссуру, а Гэстюхин - за роль. Фестиваль небольшой, а критика была обильной, писали серьёзные журналы... Так что с «Охоты на лис» к нашим работам возник фестивальный интерес. А в следующий раз я привозил туда же «Остановился поезд»...
Ну, конечно, после того, как ты засветился и имел успех тебя уже пасли...
Да, пасли... Потом будет похожая история с «Парадом планет»... Хотя намного круче. Выкручивать руки и топтать картину будут уже девять месяцев... Но это позже...
Надо сказать, что в сценарии «Охоты на лис» есть одна замечательная догадка! Вначале герой занимался хоккеем. Но потом Миндадзе превратил в хобби героя «охоту на лис». Конечно, очень выразителен человек, бегающий в наушниках и ловящий какой-то сигнал. Мне кажется, что в картине этот образ работает достаточно внятно, всякий раз важно как он бежит и с каким лицом... И, кстати, эта разрушенная церковь, откуда он принимает самый главный, последний сигнал... Увы, от «лисы»...
Да, Церковь! Я бы даже сказала не церковь, но, увы такие органичные для наших бедных русских пейзажей остовы церкви, вписанные в «индустриальный» сельский пейзаж с какими-то раздраенными сараями, складами что ли... Здесь много всего... Очень много...
Очень точно, мне кажется, написано у тебя про все эти пробеги Белова, и ты права в полемике с критиками, утверждая, что действия Белова совершаются, конечно, «вопреки покорности»... Мне тоже кажется странным говорить о «тупости» Белова, человека с характером, личности... Про жлоба была бы совершенно другая история. Именно поэтому, надеюсь, то, что происходите картине, эмоционально трогает зрителя. А крупный план Гэстюхина, который ты выделяешь, между прочим, также очень нравился Райзману, полагавшему его лучшим в моих картинах по соразмерности всех компонентов...
А церковь, которой не было в сценарии, нашлась, как это бывает в кино, сама, в нужный момент и оказалась очень важным, необходимым слагав-
101
мым... Также неожиданно попались на глаза ребята в колонии, игравшие в волейбол, когда снимали встречу Белова с Беликовым в реальной колонии в Алексине-на-Оке... Там единственным актёрским лицом был Нефёдов, который абсолютно вписался в окружение, слился со всеми этими «настоящими» лицами, словно он был оттуда... Хотя, должен сказать, что соединение игрового материала с хроникальным дело сложное...
Об этом я как раз пишу в тексте... Документальное с художественным плохо стыкуются в одном пространстве. Тем не менее эти стыки совершенно органичны не только в «Охоте», но и в «Остановился поезд»... А вот я думаю, за счёт чего?
Да, в «Охоте на лис», как ни странно, это соединение и вправду случилось нужным образом... Материал был такой, экзотический... мальчишки играют в волейбол в колонии... В сценарии была панорама по быту, а реальная жизнь подсказала эти соревнования по волейболу. Приехали в колонию и увидели волейбольную сетку. Как же это может быть интересно! Играют малолетние зэки, а кто-то за них болеет, переживает... Это же целый спектакль может получиться. И об очень многом!..
Так оно, надеюсь, и вышло, и включение кадров, снятых в настоящей колонии, выглядит в «Охоте на лис» органично, шов не заметен... Бритый наголо Игорь Нефёдов - Царствие ему Небесное! - вписывается в портреты настоящих заключенных подростков... Возникает, мне кажется, сложное чувство. Как это всё будет? Куда это всё двинется дальше? Что будет с этими подростками?
Так все тюремные сцены снимались в реальной тюрьме?
Ну, конечно, все тюремные сцены были там сняты...
То есть ты хочешь сказать, что в натурном интерьере также была снята комната свидания? И вообще все интерьерные съёмки в тюрьме не павильон, а натура?
Конечно. Белов там подходит к реальному окну и видит за ним реальные толпы зэков. Да! Когда мы поехали в колонию, то именно там увидели реальную комнату свиданий, как одиночных, так и коллективных...
То есть и эта комнатка, в которой они спят?
Да. Всё там натуральное, хотя было трудно оператору со светом... Зато есть полное ощущение живой фактуры, всё реальное... И коридоры, и вход в здание колонии, и эти ворота с телегой и лошадью...
102
А все фактуры, которые я обожаю, в «Остановился поезд»? Вот эти гостиничные стены, наполовину крашенные нашей любимой синей (зелёной?) краской? Это разве не специально подготовленные Кабаковым (шутка!) выгородки или павильоны? То есть все внутренние съёмки ты делал в реальных интерьерах хочешь сказать?
Конечно. В «Остановился поезд» нет ни одного павильона.
Как здорово! Я не знала...
В «Охоте на лис» павильон - это квартира Белова. Там много сцен, поэтому весь комплекс квартиры был построен. Всё же остальное - была реальная натура, которую снимать очень сложно. Поэтому очень важно, что на картине работали замечательные мастера - художник Владимир Коровин и оператор Юрий Невский... Они умели хорошо видеть и перевоссоздавать в кадре все эти фактуры...
Да, фактуры все там и впрямь безупречно работают...
И в «Остановился поезд» только натура...
То есть вся гостиница внутри тоже? То есть и коридоры, и эти стены, наполовину крашенные краской, и сами номера?
Да. И, конечно, все заводы, фабрики, депо, конторы... По-другому, по-моему на этих картинах и быть не могло. И наоборот - кое-что так вошло в картины, что вернулось в реальную жизнь.
В сценарии «Охоты» был другой финал. Но мне стало ясно, что должен быть какой-то грандиозный спортивный праздник, как бы местная Олимпиада, где будут все: и мотоциклисты, и байдарочники, и бегуны, и стрелки... И, конечно, охотники на лис... И мы сделали этот праздник - с самолётами, листовками, военным оркестром ...С неизменными полотнищами «Спорт-массам!» - это когда спорт превращается чуть ли не в национальную идею во времена краха других идеологий и смыслов... И вот с этого праздника уходил наш герой.
Но этот праздник так понравился в Серпухове, что ещё лет 30 он проводился там по нашему сценарию. Так и вошёл в жизнь города.
А для «Остановился поезд» был придуман обряд прощания с героем-машинистом. На поворотном круге перед депо был установлен гроб с телом героя, и под прощальный марш оркестра и гудки локомотивов он совершал последний оборот, прощаясь со всеми. Снимали этот эпизод на железнодорожном узле в Малоярославце. И это было достаточно выразительно. Так, что обряд этот вошёл там в жизнь и в ней остался.
103
Недавно Мосфильм открыл сайт, на котором можно по интернету посмотреть мосфильмовские картины. Так вот, по статистике, как мне сказали, «Охота на лис» бывает очень часто востребована. Не знаю, кому это нужно в наше время?
Отчего же? Когда я показываю твои картины своим друзьям, то они смотрят их с огромным интересом, а недавно моя приятельница Нина Акимова прямо-таки рыдала над «Охотой на лис»... Всё это документы и свидетельства времени. Это так страшно! Но это всё наше, моё и деваться от этого некуда...
Дальше ты переходишь к «Остановился поезд»... Но вообще-то, заканчивая «Охоту на лис», мы уже начинали думать о «Параде планет». Именно о «Параде планет», а не об «Остановился поезд», который последовал после «Охоты».
А случилось вот что. В Серпухове в единственном в городе ресторане на вокзале мы снимали предфинальную сцену, когда в ресторан приходит Белов и где подростки сидят всей своей честной компанией. И при желании можно разглядеть в некоторых кадрах этой отснятой сцены, что за окном ресторана идут составы с гружёнными на них зачехлёнными танками.
А снимали мы эту сцену 28-29-го декабря 1979 года! И сняли её последней в последний день съёмок.
После этого мы, конечно, там же в ресторане отмечали это событие, последний съёмочный день, и утром с Миндадзе поехали в Москву. Купили свежие газеты, открыли их, а там - обращение Бабрака Кармаля к советскому народу с просьбой оказать интернациональную военную помощь братскому афганскому народу. Началась Афганская Война. Танки шли туда, на юг. И эти танки остались в финале «Охоты».
И стало ясно, что ни с каким «Парадом планет» нас сейчас не запустят. Стало ясно, что в новой ситуации будут непонятны и неуместны какие-то гражданские мужчины, с охотой, надевающие на себя военную форму. Ну, не запустит сейчас никто такой фильм! И мы прямо с вокзала, после ночного праздника сразу поехали в Гэскино, где наши предположения подтвердились, все были в курсе всего, и наш фильм с какими-то военными сборами был совсем некстати.
Настаивать, как ты понимаешь, было бессмысленно. Мы решили подождать. Но время шло, и приходилось задумываться, что же делать дальше? Ведь мы были вплотную заняты работой над «Парадом».
У Миндадзе был дипломный сценарий - «Смерть машиниста».
ПРАВОВОЕ В БОРЬБЕ С «ГЕРОИЧЕСКИМ»
«Остановился поезд» -1982
|_|
I 1ачало следующей картины Абдрашитова «Остановился поезд» так же интригующе драматично, как и начало предыдущей «Охоты на лис». Там было, как мы помним, совершено хулиганское нападение, виновников которого милиционеры вместе с потерпевшим разыскивают в темноте парка. В новой картине пассажирский железнодорожный состав с мирно спящими пассажирами неожиданно тормозит на большой скорости так, что они слетают со своих полок. Что такое случилось и кто виноват в этой нештатной ситуации? Как скоро выяснится, опасной до такой степени, что спящие пассажиры вполне могли не проснуться вовсе, оказавшись жертвами случившейся катастрофы, в результате которой, как скоро выяснится, погиб только(!) один машинист. Станет ясно, что причиной этой аварии стали сорвавшиеся с крепления платформы, произвольно двинувшиеся навстречу составу. Но кто виноват в том, что эти платформы
105
двинулись? Для выяснения всех обстоятельств этого происшествия в маленький городок поселкового типа, где расположилось депо, приезжает из областного центра следователь, чтобы определить виновников этого драматического события. Кажется, что ему предстоит, вроде бы, вполне рутинная работа, но с течением фильма становится ясным, сколько скрытых и явных сил будут препятствовать её нормальному течению...
Следуя за процессуальными действиями присланного в городок следователя Ермакова (О.Борисов), нам придётся много раз задаваться самыми неожиданными для себя вопросами. Что же всё-таки мы понимаем в том, что творится (или творилось?) в нашей стране за околицей нашей собственной жизни? Как и что рулит нашей судьбой через разного рода сделанные предпочтения теми, кто оказываются связанными между собой какими-то интересами разного рода? Где же после этого располагается зона тех вызревающих (или традиционных?) общественных идей, которые определяют как «героев», так и жертв этого скорее взаимозависимого и взаимосвязанного сообщества, нежели общества, состоящего из отдельных и независимых индивидов?
Странной жертвой своего времени в фильме «Остановился поезд» окажется уже не только наш гегемон, рабочий Белов, как это случилось в «Охоте на лис», но и обыкновенный следователь, должный обеспечивать законный правопорядок. Неуместной оказывается излишне старательная деятельность слишком упорного областного следователя Ермакова, пытающегося при всё возрастающем сопротивлении рабочей глубинки, где расположилось депо, разобраться в подлинных причинах крушения поезда и назвать виноватых. Нет, всё-таки не любит наш народ, как и Белов в «Охоте на лис», всяких-разных следователей, прокуроров и прочих адвокатов. Ну, не в чести они у народной молвы, созидатели которой слишком часто в нашей истории побывали за решёткой винно или невинно, грустно затягивая родное - «взгляни-взгляни в лицо моё суровое, взгляни, быть может, в последний раз»...
Ну, что делать? Многие особенности истории нашей страны не располагают к доверительному отношению большинства людей к судопроизводству. Так что неслучайно, как мы помним, в «Охоте на лис» речь адвоката, защищавшего одного из соучастников преступления, кажется Белову насквозь фальшивой, что послужило дополнительным катализатором его решимости к собственным действиям. По его понятиям, не может проплаченный адвокат честно защищать преступника, нагло «выгораживая» его, чтобы добиться неправедного приговора.
Так же и в новом фильме. Легче списать случившуюся аварию (повлекшую за собой, в конце-то концов, только досадную смерть машиниста) на нелепую случайность - и дело с концом, нежели добиваться всяких правовых санкций, отыскивая каких-то виноватых. Зачем? Как у нас говорят, «мёртвого не вернёшь». А дотошные всякие поиски непосредственно виноватого, как выясняется, касаются всего населения в крошечном посёлке, где все знают всех и зависимы друг от друга. Всякое внедрение извне нарушает общий, привычный
106
сложившийся стиль жизни и устоявшийся расклад сил, к которому уже привыкли или притерпелись поселковые жители давно пораднённые обще советским образом жизни.
А существование в советских раритетах естественно предполагало извлечь из смерти машиниста какую-то идеологическую пользу, увековечив, например, память о погибшем мифом о его героическом торможении и готовности прикрыть пассажиров своим телом тогда, когда его напарник трусливо «катапультировался»... Благодаря этому на глазах возникающему мифу о подвиге машиниста Тимонина, можно спасённым им пассажирам сразу вслед за аварией ещё пофилософствовать в вагоне-ресторане за рюмкой водки о чуде вовремя приторможенного поезда, задаваясь извечным «подлым» вопросом: «Его нет, а мы живы и будем жить. А стоим ли мы все этой жертвы?»
Ой, как любим мы чудеса! Но не любим копаться в разных мелочах, даже на краю обрыва задаваясь всё теми же вполне риторическими вопросами о смысле смерти и бытия, не желая или не умея более ощутимо воздействовать на текущий жизненный процесс. Любит русский человек поразмышлять над судьбой, побалагурить за рюмкой... так просто, для гимнастики ума... А порой, как показывают события этого фильма, имея вполне трезвые и ясные намерения...
О случившемся по мере сюжетного развития фильма размышляют как потенциально виноватые, так и наблюдающие всю эту историю со стороны, сообща сомневаясь в необходимости искать и наказывать виноватых. Почти всем кажется гораздо более предпочтительным использовать смерть машиниста более целесообразно для общества, то есть в целях воспитания масс на героическом примере (том самом «примере», который уже не показался слишком привлекательным вполне конкретному молодому Беликову, не соблазнившемуся уроком жизни, преподанным ему Беловым)...
То есть, в «Охоте на лис» взаимодействие двух персонажей, высвечивало, на самом деле, глубоко запрятанную социально значимую проблему, тайно уже определявшую направление грядущего движения того времени. Но, не прислушиваясь к тайным сигналам такого рода, наша специфическая «душа народная» всё равно жаждала более абстрактной постановки есякого бытового вопроса, нуждаясь для подпитки национального духа в HOBoix примерах бескорыстного геройства и жертвенности во благо других людей и всеобщего счастья. В этом, как выясняется, и теперь нуждается наша мифология, безусловно освоенная, усвоенная и востребованная коллективным бессознательным российского народа. Ну, свойственно нам, в своей массе, более уважать до потери собственного пульса всё больше покойников, нежели проявить хотя бы элементарную терпимость к былому, ещё живому его воплощению. Хоронить для нас предпочтительнее хоть соседа, хоть своего сослуживца, ставшего после кончины более близким, как героя и с фанфарами, а не как простого ханыгу, погибшего лишь по пьяному делу или какому другому всего лишь «недоразумению». Так сложилось у нас, что ценим мы более легенду о человеке,
107
нежели его конкретную жизнь. Таковы удивительные особенности нашего национального самосознания, рождающего это самое дистанцированное пространство между героическим и правовым, в котором располагается вроде бы обычный производственно-бытовой конфликт этой картины, исследованный однако автором в неожиданно обновлённом ракурсе по-иному соединившем причинно-следственные связи. Надо сказать, что и по сей день, пересматривая картину уже много лет назад объявившую во всеуслышание, что весь наш «поезд» фактически «остановился», мы лишь с новой остротой переосознаём, чего же такого мы, на самом деле, успели натворить, чтобы наша дальнейшая жизнь складывалась так драматично.
Итак, в самом начале этого очень жёсткого, по существу, фильма, точно дракон из ночи, вырывается на нас спешащий вдаль железнодорожный состав, пылающий фарами и отсчитывающий своей скоростью и перестуком колёс ритм летящего времени. В этом пространстве, растревоженном скоростью и рассечённом свистом движения, прослоенном кадрами мирно спящих на своих полках пассажиров, мелькают титры картины. Куда же на этот раз несётся наша новая безлошадная русская «тройка», кажется, так уверенно ведомая теперь мощным локомотивом? Увы, в недалёкое далеко, слишком резко приторможенная той самой неожиданно приключившейся по дороге аварией...
Так отчего же всё-таки произошло столкновение поезда с платформами, неожиданно сорвавшимися с крепления и двинувшимися навстречу составу? Хоть и обошлось в итоге это производственное «недоразумение» всего лишь «малой» жертвой - гибелью только одного водителя локомотива, как-то успевшего притормозить состав. Но требовалось, конечно, по закону провести расследование причин этого инцидента. Тем более что потенциальных жертв такого крушения могло быть гораздо больше, если бы водитель локомотива, испугавшись, также выпрыгнул из поезда следом за своим напарником, а не рисковал своей жизнью или «жертвовал собою», как будет гласить молва, «героически» тормозя состав...
Чрезвычайное происшествие становится завязкой сюжета, с течением которого предстоит установить виновников случившегося. Следуя затем за перипетиями дознания причин катастрофы, квалифицируемым как преступление, мы узнаем ещё нескольких персонажей, задействованных в этом конфликте.
Герман Ермаков, следователь из областного центра, направляется в «посёлок городского типа», где расположилось депо, чтобы определить все причинно-следственные связи, послужившие основанием для аварии. А поскольку в этом посёлке существует только одна переполненная приезжими гостиница, то приходится ему временно разделить свой номер с одним из случайно уцелевших пассажиров того самого злополучного поезда - журналистом Малининым (А.Солоницын). И оказывается, то эти двое постояльцев, могли, как скоро выяснится из их разговоров, столкнуться и раньше, так как живут они в одном и том же городке, только один на улице Энгельса, а другой на улице Космонавтов. Но, как скоро выяснится, не роднит их это случайное соседство. Ну, а
V
110
разговоры их в общем номере превращаются всякий раз в бурные споры, что обнаруживает в них непримиримых антагонистов.
Смешное совпадение, но Малинин, живущий на улице Космонавтов, парит в «космических пространствах», так называемого, абстрактного гуманизма. А Ермаков, проживающий на улице Энгельса, пытается квалифицировать случившееся, следуя преступной логике событий, послуживших причиной катастрофы. Он буквально роет землю в поисках виноватых, не на шутку гневаясь на соседа по комнате, успевшего уже опубликовать в местной газете свою статейку об этом событии, воспевая героизм погибшего машиниста, жизнь свою положившего для спасения пассажиров. Ан, нет, вы подумайте! Всё о правилах да законах каких-то талдычит дотошливый и бессердечный чинуша, не сочувствуя просто хорошим людям, попавшим по случаю в неприятную историю, и требуя их к ответу, называя написанное «спекуляциями и нелепыми сказками». О какой такой «законности» возмечталось вдруг какому-то заезжему следователю в нашей беспорядочной земле?!
До хрипоты спорят друг с другом два непримиримых противника о существе той «справедливости», которой следователь Ермаков хочет служить честно и в полном соответствии с буквой закона. А Малинину кажется «справедливым» извлечь из горестного события пользу для оставшихся в живых, чуть пофантазировав и не драматизируя это происшествие, «по счастью» оплаченное только одной человеческой жизнью. Ну, чего, в конце концов, не бывает?! И зачем продолжать бередить рану, если мёртвого не вернуть? Лучше живым облегчить горестную для всех потерю, возвеличив подвиг машиниста, не зря отдавшего свою жизнь во спасение ближних. А если даже ничего такого не было на самом деле, то всё равно плодотворнее для общей жизни создать ещё одну высокую легенду, нежели бесконечно вытягивать на свет всю ту нудную цепочку событий, которые всё равно уже предопределили страшную аварию. С точки зрения журналиста, незачем искать теперь без вины виноватых «стрелочников», если все они наши «нормальные» мужики, кое-как приспособившиеся жить в предлагаемых им нелёгких условиях, когда сама жизнь развивается вне закона, и по закону... не живёт никто! Вот такими, я бы сказала, и сегодня не менее злободневными открытиями одаривал нас Абдрашитов ещё в семидесятые годы теперь уже прошлого века...
Некому было, оказывается, уже тогда серьёзно призадуматься и поразмышлять, отчего так безответственно живём всего одним днём и что ожидает нас в скором будущем? Из-за каких-то таких плохих высших сил не всё ладно или также весьма специфических собственных особенностей тоже, далёких от совершенства? Может быть, предложенные нам условия жизни слишком «творчески» перевоссоздаются нами на местах в соответствии с простыми сиюминутными житейскими надобностями? Все эти вопросы зависают в воздухе без ответа... Нет, оказывается, в сельчанах избытка пытливых умов, жаждущих ясности в установлении причин железнодорожной аварии... Вот в чём дело... В равнодушии и пофигизме...
111
Так что создаёт Малинин статейку во славу машиниста Тимонина в соответствии с ожиданиями читающей публики, выступая против всякого придирчивого следствия. Памятник нужно воздвигать машинисту под торжественные гимны, а не топить людей следственными действиями. Пользы живым людям от покойника будет больше, а тем более родным или матери погибшего, которая «теперь хоть квартиру получит» за своего «героического» сына. А настырный и посторонний в этом посёлке Ермаков, вопреки «народному» желанию, норовит дело «шить», мучая людей допросами да мараясь без устали в своих следственных бумажках: всё виновных каких-то ему не хватает! Ясное дело, что выслуживается, а иначе зачем ему нужна вся эта катавасия?
Ну, сорвались почему-то платформы и сорвались... Что делать? Всякое бывает... Так что непонятно местным, зачем теперь-то, когда мёртвого не вернуть, продолжает Ермаков голову морочить честным людям, не давая покоя всему городу? Уже пережили случившееся - и довольно драмы! Зачем теперь множить жертвы, отыскивая виноватых? Всем хочется как-то по-быстрому, междусобойчиком, договориться с неугомонным следователем и забыть уже об этом прискорбном случае без лишнего шума и гама.
Но не идёт этот странный Ермаков ни на какие сговоры и компромиссы. Свою линию гнёт, не желая вникнуть в ситуацию «по-человечески», понимая что, может быть, начальнику депо, на которого тянет фабрикуемое им дело, особенно жалко машиниста Тимонина, которого знал ещё ребёнком и с отцом его воевал в Отечественную... Но теперь случилось горькое несчастье, которое, как это ни странно - почти что по Бахтину - оказалось даже плодотворным для развития депо. Потому что, как объясняет начальник погибшего: «Хозяйство наше маловато... Неприлично говорить, но смерть эта нам помогла. Расширимся...» А памятник можно будет теперь воздвигать сразу «отцу и сыну Тимониным». Расцветится новой краской исторический лик родного посёлка. Будет ещё чем поболее гордиться тимонинским землякам!
В противостоянии двух точек зрения на случившуюся аварию, представленных следователем и журналистом, разворачиваются внешне вроде бы небогатые события фильма. Но по внутренней значимости очень ёмкие. За журналистом Малининым стоит весь город, а следователь следует своей правоте в полном одиночестве. Отсюда всё возрастающее напряжение атмосферы, опасно сгущающееся вокруг следователя, всего лишь честно исполняющего свои обязанности. Обычно ситуация такого рода могла двояко развиваться в советском кино: верхи хотят убрать следователя, чтобы скрыть правду от низов, или низы опасаются следователя, чтобы не обнаружить свою вину перед верхами. Но самое безнадёжное, о чём сигналит нам каждый следующий кадр фильма «Остановился поезд», открывая шокирующую нас истину, озвученную экраном, что «низы» вкупе с «верхами» находятся в одной, общей и добровольной связке полного согласия и взаимопонимания. Вот что явилось поистине революционным открытием фильма!
Никакой такой лишней правды никакие «низы» не жаждут, но хотят жить
112
и дальше именно так, как они живут. А это полностью отвечает чаянию верхов. Вот вам и весь сказ! Так что жажда юридической правды, которой Ермаков служит, полагая естественным наказать виновных по полной программе, чтобы предотвратить опасное разгильдяйство, оборачивается для остальных участников действия только неуместным насилием и «античеловечностью», равнодушием и чисто бюрократической казуистикой. То есть, если посмотреть на эту аварию глазами жителей посёлка, то есть, как им представляется, «по-человечески», то никому, кроме как самому Ермакову, не видится в случившемся ничего не то чтобы страшного, но хотя бы злонамеренного. Всего лишь случайное стечение обстоятельств, совершенно нормальное в восприятии большинства. Ну, справлял кто-то свадьбу, ну, «перебрал» и не вышел на работу, ну, некому было из-за этого проконтролировать пути, ну, запустили состав, не проверив скоростемер... Ну, вся жизнь такая и так строится ежедневно, что тоже чистая правда... Где ж тут чего искать? И какие могут быть виноватые?
Противостояние объективного закона и субъективной правды - одна из важных драматически развивающихся тем большинства фильмов Вадима Абдрашитова. Закон, воспринимаемый субъектом как внеличностная опасная сила, карающая без разбора, становился главным действующим лицом, противостоящим господину К. в «Процессе» Кафки. Но события, которые раскручиваются у Абдрашитова в русской глубинке, сдвигают эту тему с поправкой на нашу историю, родившую наше национальное сознание или ровно наоборот: историю, рождённую нашим особенным самосознанием. Если проще сказать, то ребята наши закона не боятся, но систематически ему противятся. Наши законы существуют как-то сами по себе, а сажают у нас толпами и так как-то обходятся безо всяких законов. Как сложится... Так что, в народном сознании это какой-то скорее трансцендентальный процесс, рождающий своих химер (хоть эти понятия не входят в народное сознание).
На экране фильма Вадима Абдрашитова вырисовывается наш заштатный городишко, привычный нашему взгляду протоптанными безликими улицами, застроенный маловыразительными домишками, в которые на этот раз мы не заглянем, но легко представим себе их незамысловатое убранство, свербящее сердце своей грустно-родной узнаваемостью. Но зато мы увидим всякие казённые, больничные, гостиничные, а то и производственные интерьеры, тоже до боли знакомые всякой бедной, отзывающейся в памяти деталью, где лежит больной, подозреваемый как раз в безалаберности, обернувшейся аварией, или разворачиваются дискуссии, старательно уводящие следователя от существа случившегося. Всякий диалог между Ермаковым и остальными жителями посёлка, звучащий слаженным оркестром в диссонанс его голосу, воспринимается как напряжённый детектив, который разворачивается в нашем неприглядном для чужого глаза пространстве, которое нельзя изменить, не потревожив саму душу этого вечного российского бытия.
Абдрашитов, строя кадр в этом фильме внешне беспристрастно и докумен-
114
тально точно, наполняет его в то же время саднящей душу узнаваемостью, прямо-таки родственным соучастием. Точно сама бредёшь по утрамбованной глинистой неасфальтированной центральной улице вослед растянувшейся толпе, следующей за гробом погибшего машиниста. Точно сама живёшь в неуютном казённом номере провинциальной гостиницы и носом чуешь запах общепита в единственном городском ресторане...
Я бы характеризовала авторскую интонацию Абдрашитова в этом фильме словами Петрушевской: «роль автора - это не стремиться пробуждать чувства, а не иметь возможности самому уйти от этих чувств». Именно невозможность для самого автора оставаться по-существу беспристрастным так ощутима, что неизбежно рождает независимый от внешне объективного текста ответный, взаимный, магнитизирующий накал, связывающий нас с экраном. Воздействует всё сразу и вкупе: заражающая естественной правдивостью атмосфера действия, авторская преданность повествованию и, конечно, замечательные диалоги Миндадзе, поразительно точно вложенные Абдрашитовым в «правильные» уста блестящих исполнителей. Здесь открытие следует за открытием. Так что многие ныне великие актёры, пожалуй, ярче всего запомнились своими первыми работами именно у Абдрашитова.
Каким особым чутьём и глубокой внутренней связью обозначилось взаимодействие Автора со своей дикой и любимой страной, со всей её странной не картинной убогостью, чтобы суметь, избегая всяких нарочитых изобразительных акцентов, писать её портрет с такой по-особому впечатляющей невыразительностью. Абдрашитов создаёт точную портретную копию оригинала, от которой невозможно отвести взор, осознавая свою драматически кровную связь с этой землёй, населённой странными персонажами. Абдрашитов демонстрирует их, как нас самих, группами и крупными планами с точностью бывалого документалиста. В его кадрах нет никакой внешне подчёркнутой «художественности», которая так естественно возникает сама изнутри материала, блестяще прописанного его кинокистью, чурающейся всяких украшательских виньеток и такой близкой нашему и впрямь неброскому в своей образности российскому полотну, прописанному самой природой и жизнью.
Если посмотреть на историю, рассказанную фильмом «Остановился поезд», бегло и без затей, то не заметишь особо интригующего повода для такого страстного противостояния двух антагонистов. Повод этот прост, знаком и узнаваем. Ну, произошла ещё одна авария, требующая юридической квалификации, чтобы привлечь к ответственности виновных, проставив очередную галочку. Что интересного может крыться для нас в каком-то очередном, как тогда называли, «производственном» фильме? Однако получается так, что фильм этот отчего-то смотрится с особой личной заинтересованностью каждого зрителя, держит наше напряжённое внимание не только закрутившейся интригой. Не только прямой и подковёрной борьбой неуёмного следователя с теми, кто противоборствуя ему и прикрывая виновных, не желает никакого правдивого следствия, предписаннного казённым судопроизводством, но
115
предпочитает кнуту законности сладкие легенды, прикрывающие привычно ленный образ жизни.. Дело в том, что мы лично соучаствуем в понятных нам событиях отнюдь не только детективного противостояния двух героев, но ещё и драматического противостояния одного героя толпе, что позволяет выявить существо нашей уникальной истории и жизни. Истоков нашей судьбы. Особенностей нашего народа, которому, так или иначе, мы принадлежим, узнавая в персонажах будто бы себя, любимых, наши собственные слабости и предпочтения, с которыми сложно, если вообще возможно, бороться.
Недавно я прочитала у кого-то запомнившееся мне определение о «беспорядочности таланта, который несут все русские». Казалось бы, это менее всего подходит к кинематографу Абдрашитова, где всё только внешне суетное кажется упорядоченным и тщательно продуманным. Кое-кто время от времени даже упрекал его в излишней аналитичной сухости. Ошибочно! Что может быть эмоциональнее ощущения того затаённого огненного пламени народной судьбы, что вроде бы чуть тлеет на поверхности экрана... Но тронь его неумело, и этот пламень грозит вспыхнуть не очищающим, а беспорядочным пожаром, сжирающим всё на своём пути? Только свойственная Автору дисциплинированность ума, точно спасательный круг, помогает нам без паники и суеты, оглянувшись окрест, как-то условно удерживаться на поверхности, чтобы разом не затонуть в омутах той подстерегающей нас опасной беспорядочности, что является следствием представленных нам драматических противоречий нашей реальности. Строгая сдержанность таланта лишь отчасти обуздывает тревогу, которая кровоточит его сердце и разъедает ум. Как говорится, инфаркты получают те, кто слишком сдержан, утаивая в молчании самое-самое главное.
Повторю, что у Абдрашитова нет ни одной случайной или проходной картины. На экран выплёскивается только то, что им уже глубоко выстрадано и пережито осознанно. Поэтому то, чем полнится его киноэкран становится общественно и человечески значимым для тех, кто готов к диалогу и сопереживанию с автором всех проблем, что выбираются им для нашего обозрения (кстати, как увидим далее, именно колесо обозрения неоднократно включается режиссёром в образную структуру его фильмов) из тайников времени, не всегда заметно для нас определяя его движение. Следуя за фильмами Абдрашитова, мы проникаем в эти проблемы, приближенные к нам и укрупненные его восприятием, получаем возможность эти проблемы «пощупать», осознавая сложным вместилищем нашего общественного бытования, таящего угрозу, общую для всех. Интеллектуальное при этом всегда смешивается режиссёром с чувственно воспринятым в том едином художественном образе, который предлагается нам к сопереживанию во всей многогранности таящихся в нём причинно-следственных связей, в том единстве и борьбе противоположностей, которые, взаимодействуя, будто возгораются в нашем восприятии, точно бикфордов шнур, бросая нас в осознании нашей общественно-политической жизни из огня да в полымя. Такой вот вырисовывается образ
116
бесконечного «перпетуум мобиле» всего нашего плохо отструктурированного нами существования.
А, казалось бы, что за ерундовое обстоятельство лежит в самом начале событий, приведших к авврии! Ну, закрепил бывалый рабочий Пантелеев (в замечательном исполнении М.Глузского) тяжёлые платформы только одним «башмаком» вместо двух, положенных по инструкции, как это делал всегда на практике - всего-то дел! А вот на этот раз почему-то эти платформы, давно свыкшиеся с одним башмаком и стоявшие с ним одним всегда недвижимо, как штык, возьми да и сорвись не вовремя неизвестно почему и прямо навстречу движущемуся поезду. Хоть и поезд тот, как выясняет следователь, мог бы, оказывается, затормозить вовремя, если бы... Если бы работал скоростемер и если бы машинист мог ехать не «на глазок», а с полагавшейся ему скоростью. А то, что скоростемер тот был, оказывается, неисправен не мог знать начальник депо, выпускавший этот локомотив в путь без должного технического контроля, выручая рабочего, слишком круто загулявшего накануне на свадьбе сестры... Ну, как тут не углядеть не смягчающего обстоятельства, если по-человечески? Словом, всё та же наша вечная надежда на авось...
Из всей этой совокупности будто бы «случайных» причин, предшествовавших аварии, для всего населения маленького городка вырисовывается главный результат - сожаление о случившемся и недоумение, что отчего-то на этот раз именно так всё получилось, хотя, на самом деле, могло бы вовсе не так грустно вообще не случиться - ведь, по-нашему, это всего лишь дело случая. Тогда как следователь, следуя своей неслышимой никем здравой точке зрения, надсадно талдычит, что в подобных условиях авария могла случиться в любой момент. И случилась! Уже! А в будущем? В будущем будет какая-то другая история. Вот будет - тогда и будем решать... А пока и теперь жалко ребятам и сослуживцам своего родного Тимонина до реальных слёз...
Ну, кто ж того хотел? И случилось всё непредумышленно, хотя и понятна всем, включая начальника депо, некая вполне абстрактная для всех вина, которую, по закону, им могут пришить. «Абстрактная» для всех местных и начальника депо, потому что всё это «антологическая» для России вина, которая не имеет никакого отношения к реальной жизни, игнорируемой «придирчивым», бессердечным сухарём-следователем. Нужно ему галочки проставлять и деньги зарабатывать! Тогда ж кому, право, нужна эта его правда? Кто живёт по правилам в нашей стране? А если по этим правилам попытаться жить, то, как резонно замечает начальник депо, с места более вовсе не сдвинешься, как тот внезапно остановившийся поезд, который - чёрт бы его побрал! - почему-то столкнулся с платформами на своём пути, ещё и угробив Тимонина... Такое вот досадное недоразумение!.. В котором итак всё всем ясно, кроме следователя, желающего почему-то непременно детализировать ситуацию, докапываясь до виноватых, но ведь «без вины», с точки зрения большинства... Виноватых лишь только формально.
Следуя, однако, своей профессиональной и разумной правде, Ермаков, за-
118
глядывая вперёд и оглядываясь окрест, резонно подозревает, что при такой безалаберности нашей жизни хорошего ждать не приходится, не предполагая ещё, как скоро остановится вовсе весь «поезд» нашей жизни, не способный более двинуться с места. Хотя уже так ясно загодя сигналило заглавие этого фильма, таящее символ, что «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»! Как скоро выяснится - всей нашей жизни. Ведь живём уже последние десятилетия после такой знаменательной остановки, которая, если не предвиделась, то уж, во всяком случае, точно предчувствовалась отдельными разумными умами, но никак не предотвращалась эмоционально щедрым населением, полагавшимся, как всегда, на авось... Но не пронесло!
Чувствовалось, может быть, интуитивно что-то такое сверхтревожное в совершавшейся тогда на наших глазах какой-то глобальной победе неправды. Ведь должны были оставаться зрители в финале картины с самым главным ошеломляющим открытием, что никакой правды вообще не хочет никто, кроме одного-единственного назойливого чудака и равно для всех малоприятного типа - следователя Ермакова. Нет! Ровно наоборот. Если быть до конца точной, то господствующее в то время мнение как зрителей, так и критиков, чуть не до тютельки совпадало именно с точкой зрения того самого народного большинства (если довериться рецензиям того времени).
Мне известно теперь, что гениальный Олег Борисов - актёр, глядевший всегда глубже других, волновался о том, чтобы его Ермаков не показался зрителям совсем «отрицательным» персонажем. Значит, не разделял умный, опытный актёр лишь раздражённое отношение к своему персонажу - «зловредному возмутителю спокойствия» - выраженное ему не только жителями не желающего просыпаться городка, но, увы, затем и будущими зрителями картины. Вот какое опасное единство с «народом» было продемонстрировано разношёрстным зрительным залом. «Ста низких истин нам дороже нас возвышающий обман»! Как это всё-таки неизбывно точно для массового русского сознания.
Не нужно нам ставить никаких тревожащих точек над «i», разбираясь в причинах случившейся аварии, не нужно дотошной конкретизации общего положения вещей, которое мы сами же сотворили для своего собственного удобства. Мёртвому всё равно не поможешь! Так зачем же постороннему ворошить крепко слаженный уже на свой лад муравейник? Как говорит в картине «гуманист» Малинин, не надо продолжать «жертвы множить». Лучше воздвигнуть угодный всем памятник «герою», который заставит учащённее биться сердца от гордости за своего земляка, которого никаким крючкотворством уже всё равно не воскресишь.
Это поразительно, но в «Остановился поезд» уже прозвучала важная мысль, состоящая в том, что не только начальство, но вообще никто не сочувствует той правде, скромному служению которой посвятил свою жизнь Ермаков. Более того, неугоден и чрезмерно старательный следователь не только людям, так или иначе причастным к аварии, но ещё и собственному начать-
119
ству, которое, как выясняется, едва терпит такого въедливого работничка. То есть ровно так же у них и там наверху правда не в чести. Так что получился Ермаков в соответствии с намерением не только Борисова, но и режиссёра, не столько «отрицательным» персонажем, сколько Дон-Кихотом, сражающимся без лишних слов с ветряными мельницами - занятием, вроде бы, неплодотворным и уж точно никем не востребованным... Разве что бездетной женой Ермакова, кандидатом химических наук, обеспечивающей основной семейный доход честного следователя...
В кадре фильмов Абдрашитова, с одной стороны, действуют всегда легко узнаваемые, живые люди. Но взаимодействуют они при этом между собой самым органичным образом не как психологически рассмотренные характеры, но как вместилище и результат задействованных в этих характерах идей. Эти абстрактно значимые, ведущие их по жизни идеи становятся для них, как правило, губительными в субъективном и практическом применении. Такая постановка вопроса была совершенно неожиданной для советского кино. Жизнь в картинах Абдрашитова выглядит всегда драматичной, чтобы не сказать вовсе трагичной. Как потерпевший фиаско Ермаков, жаждущий всего лишь торжества закона, совершенно абстрактного и чуждого «по жизни» тому большинству, которое по идее должно жить в соответствии с законодательством. А что такое люди вообще, как не идеи, владеющие ими и определяющие их жизнь?
Ведь не случайно в соответствии с общей идеей, владеющей Ермаковым, кажется ему по-настоящему важным «дело делать, господа, дело делать», а не просто выкручиваться кое-как из досадных ситуаций, как это привыкло делать наше огромное большинство, прикрывая друг друга и множа разного рода ЧП.
Как аскетична по выразительности вся фигура уставшего следователя в сцене его одинокого предфинального прохода вдоль рельс (вспомним сходящего с дистанции Белова в «Охоте»!), как драматичен он в своей отрешённости от враждебного большинства, знакомого, оказывается, не только воевавшему с ним в дальнем далеке Ибсену. Как далёко от него народное торжество открытия памятника! Кажется, вслед за Беловым, Ермаков точно так же побеждённым покидает поле своей битвы, не добившись никаких результатов. Но, на самом деле, в отличие от сбитого с толку, заплутавшегося охотника на лис, получившего полный нокдаун, упрямый оловянный солдатик Фемиды сдаваться не собирается... Противостоит, затаившись, мажорному финальному многоголосию хора, приветствующего открытие памятника «отцу и сыну Тимониным».
Выработанные самим народом условия нашей былой «застойной» жизни не требовали резких, ни с кем не согласованных действий. Получалось так, что для благополучного существования в трясине общественной жизни не следовало Ермакову, будто «кроту» (как назовут в «Пьесе для пассажира», на этот раз, уже отстранённого от дел бывшего прокурора), слишком глубоко «копать», не оглядываясь на «традиции» и наперекор всем, нарушая негласную договоренность поддержания равновесия в практической жизни, освоенной
120
Потаповыми разного уровня... Не дадут и окажут нешуточное сопротивление. Так или иначе, но первый сигнал послали слишком бойкому Ермакову, убив для начала ту бездомную дворнягу, которую он привечал и подкармливал...
Обычные криминально-детективные драмы предлагают зрителям ждать развязку предложенного сюжета, чтобы до конца выяснить правду, которая торжествует, благодаря блестящему уму разных Шерлоков Холмсов. Только с иронией журналист Малинин называет Ермакова Шерлоком Холмсом, полагая, что его ненужными усилиями в лучшем случае удастся прищучить только ещё одного «какого-нибудь стрелочника». Надо сознаться, что в этом тоже кроется какая-то частичка правды, потому что главный преступник кроется где-то в непросматриваемых далях, тогда как на видимых пространствах простые люди как не жили, так, увы, и не живут по закону. Это констатация уклада, сложившегося «по понятиям» нашей истории и генетики. Так как-то получалось у нас, имеющих за спиной крепостное право, расстрелы тройками без суда и следствия или ссылки за украденный колосок в голодные годы - что всё перевернулось в нашем сознании с ног на голову. Так что нужно было Абдрашитову очень высоко метить или глубоко рыть, не хуже того «крота», чтобы так открыто поставить тот самый вопрос, что отчего-то сопутствует всей нашей «удивительной» и удивляющей жизни.
На вопрос этот нет ни в жизни, ни в фильме, конечно, никакого прямого ответа. Но есть предупреждение, похожее на констатацию, прямо выраженное в заглавии фильма, что при таком положении вещей поезд наш двигаться долго не может в одном направлении, дорогие товарищи! Хотя, может быть, теплилась надежда, что могло бы ещё что-то измениться, если бы... Если бы не только Ермаков хотел и мог судить всех виноватых по закону (каковой он хотел бы видеть более жёстким), включая начальника депо, полагающего, что следователь «так ничего и не понял». Но едва ли!.. Надеяться, конечно, никому не запрещено, но уже и тогда получилось, исходя из наличных условий труда, озвученных Ермакову самим начальником депо, что не только какой-то поезд потерпел аварию, но весь огромный механизм государства настойчиво требовал капитального ремонта. До сих пор, увы, не увенчавшегося успехом восстановления всего государственного механизма, охраняемого неподкупным законом.
Кому же всем этим заниматься, если, как выясняется, даже попытка потянуть за одно крохотное звено общей цепи встречает всеобщее сопротивление? Что ж говорить обо всей длинной обратной цепи следствий, которую потянет за собой это звено? Правда, потянуть цепочку попробовали, да потянули со всей силы, вытянув странную такую репку в виде рассыпавшейся страны... Вытянули решительно и без особых размышлений, оборвав сразу все корни, то есть опять «по-нашему», то есть сразу и в одночасье - на забаву всему белому свету... Обо всём этом тоже будет сказано позже в других картинах Абдрашитова.
А пока вроде бы «смелый» Малинин (во всяком случае, довольный со-
122
бой!) едко констатирует в споре с Ермаковым, точно последнюю правду-матку лепит: «следователей у нас не любят, а преступникам сочувствуют - так уж у нас повелось», напоминая, что много неправедных дел было сфабриковано «вашим братом». На что Ермаков отвечает иным риторическим вопросом: «Ну, «наш» брат? Или ваш брат? Это ещё вопрос». Обсуждаемый и поныне!
Действительно. Всё и до сих пор - абсолютно открытый вопрос. У нас всегда остаётся неясным, когда же именно всякая здравая идея переколпачивает-ся у нас на практике в безобразный какой-то хаос? Этого не знает никто, так что оба полемиста, по-своему, правы. И про фальшивые процессы справедливо вспоминает Малинин, и Ермакову помнится не без оснований всякая разная газетно-журнально-литературная туфта. Не случайно говорится, что бумага и впрямь всё стерпит. А вот сколько стерпит, не развалившись, само общество с им же воспитанными гражданами? Многое узнаётся даже с течением собственной жизни и на своей шкуре. И о себе, и об обществе. Сморите в помощь фильмы Абдрашитова по сценариям Миндадзе...
В те далёкие теперь советские времена расстояние между «героическим» и правовым было трудно исчисляемым. Если не сказать, что для высшего дела и высших целей неисчисляемым вовсе. А потому снова возвращаюсь к финалу этой картины, чтобы отметить захватывающе драматичную по внутреннему наполнению торжественную процедуру открытия памятника новоизобретённым героям, отцу и сыну Тимониным. На далёкой обочине этого торжества пролегает тот самый одинокий путь потерпевшего в этом сражении Ермакова. Тогда как народ жаждет совсем иной, величавой правды. Какие речи слетают с уст! Какие портреты маячат перед телевизионными камерами! Какое взволнованное, даже откровенное красноречие посещает учительницу, вещающую на камеру прерывающимся от волнения голосом, каким по-особому заметным учеником был погибший Тимонин! Реальность прямо-таки на наших глазах обретает новые черты той торжественной атмосферы, которая, как это ни смешно, и впрямь питает душу высокими переживаниями.
Как слаженно в праздничной атмосфере звучат благодарственные речи «спасённых» Тимониным пассажиров! Их неразборчивые речи слышатся общим волнующим, ритмизированным гулом. До ушей вместе с фанфарами всё равно долетает вся возвышенная искренность их интонаций, сливающаяся с оркестром и торжественным хором, славящим подвиг! Вымечтанная реальность создаётся единым порывом толпы, состоящей из разных людей, но преобразованной дирижёрской палочкой постановщика в единодышащий монолит. Это Ермаков оказывается почему-то одиноким в своём вроде бы естественно-законном намерении. Тогда как «прочие» люди едины в своём порыве, будто спаянные друг с другом каким-то выдуманным кем-то рисунком. Снова можно увидеть, как умеет Абдрашитов организовать толпу, перетекающую здесь внутренне напряжённым, волнистым рисунком из кадра в кадр... а потом в «Армавире», а потом в «Магнитных бурях»...
123
Нужной нотой, точно вписывающейся в общий оркестр, звучит также секретарь райкома, вторя уцелевшим, признательным за своё «спасение» пассажирам. Всё сходится в общий приподнятый тон траурного митинга, озвученного духовым оркестром юных будущих железнодорожников. Блестящий выход в финал под фанфары!
Торжество, набирающее свои обороты прямо на наших глазах до своего максимума, точно так же прилюдно истаивает, возвращая его участников на бренную землю... Вот уже, утомившись, поползли они по просёлку, ещё чуть возбуждённые, растекаясь на группы, всё более озабоченные своими каждодневными делами. Всё случившееся было возвышенно и обезоруживающе правдиво, как блестяще сделанный документ для «Новостей дня», и безысходно, как глупая жизнь, со своими маленькими радостями. Режиссёр умеет представить нам пространство текучим и подвижным, не прибегая ни к каким особенным изобразительным эффектам.
Кадр Абдрашитова полнится внутренним напряжением и держит внимание, не нуждаясь в каких бы то ни было дополнительных поэтических завитушках. Постигаемая режиссёром глубина правды оправлена им в строгую форму безо всяких красивых излишеств, на которые так падок зритель. Ритм финала, набирающий обороты напряжения, будто вершится самой органикой материала и завершается, растворяясь в дымке наступающих будней...
Все и всё слилось в едином гражданском порыве. Запоминается каждое лицо в сменяющих друг друга групповых портретах... Горло перехватывает от этой бессмысленно торжествующей и... странно единящей всех этих людей общности. Напряжение падает, когда пик торжества минует, оказываясь буквально позади, за спинами людей, растекающихся теперь по чахлому лесу отдельными ручейками своих маленьких и уже частных жизней... Но не наступает расслабления у зрителей. Осмелюсь предположить, что абдрашитовский экран едва ли вообще одаривает нас катарсисом.
Помогает ли подобный устроенный карнавал духовно выживать человеку, погружённому в серую череду будней? Наверное. Временно. Хотя безусловно чуется также коварная опасность шаткости иллюзорного мира. Тем не менее, может быть, эта видимость кажется предпочтительнее тому «народному» большинству наших соотечественников, в столкновении с которыми Ермаков оказался потерпевшим? Одиноко и отдельно бредущим по околице чужого для него и вредного «праздника» со своей никому не нужной правдой, в которой у них нет никакой нужды... Ну, не хочет обывательская рутина быть потревоженной дополнительными проблемами...
Что же тогда за надежда маячит перед внутренним взором такого Ермакова, согревая ему душу? Или нет успокоения? Каково живётся у нас таким, как он «чудакам» со своей никому не нужной обжигающей правдой? Какие звёзды сияют им на горизонте? Чего? Неверия? Усталости? Разочарования? Как обратить духовный вакуум в энергетическое топливо для себя, хотя бы временно? Посмотрим, что скажет нам на эту тему следующий фильм Абдрашитова «Парад планет»...
124
Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым
Итак, через окна ресторана, где праздновал с Беликовым свою пиррову победу Белов, оказались видны платформы железнодорожного состава, который двигался уже, видимо, в Афганистан, так что с «Парадом планет» объективно стоило повременить, да?
Да, ситуация оказалась и впрямь сверхвыразительной... Так что, приехав в Москву, в последний предновогодний день мы поехали в Гэскино, где наша догадка подтвердилась. «Парад планет» нужно откладывать то ли на время, то ли вообще! Таким образом мы оказались без сценария. Тогда Миндадзе вспомнил о своём дипломном сценарии «Смерть машиниста», сделанном на хорошем материале с интересными фактурами. А главное - там намечался интересный образ следователя... такая достоевщина...
Опять довольно простая история, в которой ничего особенного не происходит, кроме длинных разговоров двух героев... Это про жизнь, про железную дорогу, про народ, про власть и так далее. Но у меня не было никакого намерения снимать какой-то обличительный, публицистический фильм о железной дороге, а через это рассказывать о всей нашей жизни... Больше всего меня интересовал следователь ЕРМАКОВ... Вот такой человек, ненавидящий всех за ту жизнь, которую они ведут, за жизнь, похожую на суицид.
Но ясно было, что этот сценарий скорее не для кино, а для телевидения. Так что сразу, чтобы не раздражать начальство убрали заглавие «смерть машиниста», а назвали более нейтрально «Диалоги», подчёркивая дискуссион-ность... Прикинули, что это должен быть двухсерийный телевизионный художественный фильм, это не кино...
А тогда на этих фильмах сидел на телевидении Гоошев, сын ректора ВГИКа, На него и вышли. Гоошев, прочитав сценарий, схватился за голову - о чём вы говорите, какой телефильм? Никто, никогда, нигде и ни за что это не запустит! Вы понимаете, что предлагаете?
Но мы рискнули, стали перерабатывать этот сценарий в киновариант. Это была большая работа, и когда две серии превратились в одну, поехали в Гэскино. А знаешь, почему нас запустили? По одной простой и смешной причине.
Помнишь, был такой Павлёнок, замминистра, заведующий сценарно-редакционной коллегией, я о нём говорил? Оказалось, что он закончил в своё время железнодорожный техникум, в каковом я тоже учился два года. Так что сразу я вывел разговор на эту родную ему тематику, и он был приятно удивлён. Мы стали с ним говорить о железнодорожных делах, каких-то башмаках, тормозе Матросова, скоростемерах и всяком разном железнодорожном. И, конечно, он стал вносить вот эти, «железнодорожные» поправки. И эти поправки я, тоже как бы сведущий в этом деле, конечно, выполнил. И, представь себе,
125
что по этой идиотской причине был подписан сценарий. Конечно, и консультант наш, Северин, поддержал своим заключением сценарий. Дальше была другая эпопея уже по запуску в производство...
Начались истории с Борисовым и Солоницыным. Сначала с утверждением Борисова. Ты помнишь, что Борисов был в это время запрещён для съёмок?
Да, что ты? Я не помню...
Он ушёл со съёмок картины Зархи «26 дней из жизни Достоевского». А после Борисова, если помнишшь Достоевского играл Солоницын...
Вот смешно!
Дело в том, что отснявшись уже в двух третях картины и побывав в зарубежных командировках, Борисов, не могущий больше уступать режиссёру в трактовке Достоевского, развернулся однажды и ушёл со съёмочной площадки, отказавшись от этой работы. Это, кстати, произошло, когда режиссёр потребовал, чтобы Фёдор Михайлович показал кукиш иконе. Чего только не делали, чтобы его вернуть обратно, как только его не пытали, но не прошло. Тогда по Гэскино был издан приказ, запрещающий снимать Борисова. И тут как раз я —с идеей снимать именно его в роли Ермакова в «Остановился поезд». Ну, началась новая эпопея.
Пошёл к Сизову, генеральному директору «Мосфильма» просить разрешения всё же снимать этого актёра, но мне было сказано, что Борисова, по крайней мере, ближайшие два года снимать нельзя. Так что - «Пробуй других!». Я пробую, пробую... Мне кого-то советуют... Но я-то знаю, что именно он абсолютно идеальный исполнитель этой роли... Тогда мы с Миндадзе всё же поехали к нему в Питер, позвонили, он приехал к нам в гостиницу, напряжённый такой, дистанцированный. Поехали к нему домой. Жена его Алла нас чаем поит, а он читает сценарий. Пришёл на кухню, видно, что под впечатлением, заговорил об Ермакове увлечённо, и всё же: «Пустое всё это, никогда меня не утвердят, не пробьёте...». Но уговорить приехать на пробы удалось. Инкогнито!
Пробовался, конечно, блестяще. Так здорово всё делал, что я сидел потом перед несколькими дублями и не знал, какой из них предъявить, потому что каждый хорош по-своему. Ну, приехал Борисов на пробы и уехал. А всё это конспиративно, никто ничего на студии не знает. Плёнку для Сизова вынес тоже конспиративно, все дубли. А он мне говорит: «Ну, и что? Кто должен отбирать?» - «Ну, вот не знаю, сами посмотрите». А Сизов отвечает - « Да, я знаю, что он хороший актёр, но снимать его сейчас нельзя!» Пошло время, пауза. Каждый день хожу к гендиректору, показываю конкурентов. Пауза. Потому что ясно, что Ермаков - это Борисов. «Может, как-то конспиративно?..» - подсказываю. Пауза, а время идёт. И в конце концов мне говорят:
126
«Ладно, только снимать подальше от Москвы, никаких интервью, никаких разговоров. Привезти из экспедиции уже готовую картину.» Словом, кое-как запустили с Борисовым...
Но пикантность всей ситуации ещё обострялась тем, что в итоге у меня на съёмочной площадке предстояло встретиться сразу двум Достоевским. Отказавшемуся от этой роли Борисову и сыгравшему эту роль Толе Солоницыну. Ещё до встречи актёров мне говорили - ты сошёл с ума! Они никогда не сойдутся в одном кадре!
Но как бы то ни было, на съёмочной площадке «Остановился поезд» встретились два Достоевских, два замечательных и благородных человека. Благородством было уже встретиться, а затем вместе рассказывать всю эту историю. Так что и встретились, и работали, как художники, и в застольях общих участвовали, общаясь уже чисто дружески. Редко бывает такое в актёрской среде...
Насколько я понимаю, Толя работая на картине уже был после своей сложнейшей операции по удалению лёгкого? Ведь это, кажется, его последняя законченная картина...
Он был, увы, ещё слаб, и нужно было его как-то поправлять. А директором у меня на картине работала славная женщина, замечательная Люся Габелая. Она придумала послать Толю вместе с его врачом в Пущино, где мы собирались жить в экспедиции. Он месяц там гулял и дышал свежим воздухом под присмотром врача в ожидании приезда всей группы. Поэтому к нашему приезду он поздоровел и выглядел хорошо, был в форме...
А потом на съёмках, как я сказал, Борисов с Солоницыным не то чтобы дружили, но ладили, общались друг с другом чрезвычайно уважительно...Ведь в те времена мы ночи напролёт не просто за дружеским столом сидели, выпивали, но беседы вели, стихи читали...
Да, это я хорошо помню по «Рублёву»...
Да, все читали стихи, а Солоницын и Борисов знали их множество... Группа на этих съёмках была охвачена тогда каким-то общим порывом, понимаешь? У нас снималась одна актриса, с которой, спустя годы, мы случайно встретились, и она говорит мне, чуть не плача: «Вадим Юсупович, я никогда не проводила ночи так, как с вами»...
Видно, это было какое-то общее состояние, витавшее в воздухе, так как то же самое я переживала чуть раньше на «Андрее Рублёве»
Картина «Остановился поезд» вышла на экраны в 1982-м году после тяжёлого периода сдачи и лежания на полке и сразу стала известной. Хотя, конеч
127
но, её можно назвать в каком-то смысле антикинематорафической. Ну, что там происходит? По сюжету сидят в унылом гостиничном номере два не очень красивых и не очень молодых человека, разговаривают между собой и никак не могут договориться...
Сегодня Дмитрий Быков называет вас с Миндадзе очень смелыми людьми, потому что вы предъявили такой реализм, на который больше никто не решался...
Может быть. Но пикантность заключалась в том, что критики впрямую ничего не могли тогда о картине написать. И полуграмотные ребята из них придумали, что мы чего-то недоговариваем или держим какие-то фиги в кармане... Какие фиги в «Остановился поезд»? Когда прямо перед камерой сидят люди и чёрным по белому размышляют о том, в чём виноват народ, если его не приучили работать?. Если и сейчас я смотрю картину, то не понимаю, что вообще-то происходило тогда с советской властью, если она этот фильм всё-таки пропустила. Потом кое-что стало ясно...
А тогда на бесконечных худсоветах, совещаниях, обсуждениях стали публично называть картину антисоветской. Редакторы получили выговоры по партийной линии. Но я был спокоен. После «Охоты» был уже стрелянным, а там наверху это тоже понимали и, в общем, не знали, что со мной делать. И картину положили на полку...
У тебя в тексте, мне кажется, ты точно сказала: «Самое страшное в этой картине, открывшееся нашему взору, что и низы и верхи ничего не хотят». Об этом, конечно, впервые было сказано на советском киноэкране. Кстати, я смотрел её недавно по телевидению... Было интересно, как смотрится давняя эта история, аскетичными способами сделанная, сегодня? Между рекламой, новостями и ток-шоу? И есть ощущение, что она остаётся абсолютно злободневной и современной. Проблемы-то те же самые остались неразрешёнными, всё то же самое. А когда я почитал твой текст, то ответ на этот вопрос стал ещё яснее - как тогда, так и теперь верхи и низы, в сущности, заодно. Ничего не нужно, никаких реформ не хотят. Не хотят свежих людей, реформаторов, ничего не хотят. То ли таких реформаторов, то ли таких реформ?
Интересно тоже, что ты замечаешь сцену похорон машиниста, а у меня на съёмках было очень странное ощущение, когда шла вся вот эта бесконечная массовка...
Понимаешь в чём дело? Это была не мосфильмовская массовка, но обыкновенные местные люди, которые воспринимали происходящее буквально. Им сказали, что нужно хоронить машиниста. И у меня сохранились какие-то фотографии со съёмок, которые мы снимали с верхней точки, там люди из массовки, не видя нас, следуют, как полагается, своим абсолютно традиционным, обычным прощальным ходом... Это впечатляло...
128
Значит неслучайно вся сцена похорон погибшего машиниста выглядит для меня абсолютно документальной, но в то же время весь материал так сложно акцентирован режиссёром. Этот гроб, плывущий по улицам заштатного городишки, следующая за ним тёмная толпа, взгляды людей из окон... Всё зафиксировано будто бы хроникально точно... И в этом есть что-то наше родное, начинающее щемить грудь... При этом каждый кадр сделан так дотошно, чтобы добиться видимости документа, что достоин отдельного разговора...
Тут встаёт тень гениального Михаила Ильича Ромма, который говорит вообще о кинематографе «Если это кино, значит, ничего нельзя описать словами».
И всё-таки мне всегда хотелось изложить словами вкупе все чувства и мысли, которые возникают у меня в связи с осуществившимся во мне контактом с тем или иным фильмом. Это очень сложно, но для меня важно отыскать те слова, пускай всё равно приблизительные, которые позволят мне приблизиться к моим собеседникам с моими впечатлениями от увиденного. В этом я вижу свою задачу. Именно вербально идентифицировать особенности своего впечатления...
Надо сказать, что в момент выхода фильма о картине «Остановился поезд» было трудно писать. О чём писать-то? Если об этой картине писать, то нужно писать о всей России, о целой стране, об авторах, которые всё это подняли, о гениальном Борисове. А для этого нужно быть адекватным проблеме во всей её совокупности, кроме того, чтобы заявлять о том, что картина «антисоветская». А что там антисоветского? Хотя это обычное дело, если появляется какой-то зашифрованный или не очень зашифрованный ребус, то чего бы его не заподозрить...
Ругали «Охоту на лис» но другими словами... А тут, ну, прямо окрики - это что это такое себе позволяете? То есть даже никаких поправок не давали, ничего! Только восклицания - «Что это вы сняли?», «О чём эти ваши «Диалоги»? И картина оказывается на полке. В Гэскино её тоже уже никто не защищает.
Ну, вот - думаю я - главное, что её не покалечили. Пусть она себе целёхонькая лежит на полке. Меня теперь не увольняют, а там - посмотрим, как всё сложится. Но перспективы никакой! А дело это было где-то примерно в июне. Картина взаперти, показать её никому невозможно. Идёт 82-й год июль, август... а картины нет, где-то она там на полке... о ней вообще никто ничего не говорит... И я молчу.
Какие-то слухи идут, а ничего не меняется. В этом кабинете сидит мрачны?, Райзман, все мрачее и мрачнее, а время идёт... Уже сентябрь, октябрь... И вдруг! Звонят и говорят, чтобы быстро готовили документы к картине, будем печатать копии... У вас премьера в кинотеатре «Россия»...
129
Ничего не понимаю. А тут начинается такая фаза... и попадаю я под новую волну - борьба с нерусскими словами в названиях советских фильмов. Первой жертвой этой борьбы пал Мельников, у которого была картина - он перед нами сдавал - «Две строчки петитом». Нет! Слово «петитом» надо убрать. Пусть будет «Две строчки мелким шрифтом». Я спрашиваю тогда: « а слово «шрифт» это что? русское название?» Но мне заявляют, чтобы я немедленно вместо «Диалогов» дал какое-то новое название.
Мы сели с Миндадзе и набросали штук семь названий... Там снова была и «Смерть машиниста»... и среди всего прочего написали совсем наглое -
- «Остановился поезд». За всю эту борьбу с иностранными словами отвечал вполне конкретный человек, курировавший этот куст. Он принимал в данном случае решения... Именно он предложил назвать фильм «Остановился поезд»! Мы замерли, только бы не спугнуть... Не поверили своим ушам... Когда я потом зашёл на студию к Райзману, то он мне не поверил... Ещё меня спрашивает: «Вы помните, да? - «наш паровоз вперёд лети»? Я говорю, да не шутка это, вот документ подписан. «Да, не может быть!»
А почему всё-таки такой неожиданный разворот?
В тот момент никто ничего не понимал. Так что после премьеры фильма в «России», когда мы пошли съёмочной группой, как это делали в подобных случаях, отмечать премьеру в «Арагви», нас уже догоняли зрители испрашивали - «Вы как такое сняли? Что вы нам сейчас показали? Что это? Невероятно! Что происходит?» А мы ничего не могли им на это ответить. Сами ещё не понимали...
Оказалось, ветер-то уже менялся. Брежнев был уже практически еле жив. И все бразды правления принимал уже там на себя Андропов. А Андропову нужна была эта картина, он собирался наводить порядок в стране, гайки закручивать. Так что они картину приняли как призыв закрутить эти самые гайки-винтики. Следователь такой демократичный понравился, замечательно актёр его сыграл, правильно он всё там говорит...
Да... Вот, что такое художественный образ! Одна трактовка противоречит другой... Всё верно... Интерпретации... Неважно для таких толкователей, что самое драматическое для меня в фильме остаётся в стороне неучтённым... Ну, не замечается отсутствие поддержки этого следователя народом... Так нужно и нормально...
А этот какой-то смурной писака Малинин воду, как всегда, мутит... А следователь приезжает, чтобы найти истину... А вокруг, так сказать, болото, и все ему мешают вместо того, чтобы, помогая, жизнь улучшать... И под это дело фильм как-то прошёл... Всю эту историю, всё, что произошло, я понял только задним числом, когда Брежнев скончался... Тогда вообще многое прояснилось...
130
Картину начали широко обсуждать в прессе... Помню, Капралов написал смешную рецензию в «Правде» так, что, читая её, выяснялось, что всё в фильме как-то непонятно... То же самое писалось в «Советском экране»... Никто ничего не выговаривал точными словами, пока не появилась первая рецензия, написанная уже чёрным по белому, нашим замечательным, хорошо тебе известным актёром, Лёвой Круглым, эмигрировавшим к тому моменту во Францию...
Ну, это, знаешь ли, как говорится, карты ему в руки...
Ну, да, естественно... Он написал в «Русском слове» рецензию, называвшуюся опять же «Наш паровоз вперёд лети»... Её, конечно, никто не читал, а там было всё написано по существу. Тогда как у нас фильм раскручивали через «Гудок», «Восточно-сибирский железнодорожник», «Железная дорога в Приморье». То есть туда дали сигнал для обсуждения фильма, чтобы повышать дисциплину на предприятиях. Так что вокруг «Остановился поезд» началась настоящая вакханалия. До сих удивляюсь, какой перевёртыш устроили из картины, перевёртыш со своим смыслом, конечно. Парадокс состоял в том, что большинство людей, конечно, понимали, о чём, на самом деле, идёт речь, но картину раскручивали до такой степени в противоположном направлении, что дошло дело до обсуждения её на Секретариате Союза кинематографистов.
Ну, что ж, Вадим, это была правильная политика... Они приспосабливали картину к своим интересам, и не думаю, чтобы ВСЕ ВСЁ так уж до конца понимали... Мысль, у тех, кто не эмигрировал, застывала в нерешимости...
Невероятно, но картине была присуждена Гэспремия РСФСР!
Впоследствии «Остановился поезд» время от времени показывали за рубежом. В том же Сан-Ремо картина получила приз за лучший сценарий. Фильм показывали во Франции, Германии.. .За 5 лет проката картину посмотрели 10 млн зрителей. И это при всём изобразительном аскетизме, так сказать, отсутствии женской роли...
Кроме потрясающей работы Руслановой...
Это её очень удачная работа... она мне нравится... Могу тебе сказать, что особый фурор был вокруг картины на фестивале в Белграде... Может быть, помнишь, там был одно время такой фестиваль фестивалей, знаменитый, куда отовсюду привозились лучшие картины... А поскольку чего-то там наверху у нас происходило, а югославы уже знали кое-что про картину, то её туда послали. А когда уже в Белграде наши более передовые друзья по соцлагерю посмотрели «Остановился поезд», то пришли в некоторое замешательство,
131
почувствовав, что у нас что-то такое им неведомое происходит? Ведь всё это было ещё при нашей цензуре! Так что же такое происходит в Советском Союзе, если нам такую картину на фестиваль официально предлагают? Такая вот иллюстрация, как все эти протуберанцы истории переворачивают подчас всё с ног на голову...
МЕЖДУ МИРАМИ
«Парад планет» -1984
«I I арад планет» начинается с крупного плана: огромного телескопа, устремившего свой «глаз» в иные миры, и продолженного круговой панорамой по обсерватории. Этот план озвучен, будто бы «позывными» или таинственными сигналами из безмолвного космоса... Будто здесь где-то рядом затаилась тоненькая, таинственная ниточка той связи со Вселенной, которую держат в своих бережных руках астрономы - небожители нашей земли. Вот оно, бездонное небо, а вот всякие-разные звуко или энерго-улавливающие гигантские локаторы, жаждущие связи... Вот Он (О.Борисов) - один из этих небожителей, один из властелинов всей этой техники, пытливо вглядывающийся в глазок огромного теле скопа...
Вот тот же человек, уже простой горожанин, устало шага ет домой после рабочего дня, спешит к своей многоэтажке, войдя в которую и заглянув в почтовый ящик, он обнаруживает повестку в иной и вполне земной мир военных сборов
Эта неожиданная повестка предопределит иное строгое
133
течение следующего дня теперь уже Старшего лейтенанта, который должен теперь собирать свой рассеявшийся до означенного мгновения отряд для повторных военных учений. Поначалу путь его ляжет в мясной магазин, где в мирной жизни рубит мясо Султан (С.Шакуров). Завидя своего командира, он сразу же по-военному приветствует его, всё понимая без лишних слов, мигом переселившись в иное дисциплинарное пространство. Далее, также по-армейски лаконично приветствуя друг друга, к ним присоединятся недостающие члены отряда, чтобы всем вместе под командованием своего офицера отправиться на учения по сигналу военной трубы.
Но недолго продлятся для них как развёрнутые для учений военные действия, так и временная армейская жизнь. Не удастся ребятам уцелеть подольше под обстрелами их батареи, пополнившейся новичками. Но зато чуть позже, освободившись от несения военной службы, начнётся для них совсем иное, никак ими не запланированное путешествие... не вперёд и домой, а вспять... С какого-то железнодорожного полустанка, на котором не дождутся герои «Парада планет» слишком долго прибытия поезда, должного так нежеланно быстро отправить их обратно в мирную жизнь. Нет. Их путь неожиданно развернётся в какое-то иное раздвинутое во времени пространство.
В центре повествования этой картины окажется вот эта самая вроде бы разношёрстная компания мужиков, вырванных из своей обычной будничной жизни повесткой на короткую военную переподготовку и странно как-то разочарованных слишком скорым финалом, унизительно быстро определившим их в «покойники» с самым началом боевых действий. Почему-то не тянет их поскорее вернуться домой, к трудовым будням и своим каждодневным делам и заботам. Нет. Тянет их, завораживая, что-то такое особенное в возникшей атмосфере фронтовой жизни, разделившей их с будничной серостью. Сборы, встречи, как с былыми боевыми товарищами, так и с присоединившимися к ним новичками, строго дисциплинирующая спешка и какое-то возбуждённо приподнятое состояние бодряще коснулись новоявленных воинов - всё то, что не сопутствует вовсе привычной суете... А теперь что же? Вдруг и сразу домой?
Переночевав и помаявшись немного в местной гостинице в ожидании поезда, делают наши ребята даже для себя неожиданный и непродуманный наперёд выбор. Они прокладвают себе иной маршрут, по которому мы как зачарованные почему-то следуем за ними на протяжении всего фильма, соучаствуя в странноватой какой-то истории, но и не совсем противоестественной, далёкой от конкретики совсем нормальной жизни и чисто бытовых психологических связей. Группе представленных нам разношёрстных мужиков будет дано переживать какой-то иной общий сюжет, параллельный их «нормальной» жизни. Может быть одинаково для них прописанный неким внеличностным автором, которого можно назвать внеположенным им социумом, а можно назвать веригами жизни, всё более тяжелеющими с возрастом беспраздничными буднями, всё менее таящими для нас радостные сюрпризы и всё более при
134
ближающими нас к естественной развязке. Развязке естественной, но трудно переживаемой нами, таинственно задействованными жертвами этого всеобщего неумолимого процесса, становящимися неким «закладом» неминуемого конца, так светло воспетого Пастернаком: «Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, в футляр»...
Всё действие новой картины «Парад планет» будто пронизано таинственным, ускользающим мерцанием не земного, инопланетного мира, выстраивающегося постепенно в самосознании всех наших героев каким-то самым значительным и непостижимым парадом, строящим и перестраивающим всех их в особой конфигурации социальных и исторических взаимосвязей интимного с общим. Мне кажется, именно этот фильм явился, как Абдрашитову, так и Миндадзе каким-то особенным откровением, не имеющим аналогов в нашем кино.
Это безусловно самый интимный и поэтичный фильм режиссёра, откровенно пропитанный его лирически-тревожащим и спокойно-созерцательным взаимодействием с этим миром, когда всё ему видится изнутри и будто с другой планеты, в параметрах, как очень личностного, так и всеобщего... Собирательный, вопрошающий взгляд его героев пристально направлен очень далеко, отсвечиваясь в мирах и возвращаясь обратно безмолвным ответом.
Предыдущие картины давали сомнительное, с моей точки зрения, основание большинству критиков видеть в Абдрашитове только тонкого социолога, жёсткого публициста или серьёзного аналитика. «Парад планет» никак не укладывался в характеристики, ставшие к тому моменту уже привычными. Картина вырывалась в то поэтическое пространство, которое звучало своеобразным лирическим голосом автора. Хотя, на самом деле, тот же авторский голос можно было для полноты восприятия и раньше расслышать в его предыдущих работах, определявший тот дополнительный круг его интересов и оценок, который располагался за пределами только действенного сюжета добротных бытовых или социально значимых драм, будь то «Охота на лис» или остро публицистический очерк «Остановился поезд». Неслучайно Абдрашитов признавался, что в сценарии Миндадзе «Смерть машиниста» его изначально заинтересовала не сама интрига, но особенный для него главный герой, уходящий своими корнями к непростым персонажам Достоевского.
Художественное письмо, которым прописывалось режиссёром всё сюжетное действие, получало свою окончательную, завершающую для внутреннего значения форму в блестяще разъятых или открытых финалах обеих картин. Существо которых располагалось, на самом деле, далеко от публицистики, обозначая факт трагической несовместимости обоих героев двух предыдущих картин с изменившейся реальностью, неспособности или нежелания этих героев вписываться в предложенное им время с целесообразной выгодой для себя, для собственного, «нормального» для других существования. Для других, но не для них. И у Белова, и у Ермакова были свои представления о тех нормах, которые очерчивали их собственные пределы и теряющиеся за ними горизонты...
135
Все герои «Парада планет» - мужчины среднего возраста, уже неплохо устроенные в жизни в соответствии со своими возможностями, претензиями и амбициями. Каждый уже как-то определился. Люди разных профессий, из разных социальных слоёв живут себе потихоньку свои собственные «нормальные» жизни, не отягощенные никакими особенными чрезвычайными проблемами, не совершавшие никаких преступлений. Ну, если не считать «преступлением» хлебное место мясника или обеспеченную дополнительными общественными благами идеологически важную должность народного депутата (С.Никоненко).
Все эти люди, отправившись неожиданно по повестке на военные сборы, оказались обречёнными столкнуться в одном пространстве, общем для всех пятачке учебных военных действий: астроном и мясник, рабочий (П.Зайченко) и грузчик (А.Жарков), архитектор (А.Пашутин) и депутат. Разные люди, выхваченные из толпы, продемонстрированной нам прежде в «Репортаже с асфальта», нужны автору для того, чтобы соединить их особой, возрастной общностью переживания своих взаимоотношений с равно отчуждающимся от них миром, скрепить их поколенческим родством, заставить оглянуться назад, вступая в диалог... с вечностью, наблюдаемой ближе к финалу, так называемым, парадом планет, которые раз в тысячелетие выстраиваются в одну линию. Общее состояние растерянности и ностальгической грусти всё более отчётливо пронизано у героев ощущением космизма своего временного пребывания на этой земле, захватывающего их своей приобщённостью к вечному.
Название «Парад планет» имеет ещё подзаголовок «почти фантастическая история», который мне кажется излишним. Может быть, он важен только для тех, кто и впрямь нуждается в подсказке, чтобы не стушеваться и не смутиться на неожиданных путях отчасти странного и не совсем правдоподобного путешествия, неожиданно предпринятого вполне зрелыми и уже состоявшимися в своих биографиях мужиками. Но история эта всё-таки сколь фантастична, столь и реальна. Ну, что же такого фантастического в ощущении беспокойства или смятения духа, охватившем наших путешественников, уставших от повседневности? Разве не может опостылеть реальность, от которой иногда так хочется оторваться и парить в собственных эмпиреях с юношеской безответственностью? Фильм звучит доверительной авторской интонацией, обращённой к нам нежным интимным посланием. В этом смысле - повторюсь! - он занимает совершенно особое место в работах Абдрашитова вместе с «Армавиром», звучащим, конечно, гораздо более жёсткими трагическими интонациями.
Герои «Парада планет» принадлежат тому же поколению, что и сами авторы фильма, чья зрелость пришлась на эпоху, казалось, навсегда победившего «застоя», так называемого безвременья, когда время для всех остановилось, и вся жизнь укрепилась в своей безнадёжной и стабильной недвижимости. В то же время, этот возраст называется средним и, как известно, в любые времена чреват разными кризисами, когда жизнь пересматривается заново,
136
посещают сомнения и не кажется, что всё удалось или удалось как-то совсем не так, как мечталось. Нет, кажется, больше волнующих сердце перспектив и увлекающих жизненных планов. Все герои объединены прочувствованной вдалеке от дома и таящейся в привычных буднях общей для них горькой усталостью. Калейдоскоп жизни смешивает разные персонажи, складывая их в общий рисунок единого лирического героя, alter ego самого автора, озабоченного общей для всех памятью об ушедшем и неотвратимости движения жизни.
Обнадёживающие мечты затерялись где-то в тайниках души, оскоплённые уже сложившимися, привычными буднями. Всё уже состоялось. А время идёт, и годы капают. И скучно, чтобы не сказать, горько оглянуться на самих себя вспять, туда, где всё казалось таким значительным, важным и многообещающим, затерявшись теперь где-то за кулисами жизни, безвозвратно отделившись от тебя самого только воспоминаниями. Хочется забыться, нарушить привычный ритм, сделать какую-нибудь глупость, ступив на тревожную таинственную тропу неизвестности, теряющуюся в манящих далях. Выпрыгнуть, выскочить из наезженной колеи, которая уже так цепко держит. Преодолеть предопределённость движения по этой колее хотя бы на короткий срок, который был дарован военными сборами, отделившими всех однополчан от обычной жизни, укрывая от контролирующего домашнего глаза...
Мгновение случайно обретённой свободы неожиданно для самих героев преображает тоскливую «обязаловку» военных сборов в захватывающие мужские игры, которые они хотят и могут продлить своим совместным, незапланированным, «почти фантастическим» путешествием. Не хочется им прерывать бой, так славно задавшийся для них на военных сборах, который они разыгрывают со всамделишной страстью, пользуясь картой военных действий, вдруг и всерьёз воодушевившись поставленной перед ними общей и... сладостно объединяющей всех военной задачей. Воодушевившись до такой степени, что сообщение об их «поражении», освобождающем от необходимости дальнейшего участия в «военных действиях», воспринимается ими сначала с недоумением, а потом и горькой досадой. Ну, не хочется им расставаться так быстро, бросая свои боевые посты, требовавшие общей ответственности, чтобы разъединиться на свои маленькие отдельные жизни, возвратившись порознь вновь в свою привычную душную повседневность без неожиданностей, от которой им хочется дистанцироваться подольше, продолжив странное совместное путешествие.
Разве фантастично такое намерение? Кому не хотелось хотя бы в мечтах, хоть временно улизнуть от привычных обязанностей, исчезнуть, испариться, окунувшись вновь в утехи былых мечтаний, с радостью «оторвавшись» в относительное и никем не контролируемое «небытиё», если бытиём обозначается осточертевшая рутина каждодневное™? Как сладостна хоть временная свобода от самих себя теперешних, беспредельно самим себе надоевших! Потому всё, что происходит с героями в течение фильма, может становиться интимно значимым для каждого зрителя.
137
Внешний сюжет или фабулу как череду событий можно изложить в нескольких предложениях. Только внутренняя наполненность этих событий составляет суть движения души наших героев. Все те действия, которые могли бы оказаться в других заданных режиссёром координатах всего лишь обычными и «нормальными», совершаются с тем особым тайным намерением открытой души, которая наделяет обычный окружающий мир почти ритуально значимыми смыслами, наполняющими «почти фантастическую историю», интимными откровениями.
Улизнув в никак не запланированное ранее путешествие, герои на свой лад продлевают время, отпущенное им на военные учения. И направляются они в начале своего пути в населённый пункт, обозначенный на карте военных действий названием Гуськово, попадая в странный городок, населённый одними женщинами. «Что за сон?» - восклицает один из них.
Этим сладким «сном», туманящим голову одиноких мужчин, в реальности мог запросто оказаться город наших ткачих Иваново, в котором, увы, смешно и странно смотрится, как это изображено в картине, единственным мужчиной городка манекен в витрине, обряженный... в свадебный костюм. Вымечтанный сотнями и тысячами одиноких женщин. Но, несмотря на то, что город такой и впрямь существует в реальности, в восприятии случайно попавших в него мужчин он смотрится одновременно дикой и вожделенной реальностью, материализующей ирреальность мечты о своей собственной востребованности у каждой юной красавицы. Почти бред, немножко смешной, немножко грустный. Почти осуществившаяся мечта подростка о своей невероятной сверхценности. В воздухе над танцплощадкой, где каждый неожиданно явившийся пришелец из мужского племени оттанцовывает на свой лад свой собственный танец, зависает то трепетное женское ожидание, которое каждому из танцоров априори гарантирует сильно завышенную оценку со стороны слабого пола с тайной надеждой на грядущую свадьбу...
Вторым, важным пунктом, обозначившимся на пути наших путешествени-ков станет дом для престарелых, где тоже, теоретически, можно оказаться безо всяких особых фантазий, просто заплутавшись в лесу или, более образно, на дорогах жизни. Оказаться в доме для престарелых можно, но большинство стараются обойти стороной это грустное место. Начало и, увы, конец пути! Наши герои попадают в это гиблое место, более не сулящее будущего, поначалу уткнувшись в кладбище. А потом уже в стариковский саркофаг, существующий вне всякого текущего жизненного контекста.
Этот дом, внешне похожий на имение, хоть и пахнущий изнутри обычной столовкой и старостью, окружён парком, являя собой в поэтическом воображении «тихое», но пугающее «пристанище», которое, как и «город невест» овеяно в этой картине всякий раз колдовским маревом остановленного мгновения, на самом краю, концентрирующим в себе тайну жизни. Чувства героев взвинчены и обострены, готовые к восприятию той главной тайны бытия, которая никому не открылась. За этой тайной, не подозревая того, они тоже отпра-
140
вились в своё путешествие. Город невест вернул им ушедший смысл терпко вибрирующей молодости, когда всё казалось желанным и возможным. Дом для престарелых намекнул им на скоро грядущее будущее, которое, так или иначе, приобщит их к общей судьбе. Какой именно и конечной ли?
В момент действия героям картины объективно обозначилась середина того жизненного пути, которым следует каждый. С ностальгическим трепетом оглядываясь назад и с опаской прозревая подступающую уже старость. Между началом и концом укладывается жизнь. Человеческая история складывается из этих жизней. Мы не знаем, с чего она началась и куда устремится дальше. Жизнь состоит из выборов и предпочтений огромного количества людей. Эти выборы и предпочтения составляют историческую память, которая сопутствует нам, подпитанная воспоминаниями собственной молодости. Всё это осязается вкупе недоговорённым, но ощущаемым обнажёнными нервами наших путешественников, задающихся самыми общими, но для всякого человека интимными, главными вопросами жития-небытия.
Между городом невест и домом для престарелых герои окажутся вынужденными в сумерках ночи расположиться на привал у костра, поспособствовавший откровенным мужским разговорам об итогах предавшей судьбы, подведённых между молодостью и старостью. Так или иначе, но будет суждено нашим героям в финале, отпутешествовав всласть, вернуться снова домой к своим «хижинам». А куда же? Ставки сделаны, господа... Вот, вроде бы, и весь сказ. Но весь ли?
Само действие и передвижения героев между обозначенными пунктами пронизано тревожащей нотой космизма этого путешествия, вибрирующего приподнятой над реальностью растерянностью перед явившейся внутреннему взору громадностью Бытия. Неприкаянное сиротство, замирающее перед лицом вечности. Художественное пространство фильма располагается на том сдвиге, который возникает между бытовыми конкретными событиями и той заоблачностью Бытия, где вершится общее для всех планетарное движение, коснуться которого жаждет страждущая душа, с радостью откликаясь его позывным, как нам верится, сигналам. Ведь где-то рядом с планетарным движением или непостижимой надмирностью соседствует микрокосмос нашей жизни с её началом и предопределённым каждому концом, между которыми гнездится вечность. Во всяком случае, об этом свидетельствует за лавие картины - «парад планет», за которым мы напряжённо следим вместе с героями и вслед за авторами с территории дома для престарелых в странном обществе полуживых мумий и знаменитых мертвецов, вооружившись телескопом общего соучастия в общем действе, называемом сосуществованием.
А потому, если душа ищет опору, то дом для престарелых оказывается не просто бередящим сердце сборищем никому не нужных стариков, но нами самими, со всей нашей историей, нашим прошлым, в котором уживаются разные старики: от Сталина и Хрущёва до Станиславского и Горького, от безвестного татарина в тюбетейке до ушедших в прошлое знатных дам. Всё и разное, веч
141
ное наше, монументальное, как общий постамент жизни, потрясающе озвученное «молодым» Шостаковичем в соотнесённости со «стариком» Бетховеном, которым был озвучен в фильме звенящий и натянутый напряжением, как тетива, драматический кусок гуськовских «блужданий» после танцплощадки в «сумрачном лесу» несбывшихся, вымечтанных молодых надежд, а, может быть, и вовсе никогда не могущих сбыться...
Возвращаясь теперь к началу фильма, можно определить, что отчётливое авторское намерение увести нас из конкретики бытово достоверного события военных учений в иное метафизически значимое пространство - изнутри - вовне - до конца определяется в сцене купания «убитых» солдат, «духов», как они именуют себя вроде бы в шутку... В тот момент, когда мы окунаемся вместе с этими «духами» не просто в речку или какое-то озеро, но по ощущению от кадра, я бы сказала, в околоплодные воды бытия, то чувствуем чьё-то хранящее нас присутствие... Так снят весь этот кусок! Купание становится своеобразным омовением в сакральной чаше перед скоро грядущим путешествием вперёд и вспять, которое неожиданно для себя скоро предпримут наши герои, пока лишь подкалывающие друг дрга вполне земными шуточками: «В нашем полку прибыло... Ещё шесть покойников... Закурить найдётся?.. А, может, тут кто с арматурного есть, а?... А я мясником...»
Как я уже заметила, Абдрашитов всегда осознанно аскетичен, никогда не пользуясь в своих фильмах подчёркнутым символизмом изобразительного решения. Метафизическое гнездится у него в самых простых, первоначальных клеточках будней, не выделенное никакими специально туманящими эффектами. Потому особенно трудно определить, каким образом ему удаётся добиться этого чудотворно волнующего перехода от действия к действу. Отчего простое купание начинает вдруг восприниматься как омовение? Может быть, из-за ритма отъзжающей камеры, фиксирующей со спины голых мужиков, несущихся к речке и незащищенных в своей обнажённости, за которыми расстилается светящееся неземной гладью водное пространство, которое начинает чудиться «вечным покоем»? То ли этому ощущению помогает замечательная музыка, сопровождающая этот кусок? Но всё вместе работает на это восприятие, отсылающее мысль куда-то далеко, к вечному перворождению...
Так строится всё повествование. Не просто танцплощадка в городе невест с бередящей душу музыкой шестидесятых, а знак молодости, эмоционально окрашенной теми фигурами танца и ритмами, которые, едва коснувшись нас, уже остались, оказывается, в нашем ушедшем прошлом, исчезнув в серости настоящего, похоронившего былые надежды и мечты, которыми, думалось, определится значительность каждой судьбы. А какой заражающей открытой радостью и ровно такой же грустью неизбежности расставания окутан полёт на карусели! По кругу. Сколько волнующих надежд и терпкости касания в интимных деталях приближения внутри каждой пары! Сколько доверчивого и горько-несовершившегося в тех полнящихся чувственностью блужданиях в туманном ночном лесу и новом омовении в реке, подсвеченной лунным све
142
том. И озвученных как Бетховеном, так и вполне мирским, но пронзительно трогающим диалогом между Костиным (О.Борисов) и его неслучившейся возлюбленной... На её нежный призыв «Подожди!», Костин, неумолимо отделяясь от неё, гребёт в другом направлении, успокаивая: «Ну, что моя хорошая?» и жёстко итожа: «Куда ты со мной? Зачем? Там нет ничего...» - «Я утону из-за тебя» - «Не утонешь. Давай, плыви домой».
«Там нет ничего». Как страшно и безнадёжно звучит в его устах ЭТОТ итог. И где это ТАМ? «ТАМ» - что виделось за горизонтом? «ТАМ» - что, думалось, случится за поворотом? «ТАМ» - которого не оказалось в реальности, обернувшейся скучной обманкой. ТАМ, которое сомкнулось с НИКОГДА.
«ТАМ» - это ещё где-то ВЫСОКО, как позже намекнёт Абдрашитов, направив взгляд камеры на самолёт, в капсуле которого застыли и замерли в высоко вершащемся перелёте спящие пассажиры, летящие где-то НАД нашими путешественниками. ТАМ - это уже где-то между небом и землёй, где по-детски сладко тоже прикорнули такие же путешественники, соединённые вместе со своими земными собратьями этим случайным мгновением... Сложно выразить во всей полноте всю гамму чувств, пробуждаемых таким тёплым по ощущению куском, связующим воедино доверчиво спящих пассажиров самолёта с их единокровными землянами, заснувшими у гаснущего костра, вокруг которого они только что сушились, грелись и исповедовались друг другу. Теперь самолёт мирно проплывает над их головами, вмонтированный в их сон, обещающий после исповеди быть спокойным.
Пробудившись, мужики продолжат своё упорное одинокое путешествие, не соблазнившись зовом своих призрачных сирен. Уже позади и вместе с ними остались также поведанные друг другу сокровенные мысли и тоскливые жизненные передряги, высказанные всеми, кроме идейного вожака Костина, которого ситуация заставит высказаться позднее, признавшись перед названной матерью вослед своим товарищам в такой же оскоплённой неполноте своего собственного существования.
Самолёт с пассажирами пролетит для наших героев незамеченным. Позднее они устремят свой взор сквозь него и дальше... к звёздам... Ожидая оттуда ответа... А салон самолёта со спящими пассажирами даст зрителю дополнительную поэтическую ноту для восприятия всей череды событий в ином, более возвышенном измерении... Неожиданная и точная, многозначная поэтическая вставка окрасит следующие затем предрасветные пейзажи космической значимостью, в тишине которой душа по-особому отзовётся и на прозрачную дымку, и на движение в этой тишине... увы, беззвучно ползущих танков... где-то там... далеко... на горизонте... Ползущих так мирно, но нарушающих наше воцарившееся в это мгновение душевное благолепие мелькнувшей тревогой... Зачем? И куда? Там тоже сидят такие же, как мы, и те же наши братья-земляне...
То, что в художественной ткани Абдрашитова так легко прослаивается сюжет всполохами дополнительных смыслов, требует от его интерпретатора
144
таких длительных и неисчерпывающих вербальных объяснений, которые помогают только приблизиться к значимой целостности его образов. Кажется важным поделиться со всеми всей пробуждаемой его кадрами ассоциативной круговертью собственных чувств и размышлений. Где-то здесь притаилась чарующая тайна притяжения абдрашитовского экрана.
Сюжет движется от космического обратно к могильному, когда, покинув остров, где жёгся костёр, путники ступают на заросшее кладбище с покосившимися крестами могил, сквозь которые просматриваются чьи-то многоликие тени. Эту переправу с острова на обитаемую землю придётся преодолеть вместе со своеобразным Хароном (Б.Романов) в рубище, но не мрачным старцем, а вполне светлым ликом кандидата химических наук. В этом образе снова не будет никакой натужности, а всякая деталь окажется не придуманной, но заимствованной из сегодняшнего дня. И лодка со случайными пассажирами будет пересекать не подземную, но величаво текущую реку, точно странную модификацию переправы, разделившей грешную землю с таинственным царством смерти.
В монтаже и ритмической организации кадра, озвученной музыкой Ганелина, возникнет не просто дом для престарелых, но, скорее, настораживающее Царство Смерти, влекущее к себе и таящее пугающую чертовщину. В этой будто бы уже потусторонней толпе мы увидим разные, в том числе и известные лица прошлого, соединённые с нашими героями нерушимой мистической связью. Никуда не денешься ни от грядущего конца, ни от преследующего нас вечно живого контекста со своим собственным прошлым, как личным, так и историческим (это личное незыблемо предопределяющим).
На сценической площадке прошлого, населённого разными стариками, нам придётся услышать признание Костина, промолчавшего у костра, но всё-таки вынужденного, хоть и с трудом, заговорить под пытливым вопрошающим взором чьей-то матери (Л.Гриценко), спутавшей его с собственным сыном, давно и навсегда потерянным в блокадном Ленинграде. Придётся ему, как на допросе, признаться ей, что он, увы, «не может назвать себя добрым». А неразговорчивость свою объяснить, к растущему недоумению неожиданной «матери», возникшей усталостью от давно уже переговоренных слов. Ему придётся, вымучивая слова, рассказать, что когда-то он был хорошим учеником, а потому захотелось ему, как многим его тогдашним сверстникам, стать астрономом, чтобы открывать новые звёзды. Но... все они оказались уже давно открытыми...
В предфинальном куске фильма будущее закольцевалось с прошлым магнетически цепкой обратной связью. В обнадёживающей, единящей надежде вся толпа соучаствует в обещанном уникальном зрелище парада планет, под гипнозом которого люди конфигурируются будто направленным на них единым взглядом оттуда, проницающим вечность. В ожидании глобального ответа, который, может быть, из глубин мироздания осветит на мгновение смысл скучного бытования, давно уже не тревоженного никакими высокими идеями... Пленительный и полный искусительного соблазна симбиоз ещё живых
145
в Царствии Мёртвых, зачарованных величием безмолвной Вечности, как бы охватываемой их взором и соединяющей всех...
Неужели всё это прозрение случилось с нашими героями только для того, чтобы проснуться утром (будто после вещего сна) и, забыв всё, отправиться вспять? То есть обратно домой... Через такой же перелесок, что возникал в финале предыдущей картины Абдрашитова «Остановился поезд»... Но ещё дальше и дальше пошагают наши невесёлые герои, с грустью пересекая этот перелесок и минуя его, чтобы направиться к тем же самым многоэтажным башням, которые, как первые маяки, обозначат скрывающийся за ними родной город наших героев... К которому они подойдут... И в который они войдут поначалу новым коллективным героем, чтобы вновь раствориться в нём, распадаясь опять на отдельные лица, ведь только что составлявшие общее целое, чтобы продолжить предначертанное им по отдельности проживание собственных жизней... Только в воздухе снова прозвучит на прощание породнивший их в путешествии и до боли тревожащий сигнал последней переклички: «КАРАБИ-И-ИН!» - «КУСТАНАЙ»... Как последний привет друг другу... Который вот-вот до конца растает в воздухе, растворившись в сладостных и греющих душу воспоминаниях... В ритмах замечательной музыки, сопровождающей уже лёгкое, чуть ироничное прощание всех со всеми: со Слоном (П.Зайченко) и Пуховым (А.Жарков), Афоней (С. Никоненко) и Спиркиным (А.Пашутин), Химиком (Б.Романов) и, наконец, Костиковым (О.Борисов), означенным напоследок по-особому таинственной «полуулыбкой Кабирии», также учащающим шаг, поспешающим в свою «нормальную» жизнь...
Может быть, выражаясь «художественно», в ту преступно-«нормальную» жизнь, которая зовётся обыденностью и за которую некого призывать к ответу. Можно только временно от неё оторваться, пережив ощущение полёта в явленном наяву сне соучастия в параде планет, вдруг приоткрывшем ту узкую створку, по которой душа стремится вырваться из ловушки в надежде на воссоединение с чем-то главным, всё-таки маячащим впереди.
Расставаясь с «Парадом планет», стоит помнить, что действие в этом фильме развивалось Абдрашитовым уже в особом мистическом пространстве. При всём возможном правдоподобии представленного нам путешествия, чувствовалось в его атмосфере что-то не совсем только правдивое. Через особые аксессуары действия автор осуществлял тот сдвиг в нашем восприятии происходящего, который всё более отчётливо смещал все события от реального к ирреальному, завораживая своим волшебством.
Пересматривая сегодня одну за другой картины Абдрашитова, обнаруживаешь у автора особый дар предчувствия, то ли позволяющий ему быть с историей на «ты», то ли изначально быть рождённым оракулом, вещающим вслепую о тех симптомах наших болезней, без лечения которых нашему обществу суждено погибнуть. Чему вскоре мы станем свидетелями, не откликнувшись вовремя и на тот диалог, который предлагался нам его фильмами.
Итак, именно в «Параде планет» до конца и впервые определилось то, в
146
конце концов, главное русло, по которому устремится далее кинематограф Абдрашитова, продолженный «Плюмбумом», только внешне похожим на традиционное реалистическое повествование. Как будто бы! Но, как уже отмечалось, начиная с «Охоты на лис» и «Остановился поезд», содержание кадра уже не исчерпывается более только натурными зарисовками, близкими, порой, к документу. Так как за этими «документами» отчётливо возникает чаще не замечаемая нами, но организующая эти кадры драматическая правда. Она никак не прячется режиссёром, открыто существуя в кадре, но, увы, не всегда прочитывается нашим близоруким взглядом. Хотя умение быть точным в деталях, видеть бытовую жизнь в точно соответствующих ей приметах останется одной из важных составляющих абдрашитовского экрана.
Он всегда останется столь внимательным к мелочам, сопровождающим нашу жизнь и не перегруженным никакими сверхвыразительными намёками, что душа окажется потревоженной родственной узнаваемостью своей среды обитания. Важно, что вовсе не простые бытовые конфликты зреют у персонажей Абдрашитова именно в этой, нашей, до всякой маленькой детали узнаваемой среде... Конфликты, обусловленные независящими от них и незамечаемыми внешними социальными условиями, которые их формируют, мистифицируя взаимодействие персонажей.
Драматизм поведения или поведенческий механизм действующих лиц формируется в фильмах Абдрашитова внеличностным для них социумом, лукавым медиумом, внедряющимся в их судьбы и предопределяющим развитие событий. Может быть, именно такой мужественный и бесстрашный, подлинно реалистический взгляд на жизнь этого художника демонстрирует реальное соотношение текущей жизни с определяющим её закулисным законом, над ней парящим, определяющим главное большое действие и на деле владеющим ситуацией.
Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым
Так под каким всё-таки соусом вас пропустили?
К сценарию практически не было никаких претензий. Приходят повестки из военкомата, и мужчины с охотой идут защищать родину... У них товарищеское отношение к женщинам... А выполнив свой долг, ностальгически пообщавшись, они возвращаются домой... В картине никто не пьёт и не курит. Актёры мне говорили: «Если семь человек в кадре, то как может быть, чтобы никто не курил?» Так что чиновники в Гэскино запутались, не зная, к чему придраться. Тем не менее, потом мы сдавали картину девять месяцев. Сложности при этом возникали не у нас, но у тех, кто принимал картину. Они не могли сформулировать свои претензии. Потому что на все претензии был
148
готовый ответ: наши герои не пьют, не курят и, получив повестку, дружно идут защищать нашу родину. А потом возвращаются домой.
Так... Ну, тогда расскажи, пожалуйста о безоблачном периоде вашей работы над фильмом...
О «Параде» мы думали долго, начиная с времён финала «Охоты». И даже работая над «Поездом», продолжали говорить о нём, разминать эту тему... Тем не менее, несмотря на такой долгий собственный «подготовительный период», когда начались уже съёмки, мы почувствовали себя слепыми щенками. Всё-таки это оказалась для всех весьма неожиданная материя, и для Миндадзе и, безусловно, для меня, и для художника Толкачёва, нашего выдающегося друга, который просто развёл руками, сказав, что «вообще ничего не понимает».
Всё-таки оставалось ощущение некоторой невесомости, нехватки гравитации реалистических координат... У нас с Миндадзе дух захватывало оттого, что мы недопонимали, как со всем этим быть.
Сама понимаешь, что в «Параде планет», на самом деле, возникает какая-то неожиданная, трудно прощупываемая природа киноматерии... И, конечно, надо отдать должное Миндадзе, который в сценарии всё-таки главное, основное сформулировал.
Полуграмотная критика потом зачастую задавалась вопросом, с чего это после «Остановился поезд» авторы неожиданно перешли на другой, условный, метафорический язык? Как это у них получилось?
Самым сложным моментом при этом оставалось... даже не знаю, как выразить эту сложность человеческими словами, а потому выражаю нечеловеческими, то есть киноведческими... самым сложным было определиться с природой условности и степенью её. Это я сейчас всё понимаю и могу объяснить, но тогда, тем более ещё по контрасту с устройством «Поезда», мы входили в совершенно новый материал, точнее в способ его освоения. Хотя в каком-то смысле - были куски в «Охоте», и в «Поезде» чисто кинематографической природы. Например, все пробеги Белова в «Охоте» или финал «Поезда»...
Конечно, именно эти куски выводят оба фильма на особый, иной эстетический уровень, когда самое главное и возвышенное выражается чисто кинематографическими средствами. Это очень важно!
Надеюсь, что там точная музыка, хорошие эмоциональные стыки эпизодов, обеспеченные драматургически.
И когда мы с тобой говорили о зимнем пробеге Белова после застолья с женой, поначалу с юмором играющей её Муравьёвой, когда в этой сцене вдруг возникает какая-то симпатичная страсть... он подходит к ней... и сразу
149
идёт этот пробег, высекая какую-то особую трудно формулируемую эмоцию. То есть я хочу сказать, что какие-то вещи уже случались в картинах, мы были к ним готовы, но...
Но два года работы над другой картиной в совершенно других координатах дали нам всё-таки много. Мы подошли к «Параду» более собранными. Это касается и сценария, и качества и количества диалогов, и вызревших представлений об изобразительной стороне картины. То есть, как я теперь понимаю, нет худа без добра. Эти два года пошли на пользу.
Но всё-таки, что стало первотолчком к созданию именно этого сценария? Какие сработали движки?
Трудно даже объяснить словами... Выходишь на формулу каких-то поколенческих дел, поколенческих ощущений, но это становится твоими заботами, выходящими за скобки «наших» забот... Хотя мы никак не ставили перед собой «написать портрет поколения». Там нет этой претензии.
Родственник Миндадзе, наш ровесник, рассказал как-то, вернувшись с военных сборов, что после них не очень-то хотелось возвращаться по домам, тянули с этим. И поначалу мы заговорили о том, что можно снять картину о том, как мужики, вернувшись в город, какое-то время живут в нём подпольно, тайно. Конечно, это была плодотворная стезя... Но когда Миндадзе предложил «гибель» героев, стало ясно, что качество замысла и его масштаб может сильно измениться, уйти в какую-то неведомую сторону, а, может, и ввысь. И сценарий «Сборы» эти векторы подтвердил.
Совершенно по-новому пришлось подбирать актёров. В фильме ведь нет характеров, нет развития этих характеров, есть только их обозначения, которые может сыграть любой нормальный профессиональный актёр. Это было сделано откровенно, это в природе картины. Борисов играл вовсе молчавшего человека. Моя задача заключалась в том, чтобы собрать группу, команду, банду, как хочешь. Вот эти семь человек. Вопрос пасьянса - «сходится» или «не сходится» из этой семёрки группа? Потому что каждый из них вообще-то мог бы сыграть каждую из этих ролей. Но пробы были посвящены раскладу этого пасьянса, смотрели, например, как они смотрятся вместе, сидя у костра. Вот они все сидели как бы у костра в павильоне и о чём-то между собой разговаривали, а мы следили за ними через камеру, наблюдали, выясняли, как что складывается между ними и как они вместе смотрятся.
Разве это павильон? Никогда даже в голову не пришло...
Нет, я про кинопробы... В павильоне в этой картине ничего вообще не снималось. Во время кинопроб мы только присматривались и выясняли, как складываются в общую композицию все исполнители. Более того, актёры практически переиграли все эти роли. Например, Борисов гениально делал
150
то, что потом делал Жарков, гениально играл этого алкаша в кепочке, ну, просто купался в этой роли. Так что постепенно, постепенно группа сбивалась в целое. Большая сложность была с поисками актёра на роль химика... Нужно было найти актёра - как потом кто-то сказал - одновременно похожего на Дзержинского и на Христа.
Ой, он и правда на обоих похож... Я, конечно, заметила только второе сходство...
И вот, наконец, откуда-то доставили Борю Романова... Вошёл абсолютно тот самый человек, который был нам нужен. Это как? Это какая-то такая -знаешь ли? - помощь... Откуда?...
Ты говорил о природе условности этой картины...
У нас по сценарию уже была снята вся экспозиционная часть, очень подробно. И там был этот астроном на работе, у него была ещё какая-то там любовница... Он приезжал домой, к жене и сыну, все персонажи были очень подробно экспонированы. Были там ещё какие-то смешные вещи, когда приезжали за героем Жаркова, а там, дома у него, оказывался уже другой хозяин, другой муж его жены... былые бойцы стояли в растерянности, в обиде за товарища, даже стычка была с незнакомцем...Появлялся некий таксист, их товарищ, жалел очень, что по здоровью не сможет отправиться вместе с ними. То есть достаточно подробная экспозиция, снятая, так сказать, в реалистических координатах.
И, конечно, в первой сборке всё это было, но стало вдруг чётко ясно, что картина сама отторгает вовне эту экспозицию. Сам фильм, оказавшийся принципиально другой природы, это реалистическое вступление не принял. И пикантность ситуации при сдаче, помимо всего прочего, заключалась в том, что нас, не принимая картину, заставляли не вырезать какие-то куски, как обычно, не глушить отдельные реплики, а вставлять обратно эту экспозицию. Понимаешь, для чего? Чтобы вырулить фильм к обычной повествовательно-сти, но, дело в том, что картина уже этот материл не приняла. Как выяснялось, естественное вполне реалистическое начало, с которого мы начинали экспозиционную часть, больше не годилось. Картина оказалась другой природы. Уже первая монтажная сборка показала иной закон устройства этой вещи, иную органику, сопротивляющуюся отснятой экспозиционной части... Заставляют, в основном, вырезать, а нас заставляли возвращать эти куски. Но картина отталкивала их, и это говорило о том, что мы вышли на какое-то другое, новое для нас пространство. Сейчас это ясно и просто, а тогда, может быть, всё делалось с той непосредственностью, которая, я думаю, что-то даёт картине...
А по твоим ощущениям, её можно назвать лирической, как мне показалось?
152
Я сейчас говорю немного о другом. Мы нырнули в картину, но материя была для нас в то же время совершенно неожиданной. Для всех нас - повторяю. Тем более, после «Остановился поезд» нужно было уйти в какую-то другую природу кино, поместить вполне условную историю в безусловность всех фактур...
Тем не менее, я хотела сказать, что в «Параде планет» для меня более откровенно звучит авторский голос... И картина воспринимается мною, как более интимная для вас... не по мысли, а по ощущениям...
Не знаю... это сложный вопрос... Могу только сказать, что входили в картину с большим трудом, долго искали эту степень условности, скажем, эпизода «города женщин».... Как мучился наш художник-постановщик Толкачёв, создавая весь этот город. В Серпухове целая улица была им переделана, как бы под женский город. Гэрод женщин, город одиноких женщин, целая улица с витринами, замечательно придуманными... Всё это осталось на каких-то фотографиях, но к тому времени оказалось уже ненужным картине. Фильм повёл нас за собой ... Возникло уже другое ощущение, диктовавшее, что нужно картине, а что не проходит никак...
Очень сложно было работать... сложно делать каждый кадр, буквально каждый кадр... Например, ассистент по реквизиту спрашивал меня о самых простых вещах, связанных, однако, с самой природой картины: «Вадим Юсупович, а чего это они так налегке приехали на сборы? У них же должен быть какой-то чемоданчик, портфель или рюкзаке вещичками... Ну, как же без них?» Я отвечаю, что ничего такого героям картины не нужно, вот такими необременёнными бытовой поклажей, они отправляются в путь... Но реквизитор человек ответственный - куда это они идут-бредут безо всяких вещей? Это неправда!
Тогда я для самопроверки говорю - ну, дайте им какие-то вещи и пошли! И герои пошли, и опять стало очевидно, что это проход из другой картины. И это было всем ясно. Не то, чтобы бытовая деталь была вообще плоха, но она не имела никакого отношения к тому, что мы делали. Так что командую - убрать все вещи!
Тут вступает художник по костюмам - ну, как же так? Они просидели всю ночь у костра, а вы почему-то заставляете гладить им рубашки? Они что, так до конца картины и будут ходить в глаженых рубашках? Или этот Спиркин, которого играет Пашутин, так и будет всё время при галстуке? Как это может быть? Ведь он спит на сене...
Речь идёт о таких, вроде бы мало значимых нюансах, но они определяли эту картину. Её природу условности. Хотя решения, о которых говорю, не заметны в картине для зрителей, к счастью. Это всего лишь частности, которые остаются в подкорке, работая на иной, не бытовой образ реальности.
кх, вот каким образом тоже задавался нужный камертон...
153
Конечно, это всё создавало определённую атмосферу, где, например, возникает город женщин, в котором, поначалу, кстати, в сценарии всё-таки был один мужик. В итоге, мы и его убрали...
Не знаю, как там всё было, но только манекен в витрине очень выразителен и ёмок...
Ещё бы, такой красавец стоит! И актёры поначалу тоже не очень понимали, что они играют... Как они привыкли у нас работать: а где развитие характера? Что? Как? Почему? И только где-то к середине съёмок они постепенно вошли в картину и блестяще, мне кажется, отыграли финал.
Как вы делали дом стариков?
Там появляются персонажи, как бы осколки истории, наши родители, родители родителей... Может быть, это сами постаревшие герои, не знаю... Они тоже там среди этих персонажей... Между прочим, там был и сам Сталин в своём френче... Была ещё такая выразительная история... В сцене, когда герой Зайченко подбегает в парке к художнику, который на мольберте что-то себе творит, пишет портрет какого-то старичка, тоже обитателя этого дома ...И вдруг мы видим, что, рисуя портрет этого человека, он, на самом деле, рисует портрет Сталина... Чем и объясняется реакция Зайченко... Он с ужасом смотрит на этого человека... Всё это возникало как бы само собой уже на съёмках, и было весьма выразительно. Но эти куски мы потом убрали из картины сами, ещё до всякой цензуры. Они, конечно, были бы эффектны тогда, в 84-м году... Но, считаю, мы сделали верно. Потому что, так сказать, общий угол зрения картины сразу становился уже, слишком конкретизировался, но не там, где нужно. И мы, несмотря на стенания половины группы, его убрали, что называется, железной рукой...
Правильно, конечно, натянутая струна между залом и экраном по-особому напрягается именно благодаря вот этой неопределённости...
Так что даже теперь, когда удаётся посмотреть «Парад планет», я вижу, что всё было сделано точно и абсолютно правильно, потому что слишком прямая конкретика тоже вне природы этой картины... Понимаешь, как странно? Сама картина оттолкнула, как вот это реалистическое начало, так и всякую конкретику публицистического толка... Это любопытно, и это было для нас совершенно внове...
Также поразительная вещь произошла в этой картине с музыкой... Потому что если просто сказать, что в одной и той же картине использованы вместе и
154
Бетховен, и Шостакович, и Вячеслав Гзнелин с авторской дипломной работой, и множество шлягеров 30-50-х годов, то это может показаться невозможным. Винегрет какой-то, который не может соединиться на одной фонограммной плёнке... Это нечто, не могущее быть... Но поразительно, что всё связалось какой-то странной органикой, там нет никакого отторжения...
Так весь этот музыкальный ряд вы вместе с Ганелиным решали? Как это, собственно, в голову пришло?
Нет, с Гзнелиным мы уже решали все вопросы по телефону... В это время он собирался эмигрировать... его уже практически не было... Так что все эти куски Шостаковича, Бетховена были найдены уже без него... Он отдал свою дипломную работу, которая звучит на проходах в Доме стариков и написал органное вступление к началу картины. Всё остальное обреталось потом, во время монтажа и озвучания.
То есть и Бетховен вкупе с Шостаковичем тебе самому пришли в голову?
Это не в голову приходит. Это случается иначе - ты сидишь и ловишь нужное тебе ощущение... Просишь звукооператора принести что-то такое этому ощущению соответствующее...Пытаешься сформулировать словами это ощущение. Замечательно, когда работаешь с грамотным, умным, чутким звукооператором. С таким я сделал несколько картин - Ян Потоцкий. Ты заряжаешь этот музыкальный материал, как бы монтируешь его к изображению... И начинается прислушивание.
Это твоя музыкальная память и интуиция... Так надо понимать?
Это какие-то предощущения картины в целом, подчас против всякой логики... Ну, давай попробуем... Нет, знаешь, здесь ощущение не сходится со звучанием, не то. Поставили Шостаковича и как-то под него сдвинули эпизод. «Гэроическая симфония», «На смерть героя, Седьмая» у Бетховена... Цепляет, с чего бы? Там любопытно то, что этот кусок Бетховена повторяется несколько раз, из части в часть переходит, и она опять начинается, но звучит, как рондо, а не просто, как повтор. И два раза в картине - попурри из старых шлягеров. Повторяю - винегрет... Но каким-то странным образом вполне органично существует в «Параде планет»... Не знаю, отчего... Это про музыкальность...
Мне нравится как поработал Эдуард Артемьев в «Охоте на лис»... Он, как мне кажется, замечательно справился со своей задачей и в эпических и в лирических кусках. Хотя они все сделаны на синтезаторе, без живых элементов... Он интересно вмонтировал таким пунктиром эти позывные сигналы, которые ловит Белов, такая тревожная азбука Морзе... И как ни странно,
I
156
так уместно синтезатор ложится на пейзажную часть, замечательно снятую Юрием Невским. Мне кажется это одна из лучших его операторских работ. В «Охоте на лис» очень органично изобразительно сочетаются конкретная среда, все эти интерьеры - колония, суд, вот этот завод, гараж - со всей пейзажной частью, вот этими лесами, реками, общими планами всех этих пробегов, о которых ты пишешь...
...не считая потрясающего финала...
Когда я затем пригласил Артемьева на «Остановился поезд», то он написал какие-то вещи, которые эта картина отторгла, а материал музыкальный был интересный. И в итоге там почти нет музыки. Только в финальной части Артемьев написал особый номер, сделанный на синтезаторе, но с наложенной живой трубой. Мне кажется, это была большая удача.
Я люблю работать с композиторами, с музыкальной составляющей картины.
Люблю процесс записи музыки, с большим оркестром, хором... Кино всё-таки искусство синтетическое, так что музыка в него многое привносит, если она, естественно, не просто иллюстрирует изображение, но создаёт вместе с ним определённый контрапункт, то есть привносит что-то ещё дополнительное, как-то усложняет чувственно-смысловое восприятие, наполняет изображение некоторым стереоскопическим эффектом.
Это Тарковский всё мечтал о картине совсем без музыки, но не сделал...
«Магнитные бури» у меня остались без музыки. Да, по-разному случается с каждой картиной... «Слово для защиты» была сделана знаменитым теперь Володей Мартыновым, и мне кажется, что у нас там было кое-что найдено и потом развито в других картинах... Поговорим потом о «Слуге», где музыка была написана фантастического качества, и всё получилось совсем загадочным образом...
Снимал «Парад планет» Владимир Шевцик. К этому времени мы уже, естественно, были с ним знакомы, он был вторым оператором у Заболоцкого на «Слове для защиты»... Были знакомы, хотя уже за плечами у меня был опыт работы с Заболоцким, Караваевым и Невским. Но мне казалось, что в этой работе должен быть какой-то другой почерк, другие световые фактуры, и я позвал именно этого оператора. Он тоже долго входил в нашу историю, но, будучи, конечно, мастером, понимал, что в фильме должна быть какая-то необычная изобразительная атмосфера со всякими «наворотами», где ему можно будет «погулять» с соляризацией, оптикой, особыми химобработками плёнки и прочее...
Но я ему сказал - нет, Володя, эта картина, похоже, будет иметь особую природу при всей безусловности реальных фактур - воды, леса, деревьев, ко
157
стра, платья на женщине, сена, танков... Должна возникать некая условность, природа которой какого-то необычного свойства. В кадре этой условности как бы не существует. Так что давай-ка снимать нормальными объективами, эквивалентными человеческому зрению. Никаких особых ракурсов, всё на уровне человеческого глаза... чтобы зритель узнавал эти фактуры, как родные и близкие... И Шевцик вошёл во всё это, и очень тонко снял картину...
Там возникает удивительное ощущение инопланетного пространства... Почему-то возникает...
В картине практически три общих плана. Купание погибших солдат и второй раз трансфокатор на всю картину - когда идёт парад планет. И ещё есть такая очень общая точка, когда они спят на сене - всё! Остальное сделано... чуть ли не бытово реалистически... Даже когда старики по перелеску идут на камеру, была поставлена задача полной узнаваемости безо всяких претензий, но при этом должно было возникать такое странное, завораживающее ощущение, о котором ты пишешь.
Впоследствии именно это и бесило цензуру... Вот нет ничего такого, чтобы схватить за руку, понимаешь? Ну, ничего! Как я тебе рассказывал, «они даже водку не пьют и не курят»... Надо было что-то сказать, но не могли. Самое трогательное из высказанных претензий, которые я услышал от советской цензуры, звучало следующим образом: «Что это такое? Ну, ходят они, ходят... Хоть бы порыбачили, выпили»... Но понятно было, что претензия была не к содержанию, а к эстетике, в которой они не могли ни рыбачить, ни водку пить. И эта какая-то чужеродная для них странность заводила цензоров в тупик, заставляя предположить, что у нас там что-то не так, есть что-то подспудное, но что? Цензуру бесила сама неуловимость эстетики, не управляемой их руками. И когда уже судьбу картины решал министр Ермаш, он попросил только добавить хоть что-то объясняющий титр «почти фантастическая история», чтобы, мол, подготовить зрителя к какому-то странному зрелищу, в котором герои странно как-то бродят среди женщин... что это за женщины? Тогда ещё впаяли за кадром текст-вопрос - «это текстильный городок?» То есть, «пояснили» зрителю, чуть ухудшив, конечно, картину, но ничего в принципе в ней не изменив... Но это, на самом деле, было уже позднее... А пока нужно было сдавать картину, и начальство, растерявшись и помня скандалы по «Охоте» и «Поезду», решило собрать худсовет, на котором уже наши коллеги потоптали нас от души...
Ну, да! Это был уже испробованный и хорошо сработавший метод, применённый к «Зеркалу» Тарковского, а иже с ним к «Романсу о влюблённых», «Осени», и по-особому примкнувшим к ним «Сталеварам» Карасика...
Да, стенограмма сохранилась, хотя не нужно, наверное, называть участни
158
ков этого худсовета - кого-то уже нет, кто-то далече... Можно только сказать, что состав худсовета был подобран тщательно. Во главе, конечно, начальство студии, редактура, товарищи из горкома партии, Гэскино... Не допустили людей, сразу оценивших картину... Михаила Абрамовича Швейцера, например, не пустили. Он был впечатлен картиной весьма и сказал об этом директору «Мосфильма», и оказался худсовету неудобен. Но вызвали других людей, наших коллег, приятелей даже... Им показали картину, дали команду «фас», и они устроили разнос, ух! И худсовет оправдал возложенные на него надежды, осуществил их руками моих дорогих коллег.
(смеюсь): но истина дороже...
Да, «истина дороже»... топтали картину охотно... Маститые были такие, крепкие, Народные... Удовлетворённо топтали... Бог с ними...
Но я никогда не вступал в диалог, обещал всё поправить и ничего не делал. Был удручён, обещал подумать. Но вообще, воспринимал все эти неприятности как должное. Понимал, что власть давала мне деньги на картины, и что же странного, что не принимала потом, скажем, «Поезд». Что же другого от власти ожидать? Поэтому я всегда относился к сдаче картины просто как к этапу своей работы, части профессии, если хочешь...
Кстати, когда я приехала на Запад в самом начале восьмидесятых и пыталась рассказывать в каких-то отдельных лекциях и статьях о Тарковском или наших полочных картинах, то всякий раз получала от западных людей недоуменный вопрос - «А где эти режиссёры взяли деньги на свои картины?» - Я говорила, естественно, в Госкино - «А кто же их запрещает?» - Госкино, чтобы не вдаваться в подробности - «А как это может быть?». А вот так и было, и это оставалось для Запада абсолютно необъяснимым парадоксом...
Как это обычно у меня в группе бывало? Вот мы первый раз везём картину на сдачу в Гэскино. А директор картины накрывает в это время стол, за которым нас ожидает группа. Мы едем сдавать картину и, конечно, её не принимают. Мы возвращаемся и садимся за стол. Пируем и рассказываем, как точно там и правильно всё угадали... Гэворили то-то и так-то... Вот так я всегда к этому относился. Хотя понимаю, что всё было бы гораздо звонче и известнее, если бы я устраивал по этому поводу шоу, знаешь? Где-то кому-то, что-то сказал... двусмысленно намекнул, пожаловался какому-нибудь журналисту с какой-нибудь там Свободы. Но я не делал шоу из того, что не принимали картину. У меня была только одна задача - спасать картину любым путём, и я рад, что это удавалось. От единственного шрама не уберёг только «Охоту на лис». Все остальные картины были спасены.
Очень интересна была реакция Райзмана. Мне вообще везло с людьми, которые были Мастерами, можно сказать, учителями, шефами, вот так как-то
159
совпадало: Ромм взял на курс, Райзман принял на студию. Юлий Яковлевич всегда замечательно ко мне относился, со вниманием и уважением. Наш тандем с Миндадзе пытался от всего оберегать. Я, естественно, отвечал ему тем же... Может быть, он был не столько высоколобым интеллектуалом, сколько человеком, щедро одарённым такими клетками, которыми он тонко чувствовал искусство... Несмотря на возраст, на специфику, так скажем, жизненного опыта, он чувствовал истинное искусство. Вот чувствовал! Помню интересный рассказ Гоебнева Анатолия Борисовича. Тогда они вместе были в Болшево, и Райзман, готовясь к съёмкам «Визита вежливости»(!), решил посмотреть, наконец, впервые Антониони. Он говорит Гоебневу - «я заказал для просмотра картину про эту их некоммуникабельность. Наша картина должна стать им ответом».
И вот они оказались в просмотровом зале, и Райзман дал команду запускать картину. И картина началась, эти долгие длинные антониониевские планы - «Вот-вот, всё видно, что через это они будут доказывать свою некоммуникабельность... ну, что это такое? Ну, что это? Опять общий план, ну, кто ж так монтирует? А-а-а, смотрите, как она идёт, ну, что это за проход? Ну, вот это содержание?»... Проходит какое-то время - опять какие-то комментарии. Но эти замечания слышатся всё реже и реже... Райзман замолкает, крепко сидит... смотрит на экран... А Гэебнев посматривал на него как-то краем глаза... И потом уже безмолвно Райзман досмотрел картину до конца. Зажёгся свет, пауза... Юлий Яковлевич встаёт и говорит: «Это, конечно, великий художник!» Это о Райзмане, о том, что, несмотря на видимую категоричность, он был настолько открыт искусству, что отступала всякая предвзятость...
Вот такой был человек! Хотя мне повезло меньше, чем Антониони, потому что он до конца жизни не принимал «Парада Планет». Он считал этот фильм полной творческой неудачей. Так что обрадовался потом появлению «Плюм-бума», полагая, что я выкарабкался после полной неудачи «Парада планет». Так что именно здесь, в этом кабинете, где мы с тобой разговариваем, он громил «Парад» за «отсутствие сюжета, развития характеров, бессвязность каких-то вещей... «Что это? Почему это? Кто это вообще изначально? Почему это так? Всё несвязно, необъяснимо, это авторский произвол! Как можно? Это делали вы, которые....... А у него была такая палка, линейка, с которой он ходил по этому кабинету, и, размахивая ею, громил нас... Но раздавался звонок от генерального директора «Мосфильма», и мы шли на очередной разнос к начальству. И там Райзман начинал с жаром доказывать, что «Парад» - творческое наше достижение, новаторская работа в современном кино, что фильм необходимо поддержать!..» Начальство не соглашается, разносит картину и нас заодно. Выходим, Райзман говорит: «Прав Сизов, прав!». И так продолжалось девять месяцев сдачи. Вот такой был человек! Вот так он нас отбивал. Здесь возмущался, переживал из-за творческого провала, а в высоких кабинетах защищал картину! Уникальный человек! 20 лет работы с ним - это творческое и человеческое везение, конечно.
160
На том самом худсовете он мрачно молчал, наблюдая за общими нашими коллегами. Но там были люди, которые вели себя прилично. Например, Марлен Хуциев, который защищал, говорил, что - «вы не чувствуете, там есть особая органика». Бондарчук, который повёл себя блестяще, безукоризненно. Уже в недомогании, но приехавший защищать картину, Владимир Басов. Хотя ни с кем из них я не был даже близко знаком..
Раздражала, как я понимал, особая природа условности этой картины, очень, я бы сказал, впечатляющая. Но и раздражающая. Повторяю, что при всей безусловности фактур посыл, был, конечно, над-реалистический. На экране возникал совершенно особый другой мир над миром реалистическим, узнаваемым, привычным.
Вы искали... Всегда было очень трудно предположить, какой именно будет следующая картина Абдрашитова, хотя делалась она в том же содружестве с Миндадзе...
Министру Ермашу, надо сказать, мы скорее обязаны, он был более «за», чем «против» картины. В каком-то парадоксальном смысле именно Ермаш спас «Охоту на лис». Он просто цинично понимал качество и по- другому разговаривал, когда его чувствовал. Известно, что наверху уважают тех, кого не любят, и не уважают, кого любят. Нас не любили, но уважали, я надеюсь...
Прошло много трудного времени, и однажды среди какой-то московской кинофестивальной ночи ко мне подошёл человек «сверху» и сообщил: «Ваша картина «Парад планет» едет в Венецию»... Сохранилась пресса с этого фестиваля, там впечатлились фильмом. Состоялась фантастическая пресс-конференция! Удивительно мне было, что там очень хорошо всё поняли и приняли. В жюри, правда, был соотечественник и коллега из тех, громивших. Картина ничего не получила. Но была замечена, её повезли на другие фестивали, в Авеллино она получила Золотое плато... Итальянцы не упускали нас из виду, так что в Венецию опять поехал наш фильм, на этот раз «Плюм-бум», сделанный в совершенно других координатах...
«ВЫ ЖЕРТВОЮ ПАЛИ В БОРЬБЕ РОКОВОЙ»
«Плюмбум» -1986
|Z
I Хоррозия разочарования и скуки, так часто поражающая средний возраст, как выяснится в следующей картине, оказалась вовсе не всеобъемлющим заболеванием в «загнивавшем» уже советском обществе. Отнюдь. Тогда всё казалось недвижным на века, и стойко ещё держались многие идеологемы, определяемые в словаре, «представлениями, из которых складывается самосознание народа». Подрастали молодые люди, учившиеся ещё в советской школе и не успевшие разочароваться тотально во всём. Это они, воспитанные уроками истории и советским искусством, верили ещё в правильно устроенное общество и обещанное им «светлое будущее», за которое кое-кто из них с юношеской горячностью чувствовал свою ответственность, готовый даже в мирное время той самой «жертвою пасть в борьбе роковой».
Таков герой следующего фильма Абдрашитова «Плюмбум» - подросток Руслан Чутко, умница и отличник, ответ
162
ственный, жестковатый чрезмерно по характеру и, пожалуй, слишком болезненно сосредоточенный для своего возраста на владеющей им идее - помочь обществу избавиться от мешающих ему «нелюдей» разного калибра. Для этого, назвавшись Плюмбумом (металл тяжёлый, но мягкий), рвётся Руслан Чутко к полноправному членству в тех добровольных отрядах, которые помогали тогда милиции отлавливать разных хулиганов, защищая благочестивых граждан «социалистического» общества от его же опасных «отбросов». Рвётся ещё подросток стать официальным членом такого отряда, хотя безо всякого членства или разрешения со стороны взрослых мужиков, он уже высоко зарекомендовал себя рядом своевольно предпринятых успешных действий. Хотя среди здоровых и тренированных мужчин кажется такой чужеродной и неуместной тоненькая, мальчишеская фигурка Руслана Чутко. Но характер! Кажется, даст фору любому профессионалу... Так что нет силы, способной удержать Плюмбума только на школьной скамье, заставив оставаться нормальным ребёнком. Рвётся он, (опережая свой возраст и наперекор всем правилам), ловить опасных, порой, нарушителей правопорядка. Вот такая юная действенная натура является прямой противоположностью Потапову, воспринимавшему, как вы помните, подобное дежурство, которым он расплачивался за билет на Таганку, безо всякой серьёзности и уважения. Только для галочки!
Самое начало «Плюмбума», на котором идут субтитры этой картины, отчасти напоминает начало «Охоты на лис», также обозначенное целеустремлённым движением машин, едва различимых в ночной темноте, фосфоресцирующей синеватыми отсветами. Титры картины сменяют друг друга на фоне петляющей загородной заснеженной дороги, по которой в зимних сумерках скользит забытый ныне автомобиль «Победа». Слух настраивается ритмом вкрадчиво вползающей в кадр музыки. Всё кажется в полутьме таинственным и неясным. Видно нам, что машина затормозила, кажется, у какого-то типичного для того времени дачного домика, а из неё выскочили какие-то люди, быстро окружившие дом, прежде чем кто-то из них вошёл внутрь. А внутри мы видим каких-то мужиков, увлечённо играющих за столом в карты. Скоро выяснится, что перед нами выслеженные дачные грабители, а приехали их задерживать специальные отряды тех самых добровольцев, что «действуют по поручению милиции».
Разыграв небольшую, короткую сценку, натренированные ребята быстро и вполне профессионально «сгребут» всю шайку хулиганов, грабивших дачи, среди которых окажется также невзрачный, невысокий, худенький подросток, сразу обращающий на себя внимание недетским пристальным взглядом больших колючих глаз. Как вскоре выяснится, этот подросток вовсе не соучастник банды, но... не слишком уважаемая в «порядочных» кругах, так называемая «подсадная утка», благодаря которой, собственно, и совершилось удачное задержание преступников.
Но чем далее, тем более становится ясным, что речь снова пойдёт не о каких-то преступлениях и полагающихся за них наказаниях, но о самом Рус-
163
лане Чутко, Плюмбуме, споры о котором долго не утихали после выхода этой картины на экраны. Неожиданный для всех образ подростка, созданный не просто воображением режиссёра и сценариста, но отразившейся в нём идеологией времени, был рассмотрен так пристально и подробно, что стал поистине ярким общественным явлением, спровоцировав целую череду взволнованных дискуссий, на которых не без горячности, а порою и с пеной у рта будет выясняться, кто такой Плюмбум, откуда он взялся и какие отношения складываются у него со зрительным залом?
С развитием действия фильма мы не узнаем, что именно случилось с пойманными взломщиками частного имущества, но, затаив дыхание, будем следить с разными чувствами за необычными переживаниями и действиями самого Плюмбума, добившегося со страстной настойчивостью своего полноправного участия в оперативных действиях, вопреки своему непозволительно юному для этого занятия возрасту. В фильме будет рассказана внутренне напряжённая история о талантливом мальчике и отличнике учёбы, не просто желающем, но требующем от взрослых «дядек» своего соучастия в их «трудах праведных» по обезвреживанию всяких преступных элементов, оскверняющих, по его искреннему убеждению, своими неправедными действиями «чистоту» всей нашей тогдашней жизни. Многих зрителей оторопь брала от неожиданной энергетики этого мальчишки...
Он казался таким странным и неожиданным, что не только зрители, но и многие критики заподозрили авторов в чрезмерном своеволии их фантазии, возмущаясь поведением и проявлениями Руслана Чутко. Много критических копий было сломано в своё время в спорах о нём. Так много, что даже годы спустя хочется внести в этот спор свою посильную лепту.
В далёком уже 1986 году в журнале «Советский экран» писалось: «Мы имеем дело с фильмом-ловушкой, интеллектуальным лабиринтом, в который очень легко втянуться, но выбраться из которого практически невозможно. Авторы фильма, так сказать, «вскрыли», «постановили», «заострили», а решать уже вам. Но решать мы не можем, потому что в картине отсутствует образ человеческой души. Нам некому сострадать, а значит, не на что обратить наше нравственное чувство. Холодный, сторонний взгляд, в котором нет ни капли сочувствия, вытравляет в картине всё живое. А если оно прорывается, как это случилось, скажем, в сцене проводов Марии, то авторы безжалостно его уничтожают».
Возражать такому автору трудно даже теперь, потому что, как это и раньше случалось с оценкой фильмов Абдрашитова, художественный текст «Плюмбума» снова оказывается скрытым от критика за семью печатями. Конечно, всякий подлинно художественный текст даёт возможности для разных трактовок, но при знакомстве с данным критиком создаётся ощущение его принципиального отказа следовать за автором по претящим ему «интеллектуальным лабиринтам», которые, однако, выстраиваются вовсе не своенравной прихотью художника. Эти «интеллектуальные лабиринты», пользуясь фразеологией
164
критика, становятся у Абдрашитова вместе с его сценаристом Миндадзе следствием уловленных ими сигналов, поступающих к ним изнутри уже не слишком благополучного общества. Так что драматически заострённый авторами образ самого Плюмбума, оказавшегося героем уже не нашего времени (то есть неуместным героем для времени создания этого фильма!), позволяет в его взаимодействии со своим окружением разглядеть не только его самого, но, прежде всего, и сопутствующее ему время. Разглядеть тот механизм уже совершавшихся тогда превращений не только в самом обществе, но и в нас самих, который бессознательно использовался нами для возведения внутри себя защитных барьеров в противостоянии былым, но ещё пропагандируемым в то время идеалам или, проще говоря, нормам поведения.
Об этом ещё раз свидетельствует равно тревожное восприятие Плюмбума, как его окружением, так и большой частью зрительного зала или критического сообщества. А ведь фильм уже давал зрителям возможность заново пересмотреть и проанализировать через неуместность действий подростка и осуществляемого им выбора уже исподволь запущенное тогдашним обществом видоизменение многих идеологем, недавно ещё определявших нашу жизнь, а теперь потихоньку этим обществом изживаемых. Так что не только «интеллектуальные», но ещё и болью сердца окрашенные авторские раздумья располагались тогда в самом эпицентре преподанных нам нравственных основ, так сильно поколебленных уже к тому моменту всё более агрессивно наступавшей на них новой не называвшейся вслух реальностью.
Многие грядущие, осуществлявшиеся и уже случившиеся социальные перемены, тайная подмена смыслов, осуществлявшаяся в нас самих, жертвах и носителях этих перемен, были освидетельствованы каждой следующей картиной Абдрашитова. Если бы мы были готовы тогда к широкому обсуждению на всех уровнях уже явленных нам художником наших общих проблем! Если бы разбирались уже тогда до конца, отчего такие противоречивые чувства вызывала у нас фигура всего лишь юного искателя правды Руслана Чутко, назвавшегося Плюмбумом! Если бы мы не были столь близорукими, то, наверное, сумели бы более отчётливо различить те водовороты, в которые время уже затягивало нас. Если бы наши собственные чувства не были полны такой сумятицей-
Так или иначе, но реакция на этот фильм оказалась самой непримиримой в противоположных точках зрения. У одних зрителей просто не было никакого сочувствия к юному «борцу» за наше «светлое» будущее, а другие не принимали его вовсе, полагая его грубым «очернителем» наших героических образов. Многим зрителям оставалось неясным, отчего они больше сочувствуют не герою фильма, а разоблачаемому им бездомному бедолаге - злостному алиментщику, ютящемуся со товарищами по котельным наших домов?
Суть странной метаморфозы нашего восприятия состояла в том, что большинство зала не сочувствовало Плюмбуму, хотя он помогал отлавливать не только не совсем безобидных бомжей, но также грабителей наших дач. А ещё
165
тех, кто уже тайком зарабатывал подпольным бизнесом, отношение к которому было тогда неоднозначным по определению, но явившимся вскоре из подполья на всеобщее обозрение в своём едва ли не «героическом» обличье... Вот такие странные парадоксы сопутствовали развитию нашего общества последних десятилетий! Ведь уже тогда, на исходе советской власти, нас подсознательно раздражало вмешательство ещё зелёного пацана в дела чёрного бизнеса, результатами которого мы уже пользовались исподтишка. Хоть и царапнуло тогда по сердцу ёрническое откровение подростка, будто ему сорок лет!
Дело в том, что оценка действий Руслана Чутко была окрашена нашим собственным внутренним смущением, если не сказать смятением пошатнувшихся в нас самих ценностных критериев, дряхлевших всё более откровенно. Вслед за автором, скорее разоблачавшим своего слишком бесчеловечного героя, мы оказались в то же время обеспокоенными вместе с ним, может быть, даже подсознательным чувством собственной вины перед этим странным юным персонажем, вобравшим в себя в чрезмерной мере всё то, чем была «славна» наша советская пропаганда и новая мораль. Которые мы знали, конечно, с букваря, но в реальной жизни давно уже не объявляя об этом вслух, игнорировали на практике. То есть жили той самой «двойной моралью», которую фильм вынуждал нас «перешерстить» для себя, плутая по предложенным «интеллектуальным лабиринтам», таящим ловушки, точно расставленные автором и намекавшие нам на ту самую двусмысленность всей нашей собственной жизни.
Та реальность, в которой мы жили и должны были ощущать «своей», вдруг ощеривалась к нам порождённым этой реальностью подростком, колким и неприветливым, назвавшимся Плюмбумом. Требовались немалые внутренние силы, чтобы взять на себя ответственность за такую судьбу, озаботившись тем превентивным диагнозом, который ставился фильмом, и означавшим болезненное расслоение официально принятой общественной морали с подозрительной практикой реальной жизни. Где-то здесь, в противоречиях революционно-важных и обывательски приемлемых категорий располагалась история подростка Руслана Чутко, виртуозно задуманная тандемом Миндадзе-Абдрашитова. Этот странный, рождённый ими собирательный образ Плюмбума был заражён той самой умозрительной для многих идеей, взаимодействие которой с внешним практическим миром было воспринято им слишком непосредственно.
Сама идея создания образа Руслана Чутко, посетившая авторов, была рождена их более или менее осознанным ощущением уже отмиравшей на практике идеологии. Оттого так драматично наше восприятие Плюмбума. Всё то, что с ним происходило и произошло, могло случиться только в нашей стране, якобы, всё ещё «строящегося» тогда «социализма», питаемого всё теми же особыми ценностями и поведенческими кодами. Эти коды были когда-то приняты нашим обществом как родные, оставаясь неизменными в своей официальной части, но неизвестными или, по крайней мере, абсолютно чуждыми запад-
168
ному миру, куда мы уже поглядывали украдкой и откровенно, забывая всяких Плюмбумов, всё ещё готовых, оказывается, к немалому нашему удивлению, веровать в эти самые ценности и даже пострадать в борьбе за них.
Следуя за течением фильма, замираешь в горестных размышлениях о почивших жертвах вскоре вовсе отброшенных нами идей. С трепетом вглядываешься сегодня в ту загадочную, исчезнувшую реальность, которая была так образно препарирована для нас по-особому заострённым скальпелем абдрашитовского миропонимания. Реальность идеологизированную, что была препарирована для нас художником для большей наглядности, не радующей глаз, но теребящей ум и скребущей душу. Вот такими приходится узнавать себя, читавших когда-то Аркадия Гайдара, рассуждавших на школьных собраниях о Павлике Морозове и повидавших в кино всяких разных «сынов полка»! А теперь вынуждаемых новым временем заново перебирать и перещупывать всё то, чем жили по сердцу или принуждению, не особо надеясь на перемены. Которые, однако, произошли на нашем веку.
Но у нас, как всегда, всё непросто. Вот если представить себе Плюмбума героем самого идеологизированного американского кино, то перед нами «однозначно» возник бы какой-нибудь герой-одиночка без страха и упрёка, молодой супермен и победитель американской жизни. Но это законная привилегия «лучшего» общества. А у нас, как всегда, всё мыслится о том же самом, с точностью до наоборот...
Этот странный мальчик Руслан Чутко, назвавшийся Плюмбумом, пытается объяснить своё страстное стремление служить правопорядку в свободное от учёбы время тем, что он «ненавидит Зло». По молодости, видимо, даже сильнее, чем это было предусмотрено нашим тогдашним законодательством и неписаными общественными правилами. Хотя десятилетиями именно такой Плюмбум воспитывался нашими учебниками, призывавшими к общественной активности и борьбе за справедливость, не щадя живота своего. Так что не желает Руслан Чутко смириться с подонком, укравшим у него по праву сильного по-особому ценимый тогда вожделенный кассетник. Кому-то такое досадное событие покажется только обидной неприятностью. Но не Руслану Чутко, остро пережившему унижение и готовому отомстить своему обидчику по закону попранной справедливости.
Раненый теперь своим собственным горько задевшим его опытом, жаждет Плюмбум становиться «санитаром» всего общества, чтобы неповадно было всякому отребью портить жизнь добропорядочным советским гражданам. Но ещё нет в его сознании того разрыва между «героическим» и «правовым», который так жёстко и драматично разделил среднестатистическое большинство с носителем законности Ермаковым в фильме «Остановился поезд». Рвётся душа Плюмбума к героической защите закона. Можно даже предположить, что подросший Руслан Чутко, сбавивший обороты юношеского максимализма, окажется как раз тем самым следователем Ермаковым - верным служителем Фемиды... Или слишком дотошным Кротом, о котором мы ещё узнаем
169
в «Пьесе для пассажира», недооценённым в своём судебном департаменте в лихие девяностые и уволенным со службы в чехарде разнообразных постперестроечных идей...
Зачем понадобилось Абдрашитову с Миндадзе сочинить своего Плюмбума, который потом так органично вошёл в наше сознание, что стал почти что именем нарицательным? Что такого специального хотел рассказать режиссёр, следуя за Русланом Чутко на коротком отрезке его судьбы, определявшейся слишком буквально воспринятой им догмой личной социальной ответственности за всё происходящее вокруг? Откуда взялась в подростке такая недетская бескомпромиссность, почти болезненная сосредоточенность на главной своей идее - выполоть из жизни человеческие сорняки, разделить ценные для него зёрна от плевел?
Откуда? Да, из своей же собственной семьи, школы, кино или прочитанной им литературы... Только не всякий ученик, изучая теорию, непременно спешит реализовывать её на практике. Но именно Плюмбум интересовал режиссёра как чистый и беспримесный, а потому опасный продукт провозглашённой нами идеологии; интересовал как образ, рассмотренный в предельно концентрированном виде. Скольких комиссаров, красноармейцев, генералов, солдат, передовых рабочих, горожан, председателей колхозов и активных сельчан промелькнуло перед глазами такого Плюмбума в газетах, книжках, радио, теле-и киноэкранах?
Удивительно, что на этом общем для всех фоне Плюмбум, как я уже сказала, воспринимался тогда с удивлением, растерянностью, негодованием, непониманием и, наконец, с восторгом от новизны сказанного. Тот особый сдвиг от «нормы», который предприняли авторы, создавая вполне метафорический образ Руслана Чутко, многими воспринимался с трудом, не умевшими разделить заострённо противоречивое с принятым и «нормальным», ожидая от героя соответствия привычной, каждодневой видимости «правильного» поведения. Этот странный, настырный мальчик кого-то пугал, кого-то восхищал, а кого-то оставлял в недоумении. Более того, как обмолвился однажды Миндадзе, Плюмбум был, оказывается, задуман даже не как «человек, а как гомункулус», созданный художественным воображением авторов, преувеличившим ту болезненную составляющую личности, которая должна была просигналить обществу о таящихся в этом обществе страхах как следствии официально принятых моральных норм и поведенческих догм. Очень важно не забывать, что всякое точное художественное преувеличение имеет тенденцию восприниматься куда как более правдиво и многосложно, нежели простая бытовая схожесть. Поэтому художественная правда, заложенная в Плюмбуме, оказалась со временем, может быть, ещё более значимой и дискуссионной, нежели предполагалась самими авторами.
Кажется даже смешным, но всем показалось странным, что Руслан Чутко, мальчик из простой благополучной московской семьи, где с упоением поют отнюдь не официального тогда Окуджаву, призывавшего всех друзей «взяться
170
за руки, чтоб не пропасть поодиночке», так непосредственно воспринял этот сигнал прямым указанием к действию, остававшийся для большинства только трогательно умилительной фигурой поэтической речи. Видно, на удивление взрослым, те же самые слова очень популярной авторской песни могли восприниматься впечатлительным юным подростком, назвавшим себя Плюмбумом, совершенно иначе и с прямолинейной коррекцией собственных жизненных принципов? Чудеса! Но данные слова поэта в восприятии Руслана Чутко, видимо, оказывались направленными прямо и непосредственно лично к нему, будоража совесть и взывая к сопротивлению рутине. На баррикадах, воздвигнутых в тайниках его подросткового сознания, всё ещё жаждущего справедливости. Желательно для всех!
А советские mass media тоже на свой лад давили на молодые мозги. Кстати, именно телевидение, его святящийся голубой экран как важная составляющая ежедневного быта неоднократно возникает в картинах Абдрашитова точно задействованной деталью повествования. Его взаимодействие с героями всегда смыслово существенно и эмоционально значимо. Неслучайно после чистого, честного Окуджавы с экрана телевизора в той же комнате звучит, не без авторского юмора, официально препарированная романтическая песня, зовущая в «дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю», ведущую за той правдой, которую «они знают». Едва ли кто-нибудь слушал эти песни всерьёз, но они всё равно поселялись в памяти, звучали фоном и не могли не воздействовать на подсознание. Пропаганда, как и реклама теперь, всё равно работает, хоть и ослабленно, хоть и незаметно, но искушая разум и заставляя учащённее биться молодые сердца. Абдрашитов всегда умел так организовать атмосферу действия, чтобы она максимально полно соответствовала нашему осмыслению обживаемого нами экранного пространства.
Как трогательно воспринимается сегодня в фильме кажущаяся теперь такой захолустной демонстрация тогдашней моды - предвестник нынешних «пре де порте». Сколько копий было сломано тогда вокруг этих показов, сколько наложено запретов! Сейчас о Зайцеве, моделях и сложной атмосфере вокруг этого, как теперь это называется, «бизнеса» слагаются легенды и творятся документальные фильмы. Но тогда все эти новые, иные ценности только начинали неуклюже вползать в жизнь советских граждан с чёрного хода, не задевая интересов самого Плюмбума, исповедовавшего с юношеским максимализмом другие ценности и воспринимавшего этот показ только с насмешливым раздражением и свысока, чуя за дорогостоящими тряпками только корыстную деятельность подпольных дельцов... Чего стоит его собственное детское куцее пальтишко, которое безо всяких проблем носит сам Руслан Чутко, ровно такое же, как у большинства его однокашников. Ничего лишнего!
Все привычные идеологемы и всё менее соответствующая этим идеологемам жизнь, откладываясь в головке очень неглупого мальчика Руслана Чутко, как принято теперь говорить, «взрывают ему мозг», требуя от него самых решительных действий. Как может он позволить себе не обращать внимания не
172
только на воришек, но и на тех «бедолаг», которые, прячась по подвалам многоэтажных домов, утаивают алименты от своих детишек? Как может он не помочь милиции отправить их всех за решётку, снова войдя в доверие к бомжам, как и дачным грабителям? Не предполагая ещё, что бытовое сознание большинства скоро изменится до такой степени, что этих бомжей безо всякой милиции станут просто сжигать на улицах и в подъездах, чтобы не мешали «нормальной» жизни. А ведь тогда ещё зрителям казалось негожим для молодого юнца втираться в доверие к бродяжкам, чтобы, задружившись, сдать их милиции. Да ещё отужинав с ними дикой уткой, совместно отловленной на Чистых прудах под бравурно звучащую песню о «лётчике, набирающем высоту», у которого «руки тоскуют по штурвалу»... Вроде бы, не этично - казалось нам тогда. Но Руслан Чутко, пронзённый своей идеей, не задаётся этим вопросом. Максимализм подростка жаждет полного и положительного результата своих действий. А как же быть с правосудием, которое не щадит виноватых?
Плюмбум чувствует себя рождённым для великих свершений, далёких от чистенького, уютно приглаженного быта, «нормального» для других - для любимых мамы с папой. Но не для него! Ведь он хорошо знаком с мечтой об осмысленной, целенаправленной и правильной жизни, воспетой прежде и тогда ещё воспеваемой на разные лады многими нашими славными и менее славными соотечественниками. Но этот странный подросток Руслан Чутко располагается со своей мудрой и, как ему представляется, взрослой головкой в уже противопоказанном ему и, на свой лад, повзрослевшем пространстве, в которое он не вписывается, даже уверяя, как я уже заметила выше, что ему сорок лет. На текущую перед ним жизнь, похожую для него на дурной вымысел, он взирает с высоты принятой на себя зрелости, готовый всем пожертвовать ради чистоты выдуманного им жанра, выдуманного не на пустом месте... Но жизнь уже убегала в ином направлении...
С бытовой точки зрения, слишком настырно лезет мальчишка туда, куда не следовало бы ему совать свой нос, нарушая принятые взрослыми, порой, неписаные правила, регулирующие привычную для них, «нормальную» жизнь, уже покатившуюся по наезженной ими колее. Эти «нормы» его тревожат и раздражают, распаляя горячий бойцовский пыл в «застойном» болоте, где каждый приноравливается жить тихонечко на свой лад.
Сорокалетний подросток готов к собственной непримиримой эорьбе, пугая своей агрессивной наступательностью не только своё окружение, но и зрительный зал, часто недоумённо вопрошавший - кто этот несговорчивый мальчик, зачем, для чего и откуда он взялся? Этот таких дров хочет наломать, не понимая ещё, что, как говорил Ибсен, «сплочённое большинство» всё равно заставит его покориться, уравняться с другими, похоронить всякие высокие вымыслы, а не помыслы. Всё это становится тем более очевидным, когда Плюмбум выходит на опасную тропу, ведущую его к сложным делам и связям, питающим теневую экономику, не подозревая ещё, что именно за ней так близко подступающее к порогу наше совсем другое будущее. Там за такую
173
несговорчивость и убить могут, хотя неизвестно наивному Руслану Чутко, куда по-настоящему и к кому ведут эти тропы. Ведь это не с бомжами и злостными алиментщиками сражаться...
Режиссёром замечательно отчеканена по смыслу сцена разговора Плюмбума на эту тему со старшими товарищами, которые, «по-взрослому» стараются поставить его на место. Не понимает зарвавшийся юнец, играя в городки со своими «однополчанами» и победно прицеливаясь в мишень, отчего до сих пор не берут обнаруженного им главного преступника, спрашивая насмешливо: «не можем или не хотим»? Не понимает, что ступил незаконно на слишком взрослую территорию, не подчиняющуюся уже его слишком прямому вмешательству. Не случайно фильм имеет второе название «Опасные игры», так справедливо звучащее двусмысленно. Не знает ещё Руслан Чутко, что неумело разыгранная им карта, выдернутая из полной колоды, оказалась краплёной, спутав его просчитанные ходы и неожиданно для него «заложив» вовремя подставленного «противником» того крайнего, что так мил сердцу очень приятной ему взрослой дамы.
Наблюдая за неравной борьбой Плюмбума, испугавшей тогда многих рецензентов, с горечью осознаёшь вновь, до какой всё-таки огромной степени противопоказаны так называемые «возвышенные» идеи обычной жизни и ползущему быту, строящемуся и развивающемуся скорее по законам простейшего выживания и вполне безыдейного приспособления. Как развитие всякого биологического вида. Или, как констатировалось в «Повороте», всё, как в природе - «изменяются клетки, изменяются люди».
В данной картине, в отличие от «Парада планет», так уместно двойное название «Плюмбум или Опасные игры». В двойном названии кроется та двусмысленность, которой пронизан весь фильм, и которая предполагает возможности прямо противоположного восприятия главного образа. Опасность игр, которые затеял с окружающим миром странный и далеко неординарный подросток, опасна для него не только физически, но и духовно. «Опасно» при этом - это, пожалуй, не хорошо и не плохо, но чревато непредсказуемыми последствиями.
«Плюмбум», как я уже заметила выше, оказался одним из самых популярных и самых обсуждаемых фильмов Вадима Абдрашитова. Своим вниманием его не обошли не только критики, но и зрители, многократно расценившие его с разных и прямо противоположных позиций. Тем не менее в этой разноголосице мнений меня всё-таки удивляет не раз высказанное искреннее недоумение ряда критиков, вопрошавших всерьёз - откуда взялся такой «патологический» Руслан Чутко? Неужто тонким «душеведам» был неясен ответ? Тогда приходится объяснять, что этот мальчик плоть от плоти когда-то провозглашённой идеологии и возник в недрах нашей мечты о гармоническом обществе.
Так что возник Плюмбум самым естественным путём, но оказался каким-то совершенно неуместным следствием нас самих, проживавших уже в иной
174
тогдашней жизни. Именно это обстоятельство категорически помешало нам разглядеть драматизм существования Плюмбума в той самой нашей жизни, которая уже вовсе не предлагала жертвовать собою «в борьбе роковой», не требовала более реальных жертв для каких-то гипотетических побед. Слишком поздно решился Руслан Чутко возложить себя на жертвенный алтарь тех идей, которые в реальности давно уже стёрлись из очень практической, каждодневной жизни огромного большинства. Только отдельные чудаки ещё могли тогда серьёзно воспринимать ставшие уже не злободневными лозунги певца революции Маяковского, вроде: «Скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит». Это было написано ещё для тех, кто уже успел постареть и освободить жизненное пространство той молодёжи, которой принадлежит подросток Руслан Чутко, не случайно полагающий себя сорокалетним мужчиной, для которого кажется ценным то, что для других давно стало сомнительным, внешним и отработанным их «предками». Так что Плюмбум появляется у Абдрашитова и Миндадзе тогда, когда мечта о так называемом «коммунизме» становится только книжной и «побитой» теми самыми «канарейками», которые начинали походить скорее на хищных ястребов.
И всё-таки в те изменившиеся времена всё-таки высказывались ещё иные точки зрения на этот фильм. Так мой отец, Е.Д.Сурков, размышляя в своей рецензии о Руслане Чутко, задавался неслучайным вопросом: «Скажут выдуманный, сочинённый, умозрительно сконструированный персонаж. Но если так то почему же он меня волнует? Мучает мою совесть, душу? Остаётся во мне, как загадка, которую обязательно нужно разгадать? Если бы мы имели дело с фикцией, с гомункулом, изготовленным в драматургической реторте, разве между им и мною возникла бы зона мощного притяжения?» Нужно сознаться, что ровно такое же «притяжение» я испытываю к этому странному подростку, спустя столько лет заставляющему меня снова и снова переоценивать в контексте случившихся перемен драматизм его былой, знаково-неуместной судьбы.
Может быть, кого-то раздражал в Плюмбуме, и впрямь не ко времени родившийся рыцарь без страха и упрёка, готовый в свои юные четырнадцать лет бороться с ветряными мельницами, не заботясь о своей жизни? Наверное... Отчего же иначе видилось кому-то в этом ребёнке, не успевшем ещё разувериться в возможности справедливого миропорядка, только и именно «патологическое»? Потому что и впрямь выглядел он странноватым тогда, когда всё привычнее становился для нашего глаза какой-нибудь недоросль, стащивший злополучный кассетник, или гладенький мальчик из «хорошей семьи», уже запрограммированный на «хорошее» будущее и не затевающий никаких «опасных игр» с этим взрослым миром.
Но как же тогда управиться с нашей общей «генетической памятью», наследованной Плюмбумом? Она до сих пор волнует меня, насмотревшуюся когда-то разного всякого советского кино, ясно определявшего тогда Зло и Добро. Теперь это кино не столько умиляет, сколько давит грузом памяти о
176
разных «сынах полка» и Павликах Морозовых, осуждённых сегодня за ненадобностью только на разоблачение и забвение... Но куда определять тогда не самую плохую литературу Маяковского и Горького, Островского и Серафимовича, Гайдара и Катаева, Фадеева и Бабеля, наконец... Так, чего же удивляться, откуда взялся Плюмбум? Хоть и закладывали в него сами авторы более беспокойства, нежели сочувствия, которое он вызывает у меня сегодня... Может быть, им хотелось дегуманизировать практику только умозрительно правильной идеи? Так или иначе, но случилось именно то, что должно было случиться с полноценным художественным произведением искусства, которое с течением времени и в восприятии разных людей может видоизменяться до своей противоположности...
Колючий, резкий и настороживший многих зрителей Руслан Чутко не поспевал за течением времени, отставая от негласной «перестройки» и не догоняя тех критиков, что успели уже так удачно дистанцироваться от преподанных ему в школе, но уже не работающих для других «истин». Не успевал перестроиться, пристроившись к новой «нормальности» текучей реальности. Не отделил вовремя, как теперь говорят, «мух от котлет» в том истощившемся уже обществе, где по-детски честное служение общему делу выглядит скорее патологией. Не усвоил сорокалетний юнец нежизнеспособности провозглашаемых в книжках идей, воспринимаемых к тому моменту всерьёз разве что чудаками...
Из фильма в фильм советского периода Абдрашитов констатирует несоответствие идеологии текущей реальности. Но как удавалось ему говорить такое, ничего не скрывая? Этот феномен, таящий предвидение близкого конца этого общества, остаётся для меня абсолютной загадкой. Гниение общества, осуществлявшееся также изнутри нас самих, предрешало его финал нашим собственным безответственным существованием.
Драматизм сложившейся исторической ситуации усугублялся тем, что, тлея, не вызревала народная душа для того, чтобы шутя расстаться затем со своим прошлым. Жил так называемый, советский народ к тому моменту всё больше по инерции, изобретая для этой выживаемости свои параллельные законы, возникавшие рядом и вопреки всякому принятому официозу. Потому на фоне всеобщего безразличия к неработающим в действительности «базовым общественным ценностям» казался особенно неуместным «патологический» пафос Руслана Чутко, воспринятого одним из критиков той «разрушительной силой, которую несёт в себе Плюмбум, не подкреплённой нравственными идеалами, лишённой нравственных ориентиров».
Заявленный автором объективный парадокс Плюмбума состоит в том, что официально провозглашённое правильным воспринимается большинством уже совершенно анормальным. Выясняется, что в жизни всякие исторически выработанные нравственные ориентиры советского общества уже совсем не работали, изжив себя, а целенаправленное столкновение сильной молодой личности с вялым и лживым существованием кажется шокирующим и не соответствующим восторжествовавшим негласным нормам.
177
Ценности, прямо и непосредственно воспринятые Русланом Чутко, увы, помечены кровавыми метками нашей истории! Но эти метки хранятся нашей генетической и художественной памятью, может быть, на развилке этой памяти и реального течения времени... Оттого так непросто поставить какую-либо последнюю точку... Суть обозначенного в фильме времени состоит в том, что Плюмбум защищает ценности, которые уже негласно скинуты с «корабля современности», а обществом уже определилось «де-факто» предпочтение тихого и мирного течения «нормальной» жизни, следующей простому правилу, гласящему, что «рука руку моет»... Правило это укрепилось на практике получением простой выгоды и укоренилось к тому моменту в советской жизни до такой степени, что нарушающий это правило Руслан Чутко видится не только тогдашним зрителям, но и критикам, если не чудовищем, то уж, во всяком случае, «выдуманным ребёнком-предателем», которого авторы сделали «неживым символом», наделив его при этом «умными грустными глазами и одухотворённым лицом».
Сегодня я бы поставила этот вопрос иначе. Образ Руслана Чутко вовсе не был выдуман авторами, но «уплотнён» ими в своей яркой выразительности, как носитель и жертва определённой идеи. Это, как всегда бывает у Абдрашитова, не просто характер, списанный с легко узнаваемой натуры, и не «символ», тем более «неживой», но тип, очень даже живой и многосложный, заставляющий нас вслед за автором фильма вновь размышлять от сегодняшнего дня вспять, разбираясь в том, как вполне справедливая идея становится в своём действии античеловечной. Руслан Чутко, как верный носитель этой самой идеи, совершенно неожиданно для того времени провозглашается её жертвой, о чём в таком ракурсе до Абдрашитова никто не решился рассуждать. Может быть, именно поэтому автор наделил своего двусмысленного героя такими «умными грустными глазами и одухотворённым лицом»...
При всей сложности мотивов, взаимодействующих в образе Плюмбума, мне трудно, как иным критикам, воспринимать его только безнравственным «предателем» человечности, но скорее по-взрослому жёстким и по-юношески романтичным служителем той Идеи, цену служения которой ему предстоит оценить лишь в неожиданном финале картины. Вместе с гибелью той влюблённой в него девочки и вовсе невинной жертвы, что слепо следовала за ним и... оступилась на крыше многоэтажного дома, где разбирался со своим обидчиком Руслан Чутко... Неожиданно долго тянущееся падение этой девочки, её хрупкое тельце, пульсирующее в воздухе комочком страха, один из самых сильных и впечатляющих кадров в кинематографе вообще, почти непосильный для сопереживания... На грани нервного срыва в зрительном зале.
Как переживёт такое сам Плюмбум? С какой остротой воспримет это судьбоносное предостережение в контексте своих убеждений? Подросток... у которого ещё все оценки завышены, и всё кажется возможным вопреки всякому здравому смыслу? Боюсь, что градус нашего потрясённого сочувствия к этой девочке окажется выше, чем у Руслана Чутко, из которого со временем, воз
178
можно, получится следователь Ермаков, только внешне серенький, но изнутри сильный железный Феликс, не сдающийся и не отступающий в борьбе, безжалостный к себе и к другим? Так где же, и в какой точке затаилась окончательная правда о нашем Плюмбуме? Этот вопрос остаётся открытым...
В спорах о Руслане Чутко несомненно слышится перекличка с дискуссиями о герое «Иванова детства» Тарковского, принадлежавшего совершенно другому, военному времени, где и впрямь было место так называемым подвигам.. . И тем не менее, даже в координатах того страшного военного времени многих смущал слишком «нервический» Иван, показавшийся части критиков «неправдоподобно» сдвинутым с «нормальной» оси, чрезмерно обугленным душевно, слишком жаждущим участия в сражениях взрослых и не по-детски жестокой мести. В мирное время радетелям гуманизма не кажется определя-юще важным, что Иван оказался свидетелем гибели собственной матери и ему до времени пришлось расстаться со своим детством под военным огнём, испепеляющим всё человеческое. Так что же тогда может быть общего между Иваном, опалённым огнём, и Плюмбумом, вполне благополучным мальчиком из интеллигентной семьи, отличником учёбы, ввязавшимся совершенно добровольно и вопреки желанию взрослых в «опасные игры», оплаченные к финалу жизнью непредвиденной им, неожиданной и невинной жертвы?
Вспоминая написанное об «Ивановом детстве» Андрея Тарковского, включая статью Сартра, заметившего этот фильм, кажется сходным - превалирующее в восприятии беспокойство о «ненормальности» детской психики Ивана, требующей чуть ли не клинического вмешательства. Но как может психика оставаться «нормальной» с бытовой точки зрения, если оба подростка рассмотрены авторами пускай в разных, но экстремальных ситуациях? Именно поэтому кажутся такими так заострёнными их реакции и переживания. С той очевидной разницей, что Иван вынуждается к мести страшными обстоятельствами своей жизни, не способный пережить непереживаемое, а Плюмбум слишком преувеличенно ответственно для нас воспринимает, как ему и нам казалось, «отдельные несправедливости», увы, тяжело больного общества, неизлечимого уже усилиями юного «санитара». Неведома ещё Плюмбуму, как и большинству ценителей картины в то время, вся глубина тяжести заболевания, тогда как очевидны кажущиеся внешними симптомы.
Я думаю, что оба мальчика оказались не только жертвами, как было воспринято многими, писавшими о картинах, но ещё и героями своего времени. Жертвами потому, что оба в разной степени искалечены своим временем, а героями потому, что оба хотят исправить чужое, взрослое, не своё время, взвалив на себя непомерное для них бремя ответственности за преступления взрослого мира. Пускай преступления этого мира, выпавшие на долю Ивана и Руслана Чутко, несоразмерны, но обоих мальчишек соизмеряет жажда правды и справедливости по-юношески максималистская и заставляющая их взрослеть раньше времени. Отсюда такая сильная перенапряжённость их мировосприятия, кого-то только пугающая, а кого-то заставляющая специально
179
и иначе подумать о времени, выпавшем на их долю. В детских головках обоих ребят поселилась честная Идея разного рода борьбы за более правильную и справедливую организацию мира. Только у Плюмбума эта идея окрашена книжным романтизмом, а у Ивана выстрадана реальной жизненной трагедией.
Возвращаясь к Руслану Чутко, заметим, как чуток он к продажности взрослого мира, готового с выгодой для себя, и не оглядываясь ни на какие правила добропорядочности, удобненько приспособиться к спокойному существованию без особой ответственности. Это тогда, когда наш юный странный романтик вознамерился говорить только правду, в которую никто не верит, потому что именно правда выглядит наиболее неправдоподобно в мире «нормального» и наиболее привычного образа жизни. Очень «нормального» - для пообтесавшихся в реальности взрослых. Но кому из детей не казалось, что свою жизнь они устроят иначе и лучше?
Нормальная юность жаждет гармонии и надеется осуществить её в опыте собственной жизни. Жаждет Царствия Божия на земле, которое обещали не только родители и сам возраст, но ещё учебники того времени. А воспитанный на преподанных ценностях слишком чуткий Чутко видит, как сместились ценностные ориентиры в наблюдаемой им жизненной практике. Он, конечно, не пережил ничего близкого тому, что выпало на долю Ивана. Он не видел перед собой настоящих врагов, которые и впрямь вопиют о возмездии. Его жизнь не посылает ему никаких особых испытаний, предлагая иную науку приспособления в жизни. А молодое воображение рисует поле битвы за всеобщее счастье, далёкое от милых семейных чаепитий в кругу любящей семьи... Счастье видится ему в борьбе «у страшной бездны на краю», на которую он по-мужски сдержанно намекает влюблённой в него девочке, мало понимающей его общественные «страсти», но покорённой его своеобразием и горько ревнующей его к взрослой красавице. В наш взрослый мир девочка входит другими воротами своей любви к Рустику, любви до самоотречения, безоглядно включаясь в те опасные игры, которые он спешит разыграть, не заботясь о её чувствах и не дожидаясь своей зрелости.
Неожиданная гибель преданной ему девочки станет для Плюмбума тем совсем особым испытанием, которое останется за кадром, но, так или иначе, переместит его в иное пространство чисто человеческих страданий. А пока, до случившейся гибели своей подружки, оставался Руслан Чутко в кругу пускай и опасных, но всё-таки игр, правилами которых, как ему казалось, он мог владеть, не задумываясь о значимости и цене человеческой жизни. Но, игра, в которую он вступил своевольно, оказалась страшно и неожиданно для него оплаченной вовсе невинной жертвой... Жизнь выстроилась по своим законам, часто очень далёким от просчитанного Плюмбумом кодекса чести и вопреки его вполне умозрительному замыслу. Действительность или реальность оказалась, по Достоевскому, фантастичнее и страшнее любого вымысла о ней, который придумывался мальчишкой.
Доверившийся книжкам Руслан Чутко оказался жертвой того большого
180
идеологического вымысла, которому он следовал, собрав всё своё мужество. Безоглядное следование этом вымыслу чуралось той Правды, которую он исповедовал, не сочетавшейся с иной правдой «нормально» текущей жизни. Фиаско было наперёд уготовлено таким неуместным «героям» и борцам с существующей реальностью, как Белов, Ермаков или теперь Плюмбум.
Так получилось в нашей недавней истории, что она не нуждалась более ни в каких «героях», подготавливая своим развитием надолго вовсе безгеройное время, не нуждавшееся более не только в каких-то цельных характерах особой пробы, но кажется, даже простых и «нормальных» честных людях. А если такие люди и выживали, то на обочине нашей жизни, ненадолго растревоженные к полноценному существованию лишь военными сборами или гипнотизирующим их парадом планет.
Далее объектив внимания Абдрашитова и Миндадзе сместится в сторону самой царящей и победительной действительности, фокусируя тех персонажей, в служении которых она и впрямь нуждается... Необходимых для собственного воспроизводства... А нам, следуя далее за картинами Абдрашитова, предстоит заново расценить в перекрёстном огне нашей недавней истории многократно перетасованные преступления с наказаниями, обозначенные жертвами, павшими в разной борьбе роковой... И кто эти жертвы? То ли вершители преступлений, то ли потерпевшие? Ответить на этот вопрос так же сложно, как квалифицировать преступлением или наказанием всю нашу «роковую борьбу», так и не получившую пока никакой однозначной оценки.
Песня - «вы жертвою пали в борьбе роковой» - задуманная когда-то гимном, как жертвам, так и борьбе, звучит теперь, в новом контексте, только гуманистическим упрёком, не дозволяющим никакой борьбы, оплаченной жертвами. Вот и подишь ты... На реализм, исполненный такой честности и подлинного драматизма, надо было решиться, как на подвиг, не предпринимавшийся никем в нашем кино до Абдрашитова. Рассказавшего не о себе в нашем времени или возвышенных измерениях вечности, а о нас самих в нашей неприглядности, казалось бы, недостойной художественной кисти. Но, как выясняется, всё-таки важнее всего, кто именно владеет той кистью, что пишет портрет, в котором не всегда хочется узнавать самих себя...
Новый мазок режиссёра формирует густое и плотное пространство его, может быть, самой беспощадной картины «Слуга», в которой наше время, вроде бы отделившееся от нас, рассмотрено без утайки и в эпицентре наших тайных вожделений.
Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым
Скажи, пожалуйста, а каким образом вам с Сашей вообще пришла в голову мысль о таком мальчике, как Плюмбум, ставшем с какого-то-то момента едва ли не именем нарицательным?
181
Если помнишь, были такие «народные дружины», всякие отряды ДНД и помощников милиции, будто во время войны. В какой-то газете появилась заметка о подростке-дружиннике, властью своей сильно злоупотреблявшем. И нам показалось интересным проследить за таким вот мальчиком, оказавшимся в каком-то из подобных отрядов. Но всё это стало значительно интересней, когда в сценарии Миндадзе наш герой превратился в особого, не совсем обычного мальчика, которому одновременно пятнадцать и сорок лет, мальчика, который не чувствует физической боли. Несмотря на эту условность, его зритель узнал - он, конечно, был из нашей жизни. Но на фестивале в Венеции, где был показан «Плюмбум», оказалось, к нашему удивлению, что этот специфически нашенский герой, им тоже очень даже понятен... Они ещё помнили там «Парад планет». Наградили и «Плюмбума» фантастической прессой, а с собой я увёз тогда «Золотую медаль» Сената итальянской республики. Картину там очень хорошо приняли, очень толково о ней писали.
Когда начинали работать над картиной, то, естественно, сразу возник вопрос выбора и отбора. Какой должна быть натура? Где всё это может происходить? А самое главное - это выбор актёра! Нужно было решить где и с кем это снимать. Сама понимаешь, что такая история теоретически может произойти, где угодно, но решение натуры, в то же время, многое определяет в контексте места действия. Если снять, например, всё это в Суздале на фоне церквей и колоколов, то неизбежно возникнет новый иной дополнительный смысловой контраст между чем-то особо значимым и властью, сосредоточенной в таких вот незрелых детских ручонках... Мог быть и такой вариант... И вполне, кстати неплохой... А можно было то же самое событие снять в безликих пространствах Ясенева или Тёплого Стана, среди новостроек, где всё смазано, и нет вовсе никакой эстетики города...
Как это сделал потом твой ученик в «Кремне»...
Ну, да... может быть, у Мизгирёва в «Кремне»... Вот нет лица города или пространства, нет улицы, ничего нет, и там где-то... вот такой мальчик вырос. Но мне этот ход показался тогда таким... слишком понятным с первого, так сказать, прочтения. Хотелось, чтобы было ощущение чего-то лежащего поглубже, сдвигающего происходящее куда-то на генетический уровень памяти и узнавания... И тогда мы с художниками назвали это «джо-стайл», от «дядюшки Джо» - сталинский, имперский стиль.. .Поняли: где-то здесь лежит решение натуры... А где может быть, например, архитектура «джо-стайл»? Конечно, в Москве, но это слишком узнаваемо. Конечно, там, где крупные города были разрушены во время войны и восстановлены рукой Сталина...Исторически узнаваемая архитектура...
Которая в фильме для меня очевидна и очень сильно выражена в стиле советского образа города...
182
Таких городов, что поближе, было два - Киев и Минск. Но в Киеве есть всем и всегда известный Крещатик... Мы отправились в Минск и, приехав на вокзал, огляделись окрест, и поняли, что приехали именно туда, куда нам нужно. Перед нами был именно тот самый город! Вот он!. И, как бывает в таких случаях точного попадания, лишь немного проехав от вокзала, мы увидели тот самый дом с нужной крышей и такими балясинами, который ты помнишь по фильму... Взобрались на крышу этого дома, огляделись и поняли - всё! Найдено! Это оно! Именно здесь ходит этот мальчик... А можно ли именно отсюда упасть? Посмотрели вниз, а там такая пристройка, как будто специально нам в помощь... ну, идеально! Вот эта первая попавшаяся нам крыша была таким знаком: мы на месте - здесь, среди имперского «джо-стайла» родился в ретортах советской генной инженерии и подрастал мальчик Плюмбум...
Я позвал на картину работать Рерберга. А это, между прочим, была его первая картина на современном материале, не считая, конечно, «Аси Хромоножки», которая тоже как бы на современном материале, но, весьма, скажем так, экзотическом... А здесь нужно было почти хроникально снимать современный город, современную жизнь. Но, человек талантливый, он в картину вошёл.
Стали искать актёра на роль Плюмбума. Ясно было, что дело непростое, особый герой - особый актёр. В итоге мы посмотрели шесть тысяч (!) детей... Мы работали в этих поисках каждый день, работала вся группа, и пропускали сотни детей, собранных объявлениями в газетах, по телевидению ... Приходили толпы, так что коридоры студии были заполнены этими мальчишками. Мы работали в субботу и воскресенье, студия обеспечила нам эту возможность -в отдельном блоке-павильоне. Мы отсматривали огромное количество детей, у нас уже головы свернулись. Приходили всякие-разные, несмотря на чёткость объявления, что нужны дети только от 12-ти до 14-ти лет. Их всех нужно было просмотреть и хотя бы несколько слов им сказать... работали режиссёры и ассистенты... от этих детей голова пухла... Сложное общее ощущение усугублялось ещё тем, что среди всего этого царила элементарная невоспитанность детишек.
И вдруг появился Антон Андросов. Такой вот мальчик! Сразу привлёк к себе внимание, присмотрелись, и мне показалось, что случилось! Гэрой найден! Но это кино, так что нужно всегда про запас готовить дублёра... так что поиски продолжались уже впрок. Даже не в том смысле, что дублёр будет ещё как-то выразительнее. Но мало ли что может случиться с ребёнком..
Ну, да, как заболела Купченко, например...
Совершенно верно, нужен был дублёр, но мы больше не нашли никого, даже близко стоящего к нашему герою. Хотя у меня уже пробовались даже профессиональные актёры, молодые совсем, которые пытались там что-то изображать... Нет! Так что стали работать с Андросовым, и я понял, что это просто везение! Удача! Он был настолько органичен во всём этом, что прак
183
тически полностью вошёл в свою роль. А ещё его нужно было пробовать в паре с молодой красивой актрисой на роль Марии... Практически каждый день. Он сначала стеснялся, мальчишке всего пятнадцать лет! Но когда каждый день ему приводили новую Марию, то постепенно он начал вести себя с ними так запросто, уже разговаривал с ними так это по-мужски - «Ты чего? Посмотри на себя! Да ты кто такая?»
Уже на пробах он совсем распоясался, что и было нужно, и говорил так это свысока, разнузданно, понимаешь? Актрисы изумлялись - что за мальчик такой? Сколько ему лет? - Да, вот пятнадцать! - А разговаривает, будто ему сорок! Пока не нашли ему, наконец, Лену Яковлеву... А будущему Плюмбуму все эти бесконечные пробы дали нужный такой особый навык общения...
Лена Яковлева появилась тогда в театре, блеснув в «Современнике» в «Чинзано», потом в «Трёх девушках в голубом»... Она мне очень понравилась...
Так это была её первая работа в кино? Как потом у Хаматовой во «Времени танцора»?
Да, Яковлева впервые появилась у нас так же, как Чулпан Хаматова или Лена Шевченко в «Армавире»... Надо сказать, что потом во время съёмок наш Плюмбум проявил себя очень взрослым человеком, вёл себя просто мужественно. В морозы, холода, в Минске... все эти продуваемые насквозь проспекты... холодно, неуютно... весь день на морозе...
Всё это очень чувствуется в кадре, чуть не поёживаешься сама в зрительном зале, такая колючая погода...
Так что, когда мы возвращались после съёмок в гостиницу, то было уже самое время отдыхать, свалиться в постель и поспать, а наш молодой актёр садился за... уроки. По тем временам к нему в экспедициях были приставлены учителя... Он выполнял школьную программу, а мы шли ужинать в ресторан... Но, когда, освободившись, он присоединялся к нам, то естественно вписывался в круг взрослых, общался, шутил, то есть вёл себя соответственно обстоятельствам, как наш взрослый и полноценный товарищ... Ни разу не было у него никаких сбоев, жалоб всяких на усталость, капризов, просто абсолютно мужская сдержанность... Мы его чрезвычайно уважали, и такое отношение к нему сохранилось до сих пор... Я встречаю его изредка даже теперь на студии и всегда с какой-то особой теплотой... Ведь он был пятнадцатилетним ребёнком, который протянул всю картину главным героем, не создавая для нас никаких проблем. Это бывает нечасто...
А что с ним стало потом?
184
После картины он собирался поступать на актёрский факультет, но я ему сказал -нив коем случае! Зачем? Это не всегда профессия. Если понадобишься кому-то в кино, тебя найдут, а ты получай какую-то настоящую специальность, профессию, грамоте обучись. Отговорил его, и он почему-то пошёл в менделеевский химико-технологический институт... И проучился там только год. Всё-таки кино перетянуло его, и он пошёл во ВГИК на экономический факультет... А сейчас он занимается организацией каких-то производственных услуг для картин... У него дети. Оказалось ещё, что он вообще талантливый человек... Неожиданно подарил мне книжку, которую написал, детскую, для подростков, «Заблудившийся автобус». Хорошо, легко написана. А потом сделал ещё вторую... Так что, оказался очень незаурядным человеком...
Может быть, поэтому особая аура сложной симпатии к нему распространялась с экрана широким и многоцветным спектром...
Безусловно! Более того, я говорю тебе об этом не для того, чтобы навязывать тебе мою точку зрения на героя, тем более, что наше с Миндадзе отношение к нему было сложным, в том числе и сочувственным... Хотелось бы это каким-то образом сформулировать...
Я понял потом, что самое страшное кроется в понимании того, что в опасной игре участвует всё-таки не взрослый человек, но ребёнок! Потому что взрослый человек должен - как бы это сказать? - осознавать определённые границы своих действий в жизни и меру ответственности за них, понимая, что можно делать, а чего всё-таки делать нельзя. А ребёнку еще только предстоит усвоить то знание, что уже доступно взрослому, только предстоит ещё всё это самому осознать и ощупать, понимаешь? А Плюмбум решительно действует, не освоившись ещё ни с каким опытом, а от этого становится тревожно за него... Это именно та интонация, в которой для меня звучит этот образ, одинокий... и бессребреник... это тоже правда...
Тем не менее, для меня в наше чрезмерно прагматичное время всё это вместе воспринимается рыцарски печальным... Хотя я понимаю и вижу в этом образе основания для иного восприятия... Разноцветие заложено, как в его характере, так и в предпринимаемых им действиях. Плюмбум до сих пор остаётся для меня фигурой, очень интересной и очень многосмысленной, предлагающей, так или иначе, оглянувшись назад, задуматься о том, как неоднозначно всё в этой нашей былой жизни...
Конечно... И вот это одиночество при исповедуемой им идее... Он одинокий, маленький, щупленький, тоненький, какой-то полустаричок что ли...
...одетый в это трогательное детское пальтишко, купленное в Детском мире на вырост, которое его нисколько не смущает. Слишком сильная воля сильна в
185
хрупком тельце. Прямо сердце стынет, как хочется его защитить от того мира, который он совершенно не знает...
А у меня он вызывает ощущение... вот как дети инвалиды, на которых я смотрю иногда с ужасом, понимая, что им предстоит осознать... Именно душевная инвалидность должна ощущаться в картине...
Ну, знаешь ли, как это часто случается с полнокровными художественными образами, их жизнь не всегда следует по пути, намеченному для них художником. Не только время меняет восприятие, но и восприятие вступает в новое соединение с образом. Видоизменяется сцепка причинно-следственных связей. Помнишь, как нам объясняли в школе, что Лука у Горького отрицательный персонаж, проповедующий власть Царствия Божьего на земле, то есть «утешительную ложь», мешающую сознательной борьбе угнетённых за свои разные права... А для меня Лука всегда оставался чудесным, трогательным стариком, помогающим выживать... Всё, в конце концов, относительно... И внушалось не только советской школой, но и Белинским, кажется, подозрение к обаянию какого-нибудь Онегина или Печорина, совершавших «дурные» поступки... Но действует ещё вопреки всему обаяние переживаемого ими на свой лад страдания, хотя бы и «эгоистического», как писалось когда-то многими...
Не знаю. Но, так или иначе, именно с этим мальчиком многое удалось сделать в этой картине. Это у него случились такие печальные глаза, в которых читается какая-то общая печаль. Вот эти все его уходы, планы сзади его хрупкой спинки, маленькая фигурка... всё это удалось протащить для восприятия именно с ним, как с опытным актёром... Без него я не могу себе даже представить эту картину... Такое ощущение, как я обычно думаю, что это было, наверное, какое-то богоугодное дело, если появился такой исполнитель? Потому что с его появлением была получена какая-то важная подсказка... Так что не зря мы его так долго искали... Так уставали, что приходя домой, не видели собственных детей, было уже не до них...
А когда начали работать, то нужно было искать ко всему этому какой-то общий ключ... Появился Рерберг, с которым мы стали осторожно подступать к съёмкам... Думать, что, да как делать? Решили попробовать снять картину не на 24, а на 23 кадра в секунду. Очень долго подбирали и пробовали не стандартную скорость, к ужасу наших монтажниц. Когда материал уже пошёл из экспедиции, они звонили мне ночью в гостиницу: «Вадим Юсупович, всё идёт несинхронно! Это брак! Что делать?» Ну, естественно, что получался сдвиг, потому что магнитная плёнка шла с нормальной скоростью, а изображение оказывалось короче этой длины... «Ну, а как же нам тогда работать?» Как? Плёнку пришлось прорезать. Вот так всё это вручную и подгоняли...
186
Минск тоже, конечно, очень многое дал для общего изобразительного ощущения в картине, все эти крыши...
А откуда взялись наши замечательные соцреалистические скульптуры?
Они - представь себе! - попались нам на глаза совершенно случайно, их не могло быть в сценарии... Мы просто снимали в каком-то месте и вдруг под аркой - ну, как это бывает в кино - я увидел вот этих вот имперских исполинов, страшных по своим размерам. Ну, естественно, они должны были прожить свою жизнь, чтобы оказаться заваленными к финалу. Мы перевезли их и завалили в том месте, где снимался пробег Плюмбума... А потом снимали эти знаменитые минские крыши летом, уже после Чернобыля, когда Минск был совершенно пустым.
Ну, да? Я как-то совсем не подумала обо всём этом в контексте того ужасного времени...
Мы поехали в Минск уже летом сначала с директором картины, а нам говорят - «вы вообще-то осознаёте, что здесь Чернобыль недалеко?» Так что, когда вернулись, собрали группу, чтобы предупредить о небезопасной близости Чернобыля и решать, продолжать ли там работать? А если продолжать, то каждый член группы должен решить для себя, будет ли он оставаться с нами или нужно искать кого-то другого. Согласились остаться все, хотя нам предстояло ехать в тогдашний совершенно пустой город Минск. Пусто было всё, а особенно отдел вино-водочных изделий. Только болгарская «Гамза». Только!
Да, что ты? Я даже не знала всех этих подробностей, как страшно! И всё решается очень по-русски, на авось... А красное вино, как я понимаю, средство от радиации что ли?
Конечно, в качестве лекарства только красное сухое вино... Так что, до сих пор, встречая это самое болгарское вино, вспоминаю особое время съёмок «Плюмбума»... Пили мы его тогда просто, как воду, на раскалённой крыше...
Ну, да, такое покрасневшее от ужаса и обезвоженное идеями время... Выразительные образы подкидывает жизнь!
Естественно. Место съёмок было как-то по-особому угадано прямо-таки иллюстрацией всему тому, что, на самом деле, происходило и, в итоге, произошло.
Надо сказать, что реакция зрителей на «Плюмбум» была просто фантастической! Может быть, это была самая бурная реакция на наш фильм, равная по своей интенсивности только, наверное, реакции на «Остановился поезд». При
187
ходило огромное количество писем. Это было время, когда зрители ещё письма писали... Прямо в кабинете у меня стояли мешки почты... Письма часто писались из пионерских организаций, из ЦК пионерии - на такой суровой официальной бумаге - «мы понимаем про что всё это... Про нашего Павлика Морозова? А чего это он отца своего хотел судить?» И скандальные дела были. Но наш выдающийся друг и постоянный консультант отбил и эту картину.
Хотя нужно вспомнить, что с этим сценарием мы запускались с огромным трудом! И запустились, исключительно благодаря Армену Медведеву, который взял на себя всю ответственность за эту картину. А вообще-то на сценарной коллегии этот сценарий горел ярким пламенем. Вся редактура Гэскино была против - «Что это за мальчик? Что это такое?» А когда картину уже сдавали, то Сизов горько вопрошал в сердцах - «мы за это боролись, его награждать надо, а вы развенчиваете?»
Видишь, как сложно взаимодействует искусство со временем? Для меня то, что Сизов называет развенчанием Плюмбума, отчётливо смотрится развенчанием самого времени, выталкивающего такого Плюмбума...
А потом, когда «Плюмбум» посмотрело уже огромное количество людей, то организовывались какие-то бесконечные передачи, какая-то группа ВИА даже посвятила особую песню герою фильма... Письма, которые приходили в огромном количестве, делились пополам -за и против. Спорили и взрослые и дети. Было устроено обсуждение на телевидении, вроде теперешнего «Закрытого показа». Помню, как на Шаболовке была организована специальная встреча с подростками... То есть картина имела довольно звонкий отклик...
Мне кажется, что родители Руслана Чутко тоже получились в картине неплохо... Немного условные, но тоже вполне реальные...
С ворохом милых штампов, не выделяющих их среди вполне «нормальных» родителей - всё это было сделано очень элегантно! В меру правдиво, в меру условно, и сто процентов узнаваемо...
Да, весьма узнаваемо...
А как мило семейное катание на катке? А сольные виражи неловкого фигурного катания матери, сопровождаемого восхищёнными взглядами её мужиков, мужа и сына? Такое обезоруживающе прелестное восхищение! А «правильное» такое воспитание? Осуществляемое ненавязчиво ироничной интонацией отца, «слегка» и «по-мужски» поучающего своего сына перед экраном телевизора - «это не может быть, потому что это не может быть НИКОГДА»... И чуть насмешливый, свысока взгляд сына... Удар принят! Да, там полно тонких очаровательных и точных деталей... Когда сын снисходительно смотрит на них из другого времени, и все вместе они с упоением поют Окуджаву...
188
Там сложное взаимодействие поколений, и есть это вечное ощущение, что сын воспринимает своих родителей уже уходящей натурой...
Писать музыку к картине я пригласил замечательного композитора Володю Дашкевича. Позвал его работать с готовым уже материалом, как это обычно делается... Показываешь композитору материал, рассказываешь о нём и пытаешься описать словами нужную для картины музыку... Это всегда чудовищно сложный момент... Долго, долго мы с ним готовили музыку - по-разному примеривались... он искал... и давал очень хорошие заявки, прекрасные этюды... Но пробуешь, стараешься их приладить к картине... и вроде бы ничего, но что-то не то...
Вдруг, в один прекрасный день он приходит и говорит - «а вот послушай-ка вот это»... начали слушать и чувствую - так-так... ну-ка, ещё, ещё... Вот это развей ещё как-нибудь... Давай вот это попробуем! А как это может звучать в оркестре? Какая инструментовка? И вдруг Дашкевич неожиданно говорит мне - «я хочу написать для «Плюмбума» хоральную часть. По-моему, там должен быть мужской хор». Я был в недоумении - какой хор? Где?
И Дашкевич оказался абсолютно прав, потому что эта его хоральная часть сопровождает в итоге массу кадров и эпизодов в картине... Это просто удивительно, как он это почувствовал!
Ты в своём тексте точно вспоминала этот пробег, замечательно сопровождаемый вот этой самой хоральной частью, которую привнёс в картину именно Дашкевич... Это был тот самый случай, когда на картину приходят не просто композитор, оператор или актёр, но сотворцы, которые не просто используют материал замысла, но привносят ещё нечто, и фильм обогащается...
Как говорит Йос Стеллинг, «режиссёр это тот человек, который собирает вокруг себя людей, каждый из которых умеет делать в своей области лучше, чем может он сам»...
Ну, да, конечно. Именно в этом колоссальная сложность - определить, что за человек пытается поступить к тебе в мастерскую на режиссуру... Вот может он быть режиссёром или нет? Что это такое? Да, понятно, что он соображает. Понятно, что соображает лихо, но это ещё ничего не значит... И дальше: вот бывает, блеснут первые работы, а потом этого режиссёра как бы и нет. Или, наоборот, вот что-то такое делается, не очень, не очень... раз! вышло... а оказывается, просто долго набирал... По-разному это бывает, очень многое зависит от характера... и трудолюбия! Как это ни скучно звучит, но ТРУДОЛЮБИВ
Короче говоря, что ещё сказать о «Плюмбуме»? Вот такая картина, которая снималась в 85-м году, как раз тогда, когда случился знаменитый революционный Пятый Съезд кинематографистов, на котором из-за съёмок меня не было.
В 86-м мы картину сдавали, а 87-й год ознаменовался уже приходом Гэр-
189
бачёва... Наступали новые времена. Которые многое в нашей жизни опрокинули. Может, поэтому в твоём восприятии Плюмбум оказывается как бы обманутым подростком и фактически в каком-то смысле героем?
Да, это не случайно...
И ты его сравниваешь с Ермаковым... очень странно...
Может быть, тебе это кажется странным, но я всегда воспринимала Плюмбума с симпатией и сочувствием, как, кстати, и моя невестка, то есть другого поколения, которая рассказывала мне, как она рыдала от жалости к Плюм-буму. Мне кажется, что я сама в детстве была ужасно похожа на Плюмбума, жаждала сражаться за справедливость, кому-то действенно помогать, как-то организовывать целеустремлённо добрые дела...
Да, это вполне нормально...
Я вижу, что ты озадачен. Но твой герой ещё маленький, и ему кажется, что всё можно здорово и справедливо переустроить... Он жертва, в конце концов, преподанного ему с молоком матери, якобы, правильного мироустройства... Он хороший ученик и, конечно, читал «Как закалялась сталь» и всю ту идеологию, на которой мы воспитывались и которая, вообще говоря, была сродни вере. Кстати, я сама никогда в жизни не была в партии, но я знала и знаю бывших партийцев, которые с падением Союза стали истово верующими людьми... Иногда это конъюнктурно, иногда это смешно, но, думаю, есть именно в России люди, которые жаждут служить какой-то идее... Так что восприятие «моего» Плюмбума это принципиальная позиция, которую не сдаю...
Сегодня особенно отчётливо видно, как люди сплошь и рядом убивают за деньги, а то и просто для развлечения. За деньги, собственно, убивают всегда. А здесь бескорыстная вера в чистую идею, которая, конечно, тоже сплошь и рядом оборачивалась жертвами, но с той разницей, что люди были готовы жертвовать собой, как того, кстати, требует и Христос - оставь всё что тебе любо-дорого, что влечёт - и следуй за Мной... «Кто душу свою хочет сберечь, тот её потеряет». Я сначала была тимуровкой, потом страстно сочувствующей диссидентам... Другое дело, что я думаю обо всём этом сейчас, пережив уже свой, мягко говоря, взрослый опыт...
Так или иначе, но душа жаждет идеи, тем более на фоне общества, объявившего основной ценностью деньги... Это не для меня... И не для Плюмбума... Видимо, я предназначалась для других страстей... Когда-то мне виделся «коммунизм с человеческим лицом», так что и в момент выхода картины я не воспринимала его ни мутантом, ни злодеем, как это было принято. Но обманутым трагическим персонажем... Точно так же я иначе, чем многие другие,
190
включая Сартра, воспринимала Ивана из «Иванова детства» и не случайно сравнила его с Русланом Чутко...
Ответ понял.
Я подозревала, что в данном случае, противоречу даже твоим авторским намерениям, но... как известно, произведение Мастера живёт уже своей жизнью...
Понятно и ясно.
А теперь вернёмся к вашей работе с Рербергом, говорят, что она у вас не сложилась...
Как это «не сложилась», когда мы сняли эту картину?
И очень даже неплохо сняли! Безупречно! Эти разговоры, предположительно, возникли потому, что Рерберг должен был работать на «Плюмбу-ме» в не очень свойственной ему манере? Обуздывать свою поэтическую камеру?
Я вспоминаю его с огромным уважением, мне кажется, что он где-то среди нас... У нас огромное количество новых, модных, замечательных операторов, действительно, талантливых людей. Но как всё-таки трудно сравнивать их с такими мастодонтами великого живописного видения, как Рерберг, Юсов, Лавров, Пилихина, Лебешев, Княжинский... Гэша был уникальным художником и совершенно особым человеком...
Сегодня трудно сравнивать с ним молодых. Есть, конечно, очень талантливые ребята, но они теперь снимают на плёнке, которая Гэше даже не снилась, на камеры, о которых он даже не мечтал. Но как волшебство вспоминаю некоторые кадры из тех, что вообще им были сняты. В советском кино были три гения - Юсов, Рерберг и Гзрман Лавров... Ну, может быть, сюда стоит добавить одну работу Маргариты Пилихиной - «Застава Ильича», гениально снятую.
... Последнее время он стал заниматься рекламой, заработал какие-то деньги. Как-то, когда мы с Нателлой оказались в ресторане в Доме Кино, к нам подошёл Рерберг и спросил меня: «сколько тебе денег надо на съёмку? Ь то я столько заработал, давай снимем картину! Картина нужна, картина, понимаешь»...
Господи, как всё это было драматично, какие драматичные судьбы...
Я понимаю, что тебя смущает моё особое отношение к «Плюмбуму», так что, возвращаясь к этой теме, ещё раз хочу объяснить, что успела ещё де
191
вочкой пожить в коммуналке и побыть, в полной мере самым что ни на есть народом... Вовсю верховодила мальчишками во дворе. Я организовывала какие-то тайные общества, со страстью вылавливала шпионов, выслеживая с замиранием сердца какую-то несчастную сгорбленную старушку с клюкой, видно, выходившую, по моей буйной фантазии, своей шаркающей походкой «на связь»... А на даче мы точно так же с упоением играли в «таинственный остров»...
Ну, через это прошёл каждый нормальный ребёнок.
Но всё это было, как ты, конечно, помнишь, после войны, когда ещё реальные инвалиды без ног ездили по Бауманской улице на деревянных платфор-мочках, отталкиваясь от земли самодельными колодками. А я ещё была готова к защите родины, организовывая мальчишек в противостоянии врагам... А позднее, уже подростком, когда наша семья, наконец, обосновалась в долгожданной двухкомнатной квартире, я с такой же страстью организовывала «подполье» с членскими билетами, скреплявшимися кровью, и гласившими именно «скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит»
Согласен, молодой человек, который через такое не прошёл, и само общество, которое не имеет таких детей-подростков, это больное общество. В нём нет нормального способа социализации ребёнка, подростка...
Ну, да, в детстве и нежном отрочестве должно, наверное, казаться, что ты, конечно, сумеешь реорганизовать всё к лучшему... Не приспосабливаться заранее к лакомым кусочкам, но надеяться вот-вот всё переустроить по какой-то общей справедливости... По крайней мере, так было со мной...
Но вопрос в том, как власть все эти порывы использует... Об этом история культурной революции... Как использовал эту готовность Мао Цэе Дун, как используют сейчас...
В том-то и ужас! Что всем этим благим намерениям сопутствуют перевёр-тыши благих замыслов, всё как-то неудержимо непременно выворачивается наизнанку и оказываешься обманутым... хотелось, как лучше, а получилось, как всегда... Вот такое вечное «недоразумение»...
Я понимаю, что тебя смущает в моей трактовке. «Плюмбум», конечно, принадлежит уже другому времени, другим историческим обстоятельствам, которые провоцировали маленького мальчика на изначально сомнительные действия, как ты хочешь сказать... Но, как мне кажется, это мы повзрослели, тогда как детство Руслана Чутко требовало своих «правдивых и жертвенных поступков». Он видится кому-то почти «сумасшедшим», тогда как изначально
192
ненормальны сами обстоятельства его коротенькой жизни, расположившейся сразу, как теперь говорят, в «двойных стандартах», противопоказанных юному мировосприятию, проще, молодости... Сейчас действуют лимоновцы...
Я понимаю, что вы делали «Плюмбум» с другим намерением, нежели я его воспринимаю теперь... Он чрезмерен в жажде справедливости и равновесия, он «верующий» фанатик... Но как скучна для молодости «золотая» середина неподвижности в конформистском обществе, это особенно ощутимо для меня в Голландии, когда длинная бессобытийная жизнь, кажется, сворачивается к коротенькому мгновению.
И, конечно, это девочка в её немыслимо страшном падении, оказавшаяся вообще-то не столько случайной жертвой, но жертвой... Чего? Да, безоглядной, неразмышляющей любви, как, кстати, по-молодому несоразмерной по риску кажется обдуманная месть Руслана Чутко своему обидчику... Погибель грозит обоим... Но! Знаешь, как бывает в беспорядочной стрельбе, пуля делает своё странное предпочтение, как это очень тонко сделано в финале «Время танцора»... Хитросплетения судьбы, как звонок или сигнал Руське из другого мира... Не всё в наших руках, но в каком-то смысле всё нами подготовлено прежде, чем случиться... Фильм вызывает очень сложно замешанное поэтическое ощущение...
То же самое можно было сказать об Иване Андрея Тарковского. Он должен был оказаться на пламенном рубеже сжигающего его чувства мести, заглушающего своими действиями нестерпимую боль и для него лично невосполнимых потерь... Почему не посмотреть на него с этой стороны? Это поражающий моё воображение ответ ребёнка взрослым, положившего себя на жертвенник ими организованного преступно дисгармоничного, доставшегося ему мира. Казалось бы, что сравнивать его с благополучным Руськой? Ан, нет, таится что-то общее между ними, хотя Руська только идейный борец и бессребреник, что очень немаловажно в наши времена... в этом трогательном детском пальтишке с ремешком сзади, из которого он уже почти вырос...
Да, пожалуй, драма грядёт, а Плюмбум, конечно, драматический персонаж...
Право сильного, увы, редко соответствует праву справедливости... Оно всегда было, в каждом военном или революционном противостоянии... Просто с течением лет мне приходится думать, что каждому поколению, видимо, выпадает своя доля дерьма, которому он снова пытается сопротивляться. А как сопротивляться-то? Ведь ясно, что последним «аргументом», если «кому-то» очень нужно, летят бомбы безо всяких лишних разговоров... Нам остаётся только противостояние высоким душевным переживанием, которое в том числе дарует замечательный открытый финал «Плюмбума» с чистой невинной жертвой, летящей к своему гибельному финалу... В конце концов,
193
подлинная привилегия произведения искусства в том, что каждый может его воспринимать в контексте своих ассоциаций... Ни одна твоя картина не может восприниматься «однозначно»... Моё любимое слово!
Да. В этом смысле, повторюсь, меня поразило восприятие «Плюмбума» в Венеции. Приняли так же замечательно, как и «Парад планет»... Была очень интересная пресса....Плюмбума узнали.
СЛУЖЕНИЕ СЛУГЕ НАРОДА
«Слуга» - 1988г.
« луга» оказался фильмом, просто поражавшим самим фактом своего появления и существования. Советская власть как-то мимикрировала на разные лады, но ещё вполне и очень даже существовала, чтобы на её примере заговорили о коловращениях вокруг власти напрямую и без утаек, отстранившись от неё и чуть иронично... Ведь всё это происходило в пылу горбачёвских пертурбаций не только политических, но и этических, сопровождавшихся подчас неожиданными откровениями вдруг разом демократизировавшегося сознания, взаимными обвинениями, выяснениями отношений и надеждами на прекрасные времена, где всяк получит, наконец, по достоинству. Все наперебой живописали о своих страданиях в страшные времена. Искали правых и виноватых. Обличали преступления. Требовали наказания за преступления и всеобщего покаяния. Словом, в этой новой кутерьме не изменили себе Абдрашитов с Миндадзе, не
195
поддались всеобщему ажиотажу, искушениям конкретных личностных обвинений и бития себя в грудь, сохраняя прежнюю трезвость в своём одиноком анализе нас самих в осуществляемой нами жизни.
Когда-то, глядя «Слугу» ещё впопыхах «перестройки» и контексте того времени, могло показаться, что в картине разоблачаются лишь рудименты нашего горестного прошлого, прах которого мы уже отряхнули со своих утомившихся ног, готовые вознестись «покаявшимися» и чистенькими, подготовившимися уже к какой-то новой, как теперь говорят, «цивилизованной» жизни. Которой, видно, прежде мы никак не касались, но теперь, как верилось многим, сподобимся, наконец, коснуться в том скором будущем, которое иначе и на свой лад было вновь расцвечено для нас абдрашитовским экраном той же жёсткой кистью и безо всякого ложного умиления.
Время шло, и оказалось, что ничего в нас не изменилось. Так что «Слуга» и теперь кажется вполне злободневным, когда заново и вновь узнаешь себя грешных, дивясь точности нашего портрета, написанного однажды безо всякого прекраснодушия, каковым никак и никогда не страдал Абдрашитов, стремившийся всегда, как замечательно писала Инна Соловьёва, заглянуть в тот «тёмный лес, за который не ходили и лучше не идти... в иррациональное, открывшееся в нашей обыденщине и в нашей общественной драме... явившим нам срам реальности, становящейся иррациональной»... В той же статье Соловьёва отсылала своих читателей к общекультурному контексту фильма, вспоминая, что: «На пороге пятьдесят третьего года не кто иной, а Николай Акимов - холодный ум, ясноглазый вольтерьянец - поставил первый раз у нас спектакль о страшном неестественном выгибе жизни, из основы которой выдран закон и подложено беззаконие. Мир, занятый недолжным, как-то деформируется, растягивается, вздувается, - спектакль Акимова по пьесе Сухово-Кобылина «Дело» являл и исследовал такой мир. Мужик здесь повествовал об Антихристе внятно: «Антихрист этот не то что народился, а уже давно живёт, и видите, батюшка, уже в летах, солидный человек... Действительный статский... И видите, сударь, светопреставление уже близко».
В доминирующей атмосфере фильма «Слуга» и обитателях той атмосферы преступление разлито повсюду, привязанность к нему горестно очевидна, и, увы, неоткуда ожидать никакого наказания! Наказывать некому. Преступление в нас самих, так легко поддающихся соблазнам владения и власти. О грядущем и уже наступившем «светопреставлении» мы ещё узнаем из следующего фильма Абдрашитова «Армавир». А пока, в «Слуге», чистая бесовщина со вкусом ко всему бесовскому процессу правит свой шабаш безнаказанно, прилюдно и не таясь. Прекрасно перетекая из прошлого в настоящее. А ежели кого и накажут за пагубное пристрастие к бесам, то выборочно как-то - может, и не того или как-то не так, не за то и неизвестно за что...
Фильм, в центре которого стоит наш вечный и по-своему специфичный русский Хозяин, заказывающий для своего пира всю музыку в прямом и переносном смысле, называется почему-то «Слуга»? В этом заглавии, провокационно
196
заданном авторами, сразу следует разобраться, не теряясь в творящейся на наших глазах общественной чехарде. Нужно понимать, в конце концов, кто же всё-таки и кому служит в этой поражающей воображение истории, когда Зло, вовсе не лишённое обаяния, полновластно владеет сюжетом, воскрешая в памяти евангельское: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию»...
Есть в фильме «Слуга» обозначенный Хозяин всех событий, заказывающий все «праздники» - Андрей Андреевич Гудионов, у которого по началу служит личным шофёром Пашка Клюев, неожиданно для себя вдруг преобразившийся, по сложному умыслу своего шефа, в знаменитого хормейстера с заметной художественной карьерой. Выпал простому шоферюге и былому десантнику редкий шанс развить свои способности, дарованный ему Хозяином с широкого барского плеча. Впрочем всякий подарок чреват отдарком. И подарок тот, может быть, был ещё и задатком для более тесного осуществления разных тёмных делишек, совершавшихся всегда только во славу любимого «шефульчика». Так что откладывалось впрок что-то такое в их общей судьбе подзабытое, но вечно тлеющее какой-то опасностью - вроде странной автомобильной аварии, приключившейся нежданно-негаданно с идеологическим противником Гудионова, Романом Романовичем Брызгиным, пострадавшим в этой аварии волею «несчастного случая», но уцелевшим... как-то неясно зачем?
Но ведь борется и старается наш Хозяин, Андрей Андреевич, вроде бы, не для себя вовсе, а для высшей Идеи и того Народа, которому он служит в «праведной» борьбе со всякими разными злокозненными злонамеренностями, то есть, являясь этому самому Народу, как бы Слугой. А потому получается, что служит сам Пашка Клюев слуге Народа, органической частью которого является он сам, то есть получается, что служит он сам себе, приобщённый к тому же этим самым своим «шефом, шевчиком или шифулей» к кругу доверенному и избранному. Или к узкому кругу, не раз слышавшему собственными ушами что-то вроде: «Хрусталёв, машину!» или что-то вроде того. Но это лишь поверхность подлинной близости отношений Хозяина и Слуги, сплетённых намертво (и это самое главное) общим экстазом вполне разделённой любви. Ведь не волею каких-то неясных обстоятельств и таинственных велений судьбы, но только единым взмахом руки своего высокого Покровителя пришлось оказаться нашему Павлу Клюеву вдруг из грязи в «князьях» и «лучшим из народа». Задача почётная, но непростая. Утомительная, но и волнующая. Обременительная, но не обременяющая. Опасная, но и гарантирующая.
Так что разворачивается в «Слуге» история одного бесконечного общего и взаимовыгодного преступления, отмеченного лишь короткими наказаниями вроде вполне заслуженных выволочек. Наказаниями, как зарубками, на том же самом своём родном, любимом, вечно плодоносящем и возрождающемся древе, ветвящемся разнообразной листвой. Наказаниями неприятными, но естественно сопутствующими ситуации и не очень страшными, пока... Пока всё это не угрожает поистине ужасающим всеобщим наказанием смены вла
197
дельца того же самого пространства, которое влечёт за собой не только смену самого правителя, но и всего другого обслуживающего персонала. Так что новые рабочие места потребуют перераспределения в, так называемое, «мирное время». Когда война бескровна (почти!) и ведётся всё больше ногами и под столом. Надеяться на износ противоборствующих сил, в любом случае, не стоит. Они вечны, как в своей непримиримости друг к другу, так и обольстительных чарах взаимозависимости. Так что главное как-то удачно вплестись в эти как бы «противоборствующие» силы, вовремя раписываясь в своём доверии и причастности к победителю.
Как признавался Иван Карамазов самому посещавшему его чёрту: «Я, впрочем, желал бы в тебя поверить», тем более такого «чувствительного и художественно восприимчивого», каким его потрясающе внятно играет Борисов. Дьявольское обольщение, каким оно представлено в фильме, изощрённо и не имеет границ, без особой борьбы подчиняя себе почти что всякую тварь дрожащую. Если ещё удостоишься чести стать объектом такого соблазна, если ещё докатятся до тебя его сладостные флюиды, заманчивое дыхание. Если ещё удастся тебе хоть как-нибудь доползти, добраться до Него раньше других и всем другим жаждущим на зависть и назло... «Сатана там правит ба-а-ал! Там правит бал!». Правит и правил, и будет править... Так что многочисленные желающие не ждут приглашения, а пробиваются туда в жёсткой конкурентной войне.
Будто из шума, нарастающего в темноте кадра, на чёрном фоне возникают строгие титры картины. Шум сменяется волнами перекатывающихся ритмов зазвучавшего за кадром хора, тревожного и торжественного, жёстко организующего внимание зрителя. В ритмах этого волнообразного движения хоральных звуков возникают, чередуясь, отбиваемые этим ритмом и решительно вовлекающие в действие тревожащие душу среднерусские пейзажи, то ли предвечерние, то ли подёрнутые предутренней дымкой. Череда сменяющих друг друга картинок завершается крупно приближенным планом будто застывшего в неподвижности лесного озера, неживого, подёрнутого водной плесенью и будто вспоротого на поверхности утопленными в нём чёрными корягами... Будто свидетелями... Какой такой войны?
Этот кадр отсылает ассоциативную память к той «земной» воде, которая как-то не совсем точно первоссоздаётся у Тарковского механистической памятью Соляриса - слишком недвижимой, хотя так живо окаймлённой зелёной порослью и подёрнутой ряской. Это некоторое несоответствие в «звёздном» изображении по-особому тревожит зрителей «Соляриса», отзываясь исполненной любовью памятью о живой покинутой героями Земле. Озеро, замершее в кадре Абдрашитова, настораживает нас совсем иной набухающей тревогой. Камера движется панорамой по этому озеру, включая постепенно в поле своего зрения дорогу, на которую под вкрадчиво затихающий ритм того же хора, будто живое существо, вползает автобус. Хор вновь набирает более мощное звучание, тревожно диссонирующее вполне мирному содержанию
198
следующего кадра, в котором на среднем плане покачиваются задремавшие пассажиры, притулившиеся на сидениях полупустого пригородного автобуса. Ничего драматичного! Только камера задержит наше внимание на одном из этих пассажиров, как будто особо ничем не примечательном, похожем, скорее всего, на местного бухгалтера с потёртым портфелем в руках, в заношенном костюмчике и с засаленной соломенной шляпчонкой на голове. Тем не менее, отчего-то именно на нём затормозят наше внимание так, что захочется поинтересоваться - кто таков и откуда взялся?
Этот человек, будто вовремя очнувшись от сна, попросит водителя притормозить автобус у какого-то пустынного места дороги, чтобы решительной походкой углубиться далее в лес с какой-то неведомой нам целью. Интересно, куда это он так целеустремлённо зашагал между деревьями, пробиваемыми лучами солнца, наш предполагамый «бухгалтер»? Спешит к кому-то или ищет кого? Но дорога, видно, предстоит ему дальняя, так как присаживается он в лесу перекусить, будто по-домашнему освоившись на приглянувшейся ему полянке... Но призрачна лишь кажущаяся ему мирная тишина... Не проглотив ещё одного куска, шкурой почувствовал наш путешественник что-то тревожное рядом. И верно: оглянувшись, увидел он за кустом глазеющего на него самого настоящего волка, уже приценивающегося к своей жертве. Но испуг, едва промелькнувший в его глазах, быстро сменится точной прицельной оценкой ситуации и... Что же? Присев на четвереньки, вдруг оскалится на волка хилый довольно мужичок вполне волчьим оскалом, «заговорив» с ним на общем, видать, волчьем языке, подвывая то ли воинственно, то ли примирительно... им между собою понятнее... Но оскалится он так, что решит дикий волк лучше ретироваться восвояси... от такого, непростого мужичка... Не связываться с ним... Видать, он из той же волчьей стаи, где на смерть грызутся за место важака, а так просто его уже не уступают.
Простенький мужичок из автобуса и далее оказывается, на удивление, подвижным и проворным на редкость. Уже в следующем кадре мы видим его, уже успевшим взгромоздиться - шустрик этакий - на вершину берёзы, прочно там закрепиться, вроде дозорного на мачте корабля, чтобы с высоты местность обозреть: то ли для расширения кругозора, то ли, может, какие свои владения оглядеть, то ли вовсе из натуралистических целей... То ли в поисках приюта, то ли в поисках новой жертвы, коль скоро так странно и неожиданно сумел разобраться с серым волком? Впрочем, остаётся зависшим вопрос, а как вообще-то он мог забраться на этакую высоту? Как сумел оказаться на такой мало доступной высоте в довольно почтенном возрасте и чьим, собственно, зорким глазом увиден снизу? Ведь перекусывал он под высокой берёзой только что, вроде бы, в одиночестве, если не считать этим обществом волка?
Но вопрос этот не получит прямого ответа, с самого начала зависнув между соседствующими кадрами и затерявшись в иных мирах или неведомом нам далёком далеке... Может, тот «помощник» нашего героя и наблюдатель за ним кроется где-нибудь в четвёртом измерении, фиксирующем нас для каких-то своих
199
надобностей? С неясной нам целью и для собственных идей? Во всяком случае, кажется, что мужичка нашего, сдружившегося, видать, с нечистой силой, явно не обошли там своим вниманием... Приблизив теперь к нашему близорукому взгляду для более внимательного его изучения и не его одного только...
Так что развернётся в фильме «Слуга» перед нами история, хоть и прыгающая из настоящего в прошлое, но струящаяся внутри кусков в ритме повествовательной, даже напевной мелодии. Оттого делается ещё страшнее. Без назиданий и в простоте бесы путают. А история вьётся себе, как ручеёк, естественно пробивающий себе русло в породах разной твёрдости, грозясь, утомившись, и морями разлиться... Без кисельных берегов... Нереальная история? Неточно соответствующая реальности. Преувеличенная вроде бы по деталям? Да, нет. Кажется это. С нечистой силой, как выясняется, общаемся мы вполне добровольно и без особых принуждений. Больше усилий понадобилось бы вовсе с ней не общаться...
Вскоре окажется наш Бухгалтер тем самым Андреем Андреевичем Гудио-новым (О.Борисов), который был когда-то Хозяином этой области, а потом, как мы узнаем, возвращаясь вспять, был переведён на службу в Москву с таким большим повышением, что при одной только мысли у него «дух захватывало», как он сообщал доверительно когда-то своему особо доверенному лицу и слуге Пашке Клюеву (Ю.Беляев). А теперь кажется нам, что там, на вершине берёзы, у него, наверное, точно так же дух захватывало от упоения покорённой головокружительной высоты, с которой можно и вниз сорваться...
С течением сюжета станет ясным, что все события с берёзой и волком случились с Гудионовым как раз в момент его возвращения в свою родную когда-то вотчину, городок областного масштаба, чтобы повидаться там по новой настоятельной необходимости с тем самым бывшим своим персональным шофёром Пашкой Клюевым. Взлетевшим за истекшее время, с его лёгкой руки, до крупной художественной шишки. Ставшим музыкантом и руководителем хора, сумевшим развить свои, очевидно, хорошие природные данные - заметьте! - так точно и во время подмеченные в былые времена строгим, внимательным и рачительным Хозяином.
Но вернулся теперь бывший Хозяин в недавно родные свои пенаты (впрочем, как выяснится, «бывших» не бывает) не по доброй воле, а по горькой необходимости. Мутит воду его давний оппонент и возмутитель спокойствия Брызгин (А.Петренко), пострадавший когда-то вроде как по его наводке и с помощью исполнительного Слуги в автомобильной аварии, означенной в судебных бумагах «несчастным случаем». Но выжил, на своё счастье, а успокоиться никак не может. Всё чего-то ему неймётся, всё копает или, другими словами, виноватых ищет. А ведь может подлец, наконец, докопаться, как «до заказчика» своего «несчастного случая», так и до его «исполнителя», именитого теперь дирижёра Павла Клюева, а когда-то всего лишь преданного шоферюги Пашки или Шакала, прозванного так, видать, своими бывшими коллегами за слишком ревностное служение своему Господину.
202
А теперь ретивый былой «исполнитель» лишь хозяйских заказов исполняет иную музыку и произведения других авторов, дирижируя хором. Стал гладким таким и успешным, так что возит его теперь уже свой, такой же исполнительный шофёр. И показалось ему позабытым своё собственное прошлое. Но подишь ты! Из небытия и совсем некстати вновь возникает Хозяин, призывая вдруг его рассчитаться за все приобретенные им радости жизни. И не только за его новую возвышенную деятельность, но, оказывается, ещё и за жену-красавицу да за барский дом, в котором поселил его со своей былой возлюбленной щедрый Хозяин-Барин. Никого не забыл! Всех пристроил!
Ах, если бы вся эта история, как показалось когда-то многим, оказалась лишь горькой насмешкой над отдельными неустойчивыми элементами нашего ушедшего в прошлое советского общества. Отклонениями от нормы. Увы! Реализм Абдрашитова страшнее, глубже и неподкупнее. Его зеркало не брешет, увы, а лишь отражает ту неприглядную действительность, которая, мимикрируя с течением разных времён, лишь обильнее цветёт своими равно ядовитыми плодами.
Хозяин и Слуга, Палач и Жертва, Вассал и Раб! Всё это было, было до нас, и лежит, увы, едва ли не в фундаменте всякого человеческого общежития. Не только нашего. Хотя есть у нас, конечно, свои «азиатские» специфические особенности, на которые по-родственному отзывается наша душа. Так что важны для замысла всей картины показавшиеся кому-то чрезмерными метаморфозы Гудионова, предпринятые авторами, то в сподвижники Стеньки Разина, то в жертву копья Ланцелота. В самом деле, очень нужно было напомнить нашей забывчивой исторической памяти в момент обозначившихся перемен и самых светлых надежд, в каком мире мы на самом деле живём, так сильно располагающем скорее к цветению зла, увы, вечного и неискоренимого.
Нужно было авторам напомнить нам о нас самих, уже начавших - чуть поманили - так легко перестраиваться и быстренько приспосабливаться ко всяким новым предложенным нам обстоятельствам. А представлены нам подобные же обстоятельства в фильме приметами, знакомыми до боли и, казалось бы, набившими оскомину, определяющими характерные особенности именно наших Слуг, служивших тогда именно нашим Служителям народа. Что ж с того, что теперь также усердно служим другим господам в новых условиях и иных аксессуарах, но с не меньшей страстью? Или по страшному принуждению?
В «Слуге» всем нам была явлена вся демоническая и соблазнительная для нас сила Власти, рассмотренная Абдрашитовым в нашей детальной конкретике. Эта Власть является нам всякий раз не во сне, а наяву, чтобы, «приблизившись» к нам, лукаво «перестраиваться» в специфически наших условиях. А явился тот Соблазн на свет, увы, вместе с нами из недр морских, только не готовый сгинуть ни вместе с нами, ни после нас, даже будучи потеснённым разными великими историческими преобразованиями. Это наше родное, вечное, таящееся в нас самих снова и снова соблазняющихся, чёрт возьми. Порою, как «задумчиво» признавал близкий к святости Алёша Карамазов, разные «преступления», оказывается, «люди-то минутами даже любят». «Да,
203
да! - вторит ему «злая» Лиза. - Все говорят, что ненавидят дурное, а про себя все его любят... Как будто когда-то условились лгать и все с тех пор лгут». Так что получается, «если всё целое взять», то, как признаётся Митенька Карамазов, «Бога становится жалко».
Зло пугает и манит, ещё не каждому оказываясь по зубам, как тот кусок золота в шоколадной конфетке из пайка, предложенной Хозяином Слуге и поначалу-то зуб ему обломавший. Служение Злу требует особой страсти, умения и решимости. Вот сумеет Пашка, собравшись всеми силами, решиться на это служение, и будет у него новый золотой зуб самой высокой пробы, покрепче своего родного, старого. Закаляться нужно, как сталь! Это Пашка Клюев поймёт и примет, закаляясь для трудов, глядишь, не очень праведных. Поначалу чуток посомневается. Но как только улягутся у него в душе едва взметнувшиеся опасливые сомнения да страхи разные, то поддастся он плавному, совместному танцу, ведомому хозяином, на который тот увлечёт его за собой незаметно и как будто даже против его воли, но пробудятся в нём какие-то новые роднящие и единящие их чувства.
И потечёт далее жизнь подчинённого Хозяину шофёра в резких прозрениях понимания им правящих жизнеобразующих «истин». Всё теперь без дистанции и вблизи видно, как, собственно, жизнь-то строится. Так что не грех и за своё тёпленькое местечко под солнцем побороться в признательной любви ведомого к Ведущему этот танец, так плавно... по дорогам ухабистой жизни...
А жизнь эта вьётся, как тот ручеёк, соответствуя законам окружающей природы. Хоть люби эту природу, хоть другую, хоть её вовсе не люби. Так или иначе, но русло всё равно прокладывается по мягкому грунту лёгким и нежным течением, а чтобы пробурить жёсткую породу, приходится долбить её всем напором. Тогда, глядишь, и определятся, наконец, берега уже не ручейка какого-нибудь, а моря-окияна, закрепившегося в солидных конфигурациях, добытых немалыми трудами. Чем внушительнее пространство, тем вольготнее покажется тому кулику, что будет «хвалить своё болото», добытое и обживаемое им в борьбе со всякой другой живностью. Вот такая, вроде бы, «бездуховная» история нашей жизни получается, если исключить из неё того главного Автора, что глядит на все наши перипетии из какого-то другого, бесконфликтного пространства, констатируя нашу вечную ситуацию, струящуюся по разным временам.
В тугую связку необходимых участников борьбы и противостояния двух сил вплетутся также нелёгкие отношения, по видимости, двух заклятых идеологических врагов Брызгина и Гудионова, никогда не существующих друг без друга ровно так же, как не бывает Хозяина без Слуги. А как же без «любимых» коллег? И друзей для противостояния? Без них тоже никак нельзя! Нарушится тогда тот закон борьбы противоположностей, без которого не будет освежающего нас движения истории. Ведь движемся всё время, как принято думать, к «лучшему», разыгрывая свои маленькие сюжеты в том общем
204
представлении, что смахивает порой на дурной провинциальный театр. Но где ж набраться чопорного лоска только столичных сцен? Не всякому дано, как Гудионову, вовремя менять свою исполнительскую манеру, годящуюся и для столичных подмостков, и не всяк может по-столичному преобразиться враз, чтобы соответствовать решению вечной и всякий раз столь важной для нас и себя сверхзадачи.
Мы увидим, как в провинции, вдали от самых пышных балов и новых веяний та же самая пьеса разыгрывается Брызгиным для нас и себя гораздо менее успешно, с соответствующим дурному театру, якобы, «естественным» нажимом. Но переусердствует и перестарается провинциальный актёр в видимости своего бескорыстного правдоискательства, подготовив себе собственное поражение. Ему не хватит гудионовской гибкости, нужной органики мгновенного перевоплощения, соответствующего уже новому сюжетному ходу. А ведь если не перевоплотиться - читай: «перестроиться» - вовремя, то ожидай страшной неотвратимости грядущего финала, с точностью уготовленного нерасторопным растяпам.
Так что придётся Брызгину пасть в неравной схватке или, если кому-то это нравится больше, «праведной» борьбе с Гудионовым, которому останется лишь искренне оплакать своего многолетнего противника и партнёра по сцене. Ведь враг, явленный Брызгиным, был им уже изучен в каждом движении, навязчив, но и привычен. Сколько общих воспоминаний, сколько битв! А теперь Гудионову предстоят иные сражения с какими-то иными новыми «врагами», требующими иной тактики. Ведь, как ни крути, но такая пьеса всё равно обречена на продолжение, никогда не завершаясь окончательным финалом. Такое своеобразное представление non-stop, всякий раз предполагающее новый виток событий после всякой последующей чистки рядов неустанных «борцов» за своё место под солнцем. Всем известно, что страдают в этой чистке, как правило, крайние, каковым, в данном случае, предстоит оказаться «перестаравшемуся» слуге Пашке-Шакалу, набедокурившему впопыхах слишком ревностного служения Хозяину. А жаль! Хоть и «не заметят потерю бойца», но каким, однако, слаженным уже было это взаимовыгодное взаимодействие! Они были просто созданы друг для друга, поразительно сосуществуя в каждом кадре Абдрашитова абсолютно единым организмом. Нет Слуги без Хозяина и Хозяина без Слуги!
Хотя случаются незадачи, грозящие расколом всегда прочного тандема. Так после заданного Хозяином убийства Брызгина, нечисто сработанного невольным злоумышленником Пашкой Клюевым, приходится его проучить в назидание в соответствующих местах, чтобы выпустить потом на свободу для дальнейшей деятельности всегда «на благо нашей страны». «Невольного злоумышленника»? Да, конечно! Таких «злоумышленников» пруд пруди. Они требуются, они нужны, увы, для функционирования нашего больного общественного организма, так точно ещё раз сканированного режиссёром для нас, зрителей. Впрочем, увы, но весьма относительно здоровье любого общества
206
и общественных связей, осуществляемых человеческими индивидами - это так ясно осознаётся Абдрашитовым, чьи фильмы так органично вписываются в контекст общих культурных размышлений.
Уже за кадром и вне сюжета картины, видно, помучается в застенках наказанный за свои преступления Пашка Клюев в переосознании своей виновности. Но своей ли? Вот в чём двусмысленность, если эти преступления было предложено ему совершить почти что высшей для него силой, хозяйским указом, то отчего же не одарил «шефульчик» бедного слугу полностью разделённой любовью, как говорится, «и в горе, и в радости». Нет. В горе придётся ему самому мыкаться. Но ведь было всё же нечто, за что стоит Клюеву пострадать. Ведь было подарено ему столько щедрой барской любви и взращенного этой любовью собственного успеха, воспоминания о котором где-то там, за решёткой, окрасятся для Шакала хоть и горечью, но приправленной всё же ностальгической грустью. Какой неподдельной просветлённой тоской вынужденного расставания с хозяином окрасится последний кадр фильма, мелькнувший в воспоминании ныне обречённого к ответственности Клюева. Как же бежали они когда-то с Марией вдоль перрона, не жалея ног, за поездом, увозящим Хозяина, как не хотелось им расставаться с любимым Андреем Андреевичем, ведь обласкавшим их вовремя своим особым вниманием, даже благословившим молодожёнов Клюевых на новую плодотворную совместную жизнь! Такое не забывается! Что говорить? Кругом обязаны.
Ох, как ностальгирует без пяти минут арестант Клюев о своём былом допуске к подножиям Олимпа, о дарованной ему Гудионовым близости к вечно манящим «зияющим» вершинам. Ведь много приглашённых туда, но как мало избранных! Фильм о тех самых, так называемых условно, вечных «избранных» ваятелях нашей жизни, щедро облагодетельствованных с той высоты верховной, что, чем ближе оказываешься к главному престолу власти тем более, по определению Гудионова, «дух захватывает». Ах, какие хитросплетения отношений властей предержащих с подданными своими хранятся за кулисами нашей истории! Но неужели только нашей? Ведь ежели поглубже копнуть да посерьёзнее вникнуть, то дух-то и впрямь захватит... лукавой бесовщиной. А как же без неё в нашей всеобщей «мирной» истории со своими Ричардами, Макбетами и всякими рыцарями Круглого Стола? Пусть «Слуга» повествует о своих родных приспешниках силы и власти, жаждущих не только поошивать-ся окрест и внутри её коридоров, но реально плести свои собственные исторически значимые интриги. Увы, те же самые интриги да старо-новые рокировки и теперь ясно просматриваются вокруг новорусского или «постсоветского» трона...
Какой плачевно-смехотворной казалась уже тогда представленная в фильме Битва Идей на провинциальной сцене дома старых большевиков, казалось бы, сметённая в прошлое качнувшимся занавесом новой Истории. Глядя фильм, задумываешься, однако, о том, что тем же страстям ещё суждено, увы, разыгрываться вновь в самых разных новых декорациях. А зритель снова бу
207
дет следить и следит уже вновь, затаив дыхание, за новым старым действием в ожидании какой-то новой воодушевляющей развязки. А как же иначе? Всем важно, какой крошкой накормят нас с барского стола, и кому удастся продвинуться ближе к столу раздачи.
Самое важное, что в фильме «Слуга» речь идёт не только о высоко стоящих зиждителях наших исторических «свершений», но продемонстрирована также их органическая связь с теми, кого они готовы подкормить более или менее сытно. Сердце стынет от захватывающих отношений Хозяина со Слугой, скреплённых странной любовью (а в какой любви обойтись без ссор и размолвок?). Их взаимозависимость представлена нам так неоспоримо-наглядно каждым кадром, что не оставляет вовсе никаких сомнений в неразлучной, взаимовыгодной близости двух персонажей, соединённых, как раздражённым неприятием, так и страстной любовью, скрученных узлом общего дела и общих интересов, неотделимых и неделимых друг с другом. Дух и впрямь захватывает у самих зрителей, наблюдающих в странном пароксизме эмоций удивительный совместный полёт двух прежних десантников, Гудионова и Клюева. Вот они, выбросившись из самолёта, вновь парят над родимой землёй, захлёбыва-ясь непоказным экстазом нового осмысления своей неподдельной, бьющей через край любви к ней: «Родина моя»! Любви безотчётной, не требующей никакой отдачи, но рождающей вослед этому полёту целый коловорот наших уже собственных ощущений, сопутствующих этой сцене, взрывающихся изнутри: от смущения всей нелепостью уже наших собственных интимных переживаний с каким-то неожиданным сопутствующим восторгом! Что за глупость такая детская нас посещает? Неужто сами так склонны к грубому фатовству?
Ведь чувствуешь себя вроде как выше, конечно, гораздо выше наших героев в, так называемом, моральном отношении, так что следить за ними хочется, в лучшем случае, снисходительно... Свысока... Хотя куда выше неба забраться? Но как же так у нас получается, если служим мы сами, конечно, совсем иным, более возвышенным Господам? Хотя, следуя за течением фильма, нащупываешь с тоской всё те же самые наши общие для всех корни - как ни выпендривайся, - из которых ветвится всё та же самая наша не совсем задавшаяся история, осуществляемая до боли знакомыми нам героями. Даже если они нам очень не нравятся. Но другой истории наш народ не осилил. Так что сердце начинает холодеть в тоскливом и насмешливом признании самому себе: «не отрекаются, любя»... Любя не за достоинства, не за хорошие моральные качества, а за узнаваемость, увы, родственных нам персонажей, выскакивающих для нашего полного обозрения точно чёрт из табакерки. Хотя так хочется вслед за замечательным критиком Татьяной Москвиной, брезгливой к власти, тоже программно дистанцироваться от особо нежелательного для нас обаяния глубоко отрицательных персонажей фильма. Так хочется присоединиться к её нравственному порицанию, обозначенному самим заглавием её рецензии: «Герой, я не люблю тебя». Но, однако, не следует торопиться со слишком поспешным признанием. А вдруг тот же герой в ином обличии остал
208
ся незамеченным или просто не протянул ещё Татьяне свою щедрую «благородную» руку? Может «не любить» было некого?
Ведь, как говорится, любовь - чувство сложное. Говорят, порой, даже к ненависти близкое... Не за что, конечно, любить Чичикова или Манилова, Со-бакевича или Хлестакова, или ещё - не дай Бог! - какого-нибудь Городничего. Но как же без них? Куда же от них деться, если душу так греет радость узнавания в них самих себя, только явленных нам в самом точном и обобщённом образе? Но именно «обобщённом», выдуманном, так что всё это не совсем мы - утешительно звучит в подсознании. Тогда как душа исторгает трепетный восторг узнавания всякого слова, сказанного «пришельцами», всякой оброненной ими фразы! До знаменитой, завершающей «Ревизор» и обращённой, как известно, непосредственно к нам в зал: «Над кем смеётесь? Над собой смеётесь»! Ой, как смешно... Ну, это, конечно, Гоголь преувеличил для красного словца и мы это, конечно, поняли со своей высоты. Потому как трудно в таких чрезмерностях самим себе признаваться было, как тогда, так и теперь. А ничего, собственно, с нами не изменилось. Именно так же, по-прежнему и навсегда слишком себя любим.
Поэтому высоко «моральному» критику требуется столь принципиально стойкое отречение от антигероев фильма, дабы не заподозрили его, порицающего «художников в обольщении идеей абсолютной власти», в собственной пагубной привязанности. Получается, что, заботясь о мнимом собственном реноме, критик никак не слышит не «обольщающегося властью» художника, но горестного повествователя, рассказавшего о всесилии соблазна и нашей готовности этому обольщению поддаться. Так что, чем более решительно рецензент заявляет о «нелюбви к герою картины», тем очевиднее воздействие пускай отрицательного обаяния героя, которому, видимо, было трудно сопротивляться на протяжении всего экранного действия. Сгинь сатана, сгинь! Так хотелось откреститься Татьяне Москвиной от гудионовского наваждения, как той деревенской бабке, что замечательным камертоном возмущенного негодования шепчет в фильме простое антидьявольское: «свят, свят, свят»... Да, старушка-то та Божья! А страсти в фильме разворачиваются дьявольские, которые, увы - надо признаться, - нам сподручнее в повседневной практике, нежели Божественное. И, по-существу, надо признаться, что ничего не менялось с нами, так и не стряхнувшими с себя срамного праха в этом «лучшем из миров», где вновь и вновь нами разыгрываются те же сюжеты в новых декорациях...
Всё, что происходит в «Слуге» двусмысленно, даже ревнивая любовь обоих героев к одной и той же красавице Марии (Ирина Розанова), лирической русской Мадонне и любовнице Хозяина, которую он сверх-доверительно передаёт для законного брака своему Слуге, следуя необходимости законов своего карьерного роста, предполагающего, как данность, добропорядочную жизнь с законной женой. Но за неотразимой внешней наивностью и видимой непричастностью этой Марии к прямому злодейству обоих своих обожателей, кро
209
ется вполне практическое женское умение, не хуже гудионовского, вовремя отыграть в свою пользу обоих женихов, чистосердечно признаваясь каждому из них - «герои, я люблю вас»! А самозабвенные признания в любви обоим героям вовсе не мешают Марии деловито позаботиться о необходимых юридических формальностях с «законно наследованной» недвижимостью, переданной Гудионовым зарождающейся семье Клюевых, видимо, в качестве приданого новоиспечённой невесте.
Как органично вяжутся режиссёром в фильме почти что правдоподобные любовные страсти героев с вполне прагматичным до цинизма расчётом. Как приподнято-воздушна, будто пропитанная чистой любовью, атмосфера вокруг Марии, просто парящей со своими рыцарями в лунном свете гудионовского сада! Как снова наивна, чиста и невинна она в преддверии законного брака, назначенного для неё Гудионовым! Как ласково и по-мужски взволнованно, неслышно подкравшись со спины, прикрывает новый жених своими мозолистыми руками глазки своей нежданно негаданной явившейся ему невесты, нежно и без слов предлагая ей таким образом угадать своего суженого-ряженого, наречённого ей высшей хозяйской волей. Перед нами ещё одна блестящая, многосложная сцена всепобеждающей, в нас кроющейся дьяволиады, разрешающейся в кадре тихим, умиротворяющим душу предзакатным пейзажем, будто нашёптывающим нам на ушко умиротворённое расслабление - так и хочется воскликнуть: как тихо вокруг и как всё хорошо - остановись, мгновение! Поселившееся внутри всё той же вечно разворачивающейся и возлюбленной нами бесконечной человеческой комедии, вечного наказания нашего за вечное наше преступление, которое мы, видать, и вправду слишком возлюбили.
Картина «Слуга» заканчивается воспоминанием Пашки-Шакала, вынуждаемого теперь угодить за решётку, о счастливейшем мгновении своей супружеской жизни, сверкнувшем в его потревоженной памяти. Ведь всё было из-за Него и для Него! А из-за кого же ещё воссияла Пашке Клюеву «счастливая» жизнь, те лучшие мгновения, из-за которых «и жить, и работать стоило», и пострадать придётся? А как же? Заслуженная расплата за те тайные деяния, что совершались им, однако, лишь во имя цветения и процветания своего Хозяина. А кем бы он был без него? Так что помнится Клюеву перед тем, как отправиться в тюрьму, вся трепетность былых светлых проводов молодожёнами своего Благодетеля, отбывавшего на повышение в Москву. Вот ведь какое радостное для страны и знаковое для них событие! Так и светятся все трое перед поездом, расставаясь, лучезарным открытым светом доброй радости, так не хочется, но надо. Надо расставаться для высшей цели! Вот и бегут они уже следом за двинувшимся поездом, ускоряющим свой ход, бегут уже со всех ног за отцом родным, уносящимся всё дальше от них и ближе к Власти. А без него, любимого, какая жизнь? Ноги сами несли их тогда по перрону, а глаза их сияли неподдельной горечью и слезами благодарности, будто ожидая от него ещё одного последнего «благословения» на всю свою последующую жизнь. Хотя и сам глубоко растроганный Хозяин, и впрямь определивший их
210
жизнь, уже благословил их на прощание, заключив на перроне в свои отеческие объятия. Отправляясь в своё собственное далёкое путешествие, отрываясь от них всё дальше. Ну, что ж? Обычные превратности жизни! Так что в смяитении бегут они, бегут за двинувшимся поездом по перрону, всё ускоряя бег... Бегут за Ним, уже успевшим вскочить на подножку, бегут... неизбежно от него отставая... От поезда? От Гудионова? Растворяющегося теперь за недоступными им пределами?
Как обычно у Абдрашитова, новый многозначный финал бередит душу целой гаммой странных, противоречивых, нелепых каких-то чувств, словно сам прощаешься то ли с родной бесовщиной какой, то ли с собственной историей - личной или общей, проклятой или благословенной? А главное, как выяснится в следующей картине «Армавир», предавшей, оказывается... Всех подряд! Не только своих потребителей или удачливых службистов вроде Марии и Клюева, но точно так же предавшей своих верных рыцарей без страха и упрёка, вроде рабочего Белова, прокурора Ермакова или Плюмбума, страстно стремившихся противостоять тем, кто не желал смириться с предупреждающими их сигналами времени, ведь посылавшимися всем загодя, но не слышимыми... Зато сигналы эти ловились издалека художественным чутьём режиссёра и сценариста, умевших точно настроить антенны своего восприятия времени на нужные волны и не свернуть с выбранной ими дороги, не заплутаться в растерянности на её обочинах, как это случилось с Беловым.
Кажется, Абдрашитов тяготеет к образу уходящего поезда, как вечно движущейся «быстротекущей жизни», одна из глобальных остановок которого была так точно предсказана заглавием «Остановился поезд», обозначив тем самым известный теперь финал важного куска нашей истории, после которого наше неумолимое движение продолжится по всяким другим рельсам. Так что понесётся далее абдрашитовский поезд со своими пассажирами через «Слугу» к «Армавиру», «Пьесе... для пассажира» и так далее по ухабам нашей новой истории... На путях которой кто-то попытается сменить маршрут, пересев в мечтах своих на гордого скакуна в самом финале «Времени танцора», чтобы умчаться, куда глаза глядят и подальше от того южного полустанка, у которого в начале фильма притормозил всё тот же поезд, чтобы высадить из вагона новых приехавших на Кавказ русских поселенцев... «Мечты-мечты, где ваша сладость?» Так что не пересядет, чтобы вскачь опередить тот поезд времени, что обгоняли когда-то романтизированные конницы революции, памятные нам по другим, теперь уже совсем историческим фильмам... Но об этом позднее...
А пока, расставаясь со «Слугой», нужно сделать ещё один акцент на важнейшем, сквозном образе картины, возникающем несколько раз стройно звучащим академическим хором, дирижёром которого Гудионов своевольно назначил Клюева, так сильно преуспевшего затем с его лёгкой руки в новой, оказавшейся для него неформальной должности. Мощное звучание будто с небес слетающих голосов, собранных единой волей своего дирижёра, всякий раз окрашивается Абдрашитовым новым контекстом разных воз-
212
чикающих ассоциаций, уносящих зрителей далеко за пределы концертного зала и определяющих всякий раз новый градус их размышлений о времени и о себе. Многоголосие хора, подчинённое жёсткому прочтению дирижёром всей партитуры и осенённое чистым прекрасным ликом одной из хористок, по-особому восприимчиво ко всякому волеопределяющему движению дирижёрской палочки - всё звучит так возвышенно и прекрасно, но одновременно так иронично!
Так что же стоит тогда за этим, много раз повторённым образом, задающим картине такой важный специальный и организующий действие ритм? Пародия на наше уже обречённое коллективное сознание? Ностальгическая грусть об утраченном уже... Рае? Аде? Мечте? Иллюзии? Или, может быть, это прозвучавший всем нам реквием, со всеми нашими мечтами, иллюзиями и аллюзиями?
Увидим дальше. Когда в следующей картине «Армавир», выражаясь образно, стройно звучащий «хор» советских граждан распадётся, рассыплется, как ожерелье, бусинками... Обозначившими теперь этих граждан уже разрозненными жертвами затонувшего корабля, ужаснувшимися следствиям распада. Мы увидим новую картину нашей истории, когда камера волею режиссёра перефокусирует своё внимание с вершителей наших судеб на обычных, оставленных ими людей.
В этом пространстве возникнет то общее, глобальное для всех нас наказание, которое настигнет наших соотечественников, затонувших вместе с «Армавиром». Нас всех, вынуждаемых теперь новым витком истории заново ответить за слишком возлюбившееся недавно зло, расставившее теперь свои иные мстительные сети. Поглядим, что случится с людьми после крушения «Армавира», когда окажутся они неожиданно выброшенными на пустынный берег из глубин нашей уходящей в небытиё, так называемой «советской» жизни? Людьми, не нашедшими себе особых богатств в тех глубинах, а теперь и вовсе обделёнными, брошенными на произвол судьбы своими «верными слугами», удалившимися от них как-то неожиданно и впопыхах, видимо, на очередной исторический пересменок, не определив их к новой кормушке, о которой однажды позаботился для Клюева Гудионов.
Как же теперь суметь всем этим разнообразным, но одинаково потерянным людям перевоссоздаться в новой для себя реальности безо всяких указующих знаков сверху? Ведь у нас так всегда было. А теперь, может быть, и вправду, как, усмехнувшись заметит один из «простых» пораженцев «Армавира», нужно научиться на дне «жабрами дышать»? «Ах, кабы знать, кабы знать».
Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым
Вадим, до сих пор для меня остаётся загадкой, как тебе удалось и пришло в голову создавать «Слугу» ещё, как говорится, почти что при советской вла
213
сти? Помню, как я сидела на просмотре этой картины с корреспондентом голландского телевидения, и мы, тыкая друг друга в бок, просто не верили своим глазам... Это как? Откуда? Правда что ли? Не верили не только тому, что это осуществилось, но, может быть, ещё более не понимали, как это всё вообще могло уже прийти в голову авторам. Настолько ещё было во всём вокруг советское сознание, как нам казалось тогда, всё было ещё не подготовлено вовсе к подобной постановке вопроса...
Эту картину мы сдавали в 1988-м году. Значит, снимали в 86-87-м... Только к концу 87-ого года что-то кардинально новое стало просачиваться в прессу. Это была такая ещё андроповская инерция каких-то разоблачений...
В одной из центральных газет, чуть ли не в «Правде»... Или в «Известиях»?...Был опубликован один занятный материал, о нём много говорили. Там была описана такая замечательная история, развернувшаяся вокруг первых лиц Краснодара. Медунова, что ли? История какого-то крупного функционера, партийного чиновника, который, наваляв в своей вотчине разных дел, стал перебираться в Москву, прихватив с собой всю челядь и личного шофёра, женив его фиктивно на своей любовнице. Вся история показалась нам очень выразительной, мы много говорили о ней...
И количество наших разговоров постепенно стало переходить в качество формулирования темы, когда вдруг возникло ощущение нового рождающегося сюжета, возможного замысла. Причём, поначалу дело было даже не о какой-то глобализации сюжета, нас интересовала эта история сама по себе.
На эту тему можно было бы наснимать много всякого-разного, но тогдашнее время шло так интенсивно, ещё более выразительно проявив себя к 87-му году, что история про водилу, которого кто-то перевозит следом за собой, превратилась в какую-то частность... И постепенно эта история стала набирать некий масштаб, оптика замысла расширялась. И тогда Миндадзе сел за стол и написал этот сценарий, один из самых своих лучших. Ему, конечно, удалось записать эту историю широкоугольным объективом.
Абсолютно новаторский сценарий, сложнейший для реализации, но тем и интересный! Добротная драматургическая конструкция в целом, поразительный по точности финал...
Ты говоришь о сцене полёта, озвученную воплем - «родина, родина моя!»... Именно в этом более глобальном ракурсе мы начали постепенно ощущать какую-то такую довольно рискованную, абсолютно поначалу непонятной природы условности историю. И неясной степени этой условности. Хотя казалось, что на бумаге можно всё это хорошо придумать, но как и каким образом потом эту историю снимать? Как решать, например, в конкретных деталях этот полёт или сцену, в которой один герой на закорках несёт другого? Как это оправдывать? Мы картины такой природы ещё не делали...
Тем не менее, в фильме всё это постепенно, я надеюсь, срослось в нужной образной системе, не опустившись до уровня прямых метафор или символов.
214
Для меня эта картина являет собой нечто совершенно особое и единственное на постсоветском пространстве, так говорящее о природе власти в стране, в которой мы живём.
Ну, вот именно! Мне тоже кажется, что это не столько о советской власти, сколько о специфике власти вообще в условиях России...
Конечно, природа власти гораздо шире конкретики времени, о чём ты правильно пишешь, размышляя о «слугах народа», о тех слоях, на которых они держатся... первом, втором, третьем.... В третьем слое есть свой сюжет. С верхними слоями нам было всё понятно, но было сложнее с тем, что созревало вглубь и окрест..
Конечно, такой замысел требовал особой работы, особого существования актёров. Каких? Ясно было, что идеальным Гудионовым мог стать Олег Борисов, уже был опыт работы с ним - Ермаков в «Остановился поезд» и Костин в «Параде планет». Он был гений. Я работал с выдающимися актёрами российского театра и кино, блистательными мастерами. Но гений был один - Борисов. Но всегда ищешь и дублёра, это как в космонавтике - готовят Гзгарина, но есть запасные дублёры, которые не взлетят. Вот драматизм дублёра!
С таким актёром- дублёром, известным, замечательным, тоже могла быть другая интересная картина, но она была бы более публицистической, что ли, не хочу сказать сатирической... Так что возможность такого рода сдвига зависела от исполнителя роли Гудионова. Но именно Борисов давал этому образу совершенно особую окраску и глубину.
Когда появился первый вариант сценария, Борисов лежал в больнице.. И мы стали думать, что с этим делать. Олег лежал с серьёзным диагнозом, находясь в тяжёлом состоянии. Но поговорив с Аллой, женой Борисова, решили всё-таки дать сценарий почитать. И Олег загорелся этим замыслом, как-то даже воспрял. Может, и поправился поэтому быстрее.
Так что в экспедиции мы снова видели нашего Олега, как будто даже беззаботного, с огромной творческой отдачей работавшего над картиной... В самом начале фильма, когда он встречается с волком...
А мне помнится, что эта сцена и впрямь разыгрывалась с настоящим волком?
Конечно! Только что волк был не из леса... Мы приехали на биологическую площадку Мосфильма, в питомник МГУ, в последний съёмочный день. И Борисов, увидя волка, «догадался»: «так вот почему эту сцену вы оставили на последний съёмочный день... Теперь понимаю, как вы всё спланировали»... Посмеялись...
А кто всё-таки мог оказаться в этой роли, если не Борисов? Мне это интересно с точки зрения возможных метаморфоз самого сюжета...
216
Эту роль мог сыграть также замечательный актёр Евгений Евстигнеев... Но Борисов, конечно, задаёт роли глубину особой природы. Петренко, игравший Брызгина, был актёром совсем другого устройства... Абсолютно точна и очаровательна в очень условной своей роли Ира Розанова... Юра Беляев... Кстати, Беляева долго искали, очень долго... Ведь роль сложная, в каком-то смысле сложнее, чем у Борисова. У Борисова она расцвечена, но она соткана из единой связи. А природа Клюева возможное разнообразие разворотов, то есть не всегда предсказуемое развитие характера... Определяющее, в конечном счете, ту или иную судьбу... Потрясающе сыгранная роль.
Беляев вообще-то тоже мощный актёр, и то, что он делает в «Слуге» очень точно и совершенно органично в каждом повороте. Это поражает. Он и простоватый, и хитрющий, и простодушный вроде, и очень соображающий... И очень народный во всех отношениях, и угловатый, и жёсткий... И некая интеллигентная «художественность» в нём просыпается или обнаруживается тоже совершенно естественно... нет, это выдающаяся работа... А ведь Беляев, кажется, не имел особой известности в кино к тому моменту...
Не имел. Я увидел его фотографию в мосфильмовской картотеке. Было не очень ясно, кто он и чего, и я попросил вызвать его для знакомства, на всякий случай, чтобы не пропустить. Пришёл Юра Беляев, оказавшийся интереснее, чем он выглядел на фотографии, я начал присматриваться к нему, толковый такой... А он предложил мне посмотреть картину «Единожды солгав», в которой он снимался. Я посмотрел эту хорошую, во многом недооценённую, картину Инина и Бортко. Так что взяли Беляева и стали его приспосабливать к нашему сюжету... вот такой молодой водила... вот он же дирижёр... Так что возник ансамбль - Ира Розанова, Лёша Петренко, Юра Беляев и Олег Иванович Борисов, с которым запустились в работу...
А на дворе шло такое особое историческое время. Однажды в очередной раз мы после какого-то перерыва, кажется, просмотра материала в лаборатории, снова возвращались из Москвы в Киев. Сели в поезд и слышим прямую трансляцию заседания то ли московской парторганизации, то ли Верховного совета... Поезд только что отошёл, а мы ещё не успели привести стол в «дружелюбный» вид,, и ВДРУГ... идёт репортаж, и Лигачёв произносит эту гениальную фразу - «Борис, ты не прав!», обращённую к Ельцину. И озарило - конечно, разумеется, эта фраза про ЭТО! это про ЭТО самое...про НИХ!..
А Ельцин уже был?
Естественно! Фильм уже снимался... Брызгин, Гудионов... Вот они... Я сказал - мы снимаем именно про всё ЭТО. Жизнь вот таким чуть ли не жанровым образом поддержала нас...
Вот тебе реальное пересечение плоскостей жизни и вымысла!
218
«Борис, ты не прав» - это из нашей картины, все эти принятые тогда в верхах ты-канья - всё это не просто угадано, не то, что подсмотрено, но проявлено! И проявлял это, в первую очередь, Миндадзе. Потому что до написания сценария мы наговорили очень много всякого. А концентратом всего этого материала стал сценарий...
Про туже среду, тот же характер отношений, как мне кажется, эпизод, который мы снимали под Минском... вот этого санатория или профилактория этих самых «осколков истории»... Они там ходят, чего-то бубнят... вот эти старые большевики... А времена крутились и лихо крутились... И докрутились до такой степени, что картина была выдвинута на Гэсударственную премию, которую мы и получили...
Да? Я не знала...
Это была последняя государственная премия СССР вообще в истории...
Здорово! Тоже само по себе совершенно парадоксально и симптоматично... Смотри же, а? Как время крутится и крутит!
Конечно! Причём, эту премию не могли вручить, потому что не было начальников. Представляешь, как там всё ёрзало и менялось? В итоге, нам эту Гэспремию вручали в Союзе кинематографистов. Туда приехал кто-то из Комиссии, по-моему, Карпов, а мы его там уже поджидали. Получили премию и деньги! Знаешь какие? Мы получили деньги, уже тогдашние, достаточные только для того, чтобы всем сразу подняться в ресторан Дома Кино и отпраздновать с друзьями и группой эту премию...
Критика ничего особенно толкового про фильм не написала. Кто-то написал странную статью «Гэрой, я тебя не люблю», но кто-то, как и ты, вспомнил Гоголя... Хотя в целом картина была замечена и очень хорошо принята на фестивале в Берлине. Мы там получили два приза. Один имени Альфреда Бауэра - За развитие киноязыка, его ещё когда-то Антониони получал... И приз Экуменического жюри. Объяснили - в фильме идёт разговор о Дьяволе и Боге... творчестве... и замечательно, что дирижёр... он как бы художник, руководит хором...
КОНЕЧНО! Именно РУКОВОДИТ! Я как раз именно об этом пишу. Это очень важно!
Как ни крутись, но, конечно, наш брат-художник частенько оказывается на поводке... генетика, историческая генетика... А есть, которые упиваются счастьем, нацепив ошейник. Так что - надеюсь! - всё это получилось в общем достаточно стереоскопично...
Ну, ещё расскажи, пожалуйста, как сценарий превращался в фильм...
219
В процессе съёмок каждый сценарий, как сама знаешь, дорабатывается. Поправки в него вносят и натура, и живой актёр. Всегда требуется что-то корректировать, начиная с диалогов... безусловно... На бумаге читаешь одно, а на слух воспринимается совершенно другое. Чуткие актёры это чувствуют сразу... И начинается... Причём с разными актёрами по-разному... Ну, вот, как я рассказывал тебе о Гэстюхине, очень наглядно... Ну, а что касается Борисова... Настолько он был содержателен и настолько выразителен в этой содержательности... причём это не семантическое наполнение, а вот какое-то эмоциональное... какая-то вот эта плазма, которая вдруг... но всё-таки это требует отслеживания, отслеживания того, как идёт, складывается картина... подчас -как тебе сказать - картина начинает править сценарий... Именно сама картина возникает и движется по своим законам...
Я говорил тебе о том, как чутко нужно прислушиваться к этому внутреннему самодвижению картины, чтобы поставить, развести и снять кадр, не навредив... это очень важно... Нужно прислушиваться к картине, когда она только ещё возникает, когда смотришь первый материал... чтобы не свернуть ей шею и не убить завязывающегося плода. Нужно аккуратно себя вести, не поддаваться, порой, желанию что-то переколпачить по-своему, но подождать и прочувствовать, как развивается сама картина. В «Охоте на лис», как я тебе говорил, неожиданно для меня, вдруг проросла такая особая лирика... эпическая... Стало ясно, что картина к этому тяготеет... так что нужно было поддержать картину, помочь ей... Не было заранее задачи, бегая по лесу, чего-то такое специальное из этого извлекать... А оно родилось... и так далее, и так далее... В «Остановился поезд» пришлось отказаться от двух запланированных по сценарию съёмок... Картине они не понадобились. Это требование уже складывающейся картины, которой ты должен подчиниться, доводя уже сценарий до адекватности самого фильма...
А как в то время картина соотносилась с реальным временем?
О «Слуге» писали в те времена много и разное, но, по сути не слишком, я бы сказал, основательно... Ты упоминаешь рецензию Соловьёвой, написанную замечательно... Но она в своём тексте всё-таки осталась в предощущении главного, и туда, что называется, не пошла: «...лучше туда не заглядывать...»
Ты права, что в картине речь идёт вовсе не только о советской власти или советском строе... Пускай завтра и впрямь будет капиталистический строй, но до этого - хочешь-не хочешь - было крепостное право, так что всё и всюду останется то же самое... Просто в наших российских обстоятельствах всё это прописывается более рельефно...
Хотелось, наверное, светлого будущего... Верилось ещё... Хотелось более светлого самосознания, более светлой самооценки...
220
В этом смысле с интересом читал твоё описание одного из кульминационных кусков «Слуги» - вот этого их совместного парения в воздухе, которое видится тебе «душераздирающим и ужасным», озвученное их воплями «родина моя!..». У тебя эта сцена вызывает, как ты пишешь, особый «коловорот» ощущений, возникающих изнутри твоих сложных переживаний «смущения и восторга... что за глупость такая детская нас посещает?». Мне кажется, это очень близко... Там есть этакая суперпозиция, целое нагромождение очень сложных ощущений... Может быть, поэтому критика забуксовала, не доверяясь собственным ощущениям? Странно, но почему-то никто не написал именно об этой сцене, вот именно про эту странную смесь ненависти и восторга одновременно... Но давалось это сложно, конечно, во время работы...
Ну, расскажи...
Прежде всего, о музыке Дашкевича. В «Слуге» он оказался с самого начала перед нереально трудной задачей. Вообще мы сделали с ним три картины. Как я тебе говорил, он написал очень сложную музыку к «Плюмбуму», но всё-таки задача там была проще и понятней: мы работали с уже отснятым материалом. Как это обычно и происходит в кино. Приезжает композитор, читает сценарий, смотрит материал, в основном уже сложенный, так называемую первую складку... Затем берёт время на обдумывание, пишет музыку, ту или не ту, это уже выясняется в процессе работы... Но музыка сочиняется к существующему материалу, к физически существующему пока ещё немому фильму... Это обычная технология в кино...Фактически музыкальный ряд сочиняется композитором к уже существующей картине. Но этот принятый способ работы совершенно не годился для «Слуги». Ведь мне нужно было снимать хоры и дирижёра, а потому ещё до съёмок надо было иметь как минимум все хоралы. Но как написать музыку, не имея ни одного кадра? Это какая-то бесовская задача! Ни я, ни композитор не понимали, как это всё делать... Хотя уже знали друг друга, дружили, но перед нами был особый сценарий, уже закреплённый в литературной записи... Нужно было, чтобы хоры пели под заранее написанную для них музыку. Ещё никакие актёры не утверждены, но музыка нужна, потому что через месяц нужно под неё снимать.
Тогда мы встречались с Дашкевичем каждый день, то понимая, то не понимая друг друга, слушали разную музыку, бродили вокруг и около, пока в какой-то момент вдруг возникли какие-то отдельные ноты, превращавшиеся постепенно во фразы и абзацы. И так вдруг - в какой-то момент - как это бывает с художниками - Дашкевич находит нужный аккорд... А время уже не терпит, я его тороплю, пора снимать...
Дашкевич очень творческий человек, который умеет по-настоящему внедриться в картину... Я тебе рассказывал, как он настаивал на мужском хоре в «Плюмбуме», который в итоге даёт картине такое глубокое и нужное ощущении...
222
А я получил наслаждение от совместной работы с хором под руководством гениального Владимира Минина! Это должен быть отдельный рассказ! Перед хором и оркестром колдовали уже втроём... Минин, Дашкевич и я... И опять, как это бывает на съёмках... на распевке вдруг зазвучал какой-то особый голос... Чей? Кто такая? Ну-ка, ну-ка! И эта хористка оказывается у нас в центре хора, а то, что она делает в финале картины, мне до сих пор кажется чем-то фантастическим...
Всё это оказалось тем редким случаем, когда вопреки всему весь музыкальный ряд был выстроен до съёмок в голове композитора и его партитуре... а ведь в «Слуге» огромные, симфонические хоральные куски, по три, четыре минуты... Ты верно пишешь о хоральности всей этой истории. Приятно было читать, потому что всё понято грамотно...
Интересно твоё описание многозначности финала - «прощаешься с какой-то родной бесовщиной, со своей собственной историей - проклятой и благословенной»... Там возникает, конечно, какой-то объём... И ещё сказано хорошее слово, потому что за ним правильная мысль о «предавших» не только своих «потребителей, но и верных рыцарей без страха и упрёка»... Безусловно! Вот это именно то, что произошло в истории....
Ты задаёшсья вопросом об адептах и собственниках истории, называя собственником Белова и дирижёра тоже, справедливо спрашивая при этом, что же стоит за этим? «Пародия на наше уже обречённое коллектвное сознание?» -Да, вопрос резонный... «Рай, ад?» - Абсолютно точно!
У тебя в «Слуге» вообще такие сложные стыки, которые вызывают бурю сложно формулируемых чувств...
Если ты об этом заговорила сейчас сама, то понимаю, как сложно выражать ощущения... Вот это описание сцены, когда Марию Гудионов передаёт Клюеву, из рук в руки, а Клюев...
...тихо подкравшись сзади...
закрывает ей глаза... Кстати, я много раз смотрел картину в разных залах и никогда не услышал по этому поводу никакого пошлого смешка... Наверное, картина всё-таки переводит этот весьма неоднозначный для зрителя материал в какое-то драматическое русло, в нужный жанровый сдвиг...
Ты знаешь, в этой сцене, когда Клюев прикрывает глаза своей новоиспечённой невесте, возникает настолько сложное чувство, что любая аудитория растеряется в разных, противонаправленных чувствах... Там такое странное соединение холодного прагматизма и всё-таки осуществления недосягаемой романтической мечты... В очень сложном сплетении...
223
Хорошо, если считывается в первую очередь как бы романтический пласт...
...готовности к романтическим надеждам, которые, увы, совершенно обманчивы... При всей умозрительно просчитанной Гудионовым новой ситуации, возникает ожидание чего-то большого и светлого, которое уже тоже витало над и вокруг «новобрачной» пары Марии и Гудионова, сопровождаемых Клюевым, в счастливом единении в «райском» саду... Но как всюду обманчива красота... В обоих случаях...
Наверное...
Принципиально обманчива, подчёркнутая таким, чуть театральным, контровым светом ореола... Все без исключения жаждут сказки... Это так чувствуется... И когда рабочие руки Клюева с заскорузлыми пальцами прикрывают глаза никак нежданной невесты... и когда видятся её чистенькие ручки с хорошо обработанными ногтями... они оба совсем готовы к счастью, готова она... ну прямо - АХ! - как хочется замуж... созрела уже, вся трепещет от подоспевшего предложения... новой грядущей истории, прячущейся где-то там в разворачивающемся перед глазами пейзаже, к которому переводит наше внимание камера... Так тревожно-спокойно, а всё обманка...
Надеюсь, что так или иначе, но и сочувствие какое-то к ним возникает... Жаль их по-своему. Если бы я не сочувствовал им - не смог бы снимать картину...
А к Гудионову ты не слишком негативно относишься?
Тебе кажется слишком негативно? Странно...Рабочий термин был - белый дьявол, не чёрный. Но дьявол.
Смею думать, что авторы картины относятся к нему всё-таки более сложно. До такой степени, что, погружаясь в картину, можно задаваться вопросом: могут ли быть другими отношения с такими вот Клюевыми? А если это так, то возникают другие страшные вопросы...
Но я пишу как раз о том, что Гудионов с Клюевым два прекрасно сообщающихся сосуда...
Наверное, так - сообщающиеся сосуды. И дело вовсе не в том, что Гудио-нов так уж плох...
Конечно! Это два персонажа, сообщающиеся друг с другом вполне органическим образом... Взаимоотношения хозяина-слуги всегда замешаны на
224
сложном соединении любви-ненависти. Дело в том, что у тебя каждый кадр требует своего сложного отдельного описания, будь то застывшее озеро в начале или полёт в небе... Всё не случайно и требует покадрового описания, которое почему-то пока никем не сделано... и мне по первопроходку, признаюсь, сложно всё это сразу охватить...
Но меня держит свой собственный интерес к этому вопросу: разбираясь в твоих фильмах, я разбираюсь в собственной жизни... вот в чём дело... Хочется написать широко и свободно, мыслей много, а рука не всегда летит следом пером по бумаге...
«Слуга» был на Берлинском фестивале, и немцы замечательно, с придыханием писали о картине. Они чувствовали, что в ней речь идёт о сложном взаимодействии таких категорий, как сила власти и слабость свободы... Какие-то критики написали вполне дельные вещи.
А через год я приехал туда же с «Пьесой для пассажира», получив за неё Серебряного медведя, что в каком-то смысле удивительно... Потому что, с моей точки зрения, «Слуга» гораздо более этого приза заслуживал...
Ну, да, картина, конечно, более масштабная... Я неслучайно сравниваю в своём тексте её масштабность с Шекспиром, Ричардом, что-то в этом духе... Ничего особенного, увы, нет, в том, что происходит. Всё было и будет, всегда одно и то же, один герой сменяет другого, и всё это вечно... Горестное зрелище, а ты тот редкий автор, который заявил о размерах нашей трагедии, рассказал о том, что у нас всякого Брызгина сменит такой же антиБрызгин... И далее по кругу...
Всё повторяется... Детерминированность процесса...
Оттого и трагедия, что всё изначально детерминировано...
Потому и трагедия, что её разыгравают самые лучшие люди из самого лучшего человеческого материала... Они замешаны в предначертанной трагедии...
Ещё бы! Гудионов такой артистичный! С цепким, парадоксальным умом...
Персонажи Беляева, Иры Розановой... это лучшие люди...
Да, это всё странная история. Повторю снова цитированные слова из Евангелия - «много призванных, но мало избранных»...
Уходили те времена, прощалась Эпоха. Впереди, казалось, только свети
225
свобода...Но нам было ясно, что власть... просто мимикрирует, и мы с Миндадзе никогда не разделяли общей эйфории...
В этом смысле очень многозначно выразителен весь финал...
Борисов там гениален.... Технология власти, конечно, понятна, но там шире... Власть сбрасывает шкуру, но власть-то властью, а мы-то кто?
Парадокс, но «Слугу» ещё много показывали... Дальше с показом картин было уже сложнее... Пришла новая власть, которая «Армавир» уже не принимала. А что значит «не принимала?» Значит, что не было никакого проката, а также не показывали по телевизору... Ну, что тебе ещё сказать?
СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ, или
СЛИШКОМ ОДИНОКОЕ СТРАНСТВОВАНИЕ
«Армавир» -1991 год
А
«> жрмавир» кажется мне самым таинственным и, может быть, самым лирическим фильмом авторов, обреченных лично оказаться в тупике резких всеобщих исторических перемен вместе со всеми своими согражданами. Таким болезненно-родственным ощущается в этом фильме градус взаимодействия Абдрашитова с окружающей жизнью и обществом, оказавшимся на грани выживания. Ровно таким же переживанием объясняется и моё собственное тягостное томление в зрительном зале, настойчиво приобщающее и возвращающее меня к общей скитальческой участи. И вовсе не потому, что так прекрасно было всем нам в гибнущем
227
вместе с нами и на наших глазах Советском Союзе, мгновенно исчезнувшем с географической карты. А потому, что, следуя за художником и соразмыш-ляя вместе с ним о пертурбациях нового времени, я тоже глядела вместе с ним дальше этого мгновения, также предчувствуя заранее реальный масштаб грядущих событий, неминуемость которых только теперь всё чаще кажется кому-то не слишком очевидной.
Хотя большинство из нас не были в тот момент особыми провидцами, многого ожидая от тотальной перестройки, предпринятой нашими верхами, постепенно хлебая, с некоторым удивлением, вовсе не ожидавшиеся мало приятные следствия слишком решительно руинированного прошлого. Мгновенное упразднение шестой части суши в её былых границах обрекало страну-континент, недолго лавируя, всё-таки напороться тощающим брюхом на рифы, как икру, разметав округ человеческие судьбы. Тем не менее, важно помнить, что «Армавир» был сделан Абдрашитовым ещё в период дружной всеобщей общественной эйфории, обнаружив своим появлением поистине удивительное для того момента предощущение художником подлинного драматизма времени.
Думаю, не было прежде в фильмах Абдрашитова, создававшихся по-прежнему по сценариям Миндадзе, такой полноты доверительной интимной интонации, такой драматической плотности взаимодействия с жизненным материалом, которые давали зрителям ощущение собственного личностного соучастия в странных событиях, представленных на экране. Эта странность чарует или раздражает. Чарует тех, кто разделяет особое тревожное мироощущение авторов, чувствуя себя с упразднением прошлого обманутыми скитальцами на родимой земле. Тех, кто готов следовать, чувствуя родственные переживания, за внешне алогичными, но неслучайными событиями, представленными на экране, переживая вместе с героями «Армавира» то же самое особое болезненное чувство смятения и потери, которые обозначились в действиях иной, внутренне пошатнувшейся временем логики, расположившейся в неожиданных новых координатах.
Других зрителей того же «Армавира» раздражает та же самая внешняя алогичность, затмевающая собой обозначенный режиссёром фильма путь к скрытому от нас внутреннему вектору всей нашей общей судьбы, которую, может быть, не хочется прозревать слишком глубоко, опасаясь за грядущее благополучие своей собственной маленькой жизни «с широко закрытыми глазами». Фильм раздражает тех, кто не готов воспринимать себя в плотном контексте и неизбежной зависимости от безнадёжного времени, выраженного режиссёром внешне слишком обыденно и буднично, без каких бы то ни было утешающих или украшающих поэтических котурн подчёркнуто «художественных» красот. Хотя, на самом деле, «Армавир» изобилует строгими поэтическими образами, но гнездящимися в самой грубой и обыденной реальности. Именно в этом пространстве из картины в картину развивался авторский язык Абдрашитова, слишком резко для кого-то преобразившийся в «Армавире». Рискую предпо
228
ложить, что этот язык складывался у режиссёра естественно из картины в картину, развиваясь в соответствии с особенностями собственного болезненного переживания внутреннего движения времени, каким оно ему виделось. Этот всякий раз складывавшийся, уточнявшийся и развивавшийся язык режиссёра не всегда читался неподготовленными к нему критиками, вызывая у них недоумение и пригрезившееся им подозрение в «неумении» такого крупного режиссёра переключиться в иную еще «не освоенную» им поэтику.
Действие «Армавира» замкнуто таинственным кодом особых взаимоотношений человека с отторгающим его обществом, становящимся для него откровенно враждебным. Возвращаясь снова к предыдущим фильмам Абдрашитова, важно вспомнить анализируемое в каждом из них совмещение не очевидных для всех общественных процессов с судьбами людей, которые свидетельствуют о них точно лакмусовые бумажки и своей болью определяют следующий излом их жизни. Герои фильмов Абдрашитова, ведомо или неведомо для себя, равно не задействованы по существу в каком-то стороннем для них огромном социальном действе, плохо ориентируясь в доставшейся им в этом действе невыигрышной роли. Следуя по колдобинам нашей истории, режиссёр озвучивает в своих картинах подлинную драму разлада «ненужных» уже людей с не очень-то, оказывается, кровно-родственным для них обществом, выкидывающим их за ненадобностью. Отсюда всё более отчётливая трагическая интонация фильмов режиссёра, констатирующая несовместимость отдельного человека, брошенного на произвол судьбы, с преподанными вновь «нормами» общественного существования.
В «Армавире» эта тема приобретает скорбное звучание реквиема всем тем, кто не пережил перестроечного шока. Своими исковерканными судьбами, будто грубо нашитыми заплатками, которыми латалась отмена СССР, они помечают нашу новую историю. Эта аббревиатура будет не раз фигурировать в фильме, выбитая однажды буквами на вагоне очередного поезда (снова возникающего в «Армавире»), в который загружаются то возбуждённые, то угрюмые пассажиры, то ли готовые просто покинуть гиблое место постигшей их катастрофы, то ли обречённые раствориться в российских пространствах, канув в небытие вместе с поездом, обозначенным надписью СССР. Поразительно, что грядущую и вершащуюся трагедию Абдрашитов с Миндадзе ощущали в то время, когда так называемый «народ» ликовал в предвкушении скорого счастливого будущего.
«АРМАВИР» становится в картине не просто названием затонувшего корабля, но паролем общего несчастья, опознавательным знаком для всех потерпевших катастрофу, тем ритмически образующим элементом фильма, который определяет круг жертв. Это слово, произносимое, как пароль, единит тех, кто если и выплыл из водоворота, то оказался всё-таки жертвой того крушения, следствия которого представлены в фильме глобально и нарочито растянуты во времени, чтобы поверить в буквальность рассмотренной в фильме всего лишь единичной катастрофы, случившейся с кораблём.
229
Далеко не все в тот момент разделяли тревогу Автора картины, посчитав его мысли ошибочными и вовсе «несвоевременными». Ещё бы! Грезились нашему люду великие перемены, отменявшие осточертевший всем застой. Уж слишком хотелось нам скорейшего счастья. Так что ещё не склонны были тогдашние зрители отождествлять себя с уцелевшими пассажирами затонувшего корабля, вынужденными теперь блуждать в поисках своего нового якоря по отчуждённой и как будто бы выжженной земле, какой она представлена в фильме. Хотя есть в кадре и зелёная растительность, и приморские парки, но вся атмосфера действия кажется сложной для проживания, пугая ощущением необжитости и выкаченности воздуха. Люди, точно в броуновском движении, сталкиваются не столько друг с другом, сколько с отчуждёнными от них другими, а потому всё пространство фильма, населённое немалым количеством персонажей, кажется «обезлюженным» или таинственно враждебным, заставляя вспомнить пугающий шорох зелени кустов в “Blow up”, за одним из которых в приближении видится вроде бы труп....
Фильм начинается торжественными проводами святящегося всеми огнями корабля под названием «Армавир». А на берегу, на пристани, прямо по Чехову, «музыка играет так весело», что никак не заподозришь, как быстро этот корабль исчезнет с горизонта, почти мгновенно, будто призрак, затерявшийся вдруг в тёмной пучине морской... Исчезновение - с пьяну что ли? - померещится поначалу какому-то алкашу, только что азартно провожавшему вместе с толпой отплывающий корабль, а теперь не способному разглядеть это судно в раскинувшихся перед ним далях морских. Взаправду, что ли? Действие продолжится далее представленным нашему взору странным таким, тревожным восходом солнца над морем, на фоне которого обозначится та же одинокая фигура того же пьяницы, будто какого-то дикого первобытного человека, двинувшегося по воде в предрассветный час, окрашенный багрянцем, чтобы наткнуться на выброшенное морем женское тело, которое он попытается оживить, затащив к себе в утлое прибрежное жилище, будто в пещеру. В эмоциональной памяти от общего плана предыдущего кадра останется разливавшаяся в нём величественная тревога отчуждённого от нас зарева восхода, в котором, видно, зреет, зарождается подоспевшая вновь историческая робинзонада, новое грядущее освоение мира!
Всё снова и заново. А потому чуть позднее так ясно обозначится в фильме глубокая пропасть, разделившая пострадавших, но уцелевших людей, от счастливцев, удостоившихся почему-то «нормальной» жизни и обозначенных фланирующими по улице города благополучными, куда-то спешащими, ничего и ни о чём не подозревающими толпами. Неожиданно предстанут эти счастливчики взору одного из героев картины - бывшему военному и теперешнему вахтёру Герману Сёмину, будто случайно подсмотренные им в резком контрасте с переживаемой им катастрофой исчезновения его любимой дочери Марины, в поисках которой, сбившись с ног, он мечется среди обожжённых горем страдальцев. Эта неожиданно разделённая Сёминым общая с постра-
232
давшими судьба определяет ему странную позицию всего лишь стороннего наблюдателя не задетых несчастьем счастливцев, чей искусно созданный режиссёром образ (будто бы документальный с умело вычлененными из толпы портретами) отсылает нашу память к очень памятному дебюту Абдрашитова «Репортаж с асфальта».
С самого начала, как было уже замечено выше, Абдрашитов сторонился в своих картинах каждодневной жизненной текучки, «бытовухи» как таковой, которая интересовала его только как повод для взлома видимостей событий, представленных в «Армавире» единичными фобиями. Эти фобии анатомируются Автором, чтобы диагностировать у вынужденных его «пациентов» состояние коллапса, когда вокруг всё вздыблено и перепутано. Пошатнулись крепления всей общественной структуры, сдерживавшие разного рода страсти, и рассеялись по свету члены семьи, не узнают друг друга близкие и друзья, подменяются профессии, меняются образы жизни, отчуждаются поколения, сменяются ценности... Не было до того в нашем искусстве столь демократически ответственной констатации художником трагедии, случившейся тогда с целым народом в одночасье. Да, ещё представленной в такой обобщающе концентрированной форме!
«Что, что дальше, говори! Что будет? Говори, говори, Сёмга! Ты знаешь! Ты всегда знал, ты был первым среди нас! Почему ты не стал генералом?» - вопрошает своего бывшего сослуживца Сёмина, его странный двойник и капитан затонувшего судна Аксюта. Но не знает ответа Сёмин. Как выясняется, не знал и раньше, пустившись ещё в советские времена на поиски своего счастья, в собственное противозаконное плавание по просторам нашей былой родины. Так хотелось, будучи офицером, служившим где-то далече, обеспечить «светлое» будущее хотя бы своей дочери Марине, а для этого он отважился самострелом прострелить себе ногу, чтобы хотя бы поменять место своего жительства поближе к балетной школе.
На протяжении всего фильма главным героем задействована странная мужская пара: Сёмина и Аксюты, бывших сослуживцев, столкнувшихся теперь в послеаварийном пространстве в общих поисках одной и той же девицы по имени Марина. Или разных девиц под тем же самым именем. Не имеет значения, потому что боль и страсти у мужиков общие. Сёмин ищет любимую дочку, поразившую когда-то своими способностями всю приёмную комиссию вожделенной балетной школы, что определило тогда всю его судьбу. А Аксюта ищет свою жену или страстно любимую женщину, вымечтанную и желанную с самых пелёнок. Оба ищут и отыскать не могут самую главную страсть своей жизни...
Что ж раздражаться или недоумевать разному роду кажущихся нестыковок в сумрачных перипетиях непрямого сюжета, кто же кому и кем является? Сложно довериться непривычно странно текущему действию, если за всем этим не ощутить особой психологической правды, не почувствовать своей родственности этой правде, не согласиться с тем, что наше иррациональное
233
и бесконтрольное, подсознательное, таящееся в нас торжествует там, где не обуздано внешними рамками необходимости. Внешний хаос детерминирует внутренний. А запретное переплетается с желаемым, перерасполагаясь в подкорках нашего сознания. Тогда выясняется, что нестареющий отец Сёмин, может быть, слишком самозабвенно любит свою дочку Марину, сомнительный муж которой Аксюта постепенно годится ей не только в отцы, но и в деды, тоже на всё ради неё готовый. Оба героя сложно идентифицируются в одном страстно любящем персонаже. Да, и время, тикающее после крушения, для всех оказывается вовсе неравнозначным.
Так, для Аксюты, успевшего состариться и умереть в финале картины, время это равноценно всему жизненному пространству. Тогда как возраст Сёмина практически не меняется. В фильме нет обыденной правды, но есть глубокая правда внутреннего существования в собственном духовном (не обязательно возвышенном!) пространстве, которое легко смещает общепринятые координаты, получая для себя и в себе собственный рисунок реальности. В этой иной, своевольной реальности неказистый, русоволосый и лысеющий Аксюта называется красивым брюнетом и не может расстаться с отцом своей (своей ли?) утерянной Марины, так сильно напоминающим ему её своими ямочками на щеках. Да и какая разница, если мужчин так крепко соединяет общая страсть и родственная боль.
Важно заметить, что непредвиденная поэтика «Армавира» явилась всё-таки режиссёру не на ровном месте. Ведь до этого была картина «Слуга», сильно колеблющая по художественному рисунку рамки традиционного реализма. А до этого ещё «Парад планет» уводил нас в путешествие по лабиринтам внутреннего пространства героев, устремивших свой взор в небо и рано уставших от реалий жизни. Только их общая душа была ещё поддержана общей ответственностью и общей мечтой... Герои «Армавира» брошены безо всяких надежд... Лавры снова достанутся, главным образом, мимикрировавшим в новых условиях старым победителям жизни, с дьявольским азартом творившим своё действо в «Слуге», разделившим затем добытое и оставившим в наследие всему многочисленному населению фантасмагорические выкрутасы истории, мало украсившие непригодное для жизни пространство. В точном понимании основных причинно-следственных связей, предопределяющих неутешительное движение нашего мало дружелюбного мира, кроется мало оптимистическое мироощущение авторов «Армавира»...
Дочь Сёмина Марина отыщется ближе к финалу фильма, спасённая с затонувшего корабля водолазами, извлечённая ими из «пузыря» лишь через трое суток, а потому потерявшая память. И не узнает она своего отца, оказавшись замужем за деревенским мужиком, тем самым, которого мы видели в самом начале фильма. Это он провожал в начале картины в плавание «Армавир», он первым замечал его исчезновение и встречал восход солнца, подобрав у берега первую утопленницу, а позднее грабил Сёмина в сумраке парка, завладев единственной фотографией его дочери Марины. Но Марина стала теперь
234
Ларисой, и ото всего былого, сотворённого для неё прежде отцом, осталась у неё лишь «походочка такая балетная». Впрочем... Осталась ещё лишняя теперь память об уходящем в историю празднике, о котором она лукаво и кокетливо напомнит своему неожиданно объявившемуся «папочке»: «День Седьмого ноября! Красный день календаря!» Это прозвучит в её устах не только неуместно, но и почти издевательски...
Ничего не поделаешь, если новой волной истории вымыло из девичьей головки даже недавнюю историческую память, начисто замело зимними вьюгами все связующие «дорожки». Ведь после крушения обнаруженных в «пузырях» счастливчиков поднимают на поверхность из другого, подводного мира. Движение как глубокой воды в кадре, так и спасателей в этой воде озвучено в картине странно завораживающей, нездешней гармонией, будто преломленной толщей этой воды. Марина явилась на свет заново уже из другого мира, начисто забыв о каком-то старике, называющем себя её мужем, об отце, возбуждающем у неё, скорее, не совсем дочерние чувства.
Время, воспринятое ею по-своему, и катастрофа, настигшая её, а точнее-выпавшее на её долю катастрофичное время, перемололо былые ценности, кастрировав память... То есть, как замечает отчаявшийся Сёмин своему новоиспечённому зятю: «что упало, то пропало!», смахивая со стола себе на руку выпитую стопку, горестно проставляя тем самым жирную точку в своих не осуществившихся для него поисках той самой своей дочки.
Замечательно сделанный длинный финал картины не заканчивается только лишь завершением несчастного случая, драматически приключившегося с дочерью и отцом. Этот случай всего лишь один из эскизов эпического, густым маслом написанного трагического полотна, запечатлевшего сиротскую Россию, несущуюся Бог знает куда и заливающую свой бешеный гон хорошим стаканом водки. А Марина, русская, более городская красавица, позабывшая с новым мужем своё родство и ставшая в деревне Ларисой, воспринимается такой чужой за каким-то страшноватым общим застольем, то ли «праздничным», то ли поминальным... Тревожным каким-то в своей неподвижности при убегающем времени. Праздновать-то как будто нечего... А вот поминать? Кто знает? Кажется неважным уже как и кого зовут, ибо унижены и обесценены все поровну. Хотя именно Мариночка-Лариса в нарядном платьице, растерянная и потерянная, скользящая на каблуках своей балетной походочкой по замёрзшей, растоптанной и разъезженной земле, потерявшая способность пробиться даже к собственной памяти, затерявшаяся и перепутавшая всё напрочь в каком-то страшном крушении - видится собирательным образом трагической общей потери.
«Армавир», как и «Слуга», снова заканчивается перебором колёс ещё одного поезда, уносящего на этот раз Сёмина вместе с неожиданно возникшим пассажиром, оказавшимся так же, как и Марина, ещё одним «воскресшим» там же осколком того крушения - Валерой! Тем самым затерявшимся мужем, которого всё надеялась найти обнаруженная в начале фильма и спасённая
236
утопленница, не устававшая вопрошать его тень, «почему не пошёл со мной танцевать»? А теперь Валера, осиротевший равно, как и Сёмин, потерявший окончательно не только дочку, но и отжившего свой век Аксюту, несутся в том же поезде по бесконечным просторам нашей земли, в которых снова так легко затеряться. А затем обживаться вновь, меняя места и обзаводясь новыми знакомствами, обусловленными новыми обстоятельствами действия, которые определят жанр следующего фильма Абдрашитова, озаглавленного именно «Пьесой для пассажира». С театрально прописанными в начале фильма «действующими лицами», которые вновь въедут в кадр ещё одним новым составом поезда.
Как полюбилась, однако, режиссёру эта неслучайная деталь бесконечных «железнодорожных» путей, вновь и вновь бороздящих наши жизни на неоглядных российских пространствах, по рельсам которых мы переносимся автором из сюжета в сюжет, определяемый новым витком нашего времени. Какой всё-таки получается из этих сменяющих друг друга поездов чувственно многозначный образ нашей вечно быстротекущей жизни!
Однако, вырываясь в финале в неизвестность нового, расстилающегося перед ними пространства, герои «Армавира» драматически замкнуты необходимостью слишком одинокого для русского человека странствования безо всякой опоры, размытой крушением и обвалившейся памятью. Нынешнее для них слишком драматично, а будущее слишком туманно, хаотично и не структурировано более никакими правилами дальнейшей игры. В этом контексте вспоминается ещё один сложный по выразительности кадр, следующий за крушением корабля, когда успевшие спрыгнуть в воду пассажиры барахтаются на общем плане такой странной, единой, будто пенящейся головами волной, мутящей морскую гладь и взывающей теперь только к спасению...
Память одаривает бывших суворовцев, Сёмина и Аксюту, пожалуй, только одним «сладким» и озорным общим детским воспоминанием, когда они ещё назывались Сёмгой и Ксюшей, а фривольная частушка смешила их на военном параде до невозможности, едва не сбивая упругий маршевый шаг, весело чеканивший брусчатку на Красной площади! Да, было ли это? Когда после крушения «Армавира» совершенно иная, слишком взрослая, обозначенная потерями жизнь неожиданно соединила их вновь общими, но иными '?зами привязанности и недоверия, нормы и патологии, детства и зрелости - того странного двуликого единства, которое обозначилось в хаосе жизни изначальной амбивалентностью всякого чувства и порыва. Всё в этом мире оказалось для них неоднозначным и требующим своего нового ответа! Мне запомнилось, как однажды с телеэкрана задавался риторическим вопросом мудрый писатель Тимур Зульфикаров, будто вторя трагической интонации «Армавира»: «Сколько можно жить в атмосфере разрушенного государства и бесконечного «Титаника»?
Так что же всё-таки произошло с нашим обществом в начале 90-х годов? Было ясно, что скособочилось и затрещало тогда наше государство по всем
237
швам: идеологическим, социальным и экономическим. Явь до конца оттеснила сны под ликующие аплодисменты жарких апологетов новой жизни. На фоне всё более свободных разоблачений наших былых грехов, с которыми мы прощались, смеясь и замирая в ожидании скорой небывало замечательной жизни, авторы «Армавира», прежде всего, учуяли предшествующие «радостной победе» гнилостные «ароматы» распада безмолвствующего народа, оставшегося за бортом государственных преобразований. А ведь государство, как, может быть, не без основания полагал ещё Платон, так или иначе «воплощает идею порядка, ломка которого всегда аморальна, какими бы утопиями ни маскировали разрушения».
Вот истина, во многом обозначенная «Армавиром», из которой наша отечественная история, жадная до крушений, никогда не сделала выводов, хотя кнут глобальных перемен не впервой охаживал народный хребет. Важно заметить, что послевоенное поколение, которому принадлежат, как Абдрашитов, так и Миндадзе, угодило своим рождением в период сравнительной тишины и разного рода слишком вялых общественных преобразований в рамках правопорядка. Дурного, чудного, дикого, плохо работающего? Конечно! Так что большинство из нас на этот правопорядок роптало, но едва ли могли мы вообразить себе всю кардинальность скорых грядущих перемен. Хотя раньше других картины Абдрашитова указывали на более чем подозрительные разломы в структуре нашего тогдашнего общества, уже предвещавшие опасные вулканические выбросы... К неописуемой радости большинства из нас, не заметивших и далеко не сразу обративших внимание на всех тех, кого погребла под собой эта лавина исторического переустройства. Именно о них трубит самый недооценённый фильм Абдрашитова, сделанный в лучших традициях русской демократической мысли, никогда не позволявшей себе забыть малых сих в любых исторических пертурбациях.
Как предвестие или предсказание так скоро грядущего распада Союза звучит в картине ностальгически греющая теперь, но уже тогда предостерегающе звучавшая приветственная ещё перекличка, летящая из кабинки в кабинку вращающегося в парке чёртова колеса, двинувшегося по своему кругу после радостно провозглашённой констатации, якобы, свершившегося факта -«Траур кончился!» И тогда из кабинки в кабинку полетело приветственное: «Армавир! Воркута! Семипалатинск! Киев! Херсон! Ташкент! Батуми!»... И далее... и далее... Вокруг и окрест...
«Кто сказал, что траур кончился?» - возопит в небо снова вполне риторическим страшным вопросом Сёмин, учуявший в этом утверждении, якобы, завершившегося «погребения» вовсе пока ещё неотыгранный финал, лишь обозначившийся грядущим драматическим исчезновением былого расширенного географического пространства. Кто сказал, что «похороны» этого пространства завершены, когда в воздухе ещё витает только предчувствие конца и отчётливое ощущение вершащегося большого обмана? Как скоро вполне меланхолически заметит Аксюта о новой подступающей к порогу реальности:
238
«узелки-то свои крутит, крутит, а в конце ещё морским завязывает, потуже»...
Можно сказать, что теперь мы до конца знаем, как вывернулось к нам всё более далеко отступающее былое общество своей опасной изнанкой, уже и так вытеснявшее понемножку всяких своих былых восславленных героев, вроде Плюмбума или рабочего Белого, не вписавшихся в градус реального смещения общественно-социальных пластов. Похоже или, точнее, ясно, что не умели мы разобраться в самом существе тех причинно-следственных общественных связей, что были вовремя замечены Абдрашитовым и Миндадзе. Понимание этого существа позволило им точнее проанализировать задолго сложившуюся ситуацию, открыто заявив в художественном образе об остановке всего нашего поезда. Можно предположить даже - уж, простите за каламбур - очень художественные образы абдрашитовского экрана, которые оказались куда как более ёмкими и вместительными, нежели пристальная честность интеллектуально сформулированных интенций, остававшихся надолго той поверхностью, по которой только скользил взгляд большинства разоблачителей «застойного» времени.
Теперь можно без сомнения сказать, что художественная правда торжествующе возобладала тогда над эйфорической конкретикой времени создания фильма, обозначив трагизм нашего будущего развития с удивляющей точностью. Повторюсь, но фильмы их смотрятся теперь, и тем более будут смотреться в будущем, как драматические предсказания, которые вовремя не читались... Ещё бы! Как точно констатировал Дмитрий Быков: «на такую честность авторов трудно запастись соответствующим уровнем оптимизма»...
Ведь ещё давным-давно, глядя картину «Остановился поезд», думалось нам всем, включая начальство, всё больше вокруг да около самого существа предложенного нам разговора. Рассуждали о необходимости разного рода преобразований, даже мысли не допуская, что мирное гниение нашего «замечательного» общества и впрямь чревато его буквальной кончиной, не верили в остановку всего состава. Трудно даже представить себе теперь, что такое заглавие могло получить путёвку в жизнь и оставаться незамеченным и неосвоенным тогда в полной мере! Точно так же до сих пор трудно понять, каким образом лишь на подступах к новым временам, удалось авторам так решительно и прямо дезавуировать не только слуг нашего народа, но и сам народ, так охотно этим слугам прислуживавший и скреплённый с ними намертво общностью шкурных интересов... Ведь и впрямь никак не задумывались тогда все вместе, что же получится, если ещё при нас и впрямь нагрянет «потоп»?
Который именно нагрянул в «Армавире», смывая с корабля той современности массы людей, среди которых вновь счастливо выживут, оклемаются и определятся первыми те же самые, уже бывшие передовыми, но будто бы новые хозяева жизни, быстро взнуздавшие конёк преуспевания, обзаведясь тем же узким кругом своего нового хорошо обученного обслужи-
240
вающего персонала. Об этой перестановке сил расскажет следующий фильм авторов. А пока в «Армавире», сделанном вскоре после трагической гибели «Адмирала Нахимова», речь идёт вовсе не о страшной гибели конкретного корабля, но... о затоплении целого материка, шестой части суши, называвшейся Советским Союзом, обитателям которого было предложено с пустыми руками пуститься в новое, самостоятельное и неожиданно слишком свободное плавание.
«Армавир», сделанный в 1991 году, то есть задуманный и снимавшийся ещё раньше этого года, по-существу не только диагностировал амнезию так называемого советского, совершенно растерявшегося общества, но уже прогнозировал грядущий распад Советского Союза. Задаваясь при этом вопросом о цене, которой придётся оплачивать новый исторический перевал, уже разделивший развитие общества демаркационной линией. Что же дальше? Как будем жить, теряя с исторической памятью также самих себя в этой истории?
Тот русский ханыга, что во хмелю заметил исчезновение корабля, попробует заплетающимся языком неуверенно поделиться своим странным, озадачившим его наблюдением со своей матерью: «Армавир»-то... это... того... Нет больше «Армавира»... Но не слышит его чуть пробудившаяся старуха, не интересуется, чего это он там снова плетёт... Дальше спит, тяжело повернувшись и не обращая внимания на пьяный бред, которого уже и так вдоволь наслушалась за всю свою безрадостную жизнь. Дожили всей страной! Так расстарались, что не было уже, кажется, никакого дела всему нашему сонному народу, чего это делается вокруг? Свыклись уже с несуетливым прозябанием в рамках привычного. Казалось так. Но, увы! Потеснили!
Ох, как тряханёт вскоре этот народ, то есть нас самих, да так тряханёт, что заставит очухаться, обнаружив себя в открытом море без спасательных поясов, медленно соображающими в форс-минорной ситуации, что выживать теперь придётся как-то самим. Крепко шевельнут вдруг наш «простой» народец, прозревающий, увы, с трудом и полагавшийся всё более на авось...
Но не судит Автор ни в коей мере этот народ только осуждающим, дистанцированным от него, отстраненным взглядом, но соразмерным его сложной и многоликой особенности, взращенной нашей общей историей и общим образом жизни. Не извне ведётся режиссёром трагическое повествование в «Армавире», но изнутри этой жизни, режиссёром, сосуществующим бок о бок со всеми своими соотечественниками, повествуя о нашем общем горе, которому ещё предстоит быть осмысленным вновь и вновь...
Как осилить этот новый, совершающийся теперь перевал к будущему, вынуждающий де-факто пересмотреть своё прошлое, переоценить собственную историю, отрекаясь, по существу, от недавно нажитого как неправедными, так и праведными путями тоже? Нет на это ответа. Всё более погружаясь в многосмысленную атмосферу фильма, до конца понимаешь всю трагическую неоднозначность, как в одночасье ненаказываемых преступлений, так и преступность самих совершающихся наказаний. В этой новой ситуации ма
241
десятилетия предстоит обживаться всем, как старым, так и молодым, детям и младенцам, генетически обречённым на общий наш исторический путь. Или, с более практической точки зрения, как теперь заново приспосабливаться к новым Гудионовым и Брызгиным, прозревшим, конечно, первыми, первыми переориентировавшимся и самыми первыми порвавшим так решительно со своим собственным недавним «коммунистическим» прошлым?
Затопление «Армавира», в мгновение ока залёгшего на дне морском, выглядит у Абдрашитова так масштабно и трагедийно, что ассоциативно воспринимается не просто чудовищной аварией, но затоплением всего нашего недавнего общества, истребляемого новым мором. Пассажиры, спасавшиеся с тонущего корабля кто как может, и отдельные счастливчики, извлечённые водолазами из пузырей, бродят теперь по берегу, «не чуя земли» под собой, забывая в новом и неопознанном ещё ими «счастье», кто они такие и откуда взялись. Ясно только до боли, что прежнее существование закончилось, и «траур» по нему, оказывается, тоже «кончился!», как с радостной уверенностью распространяется сверху новая весть. Но звучит она отчего-то нерадостно, отзываясь в нас горькой насмешкой, требующей своего разъяснения. За таким именно разъяснением и обращается к небесам, вскинув голову, потрясённый этой новостью Сёмин, оказавшийся на верхотуре в кабинке чёртова колеса. Кто сказал? Где? Когда? Кто отменял траур? Верно, отменял кто-то, кто готовил жертвы, завершая наше общее и как будто бы сплошь ошибочное прошлое увесистой жирной точкой. Отменяя вместе с трауром, всю былую траекторию нашего движения. Приказным порядком. Распорядившись полностью и враз сменить всякое центростремительное движение на центробежное, разметавшее всех в новых конфигурациях, никак не складывающихся в общий ладный рисунок. Как признаётся Аксюта потрясённому этим признанием Сёмину, что скрывается ныне потому, что изменил своевольно курс корабля... так... для удовольствия своей любимой Марины...
Абдрашитов не раз возвращает нас к образу так называемого чёртова колеса в парке или, как его ещё называли, колеса обозрения. Так и хочется сказать в контексте картины, горестного обозрения нашей недавней истории. Ещё раз хочется вспомнить, как грустно и странно звучат сегодня те радостные возгласы из разных кабинок, что ещё приветственно обращены друг к другу, как дружеское рукопожатие: Ленинград! Воркута! Таллин! Киев! Батуми! Но уже почему-то так ощутима в фильме прощальная тягостная хрупкость этого лишь временного для всех общего пристанища. А ведь никакого реального развала Союза в этот момент ещё не произошло! Но чувствовал, видно, Абдрашитов реальную хрупкость лишь номинально существовавшего ещё порядка. Наверное, потому, что, хоть и не случилось ещё последнего, глобального разлома, но предупреждающая его тревога уже витала в воздухе... Мы уже сосуществовали с жертвами того кораблекрушения, которое тянуло за собой неотвратимость последствий. Хоть и не слышала ещё сигналов sos праздная, беспечная толпа, на минуту мелькнувшая издалека перед взором уже покалеченного Сёмина...
242
И впрямь, каким хрупким окажется то ядро, что вроде бы так славно притягивало к себе всех, хоть и разбросанных по разным кабинкам, то бишь географическим точкам, но ещё собранных вместе единым центростремительным движением! Предчувствует режиссёр, что скорая потеря этой центрующей оси поменяет траекторию центростремительного движения на центробежное, которое далеко раскидает нас друг от друга. Образ чёртова колеса становится точным, эмоционально внятным аналогом-предчувствием грядущей катастрофы. Как далеко разлетятся вскоре Ленинград и Воркута от Киева и Батуми, порвав недавние, как казалось нам, вполне родственные связи...
Только отдельно взятая в кадр кабинка этого колеса, вычлененная из общего образа, волею режиссёра будет ощущаться то материнским лоном, укрывающим Сёмина, одиноко свернувшегося калачиком, то продуваемым всеми ветрами случайным приютом для диалога равно не слышащих друг друга мужиков, тех самых бывших суворовцев, шагавших когда-то уверенным шагом по брусчатке Красной площади. Образ чёртова колеса, или колеса обозрения, так виртуозно использован режиссёром в своём движении и ракурсах, что по-новому воспринимается зрителем всякий раз как место действия драмы наших героев, осмысляющих масштаб своих взаимоотношений между собой и внешним миром.
Люди переживают в фильме экзистенциальную ситуацию, требующую от них непременного выбора между неизвестным никому нечто и оскоплённым уже ничем. Следуя за течением «Армавира», душа обречена, выражаясь поэтически, «скорбеть смертельно», теряя вместе с героями всякую твёрдую почву под ногами.
«Армавир» - как мне кажется, центральная картина в творчестве Абдрашитова - встретила у своих зрителей наименьшее понимание, заставив говорить её критиков о неудаче, а то и досадном провале режиссёра. Рецензенты в недоумении задавались разного рода вопросами, предлагая тут же свои собственные малоутешительные ответы. Опьянённые наперёд радостью совершающихся в стране перемен, никто не захотел тогда откликнуться на тот предупреждающий сигнал тревоги, что был запущен в начале фильма вахтёром Сёминым. Не заметили критики самого масштаба замысла режиссёра!
Так случается с нашей интеллигенцией. Желаемое счастье проживания в свободной стране ощущается ею как уже свершившееся. Так что в самый тяжёлый и ответственный момент грядущих перемен «Армавир» показался нашим теоретикам никак не соответствующим их радужным надеждам и прекраснодушным упованиям. Новая долгожданная «революция» виделась только долгожданной и совершенно бескровной. Никак не хотелось замечать множившихся трупов ни в семейных шкафах, ни на ярко освещенных улицах. Так что, как утверждает один из рецензентов фильма Ирина Рубанова, «критики в целом «приняли «Армавир» весьма прохладно».
Последуем далее за её собственным пересказом сюжета: «Тонет гигантский морской лайнер. Спасшиеся после кораблекрушения впадают в коллективное беспамятство: не узнают близких, не могут вспомнить, что с ними было
244
до катастрофы, а некоторые вообще - кто они». После чего Рубанова задаётся вопросом: «Здесь первая загадка фильма: как относиться к этой поголовной амнезии - как к объективному факту (разумеется, в авторской концепции), или как добровольному отказу от своего прошлого, или более того - как к истерической радости избавления от него?». Полагая, что: «При внимательном чтении сценария угадываются обе эти посылки... Фильм Миндадзе и Абдрашитова - опыт путешествия в Зазеркалье постколлективистского общества. Герои «Армавира» пробуют заселить свои спасённые тела другими, новыми душами».
Странно, что в рецензии глубоко уважаемой мною Рубановой нет ни одного предположения, с которым я могла бы согласиться. Непонятно мне, о каком таком «добровольном» отказе от прошлого можно говорить, если объективно свершившаяся катастрофа, сильно повредившая память и судьбы, определяет главную сюжетную завязку фильма? Добровольно, думается, в катастрофы не лезут. Также надо сознаться, что, глядя «Армавир», мне ни разу не пришла в голову мысль о желании героев заселять свои спасённые тела новыми душами. Напротив. Они страстно ищут свои собственные головы и души, утерянные и затерявшиеся в хаосе и неразберихе, пытаясь цепляться и спасать самое себя и своё самое дорогое, по-особому толкнувшее их в катастрофической ситуации потери. Также не очень для меня ясна «истерическая радость избавления от прошлого»? Как это может прийти в голову критику даже как один из вариантов трактовки, если гибнущие люди пытаются выжить вопреки всему, рыщут в сумерках в поисках себя и своей идентификации, затерявшейся в украденной кем-то жизни?
Как можно говорить о каких-то «всплесках радости» у невольных покойников, загубленных катастрофой? Откуда им явилась хоть мимолётная радость «избавления от прошлого», если их настоящее состояние так безнадёжно? Пронзительную радость может даровать лишь случайная встреча, трогающая до глубины души и омытая слезами, которая выпадает, например, простой женщине с детьми, отыскавшими любимого отца семейства, победоносно твердящего им: «А это я, ваш папка, живой и здоровый. Я же в воде не тону, в огне не горю... и дышать под водой умею жабрами»...
Но боюсь, что такой «всплеск радости» следует отождествить не со счастливым «избавлением от прошлого», но уворованным у судьбы мгновением счастливого обретения утерянного героями времени. О какой «радости» можно говорить, видя на экране «Армавира» людей, оказавшихся вне всяких общественных связей, с обрубленными корнями, замкнутыми лишь на своих собственных душевных травмах? Инженер видит себя физиком-теоретиком. Счастливо нашедшийся «папка», едва пережив радость встречи с семьёй, мечтает о другой женщине. Отец и муж всё той же таинственной Марины оказываются повязанными общей любовью к дочери и жене, провоцирующей, может быть, слишком сильную привязанность друг к другу, обречённым теперь жить вместе одним и тем же страданием. Что это? Патология? Да, нет. Это лишь сложная история всех нас, лишившихся на разломе времени и в рас
245
падающемся мире всякого общего стержня. Как не заметить здесь горестной повторяемости истории, выворачивающей «суставы у времени»?
Глядя «Армавир», начинаешь с ужасом ощущать воцарившуюся вокруг героев этого фильма социальную пустоту, в которой все мы болтаемся вместе со всеми своими потрохами, безо всякой опоры, никем незащищённые и вконец замученные своими фобиями и соблазнительными амбивалентностями необузданного ничем подсознания. Очень длинная картина «Армавир» концентрирует в себе лишь сгустившееся до предела мгновение отчаяния и потерянности, сопереживаемые нами вслед за героями с ошарашивающей интенсивностью.
Интенсивностью, заставляющей после просмотра картины задаться простым, не имеющим ответа вопросом: а как же выживать дальше с такой безнадёжной тоской в душе? Тяжёлое и откровенное отсутствие ответа зависает в каждом кадре, в каждом движении и каждом звуке. Волочится тяжёлой пустотой в неловких танцах тех, кто выжил после крушения, пытаясь «воскреснуть» к жизни на танцплощадке под блёклым светом фонаря. Танцуют, как всегда бывает после войны, всё больше женщины, едва прикрытые больничными одеялами, с отсутствующим выражением лица. Они топчутся парами и в одиночку в странном ритме, волнующего и постороннего для них танца... Витальные силы лишь едва пробуждаются в хрупком пространстве по-прежнему влюблённого в прекрасную незнакомку отца семейства, урвавшего на мгновение горькую толику своего тайного счастья ...
Каким тяжёлым воспоминанием и безнадёжностью будущего отзовётся этот танец уже в следующем кадре, когда поезд, обозначенный названием «СССР», станет увозить нашедшегося отца вместе с другими пассажирами подальше от места катастрофы... Так куда же? Вспять? Или в какое-то другое будущее? Нет ответа, нет и радости путешествия в неизвестное, предвещающее только неясные пока, но не слишком радостные «сюрпризы», которые откроются нам в следующих фильмах Абдрашитова.
Так или иначе, но по кадрам «Армавира» разливается тревога от завершения какого-то тягостного спектакля, в котором все роли уже отыграны. Так что невесело смотрится «влюблённый» отец семейства, забившийся теперь на верхнюю полку, повыше и подальше от любимых своих домочадцев, следом за ним суетливо заполняющих купе... А счастье было так возможно! Но возможно ли оно? И каковы грядущие условия жизни, покрытые тёмным мраком?
Меня очень удивил странный, недоумённый вопрос замечательного критика Льва Анненского, никак не одобрившего картину: «Что так подействовало на Абдрашитова? Гибель «Адмирала Нахимова»? Незримый чернобыльский мор? Общее поразившее людей ощущение катастрофы?»
Ну, конечно! Разве уже не заключён ответ в самом этом вопросе? Именно так - и то, и другое и третье, и всё вместе взятое, никак не способствовавшее слишком оптимистическому мироощущению. Потому не стоило удивлённо корить режиссёра за то, что он, по правильному наблюдению критика, «пережил
246
Апокалипсис пластически: потоп, крушение ковчега, конец света». Он сам назвал способствовавшие этому образу обстоятельства.
Если критик считал с экрана «Армавира» образ Апокалипсиса, то это стоило бы посчитать комплиментом режиссёру, добившемуся такой максимальной выразительности своей картины. Но, прочитав таким образом авторский ме-сидж, Анненский полагает, что в картине при этом оказывается: «избыточно всё: мотивы, страсти, события, чувства... Сюжет трещит, материал вываливается, висит, плавает, волочится и замирает в «мёртвых точках»: требуются допинги»...
Остаётся тогда непонятным, кому, собственно, эти «допинги требуются»? Режиссуре? Но куда двигаться дальше, если, по заверениям критика, «апокалипсис выражен пластически»? Куда дальше допинговать? Тогда, может быть, «допингов» всё-таки не хватило самому критику, не удовлетворившемуся, видимо, пережитым им вслед за режиссёром этим самым Апокалипсисом, в котором, по его словам, всё так «избыточно: мотивы, страсти, события, чувства»? Но о каких «допингах» можно говорить, если всё «избыточно», но в этой «избыточности критику удаётся отыскать каким-то образом «мёртвые точки»? Мне непонятно, как эти «мёртвые точки» могли угнездиться в таком плотном пространстве фильма, и так безо всяких «допингов» перенасыщенном прямо-таки теснящими друг друга художественно выраженными смыслами?
Уж, не знаю, что может быть более трагичным, чем Апокалипсис, но «Армавир» не на шутку изматывает и теснит душу слишком концентрированно представленной правдой нашей потерянности в хаотично равнодушном и враждебном мире, разрушающемся на наших глазах. Кто ответит за эту разруху? Где и в чём искать опору вне изменившего тебе социума? Именно этот отсутствующий ответ теряется в апокалиптически безмолвном пространстве...
Камертоном фильма становится всё более напряжённо звучащая нота человеческого страдания в каком-то обесправленном социальном одиночестве, которая может кого-то раздражать, кому-то показаться невыносимой, а многими оставаться не услышанной вовсе. Но может околдовывать присвоением себе возникающего на экране волнующего общего для всех опыта, который становится твоим достоянием. Околдовывать предложенным картиной блужданием по закоулкам потерявшейся большой и чужой души, будто своей собственной, таким обжигающе правдивым, что отождествляешься с этой общей болью, нанесённой всем нам общей катастрофой, которую так выразительно представил режиссёр и правильно заметил следом за ним чем-то не удовлетворившийся Анненский.
При просмотре «Армавира» возникает такое чувство, будто тебя и впрямь бросили в «сумрачном лесу» отчуждающегося от тебя мира, отторженными от него и обречёнными плутать лишь по собственным закоулкам обнажившейся в одиночестве души. Отождествление с героями фильма так сильно, что, порой, кажется будто тебя самого, а не кого-то другого, вытащили из исторического
247
пузыря, хранившего остатки живительного воздуха, предложив теперь, родившись заново, «дышать жабрами» на пустынном берегу, отторгнутом от твоего прошлого. Как того самого ската, осьминога или другого какого гада морского, выброшенного на берег в финале «Сладкой жизни», которого уставшие от себя люди вынужденно разглядывают то ли с вялым любопытством, то ли со страхом и стыдом. Поэтическое пространство «Армавира» корчится конвульсиями огромной страны, выброшенной в это мгновение на помойку истории.
В этом новом наступившем для нас времени всё сменилось, перемешавшись, и для физика-теоретика, и для инженера, и для военного, и для сторожа, и для брюнета-красавца и для невзрачного русака, и для влюблённого мужа, и для любящего отца. Так что, ныряя вслед за авторами так глубоко в вулканический разлом времени, рискуешь и впрямь, ужаснувшись, не вынырнуть.
Может быть, потому именно был так раздражён другой молодой рецензент, уже готовый встречать наступающее светлое будущее, а потому очень недовольный «несвоевременностью» диагноза, считываемого им с экрана «Армавира»: «Да, мы ещё больны - соглашается он. - И до выздоровления далеко. Но хочется лечения смехом или слезами, и тёплой руки на лбу, и энергичного взбадривающего массажа. А диагноз нам известен. И не надо его повторять».
Ну, что ж? Как говорится, вольному воля. Ведь предпочитают некоторые собственную кончину, вовсе не зная диагноза. Как гласит один анекдот: «пессимист - это информированный оптимист». Вот, к сожалению, та правда, подтверждённая, увы, дальнейшим развитием нашей истории, далёким от благополучия, которому многие предпочитали неведение. Ну что ж? Получили дальнейшие удары нежданно-негаданно. Я лично предпочитаю и ценю своё соучастие в этически и эстетически значимом, правдивом и трагическом знании, которым Абдрашитов делится в своих картинах. Тревожащий его мир видится ему расслоенным в сложно взаимодействующих частях.
Одна из этих частей определяется режиссёром внешней канвой внятных причинно-следственных связей, формулируемых понятиями и событиями, за которые человек цепляется как за путеводную нить, позволяющую ориентироваться и выживать. Это тот привычный мир, за который, как советовала Инна Соловьёва, не стоит заглядывать, и за который так настойчиво заглядывают сами авторы. Внятный мир остаётся в «Армавире» вовсе за бортом тонущего корабля. Потому рвутся все нити, связывающие человека с «нормальной» жизнью. Она вынужденно подменяется иным пространством подсознательных ощущений, реагирующих на резко изменившиеся условия внешнего мира, в которые ты погружаешься вслед за автором, будто под глубоким гипнозом. Внутреннее или потаённое, высвеченное катастрофой, оказывается слишком тёмным или слишком светлым, чтобы уживаться с той самой маячащей за бортом внешней для нас и ускользнувшей из-под нас формообразующей реальностью.
Переоценивая себя в контексте расползающейся реальности, не сопрягающейся более с твоими целесообразными действиями, можно задаться во
248
просом, что же такое, в сущности, реализм, когда самым реальным для тебя остаётся только твой одинокий, покинутый другими внутренний мир? В какую реальность должен тогда погружаться реализм или какую реальность описывать? Ясно ведь, что обыденно воспринятое далеко не всегда самое реальное.
Этот важный вопрос возникает в процессе естественной самоидентификации себя с героями «Армавира», присвоения себе интимной поэтической ткани фильма, ощутимо для нас вытканной режиссёром не умозрительно, а личностно-заинтересованно. Идентифицируя себя, в самом широком смысле, с героями фильма, чувствуешь себя заложником того же самого времени, обозначенного в фильме общими реальными для всех точками страдания. Это оно выбило из-под ног внешние обманки, долгое время казавшиеся нам прочными, во многом нормальными и достоверными, обнажив их подлинное коварство.
Время, которому мы стали свидетелями, меняло привычные для нас ориентиры, мешало координаты, предлагая вписываться в новые сюжеты. Но досталась нам своя, очень особенная, небывало скоро приключившаяся с нашим государством метаморфоза, коснувшаяся ещё половины Европы. Я не припомню в истории аналогов, когда государство отказывалось от самого себя с такой скоростью и убеждённым напором, отдавая всё совершенно добровольно. А мы ещё будем говорить об отсутствии нашей национальной традиции. Вот оно наше русское юродство!
Завершая свою работу над «Армавиром», Абдрашитов впрямую подошёл к изображению жизни как сценического пространства, в котором меняются декорации, а мы обречены разыгрывать в этих предложенных декорациях свои роли, как получается... более или менее успешно... Чаще всего, увы, не слишком успешно, путаясь в предложенном нам сюжете, не умея правильно разыграть со своими партнёрами «по жизни» новую интригу... Эти жизненные сюжеты могут вплетать нас в самые неожиданные и не всегда осознаваемые нами ситуации, грозящие нам неведомыми возмездиями... Иногда всеобщими...
Вот таким всеобщим возмездием оказался распад нашей страны. Это возмездие настигло нас, наверное, за общее неумение правильно вырулить колесо собственной истории, обрекшее людей на вынужденное слишком одинокое странствование по неясным, сумрачным путям, пройдя которыми, кому-то удалось выжить. В нашей жизни обозначились правила той новой игры, от которых, как говаривали в «Крёстном отце», «нельзя было отказаться».
Неслучайно и точно следующий фильм Абдрашитова по сценарию Миндадзе озаглавлен впрямую «ПЬЕСОЙ для пассажира», герои которой, как в «настоящей» пьесе, обозначены «действующими лицами». А жизненное пространство в этой работе режиссёра с особым умыслом прочерчено вполне драматургическими законами.
Поезд, мелькающий у Абдрашитова из фильма в фильм, завершая сюжет «Армавира» перестуком колёс по необъятным просторам нашей пустынной,
249
сирой России, населённой слишком одинокими странниками, вихрем ворвётся в новое пространство «Пьесы для пассажира». Ворвётся вихрем тревожного, свистящего скоростью музыкального ритма, увлекающего нас за собой в какое-то новое путешествие.
Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым
Ну, расскажи, пожалуйста, про «Армавир»... Как это могло прийти в голову тогда, когда никому другому особенно не приходило?
Это никак не было связано напрямую с печально известной трагической гибелью лайнера «Адмирал Нахимов». Событие это ушло в историю, но, когда мы работали над сценарием, то, конечно, использовали некоторые документы, которые, надо сказать, производили на нас весьма сильное впечатление.
А вокруг - это начало 90-х - время менялось быстро. Многие это пережили как шок. Время изменилось - значит, люди изменились, их отношения, связи между ними. ..И- без всякой условности - многие перестали узнавать друг друга. Вчерашний хорошо знакомый стал непохож на себя... И мысли, и способ жизни как-то резко у многих сменились ...Уж не говоря об идеалах и вере...Что-то глобальное произошло со страной. Как будто плыли мы все, плыли, и вдруг наш корабль, давно проржавевший, затонул...
Так и появился некий «Армавир», со всеми своими пассажирами, уходивший под воду. Но с самого начала мы с Миндадзе не хотели прямых жертв, утопленников. Не это было главное. Гпавное - прежняя жизнь затонула, империя «Армавир» опустилась на дно морское, а люди-пассажиры оказались на берегу - голыми, почти без памяти, не узнающие друг друга. Хотя ещё час назад они принадлежали другой жизни... Это всё, по-моему, очень выразительно получилось в сценарии Миндадзе. Как это всё снимать, было совершенно неясно. . .Ничего подобного мы пока не делали...
Но документы по гибели «Нахимова» мы всё-таки читали, нас, конечно, интересовали частности. А они все были тяжёлыми... Такие страшные показания тёщи, которая подарила молодым новобрачным путёвку в круиз, прямо зубами вырвала её в профкоме, чтобы дети отправились в свадебное путешествие... Тяжёлый человеческий документ... Такой свадебный подарок...
Ну, да, это есть чуть переиначенное в фильме...«я не хотела в круиз, я же просила тебя, Валерочка»...
Там были страшные документы, но мы избежали искуса их использовать... Ну, например, пишет спасшийся: «Купил путёвку, со мной отправились жена и двое детей, восьми и шести лет. Когда всё началось, я побежал за ними, нико
250
го не нашёл, все пропали, а также (через запятую!) часы золотые, видеокамера, костюм шерстяной, рубашки шёлковые»... Читали и приходили в ступор.
А сопровождавший нас человек, заместитель генерального прокурора, говорил: «Это нужно было по протоколу» - А как же люди? - «Люди? Мы заставляем, они плачут, рыдают, а мы говорим им о материальном... Мало ли что? А вдруг какая-нибудь компенсация?» - Ну, и что же? - «Люди плачут, плачут, а потом начинают перечислять»...
Конечно, это тяжело и страшно. И выразительно. ..Ноне это нас волновало... Потерянность людей, изменение участи, к чему люди не были готовы. Дело не в утопленниках, их в картине нет, но многие в фильме напоминают их...
Ну, да, утопленники в «Армавире» ходят по земле...
Да, верно... На самом деле картина именно об этом... Мне кажется, что «Армавир» оказался, в каком-то определённом смысле, наиболее выразительным из наших работ. Как по замыслу, так и по... реализации что ли... И дело здесь, наверное, даже не в метафоричности, а, как я воспринимаю всю эту историю, гиперболичности решения всего фильма, если так можно сказать...
Ну, вот! Видно, неслучайно мои ощущения от фильма завели меня к кое-каким мыслишкам о том, что же такое всё-таки реализм? И что такое реальность, в конце концов? Всё, что происходит в фильме с героями я ощущала, как собственную трагедию...
Надо сказать, что мы приступили к «Армавиру» к немалому удивлению многих наших коллег и редактуры: на улице, вроде, весна, новые времена наступают, а вы о чём это? Какие-то странные люди кричат, орут друг другу... «Марина!» - «Да, не Марина я, Лариса!»... « Отец, батя!» - «Да не батя я тебе!»...
В общем, затонул наш лайнер, и вот теперь эти люди ходят по берегу и ищут друг друга... Пытаются восстановить человеческие связи... Найти общность судьбы...Может, общность истории... Задача совсем непростая, и тем самым чрезвычайно интересная, интригующая... Всё это как-то будоражило... Вот эти выжившие люди, которые, вроде бы те же самые, прежние, но время изменилось для них, участь сменилась, и они уже не узнают друг друга - «да, вот привет, да, мы же с тобой...» - ан, нет, не помню, не узнаю! Этот процесс продолжается и сейчас... Ведь мы ещё то поколение, которое застало это превращение... а в сценарии этот перепад был написан сверхвыразительно... с этой дочерью - Ларисой-Мариной... Мне кажется, это было замечательно сделано!
Для меня это была одна из самых сложных картин, как по самому процессу производства, так и по самому времени её делания двадцать лет назад. Начало 90-х: голод по стране, гостиницы развалены...
251
Мы снимали в девяностом году, в Севастополе и Гэленджике, т.е. жили в больших и долгих экспедициях. В группе, без преувеличения, голодали. В Севастополе, правда, всё-таки был какой-никакой колхозный рынок, куда мы ходили... Почему-то пили в огромном количестве козье молоко... Ты говоришь, вкусно... но попробуй его пить каждый день... АвГэленджике вообще ничего не работало, и не было никаких продуктов... Ведь невозможно всё время есть в ресторане, никто в группе не мог себе это позволить... Да, вообще всем нужно было ещё как-то завтракать, обедать... Странно, но единственной доступной пищей была бастурма... С тех пор её вкус у меня стойко связан с Гэленджиком.
Но главная беда - это проблема финансирования, которое было, как тогда говорилось, аритмичным, мягко говорилось... Правда, по тем временам, конечно, всё-таки очень существенно помогали армия и флот... И городские власти. Ещё по советской инерции уважения к кино...Затопить корабль помогали морские десантники, они организовали наблюдение и отслеживание плывущих в море... Но всё происходило практически в темноте... как там было уследить кто, где? Кто выплывает... кто?... Хотя мужики были тренированные, севастопольские, девицы тоже не простые - спортсменки... Но всё равно было очень сложно, снимали само крушение тремя камерами, топили судно, «лайнер», построенный по чертежам наших художников - А.Толкачёва и В.Ермакова. И яс интересом потом читал даже в зарубежной прессе, как, мол, выразительно снято затопление! Хотя сам до сих пор не понимаю, как вообще нам это удалось...
Я очень заметила все эти уникальные съёмки и об этом пишу... А какой поистине впечатляющий кадр, когда люди, спрыгнувшие в воду с корабля, смотрятся на общем тёмном плане одной будто чуть пенящейся волной... Не знаю, как это было задумано, но смотрится сверхвыразительно и очень страшно...
Затопить надо было так, как нужно по кадру, то есть чтобы «корабль» уходил под воду бортом, потом носом, а люди могли бы прыгать в нужную сторону и т.д... Для этого мы обратились в Николаевский НИИ, который как раз занимался проблемами судоустойчивости, то есть УСТОЙЧИВОСТИ, а мы поставили им обратную задачу. Решали они её довольно долго... Объясняли нам, что никогда не думали о правильном затоплении... Но наши гениальные художники помогли николаевцам, ездили к ним, всё отследили, и «Армавир» ушёл под воду так, как нужно...
А вся паника снималась на реальном корабле «Фёдор Шаляпин», на котором мы работали и куда привозили массовку с берега на катерах, люди забирались на борт по трапу. И с массовкой мы работали уже на корабле, который по нашей просьбе имел нужный крен, и мы жили там и передвигались под углом. Конечно, долго и с трудом репетировали», раскручивали» этот ужас... И вот когда всю эту панику стали снимать, капитан корабля сказал: «Ничего
252
страшнее не видел!..» Это и в самом деле было действительно страшное зрелище... Паника, дети, старики, женщины!.. Прыжки в воду в полутьме...
В общем, всё это было сурово, сурово... что и говорить... Но не только производственно. В картине снимались два замечательных актёра, Колтаков и Шакуров, но оба с очень, мягко говоря, сложными характерами. Коллеги предостерегали меня, говорили, как трудно будет соединить их в кадре, но они соединились, рад, что они сыграли в картине этот тандем... Считаю, что у Ша-курова, с которым мы работали во второй раз, эта роль стала одной из лучших. Очень сложная, в которой человек стареет прямо на глазах, превращаясь в старика... Он существует там в своём, отдельном времени...
Да-да, я это чувствую у Шакурова... Вот этот мужик, любивший сначала совсем девочку, ребёнка... стареющий и постаревший, а мечта о ней не стареет...
Шакуров в ужасе вопрошал меня - как? почему я один такой старый?... А я ему говорил, что «у тебя ещё зуба не будет... ведь ты подумай, сколько времени прошло, твоего времени...» И он сыграл всё сверхвыразительно и замечательно... Помнишь, как его старик идёт в финале, хватаясь за этот забор? Многого стоит этот проход... И Марина-Лариса - замечательная Лена Шевченко - мелькнула там метеором... вот этот пробег, о котором ты точно пишешь...
Там режиссёрски очень точно сделаны все эти переходы внутреннего состояния двух потерявшихся и встретившихся людей - отца и дочери!... Благоговение произносимого отцом слова - «доченька» - и её ёрнический, помноженный на зарождающуюся тревогу ответ, издевательский - «да, па-а-апочка!» Мне также очень нравится градус такого замечательного диалога между мужем и отцом Марины, уже трагически осознавшим, что всё потеряно безвозвратно - «что упало, то пропало»... Их всех так пронзительно жалко...
Вообще основная пара Колтаков-Шакуров достаточно уникальна - мало таких длинных напряжённых дуэтов... все сцены в кабинках чёртова колеса, на пляже и около него - поистине: чем дальше в лес, тем больше дров... В сгущающемся тумане блужданий...
И Колтаков хорош с его нервным, полуболезненным существованием в кадре... Мне кажется, это абсолютно точно соответствует материалу и его текстуре. Сам Колтаков непростой в работе актёр... Но мастер настоящий. Сцена встречи Колтакова и Шакурова на задворках пляжа - когда они пытаются разобраться, кто ты, а кто я, помнишь? - до сих пор, мне кажется, эмоционально волнует, хотя столько переменилось с тех пор... Всё поменялось в истории. И страшно постаревший герой Шакурова превратился из красавчика-капитана в беззубого старика... Не его время! Мне нравится, как Шакуров тянет к ней, своей мечте, возлюбленной, руки в финале, помнишь?
253
Серёжа не очень понимал, что он играет, но чувствовал очень тонко... Это его заводило, и он был в том вздёрнутом состоянии, которое очень хорошо ложилось на роль.
Словом, на войне, как на войне...
А всю встречу дочери с отцом, мне казалось, нужно было снимать очень просто, строить простые мизансцены, снимать нормальной оптикой, не усложнять формально ...И она сделана в этом смысле просто, канонически... Когда эта Марина-Лариса бежит туда-сюда, чуть не упала, отца узнаёт-не узнаёт... Что-то очень из России в этом есть...
Ну, да, там есть такое волнующее ощущение перепадов очень сложных вещей, он её нашёл, она никакого папочки не знает...
И здесь у тебя совершенно точное, на мой взгляд, наблюдение разности хода времени. Оно по-разному течёт для каждого персонажа. Аксюта старится, а Сёмина время не берёт...
Ты знаешь, в этом смысле их соприсутствие в кадре даёт очень значительный эффект краткости жизни, её оглядности, если можно так сказать...
Наверное. Работали очень много и напряжённо, но замысел интриговал, держал в напряжении... Интересно было очень... Хотя, повторю, такой сложной в производстве картины у меня не было.
Словом, была сделана вот эта картина «Армавир», но что было с ней дальше ты знаешь...
Я знаю прессу. А что было с цензурой?
Вообще ничего не было, и цензуры никакой не было тоже. Сдавали картину в девяносто первом году. Тогда просто мало кто картину понял и принял. Она вызвала скорее какое-то недоумение, даже раздражение. Ведь вокруг мерещилась совсем другая жизнь! В которой прах прежней был неуместен, и критика выражала возмущение, что «Армавир» зачем-то снова говорит о том, что уже прошло и не имеет отношения к жизни... Казалось, что всё крутится в лучшую сторону, и вокруг какой-то карнавал, праздник... Хотя, мне кажется, что картина как раз была о распаде времени и разломе той системы, Союза и вообще, эпохи, как бы рассмотренном сверху... И, я надеюсь, в какой-то степени сказано это было достаточно художественно...
По-моему, в картине замечательно играет Лена Шевченко, оказавшаяся, как мне кажется, на месте в роли Марины-Ларисы... Это очень хорошая актриса и с ней было интересно работать... Гармаш там тоже на месте в такой вот
254
гармашевской роли, наполненной сложным материалом... И Денис Евстигнеев после «Слуги» опять сработал замечательно.
Но с «Армавиром» как-то сразу всё не заладилось... она попала на первый Кинотавр... И, как рассказывали, жюри на просмотре картины неплохо выспалось, приняв на грудь... Не принял кинопраздник картину... Не пришлась она ко времени. Эмиссар берлинского фестиваля сказал нам: но ведь это про вчера... Все ждали какой-то очередной «перестроечной картины»... Так что «Армавир» восприняли, в основном, с недоумением...
Картину повезли в Монреаль, на монреальский фестиваль. И с ней произошла какая-то мистическая история. Плёнку загрузили в Москве, самолёт прилетел в Монреаль прямым рейсом без посадки, но на борту фильма не оказалось... Такого не может быть, как ты понимаешь... Так что к расследованию этой странной истории подключилась газета «Известия» - там работала Ошеверова, дочь нашего редактора - всё проверили и обнаружили документы, подтвердившие загрузку. А в Монреале картины не оказалось! Выбросили по пути, что ли? Не знаю. Так ничего и не нашли. Дирекция фестиваля вообще не могла поверить в эту странную историю... «Известия» об этом писали, но ничего никогда так и не прояснилось... Какая-то особая судьба у этой картины...
А потом, когда прошло время, многие, пересматривая картину даже сейчас, удивляются, и некоторые из них пишут об этом, как это она в своё время как-то прошла мимо их внимания? Но так было.
Меня саму очень удивил Анненский...
Мне тоже было странно его читать. Ведь до этого он написал замечательную статью о «Плюмбуме» «Свинцовый мальчик и загадка Абдрашитова». Очень была интересная статья... И вдруг такое странное... Даже не то что недопонимание, а - как бы это сказать? - недосматривание, недосмотренность какая-то картины. Потом прошли годы, и совсем недавно мы что-то с ним вспоминали, и он сказал, что тогда этого фильма не доглядел, как-то не ко времени всё это ему показалось...
Да, не только ему, к сожалению...
Вообще, догадываюсь, судьба наших картин, наверное, была бы куда более выразительной и успешной, если бы они все выходили двумя-тремя годами попозже... А «Армавир» имеет свою собственную судьбу, стоящую особняком среди прочих работ... Это, в итоге, единственная из наших картин, которая вообще не была на международных фестивалях...
Твой любимый больной ребёнок?
Ребёнок здоров, доктора ошиблись.
А что ты всё-таки скажешь о моём тексте?
255
Он комплиментарен, но, кое-что, надеюсь, отмечено справедливо. Думаю, ты права, когда называешь «Армавир» «самым демократическим кино», рассказавшим о катастрофе каждого отдельного человека. И, кажется, точно говоришь об очень прочувствованном нами состоянии, фундаментальном для «Армавира». Когда ты пишешь, что образ России, «заливающей гон стаканом водки, создан на экране густым маслом», то мне кажется это ощущение пастозности точным, я здесь называл это условно экспрессионизмом.
Это входит в мою задачу. Очень хочется, чтобы кто-то, прочитав текст, захотел посмотреть или пересмотреть картину, а восприятие было бы уже моим текстом правильно подготовлено... Вот такая «просветительская» идея всей книжки...
Ты эмоционально сильно вовлечена в картину, и у тебя такая вовлекающая энергетика текста, интересные рассуждения о «простом» человеке, оказавшемся в силовом поле, так называемого исторического процесса.
Надо сказать, что со временем вообще-то стало понятнее, отчего картина по времени не пришлась ни зрителям, ни даже критике... Даже той части аудитории, которая до этого всегда была нашей... Ты воспринимаешь иначе, замечая, как ты пишешь, «околоплодные воды»... И сопереживаешь не только героям картины, но ещё авторам и согражданам.
Наверное, ты права, что для меня это «самый лирический фильм». Потому что авторы и впрямь находятся не слева и не справа от этих людей, но в самой гуще всех тех, кто мечется по побережью, пытаясь восстановить утерянные между ними связи... Вернуться к Судьбе... Следуя твоему тексту, подумал, что, смею надеяться, удалось, оказывается, ещё тогда в девяносто первом году прочувствовать, если так можно сказать, перспективы перемен в усложнении общей участи... Хотя, конечно, никто из нас так задачу и не формулировал.
Да, на это работает в целокупности весь художественный образ, созданный киносредствами... Причём в создании этого чувственно осязаемого зрителем художественного образа соучаствуют, Слава Богу, не какие-то вербально оформленные идеи, но интуитивно ощущаемый особый драматизм того времени и сопутствующие ему непридуманные чувства блуждающих в пустоте персонажей, исполнители которых правильно стимулированы режиссёром в нужном направлении. Думаю это, в данном случае, по-особому важно, потому что разыгрываются не просто достоверные, понятные нам бытовые ситуации, но диалог с опустошающим временем... Это непросто для актёров, пускай про
256
читавших прекрасный сценарий. Им для работы, думаю, нужны проще формулируемые, понятные для них опоры... Текст сценария (или пьесы) лишь повод для размышлений и оживления этих размышлений реальными чувствами и ощущениями... Наверное, это тоже входит в задачу постановщика; погружающего персонажи в специальную, в данном случае, атмосферу, формируемую вполне условным внешним миром, насыщаемым своими ритмами и звуками? Только в этой целостности образ «поступает» на оценку «потребителям», то есть зрителям... А всякая мучительная попытка найти вербальный аналог всему спектру разбуженных этим образом чувств и мыслей неблагодарное занятие, лишь вновь подтверждающее всю горечь, явленную поэтом - «мысль изреченная есть ложь»... Так... кое-какое приближение...
Мне показалось, что тобой во многом сформулированы точные вещи... Вот, когда ты пишешь об узнаваемой зелёной траве, синем море, но при этом создающемся ощущении, что из всего этого выкачан воздух, ощущении вакуума, то это соответствует моей задаче, и слово - вакуум - тоже пришло, но уже когда работал с композитором: там есть музыкальные куски, где, как мы говорили с Дашкевичем, рояль должен звучать в вакууме.
Значит это произошло на ещё более ценном интуитивном уровне, а потому, может быть, оказался таким впечатляющим и действенным для меня результат... А ещё в атмосфере парка для меня таинственно прочитывается тонко звучащий антониониевский мотив из «Blow up». Вот это ощущение пугающей неизвестности, таящейся за каждым кустом... и земной растительности, вдруг воспринимаемой отдельной и чуждой, будто произрастающей не в парке, но покоящейся на дне морском... И эта семейная пара с отыскавшимся «папкой», узнаваемая до штришка, и такие драматично-романтические танцы на площадке под фонарями, ассоциирующиеся одновременно с послевоенными одинокими женскими танцами и тягостно-ожидательными подростковыми танцами в пионерском лагере... Я об этом пишу, потому что всё это околдовывает меня, как зрителя... И видится мне рукодельно дотошная интерпретация текста...
Мне самому странно, что эта картина была сделана тогда, когда она была сделана... Хотя, вообще-то, описанное в картине нам с Миндадзе казалось заметным, что называется, невооружённым глазом, но...
Ну, а как же? У нас была перестройка, и все должны были в тот момент ликовать, в крайнем случае, разоблачая «страшное» прошлое... Думаю, что международный зритель тоже часто реагирует не на художественное качество, но ангажирован политической и общественной ситуацией вокруг той или иной страны...
257
Конечно. Мне тогда говорили прямо, что никто вообще не поймёт «Армавир», тем более, за рубежом. Но я никогда и не делал никаких просчитанных для фестивалей ходов, задача была совсем другая. Снимал только о том, что меня волновало и мне было интересно. А если автора что-то волнует, то всегда найдётся зритель, который разделит с тобой это волнение. Я не знаю, сколько таких людей. И не это моя забота.
Один критик в своё время не принял «Армавира» и писал тогда о его невнятности... Спустя годы фильм увидел снова. И написал, признаваясь, что -и вдруг «понял, какой важный процесс глубокого всматривания в жизнь представлен экраном, вдумывания в ту объективную картину мира, частью которой становится и моя судьба». И моя...
Ну, вот! Буквально моё ощущение!
Ты пишешь, что в «Армавире» «нам всем прозвучал реквием, со всеми нашими мечтами, иллюзиями и аллюзиями»... И когда вышла картина, то она, конечно, вызывала сопротивление и желание оттолкнуться: - НЕТ! Это всё-таки не про меня... Вот ты вспоминаешь Гэголя, рассуждая, что Плюшкина и Ноздрёва мы обожаем потому, что, смеясь, получаем эффект, как радостного узнавания себя, так и горечи этого знания... Конечно, так... Но никто не хотел тогда узнавать себя в «Армавире»...
Ну, правильно, современники Гоголя тоже не хотели признавать сходство... Портрет должен быть парадным и радовать глаз!
Я вот удивляюсь тому, что время от времени слышу про какие-то фиги в карманах наших с Миндадзе картин. Или, мол, эзопов язык там у них... Удивляюсь, потому что все картины наши абсолютно оголены...
Да, конечно! Едва ли были в нашем кино такие неприкрыто «обнажённые» в своём намерении картины...
Какие «фиги» в той же «Охоте на лис» или в «Поезде»?
Может быть, «фиги» были увидены позднее оттого, что раньше глухота самих «ценителей» картины не позволяла полноценно оценить представленный художественный текст...
Не знаю...
Мне хотелось пройтись по всем картинам серией кратких очерков, но у меня это не получилось, потому что при ближайшем рассмотрении фильмы волокли меня по всей своей территории, очень непростой и многослойной. Краткости
258
моих намерений всё время мешала масштабность картин, охваченная мною конечно, далеко не полностью... Мне не хватило той краткости, которая сестра таланта... Вот эти все всё-таки странные отношения между Сёминым и Аксютой, и их непростое отношение к одной и той же женщине...
Там нет никаких специальных загадок. Мы никогда ничего не скрывали. Автор говорит всё прямо и без обиняков обо всём том, что является внутреннней пружиной действия и, я надеюсь, имеет прямое отношение к реалиям жизни.
Ты знаешь, я не столько понимаю характер всех этих, более даже подсознательных отношений, сколько их очень хорошо чувствую, ощущаю, о чём идёт речь...
Аксюта говорит Сёмину прямым текстом: «Странно, что ты Олю тогда посадил, а сам...» А чего тут скрывать? Это не сложнее, чем в жизни...
Всё-таки для нашего кино того времени это был очень сложный и неожиданный накрут...
Да, такое вот странное отцовское чувство...
Нет, я тебе скажу больше - хотели вы того или нет - но в этом треугольнике есть всё! Всякие мысли приходят в голову, и этот круговорот, заманивая, дурманит. Повторюсь, что у меня есть ощущение странности взаимоотношений двух мужчин тоже, и их общему странноватому отношению к существу по имени женщина! Такой внутренний мужской заговор или им двоим понятное согласие...
Можно об этом писать, будучи правым и неправым...
Ведь эта их общая любовь к дочери не случайна...
Конечно. Но повторяю, что там Аксюта прямо говорит - «ты брось, я знаю чего ты жену посадил»... Оля, но всё это остаётся в тени..
Не это главное... Хотя тени сгустились, и обрели плоть...
Ну, да, вот в этих водоворотах подсознания...
Проще говоря, за всем этим, я надеюсь, должен ощущаться другой масштаб, когда пытаются выплыть, как в том ночном море, люди из своих сложных комплексов... При этом - для меня, во всяком случае - очень важен, например, стык марша суворовцев, чёртова колеса и зимней грязи с небритым Колтаковым, о которых ты справедливо пишешь - именно здесь, как раз,
259
главное содержание картины! А всё, что при этом вокруг, мы не придумывали, это жизнь! Как в том семействе с нашедшимся «папкой» - тут жена детей кормит, а там папка вспоминает свою «чёрненькую»... Таков человек и так должно быть... Там эта женщина, а здесь жена, которая сидит и кормит детей... Жизнь только так продолжится...
Да, это правда, с которой ничего не поделаешь. Но «Армавир», конечно, я бы сказала, очень сложно сочинённая вещь. В ней нет внешней простоты «Охоты на лис». В ней нет принципиальной хроникальное™ «Остановился поезд». В ней нет импрессионистичности и акварельности «Парада планет»... Это картина сложно соединённых линий...
Да, сложнейший, блестящий сценарий Миндадзе. С мастерским финалом. И совсем по-другому сделанная картина, не так как другие...Ну, да - армави-и-ир - как позывной знак ушедшего под воду... И другие позывные: Одесса!.. Таллин!.. Батуми!...
Поэтому я говорю - спасите наши души - разорванные временем и вот этим самым образовавшимся центробежным движением. Люди, как планеты, сорвались со своих орбит и несутся неизвестно куда...
В «Армавире» есть прекрасный кусок, когда Отец мечется по саду в поисках Марины и, раздвигая ветки, точно раскрывает окно в обычную текучку «нормальной» улицы, толпы людей деловито так куда-то спешат... но простое кажется уже какой-то другой реальностью... и просто ошарашивает своей неожиданностью... Простое вдруг кажется уникальным... Вот это тоже настоящее кино! Требующее стольких слов, чтобы описать всё, что происходит с тобой в этот момент в совокупности...
Тогда мне казалось, что длинноватый кусок, сейчас смотрю, вроде ритмически верно.
Ну, с моей точки зрения, в параметрах фильма этот переход становится похожим на глубокий вздох из другого пространства, а, если сократить, то был бы более поверхностный, едва заметный... Сейчас это вздох равно соответствует тому пространству, на которое он рассчитан... Просто наслаждаешься этой возможностью... Кстати, конечно, вспоминается «Репортаж с асфальта»...
Ну, да, сумасшедший герой Сёмин открывает занавес, видит, смотрит и... закрывает, отвергая ЭТО...
И ещё меня как-то по-особому волнует кусок, когда поезд тормозит почти что у кромки моря, будит такие личные воспоминания, когда мы ездили на море, и
260
поезд ещё там ходил, помнишь? И Сёмин выскакивает из поезда и быстро бежит к этому морю и плывёт... А в памяти «выплывает» такой острый ностальгический прорыв в скрывшуюся реальность, к тому, чего больше уже нет...
Конечно, теперь это уже не только ностальгические, но ещё географические и геополитические ассоциации... Но иногда я задумываюсь, кому это всё надо?
Надо. Мне надо. Насколько я знаю, такого масштабного произведения на эту тему не было даже в русской литературе. Всё это страшное прошлое воспринимается по-новому - эмоционально, эстетически, этически. Для меня просмотр «Армавира» то же самое, что путешествие по собственной душе... очень сложно...
Ну, что ж? Когда «Армавир» был закончен, то возникла некая - думаю я -неслучайная пауза. Наверное, этой паузе должно было случиться, чтобы нам с Миндадзе как-то почувствовать и ощутить то, что происходило вокруг, да и в нас самих... Нужно было, чтобы время подсказало сюжет. И вообще после такой огромной и сложной работы, мне хотелось сделать камерную историю про двух людей в нашем времени и в нашем пространстве. А Сашу, видно, всё-таки тянуло на эпическое, и свой следующий сценарий он поначалу назвал «Большая постановка жизни». Я смеялся: это как будет? Большая постановка жизни, постановщик - Вадим Абдрашитов? Картина получила название «Пьеса для пассажира». Хотя, конечно, это про постановку жизни...
МАСКА! КТО ТЫ?
«Пьеса для пассажира» - 1994
ак куда и зачем по диагонали экрана снова мчится поезд уже «Пьесы для пассажира», перевозя с места на место в своих вагонах каких-то других людей, которых скоро нам предстоит увидеть? Ясно становится, что к пассажирам этого поезда, наверное, не относится первый представленный нам персонаж, очкастый проводник (С.Маковецкий), сопровождающий состав и измеряющий длину вагонного коридора прямо павлином каким-то, подозрительно многозначительный и будто не совсем соответствующий занимаемой им должности, как увидим ещё дальше, ни своим лексиконом, ни манерой поведения... Ну, не вяжется этот странный человек с местом своей службы всем своим ускользающим и каким-то неуместным обликом, неорганичным каким-то в интерьере обычного вагона...
Поезд перевозит ещё, конечно, вполне «нормальных» пассажиров, которых этот проводник обслуживает... в част
262
ности, молодую супружескую пару (И.Ливанов, И.Сидорова), недавно скрепившую свои матримониальные отношения официальным брачным контрактом. Это они теперь счастливо жмутся друг к другу в своём купе, временном пока гнёздышке, направляясь, видно, в сладкое для них обоих брачное путешествие...
В пустом пространстве этого благоустроенного вагона, видимо, первого класса, более задержать глаз, вроде бы, не на ком. Но внимание наше уже насторожено и заинтриговано каким-то тайным напряжением, сразу зависающим в кадре внутри представленного нам треугольника. Чуется что-то на-стораживающе-неадекватное в отношениях этой троицы. Сразу становится неясным, отчего это вдруг «молодая жёнушка» с таким повышенным любопытством и таким вызывающим тоном вопрошает своего новоиспечённого мужа о каком-то, всего лишь обслуживающем их проводнике, прямо-таки требуя его к ответу: «КТО это?». Да, и муж отвечает ей слишком игриво на простой и пустой вопрос, почти кокетливо подтверждая, что это, вроде бы, и впрямь «ПРОВОДНИК!», но так кокетливо, что заставляет усомниться в честности полученного ответа. Так и хочется уточнить следом - а кто это всё же, на самом деле? Слова из этого диалога сразу напоминают перекидываемый друг другу мячик, кем-то запущенный для разыгрывания... Только неясно пока, кем именно, для чего, кто, собственно, собирается играть и по каким правилам?
Поезд этот скоро притормозит на коротком полустанке Мечитаквадзе, где встречать наших вполне добропорядочных пассажиров, видно, имеющих денежки, будут странноватые для них приятели... прямо скажем, какого-то небезопасного и настораживающего вида. Один из них (Ю.Беляев), дружески-родственно подтянувшись к окошку поезда, будет радостно приветствовать, будто бы своего «сынка», почти равного ему по возрасту, заставляя своими манерками вспомнить Пашку-Шакала из «Слуги». Но «сынок» этот сильно озадачит своего гостеприимного «отца» неожиданным для него решением изменить свой маршрут, удлинив его до Туапсе. Это вдруг полученное известие заставит очень встревожиться не только «отца», но и мелькавшего за его спиной другого встречающего, Рубика (Э. Арзуманян), рассекретившегося теперь тревожной просьбой к «сынку» «не светиться» в городе, где без него и за его спиной он уже так успешно «крутит его капитал».
Эта встреча сразу оставит отчётливый привкус чего-то криминального и, казалось бы, не липнущего, по первому взгляду, к такому, вроде бы, благообразному Пассажиру, заставляя также молодую жену снова задаться странным вопросом к своему недавно случившемуся супругу. Кто таков этот «отец» странного вида и равный ему по возрасту? Посетовав затем, что ничего толком не знает о названном «сынке», тревожно предостерегая его от возможной пули. В ответ милый пассажир только засмеётся как-то невесело, объясняя жене, что «двигает прогресс» с этими людьми, пообещав ей скоро «сверкнуть» вместе с ней в лучшей гостинице. А нам вновь послышится некая двусмысленность всех этих слов, вызывающих крепнущее недоверие к лич-
263
ности такого персонажа. Странно, но уже помнится, что Проводник разговаривал какими-то слишком неуместно обкатанными чиновничьими фразами. А теперь Пассажир, приятный во всех отношениях, так легко соскальзывает на приблатнённый язык.
Эта двусмысленность слов и поведения сразу завораживает ожиданием какой-то особой истории, разыгрываемой интонационно, может быть, чуть-чуть театрально... Впрочем, уже само заглавие фильма обещало нам пьесу. Так что почти сценическое действие манит, завораживая надеждой заглянуть в закулисье жизни явившихся нам персонажей, плотно прикрытых пока от нас своими репрезентирующими их масками. Так хочется узнать, кто эти люди, представленные в начале фильма, как на театре, действующими лицами? Пока мы не знаем о них ничего подлинного, рассчитывая на дальнейшее развитие событий, начинающих раскручиваться в подобии детективного действия. После клочковатой многофигурной композиции «Армавира» немногочисленные персонажи «Пьесы для пассажира» будут взаимодействовать между собой вполне камерно, «мизансценируясь» в соответствии с неясными для нас пока взаимными интересами, определяющими намечающееся развитие действия.
Мы увидим далее, как странный Пассажир, неизвестно пока для чего изменивший свой маршрут, попросится временным постояльцем к не менее странному Проводнику, поглядывающему на него с неуместным в их взаимной конфигурации чувством брезгливого превосходства. Попросится постояльцем к проводнику после того, как только что обещал своей молодой жене «сверкнуть» с ней в шикарном отеле. Да, при этом ещё так просительно-настойчиво, что вовсе потеряется ощущение, а кто, собственно, и кого обслуживает в этом поезде? И зачем вообще может понадобиться, видимо, состоятельному человеку снимать совсем не комфортную комнату, как объясняет ему Проводник, расположенную к тому же, в отдалении от моря? Самому Проводнику приходится резюмировать столь странную просьбу своего пассажира собственным беспощадным диагнозом - «скупой, как все богатые»! - признаваясь при этом с некоторой иронией, что, на самом деле, такой сговор мог бы оказаться для него «крайним везением» в его теперешней несколько стеснённой денежной ситуации.
Так что, отработав пока свою смену на поезде, водрузится наш слишком уж сосредоточенный Проводник ранним утром на свой велосипед и будет долго крутить педалями, крепко держа руль в заданном направлении и руля, видно, домой, целеустремлённо так вглядываясь в даль. Этот слишком сосредоточенный проезд будет длиться так долго, чтобы можно было не только задуматься о педантизме этого Проводника, но и проникнуться также неожиданно зреющим в нас подозрением вползающего за ним чего-то такого угрожающего, волочащегося за ним в кадр из какого-то другого пространства. Это ощущение подозрительности к происходящему достигается режиссёром в данном случае чрезмерной для простого проезда длиной куска, организованного ритмически однообразным движением, сопровождаемым напрягающим слух звенящим звуком...
264
Как будто звучит отголоском само пространство, и становится всё яснее, что за спиною Проводника что-то такое зреет... не совсем простое или просто «детективное» действие, но выходящее далеко за пределы чисто бытовой истории...
Оказавшись, наконец, и впрямь дома, в жалкой лачуге, где нашего Проводника на рассвете уже поджидает жена (И.Селезнёва), облачённая в домашний халат и раздраженная тем, что вынуждена от безденежья торговать на рынке цветами, но он выразит ей неожиданную уверенность в том, что скоро появится тот самый особый Клиент, который поправит их материальное положение. А нас поразит его невозмутимая уверенность в их «светлом будущем», похожая на прозорливость. И почему-то не вызовет у нас сомнения уверенность жены в том, что её супруг непременно сумеет «вычислить» своего предполагаемого доброхота. Только останется неясным, откуда у него всё-таки такие способности, скрывающиеся за насмешливым лукавством? И где он вообще-то научился «вычислять»?
Ещё более странным прозвучит надменное заверение Проводника, будто бы Пассажир этот, оказывается, «наш!»... Да ещё ровно в тот момент, когда тот и впрямь явится в их дом вместе с молодой женой прямо по законам театральной сцены, громко заявив: «Я здесь!». То есть явится, как штык, в нужное время и в нужном месте. Но явление это отчего-то покажется похожим на заклание. Уж больно странный этот Проводник! Уж больно непростой! До такой степени, что Пассажир, будто под гипнозом, сразу соглашается занять место у него на чердаке прямо в этой развалюхе (сараюшка, оказывается, уже занята другой квартиранткой), где чудится запах серы из-за близости химкомбината, отравляющего воздух, а жить молодым предлагается из-за большой слышимости «без африканских страстей». Это, значит, в брачном путешествии! Ох, витает какая-то марока в той атмосфере, где серой попахивает...
Разыгрывая перед нами внешне вполне простую бытовую историю, строящуюся, правда, почему-то по немудрящим законам театральной сцены, Абдрашитов умеет нагрузить её вновь долго не раскрывающимся до конца дополнительным таинственным смыслом.
А пока, чувствуя в атмосфере представленного нам на обозрение «спектакля» всякие дополнительные миазмы, мы узнаём из обычной бытовой семейной ссоры, разыгравшейся между супругами до прихода Пассажира, что проводника зовут Олегом, а жену его Ольгой, что жили они прежде как-то не так, иначе, да и в проводники он попал по случаю. Умудрившись, оказывается (при такой-то своей прозорливости!), так невыгодно и непрактично выменять городскую квартиру своего тестя на эту самую халупу вблизи химического комбината, что не может того простить ему жена, вот такого непрактичного прозорливца. Или всё это только видимость? Прямо наказание какое-то для бедной жены! За какие такие преступления?
Снова вспомним, что этот фильм не случайно, конечно, но провокативно называется пьесой. И не для того вовсе, чтобы оправдать целый ряд кусков, выстроенных в этом фильме по законам театральной мизансцены, а ровно
265
наоборот! Подчёркнутая театрализация жизни на экране понадобилась Абдрашитову для того, чтобы идентифицировать наблюдаемый им жизненный процесс с «дурной» пьесой, будто бы кем-то для нас специально написанной, то ли бесцельно, то ли с той глубоко скрытой от нас сверхзадачей, которую так высоко ценил Станиславский. Именно эта сверхзадача безнадёжно теряется на поверхностности доступных нам жизненных передряг, превратно понимаемых или ускользающих от нас в своём сущностном значении. Так что всякая подчёркнутая режиссёром театральная условность, которой чаще всего чурается современный кинематограф, нужна в данном случае для того, чтобы подчеркнуть нашу особую вовлечённость в то огромное, общее действо, названное в камерных рамках «пьесой», сюжет которой прописывается для нас и вне нас, можно сказать, неким окружающим нас социумом. Только этот Социум становится в фильмах Абдрашитова всё более похожим на Фатум, в который человек попадает, как в ловушку без выхода, изобилующую тупиковыми лабиринтами, в которых мы сталкиваемся в тщетных поисках подлинных своих собственных и взаимных интересов.
Намёк на театральную драматургию с «действующими лицами» в кинематографическом пространстве обещает продемонстрировать обычную жизнь, по-особому препарированную для большей наглядной выразительности законами драмы, чтобы яснее подчеркнуть формообразующие конфликты нашей жизни. Этот во многом театрализованный мир перевоссоздаётся на экране скупым почерком постановщика, всегда чуравшегося внешней витиеватости. Той твёрдой авторской рукой, которая не ведётся лёгким соблазном. Так что парадоксальное решение обозначить фильм пьесой подкрепляется не только скупостью пейзажных красот, но особой щедростью чуть условной манеры актёрского исполнения, подпитанного допингом той сценической выразительности, которая так уместна в отчасти театрализованном пространстве, давшем право автору сценария Миндадзе назвать это произведение «Большой постановкой жизни», то есть именно жизни, будто бы кем-то и как-то театрализованной для нашего проживания.
После «громадья» многофигурного образа «Армавира» нам даётся теперь к новому переживанию и размышлению вполне камерная история, рассмотренная режиссёром в сопоставлении с большими общими переменами, происходившими в нашей стране. Все события в «Пьесе для пассажира» происходят на периферии южного уездного городишки, который не интересует постановщика сам по себе, как интересовало его прежде место действия в фильме «Остановился поезд», где сама атмосфера посёлка, кормившая и питавшая почти документальный кадр, становилась важнейшим составляющим компонентом, сопоставимым со всеми действующими лицами. Это чисто кинематографическое использование среды не нужно пьесе, по театральному изложенной на экране. Важно не столько где, сколько как и с кем происходит почти что условное действие. Выразительность документально представленной среды, её фактурность, заслонили бы тот театр жизни, в котором, не ведая того, мы исполняем свои роли.
J—
268
Действие «Пьесы для пассажира», даже когда оно разыгрывается несколькими персонажами на природе, кажется всё равно исполненным будто бы в сценических выгородках, на той натуре, что перевоссоздана Абдрашитовым для экрана, в, якобы, вполне внешне и бытово достоверном убранстве. Менее всего в элементах бытовой достоверности нуждался, может быть, «Армавир», действие которого развивалось, условно говоря, на просторах жизни, вне домашних условий или общественных, бюрократических «коридоров». Тем не менее, даже в «Армавире» мера правдивости соблюдалась всякий раз, если на экране возникали интерьеры какой-нибудь захолустной больницы, вагона или деревенского дома, в котором уготовлена последняя встреча Отца с не узнавшей его замужней дочерью.
Переигрывая в «Пьесе для пассажира» свой собственный жизненный сюжет, пассажир и квартирант по имени Коля потребует непременно разжечь костёр во дворе жалкого домишки, принадлежащего проводнику Олегу Капустину. У этого, почти, сценически декоративного, чуть ли не пионерского костра разместятся южной ночью Пассажир со своим недавним Проводником вместе с жёнами и вкусной снедью, заготовленной новым знакомым к этому странному пиршеству. «Мягкая водочка», - желчно и удовлетворённо констатирует хозяин дома. И закусочка деликатесная хороша, одаривающая чету Капустиных кратким и неожиданным для них бездумным блаженством. «Волшебно, волшебно» - будет повторять с придыханием, отирая с глаз слёзы мгновенного счастья и поселившегося в семье неблагополучия, уставшая от нищеты хозяйка дома, пританцовывая в тех «проклятых» цветах, что выращиваются ею для продажи на рыночном прилавке. Этот сад, густо усаженный «товаром» и освещённый будто бы луной, а скорее софитами, тоже очень напоминает сценическую площадку...
К тому же обе пары примостятся затем у костра совсем близенько и поведут между собой свои будто бы внутрисемейные диалоги, находясь рядом и не слыша друг друга, будто разделённые условной сценической перегородкой в полном соответствии с законами театральной сцены. Так и хочется сказать, что живём, как на театре, не замечая того, что соблюдаются законы и условности вполне театральной сцены. Прямое и очень откровенное введение в кадр такой условности тревожит желанием заглянуть «за кулисы», разглядев там, наконец, режиссёра, организующего это глобальное действо, напрягающее нас своей скрытой таинственностью, вновь требующей своего объяснения.
Объяснения происходящему действию требует каждый из представленных нам персонажей, задействованных между собою в сюжете, ожидающем своей расшифровки. Недавняя невеста Марина в недоумении ожидает каких-то объяснений от своего мужа Коленьки, пытаясь разгадать, что же такое и для чего он всё-таки затеял, перекроив всю карту их свадебного путешествия? На свой лад трактуют новую для себя ситуацию также Ольга с Олегом, разомлев от «мягкой финской» водочки и осуждая теперь своих нежданных гостей с нескрываемым презрением за «лишние денежки», сетуя, что сами они просто
269
«не вписались в тот поворот» новой жизни, на который вынесло с обочины нового постояльца вместе «с его девкой».
А ещё заслуживает их обсуждения неожиданно поступившее Проводнику предложение от квартиранта, оказавшегося ещё и работодателем и посулившего ему, любящему поспать от души, более выгодное место службы ночным сторожем в своём магазине. Но хотя предложение это заманчиво, Ольга предупреждает своего супруга с некоторой брезгливостью: «Только ты-то, Олежка, перед ним не унижайся»... Не без гордости говорит она...
Так что выкинутые из «новой» жизни Ольга с Олегом (удостоившиеся вдруг с неясным каким-то умыслом слишком пристального внимания какого-то Пассажира) не морочат себе особенно голову его намерениями, но скорее простодушно ловят свой кайф от предложенного им вкусного застолья на устроенном у них празднике жизни. Удивляются прихотям богатея, но ещё не задумываются о его преследуемой «сверхзадаче», двигающей этот странный сюжет. Может быть, потому, что, как полагает Олег, «его совесть чиста», сомневаясь, видимо, в чистоте совести их неожиданного гостя. Так что самому ему спится пока что сладко, совесть не беспокоит... Зато преуспевающему ныне бизнесмену, неизвестно что затеявшему теперь сотворить с Олегом Капустиным, приходится неожиданно скрыться на своем чердаке в нервном припадке и потребовать вдруг от своей молодой жены поскорее исчезнуть, не мешая ему самостоятельно разобраться в затеянном им деле.
Мы ещё не понимаем до конца всего существа интриги, начинающей постепенно раскручиваться в «Пьесе для пассажира», но чувствуем, как смешались в нашем новом обществе на одном «сценическом» пятачке в напряжённом противостоянии победители и побеждённые, выигравшие и проигравшие... в какой-то неравной, неизвестно кем затеянной схватке. В «Армавире» оставались за кадром те, кто сумел так или иначе преуспеть в новом обществе, поживившись чужим добром. В «Пьесе для пассажира» победители и побеждённые слились воедино, соприсутствуя в новом общем для них пространстве, лишь меняясь местами и волоча за собой одинаково тяготящий их груз собственного прошлого в жажде расквитаться за него на свой лад со своими обидчиками. Как откроется далее, в опыте, как Проводника, так и Пассажира, гнездится своё собственное для каждого из них, но, увы, одинаково больное прошлое, как с сожалением утерянное, так и с радостью преодолённое, которое делает их антагонистами.
Бывший судья Олег Капустин, как скоро выяснится, не сгодился с переменой порядков в стране на былой своей судейской должности из-за своей излишней честности. Как же теперь не винить ему нарушителей былого, ясного для него тогда общественного порядка, перевернутого теперь с ног на голову? Как не винить тех, кто раскурочил до конца всю «его» страну, а один из таких «радетелей» новизны предстал перед ним теперь «благодетелем» прямо в его же собственном доме?
А как может Николай, разбогатевший только теперь, то есть в новых усло
270
виях, считать тот же самый исчезнувший общественный порядок своим, когда в те времена его, ещё «нормального» студента, упрятал за решётку «по закону» слишком дотошный судья Олег Капустин? Всего лишь за то, что подрабатывал грузчиком на жизнь насущную, загружая какие-то вагоны, но, оказался «крайним» в неведомых ему криминальных делишках, получив за это срок по слишком полной программе. А ведь произошло это всё лишь потому, что уже не соответствовал тогда очкастый судья Капустин (прозванный «кротом») тайным веяниям наступавшего времени (вспомним в «Плюмбуме» овощную базу, директора которой со страстью разоблачал Руслан Чутко). Не желал тогда слишком «честный» судья ничем поступиться из «нарытого» им, ни гроша при этом не положив себе в карман «за услуги». Исполняя закон, смотрел этот «крот» на внедрявшийся уже иной мир широко закрытыми своими кротиными глазами, «всё рыл и рыл», не желая отыскать «смягчающие» обстоятельства... с этой своей вечной, по-иезуитски звучащей у него присказкой «собственно говоря»...
Может быть, этот Крот, как и Плюмбум, тоже чувствовал себя с детства «санитаром общества»? Или думал, как следователь Ермаков, исправлять несовершенное общество суровым следованием закону? Так или иначе, но никто из них не получил признательных благодарностей от своих сограждан. Более того, оказался теперь странный человек Олег Капустин в наше странное время в глазах своего бывшего подсудимого тем преступником, которого ему позарез требуется наказать...
Так что бывшему судье за его слишком тщательные старания уготовлено теперь бывшим студентом принять кару за то, что упрятал его когда-то за решётку, слишком старательно следуя закону. Правда, удалось тому студенту, обитая в тех далёких местах, получить неоценимый для нового времени опыт и самые востребованные теперь связи, позволяющие ему начать взращивать свой капитал, «двигая», как он говорит, какой-то «прогресс», в котором, правда, таким, как Олег, кажется, никакого места не осталось вовсе...
И кто знает, не приумножил бы сам Коля растущее число теперешних неудачников вместо приумножения капитала, если бы продолжал свои занятия в институте? Сумел бы он так же «мастерски» обогащаться теперь, как «мастерски» перебирает клавиатуру аккордеона из своего прошлого на глазах у изумлённого Рудика, вспоминая кружок дома пионеров и полученные в то время призы? Но судьба выкрутила его жизнь иначе! И получается почти что к добру... Если бы не одна важная деталь...
Пришлось Николаю оплатить свой теперешний успех высокой ценой: смертью своей маленькой дочери, привезённой к нему на свидание в зону первой женой и простудившейся в русских лесах на лютом морозе. Да, что там говорить? Вся отсидка, богатая «опытом», оказалась далеко не курортом, что подорвало здоровье бывшего студента, ставшего тогда заключённым, а теперь при своих «капиталах» вынужденного, увы, только кашкой питаться...
Вот такие неоплатные счета за своё горестное прошлое хочет предъявить
271
Пассажир случайно повстречавшемуся нынешнему Проводнику, вынашивая каверзный план мести... Но при этом не желает он его «попросту» кокнуть, как это стало принято в ежедневной практике «хорошего» общества, но жаждет он изощрённой мести, мечтая отправить бывшего судью на такие же тюремные нары, чтобы отведать законного суда ровно столько, сколько пережил он сам.
Прошлое тянется в настоящее, перетягивая всё новыми гирями и так хлипкое равновесие времени. Силы и возможности персонажей время перераспределило так, что Пассажир может теперь осуществить задуманное им наказание Проводника. Притом, что сам Проводник вступает в подготовленную для него мстительную «игру» простодушно, не просчитывая подлинную серьёзность намерений своего «благодетеля»... «Вычислять» ему, видимо, удавалось всё больше в соответствии с буквой закона, вне которого он, видимо, мало чего соображает... Ведь, помнится, даже квартиру своего тестя он умудрился выменять с такой идиотской потерей! Впрочем... как говорится, будем ещё посмотреть, чем и как обернутся в реальности самые серьёзные расчёты и до буквы выверенные «соображения» пострадавшего в своё время Николая... В той реальности, которая так легко соскальзывает у Абдрашитова в ирреальное, равно перемалывая на свой лад всякую судьбу. Вот где располагается общая для всех главная ловушка! Всё зависит лишь от того, насколько ты окажешься пригоден для времени, уже подоспевшего, как выясняется, к твоему порогу. Иной раз покажется, что это время ты оседлал и уже его погоняешь, а глядишь - оно уже, оказывается, тобой распорядилось по-своему...
Всякое движение этого времени, сопровождающееся соответствующими ему разными экономическими, социальными или политическими катаклизмами, всегда таит в себе, по Абдрашитову, тот особый мистический смысл, который осуществляет это движение, сопровождающееся появлением как новых победителей, так и драматических жертв, сплошь и рядом меняющихся местами. Нет злодеев. Есть участники одного и того же процесса, трансформирующегося во времени. Будто «нечистая сила» какая, лукаво олицетворённая в «Слуге» Андреем Андреевичем Гудионовым, провоцируя людей к тем или иным действиям, вьёт тайную цепь событий. Через обаяние зла посылаются в мир бесовские сигналы тем обычным рядовым людям, которые так склонны их улавливать, регулируя ими свою жизнь. Из осуществления множественности которых складывается история, движимая по какой-то странной и почти независимой от нас опасной траектории... Лишь обещающая всякий раз чудесную и счастливую развязку.
Что касается Олега Капустина, то он наделён в фильме скользкой двойственностью обычного в быту бесхитростного человека и слишком строгого должностного лица, будто бы владеющего какой-то высшей тайной. Особенность профессии роднит его с честным тружеником - бескомпромиссным Ермаковым. Тем не менее, кроется за ним ещё что-то мистическое, чем-то роднящее его по самоощущению с всесильным Гудионовым. Ведь, как Ермакову, так и Капустину, одинаково трудно оставаться просто людьми при исполнении
272
служебных обязанностей, неуклонно следуя Закону, в идеале апеллируя к объективной правде, которая, в свою очередь, так относительна применительно к судьбе судимого человека. Потому такие сложные чувства вызывают у простых людей эти особенно ревностные служители Фемиды, вроде Ермакова, Олега Капустина, а тем более подростка Руслана Чутко. Милый, непрактичный Олег Капустин долго таит в себе то второе нутро, которое позволяет ему взирать на мир с той бесчувственной насмешливостью, от которой не жди пощады. Он как будто владеет высшим смыслом до того момента, пока обстоятельства, отшелушив всё приобретённое им в жизни, оставят его в финале только со своим «слишком человеческим». Ирония, не имеющая морали, как способ существования окажется бессильной, если сам оказался её незащищённой жертвой, растерявшимся и голеньким перед непредвиденной расплатой. Ужас в том, что правда, если к ней подойти с мерками софистики, всегда оказывается двуликой, но как же вершить Закон, если поддаться соблазну такого рода сомнений?
Поэтому в конце концов закон оказывается всесилен, а в жизни правит как беззаконие, так и сладкий соблазн узаконенного греха. Потому удалось лукавому Гудионову определить сомнительную двойственность существования своего бывшего шофёра, скрывшись затем в тех вершинах власти, куда простым смертным не добраться. Ведь они лишь материал в каком-то глобальном её конструировании, готовые клюнуть все те новые наживки, которые им подбрасываются сверху и которые ими заглатываются, не успевая разобраться толком в тонкостях вкуса. После этого берёт начало развитие новых сюжетов, уже принятых нами и предлагаемых нам теперь к исполнению. Ведь казалось уже по образу времени, запечатлённому в «Армавире», что весь рисунок реальности вовсе стёрся в замолчавшем универсуме, будто свернулись все разом кем-то оборванные сюжеты... Но не свернулось всё-таки ещё, «свитком» (что нам было однажды обещано) само время... Так что всё впереди...
Кстати, о «запечатлённом времени», которое возникает на экране Тарковского своим буквальным лирическим течением, вызывающим острые ностальгические переживания и чувство невосполнимых потерь. Течением, намекающим также на всю таинственную сложность представленной нам движущейся материи. У Абдрашитова время тоже «запечатлевается» из фильма в фильм, но совсем иначе: а именно, своим результативным разрушительным воздействием на человека, играющим с ним свои злые шутки.
Люди, снова выжившие под катком времени исторического, пробуют опять в «Пьесе для пассажира» приободриться на свой лад, разбираясь, как им кажется, результативно в чужих грехах и стараясь изо всех сил проклюнуться к новой жизни. Более упругими ростками проклёвываются к ней через асфальт истории преуспевшие в этой передряге, тогда как чахлой порослью гнутся на обочине потерпевшие в непогоду... Так что не очень весёлая человеческая комедия продолжает разыгрываться в фильмах Абдрашитова в новых «сцени-
274
ческих» условиях, не смешная, но тянущая сердце болью... Так жалко людей, падающих, выкарабкивающихся и спотыкающихся снова, борющихся на свой лад с невидимыми врагами в этом вроде бы узнаваемом мире, но так близко соседствующем и легко соскальзывающем у Абдрашитова в поистине трудно постижимое...
Вот такая круговерть просматривается у режиссёра из фильма в фильм, снова и снова вертящая персонажей по разным схемам и образцам, неожиданно обжигая их в очень узнаваемой внешней обстановке теми новинками, каковых они прежде и не знали...
Как замечательно в точку пишет Дмитрий Быков, размышляя о кинематографе Абдрашитова и Миндадзе: «Признавать их правоту - значит признать невозможность дальнейшей жизни на этой земле, по крайней мере, невозможность жизни в её прежнем понимании». Это звучит очень верно по «внешнему» смыслу. Но единственным «оправданием» этой «невозможности» становится любовь Абдрашитова к своим героям и эстетическое преодоление освоенного им трудного для проживания пространства, искупающее, как опять же точно замечает Быков, наше «подсознательное нежелание всерьёз смотреться в такое зеркало, естественный страх перед безжалостной интуицией авторов».
Именно это очень серьёзное и справедливое наблюдение, высказанное критиком, разделяет зрителей Абдрашитова на два лагеря. На тех, кто готов снова и снова погружаться в сложную диалектику его картин, и на тех, кто не готов воспринимать явленную нам его фильмами тяжёлую и жёсткую правду о проживаемом нами времени.
Всякое время чревато своими угрозами, являющимися нам в разных обличьях. Ведь чует Пассажир и новый квартиросъемщик, занимая свой чердачок у Проводника, что в помещении «пахнет серой», но не желает домыслить, как губительно для него самого окажется это выбираемое им пространство борьбы, окутанное плотным дьявольским маревом. Не представляет себе Николай, как запутались все вместе в тех же самых сетях, действуя в своих собственных амбициозных интересах. Хочется ему, отомстив, подправить реальность в свою пользу, ускользающую от него в последней сущности, но оборачивающуюся к нему снова своей всё той же непредсказуемой двойственностью. Побеждает независимая от нас реальность, в которой жизнь оказывается для нас призрачной цепью таящихся ловушек, предлагающих нам целую систему торжествующих над здравым смыслом перевёртышей и двойников.
Капитал бывшего заключённого Коли крутит теперь за его спиной Рудик, как бы владеющий рестораном. Крутит Рудик капитал Коли под приглядом Бати, сроднившегося со своим Сынком в особых условиях зоны, и покинувший эту зону его усилиями ранее законного срока. Он живёт теперь поэтому под «красивой» фамилией Гурфинкиль. А бывшая и любимая жена Коли, а также мать их доченьки, умершей из-за путешествия к нему в холодную лагерную зону, живёт теперь с другим мужем, «который всё мучает его аккордеон». А сам Коля, став «другим человеком», женится, как полагается новому русско
275
му, на молодой красотке, которая готова родить ему нового ребёнка, чтобы залатать вечно ноющую рану. Всё оказывается в каждой судьбе тревожноподвижно...
Всё вроде бы как-то не складывается в хорошую историю с добрым концом, но всё как-то выворачивается не в ту сторону и не соответствует задуманным намерениям. Все действуют из лучших побуждений и высших соображений, но получается как-то так, что оказываются сами же жертвами собственных идей.
Колины силы, истощённые зоной, не оставляют ему надежды на светлое будущее. Душа жаждет мести, которую он пытается выстроить изысканно или слишком «мудрёно», как говорит Батя, готовый для него без особых размышлений просто грохнуть Проводника, и дело с концом. Не таков бывший студент Коля. Он хочет отомстить по тому же «закону», по которому посадил его бывший судья, разрушив теперь семью Проводника, как была когда-то разрушена его собственная. Чтобы тот пострадал ровно так же, как он сам. Но предпринимаемые Пассажиром действия будто бы вязнут в каком-то тумане, пахнущем «серой», слагаясь для него в сюжеты мнимые... Мурашки бегут по коже от нестыковок замысленных действий и их результатов...
Нынешний проводник Олег Капустин, любящий поспать всласть, получает работу ночного сторожа, чтобы ночью доверенное ему предприятие обворовали «свои» подосланные «ребятки», за что он понесёт затем «заслуженное наказание». Чувствуя нездоровое самочувствие своего Сынка, Батя спешит вынести бывшему судье свой короткий приговор. Но, чтобы предотвратить излишнюю «горячность» такого намерения, мешающего Сынку осуществить собственный замысел, приходится ему сдать милиции своего Батю Гурфин-киля, искренне извиняясь перед ним и обещая выкупить его снова, как можно скорее. Нормально! Как принято...
А ещё до пассажира Коли успела поселиться у четы Капустиных в отдельном сарайчике очень выразительный «педагог пения из Тамбова» (О.Мысина), рекомендованная хозяйкой «очень скромной женщиной». В этой «скромной женщине» со «слишком белыми ляжками» бывалый Коля зорким глазом легко разглядит проститутку, подрабатывающую на юге под «творческим псевдонимом Инна». Ну, что, право, платят по новым временам учительнице пения?!!!
Коля использует её поначалу для того, чтобы, как ему кажется, временно избавиться от своей новой жены, инсценировав свою интимную связь с проституткой. Но ещё Инна нужна ему для того, чтобы соблазнить, по его заданию, Олега, этого мерзкого «крота», «этого очкарика», как брезгливо она о нём отзовётся... Предоплатой теперешней проститутке, а бывшей баскетболистке и учительнице музыки, станет половина золотой цепи, снятой Пассажиром со своей шеи и разорванной пополам, чтобы расплатиться с Инной полностью, когда задание будет выполнено. Ей же подбросит Коля мысль, что очкарик этот вовсе не сторож, а владелец ресторана, шевельнув в её головке более практичные мысли о дальнейшей организации уже своей собственной жизни с не таким уж мерзким, оказывается, «кротом»...
276
Все события выстраиваются Николаем так, чтобы они устремились по законам написанного Колей плана. Но, однако, всё вырывается из-под его контроля и вершится по законам той сцены, которая не нами строится, и той драматургии, которая пишется не нами. В фильме возникает очень важное надсюжетное ощущение, что кто-то независимо от нас творит эту реальность. Ощущается коснувшееся героев мистическое веяние Творца, надмирного постановщика всего представления нашей жизни, изобилующей конфликтным абсурдом, втягивающим нас в свои игры.
Потому, как мне кажется, именно в «Пьесе для пассажира» у Абдрашитова более ясно возникает зыбкая надежда на мир иной, который, может быть, оправдывает этот абсурд нашего существования? Как утешающе грустно звучит неожиданное обещание, данное Колей, явно приглянувшимся Инне: «Может, ещё встретимся... Не сейчас... Так в другой жизни»... То же самое чуть насмешливое и горькое утешение прозвучит у Коли самому себе в разговоре со своей первой женой, оказавшейся у одра болезни своего бывшего мужа: «Будет же ещё следующий раз? Натка опять у нас родится. Может, тогда меня уже не посадят?»
«Посадят, посадят», - отвечает ему жена, спуская своего мужа с высот на землю, лишённая иллюзий о земной жизни, будто напоминая ему о том, что здесь всё развивается по своим неотъемлемым законам, которые не в их силах...
Натолкнувшись на инсценированную Пассажиром измену своего мужа, Ольга также покидает Олега, как покинула Колю его молодая жена Марина. Но, оставшись один свободным для мщения и выстраивая целую цепь продуманных разрушительных действий, он становится тоже жертвой своего собственного замысла. Тогда как ненавистный ему Олег, этот «крот и очкарик» не от мира сего, начинает в процессе мщения чувствовать себя совершенно счастливым и готовым к новой жизни со своей Инной. Он даже просит своего недавнего Пассажира, ближе к финалу картины, почти простодушно, не мстить ему - «это было бы так некстати», безуспешно пытаясь вспомнить как фамилию, так и «преступление» своего бывшего подсудимого.
А пока ещё не вскрылись тайные намерения мстителя, как волшебен сон любви Олега со «своей» Инной в ночном томительном кружении среди деревьев на велосипеде, исподтишка наблюдаемом Колей. Персонажи, расставленные им с тайным умыслом и по собственной прихоти в необходимой ему мизансцене, окутаны воздушными чарами чудесной любви и лёгкого счастья, мечтая о детях, в которых они продолжатся и назовут их также Инной и Олегом. Какая чудесная сказка! Какая космическая тоска зависает надо всей этой такой лирической сценой, выстроенной, как мы знаем, на лживой предпосылке демона искусителя, бывшего когда-то простым заключённым, а теперь предвкушающего сладостную для себя развязку. Но как обманчива и иллюзорна «правда», вызревшая в его душе!
Мы не владеем ею в полном объёме, забывая в своих претензиях о главном невидимом Творце самой полной мизансцены человеческой жизни. Это Его,
278
неведомого, вопрошал герой «Армавира», устремляя всё выше свой взор: кто отменял траур? Вопрос риторический, не подлежащий ответу. Очень важно, повторюсь, что именно в «Пьесе для пассажира», выстроенной внешне по законам вполне традиционной драмы, в кадре будто бы постоянно соприсутствует невидимый третий персонаж, который по существу вершит течение событий, предопределяя самый неожиданный вектор каждой судьбы. Бергман называл нашу жизнь «хихикающим шедевром». В фильмах Абдрашитова всё более уверенно соприсутствует та общественная декорация нашей жизни, в которой мы совершаем свои действия, не замечая её мистически насмешливой конструкции, каковой её трактуют Абдрашитов и Миндадзе.
Поразительно хороша предпоследняя сцена, выводящая картину к финалу. Не рассчитавший возможностей своего здоровья, Коля, этот успешный новый русский, понимает неотвратимость близкого конца. Это он, «двигающий прогресс», вынужден после лагеря довольствоваться только кашкой, которая, увы, больше не спасает его. Уже предрешён собственный конец Пассажира, для которого на небесах написана своя «пьеса», а он так уверенно закрутил всё действие вокруг былого Судьи, посулив ему по своей прихоти фальшак счастливой жизни, подлежащий развенчанию.
Так что прежде чем распрощаться теперь и обнажить своему врагу всю тайную мстительность правды, Пассажир устраивает себе и Проводнику «страшный» в своём роскошестве прощальный ужин. Роскошество поражает забредшего к нему по приглашению Капустина, пугающегося слишком откровенно замысленного представления, даваемого одним Актёром. Чудится ему в этом сверх-праздничном столе что-то поминальное, когда сообщает Николай, вроде Свидригайлова, что собирается уехать далеко, где ещё не бывал... А надолго ли? Сам не знает... Раньше не пробовал... Раскрывая, наконец, бывшему судье свою слишком простую фамилию - Петров, которую тому так и не удалось вспомнить... Сколько было этих Петровых! Легче было бы попасть наугад...
А теперь, собираясь в своё очень длительное путешествие, Николай говорит, что оставляет за собой лишь «неотданные» долги своим жёнам. Да ещё один «должок», который он готов сейчас вернуть Инне за то выполненное задание, о котором Олег ничего не знает, протягивая ему вторую часть цепочки...
Точно зачарованный странник, заблудившийся между явью и сном, «выплывает» Проводник из чертогов своего недавнего Пассажира к ожидающей его простоволосой Инне. Глядя мимо неё и в себя, пытаясь мысленно продолжить движение туда, куда нет пути, Проводник, будто бы под гипнозом, возвращает вторую половинку цепочки Инне, не зная ещё, что игра уже сыграна. Её остаётся завершить только коротким и томительным финалом.
Далёкий мыслями от своей возлюбленной и растерянно отвечая на её цепкий вопрос, Олег сообщает ей «страшную» правду. Он не владелец ресторана - «если бы, если бы!» - а служит там лишь ночным сторожем, получая в ответ такую же неожиданную для себя откровенность - «Я не Инна»...
279
Карты раскрываются, обнаруживая двух шулеров, разыгравших между собой неудачную партию скорее всего вничью. Маска, кто ты? Маски меняются на своих владельцах, скрывая подлинные лица соучастников одного и того же действия, разыгравших общий сюжет. Подлинные лица неясны. Победителей нет. Сомнительно всё. И совершённые, якобы, преступления и основательность предпринятого наказания.
Будто в туманном сне приближается Проводник к морю, которое до того было скрыто от нашего взора, устало омывая лицо водой, тихо плещущейся у берега. Потухший, сосредоточенный в самое себе взгляд. Где искать подлинное прозрение? Вдруг возникшее перед нами море смотрится в интерпретации режиссёра так же значительно, как смотрелось оно в «Армавире», как могла бы смотреться библейская пустыня, у кромки которой мы всё копошимся, пытаясь что-то разглядеть в расстилающемся перед нами меняющемся жизненном пространстве, стараясь заглянуть за его пределы.
Но как ограничены наши силы, преисполненные самоуверенности, а возможности нашей воли так усечены своим временем, что самонадеянность наша чрезмерна в своей претензии на сопричастность к составлению того глобального рисунка из мозаики человеческих судеб, который складывается где-то вне нас, оставляя лишь хрупкую иллюзию надежды на какую-то «другую жизнь»... Где будет всё ясно? Где маски можно будет сдать в ненужный уже реквизит?
Неизвестно. А пока, в данном сюжете жизни, разыгранном на экране меняющимися в своём статусе персонажами, Инна получает от своего «работодателя» неожиданный для неё расчет. Оказывается, что её роль уже отыграна не с состоятельным человеком, но всего лишь жалким сторожем. Теперь предопределено её возвращение с иллюзорных небес на нашу грешную землю, предрешённое Николаем - самонадеянным вершителем этого отрезка её судьбы. Инна решительно завершает свой сюжет, начиная удаляться от Олега всё более уверенным размашистым шагом, растворяясь постепенно в золотистом мареве... Погружённый в собственные раздумья Олег, будто по инерции, продолжает движение за своей неумолимо исчезающей Лаурой, неожиданно вовсе отсечённый от неё бешено несущимся равнодушным ко всему поездом, вдруг окончательно разделившим надвое их недавно ещё общее пространство...
Будто в забытьи, остановленный движением этого поезда, продолжающего свой равнодушный бег из начала фильма в финал, оробевший Олег провожает его растерянным взглядом, будучи уже другим человеком, слишком информированным и беспомощным в переосознании всей той полученной им информации, которая обезоруживает его, оставляя наедине с собой. И тем же самым видится он себе на подножке летящего поезда - не сторожем и не судьёй - но лукавым Проводником, облачённым в форму, с тем же насмешливо снисходительным взглядом с неистребимо победительной дьявольской насмешкой. Ну, как не вспомнить Гудионова? Кто настоящий? Каких пассажиров
280
сопровождает этот Проводник, обслуживающий быстро летящий поезд?
Скрывшись под панцирем цинизма, он забывает о разнежившей его собственной слабости. Обновлённый новым печальным опытом, тот же Проводник вновь следует вдоль коридора вверенного ему вагона той же строгой, чеканной поступью, что и в начале фильма, готовый по-прежнему обслужить таящихся по своим купе странных каких-то пассажиров. Дьявольское всесильно и горделиво, сопутствуя всем пассажирам, увлекаемым через пространство жизни единым для всех поездом.
Новая реальность так осложнилась разного рода переменами, что окончательно перепутались все победившие и потерпевшие, скрывая за собой хаос своих новых взаимоотношений, выстроенных подлинным виновником той большой передряги всей нашей жизни, что скрыта от нас за хихикающей усмешкой того неразрешимо мистического Проводника, который заведомо неистребим.
Как потерпевшие, так и жаждущие отмщения персонажи даже не догадываются о степени своей беспомощности перед лицом общего для всех Рока, олицетворяемого меняющимися условиями существования. Растерянность царит в той части души бывшего Судьи Олега Капустина, которая открыта миру для его осознания, но ранима и беззащитна. Презрение к этому миру и чувство брезгливого превосходства сохраняет её вторая дьявольская часть. Нам неведом прихотливый рисунок нашей общей судьбы во всей своей целостности, видимый лишь кому-то из недоступного нам далёкого далека.
Маска, кто ты? Кто этот милый и неврастеничный богач Коля, волею судеб оказавшийся с молодости преступником? Почему время распорядилось так, что недавно ещё молодая учительница пения, а до этого баскетболистка, защищавшая честь своего класса, оказалась сегодня расчетливой и романтичной проституткой? Почему наступило время таких драматичных метаморфоз, которые намечались где-то, но не замечались всеми нами, пассажирами, продолжавшими своё мерное путешествие под мирное укачивание того странного поезда, который именуется жизнью?
В конце концов сам Проводник поезда также становится одномоментно беспомощным пассажиром, доверившись фальшивой любви и меняя своё дьявольское обличье на человеческое, но попадает, увы, в ту же мясорубку взаимозависимых судеб. Проводник, явившийся нам в метафорическом смысле также Пассажиром того же самого общего для всех состава, именуемого жизнью, особенно многозначителен и многозначен. «Конторская крыса», осенённая дьявольской усмешкой, оказывается самым выразительным пере-вёртышем, вынуждаемым своим временем превращаться из бывшего ответственного судьи в проводника и нерачительного сторожа, из ретивого семьянина в доверчивого любовника.
Да и человек ли вообще этот призрак, раздвоившийся к финалу картины на беззащитного Олега Капустина - бывшего судью, растерявшегося под натиском представленных ему улик, жаждущего понимания от своей былой
282
жертвы - и затем на победительного Проводника, брезгливо, будто со стороны взирающего на свои собственные мудрёные корчи? Завершая разговор об этой картине, рисующей странный пейзаж нашей выживаемости в новом пространстве, населённом очень странными людьми, похожими на нас, приходится задаться вопросом: а сколько, собственно, порою незамечаемых нами ролей приходится исполнять, выписывая будто бы свой собственный сюжет жизни?
В «Сталкере» для того, чтобы проверить качество человека, Тарковский отправляет своих героев в Зону, изобилующую ловушками, оставленными пришельцами. У Абдрашитова сама реальность так увидена им и приближена к нашему рассмотрению, что обнаруживает себя пред нашими очами сложной системой ловушек. Героям Тарковского эти ловушки удаётся преодолеть, чтобы, миновав их, признаться в собственном бессилии. Герои Абдрашитова, как ни крути, неминуемо попадают в каждую из этих ловушек... В те сети, которые расставляет нам сопутствующее нашей жизни время... Может быть, как наказание за нашу всеядность в желании как-нибудь приспособиться и обустроиться в любых условиях? В меру своих сил и возможностей...
Посмотрим, как это получается у героев следующего фильма Абдрашитова «Время танцора», оказавшихся как «победителями» в нашей внутренней войне, так и стяжателями у разбитого корыта...
Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым
Итак, ты решил после такой масштабной картины, как «Армавир», сделать что-нибудь более камерное....
После махины «Армавира», просто захотелось сделать камерную, компактную картину, такую историю про двух-трёх людей, происходящую, конечно, в нашем времени и в нашем пространстве... Мне кажется, что в «Пьесе для пассажира» удалось в какой-то степени такой простой вроде бы «междусобойчик», ни на что особенно не претендующий, вывести к каким-то обобщениям. Словом, после громоздкой эпической работы, я заговорил с Сашей о том, что неплохо было бы сделать какую-нибудь локальную историю. Время подсказало сюжет, и Миндадзе назвал его «Большая постановка жизни». Я смеялся, что, мол, в постановке Абдрашитова? Пусть будет что-то о пассажирах.
«Пьеса для пассажира» - вот такая должна была быть максимально театрализованная история.
Правильно, это название не так прямо определяет существо картины, как более указательное - «Большая постановка жизни»...
283
Забегая вперёд, скажу тебе, что в момент выхода картины в прокате уже царило полное безобразие, уже не было никаких рекламных плакатов для фильма, никакая реклама вообще не распространялась. У нас была только одна афиша, сделанная под моей редактурой и напоминавшая старую театральную афишу...
Ты знаешь, именно её я видела на выставке афиши на театральном фестивале «Территория»... По-моему, если я правильно помню, там даже именно как на театре, было написано - «действующие лица»...
Да, в фильме было немало сделано для, так сказать, театрализации действия... Художникам я говорил прямо, что всё должно быть ровно так, как в провинциальном ТЮЗе... А на перезаписи просил звукорежиссёра, чтобы горящий костёр трещал, как пионерский. Хотя, думаю, что, может быть, в этом смысле мы не дожали? Может быть, всё это нужно было сделать гуще, откровеннее? Все эти цветы перед домом, которые ассистенты втыкали в сухую крымскую землю... Может быть, всё это нужно было делать ещё более плюсуя? Сейчас мне кажется, что материал выдерживал бы большую степень условности, чем та, на которую я пошёл...
Не знаю. Для меня степень условности кажется вполне достаточной и соответствует задаче картины, кстати, очень интимной по звучанию... Там есть много такого семейного... Как хорошо они там сидят... у костра... Хотя напряжение создаётся двойственностью всякого действия и его скрытого смысла... А какая внешне трогательная история, когда Маковецкий катает Мысину в ночных сумерках на велосипеде? Ну, прелесть!
Да, они меня тоже трогают...
Потому что они откровенны, не зная, что это глобальная неправда...
Но, может быть, они знают, что это неправда? Так ещё страшнее за них...
Нет, самое странное в том, что они сами в этот момент обманываются и не знают, что всё это неправда. Каждый при этом несёт свою правду и свою мечту, которые в это мгновение их соединяют. Но играют они при этом посторонний сюжет, который для них написан, не имея понятия о подготовленной уже грядущей развязке, которая зреет неведомо для них...
Так или иначе, но Миндадзе написал такую вот вроде вполне частную историю, которая по всем компонентам уже была немного сдвинута с оси простого правдоподобия. Поэтому и сдвигалось всё, конечно, специально, так,
284
чтобы на экране возникал некий театр... Театр жизни?.. И звук надо было сдвигать в эту сторону, и свет, и изображение... И, конечно, актеров, если так можно сказать...Такой какой-то особый главный герой, которого так выразительно играет Маковецкий... И Ливанов... Юра Беляев в пёстром пиджачке, с золотой фиксой... И все женщины такие разные и такие выразительные... Жену Проводника Олю играет интереснейшая Неля Селезнёва... А какая хорошая девочка Сидорова - вторая жена Пассажира, такая абсолютно узнаваемая молодая жена нашего бизнесмена... И Люба Гзрманова - Валюшка, первая его жена. Хороший ансамбль, который сложен, конечно, тоже с «театральным сдвигом».
А за всей этой «театрализацией» должны были ощущаться, узнаваться, конечно, перевёртыши времени, перевёртыши судеб, когда судья оказывается вдруг подсудимым. За всеми этими переменами должен был просматриваться определённый оборот времени... Месть превращается в какое-то самонаказа-ние... И так далее...
Но мне кажется, что тональность картины выбрана верно... Есть там что-то такое... какая-то зыбучесть времени... не линейность, а его турбулентность... Надеюсь, что там ощущается некий «оборотизм», если можно так сказать... Знаешь, вот как: время - оборотень! И оно торжественно устроило вот такую свою, как я понимаю... постановку жизни...
То, за что недавно сажали, помогло теперь стать известным бизнесменом, вагоны которого колесят по всей стране... При этом всё так близко, времена расположились рядом, и всё оказывается потому таким узнаваемым... Становясь, в каком-то смысле, причиной болезни... Кстати, именно к вопросу о болезни... Он очень важен... Такие стремительные обороты похожи на слишком поспешно сделанное переливание крови, как мне кажется... Или та же кессонная болезнь... Это очень хорошо делает Игорь Ливанов... Такой вот успешный молодой человек Николай, а состояние его какое-то болезненно обморочное... как раз вообще-то из-за крутых оборотов, по большому счёту, возникает болезненность вот этого нового времени... когда вокруг криминал и наступившие новые времена, рядом расположившееся богатство и тут же сиротство...
Мне кажется, что в картине всего этого так много, так концентрировано, что органично возникает надобность в его особой сценической мелодике. Кстати, на этой картине появился новый для меня композитор Виктор Лебедев. Мне понравилось, как он сделал музыку, и следующие картины мы делали вместе. Он был в работе очень тщательным и... как тебе сказать? Вот: слушал будущую картину и переписывал... Был готов переделывать фонограмму, входя в картину...
Да, мне помнится, как ты рассказывал историю с его музыкой к «Магнитным бурям«...
Именно. Это была просто уникальная история, и для меня удивительная...
285
А на «Пьесе для пассажира» всё как-то очень легко пошло, и вальс очень хорош... и всё в общем очень удачно вошло в картину...
Как Николай играет на аккордеоне... ну, потрясающе!
Да, с аккордеоном, кстати, было много разных вариантов... Ведь вся фонограмма с аккордеоном вообще настоящая...
И всю душу прям крутит...
Ничего-ничего... Там такое ощущение какое-то... даже не знаю... Вот время изменилось и всё!. Вот было одно время и, как щелчок такой - РАЗ! Изменилось всё и пошло дальше... А зыбучесть этого времени чувствуется во всех персонажах... Я вообще очень доволен актёрскими работами в «Пьесе», потому что в них во всех присутствует вот эта зыбкость, неуверенность существования... Это очень хорошо было сделано в сценарии... и актёры поддержали вот это ощущение «другой» жизни...
А как ты всё-таки работаешь с актёрами?
Знаешь, я не верю режиссёрам, которые, отвечая на подобный вопрос, говорят, что имеют какую-то специальную, общую для всех методу... С каждым актёром нужно общаться и разговаривать по-особому и по-разному...
А ты думаешь, что работа с актёрами в кино в этом смысле, в целом, отличается от работы с актёрами в театре?
В этом смысле - нет. Всё равно с каждым нужно работать индивидуально, но очень важно знать, какая перед тобой стоит задача... Понимаешь? Ведь ещё не фокус найти к каждому актёру свой отдельный ключик. В конце концов, всякий профессиональный режиссёр этот ключик всегда найдёт к профессиональному актёру, а профессиональный актёр всё равно хорошо сыграет свою роль. Но самое важное, работая с каждым, соединить их потом, очень разных, в одной сцене и в одном кадре - вот это сложно! Но это всегда зависит ещё от меры одарённости, талантливости актёра. Если он талантлив, то всё будет нормально...
Ты знаешь, что «Пьесу для пассажира» показывали на «Берлинском фестивале», где она получила Серебряного медведя. Меня это удивило: ну, что, в самом деле, где-то там они могут вычитать из картины? Из какой-то пьесы для какого-то пассажира? Но оказалось не так всё просто, и многое и до них дошло в этом фильме. И именно эта локальная история отчего-то обратила на себя внимание фестиваля, тогда как, скажем, «Армавир» проплыл мимо... Тоже удивительно.
286
В «Пьесе», действительно, есть сквозная тема и главная - временности нашего пребывания на этой Земле, извините за пафос... Мы играем, суетимся, чего-то делаем, а всё несётся неотвратимо... Наверное, это было считано...
Ну, да. Это очень правильный и впечатляющий образ - мы всего лишь пассажиры в «поезде» своего времени, разыгравшие свои истории...
Ещё разобраться не успели, кто есть кто, а поезд едет и едет... героиня Мысиной думает, что получила богатого ангела, другой поверил в новую любовь, третий думал, что восстановил свою справедливость... Но... всё распадается, на элементарные частицы, и погибает...
Надо сказать, что когда жена Судьи говорит ему с раздражённым укором -«я целый день стою с этими цветами, у меня ноги...» - какие ноги? - удивлённо и участливо интересуется Маковецкий... То душа прямо обрывается...
Хороший там Маковецкий, просто не представляю себе другого актёра на этом месте...
Ну, Маковецкий! Само собой! А вот как ты вышел на Ливанова? Мои дети, посмотрев когда-то «Пьесу», заявили - «мама, это первый настоящий американский герой в русском кино».
А я вот сейчас подумал, что дети твои по сути правы, это, конечно, американский герой, который возник не у нас в кино, но в русской истории. Может быть, он должен был бы быть чуть постарше, может быть, эта роль могла бы принадлежать Жаркову или Пашутину. Тут очень важна категория возраста...
Но почему тем более тогда всё-таки Ливанов?
Как раз Жарков и Пашутин читали когда-то на сцене куски из сценария. И мне стало ясно, о чём станет картина с их участием. Это была бы история о пятидесятилетних ребятах, которые не утвердились в этой жизни и качают свои права, когда новая жизнь их подпирает и не оставляет пространства. Смыслово, это была бы совсем другая история. Тоже достаточно драматичная на свой лад, интересная история о том, как это поколение не вписалось в жизнь. Но с героем молодым, я был уверен, картина будет драматичней и о гораздо большем...
Ну, да, вместе с «не соответствующими» былому времени молодыми людьми уходит конкретика данного времени и социальных проблем, но возникает драматическая глобальность всеобщего...
Потому что эта «большая постановка жизни» была сделана не для нашего поколения. Это то, что называется «пограничными условиями» для людей
287
гораздо моложе нас. Поэтому появился Игорь Ливанов. Я пробовал и других актёров, но он привлёк меня своей какой-то внешней ладностью при том, что в нём был ещё какой-то особый драматизм его существования в кадре. Я думаю, что он замечательно сыграл даже не роль, а вот это состояние болезни... Происходит столкновение реального персонажа в лице Ливанова с инфер-нальностью советской и постсоветской России, российской и внероссийской власти в исполнении Маковецкого... Чуть ли не из «Слуги» он...
Ну, да, верно-верно... Я как раз пишу об этой очень интересной трансформации, которую, с моей точки зрения, претерпевает в «Пьесе» образ Борисова из «Остановился поезд»... Превращение вполне реального следователя из «Поезда» в инфернального - будто из «Слуги» - Судью Маковецкого в «Пьесе»... Это здорово очень...
Именно, это всё оттуда. У героев Борисова настолько поливалентные русские характеры, что любые их, так сказать, отростки можно развить в самостоятельное дерево и делать с ним всё, что угодно, из картины в картину...
Но, знаешь, меня всегда удивлял постоянно всплывающий разговор в нашей среде о каких-то «фигах в кармане» или скрытой «антисовтчине» наших фильмов, которой никогда не было. Я никогда не вёл разговор конкретно о советской власти...
Это вопросы высшей правды, не так ли?
Да, думаю, это всё из более общих категорий. Так, по крайней мере, мне кажется.
Также точно было в «Слуге» -дело вовсе не в красных знамёнах, которые там держат пионеры во время выступления Гудионова, может быть, единственная примета «советского» в картине... Но всё, как ты верно пишешь и понимаешь, гораздо шире...
Современные аксессуары нашей жизни выглядят иначе, но это чисто внешнее... Остаётся вечная человеческая драма, в которой люди подвергаются всё тем же испытаниям и соблазнам, может быть, в разных внешних конфигурациях. Просто в твоих картинах всё это наше вечное представлено в узнаваемых приметах очень нашего времени, преобразованных всяким следующим текущим моментом. Трагедия или драма, переходящая в трагедию, преследует нас всегда и везде, на протяжении всей нашей жизни, в разных, на самом деле, метафизически неподвижных формах... Вот в чём весь каверзный и грустный вопрос!
Согласен, именно в этих особенностях наших форм соблазна ключ к разгадке непонимания... Так что я удивляюсь всякий раз, когда «Плюмбума», на
288
пример, награждают в Венеции... Что они могут понимать в общей для всех драме, если она всё-таки представлена в слишком наших приметах, например, каких-то наших народных дружин?
Ну, всё-таки существует, к счастью, тот художественный язык, который помогает восприятию в других культурах достаточно чужеродных конкретных примет...
Смею думать, тот же «Плюмбум» был подхвачен и понят ими вовсе не на уровне Павлика Морозова, о котором они ничего не знали, но как-то шире. Надеюсь, они поняли и приняли суть картины, как проблему концентрации власти в руках незрелости, которую порождает само общество... И очень интересно писали об этом в прессе вокруг фестиваля...
Но, в сущности, именно это восприятие совершенно верно. Юный мальчик хочет быть честным и смелым, с юношеским максимализмом отстаивая те общественные ценности, которые ему внушили... Но, возвращаясь всё-таки к «Пьесе для пассажира»...
Я только хочу сказать, что в твоём тексте есть сотворческое радушие, остающееся абсолютно адекватным авторскому намерению. Не так легко, как показывает опыт, переходя от одной нашей картины к другой, справиться с крутыми подчас заносами и переходами... Кажется, ты не страдаешь от перегрузок наших немалых ускорений, адекватно оставаясь как бы внутри нашей команды, переходя органично от масштабного «Армавира» в нарочито камерную, театрализованную как бы провинциальность «Пьесы для пассажира». И делаешь это без особых затруднений - вот вам ещё такая картина всё о том же...
Тем не менее, на самом деле, это не просто разные картины, это разный кинематограф, и картины сделаны принципиально по-разному... Так что в «Пьесе» - мы с Миндадзе остановились в приморском провинциальном городке, с удовольствием разжигая костёрчик среди цветочков, выращиваемых для продажи на рынке... Всё такое мелко-специальное, над которым можно посмеяться, когда за плечами остался «Армавир»... Теперь мы вместе с героями танцуем среди цветочков, выпиваем мягкую водочку вместе с придурковатым героем Маковецкого, и всё это помещено в рамки провинциального театра, появление которого диктовалось новой, особой задачей, родившей совершенно другое для нас с Миндадзе кино...
Кстати, когда нас с Сашей спрашивали, каким образом нам удаётся сосуществовать, сотрудничая, так долго - почти 30 лет! -, то я отвечал просто - не было скуки. Все картины наши - разные, и сделаны по-разному. Каждый раз мы вынуждены были решать принципиально новые для себя задачи: Миндадзе в сценарии, я-на площадке. Так называемый опыт никогда не работал. Мы
289
начинали с нуля. Подряд три картины, например - «Охота на лис», «Остановился поезд» и «Парад планет» - это ведь не просто разные фильмы, это совсем разный кинематограф. Это было очень трудно. Но зато чрезвычайно интересно! Интересно бывает работать только тогда, когда нет - не Дай Бог! -самоповтора... Вырабатывать найденную жилу мне, по крайней мере, было бы просто скучно... Делать контратипы собственных картин никак не хочется.
Переходя от «Армавира» к «Пьесе», соглашусь с тобой, что в финале картины никакие точки над »!» не расставлены, что в итоге «мы расстаёмся сами с собой, такими, какие мы есть, подмигивая сами себе»... Ты не даёшь никакого точного ответа, и Слава Богу! Конкретный ответ там и вправду не прочитывается... конечно... По той простой причине, что его там и не может быть... Пьеса прочитана, а спектакль наш продолжается...
«Я не владелец ресторана, а я не Инна» - весь финал, надо сказать, изумительно покадрово продуман и просчитан... Над ним зависает такая вселенская тихая и растерянная грусть... Вот такой горестный итог всех обманных ожиданий и намерений... Жизнь - театр, где каждому предложено сыграть свою роль... А хорошим актёром быть трудно, не всякий может точно следовать своей сверхзадаче... И вот это важное ощущение постоянного соскальзывания персонажей из одной реальности в другую или из реальности в ирреальность... Поэтому торжествует обманное такое чувство, что ты что-то желанное хватаешь, уже держишь в руках, но, оказывается это совсем не то, что ты думал... Всё это особенно безупречно сделано в паре Маковецкого-Мысиной...
Мне тоже кажется, что у Мысиной всё очень точно. Впрочем, это, наверное, также лучшая роль Маковецкого. Мне хотелось бы с ним поработать ещё, но нет подходящего материала, а он актёр очень специфический, требующий для себя не двумерной картонной плоскости, но многомерного пространства.. .Вот тогда он блестящ...
Когда ты пишешь в начале главы, что поезд опять куда-то мчится, «перетаскивая пассажиров»... Мне нравится вот это твоё «перетаскивание» или «поезд жизни», и я нигде прежде такого не читал и не думал буквально в этом направлении. Но, действительно, что означает такое «перетаскивание» человека с места на место, отсюда - туда? С попыткой понять, что же с нами происходит при этом перетаскивании, как ты пишешь, «из одного места истории в другое, из одной географической точки в другую, из одних обстоятельств в другие, из истории во внеисторию и из времени во вневременье»...
Ты пишешь об этом «перетаскивании» скупо, походя, а я думаю, что это концептуальный тезис... Перетаскивание вот этими поездами... Тут ты поскромничала, надо сказать...
Знаешь, как сказал Бунин о поездах в России? «А потом мелькнул в этой белизне первый телеграфный столб... показалось... уже начало какой-то иной,
290
не степной жизни, то для русского человека всегда особое, волнующее, что называется железной дорогой»...
Ты пишешь о велосипедной прогулке Маковецкого с Мысиной - «какая чудесная космическая тоска над всем этим»... Да, наверное, значит, думаю, получилось... Мы этого добивались и с художником, и с оператором, и с двумя гениальными актёрами... и снимая, и озвучивая... И у Миндадзе это здорово написано...
Там читается прелесть такой тонюсенькой надежды, хотя мы знаем, что игру ведут два враля... Здесь, как часто бывает в твоих картинах, рождаются сложные смысловые и чувственные перевёртыши существующих надежд и предчувствуемых разочарований... Также мне лично кажется просто грандиозным в начале одинокий проезд Маковецкого на велосипеде, когда возникает ощущение, что за ним в кадре незримо воссоединяются два пространства... Вот он вышел из поезда, сел на велосипед, двинулся и можно было бы смонтировать дальше его уже дома в следующем кадре... Нет! Он подозрительно долго двигается не по дороге, но сквозь возникающее из-за длины кадра пространство, крутит и крутит педали, вглядываясь через свои толстые очки куда-то вдаль... Это всё так чувственно ощутимо, что у меня возникает ещё буквальное ощущение что за ним в кадр «вволакивается» другое пространство, от слова «волочится»...
У тебя в тексте я не помню такого слова, а оно было бы очень кстати... Вот это прошлое, которое въезжает в кадр, и от которого, как ты пишешь, «нельзя избавиться»...
Оно преследует. Ты знаешь, как странно и сложно работает на героя крупный план педалей, которые он крутит... Как выкручивание какой-то энергии, откуда-то... Вот ещё одна из особых чисто кинематографических деталей!
Согласен и с тем, как ты пишешь, что «силы наши преисполнены самоуверенности, а они так ограничены, усечены своим временем, тогда как наша самонадеянность чрезмерна в своих претензиях..» Нуда, мы всего лишь «... пассажиры этого странного поезда»...
А вот далее, когда ты пишешь, что не знаешь «аналогов в истории, когда государство отказалось бы от самого себя с такой скоростью и убеждённым напором», то это удивляет. Какие «метаморфозы», якобы, случившиеся в нашей стране, если это вполне логическое продолжение железного и единого хода нашей истории? Как же так? Это достаточно наивно...
Ну, знаешь, одно дело понимать и воспринимать художественный образ эта
291
кой поспешной «эволюции», а другое дело видеть в деталях, как русские всё сдают...
Ты же доказываешь в своих текстах историческую неизбежность всего того, что произошло с Россией и твоим народом, ты видишь предопределённую необходимость и вдруг, как девушка-голландка, перестаёшь что-либо понимать. И откуда-то появляются какие-то неясные тебе «метаморфозы»... Как это может быть, если ты чувствуешь в наших картинах такие важные вещи? Ты же сама пишешь, что «нет числа этим «комедиям», не столько насмешливым, сколько тянущим сердце тяжёлой болью, так жалко этих людей, выкарабкивающихся, спотыкающихся, снова борющихся на свой лад с невидимыми для них врагами»... Да, жалко...
Да, прожив тридцать лет в Голландии, я голландкой не стала. Душа болит о своих.
Мы другие. История другая.
Очень важно звучит для меня в «Пьесе для пассажира» тема прописанного для нас сценария жизни, когда все люди, так или иначе, становятся персонажами положенного им сюжета. Это звучит в «Пьесе» так безнадёжно отчётливо, что тянет на трагическую лирику. Это интимно и всенародно, что становится таинственной особенностью твоего кино. А каков всенародный исторический сценарий, предложенный всем нам во «Времени танцора»? Общий для всех...
ТАНЦЫ БЕЗ МУЗЫКИ И ПОСТАНОВЩИКА
«Время танцора», 1998 год
^^/ледующее произведение Вадима Абдрашитова «Время танцора» распахнётся к нам с экрана неоглядным простором кавказских гор, пронизанным и окутанным в фильме то солнечным, то особым южным лунным светом. С первых же кадров тот же поезд жизни снова притормозит теперь у нового полустанка, расположившегося у Чёрного моря, выбеленного солнечным маревом и, кажется, пахнущего прогретой южной пылью. И не почудится ничего чрезвычайного в семейной встрече мужем (Ю. Степанов) своей жены (С.Копылова), прибывшей поездом в тёплые края с тестем (С.Никоненко) и двумя ребятишками, видно, после какой-то долгой разлуки. Ну, насторожат чуть-чуть её лукавые подозрения об игривом поведении мужа в её отсутствие, на которое ей намекала «кошка Мурка»... Однако, в целом семейная встреча
293
покажется радостной, а «баловство» несерьёзным... Чего «этакого» такого мимолётного не случается порой с одинокими мужчинами в ароматах пьянящего курортного климата?
И потечёт далее вроде бы простое повествование без особых затей, таящее, на самом деле, в каждом событии тот дополнительный, скрытый от действующих лиц смысл, который снова заложен в них какой-то неведомой потусторонней «режиссурой», о которой, как и в предыдущих картинах Абдрашитова, почти не догадываются действующие лица. Всякое непритязательное по видимости и будто бы обыденное действие снова осложняется во «Времени танцора» некой дополнительной значимостью без какой бы то ни было многозначительности. Но реальность всё-таки двойственна, привнося в субъективную жизнь всякого персонажа независимую от него и общую для всех объективную данность, которая корректирует всякую из судеб. Нет-нет, да и почудится за живой, правдиво произнесённой бытовой фразой какое-то дополнительное, скрытое её значение, которое слышится в ювелирно точном актёрском исполнении, каким сверкает всякая следующая работа режиссёра, по-особому выразительном, без каких бы то ни было видимых нам ухищрений.
Уже с первых кадров «Времени танцора», погружаясь вместе с действующими лицами в сюжетно развивающееся простое бытовое действие, мы всё больше ощущаем примешивающуюся к этому действию тревогу и сгущающееся «закадровое» напряжение, которое всё плотнее подступает к нашим героям. С самого начала картины, когда побредут наши герои общей гурьбой: приехавшие и встречавшие, со всеми своими чемоданами от железнодорожной платформы к автобусной станции, то с каждым их шагом будет становиться ощутимее располагающаяся рядом с ними опасность. Станция окажется забитой слишком однородной толпой «лиц кавказской национальности», будто проживающих здесь неясной для нас жизнью, будто обосновавшихся на перевалочном пункте на неопределенный какой-то срок со всеми своими узлами и котомками. А когда наши герои проследуют подчёркнуто независимо от этих людей к своему собственному, ожидающему их автобусу, то решительно преградят посадку всем прочим, тоже страждущим куда-то двинуться гражданам. При этом действия их покажутся слишком решительно недружелюбными, не сдобренными никакими излишними любезностями. Слишком ясно обозначится нашими героями невысказанный ими «от ворот поворот» всем тем, кто, видно, вконец истомился ожиданиями хоть какого-нибудь транспорта...
Так что дальше отправятся наши герои в путь только своим интимным сообществом в полупустом автобусе по петляющим горным дорогам, довольные своей встречей и весело знакомясь с новым приятелем - водителем этого автобуса по имени Фёдор (С.Гармаш). Оказывается, что он тоже воевал на тех же кавказских фронтах, что и муж приехавшей женщины, получив там за свою бороду прозвище Фидель. Теперь для полного комплекта тех друзей-товарищей, о которых ей прежде писал в своих письмах муж, недостаёт ещё одного, третьего персонажа...
294
Лукаво подмигнув друг другу, бывшие фронтовики пообещают этой женщине, назвавшейся Ларисой, скоро представить ей и третьего сотоварища, с которым всех путешественников объединяет к тому же далёкое общее место былого жительства - КАЧКАНАР! С течением фильма именно название этого города будет звучать для новых обитателей южных земель неким общим тайным объединяющим паролем, как - АРМАВИР! - звучал паролем и опознавательным знаком, метившим всех пострадавших в крушении корабля в другой картине Абдрашитова.
Посмеиваясь и чуть кокетливо вспомнит Лариса, что и впрямь встречалась когда-то с Фиделем в их родном Качканаре, где запомнилась ему тоже с вечными авоськами в руках... Скоро им также вспомнится, что не явившийся пока третий земляк Андрей, с которым Ларисе ещё предстоит знакомство, чинил телевизоры на их малой родине, флиртуя с некоторыми хозяйками домашней техники, вызывавшими его поправить аппаратуру... Но всё это было так давно... Скрывшаяся теперь за высокими кавказскими горами обычная жизнь простых, знакомых друг другу провинциалов, перекочевавших теперь в разные заморские страны... Их сложные перемещения или «перетаскивание» поездами с места на место снова обусловлено общими особенностями выпавшего их жизни времени, таящего в себе безусловную драматическую завязку...
Третий друг-товарищ Андрей (А.Егоров), которого более умудрённые жизнью приятели именуют Андрейкой, скоро возникнет перед Ларисой на сцене местного Дома культуры участником выступления казачьего ансамбля в специфической роли, требующей не столько большого умения, сколько хорошей стати. Сюда завернут на своём автобусе его земляки вместе со встреченными гостями, чтобы присоединиться к празднованию победы, поглазеть на горячий воинственный казачий танец с саблями, исполняемый истовыми мужиками в папахах и красавицами казачками с толстыми чёрными косами в пояс и сильно подрумяненными кукольными мордашками с огромными клеенными ресницами... Ну, что ж? На сцене и впрямь торжествует не жизнь, а театр, кажется, мало соответствующий жизни, в котором всё слишком бедово азартное и слишком декоративное мешается со зрительным залом, битком набитым скорее по-рекламному бывалыми вояками. То ли и впрямь была война? То ли всё это только шуточное представление, когда не только на сцене, но и в жизни царят всё больше будто бы профессиональные «танцоры»? Уж, больно выразительны в зрительном зале их военные костюмы, будто заимствованные из костюмерной, больно подчёркнуто бравое поведение воинов...
Здесь все знакомы и - то ли вправду, то ли нет? - кажется накрепко связаны друг с другом недавними военными буднями и той самой таинственной победой, которая отмечается в Доме культуры царящим на сцене гордым национальным духом. «Любо!» - поощряет сценическое действие то один, то другой голос из зрительного зала, подтверждая полученное удовлетворение воинского духа, победоносно царящего в общей атмосфере. Может, и впрямь настало время лихих гуляний с поднимающими дух танцами, исполняемыми ловкими
295
самодеятельными танцорами? Но пока всё-таки остаётся неясным, насколько соизмеримо наступившее новое время танцоров, страстно оттанцовывающих победу, с реальной жизнью за пределами сцены? Скользя взглядом по зрительному залу, так же отслеживаемому камерой, как и сцена, начинает казаться, что сама жизнь похоже стала более походить на большое костюмированное шоу, которое «по жизни» также всё чаще исполняется наиболее удачливыми «танцорами»?
Обратим внимание, что с самого начала действие фильма для чего-то и будто бы невзначай виртуозно прослаивается разного рода танцами... Уже на перроне, только выйдя из поезда и едва коснувшись земли, тесть Валеры и отец Ларисы сразу изобразит лихие темпераментные танцевальные движения, вроде лезгинки, сопровождаемые его громкими выкриками «асса!». «Кавказ!» - разъяснит он своим внукам столь неожиданный для них и естественный для себя порыв, соответствующий данной специфической географической точке. Помнится деду былая «дружба народов», подтверждавшаяся всякими разными программами национальных танцев, которые глазели по телевизору, вспомнилось, как может не раз приплясывал вместе с недавно родными и гостеприимными кавказскими соседями. Всё ж было тогда, вроде, ничьё и наше, общее...
Финальным постановочным акцентом, подводящим итог всему торжественному представлению в Доме культуры, возникнет на сцене всадник, в папахе и бурке, на живом коне и с саблей наголо, красующийся на фоне сценического задника, записанного снежными вершинами кавказских гор. Глядя на эту знакомую старшему поколению картинку, списанную с упаковки папирос «Казбек», хранившихся когда-то в каждом втором кармане курильщика - (в каждом первом кармане хранились папиросы «Беломор», не считая простых россиян, удовлетворявшихся всё больше махоркой), - возникает трогательное и насмешливое чувство нелепости этой рекламы дружбы народов в новом контексте очень условно единой страны. Тем не менее возрадуется старик-отец и тесть, памятуя былое - «ну, прямо точно!» - победно демонстрируя своим внукам извлечённую из кармана «случайно» завалявшуюся коробку, давно ставшую историческим раритетом.
Ну, какой же здесь реализм? Кто из нынешнего поколения помнит эти папиросы, да и папиросы вообще, давно вытесненные не только сигаретами, но ещё сигаретами иностранного производства? Времена, сосуществующие, если не в нашей памяти вообще, то в нашей генетической памяти точно снова переплетаются в образных приметах «Времени танцора». Действие в фильме принадлежит не только конкретному моменту кавказских войн, но всей нашей остающейся в памяти истории, тому параллельно существующему в нас пространству, из недр которого появились все наши герои, повязанные теперь всей своей жизнью с сильно обновившимся временем.
Легко вписывая в наши дни своевольный символ другого времени, режиссёр заставляет вернуть нашему восприятию современности ту память, кото-
298
рая не может примириться, оглядываясь назад, с новыми межнациональными распрями, которые на самом деле сопутствовали России на протяжении всей её истории. В правдивых и простых реалиях бегущих каждодневных, бытовых передряг у Абдрашитова снова просматривается в аллегорическом виде формирующая их первопричина, столкнувшая с оси равновесия все нации, решившие (или вынуждаемые кем-то?) теперь заново и с оружием в руках пересмотреть все свои взаимоотношения.
В новые времена настораживает даже простое «асса!», сопровождающее танец русского мужика на кавказской земле. Не говоря уже о той тревоге, которую поселяет в нас слишком театральный и воинственный казацкий танец, что исполняется внутри подлинных кавказских хребтов, хранящих неостывающую память о череде войн, возникавших на развалинах провозглашённого интернационализма Советского Союза. Всё дальше от нас продолжает дистанцироваться то недавнее прошлое, что было символически обозначено Абдрашитовым крушением «Армавира», неслучайно озвученным тогда так обречённо звучащей перекличкой недавних былых сограждан, расположившихся по кабинкам чёртова колеса пока ещё единого государства: «Киев-Челябинск-Армавир-Ташкент-Севастополь...» Недавним курильщикам махорки, снабжаемым теперь в изобилии заграничными сигаретами, ещё был неведом подготовленный для них бесовский замысел. По Абдрашитову, уже тогда в воздухе зависло что-то такое, что окрашивало весёлые возгласы отдыхающих посетителей парка уже тревожащей нас пионерской наивностью. Подсознательно чувствовалось, что популярный аттракцион будит отчего-то ещё побочные ассоциативные мысли о карательном колесе той Истории, что уже начинала скрываться, как Атлантида, на дне морском, завязывая, как размышлял в «Армавире» Аксюта, всё новые «узелки и затягивая их морским, потуже», вокруг которых с той поры была обречена крутиться наша личная и общая судьба.
Ну, скажите мне, кто ещё в нашем искусстве к тому моменту так последовательно и полно рассказал о том, что происходило с той огромной страной, в которой жили не только мы, но и наши предки?
Следуя далее за сюжетом «Танцора», мы увидим, как привезут нашу Ларису в уютный дом, гнездящийся в горах и, как будто, гостеприимно светящийся своими окнами нам навстречу. Только выяснится, что ладный уют внутри этого дома был налажен и обжит совсем иными неизвестными нам теперь хозяевами. Женской интуицией сразу почует Лариса что-то неладное с этим домом, сильно раздосадовав тем своего мужа. Ведь старался, как мог, для неё с детишками, а теперь что ж? «Не нравится, так езжай обратно, работай за гроши в три смены, и дети пусть бегают по карьерам да хватают рентгены». Вот такой нелёгкий выбор предоставляется матери! Хотя в пылу ссоры станет нервно настаивать более прозорливая жена, что «здешние рентгены», может быть, «ещё хуже» для них... Но, оценив трезво всю глобальность опасности, под которой живём, всё же воспользуется слабая баба предложенными ей благами. Чего делать-то? Может, не зря воевали? Так что бдительно отметив
299
«опасные рентгены», всё-таки соблазнится молодая женщина, не без сомнений открывая чужой шкаф, забитый добротной женской одеждой, которая ей не снилась, возможностью надеть на себя чужое нарядное платье, чтобы покрасоваться перед многочисленными гостями, празднуя с ними свой приезд и начало новой жизни.
Прилетит на тот праздник на своём на вороном скакуне по кличке Качканар тот самый третий, недостающий земляк и красавец славянин Андрейка, что изображал на клубной сцене геройского кавказца в бурке, вторя известному изображению на папиросной коробке, чтобы познакомиться с женой друга, теперь припав также театрально-рыцарски перед ней на колено. Всякое движение Андрейки и впредь будет театрализовано до наивности не только на сцене, но и в жизни, так что несерьёзно воспринимается третий молодец, танцор, своими более будничными и работящими товарищами. Фидель ему покровительствует отечески, а Валера, Ларисин муж, смотрит на него с сожалением и снисходительной подозрительностью. Тем не менее, сильна связь троицы земляков, оказавшихся теперь вместе в кавказских горах, а уродившихся в далёком уральском городишке Качканар, пирующих и ссорящихся по-родственному. С той разницей, что Фидель и Валерка попали в кавказские земли угрюмыми, политыми кровью тропами войны. А Андрейка к боям не поспел, опоздал. Так, какое ж к нему уважение? Дитя малое, неразумное. Что взять с него бравым воякам? Артист, да и только! Как о нём не раз будет сказано? «Всё некстати, и всё невпопад»! За реальными событиями не поспевает, существуя в каком-то неясном своём измерении. Танцор! В полном казачьем обмундировании, напяливший папаху из театральной костюмерной задом наперёд, размахивающий браво оружием из реквизита, научившийся лишь чечётку отбивать да скакать лихо на настоящем коне... Только посмеяться можно над его показной удалью... Но тяготит эта роль, по жизни самого Андрейку. Чего только не пытается он вытворять, чтобы приняли его в общество на равных... Только, как увидим, мало чего хорошего получается из этих игр...
В связи с приездом жены из далёкого Качканара много гостей собралось на празднике у Валеры... Всё наш народ, отборный, соединённый в новом трофейном доме общими недавними битвами и новым местом жительства, как увидим далее, не очень спокойного для проживания. Сверкнёт на том же празднике подозреваемая Ларисой молодая соперница, грозящая её семейному счастью. «А кто ты?»- «ещё увидишь» - «а как зовут тебя?» - «ещё узнаешь». Ах, как задористо драматично прослушивается этот диалог в яростном переплясе законной жены с горячей девчонкой в мини-юбке, вступивших своими танцевальными движениями в открытое противостояние, остуженное в тесноте пира огуречным рассолом, вылитым случайно на голову молодой красавице.
Из-за противной какой-то, унизительной неприятности кликнет гордая девушка Катя (Ч.Хаматова) Андрейку, назвав его Благородием, чуть вызывающе приказав проводить её домой. С радостью согласится Благородие исполнить
300
приказ, данный красавицей, стараясь соответствовать обозначенному образу неумелым, но искренним рыцарским поведением. Водрузит он гордую девушку на своего верного коня и повезёт её домой. Такой же крутой горной дорогой, по которой так лихо скакалось ему недавно, когда обгонял на своём скакуне автобус с валеркиной семьёй, направлявшийся к их новому месту жительства. Но вновь будет в поведении Андрейки что-то чудаковатое, театральное, бутафорское, не взаправдашнее, не годящееся для современного общения, столь же неуместное в обществе, как неуместны в чужом кавказском доме русская гармошка или наши танцы в присядочку.
Очень важным равноправным действующим лицом в этой картине Абдрашитова становится пейзаж кавказских гор, горделивый своей равнодушной красотой и брезгливой отрешённостью от человеческого хаоса. Все суетятся на его фоне, а он вечен, как Космос, далёкий от житейских бурь. Величавая природа смотрится скорее безучастно декоративной. Может быть, ещё потому, что, как иронично заметил Чехов: «когда человек неудовлетворён и чувствует себя несчастным, то какою пошлостью веет от этих лип, теней, облаков, от всех этих красот природы, самодовольных и равнодушных!»
Стараясь изо всех сил быть «удовлетворёнными и счастливыми», наши победители с трудом вписывают себя в чужой пейзаж, не обжитый поколениями их предков. Да, что там пейзаж? Даже обычная, но чужая для них бытовая утварь кажется неуместной в той новой домашней обстановке, в которую так естественно погружались герои других работ Абдрашитова. В «Танцоре» вся обстановка в доме никак не сращивается с её новыми обитателями, остаётся совершенно посторонней для них, будто сторонясь и не желая с ними сливаться... Наивный Андрейка старательно играет свою роль там, где его товарищи просто стараются выглядеть естественными, не догадываясь при этом, что живут в новом времени глобальных подмен, требующем своих ловких танцоров... Танцы и праздники, подменяя неясные для них будни, помогают стереть из памяти тягостный опыт недавней войны, стронувшей недавних солдат со своих насиженных мест...
Нужно сказать, что «Времени танцора», в конце концов, по-особому повезло с критикой. Помогла тому объёмистая статья Л.Масловой «Шесть сюжетов в поисках смысла», обнаружившая такое вопиющее и надменное непонимание фильма, что потянула за собой целую серию выразительных и полных решимости «оправдательных приговоров». Один из них был провозглашён нашим замечательным классиком Виктором Астафьевым, глашатаем русской трагедии, заявившим без обиняков, что «Время танцора» - великий фильм», определивший для него «водораздел, делящий всю нашу кинопродукцию на две части. Всё остальное, что успею посмотреть в своей жизни, будет кино после «Танцора».
Пытаясь анализировать эту картину, Маслова тщетно старалась из последних сил отыскать в ней хоть какую-то «ясную идею». Странно, что такая «культурная» и «свободомыслящая» девушка задалась столь неблагодарной
302
задачей, очень далёкой от самого существа того, чем обычно занимается не реклама и не плакат, но «высокое» искусство. Ясная идея и впрямь не вытанцовывается во «Времени танцора», слагаемая в многоцветии затронутых проблем, прозвучавших даже в заглавиях рецензий, очень высоко оценивающих этот фильм Абдрашитова, разглядев в нём уникальный образ нашего времени. «В гражданской войне есть только побеждённые», - уверял Виктор Астафьев. Людмила Донец полагала, что в фильме изображены «Танцы во время чумы». А Дмитрий Быков разбирался в том «Что мешает танцору», полагая, что удержаться на «раскалённой крыше», которую так напоминает наше время, можно только пританцовывая. Тогда как умудрённый опытом Григорий Капралов разглядел в картине множество животрепещущих тем, назвав свою рецензию «Метаморфозы времени».
Всё, что рассказано в фильме, становится тяжёло осознаваемой нами, но мучительной правдой нашего нового времени, изложенной точным художественным языком, подпалённым всполохами большой народной беды. Какое богатство впечатлений таится в житейски правдоподобно изложенной истории, становящейся глубокой авторской аллегорией нашего горя! Картина смотрится признательным показанием тех преступных деяний, в которых запутались сбитые с толку простые исполнители глобальной переделки страны. Победители не враз осознают себя побеждёнными, а побеждённые, чувствуя себя обиженными, вовсе не собираются складывать своё оружие. Бессчетные пули свистят в жизненном пространстве, всё менее пригодном для жизни, странными траекториями, убивая невинных и опустошая души живых. Три товарища, три молодца, три богатыря, олицетворяющие простоту, смекалку и мечтательность, отсылают нашу память к фольклору, дезавуированному новым временем. Три «богатыря» оказываются равными жертвами растерзанной войнами земли, улетающими отдохнуть «к ангелам» с помощью марихуаны и алкоголя.
В новом разряженном демифологизированном пространстве, в котором оказались обычные люди бывшего Советского Союза, чувствовавшие себя хозяевами, но оказавшиеся переселенцами, втянуты в нескончаемые братоубийственные войны на разных уровнях, вынужденные вершить тайно предписанные им кем-то странные «танцы». Режиссёр создаёт трагический образ в клочья разодранной страны, ставшей лакомой добычей для тех, кто не может насытиться, наполняя без меры свои кошельки и удовлетворяя собственные глобальные амбиции. Теперь «слугам народа» нет нужды юродствовать дальше, стараясь представить хищное добродетельным. Новым обладателям поверхности и недр земных кажется, что незачем им больше скрываться и не от кого прятаться. Стыд потерян. Так что можно лениво отмахнуться от угрозы возможной мести, зреющей в котле народной памяти, как лава, бурлящая в затихшем вулкане, отсветы вспышек которой предостерегающе мелькнут в следующей картине Абдрашитова «Магнитные бури».
Но пока под дамокловым мечом, занесённым над головой простого люда новым витком нашей истории, народ «танцует, - по Быкову, - на раскалён
303
ной крыше», то есть почти не касаясь («родной» ли?) почвы, самоистребляясь, мало рожая и не умея связать распавшиеся нити доставшегося им времени. А вот, не дай Бог, наступит момент, когда этот народ, доведённый до ручки, что-то докумекает на свой лад про эти «нити», вооружившись наконец той самой ясной идеей, которой так недостаёт во «Времени танцора» критику Масловой, да полыхнёт кого ни попадя своим пламенем возмездия, которое может ослепить нас слишком ярким светом дальнейшего движения нашего общества, как уже бывало в нашей истории?
Вся художественная ткань «Времени танцора» плетётся Абдрашитовым сквозной нитью, вяжущейся из общего синдрома тревоги (таящегося в каждом кадре и тонирующего всю его атмосферу), привитого униженному народу его нищенским положением, легальным воровством и далёкими от него «разборками» на разных уровнях. Три товарища из Качканара с разными амбициями и разной судьбой соединены одной войной, в которой они, одинаково изувеченные, названы победителями, не умея даже разобраться, что это для них означает. В достаточно внешне спокойной по видимости атмосфере фильма возникает череда событий, определяемых странной мистической путаницей, за которой таится корысть скрытых организаторов преступлений, запутавших всех и сдвинувших всех со своих мест. Сделалось всё так, что показалось «нормальным» воевать со своими недавними добрыми соседями. С удивлением узнавать, что твоим искренним врагом становится интеллигентный грузин, детский врач, знающий русский язык и русскую литературу лучше, чем некоторые коренные её носители, вынуждаемый новыми обстоятельствами взяться за оружие, отбросив за ненадобностью вечные гуманные ценности, оказавшиеся абсолютно несвоевременными.
В напрягающей атмосфере едва притихшей за ближайшим бугром войны герои «Времени танцора», пытаясь теперь зажить мирно, отягощены тяжким смрадом брутальных мужских игр, ставкой в которых было заложено не только человеческое достоинство, но и человеческая жизнь. Мужчины, вытесненные временем из своих домов на поле военных действий, так изменились, что их жёны готовы согласиться с Тамарой (В.Воронкова), вынужденной сознаваться нынешним врагам своего грузинского мужа, взявшегося за оружие и по законам войны осуществившего этим оружием кровавую месть: «Я не знаю этого человека».
В неудачно переналаживаемых нынешним временем новых отношениях перепуталось всё: любовь, семья, дружба... Как разобраться во всех этих новых лукавых человеческих связках, в себе самом, оставаясь человеком вопреки жёстким законам агрессивной реальности, одинаково ожесточившей всех? Дружба оказывается на поверку не более чем попыткой опереться друг на друга по принципу общего качканарского прошлого, на свой лад ещё греющего память. «Мирное сосуществование» между своими и чужими похоже скорее на вспомогательный ритуал в попытке задержать распад ускользающих человеческих связей, прерванных так и не завершившейся войной, в которой
304
всем суждено оставаться жертвами страшного закона возмездия - и Тимуру, и Валерке, и Фиделю.
Поначалу кажется, что менее всего происходящее касается именно простодушного танцора Андрейки, мало чего соображающего и не участвующего прямо в ускользающих, обманных реалиях современной жизни. Тем не менее именно он совершенно неожиданно для себя становится не только жертвой, но и орудием какого-то неясного ему промысла. Ряженый казак из самодеятельности, следуя общим и далёким от реальности законам чести и простой человечности, смотрится просто нелепо, создавая своим товарищам неожиданные проблемы, всякий раз попадая впросак сам и ставя их не только в дурацкие, но и опасные для жизни положения. Не удастся никак современному Иванушке-дурачку, сидя на печке, то есть не участвуя в военных действиях и ничего не соображая в интригах, поймать свою жар-птицу, даже попытавшись, затаив обиду, сменить доставшийся ему образ «Благородие» на «Неблагородие». Попытавшись защитить своё подлинное лицо выдуманной маской, наворочает он, увы, ещё много дел, а всё равно не получит себе в награду свою царевну в седло, как показалось разным ценителям картины, слишком доверившимся её финалу. Не так простодушен автор «Времени танцора», как его герой, всякий раз неудачно «танцующий» по жизни.
Трудно не заметить, что «Время танцора» завершается двумя финалами. Одним настоящим, а другим сказочным, вымечтанным Адрейкой. Настоящий финал не оставляет ему никаких особых надежд на светлое будущее. В настоящем финале мы видим, как тяжело и безо всякого вдохновения, многое пережив, танцует Андрейка, отрабатывая хлеб насущный, в валерином ресторане, облачившись для развлечения иностранных туристов в военную форму. Так танцует, что кажется оттанцевалась его наивная душа, столь долгое время расположенная к добру. Только внешне буйный танцевальный номер исполняется уставшим танцором с тусклым, потухшим взглядом. Его белозубая голливудская улыбка «на камеру» кажется лишь приклеенной для зрителей к его безучастному лицу. Мы видим перед собой вовсе опустившегося, разочарованного в жизни человека, чей никак не утешающий нас образ будет усилен следующим кадром его усталой, перетруженной спины на среднем плане. Вот он сидит, сгорбившийся у стойки бара, вяло полуобнявшись с проституткой, видно, коллегой по ресторанному бизнесу...
Отработав свой номер, поплетётся затем Андрейка с работы домой на своём коняке не лихим уже наездником, но унылым всадником. Хотя будет он облачён при этом в тот же обязывающий к лихости театральный костюм, папаху да бурку, да только конь его будет вяло перестукивать своими копытами ту дорогу, вглядевшись в которую, обнаружатся те следы, что когда-то были оставлены в мягком асфальте копытами ещё гордого его Качканара... Как давно это было, когда, обезумев от горя, он пришпоривал по этой дороге его бег, скрываясь от обманувшей его любви, как можно быстрее. Эта важная визуально-значимая перебивка кадров по-особому акцентирует второй, будто
306
бы, «счастливый» финал, в котором только примерещится нашему герою тот же самый танец, окрашенный трепетом его воспоминаний и мечты о своей любимой Кате. Мелькнут тогда в голове у Андрейки всего лишь утешающие его картинки нового, счастливого явления его Царевны, якобы, вновь явившейся ему уже «во спасение» и прервавшей опостылевший ему вконец танец решительной и желанной командой: «Вставай! Что же ты? Коня!». И тогда, обезумев от счастья, рванёт Андрейка вон из этой осточертевшей ему «ресторанной» жизни, выкрикнув в пространство свою мечту: «Рассол... конь... и женщина»... Любимая навсегда женщина, которую в мечтах своих он водрузит на лихого скакуна и понесётся вместе с нею, стремглав, унося её всё дальше от беспросветно унылой реальности в это самое пространство мечты, сквозь моря и горы, и синие долы... Но ещё... чтобы зрители не очень обольщались сказочным финалом... последуют ещё такие далёкие от этого места города и скоростные автодороги, возникающие последним фоном его завершающего проезда с гипотетической невестой, свидетельствуя о другой, «чужой» и потерянной для него жизни.
В самом названии фильма - «Время танцора» - уже заложена определённая двусмысленность. Ведь танцор, как таковой, кажется, не может определять время. Или настало такое странное время, которое можно насмешливо определить какой-то гипотетической принадлежностью танцору? Тому, который ловко танцует, успешно всякий раз попадая в лад колдобинам своего времени? Так или иначе, но фильм полнится разнообразными танцами: на полустанке, на сцене, дома, в ресторане, на площади и на взморье под фонарём. Танцы как удовольствие. Танцы как радость и праздник. Танцы как побег от реальности. Танцы как забытьё. Танцы, как заработок. Танцы как специфический стиль жизни и выражение очень «неоднозначных» чувств. В танцах, порой, проясняется многое.
Как было уже отмечено выше, сложное вторжение театрального в каждодневное носит у Абдрашитова особый, философски осмысленный характер. Такой персонаж, как Андрейка, «по-народному» просто «ряженый». И является он зрительному залу на клубной сцене не танцором как таковым, но только фигурантом живой картинки. Празднуя приезд Валериной жены Ларисы, его переплясывает старый тесть. А в финале суждено новому танцу стать источником заработка. Ох, нелёгкого... Так что видится нам к концу натруженным и безрадостным народный танец «ряженого» с лихой присядочкой на радость чужакам, посетителям ресторана, купленного другом Валерой совместно с недавним врагом «кавказской национальности». Сложные, заново складывающиеся деловые конфигурации требуют той особой хватки, отсутствие которой не позволяет Андрейке стать «героем» нового времени, иронически обозначенного принадлежностью танцору. Тому танцору, что умеет выписывать танцы покруче, соображая, как обуздать новые времена. Заглавие фильма намекает на тех, кто умеет танцевать нужные танцы, следуя известной мудрости «хочешь жить, умей вертеться». «Благородие» со своими ста-
308
рательными танцами лишь скудно зарабатывает себе на жизнь, оказавшись в символическом смысле плохим танцором, не умеющим приспособиться к тем новым условиям, в которые так удачно вписался Валера, обезножевший от ранения в позвоночник, но удачно вершащий свой деловой «танец».
Именно Валере никакая хромота не помешала оказаться довольно искусным танцором текущего времени. Зато совершенно не востребованной оказалась добрая, суетливая душа Андрейки, оценённая только случайным горским врагом, которого он отпустил на свободу из чувства простого сострадания. Но, последовав лишь чистому зову своего сердца, подсказавшего ему отпустить на волю уязвлённого врага, Андрейка нарушил правило общей фигуры большого танца, предписанного временем. Качнул хрупкую симметрию силой завоёванного равновесия отношений. Нарушил течение событий, совершив всего лишь «нормальный» и бескорыстный поступок. Не умел просчитать все его последствия, которые определились неучтённым им законом мести, предписывающим, несмотря ни на что, возвратиться к виновному карающей пулей, хоть и предназначенной для него, но угодившей (случайно ли?) прямо по назначению, то есть в Фиделя, застрелившего, на самом деле, хоть и «мокрушника», но спасителя и боевого товарища Тимура (З.Кипшидзе)... Как там у Окуджавы? «Пуля дырочку найдёт»... и самую, что ни на есть правильную. Вот такая сложная причинно-следственная связь. Оторопь берёт от таких «законов арифметики», как говорил Раскольников, или неведомых нам «сценариев» Судьбы, которая не учла, уложив выстрелом Фиделя, что всё было спровоцировано случайно всё тем же незатейливым танцором Андрейкой, перепутавшим своим безответственным простодушием сложную взаимозависимость жизни и смерти...
Преступления и наказания вновь оказались во «Времени танцора» в сложном взаимодействии причинно-следственных связей, меняя местами или взаимозаменяя причины и следствия.
Всякий новый танец, продемонстрированный во «Времени танцора», строго соответствует контексту драматургической задачи, наполняя кадр тем нужным многосложным содержанием, которое таит в себе реальные противоречия. Жизнь как сплошной танец, декорирующий всю гамму переживаний от радости до чувственности, от лирики до притворства и лицедейства. Все мы, будучи «пассажирами» жизни, оттанцовываем всякие свои «пьесы». Танец с саблями, мастерски исполняемый в клубе ряжеными казаками с молодецкой удалью и азартным артистизмом, воспринимается нами двояко. В зале, как совсем обычное самодеятельное представление воинственного танца в народном исполнении со слишком очевидной для нас идеологической задачей. Нужно подкрепить молодецкой удалью танцоров самолюбие сидящих в зрительном зале победителей, навсегда отягощённых реальными потерями и трудным военным опытом. Но в то же время очевидна для нас некоторая фальшь и натужность клубного веселья. Ведь знаем мы, что до подлинного мира далеко, и всё очень непросто за пределами этого клуба. А потому, как
310
обычно у Абдрашитова, всё в кадре двойственно по смыслообразующим компонентам, что вызывает целую гамму противоположных чувств, заставляющих с особой горечью отметить те картонные декорации, которыми, как ширмой, пытаются прикрыть подлинный драматизм жизни. Выше я уже отмечала, как странно воспринимается задорный перепляс новых русских хозяев в чужом доме, притаившемся в кавказских горах и принадлежавшем недавно совсем другой семье. Как драматичны новые традиции и новый уклад, вторгнувшиеся в чужое пространство! Также, как было уже замечено, языком нового для этих мест перепляса по-особому выразительно выясняют свои отношения на чужбине две соперницы: любовница и жена.
Глубоко лирический и располагающий к самой доверительной интимности танец Тамары с её новым «властелином» Андрейкой (у моря под тусклым светом фонарей), многое проясняя, не может соединить двух совершенно разных, глубоко раненных, больных своим собственным горем и, по-существу, совершенно несовместимых людей. Эта замечательная по выразительности сцена, когда в сумраке ночи гуляющие парочки начинают тянуться с волнореза, глубоко вдающегося в море, к животворным радостям побережья с ресторанчиками и танцевальной площадкой, как те самые счастливчики с «Армавира», что спаслись прежде с тонущего корабля, не канув в морских глубинах... Ассоциация с «Армавиром» удваивается тем безнадёжно одиноким, вновь никого не соединяющим танцем, который заставляет вспомнить сходную попытку разрозненных людей, уцелевших после крушения, главным образом, женщин, прикрытых больничными одеялами, заново воссоединиться, поддерживая друг друга, в грустном топтании под музыку под электрическим «лунным» светом...
По-особому драматично зазвучит также в другой сцене выстукиваемый на бубне Тимуром призывный любовный сигнал, подаваемый им своей любимой жене Тамаре в своём собственном доме, куда он был вынужден проникнуть тайно от поселившихся в нём не «победителей», но завоевателей. Тревожный ритм этого бубна звучит не столько ностальгически утверждающим воспоминанием былого счастья, могущего снова объединить супругов, разлучённых военными тропами, сколько терзающим горем, которое разделило их, предвещая страшную развязку уже случившегося за кулисами их жизни. Также двусмысленно воспринимается сложный по внутреннему эмоциональному заряду непременный «парад победы» в маленьком кавказском местечке, громко чествующий победителей-завоевателей, также озвученный тревожным ритмом топота коней, оседланных теми же ряжеными казаками, и отчего-то не предвещающий никакого безоблачно счастливого завтра... Лукавая насмешка Фиделя и Валеры, адресованная вновь ряженому Андрейке, тоже покажется неоднозначной, когда мы услышим затем уже в ресторанчике, где «отгуливают» победу, озвученное пугающее предостережение недавнего врага и теперешнего валериного партнёра по бизнесу, щедро разливающего победителям водку: «Нет, не зря воевали. Наши дети всё равно опять встретятся, как мы», то есть в бою...
312
Трое качканарцев, друзей-приятелей, «дураков», как снисходительно назовёт их умудрённый опытом другой отгремевшей уже жизни Валерин тесть, лишь мечтают о своём маленьком счастье и нормальной жизни на чужом, недавно политом кровью берегу, не умея разобраться даже со своими женщинами. Опыт старика уже не работает, потому так грустно и естественно воспринимается его вполне символический уход со сцены жизни. Кто-то блефует, кто-то жертва своего или чужого блефа. Каждый борется со своими «осколками» ранений, оставленных войной, вынужденный до сих пор сопротивляться против не отступающего невидимого врага. Тревога разлита по всему художественному тексту, воспроизводящему то время, которое иронично обозначается принадлежностью, казалось бы, такой мирной профессии, как танцор. За привилегии «нормальной» ли жизни приходится воевать то пугачом, то подлинным пистолетом. Неутешителен и некрепок установившийся сомнительный мир. По-театральному условный...
Казалось бы, как дружно и весело выходят качканарские друзья, все вместе, со своими любимыми, детьми и членами семьи, к песчаному побережью, глядя, как расстилается перед ними где-то в далях морских прекрасное будущее, веселясь по-молодому сами не знают чему. На самом деле, судьба каждого из них скрыта за горизонтом. Никто не знает пока, что Фиделя, заполучившего, наконец, свою любимую женщину, скоро убьют. Что Валере, мечущемуся между любимой, флиртующей с Благородием вроде бы для отвода глаз, и женой, пообещавшей ему третьего ребёнка, суждено оставаться в семье. Не знает своего тусклого будущего ничего не подозревающий пока Благородие, до смерти влюблённый в ту прелестную девушку, что принадлежит другому. Не знает, как скоро ему предстоит убедиться в её обманчивых играх и стать невольным виновником гибели своего друга. Так что перед новыми жителями красивого кусочка земли расстилается всё-таки не «ласковая и тёплая» морская гладь, привидевшаяся некоторым невнимательным критикам, а море, начинающее пениться бурыми волнами, бурное и опасное предгрозовое пространство, не сулящее им в ближайшем будущем ничего хорошего.
Кажется, что единственной сохранённой ценностью, не утерянной нашими героями, оказалась всё-таки их способность любить, переживая чувства, редкие по накалу страстей для нашего кинематографа. Редкие и с трудом выживающие в «плохо оборудованном» для любви странном послевоенном пространстве, таком, на самом деле, ощутимо взрывоопасном и не обещающем никакого мира. Всякая человеческая судьба скроена в фильме по жёстким лекалам военного времени. За каждую пядь успешности тоже придётся бороться по жёстким законам бизнеса. Всем тяжело на свой лад, и все связаны друг с другом общей бедой.
Бывшая учительница русского языка и грузинская красавица Тамара оказалась заложницей своего мужа Темура, бывшего прежде детским врачом, но вынужденного теперь ступить на тропу войны, взявшись за оружие, чтобы защитить свой дом. Судьба разметала супругов по разным полюсам, погубив
313
их маленького сына Русланчика, вынужденного «отправиться в путешествие» вместе с матерью через снежный перевал, ставший (о ужас!) его могилой. Сколько таких могил по бывшей «нашей» земле! Валера, разъединённый фронтом со своей семьёй, находит не просто новую горячую любовницу, но ещё ту самую медсестру, с которой их соединяет не только общий особенный военный опыт, но ещё её сострадательное умение не раз спасать его от последствий тяжёлого ранения в позвоночник. Их выстраданная любовь без будущего возникла в тех экстремальных условиях не знаменитой войны, когда особый случай определяет судьбы. Но военный экстрим сменяется буднями, заставляющими Валеру совершить новый выбор между чувством и долгом, страстью и относительной супружеской верностью.
Одну из самых мощных и сложных по ощущениям лирических сцен фильма, смело приближенную к нам камерой в физиологической полноте мутящих разум страстей, снова никак не поддающуюся «однозначной» расшифровке, Лидия Маслова умудрилась назвать «изнасилованием Кати Валерой». Удивляющая глухота восприятия редкого по драматической выразительности кадра, живописующего так откровенно и целомудренно любовную страсть, бьющуюся в силках отчаяния, чтобы отступить перед чувством долга. Трудно решать, что и с чем можно сравнивать, но гибель любви иногда также трудно переживается, как гибель собственного ребёнка, погибшего только потому, что отцы вынуждались особым временем взяться за оружие. Тамара так же оказывается в двойных тисках, не умея разлюбить своего мужа и не имея внутренних сил его простить. Когда-то он был замечательно лечившим врачом, научившимся впоследствии так же успешно убивать, предопределив своими, пускай ответными и вынужденными действиями, гибель их сына.
Опираясь на замечательные сценарии Александра Миндадзе, Абдрашитов создавал и оттачивал свой собственный авторский стиль. Это становилось всё более очевидным, когда по сценариям Миндадзе один за другим стали возникать работы Алексея Учителя и Прошкина Младшего, не говоря уже о его собственных режиссёрских работах. Здесь не место для их оценки, но можно с уверенностью сказать, что это совсем другое кино. Фильмы Абдрашитова, внешне сдержанные и строго аналитичные, всегда одновременно глубоко чувственны своим непосредственным сопереживанием нашего общего времени. Режиссёр снова и снова разворачивает перед нами сложную структуру описанных в сценариях событий, воспринятых им всегда изнутри чувственно страстно. Самые острые социально-психологические проблемы, сопутствующие эволюции перехода советского общества в постсоветское, отслеживаются внешне строгим, но тайно страдающим Автором в реалиях простых и узнаваемых, но очень далёких от бытописательства, приближенных скорее к их мифологическому значению. В нашем кино это поистине уникальный опыт глубокого художественного исследования человека в динамике и контексте, прежде всего, его общественного существования, которое само по себе становится едва ли не главным действующим лицом! Воссоздавая и исследуя
314
те скрытые механизмы, которые целенаправленно разрушают то или иное общество разного рода идеологизированными мифами, Абдрашитов скорбит (не побоюсь этого слова!) о бедной человеческой участи в тисках этих необратимых процессов. Того вселенского обмана, который вновь и вновь берёт человека в заложники ради каких-то своих целей, разрушая его и вынуждая в разных обстоятельствах к той бесконечной мимикрии приспособления, которая чревата для него маленькими трагедиями.
Аналитическая обстоятельность Абдрашитова может только по ошибке показаться кому-то беспристрастной или бесстрастной. На самом деле, эта «обстоятельность» кровоточит изнутри личностной сопричастностью режиссёра к очевидному для него малоутешительному движению нашего времени. Бог замолкает тогда, когда человеческая жизнь становится лишь необходимой разменной монетой в так назваемых «созидательных» битвах. Они вершатся с целью будто бы социальной целесообразности, обрушивая, на самом деле самые тягостные последствия на головы нищающих мирных граждан. В свою очередь они провоцируют вполне реальные, новые «страшные и беспощадные» бунты обманутых или обманувшихся людей...
В следующем фильме Абдрашитова «Магнитные бури» речь пойдёт именно о таком бунте, которым попытаются защитить свои права мало чего соображающие работяги, вроде Валеры или Фиделя, полагавшие, что уже отвоевали себе право на «мирный» труд. Поди ж ты! Не видать им спокойной жизни на «своём» заводе, оказавшемся вдруг чьей-то собственностью. Именно о таких работягах поведёт свою речь Абдрашитов в следующем фильме, заставляющем вновь вспомнить не только Валеру или Фиделя, но и Белова, словно перекочевавшего из «Охоты на лис» в нынешние лета. Ведь учуял уже тогда, в стародавние советские времена, примерный такой заводской рабочий какие-то странные внутренние сдвиги в своём «рабоче-крестьянском государстве», просигналившие ему о каких-то неведомых, тёмных силах, таящихся за кулисами официального фасада. С горьким удивлением уже тогда учуял Белов будто отчуждавшуюся от него действительность, таящую под видимым покровом «нормальной» жизни полную контраверзу мифам, обозначенным для него красными лозунгами.
Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым
А теперь хотелось бы знать, как вы с Миндадзе дошли до идеи «Времени танцора»?
К тому времени, в общем, стало окончательно ясно, что все эти войны на Кавказе - не такая простая вещь, как преподносилось официальной пропагандой. Россия плотно завязла в них. Уже и в СМИ стали признавать эту про
315
блему. И вот в какой-то газете или журнале Миндадзе увидел фотографию: где-то на юге, на заборе перед домом висело объявление: «Дом занят казаками». Это было выразительно, мы стали как-то говорить на эту тему, фантазировать... И сразу стало ясно, что в этом доме живут не какие-то жлобы, а, вообще-то, нормальные люди... Стали думать дальше, и мысль пошла острее, что казаки эти должны быть не настоящими, а какими-то деланными, которые, на самом деле, пришли сюда с севера, где холодно, где морковка зелёная... Д здесь море... И хочется им, чтобы их детки загорали...
Откуда вам всё это в голову пришло?
А ты разве не знаешь, что на севере России морковка не краснеет? И на юге эта морковка гораздо толще, потому что страна - СССР - была вообще огромного размера... И вот какие-то люди, наверное, захотели перебраться на юг, к морю... Обычные, нормальные люди. Повторюсь, кстати, ещё раз, что в наших картинах никогда не было негодяев, а фильмы, наверное, были о том, что люди, вполне заслуживающие счастья и нормальной жизни, почему-то этого не имеют... И вот, всё-таки, почему?..
Ах, вот как здорово можно сформулировать всё главное коротко!
Далее возникал вопрос - так что же теперь происходит с этими людьми? Интересно! А как эти дома им достались? Может, у них что-то с их женщинами не так? Началось у нас - как бы это сказать? - брожение мыслей... Так что, в итоге была написана заявка на сценарий, который потом сильно отличался от неё. В итоге Миндадзе написал один из лучших своих сценариев, сложнейший по устройству и по задачам.
Картина предстояла сложная, очень многонаселённая, таких мы ещё не делали. И с особой какой-то природой условности, при абсолютной достоверности жизненных реалий.
Актёров для этой картины тоже хотелось свежих... свежих! Так появилась ещё никому неизвестная Чулпан Хаматова... Было ясно, что это талант! А талант упускать жалко! Хотя она была совершенно не та Катя, которая в сценарии... Но в картине, оказавшейся сдвинутой в некий как бы романтизм, она оказалась именно той, которая нужна! Были, конечно, другие претендентки, хорошие актрисы, например, замечательная Дина Корзун, но именно Чулпан была ближе всех к особой природе фильма. Где гарцуют верхом, где кавказские ночи, где светит луна, где люди в военных формах празднуют праздники... Там расхаживают «господин есаул» и «господин хорунжий»... Там пляски и подчёркнутая удаль, которые потянули в сторону какой-то своей, особой природы выразительности...
Не знаю, конечно, как выглядела бы картина с Корзун, но в исполнении
316
Хаматовой Катя производит, конечно, очень сильное и неожиданное впечатление... Тем более, её тогда никто не знал... Здорово!
С утверждением на эту роль Хаматовой образ Кати, действительно, очень изменился к полной неожиданности всей съёмочной группы. Д началось всё с того, что мне принесли кассету, на которой какая-то девочка в смешном костюме играла какого-то ребёнка... Но роль Кати изначально была возрастной, а здесь какая-то девочка. Но талант чувствовался... Так что попросил привезти её на студию для знакомства, посмотреть, как она да что... Когда привезли, то выглядела она лет на тринадцать, не больше... Начали разговаривать, слово за слово... Чувствую, вижу-талант...
Вся группа моя была весьма смущена... Но пробы прошли замечательно, Чулпан блеснула, как-то возраст набрала в паре с Юрой Степановым...
Кстати, забегая вперёд, мне кажется, ты правильно замечаешь, что уже с первым приходом Валеры возникает сначала удивление от странного сочетания здорового мужика и хрупкой очаровательной девочки...
Ну, любовь - дело странное, потому что через минуту общение их соединяет тесно и бесспорно... Без побочных аргументов...
Да, эта сцена не нуждается в доказательствах. Она условно безусловна. И Чулпан просто молодец! Меня тоже трогает отмеченная тобой сцена в окопе, когда она курит, а потом поднимает Валеру на ноги. Я вижу перед собой не девочку, а вполне взрослую женщину. Хотя, когда я запускался с картиной, многие меня предостерегали ещё потому, что у меня начинали впервые сниматься сразу четыре театральных актёра. Такие опыты не очень-то приняты в кино... Риск большой... Четыре дебютанта - это много.
Так как ты нашёл Юрия Степанова? Тоже не прямое решение...
Я увидел его на сцене у Фоменко и подумал -любопытная фактура! А, может быть, эту роль решать с ним? Может быть, всё-таки сдвинуть линию бытового правдоподобия и реалистичности в сторону более условной выразительности? А тут ещё появилась Хаматова, подталкивающая в том же направлении..ГВ общем, эта большая и сложная роль Валеры стала для Степанова замечательным дебютом в кино.
Ещё нужен был актёр на такую роль - полу- Иван-Царевич, полу- Иванушка-Дурачок... Вот таким он должен был быть... Его мы искали довольно долго, потому что условность этого образа очень сложна по своей природе. Но, к счастью, появился однажды Андрей Егоров...
Так что, кроме Чулпан Хаматовой, во «Времени танцора» дебютировали Юрий Степанов, Андрей Егоров и Вера Воронкова, которая мне очень понравилась на пробах, в качестве этой Тамары- Бэлы, кавказской жешины...
318
Хорошая, крепкая получилась эта роль... И Зураб Кипшидэе, грузинский актёр из Тбилиси, мой товарищ ещё по ВГИКу пришёлся ей в пару.
Ещё фактически дебютировала Лоскутова в роли Ольги, партнёрши Фи-деля-Гармаша.
И, можно сказать, вернули на экран Светлану Копылову... Она не снималась давно, сверкнув когда-то у Рыбарева в «Свидетеле», потом в картине «Меня зовут Арлекино» - был хит такой... Очень хорошая артистка... Жена Валеры тоже получилась не такой, как в сценарии, но в пасьянс, разложенный в картине, она точно «вкладывается».
Что говорить? Картина огромная и чрезвычайно населённая персонажами, более населённой у нас не было... Она сложно складывалась и операторски, много ночных съёмок... а в этих самых ночных съёмках ещё и цветовой сдвиг... Опять настоящим профессионалом, замечательным художником проявил себя оператор Юра Невский. И рядом с ним - мои верные друзья-единомышленники, знаменитые художники - Александр Толкачёв и Володя Ермаков. Во многом благодаря им вся география съёмок - Одесса, Феодосия, Сочи и павильоны превращена в единое, выразительное, пространство кинокартины.
Совсем другим, чем молодые ребята-актёры, и принципиально важным исполнителем был Гармаш... А также в общем вареве должен был оказаться Серёжа Никоненко, со шлейфом зрительских ассоциаций с другими его ролями в кино... Мне кто-то сказал потом об актёрах, которых было так сложно собрать вместе, что они прямо светятся на площадке. Вот такая постепенно собралась команда... и двое мальчишек...
Которые «хватают рентгены»...
Конечно, у театральных моих дебютантов опыта кино не было никакого. И поначалу это сказывалось весьма. Долго не могли начать работать ритмично. Но народ они талантливый, освоились, укрепились... Снимались с удовольствием, интересом. Так понимаю, какую-то киношколу у меня они прошли..
Часто говорят или я часто вижу сама, как плохо снимают русские эротические сцены. Ну, не умеют! Но до чего эротична во «Времени танцора» вся эта сцена в окопах, где сошлось всё, и муки, и страсть... Вроде бы, что хорошего могла найти эта прелестная девчонка в этом не очень красивом, неуклюжем дядьке? А побеждает снова никак не объясняемая правда взаимоотношений этой пары... Как там говорит Катя во время первого для нас своего свидания с Валерой? «Иди ко мне, Валера, разберёмся.......
Да, это, наверное, неплохо получилось...
Кстати, мне вспомнилась в этом контексте также сделанная очень мягко семейная сцена «соблазнения» Белова его женой в «Охоте на лис»... Тогда
319
тоже кто-то умудрился писать, что жена «не может любить» такого «изверга», как Белов... Как это? Разве она его не любит, когда у них такие ладные супружеские отношения? Просто она смущена и, не понимая, что с ним происходит, ревнует его... И вся эта сцена её заигрывания с ним так трогательно, тонко и наивно смотрится... Как школьники...
Конечно! После этого застолья с «кислым» вином, с такой любовью подготовленного...
Во всех подобных сценах в твоих фильмах взаимоотношения прочитываются на разной глубине, будто проплываешь по всем закоулкам чувств... Кто-то из рецензентов «Слуги» писал также, что Шакал «насилует» свою жену... Что такое? Ведь, на самом деле, очевидно, что это частичная правда, ну, не вся... там посложнее...
Взаимоотношения Клюева и Марии в «Слуге» не так просты, я согласен...
Там Шакал ещё в создавшемся для него горестном положении, как собака, свою территорию метит... Ставит точку над i. Ясно утверждает при всей заданной двусмысленности отношений, терзающих его - моя!
Да, там сложные, другие коды... Розанова и Беляев очень точно всё сыграли, сложную тему при как бы простоте задачи... Возвращаясь, однако, к любовной сцене Валеры и Кати в окопах. Ведь у меня для этой сцены был снят очень выразительный план. Ну, просто мощный в литературном смысле. Два человека, которые не могут оторваться друг от друга, в окопе... показаны сверху на земле, изрезанной этими окопами... На общем плане в кадр входило и само море и эта земля, изрезанная, исполосованная войной - получилось сверхвыразительно! До последней складки материала у меня не было достаточной решимости выкинуть этот план... ну, замечательно по выразительности... Тем не менее, я всё-таки выбросил его... Потому что он слишком претендовал на литературное обобщение. Он был больше и общее того, что заключено внутри действия, слишком расширяя и обобщая его смысл. А нам нужно было оставаться с нашими героями, рядом с ними, вплотную к ним...
Во всяком случае, оставшаяся сцена исполнена той сильной страстью и любовью, прямое проявление которых у нас, как я заметила, снимать, как правило, не умеют...
Думаю, это не случайно, и связано вообще с русским менталитетом.
Ясно. А где вы, собственно, снимали «Время танцора»? Ведь времена, как я понимаю, наступили уже непростые...
320
Снимать «Танцора» мы ездили на Украину, и на границе беспредельнича-ли таможенники. Ведь мы везли казачьи мундиры, шашки и сабли. Конечно, все документы были, но таможня «гуляла»... И однажды я вспомнил, что в паспорте у меня местом рождения назван Харьков. Как ни странно, но это помогло. «Хлопцы, вы что ж, своих-то?!» Ну, конечно, за взятки, которые вынуждена была давать дирекция.
Снимали и в Феодосии, и в горах у Чёрного моря, под Сочи. Павильоны -в Одессе. В общем, Юг. И море, к которому герои стремятся...
Когда работали над сценарием «Времени танцора», я наткнулся в «Евгении Онегине» - знаешь, на какой эпиграф? - «Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому умирать не больно». Это из Петрарки. Это к главе, где гибнет Ленский. Каково? Многое понимал Александр Сергеевич, гораздо больше, чем мы думаем. А что Петрарка мог знать о Севере? Ведь совсем не там ходили эти Лауры, которые в 15 лет уже были южными женщинами, а там, где вечное синее небо и вечная весна?. Как это могло быть понято? И как Пушкин угадал такой далёкий зигзаг? Как раз о том самом сплине, о котором ты пишешь, от которого «умирать не больно»...
Ещё, кстати, у тебя интересное соображение о друзьях из Качканара, когда ты пишешь, что их: «мирное сосуществование лишь вспомогательный ритуал». Это точно и напоминает мне текст о картине, написанный писательницей Светланой Васильевой в «Октябре», где она тоже говорит, что «обмен мужскими рукопожатиями, обнимания, задорная перекличка - это именно вспомогательный ритуал»... Этот фильм делался с надеждой, что этот мотив будет услышан... Эти ребята, наши герои, на самом деле, как мужественные, так и беспомощные... Жертвы... жертвы! Хорошо, что это чувствуется в кадре в полной мере и сложности... И на берегу стоят в обнимку, и погода вроде фартит, и весёлые такие, и всё впереди... ан, нет! Незаметно, но тяжело и вязко внедряется что-то другое... Верно!
Да ты права: объеденены они общей войной. И очень точно о финале про Андрейку, который проскачет на своём коне: «сквозь города и скоростные автодороги, свидетельствующие о другой, чужой, потерянной для него жизни»... По-моему, именно так это и делалось нами.
Так ты согласен со мной, как автор, в моих разногласиях со многими критиками в трактовке финала, когда они пишут о буквальном вознаграждении Андрейки Жар-Птицей, то есть его невестой Катей?
Ну, а как можно иначе трактовать, если он, как ты справедливо пишешь, и правда проживает «чужую, потерянную для него жизнь»...
Я рада, что совпадаю с автором. Так или иначе, но мне это показалось очевидным. Ведь до явления ему Кати он видит в асфальте застывшие, условно говоря, во времени следы от копыт своего Качканара... То есть следы про
321
шлой, не случившейся с ним любви, оставленной семейному Валере... Это всё так больно звучит у него в памяти...
Безусловно, прожита «чужая, потерянная для него жизнь». Этим всё сказано.
Четыре истории любви, четыре влюблённые пары, любовь, измены, дружба...Очень драматическая энергетика. При этом - солнце, море, Юг... Талантливые, очень интересные актёры, замечательный сценарий, прекрасная музыка Виктора Лебедева... И всё это вместе как-то тащило, тащило картину... Ну, и вытащилось, я надеюсь, в конце концов...
Был долгий и трудный подготовительный период. Подбирали актёров, учили их верховой езде, готовили танцевальные номера, искали натуру...
В Грузии уже нельзя было снимать?
Это снималось в предГоузии, то есть у «подножия» Гоузии, которая видна в кадре... И вот мы там снимаем, живём в в пригороде Сочи. И знакомимся с женщиной-грузинкой, приторговывавшей около гостиницы. И выяснилось, что судьба её - совсем как у нашей Тамары: беженка, муж ушёл в горы, ребёнок погиб... Как будто из сценария! И вот это всё вместе было собрано там... вот эта радиация вот этой войны... То есть ясно, что снимаем о том самом, о том... Всё подтверждается, и всё наполняется реалиями... Одни оказались беженцами, а другие поселились в их домах. Это было зорко замечено Миндадзе на фотографии, опубликованной в газете, как я тебе рассказывал... Такой себе дом среди зелени и написано - «дом занят»... Одних, уж, нет, а другие селятся... не одни... семьи вызывают...
Ну, конечно, гастарбайтеры в Европе тоже в одиночестве не сидят...
Всеобщее переселение! В атмосфере которого жены заходят хозяйками на чужие кухни... Всё переплелось... Разворачиваются мелодраматические истории, интриги, сюжеты для других сценариев...
Но картину, абсолютно гуманизированную, единственную на то время об этой войне, кое-кто принял весьма враждебно. Один кинодеятель заявил на пленуме СК, что картина «дурно пахнет»...
Московские ряженые казаки пришли на премьеру в Киноцентр...Сели в первом ряду, нога на ногу. Зорко посматривали. Кончился фильм... Мы позвали их за сцену, посидеть за общим столом, поговорить. Пошёл только один, сидел, молчал. Уходя, крепко тряс руку Гзрмашу и Степанову...
А тут и в прессе началось после статьи Анненского... Хотя дело было не в Анненском, как таковом, но в общей атмосфере вокруг фильма, оказывается, чуть ли не антирусского. А критик задавал авторам главный вопрос: «Почему это русские офицеры у Пушкина, у Лермонтова совсем по-другому себя ведут?».
322
А что ты ответил?
Ответил: «Потому, что у них - русские офицеры! А вы не поняли, что герои «Танцора» из города Качканар? И никакого отношения к русскому офицерству они не имеют?». Потом уже в ответ всему этому очень точно написала Люда Донец.
Хотя, как ты правильно заметила, после уничижительных статей не только Масловой, но и Анненского, вокруг картины развернулись прямо-таки критические баталии. И почти случайно посмотрел картину Виктор Петрович Астафьев. И был весьма впечатлён ею, как-то по-молодому и горячо отреагировал, очень высоко отзывался о фильме. И по телевидению громко выступил в её защиту. Потом написал для Искусства кино. Позвал меня с картиной в Красноярск, там хорошо прошла премьера «Танцора».Много говорил о ней, когда я был у него в Овсянке. Интересно было очень. Но это -другая история. И вовремя тогда же и точно ты ответила другому критику, не понявшему картину совсем.
Словом, чего-то такое потом с картиной происходило. Её достаточно широко по нынешним меркам показывали в Москве... Она много чего наполучала по фестивалям... В Сочи получила Гоан-при, Нику, Овнов... Была на фестивале в Локарно, получив там Спецприз жюри, и как-то вообще была там замечена...Хорошо и глубоко писали о фильме в «Русской мысли» в Париже. И теперь время от времени её всюду показывают... То французы позвали, то в Тбилиси... И только телевидение твёрдо не показывает фильм. Сказали ещё тогда: подождём, вот как утрясётся там всё, так и покажем.
В картине, конечно, есть такое вязкое и разряженное пространство... такое, знаешь, накопившееся внутри опасное чем-то напряжение...
Да-да... при такой обманчивой видимости туристического рая, обманчивости внешне светящихся актёров...
Играющих по жизни не свои роли... Так получается, что, начиная с «Охоты на лис», у тебя не случилось ни одной проходной картины... Будто тогда открылся такой шлюз, который ринувшимся потоком понёс тебя, оплодотворяя, кстати, по пути многие другие «чужие» картины. Но это тема для другого разговора. А у нас остаются только «Магнитные бури»...
«УЛИЦА КОРЧИТСЯ БЕЗЪЯЗЫКАЯ»...
«Магнитные бури» - 2003
р
внесенная в заглавие фраза Маяковского, как мне кажется, достаточно полно выражает завершившиеся к началу третьего тысячелетия совместные размышления Абдрашитова и Миндадзе о течении нашего общего времени, выраженные их последним совместно созданным фильмом «Магнитные бури». Этот фильм звучит важным предупреждением о грозящих нам опасностях, как следствии развития нашей наиновейшей истории.
«Магнитные бури» возвращают нашу память к тем, казалось бы, давно нами забытым «рабочим волнениям», которые постепенно начали возрождаться с началом приватизации бывших государственных заводов и всяких предприятий, принадлежавших ещё недавно, так называемым, «трудящимся». Наступили времена, когда всё «национальное богатство» начало превращаться всякими разными «неведомыми» путями в частную собственность, в данном
324
случае, то ли Маркина, то ли Савчука. В самом начале фильма разворачивается окрест завода широкой панорамой многолюдное сражение рабочих за какие-то свои призрачные интересы и сомнительные грядущие экономические права. Сражаются друг с другом яростно, разделившись на два враждующих лагеря, каждый из которых отстаивает до «кровушки» интересы того или иного будущего владельца. В массе взбунтовавших рабочих, готовых горло рвать друг другу, отстаивая «своего» кандидата, постепенно выделяется основной персонаж Валера (М. Аверин), как скоро выяснится, недавний новобрачный, которого, подводя итоги, можно будет назвать новым своеобразным «антигероем нашего времени».
Длинная панорама рабочего волнения возникает в начале картины из темноты кадра и в тишине ночи, сложно смонтированная из кусков разной крупности и длины, озвученная только топотом бегущих в разных направлениях людей, их вскриками и звуками ударов. Кажется, что под покровом ночи вершится некое тайное действо, представленное нам с настораживающим эпическим размахом. Постепенно волею Автора мы начинаем отделяться от немногозвучной, но яростно бурлящей многоголовой толпы, следуя за отделяющимся от неё недавним «воином», Валерой, решившимся покинуть поле боя, чтобы передохнуть в своей обычной квартирке, где его ожидает любимая жена Марина (В.Толстоганова). Но «мирная» передышка «дома на печке» окажется для Валеры слишком призрачной мечтой. Неведомо ещё новоиспечённым молодожёнам и гражданским новобранцам, ступившим на военную тропу какого-то сопротивления, как сильно и непредсказуемо для них расширяется поле грядущих битв, обозначенное волей какого-то таинственного главнокомандующего. Жертвой его интересов постепенно становится не только всё пространство окрест завода, но также всякое небогатое семейное гнёздышко, которое также окажется сильно потревоженным, вроде бы, «стихийной» бурей обезумевших масс, но очень даже направляемых и организуемых исподволь.
В пылу сражений или точнее кровавых потасовок так скоро предстоит истаять нежной сладости недавнего брака Валерочки и Марины. Не выдержит этот союз нищеты и неясности перспектив, обозначившихся на «линии фронта» той борьбы, в которую вступает глава семейства, толком ни в чём не разобравшись и действуя в некотором помутнении рассудка. Слепая ярость застит суть собственных целей в той «войне». Нет у Валеры и его товарищей сил и ума осознать подлинный драматизм того обстоятельства, что оба претендента на владение заводом просто, ловко сговорившись, действуют сообща и в своих общих интересах за ширмой спровоцированного ими хаоса. Обида не проясняет сознания, стирая до конца последние логические связи. Ну, а рыбка успеха новых предпринимателей, как известно, ловится лучше в мутной водичке. Так что неумение таких работяг, как Валера, умерить свой пыл разумом, разобравшись в новой ситуации, только наруку новым «небожителям», плетущим зловещую паутину, в которой суждено запутаться недавнему
325
гегемону, в одночасье превратившемуся вновь из, якобы, уважаемого представителя рабочего класса в «прикованного к станку пролетария». Эпизод, выражающий эту мысль, вылеплен режиссёром, как с плакатной ясностью, так и едкой иронией.
По мере развития всё более неясных по целям и всё более агрессивных столкновений, блистательно, почти в балетном рисунке мизансценированных режиссёром, заподозренный в предательстве Валера и впрямь оказывается прикованным к своему рабочему месту недавними коллегами и сотрудниками. Тут в лицо ему расхохочется во всё горло победивший бывший приятель, недавний гармонист на его свадьбе, от души потешаясь над «прикованным пролетарием!!!!!!», тут же схлопотав себе по башке удар кувалдой, в свою очередь нанесённый сподвижником временного ворога. «Временного» от того, что в бессмысленном кровавом месиве, не умея бороться и не зная путей достижения своих целей, трудно нынешним «пролетариям» отличить своих от чужих, а их общие подлинные интересы теряются в скрытом от простого люда закулисье, где кусищами и без ложного стыда откровенно присваивают себе страну новые Гудионовы.
В неразберихе сражений приезжает к Марине её старшая сестра Натаха (Л. Аристархова), уже оперившаяся и обустроившаяся в Москве. Она потребует от молодых супругов бросить глупить и покинуть, наконец, гиблое провинциальное местечко. Как ей кажется, пора молодым начинать строить новую и «светлую» жизнь в той Москве, к которой потянулись, как к спасательному кругу, бывшие советские граждане. Хотя далеко не всегда назовёшь это «спасение» райским. Вот и Валера, сразу же не слишком расположившийся к Натахе, скоро до конца убедится в источнике её московских доходов, узнав от «товарища по борьбе» некоторые особенности их уже совершившегося контакта. Он, не мешкая, успел уже позабавиться с новоиспечённой москвичкой в местном гостиничном номере... На кругленькую сумму. Так что «благополучие» в столице обеспечивает Натахе, увы, самая древняя профессия, азы которой она, видимо, ещё предложит освоить его жене, простой, ясной девочке Марине. Та и впрямь скоро последует в ту же Москву той же проторённой дорожкой, что и сестра, «по-столичному» приодетая ею в дорогу и преображённая макияжем до неузнаваемости, став почти что второй Натахой... Ну, тютелька в тютельку.
А Валера, «дурак долбанный», не пожелавший расставаться с родным заводом, останется у разбитого корыта. Завод теперь не место для заработка. Так что грядущую судьбу Валеры Натаха процедит сквозь зубы, точно приговор и месть своему временному родственнику: «Скотом живёшь - скотом помрёшь». Вот она «народная» правда, в которой больше не существует запретных зон, ежели они годны для выживания. Каждый без стыда толкается на свой лад и в меру своей сообразительности, перегноем ложась в фундамент нового страностроительства.
В «Магнитных бурях» агрессивное противонаправленное движение человеческих толп, в которых не разглядишь лица, закручивается в кадре опасными
328
водоворотами. Это по видимости хаотичное, но, конечно, изнутри строго выстроенное движение, прослоено разного рода интимными, камерными сценами, как любовными, так и родственно-товарищескими. Сцены эти решаются также по видимости в тех бытовых реалиях, которые вроде бы противостоят волнениям внешнего мира. Тогда как, на самом деле, подвластны этому миру и определяются им в самом своём существе. Становится всё более очевидным, что бытовой пласт жизни также насквозь пронизан теми же самыми волнами бушующих вокруг магнитных бурь. Потому снова, как и во «Времени танцора», особой тревогой напряжены такие зыбкие границы между личным и общим. Эти границы то и дело размываются вторжением общественного в бытовое. Ритмы волной взметнувшейся мятежной толпы соседствуют лишь с попытками тихонько уединиться в интимном общении с глазу на глаз. В магнетизирующем сплетении двух разных стихий таится особый эмоционально заражающий эффект осмысления торжествующего светопреставления.
Как ещё в тридцатые годы писал Генри Миллер пером гораздо раньше повзрослевшего европейца: «Когда-то мне казалось, что самая высокая цель, которую можно перед собой поставить, - это быть человечным, но сейчас я вижу, что, поддайся я этой идее, она погубила бы меня. Сегодня я горд тем, что я вне человечества, не связан с людьми и правительствами, что у меня нет ничего общего с их верованиями или принципами».
Это выработанная позиция крайнего индивидуализма западного интеллигента. До этой позиции так далеко потерявшему всякие ориентиры простому русскому рабочему люду, ставшему коллективным героем «Магнитных бурь». Этот «герой» всё ещё «не дорос» до той степени переоценки общественных связей, которая породила на Западе другой тип сознания. Правда жизни нашего работяги в постсоветский период свелась к тому, чтобы не умереть с голоду и прокормиться любой ценой. Отсутствие элементарных условий для выживания заставляет людей идти хоть в проституцию, хоть на баррикады. Общество, ставшее вдруг тотально враждебным своим гражданам, не поддавалось более их пониманию или целесообразной для себя расшифровке. Оно смерчем закручивало судьбы тех людей, что не участвовали в разделе страны и лишены были, как способов выживания, так и идеи своего существования. В этой новой для себя ситуации старики обернулись к прошлому, а иная молодёжь возжаждала в отместку кровушки, сбиваясь в воинственные группы, посылающие свои тревожные сигналы обществу. У героев «Магнитных бурь», оставленных в одиночестве с собою, не нарисовалось чисто человеческой, индивидуальной судьбы, будто ластиком стёртой новым обществом. Краткие мгновения, казалось бы, свободного и независимого интимного общения наших героев - за каким-нибудь обедом в столовке или чарующем их терпком любовном трепете - почти иллюзорны, всякий раз потревоженные агрессивным и настырным вторжением внешнего бушующего мира...
Тщетной окажется погоня Валеры всё за тем же самым, летящим у Абдрашитова из фильма в фильм, быстро движущимся поездом жизни, который
329
увозит теперь в Москву и навек любимую жену Марину за сомнительными столичными заработками... Растерявшийся перед своим временем герой будет гнаться за этим поездом из последних сил, до конца обезумев от потери вместе с этим отъездом сладкого семейного счастья, чувствуя под своими ногами в следующем кадре лишь взрывающееся минное поле. Это минное поле военного полигона не случайно смонтировано режиссёром в стык расставанию молодожёнов. Пробег героя, будто на фронте и под дождём взрывов (можно сравнить с «Парадом планет»!), оказывается, с одной стороны, казалось бы, обычным элементом суровой мужской жизни, но, с другой стороны, в контексте всего звучания фильма этот монтаж даёт обобщенное авторское видение нашего времени и той «народной» жизни, которая вызывает в целом чувство тревожного опасения. «Магнитные бури» выходят за пределы буквального жизненного правдоподобия, обогащая нас тем обобщающим художественным образом новой России, который взывает к нашей ответственности перед не слишком благословенным ближайшим будущим. Заставляет потревожиться горестными последствиями, так называемой, «счастливо бескровной» революции!
К финалу картины мы вернёмся позднее. Он окажется так же многозначно неодносложным, как всякий финал фильмов Абдрашитова, открытый, как правило, разным интерпретациям.
А пока сюжет фильма становится для режиссёра той базовой основой, на которой создаётся метафорический образ нашего времени, который переосмысливает главную идеологему ушедшего времени. Действие развивается, «одаривая» нас теми весьма малоутешительными для нас сюрпризами, которые вынуждают нас снова и снова переосмысливать взрывоопасное и трудно предсказуемое будущее. Опасная безответственность «советских трудящихся», уже обозначившаяся на руинах недавнего прошлого, обещает расцвести опасными последствиями в реалиях тревожного настоящего времени. Безответственность разного рода, как победителей, так и побеждённых, рождает ту агрессию, которой полнятся сложные и опасные столкновения разнонаправленных сил. Время будто уплотняется на экране сопряжением точно организованных вполне метафорических событий. Они сопоставляются автором таким образом, что своим ритмом и взаимодействием начинают ассоциироваться с изобразительно преобразившейся симфонией, визуально озвучивающей (как ни парадоксально это звучит!) текущий трагический момент нашей истории.
Одна из самых интересных рецензий на «Магнитные бури» была написана Людмилой Донец и озаглавлена ею «Преданные и брошенные». Отдавая должное убедительной эмоциональности критика, мне пришлось всё-таки при чтении задаваться довольно простым вопросом: а, кто, собственно и кого предавал? Кто, наконец, эти «чистые», ни о чём не подозревавшие люди, позволившие себя предавать? Не из их ли неисчислимого числа, представителей этого самого «народа», выходили, как разного рода начальники, так и партийная элита, «позволившие» себе своих же ограбить? Что думал себе о развитии
330
своей собственной государственности и экономики этот самый «по наивности» позволивший себя ограбить «рабочий класс»? Чего это он так испугался и сник, этот совершенно растерявшийся народ, оказавшийся «жертвой» своего собственного государства? Все эти вопросы ставились Абдрашитовым и Миндадзе из картины в картину, проявляя подлинный драматизм, а то и трагизм нашей жизни.
Отчего так бессмысленны действия, запечатлённые камерой, мечущихся «орд» работяг, увы, мало соображающих, что им делать и кого обвинять? Кто позволил воцариться в их собственном советском государстве, без «угнетателей» и «угнетённых», тому самому внешнему хаосу, который на славу послужил осуществлению интересов наиболее умных и сообразительных недавних сограждан «единого» государства? Откуда всё это взялось? И разве не анализом предпосылок грядущего драматического развития нашего общества занимались в своих работах Абдрашитов с Миндадзе? Разве не из числа ныне «брошенных чистых» ребят возникали насмерть спаянные нерасторжимой общностью Клюевы и Гудионовы? Разве не почувствовал давным-давно свою неожиданную неуместность в своём «собственном» обществе «передовой» рабочий Белов, сходивший с дистанции? Разве хотели прислушаться к правде о себе гонители следователя Ермакова, не желавшие никаких перемен? Разве показалось тогда кому-нибудь уместным пионерское рвение Плюмбума, попытавшегося разоблачить «чёрный» подпольный бизнес? Нет, конечно. Не расслышали мы в картинах Абдрашитова предупреждения о приближении конца той эпохи, который, кажется, превзошёл все возможные предположения. Того конца, о драматических последствиях которого возвестят после «Плюмбума» и «Слуги» - «Армавир», «Время танцора», «Пьеса для пассажира» и, наконец, «Магнитные бури».
Что говорить? Так называемые советские «трудящиеся», якобы, возглавляемые этим самым рабочим классом, продолжали потихоньку катиться по тем же наезженным рельсам, не замечая нового, наметившегося по ним движения, не умея предпринять ничего деятельного для ремонта своих путей и не желая замечать того самого остановившегося поезда, жертвами которого обозначался каждый следующий фильм Вадима Абдрашитова.
Провидчески-одинокий голос художника тонул в неумолимом, инерционном движении нашей истории, испещрённой такими замысловатыми и крутыми разворотами, что заехал наш «поезд», который должен был «лететь вперёд», в тот самый тупик, которым обозначилась для нас смена века. Не нашлось среди всего советского народа той самой силы, которая оказалась бы готовой в полной мере осознать подлинный драматизм наметившегося пагубного для большинства изменения нашей жизни, чтобы «выпрямить пути» её... чистыми руками, стирая ярко проявлявшиеся «тусклые» пятна. Абдрашитов давал нам своим кинематографом неоценимую возможность, не любуясь, поглядеть на себя в «зеркальце» его экрана. Там внешне знакомая реальность преображалась для нас режиссёром в посторонний и отчуждённый от нас глубинный об-
332
раз, развивавшийся по тем неписаным законам, которые угрожали нарушить привычный нам покой, в котором каждый привык обживаться по-своему...
Мировосприятие Абдрашитова всякий раз оказывалось очень далеко от бравурного оптимизма и не оставляло никакого места в его фильмах для сколько-нибудь утешительных финалов, грезившихся многим его рецензентам. Не стоит доверять также гладко изображённой видимости, якобы, разрешаемого конфликта в финале «Магнитных бурь», когда крановщица, азиатская красавица, готовая занять место прежней жены Валеры, предлагает ему более не валять дурака, потому что «на работу пора» идти! Неужто и впрямь можно было всерьёз поверить после представленной нам ужасающей хаотичности всей атмосферы действия в какой-то найденный «сладостный» рецепт нашего спасения?
Где работать? Как работать? Кому с кем и за какую зарплату? И какое занимать положение в обществе? Да, и в каком, собственно, обществе? -остаётся вопросом. Когда в финальном кадре фильма мы видим, как «благополучно» послушно потекли к проходной завода почему-то вдруг умиротворившиеся рабочие... Но... Разве в этом кадре не видно, что потекли недавние «пролетарии» к проходной завода, будто бараны на заклание, ни с того ни с сего готовые снова начинать свой рабочий день, будто вовсе забыв о недавних распрях и горьком опыте? Или их неожиданно чем-то, осчастливили вроде бы договорившиеся между собой Савчук с Маркиным, а точнее уладившие между собой владение заводом? Нет, конечно! Как же можно тогда воспринимать всерьёз, точно благое наставление, рецепт для выздоровления, данный когда-то изнеженным Серебряковым трудяге Войницкому: «дело нужно делать, господа, дело делать»! Напротив. К финалу картин становится до конца ясным, что все эти взбунтовавшиеся рабочие поставлены в неясную для них зависимость от работодателей, всяких и разных Маркиных и Савчуков, не умея рулить собственную судьбу, становясь всего лишь нужным по потребностям «ингредиентом» для какого-то производства. Вспомним «Слугу», когда Клюев в некотором смятении принимает приглашение на танец от дьявола-соблазнителя Гудионова, давая ему своей готовностью служить шанс на продление царствования и слыша в одобрение констатацию свершившейся с его помощью мечты. «Как хорошо!»
«Хорошо» и впрямь становится тем, кто заново ведёт всеобъемлющий «танец», позволяющий, чуть обустроившись в новой жизни, позволить себе вовсе забыть тех, кто за ненадобностью оказался на обочине жизни в космических пространствах России... Особенно «хорошо» тем, кто без особых прикрас и безо всяких кавычек рулит новый бесовской танец текущего времени при пассивном попустительстве огромного большинства, «мирно» следующего к немногочисленным рабочим местам.
Увы! Горькая и последняя правда Автора «Магнитных бурь» кроется отнюдь не в обманчиво благостном финале, но предшествующем этому финалу сомнительно «радостном» народном гулянии. Торжество для всех так славно
333
«хорошо» организовано и празднуется публично благостно примирившимися собственниками на радость «крепостным». Сами того не осознавая, они поучаствовали в организованном «барами» хаосе, чтобы они поудачнее разделили между собой жирный кусок в виде завода. Чего же теперь всем не брататься? Правда, о которой трубит фильм, состоит в том, что, так называемые, «простые труженики» так и не поняли, какие действия им нужно предпринимать для собственного спасения. Их недоумение похоже на стихийное бедствие, которое всё крушит на своём пути, умиротворяясь в нужный для работодателей момент. Горе тем, кто не успел в этой неразберихе переориентироваться в таинственной чересполосице жизни, не остыл от горячки, умело спровоцированной с дирижёрского пульта невидимым «полководцем», уже предписавшим завершение «беспорядков» и воцарение мира и дружбы. Не желающим и не успевшим сложить оружие в лучшем случае, грозит каталажка, а особенно упрямым - отстрел за ненадобностью. Как говорится, нет человека, нет проблемы! Так что легко убирается с жизненной ряби слишком наивный и правдолюбивый Степан - недавний соратник Валеры, уже не ко времени продолжающий «мутить воду». Захотелось ему на воцарившемся уже празднике жизни задаваться публично какими-то «устаревшими» вопросами, вовсе неуместными более для новых хозяев. Проще отстрелить слишком любопытных и несогласных, нежели разбираться, в чьих интересах воцарилось мирное время?
Именно в этой замечательно правдиво сделанной сцене кроется для меня подлинный, открытый финал фильма, который до сих пор остаётся злободневным! Видимость равновесия, провозглашённого «победителями» простым работягам, утаивает сверх-корысть новых небожителей, забывших о совести и минимальной справедливости, свойственной лучшим русским умам, в том понимании «народного счастья», которое кажется теперь только старомодным атавизмом. Что за морды взгромоздились вновь на трибуну? Это для их счастья и довольства только что бились в рукопашной славные ребята? Чтобы теперь собственными руками умножать благосостояние собственников? С этой целью призывают теперь успокоиться и разойтись по своим рабочим местам! Теперь позволено дальше работать «мирно». И выживать, пока завод не прикрылся. Точно так же будет позволено свыше во «Времени танцора» выживать русским воинам, временно отвоевавшимся на кавказской земле, в горном климате и «без рентген».
Или как там провозглашалось свыше в «Армавире»? «Траур кончился!» А теперь в «Магнитных бурях»? Наверное, должно последовать заклинание парафразом «Лиру»: больше не вейтесь бури! И проследуйте, дорогие труженики, на неожиданный пир во время чумы, оказавшийся вдруг таким бездумно-радостным и контрастно «праздничным»... Да, не было будто бы ничего такого... А потому страшно становится, что послушно бредёт простой люд на предуготованное ему торжество... как ни в чём не бывало... снова выплывая на свет в сумерках, будто бы из вод морских, заставляя вспомнить такие же схожие кадры живых утопленников, будто являвшихся из пучины на брег морской
334
в «Армавире»... А затем являвшихся к танцам с причала во «Времени танцора», чтобы невесело «повеселиться», как Андрейка с не со своей Тамарой, отдаваясь музыкальным ритмам, отчего-то разрывающим сердце. Вот вам ещё примеры скромной и очень глубокой поэтичности кадра «аналитика» Абдрашитова! А музыка в его фильмах - повторюсь - требует своего отдельного разговора, так как её магическое воздействие из абдрашитовского арсенала очень действенно-впечатляющих средств. Точно использованные музыкальные возможности расширяют и многообразят для восприятия новое явленное нам режиссёром «представление», с помощью которого он посылает своим зрителям целый спектр тонких, чувственно-мерцающих оттенков создаваемого им целостного пространства, в котором всё тревожно многозначно.
В сцене праздника силуэты людей, постепенно стекающихся из сумерек к ярко освещенной солнечным светом гудящей праздником городской площади, поначалу лишь едва различимы в предвечернем освещении. Уже там, на центральной площади захолустного городка, осенённой теперь уже воздвигнутой трибуной, те же люди вновь дружно радуются неожиданно разрешившемуся уже, оказывается, кризису, от души празднуя начало «новой» жизни, правила которой предложены всё теми же толстосумами, брезгливо разыгрывающими теперь на трибуне положенный черни спектакль... Как не вспомнить в этом новом контексте такое же обманное радостное народное празднование завоёванной сомнительной победы, освещённое ярким южным солнцем во «Времени танцора» и ярко театрализованное конными скачками и народными костюмами?
Таковы новые праздники нового времени! Что ещё можно было бы ожидать всем нам, так и не научившимся думать общей думой, затерявшейся где-то на обочине общественной мысли, кроме как послушно подчиниться данной сверху команде - «на работу пора!»? А ведь это у нас не былые уже времена, когда даже в Италии Чиро в «Рокко и его братьях» с гордостью шёл работать на завод «Fiat», преисполненный чувством рабочей гордости. А сегодня глаза нашего милого парня Валеры, сомнительного «героя нашего времени», полнятся только растерянностью и пустотой. У таких, как он, утерялось куда-то былое чувство достоинства, так драматично поколебленное ещё у Белова в «Охоте на лис», учуявшего уже тогда на интуитивном уровне скрытые от глаз общественные процессы, подготовившие смену всех ценностных ориентиров.
Уже тогда, в советское время, в воцаряющемся исподволь новом обществе не оставлялось места никаким иллюзиям пестованных идеологией «рабочих и крестьян», не требовалось больше никаких трудовых «подвигов» от подросших внуков и детей Белова, уже четверть века назад задавшегося своей горько потянувшей его мыслью. Всё пошло именно по тому «обманному» для него пути, что пригрезился ему в финале «Охоты на лис». Трудно представить, что эта мысль уже тогда была выражена Абдрашитовым - на интуитивном или на аналитическом уровне? - демонстрируя нам за поверхностью привычной жизни тот неугасимо тлеющий бикфордов шнур, который протянулся через все его
336
фильмы, всякий раз свидетельствуя о той взрывоопасной ситуации, которую мы вновь и вновь склонны не замечать.
«Магнитные бури» снова должны потревожить нас посылаемыми сигналами нового нависшего над нами бедствия, напоминая нам, сколь «опасен и беспощаден русский бунт». До которого мы вполне можем допрыгаться совместными усилиями. Усмехаясь, любим мы поёрничать, что, мол, каков поп, таков и приход, и, каков народ, такова и его судьба. Но другого народа в России пока что нет. И народ этот состоит не только из «простонародья», на который поглядываем свысока, но и, так называемой, «русской интеллигенции», которая также растерялась, увы, не умея как-то оформиться заново в новых условиях, чтобы прозвучать достойно мыслящим образованием. Не вытанцовывается у нас также средний класс на благо обществу, который сумел бы предложить подлинную альтернативу для защиты «братьев наших меньших», с которой были бы вынуждены считаться всякие новые Гудионовы.
«Магнитные бури» провоцируют зрителей к самым важным, ответственным и фундаментальным размышлениям о трагическом существе нашей текущей жизни, чреватой вновь возможными горькими последствиями. Нельзя, следуя за органически эволюционирующим у Абдрашитова художественным образом нашего времени, отказываться от трезвого переосознания зияющих противоречий, «беременных» глобальными смещениями не только природных, но и людских пород. «Застой» растопился трагическим крушением («Армавир»), на обломках которого, выйдя из тени, воцарились новые Гудионовы, превратившиеся из идеологических властелинов в материальных обладателей новой России. Теперь магнитные бури собираются над их головами, поскольку им не понадобились «чистая» совесть и «непорочность» амбиций, над которыми снова возобладали дьявольские соблазны...
Выражаясь поэтически, можно сказать, что магнитные бури, бушевавшие на свой лад в каждом следующем фильме Абдрашитова, постепенно расходились волнами разного рода интенсивности вокруг места затопления «Армавира», то есть былого советского государства, всё более отчётливо структурируясь в интересах новых (преобразившихся старых?) властелинов жизни, сцепившихся в открытой «смертельной схватке» за присвоение себе всех материальных благ, откровенно отчуждая, как говорил Маркс, производственников от орудий труда. Помнится, как ещё в «Слуге» витийствовал Брызгин, обвиняя Гудионова: «Ты гений зла, Гудионов! Губишь природу, пускаешь реки вспять. Порабощаешь народы, стираешь их память, традиции. Ты разрушаешь, и строишь, чтобы разрушить. Ты поощряешь коррупцию, растлеваешь людей, а потом заточаешь их в тюрьмы. Добродетель ты объявляешь пороком, а порок возводишь в истину. Ты гений хаоса, Гудионов!»
Это красочное обвинение Брызгиным Гудионова, как справедливо, так и комично, потому что нет у него высшей цели, чем вырвать власть для себя у такого отъявленного злодея. Но тогда... Он сам продолжит, увы, тот же самый глобальный разрушительный процесс, стирая с лица земли не только заводы, обраща
337
емые в груды металла, разбираемого для продажи бывшими работягами, но продолжит также уничтожать невозможные для воспроизведения леса и реки... Чему и как радоваться, если уже совершилось вымечтанное изнутри не совсем «естественное» перераспределение недр земных и доходов от собственности, которое обещает только потоп... водой, отравленной химикатами... Кажется, что и впрямь, как писал Анненский, ощутимо веет Апокалипсисом...
Когда в финале «Магнитных бурь» только что восстававшие рабочие, как обычно, снова отправляются на трудовую смену, вспоминается, простите за фривольность, невесёлый старый анекдот о взбунтовавшихся русских крестьянах, сильно напугавших своего помещика, вопрошавшего их в ужасе: «Да, чего же вам, милые, нужно?» «Чего, чего?» - задумались крестьяне. И резюмировали: «А ничего»... Вот как! И снова... Пока не доведут их до той степени безнадёжности, когда взорвутся все эти страсти совсем непредсказуемыми последствиями.
А теперь всё-таки снова вернёмся от политики к поэтике последнего фильма Абдрашитова. Вся атмосфера фильма и среда обитания его героев так решается режиссёром, что кажется и впрямь пронизанной волнами магнитных бурь, которые будто вполне ощутимо рассеиваются невидимыми кругами, окрашивая пустынное пространство действия нездешним холодным и ста-листым светом. Пространство ощущается пустынным даже тогда, когда оно заполнено безликими толпами. Будто время зависло в результате какого-то взрыва, образовав ту Зону, в которую не проникает нормальный луч солнца. Даже простые поля с перелесками, попадающие в кадр при дневном свете, всё равно не порадуют глаз яркими сочными красками, но окрашены бурым монохромным цветом, напоминая выцветший и затёртый временем старый фильм.
Это поэтически изысканное и смыслово значимое изобразительное решение даёт ощущение неподвижности инопланетного безлюдного, будто бы лунного пространства, едва ли ни главного действующего лица, существующего над человеческими страстями и поглощающего ту мелочность жизни, в которой слишком мельтешатся биологические виды, бьющиеся за своё простое выживание. Ощущение, что в бушующих толпах стёрлись всякие яркие индивидуальности и заметные личности, те самые былые дуэлянты, что недавно ещё сталкивались в непримиримых поединках в «Остановился поезд» или «Пьесе для пассажира», отстаивая свою точку зрения. В новом времени бушующих «магнитных бурь» всякий гражданский голос кажется вовсе заглох-нувшим. Так что «поэтическое» в этом фильме отстранено от человеческого и никак не может идентифицироваться с лирическим. Поэтическое не поэтично в рукопашных схватках, никому не делающих «красиво», как того опасался Маяковский. Напротив. Реальность символизирована жёстким и беспощадным, метафизически предопределённым образом холодного обесчеловеченного мира, грозящего подлинной гуманитарной катастрофой.
Помните, каким одновременно каллиграфическим и поэтически значимым почерком (странное, специфически абдрашитовское сочетание!) изображался
338
горный кавказский пейзаж во «Времени танцора», вроде бы похожий на туристическую открытку, но такой далёкий от людской суеты, отсвечивающий нам, грешным, величавым нездешним светом далёкого далека? В последнем фильме Абдрашитова толпы усиленно молотящих друг друга людей, пронизанных магнитными волнами холодного света, скрытых синевато-стальной темнотой, дают ощущение их массового космического одиночества (снова -странное, но очень точное ощущение одиночества массы людей// Хотя именно эта сиротливо-тревожная масса, лишённая полноценных общественных связей, опасно вулканизирует нашу земную поверхность своими настырными перемещениями, скапливаясь группами под сумраком ночи, мерцающей лунными отсветами. Впечатляющий визуальный образ! Глобальность разоблачительного для нашего времени авторского замысла, потаённого в изображении и действии, выражена в «Магнитных бурях» резкими монтажными стыками, возвращающими нашу память к великим достижениям нашего кинематографа 20-х годов, рождённого неугодной нам нынче революцией, так или иначе некогда поразившей воображение всяких и разных, не последних современников того времени.
Что же теперь предвещает нам в новом историческом контексте недовольство озверевших от заброшенности людей, прущих друг на друга стенкой и «пыряющих» недавнего приятеля ножичком из-за угла? Пока ещё безо всяких революций... в условиях, так называемой, «мирной» жизни, территориально далёкой от той реальной линии фронта, близ которой не слишком удачно расположились для постоянного (временного?) проживания герои «Времени танцора»?
«Магнитные бури» по объёмности представленной нам картины и эпическому размаху всего радиуса действия сравнимы разве что с «Армавиром». Только в центре многофигурной фресковой композиции «Армавира» были обозначены несколько основных равноценных персонажей со своими мистическими судьбами, растворившихся в обезличенной толпе «магнитных бурь», снивелировавших всякую индивидуальность в условиях окончательно наступившего безгеройного времени. Именно таким невесёлым художественным образом завершается анализ того эволюционирующего к хаосу общественного организма, который почти два десятилетия скрупулёзно исследовали Абдрашитов вместе со своим сценаристом Миндадзе, поставив свой очередной, вновь предупреждающий нас диагноз. Художественный образ нашего народа так выстроен режиссёром по внешнему рисунку и внутренним ритмам, регулирующим вполне механическое движение антагонистических человеческих масс, что приходится вспомнить отточенный схожей мыслью монтаж «Репортажа с асфальта», демонстрировавший уже тогда прекрасно усвоенные режиссёром уроки «механического балета», родившегося в изобразительном искусстве столетие назад вместе с индустриализацией общества, чреватого отчуждением от себя личности. Некогда и некому стало заботиться о поштучной её ценности в том хаосе общественной жизни, который возобладал после
340
всего грандиозного опыта XX века: монархии, капитализма, революций, социализма и, наконец, так называемой, «перестройки», обозначившей у нас переход от этого самого социализма к, так не называемому, у нас «дикому» капитализму русского образца.
Если воссоздать в памяти доминирующий визуальный образ картины, то перед глазами возникнут сокрушающие лавины противоборствующих людей, вынуждаемых новым временем (если называть вещи своими именами) вступать в необъявленую гражданскую войну, ведь и впрямь ежеминутно соседствующую теперь совсем рядом с нашим вроде бы «мирным» житьем-бытьем. Благо необозримые просторы нашей родины позволяют разного рода гражданским взрывам оставаться нераслышанными и неуслышанными - рассредоточенными и затерявшимися в огромном пространстве. При этом Абдрашитов снова улавливает формирующуюся важную ось общественного напряжения, чреватого теми опасными бурями, которым свойственно смещаться с окраин России к самому её центру. «Время танцора» демонстрирует опасное пространство только видимости затишья, притаившегося у самой линии настоящего фронта, межнационального, а, может быть, и межгосударственного. В «Магнитных бурях» наши ребята воюют между собой, с незавидной страстью молотя друг друга на своей собственной общей территории, разделяющейся только той линией фронта, которая обозначается единственным обманчиво судьбоносным вопросом: «ты за Маркина или за Савчука?»
Не успевая в темноте и поспешности резких стычек разобраться кто за кого и какое это имеет значение для каждого, люди, испуганные неизвестностью, мордуют друг друга, похоже, «на всякий случай», подхваченные общим вихрем тревоги, расшевелившей вновь людской муравейник. На экране возникает страшный по выразительности калейдоскоп человеческих лиц, готовых не впервой в нашей истории со сладострастием уродовать друг друга под покровом ночной темноты палками, арматурой и просто кулаками - не на жизнь, а насмерть! Люди сталкиваются толпами, группами и один на один. А само течение взбесившейся толпы, движущейся в разнообразных встречных направлениях, то взмывающее человеческими волнами ввысь, то срывающееся в низины, так блестяще смонтировано режиссёром, что только ленивых не заставило вспомнить «Стачку» Эйзенштейна. Хотя также закономерно память ассоциативно отзывается полемической связью этой картины с «Землёй» Довженко.
Эта ассоциация всплывает в памяти именно тогда, когда на наших глазах любовное ложе молодой пары, изгнанной новым хозяином области из их опечатанной квартиры, оказывается вытесненным на лоно природы, осенённой уже не лампочкой Ильича, но всё тем же таинственным лунным светом. Когда нежная страсть молодых, готовых зачать ребёнка, кажется такой неуместной и не востребованной безразличным к ним временем, вовсе не располагающим к деторождению. Именно в этот момент в памяти по ассоциации всплывают сменяющие друг друга двойные портреты влюблённых пар у Довженко. Режиссёр располагает их в цветущих садах, пронизанных согревающим их светом. Их
341
нездешняя любовь подчёркнуто поэтична, приподнятая над обыденностью их общим романтическим мироощущением, отсылающим нас к фольклору. Они мечтательно замерли в своей всеобъемлющей страсти, прислушиваясь к принадлежащей им вечности, оборачивающейся к ним ночью райскими садами, как им кажется, животворящего будущего. Если хотите, той исторической перспективой, которая кажется им достижимой и в которую горячо верит сам художник Довженко.
Отношения Валеры с Мариной, заложников своего времени, возвращают нас от страстных поэтических чувств, владеющих ими, к той жёсткой жизненной прозе, которая не сулит молодым не только никакого счастливого завтра, но даже простого прожиточного минимума. Так что поэтически наполненное свидание на природе молодых влюблённых напоминает только внешней образностью знаменитые сцены Довженко, обогащая наш художественный и человеческий опыт новым контекстом этих отношений, полностью обновлённым Абдрашитовым. В этом контексте будущее не сулит нашим героям ничего утешительного, угрожая необходимостью полностью переосмыслить их настоящее. Это время не их надежд! Оно агрессивно к ним, низводя их существование к обслуживанию какого-то огромного не принадлежащего им механизма, не предлагая возможностей осмысленного решения своей жизни. Здесь не оставлено пространство тем мечтам, что питали картины не только Довженко, но и Эйзенштейна («Старое и новое»), грезивших о возможности полного и гармоничного единении всего со всеми.
Любовь молодых людей, родившаяся чистой и бескорыстной, не выдерживает в «Магнитных бурях» безжалостного к ней натиска времени. Из ночи в ночь грёзы любви омрачаются судорожной борьбой за выживание, вновь и вновь поднимая Валеру в бой прямо с супружеского ложа, где бы оно ни располагалось в силу тех или иных обстоятельств. Страстный любовный шёпот Марины на крупном плане и у края кадра сменяется поясным портретом молодых супругов, утоливших страсть и счастливо раскинувшихся под деревом. Рассматривая их в этой сцене, освещённых на лоне природы всё тем же синеватым лунным светом, вспоминаешь те самые довженковские двойные портреты счастливых влюблённых, будто подпитанных витальными силами природы, насыщающими их небывалой былинной силой.
Эйзенштейн вскоре после революции дарит нам выдающееся изображение своего видения рабочей стачки. Это видение передано пружинистыми кадрами решительного действия рабочих групп, обозначенного аскетически точным рисунком их движения. Художнику известна правота народного сопротивления, а свежая новизна материала дарит ему наслаждение. А потому свой замысел он препарирует с изысканной графической ясностью, разделяя чёрнобелым цветом правых от виноватых. Художник издалека по-интеллигентски любуется справедливостью совершаемого народного возмездия, которое он с молодой увлечённостью воссоздаёт на плёнке в эстетически безупречных, интеллектуально просчитанных и геометрически совершенных формах.
342
Картины Абдрашитова и Миндадзе рождены совершенно другим временем, искушавшим так называемых советских людей всеми «радостями», как нашего «застойного», так и послеперестроечного бытия. Сложно, если не сказать, невозможно в контексте всего пережитого надеяться на торжество справедливости там, где в космических пертурбациях сильных мира сего организуются войны, делится и переделывается собственность, тот «профит», за который каждый грызётся теперь открыто и без зазрения совести. Так что не слышно у Абдрашитова голоса хоть какой-нибудь справедливости. Он, видимо, затерялся где-то в глубинах вместе с Атлантидой при равнодушном попустительстве того большинства людей, которые начали лишаться крыши над головой, задыхаясь от безденежья и ощущения свой ненужности. А потому возникает в «Магнитных бурях» сакраментальный вопрос, озвученный представителем «рабочего класса» - «а не петрушки ли мы», всего лишь поддавшиеся на провокацию тех, которые сами являются «петрушками московских лидеров»?
Музыкальный стон в двух тональностях озвучивает картину, перемешиваясь в начале с железным скрежетом, сопровождающим начало картины. И заглушается затем ритмически однообразным сухим топотом множества бегущих людей, вот-вот готовых столкнуться друг с другом «стенка на стенку». И сталкиваются. Хоть на мосту, хоть в каком-то другом месте: перед заводом, в заводских цехах и на окружающих завод территориях, снятых изнутри и со стороны, сбоку и сверху... Массы теснящихся одна к одной колышущихся голов, сливаясь вместе в единый образ, становятся похожими на бурлящий горный поток... Заставляя задуматься, на кого и когда он обрушится (уже не контролируемый) тем беспощадным людским водопадом, который, сметая всё на своём пути, уже никому не дарует, увы, никакого очищения, ещё раз разрушая иллюзии, питавшие надежды многих интеллектуалов и мечтателей, сохранённых нашей исторической памятью? Слишком страшно и беспощадно!
Всё действие «Магнитных бурь» движимо всё более ожесточёнными и всё менее осмысленными стычками, бывшими когда-то стачками, озвученными несколько раз предостерегающим воем сирен, будто отголосками той единой и главной из них для нашего времени, что была запущена Сёминым в «Армавире» как сигнал всеобщей тревоги, разлившейся по стране с крушением так называемого «корабля», то есть нашего былого государства.
Валера, именуемый сослуживцами Вальком, выделенный в безликой толпе более крупным планом, попробует, как я писала выше, улизнуть с поля боя домой к своей любимой Марине... сильно прихрамывая и с расквашенной мордой... надеясь передохнуть, хоть на время «окопавшись» в семейном гнёздышке. Но не утаит его от «товарищей», уже вступившего на тропу войны, утлая квартирёнка, продуваемая всеми общественными ветрами и никак не способная стать его крепостью. Отступление от общей борьбы карается строго. Все «бойцы» уже учтены и помечены невидимым главнокомандующим, связавшим их накрепко воедино, похоже, только ему известной целью. Не получится
344
у Валеры, уже инъекцированного духом бессмысленного коллективизма, попытаться пережидать текущий момент в домашнем тепле. Не позволят! Да, и вообще: хотя и размыт образ противника, всё равно манит в общую свалку неустроенность и неуверенность в завтрашнем дне, какая-то неведомая инерционная сила, увы, не способствующая налаживанию нормальной добропорядочной жизни.
Всякая наступательная агрессия в разных формах, как способ сопротивления равнодушно противостоящему миру, сегодня более чем реальна и очень опасна. Так что сигналом витающей в воздухе тревоги будет возникать перед Валерой та же самая группа боевых «товарищей», всякий раз преграждающих ему путь домой, не позволяя так себе просто забыться в домашних перинах. Они опять и опять будут являться перед ним, как грозный фантом, мешая сон с реальностью, в которой потеряна возможность спокойного бытования. Уже сформировавшийся «военный» патруль видит зорко, отслеживая «своих» бойцов и строго контролируя явку каждого в нужное время в нужном месте. В тех волнах магнитных бурь, что, на самом деле, движимы осознанной целью сверху и отчаянным непониманием новых социальных связей снизу, люди напоминают лишь скопление человеческих частиц, лишенных магнетизма собственной воли. Они бессмысленно мечутся, подхваченные лишь общим магнитным полем, не умея выстроить эффективную для себя не только линию наступления, но хотя бы достойной обороны. «Чувство локтя» или здоровой солидарности изжиты опытом предыдущего времени, а теперь до конца выпотрошены вывернутым наизнанку обществом, отделившимся от интересов всякого простого гражданина.
Бури как стихийное бедствие, в радиусе которого некуда деваться простым смертным, и не поздоровится никому. Так что манипулировать этой стихией в своих интересах можно только до времени, пока разъярённая толпа остаётся безгласной и враг не определился для неё до конца, пока не сформулировалась ещё общая обида хоть какими-нибудь законченными фразами, а выражается всё больше пока только обрывками слов и предложений. Не настало ещё время, так называемых, здравых идей, но голод всё равно ищет своего утоления любой ценой.
В «Магнитных бурях» Абдрашитова перед нами «корчится» пока ещё «безъязыкая улица», которая может однажды слишком внятно заговорить. А пока новые собственники могут аккуратненько договариваться друг с другом о чём-то своём сокровенном очень ясными «кругленькими» фразами... Пусть себе милые наивные ограбленные молодожёны веруют в организованной смуте, как хорошо им «друг с дружкой». Тогда как иллюзия их столь недолговечна. Не выжить ей на сквозняках тех ветров, что неустанно продувают всякое утлое пристанище. Не защититься им хлипкими дверьми своей квартирёнки от буйных «товарищей» по несчастью, внедряющихся прямо к ним в спальню, в пылу сражений не замечая чужого порога. Боль-то и кровь, кажется, общие!
Так что на глазах у молодожёнов, даже не успевших ещё подняться со сво
345
ей постели, вихрем сражения враз сметается тот скромный уют их квартирки, что до последней детали схож с уютом всякого другого соседа. Вспоминаются одинаковые, как пчелиные соты, окна домов, заселённых городскими жителями в «Репортаже с асфальта», а также тоскливый силуэт новостроек в «Параде планет». Демонстрируя в кадре привычные и обычные для нас условия нормальной жизни, Абдрашитов умеет, ничего не навязывая, наполнить места нашего обитания особенным многозначным содержанием, заставляя ассоциативно задуматься об издержках обычного городского образа жизни, с которым мы давно свыклись. С одной стороны. А с другой, как в «Параде планет», мы возвращаемся домой, помаявшись вдоволь и распростившись с иллюзиями своей молодости.
Успокаивая свою Марину, просит Валера не расстраиваться из-за какой-то разбитой хрустальной вазы - этого символа достатка недавнего советского прошлого, или переломанных стульев, попавших под горячую руку бойцов. Ведь всё равно - успокаивает Валера свою жену - стены дома были уже испещрены трещинами, и безо всякого разгрома красноречиво взывавшими к ремонту. Добавим - глобальному! Вспомним, как давно уже было заявлено заглавием одного из фильмов Абдрашитова, поезд остановился*. Только «ремонты» наши, как и «перестройки», почему-то оказались сравнимыми разве что с катастрофой. Ведь шепчет нам на ушко общая историческая память, напоминая об известном рецепте: разрушить всё до основания, а уж только затем... «Так что - смеётся Валера, уже готовый к соучастию в новых преобразованиях, успокаивая свою Марину, - скажи им (то есть разрушителям!) ещё спасибо»... «Спасибо», - растерянно повторяет Марина следом за своим мужем...
Хотя всё равно чувствует она, как дурной сигнал, потерю в пылу потасовки обоих обручальных колец, одного за другим. Валерино, правда, пало жертвой ещё в сражениях где-то в заводском цеху, а Маринино, мирно лежавшее дома на тумбочке, то ли закатилось куда-то, то ли товарищи по борьбе прихватили с собой невзначай... Где ж искать их теперь в кромешном бедламе, не освещённом даже «нашей» когда-то лампочкой Ильича, отключённой теперь её собственником в наказание несговорчивому жильцу?
Если можно говорить о народной душе, то «Магнитные бури» являют нам её горький поэтический образ. Дают ощущение корчей той самой «безъязыкой улицы», что мечется в поисках выживания, когда мир славит бурный технический прогресс, не оставляя никаких перспектив тем, кто оказываются из-за этого «прогресса», всё сокращающего рабочие места, вовсе за чертой бедности. Кто пытаются без куска хлеба и крыши над головой удержаться в трогательно-косноязычной угловатой конфигурации «друг с дружкой». Беспризорные люди, оставленные обществом только на радость друг другу, становятся, увы, чаще всего друг другу враждебны.
Удалось пока Марине только однажды, в краткий момент передышки между сражениями, побаловать своего Валерочку неожиданно раздобытой для него
346
курочкой. Подкормить своего богатыря, посетовав ласково... «не всё же картошку есть»? Всё сгущающуюся атмосферу ускользающего семейного уюта не только не развеет, но ещё более усугубит неожиданный визит Марининой сестры, Натахи, явившейся к сестрёнке прямо-таки из Москвы и нарисовавшейся теперь в провинции, ну, прямо-таки совсем другим коленкором, одно слово - столичным! Волосы, выкрашенные в тёмный шатен, старательно уложены парикмахером. Лицо ухожено всякими косметическими премудростями, а помада на губах самая «сексуальная», красная, как у вампира. Куда же тягаться с ней простоволосой, наивной Маринке?
С ужасом оглядывает обновившаяся Натаха убожество преодолённой ею бесперспективной провинциальной жизни, в которой увязла младшенькая сестрёнка из-за своего любимого мужа-мучителя, не сумевшего организовать ей всё то, что теперь называется «достойной» жизнью... О «достоинствах» жизни Натахи, сумевшей преуспевать в столице, мы уже, опередив сюжет, заметили выше. А пока одарит она своих бедных родственников приглашением отужинать с ней в ресторане местной гостиницы, где она намерена обсудить с ними возможности их «светлого» будущего в столице нашей родины...
Но до этого ужина мы увидим на крупном плане смонтированные встык к этой сцене картофельные клубни, наскоро извлекаемые из земли чьими-то проворными руками и забрасываемые в вёдра в вирированном рыжевато-коричневом цвете кадра, точно выцветшего от времени, оказавшегося, увы, таким современным... Ну, да! Много раз приходилось нашему народу кое-как спасаться любимой картохой... Вот и теперь с отъездом камеры становится ясным, что картоху эту до ресторанного ужина нервно роют пока что себе впрок наши молодожёны... А с отъездом камеры на ещё более общий план видится нам уже огромное поле, усыпанное такими же «трудолюбивыми» работягами, ворующими, оказывается, эту вечную народную ценность у её нынешних хозяев, чьи надсмотрщики время от времени просекают «чистое» поле в служебных машинах, приглядывая за порядком. Так что, завидев охрану в автомобилях, зная уже, что поле битвы разворачивается по всему трудовому фронту, вмиг прячутся в картофельной ботве «обнаглевшие» бдительные стяжатели, чтобы не отстрелили их впопыхах безо всякого особого суда и следствия новые таинственные владельцы... Ведь отложился в подкорке и этот наш общий исторический опыт сталинских времён, когда за украденный тогда «общественный» колосок строго судили оголодавшее послевоенное население. А теперь грозное наказание грозит за покушение на «святую» частную собственность.
Также малоутешительно выглядит в «Магнитных бурях» та земля, что то ли подверглась какому-то вражескому облучению, то ли разъезжена гусеницами наших танков, то ли выжжена каким иным адским огнём? В вирированном кадре даже зелень просматривается сквозь линзу будто огненного марева. Всё выглядит как на войне. На гражданской что ли? Которая, может, и вправду зреет за нашими спинами, пока «общее» когда-то добро ржавеет в заводских цехах, поля скудеют, а отдельные личные счета на необозримых
347
банковских «полях» выглядят всё более урожайными? Почему едва теплится бескорыстная любовь наших молодожёнов в ожидании своего «окучивания» и куда подевались те «старатели»? Или полегли на невидимом поле боя, уничтожившем всё общественное у того множества людей, которые понятия уже и ещё не имеют, как отстаивать своё личное процветание, если не воровать?
Что хорошего даст Степану, Валериному другу, продажа его ружья, предназначенного для охоты за той мелкой дичью, что уже отстреляна пулемётами в промышленных масштабах новыми хозяевами жизни? Ну, накормит он в забегаловке на вырученные деньги своих дорогих друзей хорошей жарёхой с мясом, которую «подсевшие» на картоху молодожёны будут уплетать за обе щеки. Лишь безоружным останется он, поменяв мечи на Орала. Но не дождётся он никакого мира. Именно его, сложившего оружие и попытавшегося «мирным путём» задать предпринимателям хоть какой-то внятный вопрос, первым отстрелят за ненадобностью выяснения ненужных подробностей взаимоотношений рабочих со своими работодателями.
Видим мы в «Магнитных бурях», что не сумели эти рабочие сделать для себя никаких должных выводов, чтобы и впрямь защитить свои интересы. Это до конца становится очевидным, когда обедая с женой и другом в столовке, там же замечает Валера в укромном уголочке, за столиком, обоих недавно непримиримо враждующих работодателей, тихонько перешёптывающихся между собой о своих тайных взаимовыгодных раскладах за спиной у своих радетелей... Собственными глазами видит ведь Валера Маркина и Савчука, организовавших это сражение, но оказавшихся вдруг на поверку «заклятыми друзьми», «враждующими» всего лишь для видимости, необходимой им обоим для выгодного раздела завода. Потрясёт Валеру это открытие, но никак не образумит его. Ни его, ни его сотоварища.
Весь гнев истает, точно пар, материализуясь лишь парой невнятных слов, обращённых к заговорщикам неясным обвинительным приговором, который нисколько не тронет их, тихо ускользающих из поля зрения. Так что жизнь продолжится для всех так, будто бы ничего не случилось, будто бы почти всё крутится на круге своя, как потерянное обручальное кольцо, неожиданно возвращается Степаном Валере, надевая ему обратно на палец. Но не поможет вернувшееся кольцо исчезновению из Валериной жизни любимой жены Марины, видно, уставшей от бессмысленных сражений и решившейся сбежать следом за сестрой всё в ту же «благословенную» Москву. Подальше от хижин и поближе к дворцам.
Не выдерживая более посланного ей испытания, рушится любовь, теплившаяся уже на тоненьком волоске. Так что не случаен диалог, венчавший пылкую, нежную страсть под лунным светом, вьющийся единственным вопросом, обращаемым «друг к дружке»: что с нами случилось и отчего мы становимся хуже и хуже? Почему следующее затем страстное признательное объятие молодых людей становится похожим скорее... на прощальное... будто бы перед
348
казнью? Потому, наверное, что дальнейшая жизнь не сулит в будущем ни им, ни их детям ничего обнадёживающего для дальнейшего полноценного существования. Ни работы, ни зарплаты, ни стабильного положения в обществе. Никому не нужны эти люди, не успевшие даже разобраться как, что и почему всё это с ними произошло?
Потому в полном непонимании что к чему не помогут Марине никакие усилия, чтобы удержать своего Валеру от дальнейших битв на краю пропасти. Отчаяние снова будет толкать его от жены в объятия будто из небытия множащихся людей, выступающих точно тени из леса, оказавшегося рядом с их случайным супружеским ложем. Поначалу кажется, будто сам лес, оживая, тронулся с места всё более проясняющимися между деревьями фигурами людей, сливающимися в ту монолитную массу, которая, точно ртуть, разливается затем, вбирая всякого, кто замешкался на её пути. Это очень сильный и впечатляющий визуальный образ!
Особая энергетика этой сплачивающейся на наших глазах толпы, рождается сопротивлением унижению и действует, точно какая-то адская сила, заставляя Валеру быстро сгруппироваться, ощутив в своих мышцах готовность, увы, не к борьбе, но пока всего лишь к бесцельным потасовкам. Вот, глядишь, и Марина потянулась за ним следом. Уже рядом с ним чеканит свой всё более уверенный шаг его «боевая подруга», точно встраиваясь в общий всё более агрессивно-наступательный ритм. Но куда дальше двинутся эти люди, где и как настигнут своих обидчиков, многоголового, пожирающего их дракона?
На первых подступах к врагу запылают подвернувшиеся им под руку машины, за которыми вовсе потеряется общая спасительная для них цель. Если не посчитать «целью» ту единственную скрытую «надежду», которую озвучит Валера своей молодой супруге Марине: «может, котелок мой, наконец, расколют»? Ощущение полной ненужности и общественной бесперспективности расползается всё шире по российским просторам тягой к самоуничтожению и уничтожению себе подобных, и эта тяга ежедневно демострируется современным русским телевидением в огромных масштабах страшными картинами алкоголизма, вандализма и ничем не мотивированного насилия.
Всё это метафорически называется Абдрашитовым и Миндадзе «магнитными бурями», предвестие которых ощущается ими у самых истоков их зарождения и грозит парализовать наше общество. Фильм смотрится, как образ приблизившегося к нам глобального наказания за очередное совершённое против самих себя историческое преступление, непосредственные исполнители которого никак не чувствуют себя побеждёнными и виноватыми. Потому трудно вообразить теперь всю возможную динамику грядущих преступлений, на которые последуют обвинительные вердикты, требующие новых наказаний, переменчивость которых будет оборачиваться к нам новыми неожиданными перевёртышами. Как это происходит в «Пьесе для пассажира». Неизвестно кого и как поволокут за собой те, кто, самоистребляясь за ненадобностью, уже, кажется, ничего не теряют.
349
А пока кем-то обиженные работяги преследуют под покровом ночи в вихрях «магнитных бурь» свои вполне практические мирские цели. Как признаётся Валерке один из его сотоварищей, сражается он лично здесь только потому, что «конкретно» нуждается в деньгах, до копейки «отжатых» накануне в гостинице соблазнительной залётной «бабочкой» Анжелой, в которой Валере сразу примерещится Маринина сестра Натаха, прикрывшаяся профессиональным псевдонимом. А другим друзьям-приятелям просто любо безнаказанно колошматить от души своих и чужих, зарядившись общей вибрацией «магнитных бурь». Кажется, будто всех тянет и затягивает в какой-то мощный общественный водоворот силой центростремительного движения, сбивающего всех в единую плотную массу, упраздняющую всякие отдельные признаки homo-sapiens и разливающуюся потом по цехам и улицам пышущей лавой.
В этих блестяще разработанных в постановочном отношении массовых сценах нам явлен новый, заплутавшийся во времени коллективный герой, ещё в «Армавире» скинутый с «корабля современности», уделом которого становятся лишь беспорядочные внешние действия, за которыми чудится зловещая гармония кем-то прекрасно слаженного оркестра. Нет у этих «опущенных» людей ни мыслей, ни идей. «Улица корчится безъязыкая», безгласная, обворованная, лишь учуявшая глобальность осуществившегося при её попустительстве преступления, отбросившего её в забытьё. Не дай Бог, напомнит нам эта «улица» о себе уже спланированным наказанием, обретя дар речи и возопив трубным гласом о необходимости расплатиться с ней по всем счетам. О чём напоминает пока повальным пьянством, разрушенными семьями, переполненными тюрьмами и детскими домами... Напоминает бессмысленными убийствами и криминализацией всего нашего обитаемого пространства...
В фильме есть по-особому замечательная, будто бы камерная сцена, звучащая ярким контрапунктом всему остальному, превалирующему в картине действию коллективного героя. Это сцена в ресторане, озвученная соответствующей танцевальной музыкой и решённая тремя крупными планами: Валеры, Марины и приехавшей сестры Натахи. Ресторанная музыка почти заглушает их голоса, но сложно меняющиеся отношения между героями и без слов дают ощутить разнообразие их разнонаправленных и взаимозависимых состояний, когда, попросту говоря, Марина уговаривает супругов переезжать в Москву. Удивление, неприятие, соблазн, обида, нежелание понимать и полное понимание друг друга будто перекатываются мельчайшими оттенками от одного персонажа к другому с редкой психологической детализацией.
Весь фильм ровно так же, как эта отдельно взятая сцена, организован, как сложное музыкальное произведение, подчиняющееся своим поэтическим законам. Пространство действия достоверно и вполне условно, организованное в соответствии с авторским замыслом. Перед нами в картине возникают не просто будни, отягощённые отсутствием зарплаты или постоянного места жительства, но состояние загубленной души. Ведь забастовка рабочих неслучайно соседствует не только с ресторанным застольем, но и вполне реальны
350
ми боевыми действиями (пускай в учениях, как в «Параде планет», оглушающими наших героев то взрывами, то пулемётными очередями, неизвестно ещё кем и для чего производимыми? Всё вместе взятое становится больным пространством народной души, подвергшейся испытанию распадом своего государства. Ведь вместе с этим распадом загремели, как межнациональные, так и гражданские войны, в которых гибнут не только солдаты, но исчезают простые люди, неизвестно кто кому продаёт оружие, а дети перестают рождаться или остаются сиротами.
Таковым виделось Абдрашитову состояние страны в самом начале двадцать первого века, только что преодолевшей с трудом девяностые годы...
Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым
Ну что ж? Теперь расскажи, пожалуйста, про «Магнитные бури».С чего и как всё началось после «Времени танцора»?
После «Времени танцора» начинала складываться совсем другая история, которая в итоге называлась «Космос, как предчувствие». Но этот сценарий я не стал снимать, хотя сам замысел мне был очень интересен. Мы работали над ним долго, но, с моей точки зрения, он требовал ещё серьёзных доработок... Но Миндадзе полагал сценарий уже вполне готовым и передал его для съёмок Алексею Учителю... Так что, перешагнув через «Космос», мы продолжили другую работу, которая называлась «Магнитными бурями»...
Удивительно, но даже сегодня, глядя новости с той же Украины, с Майдана, в ожидании твоего прихода, я увидел в очередной раз, всё то, о чём был написан сценарий «Магнитные бури»... Смотрю телевизор и вижу, что никто из толпящихся людей ничего толком не знает, не понимает, что же всё-таки происходит, на самом деле? Каждый из этих людей по-своему симпатичен и автономен вне толпы. А когда он начинает сливаться с толпой, то превращается просто в её ничтожную часть. Теряются все связи, которые как-то структурируют личность, её социальную роль... Этим пользуются заинтересованные силы, и ничего нового в этой ситуации нет.
А тогда, конкретно мы увидели в интернете интересный материал... Впрочем, такого материала было полно. События развивались километрах в тридцати от Нижнего Тагила,, где течет речка под названием Салда, разделяющая два поселения: Верхнюю и Нижнюю Салду... Между ними и начался конфликт... Всё это было в газетах... Дело в том, что в этом месте находится единственный в стране завод- монополист по производству... таких металлических мощных накладок, которые скрепляют между собой железнодорожные рельсы...
Эка! То есть без них «поезд остановился» бы...
351
Железных дорог у нас много, а завод - один, то есть очень-очень выгодный... И вот в девяностые годы на этот завод стали претендовать разные силы... Кого там только не было... И ОПГ(организованные преступные группы из Нижнего Тагила и Уралмашевские), с одной стороны, а, с другой стороны, руки туда же тянули военные и казачество... То есть возникла очень даже взрывоопасная ситуация... там и телевидение включилось в эту борьбу, но всё оставалось внешне неясным, непонятным на первый взгляд... Тогда как рабочим навязали дилемму: кто будет их директор: Иванов или Петров?
Удивительно, но на премьере на Кинотавре нас строго спрашивали критики на пресс-конференции: где же это такое могло быть?
Отвечали, что происходило это не только в тех местах, а ещё, например, точно также на водочном заводе «Кристалл»... и мало ли где ещё... и не только тогда и в те времена... но происходит и сейчас в борьбе за собственность в любом, скажем, научно-исследовательском институте и кое-где ещё... Люди сейчас и тогда рвались к власти над собственностью, а бывшие коллективы вдруг распадались, порождая локальные местные гражданские войны... Вот так всё было гениально просто и сверхвыразительно...
Или ещё, там же на Кинотавре, спросили авторов: «Вы что же, опровергаете тезис о созидательных народных массах?» Но в Сочи, на курорте, обсуждать это мы не стали...
Может быть, это единственная картина, сделанная в России, как раз обо всём том, о чём мы с тобой много разговаривали. Ведь это о том, что именно все эти магнитные бури делают с массой людей -всё, что угодно... При том, что управляют этими «бурями» те люди, что находятся наверху и которые всегда между собой обо всём договорятся... А вот то, что происходит с остальными людьми, являет собой, я бы сказал, страшную картину...И предельно опасную. Вот в чём дело...
В общих чертах сценарий был уже готов, когда мы поехали на эту самую Салду на Южный Урал, в эти посёлки, и встречались там с участниками тех волнений. Там один дед с восторгом живописал нам, как его внук разбрасывал по ночам листовки... Другие рассказывали про семью, где глава был за одного директора, а жена за другого... Такой острый семейный как бы идейный внутренний конфликт... Познакомились с оператором местного телевидения, у которого из-за этого чуть семья не распалась... Но становилось совершенно очевидным, что никто ничего толком не знал и не понимал, что стоит за Петровым, а что за Ивановым...
Но люди, втягиваясь в образовавшиеся водовороты, превращались в ту самую толпу, о которой снимался фильм. Ни один человек не мог толком нам объяснить, почему они оказались в итоге по разные стороны баррикад - «да, так как-то... случайно... если бы это происходило как-нибудь по-другому, и я не опоздал, то, наверное, попал бы в другую компанию»... Это как раз всё то, что происходит в фильме. Там тоже никто ничего объяснить не может, почему он за Маркина или за Савчука? «А ты за кого?» - «Я не знаю»...
352
Кое-кто нас упрекал потом, что показанное в картине противостояние «как-то уж слишком». На самом же деле, то, как мы всё это показали, когда-то называлось лакировкой действительности. Это ведь Южный Урал, где все мужики, между прочим, охотники, и везде есть огнестрельное оружие... У нас толпы вооружены арматурой, а в реальности по ночам разъезжали грузовики с ребятами при охотничьих ружьях. При этом всё это движение масс было проплачено. И в реальности во время таких ночных противостояний людям подвозили питание военные полевые кухни...Водка была, деньги. Представляешь себе, какие там противостояли силы? У нас в фильме этого нет. Фильм про другое.
Снимали мы в Серпухове... Это мой Гэлливуд, где уже были сняты три картины, а теперь - «Магнитные бури». Там чрезвычайно разнообразная и очень выразительная натура, можно снимать что угодно.. Но фактуры для съёмок тем не менее собирались по крупицам., мы использовали несколько заводов и фабрик. Там снята вся картина, за исключением одного павильона, который строили уже здесь, на Мосфильме. Снял, и снял замечательно, с этими металлическими холодными голубыми ночами, с этими выжженными солнечными днями, оператор Юра Шайгарданов, когда-то работавший у Невского на «Охоте на лис».
Долго искали главного героя, потому что фигура эта тоже несколько условная...
И нашли Глухаря...
Он потом Гпухарём стал. А дебютировал у нас. Пришёл к нам тогда таким ярким, в красных штанах, с серьгами в ухе, такой весь эксцентричный, из театра, мол, Райкина.... И группа моя, как это случалось иногда прежде, опять стала от такого претендента как-то отворачиваться... А мне он сразу понравился и очень нравится, как им сделана роль. В нём есть какое-то содержание без истерики, такая содержательность в горьковском в лучшем смысле этого слова... горьковский персонаж... Очень хороша и точна Толстоганова... Мы тоже о ней долго спорили, но я рад, что именно она появилась в «Бурях»...
Мне кажется, что так хороша она больше нигде не была...
Она сама тоже говорила об этом... Актриса особо талантливая и разнообразная... Удивляюсь, как мимо неё прошли в поисках булгаковской Маргариты? Она именно Маргарита и сделала бы её гениально!
Съёмки были связаны с огромными ночными массовками... Дело это тоже, конечно, непростое... Было уже прохладно, а люди идут и идут в эту массовку, знают, что будет ночное питание, тащат с собой водку... начинают раньше, чем даже к обеду ночному... Конечно, как понимаешь, с такой массовкой непросто. А когда она является героем фильма!...
354
Причём, перед ассистентами была поставлена, я б сказал, специальная задача, чтобы в массовке не было, грубо говоря, уродов. Нужны были нормальные, хорошие лица. Ну, и, как результат, уродов ты не увидишь в «Магнитных бурях»... Нормальные, человеческие лица. Это очень важно для фильма. Это к вопросу о чернухе, тенденциозности и смысле самой картины, в конце концов.
А я думала водка хорошо работает для такой массовки, придаёт естественности движениям...
Всё делалось рассчитано и точно, всё многократно репетировалось и отрабатывалось. Для этого люди должны были быть трезвыми и вообще всё соображать, каждое движение... Ведь мы строго структурировали толпу, всех расставляли по своим местам... К счастью, удалось привлечь молодых офицеров из знаменитого серпуховского ракетного училища. Разделили всех по десять человек, и ребята- офицеры держали каждый свою десятку, управляли и командовали ею. И очень толково и точно выполняли наши задания в кадре. Без них непонятно, справились бы с этими массами.
Но всё равно со всеми этими массовками было непросто - бегали, прыгали... дрались... Все битвы и драки ставил со своей замечательной командой безупречный мастер своего дела спортсмен-каскадёр Валерий Деркач. Пришли они все ко мне на Мосфильме знакомиться и принесли массу видео- и фотоматериалов : вот что мы умеем делать! А там - сплошные восточные единоборства и голливудская мочиловка. И я огорчил их очень: ничего этого не надо, нужно такое русское «махалово», без никаких приёмов, без никаких кунфу, понимаешь? Нужно было наше махалово - то по морде, то ногой, то зуботычину... И, думаю, всё это в итоге получилось. Кто-то писал, кстати, говоря о постановке, что всё это сделано лучше, чем в «Нью-йоркских бандах» Ну, наверное, там это всё немножко кино. А у нас всё это наше родное «махалово» бесконечное...
Военную часть, танки, стрельбу снимали в Таманской дивизии. Там удалось снять эти учения, перерастающие чуть ли не в войну. И мне нравится как узнаваемо страшно бежит среди взрывов наша скифская красавица Рушана Зияфитдинова. Точен в роли Степана Серёжа Покровский, этот здоровый человек, который там сбегает от милиции...И неожиданная и интересная Любава Аристархова в роли Натахи из Москвы.
Кстати, многие задавались потом вопросом, отчего Татьяна, вторая жена Валеры имеет такую азиатскую внешность? Может, потому, что это наше будущее... Посмотрите, что на Дальнем Востоке происходит... В сценарии была написана просто грубая русская толстуха, которую мы тоже искали. Но как -то созрела догадка об азиатско-восточной женщине. Долго не могли найти такую. Те, что приходили уж очень были похожи на актрис. А тут среди всех появляется такая аккуратненькая девочка... Она только что закончила ГИТИС, башкирка, Рушана Зияфитдинова., совсем, правда, молодая. Но
355
попробуем...И вот надели на неё ватник, шлем крановщицы... чего-то она стала таскать... и очень хорошо всё получалось, встало всё на свои места... но молода... Ну, говорю - могла бы ты раньше родиться, лет на десять? Что же с тобой делать? А она такая юная, что ещё, оказывается, даже с мамой пришла, та её в коридоре ждала... И мы с ней распрощались, уж, слишком молода... Ну, куда? Но я стал изучать пробы - смотрю, прокручиваю снова и снова... Смотрю - а, может быть, можно как-то подправить? Что-то там, что-то как-то... вызываю гримёршу... Давай, говорю, её уродовать... Как уродовать? Так, старить и уродовать, крановщица она в цеху! И получилось, точна она очень в своём существовании на экране, талантливой девочкой оказалась...
На премьерах спрашивали порой, отчего мы не позвали эту актрису? Она что, не актриса что ли? Да нет, актриса! А почему тогда её нет на премьере? Да вот она! Вот эта девочка?
Вот так появился в картине образ Татьяны, история про то, как человек потерял любовь, а нашёл судьбу... Мне очень нравится финал у Миндадзе, когда Валера спрашивает: «Как тебя зовут? - Татьяна!» Всё просто и точно...
Подожди... Тебя поразило то, что эта девочка азиатской внешности имеет такое русское имя Татьяна?
За этой Татьяной так много всего... Это очень точный импульс, авторский импульс...
На пробы на «Мосфильм» приходили актёры, собиравшиеся сниматься в картине о каких-то там нищих рабочих, которые делят непонятно что... Кроме того ещё и картошку подворовывают... Кстати, по сценарию, картошки не было, но был сом, замечательный, огромный сом, которого вылавливают наши герои... Но огромный, килограмм 70, не меньше. Была в сценарии такая интересная сцена рыбалки... И вот для этого сома под Серпуховым был подготовлен водоём, водолазы очистили дно и воду, а в Астрахань ушли две специальные цистерны, чтобы привезти двух сомов, всё было готово к подводным съёмкам. Но, представь себе, что тот год оказался неурожайным по сомам...
Это вообще смешно... Вот, как делаются фильмы и создаются образы...
Не могли в Астрахани поймать такого сома, а там, как говорят, огромные сомы вообще-то водятся... Вот представляешь себе? Стоят две цистерны в ожидании дородных сомов, которых нет и нет...Время идёт, деньги, между прочим, идут... А снимать-то надо! А сомы идут-одна мелюзга...И что делать? И вот тогда пришла спасительная и простая идея про картошку, нашу безотказную родную русскую картошку пусть собирают, то есть воруют... Вот так возникла эта история с картошкой...
356
Ах, так? На окопной линии во «Времени танцора» слышится «тишина»... а на картофельном поле в «Магнитных бурях» проходит линия фронта... Здорово! Очень точно, по-моему, также вмонтированы машины «надсмотрщиков», «охраняющих» картофельные поля... Прямо что-то такое латино-американское...
Так вот, актёры, известные, хорошо оплачиваемые, приезжают на пробы на своих машинах... А тут какая-то картина про рабочих... Про каких рабочих? Откуда взялись и кто их знает? Как-то это далековато от нашей жизни, да, ребята? Так что приходилось им объяснять, про что, собственно, будет картина? Так что все стены в моём кабинете были завешаны фотографиями выбранной натуры, всеми этими фабриками, рабочими посёлками, цехами, заводскими окраинами.. Чтобы всем было видно, в каком доме живут персонажи, на каком заводе они работают. Вот дом! Вот завод! Вот улицы, по которым они ходят... Вот их жизнь, которую нынешние актёры никогда не видели...Или быстро забыли... А дальше нужно было теперешним актёрам обо всём этом рассказывать... Но когда приходят талантливые люди, то всё объяснить можно, и про голод, и про картошку, и про единственный лучший костюм...
Вот так складывалась эта картина, которая, может быть, ещё любопытна тем, что она сама отторгла музыку, специально для неё написанную Лебедевым. И музыка была замечательная, но в картину никак не вставала... Никак! Прежде такого опыта у меня никогда не было. Ведь я эту музыку слышал и принял её... Был на записи и очень хорошо себе представлял, для чего она записывается и куда будет вставлена. Но ни один музыкальный номер никуда не встал... Наверное, ты права, когда пишешь, что фильм слажен, как «сложное музыкальное произведение, подчиняющееся поэтическим законам пространства»... Поэтому интересно, что именно такое пространство не приняло замечательно написанную для него музыку Лебедева, который до этого написал музыку к «Пьесе для пассажира» и «Времени танцора». Для «Магнитных бурь» Лебедев тоже сделал блестящие музыкальные номера, у нас работал огромный оркестр, дирижировал знаменитый Сергей Скрипка, и мы все были весьма удовлетворены. А когда уже пришёл в монтажную и стал соединять звук с изображением, то выяснилось, что они никак не соединяются - не так, не сяк... Ничего не понимаю... Звоню в Питер и говорю Лебедеву, что ничего не монтируется. Он просто не поверил, этого быть не может! Выехал из Питера к нам в Москву, а когда приехал и сел за монтажный стол и посмотрел, то сам был потрясён... У него тоже такого ещё в практике не было. Тогда он сказал - я понял, Вадим, дело во мне. И уехал в Питер, пообещав, что через неделю пришлёт новую музыку, и прислал. Вот это уже было ровно то, как показалось, в чём нуждалась-таки картина. И музыка была замечательная!.И мы эту музыку записали. И опять всё повторилось, к нашему всеобщему потрясению. . .Картина музыку отвергла напрочь.
Может быть, потому, что сама, как ты писала, «балетная пластика карти
357
ны» её не приняла? Может быть, сама музыка не соответствовала законам этого «балета»? Или это просто такая картина? Остался от музыки небольшой номер в финале. Как и в «Остановился поезд», где тоже музыки нет, но, как понимаю, по другим причинам.
Интересно, как тема толпы движется у тебя от «Репортажа с асфальта» к «Магнитным бурям». Ведь уже тогда, в «Репортаже», люди превращались у тебя в толпе в массу, которой легко управлять - «вперёд, направо, налево, стой...»
Наверное. Это про то, что люди по отдельности представляют собою личности, а все вместе становятся толпой.
Но несмотря на простоту этого тезиса, в картине вообще мало чего поняли...Писали какие-то странные вещи, не имеющие отношения к фильму. Впрочем, это было не впервой. Ты тоже вот тут неправа, когда пишешь, что «неведомо ещё новоиспечённым молодожёнам, ступившим на военную тропу сопротивления». Слушай - это неправда, какое отношение к «сопротивлению» они имеют? Ну, никакого...
Это правда! Просто моя неточность слогана в том смысле, что никакого осмысленного сопротивления конечно там нет, а есть всеобщая свалка...
Ты вспоминаешь здесь Эйзенштейна? Там, действительно, есть планы, которые мы выстраивали с оператором принципиально под «Стачку», под этот тип фильма, и если есть какие-то аллюзии, то это хорошо...
Я вижу в «Магнитных бурях» также важную для меня интересную связь с Довженко... Может быть, генетическую?
Не знаю, осознанно ничего такого для этой замеченной тобой связи не делал, но опровергать не буду... Мне понравилось, как у тебя написано о «бегущем лесе»... Это страшновато было и на съёмках! Что-то такое возникало...
Ну, ещё бы! А какая мощная и выразительная до плаката сцена с закованным пролетарием...
Абсолютно в антитезе Эйзенштейну и всем этим ребятам, воспевавшим осознанную силу масс. Картина «Магнитные бури» про то, как люди превращаются в массы, которыми можно управлять и манипулировать...
Может быть, поэтому я не совсем согласна с прекрасной рецензией Люды Донец, назвавшей героев только «обманутыми и оскорблёнными»... Как их ни жалко, но перед нами себе на горе все ещё незрелые и не повзрослевшие люди...
358
А ещё вспоминается снова один из любимых моих кусков в «Магнитных бурях» - это ужин в ресторане, актёрское и постановочное трио просто высочайшего класса! Редкого!
Для меня самого эта задача была не из лёгких...
Да, там всё построено на точных ритмах, плавающей волне звуков и речи, в которых вибрирует вся гамма сложной перемены всех отношений. А самого ресторана-то и нет! Это класс! Глаз не оторвёшь!
Картина оказалась заметной, но удосужилась своеобразной судьбы... Даже сейчас её показывают не часто, телевидение про неё забыло. За всё это время она была показана как-то ночью однажды.
А. что было с фестивалем в Канне?
Отборщик фестиваля Шапрон был картиной впечатлён и взял её прямо в конкурс фестиваля... И говорил очень о ней хорошие слова. Сказал, что нужно срочно готовить документы, перевод, копию. А потом улетел в Париж, мы послали ему кассету, но он долго почему-то не отзванивался.! Как потом выяснилось, дирекция каннского фестиваля оказалась против картины в основном конкурсе, предложив показать её в «Особом взгляде»... Я отказался, потому что нам обещали уже участие в конкурсе венецианского фестиваля. Зачем нужна была побочная программа вместо основного конкурса? Они уговаривали, что это участие тоже престижно, но я отказался. И не мог далее понять, отчего затем всё как-то не заладилось... Потом выяснилась простая, но тоже выразительная вещь: у нас во Франции, сказали в дирекции, очень сильные профсоюзы, и показ такой картины мог внести совсем ненужный политический оттенок. Могло, оказывается, вызвать сильное раздражение то, как показаны вообще рабочие, пролетариат... Не нужно им было этого! Я был, вообще-то, весьма удивлён. Да, это не пролетариат от Эйзенштейна, но всё равно, картина предельно гуманизирована по отношению ко всем ним и по сути демократична.
В Венеции произошло то же самое... Тоже-вначале конкурс, а потом предложили программу «Против течения»...
А чтобы завершить про судьбу картины расскажу, как через полгода вдруг узнаём, что картина получает Премию правительства РФ: мы с Миндадзе, оператор, Толстоганова и Аверин. Удивлены все чрезвычайно. Приезжаем на вручение в Дом Правительства. Вручают, начали с меня. Я в ответном слове благодарю и спрашиваю главного - Александр Жуков тогда вручал - а вы картину видели? - Нет, говорит.- Я пришлю диск, посмотрите. - Присылайте.
Послали, конечно. Реакция неизвестна.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
359
Приблизившись к финалу и подводя итоги всех наших бесед, хотелось всё-таки поинтересоваться, существует ли некий общий принцип, стимулирующий тебя к созданию всякой новой картины?
Не хотелось бы говорить ничего наукообразного, но, разговаривая о картинах, мы так или иначе касались таких понятий, как «природа и степень условности»... Естественно не случайно... Тем более, что эту задачу я понимаю и воспринимаю буквально. Но «природа условности» всех наших картин РАЗНАЯ! Все они - я надеюсь - имеют отношение к реалиям жизни, но рассказывается о ней всякий раз по-разному, в разных системах координат, если так можно сказать. Думаю заметно, что природа условности «Парада планет» отличается от совершенно иной условности, скажем, «Плюмбума»... Также как природа условности «Магнитных бурь» отличается от природы условности как «Плюмбума», так и «Парада планет». Устройство этих картин разное...
Важно для меня, что все картины отличаются и степенью этой самой условности. Какие-то картины можно назвать более условными, какие-то менее... Если вообще термин «условность» что-то объясняет... Так что говорю об этом как-то приблизительно, пытаясь объяснить чего, собственно, хотелось бы всякий раз выразить... Что приходилось всякий раз так долго и почти что заново искать вместе с художником, оператором и, естественно, в первую очередь, с Миндадзе... Например, как я уже рассказывал тебе, сценарий «Парада планет» был уже написан, а сформулировать эту самую природу условности было очень трудно... Мы все долго и трудно её искали, рискуя и находя, надеюсь...
Какой особенностью кинематографа ты при этом руководствовался? Или каковы для тебя какие-то главные постулаты, определяющие особенности кино как искусства?
Как говорил мой учитель Михаил Ильич Ромм -«Кино искусство грубое»... Но по молодости, мы не очень-
360
то понимали, что именно он имел в виду... Может быть, я выражусь неточно, но предполагаю, что родовым проклятием кинематографа является его фактография! Именно здесь кроется его кардинальное отличие от, например, литературы... Вот представь себе, что, занимаясь своими студентами, я в течение пяти лет показываю и доказываю им, что кинематограф и литература принципиально разные вещи. Внешняя простота этого тезиса совсем не обеспечивает его понимания. Потому что, как бы то ни было, но студенты, а порой и режиссёры часто не понимают, точнее, не чувствуют природы этого различия, поддаются обаянию какой-то увлекающей их литературы, и не представляют себе, что кинематографу, как «грубому искусству», просто не справиться с задачей перевода литературы на язык экрана... При этом дело вовсе не в том, что литература просто более тонкая вещь... Это связано и с тем, что в литературе как раз отсутствует вот этот самый момент фактографии...
Что я имею в виду? Когда мы называем некое явление или даже обозначаем какой-то предмет, то каждый из нас - ты, я, он, она - всё равно загружает или окружает это названное слово облаками разных ассоциаций... Даже самые как бы простейшие названия конкретных предметов, вроде книги, стула или дерева, вызывают у каждого из нас совершенно разные ассоциации... Я уж не говорю о таких категорийных понятиях, как весна, любовь, дружба, ненависть, зависть... Они тем более в каждом из нас вызывают принципиально разные ассоциации...
Дальнейший монтаж слов в фразу, фраз в абзацы, а абзацев в повествование создают очень сложную, интереснейшую систему интерференций, то есть наложения друг на друга этих самых ассоциаций, позволяющих каждому из нас совершенно по-разному и по-своему прочитывать всякое литературное произведение... Тем чтение и интересно!
Тогда как грубое кино снимает для каждого из нас один и тот же предмет с той же самой определяемой режиссёром точки зрения. Таким образом, каждый зритель видит перед собой один и тот же стул или дерево. Кадр утверждает факт существования именно этого конкретного стула или дерева без каких бы то ни было дополнительных ассоциаций. Мы видим одно и то же, как представленный нам факт, не предполагающий никаких дополнительных нагрузок. То есть демонстрируемый на экране кадр, в отличие от слова мы, как факт, видим одинаково... Тогда, как слово, повторюсь, прочитывается нами фактически по-разному за счёт вот этих индивидуальных ассоциаций.
Это значит, что когда человек приносит литературное произведение, собираясь его экранизировать, то, чем лучше текст в литературном смысле, тем труднее он поддаётся перенесению на экран, тем бдительнее должно с ним обращаться... Нужно понимать что та аура литературного первоисточника, которая увлекла будущего постановщика, особого свойства и создана литературно! То есть литературными способами и методами... Так что, когда ко мне приходит студент, желая экранизировать Бунина, то я понимаю, что он, скорее всего, нуждается ещё в дополнительном опыте и знании предмета кинорежиссуры...
361
Иногда, продолжая «воспитательный процесс», я соглашаюсь со студентом и предлагаю ему сделать подробную раскадровку будущего фильма с описанием зримого «содержания кадра» безо всяких литературных изысков. Описать, что, собственно должно происходить конкретно в каждом кадре. Иногда, уже проделывая такую работу, студенту становится ясным, что всё очарование ауры литературного произведения... исчезло! В лучшем случае сохранённым оказывается только сюжет, который вовсе не является содержанием литературного произведения в точном смысле этого слова. Для толкового студента случившаяся потеря становится очевидной, он чувствует, что в результате всё получается как-то не так и что-то не то... то есть, как бы от ворот поворот... Тем более, что, как правило,чем лучше литература, тем труднее она экранизируется. Так что с литературным текстом нужно быть очень бдительным.
Поэтому - ровно наоборот! - трудно хорошему сценарию стать такой же хорошей литературой-
Нет, это не так, отечественная школа кинодраматургии в лучших своих проявлениях являла собой литературную полноценность. Я сам имел удовольствие работать с всегда блестящей кинолитературой Александра Миндадзе.
Но что же всё-таки происходит с грубым искусством, фактографическим кинематографом, как таковым? Да ничего особенного, он существует в своём пространстве, равно также, как существует литература в своём, существует изобразительное искусство, существует музыка... И кинематограф существует со своей особой поэтикой! И когда я смотрю кинофильм, созданный по законам киноискусства, то вижу, что именно в этом случае содержание кадра очень трудно рассказать словами, перевести изображение в вербальный ряд. Когда изображение объясняется словом, огрубляется его подлинная ёмкость, мельчает многосложность... Для полноценного описания одного истйнно кинематографического кадра могут понадобиться страницы текста. То есть кинематограф существует в координатах своей поэтики, которую разрабатывают лучшие киноавторы и лучшие режиссёры мира... Вся история мирового кино, фиксируя особенности его развития, наглядно показывает, что это искусство оперирует своим языком...То есть имеет свою поэтику. Великие авторы создавали её: от Люмьеров и Мельеса до Эйзенштейна и Виго, от Штрогейма и Бюнуэля до Феллини и Чаплина...
Конечно, подавляющее большинство картин, эту поэтику не разрабатывали вовсе... Может, это и не входило в их задачи. Но если я встречаю в картине нечто кинематографическое, относящееся именно к кинопоэтике, то я понимаю, что это кино... вот это-это... это кинематограф, который потом трудно объяснить во всей полноте его воздействия на зрителя... То есть я могу весьма приблизительно рассказать, о чём эта картина или о чём этот эпизод, подчас, даже как бы вне сюжетный... Но в нём содержится особое, трудно
362
переводимое в слово, киносодержание. Студентам я привожу в пример чисто кинематографический кусок из «Июльского дождя» Марлена Хуциева с утренним разъездом троллейбусов. Пусть попробуют перевести это кино на язык прозы. И выясняется, к счастью, что это невозможно. К счастью, потому что у этого грубого кинематографа существует своя и только своя поэтика, свой киноязык. Или показываю «Аталанту» Виго. Или фильмы других великих ки-ноавтров.
Хотя, по моим ощущениям, язык кинематографа или его поэтика вообще-то освоены на сегодняшний день всего лишь процентов на пять... Так что впереди для желающих безбрежный океан возможностей киноискусства, которое связанно с записью движения жизни.
В основном в своём развитии кинематограф пошёл по театральным и литературным следам... Он безусловно литературоцентричен. И в этой связи возникает весьма любопытный вопрос, который меня давно интригует. ..А что было бы с киноискусством если бы оно было изобретено, скажем, в Древнем Китае или Египте? То есть там, где отношение к изображению несколько отлично от европейского, там, где иероглиф изображает нечто другое, чем буквы, но слоги, слова иди даже целые понятия... Я думаю, что, наверное, это было бы совершенно другое искусство с какой-то иной поэтикой... наверное...
И мне всегда хотелось снять кинофильм, в том смысле, о котором сейчас говорим. Именно эту задачу и такого рода проблемы было всегда интересно решать. Тем более, что сценарии Миндадзе давали для этого все основания... Он в этом смысле абсолютный киносценарист.
Разумеется, киносодержание кадра и фильма складывается из всех компонентов: способа сюжетосложения, актёров, оптического решения кадра, работы художника, звуковой составляющей, монтажа. И, разумеется, темпоритма.
Это поразительно интересные для меня вещи, ведущие иногда просто к каким-то откровениям, замечательных тем, что они наглядно лежат совсем где-то рядом и имеют абсолютно кинематографическую, очень трудно объясняемое словами, природу.
Вот, например, как таинственно свойство просто длины, метража какого-то конкретного кадра... Сама его длина, как выясняется, предполагает разное считывание киносодержания. То есть одна длина даёт одно ощущение от кадра, а, скажем, удвоенная рождает, порой не просто иное ощущение, но уже чуть ли не другой смысл этого кадра...
Конечно. Яркое тому подтверждение, скажем, длинный план Маковецкого в «Пьесе для пассажира», когда он долго, долго крутит педали в кадре. Именно длина вводит в кадр особое ощущение опасности времени, будто вползающего в кадр следом за ним...
Может быть... Я привожу в пример длину кадра, как самый простейший пример, связанный с такими категориями, которые меня безусловно интригу
363
ют... Даже когда, например, снимается «Остановился поезд» и ставится задача сделать картину, как бы, в максимально реалистических координатах. Но и они отчасти смещаются в конце картины. Прощупывается, мне кажется, в финале какой-то другой уровень обобщения, преодолевающий фактографию кадра, чтобы переместиться в чисто кинематографическое пространство...
Конечно! Ты попадаешь в другую сферу ощущений и рождающихся обобщений, выраженных чисто кинематографическим языком, о ценности которых я тоже пыталась писать...
Я говорю не только об общих планах и не только о музыкальном сопровождении, но сами проходы героев на этих планах, их лица, обретают при этом дополнительную смысловую нагрузку...
Обо всём этом говорю несколько коряво потому, что перевести возникающие смыслы, выраженные чисто кинематографическим средствами, в слова или вербальный ряд чрезвычайно сложно... Интересно вот что. Хорошую литературу трудно перевести на экран, а кинематографическое начало в кино трудно перевести с экрана на литературный язык... Это очень сложно сделать, не огрубляя изображённое на экране... Поэтому, если нет самообмана, то я надеюсь, что в финале «Остановился поезд» есть всё-таки гораздо больше эмоционального содержания в восприятии, чем мне удалось бы выразить словами...
Вот всё то, что представляет для меня подлинный интерес в том, что я делаю, то есть преодоление данной рождением кинематографа фактографии кадра возможностями синтетически складывающейся поэтики кино... Так что я пытался в разных картинах входить в эту поэтику... А поскольку она имеет разную природу в кино ровно также, как в литературе разную природу имеют тексты Платонова, Бунина или Чехова, то в настоящем кинематографе всякий раз рождается своя кинематографическая условность разной природы... И, я думаю, что, приступая к новой работе, снова решаешь, какую картину ты собираешься снимать, проясняешь для себя особенности новой природы условности, которая чрезвычайно интригует в самом плодотворном, надеюсь, творческом смысле этого слова...
Каждый раз, начиная новый фильм, возникают абсолютно новые задачи, начинаешь работу просто с нуля, ощущая себя почти дебютантом в кино... Никакой опыт не помогает! Ну, может быть, только производственный. Всякий раз начинаешь делать картину, которую раньше никогда не снимал... Опять дебют...
Те же «Магнитные бури» снимались, ну, просто с нуля... никогда раньше не делал такую картину. Это касалось также работы со звуком и, конечно, работы с актёрами... «Магнитные бури», картина такой природы условности, что жена героя должна была быть точно такой несколько условной, какой играет её Толстоганова... Или вторая жена неслучайно с той восточно-азиатской внешностью, которая потребовалась в контексте той природы условности, которая - тешу себя надеждой - требовала именно эта кинокартина.
364
Но всё-таки очень трудно говорить словами об этом...
То есть ты попытался сказать именно то, что я пыталась передать в объёме более чем трёхсот страниц...
Да, Оля, ты решаешь задачу, обратную той, которую я решал на съёмках, когда замысел уже существует как физический объект в виде литературного сценария. Более того, он существует уже в виде сценария режиссёрского. И ты уже как будто видишь что-то из будущей картины, как бы даже слышишь её звучание, и даже предощущаешь её эмоционально...Неважно, что это не всегда точно, неважно, что позже это всё может измениться... Но вот сейчас, перед съёмками, ты обязан передать всё это твоё видение и слышание оператору и художнику доходчивыми, эквивалентными твоим ощущениям грубыми словами, переводя всё, что ты чувствуешь на нормальный язык... А ещё нужно всё рассказать актёрам... Но как им рассказывать? Разве можно говорить актёру просто о степени условности или безусловности? Значит нужно придумывать какой-то доступный для них и выразительный метоязык...
При этом, конечно, гораздо легче перевести своё эмоциональное ощущение в вербальный ряд тем, с кем уже работал, оператору или художнику, что называется, своим людям, единомышленникам и опытным мастерам, с которыми уже соединён общим опытом, который памятен, на который можно ссылаться - вот помнишь, как там было? Помнишь пробеги по лесу? Так теперь всё должно быть иначе, будет нужна совершенно другая оптика...И свет, и состояние погоды... Тогда легче искать общий язык, искать новое решение... Иногда получается, иногда нет... Но когда уже всё получилось и сладилось, то очень трудно потом всё это пересказать словами... То есть это как ровно то, чем ты занимаешься, то есть ровно наоборот! Описывая или анализируя фильмы, ты переводишь в слова экранное изображение...
Это мы ещё с тобой не поговорили - а это важно! - о таком вообще безбрежном явлении в литературе, как поэзия, чтобы задаться вопросом, а существует ли нечто адекватное в поэтике кинематографа, адекватное поэзии в литературе? На самом деле, это очень любопытный момент...
Да, сложно, конечно, добиться, как можно более полного взаимопонимания между всеми участниками процесса создания фильма. Поэтому мне вспоминается, как пример, с моей точки зрения, не слишком удачный опыт работы Тарковского с западными актёрами. Мне кажется, в общении с ними у него возникали дополнительные сложности не только из-за языкового барьера, но ещё из-за отсутствия общего культурного, эмоционального фона, сближающего людей общим ассоциативным рядом... Думаю, трудно было общаться с ними, как с русскими актёрами, какими-то намёками, нащупывая особый канал взаимодействия шестым чувством...
Не знаю. Но не думаю, что ты права... Тем более, что я говорил о взаимо
365
понимании, не в первую очередь имея в виду актёров. Их природа существования особая. Способ их присутствия в работе иное, так что на другой опыт с ними никак не сошлёшься... Хотя, когда работал Олег Борисов, например, то есть человек с абсолютным слухом на искусство, то новизна задач, природа этой новизны, всегда будоражили его... Он глубоко чувствовал и понимал, что устройство роли Гудионова в «Слуге» имеет принципиально другую природу, чем роль следователя Ермакова в «Поезде»... И дело было вовсе не только в том, что это разные люди и разные характеры. Борисов ощущал природу условности...Именно это его всегда интриговало...
Вот он смотрит в небо в «Параде планет»... Но как сформулировать задачу? В небо смотри? Но как смотреть? И камертоном часто оказывались стихи, строфа, строчка... И под этот камертон настраивалась роль...Это я о сложностях перевода киносодержания кадра. Может быть, в каком-то смысле поэзия, в отличие от прозы, ближе к музыке и, соответственно, к поэтике кинематографа в том смысле, о котором мы говорили... Умел бы играть на скрипке или фортепьяно, может, играя настраивал актёров?..
То есть чтение стихов для создания нужной атмосферы и нужного состояния из обычного твоего арсенала взаимодействия с актёрами или ты также пользуешь какие-то другие инструментарии? С иностранными актёрами такого рода взаимодействие ясно не годится...
Не знаю... Но если говорить о Тарковском, то в «Жертвоприношении» он не ставил перед собой задачи вызывать у меня, как у российского зрителя, ассоциации, схожие с теми, которые вызывало «Зеркало». Адресатом той работы был не российский зритель, но средний европеец.
Поэтому, наверное, такая холодная картина...
Трудно сказать. Но Тарковский так или иначе - из тех гигантов, которые развивали киноязык... Ведь в кинематографе океан неиспользованных возможностей и всяких языковых потенциалов новой поэтики... Фильмы Бергмана и Феллини объединяет гениальность их авторов. Но поэтика их совершенно разная...
Ну, конечно. Можно сказать, что Малевича и Репина объединяет только холст и краска...
Понимаешь, что я имею в виду, вспоминая Куросаву, Жан Виго и десятки других имён... Если пересказать сюжеты их картин, это будет странный, неполный, усечённый пересказ сюжета, не вмещающий самого главного, высшего смысла их работ... Это - кино.
366
Совсем не для параллели, но отмечаю, что трудно пересказать и сюжет, скажем, «Парада планет». Хотя он там как бы есть. Или нет его? Или он выражен всё-таки кинематографически? И как же Миндадзе удалось записать словами вектор этого сюжета? Вот что меня интересует в кино. Просто «заснять» некий сюжет мне было бы неинтересно.
Длинный перерыв в работе объясняется тем, что у меня ушло очень много времени на поиски денег для одного большого проекта... Он по нынешним временам стоит 20 млн долларов, и мне казалось, что я такие деньги найду... я их искал... Но, видать, переоценил свои силы. И ситуацию вообще с отечественным кинематографом. Многие очень богатые люди... или связанные с большими деньгами и могущие, в принципе, как-то субсидировать или спонсировать этот проект, поначалу обещали своё участие... Я пытался им рассказать замысел, что называется, как можно более затейливо... Но когда дело доходило уже до какой-то конкретики, то все эти обещания опрокидывались... И я понимаю, почему это происходило... Именно потому, что этот замысел очень трудно выражается в словах... И маловероятна кассовая с него прибыль...
Речь идёт о картине, в которой одновременно должно присутствовать несколько исторических времён... Одновременно! И вот эта одновременность предполагает очень сложное инженерное обеспечение съёмок, инженерно-постановочное, инженерно-технологическое, наконец... Потому что на компьютере то, что хочу, сделать невозможно... Но меня чрезвычайно увлекает этот замысел, потому что он абсолютно кинематографичен... То, что я предполагаю сделать, невозможно осуществить ни в каком другом искусстве... только в кино... Наверное, это можно описать в литературе, но кино даёт совершенно специальную возможность и рождает особый эффект... Ничего подобного я ещё не видел нигде... И поэтому меня это чрезвычайно занимает, как-то будоражит, интригует... Я не потерял надежду когда-нибудь с этим запуститься...
Хотя материал для истории очень простой... Детский врач... У него заболевает дочка... И вот вокруг этого начинает раскручиваться всё действие... И замечательно то, что включаются все спирали раскрутки этой истории, захватывая и включая в себя другие исторические времена... Если сказать в двух словах, то хотелось бы сделать картину о некоей МЕТАФИЗИКЕ ЖИЗНИ, если вообще-то можно так выразиться...
Ведь что бы ни происходило в истории или с человечеством в целом, но, вообще говоря, люди остаются теми же, что и десять тому назад, и сто, тысячу, и десять тысяч лет... С тем же составом крови, что и сейчас, и той же самой нормальной температурой в 36 и 6 десятых по Цельсию... Основные инстинкты, что называется, были теми же самыми... человек в этом смысле не изменился. Так что, в каком-то смысле, эта картина об этом... Я говорю очень кратко и, конечно, упрощаю, но, на самом деле, это должна быть картина - повторяю - о метафизике жизни... Кто-то из великих сказал, что история человечества - это история костюма, и не более того... Может быть, в этом есть некоторое упрощение, но, конечно, чтО-то в этом есть...
367
Ну, и совсем последнее. Всяк спрашивает, если не тебя, то меня, предполагаете ли вы дальше однажды снова работать вместе с Миндадзе?
Не знаю, не зарекаюсь, но, думаю, что нет. Миндадзе ушёл в режиссуру, а дело это затягивающее... Потому что, хотя сложное и трудное, но фантастически интересное!
Приложение
Завершая работу над этой книгой, мне пришло в голову предложить вниманию её читателей две рецензии, написанные моим отцом, Евгением Даниловичем Сурковым, как теперь получается, уже давным-давно...
В одной из них, которая была опубликована в его сборнике «Что нам Гекуба?», анализируется «Охота на лис». В другой, опубликованной в «Литературной газете» в 1987 году, оценивается весьма своеобразно для своего времени остро дискуссионный тогда «Плюмбум».
Это не просто приложение, как дань памяти моему учителю и отцу, но также ещё один штрих, характеризующий то время, в которое эти рецензии писались. А ещё удивительная для меня деталь, дополняющая общий рисунок нашего, как оказалось, общего семейного пристрастия к такими крупным и важным для нашей истории художникам, как Вадим Абдрашитов и Александр Миндадзе.
369
Е.Д. Сурков
ПЁТР ИЩЕТ ПАВЛА
Пусть вам не кажется, что на замок Я запер в добродетели порок.
Джон Донн. Послание сэру Гэнри Уоттону
Картина режиссёра Вадима Абдрашитова и сценариста Александра Миндадзе «Охота на лис» начинается с панорам ночного парка, в который вторгается милицейская машина. Сильные фары выхватывают из темноты юношей и девушек на скамейках. Застигнутые слепящим лучом, они прикрывают лица, застывают в неподвижности. На миг выходя из той жизни, какой жили до этого. Но не пугаются и не смущаются, а только ждут, пока столб света сдвинется с них на соседей. Пока они снова не погрузятся во тьму. И не вернутся в ту свою жизнь, которую на миг прервала патрульная машина. Но не проявила, не сделала понятной. Ведь то, что мы успели засечь в луче света, это ещё не жизнь. А только её видимость. Кажимость, за которой пока не видно никакой сути. Суть по-прежнему спряталась от нас, затаилась. И нам, видящим только то, что видят сидящие в машине милиционеры, в неё с этой точки не проникнуть. Как только мы обожжём светом вот эту толстушку в джинсах, вот этого подростка в майке с какой-то надписью латинскими буквами на груди, они спрячутся от нас. За своими нейтральными, ничего не обозначающими, выжидательными позами. За напряжённостью своего терпеливого насторожённого молчания.
Вспарывая лучом фары чёрное чрево парка, можно только отыскать того, кого ищут люди, одетые в милицейскую форму. Но и того, кого искали, можно застичь, но не постичь. Постижение - не дело задерживающего. Это наше с вами дело. Но какое трудное, какое неподвластное нашим желаниям. Даже самым добрым. Путь к тому, что психологи называют интериоризацией личности, - долгий путь. Да, и всегда ли он приводит нас к цели? Даже если мы терпеливо пройдём его до конца? До доступного для нас конца, хочу сказать...
В начальных кадрах фильма Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе «Охота на лис» ищут не «лис», а человека. Это потом герой фильма вернётся к спорту, носящему такое название. А сейчас он охвачен нетерпеливым желанием отыскать тех пацанов, которые только что, с час тому назад, беспричинно избили его, взрослого и сильного человека, заслуженного рабочего, у входа в тот самый парк, который сейчас «прочёсает» милицейский патруль. Он их найдёт. Найдёт скоро без особого труда. Юные хулиганы ведь и не прятались от возмездия. Одного из них милиционеры возьмут в том самом парке, где только что был избит Белов (так зовут рабочего, героя фильма). Совершив преступление, он удобно уединился со своей девушкой на одной из дальних скамеек. Другого возьмут дома. Когда придут милиционеры, он будет делать вид, что безмятежно спит в своей уютной, чистой постели.
Любопытно вспомнить, что одному из критиков, писавших о фильме сразу же по-
370
еле его выхода на экран, эти вступительные кадры показались сделанными по законам «чистого детектива». Критик писал: эпизод снят оператором Ю.Невским «в духе классического (!) детектива. Зловещая тьма, освещаемая напряжённым светом фар, волевое и гневное лицо Белова, уверенный и чуть ленивый профессионализм работников милиции».
Трудно было бы оценить эпизод с точки ещё более далёкой от его сути, чем та, которую выдвинул критик! Если чего начисто нет в картине «Охота на лис», то именно детектива. Тут всё необычно по психологической проблематике, по сюжетному ходу, по методу анализа характеров, по социальной и нравственной коллизии, в которую оказываются втянутыми основные персонажи. И панорама ночного парка, которую даёт Абдрашитов, не бытовая зарисовка и уж конечно не эпизод из детектива. Это превосходная метафора того особого состояния человеческой души, какое и будет рассмотрено в фильме. Да, эта панорама служит введением в обстоятельства дела, в исходную сюжетную ситуацию. Но вместе с тем, повторяю, она - выразительная метафора, вводящая нас в самую суть темы. В её философско-этический общезначимый смысл.
Фильм «Охота на лис» на экранах шёл мало. При подведении итогов года не упоминался. Ни в какие «обоймы» не включался. И вызвал всего три-четыре рецензии. Оказавшиеся равно очень далёкими от того нового, что фильм внёс в наш духовный опыт.
Упоминаю об этом не ради запоздалой полемики с коллегами-критиками, а для того, чтобы указать тенденцию, отчётливо и часто проявляющуюся в нашей критике вообще. Эта тенденция в подгонке явлений, подлинно уникальных, как и всякое настоящее произведение искусства, прежде небывалых, как некий шаблон. Въезжает в парк милицейская машина, ищет преступника - значит, детектив. На этом мы с вами и остановимся. И в дебри авторского замысла не полезем. Откроем фильм с помощью ключей, не раз уже опробованных на других замках.
Тогда всё в фильме сразу же станет на свои места. И можно будет, к примеру, на том основании, что в нём главные герои носят фамилии Белов и Беликов, определить суть картины так, как делает это Андрей Зоркий: «Белов против Беликова»? Благо между Беловым и Беликовым развёртывается сложнейший и психологический, и сюжетный конфликт. А то, что Белов как раз против Беликова и не ведёт борьбы, согласно такой методе анализа, во внимание может быть и не принято. Шаблон это разрешает: остановиться там, где обычно и останавливается наше кино. Разрешает он и такой подход, как в рецензии А.Кузнецовой. Кузнецова смысл картины усматривает в том, что в ней «Белов сходит с дистанции». Такой эпизод в самом финале ленты действительно имеется. И это очень важный, очень существенный для её понимания эпизод. Только разве Белов сошёл с дистанции? С той, какую неожиданно сам для себя нащупал? И какую так умно, так упорно прокладывали для него сценарист и режиссёр?
Все эти критические скороспелки - от привычки сосредоточивать своё внимание не на том новом, что фильм, пьеса, роман несут с собой, а на том, что делает новое произведение искусства хотя бы внешне похожим на уже знакомые образцы. Такой способ рецензентского мышления очень опасен. Потому что неизбежно ведёт к тому,
371
что можно определить как банализацию искусства. Как стремление заменить новое, непривычное банальным, никого поэтому не тревожащим и ни на какие новые и трудные размышления не вызывающим. Поставил, к примеру, Отар Иоселиани картину «Жил певчий дрозд», так активно противящуюся каким бы то ни было однозначным, сковывающим определениям, как ни противилась им, может быть, никакая другая картина. Такую неуловимую в своей сложности, многомерности, парадоксальности. Но к зрителям спешат на помощь критик и журнал и спешат - из самых благих побуждений, оценим и это, - успокоить их: тут же всё просто, как притча, уверяют они. И действительно, при помощи нескольких логических операций трудное превращается в простое, многозначное в однозначное, новое в банальное и плоское. А весь фильм - в дидактическую притчу, из тех, что во множестве уже рассказывались нашим кинематографом.
Ситуация, вызванная непривычной сложностью фильма и теми недоумениями, какие он поэтому поначалу на себя навлёк, при таком подходе действительно сразу упростилась. Чего и хотели и критик и журнал. И спорить, не то что негодовать, сразу стало не о чём. Но выиграла ли от такого «умиротворения умов» картина Иоселиани? Нет, думаю я сейчас, годы спустя, проиграла. Настолько, что хочется спросить: уцелела ли картина в интерпретации, благожелательно настроенных к ней критика и журнала? Поскольку то новое, что должно было сказаться в ней и что, как исходная предпосылка, как полемический посыл, было направлено в ней как раз против дидактической однозначности и прямолинейности, этих опознавательных признаков многих наших фильмов и пьес, при таком подходе, при таком способе критического анализа оказалось напрочь уничтоженным, смытым, заштрихованным.
Всё, что здесь было сказано о направленности «Певчего дрозда» против любой дидактики, имеет прямое отношение и к картине «Охота на лис». Думаю, она потому-то и вызвала затаённое недоброжелательство одних и равнодушие других,, что в ней сказалось то новое слово, какого наше кино ждало, даже не давая себе в этом ясного отчёта, но к восприятию которого критика ещё не была готова.
Внешне фильм Абдрашитова и Миндадзе, впрочем, кажется совсем обычным. Обыкновенный бытовой фильм. С тщательно проработанной бытовой средой, с подробной характеристикой героев по их способу жить, по способу изо дня в день - поверхностно и привычно - общаться друг с другом. Тут всё знакомо зрителям, как тот парк, с панорамы которого началась картина. Или как та забегаловка, где дружески беседуют рабочие (среди них Белов - побитый и яростный от обиды) с рядом расположившегося завода. И где гомонят одинаково, реплика наскакивает на реплику, и ничто особо не выделено, ничто не расчленено. Тут, как и в большинстве других эпизодов, кажется, что и формы-то никакой не искалось, что её вроде бы и нет. Так, поставили камеру и снимали: поселковую улочку, уютный сарайчик, где работает «для души» Белов, его тщательно убранное женой жильё, территорию колонии, подъезд к ней, игру заключённых парней в волейбол и т.д. и т.п. Но форма в «Охоте на лис» - отточенная и до последнего миллиметра плёнки тщательно продуманная и отобранная. И быт тут только среда обитания героев, необходимая для того, чтобы мы поняли не только социальный типизм, но ещё и особого рода значимость и необычность происходящего
372
с ними. Быт тут дан как почва, как фон, а вместе с тем и как начало, которое Белов, сам того не сознавая, в себе преодолевает. Быт тут не тема и не предмет основного интереса Абдрашитова и Миндадзе, так как их интерес направлен на другое: на то, что будет происходить в душах героев. В их сознании. Быт тут только сумма привычек, окаменевших представлений, мешающих Белову и Беликову прорваться к себе, настоящим.
У Маркса в «Капитале» есть такое рассуждение: «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Пётр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него формой проявления рода человек.
Это мысль огромная, обращённая к самой сути проблемы гуманизации межличностных отношений в любом - социалистическом прежде всего - человеческом сообществе. И исчерпывающе вскрывающая то, что стоит препятствием на путях к такой гуманизации. На пути - от Петра к Павлу и от Павла к Петру.
В 20-е годы, помню это по себе, такой переход от Петра к Павлу представлялся очень простым, как бы само собой подразумевающимся. Автоматически вытекающим из самой сути тех новых отношений, в какие революция поставила всех Петров ко всем Павлам великой армии труда. Но в дальнейшем ни о каком автоматизме говорить не пришлось. Не приходится и сейчас, на 70-м году революции. Оказалось, что прийти к себе, как к человеку, через постижение человеческой сути другого - трудно, очень трудно. И далеко не всем удаётся. Даже тем, кто такой переход и хотел бы совершить.
Дело тут не только в том, о чём так страстно, с таким острым ожиданием конечного разрешения мучивших его сомнений задумывался в «Silentium» Тютчев: «...другому как понять тебя, как он поймёт, чем ты живёшь?» Глубинную мудрость этих строк, нёсших в себе предупреждение огромной значимости, сейчас мы более или менее поняли. Но в 20-е годы о ней даже не спорили: её просто не замечали. И оттого, что не замечали, на пути Павла к Петру выросли завалы торопливых и поверхностных суждений и догм, предрассудков и иллюзий. Время эти завалы, конечно, постепенно расчищает, но и сейчас они всё ещё очень велики и очень трудно преодолеваются.
Об этом и фильм «Охота на лис».
Проследим, как эта мысль выражена в нём сюжетно.
После того как их опознали, Беликов и его дружок Стрижак, естественно, предстают перед судом. Но на суде с ними происходит странная метаморфоза. Виноваты они оба, причём виноваты одинаково. Но под замок берут одного Беликова. В таком приговоре немалая заслуга доки-адвоката, нанятого состоятельными родителями Стрижака, но не только его, но и Беликова тоже. Он ведь на год младше своего приятеля, и значит, сидеть ему меньше, чем тому. Вот он и принял на себя всю ношу ответственности, дал другу возможность отделаться условным наказанием.
В Беликове, каким его играет Игорь Нефёдов, странно, а вместе с тем и очень характерно для его поколения сочетаются ранняя, не по годам, сформированность, покойная и твёрдая определённость - и в поведении, и во взгляде на жизнь - с мальчишеской расплывчатостью черт, мягкостью губ, почти девичьей нежностью лица, го
373
лоса. Но сколько-нибудь заметного влияния на его поведение это противоречие не оказывает. В этом мальчишке, даже ещё не юноше, чувствуется какое-то странное равнодушие. И к себе, и к людям вокруг. Ведь и Белова он бил равнодушно, просто от нечего делать. Ни денег у него они со Стрижаком не взяли, ни злобы к нему не чувствовали. Так, делать было нечего... Так же равнодушно воспринимает Беликов приговор. Будто попасть за решётку для него дело привычное, плёвое. Открыт он только своим ближайшим дружкам, да ещё своей девчонке. Для всех же остальных он книга за семью печатями. От них его душа замкнута на замок, им в неё нет доступа.
В этом убеждается и Виктор Белов, когда ему на ум приходит странная идея: достучаться до Беликова, стать ему другом, помочь пройти через эти два года, заработанные им (это-то и служит для Белова первым побудительным толчком) всё же не совсем справедливо.
Странность этой идеи ни в коем случае не должна остаться недооценённой. Тем более что Белов, которого играет Владимир Гостюхин, меньше всего, казалось бы, способен на такой сложный и неожиданный душевный порыв. Что ему этот Беликов? Сам же пошёл под такой приговор, как сам же выбрал и скользкую дорожку, с которой возвращается лишь меньшинство. Да и что Белову до того, вернётся ли к людям Беликов? Между тем, оказывается, ему до всего этого очень даже «до чего». Настолько «до чего», что он совершает поступки - один за другим, - на какие ещё неделю назад никогда бы и нипочём не посчитал себя способным.
Поступки и впрямь странные! Немногие на них готовы были бы пойти.
Парадоксальность душевной ситуации, которую и исследуют - бережно, осторожно, отлично отдавая себе отчёт в её сложности - Миндадзе и Абдрашитов, тем более поражает, что в гостюхинском Белове нет ничего, что, так сказать, предпосылочно, исходно располагало бы взять на себя ответственность за судьбу Беликова. Побуждало бы искать к нему пути - не формальные, а настоящие, человеческие. Те самые, какие Павел ищет к Петру, когда хочет открыть в нём человека и так полнее пробиться к себе самому, к своей человеческой сущности.
Как идея всё это совершенно чуждо Белову. Никогда не могло быть им осознано на философском уровне. Какая там философия! Он и простых-то книжек, похоже, не читает. Это натура элементарная, скорее грубоватая. И никакой рефлексией не тронутая. Для него в жизни всё просто, всё правильно, всё заведомо ясно. Как те занятия, которым он с увлечением предаётся на досуге: рыбалка, работа по металлу в своём уютном уединённом сарайчике.
Нет в нём никакой особой чувствительности, интереса к духовной жизни людей, даже кровно ему близких - жены, восьмилетнего сына. Белов у Гостюхина не из тех, кого волнуют какие-то общие проблемы. Занят он только делом, работой. Тем, что входит в привычный для него круг житейских обязанностей и привычек.
Но так только до поры.
Гостюхин рисует портрет своего героя, тщательно избегая каких бы то ни было утепляющих подсветов или психологических усложнений. Мы видим только поступки. Только действия. Их объяснение, анализ - не дело актёра. Это наше с вами дело. Наша задача. Что же касается Белова, то в его жизни - на первый взгляд - всё остаёт
374
ся, как и прежде, простым и ясным. Всё протекает, как у всех. И ничего не возникает такого, что выделяло бы его из ряда. И вот, поди ж ты, на какую душевную отзывчивость оказался он способен! На какую сложность и тонкость понимания другого человека, причинившего ему только зло. Обиду, какие не забываются.
Настоящий, внутренний сюжет начинается в «Охоте на лис» с того момента, когда Белов вдруг, ровно бы и не готовясь к этому шагу, решает посетить Беликова в тюрьме. До этого всё было только вступлением в настоящий сюжет, служило только обозначению основных ситуационных предпосылок, из которых затем вытекло такое странное, поистине непредсказуемое продолжение.
Беликов Белова встречает недоверчиво, даже враждебно. Этого и следовало ожидать. По странной, но в этой ситуации для Беликова вполне естественной, логике -Белов ему враг. То, что избивал не Белов его, а он Белова забылось. А запомнилось только одно: я здесь, за решёткой, из-за него, из-за этого, невесть зачем притащившегося сюда типа. Я из-за него общаюсь с подонками, которых раньше, на свободе, избегал, из-за него мою нужники, ем тюремные харчи. Чего ж он, в самом деле, сюда заявился? Чего ему от меня ещё надо? Беликов почти в ярости, готов устроить скандал, апеллирует к дежурному, требует, чтобы его немедленно избавили от этого странного посетителя.
Казалось бы, после этого Белов должен был протрезветь. А он, наоборот, укрепился в своём желании достучаться до парнишки, найти к нему какой-то свой, особый человеческий ход.
Зачем ему это нужно? Он же сам сразу после происшествия в парке говорил не только об избивших его пацанах, а обо всех молодых чохом, с ненавистью. Призывал расправиться с ними даже не по закону, а по мере своего собственного негодования, своей собственной обиды. А когда к нему прислали на выучку паренька, будущего рабочего, яростно отверг предложение стать его наставником. Он ведь «зашёлся» от совершённой над ним несправедливости, как бы потерял себя в мощном и слепом чувстве обиды и злобы.
И вот какой неожиданный слом в нём произошёл. Почему? Он и сам скорее всего не сумел бы это объяснить. Пробурчал бы только несколько слов о том, что ему жаль стало паренька, который один на себя всю вину принял. Но это было бы только частью правды, причём не самой существенной. Что же касается чувства, какое неожиданно связало Белова с Беликовым, то ему трудно подыскать определение. Настолько оно неожиданно и непривычно для нас.
Всмотритесь в этом контексте повнимательнее в сцену первого продолжительного свидания Белова с Беликовым. С помощью заводских организаций ему удалось добиться разрешения провести с парнем целые сутки в особом помещении, специально предназначенном для встреч заключённых со своими родными. Но кто он-то Беликову? Дядя? Брат родной? Нет, уж если искать определение в семейном кругу, то скорее отец. Всей силой души стремящийся разделить с сыном тяжесть этой его жизни. Жизни за решёткой.
Впрочем, и это сравнение не годится: грешит сентиментальностью.
Да и очень уж всё нескладно, коряво между ними протекает. Ни под какую сенти
375
ментальную сцену не подвёрстывается. Володька, конечно, постепенно оттаивает. Вот уже и пирожки, принесённые Виктором, похвалил. А потом и вовсе расчувствовался (на свой манер, разумеется, в пределах своего, уже успевшего задубенеть, характера): попросил, чтобы распетушившийся от обиды на него Виктор не уезжал, дал бы ему возможность хотя б отоспаться в тишине и покое.
Зритель понимает: дело тут не только в возможности поспать. Оно много глубже. Виктор стал нужен Володе. С ним ему не так одиноко. Не так мерзко.
И всё же: где тут души, открытые навстречу друг другу? Где тут Павел и Пётр, постигающие - один в другом - человека? И так торящие тропинку - каждый в отдельности - в своей истинной сути?
Между тем то, что происходит в этой поразительной по своей жёсткой и строгой правдивости сцене, единственной в своём роде в нашем кинематографе, как раз и заключает в себе именно это гуманистическое содержание. Это значение - хотя оно, это содержание, и наглухо скрыто от участников встречи, причём от обоих одинаково.
Достоевский писал, полемизируя с Добролюбовым о творчестве Марко Вовчок: «Можно знать факт, видеть его самолично сто раз и всё-таки не получить такого впечатления, как если кто-нибудь другой, человек особенный, станет подле вас и укажет вам тот же факт, но только по-своему, объяснит его вам своими словами, заставит вас смотреть на него своим взглядом. Этим-то влиянием и познаётся настоящий талант».
Абдрашитов и Миндадзе в высокой степени наделены таким даром - видеть за фактом скрытую от других суть. И объяснять эту суть так, чтобы мы сами захотели пробиться к ней, а не по подсказке авторов картины. Не под их руководством.
Но как раз эта черта фильма, самая в нём драгоценная с точки зрения эстетической, и не понравилась критике. Е.Громов нравоучительно писал: «Всё-таки хотелось бы, чтобы А.Миндадзе и В.Абдрашитов - серьёзные и думающие художники - несколько активнее искали бы сами ответа на обсуждаемые ими сложные вопросы, а не возлагали их бремя на плечи зрителя».
Слышите, какая жгучая тоска по подсказке звучит в этом упрёке? Зачем же вы меня, бедного зрителя, оставили без помочей? Зачем самого заставили искать подходы к смысловому центру картины?
И говорится это в статье, которая названа «Приглашение к раздумью»! Какое же может быть раздумье, если авторы всё зрителю разжуют и в рот положат? Глотай, миленький, без опаски, не утруждай себя, родненький, слишком-то... За тебя авторы поработают. И всё тебе разъяснят...
А если всё разъяснить нельзя? Если мысль произведения настолько нова, что не поддаётся однозначной расшифровке? Пока не поддаётся? Потому что нам надо ещё тянуться к смысловой доминанте фильма. Надо самим поработать душой!
Что же касается пожеланий, адресованных критиком авторам, то какая это знакомая логика, какая знакомая система взглядов! Только Громов не учитывает, что авторы картины не то чтобы не хотели дать зрителям шпаргалку, а просто не имеют её. В то, что происходит между Беловым и Беликовым, всё так ново и сложно, что это новое, похоже, им и самим до конца не ясно.
Эту-то новизну нам, зрителям, и следует оценить в первую очередь.
376
Да и какой, собственно, ответ могли бы Абдрашитов и Миндадзе дать «на обсуждаемые ими сложные вопросы»? Если готовых на все случаи ответов в исследуемой ими ситуации нет и никогда не будет? Да тут, кстати, вовсе не ответы важны, а самый поиск. Важен выход на проблему, впервые рассмотренную под таким углом зрения и на таком философском уровне.
Павел-то Петра в их фильме так и не постигнет в его человеческой сути. Вот что необходимо осознать. Вот что тут обязательно надо иметь в виду постоянно. Хотя Белов и будет эту суть искать - по-своему, в пределах возможностей, отпущенных ему его прежним жизненным и культурным опытом. Искать упрямо, настойчиво. Вслепую. Но горячо, искренне.
Тем не менее в решающую минуту Павел снова замкнёт перед Петром свою душу на замок, снова отъединится, уйдёт в свою особую, Виктору недоступную - по возрасту, жизненным интересам, приятельским связям недоступную - жизнь.
И всё это - правда! Именно так и должно было произойти. Когда Белов наконец встречает Беликова у дверей колонии, свободного, готовящегося вернуться в мир, к людям, Виктор светел и радостен, как тот зимний денёк, тёплый, но со слепящим молодым снегом вокруг, на фоне которого Абдрашитов и оператор Невский снимают их встречу. Но не проходит и нескольких минут, как подхваченный дружками Беликов, вместо того, чтобы ехать с Беловым к нему домой, где жена приготовила для них обильный праздничный стол, сидит в их такси и только неловко что-то кричит оттуда Белову. Ничего, мол, старик, так уж получилось, не сердись! Ведь мы ещё увидимся...
Они и увидятся. Белов, движимый каким-то совсем уж не поддающимся привычной квалификации чувством - то ли обиды, то ли ревности, то ли неутолённой надежды на то, что теперь-то уж они с Володькой - как два братана - всё обсудят, всё надолго и накрепко решат, - отправляется в ресторан, где, по его расчётам, должна была собраться Володькина компашка.
Там он их и находит. И скоро втягивается в их круг. Они ведь ему рады, пацаны, знают, как он старался для Володьки. И теперь, от щедрот своей юности, готовы отвалить ему целый ломоть своего дружелюбия и небрежной, чуть свысока, ласки. Естественно, что ласка эта не насыщает Белова, что она его оскорбляет. Да, он слышит то, что ему говорит Володя: что туда он больше никогда не вернётся, что с него хватит, что он будет строить свою жизнь, как все, как и Белов её строил. Вон уж дружки позаботились его трудоустроить, значит, всё в порядке и волноваться не из-за чего.
Но, слушая Володю и его товарищей, Белов всё больше уходит в себя, всё больше мрачнеет. Теперь между ним и Володей - стена, много выше той, что разделяла их тогда, когда Володя отбывал свой срок в колонии.
Фильм первоначально кончался страшно. Белов жестоко, сильно избивал Беликова. Избивал на том самом месте, где два года тому назад Беликов и Стрижак избили его самого.
Впоследствии Абдрашитова и Миндадзе уговорили на другой финал. Не знаю, пошла ли эта замена на пользу фильму чисто драматургически, но знаю, что новый финал не увёл его от той мысли, развитию и обоснованию которой он призван был послужить.
377
Напомню: Белов занимается спортом, который именуется «охота на лис». Человек с наушниками бежит в открытом пространстве, ловит сигналы, которые посылает в воздух затаившийся где-то радист. Задача: найти радиста, засечь его радиостанцию.
Конечно, это снова метафора, ещё более ёмкая и вместительная, чем та, с которой фильм начался. Идёт поиск человека. Человек ищёт человека. В безбрежном просторе земли, неба, человека, отделённого от него тысячью преград. И находит.
Но в нашем случае он его не найдёт. Выйдя на заданную ему траекторию, Белов с неё неожиданно сойдёт. И пойдёт не к друзьям, уверенным в его победе (среди них и заранее ликующие Беликов с дружками), а куда-то в глубину леса. От людей, ждущих его триумфа. К самому себе. Потому что, как я понимаю финал, он вдруг остро почувствовал необходимость разобраться в том, что произошло с ним за эти странные два года. И в особенности за те дни, когда обнаружилось всё то, что снова отделило Белова от Беликова.
Разберётся ли он в этом? Не знаю. И не считаю для себя обязательным знать. Я ведь узнал зато другое, и это другое познал на такой глубине, что мне на долгие годы достаточно будет этого знания.
Так фильм «Охота на лис» договаривает, на новой глубине высветляет тему, возникшую перед нами в фильме «Средь бела дня». По сути, Абдрашитов и Миндадзе вступают в тему на том самом месте, где авторы «Средь бела дня» остановились. В том фильме всё замкнулось на исследовании. - юридическом, правовом - ситуации, которая для авторов «Охоты на лис» стала только началом. Побудительной причиной для того, чтобы глубоко заглянуть в души тех, кто оказался втянут в почти такую же ситуацию. В том фильме люди не искали путей друг к другу, что было для них и невозможно - это легко понять, припомнив положение, в каком они находятся, - и не нужно им. Здесь мы входим в круг новых проблем, героям «Средь бела дня» неведомых. И составивших самую суть отношений, исследуемых на примере героев «Охоты на лис» Абдрашитова и Миндадзе. Эту суть я познаю в процессе психологического вживания в людей, прежде мне незнакомых, а теперь ставших такими близкими и интересными. Мне ведь было бесконечно интересно и важно следить за тем, как Пётр шёл к Павлу, открывая в нём человека и через это постигая свою собственную человеческую сущность. Не в этом ли и состояло главное? Не на этих ли путях искусству суждено реально поспособствовать сближению людей, прорытию вернейших и кротчайших путей от одного к другому? И от них, взятых отдельно, ко всему нашему человеческому сообществу? К жизни. К народу. Но теперь уже на другой глубине. И с другой мерой содержательности.
Но ведь наш Пётр, напомнят мне, так и не нашёл пути к Павлу.
А почему, собственно, не нашёл? Он же его искал и то находил, то, это тоже правда, терял. Но не это тут важно. Важно, что мы вышли на гребень проблемы глубочайшего гуманистического значения. Что же касается непосредственных результатов, то разве вы ждали, могли ждать, что всё так сразу и «образуется»? И Пётр сразу постигнет в Павле человека, а тот радостно и легко пойдёт ему в этом навстречу. И, насколько только сможет, облегчит Петру путь к себе и от себя снова к Петру, но уже новому, открывшему в себе новые возможности и новые стремления?
Старый английский поэт писал, что он не собирается, не считает правильным за
378
пирать в добродетели порок. И что он не хочет этого потому, что видит в подобной, как сказали бы сейчас, интеграции нечто двусмысленное, опасное. Но если это верно, а это верно, то в пороке не стоит искусственно, насильственно заключать добродетель. Им лучше дать размежеваться, отойти друг от друга на возможно более далёкое расстояние.
А в итоге дать нам познать их в их истинной сути. Порок - как порок и добро - как добро. И не абстрактно, а персонифицированно в людях и их неповторимо своеобразных судьбах.
Но это процесс долгий и совсем не простой. Миндадзе и Абдрашитов рассказали историю человека, который вдруг ощутил в себе чувство близости к другому человеку, в сущности ему неведомому, к тому же нанёсшему ему тяжёлое оскорбление, и начал искать пути к нему. Самое интересное при этом в том, что поиск этот был предпринят не по уму, а по сердцу, по инстинкту, неясному, непонятному для самого ищущего. То есть раскрылся как некая субстанциональная человеческая потребность, в своём общечеловеческом содержании, а не программно-установочно. Белов ведь не от какой-то там идеи шёл, когда вдруг попросил свидание с Беликовым. Эта потребность родилась в нём на сокровенной глубине чувства, в процессе стихийного личностного самоосознания. Родилась спонтанно.
Но сколько в этой стихийности и спонтанности закономерного! По высшим нормам нашего общежития проращённого и осмысленного. Нет, не самим Беловым, а авторами картины. Ими - за него. Как это часто и бывает в искусстве. И обоими актёрами -Гостюхиным и Нефёдовым - за Белова и Беликова. Актёры в «Охоте на лис» не просто хорошо сыграли свои роли, а сумели изнутри вовлечь нас в круг тех трудноформули-руемых (то, что трудноформулируемых, это-то в данном случае и хорошо, в этом-то и правда) проблем, на попытке решить которые встретились их герои. Виктор Белов и избивший его - безмотивно - Владимир Беликов.
Литературная газета - январь 1987г.
379
Е.Сурков
БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
Зрителям нового фильма Александра Миндадзе и Вадима Абдрашитова «Плюмбум, или Опасная игра» на этот вопрос ответить простым «да» или «нет» будет совсем непросто. Многие, наверное, скажут: мальчики, как ваш Руслан Чутко, нам в жизни не попадались. Выдуманный это персонаж. Сочинённый. Умозрительно сконструированный.
Но если это так, то почему же он меня волнует? Мучает мою совесть? Душу? Остаётся во мне, как загадка, которую обязательно нужно разгадать?
Если бы я имел дело с фикцией, с гомункулом, изготовленным в драматургической реторте, разве бы между им и мною возникла бы зона мощного притяжения? Но ведь она, эта зона, возникает! И он мне совсем небезразличен, этот странный подросток, вместивший в себя столько взаимоисключающих волнений и страстей. Да ещё в такой перенапряжённости, в такой взрывчатой смеси, что остаётся только удивляться: как это Антону Андросову, сверстнику Плюмбума, не актёру, а участнику одной из московских школ, удалось его вочеловечить на экране с такой психологической истинностью и полнотой.
Исходные предпосылки, на которых авторы строят свой рассказ о Руслане Чутко, конспирации ради признавшему кличку Плюмбум, впрочем, безупречно естественны, просты. Как и вся картина в целом. Снятая в обычной для Вадима Абдрашитова (оператор Георгий Рерберг) мягкой, ненавязчивой повествовательной манере.
Есть, правда, в ней несколько эпизодов, которые даются нам с трудом, но об.
.........(текст стёрся на потёртом сгибе газеты - О.С.).
Итак, кто он этот Плюмбум? Чем занят? К чему стремится? Отлично учится не то в девятом, не то в десятом классе. Любит посидеть с папой и мамой у телевизора. Почаёвничать. Или с ними же на катке покататься. А в свободное от школы и семейных радостей время он помогает милиционерам и дружинникам. Наводит их на хазу, где устроили себе бивуак воры. Выслеживает беспаспортных бродяг. Или расхитителей социалистической собственности, присосавшихся к крупной продуктовой фирме. Что же, играть в сыщиков подростки любят. А у Плюмбума к тому же есть для этого и своя особая - личная - причина. Незадолго перед тем, как развернутся события, составившие сюжет «... Опасной игры», какой-то подонок вырвал у Руси (как зовут Плюмбума дома и в школе) кассетник с записью бетховенской «Элизе». Оскорбление, пережитое там, на бульваре, стало для героя роковым. Тем поворотным моментом, после которого Руслан Чутко и стал Плюмбумом. Заклинился на идее расплаты. Борьбы со злом и насилием.
Были, наверное, у него для этого и какие-то особые предпосылки. Особый запас впечатлений и раздумий. Но Миндадзе и Абдрашитов в них не вникают. Им важна
380
ситуация в её общем, модельном содержании. Они берут мальчика гордого, смелого, легкоранимого и ставят его в положение, когда он оказался жертвой унизительного насилия. И мучается стыдом Плюмбум: как это он тогда «распустил варежку». Расслабился. Бесконтрольно отдался во власть грациозной, лукавой «Элизе». Многие, пережив такое оскорбление, тут же о пережитом и забыли бы. Плюмбуму насилие, над ним свершённое, обожгло душу.
С такой обугленной душой он и вступает в борьбу со злом. Посвящает ей, этой борьбе, всего себя. Ну, к примеру, рыцари некогда посвящали себя служению «прекрасной даме». Как ни кощунственно такое сравнение на первый взгляд, всё же скажу: если бы Плюмбум прочёл пушкинские стихи о «бедном рыцаре», ему особенно пришлись бы по сердцу строки о «стальной решётке». Которую рыцарь после того, как его посетило видение A.M.D., никогда уже не поднимал со своего лица. Такая же решётка есть ведь и на Рузином лице. Сквозь неё он и видит мир. Людей. Даже радостно покорную его воле Соню. Во всём остальном он мальчик, как мальчик. Способен прервать слежку, чтобы погонять с малышами мяч. Презрительно сторонится девчонок. Одним словом, обычный школьник, разве что способностями, намного опередившими средний уровень. Но всмотритесь в его лицо, глаза - и вы невольно призадумаетесь. Так много в них мрачной силы, суровой самоуглублённости. Часто как бы полной отрешённости от всего, что вокруг.
Строя образ Руслана Чутко на таких крутых перепадах, можно было его и расчленить. Вывести на крайние точки противоречий, на каких строится характер Плюмбума, и на этих крайних точках оставить. Мы же всегда чувствуем именно единство личности Плюмбума. Странное, подвижное, но единство. Живое, органичное. Он Плюмбум и там, где он Руслан Чутко, Рузя. Просто подросток, сочетающий школьные занятия с помощью дружинникам и милиции.
Только вот что странно: они этой помощи вовсе не рады. Поначалу кажется: потому не рады, что чувствуют некоторую неловкость от вовлечения подростка в свой опасный труд. Свершаемый ведь на самом дне. Грязном и душном. В потёмках, где только и может гнездиться преступление.
Однако оперуполномоченный, руководящий дружиной, в которую хочет вступить Рулан Чутко, не потому только противится этому, что боится «заразить» его через общение со злом. А потому, что ему неприятен сам Плюмбум. И он безотчётно, скорее чувством, чем умом, ощущает в нём нечто, что ео остро тревожит. Делает для него общение с подростком нравственно невозможным.
Странная создаётся ситуация! Плюмбум смел, отважен, находчив. Он сыщик, что называется, милостью божией. Он рождён, чтобы идти по следу. Проникать в логовище врага. Выслеживать преступников с дерзкой, холодной отвагой, на какую и самые блестящие профессионалы не всегда бывают способны. Ему бы за проявленное им дерзкое и умное мужество впору медаль «За отвагу» повесить. А ему поначалу отказывают даже в приёме в отряд!
Так брезгают, наверное, палачом. Провокатором.
Но разве он провокатор, палач, наш Руслан Чутко? Так возненавидевший зло, что с головой окунулся в борьбу с ним? Посвятивший ей не только свои силы, а и свою
381
душу? Он же герой, этот мальчишка, преобразившийся в Плюмбума! В разведчика неслыханной смелости и неслыханного презрения к противнику. Таким его и изобразили бы в обычном детективном фильме. Если бы, к примеру, на студии имени Горького вознамерились посвятить свой очередной детективный опус участию школьников в работе дружины.....
В фильме «Опасная игра» ореол вокруг головы Плюмбума если и заметен, то чёрный. Зловещий. Плюмбум ведь не только оперуполномоченному неприятен, но и мне, зрителю. Часто даже не просто неприятен, а отвратителен. Страшен. Я же вижу, понимаю: Плюмбум не только борец со злом, а ещё и поле, на котором зло ведёт с добром свои особые противоправные игры. Те действительно крайне опасные игры, в упреждающий смысл которых и хотят вникнуть Миндадзе и Абдрашитов.
Их остро волнует цена, которой Плюмбум оплачивает своё право ненавидеть и карать, презирать и уничтожать. Достоевский однажды с горечью заметил, что русские люди по преимуществу «весьма непрочной ненависти... долго и серьёзно ненавидеть не умеют, и не только людей, но даже пороки... У нас сейчас готовы помириться, даже при первом случае». Не стоит здесь восстанавливать контекст, в котором эта мысль у него возникла. Мне ведь эта идея важна не сама по себе, а только потому, что Плюмбум как раз и являет нам пример - в русском искусстве действительно нечастый - человека с необычайно прочной ненавистью. Ни на какое примирение со злом не способного. Ненависть заполняет Плюмбума целиком. Овладевает им настолько, что в душе Плюмбума не остаётся места ни для любви, ни для простого сострадания. Хотя бы к тому жалкому бродяжке, которого Плюмбум выследил, а потом «подвёл под монастырь».
Обязательно запомните глаза Плюмбума в сцене, когда он наблюдает за тем, как усаживают бродяжку в милицейский газик! Так смотрят не на человека, с которым ещё недавно была съедена уворованная утка и велись долгие задушевные разговоры, а на какое-нибудь насекомое. На мокрицу или на вошь. И если вы вглядитесь в эту минуту в зрачки Плюмбума, то поймёте: т у старуху он бы убил, если бы решил, что так надо. И не испытал бы и малой доли тех мучений, какие стали после убийства уделом Раскольникова.
В том-то и состоит тайна Плюмбума, что ненависть к злу, сама по себе высокая и необходимая, выжгла в нём всё человеческое. И сделало его опасно уступчивым по отношению к нему же, ко злу. С ним Плюмбум борется с какой-то почти самурайской отвагой. Но при этом и сам втягивается в «игры» нравственно недозволенные. Трижды опасные потому, что они искажают в Плюмбуме человека. И выводят его через ту границу, после которой начинается уже царство вседозволенности. И где можно вот так безответственно наслаждаться своей властью над человеком, как наслаждается Плюмбум в ресторане, издеваясь над подругой преступника, уводимого в эту самую минуту дружинниками.
Потом этот мотив разрастается в долгую и надрывную игру мальчика с Золотой рыбкой. И в этой игре всё окончательно смешается: ненависть и любовное влечение, сострадание и предательство. Которое на этот раз Плюмбум совершит как бы случайно, по инерции. Повинуясь уже выработавшейся в нём привычке: доносить и выдавать.
382
В эпизоде на берегу пустынной реки, где Плюмбум под вспышки молний, под гул взбаламученных ветром волн ведёт свои странные игры с измученной, исстрадавшейся женщиной, даёт о себе знать ещё и переход естественного в патологическое, болезненно надрывное, который свершился в Плюмбуме. И позже приведёт его к допросу собственного отца. Отца он поймал случайно, участвуя в облаве на браконьеров. Но не отпустил! И не передал другому дружиннику. И отвёл его в отделение и там снял с него допрос. Эдакий новоявленный Павлик Морозов! Эдакая ироническая модификация мифа о ребёнке, для которого ничего не стоит даже переступить через любовь к отцу. Если ему покажется, что этого «требует от него долг», принцип. Формализованный настолько, что за ним истаяло, испарилось какое-либо человеческое содержание. Плюмбуму, впрочем, такие насилия над нравственным чувством даются трудно. Они его вымывают. Обессиливают. Делают стариком.
У Чехова Нина Заречная всё время твердит: Я - чайка, чайка. Так и Плюмбум всё снова и снова жалуется: мне не семнадцать лет, а сорок. Сорок. Сорок. В нём и впрямь душа старика. Усталая, не по годам охладелая.
Да и почему, собственно, он вышел на бой со злом? Потому, думается, что был обречён на это. Таящейся в нём, в его генном аппарате, тревожной памятью поколений. Горьким и трудным их опытом, накопленным на многих и разных дорогах. В том числе и на тех, что пролегают через наше время. Уводя в глубь нашего века. Так опасно, как никогда прежде, накренившегося над бездной тотального взаимоистребления.
Здесь самое время повторить вопрос: да был ли мальчик? Такой, как этот Плюмбум?!
Согласен: не был. Именно такого - не было! Но что это меняет? Разве не реальна, не знакома каждому та нравственная контроверза, которая в нём олицетворена? И вызвала к жизни его странный, опасно странный характер. На котором сошлись крайности, по самой своей сути взаимоисключающие. Отрицающие друг друга. Так, как это и происходит в Плюмбуме. Страстно возненавидевшем зло, но ставшем его ипостасью. Его воплощением.
Как это произошло? И как, главное, такое становится возможным?
Это и есть вопросы, на которых «заклинился» уже не Плюмбум, а авторы фильма. В нём ведь не характер некоего Руслана Чутко иссследуется. В нём идея исследуется. И эта идея, как бы сказал Достоевский, капитальная. Для нашего XX века остроактуальная.
Герцен предупреждал: истинна только ненависть, рождённая любовью; презрение -только возникшее из гуманности. А если нет ни любви, ни гуманности, как нет их в Руслане Чутко? Тогда наступает час плюмбумов. И зло инфицирует добро. Отравляет его. И та граница, что их разделяет, оказывается перейдённой. Затоптанной. Тут и рождаются плюмбумы. Люди, которые (иногда искренне, всем сердцем) верят в то, что борются со злом. А на самом деле лишь грубо оскорбляют добро. Предают его. Освобождают и в самих себе то злое, преступное, что они собрались искоренять.
Разве по жизни нам незнакомы деформации такого рода? Разве они не возникают всюду, где ставятся даже высокие цели, но предаётся забвению нравственная норма? Этический закон?
383
Но почему, исследуя эту проблему, фильм Абдрашитова и Миндадзе не даёт все-примиряющего катарсиса?.......
.........(текст стёрся на потёртом сгибе газеты - О.С.).
разрешения в самой жизни. Она может разрешиться, но только в чьём-то отдельно взятом индивидуальном опыте. Или в обществе некоей большой общности людей. Но не в своей метафизической сущности. Но не в своей универсальности.
Фильм кончается на крике боли и отчаяния. Не знаю, не помню другого фильма, который обрывался бы на таком страшном - трагическом диссонансе. Ждёшь какого угодно финала, только не этого. А когда это происходит, долго не можешь смириться с необходимостью такого конца. Ничего в нас не примирившего и ни одного из противоречий, рассмотренных в картине, не снявшего. Наоборот, поднявшего эти противоречия на самое остриё. Туда, где грозно дышит, обжигая, тревожа нас, бездна. На грани которой и балансирует Плюмбум.
Но в бездну летит не он, а Соня, чистая и наивная Соня. Поверившая в Рузю, как в подлинного героя. Таинственного и её пониманию недоступного. Именно поэтому она идёт за ним слепо. Ни о чём не спрашивая. И так же слепо срывается с крутой крыши, на гребень к которой её привела вера в Плюмбума.
Сцена падения Сони снята так подробно, с такого приближения, что становится больно дышать. Сохранены, зафиксированы каждое мгновение, каждый миллиметр на её пути в бездну. В смерть. И пока это длится, душа моя страдает, изнемогает от боли и сострадания. И от горького недоумения. От обиды на авторов. Я же ещё не понял, отчего, почему они обрекли на гибель именно Соню. Почему они решили, что именно её гибелью можно договорить до конца всю правду о Плюмбуме.
Да, сюжетно гибель девочки необязательна. Воспринимается только как горестная, ранящая душу случайность. На самом же деле она необходима. Потому что обнаруживает всю трагическую неразрешимость идеи, вызвавшей к жизни Плюмбума.
Содрогнулся ли он на крыше, глядя на распростёртую на асфальте Соню? Не знаю. Не могу сказать на этот счёт ничего достоверного. Хотя и не верю, интуитивно не верю, что он смог и в эти секунды остаться закрытым для тоски и отчаяния. И для сознания своей вины перед Соней...
Только выведет ли всё это Руслана Чутко на новые рубежи? Начнётся ли после Сониного падения освобождение Руслана Чутко от засевшего в нём Плюмбума? Я этого не знаю! Не знают этого, похоже, и авторы. Их, впрочем, завтрашний день Рузи вообще не интересует. Их интересуем мы, зрители. И то нравственное очищение тот нравственный урок, который для нас заключён в парадоксе Плюмбума. В его особой душевной ситуации, впервые под таким пронзительно острым ракурсом рассмотренной на нашем экране.
Кинематограф сейчас выходит на новые уровни обобщения. Ищет всё более универсализированные образные структуры, через которые можно было бы раскрыть не эту частную судьбу, а некую общего значения духовную ситуацию. Проблему, взятую глобально. В контексте истории. И ещё обязательно - в границах той нравственной, духовной ситуации, что складывается сейчас в мире.
Об этом свидетельствуют картины Тенгиза Абуладзе «Покаяние», Георгия
384
Данелия «Кин-дза-дза», Сергея Соловьёва «Чужая, Белая и Рябой». Картины замечательные, открывающие новые художественные перспективы перед нашим экраном.
В их ряду одной из первых должна быть названа и картина Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе «Плюмбум или Опасная игра».
ФИЛЬМОГРАФИЯ
385
Репортаж с асфальта -1971
Сценарий и постановка Вадима Абдрашитова
Остановите Потапова -1974
Автор сценария Г.Горин
Режиссёр-постановщик В.Абдрашитов
Оператор-постановщик Ю.Козелков
Художник
Композитор
В ролях: В.Смирнитский, А.Филиппенко, С.Фарада, В.Высоцкий
Слово для защиты - 1976
Автор сценария А.Миндадзе
Режиссёр-постановщик В.Абдрашитов
Оператор-постановщик А.Заболоцкий
Художник-постановщик
Композитор В.Мартынов
В ролях: М.Неёлова, Г.Яцкина, О.Янковский, С.Любшин и другие
Награды
1977 — Приз за лучшую режиссуру на Всесоюзном кинофестивале — Вадим Абдрашитов
1977 — Приз за лучший сценарный дебют на Всесоюзном кинофестивале — Александр Миндадзе
1977 — Первая премия на Всесоюзном кинофестивале — за лучшую женскую роль — Марина Неёлова
1977 — Первая премия на Всесоюзном кинофестивале — за лучшую женскую роль — Галина Яцкина
1977 — Приз Всесоюзного кинофестиваля за лучшую операторскую работу — Анатолий Заболоцкий
1977 — Приз министерства юстиции Латвийской ССР — Вадим Абдрашитов
1979 — Премия Ленинского комсомола — Вадим Абдрашитов, Анатолий Заболоцкий, Александр Миндадзе
ПОВОРОТ-1978
Автор сценария А.Миндадзе
Режиссёр-постановщик В.Абдрашитов
Оператор-постановщик Э.Караваев
Художник-постановщик
Композитор В.Мартынов
386
В ролях: О.Янковский, И.Купченко, А.Солоницын, Ю.Назаров, Л .Стриженова, О.Калмыкова и другие
Охота на лис -1980
Автор сценария А.Миндадзе
Режиссёр-постановщик В.Абдрашитов
Оператор-постановщик Ю.Невский
Художник-постановщик В. Коровин
Композитор Э.Артемьев
В ролях: В.Гостюхин, И.Муравьёва, И.Нефёдов, А.Покровская, Д.Харатьян, В.Сафонова, Ю.Леонидов и другие
Остановился поезд -1982
Автор сценария А.Миндадзе
Режиссёр-постановщик В.Абдрашитов
Оператор-постановщик Ю.Невский
Художник-постановщик А.Толкачёв
Композитор Э.Артемьев
В ролях: О.Борисов, А.Солоницын, М.Глузский, Н.Русланова, Л.Зайцева, Н.Скоробогатов,
П.Колбасин, И.Рыклин и другие
Парад планет-1984
Автор сценария А.Миндадзе
Режиссёр-постановщик В.Абдрашитов
Оператор-постановщик В.Шевцик
Художник-постановщикА.Толкачёв
Композитор В.Ганелин
В фильме использована музыка Людвига Ван Бетховена и Дмитрия Шостокавича
В ролях: О.Борисов, Л.Гриценко, А.Жарков, П.Зайченко, С.Никоненко, А.Пашутин,
Б.Романов, С.Шакуров и другие
Плюмбум -1986
Автор сценария А.Миндадзе
Режиссёр-постановщик В.Абдрашитов
Оператор-постановщик Г.Рерберг
Художник-постановщик А.Толкачёв
Композитор В.Дашкевич
В ролях: Антон Андросов, Е.Дмитриева, Е.Яковлева, А.Феклистов, В.Стеклов, А.Пашутин и другие
Премии
1987 — Венецианский кинофестиваль, золотая медаль Президента итальянского Сената.
387
Слуга-1988
Автор сценария А.Миндадзе
Режиссёр-постановщик В.Абдрашитов
Оператор-постановщик Д.Евстигнеев
Художники-постановщики А.Толкачёв, О.Потанин, В.Новиков
Композитор В.Дашкевич
В ролях: Ю.Беляев, О.Борисов, И.Розанова, А.Петренко, А.Терешко, Л.Тотунова, М.Янушкевич, В.Жариков, Ф.Антипов и другие
Премии и награды
1989 — кинофестиваль «Созвездие» (Приз за лучшую главную мужскую роль — Олег Борисов)
1989 — МКФ в Западном Берлине (Премия А. Бауэра «За фильм, открывающий перспективы в развитии кино»
1989 — МКФ в Западном Берлине. Премия О. С. I. С.
1989 — МКФ в Западном Берлине. Приз экуменического жюри
1989 — Премия «Ника». За лучшую мужскую роль (Олег Борисов), За лучший сценарий (Александр Миндадзе)
1991 — Государственная премия СССР. Вадим Абдрашитов, Юрий Беляев, Олег Борисов, Владимир Дашкевич, Денис Евстигнеев, Александр Миндадзе, Лилия Тереховская, Александр Толкачев
Армавир-1991
Автор сценария А.Миндадзе
Режиссёр-постановщик В.Абдрашитов
Оператор-постановщик Д.Евстигнеев
Художники-постановщики А.Толкачёв, В.Ермаков, О.Потанин
Композитор В.Дашкевич
В ролях: С.Колтаков, С.Шакуров, Е.Шевченко, С.Гармаш, М.Строганова, Ж.Байжанбаев, Н.Потапова, А.Вдовин, Р.Аюпов, Т.Егорова и другие
Пьеса для пассажира -1995
Автор сценария А.Миндадзе
Режиссёр-постановщик В.Абдрашитов
Оператор-постановщик Ю.Невский
Художник-постановщик
Композитор В.Лебедев
В ролях: С.Маковецкий, И.Ливанов, О.Мысина, Н.Неведина, И.Сидорова, Ю.Беляев, Л.Германова, Е.Арзуманян и другие
Награды
1995 — Берлинский международный кинофестиваль «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения
388 Время танцора-1998
Автор сценария А.Миндадзе
Режиссёр-постановщик В.Абдрашитов
Оператор-постановщик Ю. Невский
Художники-постановщики А.Толкачёв, В.Ермаков
Композитор В.Лебедев
В ролях: А.Егоров, Ю.Степанов, С.Гармаш, З.Кипшидзе, Ч.Хаматова, С.Копылова, В.Воронкова и другие
Награды и номинации
Главный приз Конкурса сценариев «Зеркало», посвященного столетию кинематографа (1996);
Призы Киноакадемии «Ника» в категориях «лучшая сценарная работа» (А.Миндадзе), «лучшая роль второго плана» (З.Кипшидзе) (1997);
Номинация на приз «Ника—97» в категориях «лучший игровой фильм», «лучшая режиссерская работа» (В. Абдрашитов), «лучшая женская роль» (Ч.Хаматова) (1997);
Премия «Золотой Овен» в категориях «лучший сценарий» (А.Миндадзе), «лучший фильм», премия «Надежда» (актеры В.Воронкова и А.Егоров) (1997);
Гран-при ОРКФ «Кинотавр—98» (Сочи)
Специальный приз жюри МКФ в Локарно—98;
Призы за лучшую мужскую роль второго плана (3. Кипшидзе) и многообещающий женский дебют (В.Воронкова) на актёрский МКФ «Балтийская жемчужина—98» (Рига);
Приз ЮНЕСКО «За распространение идей культуры мира и толерантности» МКФ «Сталкер—98» (Москва).
Магнитные бури - гооз
Автор сценария: Александр Миндадзе
Режиссёр: Вадим Абдрашитов
Оператор: Юрий Шайгарданов
Художник: Владимир Ермаков
Композитор: Виктор Лебедев
В ролях: М.Аверин, В.Толстоганова, Л.Аристархова, С.Покровский, Р.Зиафитдинова, Б.Шувалов, А.Макаров, Ю.Павлов, С.Стрелков, А.Назаров, С.Шульц и другие Награды
2004 - Белый квадрат (кинопремия)
«Лучший кинооператор года» Юрий Шайгарданов — «Магнитные бури»
Ольга СУРКОВА
ВРЕМЯ КАК СУДЬБА в фильмах Абдрашитова
Редактор Е. Вигилянская Художник А. Никулин Корректор Е. Сченснович
Подписано в печать 20.11.13
Формат 70x90/16, бумага офсетная 80 г/м2
Гарнитура Helios, объем 24,5 п.л.
Тираж 1000 экз. Заказ 4466
Издательство ИМПИ РАН
Москва, ул. Поварская, 25а
Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
Ольга Евгеньевна Суркова, киновед и кинокритик, автор многих кинорецензий, и развёрнутых работ об Орсоне Уэллсе, Ингмаре Бергмане, Бу Ви-дерберге и других шведских режиссёрах.
Широко известны её книги, посвящённые жизни и творчеству Андрея Тарковского, сотрудничая с которым, она фиксировала его размышления, касающиеся проблем кинематографической специфики, места кинематографа среди других искусств, а также роли и предназначении художника в мире. Результатом этого сотрудничества стали «Книга сопоставлений» и теоретический труд Андрея Тарковского «Запечатлённое время». Позднее ею были написаны книги: «Тарковский и я. Дневник пионерки», а также «С Тарковским и о Тарковском». С1982-го года Ольга Суркова живёт в Амстердаме.