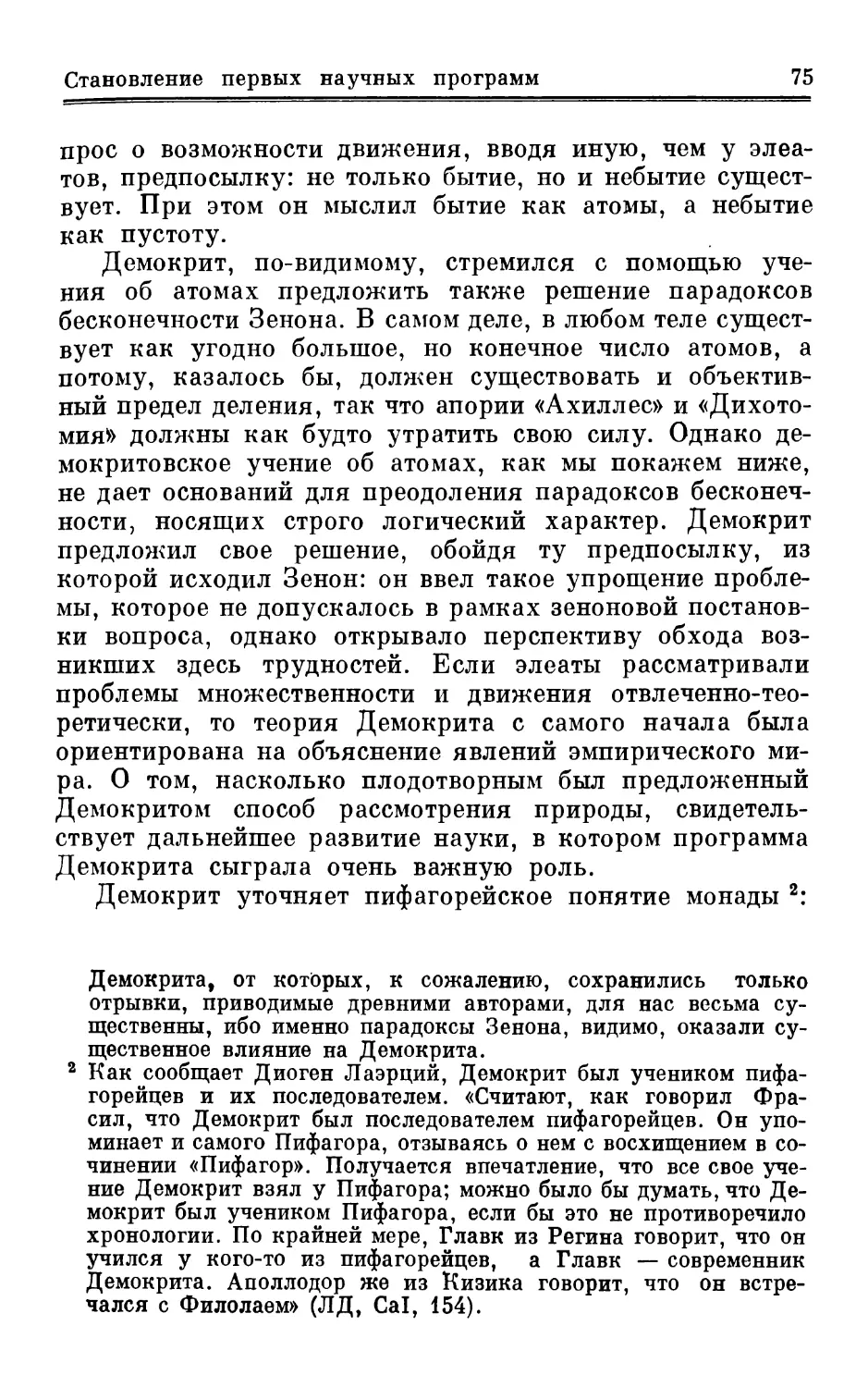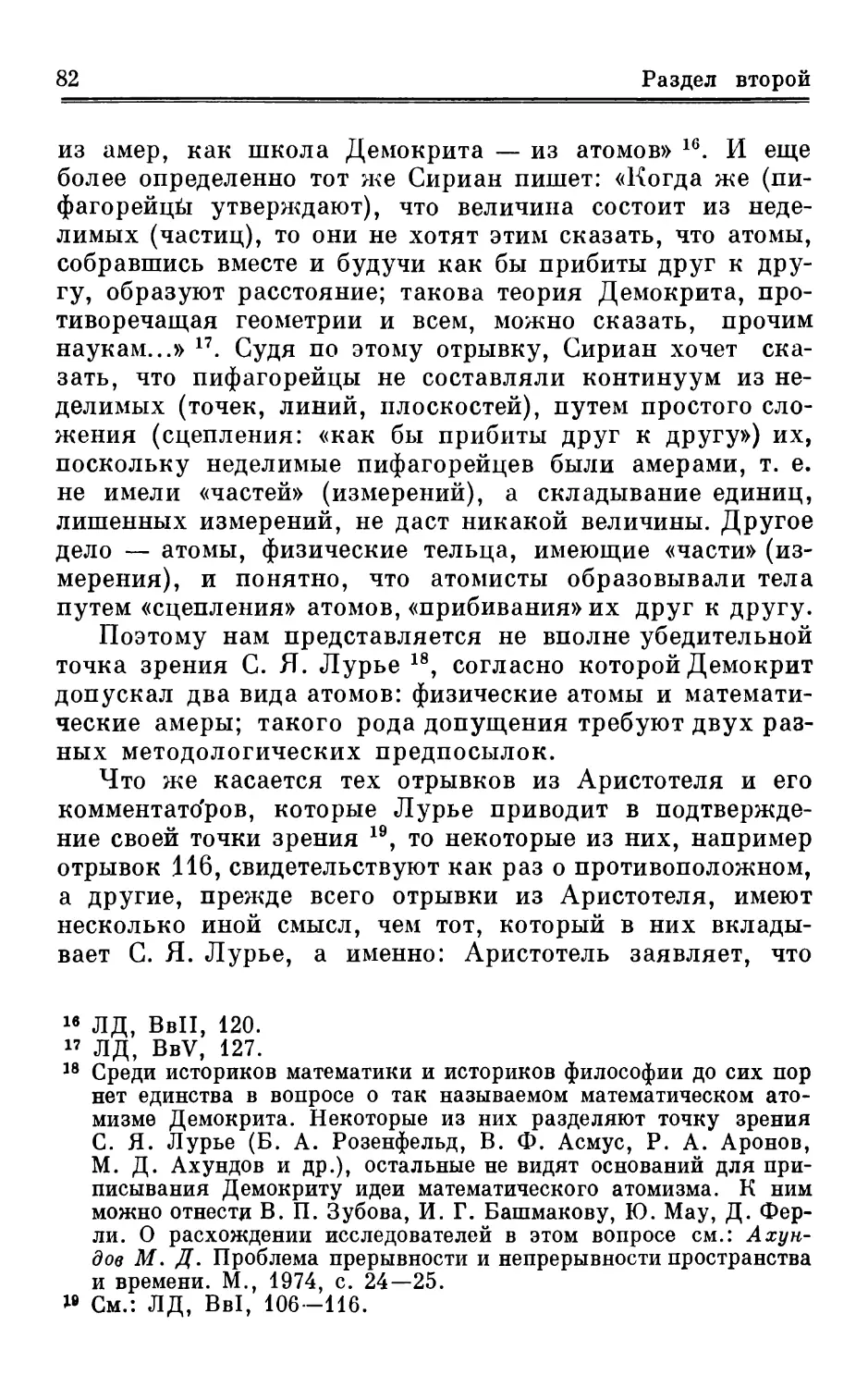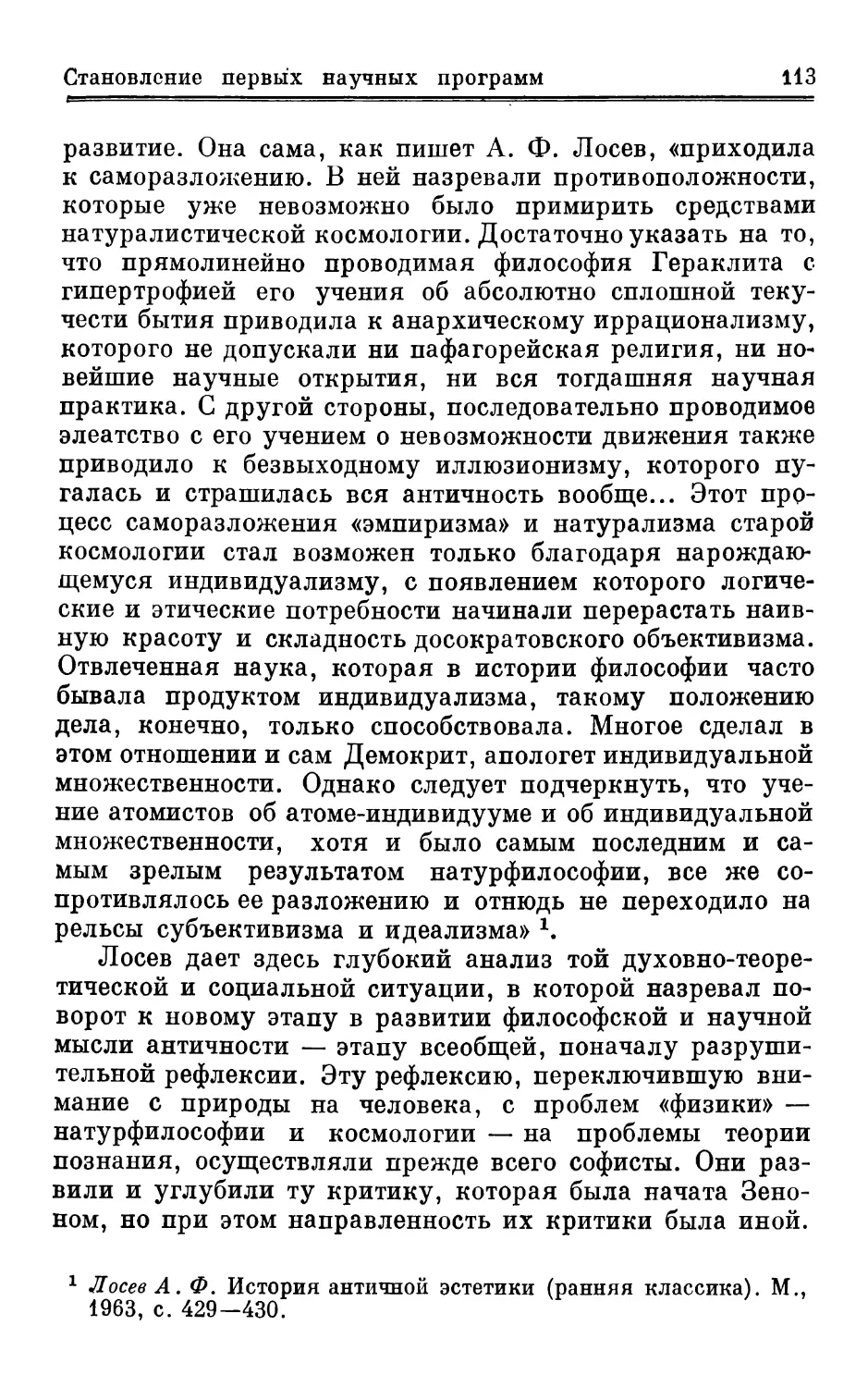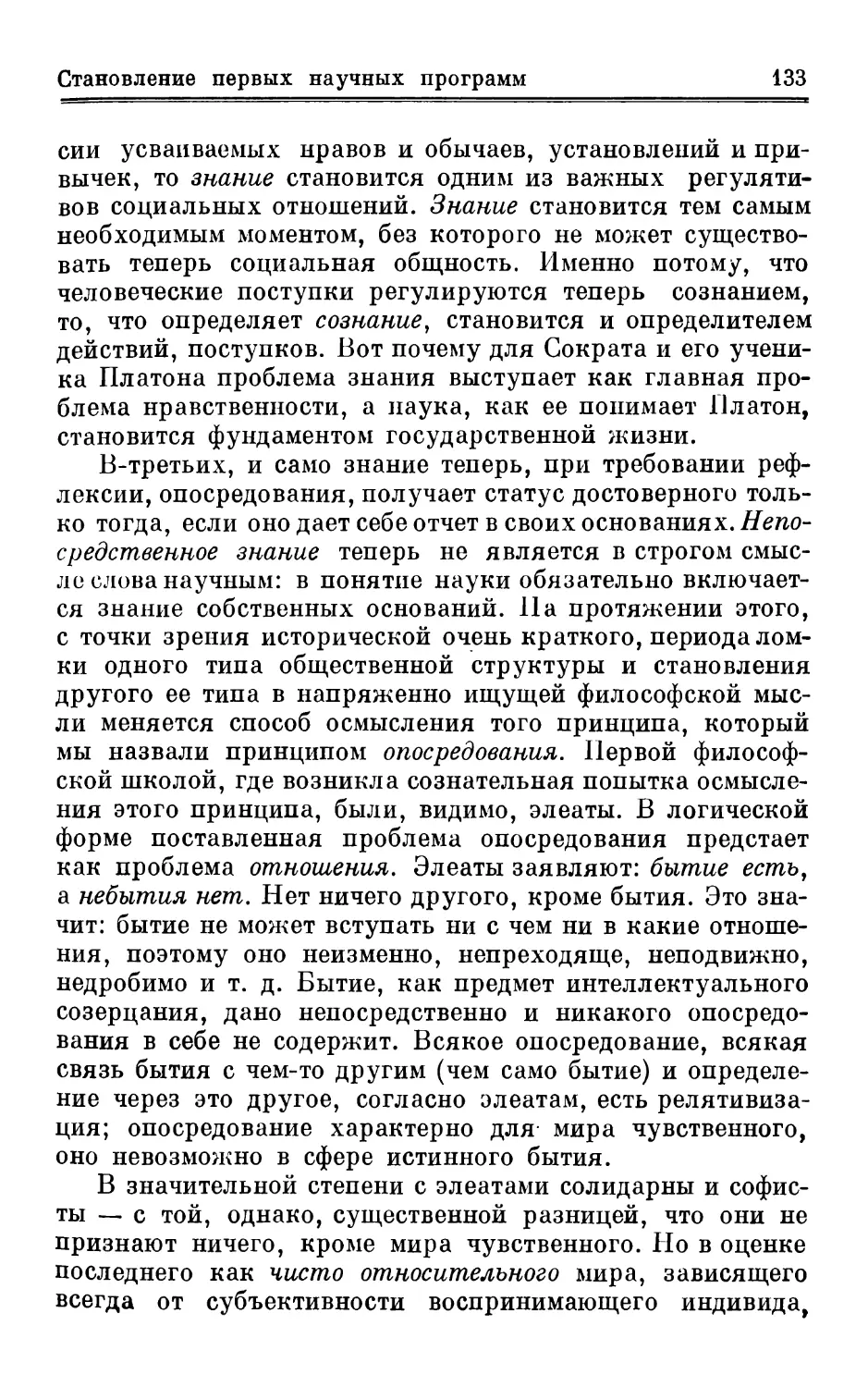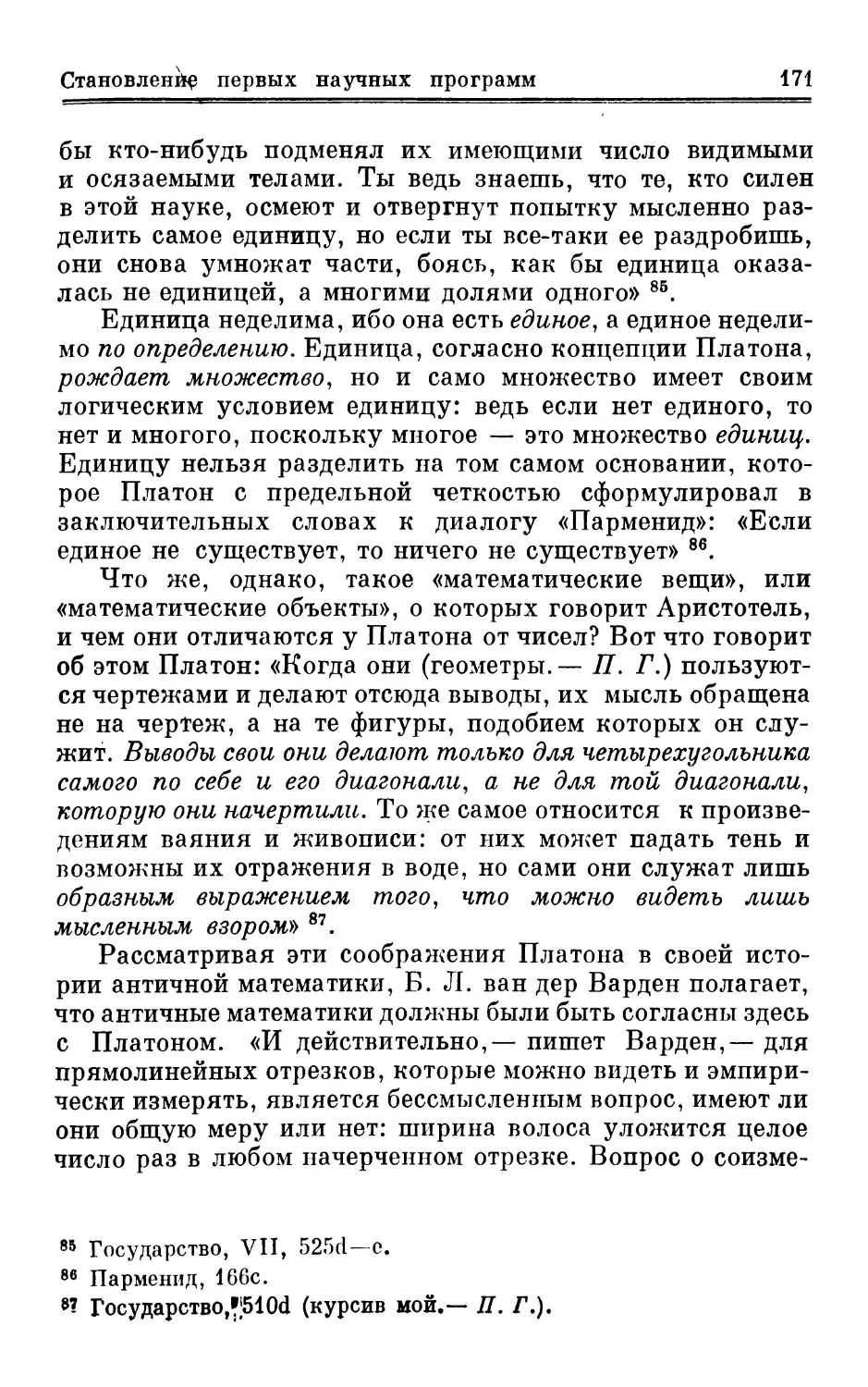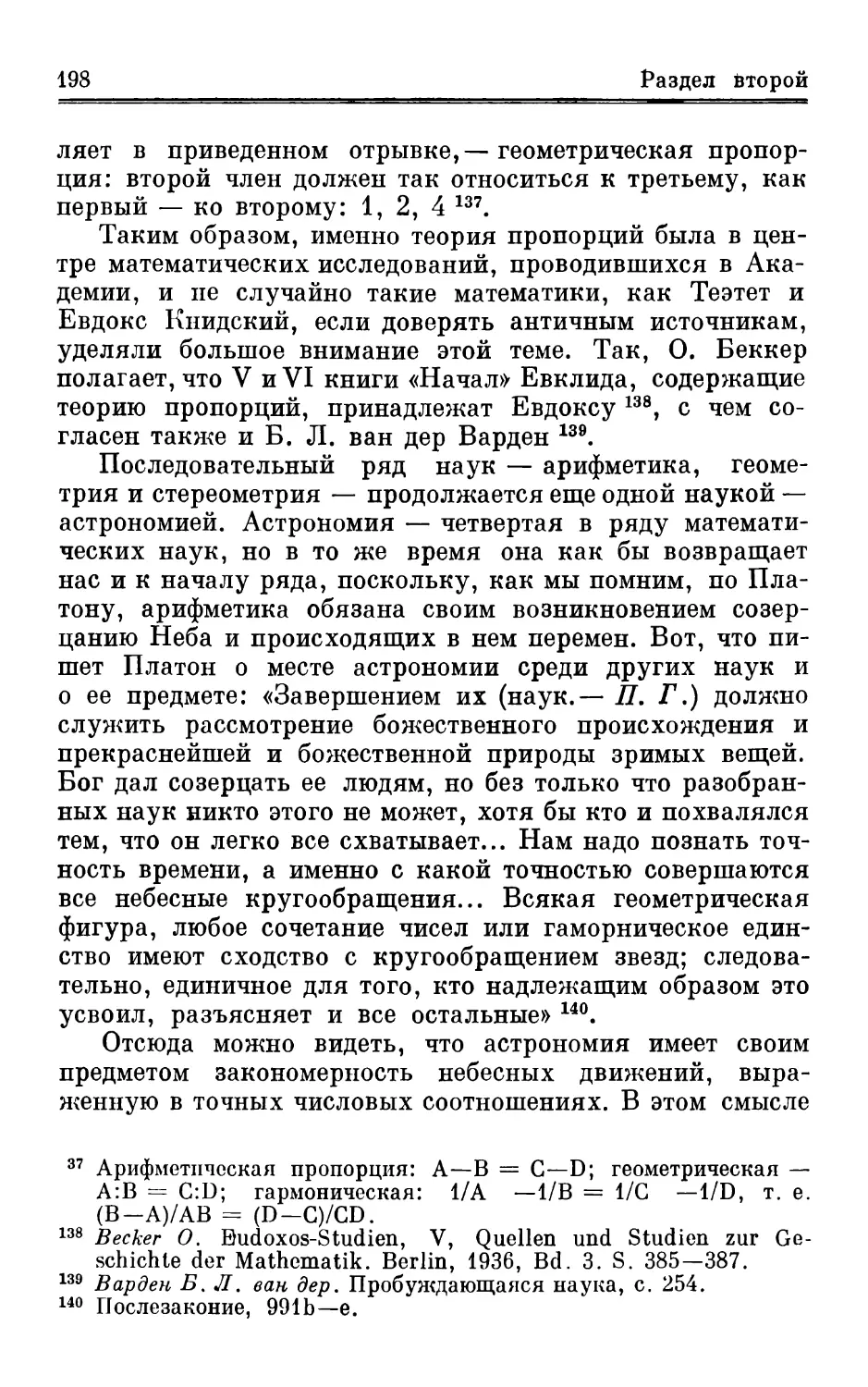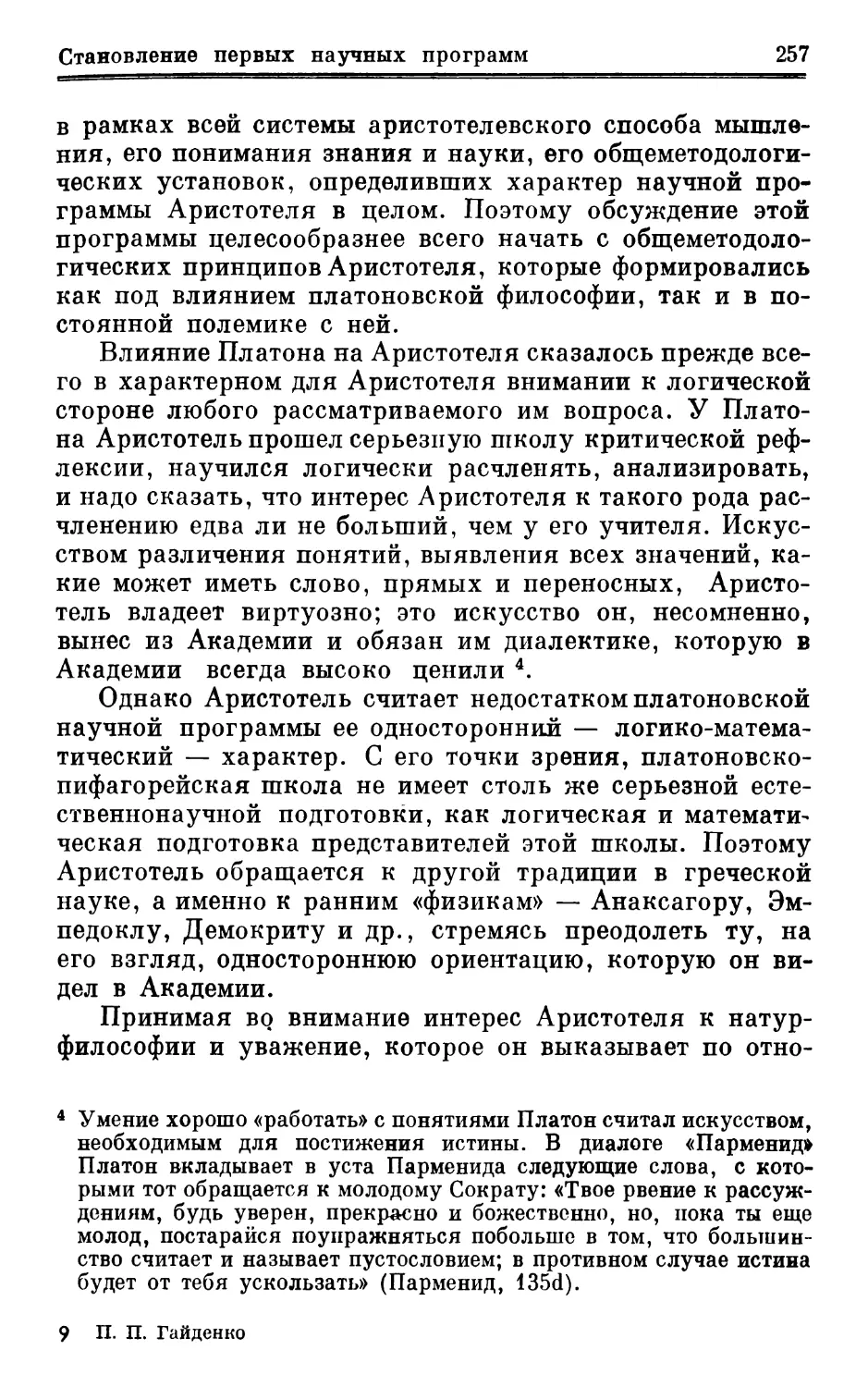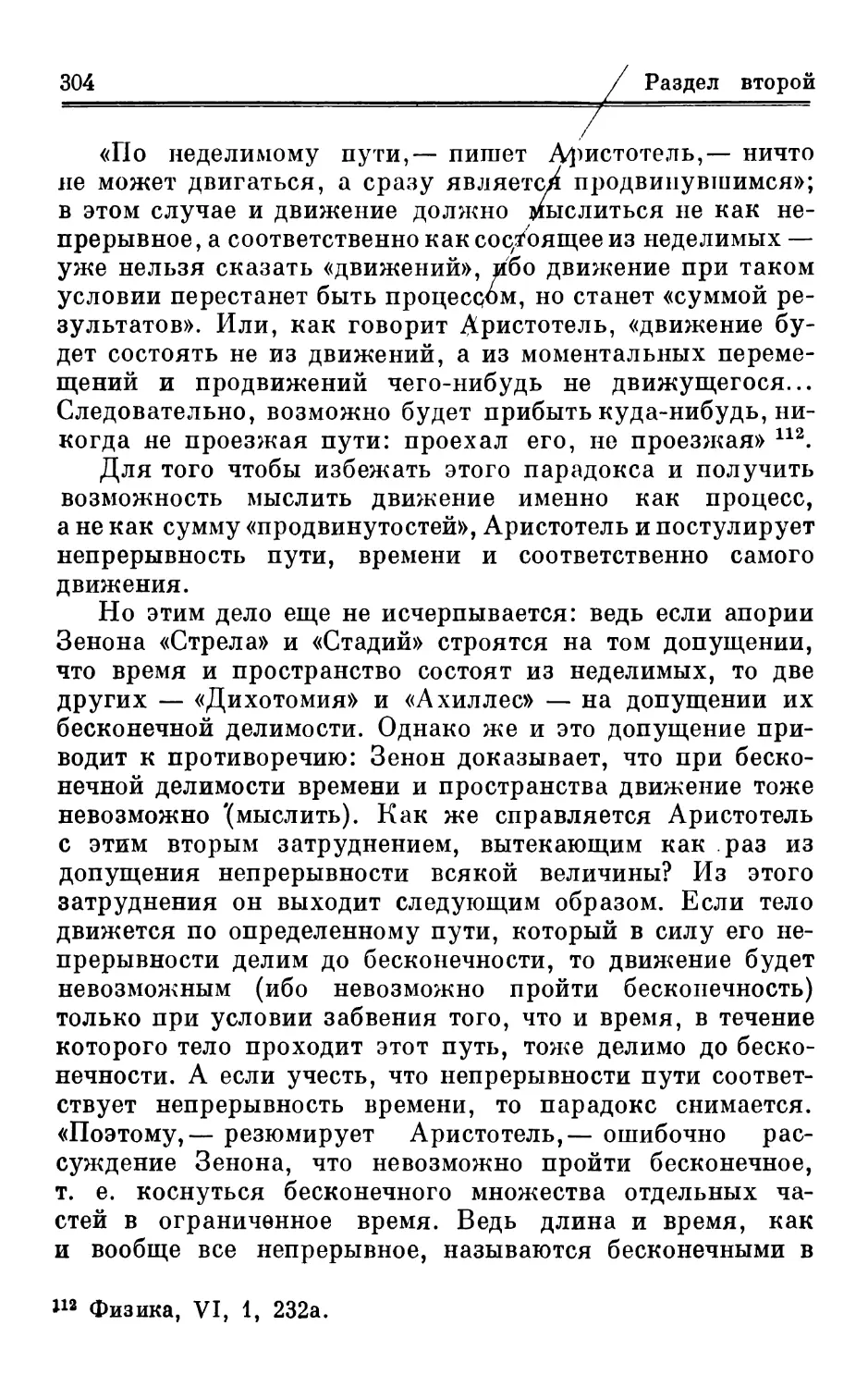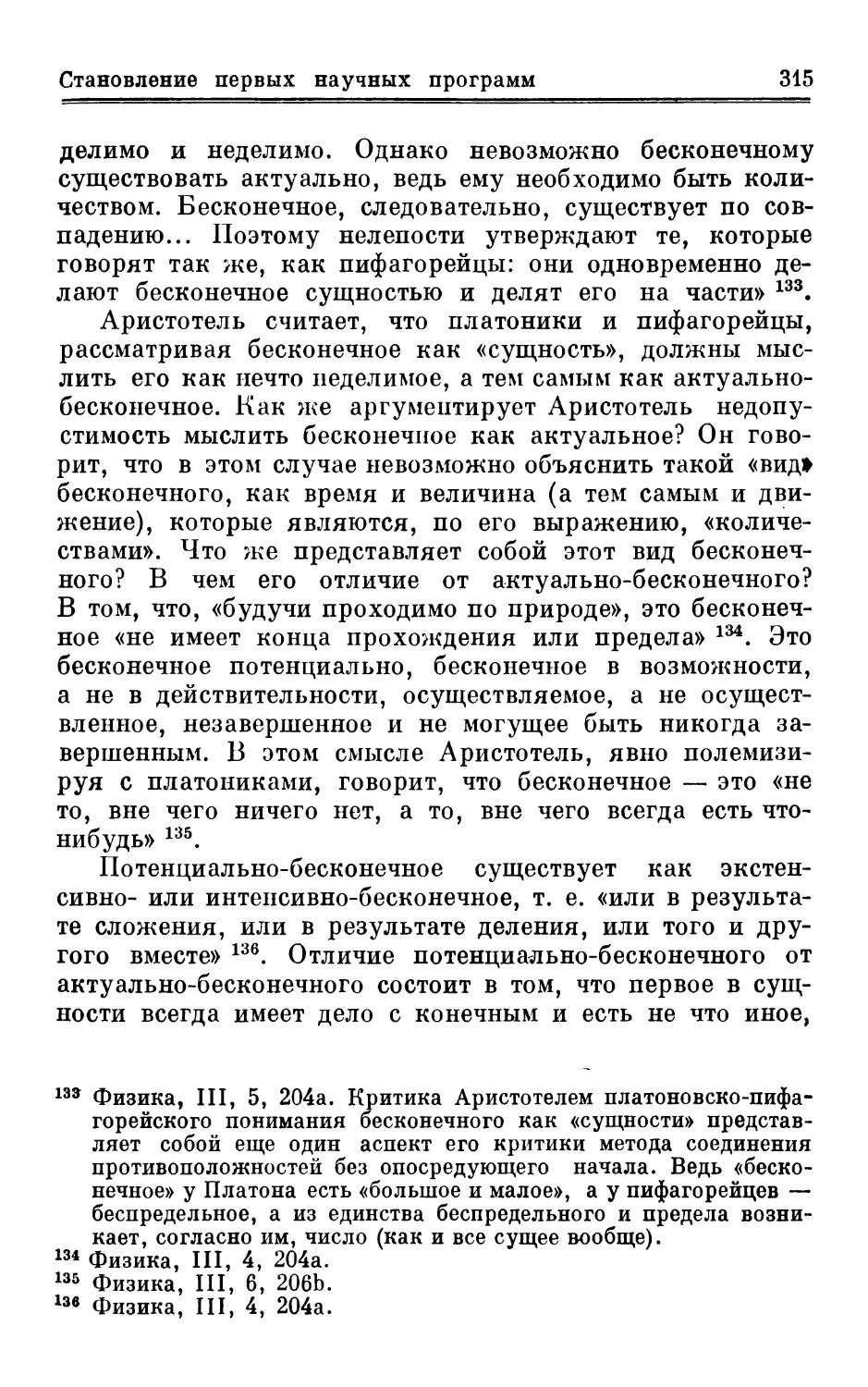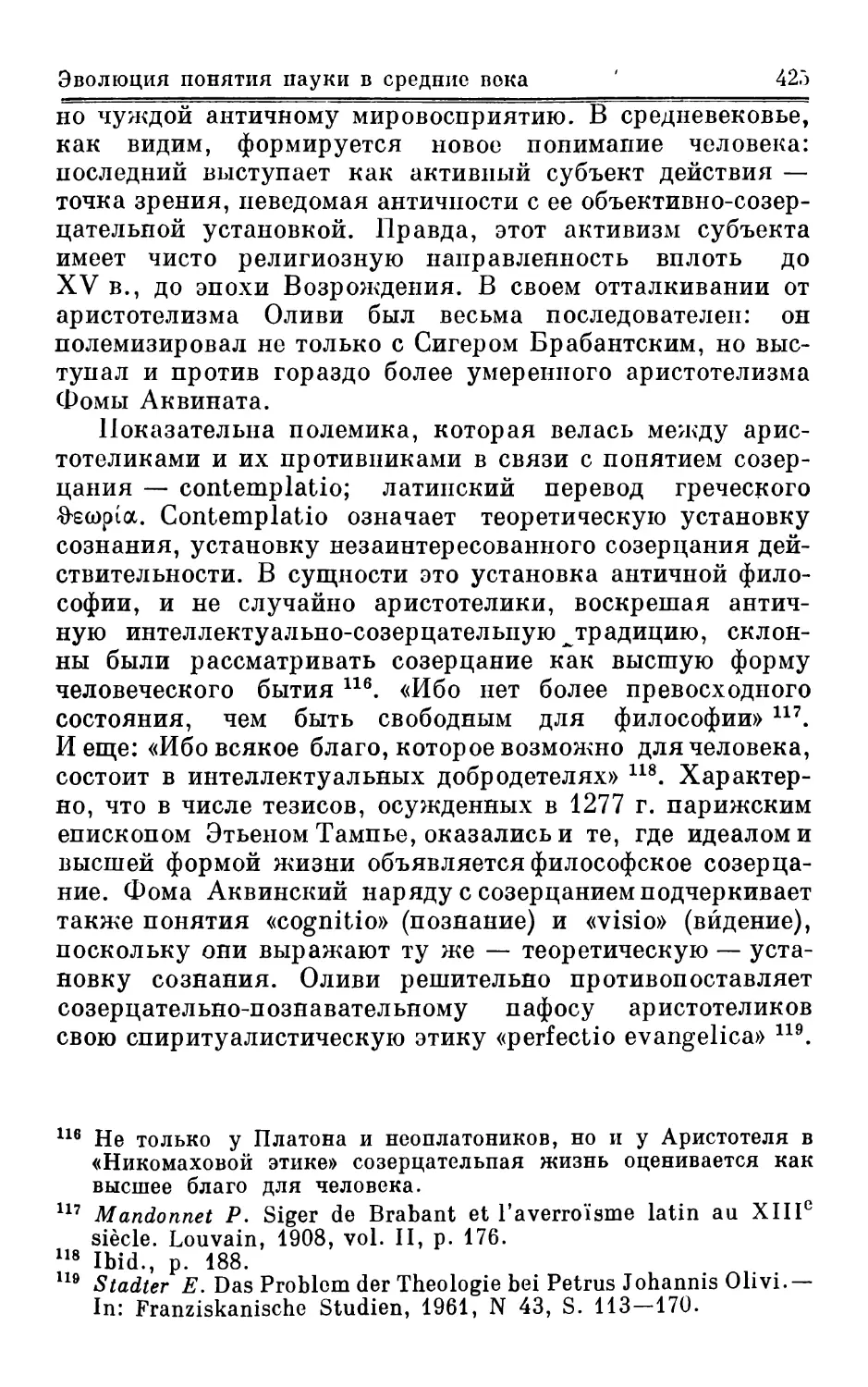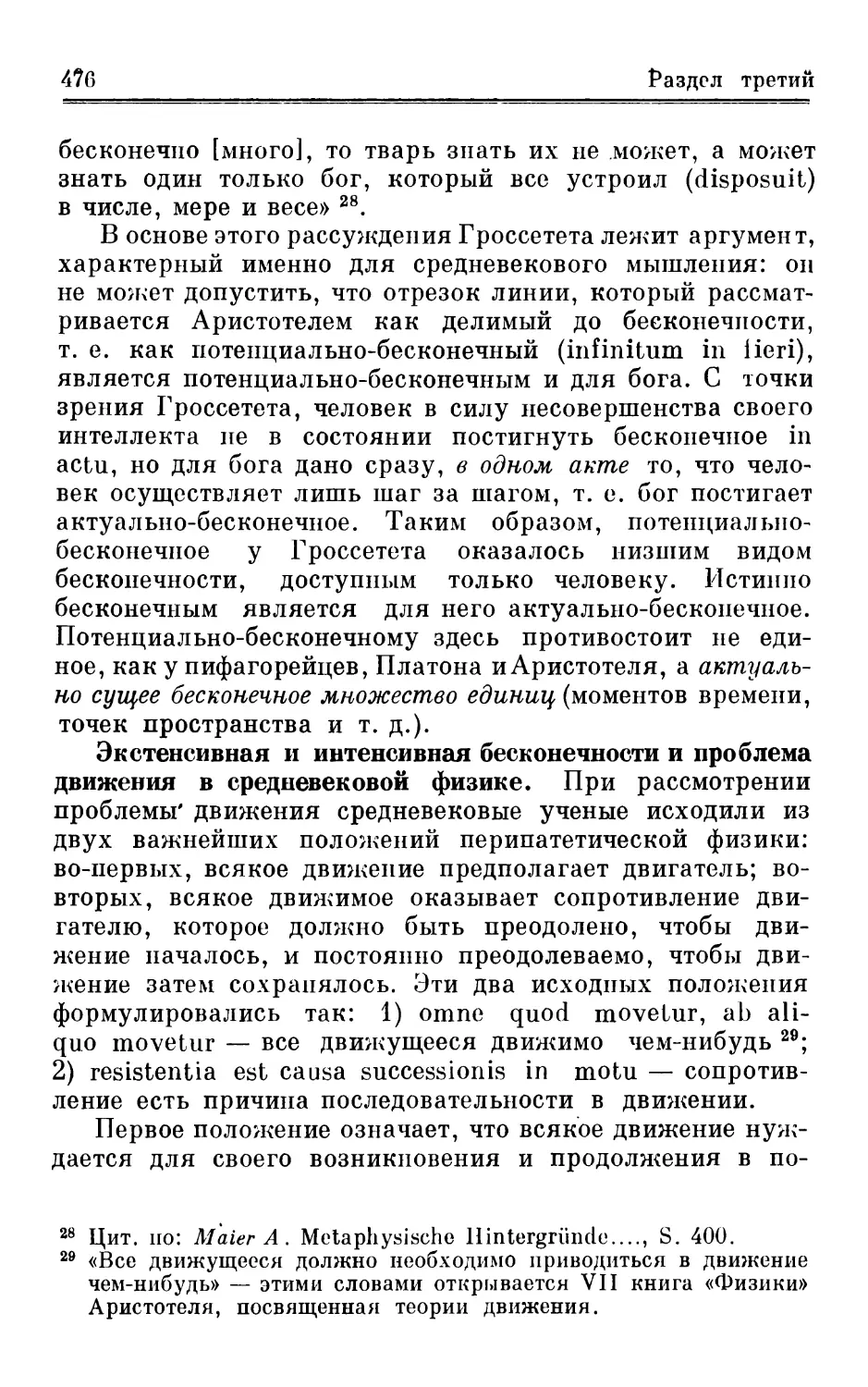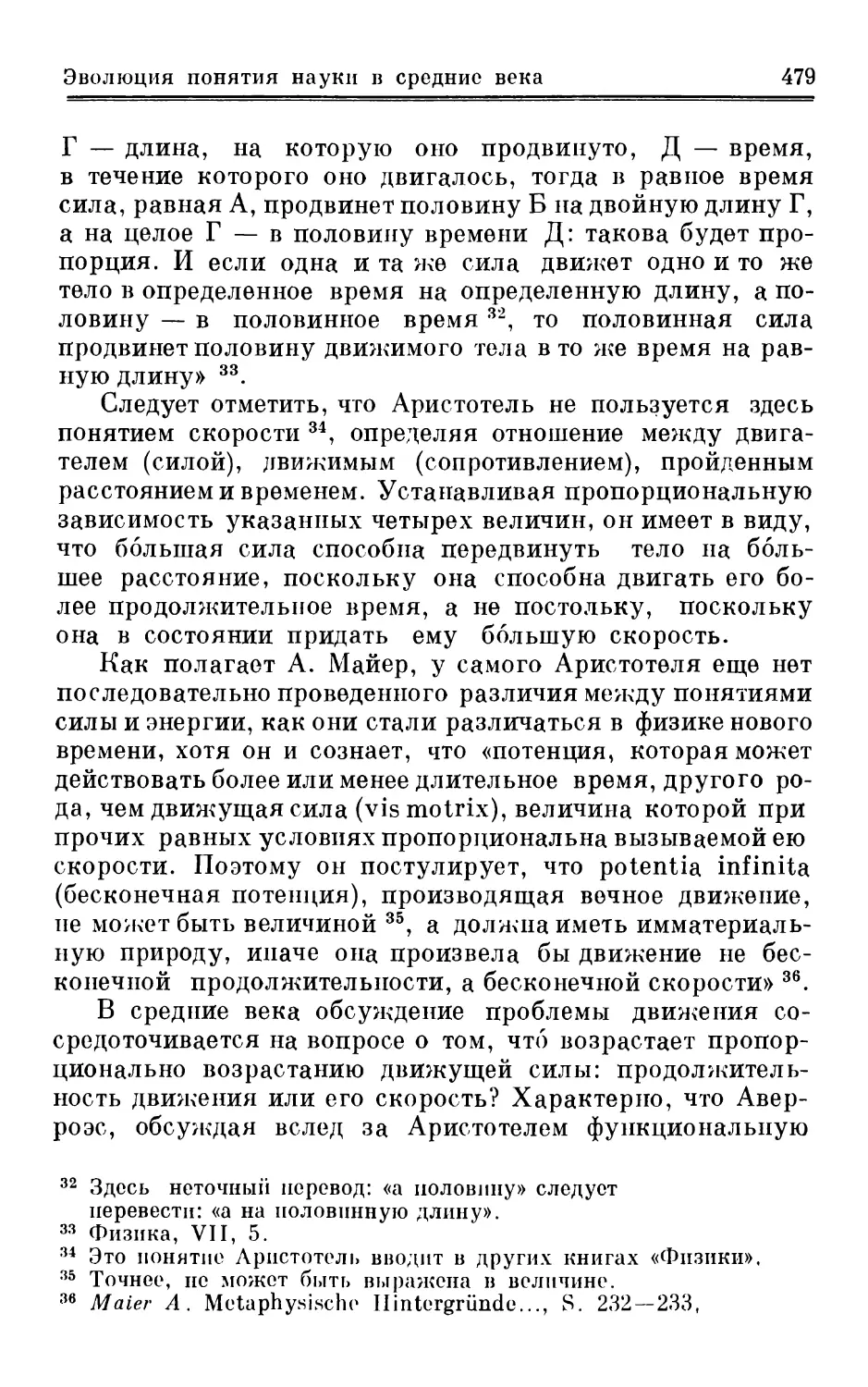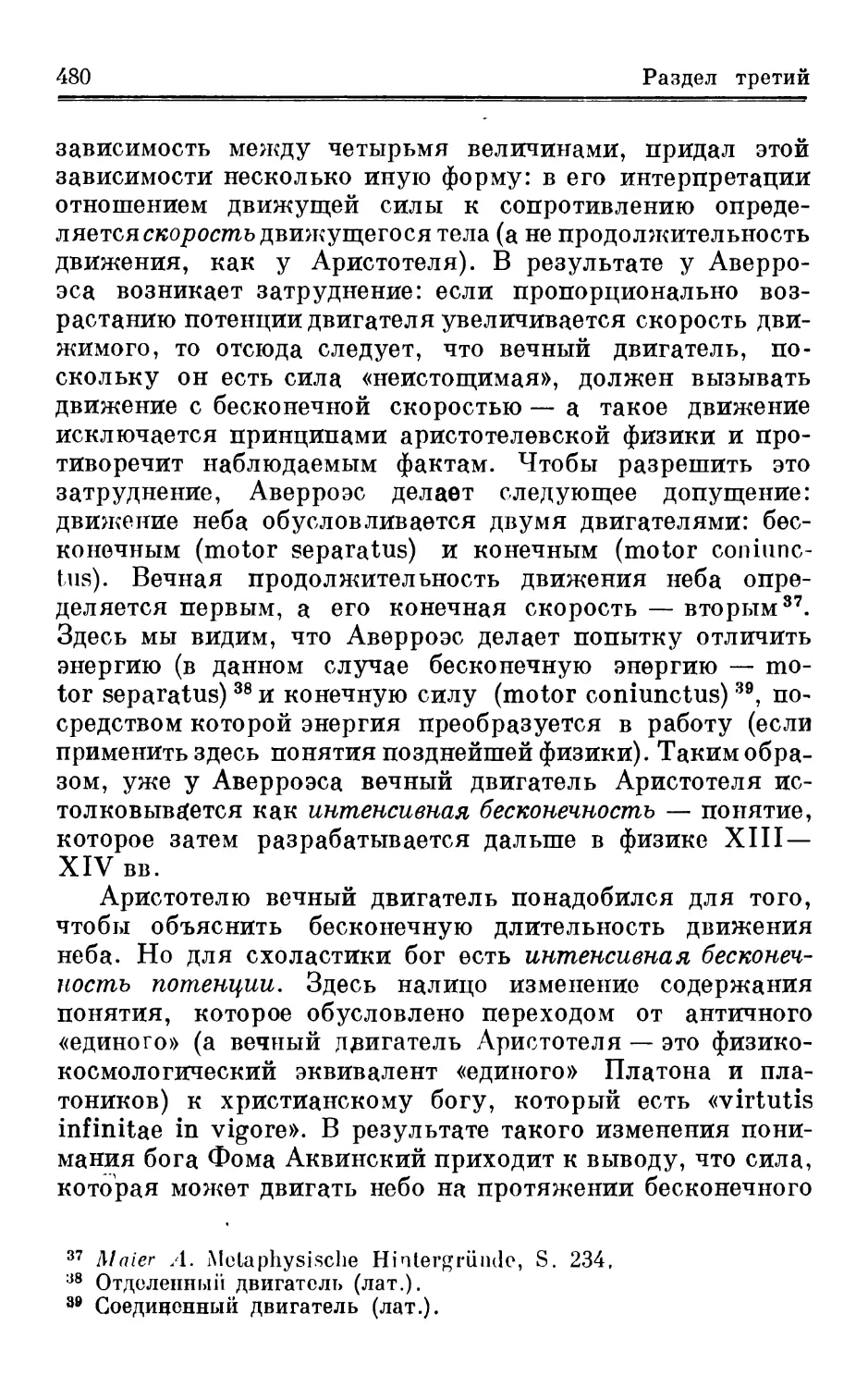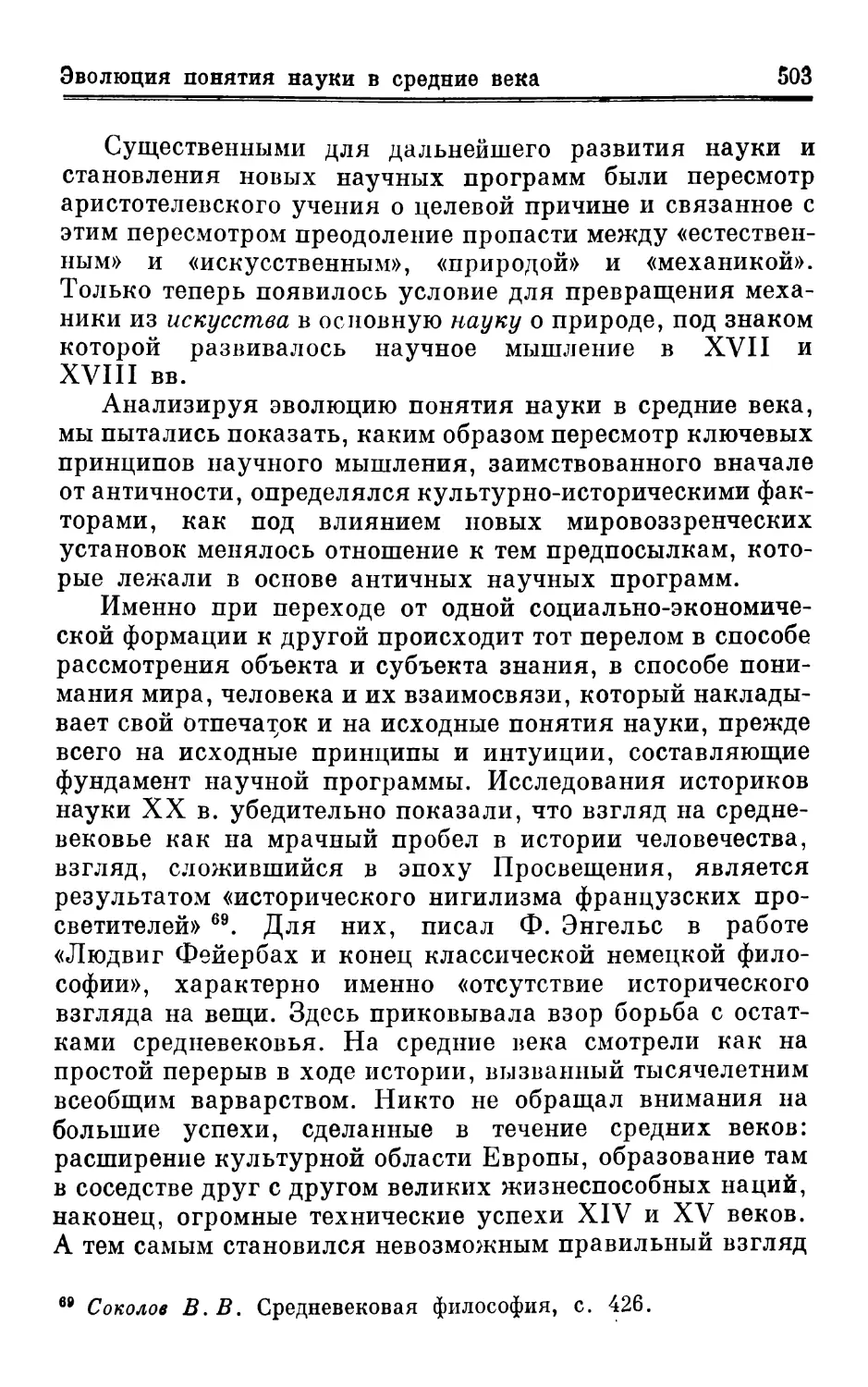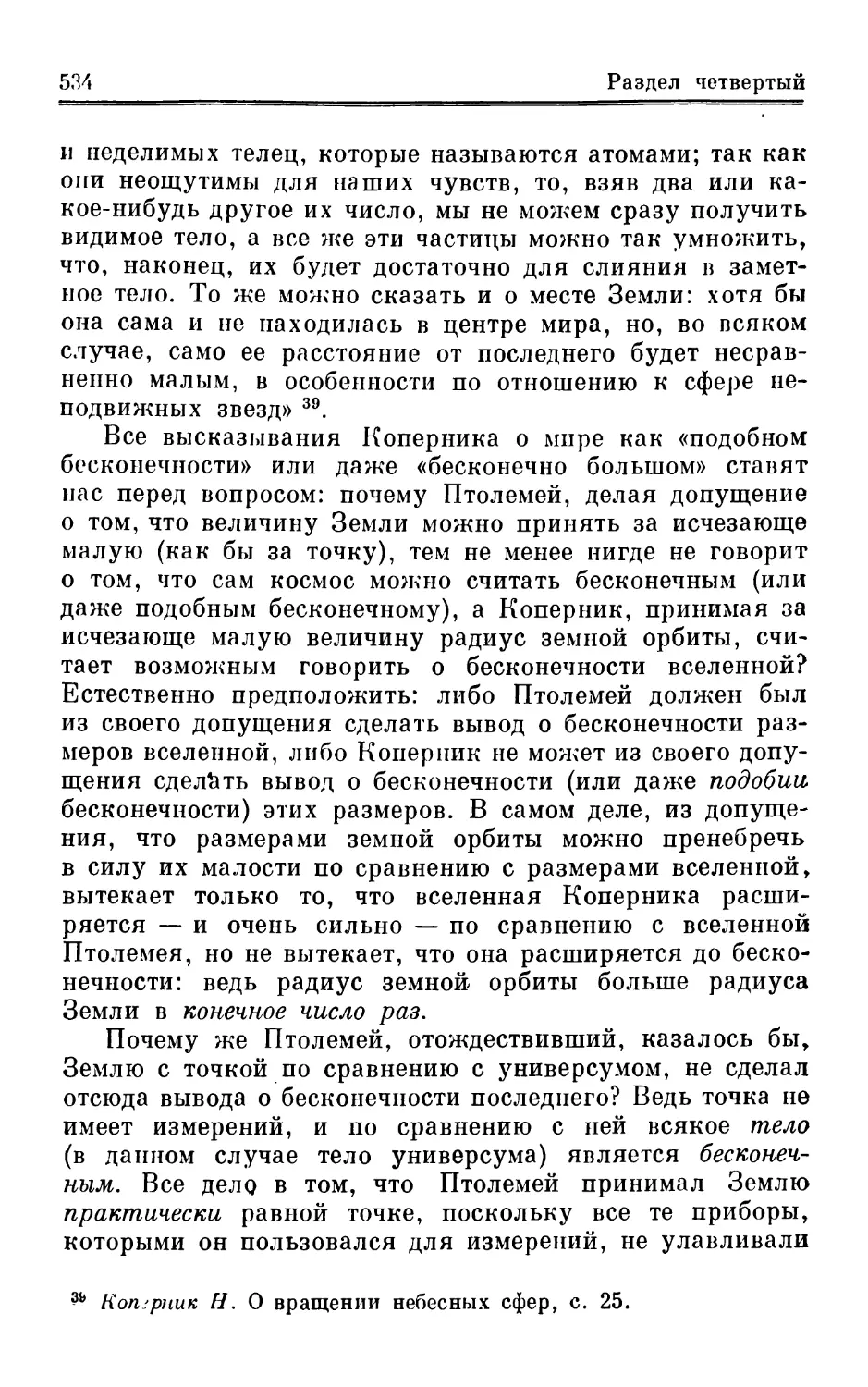Текст
Академия наук
СССР
Институт истории естествознания и техники
БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Под редакцией члена-корреспондента АН СССР
С. Р. Микулинского
Академия наук
СССР
Институт истории естествознания и техники
П. П. Гайденко
Эволюция
понятия науки
Становление и развитие первых научных программ
Издательство «Наука» Москва 1980
Монография посвящена анализу развития научного знания с VI в. до н. э. по XVI в. В ней прослеживается, как на протяжении этого периода менялись понимание науки, ее предмета и методов исследования, представления об идеалах научного знания. В центре внимания автора — становление и развитие первых научных программ, в рамках которых формировались методологические принципы исследования природы и фундаментальные понятия научного мышления — понятия числа, пространства, движения, конечного и бесконечного, непрерывного и др. В книге показано, как с изменением исторических условий в Средние века и в эпоху Возрождения пересматриваются ключевые понятия научных программ, сложившихся в античности, и тем самым подготавливаются предпосылки естествознания Нового времени.
Ответственный редактор: доктор философских наук И. Д.РОЖАНСКИЙ
© Издательство «Наука», 1980 г<
Ю501—412
Г п/о/лох on 204-79 0302010000
Введение
Исследование эволюции понятия «наука» предполагает изучение широкого круга вопросов, связанных с рефлексией науки относительно собственного содержания и способов его удостоверения, предмета и методов научного познания, а также целей, которые ставят перед собой ученые, и задач, которые они решают. Такое исследование не может быть сведено к анализу только узкотерминологического значения понятия «наука» и его изменения в ходе исторического развития. Но и в этом случае в каждую историческую эпоху необходимо привлечь широкий теоретический и культурно-исторический контексты: ведь в каждый исторический период в понятии науки выражается самосознание науки, в нем воплощено исторически обусловленное понимание идеала научного знания, способов его обоснования, целей и средств — одним словом, всего того, что отличает науку от других форм общественного сознания. Раскрыть содержание понятия науки, а тем более его эволюцию невозможно, не обращаясь как к конкретному анализу истории самой науки, так и к более широкой системе связей между наукой и обществом, наукой и культурой: наука живет и развивается в тесном контакте с культурно-историческим целым.
Такое рассмотрение, однако, осложняется тем, что наука и культура — это не два различных, внеположных ДРУГ другу объекта: наука — тоже явление культуры; научное познание представляет собой один из аспектов культурного творчества, в той или иной степени всегда, а в определенные эпохи особенно сильно влияющий на характер культуры и социальнуюАструктуру в целом, то влияние ощутимо усиливается по мере превращения науки в непосредственную производительную силу.
6
Введений
Проблема связи науки и культуры все больше выдвигается на первый план по мере того, как становится очевидной односторонность и неудовлетворительность тех двух методологических подходов к анализу науки, которые обычно называют интерналистским и экстерналист-ским. Первый требует при изучении истории науки исходить исключительно из имманентных законов развития знания, второй предполагает, что изменения в науке определяются чисто внешними по отношению к знанию факторами х.
Рассмотрение науки в системе культуры, на наш взгляд, позволяет избежать одностороннего подхода и показать, каким образом осуществляется взаимодействие, «обмен веществ», между наукой и обществом и в то же время сохраняется специфика научного знания.
Историк науки имеет дело с развивающимся объектом. Изучение любого развивающегося объекта требует применения исторического метода. На первый взгляд, дело обстоит не так уж плохо: в распоряжении исследователя, изучающего место и функцию науки в системе культуры, имеются достаточно разработанные отрасли знания — история науки и история культуры. Последняя представлена как общими, так и специальными работами: историей искусства (различных искусств), религии, права, политических форм и политических учений и т. д. Казалось бы, достаточно сопоставить между собой отдельные этапы в развитии искусства, права и т. д. с соответствующими этапами в развитии науки, установить аналогии стиля научного мышления с господствующим художественным стилем эпохи, с ее экономикой, политическими институтами — и вопрос будет решен.
В действительности задача намного сложнее. Правда, такого^ рода внешние аналогии могут быть интересными и полезными для исследователя, ибо они иногда играют в науке эвристическую роль. Но, как и всякие аналогии, они не могут дать достоверного знания и вскрыть внутрен-
1 Несостоятельность обоих этих подходов к рассмотрению истории науки раскрыта в статье С. Р. Микулинского «Мнимые контроверзы и реальные проблемы теории развития науки» (Вопросы философии, 1977, № И, с. 89—90).
Введение
7
НИЙ механизм взаимосвязи науки и других сфер культурной жизни эпохи. Аналогии только ставят вопрос, но не дают на него ответа. Обнаружение внешней аналогии, а она далеко не всегда имеет место, так как стиль научного мышления иногда внешне не соответствует художественному стилю данной эпохи,— это только начало работы, а"не ее завершение.
Так, например, можно заметить аналогию между особенностями научного мышления Аристотеля и его школы, с одной стороны, и спецификой новоаттической комедии, складывающейся в тот же период, в III в. до н. э. (образец ее дал Менандр),— с другой. В самом деле, Аристотель является творцом первой в истории классификации животных, а также политических форм и форм логического мышления. Его внимание привлекает не только всеобщее и «высокое», как это мы видим, например, в школе Платона, но и все частное и «низкое»: он с таким же интересом изучает строение червя и моллюска, как и движение неба и небесных светил. Все богатство и многообразие мира заслуживает, с его точки зрения, тщательного описания и изучения. Аналогично аттическую комедию отличает от трагедий Эсхила или Софокла стремление к обрисовке бытовых характеров, интерес к частной жизни во всем разнообразии ее проявлений. Отметим также, что научная работа Теофраста, ученика Аристотеля, посвященная описанию различных человеческих типов («Характеры»), по своему стилю и направленности интереса чрезвычайно близка к «Мимиямбам» писателя III в. до н. э. Герода, который ставил перед собой не научную, а художественную задачу.
Для того чтобы такого рода аналогии не оставались только внешними, необходимо серьезное проникновение во внутреннюю логику мышления ученого, с одной стороны, и структуру стилеобразующего сознания исторической эпохи — с другой. А стилеобразующее сознание не может быть понято как простая сумма тех или иных отдельных проявлений культуры, оно есть целостность умонастроения и миропонимания, которая пронизывает собой все сферы человеческой деятельности и накладывает свою печать на продукты как материальной, так и духовной культуры.
Введение
8
В свою очередь и раскрытие внутренней логики научного познания предполагает тщательный анализ той сложной системы, какой является наука. Если взять естественнонаучное знание в самой общей форме, то можно выделить следующие его компоненты: эмпирический базис, или предметную область теории; саму теорию, представляющую собой цепочку взаимосвязанных положений (законов), между которыми не должно быть противоречия; математический аппарат теории; экспериментально-измерительную деятельность. Все эти компоненты внутренне тесно связаны между собой. Так, необходимо, чтобы следствия, определенным образом (с помощью специальных методов и правил) полученные из законов теории, объясняли и предсказывали те факты, которые составляют предметную область теории и уже на этом основании не могут быть просто любыми эмпирическими фактами. Теория должна определять, далее, что и как надо наблюдать, какие именно величины необходимо измерять и как осуществить процедуру эксперимента и измерения. В системе научного знания именно теории принадлежит определяющая роль по отношению как к предметной области исследования, так и к математическому аппарату и, наконец, к методике и технике измерения.
Естественно возникают вопросы: какие из перечисленных компонентов научного знания^ следует сопоставлять с явлениями культуры и каким образом осуществлять это сопоставление? Как избежать "слишком большого числа возможных сопоставлений и уберечься от их’’произвольного характера, основанного на совершенно случайных признаках? Поскольку определяющим моментом в естественнонаучном знании является именно теория, то ее-то, видимо, и надо прежде всего сделать объектом изучения в системе культурно-исторического целого. Но тут возникает некоторое затруднение/ Дело в том, что теория отнюдь не внешним образом связана с^математическим аппаратом, методикой эксперимента итизмерения и предметной областью исследования (наблюдаемыми фактами). Единство всех этих моментов определяет саму структуру теории, так что связь положений теории носит логический характер и определяется «изнутри» данной теории. Именно поэтому те историки и философы науки, которые брали
Введений
9
теорию” в^качестве «единицы анализа»развивающегося знания, часто приходили к утверждению чисто имманентного характера развития науки, не нуждающейся якобы ни в каких иных, внешних логике самой теории, объяснениях ее эволюции.
Однако в результате исследований в области истории науки, философии науки и науковедения в XX в. был обнаружен особый пласт в научных теориях, а именно наличие во всякой научной теории таких утверждений и допущений, которые в рамках самих этих теорий не доказываются, а принимаются как некоторые само собой разумеющиеся предпосылки. Но эти предпосылки играют в теории такую важную роль, что устранение их или пересмотр влекут за собой и пересмотр, отмену данной теории; Каждая научная теория предполагает свой идеал объяснения, доказательности и организации знания, который из самой теории не выводится, а, напротив, определяет ее собою. Такого рода идеалы, как отмечает В. С. Степин, «уходят корнями в культуру эпохи и, по-видимому, во многом определены сложившимися на каждом историческом этапе развития общества формами духовного производства (анализ этой обусловленности является особой и чрезвычайно важной задачей)» 2.
В современной философской литературе по логике и методологии науки как у нас, так и за рубежом постепенно сформировалось еще одно понятие, отличное от понятия научной теории, а именно понятие научной, или исследовательской, программы 3. Именно в рамках научной программы формулируются самые общие базисные положения научной теории, ее важнейшие предпосылки; именно программа задает идеал научного объяснения и орга
2 Степин В. С. Становление научной теории. Минск, 1976, с. 295.
3 В зарубежной литературе этим понятием пользовался |И. Лакатош, разумеется в контексте своей методологии науки. £ См.: Lakatos I. History of Science and its Rational Reconstruc-; tions.—In.: Boston Studies in the Philosophy of Science. Dordrecht,
1970, vol. VIII. В отечественной литературе понятие научной программы применяется Н. И. Родным (Ровный Н. И. Очерки по истории и методологии естествознания. М., 1975), В. С. Степиным (Степин В. С. Становление научной теории), А. И. Ракитовым (Ракитов А. И. Философские проблемы науки. М., 1978) и др.
10
Введение
низации знания, а также формулирует условия, при выполнении которых знание рассматривается как достоверное и доказанное. Научная теория, таким образом, всегда вырастает на фундаменте определенной научной программы. Причем в рамках одной программы могут возникать две и более теорий.
Но что же представляет собой научная программа и почему вообще возникло это понятие?
Одной из причин, вызвавших к жизни это понятие, было, по-видимому, обнаружение существенных переломов в^ развитии естествознания, получивших название научных революций, которые оказалось невозможным объяснить с помощью только внутритеоретических факторов, т. е. с помощью внутренней логики развития теории. В то же время попытки объяснить научные революции путем введения факторов, совершенно внешних самому знанию, тоже обнаружили свою несостоятельность: в этом случае все содержание знания, по существу, сводилось к чему-то другому и наука лишалась своей самостоятельности.
Все это и побуждало историков науки к поискам такого пути, на котором можно было бы раскрыть эволюцию науки, не утрачивая ее специфики и относительной самостоятельности, но в то же время и не абсолютизируя эту самостоятельность, не разрывая органической связи естествознания с духовной и материальной культурой и ее историей.
В отличие от научной теории научная программа, как правило, претендует на всеобщий охват всех явлений и исчерпывающее объяснение всех фактов, т. е. на универсальное истолкование всего существующего. Принцип или система принципов, формулируемая программой, носит поэтому всеобщий характер. Известное положение пифагорейцев «Все есть число» — типичный образец сжатой формулировки научной программы. Чаще всего, хотя и не всегда, научная программа создается в рамках философии: ведь именно философская система в отличие от научной теории не склонна выделять группу «своих» фактов; она претендует на всеобщую значимость выдвигаемого ею принципа или системы принципов.
В то же время научная программа не тождественна фи
Введение
11
лософской системе или определенному философскому направлению. Далеко не все философские учения послужили базой для формирования научных программ. Научная программа должна содержать в себе не только характеристику предмета исследования, но и тесно связанную с этой характеристикой возможность разработки соответствующего метода исследования. Тем самым научная программа как бы задает самые общие предпосылки для построения научной теории, давая средство для перехода от общемировоззренческого принципа, заявленного в философской системе 4, к раскрытию связи явлений эмпирического мира.
Научная программа — весьма устойчивое образование. Далеко не всегда открытие новых фактов, не объяснимых с точки зрения данной программы, влечет за собой ее изменение или вытеснение новой программой.
Научная программа, как правило, задает и определенную картину мира; как и основные принципы программы, картина мира обладает большой устойчивостью и консерватизмом. Изменение картины мира, так же как и перестройка научной программы, влечет за собой перестройку стиля научного мышления и вызывает серьезный переворот в характере научных теорий.
Понятие научной программы является, на наш взгляд, очень плодотворным с точки зрения изучения науки в системе культуры: ведь именно через научную программу наука оказывается самым интимным образом связанной
4 Анализ истории науки в этом аспекте позволяет глубже раскрыть вопрос о взаимодействии и взаимосвязи философии и науки. Как справедливо отмечает А. И. Ракитов, «давно стало общим местом утверждение, что философия оказывает определенное влияние на развитие науки, которая в свою очередь предоставляет философии богатую конкретную информацию о различных областях объективной реальности. Однако за пределами общей декларативной постановки проблемы взаимовлияния и взаимозависимости этих двух форм познания мира многое еще остается невыясненным. Исследования по истории науки, проводившиеся за последние десятилетия, показали, что философские принципы, общие мировоззренческие установки и специальные методологические концепции оказывают на развитие науки гораздо более сильное и радикальное влияние, чем это казалось раньше. Особенно заметно оно проявляется в эпохи великих научных революций...» (Ракитов А. И. Философские проблемы науки, с. 21).
12
Введение
с социальной жизнью и духовной атмосферой своего времени. В научной программе получают самую первую рационализацию те трудноуловимые умонастроения, те витающие в качестве бессознательной предпосылки тенденции развития, которые и составляют содержание «само собой разумеющихся» допущений во всякой научной теории. Эти программы представляют собой именно те «каналы» между культурно-историческим целым и его компонентом — наукой, через которые совершается «кровообращение» и через которые наука, с одной стороны, «питается» от социального тела, а с другой — создает необходимые для жизни этого тела «ферменты»: опосредует связи социального образования с природой и осуществляет необходимые для его самосохранения и самовоспроиз-водства способы самосознания, саморефлексии. На разных стадиях разития науки главенствующей оказывается либо первая, либо вторая функция.
Разумеется, научные программы — это не единственный из существующих «каналов» связи между наукой и обществом. Поскольку наука является сложной и поли-функциональной системой, она связана с культурой самыми разными нитями, бесконечным множеством зависимостей. Но, для того чтобы не заблудиться в этом бесконечном многообразии, надо ограничить исследование определенными рамками. Изучение формирования, эволюции и, наконец, смерти научных программ, становления и укрепления новых, а также изменения форм связи между программами и построенными на их основе научными теориями дает возможность раскрыть внутреннюю связь между наукой и тем культурно-историческим целым, в рамках которого она существует. Такой подход позволяет проследить также исторически изменяющийся характер этой связи, т. е. показать, каким образом история науки внутренне связана с историей общества, и культуры.
То обстоятельство, что в определенный исторический период могут существовать рядом друг с другом не одна, а две и даже более научных программ, по своим исходным принципам противоположных друг другу, не позволяет упрощенно «выводить» содержание этих программ из некоей «первичной интуиции» данной культуры, заставляет более углубленно анализировать сам «состав» этой
Введений
13
культуры, выявлять различные сосуществующие в ней тенденции. В то же время, наличие более одной программы в каждую эпоху развития науки свидетельствует о том, что стремление видеть в истории науки непрерывное, «линейное» развитие определенных, с самого начала уже заданных принципов и проблем является неоправданным. Сами проблемы, которые решаются наукой, не одни и те же на всем протяжении ее истории; в каждую историческую эпоху они получают, по существу, новое истолкование 5.
Один из наиболее интересных вопросов, который встает при исследовании развития научного знания в его тесной связи с культурой,— это вопрос о трансформации определенной научной программы при переходе ее из одной культуры в другую. Рассмотрение этого вопроса позволяет пролить новый свет на проблему научных революций, которые, как правило, обозначают не только радикальные изменения в научном мышлении, но и свидетельствуют о существенных сдвигах в общественном сознании в целом.
Каким образом формируется, живет и затем трансформируется или даже отменяется научная программа и тем самым теряет свою силу построенная на ее базе научная теория (или теории)??Все эти вопросы могут быть рассмотрены на основе исторического исследования, исследования эволюции понятия науки. При таком исследовании историк науки с необходимостью должен обращаться к истории философии, поскольку формирование, да| и трансформация ведущих научных программ самым тесным образом связаны с формированием и развитием философских систем, а также с взаимовлиянием и борьбой различных философских направлений. В свою' очередь такое изучение истории науки проливает’ новый свет и на историю философии, открывает дополнительные возможности для изучения связи и взаимовлияния философии и науки в их историческом развитии.
Конечно, на этом пути возникает много трудностей как в плане методологическом, так и по целому ряду
6 См. об этом Родный Н. И. Очерки по истории и методологии естествознания, с. 235—236.
14
введение
конкретных вопросов. Такого рода вопросы не могут быть решены в рамках одной работы; некоторые из них остаются проблематичными, требуют специального анализа, для решения других необходимо, очевидно, привлечение исторического материала, которого в достаточной мере не было в распоряжении автора. Так, в данной работе нет специального рассмотрения научных представлений Древнего Востока, формирования научного знания в Древней Индии, Китае, Вавилоне и Египте. Отчасти, впрочем, это оправдано тем, что только на древнегреческой почве мы впервые обнаруживаем пауку в форме строгой системы теоретического знания. Наиболее ярким примером такой системы знания является древнегреческая математика, как она представлена в «Началах» Евклида.
Именно в Древней Греции с VI до III в. до н. э. формируются и важнейшие научные программы, на много столетий определившие дальнейшее развитие науки. К ним мы относим атомистическую (реализовавшуюся, правда, в научных теориях только в новое время), математическую, возникшую на базе пифагорейской и платоновской философии и реализовавшуюся уже в античности, и, наконец, континуалистскую программу Аристотеля, на основе которой была создана первая физическая теория — физика перипатетической школы, просуществовавшая вплоть до XVII в., хотя и не без изменений.
Возникновение этих первых научных программ — один из важных аспектов генезиса научного знания в античности. Можно выделить несколько разных этапов в развитии античной науки, еще теснейшим образом связанной с философией и не вполне свободной также от мифологических представлений,—этапов становления научно-исследовательских программ. Так, например, при изучении формирования математической программы можно установить различие между раннепифагорейскими представлениями (VI—V вв. до и. э.), пифагореизмом эпохи Платона (Филолай, Архит), и, наконец, математической программой, как она была обоснована Платоном (IV в. до н. э.).
Правда, сочинения досократиков, в частности пифагорейцев, дошли до нас в небольших фрагментах или в пересказе позднейших доксографов, в связи с чем возникают
Введение \ 15
большие трудности при попытке реконструировать их учения. Э то ,\ несомненно, сильно осложняет исследование генезиса науки. Тем не менее в работе сделана попытка установить некоторые важные вехи на пути становления научных программ античности. К ним относится, во-первых, тот перелом в мышлении, который связан с философией элейской школы, осуществившей первую из известных нам в античной науке критику оснований знания. Во-вторых, существенным этапом в формировании мате-матической научной программы, а также программы кон-тинуалистской оказался период, связанный с деятельностью' софистов, носившей критически рефлексивный характер и связанной с серьезными сдвигами в социальной жизни Древней Греции. Без обращения к этой последней мы не можем понять движущие пружины той деятельности философов и ученых, продуктом которой оказались важнейшие достижения древнегреческой науки.
Таким образом, в центре внимания настоящего исследования стоят вопросы, связанные с формированием научно-исследовательских программ античности и их последующей трансформации в средневековой науке, а затем в эпоху Возрождения. Именно при переходе от одной культурно-исторической эпохи к другой, существенно отличной от первой, можно видеть, как меняются общемировоззренческие ориентиры ученого, влияющие на его понимание природы и своего места в ней, и как это изменение сказывается на характере научного мышления, прежде всего на научных программах. Только благодаря такому сравнению оказывается возможным выяснить специфические особенности научного знания разных эпох, показав, как изменяется понимание науки, ее предмета и методов исследования, норм и идеалов научного познания.
Раздел первый /
У истоков /
научно-теоретического мышления
Глава первая
Пифагореизм и истоки древнегреческой математики
Предпосылки для превращения математики в теоретическую науку, какой мы находим ее в «Началах» Евклида, впервые возникли в Древней Греции. Особенно важную роль в формировании древнегреческой математики сыграла пифагорейская школа. Однако может возникнуть вопрос: почему, исследуя, когда и как возникла математика как наука, мы обращаемся к древнегреческим мыслителям, в то время как уже до греков, в Вавилоне и Египте, существовала математика и, стало быть, здесь и следует искать ее истоки?
Отличце древнегреческой математики от математики Древнего Востока. Действительно, математика возникла на Древнем Востоке, по-видимому, задолго до греков. Но особенностью древнеегипетской и вавилонской математики было отсутствие в ней (за исключением отдельных элементов) единой системы доказательств х, которая впервые появляется именно у греков. «Большое различие между греческой и древневосточной наукой,— пишет венгерский историк науки Арпад Сабо,— состоит именно в том, что греческая математика представляет собой систему знаний, искусно построенную с помощью дедуктивного метода, в то время как древневосточные тексты математического содержания содержат только интересные инструкции, так сказать, рецепты и зачастую примеры того, как надо решать определенную задачу» 1 2. Древневосточная
1 Какой мы ее находим в «Началах» Евклида.
2 Szabo A. Anfange der griechischen Mathematik. Munchen; Wien, 19(59, S. 245.
У истоков научно-теоретического мышления
17
математикам представляет собой совокупность определенных правил^ вычисления; то обстоятельство, что древние египтяне и вавилоняне могли осуществлять весьма сложные вычислительные операции, ничего не меняет в общем характере их математики.
Эти особенности древневосточной математики объясняются тем, что она носила практически-прикладной характер; с помощью арифметики египетские писцы решали задачи «о расчете заработной платы, о хлебе или пиве и т. д.» 3, а с помощью геометрии вычисляли площади или объемы. «...В обоих случаях вычислитель должен был знать правила, по которым следовало производить вычисление. Но что касается систематического вывода правил для этих расчетов, то о них нет речи, да и не может идти, ибо часто (как, например, при определении площади круга) употребляются только приближенные формулы» 4.
Поскольку древневосточная математика носила практический характер, она не проводила существенного различия между вычислением количества зерна, числа кирпичей или размера площади, т. е. между решением задач, которые впоследствии разделялись бы на арифметические и геометрические. «Центральной задачей математики на ранней стадии ее развития,— пишет Нейге-бауэр,— является численное нахождение решения, удовлетворяющего некоторым условиям. На этом уровне нет существенного различия между делением суммы денег согласно определенным правилам или делением поля данного размера на, скажем, участки равной площади. Во всех случаях нужно соблюдать внешние условия, в одном случае условия наследования, в другом — правила для определения площади или отношения между мерами или установившиеся нормы оплаты работников. Математическая ценность задачи состоит в ее арифметическом решении, «геометрия» является лишь одним из многих объектов практической жизни, к которым можно
3 Варден Б, Л. ван дер. Пробуждающаяся наука. Математика Древнего Египта, Вавилона и Греции/ Пер. И. Н. Веселовского. М., 1959, с. 41.
4 Там же, с. 42.
18
Раздал первый
применить арифметические методы» 5 б. В этом отношении характерны специальные тексты, предназначенные для писцов, занимавшихся решением математических задач. Писцы должны были знать все численные «коэффициенты», нужные им для вычислений. В списках «коэффициентов» содержатся «коэффициенты» для «кирпичей», для «стен», затем для «треугольника», для «сегмента круга», далее для «меди», «серебра», «золота», для «грузового судна», «ячменя», для «диагонали», «резки тростника» и т. д.6.
В Греции мы наблюдаем появление того, что можно назвать теоретической системой математики: греки впервые стали строго выводить одни математические положения из других, т. е. ввели в математику доказательство. «Отдельные математические теории,— пишет историк математики И. Г. Башмакова,— строятся как системы, основанные на доказательстве. Доказательство, система доказательств играют в нашей науке особую роль. Ведь большинство высказываний математики относится к бесконечному множеству объектов. Так, предложение о том, что сумма углов треугольника равна 2d, не может быть установлено никаким конечным числом проверок: во-первых, потому, что треугольников бесконечно много и, во-вторых^ каждое практическое измерение производится только с некоторой определенной степенью точности. Без доказательства никогда не могла бы быть открыта несоизмеримость величин, а без этого не существовало бы важнейших разделов современной математики. Можно сказать, что математика как наука стала существовать только после систематического введения в нее доказательств» 7.
Надо отметить, что в Древней Греции так же, как и в Вавилоне и Египте, разрабатывалась техника вычислений, без которой невозможно было решать практические задачи строительства, военного дела, торговли, мореходства и т. д. Но важно иметь в виду, что сами греки назы
5 Нейгебауэр. Точные науки в древности. М., 1968, с. 58—59.
в Там же, с. 59.
7 Башмакова И. Г. Лекции по истории математики в Древней Греции: Историко-математические исследования. М., 1958, выл. XI, с. 232 (курсив мой.— Я. Г.).
У истоков\ научно-теоретического мышления
19
вали приемы вычислительной арифметики и алгебры логистикой (XoyiGTixTj — счетное искусство, техника счисления) и отличали логистику как искусство вычисления от теоретической математики. Правила вычислений, стало быть, разрабатывались в Греции точно так же, как и на Востоке, и, конечно, греки при этом могли заимствовать очень многое как у египтян, так и в особенности у вавилонян.
О логистике греков, как и о математических вычислениях на Востоке, можно сказать, что она носила практи-чески-прикладной характер. «В состав логистики входили: счет, арифметические действия с целыми числами вплоть до извлечения квадратных и кубических корней, действия на счетном приборе — абаке, операции с дробями и приемы численного решения задач па уравнения первой и второй степени. В логистике рассматривались также приложения арифметики к землемерию и иным задачам повседневной жизни. Сами греки отличали логистику от теоретической арифметики, которую они называли просто арифметикой. Правила логистики излагались догматически и, вообще говоря, не снабжались доказательствами так же, как это было принято в египетских папирусах» 8.
Таким образом, в Греции имела место как практически-прикладная математика (искусство счисления), сходная с египетской и вавилонской, так и теоретическая математика, предполагавшая систематическую связь математических высказываний, строгий переход от одного предложения к другому с помощью доказательства. Именно математика как систематическая теория была впервые создана в Греции 9.
Сравнивая греческую математику с древнеегипетской, голландский историк математики ван дер Варден указывает на ту границу, которая проходит между греками и их восточными предшественниками: «Достоверно, что
8 Башмакова И. Г. Лекции по истории математики в Древней Греции, с. 235 (курсив мой.— IT. Г.).
9 «Характерная и совершенно новая черта греческой математики заключается именно в постепенном переходе при помощи доказательств от одного предложения к другому»,— пишет историк математики Б. Л. ван дер Варден {Варден Б. JI. ван дер .Пробуждающаяся наука, с. 124).
20
Раздел первый
египетский способ умножения и вычисления с основными дробями греки получили от египтян, а затем развили его до той степени, какую показывает нам Ахмимский папирус эллинистической эпохи. Но вычисление — это еще не математика.
Точно так же греки могли заимствовать у египтян правила вычисления площадей и объемов. Однако такие правила до греков еще не составляли математики; именно они поставили вопрос: как это доказать?» 10.
Надо полагать, что становление математики как систематической теории, какой мы ее находим в евклидовых «Началах», представляло собой длительный процесс: от первых греческих математиков (конец VI—V в. до н. э.) до III в. до н. э., когда были написаны «Начала», прошло более двухсот лет бурного развития греческой науки. Однако уже у ранних пифагорейцев, т. е. на первых этапах становления греческой математической программы, мы можем обнаружить такие специфические особенности, которые принципиально отличают их^подход к математике от древневосточного.
Прежде всего такой особенностью является новое понимание смысла и цели математического знания, иное понимание числа: с помощью числа пифагорейцы не просто решают практические задачи, а хотят объяснить природу всего сущего. Они стремятся поэтому постигнуть сущность чисел и числовых отношений, ибо через нее надеются понять сущность мироздания. Так возникает первая в истории попытка осмыслить число как миросозидающий и смыслообразующий элемент.
То, что у вавилонян и египтян выступало всего лишь как средство, пифагорейцы превратили в специальный предмет исследования, т. е. в цель последнего.
Проблема пифагореизма в научной литературе. Пифагореизм имел свою длительную историю — от основателя школы, полулегендарного Пифагора, младшего современника Фалеса Милетского (VI в. до н. э.), до неопифагореизма эпохи эллинизма (I в. до н. э.— III в. н. э.). Мы не будем входить во все детали развития пифагореизма, поскольку здесь возникает очень много сложных проб
10 Варден Б. Л. ван дер. Пробуждающаяся наука, с. 48.
У истоков научно-теоретического мышления
21
лем и существует обширная специальная литература. Одной из причин, осложняющей анализ пифагорейской философии и науки в ранний период ее развития, является то обстоятельство, что пифагореизм первоначально существовал как религиозный орден, учения которого должны были оставаться тайной для непосвященных. Разглашение этих учений запрещалось и. Другой причиной, затрудняющей отнесение тех или иных научных открытий к определенному периоду, была характерная для пифагорейцев традиция приписывать эти открытия Пифагору. Тем самым, с одной стороны, открытия как бы освящались его именем 11 12, а с другой — эта традиция служила в глазах пифагорейцев препятствием для честолюбивых помыслов, несовместимых со служением истине.
Эти и ряд других обстоятельств затрудняют анализ истории пифагорейства, поэтому до сих пор исследователи не могут разрешить многие важные вопросы, касающиеся философии и математики пифагорейцев. А. О. Маковель-ский предлагает следующую периодизацию древнего пифагореизма: «Первый период от основания пифагорейского
11 Так, по преданию, Гиппас из Метапонта, один из ранних пифагорейцев, оыл изгнан из союза за разглашение пифагорейских учений. Вот сообщение об этом Ямвлиха: «О Гиппасе же рассказывают, что он принадлежал к числу пифагорейцев, но вследствие того, что он первый разгласил и начертил шар из двенадцати пятиугольников, он, как поступивший безбожно, погиб в море, зато приобрел славу изобретателя, между тем как все (эти изобретения) принадлежат «тому известному мужу». Дело в том, что так они называют Пифагора, не называя его по имени. Онт‘увеличил знания, так как (благодаря ему) они были разглашены (по всей Элладе, первыми в то время математиками считались)тдвое особенно выдающихся — Феодор из Кирены и Гиппократ из Хиоса» (Маковельский А. Досократики. Казань, 1914, ч. I, с. 80; 4, 8, 4. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в сокращении: МД, указание части и номер фрагмента).
12 Во второй половине V в. до н. э., отмечает П. Таннери, «пифагорейская школа не существует уже ни как политическая ассоциация, ни как центр просвещения; отдельные мыслители более или менее обособляются и образуют секты, продолжая,'*'однако, признавать себя учениками Пифагора, о котором уже слагаются легенды. Главная задача этого времени — согласить с прогрессом мысли священные формулы, завещанные Пифагором, и поставить повые открытия под покровительство его имени» (Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки. СПб., 1902, с. 253).
22
Раздел первый
союза в 531 г. до разгрома школы около 500 г. обнимает деятельность самого Пифагора и пифагорейцев VI века: главы акусматиков Гиппаса, врача Демодока, Петрона, Брентина и других. Второй период — с 500 г. до образования главной системы научного пифагореизма, которая сложилась в середине V в. Главная система слагалась постепенно при сотрудничестве многих лиц... В третий период главная система научного пифагореизма завершается у Филолая, который фиксирует ее в письменной форме и опубликовывает; около того же времени появляется сочинение Иона Хиосского «Триагм». Четвертый период — пифагорейцы в изгнании, последняя треть пятого века. Второй разгром пифагорейской школы имел место, по Эд. Целлеру, в 440—430 гг., оставшиеся в живых пифагорейцы были вынуждены бежать из Италии; в числе этих беженцев называют Филолая, Лисиса, бывшего позже в Фивах учителем Эпаминонда, и других. Пятый период — пифагореизм IV века; сюда относится деятельность преемника Филолая Эврита и его учеников — тех пяти мужей, которых Аристоксен называет «последними пифагорейцами»; это — учитель Аристоксена Ксенофил, Фантон, Эхекрат, Диокл и Полимнаст. На первую половину IV века падает также деятельность Архита Тарентинского, последнего значительного пифагорейца» 13.
В плане проблематики для нас важно хотя бы в общих чертах представить историю пифагореизма, так как это направление было тесно связано с развитием именно научных, а не только философских знаний в античной Греции. Пифагорейцы занимались не одной лишь математикой, к которой в античности относили, кроме арифметики, геометрии и стереометрии, также астрономию, акустику, гармонику (теорию музыки). Среди них были также врачи, как Алкмеон из Кротоны, ботаники, как Менестор из Сибариса, эмпирики-естествоиспытатели, как Гиппон из Самоса 14 *; ранние пифагорейцы, в том числе сам Пифагор, Филолай и многие другие, занимались космологией.
13 МД, ч. III. Казань, 1919, с. V—VI.
14 По сообщениям Симпликпя, «Фалес... и Гиппон, который, кажется, был притом безбожником, учили, что начало есть вода, и отправлялись при этом от чувственной видимости» (МД, ч. III,
46А 4).
у истоков научно-теоретического мышления
23
В этом смысле ранние пифагорейцы имеют много общего с так называемыми физиками, или натурфилософами-ионийцами: Фалесом, Анаксимандром, Анаксименом, Гераклитом. Но то обстоятельство, что многие из них занимались прежде всего математическими науками, что в центре их внимания было понятие числа и они размышляли о его сущности, оказало в конце концов решающее влияние на развитие научных воззрений школы.
История развития пифагореизма интересна потому, что в разные периоды (с VI по IV в. до н. э.) осмысление природы числа и числовых отношений происходило, видимо, по-разному. В соответствии с этим менялись и развивались также представления о методах математики и науки в целом.
К концу XIX — началу XX в. сложилась тенденция резко отделять ранний пифагореизм (VI — первая половина V в. до н. э.) от более позднего (конец V—IV в. до н. э.). При этом аргументация исследователей шла по двум направлениям. Так, В. Виндельбанд отмечал недостаточность достоверных свидетельств о первых пифагорейцахг чего, конечно, не приходится отрицать 1б; исходя из этого, он считал, что рассмотрение учения пифагорейцев следует начинать с работ Филолая. Другой аргумент выдвигали такие исследователи, как В. Дёринг, а позднее Э. Франк. Согласно Дёрингу, первоначально пифагореизм был только религиозно-нравственным учением, в центре которого стоял вопрос о спасении души. Собственно научных, в том
16 Указывая на то, что свидетельства о Пифагоре мы находим у поздних авторов (Прокла, Ямвлиха и др.), не находя их у более ранних и, стало быть, более компетентных (например, у Платона и Аристотеля), Виндельбанд пишет: «То обстоятельство, что в древности мифический туман около этой личности (Пифагора.— П. Г.) все сгущался от столетия к столетию, принуждает обратиться к более ранним и, следовательно, в то же время более компетентным свидетельствам. При этом оказывается, что о философии Пифагора ни Платону, ни Аристотелю ничего не было известно, но что, напротив, у них только и упоминается о философии «так называемых пифагорейцев»; также в высшей степени вероятно, что Пифагор сам ничего не писал... но что первое философское сочинение этой школы принадлежало Филолаю, современнику Анаксагора и даже Сократа и Демокрита» (Виндельбанд В. История древней философии. СПб., 1902, с. 25).
и
Раздел первыг
числе и математических изысканий в этот период не было. Только позднее, уже после того, как мистический дух пифагореизма несколько ослабел, в пифагорейской школе возникли научные интересы. Эти интересы, по Дёрингу, вышли на первый план только тогда, когда пифагорейцы отказались от учения о переселении душ и всецело отдались научным исследованиям 16.
уГакие же приблизительно аргументы выдвигает и Э.^Франк влсвоем фундаментальном труде «Платон и так называемые пифагорейцы». Насколько важными для дальнейшего развития естествознания, согласно Франку, были математические и астрономические открытия пифагорейцев IV в. до н. э., главным образом Архита и его учеников, настолько же мало можно сообщить о ранних пифагорейцах. Приписываемые Пифагору открытия в области математики, по мнению Франка, были на самом деле сделаны именно в IV в. теми учеными, которых Аристотель именует «так называемыми пифагорейцами» 17. Хотя Франк главным образом ссылается на недостаточно достоверные свидетельства о ранних пифагорейцах, считая, что не только Пифагору, но и Филолаю приписывается многое из открытого «кружком Архита», но, по-видимому, не только эти соображения привели его к мысли так резко отделить два названных этапа 18.
16 Doring W. Wandlungen in der pythagoraischen Lehre.— Archiv fur Geschichte der Philosophie. Berlin, 1892, Bd. V, S. 503—531.
17 Если верить некоторым свидетельствам, говорит Франк, то Пифагор «уже в середине VI в. до н. э. владел всем математическим знанием, которое впоследствии — около 300 г. до н. э.— подытожил Евклид,— и путем чисто философской спекуляции открыл сам все это знание — а именно теорию иррациональности Теэтета, им же открытую конструкцию пяти правильных тел, а также теорию пропорций Евдокса и музыкальную теорию Архита и Платона, да к тому же еще шарообразную форму земли, учение о «гармонии» планетного движения. Одним словом, все те результаты, которые дала наука только в IV столетии (до н. э.) в ходе длительного, хотя в то же время и неслыханно быстрого развития, согласно этой традиции, должны были бы приписываться одному единственному человеку, который в самом начале этого развития создал их с помощью одной только спекуляции как бы из ничего» (Frank Е. Plato und die sogenannten PythagOreer. Halle/S., 1923, S. 66-67).
18с Э. Франк даже склонен думать, что аристотелевское выражение с «так называемые» применительно к пифагорейцам следует пони-
У истоков научно-теоретического мышления
25
Франк стремился показать, что греческая математика и астрономия в IV в. до н. э. уже разработали те методы и сделали те открытия, которые определили собой весь дальнейший путь развития науки. Доказывая этот тезис, франк хотел по возможности отделить пифагорейскую научную мысль от тех еще донаучных спекуляций, которые характерны для ранних пифагорейцев.
Отнюдь не оспаривая того факта, что математики-пифагорейцы IV в. значительно отличались от первых представителей пифагорейства, мы в то же время считаем неправомерным заходить в этом разделении слишком далеко 19. И не только потому, что это противоречило бы большей части свидетельств, согласно которым принцип «Все есть число» разделялся и ранними, и более поздними представителями пифагорейской школы. Важнее другое: именно то обстоятельство, что ранние пифагорейцы воспринимали число как начало устроения — и соответственно познания мира, а в исследовании числовых отношений видели такое же средство спасения души, как и в религиозных ритуалах,— именно это обстоятельство сыграло важную роль в превращении математики в'науку, научную систему, какой она не была раньше. После того как математическое знание приобрело строгую форму системы положений, основанных на доказательстве, какими мы их видим в «Началах» Евклида, первые шаги математического мышления, связанные с не вполне ясными мифологическими ассоциациями
мать так, что Аристотель чисто условно относит математиков IV в. к пифагорейцам. Но для такой интерпретации у Франка, на наш взгляд, нет достаточных оснований. Во-первых, в текстах Аристотеля нет никаких указаний на то, что он говорит об ученых IV в.; а, во-вторых, его характеристика учения «так называемых пифагорейцев» во многом совпадает со свидетельствами о доктрине именно ранних представителей этого направления.
1в А. Ф. Лосев справедливо отмечает как различие, так и общность разных этапов в развитии пифагореизма. «Близко к истине,— пишет он,— предположение многих исследователей, что первоначально пифагорейство носило практически-мистический характер и что только впоследствии оно получило свое теоретическое, математическое и музыкальное обоснование. Однако уже с самого начала эта мистика должна была иметь внутреннее отношение к числовой гармонии, провозвестниками которой пифагорейцы были всегда» (Лосев А . Ф. История античной эстетики. М., 1963, 263).
26
Раздел первый
по поводу числовых отношений, естественно воспринимаются как нечто больше ненужное, как лишний балласт, осложняющий и затемняющий теперь уже выявленное существо дела. Но для историка науки, исследующего процесс рождения математической теории, это выглядит совсем не так однозначно.
Надо отметить, что среди современных историков античной науки и философии многие уже не склонны так резко отделять ранний пифагореизм как чисто религиозное учение от позднейшего, как это делали Дёринг и особенно Франк. Так, У. К. Гатри, автор многотомного исследования по античной философии, подчеркивает, что в пифагорейском учении невозможно отделить друг от друга религиозную и философско-научную стороны, поскольку у пифагорейцев «математика была религиозным занятием, а декада — священным символом» 20. К. де Фогель в специальной работе, посвященной раннему пифагореизму, также указывает, что уже во времена Пифагора научным исследованиям уделялось много внимания 21. Г. Юнге в статье, посвященной вопросу об открытии иррациональности, обращается к раннепифагорейской истории, показывая, что с самого начала существования’этого религиозного союза в’нем велись математические исследования, в частности исследование пентаграммы, в ходе которого, как предполагает Юнге, и была открыта иррациональность 22.
Понимание числа у ранних пифагорейцев. С самого начала’существовапия религиозного ордена, учрежденного Пифагором, в нем ставились практически-нравственные и религиозные цели — очищение человеческой души для спасения ее от круговорота рождений и смертей. Поэтому существовал целый ряд строгих предписаний, регламентировавших жизнь членов ордена. Одним из важнейших средств очищения пифагорейцы считали научные занятия, прежде всего занятия математикой и музыкой. Как отмеча-
120 Guthrie W. К. С. A History of Greek Philosophy. Cambridge 1962, vol. I, p. 152-153.
21 Vogel C. J. de. Pythagoras and early Pythagoreanism. Assen, 1966, p. 11.
22 Junge G. Von Hippasus bis Philolaus. Das Irrationale und die geometrischen Grundbegriffe.— In: Classica et medievalia. Copen-hague, 1958, vol. XIX, p. 45.
У истоков научно-теоретического мышления
27
ет А. О. Маковельский, «вера в религиозно-катартическое действие науки дала силы Пифагору положить основание чистой математики» 23.
Действительно, именно в Греции мы наблюдаем изменение роли математического знания по сравнению с той, какую оно играло в Египте и Вавилоне. Там математика, как уже отмечалось, носила практически-прикладной характер, она была техникой расчета, решения задач. При характерном для древнего мира делении всех сфер жизни на сакральные и профанные (священные и светские) математика принадлежала ко второй. Без ее помощи не могли обойтись землемеры и купцы, строители и мореходы, но она не имела непосредственного отношения к мифологическим представлениям и религиозным культам 24 *. Но это не противоречит тому известному факту, что некоторым числам в древнем мире придавалось сакрально-мифологическое значение; к ним относится, например, число пять в Древнем Китае или число семь, игравшее важную роль в религиозно-мифологических и магических представлениях вавилонян и египтян более чем за два тысячелетия до н. э. Вот что пишет американская исследовательница Л. Торндайк, анализируя сакральное значение семерки в Древней Вавилонии: «В древневавилонском эпосе о сотворении мира, например, семь духов бури, семь злых болезней, семь областей подземного мира, закрытых семью дверями, семь поясов надземного мира и неба и т. д. ... Число семь было очень распространено, носило священный и мистический
23 МД, ч. I, с. 62.
24 Как полагают некоторые историки античной науки, близкий к этому характер носила математика и у Фалеса Милетского. Так, А. О. Маковельский пишет: «У Фалеса математика была еще практической наукой, совокупностью правил, полезных для применения в жизни» (МД, ч. Ill, с. XXVIII). Правда, согласно свидетельствам Прок ла и Евдема, Фалес первым начал доказывать геометрические теоремы. Однако, как подчеркивает Б. А. Розенфельд, доказательства Фалеса «не могли опираться на аксиомы и другие теоремы, так как аксиом и других теорем во времена Фалеса еще не существовало. Но, как мы видим, во всех теоремах Фалеса требовалось доказать конгруэнтность полукругов, углов или треугольников; несомненно, что Фалес доказывал
эту конгруэнтность перегибанием чертежа или иным способом наложения фигур друг на друга» (Розенфельд Б. А. История неевклидовой геометрии. М., 1976, с. 106).
28
Раздел первый
характер, считалось совершенным и обладающим особой силой» 25. Число семь считалось сакральным не только у вавилонян, но и у древних евреев и греков: в Ветхом Завете, у Гесиода и Гомера семерка выступает как священное число. Как мы увидим далее, ранним греческим философам, и особенно пифагорейцам, отнюдь не было чуждо выделение сакральных чисел, к которым, кроме семерки, относили также тройку, а позднее — десятку (декаду). Но не само это выделение священного числа и не перечисление различных «семериц» или «декад» из разных областей природной жизни или человеческих установлений составляли главное направление развития пифагорейской мысли.
Что же касается древних восточных культур, то в них математическое исчисление, носившее пр актически-при-кладной характер, не было внутренне связано с выделением священных чисел — семерок, пятерок или троек. Священное число выступало вовсе не как математическая реалия — к нему обращались скорее либо в магических заклинаниях, где перечислялись различные «семерицы» или практиковались тройные, семеричные и т. д. ритуальные повторы, либо в других ритуальных культовых действиях. Подбирались и перечислялись группы явлений или процессов, которые представали как воплощение «семериц» и «троек», и эта процедура тоже представляла собой одну из древних форм упорядочения и классификации явлений, подобно тому как в племенах первобытных народов упорядочение производится, например, по странам света, которым соответствуют определенные цвета (черный, белый, красный и желтый), виды животных и т. д. Таким образом, ни развитие математической техники счета и решения задач, принадлежавшее сфере хозяйственнопрактической, ни выделение священных чисел, имевшее ритуальное, культовое и мифологическое значение, не привело на древнем Востоке к возникновению математики как системы теоретического знания.
Пифагорейцы первыми возвысили математику до ранее неведомого ей ранга: числа и числовые отношения они стали рассматривать как ключ к пониманию вселенной и ее 26
26 Thorndike L. A history of magie and experimental science. N. Y., 1958, vol. I, p. 16.
У истоков научно-теоретического мышления
29
структуры. Они впервые пришли к убеждению, что «книга природы написана на языке математики», как спустя почти два тысячелетия выразил эту мысль Галилей 26.
Для представлений о науке, как они сложились к XVII—XVIII вв., особенно у философов эпохи Просвещения, характерно убеждение в том, что наука по своему существу противоположна религии. Это представление отражает тот период в развитии науки, когда ученым приходилось вести борьбу с религией за возможность свободного научного исследования. Но применительно к другим периодам развития науки это представление оказывается не всегда справедливым. Исторически научное знание,' вступало ви самые различные — и порой весьма неожиданные — отношения с мифологической, религиозной и художественной формами сознания. Так, перемещение математических исследований из сферы практи-чески-прикладной в сферу философско-теоретическую, еще не отделившуюся от религиозно-мистического восприятия мира, послужило 'тем историческим фактором, благодаря которому математика превратилась в теоретическую науку.
Нет ничего удивительного в том, что мыслители, впервые попытавшиеся не просто технически оперировать с числами (т. е. вычислять), но понять саму сущность числа, сущность множества и характер отношений различных множеств друг к другу, решали эту задачу первоначально в форме объяснения всей структуры мироздания с помощью числа как первоначала. Прежде чем появилась математика как теоретическая система, возникло учение о числе как некотором божественном начале мира, и это, казалось бы, не математическое, а философско-теоретическое учение сыграло роль посредника между древней восточной математикой как собранием образцов для решения отдельных практических задач и древнегреческой математикой как системой положений, строго связанных между собой с помощью доказательства. Вот почему нам кажется неправомерной попытка некоторых историков науки принципиаль-
21 Представления о самой математике у Галилея, конечно, существенно изменились, но он разделял с древними пифагорейцами убеждение в том, что математика является фундаментом науки о природе.
30
Раздел первый
но отделить пифагорейских математиков эпохи Платона от ранних пифагорейцев.
Исторические источники свидетельствуют, что Пифагор занимался не только математикой. Так, Гераклит упрекает его в «многознании»: «Пифагор, сын Мнесарха, предался исследованию больше всех людей и, выбрав для себя эти сочинения, составил себе (из них) свою мудрость: много-знание и обман» 27. Помимо учения о бессмертии души, ее божественной природе и ее перевоплощениях, Пифагор учил о том, что все в мире есть число, занимался исследованием числовых отношений как в чистом виде, так и применительно к музыкальной гармонии, которая, по преданию, именно им была открыта. Ему, видимо, принадлежит также учение о беспредельном и пределе и представление о беспредельном как четном, а о пределе — как нечетном числе 28.
С представлением о противоположности предела и беспредельного связана также космология ранних пифагорейцев, согласно которой мир вдыхает в себя окружающую его пустоту и таким образом в нем возникает множественность вещей. Число, т. е. множество единиц, возникает тоже из соединения предела и беспредельного. Мир, следовательно, мыслится здесь ^к а к нечто завершенное, замкнутое (предел), а окружающая^его пустота —^как нечто аморфное, неопределенное, лишенное границ — беспредельное. Противоположность «предел — беспредельное» первоначально была близка к таким мифологическим противоположностям, носящим ценностно-символический характер, как свет — тьма, доброе — злое, чистое — нечистое и т. д. Об этом свидетельствует и высказывание Аристотеля о пифагорейцах, где дается перечень десяти пар 29 противоположностей:
27 МД, ч. I, 12В, 129.
28 Многие историки склоняются к мысли, что именно Пифагору принадлежало открытие несоизмеримости диагонали и стороны квадрата. См. об этом: Burnet J. Early greek philosophy, 4-th ed. London, 1930, p. 21—22. Но и сегодня этот вопрос остается открытым.
2Э Число 10 рассматривалось у пифагорейцев как священное, поэтому, возможно, и указывалось именно 10 пар против_опостав-ляемых «начал».
У истоков научно-теоретического мышления
31
предел—беспредельное, нечет—чет,
единое—множество, правое—левое, мужское—женское,
покоящееся—движущееся,
прямое—кривое,
свет—тьма, хорошее—дурное, квадрат—параллелограмм 30.
Из этих противоположностей строится все существующее, и само число рассматривается тоже как состоящее из противоположностей — чета и нечета. Как сообщает Аристотель, «элементами числа они (пифагорейцы.— П. Г.) считают чет и нечет, из коих первый является неопределенным, а второй определенным; единое состоит у них из того и другого — оно является и четным и нечетным, число (образуется) из единого, а (различные) числа, как было сказано, это — вся вселенная» 31.
Единое, или единицу ([xovds), пифагорейцы, как видно из приведенного текста Аристотеля, ставили в особое положение: единица для них — это не просто число, как все остальные 32, а начало чисел; чтобы стать числом, все должно приобщиться к единице — она же единство 33. Определение единицы, как его дает Евклид в VII книге «Начал», явно восходит к пифагорейскому: «Единица есть то, через что каждое из существующих считается единым» 34 *. Поэтому пифагорейцы не считают единицу нечетным числом (они вообще не считают ее числом, а скорее
30 Метафизика, I, 5 (986в 13).
31 Метафизика, I, 5 (285в 26 — 286в 13).
32 Для того чтобы понять, почему единица занимала в греческой математике такое особое положение, необходимо принять во внимание, что^в греческойгматематике не былотнуля. Поэтому единица выполняла’двойнукГфункцию. Как отмечает С. Самбур-ский, единица была одномерной (one-dimensional) единицей построения и в то же время лишенной измерения точкой, осуществляющей связь (contact) двух отрезков. См.: Sambursky S. Physical World of the Greeks, London, 1956, p. 28.
3i «Всякое число состоит из единиц и, следовательно, единица есть ЭЛЕМЕНТ всех чисел. С другой стороны, единица есть также формальное начало всех чисел, поскольку каждое отдельное число представляет собой единство многих составляющих его элементов... Таким образом, монада является и материальным и формальным началом всех чисел» (МД, ч. Ill, с. XII).
34 «Начала» Евклида/Пер. Д. Д. Мордухай-Болтовского. М., 1949,
кн. VII-X, с. 9.
32
Раздел первый
началом числа) зб; первым четным числом у них является двойка, а первым нечетным — тройка.
Но почему четное соотносится с беспредельным, а нечетное — с пределом? Чтобы понять это, надо иметь в виду, что для пифагорейцев числа имели также зрительный образ; число для них было не просто количеством, а имело качественную характеристику. Это, видимо, было связано также и с тем, что древние математики изображали числа геометрически. «Представлять числа в виде геометрических
О о о
Рис. 1
образцов,— пишет У. К. Гатри,— было обычной практикой пифагорейцев; вероятно, это была самая ранняя практика и у греков, и у других народов» 36. Благодаря этому арифметика и геометрия у пифагорейцев были очень тесно'связаны. Поэтому пифагорейцы различали линейные, плоские и телесные числа. Так, единица у них выступала как точка, двойка — как линия (две точки), тройка — как плоскость (рис. 1), четверка — как тело («первое» тело — пирамида; рис. 2).
36 Еще один аргумент пифагорейцев относительно четно-нечетной природы единицы приводит Теон Смирнский: «Аристотель же в «Пифагорейце» говорит, что единица причастна природе того и другого (чета и нечета). Дело в том, что, будучи приложена к четному (числу), она делает (из него) нечетное, а (будучи приложена) к нечетному, (делает) четное. Этого она не могла’бы (де-• лать), если бы (сама) не была причастна к обоим (упомянутым) естествам. Поэтому-то единица называется четно-нечетным числом. С этим согласен и Архит» (МД, 35А 21).
36 Guthrie W. К. С, A History of Greek Philosophy, p. 242.
У истоков научно-теоретического мышления
33
Теперь присмотримся к характеру первого четного и первого нечетного чисел. Первое нечетное — тройка — имеет начало, конец и середину. Оно тем самым, с точки зрения пифагорейцев, завершено и довлеет себе, есть замкнутое целое. Тройка, согласно пифагорейцам,— это элементарный треугольник, совершенная фигура. Что же касается двойки, то у нее недостает середины, поэтому она не имеет центра в себе и ей свойственно растекаться в беспредельность 37. И в самом деле, двойка — это определение линии, а линия неограниченно простирается в обе стороны 38.
Аристотель в «Физике» разъясняет пифагорейское учение о чете и нечете следующим образом: «...пифагорейцы считают бесконечное четным числом, оно, будучи заключено внутри и ограничено нечетным числом, сообщает существующим вещам бесконечность. Доказательством служит то, что происходит с числами: именно, если накладывать гномоны вокруг единицы и сделать это далее (для четных и нечетных отдельно), в одном случае получается всегда особый вид фигуры, в другом — один и тот же» 39.
37 Интересно, что не только математики, но и медики придавали большое значение четным и нечетным числам. Так, у Гиппократа мы часто встречаем рассуждения о том, что именно в нечетные дни происходит либо перелом (кризис) болезни, либо наступает выздоровление. «Освобождение ран от воспаления,— читаем в книге Гиппократа «О болезнях»,— происходит на пятый день, или, вернее, в таком порядке в зависимости от величины раны, на третий, пятый, седьмой, девятый, одиннадцатый день... Это рассуждение показывает, что болезни разрешаются в нечетные дни...» (Гиппократ. Соч./ Пер. В. И. Руднева. М., 1944, т. 2, с. 149). «Выздоравливают и умирают в нечетные дни, если лихорадка падает, почему, я это скажу после... Я утверждаю, что если лихорадка прекращается на пятый, седьмой или девятый день, она прекращается тем же самым образом, что и на третий... Разрешение лихорадки происходит в нечетные дни потому, что в четные дни тело извлекает из желудка, а в дни нечетные — вливает, и у здорового человека желудок извергает. Такова необходимость, производящая кризис болезни в нечетные дни... Я прибавляю, что самое большое страдание, угнетающее больных в нечетные дни, происходит именно от этой причины...» (там же, с. 147).
38 Характерно, что плоскость в отличие от линии греки мыслили не как неограниченно простирающуюся, как в современной математике, а как «треугольник», как «тройку».
39 Физика, III, 4, 203а.
2 П. П. Гайденко
34
Раздел первый
Гномоном в Древней Греции назывался вертикальный стержень, поставленный на горизонтальной плоскости (первые солнечные часы). Пифагорейцы именовали гномоном фигуру, полученную при операции образования большего квадратного числа из меньшего. Гномонами они называли нечетные числа, так как обнаружили, что если их последовательно прибавлять к единице, то они сохраняют фигуру квадрата: 1 + 3 = 22; 4 + 5 = З2 и т. д.
Рис. 3
Графически это изображалось следующим образом (рис. 3). Последовательные гномоны имеют форму, изображенную на рис. 4. Как видим, путем наложения гномонов сохраняется один и тот же вид фигуры — квадрат. Именно это свойство нечетных чисел — образовывать в результате их прибавления одну и ту же, хотя и возрастающую в размерах, фигуру — было существенно для пифагорейцев.
А что имеет в виду Аристотель, говоря о другом случае — о случае, когда каждый раз возникает особая фигура? Оказывается, если складывать числа четные, то будем получать не квадрат, а прямоугольник: 2, 6, 12, 20 и т. д. Эти числа пифагорейцы называли «прямоугольными» в отличие от первых — «квадратных»: 4, 9, 16, 25 и т. д. Четные числа впоследствии стали называть гномонами прямоугольников. Нечетное число, таким образом, сохраняет себя (свою форму), а потому оно — предел, единое, покоящееся, прямое, квадратное, хорошее; четное же теряет свою форму: оно беспредельное, множество, движущееся (изменчивое), кривое, неквадратное (разностороннее), дурное.
Для ранних пифагорейцев вообще характерно стремление к выделению совершенных чисел, т. е. таких, в которых
у истоков научно-теоретического мышления 35
воплощаются особенно значимые, с их точки зрения, связи природы и человеческой души. Такое рассмотрение числа, по-видимому, восходит к мифологической и культовой символике, но у пифагорейцев операции с совершенными числами ведут к установлению ряда числовых соотношений, важного для дальнейшего развития математики в Древней Греции.
В пифагорейском союзе первоначально уделялось много внимания числовой символике. Так, к уже ранее найденным семеркам — семь элементов, семь сфер вселенной, семь частей тела, семь возрастов человека, семь времен года и т. д.— пифагорейцы прибавили семь музыкальных тонов и семь планет. Однако уже первые операции над числами привели к юму, что семерка уступила место десятке. О том, как это произошло, дает представление следующий отрывок из Лаврентия Лида: «Итак, правильно Филолай назвал число 7 «не имеющим матери» 40. Ибо оно по своей природе ни рождает, ни рождается. Не рождающее же и не рождаемое — неподвижно» 41. Этот отрывок дает представление о символическом языке пифагорейцев. Смысл сказанного на этом языке таков: семерка — простое число, она не возникает из множителей, как другие числа: 4, 6, 8, 9, 10. Можно, правда, рассматривать ее как произведение 1*7, но положение единицы как сомножителя в пифагорейской математике неоднозначно 42. Именно поэтому в некоторых свидетельствах сообщается о том, что семерка не
40 В переводе Г. Дильса: «не имеющим матери и детей».
41 МД, ч. Ill, 32В, 20.
42 П. Таннери анализирует отрывок из Спевсиппа («Теологумены») и вскрывает противоречие в тексте. «Три первые свойства числа 10, отмеченные Спевсиппом,— пишет Таннери,— заключаются в том, что от 1 до 10 столько же чисел 1) четных, как и нечетных, что очевидно уже из того, что 10 — четное; 2) простых — 1, 2, 3, 5, 7 — как и сложных — 4, 6,8, 9, 10; 3) множителей — 1, 2, 3, 5 — как и произведений. В последнем предложении странно то, что, хотя 1 принята за множителя, но не все остальные числа считаются за произведения, а 7 и совсем исключено» (Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки, с. 325). Действительно, если бы число 7 было принято за произведение, то произведений было бы не пять (4, 6, 8, 9, 10), а шесть (не говоря уже о том, что и все остальные простые числа были бы произведениями), что нарушило бы ту самую симметрию, которая делает десятку совершенным числом.
2*
36
Раздел первый
рождена от матери, но имеет только отца — монаду 43 (в этом случае единица принимается за сомножитель); в других же случаях говорится, что у нее нет ни матери, ни отца. Семерка была низведена с пьедестала самого совершенного числа и уступила место десятке потому, что, как сообщают свидетельства, она неподвижна, не рождается от других чисел и сама не рождает 44.
Сам по себе переход от семерки к десятке как совершенному числу 45 * не означает какого-то существенного сдвига, ибо происходит еще в русле прежнего, сакрально-мифологического отношения к «священному числу». Но мотивировка этого перехода нам представляется весьма существенной для понимания того, как в пифагорейской школе совершался переход от древней мифолого-сакральной числовой символики к выявлению математических числовых отношений.
В самом деле, как рассматриваются числа, освященные в разных древних культурах,— семерка, пятерка, тройка и другие? Точно так же, как мы уже видели у Гиппократа: в форме перечисления семеричных реалий: природных стихий, времен года, периодов человеческой жизни и т. д. И, чем больше обнаруживается такого рода семеричных, пятеричных, троичных реалий, тем ярче становится ореол совершенства вокруг семерки, пятерки, троицы. Возможно, и пифагорейцы начали именно с этого. (И не только начали — они и в дальнейшем продолжали вскрывать подобного рода инварианты, только уже в виде инвариантных
43 «По этой причине прочие философы уподобляют это число (семерку.— П. Г.) не имеющей матери Победе-деве, о которой говорят, что она явилась из головы Зевса...» (МД, ч. Ill, 32В 20).
44 Последнее соображение непонятно, если иметь в виду современное математическое мышление, ибо семерка «рождает» 14, 21, 28 и т. д. Но пифагорейцы, по-видимому, говоря о рождении, имели в виду числа первой десятки, потому что в их символике именно этим первым числам соответствовали определенные понятия-образы (точка, линия, плоскость, тело и т. д.), а также изначальные пропорциональные отношения.
45 Видимо, переход этот предполагал усложнение понятия совершенного числа, каким ранее считалось нечетное (почему, собственно, «совершенным» считали тройку, семерку, пятерку), и это усложнение свидетельствует об углублении пифагорейцев в
изучение отношений между самими числами.
у истоков научно-теоретического мышления
37
пропорций, что существенно меняло способ их анализа числа.) Но, начав с этого, они вскоре перешли от семерки к десятке, потому что семерка «не рождает». А это значит, что их внимание сосредоточилось не только на выявлении семеричности в природе, но и на связи чисел друг с другом и отношении их между собой. Они обнаружили, что числа вступают между собой в определенные отношения, что их произведения, суммы, разности дают некоторые значимые сочетания, что именно эти сочетания — а не просто сами числа — выражают собой вещи и их закономерности. Десятка «рождает» — значит, в десятке уже скрыто содержится ряд важных числовых соотношений и фигур 46.
Новое понимание числа могло возникнуть только тогда, когда существенным стало различение чисел четных и нечетных, первых (простых) и вторых (сложных) и когда стремление проанализировать отношения между числами, формы их связи между собой привело к установлению отношений прежде всего двух последовательных чисел натурального ряда, п и п + 1. В этом смысле первая десятка, по убеждению пифагорейцев, уже содержит в себе все возможные типы числовых отношений 47 (а пифагорейцы признавали 10 видов этих отношений).
Пояснением к этому может служить отрывок из Спев-сиппа, взятый из «Теологумен», переведенный и прокомментированный П. Таннери: «... 10 заключает в себе все отношения равенства, превосходства, подчиненности, возможные между последовательными числами, и другие, а равно линейные, плоские и телесные числа, так как 1 есть точка, 2 — линия, 3 — треугольник, 4 — пирамида, и каждое из этих чисел первое в своем роде и начало ему
48 Декада, согласно пифагорейцам, содержит в себе сущность числа. Об этом сообщает Аэтий: «Природа же числа — десять. Ибо все эллины и все варвары считают до десяти, дойдя же до этого^ (числа), они снова возвращаются к единице» (МД, ч. III,
47 Филолап говорит о десятке: «Действия и сущность числа должно созерцать по силе, заключающейся в декаде. Ибо она — велика и совершенна, все исполняет и есть начало (первооснова) божественной, небесной и человеческой жизни» (МД, ч. Ill, 32В 11). Одно из сочинений Архита специально посвящено десятке и носит название «О декаде».
38
Раздел первый
подобных. А эти числа образуют первую из прогрессий, а именно разностную, и общая сумма ее членов — число 10... В плоских и телесных фигурах первые элементы также точка, линия, треугольник и пирамида, заключающиеся в числе 10 и в нем же находящие свое завершение. Так, например, у пирамиды (имеется в виду «первая» пирамида — тетраэдр.— П, Г.) 4 угла или 4 грани и 6 ребер, что составляет 10. Интервалы и пределы точки и линии дают также 4, стороны и углы этого треугольни-q ка — 6, т. е. опять-таки 10» 48. Говоря о том, q Q что точка, линия, треугольник и пирамида составляют число 10, Спевсипп имеет в виду О О U числовое выражение точки, линии, треуголь-О О О О ника и пирамиды, т. е. 1 + 2 + 3 + 4 = 10, что, будучи изображено графически, дает со-
Рис. 5 вершенный треугольник — знаменитую пифагорейскую тетрактиду, или четверицу (рис. 5).
Декада, таким образом, есть также равносторонний треугольник, а это, согласно пифагорейцам, совершенная фигура 49.
Делая, таким образом, первые — и решающие — шаги в создании математики как теоретической системы, ранние пифагорейцы в то же время рассматривали открываемые ими отношения чисел как символы некоторой божественной реальности. Согласно свидетельству Прокла (из комментариев к «Началам» Евклида), «у пифагорейцев мы найдем, что одни углы посвящены одним богам, другие — другим; Так, например, поступил Филолай, посвятивший одним богам угол треугольника, другим — (угол) четырехугольника и иные (углы) иным (богам), и приписавший один и тот же (угол) нескольким богам, и одному и тому же богу несколько углов соответственно различным силам, (находящимся) в нем» 50.
48 Цит. по: Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки, с. 326—327.
49 Правда, неясно, что имеет в виду Спевсипп, говоря об «интервалах» и пределах точки и линии применительно к тетраэдру, которые он затем складывает со сторонами и углами одного из составляющих тетраэдр треугольников.
60 МД, ч. Ill, 32А 14.
у истоков научно-теоретического мышления
39
Такого рода отождествление различных богов с определенными числовыми отношениями и их геометрическими изображениями носит характер, близкий к мифологическим отождествлениям (море — Посейдон, дерево — дриада, волны — Океаниды и т. д.). Так, у Прокла далее читаем: «Справедливо Филолай посвятил угол треугольника четырем богам: Кроносу, Аиду, Аресу и Дионису... Ибо Кронос владеет всей влажной и холодной субстанцией. Арес же — сей огненной природой, и Аид содержит (в своей власти) всю земную жизнь, Дионис же правит влажным и теплым рождением, коего символ — вино, тоже влажное и теплое. Все они различны по своим делам, касающимся (вещей) второго порядка, (сами же) между собой соединяются. Поэтому-то Филолай изображает их соединение, приписывая всем им вместе один угол» (МД, ч. Ill, 32А 14).
Здесь нетрудно увидеть единство, в каком для сознания пифагорейцев выступали соотношения чисел и связь божественных сил и природных стихий.
Итак, декада содержит в себе все виды числовых отношений, а эти отношения лежат в основе как природных процессов, так и жизни человеческой души. Числовые отношения составляют самую сущность природы, и именно в этом смысле пифагорейцы говорят, что «все есть число». Поэтому познание природы возможно только через познание числа и числовых отношений 51. Платон ограничил значение числа, полагая, что последнее не само выражает сущность всего существующего, а есть лишь путь к постижению этой сущности. Число, как мы дальше увидим, Платон помещает как бы посредине между чувственным миром и миром истинно сущего. Аристотель подверг критике пифагорейский тезис «Все есть число» с другой позиции, чем Платон. Если для пифагорейцев математика лежит в фундаменте всякого знания о природе, то Аристотель в корне переосмысливает соотношение математики и физики, создавая направление научного исследования («научную программу»), в корне отличное от пифагорейского.
51 Согласно Фило лаю, «все познаваемое имеет число. Ибо без последнего невозможно ничего ни понять, ни познать» (МД, ч. Ill, 32В 4). Поэтому математика есть наука par excellence,
40
Раздел первый
В декаде, по убеждению пифагорейцев, не только содержатся все возможные отношения чисел, но она являет также природу числа как единства предела и беспредельного. Декада — это «предел» числа, ибо, перешагнув этот предел, число вновь возвращается к единице. Но поскольку можно все время выходить за пределы декады, поскольку она не кладет конца счету, то в ней присутствует и беспредельное. В этом отношении декада есть как бы модель всякого числа, числа вообще. Как мы уже отмечали, декада пифагорейцев предстает также как священная четверица 52, которая, по преданию, была клятвой пифагорейцев.
Итак, анализ пифагорейского учения о декаде показывает, что понимание ими числа включает в себя два момента. Во-первых, сходную с древневосточной и древнегреческой традициями сакрализацию числа и соответствующую ей тенденцию вскрывать десятиричную основу во всем существующем 53. Во-вторых, существенно новый подход к анализу священного числа с целью раскрыть в нем возможные числовые отношения. При этом внимание направляется на внутренние связи между числами, что приводит к установлению ими важнейших математических положений.
52 Согласно пифагорейцам, «потенция десяти заключается в четырех и четверке. Причина же (этого следующая). Если, начиная с единицы, прибавлять последовательно числа до четырех включительно, то получишь число 10. Если же перешагнуть через число четверки, то перейдешь и через 10... Таким образом, число по монаде (заключается) в 10, по потенции же — в 4» (МД, ч. Ill, 45В 15).
53 Именно эта тенденция приводила к тем часто произвольным’до-пущениям, которых так много у пифагорейцев. В этом упрекает их Аристотель: «Так как, следовательно, все остальное явным образом уподоблялось числам по всему своему существу, а числа занимали первое место во всей природе, элементы чисел они предположили элементами всех вещей... И все, что они могли в числах и гармонических сочетаниях показать согласующегося с состояниями и частями мира и со всем мировым устройством, это они сводили вместе и приспособляли <одно к другому), и если у них где-нибудь того или иного не хватало, они стремились (добавить это так>, чтобы все построения находились у них в сплошной связи. Так, например, в виду того, что десятка (декада), как им представляется, есть нечто совершенное и вместила в себя всю природу чисел, то и несущихся по небу тел они считают десять, а так как видимых тел только девять, поэтому на десятом месте они помещают протпвоземлю» (Метафизика,
у истоков научно-теоретического мышления
41
То обстоятельство, что оба эти момента — отношение к числу как чему-то священному и анализ реальных форм связей между числами — соединяются, оказывается важным для генезиса математики как систематической теории. В самом деле, во-первых, искомые и находимые связи между числами, числовые пропорции выступают как основа и фундамент всех природных явлений и процессов; во-вторых, поиски связей и единства всех возможных закономерностей числа становятся для них центральной задачей исследования.
Пропорция и гармония. Уже из анализа пифагорейского учения о сущности декады можно видеть, что в центре внимания пифагорейцев стоит вопрос об отношениях чисел, т. е. о пропорциональных отношениях.
Числовые пропорции, или соразмерности, пифагорейцы называли также гармониями. Еще Пифагор, как утверждают многие свидетельства, открыл связь числовых соотношений с музыкальной гармонией. Он обнаружил, что при определенных соотношениях длин струн последние издают приятный (гармонический) звук, а при других — неприятный (диссонанс). Приписываемое Пифагору открытие возвращает нас к уже рассмотренной декаде и священной четверице. «Пифагор открыл, — пишет А. О. Маковельский,— что если заставить последовательно звучать целую струну, половину ее, две трети и три четверти, то получим основной тон, октаву его, квинту и, наконец, кварту. Таким образом, отношения, даваемые длиной струны, будут для октавы 1 : 2, для квинты 2 : 3 и для кварты 3 : 4. Эти числа представляют прогрессию, в которой 4 термина и 3 интервала. Сумма терминов равна 10, а три последовательных интервала, 2, 3/2, 4/2, 4/3, согласно чудесному открытию Пифагора, суть интервалы октавы, квинты и кварты» 54.
Мы не будем специально рассматривать вопрос, является ли установление гармонических интервалов заслугой Пифагора или позднейших пифагорейцев 55. Нам лишь
54 МД, ч. III, с. XIV.
55 В своей работе «Платон и так называемые пифагорейцы» Э. Франк выражает сомнение в том, что Пифагору принадлежит открытие гармонических интервалов: он считает, что это открытие могло
42
Раздел первый
важно подчеркнуть, что это открытие сыграло большую роль для дальнейшего развития науки о числе, носкольку утверждение «Все есть число» получило свой смысл благодаря тому, что числовые отношения обнаруживались в самых разных процессах б6. Гармония стала у пифагорейцев математическим понятием, и, что важно, пифагорейская математика оказалась проникнутой понятием гармонии. Это во многом объясняет специфические особенности античной математики. Не случайно Аристотель, говоря о пифагорейцах, не отделяет их учение о гармонии от учения о числе. «... Они (пифагорейцы.— П. Г.) видели в числах свойства и отношения, присущие гармоническим сочетаниям. Так как, следовательно, все остальное явным образом уподоблялось числам по всему своему су-
быть сделано не ранее IV в. до н. э., а потому и называет учение о гармонии «музыкальной теорией Архита и Платона» (Frank Е. Op. cit., S. 158—161). Напротив, Б. Л. ван дер Варден не видит ничего невозможного в том, чтобы это открытие было сделано еще Пифагором: «Мы имеем все основания приписать самому Пифагору познание гармонических числовых отношений» (Варден Б,Л. ван дер. Пробуждающаяся наука, с. 411). Действительно, если мы посмотрим, как устанавливались отношения чисел внутри декады, то увидим, что установление связи отношений 1:2, 2:3 и 3:4, а также «складывание» отношений (чтобы получить октаву, нужно «сложить» квинту и кварту) не является чем-то существенно отличным от тех действий с числовыми отношениями, которые, по-видимому, были известны Пифагору.
66 О том, насколько важным для становления науки и ее дальнейших судеб оказалось пифагорейское убеждение в том, что «все есть число», пишет В. Гейзенберг в статье «Идеи античной философии природы в современной физике». Одной из основных идей, воспринятых современным точным естествознанием из античности, является, по Гейзенбергу, убеждение в творческой силе математических построений: «Впервые в ясно выраженной форме эта идея встречается в учении пифагорейцев, причем она проявляется здесь в открытии математических условий гармонических колебаний. Исследуя колебания струн, пифагорейцы нашли, что две приведенные в колебание струны дадут гармоническое созвучие, когда (при прочих равных условиях) их длины будут находиться в простом рациональном отношении... Данное открытие представляет собой один из сильнейших импульсов для развития науки вообще, ибо кто хотя бы один раз убедился в творческой силе математических построений, тот будет замечать их действие на каждом шагу как в области природы, так и в области искусства» (Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики. М., 1953, с. 50—51).
у истоков научно-теоретического мышления - 43
ществу, а числа занимали первое место во всей природе, элементы чисел они предположили элементами всех вещей и всю вселенную признали гармонией и числом» б7.
Из отрывков сочинения Филолая «О природе» можно получить дополнительные сведения о том, насколько для пифагорейцев понятия «число» и «гармония» внутренне связаны между собой. Весь космос, по Филолаю, образовался из двух начал: предела и беспредельного б8. Эти начала противоположны. Как же могут они между собой соединяться? С помощью гармонии, отвечает Филолай. Гармония, по его определению, есть «соединение разнообразной смеси и согласие разногласного» 59. Согласие разногласного — это определение гармонии в музыке и оно же, как видим, выступает в качестве основного принципа устроения мира, в котором противоположности объединяются по принципу музыкального созвучия, консонанса 60.
Но если гармония есть соединение предела и беспредельности, единство этих противоположностей, то она и есть число, ибо число, как мы уже отмечали выше, тоже возникает из беспредельного и предела. Печать возникновения из этих противоположностей лежит на числах; они делятся на четные, в которых возобладало беспредельное, и нечетные, где возобладал предел. Но и в каждом из чисел независимо от этого их деления можно видеть присутствие в них обоих начал, что мы уже отмечали применительно к числу 10.
Гармония и число обнаруживаются пифагорейцами не только в музыке. Согласно сообщению Аристотеля, пифагорейцы на основании чисел составляли представление
67 Метафизика, I, 5, 985В 26. Анализ глубокой внутренней связи числовых отношений и музыкальной гармонии дал А. Ф. Лосев (см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1963, с. 263— 300). Он показал, каким образом для пифагорейско-платоновской традиции числовые отношения выступают как условия красоты.
68 «...Мировой строй и (все), что в нем, образовалось из соединения предела и беспредельного...» (МД, ч. Ill, 32В 2).
59 МД, ч. Ill, 32В, 10. «...Так как самые начала различны и разнородны, то невозможно, чтобы космический порядок был установлен ими без посредства гармонии, откуда бы она ни явилась» (МД, ч. Ill, 32В 6/Пер. С. Трубецкого).
60 Гармонией греки называли октаву. См.: МД, ч. Ill, 32В 6.
44
Раздел первый
о расположении небесных светил 61; в движении небесных тел они видели еще одно подтверждение своего тезиса, что все в мире устроено «в соответствии с числом». Аналогия между числовыми соотношениями в музыке и в астрономии породила характерное для пифагорейцев представление о «гармонии сфер». В раннем пифагореизме движение небесных светил — это как бы их танец вокруг мирового огня, сопровождаемый музыкой, по красоте и гармоничности превосходящей земную музыку настолько же, насколько небесные тела совершеннее земных, а по мощи — настолько, насколько их масса и скорость превосходят соответственно массу и скорость земных тел 62.
Таким образом, в астрономии, музыке, геометрии и арифметике пифагорейцы увидели общие числовые пропорции, гармонические соотношения, познание которых, согласно им, и есть познание сущности и устройства мироздания. Из отрывков, которые древние свидетельства приписывают Филолаю, мы видим, что пифагорейцы уже в V в. до н. э. размышляли над вопросом о возможности познания и сформулировали положение, впоследствии ставшее кардинальным для математического естествознания, а именно: точное знание возможно лишь на основе математики. Вот слова, приписываемые Филолаю (Сто-бей Ecl. I ргооет. сог. 3): «Ибо природа числа есть то, что дает познание, направляет и научает каждого относительно всего, что для него сомнительно и неизвестно. В самом деле, если бы не было числа и его сущности, то ни для кого
61 МД, ч. Ill, 45В 35.
62 Аристотель (De caelo, II, 9) полемизирует с пифагорейцами по этому вопросу: «...учение, что от движения (светил) возникает гармония, так как де (от этого) происходят гармонические звуки, свидетельствует об остроумии и большой учености высказавших его, однако истина не такова. А именно, некоторые считают необходимым, чтобы возникал звук от движения столь великих тел, так как (звук бывает) при движении у нас тел, не имеющих равных (тем) масс и не несущихся с такой быстротой. Когда же несутся солнце, луна и еще столь великое множество таких огромных светил со столь великой быстротой, невозможно, чтобы не возникал некоторый необыкновенный по силе звук. Предположив это и (приняв), что скорости (движения их, зависящие) от расстояний, имеют отношения созвучий, они говорят, что от кругового движения светил возникает гармонический звук» (МД, ч. Ill, 45В 35).
у истоков научно-теоретического мышления 45
не было бы ничего ясного ни в вещах самих по себе, ни в их отношениях друг к другу» 63. В этом фрагменте сформулирован тот принцип познания, который лег в основу первой математической «программы». То, в чем не обнаруживается «природа числа», не может быть предметом познания. То, что не содержит в себе числа, является, по Фило-лаю, беспредельным, а беспредельное непознаваемо 64.
Эти пифагорейские представления о математическом фундаменте научного знания получили в IV в. до н. э. теоретическое обоснование и весьма четкое выражение в сочинениях Платона. У Платона же мы находим изложение пифагорейского учения о числовых пропорциях геометрических величин, а также систематизацию различных областей математического знания, соединение их в единую систему наук. Развитие пифагорейской научной мысли в IV в. до н. э. оказывается тесно связанным именно с Платоном и его школой. Крупнейший математик-пифагореец Архит из Тарента был другом Платона, ученик Архита Евдокс Книдский был связан с Академией и, по преданию, одно время учился у Платона.
Поэтому рассмотрение пифагорейской математики IV в. до н. э., так же как и более детальный анализ учения о гармонии, мы будем вести, опираясь, помимо других источников, на тексты Платона. Платон в своих диалогах часто дает разъяснение математических понятий — может быть, наиболее близкое духу пифагореизма.
Однако предварительно необходимо ввести в рассмотрение еще ряд аспектов математического мышления пифагорейцев, чтобы выяснить направление дальнейшей эволюции понятия науки в античности.
Числа и вещи. От Аристотеля мы получаем свидетельство о том, что пифагорейцы не проводили принципиального различия между числами и вещами. «Во всяком случае,— говорит Аристотель,— у них, по-видимому, число принимается за начало и в качестве материи для вещей, и в качестве <выражения для> их состояний и свойств...» 65
63 МД, ч. Ill, 32В 1.
81 «Согласно Фило лаю, если бы все было беспредельным, то совершенно не могло быть предмета познания» (МД, ч. Ill, 32В 3).
88 Метафизика, I, 5, 985В 26.
46
Раздел первый
Сами числа они еще неполностью отделяют от чувственных вещей и поэтому еще близки к натурфилософам в своем отношении к чувственному бытию 66 67.
Относительно онтологического статуса числа у пифагорейцев Аристотель сообщает следующее: «... пифагорейцы признают одно — математическое — число, только не с отдельным бытием, но, по их словам, чувственные сущности состоят из этого числа: ибо все небо они устраивают из чисел, только у них это — не числа, состоящие из <от-влеченных> единиц, но единицам они приписывают (пространстве ннуюУ величину} а как получилась величина у первого единого, это, по-видимому, вызывает затруднение у них» в7.
Пространственные вещи у пифагорейцев состоят из чисел. А это, в свою очередь, возможно в том случае, если, как и подчеркивает Аристотель, числа имеют некоторую величину, так что могут мыслиться занимающими пространство. И не в том смысле, что то или иное число можно изобразить в качестве геометрической фигуры — как, например, 4 — это площадь квадрата со стороной, равной 2, а именно в том смысле, что само число, как единица, двойка, тройка и т. д., пространственно, а значит, тело состоит, складывается из чисел 68.
66 «Что касается так называемых пифагорейцев, то они пользуются более необычными началами и элементами, нежели философы природы (причина здесь — в том, что они к началам этим пришли не от чувственных вещей; ибо математические предметы чужды движению, за исключением тех, которые относятся к астрономии); но при этом все свои рассуждения и занятия они сосредоточивают на природе. В самом деле, они построяют небо и прослеживают то, что получается для его частей, состояний и действий, и на это используют свои начала и причины, как бы соглашаясь с другими натурфилософами, что бытием является <лишь> то, что воспринимается чувствами и что объемлет так называемое небо» (Метафизика, I, 8, 989В 20).
67 Метафизика, XIII, 6, 1080В 13 (курсив мой,— П. Г.).
68 По свидетельству Аристотеля, пифагореец Эврит, ученик Фи-лолая, «составлял» из чисел формы животных, подобно тому как другие составляли из них треугольники или четырехугольники. «Не имеется никаких определенных указаний и на то, каким из двух (возможных) способов числа служат причинами -для сущностей и для бытия. Выступают ли они как пределы по образцу точек у пространственных величин и (подобно тому), как Эврит устанавливал, какое у какой вещи число, что это вот
У истоков научно-теоретического мышления
47
Но в таком случае единицы, или монады, пифагорейцев естественно предстают как телесные единицы, и не случайно пифагореец Экфант, по сообщению Аэтия, «первый объявил пифагорейские монады телесными »69.
При этом единицы, или монады, должны быть неде лимыми — это их важнейший атрибут, без которого они не могли бы быть первыми началами всего сущего. То, что пифагорейцы действительно мыслили числа как недели мые единицы, из которых составлены тела, можно заключить из следующей полемики с ними Аристотеля: «То, что они (пифагорейцы.— П. Г.) не приписывают числу отдельного существования, устраняет много невозможных последствий; но что тела у них составлены из чисел и что число здесь математическое, это — вещь невозможная. Ведь и говорить о неделимых величинах неправильно, и <даже> если бы это было допустимо в какой угодно степени, во всяком случае единицы величины не имеют, а с другой стороны, как возможно, чтобы пространственная величина слагалась из неделимых частей? Но арифметическое число во всяком случае состоит из «(отвлеченных^ единиц; между тем они говорят, что числа — это вещи; по крайней мере, математические положения они прилагают к телам, как будто тела состоят из этих чисел» 70.
В пифагорейском понимании числа, таким образом, оказываются связанными два момента: неотделенность чисел от вещей и соответственно составленность вещей из неделимых единиц — чисел 71. Если судить по приведен-например, число человека, а это — число лошади (следуя примеру тех, которые приводят числа к форме треугольника и четырехугольника, он таким образом копировал камешками формы (животных и> растений» (Метафизика, XIV, 5, 1092В 19).
69 МД, ч. III, 38, 2.
70 Метафизика, XIII, 8, 1083В 1 (курсив мой,— П. Г.).
71 Это представление о числах как неделимых единицах, монадах, отделенных друг от друга пустотой, является, очевидно, самым древним и связано с учением Пифагора, Филолая и других о том, что «мир вдыхает пустоту». «Пифагорейцы также утверждали,— пишет Аристотель в «Физике»,— что пустота существует и входит из бесконечной пневмы в само небо, как бы вдыхающее в себя пустоту, которая определяет природные существования, как если бы пустота служила для разделения и определения предметов, примыкающих друг к другу. И прежде всего, по их мнению, это происходит в числах, так как пустота
48
Раздел первый
ным отрывкам, то пифагорейская математика, по меньшей мере в какой-то период или у некоторых ее представителей, имела в качестве своего методологического фундамента математически-логический атомизм, при котором числа рассматривались как геометрические точки с определенным положением в пространстве 72.
К такому выводу относительно пифагорейской математики приходит известный историк математики Оскар Беккер. «У истоков греческой математики,— пишет он,— вероятно, начиная еще с VI века, обнаруживается своеобразный способ рассмотрения, который можно охарактеризовать как полуарифметический — полугеометри-ческий. Он состоит в использовании камешков ' (cpr^oi) одинаковой величины и формы (круглых и квадратных), которыми выкладываются фигуры» 73.
Действительно, трудно найти этому методу построения фигур из чисел-камешков однозначную характеристику; Г. Г. Цейтен называет его «геометрической арифметикой» 74. Видимо, этот метод предполагает допущение, что тела состоят из множества такого рода точечных единиц-монад. При этом, как сообщает Аристотель, единица ([xovdc) рассматривалась пифагорейцами как точка, не наделенная особым положением dfrsto;), а точка (от'ухт() —
как единица, имеющая положение ё/оиза) 75.
Именно метод геометрической арифметики имеет в виду и И. Г. Башмакова, когда отмечает: «До Евдокса, вероятнее всего в пифагорейской школе, были попытки рассматривать тела состоящими из бесконечного числа неделимых частиц» 76. Тем самым, как считает Башмакова, пифагорейцы «опирались на понятие актуальной бесконечности» 77.
разграничивает их природу» (Физика, IV, 6, 213В.— Курсив мой.— П. Г.).
72 Becker О. Die Grundlagen der Mathematik in geschichtlicher Entwicklung.— In.: Orbis Academicus. Freiburg; Munchen, 1964, Bd. 6, S. 34-35.
73 Becker 0. Die Grundlagen der Mathematik..., S. 34.
74 См.: Цейтен Г. Г. История математики в древности и в средние века. М.; Л/, 1932, с. 40—42.
75 Метафизика, V, 6, 1016В 13.
76 Башмакова И. Г. Лекции по истории математики в древней Греции.— Историко-математические исследования, с. 324.
77 Там же.
у истоков научно-теоретического мышления
49
По этому пункту, однако, среди историков математики существуют расхождения. Вопрос о признании актуальной бесконечности пифагорейцами и сегодня остается открытым. Нам представляется, что в этом вопросе ближе к истине такой знаток античной математики (и истории математики вообще), как Д. Д. Мордухай-Болтовской, а он подчеркивает, что античные математики «актуальной бесконечности не признавали» 78. Эта точка зрения тем более убедительна, что аналогичную ситуацию мы обнаруживаем и в античной философии. При всей многозначности понятия «актуальная бесконечность» и при всей сложности этой проблемы, особенно если иметь в виду философию доплатоновского периода (в том числе и тех же пифагорейцев), мы все-таки можем констатировать, что в таких наиболее полно сохраненных для нас традицией философских учениях, как учения Платона и Аристотеля, мы не встречаем понятия актуальной бесконечности в том смысле, в каком оно появляется позднее (в средние века, в эпоху Возрождения и, конечно, в новое время). Подробно об этом речь пойдет ниже. Впервые развернутый анализ понятия актуальной бесконечности мы встречаем в апориях Зенона, который, кстати, и показывает, к каким парадоксам приводит допущение этого понятия и оперирование им. Именно стремление освободиться от парадоксов бесконечности заставляет последующих философов и математиков (особенно Аристотеля и Евдокса) разработать средства для избежания понятия актуальной бесконечности.
Открытие несоизмеримости. Трудно установить, кем и когда была открыта несоизмеримость, но это открытие сыграло важную роль в становлении математики как теоретической науки, ибо вызвало целый переворот в математическом мышлении и заставило пересмотреть многие из представлений, которые вначале казались само собой разумеющимися 79.
78 Мордухай-Болтовской Д. Д. Комментарии.— В кн.: Ньютон И. Математические работы, М.; Л., 1937, с. 291.
79 Стимулирующее влияние такого рода открытий на развитие науки отмечали и Платон, и Аристотель. Последний в этой связи писал: «Ибо вследствие удивления люди и теперь, и впервые на.
50
Раздел первый
Следует заметить, однако, что открытие несоизмеримости могло иметь место только там и тогда, где и когда уже возникли основные контуры математики как связной теоретической системы мышления. Ведь только тогда может возникнуть удивление, что дело обстоит не так, как следовало ожидать, если уже есть представление о том, как должно обстоять дело. Не случайно открытие несоизмеримости принадлежит именно грекам, хотя задачи на извлечение квадратных корней, в том числе и ]Л2, решались уже в древневавилонской математике, составлялись таблицы приближенных значений корней 80. По-видимому, открытие несоизмеримости было сделано именно потому, что пифагорейцы с энтузиазмом искали подтверждения главного тезиса их учения «Все есть число» 81.
Можно допустить, что пифагорейцы обнаружили несоизмеримость при попытке либо арифметически определить такую дробь, квадрат которой равен 2 (т. е. арифметически вычислить сторону квадрата, площадь которого равна 2), либо геометрически при отыскании общей меры стороны и диагонали квадрата; либо, наконец, в теории музыки, пытаясь разделить октаву пополам, т. е. найти среднее геометрическое между 1 и 2. В любом случае за-
чали философствовать, причем вначале они испытали изумление по поводу тех затруднительных вещей, которые были непосредственно перед ними, а затем понемногу продвинулись на этом пути дальше и осознали трудности в более крупных вопросах, например, относительно изменений луны и тех, которые касаются солнца и звезд, а также относительно возникновения мира... Все начинают с изумления, обстоит ли дело именно так: как (недоумевают), например, про загадочные самодвижу-щиеся игрушки, или (сходным образом) в отношении солнцеворотов, или несоизмеримости диагонали; ибо у всех (кто еще не рассмотрел причину), вызывает удивление, если чего-нибудь нельзя измерить самою малою мерою» (Метафизика, I, 2. 982 в 10 — 983 а 23).
80 См.: Варден Б. Л. ван дер. Пробуждающаяся наука, с. 59—62 81 Такое соображение высказывает Г. Цейтен: «Возможно, что цитированное выше пифагорейское изречение (Цейтен имеет в виду изречение «Все есть число».— П. Г.) древнее открытия несоизмеримых количеств; возможно даже, что попытки доказать его правильность привели к открытию этих количеств» (Цейтен Г. Г. История математики в древности и в средние века, с. 55).
У истоков научно-теоретического мышления
51
дача предстала перед ними в виде отыскания величины, квадрат которой равен 282.
Несоизмеримость диагонали квадрата со стороной, т. е. иррациональность У2, пифагорейцы доказывали, опираясь на главную, с их точки зрения, «онтологическую» характеристику чисел, а именно на деление их на четные и нечетные; доказательство велось от противного: если допустить соизмеримость диагонали и стороны, то придется признать нечетное число равным четному 83. Признанию несоизмеримости, однако, предшествовали, по-видимому, попытки преодолеть возникшее затруднение84, ибо обнаружение невыразимости в числах отношения диагонали к стороне квадрата наносило удар по основному убеждению пифагорейцев, что «все есть число» 85. Открытие иррациональности, т. е. отношений, не выражаемых <целыми> числами86, вызвало, видимо, первый кризис оснований математики и нанесло удар по философии пи-
82 Г. Юнге высказал предположение, что открытие иррациональности было сделано ранними пифагорейцами примерно в конце VI в. до н. э. в связи с изучением додекаэдра. «Так как додекаэдр построен из пятиугольников, то можно предположить, что знание о додекаэдре было связано со знанием об иррациональном и что, следовательно, иррациональное было открыто при рассмотрении пятиугольника, а точнее — пентаграммы. Эта фигура была в особой чести у пифагорейцев, она служила у них символом познания» (Junge G. Von Hippasus bis Philolaus, p. 42). Большинство историков науки считают, что открытие иррациональности было для пифагорейской школы большим ударом; Юнге придерживается на этот счет другого мнения. «Пифагорейское учение о числах,— пишет он,— не только не было поколеблено открытием иррациональности, но после этого открытия оно только и было развито» (Ibid., р. 67). Предположение Юнге интересно, но, чтобы его принять, необходимо найти объяснение целому ряду фактов из истории античной математики.
83 Это пифагорейское доказательство иногда приводится в качестве дополнения в конце X книги «Начал» Евклида.
84 Brunschvicg L. Les etapes de la philosophie mathematique. Paris, 1912, p. 17.
85 «Само пифагорейское мировоззрение,— подчеркивает Д. Д. Мор-духай-Болтовской,— должно было располагать к вере в разрешимость этой проблемы, и открытие ее неразрешимости нанесло ему неисцеляемую рану». (Мордухай-Болтовской Д. Д. Комментарии.— В кн.: Евклид. Начала. М.; Л., 1948, кн. I—VI, с. 375).
88 Мордухай-Болтовской Д. Д. Комментарии.— Там же, с/ 374. Открытие несоизмеримости означало, что не все элементы^пра-
52
Раздел первый
фагорейцев. Ибо целое число — — лежало, сог-
ласно Пифагору и его последователям, в основе мироздания; поэтому все пропорции в мире должны были быть выразимы в целых числах. Эта — исторически первая — теория чисел теперь оказалась поставленной под вопрос.
Однако удар, нанесенный раннепифагорейской концепции числа, отнюдь не отменил математической «программы» изучения природы, а только внес в эту программу свои коррективы 87.
Видимо, последствием открытия иррациональности было усиление тенденции к геометризации математики; появилось стремление геометрически выразить отношения, которые, как оказалось, невыразимы с помощью арифметического числа. «По-видимому, уже в пифагорейской школе была сделана попытка строить всю математику, основываясь не на арифметике, а на геометрии, ввести прямое исчисление величин: представлять величины отрезками и площадями, операции сложения, умножения, извлечения корня представить геометрически и т. д.» 88.
Вместо геометрической арифметики теперь развивается «геометрическая алгебра»: величины изображаются через отрезки и прямоугольники, с помощью которых можно бы#о соотносить между собой не только рациональные числа, но и несоизмеримые величины.
Надо полагать, что переход к геометрической алгебре сопровождался также и размышлением по поводу самих оснований пифагорейской математики. Может быть, именно открытие несоизмеримости впервые поставило под вопрос первоначальную пифагорейскую интуицию, что тела состоят из неделимых точек-монад.
вильных геометрических фигур могут быть выражены не только целыми числами, но и отношениями целых чисел, т. е., говоря современным языком, рациональными дробями.
87 Г. Цейтен считает, что открытие иррациональности и поиски способов справиться с ней определили специфику античной математики в целом: «Мы не ошибемся, если скажем, что открытие и изучение в дальнейшем иррациональных величин было источником как главных преимуществ, так и главных недостатков греческой! математики» (Цейтен Г. Г. История математики в древности и в средние века, с. 54.)
88 Башмакова И. Г. Лекции по истории математики в древней Греции, с. 260.
у истоков научно-теоретического мышления
53
Попытки справиться с несоизмеримостью в конце концов привели к формулировке аксиомы Евдокса (ее называют также аксиомой Архимеда), которая легла в основу теории отношений несоизмеримых величин. Эта аксиома приводится Евклидом в четвертом определении V книги «Начал»: «Говорят, что величины имеют отношение между собой, если они, взятые кратно, могут превзойти друг друга». А вот как формулирует Архимед эту аксиому в работе «О шаре и цилиндре» (пятое допущение, или постулат Архимеда): «... большая из двух неравных линий, поверхностей или тел превосходит меньшую на такую величину, которая, будучи складываема сама с собой, может превзойти любую заданную величину из тех, которые могут друг с другом находиться в определенном отношении» 89.
Нам представляется, однако, что общее значение открытия иррациональности для развития и математики, и науки в целом не исчерпывается указанными последствиями, хотя внешне выражается прежде всего в них.
Дело в том, что это открытие впервые, быть может, заставило рождающуюся греческую науку сознательно задуматься о своих предпосылках. Ведь те понятия числа, точки, фигуры и т. д., которыми оперировали пифагорейцы первоначально, еще не были логически прояснены и продуманы. Именно в этом, кстати, упрекают пифагорейцев и Платон, и (еще больше) Аристотель. В самом деле, числа у них не отделены от вещей, говорит Аристотель. Но ведь и нельзя сказать, чтобы они у них сознательно и обоснованно отождествлялись с вещами! Вопрос об онтологическом статусе чисел в этом плане просто не возникал, а потому здесь и царила некоторая непроясненность, неопределенность. Далее, Аристотель говорит, что у пифагорейцев фигуры состоят из чисел, как из неделимых пространственных единиц. Но и здесь мы имеем дело с та
89 Архимед. Соч. М., 1962, с. 97. О. Беккер считает, что решение проблемы иррациональности, предложенное Евдоксом, было новым обоснованием математики; его теория иррационального не утратила своего значения и поныне (Becker О. Das mathemati-sche Denken der Antike. Gottingen, 1966, S. 14). Об этом см. также: Мордухай-Болтовской Д. Д. Комментарии. Евклид. Начала, с. 358—386.
54
Раздел первый
кой же первоначальной непроясненностыо: число выступает то как единица, не отнесенная к пространству, к чувственному миру, то как неделимая частица самого этого мира — такова у пифагорейцев точка 90. Ибо именно так предстает пифагорейцу-математику единица, когда он дает «полуарифметическое — полугеометрическое» (по словам Беккера) начертание «тройки» (рис. 2) и «десятки» (рис. 5).
Открытие несоизмеримости стало первым толчком к осознанию оснований математического исследования, к попытке не только найти новые методы работы с величинами, но и понять, что такое величина.
Однако во весь рост проблему континуума перед философами и математиками поставил Зенон из Элеи, выявив противоречия, связанные с понятием бесконечности, и после него невозможно было вернуться к прежнему, доре-флексивному оперированию математическими понятиями. Благодаря элеатам началась логическая работа над исходными понятиями науки — напряженная работа на протяжении V, IV и III в. в. до н. э., завершившаяся созданием трех главных программ научного исследования: математической, атомистической и континуалистской.
Характерно, однако, что на всем протяжении этого бурного периода в развитии науки — с V по III в. до н. э.— можно выделить как бы два направления научной работы. Одно из них представлено теми философами и учеными, которые прежде всего заняты проблемами обоснования науки и логического уяснения и разработки ее понятий и методов. К нему принадлежат Зенон, Демокрит, Платон, Аристотель, Теофраст и др. Другое направление представлено в первую очередь математиками-«практи
90 И в этом смысле прав Г. Кантор, отмечая, что ясного понятия о континууме у греков еще не было, и хотя Кантор имеет в виду более поздних философов — Демокрита и Аристотеля, но применительно к пифагорейцам его суждение тем более справедливо. «...Идея континуума,— пишет он,— не представлялась уже грекам, которые, кажется, впервые образовали ее, с той ясностью и полнотой, которые были бы необходимы, чтобы исключить возможность различных толкований со стороны последующих мыслителей» (Кантор Г. Основы общего учения о многообразиях.— В кн.: Новые идеи в математике. СПб., 1914, сб. 6, с. 45-46).
У истоков научно-теоретического мышления
55
ками» — такими, как Архит Терентский, Евдокс Книдский, Менехм, Теэтет. Хотя эти ученые отнюдь не чужды вопросам обоснования науки и глубоко проникнуты заботой о логической четкости своих построений, но центр тяжести их исследований лежит в другом: они конструируют модели движения небесных светил, ищут способы решения математических задач, прибегая к помощи циркуля и линейки, и не всегда ставят вопрос о логическом обосновании своих методов 91.
Может быть, этим обстоятельством в какой-то мере объясняется тот факт, что некоторые пифагорейские представления о числе, точке и т. д. сохранялись еще у математиков до IV в. до н. э. включительно, несмотря на то что в строго логическом обосновании математики к этому времени греческая мысль ушла далеко от исходной точки благодаря критике Зенона, работе Платона и других философов. А что пифагорейские представления о числе сохранялись до III в. до н. э., можно судить по уже приведенным отрывкам из Аристотеля, да и по некоторым книгам Евклидовых «Начал». Эти представления сохранялись до тех пор, пока с ними можно было работать математику — даже если с логической точки зрения они и не были достаточно прояснены и обоснованы.
Правда, судя по свидетельству Секста Эмпирика, сами пифагорейцы тоже пытались усовершенствовать свои понятия, чтобы избежать критики со стороны элеатов. «Некоторые же (из пифагорейцев. — П. Г.) говорят, — пишет
91 В этом отношении характерное наблюдение сделал Б. Л. ван дер Варден. Он обратил внимание на несоответствие между математическим талантом Архита и «логической» разработанностью его мышления: «Еще большие неожиданности мы встретим, когда проникнем поглубже в его (Архита — П. Г.) образ мышления и заметим, какой странный контраст представляли его гениальные идеи, его творческое воображение, великолепное мастерство, которым он владел, с одной стороны, а с другой — его логические промахи, его неумение выражаться точно и ясно, его погрешности в рассуждениях и многословие. Разбирая критически книгу VIII «Начал» и «Sectio Canonis», которые обе носят имя Евклида, но, по существу, принадлежат Архиту, можно видеть, как Архит бьется над необходимой строгостью доказательства и ясностью изложения, которых требовали математики его времени...» (Варден Б. Л. ван дер. Пробуждающаяся наука, с. 209).
56
Раздел первый
Секст,— что тело составляется из одной точки. Ведь эта точка в своем течении образует линию, а линия в своем течении образует плоскость, а эта последняя, двинувшись вглубину, порождает трехмерное тело. Однако такая позиция пифагорейцев отличается от позиции их предшественников. Ведь те выводили числа из двух начал — монады и неопределенной диады, затем из чисел — точки, линии, плоскостные и пространственные фигуры. А эти из одной точки производят все. Ведь из нее (по их мнению), возникает линия, из линии — поверхность, а из последней — тело» 92. Ф. М. Корнфорд видел в этом усовершенствовании непосредственный ответ пифагорейцев на критику Зенона Элейского, которая, как он считал, была направлена именно против пифагорейцев, образовавших величину из расположенных рядом дискретных точек, которые, по свидетельству Аристотеля, мыслились как протяженные 93.
Интересные соображения по этому вопросу высказал Дж. Рейвен. Согласно Рейвену, пифагорейцы под влиянием критики элеатов по-новому определили понятия «точки», «линии» и т. д., введя принцип непрерывности и рассматривая точки на линии лишь как ее «границы» или «пределы». По Рейвену, это было шагом вперед от понятия «минимальной линии», мыслимой как состоящей из двух точек. Рейвен считает, что эти новые понятия были созданы «поколением пифагорейцев, живших уже в эпоху Платона; платоники же позаимствовали у них эти понятия» 94 *. Однако на основании тех источников, которыми пока располагает история науки, трудно разрешить вопрос, какую роль в этом процессе перестройки математических понятий сыграли современные Платону пифагорейцы, а какую — сам Платон и его школа. Некоторые исследователи поэтому полагают, что установлением таких основных геометрических понятий, как точка, линия, плоскость, трехмерное тело, наука обязана Платону, который далеко не все заимствовал у Филолая 9б.
92 Секст Эмпирик. Соч.: В 2-х т. М., 1975, т. I, с. 364—365 (Против ученых, X, 281—282).
93 Cornjord F. М. Plato and Parmenides. London, 1939, p. 12.
94 Raven J. E. Pythagoreans and Eleatics. Cambridge, 1948, p. 109.
96 Junge G. Von Hippasus bis Philolaus, p. 66.
у истоков научно-теоретического мышления 57
Глава вторая
Элейская школа и первая постановка проблемы бесконечности
Основал эту школу Ксенофан Колофонский, главными ее представителями были Парменид 1 и Зенон Элейский; последний, как свидетельствуют древние источники, был любимым учеником Парменида. Значение элеатов в становлении античной философии и науки трудно переоценить. Они впервые поставили вопрос о том, как можно мыслить бытие, в то время как их предшественники — и ранние физики-натурфилософы, и пифагорейцы 2— мыслили бытие, не ставя этого вопроса. Благодаря элеа-там вопрос о соотношении мышления и бытия становится предметом рефлексии; в результате появляется стремление прояснить с логической точки зрения те понятия и представления, которыми прежняя наука оперировала некритически. «Итак, я скажу тебе (ты же внимательно прислушивайся к моим речам), какие только пути исследования доступны для разума. Первый путь: бытие есть, а небытия нет. Это путь Достоверности (Пг^сЬ), ибо близко подходит он к Истине. Второй путь: бытия нет, а небытие должно' быть. Этот путь — поверь мне — не должен заслуживать твоего доверия. Ибо немыслимо ни познать, ни выразить небытия: оно — непостижимо» 3. Небытие непознаваемо, невыразимо, оно недоступно мысли, потому
1 Относительно времени жизни Парменида имеется два противоречивых свидетельства. Аполлодор и Диоген Лаэрций относят его акме к 69-й олимпиаде, т. е. приблизительно к 500 г. до н. э. Платон же в диалогах «Теэтет», «Софист», «Парменид» рассказывает о встрече молодого Сократа с 65-летним Парменидом. Эта встреча должна была произойти примерно в 450 г., и, следовательно, Парменид должен был в этом случае родиться примерно в 515 г. до н. э. Что касается Зенона, то, по сообщению Аполло-дора, его акме приходится примерно на 464—460 гг. до н. э.
2 Характерно, что Парменид, по свидетельству Сотиона, был учеником пифагорейца Аминия, а стало быть, был хорошо знаком с учением пифагорейцев (см.: МД, ч. II, 17).
3 Отрывки из поэмы Парменида «О природе» цитируются по: Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки, с. 71,
58
Раздел первый
оно и есть небытие. Ибо, по Пармениду, «мыслить и быть одно и то же» 4 *.
Это изречение Парменида Платон и Аристотель склонны были толковать так: единственно возможным содержанием мышления является чистое бытие б.
Как справедливо отмечает В. Лейнфельнер, «Парменид даже не подозревал, какие философские дискуссии, длящиеся столетиями, возбудит он своим положением, что мышление и бытие — одно и то же» 6. Этой постановкой вопроса Парменид создавал предпосылки для научного мышления в собственном смысле слова, которое начинается с обсуждения следствий, вытекающих из его концепции мышления 7.
Что же такое парменидовское «бытие», какими атрибутами оно наделено?
Различение мыслимого и чувственно воспринимаемого. Прежде всего, по Пармениду, бытие — это то, что всегда есть; оно едино и вечно — вот главные его предикаты. Все остальные предикаты бытия уже производны от этого. Раз бытие вечно, то оно безначально — никогда не возникает; неуничтожимо — никогда не гибнет; оно бесконечно, цельно, однородно и невозмутимо: «Для него нет ни прошедщего, ни будущего, ибо оно во всей своей полноте живет в настоящем, единое, неразделимое. И действительно, какое начало найдешь ты для него? Где и откуда могло бы оно возникнуть?» 8.
Вечность бытия и единство его для Парменида неразрывно связаны. Бытие непреходяще, а это значит, что оно не дробится на части, одна из которых могла бы быть,
4 Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки, с. 72.
Эти слова Парменида подвергались самым различным интерпретациям, вокруг них на протяжении многих столетий велись незатухающие споры. И это неудивительно: с Парменида, собственно, начинается логическая и философская рефлексия об основных понятиях, которыми мышление до сих пор оперировало некритически.
6 Об этом подробнее речь пойдет ниже, при рассмотрении понятия науки у Платона.
6 Leinfellner W. Die Entstehung der Theorie. Freiburg; Munchon, 1966, S. 22.
7 Ibid.
8 Ibid., S. 72.
У истоков научно-теоретического мышления
59
а другая — гибнуть или возникать; потому он и говорит, что бытие едино и цельно, неделимо, не дробится на множество. То, что у бытия нет ни прошлого, ни будущего, как раз и означает, что оно едино, тождественно себе. «Таким образом, исчезает возможность возникновения и гибели бытия. Бытие — неделимо, ибо оно всюду одинаково и нет ничего ни большего, ни меньшего, что могло бы помешать связности бытия, но все оно преисполнено бытием. Нераздельно же бытие потому, что бытие тесно примыкает к бытию» 9.
Вечное (неизменное), цельное (сплошное), неделимое, единое (не многое) бытие, по Пармениду, неподвижно. Ибо откуда взяться движению у того, что не изменяется?
Можно было бы согласиться с теми, кто, подобно Лейн-фельнеру, склонен считать, что парменидовское бытие есть онтологизировапный логический принцип тождества (Л = Л), если бы сам Парменид не. осознавал этот принцип тождества именно как бытие. А ведь он не только осознавал, но даже наглядно представлял его, говоря, что оно подобно шару 10. То, что ничем не может быть уязвлено или ущемлено, чему ничто не мешает быть таким, каково оно есть, ничто не вторгается в него извне и не деформирует изнутри, принимает форму шара. Шар — это образ-схема самодостаточной, ни в чем не нуждающейся, никуда не стремящейся реальности. А таково, по Пармениду, бытие.
Но присмотримся к определениям парменидовского «бытия». Оно вечно, едино, неизменно, неделимо, неподвижно. Все это — характеристики, противоположные тем, какими наделены явления чувственного мира — мира изменчивых, преходящих, подвижных вещей, раздробленных на множество. Движение и множественность —
9 Ibid., S. 73.
10 «Но так как существует конечная, предельная граница, то бытие — подобно массе со всех сторон округленной сферы, одинаково отстоящей повсюду от своего центра. И действительно, бытие не должно быть в одном месте большим, а в другом — меньшим, ибо нет ни не-бытия, которое мешало бы его цельности, ни бытия, которое было бы в одном месте большим, в другом меньшим, чем бытие. Ведь бытие, как целое, неуязвимо...» (там же, с. 73—74).
60
Раздел первый
это две характеристики чувственного мира, которые друг друга предполагают, как это постоянно подчеркивает Парменид.
Мир бытия и чувственный мир впервые в истории человеческого мышления сознательно противополагаются: первый — это истинный мир, второй — мир видимости, мнения. Первый познаваем, второй недоступен познанию.
Вслед за Парменидом эту концепцию развивал Зенон, его ученик, которого Аристотель не случайно называет «изобретателем диалектики»и. Различие между Парменидом и Зеноном Платон усматривает только в том, что Парменид доказывал существование единого, а Зенон — несуществование многого 11 12.
В школе элеатов впервые предметом логического мышления стала проблема бесконечности. В этом смысле философия элеатов представляет собой важный рубеж в истории научного мышления. Некоторые историки науки считают, что учение элеатов кладет начало научному знанию в строгом смысле слова 13. Такая точка зрения имеет свой смысл; теоретическое естествознание невозможно без математики, а сама математика, как подчеркивает Г. И. Наан, «настолько тесно связана с понятием бесконечности, ято нередко ее определяют как науку о бесконечном» 14 *. Действительно, старое, идущее через века определение математики (точнее, математического анализа, понятого как основа и фундамент математики 1б) как науки о бесконечном, разделяют и многие современные матема
11 См.: МД, ч. II, А1 и А10.
12 Богиня Дике очень выразительно советует Пармениду отрешиться от чувственного опыта: «Не вращай бесцельно глазами, не слушай ушами, в которых раздается (только шум), и не болтай (праздно) языком, но разумом исследуй высказанное мною доказательство» (МД, ч. II, В1, 35—37).
13 Такую точку зрения высказывает венгерский ученый А. Сабо в своей интересной работе «Начала греческой математики». См.: Szabo A. Anfange der griechischen Mathematik. Munchen; Wien, 1969..
14 Наан Г. И. Понятие бесконечности в математике и космологии.—
В кн.: Бесконечность и вселенная. М., 1969, с. 7.
16 См.: Лузин Н. Н. Ньютонова теория пределов.— В кн.: Исаак Ньютон: (к трехсотлетию со дня рождения). М., Л., 1943, с. 72.
у истоков научно-теоретического мышления
61
тики 16. По впервые проблема бесконечности стала предметом обсуждения именно в школе элеатов. Зенон вскрыл противоречия, в которые впадает мышление при попытке постигнуть бесконечное в понятиях. Его апории — это первые парадоксы, возникшие в связи с понятием бесконечного.
Однако вряд ли следует, исходя из приведенных соображений, рассматривать апории Зенона как первые шаги научного мышления вообще. Скорее можно говорить о том, что апории Зенона были первым в истории кризисом оснований пауки, прежде всего математики. Для возникновения такого рода кризиса оснований необходимо, чтобы научное знание достигло некоторого уровня, чтобы уже сложилась — пусть и первая, и недостаточно логически обоснованная, по именно теория как систематическая связь положений 17. И такая теория возникла ко времени Зенона: это была пифагорейская математика.
Вопрос о «приоритете»: Пифагор или Парменид? Поскольку А. Сабо в своей весьма содержательной и серьез
16 «Математика,— пишет Г. Вейль,— была названа наукой о бесконечном; действительно, математика изобретает конечные конструкции, посредством которых решаются вопросы, ио самой своей природе относящиеся к бесконечному» (Weil Н. A Half-Century of Mathematics.— Amer. Math. Monthly, 1951, vol. 58, p. 523). А. А. Френкель и И. Бар-Хиллел тоже считают понятие бесконечности неотъемлемой принадлежностью математики: «...Для математики — в отличие почти от всех других наук' — это понятие является настолько жизненно необходимым, что огромное большинство математических фактов, не имеющих отношения к бесконечности, едва ли не тривиально» (Френкель А. А., Бар-Хиллел И. Основания теории множеств. М., 1966, с. 238). Нужно, однако, отметить, что не все математики разделяют эту точку зрения.
17 Как справедливо говорит Г. И. Наан, «кризисы в науке свидетельствуют о достаточно высоком уровне ее развития. Древнегреческая математика и философия около двух с половиной тысяч лет назад достигли такого уровня развития, что стал возможным кризис основ, оставивший заметный след в интеллектуальной истории человечества. Отчетливо встал вопрос: следует ли мыслить пространство и время неограниченно делимыми (интенсивная бесконечность пространства и времени) или же состоящими из неких неделимых далее малых, но конечных «атомов» (отрезков, моментов)?» (Наан Г. И. Понятие бесконечности в математике и космологии, с. 8—9).
62
Раздел первый
ной работе «Начала греческой математики» приходит к выводу, что учение элеатов в сущности легло в основу греческой математики и стало, таким образом, отправным пунктом в ее развитии, мы должны рассмотреть этот вопрос детальнее.
Сабо рассуждает следующим образом. Греческая математика, говорит он, отличается от египетской и вавилонской тем, что в ней «утверждения, положения всегда доказываются» 18, в то время как «древневосточные тексты математического содержания содержат только интересные инструкции, так сказать, рецепты и часто примеры того, как надо решать определенную математическую задачу» 19. Анализируя структуру математического доказательства, как оно дается в «Началах» Евклида, Сабо приходит к выводу, что доказательство представляет собой способ удостоверения того или иного положения, которое не желают (или не могут) удостоверить с помощью наглядной демонстрации. Сабо допускает, что в более ранний период математики доказывали свои утверждения, демонстрируя доступную созерцанию фигуру, так что «ядро доказательства составляла конкретная наглядная демонстрация (sichtbarmachen)» 20; в основе доказательства, таким образом, лежала «эмпирическая и наглядная очевидность» 21. От такого рода доказательства Евклид, подчеркивает Сабо, отказался 22. При этом речь идет, как полагает Сабо, не о простом повороте от наглядных моделей к понятиям, а о «сознательном отказе от созерцательного (наглядного)», о сознательном избегании просто наглядного 23. В результате отказа от созерцания Евклид, говорит Сабо, прибегает к так называемому косвенному вы
18 Szabo A. Anfange der griechischen Mathematik, S. 245.
19 Ibid., S. 244-245.
20 Ibid., S. 251.
21 Ibid.
22 При этом Сабо ссылается на точку зрения К. Рейдемейстера: «Широко распространен предрассудок, что существенным признаком греческой математики является ее наглядность. Скорее правильно то, что в греческой (пифагорейской) математике совершается поворот от наглядного (созерцательного) к понятийному» (Reidemeister К. Das exakte Denken der Griechen. Hamburg, 1949, S. 51).
23 Szabo A. Anfange der griechischen Mathematik, S. 252.
У истоков научно-теоретического мышления
63
воду — доказательству от противного. «Оба эти явления в греческой математике — отказ от эмпиризма и характерное использование косвенного вывода — я свожу к решающему влиянию философии элеатов» 24,— пишет Сабо. Связь здесь вполне понятна: именно элеаты впервые последовательно проводят мысль о том, что истинное знание может быть получено только с помощью разума, а чувственное восприятие всегда недостоверно.
Мы совершенно согласны с Сабо в том отношении, что именно философия элеатов впервые положила начало логической рефлексии относительно важнейших понятий античной науки, и прежде всего математики. В этом смысле ее значение для развития античной науки трудно переоценить. Именно после критики элеатов начинается уяснение предпосылок греческой математики, которые у ранних пифагорейцев, как мы видели, еще оставались непроясненными. Именно после критики элеатов, впервые поставивших на обсуждение проблему бесконечности и связанную с ней проблему континуума (пространства, времени, движения), начинают складываться основные направления научной мысли Древней Греции.
Однако трудно согласиться с некоторыми выводами, которые делает Сабо исходя из исследования роли элеатов в становлении античной науки. Так, например, анализируя первое определение VII книги «Начал» Евклида, где вводится понятие единицы (jJLovdk)25, Сабо приходит к заключению, что понятие [xovd; могло появиться в античной математике только после элеатов. Он подчеркивает, что даже терминологически «сущее» (то оу) и «Одно» (то ev) выступают у элеатов как взаимозаменяемые понятия26. Но известно, что первое определение VII книги Евклида почти полностью воспроизводит рассуждение Пифагора о единице, как его передает Секст Эмпирик в книге «Против ученых» (X, 260—261) 27. И не только из сообщения Секста, но и из других сообщений древних известно, что
* Ibid., S. 289.
26 «Единица есть то, через что каждое из существующих считается единым» (Евклид. Начала, кн. VII — X, с. 9).
26 Szabo A. Anfange der griechischen Mathematik, S. 353.
27 Секст Эмпирик. Соч.: В 2-х т. /Пер. А. Ф. Лосева. М., 1975, т. 1, с. 361. «...Пифагор говорил,— пишет Секст,— что началом
64
Раздел первый
понятие монады было одним из центральных в философии ранних пифагорейцев и что, стало быть, им пользовались еще до элеатов.
Поскольку, однако, Сабо усматривает в учении элеатов о едином источник и начало развития науки, он вынужден отрицать существенный вклад ранних пифагорейцев в развитие античной математики. «В каком смысле,— пишет он,— можно вообще говорить о «соперничестве» между элеатами и пифагорейцами (= арифметиками)? Как известно, элеаты допускали только существование «сущего», «Одного» и отрицали, что существует множество, ибо они считали, что можно доказать само-противоречивость мышления также в понятии множества. Но если отрицается множество, то арифметика вообще невозможна. Следовательно, арифметики могли позаимствовать у элеатов понятие «единства», но они уже не могли вслед за элеатами отклонить множество; они должны были каким-то образом удержать множество, ибо без множества пет арифметики. И, в самом деле, второе определение арифметики у Евклида («Начала», кн. VII, определение 2) спасает именно понятие множества благодаря тому, что оно гласит: «Число есть множество, составленное из единств (из монад — ex (jiovd&ov)» 28.
Согласно приведенному отрывку, арифметики-пифагорейцы могли позаимствовать у элеатов понятие единицы (монады), но не могли следовать за ними в отрицании множества, если хотели оставаться арифметиками. Зачем же, однако, было арифметикам заимствовать понятие монады у элеатов, когда это понятие уже было у ранних пифагорейцев, образовывавших число (множество) из единицы и беспредельного? И само определение числа как множества, составленного из монад (единиц, единств) — это его раннепифагорейское определение, которое приводится и Евклидом в его арифметических книгах.
Сабо сам пишет, что, признавая множество, пифагорейцы тем самым резко отличаются от элеатов; но было бы сущего является монада, по причастности к которой каждое из сущего называется одним».
28 Szabb A. Anfange der griechischen Mathematik, S. 354—355.
У истоков научно-теоретического мышления
65
неверным, продолжает он, «говорить о их «соперничестве», так как арифметики ведь отнюдь не оспаривали эле-атовское понятие «одного», они только развили его дальше...»29. В действительности, у самих «арифметиков» (т. е. пифагорейцев) уже до элеатов было понятие монады, причем в отличие от элеатов они не считали, что «единое» и «многое» (множество) взаимно исключают друг друга — тезис, который выдвинули против них элеаты. Именно элеаты впервые попытались показать, что понятие множества несовместимо с понятием «одного», «единицы», а потому заставили позднейших философов, в том числе и пифагорейцев, задуматься о том, как возможно без противоречия мыслить число и какова его природа.
Апории Зенона. Из 45 апорий, выдвинутых Зеноном, до нас дошло 9. Классическими являются пять апорий, в которых Зенон анализирует понятия множества и движения. Первую, получившую название «апория меры», Симпликий излагает следующим образом: «Доказав, что, «если вещь не имеет величины, она не существует», Зенон, прибавляет: «Если вещь существует 30, необходимо, чтобы она имела некоторую величину, некоторую толщину и чтобы было некоторое расстояние между тем, что представляет в ней взаимное различие». То же можно сказать о предыдущей, о той части этой вещи, которая предшествует по малости в дихотомическом делении. Итак, это предыдущее должно также иметь некоторую величину и свое предыдущее. Сказанное один раз можно всегда повторять. Таким образом, никогда не будет крайнего предела, где не было бы различных друг от друга частей. Итак, если есть множественность, нужно, чтобы вещи были в одно и то же время велики и малы и настолько малы, чтобы не иметь величины, и настолько велики, чтобы быть бесконечными» 31.
Аргумент Зенона, вероятнее всего, направлен против пифагорейского представления о том, что тела «состоят из чисел». В самом деле, если мыслить число как точку, не
20 Ibid., S. 355.
30 Существование здесь понимается в обычном смысле — как существование одной вещи наряду с многими другими.
31 МД, ч. II, В1 (фрагмент дан в переводе с греческого П.Таннери).
3 П. П. Гайденко
66
Раздел первый
имеющую величины («толщины», протяженности), то сумма таких точек (тело) тоже не будет иметь величины, если же мыслить число «телесно», как имеющее некоторую конечную величину, то, поскольку тело содержит бесконечное количество таких точек (ибо тело, по допущению Зенона, можно делить «без предела»), оно должно иметь бесконечную величину. Из этого следует, что невозможно мыслить тело в виде суммы неделимых единиц, как это мы видели у пифагорейцев 32.
Можно, пожалуй, сказать, продолжив мысль Зенона: если «единица» неделима, то она не имеет пространственной величины (точки); если же она имеет величину, пусть как угодно малую, то она делима до бесконечности. Элеа-ты впервые поставили перед наукой вопрос, который является одним из важнейших методологических вопросов и по сей день 33: как следует мыслить континуум —
32 С точки зрения современной математики (теория множеств), противоречие, указанное Зеноном, разрешается введением различия между множеством и его мерой. «Апория показывала,— пишет И. Г. Башмакова,— что нельзя определять меру отрезка как сумму мер неделимых, что нужно отличать само множество и его меру (мера множества, вообще говоря, не равна сумме мер его элементов). Как известно, теперь мы определяем меру множества при помощи покрытий его системами интервалов. При этом принимается, что интервалы уже имеют определенную длину (меру)» (Башмакова И. Г. Лекции по истории математики в древней Греции, с. 325).
88 «Зеноновская диалектика материи,— писал Гегель в начале прошлого века, — еще и поныне не опровергнута, мы доныне еще не пошли дальше ее, и вопрос остается неопределенным» (Гегель. Соч., М., 1932, т. IX, с. 233). По словам Д. Я. Стройка, парадоксы Зенона «вызвали такое волнение, что и сейчас можно наблюдать некоторую рябь» (Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики. М., 1964, с. 53).
На всем протяжении своего развития наука вновь и вновь сталкивается с противоречиями, которые вскрыл Зенон. И она пытается разрешить эти противоречия, освободиться от них. Апории Зенона стремились разрешить Демокрит, Аристотель, Галилей, Лейбниц, Кант, Коши. Однако в истории науки и философии нет-нет да и дают себя знать Зеноновы апории. Имея в виду это обстоятельство, С. А. Богомолов отмечал, что «неопровержимый остаток апорий Зенона не может быть устранен и вовсе не нуждается в опровержении... Здесь «родоначальник диалектики» с поразительной силой вскрыл диалектическую силу основных понятий математики...» (Богомолов С. А.
У истоков научно-теоретического мышления
67
дискретным или непрерывным? состоящим из неделимых (единиц, «единств», монад) или же делимым до бесконечности? Любая величина должна быть понята теперь с точки зрения того, состоит ли она из единиц (как арифметическое число пифагорейцев), неделимых «целых», или она сама есть целое, а составляющие ее элементы самостоятельного существования не имеют. Этот вопрос ставится и по отношению к числу, и по отношению к пространственной величине (линии, плоскости, объему), и по отношению к времени. В зависимости от решения проблемы континуума формируются и разные методы изучения природы и человека, т. е. разные научные программы.
Пока мы рассмотрели только одну апорию Зенона, в которой выявляется противоречивость понятия «множества». Теперь перейдем к тем апориям, где обсуждается возможность мыслить движение. Мы увидим, что здесь в основе лежит тоже проблема континуума. Наиболее известны четыре апории этого рода: «Дихотомия», «Ахиллес и черепаха», «Стрела» и «Стадий». Кратко их содержание передает Аристотель в «Физике»: «Есть четыре рассуждения Зенона о движении, доставляющие большие затруднения тем, которые хотят их разрешить. Первое, о несуществовании движения на том основании, что перемещающееся тело должно прежде дойти до половины, чем до конца... Второе, так называемый Ахиллес. Оно заключается в том, что существо более медленное в беге никогда не будет настигнуто самым быстрым, ибо преследующему необходимо раньше придти в место, откуда уже двинулось убегающее, так что более медленное всегда имеет некоторое преимущество... Третье... заключается в том, что летящая стрела стоит неподвижно; оно вытекает из предположения, что время слагается из отдельных «теперь»... Четвертое рассуждение относится к двум разным массам, движущимся с равной скоростью, одни — с конца ристалища, другие — от середины, в результате чего, по его мнению, получается, что половина времени равна ее двойному количеству» 34.
Актуальная бесконечность (Зенон Элейский, Исаак Ньютон, Георг Кантор). М./Л., 1934, с. 5).
34 Физика, VI, 9.
3
68
Раздел первый
Первая апория — «Дихотомия» — доказывает невозможность движения, поскольку преодоление любого расстояния предполагает «отсчитывание» бесконечного множества «середин»: ведь любой отрезок можно делить пополам — и так до бесконечности. Другими словами, если континуум мыслится как актуально данное бесконечное множество, то движение в таком континууме невозможно мыслить, ибо занять бесконечное число последовательных положений в ограниченный промежуток времени невозможно.
Эту антиномию можно истолковать двояким образом, и в зависимости от истолкования ее и решают по-разному. Если считать, что противоречие состоит в невозможности в конечный отрезок времени «отсчитать» бесконечное число моментов (пройти бесконечное число положений), то решение антиномии будет состоять в указании, что Зенон неправомерно отождествил бесконечность с бесконечной делимостью. Такое решение апории Зенона дал Аристотель, введя понятие континуума как потенциально делимого до бесконечности 35. В самом деле, если все дело в том, что в конечный отрезок времени нельзя пройти бесконечное количество точек пространства, то достаточно указать на то, что и любой конечный отрезок времени точно так жё можно делить до бесконечности, как и любой отрезок пространства. Но возможность деления, говорит Аристотель, еще не тождественна действительной поде-ленности как пространства, так и времени; иначе говоря, пространство и время делимы до бесконечности потенциально, но не поделены до бесконечности актуальна. Бесконечная делимость не есть бесконечная величина, а потому движение, по Аристотелю, мыслимо без всякого противоречия. Каждому моменту времени соответствует определенная точка в пространстве. Так введением потенциальной бесконечности Аристотель решает антиномию, возникшую у Зенона при допущении континуума как актуальной бесконечности.
35 В этом вопросе предшественником Аристотеля был, видимо, Анаксагор. См.: Рожанский И. Д. Анаксагор. М., 1972, с. 179— 180.
У истоков научно-теоретического мышления
69
Однако проблема актуальной бесконечности, поставленная Зеноном, при этом не снимается. В самом деле, рассуждение Зенона основано на невозможности мыслить завершенную бесконечность. И если говорят, что не только любой отрезок пространства, но и любой отрезок времени содержит в себе бесконечность, так что между моментами того и другого можно установить взаимно-однозначное соответствие, то этим еще не решается вопрос о том, как же мыслить бесконечность осуществленной, законченной. Аристотель решает этот вопрос, устраняя вообще актуально-бесконечный континуум. Попытку решить проблему, оставаясь на почве актуальной бесконечности, предпринял Г. Кантор; С. А. Богомолов попытался показать, каким образом с точки зрения теории множеств можно разрешить парадоксы Зенона 36.
В основе апории «Ахиллес» лежит то же противоречие, что и в основе «Дихотомии»: чтобы догнать черепаху, Ахиллес должен занять бесконечное множество «мест», которые до тех пор занимала черепаха.
В третьей апории — «Стрела» — Зенон доказывает, что летящая стрела покоится. Зенон здесь исходит из понимания времени как суммы дискретных (неделимых) моментов, отдельных «теперь», а пространства — как суммы точек. Он рассуждает так: в каждый момент времени стрела занимает определенное место, равное своему объему (ибо в противном случае стрела была бы «нигде»). Но если занимать равное место, то двигаться невозможно (движение предполагает, что предмет занимает место, большее, чем он сам). Значит, движение можно мыслить только как сумму состояний покоя, а это невозможно (ибо сумма нулей не дает никакой величины). Таков результат, вытекающий из допущения, что пространство состоит из суммы неделимых «мест», а время — из суммы неделимых «теперь».
Аналогично можно было бы рассуждать, исходя из неделимости «моментов» времени: в каждый из моментов стрела должна покоиться, а значит, движение невозмож-
36 См.: Богомолов С. А. Аргументы Зенона Элейского при свете учения об актуальной бесконечности.— Журнал министерства народного просвещения. М., 1915.
70
Раздел первый
ио. Допустить движение значит предположить, что «момент» будет разделен.
Как видим, доказательство невозможности движения основано на допущении дискретного континуума — пространство и время мыслятся как состоящие из актуального множества неделимых «единиц» 37. Апория «Стадий» по своим предпосылкам сходна со «Стрелой». Пусть по ристалищу, по параллельным прямым, с равной скоростью движутся навстречу друг другу два предмета равной длины и проходят мимо неподвижного третьего предмета той же длины. Пусть ряд Ах, А2, А3, А4 означает неподвижный предмет, ряд В2, В3, В4 — предмет, движущийся вправо, и ряд С\, С2, С3, С4 — предмет, движущийся влево:
Ai А2 А3 А4
Bi В 2 В3 В4------->
<--------Ci С 2 С3 С4
По истечении одного и того же момента времени точка Вх проходит половину отрезка А4А4 и целый отрезок CjC4, т. е. она пройдет мимо четырех точек на отрезке и в то же'Время мимо только половины точек на отрезке Л ^4.
Согласно предпосылке Зенона, каждому неделимому моменту времени соответствует неделимый отрезок пространства. Значит, точка Bi в один момент времени проходит разные части пространства в зависимости от того, с какого пункта вести отсчет: по отношению к отрезку А4А4 она в момент времени проходит одну неделимую часть пространства, по отношению к отрезку СГС4 — две неделимые части пространства 38. Неделимый момент времени
37 В. Лейнфельнер справедливо отмечает, что трудности, которые ведут к зеноновым антиномиям (парадоксам), состоят в следующем: «Как можно с помощью атомистически конструированного континуума, составленного из актуально бесконечного числа атомов или точек, решить проблему непрерывного изменения, т. е. становления» (Leinfellner W. Die Entstehung der Theorie, S. 34—35).
38 Тем самым в результате единица оказывается равной двум.
В. Лейнфельнер считает, что эта апория Зенона является «за-
У истоков научно-теоретического мышления
71
оказывается вдвое больше самого себя. Значит, либо неделимый момент времени должен быть делимым, либо делимой должна быть неделимая часть пространства. Поскольку же ни того, ни другого Зенон не допускает, то вывод его гласит: движение невозможно мыслить без противоречия, а значит, движения не существует.
Таким образом, все четыре апории имеют целью доказать невозможность движения, поскольку его нельзя мыслить, не впадая в противоречие. Вывод Зенона парадоксален в том смысле, что, будем ли мы мыслить континуум делимым до бесконечности (апории «Дихотомия» и «Ахиллес и черепаха») или же, напротив, состоящим из неделимых моментов (апории «Стрела» и «Стадий»), мы не можем без противоречия мыслить движение ни в том, ни в другом случае. В первом случае в силу бесконечной делимости пространства никакой — даже самый малый — отрезок пути не может быть пройден; более того, внимательно присмотревшись к апории «Дихотомия», мы увидим, что движение не может даже и начаться: ведь, чтобы пройти половину отрезка, нужно сначала пройти половину этой половины и т. д. до бесконечности, а значит, невозможно пройти никакой конечный отрезок пути. В случае «Ахиллеса» — та же ситуация, только бесконечная последовательность «направлена не в прошлое, а в будущее» 39.
Во втором случае — «Стрела» и «Стадий» — никакое движение невозможно в силу того, что и время, и пространство состоят из неделимых элементов 40.
родышевой формой релятивистского понимания времени» (Lein-fellner W. Die Entstehung der Theorie, S. 44).
39 Наан Г. И. Понятие бесконечности в математике и космологии, с. 9.
40 Дж. Бернет видит в каждой из последующих апорий усложнение предыдущей: так, в «Ахиллесе» дихотомия усложнена введением второго движущегося объекта; в «Стреле» движущийся объект рассматривается как имеющий длину, в то время как в двух первых апориях речь шла о движущейся точке; в «Стадии» движется уже не одна линия, как в «Стреле», а две — навстречу друг другу. См.: Burnet J. Early greek philosophy. London, 1945, p. 27-28.
Именно это усложнение объясняет, почему в первых двух апориях аргументация ведется от бесконечной делимости, а
72
Раздел первый
Парадоксы Зенона не раз квалифицировались в истории как скептицизм и даже «софизмы». Поводом к этому служило, помимо прочего, и то обстоятельство, что эти парадоксы разрушают определенные представления, в том числе не только теоретические установки (пифагорейцев или Гераклита), но и, казалось бы, неопровержимые факты опыта, к каковым относятся и множественность, и движение 41.
Апории Зенона действительно имеют критическую направленность, и мы увидим ниже, к какому пересмотру теоретических предпосылок пифагореизма дала толчок критика Зенона.
Однако есть в этих апориях и такая сторона, на которую до сих пор обращалось недостаточно внимания, но которая сыграла важную роль в развитии науки. В самом деле, в апориях Зенона предполагается обязательным при исследовании движения строго соотносить друг с другом точки пространства с моментами времени: все, что движется, должно иметь пространственную и временную «координаты». И хотя Зенон доказывает, что в действительности движение не соответствует и не может соответствовать этому требованию (потому оно и немыслимо), но требование, само требование от этого своей силы не теряет. А это, в сущности, есть работа над прояснением необходимых логических предпосылок определения понятия движения. Зенон сформулировал задачу для науки. И, хотя сам он счел ее неразрешимой, другие ученые могли теперь пытаться ее решить хотя бы путем обхода тех парадоксов, которые вскрыл Зенон.
в двух последних — от неделимых. В самом деле, ведь неделимость фиксируется Зеноном в апориях «Стрела» и «Стадий» с помощью привлечения длины самого движущегося тела (или движущихся масс, изображаемых в виде отрезков). В первых апориях, где движется лишенная измерений точка, аргументация оказывается соответственно иной.
41 В древности апории Зенона тоже воспринимались многими как скептические по своей направленности, и в этом отношении характерно одно из древнейших «опровержений» Зенона: выслушав его апории, «циник Антисфен встал и начал ходить, полагая, что доказательство действием сильнее всякого словесного возражения» (МД, ч. II, А15).
У истоков научно-теоретического мышления 73
Таким образом, Зенон в ходе своей критически-отри-цательной работы подготовил почву для создания важнейших понятий точного естествознания: понятия континуума и понятия движения. Стремление впоследствии положительно решить задачу, условия которой дал Зенон, привело к созданию новых программ научного исследования — с одной стороны, программы Демокрита, с другой — преобразованной (не без помощи Платона) пифагорейской программы и, наконец, программы Аристотеля.
Раздел второй
Становление первых научных программ
В эпоху классической Греции, с V по III в. до н. э., происходит становление первых научных программ — событие, значение, которого в истории науки трудно переоценить. Эти программы — атомистическая, математическая и континуалистская — связаны с именами трех великих греческих мыслителей — Демокрита, Платона и Аристотеля. Как мы увидим далее, эти программы сыграли важную роль в развитии науки, и не только в античности и в Средние века, но и при переходе к науке Нового времени — вплоть до XVII в.
Глава первая
Научная программа
Левкиппа — Демокрита: атомизм
Атомистическое решение проблемы движения. Один из путей разрешения вопросов, поставленных Зеноном, был предложен Демокритом Ч Демокрит попытался решить во-
1 Демокрит родился около 470—469 г. до н. э., умер в IV в. до н. э. Он был младшим современником Анаксагора и старшим — Сократа. По сообщению Диогена Лаэрция, в своем сочинении «Малый Мирострой» Демокрит «упоминает и воззрения учеников Парменида и Зенона, бывших в его время чрезвычайно популярными, о единстве (бытия)» (Лурье С. Я. Демокрит: Тексты, перевод, исследования. Л., 1970; al, I. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в сокращении: ЛД, номер раздела и фрагмента). Упоминания об учении элеатов в работах
Становление первых научных программ
75
прос о возможности движения, вводя иную, чем у элеатов, предпосылку: не только бытие, но и небытие существует. При этом он мыслил бытие как атомы, а небытие как пустоту.
Демокрит, по-видимому, стремился с помощью учения об атомах предложить также решение парадоксов бесконечности Зенона. В самом деле, в любом теле существует как угодно большое, но конечное число атомов, а потому, казалось бы, должен существовать и объективный предел деления, так что апории «Ахиллес» и «Дихотомия» должны как будто утратить свою силу. Однако демокритовское учение об атомах, как мы покажем ниже, не дает оснований для преодоления парадоксов бесконечности, носящих строго логический характер. Демокрит предложил свое решение, обойдя ту предпосылку, из которой исходил Зенон: он ввел такое упрощение проблемы, которое не допускалось в рамках зеноновой постановки вопроса, однако открывало перспективу обхода возникших здесь трудностей. Если элеаты рассматривали проблемы множественности и движения отвлеченно-теоретически, то теория Демокрита с самого начала была ориентирована на объяснение явлений эмпирического мира. О том, насколько плодотворным был предложенный Демокритом способ рассмотрения природы, свидетельствует дальнейшее развитие науки, в котором программа Демокрита сыграла очень важную роль.
Демокрит уточняет пифагорейское понятие монады 2:
Демокрита, от которых, к сожалению, сохранились только отрывки, приводимые древними авторами, для нас весьма существенны, ибо именно парадоксы Зенона, видимо, оказали существенное влияние на Демокрита.
2 Как сообщает Диоген Лаэрций, Демокрит был учеником пифагорейцев и их последователем. «Считают, как говорил Фра-сил, что Демокрит был последователем пифагорейцев. Он упоминает и самого Пифагора, отзываясь о нем с восхищением в сочинении «Пифагор». Получается впечатление, что все свое учение Демокрит взял у Пифагора; можно было бы думать, что Демокрит был учеником Пифагора, если бы это не противоречило хронологии. По крайней мере, Главк из Регина говорит, что он учился у кого-то из пифагорейцев, а Главк — современник Демокрита. Аполло дор же из Кизика говорит, что он встречался с Филолаем» (ЛД, Cal, 154).
76
Раздел второй
ведь пифагорейцы тоже, как мы помним, исходили из допущения неделимых начал — единиц, но им не был ясен вопрос о том, являются ли эти единицы вещественными элементами, физическими частицами или только математическими точками, не имеющими измерений. А соответственно они не могли поставить и вопрос о природе континуума. В самом деле, если любая линия и ее часть, так же как и любое тело, состоит из этих неделимых единиц неизвестной природы, то неясно также, конечное или бесконечное множество этих единиц составит тот или иной отрезок или тело 3. Ибо если единицы эти — точки «без
У нас нет оснований не доверять этому сообщению. Напротив, Демокрит должен был пройти «курс» пифагорейской науки, чтобы уточнить то понятие «монады», которое имело столь важные последствия для развития науки. Сообщение Диогена Лаэрция указывает более правильный путь для понимания связи Демокрита и пифагореизма, чем тот, о котором говорит Э. Франк. Вот что пишет Франк о связи воззрений пифагорейцев и Демокрита: «Другое воззрение, в особенности характеризующее пифагорейцев, состоит в том, что тела состоят из математических точек, «монад», имеющих положение в пространстве. Это вначале звучит неясно, но станет понятным, если представить себе, что эти точки поставлены на место атомов, что, следовательно, это учение возникло как некоторое продолжение атомизма»* (Frank Е. Plato und die sogenannten Pythagoreer, S. 220).
Такой вывод Франка заранее предопределен тем, что он не признает существования ранних пифагорейцев, предшественников и старших современников Демокрита; как мы уже видели, к пифагорейцам он относит Архита и его учеников, живших в IV в. до н. э. Такая постановка вопроса приводит к искажению исторической перспективы, ибо пифагорейское учение претерпело известную эволюцию на протяжении трех столетий и в нем можно различить как этап «додемокритовский», так и «пос ле демокритовский». Целый ряд исторических свидетельств говорит против концепции Франка — в том числе и приведенный выше отрывок из Диогена Лаэрция.
3 См. в этой связи сообщение Брадвардина: «Некоторые, как, например, Аристотель... считают, что континуум не состоит из атомов, а состоит из частей, делимых бесконечно. Другие же утверждают, что он состоит из неделимых, причем они разделяются на две группы. Демокрит полагает, что континуум состоит из неделимых тел, а другие, что он состоит из точек. Последние также разделяются на две группы: Пифагор, основатель этой школы, и Платон... считают, что континуум состоит из конечного числа неделимых, другие же полагают, что из бесконечного» (ЛД, Вв1, 116).
Становление первых научных программ
77
частей», то даже бесконечное множество их не образует величины, если же они — не математические точки, а физические «камешки», то в теле определенной величины их может быть большое, но конечное число.
Парадоксы Зенона как раз и выявили эту проблему. И теперь Демокрит, уточняя пифагорейское понятие единицы, приходит к выводу, что «единицу» надо мыслить как физическое тело очень малых, но конечных размеров. В этом случае любой отрезок линии, так же как и любое тело трех измерений, может состоять из очень большого, но всегда конечного числа неделимых физических «монад» («единиц») — атомов.
Многие историки науки полагают, что принцип атомизма направлен против положения Анаксагора о неограниченной делимости вещей. Такую точку зрения высказывает, в частности, В. Лейнфельнер. «Усилия атомистов,— пишет он,— направлены против основной аксиомы Анаксагора, согласно которой все вещи неограниченно делимы. Из единств, которые, так сказать, постоянно разламываются, раскалываются, не может быть построено никакое тело; должны существовать минимальные единства неделимого характера. Агрегация, как и диссоциация, требует минимальных неделимых частиц, атомов» 4.
Вопрос, однако, осложняется тем, что учение Анаксагора о «семенах» (зтсер[лаш) имеет также и ряд общих моментов с теорией атомистов, так что можно рассматривать его как комплементарное по отношению к атомистике Левкиппа — Демокрита 5. Не случайно возник спор относительно того, кто на кого оказал влияние: Левкипп ли на Анаксагора или же Анаксагор на Демокрита6.
Мы не можем входить в детали этого спора; независимо от того, выступал ли Демокрит как критик Анаксагора, или же он заимствовал у Анаксагора некоторые аспекты его учения о «семенах», отвергая другие аспекты этого учения, цель его состояла в том, чтобы разрабо
4 Leinfellner W. Die Entstehung der Theorie, S. 46.
5 На комплементарный характер теории Анаксагора по отношению к демокритовской указывал П. Таннери. См.: Т аннери П. Первые шаги древнегреческой науки, с. 273—286.
6 История этого вопроса детально исследована И. Д. Рожанским. См.: Романский И. Д. Анаксагор, с. 160—171.
78
Раздел второй
тать такое учение о структуре континуума, которое избегало бы противоречий, указанных Зеноном, и уточняло бы пифагорейское представление о «монаде».
И, наконец, еще один, последний, вопрос исторического характера. Как известно, Демокрит был не первым, кто выдвинул учение об атомах; его предшественником ~был Левкипп, живший предположительно с 500 по 440 г. до н. э. и бывший современником Пифагора, Парменида, Зенона, Анаксагора. Но вопрос о Левкиппе сам по себе очень сложен и запутан 7.
Имеется, однако, важное свидетельство Аристотеля относительно теоретических источников возникновения атомизма в целом, в том числе и атомизма Левкиппа. Оно не противоречит нашему предположению относительно того, что атомисты развили свое учение, чтобы избежать противоречий, указанных элеатами. К тому же, это свидетельство Аристотеля проливает дополнительный свет на рассматриваемую нами ситуацию в науке V в. до н. э., поэтому мы и приводим его здесь. «Наиболее методически,— пишет Аристотель в работе «О возникновении и уничтожении»,—построили свою теорию, руководствуясь одним общим принципом при объяснении явлений, Левкипп и Демокрит, исходя из того, что сообразно природе, какова она есть. Некоторые из древних полагали, что необходимо (логически), чтобы бытие было едино и неподвижно. Ибо пустота не существует, а при отсутствии отдельной пустоты невозможно движение, равно как и не может быть многих предметов, если отсутствует то, что отделяло бы их друг от друга... Исходя из таких рассуждений, некоторые (ученые) вышли за пределы ощущений и пренебрегли ими, так как считали, что нужно следовать разуму. Поэтому они говорят, что целое едино ^и непо
7 По сообщению Диогена Лаэртского, Эпикур вообще отрицал существование Левкиппа (см.: Маковелъский А. О. Древнегреческие атомисты. Баку, 1946, с. 200), и исследователи до сих пор не пришли к единому мнению даже в вопросе о его существовании; большие трудности возникают также при попытке отграничить то, что сделал Левкипп, от более развитого учения Демокрита. Не случайно «Загадкой Левкиппа» назвал И. Д. Ро-жанский раздел, где речь идет о первом греческом атомисте. См.: Рожанский И. Д. Анаксагор, с. 161—162.
Становление первых научных программ
79
движно... Заметим, что с логической точки зрения все это последовательно, но с точки зрения фактов такой взгляд похож на бред сумасшедшего. Левкипп же был убежден, что у него есть теория, которая, исходя из доводов, согласных с чувствами (в то же время) не сделает невозможным ни возникновение, ни уничтожение, ни движение, ни множественность вещей. Признав все это в согласии с явлениями, он в согласии с теми, кто доказывает единство (целого), признал, что движение невозможно без пустоты, а пустота — это несуществующее, однако, ничуть не менее реальное, чем существующее, но то, что существует в прямом смысле слова, является наполненным. Тем не менее подобная вещь не едина, а представляет собой бесконечные по числу (частицы), невидимые, вследствие малости каждой из них. Эти частицы носятся в пустоте, ибо пустота существует; соединяясь, они приводят к возникновению (вещей), а разъединяясь, к уничтожению» 8.
Как видим, Аристотель связывает появление атомизма — и не только Демокрита, но и Левкиппа — с критикой учения элеатов; чтобы возможно было мыслить движение, возникновение и уничтожение вещей, Левкипп и Демокрит допустили существование неделимых частиц — атомов — и пустоты, в которой движутся атомы и без которой они немыслимы.
Атомизм, таким образом, возникает отнюдь не в результате эмпирических наблюдений (например, движения мельчайших пылинок в солнечном луче), а в результате развития определенных теоретических понятий. Эмпирические наблюдения привлекаются уже потом, в целях демонстрации, и играют роль наглядных моделей атомистической теории. «Учение Демокрита,— пишет Э. Кассирер,— возникло не благодаря ослаблению, а, напротив, благодаря усилению строгих понятийных требований элеатов, благодаря их более точному проведению и их более последовательному применению к явлениям 9. Он пытается восстановить не непосредственный чувственный мир — последний резче, чем когда-либо раньше, ха
8 ЛД, Cal, 146.
9 О применении понятий атомизма к явлениям дело обстоит сложнее.
80
Раздел второй
рактеризуется как продукт неистинного познания, бхотса уусорл)10: он познает и представляет в твердых логических очертаниях все общее понятие опыта и эмпирического бытия» 11.
В этом смысле учение атомистов — это дальнейший шаг на пути освобождения научного мышления от мифологических представлений; раннее пифагорейство, пытаясь все сущее объяснить с помощью чисел, в гораздо боль-щей степени привлекало на помощь числам мифологические образы, чем это делали элеаты, а тем более атомисты. Однако при этом у всех философов и ученых досократиче-ского периода (за исключением, может быть, элеатов, да и то только отчасти) есть одна общая черта: отсутствие логической рефлексии по поводу своих научно-теоретических построений. Эту их особенность отмечает и Э. Кассирер: «Однако при всей свободе и широте взгляда... все до сих пор пройденные фазы (Кассирер имеет в виду греческую философию до Сократа. — П. Г.) характеризуются общей связывающей их границей. Все они превращают содержание бытия в содержание мышления; но их внимание при этом направлено только на продукт, а не на процесс этого преобразования. Функция чистого понятийного мышления еще полностью скрывается за ее результатами и еще не достигает обособленного, сознательного определения» 12.
Действительно, ни у пифагорейцев, ни у атомистов мы не находим сознательно производимой рефлексии по поводу тех научных и философских понятий, с помощью которых они хотят обрести истинное знание о мире. Есть, правда, вполне осознанное различение истинного знания и ложного и вполне последовательное отделение тех путей, посредством которых обретается истинное знание, от путей «мнения», «темного знания». Но никогда (даже у элеатов) не подвергается специальному анализу тот процесс, благодаря которому открывается этот самый «путь истины».
10 SxoTta qfvwpiv) — темное знание (греч.).
11 Cassirer Е. Erkenntnisproblem in der Pilosophie und Wissen-schaft der neueren Zeit. Berlin, 1906, Bd. I, S. 32—33.
12 Ibid., S. 34.
Становление первых научных программ
81
Атом Демокрита — физическое тело. Рассмотрим теперь ближе понятие атома. Само слово «атом» (dwpio^) образовано от глагола -tepiwo — «резать», «разрезать», «разрубать», «рассекать»; «атом», следовательно, переводится как «неразрезаемое», «нерассекаемое». Он обозначает такое физическое тело, которое в силу его твердости (по некоторым соображениям, также в виду его малости) не может быть разрезано на более мелкие части.
В то же время поскольку атом — это мельчайшее физическое тело, то в нем можно мысленно различить еще более мелкие части. Так, Фемистий сообщает: «Те, которые принимают неделимые, не говорят, что они чрезвычайно малы, поскольку в них находится (нечто), что мысленно допускает (дальнейшее) деление на семь частей: они говорят еще, что это не делится на более мелкие части» 13, «то есть не делится фактически или физически», как поясняет эту последнюю часть отрывка В. П. Зубов 14 15. Что это за семь частей, можно понять из параллельного текста Августина: «Сколь бы мало ни было такое тельце (corpusculum), конечно, оно имеет правую и левую часть, верхнюю и нижнюю, заднюю и переднюю, или, иначе говоря, наружные части и среднюю. Ибо мы должны признать, что это по необходимости должно наличествовать в сколь угодно малой мере тела» 1б.
Допущение этих простейших «частей» необходимо атомистам потому, что иначе атомы превратились бы в неделимые точки, не имеющие частей, и из соединения их тогда не возникали бы тела чувственного мира. Неделимые точки, линии и плоскости, т. е. математические, а не физические единицы, допускали, согласно сообщениям древних авторов, пифагорейцы (возможно, современники Платона) и Платон, а также Ксенократ («неделимые линии»), но они в отличие от атомистов не утверждали, что тела чувственного мира состоят из этих неделимых амер. «Пифагорейцы,— сообщает Сириан,— не составляли вещей
13 ЛД, ВвШ. 123.
14 Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX века. М., 1965, с. 15.
15 Augustinus. De libero arbitrio, II, 8. Цит. по: Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX века,
с. 15.
82
Раздел второй
из амер, как школа Демокрита — из атомов» 16. И еще более определенно тот же Сириан пишет: «Когда же (пифагорейца утверждают), что величина состоит из неделимых (частиц), то они не хотят этим сказать, что атомы, собравшись вместе и будучи как бы прибиты друг к другу, образуют расстояние; такова теория Демокрита, противоречащая геометрии и всем, можно сказать, прочим наукам...» 17. Судя по этому отрывку, Сириан хочет сказать, что пифагорейцы не составляли континуум из неделимых (точек, линий, плоскостей), путем простого сложения (сцепления: «как бы прибиты друг к другу») их, поскольку неделимые пифагорейцев были амерами, т. е. не имели «частей» (измерений), а складывание единиц, лишенных измерений, не даст никакой величины. Другое дело — атомы, физические тельца, имеющие «части» (измерения), и понятно, что атомисты образовывали тела путем «сцепления» атомов, «прибивания» их друг к другу.
Поэтому нам представляется не вполне убедительной точка зрения С. Я. Лурье 18, согласно которой Демокрит допускал два вида атомов: физические атомы и математические амеры; такого рода допущения требуют двух разных методологических предпосылок.
Что же касается тех отрывков из Аристотеля и его комментаторов, которые Лурье приводит в подтверждение своей точки зрения 19, то некоторые из них, например отрывок 116, свидетельствуют как раз о противоположном, а другие, прежде всего отрывки из Аристотеля, имеют несколько иной смысл, чем тот, который в них вкладывает С. Я. Лурье, а именно: Аристотель заявляет, что
16 ЛД, ВвП, 120.
17 ЛД, BbV, 127.
18 Среди историков математики и историков философии до сих пор нет единства в вопросе о так называемом математическом атомизме Демокрита. Некоторые из них разделяют точку зрения С. Я. Лурье (Б. А. Розенфельд, В. Ф. Асмус, Р. А. Аронов, М. Д. Ахундов и др.), остальные не видят оснований для приписывания Демокриту идеи математического атомизма. К ним можно отнести В. П. Зубова, И. Г. Башмакову, Ю. Мау, Д. Ферли. О расхождении исследователей в этом вопросе см.: Ахундов М. Д. Проблема прерывности и непрерывности пространства и времени. М., 1974, с. 24—25.
См.: ЛД, Вв1, 106—116.
Становление первых научных программ
83
предпосылка физического атомизма несовместима с основами математики, ибо допущение атомов как неделимых физических частиц применительно к математике означало бы допущение некоей наименьшей доли неделимой величины, а это ниспровергало бы, по мнению Аристотеля, основы математики. Следовательно, делает он вывод, атомизм должен быть отвергнут, как несовместимый с математикой: «Существует ли какое-либо тело, бесконечное по числу (то есть существует ли бесконечное число тел), как полагала большая часть древних философов? Ведь даже малое отступление от истины в дальнейшем увеличивается в миллион раз, как, например, если кто-нибудь стал бы утверждать, что существует наименьшая величина. Такой человек, введя наименьшую величину, пошатнул бы величайшие (основы) математики» 20. Это место комментирует Симпликий: «Демокрит или всякий другой, кто бы принял за первоначала величайшее множество каких-то малых и неделимых величин, допустил бы тем самым ошибку, ниспровергающую величайшие (основы) геометрии...» 21.
Как нетрудно видеть из приведенных отрывков, Аристотель и Симпликий делают следующее допущение: что будет, если продолжить мысль Демокрита и перевести понятие атома на язык математики? Такое допущение должно, по мысли Аристотеля, быть важным аргументом против атомизма. Интересно, что Курт Лассвиц, знаток Демокрита и автор монографии по истории атомизма, совершенно правильно поняв пафос этого (и некоторых других) отрывков из Аристотеля, вменил последнему в вину, что тот сам незаконно приписал Демокриту то, чего Демокрит не говорил и не мог бы говорить: «Чтобы опровергнуть атомистику, Аристотель сам выдумал математический атомизм, которого Демокрит никогда не выставлял» 22.
Нам представляется, таким образом, что следует отличать атомы Левкиппа — Демокрита как элементарные
20 ЛД, Вв1, 108.
21 ЛД, Вв1, 108.
22 Lasswitz К. Geschichte der Atomistik. Hamburg; Leipzig, 1890, Bd. I. S. 133.
84
Раздел второй
физические тела от «неделимых» пифагорейцев и Платона" Хотя и те и другие ведут свое происхождение от нерасч-лененного и неясного поэтому понятия «монады» ранних пифагорейцев, однако именно благодаря Левкиппу и Демокриту, с одной стороны, и Платону и Ксенократу — с другой, это исходное понятие «единицы» «расщепилось» на физический атом и математическую амеру.
В этом вопросе мы полностью присоединяемся к выводу В. П. Зубова, который пишет в этой связи: «У нас нет достаточных данных утверждать существование у Демокрита представления, будто наряду с физически неделимыми атомами (или, так сказать, внутри них) существуют в качестве их компонентов еще более мелкие неделимые части, или ,,амеры“»23. В том же смысле, что и В. П. Зубов, высказался по этому вопросу также немецкий ученый Ю. Мау 24.
Специально рассмотрел этот вопрос Д. Ферли в своей книге «Два исследования о греческих атомистах» (1967). Первое исследование — «Неделимые величины» как раз посвящено проблеме делимости и непрерывности, и здесь автор приходит совсем к другому выводу, чем С. Я. Лурье. В своей работе Ферли различает делимость физическую и теоретическую. «Мы должны различать два рода деления, — пишет он. — Я называю первый род физическим делением: это деление, при котором прежде соприкасавшиеся (contiguous) части отделяются друг от друга пространственным интервалом. Этому противоположно теоретическое деление: объект является теоретически делимым, если части могут быть разделены в нем умом, даже если эти части не могут быть отделены от других пространственным интервалом» 25. Как видим, физическую делимость Ферли отождествляет с возможностью практически разделить тело на части; теоретическая же делимость означает, что тело может быть мысленно разделено на части,
23 Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала
XIX века. М., 1965, с. 15 (см. также в связи с вопросом об «амерах. с. 16, 82—83).
24 Маи J. Zum Problem des Infinitesimalen bei den antiken Atomi-sten. Berlin, 1957, S. 24.
25 Furley D. J. Two studies in the greek atomists. Princeton; New Jersey, 1967, p. 4.
Становление первых научных программ
85
даже если его и невозможно разделить физически. Однако и при физической делимости (неделимости), и при делимости теоретической речь идет, согласно Ферли, о возможности или невозможности разделить физическое тело. Именно такого рода теоретическую (а не только физическую) неделимость физических тел — атомов, по мнению Ферли, отстаивали Левкипп и Демокрит. Но отсюда еще не следует, подчеркивает он, что Демокрит утверждал также и математический атомизм, т. е. неделимость уже не тел, а пространственных величин. «Математическим атомистом будет тот, кто полностью отрицает бесконечную делимость для всех протяженных величин, т. е. кто утверждает принцип конечной делимости в геометрии. И я не уверен, что Демокрит был математическим атомистом в этом смысле» 26,— говорит Ферли во введении к своей работе. Подробно проанализировав античные свидетельства об атомизме Демокрита, Ферли в заключение констатирует: «Рассмотрение свидетельств подтверждает тот взгляд, что Левкипп и Демокрит были более чем физическими атомистами. Они считали, что их атомы являются неделимыми теоретически, так же как и физически. Но, как я уже отмечал, нет свидетельств о том, что они рассматривали также и пространство как составленное из неделимых минимумов. Я думаю, что последнее было нововведением Эпикура» 27.
Действительно, не случайно столь многие свидетельства древних авторов подчеркивают именно неделимость атомов как физических тел. Причем надо сказать, что в этих свидетельствах очень тесно связываются между собой аргументы в пользу теоретической неделимости атомов (в том смысле, в каком термин «теоретическая» неделимость употребляет Ферли) с аргументами в пользу их физической неделимости, т. е. невозможности «разрезать», «разбить» их на части. Так, по сообщению Лактан-ция, «Демокрит говорит, что они (атомы) так малы, что нет ни одного столь тонкого железного лезвия, которое могло бы их рассечь и разделить, поэтому он и назвал их
26 Ibid., р. 4—5 (курсив мой.— П. Г.).
™ Ibid., р. 101.
86
Раздел второй
„атомами"»28. Аналогичное объяснение встречаем у Аэ-тия: атомы названы так потому, что они «не могут быть разбитыми» 29; «такое тело называется атомом не потому, что оно чрезвычайно мало, а потому, что не может быть разрезано, так как не подвержено воздействию и совсем не заключает в себе пустоты» 30. Невозможность разрезать, разбить атомы объясняется физическими их свойствами: «...атомы неделимы и имеют свое название вследствие несокрушимой твердости» 31. Именно физическое свойство атома — его твердость, плотность — не допускает возможности разделения его на меньшие части. Это свойство атомов — твердость, сплошность их — атомисты объясняют отсутствием в них пустоты. «Они (атомисты.— П. Г.) говорили, что первоначала бесконечны по числу, и считали их атомами, т. е. неделимыми и неподверженными воздействию вследствие того, что они плотны и не заключают никакой пустоты; ибо они говорили, что „деление в телах происходит через пустоту"» 32.
Здесь мы можем видеть, как происходит преобразование раннепифагорейских представлений в атомистические. Пифагору, как известно, приписывали изречение о том, что мир вдыхает пустоту и благодаря этому образуется множество* вещей (потому что множество предполагает разделенность единого и сплошного, а разделяющее начало мыслится как «пустота»). Из сообщения Аристотеля мы уже знаем, что, с точки зрения пифагорейцев, «пустота разграничивает природу чисел» 33. Но если у ранних пифагорейцев это представление о пустоте и «монадах», которые отграничиваются ею друг от друга, еще не носило определенного характера (оно поддавалось в одинаковой мере и физическому, и математическому толкованию), то Демокрит вкладывает в него определенный, а именно физический смысл. Если благодаря наличию в теле пустот его можно делить на части, то пустота — это «щель» в физическом теле. Если «щелей» нет, то тело неделимо. Вот
28
29
30
31
32
33
ЛД, CbIV, с. 218.
ЛД, CbIV, с: 217.
ЛД, CbIV, с. 217.
ЛД, CbIV, с. 219.
ЛД., CbIV, с. 214.
Физика, IV, 6/Пер. С. Я. Лурье
(см. выше, с. 44 — сноска).
Становление первых научных программ
87
почему «деление в телах происходит благодаря пустоте». Что пустота трактуется именно физически и что физическое ее значение у атомистов является основным, исходным, можно видеть также из сообщения Аристотеля 34 *. Без допущения пустоты внутри тел невозможно понять, как происходит разрежение и сгущение, разрыхление и уплотнение, т. е. простейшие из наблюдаемых в природе процессов.
Атом, согласно Демокриту, не содержит в себе пустоты, а потому он неизменяем по своей природе: его нельзя ни разрезать, пи уплотнить, ни «разрыхлить», он не может стать ни больше, ни меньше себя, не может ни гибнуть, ни возникать, он вечен и неизменен, а стало быть, имеет почти все атрибуты, которыми Парменид наделил бытие. Почти — потому, что, помимо бытия, атомисты допускают существование небытия; небытию, как и бытию, они дают физическую интерпретацию. Небытие — это пустота; она разграничивает бытие, а потому оно предстает как множественное — атомов много. И благодаря наличию небытия бытие приобретает атрибут, который за ним отрицал Парменид: движение. Если бытие у элеатов неподвижно, то «бытия» атомистов движутся непрерывно. И этим их движением атомисты объясняют те свойства чувственного мира, которые элеаты объявили пустой видимостью: изменчивость всех предметов и явлений чувственного мира.
Атом имеет еще одну существенную характеристику: он непроницаем. Как говорит Аристотель, атомы Левкиппа и Демокрита — это «полное» — в том смысле, что на одном месте не могут совместиться, «совпасть» два атома. В отличие от атомов пустота «проницаема». Непрони
34 «Люди склоняются к тому, что пустота — это промежуток, в котором нет никакого, доступного чувствам тела. Считая, что все существующее есть тело, они называют пустотой то, в чем не находится совершенно ничего» (Физика, IV, 6). Один из способов, каким доказывают существование пустоты, состоит, как указывает Аристотель, в возможности уплотнять рыхлое. «...Другой (способ доказательства существования пустоты.— П. Г.) сводится к тому, что некоторые предметы сжимаются и
сдавливаются, например, что бочки, как они говорят, вмещают в себя вино вместе с мешками, как если бы уплотняющееся тело входило в имеющиеся пустоты» (Физика, IV, 6).
88
Раздел второй
цаемость атомов, как и их неделимость,— это характеристика их как «субстанциальных начал» природы.
Все физические процессы в мире атомисты стремятся объяснить исходя из свойств атомов. Характер этих объяснений опять-таки позволяет видеть, что атомы мыслятся ими как физические тела. Так, образование видимых физических тел объясняется сцеплением атомов 35, скреплением их. Это «сцепление», о чем свидетельствует уже и сам термин (етсаХХа^;), носит чисто механический характер. Атомы, «сталкиваясь, скрепляются друг с другом», пишет Цицерон 36. Никакого дополнительного объяснения атомисты не предлагают. «Что говорит Демокрит? — читаем у Плутарха. — Субстанции, беспредельные по числу, неделимые и не имеющие различий, кроме того, не воздействующие на других и не поддающиеся воздействию, носятся, рассеянные в пустоте. Когда же они приближаются друг к другу или наскакивают или зацепляются друг за друга, то из этих сборищ атомов одно кажется водой, дру« гое — огнем, третье — растением, четвертое — человеком» 37.
Учение Демокрита, таким образом, представляет собой механическое объяснение природных процессов. Механические элементы в объяснении явлений физического мира мы находим и у более ранних «физиков» — Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена, Эмпедокла, но ни у кого из них нет такой последовательности в этом отношении, какую мы видим у Демокрита. Часто можно видеть, как чисто «физическое» объяснение неожиданно оборачивается метафорой или же заменяется объяснением другого рода, как, например, принципы «любовь» и «вражда» Эмпедокла. В отличие от этих натурфилософов учение Демокрита являет собой первую продуманную концепцию механического объяснения природы, и в этом состоит его
36 «Он (Демокрит.— П. Г.) считает, что они сцеплены друг с другом и пребывают неизменно вместе лишь до тех пор, пока какая-нибудь более сильная необходимость, присоединившаяся из окружающего мира, не разбросает и не рассеет их в разные стороны» (ЛД, Дв1, 293). «...Все рождается путем сплочения и сцепления (етсаЛХа^с) этих первотел» (ЛД, Дв1, 292).
36 ЛД, Gall, 180. 3? ЛД, Call, 179.
Становление первых научных программ
89
непреходящее значение. «Системы Левкиппа и Демокрита,— пишет Лейнфельнер,— до сегодняшнего дня оставались образцом для всех механистических систем в противоположность, например, полудетерминистической системе Эпикура» 38.
Как видим, для появления этой механистической модели строения мира необходимо было уже весьма развитое теоретическое мышление, прошедшее не только школу ранней пифагорейской математики и «физики» натурфилософов, но и логическую школу Парменида — Зенона. Атомизм Левкиппа — Демокрита в качестве своего условия предполагает сознательное и последовательно проводимое различение физического и нефизического — различение, о котором еще не задумывались по-настоящему ни ранние пифагорейцы, ни первые «физики». К осознанию этого различия, к необходимости давать себе отчет в своих понятиях, чтобы не подменять их метафорами, подвела атомистов, как мы думаем, не в последнюю очередь диалектика Зенона. Несколько огрубляя, можно было бы сказать, что критика Зенона заставила пифагорейцев «выбрать» одно из значений «числа», и Демокрит «выбрал» физическое значение. На место логически непроясненного пифагорейского понятия «математические тела» 39 у Демокрита встает понятие физического тела-атома.
Итак, все сущее образуется из атомов, неизменных, вечных, находящихся в постоянном движении. Они бесконечны по числу 40 и соответственно заполняют пространство (пустоту), бесконечную по величине. Как говорит Симпликий, «Демокрит считает природой вечного маленькие сущности, бесконечнее по числу. Кроме них, он принимает и пространство, бесконечное по величине. Это пространство он называет такими именами: „пустота44, „нуль44, (оббеу), „бесконечное44, а каждую из сущностей -„уль44 (6ev), „плотное", „существующее44» 41.
38 Leinfellner W. Die Entstehung der Theorie, S. 47.
39 См. отрывок из «Метафизики» Теофраста, где речь идет о «математических телах» пифагорейцев (ЛД, Call, 175).
40 «...Он же (Левкипп.— П. Г.) принял, что атомы — бесконечные по числу и вечно движущиеся элементы...» (ЛД, СЫ, 147).
41 ЛД, СЫ1, 172.
90
Раздел второй
Для того чтобы из атомов и пустоты объяснить все многообразие эмпирического мира, Демокрит вводит дополнительную характеристику атомов: они различаются сами по себе формой и величиной 42 *, а их соединения — положением и порядком атомов, из которых они состоят. Именно положение и порядок атомов должны, по убеждению Демокрита, объяснять различные чувственные качества тел эпирического мира.
Филопон в комментарии к работе Аристотеля «О возникновении и уничтожении» следующим образом излагает эту сторону учения Демокрита: «Аристотель говорит, что сложные тела, по Демокриту, отличаются друг от друга в трех отношениях. Во-первых, тем, что они состоят из атомов, различных по форме; такой смысл имеет его выражение „тем, из чего они состоят44. Ведь огонь и земля состоят не из одинаковых атомов, но огонь состоит из шарообразных атомов, а земля — не из таких, а, например, из кубических. Но, продолжает он, сложные тела отличаются друг от друга еще положением и порядком атомов. Ведь часто два каких-нибудь тела составлены из одних и тех же атомов, тогда разница между ними будет иметь причиной порядок атомов, например в одном теле будут первыми помещаться шарообразные атомы, а последними — пирамидальные, в другом же наоборот — первыми пирамидальные, а последними — шарообразные, как, например, в слогах QS и SQ. Так что порядок одних и тех же букв является причиной разницы. Равным образом разница между сложными телами может иметь причиной и положение атомов, если (те же атомы) находятся в одном случае в лежачем положении, в другом — в стоя
42 Некоторые авторы говорят, что атомисты различали атомы только по форме; другие — что и по величине. Так, Симпликий пишет: «Демокрит считает, что природа вечного... это малые субстанции... Они имеют самый различный вид и самые различные формы и всевозможные различия по величине» (ЛД, СвШ, 204). По свидетельству Аэтия, «Демокрит утверждает... что может существовать- и атом, величиной равный всему нашему миру» (ЛД, СвШ, 207). Г. Дильс считал это свидетельство недостоверным; напротив, С. Я. Лурье считает, что этому и другим такого рода свидетельствам следует доверять (ЛД, СвШ, с. 464). О раз-
личной величине атомов см. также: ЛД, СвШ, 208, 210; CbV,
230.
Становление первых научных программ
91
чем, в третьем — вверх ногами. Так, буквы Z и N или Г и Л отличаются только положением. При этом надо иметь в виду, что из эти*х трех видов различий первое, при котором тело состоит из тех, а не из иных атомов, делает сложные тела другими и совершенно разнородными, а различие в положении и порядке атомов делает их не различными телами, а лишь видоизменениями (одного и того же тела)» 43.
Характеристика атомов по форме тоже указывает на физический смысл понятия «атом»; атомы имеют бесконечное множество форм (чем, кстати, отличаются от «форм» неделимых у пифагорейцев и Платона) 44. Атомисты указывают как правильные (геометрические) формы — шарообразные, кубические, пирамидальные, так и неправильные: «...одни из них кривые, другие якореобразные, одни вогнутые, другие выпуклые, третьи имеют другие бесчисленные различия» 45. Наконец, как сообщает Цицерон, атомы могут быть «одни шероховатые, другие округленные, частью же угловатые или с крючками, некоторые же искривленные и как бы изогнутые» 46. Совершенно очевидно, что формы атомов объясняют механику их «сцепления» («якореобразные», «с крючками») и позволяют увидеть существенное различие между физическим атомизмом Левкиппа — Демокрита и математическим атомизмом пифагорейцев и Платона.
Этот ярко выраженный физический характер атомистической теории хорошо понимал Аристотель. Он отличал атомы Демокрита от неделимых монад Платона и платоников, подчеркивая, что атомисты рассуждают как физики, а платоники — как логики. Ввиду важности этого рассуждения Аристотеля мы приводим его здесь. «...Если существуют неделимые величины, то есть ли это тела, как полагают Демокрит и Левкипп, или плоскости, как
43 ЛД, Cell, 240.
44 Вот свидетельство Аристотеля: «...неделимыми у Левкиппа являются тела, у Платона — плоскости; при этом Левкипп утверждает, что каждое из его неделимых тел характеризуется особой формой, причем число этих форм бесконечно, а по Пла-тому, число их ограниченно» (ЛД, СвУ, 212).
45 ЛД, СвУ, 227.
46 ЛД, СвУ, 226. ’
92
Раздел второй
(говорится) в «Тимее»? Этот прием деления вплоть до плоскостей, как мы уже говорили в другом месте, нелеп: поэтому логичнее, чтобы неделимыми были тела... Причина того, что (считающие неделимыми плоскости) хуже умеют подвергнуть исследованию общепринятые (взгляды), их неопытность. Вот почему те, которые более понаторели в естественнонаучных изысканиях (Демокрит и Левкипп), с большим искусством кладут в основу (исследования) такие начала, которые могут дать единое, связное объяснение большому числу явлений»47. Аристотель, как видно отсюда, считает, что Левкипп и Демокрит вводят понятие атома для объяснения явлений природного, физического мира, основываясь при этом на большом естественнонаучном опыте. Они работают при этом как физики в отличие от школы Платона, которая, как известно, мало обращалась к изучению физического мира, а предавалась логическим и математическим исследованиям. В результате аргументы, требовавшие допущения неделимых, были в этих школах разными: у атомистов — от физики, у платоников — от логики и математики. Платоники, говорит Аристотель, «обильно предаваясь рассуждениям и потому оставаясь в стороне от наблюдения над существующим, высказывают легкомысленные* суждения на основании наблюдения над немногими (явлениями). И на (разбираемом) здесь (примере) можно видеть, насколько отличаются рассуждающие естественнонаучно от рассуждающих чисто логически: так, говоря о существовании неделимых величин, те (платоники) говорят, (что их необходимо постулировать) так как (иначе неделимая) идея треугольника станет множеством. Относительно же Демокрита можно убедиться, что он опирался на специфические (для данного вопроса) и естественнонаучные рассуждения» 48.
Здесь мы видим предпочтение самого Аристотеля, который в отличие от Платона, убежденного, что истинное знание может быть лишь знанием идей, считает возможной также и физику — науку об эмпирическом мире, о природе. Но нам сейчас важно не это: независимо
47 ЛД, Сс1, 101 (курсив мой.— П. Г.).
48 Там же.
Становление первых научных программ
93
от предпочтений самого Аристотеля он в общем верно указал ту область, объяснительную модель которой хочет предложить атомизм: это природа, мир эмпирических явлений и процессов. Атомисты, говорит Аристотель, опираются на естественнонаучный опыт (разумеется, специфический: естественнонаучный опыт своего времени), а платоники — на опыт логический.
К своей точке зрения Демокрит, согласно Аристотелю, пришел на основании «естественнонаучных соображений» 49, и потому его «объяснительная гипотеза» (т. е. атомы и пустота) гораздо плодотворнее для физики, чем учение о неделимых линиях Платона.
Характерные особенности научной программы атомистов. Итак, специфическая особенность научной программы атомистов состоит, во-первых, в том, что эта программа — физическая. Наука, как ее понимает Демокрит, должна объяснить явления физического мира. В этом отношении Демокрита вполне можно отнести к досократи-кам — «физикам».
Во-вторых, само объяснение физического мира понимается атомистами как указание на механические причины всех возможных изменений в природе. Все изменения в качестве своей причины имеют в конечном счете движение атомов, их соединение и разъединение, причем чувственно воспринимаемые качества эмпирических предметов (теплота и холод, гладкость и шероховатость, цвет, запах и т. д.) объясняются только формой, порядком и положением атомов.
В-третьих, объясняющий принцип (атомы и пустота) и долженствующий быть объясненным объект (эмпирический мир) существенно отделены: атомы — это то, что невозможно видеть, их можно только мыслить. Правда, как поясняет Демокрит, они невидимы «из-за их малости» 50, но, как мы знаем, у Демокрита было весьма де
49 ЛД, Ва, 105.
«Атомами они (Левкипп, Демокрит и Эпикур.— П. Г.) называли некие тела, невидимые из-за малой величины и неделимые из-за твердости...» (ЛД, СвП, 200) «...Те первотела невидимы из-за чрезвычайной малости...» (Там же; см. также: ЛД, Cal, 146) Этот момент весьма важен: атомы неделимы из-за твердости (т. е. по физической причине), а невидимы — из-за малости. Значит,
94
Раздел второй
тально разработано учение, позволяющее принципиально отделить мир эмпирический (как мир субъективного восприятия) и мир истинно существующий (объективного знания).
В-четвертых, специфической чертой атомизма как научной программы является наглядность объясняющей модели. Хотя то, что происходит по истине (движение атомов в пустоте), отличается от нашего субъективного «мнения», т. е. того, что мы воспринимаем с помощью органов чувств, но, несмотря на это, сами атомы, их форма, порядок, их движение («носятся» в пустоте), их соединения не просто мыслятся нами, но и представляются вполне наглядно. Мы в состоянии видеть как бы оба мира одновременно: «качественный» мир чувственного опыта, звучащий, окрашенный и т. д., и мир движущегося множества атомов — не случайно атомисты ссылались на «движение пылинок в луче света» как на наглядный образ движения атомов 51.
Этот наглядный характер атомистической объясняющей гипотезы оказался одним из важных ее преимуществ, заставлявших многих ученых (и не только в древности, но и в новое время) обращаться к атомизму в поисках наглядной .модели для объяснения физических явлений б2.
нельзя считать, что атомы неделимы из-за «малости», т. е. что они неделимы потому, что не имеют частей. Последний аргумент — математический: не имеющее частей не имеет величины, а потому его нельзя разделить в силу логических, а не физических соображений. Атомы же Демокрита — ив этом сходится большинство свидетельств — имеют величину, хотя и очень малую; неделимы же они не из-за малости, а из-за твердости, плотности, сплошности,— из-за того, что в них нет «пустот» («щелей»).
«В основу этого учения (Демокрита.— П. Г.) положены атомы— некие мелкие тельца, подобные тем пылинкам, которые наблюдаются в луче, пропускаемом через окно. Не эти пылинки Демокрит считал элементами, но подобные им по своей малости (тельца), состоящие все из одной и той же субстанции, но отличающиеся друг от друга величиной и формой. Из них, как из семян, возникают все сложные тела» (ЛД, Св11, 200).
&2 В этом отношении показателен пример Ньютона. Несмотря на свой принцип «Hypothesis non fingo» («Гипотез не выдумываю»), английский физик неоднократно прибегал к атомизму (он, правда, предпочитал термин «корпускулы», уклоняясь от вопроса
Становление первых научных программ
95
В-пятых, важной особенностью объяснительной теории атомистов является то, что их теоретическая модель непосредственно соотносится с эмпирическими явлениями, которые она призвана объяснить. Между теоретическим и эмпирическим уровнями нет никаких посредствующих звеньев. Именно этот момент имеет в виду Лейнфельнер, когда говорит, что атомистическая теория не предложила удовлетворительного объяснения движения бз.
Шагом вперед по сравнению с атомистической физикой является физика Аристотеля, впервые попытавшегося дать понятийный аппарат для определения движения; но и аристотелевская теория движения, как мы увидим, страдает, хотя и в меньшей мере, тем же недостатком, что и атомизм: теоретические конструкции она непосредственно соотносит с эмпирическими явлениями. Правда, если взглянуть на это исторически, не соотнося понятий античной науки с конструкциями науки нового времени, то можно заметить, что античная наука ставила перед собой несколько иные задачи, чем физика XVII или XIX в., и в соответствии с этими задачами она создавала свои теоретические конструкции.
Нам здесь важно, однако, отметить значение атомистической теории с точки зрения эволюции науки. Несмотря на то что атомистическое учение, как оно сложилось в V в. до н. Ъ., не могло дать удовлетворительного объяснения движения, значение его для науки трудно переоценить. Это была первая в истории мысли теоретическая программа, последовательно и продуманно выдвигавшая методологический принцип, требовавший объяснить целое как сумму отдельных составляющих его частей — индиви-
о «неделимости» атомов) как гипотезе, имеющей преимущество наглядности и удовлетворяющей требованиям механического объяснения, которым Ньютон всегда старался следовать. Об этом см. интересную статью: Вавилов С. И. Эфир, свет и вещество в физике Ньютона.— В кн.: Исаак Ньютон: К трехсотлетию со дня рождения. М., Л., 1934, с. 33—52.
63 «В рамках демокритовской атомистической модели,— пишет Лейнфельнер,— тоже нет удовлетворительного объяснения движения, несмотря на допущение пустого пространства. Скорее движение вводится в систему как основное допущение и, как и у Гераклита, сводится к наблюдаемому в опыте становлению» (Leinjellner W. Die Entstehung der Theorie, S. 50).
96
Раздел второй
дуумов. «Индивидуум» («неделимый») — буквальный перевод на латинский язык греческого слова «атом». Объяснять структуру целого, исходя из формы, порядка и положения составляющих это целое индивидуумов,— такая программа легла в основу целого ряда не только физических теорий древности и нового времени, но и многих психологических и социологических доктрин. Атомисты разработали метод, который мог быть применен — и неоднократно применялся — ко всем возможным областям как природного, так и человеческого бытия. Этот метод можно назвать механистическим: механическое соединение индивидуумов должно объяснить сущность природных процессов. Только будучи последовательно продуман и последовательно проведен, этот метод позволяет выявить как свою эвристическую силу, так и свои границы.
Характерной особенностью античного атомизма как метода «собирания целого из частей» является то, что при этом целое не мыслится как нечто действительно единое, имеющее свою особую специфику, не сводимую к специфике составляющих его элементов. Оно мыслится как составное, а не как целое в собственном смысле этого слова 54.
54 Трудно согласиться в этом вопросе с точкой зрения А. Ф. Лосева, который считает, что атомизм Демокрита находится «в полном противоречии со всяким механицизмом, для которого целое не представляет собой ничего нового в сравнении с частями, его составляющими. Механицист считает возможным живую природу получить из неживой путем простой комбинации этой последней...» (Лосев А . Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963, с. 439—440). Демокрит, как можно видеть из множества фрагментов, именно и утверждает, что все, существующее в мире,— и живое и неживое — возникает как результат движения атомов в пустоте и их комбинаций. Вот как поясняет Симпликий точку зрения атомизма на образование целого из частей: «Из них (из атомов) как из элементов Демокрит рождает уже и образует путем соединения видимые глазом и доступные чувствам тела. Они вступают в столкновения между собой и носятся в пустоте вследствие несходства и других указанных выше различий; носясь таким образом, они сталкиваются и образуют такого рода переплетение, что оно вынуждает их касаться друг друга и находиться вблизи друг от друга, но тем не менее не рождает из них никакой в истинном смысле единой природы. Ведь, по его мнению, совершенно нелепо допускать-чтобы то, что было двумя или многими телами, стало когда, нибудъ одним. Причину того, что первосущности некоторое вре-
Становление первых научных программ
97
Вот что сообщает об этом Симпликий: «Они (Левкипп и Демокрит.— П. Г.) утверждали, что «из единого не может стать многое», ибо атом неделим, и что «из многого не может стать единое», то есть поистине непрерывное, но что каждая (вещь только) кажется единой вследствие соединения атомов»55. Согласно Демокриту, скопления (сцепления) атомов только кажутся некоторыми единствами, целостностями (вещами) нашему субъективному восприятию; объективно же они остаются чисто механическими соединениями, «ибо, по его (Демокрита.— П. Г.) мнению, совершенно нелепо, чтобы две или еще большее число (вещей) стали когда-либо единой (вещью)» 56. Таким образом, все явления эмпирического мира, по Демокриту, суть лишь агрегаты, соединения атомов.
Действительными единствами являются только атомы; все же остальное, что мы находим в эмпирическом мире,— в том числе как в неорганической, так и в органической природе — обладает лишь мнимым единством, видимостью единства б7. Вот почему в атомистическом
мя пребывают неизменно вместе друг с другом, он видит в сцеплении и сплетении тел. Ведь одни из них изогнутые, другие якореобразные, третьи вогнутые, четвертые выпуклые, а другие имеют еще и иные бесчисленные различия. Он считает, что они сцеплены друг с другом и пребывают неизменно вместе лишь до тех пор, пока какая-нибудь более сильная необходимость, присоединившаяся из окружающего мира, не разбросает их и не рассеет в разные стороны» (ЛД, Дв1, 293; курсив мой.— IT. Г.). Что же касается впечатления единства и качественности, которые мы получаем от тел чувственного мира, то оно, по Демокргь ту, есть лишь субъективное, лишь мнение, объективно же существуют атомы и пустота: «Сладкое только считается таким, горькое только считается таким, теплое только считается таким, холодное только считается таким, цвет только считается таким, в действительности же — атомы и пустота» (ЛД, Ав1, 55).
66 ЛД, AaVII, 47.
66 Там же.
67 На эту специфическую особенность атомизма обращает внимание также В. П. Зубов. Рассматривая вопрос о том, как понимали атомисты «миксис», Зубов считает, что этот термин лучше всего переводить как «сложное тело». Он пишет: «По Демокриту, сложные компоненты «миксис» сохраняют свою природу при своем сочетании, входят в нее, как таковые...» (Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX века, с. 50). Демокрит, стало быть, не признает качественного своеобразия новообразования (миксис), почему его и критикуют Пла-
4 П. П. Гайденко
98
Раздел второй
учении так важно различение истинного, действительно сущего, с одной стороны, и мнимого, только субъективного — с другой. В этом отношении опять-таки обнаруживается общность исходных посылок атомистов и элеатов: в школе элеатов с большой настойчивостью проводится тезис о принципиальном отличии истинного бытия от мира видимости, иллюзии, каким оказывается чувственный мир: «Демокрит говорит, что ни одно из чувственно воспринимаемых качеств не существует как субстанция, но воспринимаемое чувствами — только обман чувств. В вещах, существующих вне нас, нет ничего ни сладкого, ни горького, ни теплого, ни холодного, ни белого, ни черного, как и ничего другого из того, что всем представляется. Все это только название наших ощущений» и.
Последовательно проводимое разделение действительного бытия мира, как он существует объективно, и мира субъективного, каким является чувственный мир,— еще одна существенная черта программы атомистов. Какую бы из последующих форм атомизма мы ни рассмотрели, всякий раз мы увидим ту же разделенность мира на объективный и субъективный. В XVII—XVIII вв. это различение отлилось й форму учения о первичных и вторичных качествах, теоретические предпосылки которого вполне справедливо видеть в древнем атомизме Левкиппа и Демокрита б9.
Однако было бы неправильно на этом основании сближать теорию познания атомистов со скептицизмом: Демокрит отрицает достоверность чувственного знания, но отнюдь не знания вообще. Он твердо убежден, что ис-
тон и Аристотель. «Обе атомистические концепции «миксис» (Зубов имеет в виду концепции Демокрита и Эпикура) были неприемлемы для Аристотеля. Почему? Прежде всего потому, что они не принимали во внимание качественное своеобразие получающегося сложного целого» (там же).
58 ЛД, Ав1, 57.
г,Б9 Разумеется, нельзя целиком отождествлять атомизм Левкип-па — Демокрита,'и'уж^тем более Эпикура, с атомизмом ново-
"го времени. В каждую из больших исторических эпох атомистическая научная программа приобретала новые черты. Но исход-
Тные принципы Демокрита тем не менее сохранились вплоть до 'XIX в.
Становление первых научных программ
99
тинная действительность постигается с помощью мышления 60. Позиция Демокрита, таким образом, должна быть охарактеризована как рационалистическая: показания чувств не могут вывести нас за пределы «незаконнорожденной мысли», за пределы сферы «мнения».
Демокрит, конечно, стремился объяснить также и чувственные качества вещей (их цвет, вкус, твердость или мягкость, теплоту и т. д.) определенной формой, порядком и положением атомов; в этом отношении он также предвосхищает все последующие варианты атомизма, создавая объяснительную модель, которая сохраняет свое значение для естествознания на протяжении более чем двух тысячелетий. Но при этом объяснении характера чувственных качеств вещей исходя из свойств атомов важным моментом остается принципиальная разнородность объясняемого свойства и объясняющего принципа. Тому, что воспринимается нами субъективно как сладкое, твердое, красное и т. д., в самом объекте соответствует нечто инопорядковое — не имеющее ни цвета, ни вкуса, ни другого чувственного качества, а только форма атомов (круглые, заостренные и пр.) и их порядок 61.
Большое эвристическое значение научной программы атомизма состояло в том, что она была проведена ее создателями с максимально возможной последовательностью; Демокрит не останавливался ни перед какими, даже самыми парадоксальными, выводами, если только они логически вытекали из его атомистического механицизма.
Вполне естественно критиковать то или иное научное направление за его односторонность; однако односторонность — это не только недостаток, но и большое преимущество: она позволяет до конца продумать определенную теоретическую предпосылку и исчерпать все те эвристические возможности, которые открывает эта предпосыл-
80 «Демокрит, последователем которого был в большей части вопросов Эпикур, считал началом всего неделимые тела, постигаемые только мыслью» (ЛД, СвШ, 209).
61 «Точно так же белое, сладкое, благовонное и всякое другое из чувственно воспринимаемых вещей, по мнению последователей Демокрита, не отличаются друг от друга ничем другим, кроме форм, величин, гладкости и шероховатости»,— пишет Александр Афродизийский в комментарии к Аристотелю (ЛД, Eall, 428).
4*
100
Раздел второй
ка. Идти до конца в проведении своего научного принципа, не отступая перед возможными парадоксальными следствиями его,— такая позиция требует от ученого, помимо научной добросовестности, также и большого мужества. То обстоятельство, что к механистическим методам объяснения природы, предложенным атомизмом, естествоиспытатели обращались на протяжении более двух тысячелетий, обусловлено как плодотворностью «объяснительной гипотезы» атомистов, так и ее «святой односторонностью», бесстрашием ее творцов в последовательном проведении до конца своих исходных постулатов 62.
Как справедливо отмечает В. Ф. Асмус, «в учении атомистического материализма соединение философии с наукой, в особенности с науками естественными, дало поразительный результат. Демокрит охватил в грандиозном материалистическом синтезе все отрасли современного ему знания — научного и философского. С помощью гениальной гипотезы о неделимых частицах вещества («атомах»), движущихся в пустом пространстве, он пытался разрешить огромный круг вопросов космогонии, физики, математики, психологии, учения о бытии, теории познания» 6%
Демокрит и античная математика. Согласно свидетельству Диогена Лаэрция, Демокрит написал ряд работ по математике: «О различии между (законнорожденной и незаконнорожденной) мыслью, или О касании круга и шара», «О несоизмеримых линиях и телах», а также «Геометрию»64. К сожалению, ни одна из этих работ до нас не дошла. Но, судя по общим принципам учения Демокрита, он стремился построить такую математику, в которой не было бы бесконечности. Согласно атомистической методологии, Демокрит, видимо, полагал, что тела состоят из большого, но конечного числа атомов. Так, конус он мыслил сложенным из очень тонких цилиндри
62 Именно последовательность атомистов содействовала тому, что полемизировавшие с ними ученые и философы (например, Аристотель), смогли более четко и недвусмысленно сформулировать предпосылки своих теорий.
63 Асмус В. Ф. История античной философии. М., 1965, с. 11.
64 ЛД, BbVI, 133; BbVII, 134; Bel, 135.
Становление первых научных программ
101
ческих пластинок, как об этом сообщает Плутарх 65, а шар представлял в виде многогранника с очень большим числом граней.
Демокрит благодаря этому избег тех логических противоречий, которые связаны с понятием бесконечного, но его математика, допускающая только конечное число не делимых далее физических частиц, вступала в противоречие с принципами античной (да и современной) математики. В самом деле, «в ней не существовало ни кривых линий, пи вообще правильных фигур» 66. И, что не менее важно, математика Демокрита не допускала таких элементарных операций, как, например, деление отрезка пополам, без чего невозможны никакие геометрические построения и доказательства. Она «была совершенно непригодна для исследования непрерывных процессов» 67.
Однако математика Демокрита покоилась на некоторой наглядной механической модели, которая могла оказаться плодотворной не столько для строго математической мысли, сколько для построения некоторых вспомогательных механических процедур, к которым стали прибегать математики эпохи эллинизма, в частности Архимед. Нужно сказать, однако, что Архимед всегда проводил четкую границу между этими своими механическими приемами и собственно математическими доказательствами. «...Кое-что из того, что ранее было мною усмотрено при помощи механики, позднее было также доказано и гео
66 «...Посмотри еще, как ответил Хрисипп Демокриту, который как остроумный естествоиспытатель выдвинул следующий трудный вопрос: если конус будет (многократно) рассекаться плоскостью параллельно основанию, то как следует представить себе поверхности сечения: будут ли они равными или неравными? Если они не равны между собой, то конус окажется не гладким, так как его поверхность получит множество ступенеобразных выбоин и неровностей. Если же они равны между собой, то и сами сечения будут равны между собой и окажется, что конус приобретает характерные свойства цилиндра, так как он будет состоять из равных, а не неравных кружков, а это полный абсурд» (ЛД, BbV, 126).
66 Башмакова И. Г. Лекции по истории математики в Древней Греции: Историко-математические исследования, вып. XI, с. 331.
67 Там же.
102
Раздел второй
метрически, так как рассмотрение при помощи этого (механического.— П. Г.) метода еще не является доказательством; однако получить с помощью этого метода некоторое предварительное представление об исследуемом, а затем найти и само доказательство гораздо удобнее, чем производить изыскания, ничего не зная. Поэтому и относительно тех теорем о конусе и пирамиде, для которых Евдокс первый нашел доказательство, а именно, что всякий конус составляет третью часть цилиндра, а пирамида — третью часть призмы с тем же самым основанием и равной высотой, немалую долю заслуги я уделю и Демокриту, который первый высказал это положение относительно упомянутых фигур, хотя и без доказательства»68 69.
Действительно, атомизм открывает простор для развития именно механических методов, но методов, не смыкающихся со строго математическим рассмотрением63, а потому, как говорит Архимед, «лишенных доказательства». Однако тот же Архимед в своей работе «О шаре и цилиндре» говорит по поводу теорем о пирамиде и конусе следующее: «Свойства эти остались неизвестными многим жившим до Евдокса знаменитым геометрам и ни одному из них не пришли на ум» 70. Приведенная нами выше ссылка на Дёмокрита дана Архимедом в сочинении «Эфод» 71 72, найденном И. Гейбергом в начале XX в. В чем причина такого несоответствия высказываний Архимеда? Можно допустить, что «Эфод» написан Архимедом позднее, чем сочинение «О шаре и цилиндре», т. е. в период, когда Архимед еще не был знаком с методами Демокрита 7-2. Однако
68 Архимед. Послание к Эратосфену: О механических теоремах.
Цит. по кн.: Архимед. Соч./Пер. И. Н. Веселовского. М., 1962, с. 299.
69 Поскольку число складываемых частиц у Демокрита является всегда конечным, то находимые им значения площадей и объемов могли быть только приближенными.
70 Архимед. Соч., с. 95.
71 Эфод — сокращенное название работы Архимеда «Послание к Эратосфену».
72 Такую точку зрения высказывает Ф. Арендт. См.: Arendt F. Zu Archimedes.— Bibliotheca mathematica, Berlin, 1915, F. 3, Bd, 14, S. 295.
Становление первых научных программ 103
некоторые исследователи не согласны с таким допущением 78.
Не вполне ясно также, в чем состоял тот «механический метод» Демокрита, о котором говорит Архимед в «Эфоде». Сам Архимед не сообщает об этом; но естественно, казалось бы, предположить, что Демокрит здесь прибегал к приемам суммирования. Однако немецкий историк математики*Э. Хоппе, обращая внимание на употребление Архимедом выражения хашуот^трои, утверждает, что Архимед не мог бы его употребить, если бы Демокрит пользовался приемами суммирования. Хоппе полагает, что скорее Демокрит’в качестве физика определил объем конуса и пирамиды экспериментально, путем взвешивания самих тел или^соответствующих им объемов жидкостей 73 74. Такое допущение вполне объясняло бы, почему Архимед считал, что положения Демокрита о конусе и цилиндре не сопровождались доказательствами, а потому носили неострого математический, но механический характер. Однако за неимением других подтверждений , точки зрения Хоппе, кроме филологического анализа глагола хашуоесо, трудно считать решенным вопрос о характере тех механических методов Демокрита, о которых сообщает Архимед.
Но если Демокрит и прибегал именно к методу суммирования, то его способ суммирования, как показал В. П. Зубов, должен был существенно отличаться от того способа, каким пользовался в «Эфоде» Архимед. «Уже было сказано,— пишет Зубов,— что для Демокрита характерным являлось разложение величин па элементы того же порядка (тел — на тела) в отличие от платоновско-пифагорейских математиков, разлагавших тела на плоскости, плоскости — на линии, линии — на точки. В «Эфоде» Архимед пользуется не первым, а вторым приемом. Метод его основан на принципе: то, что справедливо в отношении каждой пары элементов, применимо и в отношении всех элементов одной совокупности ко всем элемен
73 См., например: Dijksterhuis Е. J. Archimedes. Copenhagen, 1956, р. 143.
74 Hoppe Е. Die Entwicklung des Infinitesimalbegriffs.— Philolo-gus, Wiesbaden, 1920, Bd. 76, H. 3/4, S. 355.
104
Раздел второй
там другой совокупности — «каждый к каждому, как все ко всем». Если А:а = В\Ъ — С: c=D\dvLT. д., то (А + В + С + Д...): (а + Ъ + с + d...) = А : а. Рассматривая площади как совокупности всех линий, объемы — как совокупности всех площадей, Архимед выводит ряд квадратур и кубатур, например определяет объем части цилиндра, вписанного в прямую призму с квадратным основанием, которая отсекается плоскостью, проходящей через ребро верхнего основания призмы и центр нижнего основания.
Отличительной чертой такого доказательства является переход от соотношения между величинами n-го измерения к соотношению между величинами п + 1 измерения. Это совсем не то, что построение тел из конечного числа «неделимых тел», пусть даже число этих «неделимых» очень велико и они практически не отличаются от точек» 75.
Зубов, таким образом, показал, что «суммирование», к которому прибегает Архимед, имеет в качестве своей предпосылки математические «неделимые», а не физические атомы Демокрита, ибо, согласно исходным принципам Демокрита, тела слагаются из неделимых тел, т. е. величин того, же измерения.
Существенно иное истолкование получает проблема неделимых в эпоху Возрождения, в частности у Галилея. Здесь в известном смысле теряет свое значение характерное для античной науки различие математических и физических неделимых, «точек» и «линий», с одной стороны, и неделимых тел, «атомов»,— с другой. Но это происходит благодаря радикальному изменению исходных методологических принципов естествознания, пересмотру тех понятий, которые были унаследованы от античной науки. Поэтому то, что было сделано в эпоху Галилея, нельзя проецировать на греческую науку, что, по-видимому, сделал С. Я. Лурье в своей работе «Теория бесконечно малых у древних атомистов» (М.; Л., 1935). Ибо, несмотря на то, что древнегреческая наука и была представ- 76
76 Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX века, с, 82—83.
Становление первых научйых программ
105
лена несколькими разными программами, в том числе и полемически отнесенными друг к другу (как, например, программа Демокрита, с одной стороны, и Аристотеля — с другой), становление науки нового времени происходило не просто путем отбрасывания одной из них (аристотелевской) и возрождения другой (демокритовской или пифагорейско-платоновской), хотя при чтении работ Галилея и возникает соблазн представлять себе дело именно так.
В действительности же наука нового времени строит совершенно новую модель связи математики с физикой, и в свете этой новой модели античные программы, оттесненные на задний план в средневековой науке, неожиданно приобретают совершенно новое звучание: мы имеем в виду математическую программу пифагорейцев и платоников, а также физическую программу Демокрита.
Чтобы избежать модернизации античной науки, в том числе и учения Демокрита, необходимо, по-видимому, рассматривать его в условиях теоретической ситуации того времени — как мыслителя, решающего вопросы, поставленные его предшественниками и современниками, а не нами и не нашей современной теоретической ситуацией. То же самое имеет силу и по отношению к другим теоретическим позициям и научным школам.
Если не упускать из поля зрения, что ответ Демокрита был решением задач, условия которых формулировались прежде всего двумя предшествующими философскими направлениями — пифагореизмом и элеатами, то атомистическая теория предстанет в исторической перспективе как физическая интерпретация пифагорейского учения о «единицах», неделимых «монадах». В пользу этого предположения говорит и свидетельство о том, что Демокрит, помимо того, что он был учеником Левкиппа (а сам Левкипп — учеником Зенона) 76, учился также у кого-то из пифагорейцев 76 77. Мы не можем поэтому согласиться с утверждением Э. Франка, что пифагорейский
76 ЛД, Cal, 152.
77 Согласно сообщению Порфирия, учителем Демокрита был сын Пифагора Аримнест. См. ЛД, Cal, 154.
106
Раздел второй
тезис «Все есть^число» (несоответственно и пифагорейское понятие неделимой «монады») представляет собой заимствование у Демокрита. «...Легко видеть,— пишет Франк, что такие положения, как «Все есть число» или «Единственно объективное познание есть математика», непосредственно вытекают из воззрения атомизма, и только из него могут быть поняты. Ибо если все есть атом или совокупность атомов, тогда, конечно, все есть только число» 78. При этом Франк ссылается на Аристотеля.
Рассмотрим свидетельства Аристотеля, которые приводит Франк. Вот одно из них: «Может показаться, что все равно, говорить ли о единицах или маленьких тельцах (как элементах души). В самом деле, если бы шарики Демокрита превратились в точки, при сохранении (их) количества, то в этом (множестве) будет иметься и движущее и подвижное, как в непрерывном» 79.
Говорит ли Аристотель о том, что шарики Демокрита превратились у пифагорейцев в точки, т. е. что в ходе развития концепции Демокрита пифагорейцы дали ей такое — математическое — истолкование? Ничего подобного он не говорит. В этом разделе, как и во многих других своих работах, он сравнивает атомизм Демокрита с учением о «неделимых монадах» — числах пифагорейцев, поскольку оба эти учения исходят из общей посылки — множества неделимых элементов, только Демокрит понимает их как физические «шарики», а пифагорейцы — как математические числа. Контекст высказывания Аристотеля такой: он критикует здесь учение пифагорейцев, что «душа есть самодвижущее число», и показывает, что ни понятия пифагорейцев, ни понятия атомистов не пригодны для объяснения природы души. Таким образом, извлечь из этого отрывка мысль о том, что исторически
78 Frank Е. Plato und die sogenannten Pythagoreer, S. 220. Здесь же читаем далее: «Другое, особенно характерное для пифагорейцев воззрение состоит в том, что тела состоят из математических точек, «из монад, имеющих положение в пространстве» (Аристотель, 409а6). Вначале это звучит бессмысленно, но становится понятным, если представить себе, что эти точки встали на место атомов, что, следовательно, это учение возникло из дальнейшего развития атомизма» (Там же).
О душе, I, IV. 409а 10.
Становление первых научных программ
107
понятие числа возникло из понятия атома, на наш взгляд, невозможно 80.
Аристотель вообще очень часто сравнивает атомистов с пифагорейцами, ибо, действительно, и те и другие признавали неделимые элементы и пустоту, их разграничивающую; но никогда он не забывает указать также и на различие обеих школ 81. Неделимые элементы, кроме пифагорейцев и атомистов, признавал, согласно Аристотелю, и Платон; поэтому иногда Аристотель в связи с обсуждением теории неделимых говорит о всех ее разновидностях, включая сюда и платоновскую; но всегда указывает при этом на отличительные особенности каждой разновидности. Вот один из примеров: «Он (Платон) говорит примерно в том же духе, что и Левкипп, но отличается от него лишь в том, что неделимыми элементами у Левкиппа являются тела, у Платона — плоскости; при этом Лев-
80 Такого же рода и второй отрывок из книги Аристотеля «О небе»-«...Они (Левкипп и Демокрит.— П. Г.) утверждают, будто первейшие величины беспредельны числом, но неразложимы по величине , и будто ни из одного не возникает многое, ни из многого — одно, но все возникает в сплетении и взаимопереплетении этих элементов. Некоторым образом и они все сущее делают числом и производят из чисел. Дело в том, что при всей неясности их высказываний разумеют они, по-видимому, это» (О небе, III, 4. Пер. А. В. Лебедева).
Здесь Аристотель также отнюдь не говорит о том, что пифагорейское понятие монады возникло из демокритовского понятия атома. Как и во многих других случаях, Аристотель отмечает только, что пифагорейцы и атомисты имеют общую предпосылку: и те и другие исходят из допущения множества неделимых элементов, из соединения которых они объясняют чувственные вещи. Ведь атомы у Демокрита — это множество, число пифагорейцев — тоже множество, поэтому можно сказать, что «некоторым образом и атомисты все сущее производят из чисел», из множества неделимых элементов. В этом и только в этом состоит сходство учения той и другой школ.
«Наличие математического атомизма у Демокрита впервые отметил Э. Франк в 1928 г. ...» — пишет С. Я. Лурье (Лурье С. Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. М.; Л., 1935, с. 8). Франк же, как видим, ссылается на Аристотеля. Но Аристотель не приписывает математический атомизм Демокриту, а только указывает на,[общность предпосылки физического и математического Fатомизма, а именно на допущение неделимых — в одном случае тел, в другом — плоскостей, линий, точек.
108
Раздел второй
кипп утверждает, что каждое из его неделимых тел характеризуется особой формой, причем число этих форм бесконечно, а по Платону, число их ограничено. Однако же оба утверждают, что элементы неделимы и характеризуются формой» (ЛД, CbV, 222).
Точка зрения Франка логически связана с его тезисом, о том, что раннее пифагорейство не имело реального отношения к науке и что существование научной школы пифагореизма можно отнести только ко времени Архита, т. е. к IV в. до н. э. При такой постановке вопроса атомизм Левкиппа — Демокрита действительно оказывается исторически первой формой учения о множестве неделимых элементов, к какому выводу и приходит Франк, несмотря на то что в свидетельствах античных авторов этот вывод ничем не подкрепляется. Точку зрения Э. Франка в этом вопросе разделяет и советский историк науки С. Я. Лурье. «Франк,— пишет он,— видящий в пифагорейских монадах лишь идеалистическое видоизменение Демокритовых атомов, в том же смысле понимает и свидетельство Аристотеля в «Метафизике», в чем он совершенно прав (Arislot. Melaph. II, 5, р. 1002 а8)» 82.
Рассмотрим указанное свидетельство Аристотеля. «Поэтому большинство мыслителей и мыслители более ранние со своей стороны признавали сущностью и сущим тело, а все остальное (считали^ за его состояния, вследствие чего и начала, (которые они устанавливали для> тел, они принимали за начала всех вещей. Между тем мыслители более поздние и признанные более мудрыми, чем первые, (считали сущностями^ числа» 83. И Франк, и Лурье считают, что в приведенном отрывке Аристотель под более ранними подразумевает атомистов, а под более поздними — пифагорейцев и тем самым указывает на хронологическую последовательность появления этих учений. Между тем ничто в этом разделе не подтверждает такой трактовки 84.
82 Лурье С. Я. Демокрит, с. 447.
83 Метафизика, III, 5.
84 О чем идет речь в 5-й гл. III кн. «Метафизики»? О том, что правильнее: считать сущностями числа и геометрические величины или же тела? Посмотрим, о каких телах ведет речь Аристотель, ибо именно от этого зависит смысл цитированного выше отрыв-
Становление первых научных программ
109
Напротив, имеется ряд свидетельств древних авторов о том, что пифагорейский принцип «Все есть число» был сформулирован еще Пифагором, но эти свидетельства противоречат концепции Э. Франка, и потому он ими пренебрегает.
Существует, однако, весьма серьезная методологическая проблема, которую мы здесь не можем обойти молчанием. Связана она с тем, что практическая работа ученого — математика, физика, биолога — подчас может быть весьма плодотворной также и без специального уяснения им своих методологических предпосылок и фундаментальных понятий.
По этому поводу интересно привести замечание П. Дю-гема. «Даже самый знающий геометр,— пишет он,— не
ка: «В самом деле, состояния, движения, отношения, расположения и соразмерности не обозначают, по-видимому, сущности чего бы то ни было: ведь они все высказываются о чем-нибудь, что лежит (у них) в основе, и ни одно не представляет некоторую данную вещь. А если взять то, что скорее всего можно было бы принять за сущность,— воду, землю, огонь и воздух, из которых состоят сложные тела, то в названных элементах тепло, холод и тому подобные (признаки), это — их состояния, а не сущности, в то время как тело, испытывающее эти состояния, одно только пребывает как нечто существующее и некоторая сущность. Но вместе с тем тело является сущностью в меньшей мере, нежели поверхность, поверхность — в меньшей, нежели линия, а эта последняя — в меньшей, чем единица и точка. Ибо ими определяется тело и они, по-видимому, могут существовать без тела, тогда как телу существовать без них невозможно. Поэтому большинство мыслителей и мыслители более ранние, со своей стороны, признавали сущностью и сущим тело, а все остальное (считали) за его состояния, вследствие чего и начала, (которые они устанавливали для) тел, они принимали за начала всех вещей. Между тем мыслители более поздние и признанные более мудрыми, чем первые, (считали сущностями) числа» (Метафизика, Ш, 5).
Из контекста мы видим, что речь идет о телах чувственного мира, которые состоят из элементов — воды, земли, огня и воздуха и испытывают различные состояния — тепло, холод и т. п. Именно натурфилософов имеет в виду Аристотель, говоря о «большинстве мыслителей и мыслителях более ранних» (атомисты, кстати сказать, не составляли «большинства»), отличая от них тех, кто стал усматривать сущности не в телах чувственного мира, а в математических элементах (в поверхности, линии, единице, точке). Речь идет, следовательно, о первых пифагорейцах — математиках, считавших «сущностями числа».
110
Раздел второй
мог бы определить пространство; но люди, хотя бы немного изучавшие геометрию, могут между собой говорить о пространстве без всякого опасения, вовсе не сговариваясь; они знают все, что можно утверждать о пространстве, а что — отрицать... они все согласны, что между двумя любыми точками можно провести прямую линию...» 85 86 Геометры знают также, продолжает Дюгем, что такое время; они рассуждают, не пытаясь определять ни что такое пространство, ни что такое время и движение, и при этом прекрасно понимают друг друга 8в.
То, о чем говорит Дюгем, как раз составляло характерную черту раннепифагорейской математики. Пифагорейцы не уточняли понятий пространства, времени, они даже не ставили вопроса о том, рассуждают ли они о физическом теле или математической фигуре, когда говорили, что «вещи состоят из чисел», и при этом, как верно отмечает Дюгем, они вполне понимали друг друга и вполне правильно решали задачи и делали математические открытия. Более того, и позднейшие математики (в том числе и из пифагорейцев) продолжали «работать» без предварительного определения исходных понятий (пространства, времени, движения), хотя время от времени возникающие противоречия привлекали их внимание к вопросам, связанным с онтологическим статусом математических понятий и операций.
Именно эта особенность математики (и не только математики), при которой ученый может работать в определенных рамках, не давая себе полного отчета во всех своих понятиях, является очень важным моментом для анализа эволюции науки и рассмотрения связей и взаимоотношений математика или физика с философом, размышляющим над проблемами обоснования науки. В этой связи возникает вопрос: существенно ли для деятельности ученого-математика то различие, которое мы видим, например, между Демокритом и Платоном в понимании неделимого? В античной литературе концепция Демокрита противопоставлялась концепции Платона в двух от
85 Duhem Р. Le system© du monde: Histoire des doctrines cosmologi-aues de Platon a Copernic. Paris, 1954, t. I. p. 33.
86 Duhem P. Le systeme du monde, p. 33.
Становление первых научных программ
111
ношениях: во-первых, у Демокрита атом — физическое тело, у Платона неделимое — математическая точка, или линия, или плоскость. Во-вторых, и это вытекает из первого, у Демокрита тела (чувственного мира) слагаются из атомов, т. е. мельчайших тел того же измерения, а у Платона и пифагорейцев тела слагаются из элементов другого измерения, т. е. из плоскостей, плоскости, в свою очередь, из линий, а линии — из точек. Над этим вопросом работал В. П. Зубов. Он пришел к выводу, что, несмотря на указанное различие, математик мог усматривать для себя в этих концепциях один и тот же смысл, так как «в практическом отношении, при „пересчитывании44, не было никакой существенной разницы, мыслились ли элементы подобных конечных множеств как точки или как тела. Вот почему не случайно античные критики брали подчас оба толкования в одни скобки, а возрождение пифагорейских (или платоно-пифагорейских) концепций позднее порою происходило „под знаменем Демокрита“» 87. Видимо, Зубов в значительной мере прав; его допущение объясняет также, а это немаловажно, тенденцию к сближению пифагорейцев (и даже Платона) с Демокритом в период позднего средневековья и особенно в эпоху Возрождения.
Однако это «взятие в одни скобки» имеет и свои границы. В этом отношении показательно цитированное нами высказывание Архимеда, который строго различает доказательство определенного положения, проведенное средствами математики (т. е. теоретическое обоснование его), и усмотрение того же положения с помощью механических средств (практическое усмотрение). Это различение, проведенное великим математиком поздней античности в «Письме к Эратосфену», свидетельствует о том, что хотя научное исследование и может подчас происходить без специальной философской рефлексии относительно своих собственных оснований, но только до определенного момента: у тех, кого мы справедливо относим к классикам науки, забота о теоретическом обосновании собственной деятельности составляет важный момент последней.
87 Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX века, с. 77.
112
Раздел второй
Глава вторая
Греческое Просвещение.
Становление гуманитарного знания
Софисты. Выявление субъективных предпосылок научного знания. До сих пор мы рассматривали направления развития науки, которые имеют одну общую особенность: в них еще нет рефлексии по поводу самой научной деятельности и ее оснований, внимание еще сосредоточено на тех результатах, которых достигает научно-философское мышление, а не на самом процессе этого мышления.
Правда, нужно и здесь ввести различение: ионийские натурфилософы еще очень близко стоят к мифологическому способу постижения мира, шаг вперед по сравнению с ними делают ранние пифагорейцы, но и у них мы находим наряду с попытками ввести математические методы также целый ряд мифологически-метафорических фигур мысли.
Элеаты — Парменид и Зенон — делают серьезный шаг вперед от некритически-нерасчлененного мышления первых «физиков» и ранних пифагорейцев к логическому прояснению прежних понятий философии и науки и выработке новых понятий. Они пытаются отдать себе отчет в логическом значении понятий «бытие» и «небытие», «движение», «изменение» и тем самым впервые приходят к постановке вопроса о природе бесконечного и невозможности мыслить бесконечное. Зенон сосредоточивает свое внимание на понятии континуума: пространства, времени и движения как соотнесения, связывания пространства со временем. Вскрытые Зеноном противоречия бесконечности производят сильное впечатление на умы как его современников, так и последующих поколений ученых и философов: они пробуждают первые рефлексии по поводу процесса получения научного знания. Из попыток преодолеть эти противоречия рождаются первые научные программы, одну из которых — программу атомистов — мы уже рассмотрели.
Учение атомистов представляло собой последнюю и наиболее теоретически развитую форму классической натурфилософии, которая к концу V в. уже завершала свое
Становление первых научных программ 113
развитие. Она сама, как пишет А. Ф. Лосев, «приходила к саморазложению. В ней назревали противоположности, которые уже невозможно было примирить средствами натуралистической космологии. Достаточно указать на то, что прямолинейно проводимая философия Гераклита с гипертрофией его учения об абсолютно сплошной текучести бытия приводила к анархическому иррационализму, которого не допускали ни пафагорейская религия, ни новейшие научные открытия, ни вся тогдашняя научная практика. С другой стороны, последовательно проводимое элеатство с его учением о невозможности движения также приводило к безвыходному иллюзионизму, которого пугалась и страшилась вся античность вообще... Этот процесс саморазложения «эмпиризма» и натурализма старой космологии стал возможен только благодаря нарождающемуся индивидуализму, с появлением которого логические и этические потребности начинали перерастать наивную красоту и складность досократовского объективизма. Отвлеченная наука, которая в истории философии часто бывала продуктом индивидуализма, такому положению дела, конечно, только способствовала. Многое сделал в этом отношении и сам Демокрит, апологет индивидуальной множественности. Однако следует подчеркнуть, что учение атомистов об атоме-индивидууме и об индивидуальной множественности, хотя и было самым последним и самым зрелым результатом натурфилософии, все же сопротивлялось ее разложению и отнюдь не переходило на рельсы субъективизма и идеализма» х.
Лосев дает здесь глубокий анализ той духовно-теоретической и социальной ситуации, в которой назревал поворот к новому этапу в развитии философской и научной мысли античности — этапу всеобщей, поначалу разрушительной рефлексии. Эту рефлексию, переключившую внимание с природы на человека, с проблем «физики» — натурфилософии и космологии — на проблемы теории познания, осуществляли прежде всего софисты. Они развили и углубили ту критику, которая была начата Зеноном, но при этом направленность их критики была иной.
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963, с. 429-430.
114
Раздел второй
Зенон хотел только доказать, что невозможно без противоречия мыслить множественность и движение, но он вовсе не утверждал тем самым, что познание носит субъективный характер и что в принципе невозможно истинное знание, как это доказывал софист Горгий 2.
Как правильно указывает Лосев, учение Демокрита тоже внесло свою лепту в подготовку рефлексии о природе знания и о познавательных возможностях человека. Сам Демокрит был глубоко убежден в возможности истинного знания 3, но его различение мнимого (чувственного) знания и знания истинного (с помощью мысли), субъективного и объективного, а также его анализ субъективного характера ощущений и чувственного восприятия как такового, несомненно, послужили толчком к развитию теоретико-познавательного интереса, характерного для софистов.
Деятельностью софистов начинается новый этап в развитии научной мысли Греции. Отличительной особенностью этого этапа является острый интерес к процессу образования научных понятий и методов, стремление не только к получению определенных результатов, но и к их логическому обоснованию, к разработке способов подтверждения* достоверности этих результатов.
2 Некоторые историки склонны причислять к софистике уже апории Зенона, однако, как мы выше отмечали, это вряд ли правомерно. Но несомненно, что апории Зенона дали толчок к развитию софистических способов доказательства и опровержения. «Заслуга софистов,— говорит В. Лейнфельнер,— состоит в том, что они применили технику образования антиномий против элеатов столь же успешно, как элеаты — против эмпирического научного познания мира» (Leinfellner W. Die Entstehung der Theo-rie, S. 53).
3 Правда, тут возможны различные мнения. Поскольку Демокрит был современником одного из крупнейших софистов старшего поколения, Протагора, то его учение можно рассматривать как попытку опровержения софистического релятивизма. Так, например, считает В. Ф. Асмус. «Имеются веские основания полагать,— пишет он,— что одной из главных идейных и теоретических задач, какие ставил перед собой Демокрит, было опровержение скептической теории познания софистов старшего поколения, а также доказательство того, что, вопреки учению софистов, наука возможна как вполне достоверное знание» (Асмус В. Ф. История античной философии, с. 90—91).
Становление первых научных программ
115
От анализа природы к анализу человека. Как справедливо указывает Лосев, «греческая софистика, несомненно, есть греческое Просвещение»4. Две существенные особенности характеризуют античное Просвещение: во-первых, стремление сделать научные и философские достижения того времени всеобщим достоянием, т. е. расширить круг образования, и, во-вторых, вскрыть субъективный источник всякого знания, перевести философскую мысль от рассмотрения природы к рассмотрению самого сознания. Эти два момента в значительной мере определяли форму и содержание софистики.
Софисты, как известно, были первыми греческими философами, которые получали вознаграждение за обучение. Платон и Аристотель упрекали софистов прежде всего в том, что они превратили науку в средство поддержания существования 6 и тем самым уронили ее достоинство —
4 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты, Сократ, Платон. М., 1969, с. 13.
• Сократ в платоновском диалоге «Гиппий Бблыпий» иронизирует по поводу «превосходства» софистов над прежними философами — «мудрецами из деревни» (Гиппий Бблыпий, 281). Обращаясь к Гиппию, он говорит: «Действительно, ваше искусство сделало успехи в том. что дает возможность заниматься и общественными делами наряду с частными. Ведь вот Горгий, леонтин-ский софист, прибыл сюда со своей родины по общественным делам... Он и в Народном собрании оказался отличнейшим оратором, и частным образом, выступая с речами и занимаясь с молодыми людьми, заработал и собрал с нашего города большие деньги... А .из тех древних никто никогда не считал достойным для себя требовать себе денежного вознаграждения и выставлять напоказ свою мудрость перед всякого рода людьми. Вот как они были просты! Не заметили они, что деньги имеют большую цену... С Анаксагором произошло, говорят, обратное тому, что случается с вами: ему остались по наследству большие деньги, а он по беззаботности потерял все — вот каким неразумным мудрецом он был, да и об остальных, живших в старину, рассказывали подобные же вещи» (Гиппий Бблыпий, 282—283).
Отличительной особенностью мудрости софистов Платон, как уже ясно из приведенного отрывка, считает ее своекорыстный характер. «Итак, мне кажется,— обращается Сократ к Гиппию,— ты приводишь прекрасное доказательство мудрости нынешних людей по сравнению с прежними. Многие согласны в том, что мудрец должен быть прежде всего мудрым для себя самого. Определяется же это так: мудр тот, кто заработал больше всего денег» (Гиппий Больший, 283в).
116
Раздел второй
до них она выступала в качестве самоцели. Характерно при этом, что среди софистов мало было математиков и «физиков»: этот род знания они не столько развивали, сколько популяризировали. В. Виндельбанд по этому поводу замечает: «При малой способности к самостоятельному творчеству софистика направляла всю свою энергию на обработку и слияние уже существующих теорий. Софисты работали прежде всего для того, чтобы сообщить результаты науки массе, приспособить их к ее потребностям» в.
Действительно, историческая миссия софистов состояла именно в «сообщении результатов науки массе», а это требует иной направленности ума, чем задачи собственно научного исследования, да и иных способностей: если для античного ученого были прежде всего необходимы сосредоточение на своем предмете, наблюдательность и склонность к умозрению, то для популяризатора — скорее дар красноречия, умение аргументировать свою точку зрения, а также при случае всенародно продемонстрировать как свое остроумие, так и полемические способности. Сразить противника неожиданным аргументом — независимо от того, насколько £тот аргумент действительно имеет отношение к существу рассматриваемого предмета,— это способность, необходимая для того, кто обращается к широким массам, не имеющим достаточного знания об обсуждаемом предмете, и совсем не столь важная для ученого, имеющего дело с другим (или другими) учеными.
Именно потому, что софисты развили прежде всего искусство аргументации, искусство побеждать противника в споре, они, естественно, имели «малую способность к самостоятельному творчеству». Не удивительно поэтому, что образовательная деятельность софистов очень скоро выявила свою действительную природу: софистов стали рассматривать не как тех, кто может научить какой-либо науке или ремеслу, а как тех, кто может научить убеди-
6 Виндельбанд В. История древней философии, с. 95. Виндельбанд, однако, упускает здесь из виду, что в результате направленности своего интереса «на общение» софисты положили начало исследованиям в другой области знаний: исследованиям языка, форм доказательства, риторики и т. д.
Становление первых научных программ
117
тельно доказывать свою точку зрения независимо от того, в чем последняя состоит: «Главной своей задачей софистика поставила научную и риторическую подготовку к политической деятельности, причем софистическое обучение направлялось, с одной стороны, на техническое, формальное развитие речи, а с другой — на сообщение тех познаний, которые наиболее могли бы способствовать этой главной цели»7.
Для того чтобы выполнять эту задачу, необходимо не столько знание о природе, сколько знание о самом человеке, ибо для произнесения убедительной речи надо представлять себе, что именно действует на человека убеждающе. Софист, таким образом, по своему назначению должен быть прежде всего знатоком людей. И не случайно наиболее выдающиеся софисты обращаются от математики и «физики» к анализу человеческого сознания и изучают способы воздействия на него. При этом внимание их сосредоточивается на проблемах логики и языка. Так, по свидетельству Диогена Лаэртского, Протагор первый начал изучать способы доказательств 8 и тем самым положил начало разработке формальной логики, а софисты, Гиппий и Продик, занимались исследованием языка (Продик — синонимикой, а Гиппий — грамматикой).
Как отмечает Лосев, софисты «создали какой-то небывалый в Греции культ слова и тем самым небывалое превознесение риторики, использующей слово для разных жизненных целей» 9. Действительно, в своей «Похвале Елене» софист Горгий пишет: «Слово есть великий властелин, который, обладая весьма малым и совершенно незаметным телом, совершает чудеснейшие дела. Ибо оно может и страх изгнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и сострадание пробудить... А что сила убеждения, которая присуща слову, и душу формирует, как хочет, это должно узнать, во-первых, из учений метеорологов, которые, противопоставляя мнение мнению, удаляя одно мнение и вселяя другое, достигли того, что невероят
7 Виндельбанд В. История древней философии, с. 97.
8 Diog. Laert., IX, 51, 53.
9 Лосев А. Ф. История античной эстетики, с. 29.
118
Раздел второй
ные и неизвестные вещи являются очам воображения. Во-вторых же, (этому можно научиться) из словесных состязаний в народных собраниях, в которых (бывает, что> одна речь, искусно составленная, но не соответствующая истине, (более всего) нравится народной массе и убеждает ее» 10.
Софисты были как «практиками» красноречия11, так и теоретиками его. Впервые сделав предметом рассмотрения человеческое сознание, они сделали предметом анализа также и язык как орудие воздействия на сознание. Интересно, что софист Критий, ставший тираном, издал закон, запрещавший «учить искусству говорить», — надо полагать потому, что хорошо знал силу слова.
Благодаря своему интересу к языку и слову софисты положили начало той отрасли знания, которую теперь мы называем филологией. Особенно характерны в этом отношении исследования словесной семантики у софиста Про-дика, который занимался синонимами и омонимами. Как можно видеть, филология возникает в тот момент, когда внимание исследователя переключается с внешнего предмета на жизнь самого сознания, или, пожалуй, точнее было бы сказать, когда анализ человеческого сознания производится обособленно от его содержания, ведь и у натурфилософов мы находим соображения о природе человеческой души и о способности ума постигать истину, т. е. соображения, касающиеся природы знания и даже сознания, но эти соображения высказываются иначе, чем у софистов: душа человека в глазах натуралистов — такое же природное явление, как и любое другое, и рассматривается с помощью тех^же «физических» (или — у пифагорейцев — «числовых») методов, как и всякий другой природный процесс. И только у софистов возникает специальный ^интерес и к тому, как"совершается познавательный процесс, и к тому, как и по каким специфическим законам протекает жизнь сознания и с помощью каких средств можно влиять^на нее в нужном направлении.
С этой новой’точки зрения исследуют теперь софисты и язык. Характерно, что’язык в качестве предмета теорети-
л10 Маковельский А . Софисты. Баку, 1940—1941, вып. 1—2, в II.
11 См. об этом у Платона в диалоге «Федр», 266с — 267d.
Становление первых научных программ
119
ческого исследования (филология и грамматика) выступил именно в тот период, когда он стал также важнейшим практическим орудием воздействия на сознание, т. е. когда стало складываться и культивироваться искусство словесных изощрений 12. Интересно также отметить, что софисты занимались изучением не только языка, но и литературы, так что, как говорит Лосев, «их можно даже назвать первыми представителями греческого литературоведения» 13. Во всяком случае, ко времени софистов появилось то, что мы теперь называем литературной критикой, причем критическому анализу подвергалось не только творчество тех или иных поэтов, но и мифологические сюжеты. Именно литературной критикой можно назвать суждения Горгия об Эсхиле (В 24), Крития — об Анакреоне (51) или Протагора — о Гомере (А 29). Характерно при этом, что многие из софистов сами были поэтами; так, Гиппий, по сообщениям древних авторов, был мастером в различных литературных жанрах, Антифонт писал стихи и трагедии (А 4, 6, 9).
Все эти факты свидетельствуют о том, что предпосылкой появления как языково-филологических, так и литературно-критических изысканий является развитая рефлексия по поводу сущности и законов жизни самого сознания: оно полагается теперь как специфическая действительность. Анализ языка, мифологии, литературы предполагает, как видим, весьма развитую рефлексию сознания о себе самом — рефлексию, осуществляемую как с теоретическими, так и с практическими целями.
Таким образом, если интерес прежней, дософистиче-ской науки и философии был направлен на изучение бытия как природного, то интерес софистов направлен прежде всего на обособление сознания от природы, на выделение его как специфической реальности. Цицерон говорит
12 «Писание и произнесение речей, погоня за бесконечным разнообразием их стиля, а также и теоретизирование в этой области, совершенно чуждое предыдущим этапам эстетического развития у греков,— все это нужно считать первейшим и характернейшим достоянием софистической эстетики»,— пишет А. Ф. Лосев (История античной эстетики, с. 39).
13 Лосев А . Ф. История античной эстетики, с. 39.
120
Раздел второй
о Сократе п, что тот свел философию с небес в города и дома, но это же относится равным образом ко всему греческому Просвещению, а значит, к софистам. Деятельность софистов действительно осуществлялась на городских площадях, в народных собраниях, в политических спорах и диспутах, на ораторских трибунах. Софисты — это «и философы, и ораторы, и драматурги, и поэты, и учителя красноречия, и дипломаты, и представители специальных дисциплин, и актеры на своих ораторских трибунах, и воспитатели молодежи, и законодатели, и профессиональные политики и веселые анархисты, которым все нипочем...»14 * 16.
Социально-исторические предпосылки греческого Просвещения. Анализ деятельности софистов позволяет показать, что развитие науки определяется не только теми, кто непосредственно создает научные теории или делает открытия,— не в меньшей степени развитие науки зависит и от тех, кто оказывает влияние на изменение самих методов мышления, способов подхода к предмету. Это влияние может исходить из самых разных сфер жизни культурно-исторического организма; но если оно настолько сильно и глубоко, что способно изменить структуру сознания, то оно, несомненно, окажет влияние и на развитие науки.
Именно такой характер имела деятельность софистов. Эта деятельность знаменовала собой важный рубеж в жизни древнегреческого общества, не случайно она совпала с эпохой высшего развития афинской демократии. В Греции VI в. до н. э. мы наблюдаем постепенное разложение традиционного типа социальности, который, видимо, вначале не очень существенно отличался от традиционных обществ Востока, где было более или менее жесткое разделение сословий, каждое из которых имело свой веками установившийся уклад жизни и передавало как этот уклад, так и свои навыки и умения по традиции из поколений в поколение. В качестве той формы знания, которая была общей для всех сословий, выступала мифология, она
14 См.: Цицерон. Избр. соч. М., 1975, с. 326: «Сократ первый свел философию с неба, поселил в городах, ввел в дома и заставил
рассуждать о жизни и нравах, о добре и зле».
16 Лосев А. Ф. История античной эстетики, с. 47.
Становление первых научных программ
121
и была той формой, которая объединяла все сословия в одну общность. Насколько можно судить по историческим документам, ни одно сословие не выступало как «сословие всеобщности», функция которого — связывать между собой все остальные. Даже сословие жрецов как на Востоке, так и в архаической Греции, хотя оно и осуществляло функции объединения, выступало прежде всего как отдельное сословие со своими особыми задачами: жрецы приносили жертвы, делали предсказания, толковали изречения оракула. В этом смысле можно сказать, что религиозное сословие не было еще в полной мере сословием всеобщности, и, хотя принесение жертв было действием, объединяющим всех, чьим богам эти жертвы приносились, сама акция жертвоприношения была такой же сословной обязанностью жреца, как постройка кораблей — обязанностью корабельного мастера, а изготовление посуды — делом гончара. Именно эту сторону дела имеет в виду Гегель, когда говорит, что «религия не была у греков учительницей, так как она не была предметом преподавания» 16.
Особенностью древних традиционных обществ того периода, когда еще не возникли ни мировые религии, такие, как буддизм, христианство, ислам, ни философские учения, ни наука в собственном смысле слова, было, по-видимому, отсутствие того слоя людей, того сословия, которое имело бы в качестве своей социальной функции осуществление связей между другими сословиями.
Тут мы можем провести одну характерную аналогию. Точно так же, как в древних традиционных обществах была очень малая потребность в экономическом посреднике между разными сословиями — купце, торговце, так же мала была потребность и в духовном посредничестве между ними, т. е. в такой прослойке, задачей которой было бы производство всеобщей формы сознания. Всеобщая форма сознания была представлена в мифологии, и древние певцы и сказители, не выступавшие как специальное сословие, выполняли эту функцию «посредничества». И точно так же, как по мере разложения традиционного типа обществ возрастает роль экономического посредниче
16 Гегель. Соч. М., 1932, т. X, с. 7-8,
122
Раздел второй
ства, появляется целое сословие торговцев, менял ит. д., возрастает потребность и в «посредничестве духовном», посредничестве в сфере знания. Не случайно Платон характеризует софистов как «купцов», т. е. тех, «кто скупает знания и, переезжая из города в город, обменивает их на деньги» 17. Софист, по его мнению,— это «что-то вроде торговца или разносчика тех припасов, которыми питается душа» 18.
Эта аналогия проводится Платоном вполне сознательно, и она не так уж далека от истины: Платон видит в софистах посредников между теми, кто создает знание, и теми, кто нуждается в нем. «.. .Софистика, — говорит Платон,— оказалась искусством приобретать, менять, продавать, торговать вообще, торговать духовными товарами, а именно рассуждениями и знаниями, касающимися добродетели»19.
В традиционных^обществах способ передачи знания происходил преимущественно «по вертикали», т. е. от поколения к поколению. Не случайно сын, как правило, наследовал ремесло отца, наследуя и «секреты» его ремесла, и его жизненно-бытовой уклад, и его «ценностные установки». Циркуляция знаний от сословия к сословию, т. е. «по горизонтали», была, видимо, очень незначительной. Различные ремесленные «цехи» жили каждый своей почти замкнутой жизнью. В соответствии с этим и сознание каждого представало не как чисто индивидуальное, но скорее как сословное, индивид мыслил себя не как нечто отдельное, но в категориях своего «цеха», своего сословия, а уже потом — и своего народа, своей религии.
Кстати, именно в рамках такого типа обществ первоначально развивавшаяся математика как раз и выступала как один из видов ремесла, технико-практического искусства, которому обучалось определенное сословие — в Египте, например, сословие писцов.
Появление в Греции VI в. до н. э. философии свидетельствовало о том, что традиционное общество здесь начало разлагаться. Пожалуй, уже в лице первых филосо
17 Софист, 224в/Пер. С. А. Ананьина.
18 Протагор, 313с/Пер, В. С. Соловьева.
19 Софист, 224с—d.
Становление первых научных программ
123
фов, досократиков, мы имели самую раннюю форму, в какой выступало сословие всеобщности. Но, конечно, им было еще очень далеко до той развитой, зрелой формы, в какой это сословие всеобщности предстало в лице софистов.
Хотя между первыми греческими философами и софистами временной интервал совсем небольшой (Протагор родился около 480 г. до н. э. и был младшим современником Левкиппа и старшим — Демокрита), нельзя не отметить, что социально-политическое развитие Греции в этот период протекало настолько бурно, что даже полвека могли нести с собой большие изменения. «Греческая культура V в. до н. э.,— пишет Лосев,— поражает всякого историка — да и не только историка — необычайно быстрым переходом от расцвета к упадку. В начале века перед нами еще юный полис рабовладельческой демократии, успешно побеждающий деспотическую Персию, в середине века — небывалый расцвет, о котором до сих пор не может забыть культурное человечество, расцвет всего на несколько десятилетий, а уже во второй половине века — это разложение, трагическая Пелопоннесская война, конец старых идеалов, захватнический колониализм Афин и аристократическое предательство Спарты, выступившей против Афин в союзе с деспотической Персией» 20.
Этим бурным общественно-политическим развитием объясняется и необычайно напряженное развитие греческой философской мысли, прошедшей немногим больше чем за столетие несколько важнейших этапов.
Софисты появились и могли появиться только тогда, когда развитие греческой демократии уже сильно размыло те границы, которые существовали между сословиями. Оно, таким образом, разрушило прежние каналы трансляции если не технических навыков и ремесленных «рецептов», то бытового уклада и ценностных установок, ранее не подвергавшихся никакой рефлексии. Индивид почувствовал себя уже не просто членом своего «цеха», а самостоятельным лицом и осознал, что все, прежде принимавшееся им на веру, должно быть подвергнуто критике.
20 Лосев А. Ф. Жизненный и творческий путь Платона.—В кн.: Платон. Соч.: В 3-х т. М., 1968, т. I, с. 21.
124
Раздел второй
Субъектом же критики и последним основанием всякой достоверности он стал теперь считать самого себя как индивида. Вот это выделение индивида как самостоятельной реальности и было той почвой, на которой только и могла появиться софистика. Несомненно, софисты способствовали дальнейшему развитию индивидуализма, релятивизируя все то, что прежде выступало в качестве традиционных истин. Софисты были в Греции особым слоем, если даже не особым сословием, осуществлявшим функцию связывания воедино всех остальных групп и индивидов; не случайно политическая деятельность и подготовка к ней была одним из основных занятий софистов 21.
Потребность в образовании, которую таким путем удовлетворяли софисты, возникла, как видим, потому, что произошло переключение с трансляции знания «по вертикали» на трансляцию его «по горизонтали». Образование приходит на место обычаев.
В этом смысле очень показателен тот конфликт, в который часто вступали софисты с отцами своих учеников и который нам хорошо знаком в связи с судьбой Сократа: авторитет отцов, веками освященный и незыблемый в патриархальных обществах, переходил к софистам, учитель теперь призван заменить собой отца, он становится «духовным отцом» своего ученика. Это — столкновение двух цивилизаций, двух взаимно исключающих укладов жизни: традиционного, где начало «родовое» и «образовательное» еще соединены, где «род» и «смысл» слиты воедино, а по-
21 Искусство убеждения было как раз основным средством регуляции политической жизни в тот период, когда именно в сфере политической — на народных собраниях, в судах, на площадях и рынках — осуществлялась жизнь в ее всеобщей форме. Эту сторону дела хорошо почувствовал Гегель. Он пишет: «Поэтому софисты сделались главным образом учителями красноречия; последнее есть как раз то искусство, посредством которого отдельное лицо может приобрести почет у народа, равно как и осуществлять то, что служит на пользу последнему; для этого, разумеется, требуется демократическое государственное устройство, в котором гражданам принадлежит последнее решение. Так как красноречие было одним из первых требований для того, чтоб управлять народом или убеждать его в чем-либо, то софисты давали образование, служившее подготовкой к исполнению общего призвания греческой жизни — к государственной деятельности...» (Гегель. Соч., т. X, с. 10).
Становление первых научных программ
125
тому род (отец) открывает человеку, как ему следует жить, учит его и ремеслу, и смыслу жизни,— и нового, «рационального», где род уже отделен от «смысла», где «смысл» выделился в самостоятельную сферу и принял облик учителя, взывающего не к родовому, а к разумному началу своего ученика. А отец, как воплощение «рода», должен теперь занять подчиненное место, он может теперь разве что передать сыну свои технические навыки, свое искусство, ремесло, но не свои «ценности», не «смысловые структуры». Что почитать, а что презирать, что любить, а что ненавидеть — все это теперь ученик узнает от своего учителя.
Даже обучение чисто хозяйственным навыкам, умению управлять своим домом, т. е. первейшее, чему раньше учил отец своего сына, теперь становится делом учителя — софиста. Вот характерное рассуждение об этом Протагора в одноименном диалоге Платона: «Когда Гиппократ придет ко мне, я не сделаю с ним того, что сделал бы кто-нибудь из софистов: ведь те просто обижают юношей, так как против воли заставляют их, убежавших от упражнений в пауках, заниматься этими упражнениями, уча их вычислениям, астрономии, геометрии, музыке... а тот, кто приходит ко мне, научится только тому, для чего пришел. Наука же эта — смышленность в домашних делах, умение наилучшим образом управлять своим домом, а также в делах общественных: благодаря ей можно стать всех сильнее и в поступках, и в речах, касающихся государства»22.
По-видимому, мы здесь имеем двусторонний процесс: выделение особой области общественной деятельности, где индивид выступает как представитель всеобщего, а именно области политической жизни как таковой, и превращение сословий, имевших прежде свои нравы и свой уклад, в нечто частное и особенное. Поскольку этот уклад и эти нравы носят традиционный, древний, как бы естественно сложившийся характер и не подлежат обсуждению и критике, постольку они теперь воспринимаются как нечто косное, навязанное индивиду извне, не прошедшее суда его сознания, от чего необходимо освободиться.
22 Протагор, 318d—е.
126
Раздел Второй
Одним^словом, индивид, как представитель всеобщего, действует теперь в другой сфере, нежели та, в которой он действует, как представитель особенного сословия. Вот как об этом разделении всеобщего и частного начал говорит Сократ в платоновском диалоге «Протагор»: «...Я вижу, что когда соберемся мы в Народном собрании, то, если городу нужно что-нибудь делать по части строений, мы призываем в советники по делам строительства зодчих, если же по корабельной части, то корабельщиков, и так во всем том, чему, по мнению афинян, можно учиться и учить; если же станет им советовать кто-нибудь другой, кого они не считают мастером, то, будь он хоть красавец, богач и знатного рода, его совета все-таки не слушают... Значит, в делах, которые, как они считают, зависят от мастерства, афиняне поступают таким образом.
Когда же надобно совещаться о чем-нибудь касающемся управления городом, тут всякий, вставши, дает совет, будь то плотник, медник, сапожник, купец, судовладелец, богатый, бедняк, благородный, безродный, и никто его не укоряет как того, что, не получив никаких знаний, не имея учителя, такой человек решается все же выступать со своим советом...»23.
Сократ в своем рассуждении исходит из того, что, хотя «мастерство» (сословное «умение») и общественные дела, касающиеся в равной мере каждого гражданина (всеобщая сфера) и разделены, никакой «науки» применительно к сфере общегражданских дел быть не может, ибо, если человек учится определенному ремеслу, то учиться «управлению городом» невозможно и не нужно. Протагор, напротив, доказывает Сократу, что коль скоро политические, общегосударственные дела существуют, то искусству вести их так же нужно учиться, как и всякому другому мастерству. И учителями в этом деле как раз и являются софисты. Наука же их состоит прежде всего в том, чтобы сделать людей образованными в гражданском отношении, а это понятие в софистике приобрело двойственный смысл. С одной стороны, сделать человека образованным означало научить его убеждать в своей правоте соотечественников, независимо от содержания защищаемой позиции,
23 Протагор, 319Ь—е.
Становление первых научных программ
127
и в этом выразилась релятивистская подоплека принципа отнесенности всякой истины к субъекту: произвол индивида становится здесь руководящим принципом. Умение найти основание для любого утверждения — это то, за что критиковали софистов Сократ и Платон, упрекая их в том, что они поощряли частные интересы, умея с помощью тонкой аргументации представить частный интерес как всеобщий.
С другой стороны, как можно видеть из рассуждений Платона, софисты волей-неволей прокладывали путь к новой форме всеобщности — той, которую пытался найти ученик софистов — Сократ: они прокладывали путь к обретению такого знания, которое хотя и было бы опосредовано субъективностью индивида, но не сводилось бы к ней. Именно деятельность софистов, релятивизировавшая все предшествующее знание, положила начало поискам новых форм достоверности знания — таких, которые могли бы устоять перед судом критического сознания.
Элеаты и софисты содействовали превращению досо-кратовского, еще во многом метафорического, способа мышления в логический способ мышления, характерный для послесократовской мысли. Логическая расчлененность понятий и метод доказательства — вот те важнейшие приобретения, которыми обогатилась научная и философская мысль, пройдя через горнило апорий Зенона и релятивизирующей критики софистов.
В лице софистов и затем Сократа философская мысль античности перешла от объективного изучения природы к рассмотрению субъективной стороны познавательного процесса — к самому человеку и его сознанию." Это событие оказалось весьма плодоносным для дальнейшего развития науки, благодаря ему наука приобрела новые методы и открыла для себя новые предметные области знания. Даже те естественнонаучные и математические теории, которые были созданы раньше, получили теперь новое обоснование и были включены в новую, иначе организованную’ систему понятий/ а^тем самым получили новое звучание.
Так, на базе прежней — раннепифагорейской — математики теперь была разработана и логически обоснована платоновско-пифагорейская научная программа, которую
128
Раздел второй
справедливо назвать математической программой античной науки. На базе ранней натурфилософии («физики») сложилась логически расчлененная и глубоко продуманная программа естественнонаучного знания Аристотеля — в сущности, первая форма уже не только философского знания о природе (натурфилософии), но именно науки о природе — физики и биологии.
И, наконец, поскольку научные воззрения Платона и Аристотеля формируются уже в условиях развитой рефлексии по поводу самой науки и ее предпосылок, мы находим у этих мыслителей развитую и последовательно продуманную концепцию научного знания, так же как и целый ряд соображений о месте и роли науки в жизни общества и отдельного человека, о назначении ученого, о целях научного исследования, о задачах науки. Эти соображения в известной мере отражают действительное состояние науки в античном обществе IV в. до н. э., но еще в большей степени они позволяют видеть позицию самих Платона и Аристотеля по отношению к науке того времени и к различным тенденциям в ней. Ибо понимание Платоном и Аристотелем сущности науки представляло собой, собственно говоря, два разных проекта дальнейшего развития науки — д$а проекта, каждый из которых фиксировал определенные стороны, аспекты реально существующей науки и абсолютизировал их.
Сократ: индивидуальное и надындивидуальное в сознании. Критика софистов положила конец непосредственному знанию: она требовала рефлексии, опосредствования, проверки всякого утверждения, требовала выносить на суд всякое непосредственное наблюдение, бессознательно приобретенное убеждение или дорефлективно сложившееся мнение. Софистика истребляла все непосредственное, воевала против всего того, что жило в сознании людей без удостоверения его законности. Отныне право на жительство имело только такое содержание, которое было допущено в сознание самим этим сознанием; все же, что проникло в него не этим законным путем, а через какие-то неконтролируемые сознанием каналы, т. е. то, что было усвоено бессознательно, должно быть исторгнуто как недостоверное, неистинное, а потом, может быть, частично и впущено назад — после проверки. В этом состоял ра
Становление первых научных программ
129
дикальный рационализм софистики, который роднит ее с новоевропейским Просвещением.
Но что это за инстанция — мое сознание? Что значит «Я»? В чем состоит принцип, в соответствии с которым сознание осуществляет проверку всякого утверждения?
Судя по тому, что сообщают о софистах древние источники, среди них была очень сильна тенденция рассматривать субъект знания, рефлектирующее Я, судящую инстанцию как отдельный, обособленный индивид, наделенный известной чувственной организацией и ею определяемый. Так, по крайней мере, изображает позицию софистов Платон в диалоге «Теэтет». Протагор, один из наиболее выдающихся софистов, следующим образом формулирует принцип субъективной обусловленности всякого знания: «Мера всех вещей — человек, существующих, что они существуют, а не существующих, что они не существуют» 24. То, что сознание здесь рассматривается прежде всего как носитель субъективности, можно заключить из дальнейших разъяснений Платона: «...он (Протагор.— П. Г.) говорит тем самым, что-де какой мне кажется каждая вещь, такова она для меня и есть, а какой тебе, такова же она, в свою очередь, для тебя» 2б. Если в самом деле наше знание определяется исключительно чувственным восприятием26, которое всегда носит индивидуальный характер, то невозможно обнаружить никакой объективной характеристики предмета самого по себе, а только такая характеристика имела бы значение для всех познающих независимо от их индивидуальности.
При таком понимании рефлектирующей инстанции, т. е. человеческого «Я», рационализм софистов оборачивается в теории познания релятивизмом и скептицизмом, а в сфере нравственности, практического действия — произволом индивидуума, руководствующегося чувственными склонностями и не знающего иного верховного начала, кроме частного интереса.
24 Теэтет, 153а/Пер. Т. В. Васильевой.
26 Там же.
26 «Каким каждый человек ощущает нечто, таким скорее всего оно и будет для каждого»,— поясняет Платон точку зрения софистов (Теэтет, 152е).
5 П. П. Гайденко
130
Раздел второй
Эта тенденция софистики, которая обнаружилась очень скоро, вызвала оппозицию по отношению к ней, но оппозицию двоякого рода. С одной стороны, раздавались критические голоса против самого принципа рефлексии, в защиту непосредственных, т. е. традиционных верований и древних обычаев, унаследованных от предков. В этом духе выступает, например, Аристофан в комедии «Облака» с критикой Сократа, которого он полностью отождествляет с софистами 27. С другой стороны, оппозиция по отношению к релятивизму возникла и внутри самой софистики, а именно в лице Сократа. Эта оппозиция выступала не против принципа рефлексии, а против индивидуалистического способа проведения этой рефлексии, против характерного для софистики понимания рефлектирующей, критической инстанции.
Согласно Сократу,— насколько нам известна его позиция (главным образом из диалогов Платона) — релятивизм и скептицизм софистов вытекают из их понимания сознания как чего-то такого, что определяется чувственными склонностями и соответственно партикулярными стремлениями отдельного индивида. Весь философский интерес Сократа сосредоточивается на вопросе о том, что такое сознацие 28. На первый взгляд оно принадлежит индивиду и, значит, должно определяться его индивидуальными особенностями, т. е. его чувственностью (психологией, как сказали бы мы сегодня), но при более глубоком рассмотрении индивид скорее сам принадлежит сознанию. Рефлектирующей инстанцией, т. е. субъектом как теоретического познания, так и практического действия, оказывается не он, как этот чувственный, отдельный, частный, своевольный и своекорыстный индивид.
Но если не он, то кто же? В сознании Сократ обнаруживает разные слои, состоящие с индивидом, носителем сознания, в весьма сложных отношениях, иногда даже
27 «В данном случае у Аристофана действовал старый деревенский инстинкт: нельзя трогать традиционных богов и нельзя о них рассуждать»,—* пишет А. Ф. Лосев во вступительной статье к сочинениям Платона (Лосев А. Ф. Жизненный и творческий путь Платона, с. 20).
11 «Познай самого себя» — вот программа философских исследований Сократа.
Становление первых научных программ
131
вступающие с ним в неразрешимую коллизию, которая кончается трагически. Субъектом одного из слоев оказывается чувственный индивид — это хорошо показали софисты, и против них в этом смысле Сократу нечего возразить. Но кто является субъектом другого слоя — того, над которым индивид не властен, а который, напротив, сам властен над индивидом? Таков вопрос Сократа. Усилия Сократа сосредоточиваются на том, чтобы показать, что такой — загадочный — слой действительно существует и что индивид, как отдельное чувственное существо, не определяет ни его статуса, ни его содержания. И когда возникает требование представить какое-либо утверждение, убеждение, мнение на суд сознания, то в качестве судящей инстанции должен выступать именно этот слой, не зависящий от произвола индивидуального чувственного Я. Этот слой можно назвать надындивидуальным слоем в индивидуальном сознании. Анализ сознания как содержащего в себе оба эти слоя — это и есть, в сущности, диалектика Сократа.
Софисты, как мы теперь понимаем, выступили с критикой всех оснований старой цивилизации. Они видели порок этих оснований — нравов, верований, обычаев, устоев — в их непосредственности, которая и есть, в сущности, традиционность. Традиция имеет силу всегда лишь до тех пор, пока существует непосредственное доверие к ней. Она держится не силой оружия, не силой сознания, не силой логики и аргументов, а силой бессознательности, силой непосредственности. Непосредственность — это огромная мощь, против нее бессильны армия, оружие, прямое нападение. Но есть враг, против которого она беспомощна. Он тихо, сперва незаметно, подобно кроту, подрывает почву, на которой стоит традиция. Враг этот — жажда опосредования, стремление обосновать, доказать, найти для данного просто так—рациональное основание.
Непосредственность и опосредование — это принципы разных типов цивилизаций, и хотя, по-видимому, в истории эти два типа цивилизаций в чистом виде и не встречаются, но можно различать типы общества по преобладанию в них первого или второго принципа.
В традиционных обществах, несомненно, преобладало начало непосредственности, и это сказывается на самой
5*
132
Раздел второй
форме знания, сложившегося в этих обществах: мифоло гические истины никогда не доказываются, а практически-технические сведения сообщаются в форме предписаний, своего рода «рецептов», указывающих, как надо выполнять те или иные действия. В этом отношении первые натурфилософские построения еще несут на себе печать знания, характерного для традиционных обществ: они так же лишены доказательства и систематического характера, как и мифологемы. В этом отношении интересно одно замечание Аристотеля, касающееся вопроса о том, что усвоение учебного материала происходит в зависимости от разных склонностей слушателей: «Какие у нас сложились привычки, такого изложения мы и требуем... И одни хотят, чтобы все излагалось точно, а другим точность не по душе или потому, что они не в силах связать <одного с другим^, или потому, что (по их мнению^ это — крохоборство. В самом деле, есть у точности что-то такое, из-за чего она как при сделках, так и в рассуждениях кажется некоторым недостойной свободного человека» 29. Наблюдательный Аристотель хорошо понимал, почему точность (т. е. доказательность и обоснованность каждого утверждения) раздражала людей, настроенных в традиционно-аристократическом духе. Как видно, точность в научных рассуждениях, как и при сделках,— это принцип нового, на рациональных началах построенного общества.
Из сказанного вытекают важные выводы.
Во-первых, наука в собственном смысле слова возникает с переходом от традиционного общества с господствующим в нем принципом непосредственности, к обществу, где господствующим становится начало опосредования. Мы это, в сущности, и наблюдаем в Древней Греции VI — IV вв. до н. э. Ибо доказательство, лежащее в основе математики древних греков, вне всякого сомнения, есть плод той духовной атмосферы, которой не было в традиционных типах общества.
Во-вторых, поскольку возникает опосредование всех человеческих связей и отношений через сознание, поскольку они все больше начинают регулироваться не с помощью традиционных, без всякой критической рефлек-
2в Метафизика, II, 3.
Становление первых научных программ
133
сии усваиваемых нравов и обычаев, установлений и привычек, то знание становится одним из важных регуляти-вов социальных отношений. Знание становится тем самым необходимым моментом, без которого не может существовать теперь социальная общность. Именно потому, что человеческие поступки регулируются теперь сознанием, то, что определяет сознание, становится и определителем действий, поступков. Вот почему для Сократа и его ученика Платона проблема знания выступает как главная проблема нравственности, а паука, как ее понимает Платон, становится фундаментом государственной жизни.
В-третьих, и само знание теперь, при требовании рефлексии, опосредования, получает статус достоверного только тогда, если оно дает себе отчет в своих основаниях. Непосредственное знание теперь не является в строгом смысле слова научным: в понятие науки обязательно включается знание собственных оснований. 11а протяжении этого, с точки зрения исторической очень краткого, периода ломки одного типа общественной структуры и становления другого ее типа в напряженно ищущей философской мысли меняется способ осмысления того принципа, который мы назвали принципом опосредования. Первой философской школой, где возникла сознательная попытка осмысления этого принципа, были, видимо, элеаты. В логической форме поставленная проблема опосредования предстает как проблема отношения. Элеаты заявляют: бытие есть, а небытия нет. Нет ничего другого, кроме бытия. Это значит: бытие не может вступать ни с чем ни в какие отношения, поэтому оно неизменно, непреходяще, неподвижно, недробимо и т. д. Бытие, как предмет интеллектуального созерцания, дано непосредственно и никакого опосредования в себе не содержит. Всякое опосредование, всякая связь бытия с чем-то другим (чем само бытие) и определение через это другое, согласно элеатам, есть релятивизация; опосредование характерно для мира чувственного, оно невозможно в сфере истинного бытия.
В значительной степени с элеатами солидарны и софисты — с той, однако, существенной разницей, что они не признают ничего, кроме мира чувственного. Но в оценке последнего как чисто относительного мира, зависящего всегда от субъективности воспринимающего индивида,
134
Раздел второй
они с олеатами согласны. По Протагору, все есть опосредование, нет ничего непосредственного, а потому нет больше ничего самого по себе, ничего прочного и абсолютного — все релятивно, ибо все дано только в отношениях.
Эта проблема во всей ее остроте встала перед Платоном. Он попытался найти новое решение, связав ее с сократовскими поисками такого слоя сознания, который не зависит от индивида, а от которого зависит сам индивид.
На первый взгляд может показаться, что размышление над вопросом о том, что такое сознание, так же как и над проблемой опосредования и непосредственности, которая, в сущности, есть другая сторона того же вопроса о сущности сознания, не имеет прямого отношения к развитию научного знания в античной Греции. Однако в действительности эти размышления представляют собой не что иное, как рефлексию о природе, источниках и статусе всякого знания, в том числе, разумеется, и естественнонаучного, и математического. Переключение интереса с природы на человека, с объекта знания на субъект знания — переключение, которое мы видим у софистов, Сократа и в значительной мере также у Платона, имело огромное значение для развития способов изучения самой природы. Включение в поле зрения науки субъекта знания расширило горизонты науки, она впервые смогла взглянуть на саму себя, критически оценить свои методы и свое содержание. Теперь наука уже не оставляет без внимания свои собственные предпосылки, она отныне решает двойную задачу: исследует природу и проверяет достоверность своих методов исследования. Правда, эти функции не всегда выполняются одними и теми же людьми. Если в досо-кратовский период ученый и философ представали в одном лице, то теперь, после возникновения рефлексии о самих основаниях научного знания, складывается такая ситуация, при которой непосредственная деятельность ученого может быть отделена от рефлектирующе-критической функции философа. В известной мере такое разделение функций мы находим у Платона, с одной стороны, и близких к нему математиков Архита, Теэтета, Евдокса — с другой. Но такое разделение может иметь место и у одного мыслителя: так, Аристотеля можно в такой же мере считать естествоиспытателем, как и философом.
Становление первых научных программ
135
Глава третья
Платон и теоретическое обоснование математической программы в античной науке
Исходной темой размышлений Платона, которая была центральной у его учителя Сократа, является тема надиндивидуального слоя в сознании индивида. Если такой слой существует, то надо вскрыть его природу и тогда, по убеждению Платона, можно будет показать несостоятельность субъективизма и релятивизма теории познания софистов.
В ранних, так называемых сократических, диалогах Платон занят главным образом этим вопросом (правда, вопрос этот для него столь важен, что к полемике с софистами он обращается и в более поздний период — в таких диалогах, как «Софист» и «Теэтет»). Ход мысли Платона определяется в большой мере тем, что именно он должен опровергнуть. Софисты, как мы знаем, доказывали, что человеческое знание детерминировано индивидуальностью познающего, оно зависит от его чувственности, т. е. в конечном счете от его тела, а потому объективное знание, которое не было бы отнесено к чувственности разных тел, не существует.
Платон вполне согласен с софистами в том, что всякое знание, получаемое нами с помощью органов чувств, т. е. через тело, действительно является относительным. «...Когда душа пользуется телом,— говорит Сократ в диалоге «Федон»,— исследуя что-нибудь с помощью зрения, слуха или какого-нибудь иного чувства (ведь исследовать с помощью тела и с помощью чувства — это одно и то же), тело влечет ее к вещам, непрерывно изменяющимся, и от соприкосновения с ними душа сбивается с пути, блуждает, испытывает замешательство и теряет равновесие, точно пьяная» х.
Различение индивидуального и надындивидуального слоев выступает, как видим, у Платона в форме различе
1 Федон, 79с.
136
Раздел второй
ния телесного, чувственного начала в человеке и бестелесного, нечувственного, т. е. в форме различения тела и души. Когда душа находится под влиянием тела, она оказывается подчиненной тем состояниям, которые следует считать «телесными», а именно влечениям к изменчивым, тоже телесным вещам эмпирического мира. Но что же представляет собой душа, когда она не подвержена влиянию тела, а предоставлена самой себе? Она, согласно Платону, есть в этом случае размышление. Размышление — это состояние самой души, это ее стихия, когда она свободна от тела и неподвластна ему. «Когда же она (душа.— П.Г.) ведет исследование сама по себе,—продолжает Сократ,— она направляется туда, где все чисто, вечно, бессмертно, и неизменно, и так как она близка и сродни всему этому, то всегда оказывается вместе с ним, как только остается наедине с собой и не встречает препятствий. Здесь наступает конец ее блужданиям, и в непрерывном соприкосновении с постоянным и неизменным она и сама обнаруживает те же свойства. Это ее состояние мы называем размышлением...» 2
Анализ сознания, начатый софистами, привел их в теории познания к убеждению в том, что всякая истина индивидуальна, а это в практически-нравственной сфере соответствовало убеждению в том, что индивид должен руководствоваться собственным частным интересом. Такая теория была адекватным осмыслением разложения до тех пор существовавшей общественной системы традиционного типа социальности, предполагавшей нерефлек-тированное сознание. Если признать рефлексию правомерной, но в то же время отказаться признать частный интерес индивида единственной реальностью, на базе которой должен быть построен новый тип общественных связей, новая форма социальности, то остается единственный путь: искать в самом сознании индивида то абсолютное, всеобщее и незыблемое начало, которое в традиционном обществе существовало в виде объективных нравов, обычаев, верований, не опосредованных индивидуальным сознанием, а принимаемых непосредственно. Этим путем и пошел Платон.
2 Федон, 79с,
Становление' первых научных программ
137
Такова та реальная — и социальная, и нравственная, и гносеологическая — проблема, попытка решить которую привела к появлению первой в истории человеческой мысли формы идеализма.
В сознании было обнаружено два слоя, радикально противоположных друг другу и по крайней мере на первом этапе развития платоновской философии ничем не опосредованных: бесконечная душа и смертное тело: «...Божественному, бессмертному, умопостигаемому, единообразному, неразложимому, постоянному и неизменному самому по себе в высшей степени подобна наша душа, а человеческому, смертному, постигаемому не умом, многообразному, разложимому и тленному, непостоянному и несходному с самим собою подобно — и тоже в высшей степени — наше тело» 3.
Перед нами — ряд противоположных определений, во многом сходных с теми, какие мы уже видели у элеатов: одни характеризуют мир истинного, мир бытия, другие — мир иллюзорный, мир мнения:
божественное — человеческое, бессмертное — смертное,
умопостигаемое — воспринимаемое чувствами, единообразное — многообразное,
постоянное — изменчивое, неразложимое — разложимое, самотождественное — несамотождственное.
Все, что относится к миру видимого, зримого, а тем самым чувственного, принадлежит, по Платону, изменчивому, тленному, неистинному; напротив, к истинному миру относится незримое, безвидное 4, т. е. то, что постижимо умом.
Очевидно, что такому разделению двух слоев в человеческом сознании и двух сфер мира — чувственной и умопостигаемой — соответствует различный статус зна-
3 Фе дон, 80Ь.
4 «Итак, с твоего разрешения,— обращается Сократ к собеседнику,— мы установим два рода вещей — зримые и безвидные... Безвидные всегда неизменны, а зримые непрерывно изменяются...» (Федон, 79).
138
Раздел второй
нияЪб этих двух мирах. И, действительно, все, что мы можем узнать относительно чувственного мира, имеет, согласно Платону, статус не истинного знания, а всего лишь мнения. «...Всякий раз, когда она (душа.— П. Г.) устремляется туда, где сияют истина и бытие, она воспринимает их и познает, а это показывает ее разумность. Когда же она уклоняется в область смешения с мраком, возникновения и уничтожения, она тупеет, становится подверженной мнениям, меняет их так и этак, и кажется, что она лишилась ума» 5.
^Поскольку все знание о природе, как оно было представлено в досократовской «физике» — натурфилософии, есть знание о том, что возникает и уничтожается, постольку оно, с точки зрения Платона, не может быть достоверным, истинным знанием о мире идей и должно быть отнесено к сфере изменчивого «мнения». При этом характерно, что, согласно Платону, изучение мира чувственного бытия без соответствующей установки не только не способствует познанию бытия истинного, незримого, неизменного, вечно пребывающего, но оно, напротив, мешает этому истинному познанию. Для того чтобы обратиться к познанию истинного бытия, «нужно отвратиться всей душой ото всего * становящегося: тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия...» 6.
Может возникнуть естественный вопрос: если установка Платона требует отвернуться от познания природы, с тем чтобы человек направил свой взор на некое «безвид-ное», бестелесное, вечное бытие, то такая установка гибельна для естествознания, она представляет собой обскурантизм, ибо Платон тем самым доказывает ученому, что любые его попытки раскрыть закономерности природы заранее обречены на неудачу, а тем самым вселяет в него дух скептицизма, являясь, таким образом, препятствием на пути развития науки 7.
На первый взгляд может показаться, что это действительно так и что роль философии Платона в эволюции
6 Государство, VI, 508d (курсив мой.— П. Г.).
6 Государство, VI, 518с.
7 Такие соображения действительно не раз высказывались по поводу философии Платона.
Становление первых научных программ
139
науки может быть квалифицирована лишь как отрицательная. Но в действительности процесс развития науки очень сложен, и то, что на первый взгляд может показаться уводящим с прямого пути накопления положительных знаний о природе, на самом деле оказывается открывающим новый, ранее неизвестный путь. Здесь мы имеем дело с той диалектикой познания, о которой В. И. Ленин писал: «Движение познания к объекту всегда может итти лишь диалектически: отойти, чтобы вернее попасть....» 8. Характерно, что Ленин говорит об этом диалектическом характере движения познания к объекту именно в связи с критическим анализом идеализма Платона.
Платон действительно требует отвернуться от природы, отойти от нее в том виде, как она дана чувственному созерцанию 9, но отойти, чтобы выработать новые средства познания, которые позволят впоследствии подойти к ней гораздо ближе, чем это делали натурфилософы. И хотя сам Платон полагал, что тот способ познания, разработкой которого он занимался всю свою жизнь, непосредственно имеет своим предметом не природу, а мир чистых идей, но, как мы увидим, этот способ познания получил выход и в сферу естествознания, однако не сразу. Иначе и не могло быть, если учесть, что идеализм Платона —это исторически определенная форма решения отнюдь не мнимых, не придуманных, а реальных теоретико-познавательных проблем. «Философскийидеализм,— говорит В. И. Ленин,— есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизического. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное... развитие (раздувание, распухание)одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленный» 10.
Критика натурфилософии. Рассмотрим теперь, в чем именно Платон видит несостоятельность натурфилософского объяснения природных явлений и в каком направ
8 Ленин В. И. Философские тетради. М., 1973, с. 252.
9 И не только чувственному созерцанию, но и тому способу ее понимания, какой был характерен для натурфилософии.
10 Ленин В. И. Указ, соч., с. 322.
140
Раздел второй
лении он предлагает идти, чтобы создать истинную науку, достоверное знание. В диалоге «Федон» устами Сократа 11 дается следующая характеристика натурфилософского знания: «В молодые годы,— говорит Сократ,— у меня была настоящая страсть к тому виду мудрости, который называют познанием природы. Мне представлялось удивительным и необыкновенным знать причину каждого явления — почему что рождается, и почему погибает, и почему существует. И я часто метался из крайности в крайность и вот какого рода вопросы задавал себе в первую очередь: когда теплое и холодное, взаимодействуя, вызывают гниение, не тогда ли, как судили некоторые, образуются живые существа? Чем мы мыслим — кровью, воздухом или огнем?.. Размышлял я и о разрушении всего существующего, и о переменах, которые происходят в небе и на земле,— и все для того, чтобы в конце концов счесть себя совершенно непригодным к такому исследованию» 12.. В результате таких объяснений, жалуется Сократ, он утратил понимание даже того, что до этого казалось ему понятным — «окончательно ослеп и разучился даже тому, что знал прежде» 13.
Что же именно не удовлетворяет Платона в натурфилософских объяснениях? Как можно видеть из приведенного отрывка, Платон иронизирует по поводу понятий, которыми оперировала старая натурфилософия и которые, в сущности, носили метафорический характер. В самом деле, что значит «мыслить кровью, воздухом или огнем»? Разумеется, говоря о том, что мы мыслим, допустим, огнем, натурфилософ хотел тем самым показать, что из всех природных стихий огонь — самая легкая, быстрая, подвижная, и в этом его сходство с мышлением. Но ведь это чистая метафора, т. е. аналогия, а не логическое понятие. А всякая метафора фиксирует только одну сторону явления, и потому любое явление можно описать с помощью
11 Нет сомнения, что первоначальный толчок к такого рода размышлениям Платона действительно исходил от Сократа, объ-
явившего недостоверными всякие рассуждения о том, «почему что рождается, и почему погибает, и почему существует» (Федон, 96b).
12 Федон, 96b—с.
13 Федон, 96с.
Становление первых научных программ
141
бесчисленного множества метафор, поскольку оно имеет бесчисленное множество сторон. Не случайно поэтому существовало почти столько же способов этого — метафорического — понимания явлений природы, сколько было самих натурфилософов: между их объяснениями не было и не могло быть согласия.
Второй особенностью натурфилософии, которая тесно связана с первой, является отсутствие в ней доказательства тех положений, которые выставляют натурфилософы. Метафорическое мышление, как это мы видим и в мифологии, не может быть доказывающим. В этом отношении мышление натурфилософов-досократиков родственно мифологическому. Натурфилософ может только показать, но не доказать: он может указать аналогию в виде определенного частного явления, которая им распространяется на весь мир вообще. Так, когда Фалес говорил, что все происходит из воды, он мог в качестве аргумента указать на живые существа, которые не могут ни возникать при отсутствии влаги, ни существовать без нее. Для них вода — необходимое условие их бытия, эта аналогия и должна служить у Фалеса способом показа истинности его философского учения: все — из воды.
Благодаря критической работе, проведенной элеатами и софистами, Платон теперь понимает, что мы можем иметь столько метафорических определений явления, сколько связей и опосредований имеется у этого явления, а этих связей бесконечно много. Поэтому, по словам Платона, те, кто оперирует метафорами, не имеют ничего прочного, тождественного себе, на чем они могли бы укрепить свои определения, чтобы последние не растекались, не расплывались в бесконечность. И в самом деле, определений одному и тому же явлению можно дать столько, сколько отношений с другими явлениями мы можем в нем заметить, ибо определение дается всегда через что-то другое, чем сам предмет. Вот как поясняет Платон эту мысль: «Теперь, клянусь Зевсом,— сказал Сократ,— я далек от мысли, будто знаю причину хотя бы одной из этих вещей. Я не решаюсь судить даже тогда, когда к единице прибавляют единицу — то ли единица, к которой прибавили другую, стала двумя, то ли прибавляемая единица и та, к которой прибавляют, вместе становятся двумя
142
Раздел второй
через прибавление одной к другой. Пока каждая из них была отдельно от другой, каждая оставалась единицей и двух тогда не существовало, но вот они сблизились, и я спрашиваю себя: в этом ли именно причина возникновения двух — в том, что произошла встреча, вызванная взаимным сближением? И, если кто разделяет единицу, я не могу больше верить, что двойка появляется именно по этой причине — через разделение, ибо тогда причина будет как раз противоположной причине образования двух: только что мы утверждали, будто единицы взаимно сближаются и прибавляются одна к другой, а теперь говорим, что одна от другой отделяется и отнимается!» 14.
Трудно сказать яснее, чем Платон. Любое явление можно определить через что-то другое, а этих других — много; в примере с понятием двойки Платон показывает, что ее можно определить и как результат деления на две части одной какой-то единицы, и как результат сложения двух раздельно существовавших единиц. Но ведь тогда мы даем разные определения двойки, мы берем ее в разных отношениях, значит, и двойки наши будут разные.
Поэтому прежде чем что-либо определять, надо, по Платону, понять, что такое определение] прежде чем что-нибудь понимать, надо выяснить, что такое понятие] прежде чем мыслить, надо дать себе отчет в том, что такое мышление.
Эту задачу Платон ставит перед собой едва ли не во всех своих диалогах; но наиболее четко и последовательно он анализирует, что такое мышление, в диалоге «Парменид».
Проблема единого и многого и решение ее Платоном. Итак, перед Платоном стоит антиномия. Тезис ее сформулирован элеатами: истинно то, что тождественно самому себе, а тождественное себе не может ни изменяться, ни возникать и исчезать, ни двигаться, ни члениться на части — оно может только быть и быть тождественным себе. Тезис элеатов, если его выразить формально-логически, свелся бы, следовательно, к закону тождества: А есть А.
Платон полностью согласен с элеатами в том, что без наличия чего-то самотождественного (т. е., иначе говоря,
14 Федон, 96с—97b,
Становление первых научных программ
143
без принципа тождества) невозможно никакое познание. «...Не допуская постоянно тождественной себе идеи каждой из существующих вещей, он (человек.— П. Г.) не найдет, куда направить свою мысль, и тем самым уничтожит всякую возможность рассуждения» 15.
Но тут возникает другое соображение — антитезис, сформулированный софистами: то, что в состоянии познать человек, не может быть тождественно самому себе, ибо самотождественное — это то, что отнесено только к себе самому, а то, что мы называем познанием, есть отнесение познаваемого к субъекту познания. Значит, для того чтобы предмет был познаваемым, нужно, чтобы он был отнесен не к самому себе, а к познающему субъекту 16. Если выразить эту мысль на языке Платона, то надо сказать: то, что может быть познано, есть всегда другое (а не тождественное).
Стало быть, мы имеем два несовместимых утверждения: чтобы было возможно познание, нужно, чтобы предмет был тождественным себе и в то же время чтобы он не был тождественным себе— другими словами, нужно, чтобы он был отнесен только к самому себе и чтобы он был отнесен только к другому — познающему субъекту.
Эта же самая антиномия может быть сформулирована и по-другому, для понимания языка Платона мы должны рассмотреть и эту ее формулировку. Тождественное самому себе, а стало быть, неизменное, вечное, неделимое и т. д. бытие предмета не может быть дано среди явлений
16 Парменид, 135b—с/Пер. Н. Н. Томасова.
16 Платон устами Парменида следующим образом поясняет эту мысль, которую еще трудно понять молодому Сократу. «...Если бы кто стал утверждать, что идеи, будучи такими, какими они, по нашему, должны быть, вовсе недоступны познанию, то невозможно было бы доказать, что высказывающий это мнение заблуждается...
— Почему так, Парменид?— спросил Сократ.
— А потому, Сократ, что и ты, и всякий другой, кто допускает самостоятельное существование некоей сущности каждой вещи, должен, я думаю, прежде всего согласиться, что ни одной такой сущности в нас нет.
— Да, потому что как же она могла бы тогда существовать самостоятельно? — заметил Сократ». (Парменид, 133b—с; курсив мой.— П. Г.).
144
Раздел второй
чувственного мира и должно быть вынесено за пределы последнего. Это бытие Платон называет идеей.
Вопрос о возможности познания этой идеи (или этих идей), т. е. о возможности ее вступить в отношение с познающим субъектом, ставится в этом случае как вопрос о том, как идея может быть связана с чувственным миром, в каком отношении с чувственным миром она может находиться. Как может нечто самотождественное вступить в контакт с чем-нибудь, кроме себя самого? Если оно вступит в этот контакт, то оно уже не будет само-тождественным, неделимым, неизменным и т. д.; но если оно не вступит в этот контакт, то мир чувственный окажется совершенно непричастен ему и само оно станет совершенно недоступным познанию. Платон формулирует эту антиномию с максимальной остротой 17.
17 Когда молодой еще Сократ в диалоге «Парменид» хочет решить эту антиномию путем указания на то, что связь между идеями и чувственными вещами — это связь приобщения (или причастности), не особенно углубляясь в вопрос о том, к каким затруднениям ведет допущение такой связи, умудренный в этом вопросе Парменид спрашивает его: «Но каждая приобщающаяся [к идее] вещь приобщается к целой идее или к ее части? Или возможен какой-либо' иной вид приобщения, помимо этих?
— Как так?— сказал Сократ.
— По-твоему, вся идея целиком — хоть она и едина — находится в каждой из многих вещей или дело обстоит как-то иначе?
— А что же препятствует ей, Парменид, там находиться?— сказал Сократ.
— Ведь оставаясь единою и тождественною, она в то же время будет вся целиком содержаться во множестве отдельных вещей и таким образом окажется отделенной от самой себя.
— Ничуть,— ответил Сократ,— ведь вот, например, один и тот же день бывает одновременно во многих местах и при этом нисколько не отделяется от самого себя, так и каждая идея, оставаясь единою и тождественною, может в то же время пребывать во всем.
— Славно, Сократ,— сказал Парменид,— помещаешь ты единое и тождественное одновременно во многих местах, все равно как если бы, покрыв многих людей одною парусиною, ты стал утверждать, что единое все целиком находится над многими. Или смысл твоих слов не таков?
— Пожалуй, таков,— сказал Сократ.
— Так вся ли парусина будет над каждым или над одним — одна, над другим — другая ее часть?
Становление первых научных программ
145
Поскольку идея есть нечто единое, а соответствующих вещей, т. е. чувственных воплощений этой идеи, будет множество, то отношения между идеальным и чувственным — это отношение между единым и многим.
Таким образом, полемика между элеатами и пифагорейцами по вопросу о едином и многом вновь возрождается у Платона, обогащенная еще одним аспектом, которого не было ранее, а именно аспектом гносеологическим.
Онтологически эта проблема формулируется так: как может единая идея воплотиться в множестве вещей, остается ли она после этого единым или становится многим? Гносеологически она формулируется так: как может единое быть предметом познания? Ведь, оказываясь познаваемым, оно вступает в контакт с познающим, а значит, перестает быть единым. А всеобщая, т. е. логическая формулировка этого вопроса такова: как может единое — и может ли — быть многим?
С наибольшей полнотой эта проблема рассмотрена в диалоге «Парменид». Не случайно этот диалог является вершиной логической мысли Платона. Форма, в какой Платон рассматривает этот вопрос, сама по себе очень интересна. Он строит свое рассуждение по тому же принципу, по какому строится косвенное доказательство в «Началах» Евклида, а именно: он принимает определенное допущение (гипотезу — и показывает, какие вы-
воды следуют из этого допущения.
Гипотеза /. «Если есть единое, то может ли оно быть многим?» 18 Ясно, что ответ должен быть отрицательным: единое — это единое, оно не может быть многим. А коль скоро мы приняли этот тезис, то мы должны согласиться, что:
— Только часть.
— Следовательно, сами идеи, Сократ, делимы,— сказал Парменид,— и причастное им будет причастно их части, и в каждой вещи будет находиться уже не вся идея, а часть ее.
— Что же, Сократ, решишься ли ты утверждать, что единая идея действительно делится у нас на части и при этом все же остается единой?» (Парменид, 131а—131с).
18 Парменид, 137с. Здесь, видимо, следовало бы перевести вопрос так: «Если оно единое, то может ли оно быть многим?» (si ev ecxiv, аХХо tl оих av si?) гсоХХа то £v). Далее мы увидим, почему связку «есть» здесь не следовало бы подчеркивать.
146
Раздел второй
а) единое не может иметь частей, а значит, не может быть целым, ибо целое — это то, что имеет части;
б) не имея частей, оно не может иметь ни начала, ни конца, ни середины, а поскольку начало и конец — предел каждой вещи, то единое — беспредельно, а также лишено всяких очертаний;
в) не имея частей, единое также не может находиться ни в самом себе, ни в другом; ибо, находясь в другом, оно охватывалось бы этим другим и касалось его многими своими частями; а находясь в себе, оно окружило бы само себя и таким образом раздвоилось бы на окружающее и окружаемое; следовательно, единое находится нигде, т. е. иначе говоря, нигде не находится;
г) опять-таки из-за отсутствия в нем частей единое не могло бы ни покоиться, ни двигаться, ни изменяться — в силу тех же аргументов;
д) самое парадоксальное, что единое, как показывает Платон, «не может быть тождественным ни иному, ни самому себе и, с другой стороны, отличным от самого себя или от иного» 19.
То, что единое не может ни быть отличным от себя, ни быть тождественным иному, это понятно; ведь оно имеет только одно определение — быть единым, а для того, чтобы быть тождественным иному (или отличным от себя), оно должно соотнестись с другим, но никакого соотношения быть не может, пока дано только одно определение — единость. Всякое соотношение есть уже введение чего-то другого, а значит, несовместимо с исходной посылкой.
Но почему же единое не может быть тождественным самому себе? Потому что природа единого, говорит Платон, не та же, что природа тождественного: «Если бы единое и тождественное ничем не отличались, то всякий раз, как что-либо становилось бы тождественным, оно делалось бы единым и, становясь единым, делалось бы тождественным» 20.
Мы можем истолковать это объяснение Платона в том смысле, что понятие тождественности предполагает акт
19 Парменид, 139b.
20 Парменид, 139d.
Становление первых научных программ
147
соотнесения, сравнения двух предметов, т. е. определенное действие сознания, в то время как единое есть самое первое, то, без чего вообще ничего не может быть. Единое есть условие возможности всего остального, в том числе и тождественного.
Далее Платой доказывает, что единое не может быть ни равным, ни неравным себе (ибо для измерения необходима мера, отличная от измеряемого); оно не может быть причастно времени, ибо оно не имеет частей, а потому не может ни «становиться», ни быть в прошлом, настоящем и будущем 21. А поскольку быть причастным бытию можно только одним из этих способов, то единое, заключает Платон, «никаким образом не существует» 22.
Таким образом, исходя из допущения единого, Платон получил парадоксальный вывод, что единого не существует. Если допустить единое само по себе, исключающее многое, то такое единое есть ничто: «Не существует ни имени, ни слова для него, ни знания о нем, ни чувственного его восприятия, ни мнения» 23.
Характерно, что у Платона онтологическая характеристика совпадает с гносеологической: единое, взятое само по себе, не только не может быть познано, но его и не существует; «ни имени, ни слова» не существует для него потому, что для него нет и бытия 24 *. Это очень примечательное тождество — тождество бытия и знания. Единое, у которого есть именно этот предикат — предикат бытия, оказывается сразу в другом положении, чем единое, лишенное этого атрибута. Но тем самым Платон переходит к другой гипотезе.
Гипотеза II. Единое существует 2б. «Итак, утверждаем
21 Парменид, 141е.
22 Парменид, 141е.
23 Парменид, 142.
24 Впоследствии неоплатоники увидели в этом рассуждении Пластова первую форму негативной теологии: единому, как оно есть само по себе, безотносительно к чему бы то ни было, невозмож-
но приписать никаких предикатов; оно может быть определено только через отрицание. Это неоплатоновское понимание оказало влияние на средневековую теологию, возрожденческую метафизику и немецкую мистику Мейстера Экхарта и Якова Беме.
26 Вот почему нельзя первую гипотезу формулировать так, как было сделано в переводе Н. Н. Томасова; ведь первая гипотеза
148
Раздел второй
мы, если единое существует, надо принять следствия, вытекающие для единого, какие бы они ни были» 26.
Рассмотрим вкратце этот второй круг рассуждения 27. Его суть заключается в том, что теперь единое имеет предикат; этот предикат — бытие 28. Самое главное здесь в том, что бытие как предикат единого не тождественно самому единому, а потому, когда мы говорим «единое есть», мы тем самым произносим суждение: «А есть В», ибо если единое — А, то бытие — это не просто связка «есть» 29, а это именно другое, чем единое, а значит, это — В. Вот как Платон формулирует это важнейшее положение: «Итак, должно существовать бытие единого, не тождественное с единым, ибо иначе это бытие не было бы бытием единого, и единое не было бы причастно ему, но было бы все равно что сказать «единое существует» или «единое едино». Теперь же мы исходим не из предположения, «единое едино», но из предположения «единое существует"»30.
Собственно, здесь уже все сказано; дальнейшее рассуждение только эксплицирует, выявляет то, что уже за-
гласит: если единое едино, то что? И вывод: если единое едино, то оно — ничто, оно не существует. Вторая же гипотеза гласит: еслц единое существует, то что из этого следует?
26 Парменид, 142b.
27 Вторая гипотеза гораздо глубже связана с первой, чем это может показаться на первый взгляд, а именно: в первом рассуждении доказывается, что единое, как таковое, еще не имеет предиката бытия; что оно, будучи только единым, не есть; а значит, бытие приходит к единому не из него самого. Второе рассуждение как раз и начинается с приписывания единому предиката бытия, т. е. с соединения единого с бытием.
28 То, что бытие — предикат, и притом первый из предикатов, основа и источник предикации вообще,— в этом утверждении заключена суть всей системы Платона.
29 Можно также сказать, что если в первом круге рассуждения «есть» в выражении «единое есть» понималось только в смысле тождества единого самому себе, почему мы и предпочли сформулировать это выражение как «единое едино», то в этом втором круге рассуждения «есть» употребляется в экзистенциальном смысле, в смысле «единое существует». Но это различение связки «есть» в смысле формального тождества (тавтологии) и в экзистенциальном смысле, различение, которым пользуется современная логика, не во всех отношениях совпадает со способом мышленцц Платона.
80 Парменид, 142b—с (курсив мой.— П. Г.),
Становление первых научных программ
149
ключено в этой посылке Платона. А заключено в ней утверждение, что единое — не то же, что бытие; «единое» и «бытие» — это уже не одно, а два\ а там, где налицо два, уже совершен переход, выход за пределы одного, единого; там, где два, уже возможно много', двойка у Платона не случайно выступает как начало множественности. Если появилось первое суждение: А есть В, то тем самым уже даны и все остальные: А есть С, А есть D и т. д. Главное — выйти за пределы «А есть А», и этот выход Платон осуществляет, говоря: единое существует или единое причастно бытию.
Постулировав, что «единое существует», Платон тем самым получил первую систему. Она, правда, еще очень простая, в ней связаны между собой всего два члена: «единое» — «бытие», и она может быть названа «существующее единое». Но как бы ни была проста и элементарна эта система, она уже содержит в себе принцип построения любой самой сложной системы, в которой может быть огромное множество членов, т. е. на языке Платона, частей 31. После того как «единое существующее» предстало как целое, «частями» которого являются «единое» и «бытие», ход мысли Платона, только что прослеженный нами, пойдет как бы в обратном порядке.
«Итак, если бытие и единое различны, то единое отлично от бытия не потому, что оно — единое, равно как и бытие есть что-то иное сравнительно с единым не потому, что оно — бытие, но они различны между собою в силу иного и различного» 32.
Как понять это рассуждение? Платон хочет сказать, что единое отлично от бытия не потому, что оно единое, а по
31 «Какие. следствия проистекают из предположения: «единое существует?»... Не представляется ли необходимым, чтобы это предположение обозначало единое, которое имеет части?
— Как это?
— А вот как: если «существует» говорится о существующем едином, а «единое» — о едином существующем и если, с другой стороны, бытие и единое не тождественны, но лишь относятся к одному и тому же существующему единому, которое мы допустили, то ведь необходимо, чтобы само существующее единое было целым, а единое и бытие—его частями» (Парменид, 142с—d).
32 Парменид, 143b.
150
Раздел второй
тому, что оно выступает в системе «единое бытие», или «бытийствующее единое», т. е. в силу соединения с бытием как другим, чем само единое. Только так мы можем понять слова, что бытие и единое различны между собой в силу иного. Благодаря их соотнесенности, через которую единое вступает в отношение, появляется новое определе ние самого единого; оно есть иное.
Если, далее, «единое существующее» есть система, то она представляет собой целое, а «единое» и «бытие» — ее части; таким образом, в отличие от первой гипотезы, когда мы исходили из предпосылки «единое — едино», мы теперь можем говорить применительно к существующему единому о целом и его частях. А поскольку каждая из этих частей не стоит особняком, а есть часть целого, имя которому — «единое существующее», то каждая из частей причастна другой: единое не может быть без бытия как своей «части», а бытие — без единого. «Следовательно,— рассуждает Платон,—каждая из этих частей в свою очередь содержит и единое и бытие, и любая часть опять-таки образуется по крайней мере из двух частей; и на том же основании все, чему предстоит стать частью, всегда точно таким же образом будет иметь обе эти части 33, ибо единое всегда содержит бытие, а бытие — единое, так что оно неизбежно никогда не бывает единым, коль скоро оно всегда становится двумя... Что ж, существующее единое не представляет ли собой, таким образом, бесконечное множество?» 34
Следовательно, достаточно единому вступить в первое отношение, т. е. получить первый предикат — бытия, как образуется система из двух членов, которая, в сущности, уже содержит в себе систему из любого множества членов. Ибо два или, как говорит Платон в других диалогах, «неопределенная двоица» есть начало множественности. Где есть два, там всегда есть единое и иное, или, как сказали бы мы, единое и его отношение, а отношение имеет ту особенность, что оно порождает множественность.
33 Каждый из элементов системы воспроизводит в себе первичное отношение (принцип построения системы), которое Маркс впоследствии назвал «клеточкой» системы.
34 Парменид, 142е—143.
Становление первых научных программ
151
Как образно говорит Платон, «единое, раздробленное бытием, представляет собой огромное и беспредельное множество» 55. Единое может оставаться единым только при условии, что его не существует. Если же оно существует, то оно — многое.
Теперь, вслед за Платоном, перейдем к следующему определению системы «существующее единое». Оно, как мы уже знаем, есть и целое, и части. Взятое в качестве целого, единое охватывает части; чтобы охватывать, оно должно быть ограниченным, хотя в качестве частей (т. е. со стороны своей множественности) оно бесконечно. «Существующее единое есть, надо полагать, одновременно и единое, и многое, и целое, и части, и ограниченное, и количественно бесконечное» 36.
В качестве целого единое должно иметь части — начало, середину и конец; значит, оно причастно к какой-нибудь фигуре, «прямолинейной, круглой или смешанной» 37; обладая этими свойствами, оно находится и в себе самом и в другом: «...поскольку единое — это целое, оно находится в другом, а поскольку оно совокупность всех частей — в себе самом» 38.
Как уже видно из приведенного рассуждения, единое будет иметь противоположные определения; если его брать как целое — одни, а если как части — другие.
Единое оказывается, таким образом, и тождественным себе и нетождественным, равным себе и равным другому, больше себя самого (как объемлющее себя) и меньше (как объемлемое) — значит, единое «и равно, и больше, и меньше самого себя и другого» 39. Теперь очевидно также, что единое будет причастно времени, хотя тут налицо будут противоположные определения: «...единое, с одной стороны, и есть и становится и старше и моложе себя самого и другого, а с другой — не есть и не становится ни старше, ни моложе себя самого и другого» 40.
36 Парменид, 144е (курсив мой.— П. Г.).
36 Парменид, 145.
37 Парменид, 145b.
38 Парменид, 145с.
39 Парменид, 151.
40 Парменид, 155с.
152
Раздел второй
И все это оттого, что единое соотнесено с другим, а именно с бытием. Оказывается, быть — это и значит быть соотнесенным с другим, если мы хотим выразить бытие на языке мышления. Потому только единое может быть соотнесено с познающим индивидом, т. е. может быть познаваемым, что оно уже само по себе, независимо от познающего субъекта, соотнесено с другим. Платон очень хорошо показывает именно эту последовательность: соотнесенность единого с другим есть предпосылка его познаваемости. В силу того что единому присущи все вышеперечисленные предикаты,— «поэтому,— пишет Платон,— возможно нечто для него и его и это нечто было, есть и будет... Воможно, значит, его познание, и мнение о нем, и чувственное его восприятие» 41.
Так завершается второй круг рассуждения. В качестве предпосылки Платон выдвинул утверждение: единое существует. В результате оказалось, что в этом случае единое имеет противоположные определения, ибо с самого начала положение «единое существует» раскрывается как положение «единое есть многое». Но при этом следует еще один существенный вывод: единое познаваемо, если оно есть многое, т. е. если оно имеет предикат бытия.
Однако на этом размышление Платона еще не завершается. Он предпринимает новую попытку: посмотреть, какие выводы последуют из тех же самых посылок для иного, а не для единого.
Гипотеза III. Вот посылка третьего рассуждения: «Не рассмотреть ли теперь, что испытывает другое, если единое существует?» 42
Какие заключения вытекают для другого, если налицо система — «существующее единое»? Другое определяется как неединое (иначе оно не было бы другим); но поскольку оно должно быть понято исходя из характера «отнесенного единого», а единое отнесено ни к чему более, как к другому, то понятно, что другое тоже будет отнесено к единому, т. е. они оба будут друг к другу причастны. Но нас здесь эта причастность интересует с точки зрения судьбы «другого». Что означает она для этого другого?
41 Парменид, 155d.
42 Парменид, 157Ь.
Становление первых научных программ
153
Как «другое», говорит Платон, оно должно быть отлично от самого единого. Единое — едино, значит, другое должно иметь части (т. е. быть многим). Но части в свою очередь не могут существовать, если нет целого, частями которого они являются. Часть не может быть частью многого — так выражает эту мысль Платон 43, иначе она и частью не будет, а станет чем-то беспредельным: ведь часть — это тоже что-то определенное, что-то одно, а значит, она причастна единому'. «Части тоже необходимо причастны единому. Ведь если каждая из них есть часть, то тем самым «быть каждым» означает быть отдельным, обособленным от другого и существующим само по себе...» 44.
Итак, если налицо система «существующее единое», то другое должно быть причастно единому и, как причастное, само должно быть целым и иметь части. Но поскольку оно при этом все-таки — другое, то это его определение несет с собой и свойство, противоположное тому, которое вытекает из его причастности единому. Это свойство— множественность. Всмотримся в эту множественность в тот именно момент (или с той именно стороны), в какой она не причастна единому.
«А что если мы пожелаем мысленно отделить от этого множества самое меньшее, что только возможно, это отделенное, поскольку и оно не причастно единому, не окажется ли неизбежно множеством, а не единым?» 45 Значит, множественное «в тот момент, когда оно не причастно единому», представляет собой нечто весьма своеобразное: какую бы малую «часть» его мы ни взяли, она сама рассыпается, растекается на бесконечно многие «части», а потому ее даже нельзя назвать частью, ее вообще никак нельзя ни назвать, ни обозначить, кроме как беспредельностью, текучестью или, как ее еще характеризует Платон, «природой многого». То, что не причастно единому, не есть вообще «нечто», для него нет слова, нет «логоса», оно — алогично, неназываемо и неуловимо. «Если постоянно рассматривать таким образом иную природу идеи
43 См.: Парменид, 157с—d.
44 Парменид, 157е — 158.
43 Парменид, 158с,
154
Раздел второй
саму по себе, то сколько бы ни сосредоточивать на ней внимание, она всегда окажется количественно беспредельной» 46.
Какой же вывод для другого следует из допущения, что «единое существует»? Аналогичный тому, какой мы получили из этой посылки для единого, а именно, что другому присущи противоположные определения: «Другое — неединое — как оказывается, таково, что если сочетать его с единым, то в нем возникает нечто иное, что и создает им предел в отношении друг друга, тогда как природа иного сама по себе — беспредельность» 47. Определения «другого» потому и будут противоположны, что одни из них вытекают из его отличности от единого, а другие — из его причастности единому: «Поскольку... [другое] обладает свойствами быть ограниченным и быть беспредельным, эти свойства противоположны друг другу» 48.
Но при этом, как мы уже знаем, другое является познаваемым; наличие противоположных свойств — не препятствие для познания, а условие его, поскольку это наличие вытекает из отнесенности различных моментов, из принципа отношения, простейшей формой которого является любое суждение: А есть В.
Проверка второго круга рассуждения подтвердила его правильность: выводы для другого — те же, что и выводы для единого.
Гипотеза IV. В четвертой гипотезе — та же посылка, что и в первой, только выводы снова должны быть сделаны не для единого, а для другого. «Если есть единое 49, что должно испытывать другое?» 50.
Поскольку здесь единое берется как таковое, вне всяких определений, постольку у него нет никаких отношений, а значит, между ним и другим нет никакого посредствующего начала, они не находятся внутри одной системы. Платон это формулирует так: «Нет ничего отличного от
46 Парменид, 158с.
47 Парменид, 158.d.
48 Парменид, 158е.
40 Здесь опять-таки для большей точности надо бы перевести: «Если единое — едино, что должно испытывать другое?»
60 Парменид, 159b.
Становление первых научных программ
155
них, в чем единое и другое могли бы находиться вместе» 51. Единое, взятое безотносительно, т. е. не наделенное атрибутом бытия, как мы уже знаем из первого круга рас-суждений, не имеет никаких частей; к тому, у чего нет частей, ничто не может быть причастным. Другое, не причастное единому, не является ни единым (что само собой понятно), ни многим: ведь, как мы уже знаем, чтобы быть многим, оно тоже нуждается в причастности к единому. Оно в этом случае вообще лишено каких бы то ни было определений, что вполне понятно, поскольку все определения предполагают отнесенность, а ее здесь быть не может.
Вслед за Платоном мы рассмотрели четыре разные гипотезы и проследили, какие заключения из них вытекают. Все четыре имели в качестве общей посылки допущение, что единое есть, хотя это есть и понималось в разном смысле.
Оставшиеся четыре гипотезы имеют другую общую посылку: единого не существует. Платон прослеживает, какие выводы вытекают из несуществования единого:
а) для самого единого по отношению к многому 52; б) для самого единого по отношению к самому себе 53; в) для многого по отношению к единому 54;
г) для многого по отношению к многому 55.
Гипотеза V. В первом, на наш взгляд наиболее трудном для анализа рассуждении, Платон доказывает, что если единое не Существует, но мы о нем как о несуществующем все же ведем речь, а стало быть, приписываем единому некоторый предикат — пусть даже этим предикатом будет несуществование, то мы опять-таки получаем простейшую систему: «несуществующее единое». А это значит, что единое имеет предикат и, стало быть, получает все определения, которые имеет единое, когда оно наделено предикатом «бытия». Более того, самое интересное в этом рассуждении Платона состоит в том, что несуществующее единое «каким-то образом должно быть причастно и бы-
61 Парменид, 159с.
62 См.: Парменид, 160b — 163b.
63 См.: Парменид, 163b — 164b.
64 См.: Парменид, 164b — 165d.
36 См.: Парменид, 165е — 166с.
156
Раздел второй
тию» — иначе мы о нем вообще ничего не могли бы сказать 56.
Это соображение Платона проливает свет и на предшествующие его рассуждения. В каком же смысле, в самом деле, можно утверждать, что несуществующее единое причастно бытию? Разве это не абсурдное утверждение?
Нам кажется, что это утверждение Платона может быть истолковано следующим образом. Если мы вообще можем приписать единому какой-либо предикат — будь то существование или несуществование, то мы тем самым ставим его в определенную связь с чем-то другим, чем оно само. Наличие такой связи является первейшим условием того, чтобы мы вообще могли о нем что-то сказать, т. е. познать его: ведь и познание, и называние словом — это на греческом языке передается термином «логос».
Значит, независимо от того, приписываем ли мы единому предикат «бытия» или «небытия», но если мы какой-то из них приписываем, т. е. произносим суждение «А есть В», то тем самым мы это знаем, раз об этом говорим. И в этом смысле — и только в этом — несуществующее единое «каким-то образом причастно бытию».
А вот когда мы говорим «единое есть» в смысле «единое есть единое>у, «Л есть А», то в этом случае, хотя мы и не говорим, что «единое не существует», в результате экспликации содержания тезиса «единое есть единое» мы приходим к выводу, что о нем вообще ничего нельзя знать, ничего нельзя сказать и что оно, следовательно, непричастно бытию. И это потому, что оно определено с самого начала как лишенное всякого отношения.
Гипотеза VI. В этом втором случае тоже постулируется несуществование единого, но в другом смысле: в смысле отсутствия у единого какого бы то ни было предиката. Это — отрицательная форма того же самого допущения, которое в положительной форме дано в самом первом рассуждении: «единое есть (единое)». Выводы из этого допущения поэтому те же, что и выводы из первой гипотезы: о несуществующем едином ничего нельзя высказать, «несуществующее единое ничего не претерпевает» 57.
66 Парменид, 161е.
Парменид, 164b.
Становление первых научных программ
157
Гипотеза VII. «Обсудим еще, каким должно быть иное, если единое не существует» 58. В этом случае «не-существо-вание» единого понимается в том же смысле, как и в рассуждении (а), где Платон исходил из системы «несуществующее единое». Иное, стало быть, соотнесено с несуществующим единым и определено этим соотнесением. Но в этой системе — «несуществующее единое» — положение с «иным» существенно отличается от того, которое мы описали в системе «существующее единое». Поскольку иное соотнесено, то в принципе мы о нем можем говорить, но поскольку оно соотнесено с несуществующим единым 59, то мы о нем можем говорить лишь неопределенно: наше суждение о нем будет бесконечным, оно будет суждением типа «А есть не В».
Какие же характеристики в результате этого получает иное?
«...Любые [члены другого] взаимно другие, как множества; они не могут быть взаимно другими, как единицы, ибо единого не существует. Любое скопление их беспредельно количественно; даже если кто-нибудь возьмет кажущееся самым малым, то и оно, только что представлявшееся одним, вдруг, как при сновидении, кажется многим и из ничтожно малого превращается в огромное по сравнению с частями, получающимися в результате его дробления» 60.
Таким образом, по Платону, ситуация, которую демонстрировал Зенон, доказывая невозможность множества, возникает в том случае, если многое соотносится с несуществующим единым. В этом случае недостает того начала, благодаря которому множество приобретает характер определенного числа, а каждый член этого множества
58 Парменид, 164b.
69 «Иное, чтобы действительно быть иным, должно иметь нечто, в отношении чего оно есть иное... Что бы это такое было? Ведь иное не будет иным в отношении единого, коль скоро единого не существует... Следовательно, оно иное по отношению к себе самому...» (Парменид, 164с). Здесь Платон в качестве предпосылки вводит наличие отношения (иное — отнесено, а потому о нем можно говорить, оно предицируемо), но то, к чему иное отнесено, не существует, а потому оно отнесено неопределенно и оказывается в конце концов отнесенным к самому себе.
60 Парменид, 164с—d.
158
Раздел второй
оказывается далее неделимым единством. Запомним этот вывод, он очень важен.
Итак, если многое соотнесено с «несуществующим единым», то оно приобретает те черты текучести, или, как сегодня часто говорят, «брезжущего смысла», когда невозможно остановиться ни на чем определенном, твердом, ограниченном 61.
Гипотеза VIII. Наконец, последний случай: «Чем должно быть иное, если единое не существует?» 62.— Теперь несуществование берется в том же смысле, как и в гипотезе VI, а именно: единое вообще никак не отнесено к другому, не отнесено даже и как несуществующее. Какие выводы тогда следуют для иного? Раз нет никакой отнесенности, то понятно, что мыслить многое здесь вообще невозможно. Это заключительное рассуждение полностью повторяет начало диалога: там мы тоже имели дело с безотносительным единым.
«...Если единое не существует, то ничто из иного не может мыслиться ни как одно, ни как многое, потому что без единого мыслить многое невозможно... Если единое не существует, то и иное не существует и его нельзя мыслить ни как единое, ни 'как многое» 63. Значит, если многое соотнесено* с несуществующим единым, то его можно мыслить, о нем можно говорить, хотя оно и будет неопределенным; но если многое вообще не соотнесено с единым, то о нем ничего нельзя сказать, а это равносильно тому, что его нет. Свой диалог Платон заключает следующими словами Парменида: «Не правильно ли будет сказать в общем: если единое не существует, то ничего не существует? —
61 Т. е. даже для того, чтобы мыслить множество как беспредельное, текучее, неуловимое, все же нужно соотносить его с единым, хотя и несуществующим. Эту мысль Платона хорошо усвоила античная философия, прежде всего Аристотель. Он пишет по поводу «беспредельного»: «... ничто беспредельное не может иметь бытия; а если и не так, во всяком случае существо беспредельного (как такое).не беспредельно» (Метафизика, II, 2). Аристотель здесь говорит о том же, что и Платон: чтобы мыслить беспредельное, нужно как-то ухватить его, определить с помощью чего-то, что само не может быть беспредельным.
62 Парменид, 165е.
63 Парменид, 166а—Ь.
Становление первых научных программ 159
Совершенно правильно»,— отвечает его молодой собесед ник 64.
Иными словами, все живет единым: если не его утверждением, то его отрицанием, если не положительной, то отрицательной связью с ним.
Диалог «Парменид» имеет огромное значение с точки зрения логико-философского обоснования античной науки. В этом диалоге Платон дал образец своей диалектики 65. Каким способом ведет Платон свое рассуждение? Как мы уже упоминали, он применяет здесь особый метод, какого мы не встречали ни у кого из его предшественников, за исключением разве что элеатов, а именно: он принимает определенное допущение, или гипотезу, и затем прослеживает, какие утверждения следуют из этой гипотезы. Этот метод получил впоследствии название ги-потетико-дедуктивного, и значение его для развития науки трудно переоценить 66 * 68.
Именно Платон, как видим, был первым, кто применил этот метод; его дальнейшей логической разработкой мы обязаны Аристотелю, а его применением к математике — вероятно, современным Платону математикам: Архиту, Евдоксу и др. Во всяком случае, способ доказательства, которым пользуется Евклид в «Началах», построен по тому же образцу: делается определенное допущение на основе принятых аксиом и постулатов, а затем показывается, какие следствия должны вытекать из этого допущения.
Но применение этого метода у Платона и Евклида, как мы покажем ниже, осуществляется по-разному, что хорошо демонстрирует сам Платон, однако схема, которой оба пользуются, одна и та же.
64 Парменид, 166Ь — с.
в? Хотя мы здесь рассматриваем диалог «Парменид», однако это не
значит, что в других диалогах Платон не пользуется тем же методом. Диалог «Парменид», однако, удобнее для анализа по-
тому, что здесь метод Платона выступает в наиболее чистом виде
68 В. Лейнфельнер отмечает, что метод, примененный Платоном’ «по сей день остается единственным методом экспликации след! ствий, вытекающих из некоторого принятого тезиса» (Leinfell пег W. Die Entstehung der Theorie, S. 88).
160
Раздел второй
Соотнесенность единого и многого, или системный характер идеального мира. В диалоге «Парменид» Платон разрешает антиномию, поставленную перед научно-философской мыслью элеатами и софистами. Антиномия эта, как мы помним, формулировалась так:
Тезис элеатов: истинно (и соответственно познаваемо) только то, что тождественно самому себе 67;
Антитезис софистов: познаваемо и соответственно истинно только то, что не тождественно себе, не отнесено к себе, а отнесено к другому — познающему субъекту; поэтому всякая истина относительна.
Как решает эту антиномию Платон? Он, как мы видели, показывает, что условием познания (и не только познания, но, что важно, и самого бытия) единого является его СООТНЕСЕННОСТЬ с ДРУГИМ; а другое единого есть многое. И наоборот: условием познаваемости (и существования) многого является его соотнесенность с единым, без этого многое превращается в беспредельное (апейрон) и становится не только непознаваемым, но и не сущим (Платон, как мы знаем, час^о называет беспредельное небытием, «ничем» — [лт] о\).
Так одновременно решаются оба вопроса: онтологический — .как может единое стать многим, т. е. идея воплотиться в чувственный мир, и гносеологический — как может единое быть предметом познания, поскольку познание предполагает отнесение единого и себе тождественного к другому — субъекту знания.
Ответ гласит: единое есть многое, если оно мыслится соотнесенным с другим', а если его так не мыслить, то его вообще невозможно мыслить.
При этом необходимо иметь в виду, что эта соотнесенность есть характеристика именно самих идей. Платон подчеркивает, что именно в силу того, что в умопостигаемом мире идеи соотнесены друг с другом, что именно в логическом плане единое есть многое, они могут быть соотнесены и с чувственными вещами и становятся предметом познания. Платон предлагает обосновывать соотнесенность 67
67 Другими словами, существует только единое, а многого нет; истинно только сверхчувственное, а чувственное — сфера мнения.
Становление первых научных программ
161
эмпирического мира с миром идей соотнесенностью идей между собой. Соотнесенность логосов определяет собой причастность к ним вещей и проистекающую из этой причастности взаимную связь, соотнесенность уже и самих вещей.
Эту свою основополагающую мысль Платон поясняет следующим образом: «Если кто примется показывать тождество единого и многого в таких предметах, как камни, бревна и т. п., то мы скажем, что он приводит нам примеры многого и единого, но не доказывает ни того, что единое множественно, ни того, что многое едино, и в его словах нет ничего удивительного, но есть лишь то, с чем все мы могли бы согласиться. Если же кто-то сделает то, о чем я только что говорил, то есть сначала установит раздельность и обособленность идей самих по себе, таких, как подобие и неподобие, множественность и единичность, покой и движение, и тому подобных, а затем докажет, что они могут смешиваться между собой и разобщаться, вот тогда, Зенон, я буду приятно изумлен. Твои рассуждения я нахожу смело разработанными, однако... гораздо более я изумился бы в том случае, если бы кто мог показать, что то же самое затруднение всевозможным способом пронизывает самые идеи, и, как вы проследили его в видимых вещах, так же точно можно обнаружить его в вещах, постигаемых с помощью рассуждения» 68. Не случайно Платон здесь устами Сократа задает вопрос именно Зенону. Это и в самом деле тот пункт, в котором Платон пересматривает учение элеатов. У элеатов ведь единое выступает как начало ни с чем не соотнесенное, а потому противоположное многому, т. е. миру чувственному. Чувственный же мир для них противоречив, ибо в нем вещи «соединяются и разобщаются» одновременно. Платон же показывает, что это «соединение и разобщение», т. е. единство противоположностей, свойственно и миру умопостигаемому (т. е. тому, что элеаты называют «единым») и что лишь благодаря этому единое может быть и именуемым, и познаваемым. Если же его рассматривать так, как того требуют Парменид и Зенон, то опо будет вообще непознаваемым и безымянным, а значит, несуществующим.
68 Парменид, 129d — 130.
6 П. П. Гайденко
162
Раздел второй
Платон, таким образом, ставит идеи в отношение одна к другой и показывает, что только единство многого, т. е. система, составляет сущность умопостигаемого мира и она есть то, что может существовать и быть познаваемо.
Описывая метод, примененный им в диалоге «Парменид», Платон говорит о том, что разум здесь пользуется гипотезами, предположениями для того, чтобы постигнуть высшее начало: «Достигнув его (начала, которое уже не гипотетично.— П. Г.) и придерживаясь всего, с чем оно связано, он (разум.— П. Г.) приходит затем к заключению, вовсе не пользуясь ничем чувственным, но лишь самими идеями в их взаимном отношении, и его выводы относятся только к ним» 69.
Необходимо обратить внимание еще на один момент. Мы уже отмечали в ходе анализа диалога «Парменид», что Платон нигде не отрывает акт понимания, познания, от акта называния, именования. То, что невозможно воплотить в речи, в слове, является алогичным (akoyov), т. е. непознаваемым. Естественно поэтому, что анализ познавательных структур у Платона неотделим от анализа речи; структуры языка — это основные логические структуры мысли.
Нам представляется в этой связи вполне вероятным допущение, что тот способ рассмотрения соотношения единого и многого, который мы находим в диалогах Плато-на,гвпервые возник в греческой науке при анализе языка, т. е. у софистов. Не случайно же именно софисты были первыми греческими грамматиками и филологами; возможно, именно они и раскрыли ту парадоксальную природу слова и предложения, которую впоследствии до конца выявил Платон. На тот факт, что именно анализ языка дал толчок к исследованию природы мышления как соотнесения единого и многого, указывает следующий отрывок из диалога «Филеб». «Мы утверждаем,— говорит Сократ,— что тождество единства и множества, обусловленное речью, есть всюду, во всяком высказывании; было оно прежде, есть и теперь. Это не прекратится никогда и не теперь началось, по есть, как мне кажется, вечное и нестареющее свойство нашей речи. Юноша, впервые вку- б
б9 Государство, 511b—с/Пер. А. Н. Егуцов<ь
Становление первых научных программ
163
сивший его, наслаждается им, как если бы нашел некое сокровище мудрости; от наслаждения он приходит в восторг и радуется тому, что может изменять речь на все лады, то закручивая ее в одну сторону и сливая все воедино, то снова развертывая и расчленяя на части...» 70
К своему удивлению, мы узнаем в этом юноше самого Платона, который в «Пармениде» именно тем и занимается, что «изменяет речь на все лады», то приводя все к единому, то снова раздробляя на множество. «Тут прежде и больше всего недоумевает он сам, а затем повергает в недоумение и своего собеседника...» 71 Таким образом, оказывается, что не столько Платон ведет свой диалог, сколько диалог ведет Платона; не Платон ведет речь о едином и многом, а сама речь ведет Платона, заставляя недоумевать и удивляться не только его слушателей, но и его самого.
Благодаря переключению внимания с природы на человека^ его сознание и язык — переключению, осуществленному софистами и Сократом, Платон смог осуществить переход к анализу логических связей, «связей смыслов», с тем чтобы потом от них вернуться к анализу «связи вещей».
Платон и пифагореизм. В своем учении о едином и многом Платон оказывается пифагорейцем. Он возвращается к пифагорейскому учению о том, что все существующее есть единство предела и беспредельного,— правда, возвращается уже на новой базе, подготовленной логической и теоретико-познавательной рефлексией. В отличие от пифагорейцев, для которых положение о числе как единстве предела и беспредельного возникло в докритической ситуации и еще не прошло через огонь зеноновской и про-тагоровской критики, Платон возвращается к этому положению уже на основе преодоления критической рефлексии как элеатов, так и софистов. Он принял эту критику внутрь своего учения, она присутствует теперь в нем в виде специально-логического фундамента, требующего отныне отличать сферу идеальных образований от мира чувственных вещей. Это различение, рожденное в силу
70 Филеб, 15d — е/Пер. Н. В. Самсонова.
71 Филеб, 15е.
6*
164
Раздел второй
необходимости преодолеть релятивизм софистики, отныне должно служить гарантией возможности истинного знания.
Платона роднит с пифагорейцами следующая черта: подобно тому как пифагорейцы рассматривают числа, Платон рассматривает единое (и вообще мир идей), а именно: не в качестве предиката чего-то другого, а в качестве субъекта, не в качестве сказуемого, а в качестве подлежащего. Действительно, как сообщает Аристотель, по мнению пифагорейцев, «ограниченное, неограниченное и единое — это... не свойства некоторых других физических реальностей, например огня или земли, или еще чего-нибудь в этом роде, но само неопределенное и само единое были <у них) сущностью того, о чем (то и другое) сказываются, вследствие чего число и составляло у них сущность всех вещей» 72. В этом заключается существенная особенность раннепифагорейской теории, которая отличает пифагореизм, как мы уже показали, от древних натурфилософов, несмотря на то что с точки зрения логической непроработанности исходных понятий они весьма близки к натурфилософам.
В каком же виде предстает теперь у Платона пифагорейское учение и какое обоснование он дает науке о числе, т. е. математике? В диалоге «Филеб» Платон анализирует исходные принципы пифагорейцев, устанавливая их связь с понятиями своей философии.
Что такое беспредельное, если мы будем рассматривать это понятие не в соотнесении, его с единым, как это делал Платон в диалоге «Парменид», т. е. не на языке логики, а применительно к эмпирическим явлениям и, так сказать, на их языке? «Посмотри, можешь ли ты, — обращается Сократ к Протарху,— мыслить какой-либо предел относительно более теплого и более холодного, или же обитающие в этих родах увеличение и уменьшение не позволяют дойти до конца, пока они в них обитают... Наша речь всегда обнаруживает, следовательно, что более теплое и более холодное не содержат конца; а если они лишены конца, то, несомненно, они беспредельны» 73.
72 Метафизика, I, 5.
73 Филеб, 24а—Ь.
Становление первых научных программ
165
Значит, беспредельное есть все то, о чем можно сказать только «больше» и «меньше», а сюда относится все, что мы называем более или менее теплым, более или менее красным, более или менее сладким и т. д., т. е. все то, что имеет неопределенно-количественную характеристику и не допускает строгого определения.
Именно из-за того, что «более или менее» является главным признаком беспредельного, Платон и называет беспредельное «неопределенной двоицей»: беспредельное всегда есть «более или менее», оно всегда имеет, эти два значения и не может принять одного значения, не может определиться. Определить что-то значит остановить это бесконечное колебание «более — менее», значит установить одно значение — предел 74.
Предел, будучи соотнесенным с беспредельным, вносит в него некоторую меру, создает мерное отношение, т. е. отношение равного, двойного, тройного и т. д. Мерное отношение, мера — это, по словам Платона, то, что возникает из «смешения» 75 предела с беспредельным. Мера означает «согласие» противоположных начал — предела и беспредельного, а это согласие как раз и порождает число 76. Число, таким образом, есть единственное средство, с помощью которого можно остановить «качание» беспредельного и определить предмет.
Интересно размышление Платона о том, когда и почему возникает у индивида потребность, заставляющая его искать способ поставить предел беспредельному. Это, в сущности, размышление о том, когда и почему возникает
74 «Ведь в чем бы они («больше» и «меньше») ни содержались,— поясняет Платон,— они не допускают определенного количества, но всегда внося во все действия «более сильное», чем «слабое» и наоборот, они устанавливают «больше» и «меньше» и уничтожают «сколько». Ибо если бы они... не уничтожали количества, но допускали, чтобы оно и все, имеющее определенную меру, водворялось на место большего и меньшего... то они сами утрачивали бы занимаемые ими места. В самом деле, ни более теплое, ни более холодное, принявши определенное количество, не были бы больше таковыми, так как они непрестанно движутся вперед
и не остаются на месте, определенное же количество пребывает в покое и не движется дальше» (Филеб, 24с—d).
76 Филеб, 25Ь.
?6 Филеб, 25d—е.
166
Раздел второй
надобность в научном исследовании того или иного явления. Вот к каким выводам он приходит: если чувственное восприятие не дает нам определенного и недвусмысленного указания на то, что такое находящийся перед нами предмет, то возникает необходимость обратиться к мышлению — и таким путем возникает наука. Приведем это рассуждение Платона ввиду его существенного значения для нашей темы. «Кое-что в наших восприятиях, — говорит Сократ,— не побуждает наше мышление к дальнейшему исследованию, потому что достаточно определяется самим ощущением; но кое-что решительно требует такого исследования, поскольку ощущение не дает ничего надежного... Не побуждает к исследованию то, что не вызывает одновременно противоположного ощущения, а то, что вызывает такое ощущение, я считаю побуждающим к исследованию» 77. Разъясняя сказанное, Платон заключает, что «ощущение, назначенное определять жесткость, вынуждено приняться и за определение мягкости и потому извещает душу, что одна и та же вещь ощущается им как жесткая и как мягкая... То же самое и при ощущении легкого и тяжелого...» 78. Таким образом, ощущение дает одновременно противоположные сведения и оказывается необходимым ввести степень жесткости или мягкости, легкости или тяжести вещи, не прибегая уже к одному только свидетельству ощущения. Субъективный критерий должен быть заменен объективным, и здесь в дело должно вступить мышление.
Согласно Платону, переход от восприятия, ощущения к мышлению предполагает весьма серьезную операцию, которая на языке платоновской философии носит название перехода от становления к бытию. Становление, согласно Платону, это то, что неуловимо, не поддается твердой фиксации, что ускользает, меняется на глазах, предстает «то как мягкое, то как жесткое», о чем, стало быть, невозможно высказать нечто определенное. Для того чтобы стало возможным остановить этот поток, выделить в нем нечто одно, отличить его от другого, измерить его в каком-либо отношении, необходима какая-то другая
77 Государство, VII, 523Ь—с.
78 Государство, VII, 524.
Становление первых научных программ
167
реальность, которая позволяла бы осуществить применительно к ней подобные процедуры, или, лучше сказать, необходимо допустить такую реальность, которая была бы онтологическим условием возможности осуществления этих операций. Эту-то реальность Платон называет бытием.
Мера есть посредник между сферами бытия и становления. Мера же необходимо связана с числом.
Именно число, а не само единое («предел») является средством постижения чувственного мира 79. «Воспринявший что-либо единое,— говорит Платон,— тотчас после этого должен обращать свой взор не на природу беспредельного, но на какое-либо число; так точно и наоборот: кто бывает вынужден прежде обращаться к беспредельному, тот немедленно вслед за этим должен смотреть не на единое, но опять-таки на какие-либо числа» 80.
Поясняя свою мысль, Платон приводит пример, который для нас очень интересен, поскольку показывает, во-первых, ту сферу, из которой Платон чаще всего заимствует свои «модели», а во-вторых, очень точно обрисовывает его представление о задачах науки: «Первоначально некий бог или божественный человек обратил внимание на беспредельность звука. В Египте, как гласит предание, некий Тевт первый подметил, что гласные буквы [звуки] в беспредельности представляют собою не единство, но множество; что другие буквы — безгласные, но все же причастны некоему звуку и что их также определенное число; наконец, к третьему виду Тевт причислил те буквы, которые сегодня называются немыми. После этого он стал разделять все до единой безгласные и немые и поступил таким же образом с гласными и полугласные ми, пока не установил их числа и не дал каждой в отдельности и всем вместе названия „буква44 [„первоначало44]. Видя, что никто, из"нас не может научиться ни одной букве, взятой в отдельности, помимо всех остальных, Тевт понял, что между буквами существует единая связь, приводящая к некоему единству. Эту связь Тевт назвал грамматикой — единой наукой о многих буквах» 81.
79 Филеб, 18а—Ь.
80 Филеб, 18а—1).
81 Филеб, 18b—d (курсив мой. — 77. Г.),
168
Раздел второй
Отрывок этот, во-первых, еще раз свидетельствует о том, что в поле зрения Платона постоянно присутствует стихия языка и наука о языке, грамматика, служит примером того, как возникает единство многого — система, внутри которой только и может быть выделен (определен) каждый отдельный звук. Обнаружение единства в звуках впервые сделало возможным из бесчисленного их множества (ибо любой звук, в сущности, произносится по-разному каждым человеком, не говоря уже о различии одних и тех же звуков в разных диалектах даже одного языка) выделить определенное их число и тем самым построить систему взаимно отличных, но связанных в единое посредством числа букв.
Теперь критика натурфилософии приобретает у Платона логическую базу: натурфилософы оперировали в своих построениях такими понятиями, как «влажное и сухое», «холодное и теплое», «сладкое и горькое», «твердое и мягкое». Исходя из этих противоположностей, они давали определение и объяснение природных явлений и процессов. Но эти определения, согласно Платону, не могут дать никакого доказательного знания, ибо они в строгом смысле слова определениями не являются. Натурфилософы, в сущности, * имели дело с неопределенно-количественными характеристиками, с теми самыми «более или менее», которые не могут «ухватить» определяемый предмет, не могут ввести его в твердые границы, ибо не располагают для этого мерным отношением — числом. Согласно Платону, натурфилософы имели дело с беспредельным, отсюда и фантастичность, произвольность их построений.
Только такое познание может претендовать на достоверность, которое осуществляется с помощью числа. Такова математика. Платон полностью согласен с пифагорейцами в том, что математическое знание, знание о мерных отношениях, является единственно достоверным в противоположность тем мнимым знаниям, т. е. мнениям, которые именовались во времена Платона «физикой».
Известно, что при входе в платоновскую Академию была надпись: «Не геометр — да не войдет». Те, кто не были сведущими в музыке, геометрии и астрономии, вообще не принимались в Академию. Диоген Лаэртский сообщает, что возглавлявший Академию Ксенократ сказал
Становление первых научных программ
169
человеку, не знакомому ни с одной из названных наук: «Иди, у тебя нечем ухватиться за философию». Не удивительно поэтому, что среди учеников Платона были крупные математики — такие, как Архит, Теэтет, Евдокс.
Число как идеальное образование. Теперь рассмотрим, каков онтологический статус числа у Платона. Число — это единство предела и беспредельного. Мы знаем уже, что такого рода единство противоположных начал Платон усматривает не только в чувственных вещах; соотнесенность единого и иного необходимо должна иметь место также и в сфере идеального — того, что постигается лишь с помощью мысли. Естественно поэтому, что число — это идеальное образование, возникшее в результате связи противоположностей.
Таким образом, в отличие от пифагорейцев, у которых не существовало различия чисел и вещей, Платон такое различие устанавливает. «Он,— читаем у Аристотеля,— полагает числа отдельно от чувственных вещей, а они (пифагорейцы.— П. Г.) говорят, что числа — это сами вещи, и математические объекты в промежутке между теми и другими не помещают. Установление единого и чисел отдельно от вещей, а не так, как у пифагорейцев, и введение идей произошло вследствие исследования в области понятий (более ранние философы к диалектике не были причастны)» 82.
Но что такое «математические объекты», или «математические вещи», как их называет Аристотель? Чем они отличаются от чисел, которые Платон считает идеальными образованиями? Почему Платон, по словам Аристотеля, помещает эти самые «математические объекты» в промежутке — между миром идеального и чувственным миром, т. е. между числами и вещами?
Обратимся за разъяснением вопроса о природе чисел и «математических объектов» к самому Платону. Поясняя, что такое число, Сократ говорит своему собеседнику: «„Как ты думаешь, Главкон, если спросить их (математиков.— П. Г.): достойнейшие люди, о каких числах вы рассуждаете? Не о тех ли, в которых единица дейст
82 Метафизика, I, 6.
170
Раздел второй
вительно такова, какой вы ее считаете,— то есть всякая единица равна всякой единице, ничуть от нее не отличается и не имеет в себе никаких частей?" — как ты думаешь, что они ответят?
— Да, по-моему, что они говорят о таких числах, которые допустимо лишь мыслить, а иначе с ними никак нельзя обращаться» 83.
Итак, число — это идеальное образование, его нельзя воспринять чувственно, а можно только мыслить 84. В чувственном мире невозможно найти «единицу, которая ничем не отличалась бы от другой» — любой предмет чувственного мира, любая чувственная «единица» отличается от другого предмета, от другой «единицы», тождественны они лишь с точки зрения того, что каждый из предметов мыслится как «один», а «один» равен «одному» только в мире идеализаций. Как образования идеальные и постижимые только мыслью, числа не отличаются от идей («суть идеи», как говорит Аристотель).
Важным моментом в платоновском обосновании числа как чисто мыслительного образования является положение о принципиальной неделимости единицы — неделимости логической, поскольку сама единица теперь мыслится как логическое начало. Согласно Платону, наука о числах «влечет душу ввысь и заставляет рассуждать о числах самих по себе, ни в коем случае не допуская, что
83 Государство, VII, 526 (курсив мой.— П. Г.).
84 А. Сабо подчеркивает, что платоновское понимание чисел как лишь мыслимых образований послужило логико-теоретической базой для развития греческой математики: «Числа являются чисто мыслительными элементами, к которым невозможно подходить иначе, чем путем чистого мышления. Следовательно, можно видеть, что та греческая математика, которая у Евклида стремилась избегать в своих доказательствах только наглядного и видимого, тоже хотела понимать свой предмет как такой, который полностью и исключительно лежит в сфере чистого мышления. Именно эта тенденция науки сделала возможными также прекраснейшие евклидовы доказательства...» (Szabo A. Anfange der griechischen Mathematik’, S. 256—257). Это утверждение Сабо относится к VII книге «Начал», посвященной арифметике; что касается тех книг «Начал», где рассматривается геометрическая алгебра, т. е. где Евклид имеет дело не с числами, а с пространственными элементами, то по отношению к ним дело несколько усложняется, как мы увидим ниже.
Становление первых научных программ 171
бы кто-нибудь подменял их имеющими число видимыми и осязаемыми телами. Ты ведь знаешь, что те, кто силен в этой науке, осмеют и отвергнут попытку мысленно разделить самое единицу, но если ты все-таки ее раздробишь, они снова умножат части, боясь, как бы единица оказалась не единицей, а многими долями одного» 85 8б.
Единица неделима, ибо она есть единое, а единое неделимо по определению. Единица, согласно концепции Платона, рождает множество, но и само множество имеет своим логическим условием единицу: ведь если нет единого, то нет и многого, поскольку многое — это множество единиц. Единицу нельзя разделить на том самом основании, которое Платон с предельной четкостью сформулировал в заключительных словах к диалогу «Парменид»: «Если единое не существует, то ничего не существует» 86.
Что же, однако, такое «математические вещи», или «математические объекты», о которых говорит Аристотель, и чем они отличаются у Платона от чисел? Вот что говорит об этом Платон: «Когда они (геометры. — IT. Г.) пользуются чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена не на чертеж, а на те фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают только для четырехугольника самого по себе и его диагонали, а не для той диагонали, которую они начертили. То же самое относится к произведениям ваяния и живописи: от них может падать тень и возможны их отражения в воде, но сами они служат лишь образным выражением того, что можно видеть лишь мысленным взором» 87.
Рассматривая эти соображения Платона в своей истории античной математики, Б. Л. ван дер Варден полагает, что античные математики должны были быть согласны здесь с Платоном. «И действительно,— пишет Варден,— для прямолинейных отрезков, которые можно видеть и эмпирически измерять, является бессмысленным вопрос, имеют ли они общую меру или нет: ширина волоса уложится целое число раз в любом начерченном отрезке. Вопрос о соизме
85 Государство, VII, 525с1—с.
86 Парменид, 166с.
8? Государство,^)! Od (курсив мой.— П. Г.).
172
Раздел второй
римости имеет смысл только для отрезков, создаваемых мыслью»88.
Платон, таким образом, различает геометрические фигуры, как они представлены на чертеже, и «фигуры сами по себе», т. е. такие, которые «можно видеть лишь мысленным взором». Видимо, последние как раз и есть те «математические вещи», которые, по свидетельству Аристотеля, Платон отличает от чисел и которые он считает промежуточными, помещая их между миром идеального и чувственным миром.
«Математические объекты», стало быть,— это те образования, которыми оперирует не арифметика, имеющая дело с числами, а геометрия, это фигуры: окружности, треугольники, четырехугольники — и их элементы: радиусы, углы, диагонали, биссектрисы и т. д., т. е. линии и плоскости, по-разному сконструированные. К математическим Платон относит и «объекты» стереометрии: шар, куб, тетраэдр, икосаэдр и др. Все это, согласно Платону, объекты мысли, но они в то же время могут иметь чувственные подобия, чувственные аналоги: в качестве таких подобий могут выступать не только начерченные на песке или на восковой дощечке круги, треугольники и т. д., но и вырезанные из дерева или из камня шары, кубы, пирамиды. Видимо, в этом смысле Аристотель и говорит, что Платон считает числами и вещи, и причины вещей, но причинами он считает числа умопостигаемые, а те, что воплощаются в вещах, считает производными от первых 89. Точно так же и с геометрическими объектами: те вещи, которые имеют форму шара или куба, Платон считает чувственными подобиями идеального шара или куба, так же как чувственными подобиями геометрических фигур являются их чертежи.
Понятие пространства у Платона и онтологический статус геометрических объектов. Но почему же числа и геометрические объекты оказываются у Платона имеющими разный статус: числа — чисто идеальные сущности90,
88 Варден Б. Лван дер. Пробуждающаяся наука, с. 201.
89 Метафизика, I, 8.
90 На это различие до сих пор обращали недостаточное внимание как в философской, так и в историко-математической литературе. Например, у А. Сабо читаем: «Предмет арифметики (по
СтановленХепервых научных программ 173
а линии, у1ыты, фигуры — сущности «промежуточные»? В соответствии^ этим различением арифметика выступает у Платона и Аристотеля как первая в ряду математических наук и наиболее йреди них «простая», а тем самым и более достоверная, чем геометрия. В чем коренится такое различие между арифметикой как наукой о числах и геометрией как наукой о «фигурах»? Оно коренится в том, что числа и числовые отношения геометрия представляет в виде определенных пространственных образов, схем, т. е. фигур.
Пифагорейцы по той причине, видимо, не различали числа и вещи, что они считали единицу, имеющую определенное положение в пространстве (т. С. точку) вещью', поскольку эмпирический мир вещей — это мир пространственный, то единица, становясь точкой, тем самым выступает как элемент пространственного, а значит, эмпирического мира.
Показывая, что геометрические конструкции по своему статусу отличаются от вещей чувственного мира, Платон в то же время не может отождествить их с собственно
Платону.— П. Г.) лежит в сфере чистого мышления. Согласно греческому пониманию, подобное утверждение имеет силу, конечно, и для геометрии; в пользу этого тоже можно привести цитаты из Платона. Но здесь я между тем напомню о том, что Евклид, очевидно, также и в геометрии стремился по возможности отодвинуть воззрительность (Anschaulichkeit) на задний план. Конечно, в геометрии это в мепыпей степени могло ему удаться, чем в арифметике» (Szabo A. Anfange der griechischen Mathema-tik, S. 26). Мы полностью согласны с Сабо в том, что, по Платону, предмет арифметики — число — лежит в сфере чистого мышления. По что это утверждение сохраняет свою силу — у Платона! — также и для геометрии, нам кажется не верным. Конечно, Платон отличает подлинный геометрический объект — круг сам по себе, квадрат сам по себе и т. д.— от его чувственного изображения — чертежа. Это, видимо, и дает основание многим исследователям считать, что о н-тологический статус геометрической фигуры с а-мой по себе тот же, что и статус числа. Но Платон, судя по всему, усматривает различие в онтологическом статусе числа и геометрической фигуры, он видит тут два разных вида идеализаций: число — чисто идеальное образование, а геометрическая фигура — образование «промежуточное». Что касается Евклида, то он стремится ограничить «элемент воззрительности» также и в геометрии; но ограничивает он его только в доказательствах, а не в самих предпосылках (аксиомах, постулатах и определениях).
174
;ел второй
идеальными объектами, каковы числр 91. Пытаясь найти онтологический статус геометрических объектов, он приходит к мысли о том, что пространство — стихия геометрии — есть нечто среднее между идеями и чувственным миром.
Насколько нам известно, Платон впервые в античной науке вводит понятие геометрического пространства*, до него античная философия не отделяла сознательно пространство от его наполнения, за исключением разве атомистов, но они определяли пространство физически — как пустоту, отличая ее от атомов как «полного». И не только доплатоновская, но и послеплатоновская научно-философская мысль в лице Аристотеля и его учеников не признавала пространства в том виде, как его понимал Платон; пространство выступает у Аристотеля как «место», а это понятие радикально отличается от геометрического пространства Платона.
Поскольку понятие пространства, впервые формирующееся у Платона, имеет очень большое значение для эволюции науки и ее исходных принципов, поскольку оно, далее, тесно связано с платоновским обоснованием математики, мы рассмотрим его здесь подробнее. В диалоге «Тимей» Платон следующим образом определяет пространство: «...приходится признать, во-первых, что есть тождественная идея, не рожденная и не гибнущая, ничего не воспринимающая в себя откуда бы то ни было и сама ни во что не входящая, незримая и никак иначе не ощущаемая, но отданная на попечение мысли. Во-вторых, есть нечто подобное этой идее и носящее то же имя — ощутимое, рожденное, вечно движущееся, возникающее посредством мнения, соединенного с ощущением. В-третьих, есть еще один род, а именно пространство (т] /сора): оно вечно, не приемлет разрушения, дарует обитель всему рождающемуся, но само воспринимается вне ощущения, посредством
91 Это обстоятельство, видимо, не принял во внимание Д. Д. Мордухай-Болтовской, поскольку он пишет: «Евклид вовсе не приписывал идеального существования геометрическим объектам, как это делал Платон» (Мордухай-Болтовской Д. Д., Комментарии.— В кп.: Евклид. Начала, кн. I—VI, с. 238). Как видим, Платон этого тоже не дедал.
первых научных программ
175
некоего незаконного умозаключения, и поверить в него почти невозможно» 92.
Пространствах93, как видим, определяется Платоном как нечто отлично^ с одной стороны, от идей, постигаемых мыслью (убтрьс,), которые мы назвали бы по этой причине логическим объектом (ддя Платона логическое имеет статус
92 Тимей, 52а—b/Лер. С. С. Аверинцева.
03 Немецкий ученый 10. Штенцель попытался проанализировать этимологию слова т; х<Ьра, (переводимого чаще всего как «пространство»), привлекая также значение «соседних» слов. «Слово х<ора, xwP^0V — пишет Штенцель,— означало первоначально «поло» или «поля», которые ограничивались «пограничными камнями», этими точками числовых фигур» (Stenzel J. Zahl und Gestalt bei Platon und Aristotelos. Leipzig;/Berlin, 1924, S. 84—85). Этот образ поля, поделенного с помощью пограничных камней, ассоциируется у пифагорейцев, по Штенцелю, с образом ночного неба, беспредельность (она же тьма) которого «членится», как бы ограничивается, определяется звездами (свет — предел, единое). А поле и ночное небо, в свою очередь, представляют собой аналог геометрической фигуры, в которой тоже явлено ограничение беспредельного («поля», «пространства» — х^Ра) с помощью чисел, которые изображались пифагорейцами первоначально в виде камешков.
При этом не только «камешки»-числа ограничивают «поле»-про-странство, но и последнее, в свою очередь, играет роль начала, «разделяющего» числа; благодаря наличию расстояния между ними, они предстают как отдельные, каждое из них — как «одно». В этом смысле, говорит Штенцель, x('JPa обнаруживает свое значение, связанное с однокоренным глаголом хшР^6^ — «отделять», «обособлять». Это значение особенно наглядно выступает у ранних пифагорейцев в их учении о том, что «пустота существует и входит из бесконечной пневмы в само небо, как бы вдыхающее в себя пустоту, которая определяет природные существования, как если бы пустота служила для разделения и определения предметов, примыкающих друг к другу» (Аристотель, Физика, IV, 6). Пустота, согласно пифагорейцам, разграничивает также природу чисел. В этом смысле хч°а, как видим, выступала у ранних пифагорейцев не только как беспредельное, но и как «пустота». В связи с этим дополнительным значением Штенцель указывает на связь слова х^Ра с другим «соседним» словом — Xvjpoc;, означающим «опустевший», «овдовевший», «осиротевший» и в этом смысле «лишенный».
Что же касается Платона, то ему, пишет Штенцель, нужно было новое начало «как промежуточный член между идеями и физической действительностью для математического построения мира... И это начало наглядного [данного созерцанию] протяженного развертывания оп назвал х<‘*ра» (Stenzel J. Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles, S. 84—85).
176 Раздел второй
единственно истинного бытия), а с другой/— от. чувственных вещей, воспринимаемых «ощущением» (ato^3tc). Пространство лежит как бы между этими мирами в том смысле, что оно имеет признаки как первого, так и второго, а именно: подобно идеям, пространство вечно, неразрушимо, неизменно — более того, оно и воспринимается не через ощущение. Но сходство его с чувственным миром в том, что воспринимается оно все же не с помощью мышления. Та способность, с помощью которой мы воспринимаем пространство, квалифицируется Платоном весьма неопределенно — как «незаконное умозаключение» (аятоу koytapw Tivl vo&g)) 94. Переводя это выражение Платона как «гибридное рассуждение», Дюгем тем самым хочет подчеркнуть, что способность, которой мы постигаем пространство, есть некий гибрид, «помесь» между мышлением и ощущением.
Интересно, что Платоп сравнивает видение пространства с видением во сне: «Мы видим его (пространство.— П. Г.) как бы в грезах и утверждаем, будто это бытие 96 непременно должно быть где-то, в каком-то месте и занимать какое-то пространство, а то, что не находится ни на земле, ни на небесах, будто бы и не существует» 96.
04 Это греческое выражение буквально означает «незаконнорожденное рассуждение». П. Дюгем переводит его как raisonnement hybride. См.: Duhem Р. La systeme du monde. Paris, 1954, t. I, p. 37.
Здесь возникаем неясность в переводе, поскольку выражение «этому бытию» читатель естественно относит к пространству— ведь о нем сейчас ведет речь Платон. Таким образом, получается,, что пространству надо быть где-то, в каком-то месте и занимать, какое-то пространство. А в оригинале говорится: тирб<; б Ц y.ai dv8tpO7COXOup,8V (3Xe7COVT8<; xoci cpapiiv ava^xato^ 8ivat ПО’Э TO ov arcav ev tivi т6тс(р xai xaTE^ov ^(bpav Tlva, to bs pi'/jV ev кои хат’ o’jpavov oubev eTvai («Мы видим его (пространство) как бы во сне и утверждаем, что всякому бытию (то ov 7?rav)i необходимо где-то находиться, быть в каком-то месте в занимать какое-то пространство, а то, что не находится ни па земле, ни на небе, будто бы и не существует»).
Пространство описывается Платоном как вместилище всего сущего; всему надо где-нибудь находиться, и то, в чем оно находится, и называется пространством. В такой самой общей форме платоновское определение пространства сходно с аристотелевским понятием места; однако при более тщательном рассмотрении обнаруживаются важные различия между ними.
96 Тимей, 52b.
Становленй^ первых научных программ
177
Сравпение\«незаконнорождепного» постижения пространства с вйдением во сне, очевидно, весьма для Платона важно, потому ^то он употребляет это сравнение не однажды. В диалоге «Государство», говоря о геометрии и ее объектах, Платон \новь пользуется этим сравнением: «Что касается остальных наук, которые, как мы говорили, пытаются постичь хоть что-нибудь из бытия (речь идет о геометрии и тех науках, которые следуют за ней.— П. Г.), то им всего лишь снится бытие, а наяву им невозможно его увидеть, пока они, пользуясь своими предположениями, будут сохранять их незыблемыми и не отдавать в них отчета. У кого началом служит то, чего он не знает, а заключение и середина состоят из того, что нельзя сплести воедино, может ли подобного рода несогласованность когда-либо стать знанием?» 97
Пространство мы видим как бы во сне, мы его как бы и видим и в то же время пе можем постигнуть в понятиях,— и вот оно-то, по мнению Платона, служит началом для геометров.
Почему, говоря о пространстве, Платон постоянно прибегает к образу сна? Невольно приходит на ум известный платоновский символ пещеры: ведь узники в пещере принимают за истину «тени проносимых мимо предметов», так же точно как человек во сне принимает за реальность лишь «тени». Пространство в этом смысле у Платона — это не тени, т. е. пе чувственные вещи, а как бы сама стихия сна 98, пространство — это сам сон как то состояние, в котором мы за вещи принимаем лишь тени вещей. И так же, как, проснувшись, мы воспринимаем виденное во сне несколько смутно, не можем дать себе в нем отчет, оно как
97 Государство, 533Ь—с.
98 Спустя почти две тысячи лет Кант, анализируя с новой точки зрения то, что Платон назвал «незаконнорожденным рассуждением», тоже связал его с той способностью души, которую издавна считали родственной сну и сновидческой фантазии, а именно способностью воображения. Кант, подобно Платону, рассматривает представление о пространстве в связи с вопросом об условиях возможности геометрии. Пространство у Канта — это априорная форма созерцания, его невозможно мыслить, но оно не дается и через ощущения. Оно само есть условие познания чувственного мира.
178
Раздел второй
бы брезжит, не позволяет себя схватить и остановить, определить, — так же не дает себя постигнуть с помощью понятий разума и пространство.
Итак, Платон рассматривает пространство как предпосылку существования геометрических объектов, как то «начало», которого сами геометры «не знают» и потому должны постулировать его свойства в качестве недоказуемых первых положений своей науки.
Платон и «Начала» Евклида. В первой книге «Начал» Евклид формулирует исходные положения геометрии, которые не могут быть доказаны, но на базе которых только и могут быть получены остальные — выводные — положения. Эти недоказуемые утверждения Евклид подразделяет на три группы: определения (opot), постулаты (оифата) и общие понятия — аксиомы. У самого Евклида эта третья группа положений носит название xotval svvoiai — «общие представления», «понятия»; на латинский язык это выражение обычно переводили как «communes animi conceptiones» — «общие понятия души». У Прокла в комментарии к Евклиду первая группа положений называется также гипотезами (orcd&eotc), а третья группа положений носит название аксиомы (а&сшата).
На каком основании Евклид вводит эти три подразделения? Чем обличаются определения от постулатов и аксиом?
Рассмотрим сначала, что такое определения, или допущения (гипотезы), как их именует платоник Прокл. В первой книге Евклида их 23 ". Они в свою очередь могут быть подразделены на две группы. В первой группе (определения 1—9, 13, 14) вводятся исходные понятия геометрии — точка, линия, прямая линия, поверхность, плоскость, угол, граница, фигура. Ко второй группе принадлежат определения основных геометрических фигур — прямого, тупого и острого углов, круга, разного вида треугольников и четырехугольников, параллельных прямых.
Что касается определений первой группы, то, как отмечает М. Я. Выгодский, «с древнейших времен и до наших дней эти определения в наибольшей степени были
99 Евклид. «Начала», кн. I—VI, с. 11—14.
Становление^ первых научных программ
179
предметом критики» 10°. Приведем главнейшие из определений этой первой группы:
1. Точка есть то, что не имеет частей.
2. Линия же — длина без ширины.
3. Концы же линии — точки.
4. Прямая линия есть та, которая равно расположена относительно точки на ней.
5. Поверхность есть то, что имеет только длину и ширину.
6. Концы же поверхности — линии.
Очевидно, именно такого рода определения имеет в виду Платон в следующем своем рассуждении: «Я думаю, ты знаешь, что те, кто занимается геометрией, счетом и тому подобным, предполагают в любом своем исследовании, будто им известно, что такое чет и нечет, фигуры, три вида углов и прочее в том же роде. Это они принимают за исходные положения 100 101 и не считают нужным отдавать в них отчет ни себе, ни другим, словно это всякому и без того ясно» 102.
Таким образом, термин opot, или бтсойезе^, переводимый на русский язык как «определения», означает скорее «гипотезы», т. е. предположения, допущения, которые далее не доказываются. Как поясняет Аристотель, определения «ничего не говорят о том, существует ли данный предмет или нет» 103, и это, надо полагать, их специфическое отличие от постулатов. Точно так же ничего не говорят о существовании определяемого предмета и аксиомы, т. е. «общие понятия»:
1. Равные одному и тому же равны между собой.
100 Выгодский М. Я. «Начала» Евклида.— В кн.: Историко-математические исследования. М.; Л., 1948, вып. I, с. 226, 227.
101 У Платона говорится — гипотезы, т. е. тот самый тер-
мин, которым обозначает «определения» и Прокл.
102 Государство, 110с—d.
103 Аристотель. Аналитика вторая, гл. 10.— В кн.: Аристотель. Аналитики первая и вторая/Пер. Б. А. Фохта. М., 1952, с. 201. Мы здесь пока не касаемся различия в трактовке математики у Платона и Аристотеля — различия, которое побуждает Аристотеля пересматривать многие из платоновских понятий. Так, Аристотель употребляет термин «определение» (opoi) вместо платоновского «предположение» (6 я б & вас) в силу иного обоснования математики,
180
Раздел второй
2. И если к равным прибавляют равные, то и целые будут равны.
3. И если от равных отнимаются равные, то остатки будут равны.
4. И если к неравным прибавляются равные, то целые будут не равны.
5. И удвоенные одного и того же равны между собой.
6. И половины одного и того же равны между собой.
7. И совмещающиеся друг с другом равны между собой.
8. И целое больше части.
9. И две прямые не содержат пространства 104 105.
Как нетрудно видеть, все аксиомы, кроме 7 и 9, одинаково могут быть отнесены как к геометрии, так и арифметике; что же касается 7 и 9, то Л. Хис считает их позднейшей вставкой 106, и его мнение разделяет М. Я. Выгодский.
Аксиомы, как и определения, ничего не говорят о существовании определяемого ими объекта. Отличие определений от аксиом легко заметить: определения имеют более специальный характер, они вводят именно геометрические объекты, аксиомы же (по крайней мере 6 первых и 8-я) могут иметь значение и для геометрии, и для арифметики, т. е. носят более общий характер. Это различие подтверждается и тем, что Евклид формулирует специальные определения в начале каждой из книг своего сочинения; что же касается аксиом, то они предпосылаются сразу ко всем книгам.
По этому принципу отличал определения от аксиом и Аристотель. В «Аналитике второй» читаем: «Из тех начал, которые применяются в доказывающих науках, одни свойственны каждой науке в отдельности, другие — общи всем... Свойственным (лишь одной науке) является, на
104 Евклид. Начала, ки. I—VI, с. 15. Число аксиом в разных списках «Начал» указывалось разное; М. Я. Выгодский называет в качестве исходных аксиом первые три — 6, 7 и 8; остальные же считает прибавленными позднее. «Прибавления к этому списку, которые можно найти в различных изданиях «Начал», естественно объясняются’желанием издателей восполнить пробелы, которые, по их мнению, допустил Евклид» (Выгодский М. Я. «Начала» Евклида, с. 249).
105 Heath L. The thirteen books of Euclid’s Elements. Cambridge,
1926, t. I, p. 168.
Становление первых научных программ
181
пример, то, что линия — такая-то и прямое — такое-то. Общее же, например, то, что если от равного отнять равные (части), то остаются равные же (части). Каждым из таких (общих положений) можно пользоваться, поскольку оно относится к роду, подчиненному данной науке, ибо оно будет иметь одинаковую силу, если и не брать его для всего (подходящего), но (в геометрии) — в отношении величин, а в арифметике — в отношении чисел» 106. II действительно, аксиомы у Евклида формулируются в самом начале; что же касается определений, то они свои в начале каждой книги.
Иной характер, чем определения и аксиомы, носят постулаты. Греческий термин аЩглогса означает «требования». Постулаты, как и аксиомы, имеют общее значение: они перечислены в начале I книги и имеют силу для всех книг Евклида, где речь идет о геометрических объектах. Относительно количества постулатов очень много спорили уже в эпоху эллинизма и вплоть до нашего времени. По этому вопросу существует специальная весьма обширная литература, но мы рассмотрим его лишь с интересующей нас стороны.
Обратимся к переводу постулатов, сделанному М. Я. Выгодским со списка, который принят И. Гейбергом. Этот список, как говорит Выгодский, «соответствует большинству лучших рукописей и, что не менее важно, совпадает со списком, приводимым в комментариях Прокла. Поэтому можно думать, что нижеприводимые постулаты... содержались в оригинале «Начал». Вот их список:
Требования
1. Требуется, чтобы можно было через всякие две точки провести прямую.
2. И ограниченную прямую непрерывно продолжать по прямой.
3. И из всякого центра всяким расстоянием описать круг:
4. И что все прямые углы равны.
5. И если прямая линия, падающая на две прямые, делает меньшими двух прямых углы по одну сторону,
106 Аристотель. Аналитика вторая, с. 199,
182
Раздел второй
чтобы эти две прямые, будучи продолжены, совпали с той стороны, с которой углы меньше двух прямых» 107.
Прокл в своем комментарии к «Началам» Евклида говорит, что 4-й и 5-й постулаты — это, в сущности, не постулаты. «...Положение, что все прямые углы равны, не есть требование, точно так же как и пятое положение, которое утверждает: если прямая пересекается с двумя другими прямыми и образует внутренние углы по одну сторону меньшие, чем два прямых, то эти две прямые, будучи продолжены, совпадут с той стороны, где лежат углы, меньшие двух прямых» 108. Как аргументирует Прокл свое утверждение? «Это положение,— говорит он, имея в виду 5-й постулат,— не применяется в качестве конструкции и не ставит требование что-то найти, а оно объясняет некоторое свойство, которое является общим для прямых углов и прямых, исходящих из углов, меньших двух прямых. Согласно второму определению, положение, что две прямые не объемлют поверхности (см. аксиому 9: «Две прямые не содержат пространства»),— положение, которое также теперь некоторые причисляют к аксиомам, не есть аксиома. Ибо оно принадлежит к геометрической материи, как и положение о равенстве двух прямых углов» 109.
Это рассуждение Прокла в сущности уже содержит различение аксиом и постулатов — различение, которое нас как раз и интересует. Из слов Прокла можно понять, что к постулатам он причисляет лишь те положения, которые ставят требования что-то найти или сконструировать', по этой причине отнесенные к числу постулатов положения о равенстве всех прямых углов (4) и о пересечении двух непараллельных прямых при их продолжении (5) он постула-
107 Выгодский М. Я. «Начала» Евклида, с. 248. Перевод Выгодского более наглядно, чем перевод Д. Д. Мордухай-Болтовского, выявляет, что постулаты суть требования., а не допущения типа определений.
108 Proklos. Euklidkommentar, deutsch von L. Schonberger — M. Steck. Halle/S., 1945.— Цит. no: Becker 0. Grundlagen der Mathematik in geschichtlicher Entwicklung. Freiburg; Munchen, 1964, S. 104 (Беккер приводит отрывки из Прокла в переводе Шенбергера).
109 цит по: вескег о, Grundlagen der Mathematik..., S. 104.
Становление первых научных программ 183
тами не считает. В то же время, Прокл не согласен считать аксиомой положение 9, относимое, как он говорит, «некоторыми» к аксиомам: ведь оно трактует о поверхности (пространстве) и тем самым «принадлежит к геометрической материи». Заметим характерное выражение: геометрическая материя.
Аксиомы, согласно Проклу, так же отличаются от постулатов, как теоремы — от проблем: «Выведение из принципов опять-таки распадается на задачи (проблемы) и положения (теоремы). Первые обнимают собою построение фигур, разделение, вычитание и прибавление и вообще все, что с ними можно делать (vornehmen); последние указывают существенные свойства... Если кто-то формулирует задачу так: вписать в круг равносторонний треугольник, то он говорит о проблеме; ибо возможно вписать в круг также и неравносторонний треугольник. И опять-таки: на данном, точно определенном, отрезке построить равносторонний треугольник — это тоже проблема, ибо можно построить также и неравносторонний. Но если кто-то формулирует положение, что в равнобедренных треугольниках углы при основании равны, то можно сказать, что он формулирует теорему, ибо невозможно, чтобы в каком-нибудь равнобедренном треугольнике углы при основании не были равны» по.
Таким образом, теорема — это теоретическое утверждение, в котором определенному объекту приписывается свойство, которое ему присуще с необходимостью.
Проблема же — это скорее практическая задача, которая выполняется определенным способом, и нужно найти эти способы, изобрести их и выполнить требуемое построение. Характерной особенностью задачи (проблемы) является то, что требуемое построение — отнюдь не единственно возможное', при заданных условиях можно осуществить и другое построение.
Теорема, таким образом, представляет собой утверждение, противоположное которому будет неистинным; к проблеме же определение «истинно — неистинно» не может быть применено.
110 Цит. по: Becker О. Grundlagen der Mathematik..., S. 100—102,
184
Раздел второй
Указав на различие между теоремами и проблемами, Прокл переходит к рассмотрению аксиом и постулатов. «Общим для аксиом и постулатов,— пишет он,— является то, что они не нуждаются ни в каком обосновании и пи в каком геометрическом доказательстве, но что они принимаются как известные и являются началами для последующего. Но аксиомы отличаются от постулатов так же, как теоремы от проблем. А именно, подобно тому как в случае теорем мы ставили задачу усмотреть и понять следствие из предпосылок, а в случае проблем получаем требование что-то найти и сделать, точно так же и в случае аксиом принимается то, что сразу видно и не представляет никаких затруднений для нашего необученного (ungeschulten) мышления. Но в случае постулатов мы пытаемся найти то, что легко получить и установить и относительно чего рассудок не затрудняется, не нуждается ни в каком сложном методе и пи в какой конструкции» 1П.
Если мы оставим в стороне весьма сложный и на протяжении многих веков дискутировавшийся среди математиков и философов вопрос о двух последних постулатах (4 и 5) и некоторых аксиомах (7 и 9), то с различением, которое здесь приводит Прокл, трудно не согласиться.
Из дальнейшего сообщения Прокла мы узнаем, что еще до Евклида греческие математики и философы обсуждали значение недоказуемых предпосылок в геометрии. Ученик Платона Спевсипп не соглашался с математиком Менехмом, учеником Евдокса; их спор был продолжением полемики самого Платона с Архитом, Евдоксом и другими математиками относительно применимости в геометрии принципа построения. Во всяком случае, Г. Г. Цейтен считает, что спор между Менехмом и Спевсиппом подобен тому, который начался еще раньше между Евдоксом и Платоном, и что этот спор касается доказательства существования геометрических объектов. «...Платоники, — пишет Цейтен,— утверждали, что равносторонний треугольник существует до построения его, Менехм же, очевидно, должен был доказывать, что в его реальном существовании мы убеждаемся, лишь построив его и доказав при этом, что это построение приводит действительно к преследуемой им цели. Но так
111 Цит. по: Becker О. Grundlagen der Mathematik..., S. 102.
Становление первых научных программ
185
именно поступает Евклид: он не довольствуется определением равносторонних треугольников; прежде чем начать пользоваться ими, он убеждается в их существовании, решив в первой теореме своей первой книги задачу о построении этих треугольников; затем он доказывает правильность этого построения» 112.
Цейтен считает, что этот спор имеет принципиальное значение с точки зрения платоника Спевсиппа, существование геометрических объектов (того же равностороннего треугольника) не может быть доказано с помощью построения, ибо геометрические объекты тождественны идеям и существуют от века, а Менехм и вслед за ним Евклид не согласны со Спевсиппом. Что касается названных математиков, то их позицию Цейтен характеризует следующим образом: «Основное значение геометрического построения заключается в доказательстве реального существования того самого объекта, к нахождению которого приводит это построение» 113. К этой позиции присоединяется и сам Цейтен, считая, что постулаты Евклида представляют собой доказательства существования геометрических объектов: первый постулат — доказательство существования отрезка прямой, второй — неограниченно продолженной прямой, третий — круга.
И действительно, у Прокла по этому поводу читаем: Спевсипп и Амфином «придерживались того взгляда, что паукам о духовном (Geisteswissenschaften) 114 * приличествует скорее название теорем, чем проблем, поскольку они занимаются непреходящим предметом. Ибо в сфере непреходящего не существует становления, так что в ней нет места для проблемы, которая предполагает становление и создание чего-то такого, чего до этого не было, как, например, построение равностороннего треугольника или построение квадрата с данной стороной... Согласно им, следовательно, правильнее сказать, что все есть одно и то же и что мы рассматриваем его становление не деятельным,
112 Цейтен Г. Г. История математики в древности и в средние века, с. 71.
113 Там же.
114 Имеются в виду математические науки в отличие от физиче-
ских — наук о природе.
186
Раздел второй
а познающим способом, тем, что берем вечно сущее как нечто становящееся, поэтому мы скажем, что все следует брать в смысле теорем, а не проблем. Другие же, как, например, школа математика Менехма, хотят характеризовать весь комплекс как проблемы. Но задача при этом является двойственной: она означает то изобретение чего-то искомого, то исследование определенного объекта с целью узнать, что он такое или каким свойством обладает, или в каком отношении он находится к другому объекту» 115.
В приведенном отрывке мы находим положения, проливающие дополнительный свет на позицию Спевсиппа: когда мы обращаемся к геометрическому объекту, например равностороннему треугольнику, то мы пе просто познаем вечно-сущую идею, а «берем вечно-сущее как нечто становящееся». Главное расхождение Спевсиппа с Менех-мом касается, стало быть, не вопроса о том, что такое треугольник: вечно-сущая идея или конструкция, порождаемая нами самими, а вопроса о том, как понимать это рассмотрение становления — как деятельность (т. е. как построение) или как познание 116.
На этот момент, по-видимому, Цейтен не обратил достаточного внимания 117. Нам кажется, что произошло это вот по какой причине. Всем известно, что Платон критиковал современных ему математиков за то, что те пользовались определенными механическими орудиями для решения математических задач, в том числе и для построения фигур. Ясно также, какие орудия нужны для выполнения первых
116 Цит. по: Цейтен Г. Г. История математики в древности и в средние века, с. 101.
116 Мы не знаем, какой греческий термин употреблен здесь Проклом, но среди познавательных способностей, противопоставляемых, деятельности, скорее всего приходит на ум способность «созерцания».
117 Отсюда его заключение: «Платоники высказывались в пользу понимания их (математических истин.— П. Г.) как теорем, опираясь при этом на то, что решение какой-нибудь задачи устанавливает лишь существующую уже предварительно вещь; так, например, равносторонние треугольники существуют независимо от того, стройт ли их или нет, потому что идея равностороннего треугольника существует реально еще до всякого построения» (Цейтен Г. Г. История математики в древности и в средние века, с. 70). Между тем от Аристотеля мы узнали, что Платон отождествлял с идеями числа, но ре геометрические фигуры,
Становление первых научных программ
187
трех постулатов Евклида: линейка и циркуль. Естественно поэтому, что приведенные Проклом соображения Спевсип-па против построения как доказательства существования геометрических объектов были восприняты как прямое продолжение возражений Платона, направленных против «использования вспомогательных инструментов». Отсюда возникла и мысль, что Платон и Спевсипп считали геометрические объекты существующими реально от века, подобно вечным и неизменным идеям.
В то же время вывод этот не вытекает непосредственно из наличных свидетельств древних авторов. Более того, утверждение Спевсиппа, что геометрические объекты представляют собой «вечно сущее в становлении», указывает на то, что эти объекты имеют несколько иной онтологический статус, чем идеи. Но, прежде чем внести ясность в этот вопрос, посмотрим, за что Платон критиковал современных ему математиков.
Прикладная и чистая математика. Платон о неприменимости механики в геометрии. Благодаря своей функции посредника между сферами чувственного и идеального бытия математика может выполнять, согласно Платону, две разные задачи: во-первых, служить цели приобщения человека к более высокому — к созерцанию идеи блага — и, во-вторых, быть средством упорядочения и расчленения низшей сферы — текучего и неуловимого становления. Первая ее функция оценивается Платоном неизмеримо выше второй: «При устройстве лагерей, занятии местностей, стягивании и развертывании войск и разных других военных построениях как во время сражения, так и в походах, конечно, скажется разница между знатоком геометрии и тем, кто ее не знает. — Но для этого было бы достаточно какой-то незначительной части геометрии и счета. Надо, однако, рассмотреть преобладающую ее часть, имеющую более широкое применение: направлена ли она к нашей цели, помогает ли она нам созерцать идею блага?» 318
Всякое применение математики к познанию эмпирических явлений оценивается Платоном как ее прикладная функция, и хотя он против этого применения не возражает, но опасается, как бы из-за него не затемнилось и не 118
118 Государство, 526d-^c.
188
Раздел второй
исказилось понимание самой природы и сущности как математики, так и всей науки вообще. А это «затемнение и искажение», согласно Платону, сказывается в том, что из-за возможности применять математические знания на практике в саму математику вносятся механические методы.
«Кто хоть немного знает толк в геометрии,— говорит Сократ в диалоге «Государство»,— не будет оспаривать, что паука эта полностью противоположна тем словесным выражениям, которые в ходу у занимающихся ею.
— То есть?
— Они выражаются как-то очень забавно и принужденно. Словно они заняты практическим делом и имеют в виду интересы этого дела, они употребляют выражение «построим» четырехугольник, «проведем» линию, «произведем наложение» и так далее: все это так и сыплется из их уст. А между тем все это наука, которой занимаются ради познания.
— Разумеется.
— Не оговорить ли нам еще вот что...
— А именно?
— Это наука, которой занимаются ради познания вечного бытия, а пе того, что возникает и гибнет... Значит, она влечет душу к истине и воздействует на философскую мысль, стремя ее ввысь, между тем как теперь она у нас низменна вопреки должному» 119. Платон здесь подвергает критике применение механики к решению геометрических проблем. Так, Архит при решении задачи удвоения куба, которая, по свидетельству древних источников, была поставлена как практическая задача удвоения объема делийского жертвенника 12°, применял метод построения, вводя при этом в геометрию механические методы 121.
119 Государство, VII, 527b.
120 Willamowitz-Mollendorj U. von. Ein Weihgeschenk des Eratos-tens.— In: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen. Philologisch-Historische Klasse. Gottingen, 1894, S. 15.
121 Решение Архйтом задачи удвоения куба, которая была сведена Гиппократом Хиосским к задаче нахождения двух средних пропорциональных между двумя отрезками, из которых один вдвое короче другого, см. в книге Б. Л. ван дер Вардена «Пробуждающаяся наука» (с. 209—211).
Становление первых научных программ
189
Это предположение подтверждается и сообщением Плутарха. «Знаменитому и многими любимому искусству построения механических орудий,— пишет Плутарх,— положили начало Евдокс и Архит, стремившиеся сделать геометрию более красивой и привлекательной, а также с помощью чувственных, осязаемых примеров разрешить те вопросы, доказательство которых посредством одних лишь рассуждений и чертежей затруднительно; такова проблема двух средних пропорциональных — необходимая составная часть многих задач, для разрешения которой оба применили механическое приспособление, строя искомые линии на основе дуг и сегментов. Но, так как Платон негодовал, упрекая их в том, что они губят достоинство геометрии, которая от бестелесного и умопостигаемого опускается до чувственного и вновь сопрягается с телами, требующими для своего изготовления длительного и тяжелого труда ремесленника, механика полностью отделилась от геометрии и, сделавшись одною из военных наук, долгое время вовсе не привлекала внимания философов» 122.
Свидетельство Плутарха полностью совпадает с приведенными рассуждениями Платона, что в свою очередь придает большую достоверность самому этому свидетельству 123. Плутарх, как, впрочем, и сам Платон, хорошо передает атмосферу научной жизни античной Греции, борьбу тенденций в науке, в частности в математике, которая действительно привела к значительному обособлению механики и математики, соединение которых можно наблюдать только в более поздний период, например у Архимеда.
122 Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3-х т. М., 1961, т. 1, с. 391.
123 Б. Л. ван дер Варден сомневается в достоверности приведенного рассказа Плутарха, полагая, что последний позаимствовал его из диалога Эратосфена «Платоник», которому тоже нельзя доверять. «В произведениях Платона,—пишет Варден,— нигде нет ничего подобного, но к «Платонику» все это прекрасно подходит» (Варден Б. Л. ван дер. Пробуждающаяся наука, с. 224). Однако у Платона мы видим ту же самую критику механических методов в геометрии, о которой сообщает Плутарх.
190
Раздел второй
Было бы, однако, не совсем справедливо приписывать одному лишь Платону и его Академии склонность к разделению теоретической и практически-прикладной областей: эта склонность характерна вообще для подавляющего большинства греческих философов, в том числе и для Демокрита, и для Аристотеля, и для Эпикура. Именно это разделение двух сфер привело, с одной стороны, к вычленению науки как некоторого самостоятельного по отношению к практической жизни теоретического образования, органически связанного с философией, какого не было на Востоке. С другой стороны, это разъединение (конечно, всегда относительное, а не абсолютное) обусловило специфический характер древнегреческой науки вообще, а математики в частности, благодаря которому опа отличается от науки нового времени —последней свойственна гораздо более интимная связь с «механическими приспособлениями», как выразился Плутарх.
Итак, Платон решительно выступает против внесения в геометрию механических методов; но это еще не значит, что он отождествляет геометрические фигуры с самими идеями и не ставит специально вопроса о их существовании — вопроса, который должен обязательно возникнуть, если онтологический статус геометрических объектов иной, чем статус идей.
Прокл о воображаемом движении. Платон считал, что предпосылкой существования геометрических объектов является пространство — нечто среднее между чувственными вещами и умопостигаемыми идеями. О нем не может быть достоверного знания, какое получают только посредством ума, но опираясь на него, геометрия «строит» свои объекты.
Однако вопрос этот, видимо, вызывал много споров, поскольку действительно его решение у Платона лишь схематически намечено, но не разработано в деталях. Так, Аристотель постоянно задает Платону и платоникам вопрос, к какому роду бытия принадлежат геометрические объекты в отличие от арифметических, и «из чего» они образованы. «...Оказывается необходимым,— пишет Аристотель,— устанавливать еще другой род числа, с которым имеет дело арифметика, и также все то, что у некоторых получает обозначение промежуточных объек
Становление первых научных программ
191
тов 124; так вот, эти объекты — как они существуют или из каких образуются начал? а также — почему они будут находиться в промежутке между здешними вещами и числами самими по себе?» 125
Надо полагать, в платоновской Академии продолжалось обсуждение вопроса о том, как существуют геометрические объекты и из каких «начал» образуются; не удивительно, что этим вопросам уделяют большое внимание неоплатоники, в частности Прокл в своем комментарии к «Началам» Евклида.
Посмотрим, как Прокл пытается ответить па эти вопросы. Сравнивая между собой точки зрения Спевсиппа и Менехма, Прокл говорит, что, в сущности, оба спорящих правы. Права школа Спевсиппа, «ибо проблемы геометрии — иного рода, чем проблемы механики... Но столь же права и школа Менехма: ибо без вхождения в материю невозможно нахождение теорем, но я имею в виду интеллигибельную материю. Поскольку, следовательно, идеи входят в нее и оформляют ее, справедливо говорят, что они уподобляются становящемуся. Ибо деятельность нашего духа и эманацию его идей мы характеризуем как источник фигур в нашей фантазии и процессов, совершающихся с ними» 126.
Платон не пользуется терминами, которые употребляет здесь Прокл: «интеллигибельная материя» и «фантазия». Но то, что названо этими терминами, мы у Платона уже встречали: интеллигибельная материя — это ведь гибрид, соединение, казалось бы, несоединимого — интеллигибельного и чувственного, то самое соединение, которое Платон считал характерным для пространства. А способность, которой постигается эта «интеллигибельная материя», носит у Прокла название «фантазии».
Что же касается аргументов Спевсиппа, то их Прокл считает относящимися к вопросу о невозможности конструирования геометрических объектов механическим пу-
124 Аристотель имеет в виду именно геометрические объекты — фигуры, линии и т. д., что можно установить при сопоставлении с другими его рассуждениями.
125 Метафизика, I, 9.
126 Цит. по Becker О. Grindlagen der Mathematik..., S. 101,
192
Раздел второй
тем; и в этом пункте позиция Спевсиппа, судя по всему, смыкается с платоновской. Но теперь понятны нам и приведенные Прок лом слова Спевсиппа о том, что, беря равносторонний треугольник или любую другую фигуру, мы «берем вечно сущее как нечто становящееся». Любой геометрический объект — это вечно сущее, взятое как становление; стихия геометрии — это, стало быть, интеллигибельная (вечно сущее) материя (становление).
Значит, постулаты Евклида представляют собой способы оперирования с этой «интеллигибельной материей» — пространством? Мы не знаем, как интерпретировал постулаты сам Евклид, но, по-видимому, Платон мог бы их истолковать так же.
Приведем еще одно разъяснение Прокла. «Возможность провести прямую из любой точки в любую точку вытекает из того, что линия есть течение точки, и прямая — равнонаправленное (gleichgerichtete) и не отклоняющееся течение. Представим, следовательно, себе, что точка совершает равнонаправленное и кратчайшее движение; тогда мы достигнем другой точки, и первое требование выполнено без всякого сложного мыслительного процесса с нашей стороны» 127.
Вот, стало быть, что означает, согласно Проклу, первый постулат Евклида: это простейший акт представления того, как движется точка. Простейший, не требующий от нас особых усилий. Но если не нужно особых усилий, чтобы представить себе (а представление, образ, относятся к сфере становления — сравни у Спевсиппа), как движется точка, то нужно сделать большое усилие, чтобы понять, где же, в какой стихии эта точка движется и что такое она сама. Может быть, это шарик, катящийся по столу? Или кусок мела, который движется по доске? Но они — не точки, а чувственные вещи. Может быть, точка — это идея? Но идея не может двигаться, она не причастна миру становления, в котором только и может иметь место движение. Что же такое точка и где то место, в каком она движется?
127 Цит. по: Szabo A. Anfange der griechischen Mathematik, S. 374 (пер. с греч. Л. Шенбергера).
Становление первых научных программ
193
Прокл отвечает на этот вопрос так: «Но если бы у кого-нибудь возникли затруднения относительно того, как мы вносим движение в неподвижный геометрический мир и как мы движем то, что не имеет частей (а именно точку) — ибо это ведь совершенно немыслимо, то мы попросим его не слишком огорчаться... Мы должны представлять движение не телесно, а в воображении (x(vv)5t<; (pavTOUSTtxTj); и мы не можем признать, что не имеющее частей (точка) подвержено телесному движению, скорее оно подлежит движениям фантазии. Ибо неделимый ум (уоо<;) движется, хотя и не способом перемещения; также и фантазия, соответственно своему неделимому бытию, имеет свое собственное движение» 128.
Таким образом, движение геометрической точки совершается не в умопостигаемом мире, но и не в мире телесном; оно совершается в воображаемом мире: точка движется в фантазии. Такое название у Прокла получила способность, которая, согласно Платону, подобна сну. И в прямом соответствии с утверждением Платона, что чертежи на песке представляют собой только чувственные подобия геометрических фигур, Прокл далее говорит о том, что телесное движение карандаша по бумаге есть лишь телесный аналог, телесный образ движения бестелесной точки по бестелесной «бумаге» — пространству, т. е. движение, совершаемое в фантазии 129.
Промежуточная способность теперь названа «фантазией», а промежуточное бытие — «интеллигибельной материей». Нам думается, что хотя термины эти принадлежат Прок-лу, но онтологический статус объектов геометрии определен им вполне в духе философии математики Платона. Если позиция Спевсиппа в некоторых пунктах и не вполне совпадала с платоновской, то в рассматриваемом вопросе она, как нам кажется, весьма близка к платоновской.
Теперь к вопросу о линейке и циркуле: видимо, Платон признавал эти инструменты подходящими только для
128 Цит. по Szabo A. Anfange der griechischen Mathematik, S. 375— 376.
129 Фантазию в этом смысле, пожалуй, можно назвать оперированием с умопостигаемым содержанием, или мысленной операцией, т. е. вариантом мысленного эксперимента.
7 П. П. Гайденко
194
Раздел второй
того, чтобы представить нашему «телесному зрению» те фигуры, которые мы реально «порождаем» в фантазии; чертежи на песке или на бумаге казались ему чем-то вроде «вторых подобий» — так же как и произведения искусства. Почему вторых? Потому что даже движение точки в фантазии есть нечто вторичное, оно предполагает материю, хотя и «интеллигибельную»; а движение стилета по восковой дощечке есть уже чувственное подобие движения точки в фантазии.
Исходя из сказанного, можно сделать следующий важный вывод: древнегреческая наука принципиально не могла последовательно провести мысль о том, что геометрический объект — точка — движется в материальном мире. Даже у Архимеда и Герона еще не было той формы связи между механикой и геометрией, какая возникла только в эпоху Возрождения и благодаря каторой стало возможным совсем новое истолкование математической программы античности.
Иерархия математических наук у Платона. Мы выяснили, в чем Платон видел различие между числами и геометрическими фигурами. Понятно, что различие в онтологическом статусе арифметических и геометрических объектов должно обусловливать, согласно Платону, также и познавательную значимость этих двух математических наук. Арифметика поэтому является первой в ряду наук и наиболее логически обоснованной. Что касается геометрии, то она не имеет строго логического обоснования, ибо ее элементы нуждаются для своего обоснования также в «интеллигибельной материи» — пространстве. Для геометрии наглядность («созерцание») необходима, для арифметики — нет. Тем не менее все математические науки имеют в глазах Платона высокий ценностный статус: все они в той или иной мере причастны к постижению высшего бытия, а потому и должны почитаться как средства к высшему познанию.
Большинство историков науки согласны между собой в том, что греческая математика отличается от средневековой и особенно от математики нового времени. К характерным ее чертам принадлежит, в частности, специфическое отношение к числу, носящее ярко выраженный аксиологический характер. Такое отношение к числу
Становление первых научных программ
195
особенно характерно для математиков и философов, принадлежащих к пифагорейской школе и к платоновской Академии. Анализ платоновских произведений показывает, как складывалось и чем мотивировалось ценностное отношение к математике.
Само происхождение знаний о числе представляется Платону достойным всякого почитания. «Давайте рассмотрим,— говорит он, — как мы выучились считать. Скажите: откуда у нас появилось понятие единицы, двойки? Почему только мы одни из всех живых существ по своей природе можем иметь такое понятие?... Нам впервые привил Бог понимание того, что нам показывают, а затем он показал нам число и показывает до сих пор 130. Происходит беспрестанная смена многих ночей и дней. Небо совершает это беспрестанно, научая людей понятию о единице и двойке, так что, наконец, и самый неспособный человек оказывается в состоянии усвоить счет. Созерцая это, каждый из нас может получить понятие о числах „три44, „четыре*4 и о множественности» ш.
Счет, таким образом, есть нечто священное уже потому, что ему нас научило Небо. То, что математика на Востоке с самых древних времен связана была с астрономией, в этом нет сомнения, и это, собственно, Платон и имеет в виду. Однако математика, как и астрономия, была связана и с практическими нуждами, но эту ее функцию Платон, как мы уже видели, считает производной и второстепенной 132.
Дарованная нам Небом наука о числе, согласно Платону, не может содержать в себе ничего дурного, отрица-
ло Эти слова: «Бог показал нам число» — имеют у Платона прямой смысл, так как бог у него — это Небо, и, поскольку такое понимание бога не было традиционным у греков, Платон специально оговаривает, какого бога имеет в виду: «Надо сказать, какого бога имею я в виду... Пожалуй, это — Небо, и всего справедливее почитать его и преимущественно к нему обращаться с молитвами...» (Послезаконие, 976е — 977).
Х81 Послезаконие, 978b—d.
132 Так, например, Платон считает весьма неудачным для обозначения одной из математических наук термин «геометрия» («землемерие»), поскольку таким образом эта наука ассоциируется с ее практическим применением, что затемняет якобы ее истинную сущность. См.: Послезаконие, 990с—d.
7*
196
Раздел второй
тельного. Вот отрывок, где дается ценностная характеристика числа: «Что число не вызывает ничего дурного, это легко распознать, как это вскоре и будет сделано. Ведь чуть ли не любое нечеткое, беспорядочное, безобразное^ неритмичное и нескладное движение и вообще все, что причастно чему-нибудь дурному, лишено какого бы то ни было числа. Именно так должен мыслить об этом тот, кто собирается блаженно окончить свои дни. Точно так же никто, не познав [числа], никогда не сможет обрести истинного мнения о справедливом, прекрасном, благом и других подобных вещах и расчислить это для самого себя и для того, чтобы убедить другого» 133.
Таким образом, число внутренне связано с прекрасным, благим и священным, а потому отнюдь не есть нечто нейтральное по отношению к ценностям. Именно с понятием числа Платон связывает порядок, упорядоченность, ритм, склад (лад), гармонию, согласованность, меру, соразмерность, а все это — атрибуты не только прекрасного, но и доброго, благого, оно же и истинное. Поэтому в самом числе выделяется и подчеркивается прежде всего то, что несет эти атрибуты.
Первой среди математических наук Платон считает арифметику. Арифметика, «главная и первая из наук — это наука о самих числах, но не о тех, что имеют предметное выражение, а вообще о зарождении понятий „чет“ и мнечет“ и о том значении, которое они имеют по отношению к природе вещей. Кто это усвоил, тот может перейти к тому, что носит весьма смешное имя геометрии. На самом деле ясно, что это наука о том, как выразить на плоскости числа, по природе своей неподобные» 134 135.
Два числа, ab и cd, называются подобными в том случае, если их множители — «стороны» (как говорят античные математики, тем самым указывая на то, что число мыслится ими геометрически) — пропорциональны, т. е. а : с = b : d 136. Если же числа оказываются неподобными, то их можно уподобить, представив как площади
133 Послезаконие, 978 — 978b (курсив мой.— П. Г.).
134 Послезаконие, 990с — d.
135 См. об этом подробно: Becker О. Quellen und Studien zur Ge-
schichte der Mathematik. Berlin, 1938, Bd. 4, S. 191 ff.
Становление первых научных программ
197
подобных прямоугольников; задача уподобления двух чисел ab и cd предстает тогда как задача нахождения средних пропорциональных т и Z, так что площади ab и cd относятся как т2 : I2. Таким образом, задача нахождения средних пропорциональных с целью «уподобления» чисел мыслится Платоном как центральная проблема геометрии. Установление пропорциональных отношений, как видим, оказывается не одной из задач математики наряду с прочими, а центральной ее темой.
«Вслед за этой наукой идет еще одна, ей подобная: люди, ею занимающиеся, также назвали ее геометрией. Наука эта изучает тела, имеющие три измерения и либо подобные друг другу по своей кубической природе, либо неподобные, приводимые к подобию с помощью искусства». Речь идет, как нетрудно заметить, о стереометрии, которой Платон отводил важное место среди математических наук. Главной ее задачей он тоже считал установление пропорциональных отношений.
В сочинениях Платона рассматриваются три вида пропорций: арифметическая, геометрическая и гармоническая. Так, в «Тимее», объясняя принцип построения космоса демиургом, Платон приводит сложное числовое построение, в основе которого лежит система пропорциональных отношений: «...в каждом промежутке было по два средних члена, из которых один превышал меньший из кратных членов на такую же его часть, на какую часть превышал его больший, а другой превышал меньший крайний член и уступал большему на одинаковое число» 136. Здесь Платон дает определение гармонической и арифметической пропорции. Если средний член превышает меньший из крайних на такую его часть, на какую сам он превышается большим крайним членом, мы имеем гармоническую пропорцию. Так, для двух чисел — 6 и 12 — гармонической средней будет 8. Гармоническая пропорция — это 6, 8, 12, т. е. 1, 11/3, 2. Если же средний член превышает меньший из крайних на такое же число на какое его самого превышает больший крайний, то пропорция будет арифметической: 6,9, 12илиl,!1^, 2. Есть у Платона и третий вид пропорции, хотя он его не опреде
136 Тимей, 36.
198
Раздел Ьторой
ляет в приведенном отрывке,— геометрическая пропорция: второй член должен так относиться к третьему, как первый — ко второму: 1, 2, 4 137.
Таким образом, именно теория пропорций была в центре математических исследований, проводившихся в Академии, и не случайно такие математики, как Теэтет и Евдокс Книдский, если доверять античным источникам, уделяли большое внимание этой теме. Так, О. Беккер полагает, что V и VI книги «Начал» Евклида, содержащие теорию пропорций, принадлежат Евдоксу 138, с чем согласен также и Б. Л. ван дер Варден 139.
Последовательный ряд наук — арифметика, геометрия и стереометрия — продолжается еще одной наукой — астрономией. Астрономия — четвертая в ряду математических наук, но в то же время она как бы возвращает нас и к началу ряда, поскольку, как мы помним, по Платону, арифметика обязана своим возникновением созерцанию Неба и происходящих в нем перемен. Вот, что пишет Платон о месте астрономии среди других наук и о ее предмете: «Завершением их (наук.— П. Г.) должно служить рассмотрение божественного происхождения и прекраснейшей и божественной природы зримых вещей. Бог дал созерцать ее людям, но без только что разобранных наук никто этого не может, хотя бы кто и похвалялся тем, что он легко все схватывает... Нам надо познать точность времени, а именно с какой точностью совершаются все небесные кругообращения... Всякая геометрическая фигура, любое сочетание чисел или гаморническое единство имеют сходство с кругообращением звезд; следовательно, единичное для того, кто надлежащим образом это усвоил, разъясняет и все остальные» 14°.
Отсюда можно видеть, что астрономия имеет своим предметом закономерность небесных движений, выраженную в точных числовых соотношениях. В этом смысле 37
37 Арифметическая пропорция: А—В = С—D; геометрическая — А:В = C:D; гармоническая: 1/А —1/В = 1/C —1/D, т. е. (В—А)/АВ = (D—G)/GD.
138 Becker О. Budoxos-Studien, V, Quellen und Studien zur Ge-schichte der Mathematik. Berlin, 1936, Bd. 3. S. 385—387.
139 Варден Б. Л. ван дер. Пробуждающаяся наука, с. 254.
140 Послезаконие, 991b—е.
Становление первых научных программ
199
астрономия — тоже наука математическая, предполагающая знание арифметики и геометрии. Более того, как утверждает Платон, в движениях небесных тел находят свое как бы телесное воплощение математические отношения, изучаемые тремя первыми математическими науками. А потому изучение одной из этих наук, в сущности, уже есть и изучение остальных, ибо их предмет в конце концов один, только берется в разных аспектах. Видимо, так можно истолковать последнее предложение приведенного отрывка. Это опять-таки близко к пифагорейской традиции, согласно которой определенное сочетание чисел соответствует правильному движению небесных сфер и гармоническому сочетанию звуков. Гармония чисел, движений и тонов — одна и та же гармония, и ее чистое выражение — математическая пропорция.
Астрономия у Платона непосредственно следует за стереометрией: стереометрию он определяет в «Государстве» как «науку об измерении глубины», а астрономию — как науку «о вращении тел, имеющих глубину» 141. В отношении астрономии Платон рассуждает так же, как и в отношении геометрии, различая два возможных к ней подхода: практический и чисто философский. С практической точки зрения астрономия очень важна, ибо «внимательные наблюдения за сменой времен года, месяцев и лет пригодны не только для земледелия и мореплавания, но не меньше и для руководства военными действиями» 142. Однако практическая польза от астрономии — это отнюдь не самое главное, ради чего необходимо ею заниматься. Как и другие науки — арифметика, геометрия, стереометрия, — астрономия, согласно Платону, подготовляет наш ум к постижению высшей истины, ценной не ради ее приложений, но сама по себе, и в этом главное ее назначение: «...в пауках очищается и вновь оживает некое орудие души каждого человека, которое другие занятия губят и делают слепым, а между тем сохранить его в целости более ценно, чем иметь тысячу глаз, ведь только при его помощи можно увидеть истину» 143. Платон, как видим, под
141 Государство, VII, 528d—е.
142 Государство, VII, 527d—е.
^43 Государство, VII,£5274.
200
Раздел второй
черкивает, что астрономия, как и математика в целом, служит средством перехода от предметов, данных непосредственному ощущению, к предметам, которые можно постигнуть лишь в мышлении, т. е. к «вещам невидимым». И в этом он усматривает главное назначение астрономии. Понятая таким образом астрономия, как и другие рассмотренные выше науки, является преддверием философии 144 *.
Напротив, в том случае если ее рассматривают не как путь к высшему роду знания, которое Платон называет диалектикой, а как высшее из возможных познаний само по себе, то впадают в грубое заблуждение. При этом, как характерно выражается Платон, «возводят астрономию до степени философии», т. е. превращают ее из средства в самоцель. «Если заниматься астрономией таким образом, как те, кто возводит ее до степени философии,— говорит Платон,— то она даже слишком обращает наши взоры вниз» 146.
Каким образом изучение одного и того же предмета — законов движения небесных тел — может иметь столь различные, даже противоположные результаты? В чем здесь дело и против чего тут выступает Платон? «Пожалуй, ты еще скажешь,— обращается Сократ к своему собеседнику Главкону,— будто если кто-нибудь, запрокинув голову, разглядывает узоры на потолке и при этом кое-что распознает, то он видит это при помощи мышления, а не глазами... Глядит ли кто, разинув рот, вверх или же, прищурившись, вниз, когда пытается с помощью ощущений что-либо распознать, все равно, утверждаю я, он никогда этого не постигнет, потому что для подобного рода вещей не существует познания и человек при этом смотрит не вверх, а вниз, хотя бы он и лежал ничком на земле или умел плавать на спине в море» 14в.
Вполне понятно, что Платон считает невозможным познание с помощью ощущений, «глазами», ибо в действи
144 «Взятое в целом, занятие теми науками, о которых мы говорили... ведет прекраснейшее начало нашей души ввысь, к созерцанию самого совершенного в существующем...» (Государство,
VII, 532с).
146 Государство, VII, 529.
146 Государство, 529b—с.
Становление первых научных программ
201
тельности научное познание осуществляется с помощью мышления. Поэтому эмпирические явления не могут быть, согласно Платону, предметом научного исследования — таковыми являются только предметы идеальные или «промежуточные», а именно числа, фигуры и их соотношения. Постигаются же последние «разумом и рассудком, но не зрением» 147. Что же касается эмпирически данных объектов астрономии, то ими, так же как и чертежами в геометрии, можно пользоваться только как подсобным материалом, ибо они никогда нетождественны тем идеализациям, которые составляют подлинный предмет изучения в математике: «...небесным узором надо пользоваться как пособием для изучения подлинного бытия, подобно тому как если бы нам подвернулись чертежи Дедала или какого-нибудь иного мастера либо художника, отлично и старательно вычерченные. Кто сведущ в геометрии, тот, взглянув на них, нашел бы прекрасным их выполнение, но было бы смешно их всерьез рассматривать как источник истинного познания равенства, удвоения или каких-либо иных отношений» 148.
Итак, небесные тела и их видимое движение уподоблены Платоном чертежам в геометрии, а потому астроном должен видеть в них только вспомогательное средство для своей науки — не больше того. Отсюда парадоксальный вывод Платона, который привел в дальнейшем к жесткому разделению эмпирического и философско-теоретического познания, особенно в средневековой науке: «Значит, мы будем изучать астрономию так же, как геометрию, с применением общих положений, а то, что на небе, оставим в стороне, раз мы хотим действительно освоить астрономию и использовать еще неиспользованное, разумное по своей природе начало нашей души» 149.
Это заявление Платона, в сущности, шло вразрез с практикой астрономической науки его времени, которая, естественно, не могла оставлять в стороне «то, что на небе»; но такой крайний антиэмпиризм не был простой случайностью: он логически вытекал из платоновского убежде-
141 Государство, VII, 529d.
148 Государство, VII, 529d—530.
149 Государство, VII, 530b—с (курсив мой. П. Г.).
202 Раздел второй
ния в том, что точная наука должна иметь дело с идеализациями, а не с теми эмпирическими предметами, которые даны нам в чувственном восприятии. Платон поэтому не только не допускал возможности точного научног? знания применительно к земным явлениям, что впослед ствии пересмотрел Аристотель, но, как видим, даже изучение небесных светил он считал всего лишь подсобным средством для истинной астрономии.
Перечислив математические науки — арифметику, геометрию, стереометрию, астрономию, Платон завершает этот ряд наук музыкой, которая тоже принадлежит к математическим паукам. «...Как глаза наши устремлены к астрономии,— пишет Платон,— так уши — к движению стройных созвучий: эти две науки — словно родные сестры; по крайней мере так утверждают пифагорейцы, и мы с тобой, Главкон, согласимся с ними» 1б°. И математика, и астрономия изучают математические соотношения: астрономия — в движении небесных светил, а музыка — в гармонических созвучиях. Пифагорейцы, подчеркивает Платон, положили начало музыке как науке-. «Ведь они поступают совершенно так же, как астрономы; они ищут числа в воспринимаемых на слух созвучиях, но не подымаются до общих вопросов и не выясняют, какие числа созвучны, а какие — нет и почему» 160 1б1.
Характерно, что и по отношению к музыке Платон рассуждает так же, как он рассуждал о геометрии или астрономии: в качестве науки, по его мнению, может выступать только такое исследование, которое «в воспринимаемых на слух созвучиях ищет числа», т. е. математические соотношения, и в этом одном видит свою цель. Напротив, те, кто пытается устанавливать гармонические отношения звуков на слух и в этом смысле экспериментирует с музыкальными инструментами, те преследуют совсем иные цели, и такое занятие нельзя считать наукой. «...Что-то они называют „уплотнением44 и настораживают уши, словно ловят звуки голоса из соседнего дома; одни говорят, что различают какой-то отзвук посреди, между двумя звуками, и что как раз тут находится
160 Государство, VII, 530d.
161 Государство, VII, 531с.
Становление первых научных программ
203
наименьший промежуток, который надо взять за основу для измерений; другие спорят с ними, уверяя, что здесь нет разницы в звуках, но и те и другие ценят уши выше ума» 152 *.
Как в астрономии Платон считает лишенным ценности такой подход, при котором глаза ценятся выше ума, так и в музыке он критикует музыкантов-практиков, потому что они пытаются с помощью слуха определить то, что можно определить только с помощью числа, а значит, с помощью мышления, а не чувственного восприятия. Эта критика вполне последовательно дополняется у Платона отрицательным отношением ко всякому чисто практическому использованию тех знаний, которые дает наука о числовых соотношениях, в том числе и музыка. Об отношении Платона к техническим применениям геометрии и астрономии мы уже писали; так же рассуждает он и применительно к музыке.
О том, что музыка в древности имела также и технико-практическое применение, свидетельствует, например, Витрувий. Согласно Витрувию, «от артиллерийского офицера, который должен следить за тем, чтобы катапульта равномерно натягивалась жилами, надо требовать музыкального образования, чтобы он мог по тону, который издают натянутые веревки с правой и с левой стороны при ударе по ним, установить равномерность натяжения» 1б3.
В чем же состоит, по Платону, главная цель музыки как математической науки? Музыка здесь разделяет общую судьбу всех наук: ее предназначение — помогать душе восходить от низшего, чувственного бытия, ввысь, к созерцанию сверхчувственного, истинного бытия идей.
Зрение чувственное и зрение «умное». Рассмотрев иерархию математических наук у Платона, мы обратимся к вопросу, связанному с платоновским пониманием «Неба» и его значения для становления математики.
Этот вопрос нуждается в специальном рассмотрении уже хотя бы потому, что при анализе арифметики Платон указывает на то, что «Небо научило нас числу», а при ана
152 Государство, VII, 531а—Ь.
163 Цит. по: Дильс Г. Античная техника. М.; Л., 1934, с. 30.
204
Раздел второй
лизе астрономии советует «оставить в стороне то, что на Небе». Но ведь одно противоречит другому.
Обратимся к аргументации Платона. Тот, кто «разглядывает узоры на потолке», пытается что-то распознать с помощью зрительного ощущения. Платон считает такое предприятие с точки зрения пауки безнадежным. Истинные же вещи, «с их перемещениями друг относительно друга, происходящими с подлинной быстротой и медленностью, в истинном количестве и всевозможных истинных формах... постигаются разумом и рассудком, но не зрением» 1б4. Таким образом, зрение, как вид ощущения, и разум противостоят друг другу; с помощью зрения мы воспринимаем внешнюю видимость, с помощью разума — внутреннюю сущность; первое дает нам мнение (So£a), второе — истинное знание
Но в диалоге «Тимей» мы обнаруживаем иную оценку Платоном зрения и иное соотношение между двумя родами познания — с помощью глаз и с помощью ума: «...осталось ответить, какова же высшая польза от глаз, ради которой бог их нам даровал. Да, я говорю о зрении как об источнике величайшей для нас пользы; вот и в нынешнем нашем рассуждении мы не смогли бы сказать ни единого слова о природе всеселенной, если бы никогда не видели ни звезд, ни Солнца, ни Неба. Поскольку же день и ночь, круговороты месяцев и годов, равноденствия и солнцестояния зримы, глаза открыли нам число, дали понятие о времени и побудили исследовать природу вселенной, а из этого возникло то, что называется философией и лучше чего не было и не будет подарка смертному роду от богов. Я утверждаю, что именно в этом высшая польза очей» 1Бб.
Тут, видимо, явное противоречие. Зрение то противопоставляется мышлению в качестве простого ощущения, то едва ли не отождествляется с мышлением, с разумом. В самом деле, мы узнаем теперь, что бог даровал нам зрение, чтобы мы наблюдали «круговращения ума в небе» 1бв, т. е. видели глазами то, что можно только постигнуть умом. 154 155 *
154 Государство, VII, 529d,
155 Тимей, 47а—Ь.
Тимей, 47b,
Становление первых научных программ
205
Специфическое понимание зрения и его роли в познании, особое отношение между зрением и мышлением — важная и характерная черта античной науки, поэтому на ней мы остановимся подробнее, тем более что этот вопрос и впоследствии неоднократно будет привлекать к себе наше внимание.
Зрение в качестве ощущения ставится Платоном выше других ощущений — слуха, осязания, вкуса, обоняния. Платон объясняет превосходство зрения над другими ощущениями весьма своеобразно. Вот что он говорит по этому поводу:
«Обращал ли ты внимание, до какой степени драгоценна эта способность видеть и восприниматься зрением, созданная в наших ощущениях демиургом?
— Нет, не особенно.
— А ты взгляни на это вот как: чтобы слуху слышать, а звуку звучать, требуется ли еще нечто третье, так, что когда оно отсутствует, ничто не слышится и не звучит?
— Ничего третьего тут не нужно.
— Я думаю, что и для многих остальных ощущений — но не для всех — не требуется ничего подобного... А разве ты не замечал, что это требуется для зрения и для всего того, что можно видеть?
— Что ты говоришь?
— Какими бы зоркими и восприимчивыми к свету ни были у человека глаза, ты ведь знаешь, он ничего не увидит и не различит, если попытается пользоваться своим зрением без наличия чего-то третьего, специально для этого предназначенного.
— Что же это, по-твоему, такое?
— То, что ты называешь светом.
— Ты прав.
— Значит, немаловажным началом связуются друг с другом зрительное ощущение и возможность зрительно восприниматься; их связь ценнее всякой другой, потому что свет драгоценен». 1б7.
Платон, как видим, убежден, что при всех ощущениях, кроме зрительного, ощущаемое и ощущающий орган соединяются между собой непосредственно — убеждение, kq-
*57 Государство, VI, 507с—
206
Раздел второй
торое играет немалую роль в платоновском понимании знания и которое затем пересматривается у Аристотеля. Одно только зрение оказывается, по Платону, в особом положении: чтобы видеть, необходимо наличие трех моментов: видимого предмета, видящего глаза и света, который выполняет функцию посредника между первым и вторым. Но не потому только, что зрительное ощущение предполагает наличие трех моментов вместо двух, оно ставится Платоном выше других видов ощущений — дело тут еще и в том, что, как подчеркивает Платон, посреди ствующий момент — свет сам по себе «драгоценен». Свет как явление чувственного мира выделяется Платоном среди других явлений; он выступает как особого рода явление, как представитель мира сверхчувственного 1б8.
В этом смысле свет есть уже не просто явление, а символ-. он символизирует собой нечто другое, высшее. Различая мир’видимый (чувственно данный) и мир невидимый (умопостигаемый), Платон в то же время указывает в чувственном мире аналог мира умопостигаемого, и этим аналогом является именно свет. Свет солнца — это чувственный аналог света разума; и как источником и средоточием всего умопостигаемого мира идей является, по Платону, идея благаг так и солнце является средоточием всего видимого мира, источником его видимости. зримости*. «... чем будет благо в умопостигаемой области по отношению к уму и' умопостигаемому, тем в области зримого будет Солнце по отношению к зрению и зрительно постигаемым вещам» 159Л г
Теперь мы можем разобраться в том противоречии, с которым выше столкнулись у Платона: с одной стороны, зрение, как вид ощущения, как «разглядывание узоров на потолке», противостоит разуму; с другой — «глаза открыли нам число», т. е. послужили источником разумного постижения.
Солнце — чувственный аналог идеи блага; зримый свет — аналог света незримого, света разума, зрение —
188 О значении и роли символики света и солнца у Платона см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Высокая классика. М., 1974, с. 241—249.
169 Государство, VI, 508с.
Становление первых научных программ
207
аналог умозрения, нечувственного, интеллектуального созерцания идей. Но чувственный аналог двойствен, он может играть двоякую роль: и вести к тому, аналогом чего он является, и уводить от этого. Если мы будем рассматривать свет солнца как чувственный аналог другого света, то с помощью солнечного света нам будет открываться этот другой свет. Если же, напротив, мы будем рассматривать солнечный свет сам по себе, то нам ничего посредством него не откроется. Все зависит тут от направленности нашего рассмотрения: мы будем видеть в свете либо аналог чего-то более высокого, либо просто чувственное явление — и ничего больше. В первом случае глаза «откроют нам число», во втором — они увидят только «узоры на потолке».
Итак, свет для Платона есть чувственный аналог сверхчувственной реальности; способность, с помощью которой мы видим свет,— а именно зрение имеет двойственный — «гибридный»? — характер. В самом деле, с одной стороны, зрение — это такое же «ощущение», как и «осязание», «обоняние» и т. д.; ведь оно «информирует» нас об эмпирической реальности. А с другой — зрение способно, при соответствующей направленности его, видеть в эмпирическом мире символы мира сверхэмпирического, например в небе — число.
Этот «двойственный» характер зрения совершенно аналогичен «двойственному» характеру той стихии, которая служит «началом» для геометров и которую Платон называет пространством. И, в самом деле, разве не с помощью зрения открывается нам пространство? И зрение же открывает нам свет. Правда, пространства мы не видим, а видим только предметы в пространстве; но ведь и свет сам по себе мы тоже не видим, а видим «освещенные предметы». Свет —это промежуточная реальность, он есть самое близкое к сверхчувственному среди чувственных явлений, самое близкое к интеллигибельному среди материального. Но ведь и пространство неоплатоник Прокл назвал «интеллигибельной материей»!
Есть, однако, и различие: пространство «неуловимо»; может быть, поэтому в нем можно как бы «строить» фигуры (с помощью фантазии, а не чертежа, чертеж — дело вторичное), которые могут быть видимыми моделями невидимых — а только мыслью познаваемых — отношений.
208
Раздел второй
Оно тут как бы «материя», которую «режет» направляемое идеей воображение геометра. Ведь числа и числовые отношения — это идеи, а геометрические фигуры служат их «зримым подобием».
Что же касается луча света, то он менее неуловим, луч света — это прямая линия. Не отсюда ли родилась мысль сделать «материей» геометрии не пространство, а свет — мысль, послужившая началом для создания геометрической оптики? И, в самом деле, то, что Прокл называет «интеллигибельной материей», имея в виду пространство геометров, неоплатоник XIII в. Гроссетет относит уже к свету: свет — это и есть интеллигибельная материя, и математика изучает его законы.
«Интеллигибельная материя» и обоснование геометрии у Платона. Одной из труднейших в идеалистической философии Платона является проблема: каким образом чувственные вещи оказываются «причастны» идеям? Что представляет собой эта причастность? Именно в этом пункте идеализм Платона был подвергнут критике со стороны его ученика Аристотеля, выявившего целый ряд затруднений, связанных с теорией идей.
Эта же трудность получила свое выражение и в платоновской теории математического знания. По-видимому, обращение Платона к пифагорейству, особенно в поздних его диалогах, в том числе и в «Тимее», не в последнюю очередь было вызвано попыткой рассмотреть проблему «причастности» как проблему соотношения чисел и геометрических объектов. Более того, при чтении поздних диалогов Платона иногда возникает впечатление, что именно этот второй (математический) способ рассмотрения вытеснил собой первый и что вопрос о том, каким образом вещи «подражают» идеям, теперь стоит в такой форме: как геометрические объекты «подражают» числам? Здесь проблема причастности вещей идеям приобрела новый вид: как соотносятся идеальные образования — числа — с математическими объектами — точками, линиями, плоскостями, углами, фигурами? Ведь числа, по Платону,— это идеи; что же касается геометрических объектов, то они носят характер «промежуточный» между идеями и чувственными вещами. Они уже обременены некоторого рода «материей», которую Прокл называет «интеллигибельной». Аристотель
Становление первых научных программ
209
следующим образом поясняет, как платоники переходят от чисел к геометрическим величинам: «Что же касается тех, кто принимает идеи... то они образуют (геометрические) величины из материи и числа (из двойки — линии, из тройки — можно сказать — плоскости, из четверки — твердые тела...)» 160 О какого рода «материи» здесь идет речь, мы выше уже говорили. Посмотрим, однако, каким же образом из чисел образуются величины.
О том, что такое число у Платона, мы кое-что уже знаем благодаря анализу проблемы единого и многого. В результате этого анализа мы выяснили, что мир идеального — это определенным образом возникающая система, что ни единое не может ни существовать, ни быть познаваемо без соотнесенности с «другим», ни многое не может ни существовать, ни быть познаваемо без соотнесенности с единым. Эта соотнесенность, единство противоположностей, как раз и дает начало числу. Единица — это, собственно, не число, а «начало» чисел вообще, это единое, вносящее принцип определенности в беспредельное. Единица арифметиков — это «единое», организующее и порождающее числовой ряд. Но, как мы знаем, единое для порождения числового ряда нуждается в «партнере» — неопределенной двоице, которая у Платона выступает как «начало иного». Как мы помним, двойка — это «иное» единого и, как таковая, тоже принадлежит идеальному миру. Множество, как мы помним, рождается, по Платону, из единого и «неопределенной двоицы»; не случайно Платон так близок к пифагорейцам: ведь тройка, согласно Филолаю, это — «первое число», первое соединение единицы с неопределенной двойкой.
Здесь возникает затруднение, на которое обратил внимание Аристотель. «Если идеи—это числа,— говорит он,—тогда все единицы <в них) нельзя ни сопоставлять друг с другом, ни считать несопоставимыми между^ собой...» 161 В самом деле, если единица — это единство, а «двойка», содержащая «единое и иное», может быть названа идеей «различия», тройка, далее, соединяющая посредством третьего члена «единое» и «иное», может быть названа тождеством единства и различия, т. е. «целым» и
160 Метафизика, XIV, 3.
161 Метафизика, XIII, 8.
210
Раздел второй
т. д., то Аристотель прав: тут нет абстрактных, безразличных друг другу единиц, «которые можно сравнивать между собой». Напротив, двойка, тройка, четверка и т. д.— это определенным образом организованные структуры, где каждая из «единиц» не может рассматриваться сама по себе162. В то же время в арифметике мы «считаем» единицы, а значит, они не могут быть несопоставимы между собой. Аристотель действительно отмечает здесь ту трудность, которая толкала Платона и особенно его учеников — Спевсиппа и Ксенократа — к различению идеальных чисел и чисел математических 163. Но поскольку сам Платон, насколько мы знаем, этого различия еще не проводил, а различал лишь числа и геометрические объекты, то мы и обратимся к этому различению.
182 «Если единое есть начало, — поясняет Аристотель,— тогда с числами дело скорее должно обстоять так, как это говорил Платон,— должна существовать первая двойка и (первая) тройка, и числа не могут быть сопоставимы друг с другом» (Метафизика, XIII, 8).
163 Сам Платон, по сообщению Аристотеля, отождествлял идеи с числами, но его ученики Спевсипп и Ксенократ пытались внести здесь кое-какие коррективы — видимо, в связи с возникающими затруднениями. «...Расхождение точек зрения относительно чисел,— говорил Аристотель, проводя свою критическую линию в отношении всех платоников,— является признаком того, что нереальность самих (выдвигаемых ими> объектов приводит их в смятение. Те, которые принимают, помимо чувственных вещей, одни только математичские предметы, видя всю затруднительность и искусственность (создания) идей, отказались от идеального числа и установили математическое. С другой стороны, те, которые хотели сделать идеи также и числами, но (при этом) не видели, как сможет математическое число, в случае принятия таких начал, существовать отдельно от идеального, (эти мыслители) сделали одно и то же число идеальным и математическим — (сделали) на словах, так как на деле-то математическое (у них) упразднено (они ведь выставляют свои специальные гипотезы — не те, которые в математике). А тот, кто первый признал, что есть идеи, что идеи, это — числа и что математические объекты существуют, с хорошим основанием провел разделение (между ними)» (Метафизика, XIII, 9). Первая точка зрения — установление только математического числа и отказ от идеального — принадлежит, по-видимому, Спевсип-пу; вторая — отождествление математического числа с идеальным — Ксенократу, третья же, согласно которой числа тождественны идеям, но отличаются от других математических объектов,— Платону.
Становление первых научных программ 211
Геометрические объекты получаются, как мы уже помним, «из материи и числа». «Интеллигибельная материя»— это пространство. Что означает соединение чисел с пространством?
Начнем с единицы. Соединение единицы с пространством дает первый геометрический объект — точку. Точка — это «единица, имеющая положение» (Аристотель). Но, получив положение, единица тем самым приобщается к «незаконнорожденному виду» бытия, отличного от идеальной — логической — стихии, которой единица до этого принадлежала. Точка содержит в себе уже два ряда свойств'. одни — унаследованные от отца — единицы (от мира идей), другие — приобретенные от матери — неопределенного пространства. От единицы точка наследует свою неделимость; отсюда и ее определение: «точка — это то, что не имеет частей» (см.: «Начала» Евклида, кн. I, определение 1). Точку нельзя разделить потому, что она есть «воплощенное в пространстве» единое, а единое неделимо по определению. Но у точки появляется и свойство, совершенно чуждое единице,— жилице мира идей: она движется и своим движением порождает линию. Этим свойством она обязана матери — интеллигибельной материи — пространству. И движется она именно в интеллигибельной материи, а не в чувственном мире, т. е. в воображении, а не в чувственном восприятии.
В результате этих противоположных определений точка, с одной стороны, является границей (это в ней от единого, оно же предел), а с другой — может безгранично двигаться (беспредельное), порождая линию. Очень характерны в этом отношении те определения, которые дает точке Прокл в комментариях к Евклиду. Говоря о том, что точка — это монада, наделенная положением, Прокл замечает, что благодаря этой наделенности положением она ev (pavraoia irpoTSivs-cat (простирается в воображении), а потому точка evuXov езть хата ттр уотртр бХтр (омате-риалена через интеллигибельную материю) и в этом смысле есть нечто (теловидное) 164.
1М Цит. по: Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927, с. 413.
212
Раздел второй
Перейдем к двойке. Что будет с двойкой, если она соединится с интеллигибельной материей — пространством? Двойка — это «единое и ипое», это начало различия, когда единое перестает быть абсолютно единым и вступает в контакт с иным. Строго говоря, когда единица становится пространственной, т. е. вступает в контакт «с положением», а значит, с «иным», чем она сама, она уже двойка. И действительно, со стороны того определения, которое она получает от этого контакта, от «положения» (пространственности), она есть движущееся', а движущаяся точка — это линия. (Правда, не будем забывать, что со стороны первого своего определения — единицы — точка есть граница, т. е. нечто устойчивое, неподвижное, закрепляющее.)
Но можно провести рассуждение и иначе. Если взять двойку не со стороны «материи» (движущаяся точка), а со стороны ее числово-идеального «отца», то она есть две единицы. Две единицы, соединившиеся с пространством (т. е. с положением), будут двумя точками. Линия со стороны числа, т. е. своего логического, а не пространственного происхождения, определяется через «две точки». Таково ее определение у Евклида: «Концы же линии — точки» (кн. *1, определение 3) 166. Вот почему среди грече-ческих математиков само собой разумелось, что линия — это двойка. Через двойку далее можно определять линию не только логически, но и «в воображении», т. е. погружая «двойку» в «интеллигибельную материю»; такое определение, однако, в отличие от первого будет включать в себя движение (xlvvpt; фаутабихт)), а потому будет не логическим определением, а требованием осуществить некоторое действие — постулатом. Первый постулат Евклида гласит: «Требуется, чтобы можно было через всякие две точки провести прямую».
Займемся теперь тройкой. В сущности, тройка у Платона является первым числом: ведь единица и «неопределенная двоица» — это скорее «начала» чисел, чем сами числа. Тройка же представляет собой единство единицы и двойки, т. е. начала ограничивающего и безгранично-
1W «Концы» — это границы, пределы, а определить значит указать^ предел, ограничить.
Становление первых научных программ
213
неопределенного. Двойка, выражающая начало «различия», соединившись с материей-пространством, предстает как линия, неограниченно продолжающаяся в обе стороны. У двойки, как мы знаем еще из разбора пифагорейской математики, нет «середины», которая «удержала» бы ее «концы», «скрепила» бы их друг с другом. В тройке эта середина налицо, а потому тройка — нечетное число — устойчива и довлеет себе. Но как в пространстве соединяется двойка-линия с единицей-точкой? Возьмем точку вне прямой и соединим ее отрезками с концами прямой; тем самым мы произведем операцию в пространстве, аналогичную соединению трех единиц или двойки и единицы. В результате мы получим новый геометрический объект — треугольник. (Построение правильного, т. е. равностороннего треугольника на данной ограниченной прямой, или операция нахождения точки, равноотстоящей от двух других точек («концов» прямой) — первая теорема I книги «Начал» Евклида.)
В результате соединения точки с прямой (единицы с двойкой в пространстве) прямая больше уже не может неограниченно продолжаться в обе стороны: третья точка «держит» оба ее конца. Как «тройка» — первое настоящее число, так и треугольник — первая пространственная фигура: точка и линия — это элементы, «начала», из которых строятся геометрические фигуры.
При этом «переведении» чисел в пространство каждое новое число представляет пространственный элемент нового измерения: единица не имеет измерений («не имеет частей»); двойка имеет одно измерение — «длину без ширины» («Начала» Евклида, кн. I, определение 2); тройка имеет два измерения — длину и ширину. Треугольник, таким образом, есть «первая» (не во временном, а в логическом смысле) плоскость 1бв, ибо тройка означает два измерения.
16 В этой связи понятно, что плоскость мыслилась античными математиками не так, как ее мыслят современные математики. Если для современного математика плоскость неограниченно протяженна в длину и ширину и это составляет существенный момент самого определения понятия «плоскость», то для Евклида плоскость — это «тройка», т. е. плоскостная фигура, прежде всего треугольник. По поводу евклидова определения плоскости
214
Раздел второй
Наконец, четверка, соединившись с «материей» пространства, даст в результате три измерения. Если возьмем точку, лежащую вне нашего треугольника, и соединим ее с вершинами последнего, то получим уже трехмерное тело — пирамиду (тетраэдр), которая будет парадигмой, образцом объемных образований, «первым телом» опять-таки в логическом плане. Подобно тому как идеи у Платона являются идеальными образцами чувственных вещей, точно так же треугольник и пирамида являются у него промежуточными — не идеальными, но и не чувственно-телесными — образцами всех двухмерных (плоскостных) и трехмерных (объемных) объектов. И если мы будем называть это «промежуточное» начало, эту «интеллигибельную материю» пространством, то, стало быть, треугольник — это «первая», исходная, элементарная «клеточка» тела.
Но это не значит, что плоскость «складывается» из треугольников наподобие того, как одеяло сшивается из лоскутов. Отношение «образца» к тому, образцом чего оно является, иное, чем отношение атома к составленным из атомов телам. Как писал неоплатоник эпохи Возрождения Марсилио Фичино, «при построении правильных тел из элементарных треугольников имеется в виду не столько слагать их, сколько сравнивать друг с другом (сотра-randa haec inter se potius quam componenda)» 167.
Итак, относительно онтологического статуса геометрических объектов мы можем теперь сказать следующее: Платон исходит из различения трех видов реальности.
в этом смысле характерно замечание Д. Д. Мордухай-Болтов-ского. Рассматривая определение пирамиды в XI книге «Начал», Мордухай-Болтовской пишет: «Евклидово определение пирамиды как телесной фигуры, ограниченной плоскостями, которые от одной плоскости сходятся в одной точке, не удовлетворяет в настоящее время математиков. К тому же наше ухо режет и евклидов термин «плоскость», употребляемый не в смысле безгранично продолженной плоскости, а в смысле конечной ограниченной ее части, т. е. в смысле евклидовой плоской фигуры. Мы. же пользуемся теперь специальным термином ,,грань“» (Морду хай-Болтовскои Д. Д. Комментарии.— В кн.: Евклид. Начала’ М.; Л., 1950, кн. XI-XV, с. 170).
167 Marsilius Ficinus. Commentarium in Timaeum, cap. 40. Opera omnia. Parisiis, 1641, t. II, p. 419
Становление первых научных программ
215
«Есть бытие, есть пространство и есть возникновение» 168. «Бытие» — это сфера идеального, куда Платон относит и числа; все идеальное постигается умом, и о нем возможно истинное знание — эпистёме. «Возникновение» — это сфера чувственного «бывания», она дана чувственному восприятию, и о ней возможно иметь лишь мнение в его двух видах — веры и уподобления. «Пространство» — это нечто такое, что нельзя назвать ни идеальным в строгом мысле, ни чувственным; оно смутно и неопределенно, по-инается с помощью «незаконнорожденного рассуждения», т. е. воображения, как позднее определил Прокл. Объекты геометрии, однако, связаны с этим промежуточным родом, бытия, хотя и не определяются только им одним. Поскольку они «воображаются», т. е. поскольку точка «движется» в воображаемом пространстве, они определяются этим последним. Поскольку же всякий геометрический объект (треугольник, квадрат, круг и т. д.) представляет собой некоторое число или числовое отношение, постольку он определяется не через пространство, а идеально^ логически. Геометрические объекты, стало быть, тоже можно рассматривать как «гибриды»: в них логическое оказывается «сращенным» с некоторого рода «материей», а именно с пространством.
Поскольку, однако, точка, линия, треугольник, пирамида ит. д.— это воплощенные идеальные образования, постольку они неделимы. Отсюда учение платоников не только о неделимых точках, нои о неделимых линиях, неделимых треугольниках или, что то же самое, неделимых поверхностях. «Разделить» точку, «первую» линию, «первый» треугольник — это все равно, что «разделить» понятие тождества, различия или «единства различных», ибо именно таковы «понятия» точки, линии и плоскости. О «делении» применительно к этим первым элементам можно, согласно платоникам и пифагорейцам, говорить только в одном смысле, а именно в смысле уменьшения числа измерений. Так, например, в результате «разделения» треугольника, т. е. плоскости, получим не плоскости, меньшие по своей величине, а линию; в результате деления линии — не все меньшие линейные отрезки, а точку.
168 Тимей, 52d.
216
Раздел второй
В этом состоит различие между платоновским и демокритовским пониманием неделимого. Согласно Демокриту, при делении тела мы получаем в конце концов далее неделимые элементы того же измерения, что и само тело.
И, в самом деле, у Платона числовые (т. е. идеальнологические) элементы треугольника (тройки) — это двойка и единица. Как можно «поделить» тройку? Только разложив ее на эти «элементы» — в результате вместо треугольника будет линия (двойка). То же и с линией. Но разве мы не можем разделить линию не как двойку, а как «движущуюся» в воображении точку, ибо ведь линия порождается этой движущейся точкой? На этот вопрос платоники, как кажется, должны ответить так: эту проводимую в воображении линию мы можем разделить, но мы разделим при этом не линию, а только некое чувственно воспринимаемое протяженное тело, которое будет «телом линии» лишь при одном условии: если оно — двойка. А двойку мы не можем делить иначе чем на единицы, т. е. применительно к геометрии, точки.
Математические неделимые; споры вокруг них в античной науке. Однако при мышлении такого рода объектов-кентавров — линий, треугольников и т. д.—могли возникать затруднения в силу смешения двух аспектов: числового (идеального, логического) и пространственного — воззрительного, наглядного. Естественно, что при этом «неделимые линии» представлялись как «мельчайшие»: ведь они — первые, из них — все остальное, и любой отрезок прямой тогда оказывается состоящим из этих неделимых (атомарных) линий, аналогично тому, как у Демокрита тело — из мельчайших частиц того же измерения.
Именно на этом смешении двух способов рассмотрения — числового и пространственного — основан трактат «О неделимых линиях», который приписывался Аристотелю, но принадлежит, возможно, Теофрасту. В нем дается критика учения платоников о неделимых линиях. Среди платоников это учение разрабатывал прежде всего Ксенократ, хотя, как сообщает Аристотель, оно уже было и у Платона 1в9.
169 «...Далее, откуда получаются точки в том, в чем они находятся?
Правда, с этим родом (бытия> и боролся Платон как с чисто гео-
Становление первых научных программ
217
Но автор трактата о неделимых линиях исходит из представления о том, что последние представляют собой «мельчайшие» в пространственном (а не логическом) смысле линии-атомы, из которых слагается (вспомним предостережение Фичино) «большая» линия. А при таком понимании неделимых линий действительно возникает целый ряд противоречий и неувязок, которые автор и перечисляет.
Если допустить эти «линии-атомы», то: «1... все линии (отрезки) были бы... соизмеримыми (обрьглетрог,). Ибо все. они были бы измеримыми при помощи атомов (-линий), как те, которые соизмеримы просто по длине, так и те, которые соизмеримы (только) в квадрате... 2. Далее, раз из трех данных прямых образуется треугольник, то треугольник можно составить также из трех линий-атомов. Но в каждом равностороннем треугольнике высота (проведенная из вершины) проходит через середину (основания), а следовательно, и через середину атомов (-линий)... 170 3. Далее, присоединение одной линии к другой не могло бы увеличить всей линии. Ибо неделимые линии,
метрическим учением, а применял название начала к линии и часто указывал на это — на «неделимые линии» (Метафизика, I, 9). У нас нет разъяснений античных авторов относительно того,почему Платон «боролся» с точкой, т. е. почему точка в качестве геометрического «начала» представлялась ему неподходящей. Можно, однако, допустить, что поскольку «первое», что мы можем осуществить в воображении, это — проведение линии, то линия — первый собственно геометрический объект. Так же как единица у пифагорейцев и платоников не есть еще число, а лишь «начало» числа, так же и точка — не геометрический объект, а лишь его «принцип». Этому соответствует и то, что точка не имеет измерений, первое измерение мы получаем вместе с линией; естественно поэтому начинать с того элемента, который уже имеет измерение. Вот что пишет по этому поводу немецкий ученый Ю. Штенцель: «Он (Платон.— П. Г.) не хотел начинать с точки, ибо ясно видел, что из непротяженного образования никогда не может возникнуть отрезок; он не мог думать о движении точки — в вопросе о континууме движения сначала надо было решить ту же самую проблему протяжения. Поэтому Платон с необходимостью пришел к учению о неделимых линиях» (Stenzel J. Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles, S. 79).
170 Тем самым «неделимая» линия делится пополам, что доказывает несостоятельность допущения неделимых линий.
218
Раздел второй
взятые в совокупности, не образуют ничего большего...»171 Мы не будем перечислять остальные аргументы, так как характер критики уже понятен.
Приведенные два первых аргумента неизвестного автора почти полностью повторяют те, которые высказал Аристотель против допущения неделимых физических атомов Демокрита. Аристотель показал, что допущение такого рода «последних неделимых» противоречило бы самым очевидным положениям математики, ибо тогда, во-первых, все отрезки были бы соизмеримы (они имели бы атом в качестве наименьшей меры), а во-вторых, невозможно было бы поделить точно пополам отрезок, содержащий нечетное число атомов (ибо тогда надо было бы разделить атом). Что касается третьего аргумента, то он приводился уже у Зенона и неоднократно воспроизводился у Аристотеля: если атомы — это точки, лишенные всякой величины, то сумма их тоже не даст величины (этого аргумента Аристотель против Демокрита не выставлял, ибо его атомы — не математические точки, а минимальные величины — тела).
Однако при этом интересно отметить одно обстоятельство. Аристотель, неоднократно отмечавший, что допущение атомизма Демокрита не может согласоваться с математикой, ибо математика исходит из непрерывного континуума, в то же время нигде не приводит того же аргумента против Платона и его учеников. Хотя если бы он понимал математические «неделимые» так же, как автор цитированного трактата, то должен был обрушиться на них еще резче, чем на Демокрита. Тем более что по другим аспектам обоснования математики Аристотель постоянно полемизирует с платониками. Не потому ли он не указывал на несостоятельность учения о математических неделимых, что был лучше осведомлен о том, как трактовали их платоники?
Учение пифагорейско-платоновской школы о «неделимости» математических объектов — точки, линии, треугольника, пирамиды — оказало большое влияние на дальней
171 Цит. по: Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики/ Пер. А. И. Юшкевича. М.; Л., 1932, вып. IV, с. 25—26.
Становление первых научных программ
219
шее развитие математики как в эпоху эллинизма, так и в средние века и особенно в эпоху Возрождения.
В связи с проблемой математических неделимых встает еще один, может быть наиболее трудный, вопрос. Мы уже знаем, что «разделить» математический объект, например плоскость,— это значит получить математический объект другого измерения; плоскость двухмерна; будучи «разделенной», она превращается в линию, т. е. водномерное образование. Но что же это за способ деления? Как видим, он совсем не похож на обычное представление о делении как расчленении тела на части: в результате деления мы здесь как бы совершаем прыжок в другой мир, ибо переход от измерения к измерению непонятен ни с точки зрения логики, ни с точки зрения «мнения», т. е. обычного представления о делении объекта.
Та же неясность возникает и при действии «умножения», т. е. при переходе от одномерного к двухмерному образованию, а от него — к трехмерному. Выше мы видели, что, с точки зрения платоника Прокла, «переход» от точки к линии и от линии к плоскости можно как бы созерцать в воображении: движение точки в интеллигибельной материи, пространстве, дает в результате линию; линия — это как бы след движущейся точки в пространстве, след, удерживаемый воображением. Но созерцание движения точки, линии или плоскости — это еще не логическое объяснение перехода от объекта одного измерения к объекту двух или трех измерений. Возможно ли логическое объяснение такого перехода, можно ли постигнуть его в понятии?
Для ответа на этот вопрос обратимся вновь к диалогу Платона «Парменид». При анализе этого диалога мы сознательно опустили одно из рассуждений, одну из «гипотез» Платона, которая как раз теперь, может быть, прольет некоторый свет на интересующий нас вопрос. В этом рассуждении Платон рассматривает проблему приобщения единого к бытию: каким образом может происходить такое приобщение? Такая проблема возникла для Платона после того, как он пришел к заключению, что если единое существует, то оно есть многое. Теперь же он ставит вопрос так: «Если единое таково, каким мы его проследили, то не должно ли оно, будучи, с одной стороны, одним
220
Раздел второй
и многим, и не будучи, с другой стороны, ни одним, ни многим, а кроме того, будучи причастным времени, быть какое-то время причастным бытию, поскольку оно существует, и какое-то время не быть ему причастным, поскольку оно не существует? »172.
Приобщение к бытию — это возникновение, а отрешение от бытия — гибель; но это только крайние из состояний, в какие может переходить система «единое — многое»; помимо них, существуют промежуточные состояния, такие, как увеличение и уменьшение, уподобление и становление неподобным, разъединение многих и соединение (многих) в единое,— одним словом все виды переходов из одного состояния в другое — переходов, которые все заданы уже крайними переходами из бытия в небытие и обратно 173. К числу этих переходов Платон относит также переход от покоя к движению и обратно, замечая при этом, что, пока что-то движется или покоится, оцо находится во времени, но когда оно переходит от покоя к движению, то в момент перехода оно и не движется, и не покоится (что, кстати, можно рассматривать и как «третье» — как характеристику «становления»). «Ведь не существует времени, в течение которого что-либо могло бы сразу и не двигаться, и не покоиться... Так когда же оно изменяется? Ведь' и не покоясь, и не двигаясь, и не находясь во времени, оно не изменяется... В таком случае не странно ли то, в чем оно будет находиться в тот момент, когда оно изменяется?» 174. Если, двигаясь или покоясь, нечто находится во времени, то в момент перехода от движения к покою оно не находится во времени. Чем же в таком случае является то, «в чем» оно находится в момент перехода? Оно является, по Платону, вневременным «вдруг».
172 Парменид, 155е.
173 Всякий вид перехода Платон мыслит по аналогии с кардинальным переходом от бытия к небытию и наоборот. Это связано с его методом соединения противоположностей, которые оказываются не опосредованными ничем третьим, отличным от них. Этот метод соединения противоположностей — предмет критики со стороны Аристотеля, у которого поэтому проблема среднего термина становится одной из главных методологических проблем.
174 Парменид, с—d.
Становление первых научных программ
221
«Ибо это „вдруг44, видимо, означает нечто такое, начиная с чего происходит изменение в ту или другую сторону. В самом деле, изменение не начинается с покоя, пока это — покой, ни с движения, пока продолжается движение; однако это странное по своей природе „вдруг" лежит между движением и покоем, находясь совершенно вне времени; но в направлении к нему и исходя от него изменяется движущееся, переходя к покою, и покоящееся, переходя к движению» 176.
Это вневременное «вдруг» не подлежит никакому закону или правилу: ни логическому, ни тем правилам, которые мы извлекаем из опыта и которые, хотя они, по Платону, и имеют всего лишь статус «мнения», все-таки дают возможность определять, как ведет себя движущееся или покоящееся тело. «Переход» представляет собой «скачок». Этот переход, по Платону, осуществляется везде, где происходит изменение: всякое изменение у него — это превращение в противоположное. «Но разве не так обстоит дело и при прочих изменениях? Когда что-либо переходит от бытия к гибели или от небытия к возникновению, происходит его становление между некими движением и покоем, и оно не имеет в тот момент ни бытия, ни небытия, не возникает и не гибнет» 176.
Введение этого «вдруг», которое лежит вне времени и которое есть чистое «между» — ни то, ни другое из двух противоположных состояний, весьма характерно для мышления Платона. Переход из одной противоположности в другую ничем не опосредован, вернее, опосредован этим странным по своей природе «вдруг», внезапным переходом, который выступает как провал в бездонную пропасть, и эта-то пропасть и образует границу между двумя противоположными состояниями.
Видимо, переход от одного измерения к двум, от двух — к трем представляет собой такой же скачок; одномерная линия, двухмерная плоскость и трехмерное тело — это как бы три разных «состояния», между которыми — скачок, внезапный переход, осуществляемый не во времени, а «вдруг». «Деление», благодаря которому происходит
176 Парменид, 156d—е (курсив мой.— II. Г.).
176 Парменид, 156е — 157.
222
Раздел второй
«скачок» от n-мерного к п + 1-мерному миру, предполагает всякий раз «переход в другой род». Может быть, трудности понимания платоновского перехода в диалоге «Тимей» от треугольников к правильным многогранникам, а от них — к «стихиям»: огню, воде и т. д.— также связаны с такого же рода «скачком»? Во всяком случае, подобное допущение не противоречит методу Платона 177.
Платоновско-пифагорейская математическая программа и ее «выходы» в физику. Как относился Платон к возможности исследования природы? Считал ли он возможным создание науки о природе — физики, которая обладала бы такой же достоверностью, как и математика? Исходя из убеждения Платона о том, что чувственный мир не может быть предметом научного знания — не только высшего (эпистеме), но и промежуточного уровня (дианойя), можно заключить, что он должен был отрицательно относиться к возможности создания физики как науки о природном бытии. И, действительно, в диалоге «Тимей», где Платон в конце жизни попытался изложить свою космогонию и физику, читаем: «О непреложном, устойчивом и мыслимом предмете и слово должно быть непреложным и устойчивым... Но о том, что лишь воспроизводит первообраз и являет собой лишь подобие настоящего образа, и говорить можно не более как правдоподобно. Ведь как бытие относится к рождению, так истина относится к вере. А потому не удивляйся, Сократ, если мы, рассматривая во многих отношениях много вещей, таких, как боги и рождение Вселенной, не достигнем в наших рассуждениях полной точности и непротиворечивости. Напротив, мы должны радоваться, если наше рассуждение окажется не менее правдоподобным, чем лю
177 Немецкий исследователь античной науки П. Вильперт, рассматривая физику Платона, изложенную в «Тимее», замечает, что переход Платона от элементарных фигур к чувственному миру есть «нечто чудовищное, некий pieTapacsic; et<; aAAo ^evo<; (переход в другой род)» (Wilpert Р. Elementenlehre des Platon und Demokrit.— In: Natur, Geist, Geschichte. Festschrift fur Aloys Wenzel. Munchen, 1950, S. 57). Однако для самого Платона такой «переход в другой род» отнюдь не является чем-то «незапланированным»; в «Пармениде» он стремился показать, что иначе понять переход от одного состояния к другому он не может.
Становление первых научных программ
223
бое другое, и притом помнить, что и я, рассуждающий, и вы, мои судьи, всего лишь люди, а потому нам приходится довольствоваться в таких вопросах правдоподобным мифом, не требуя большего» 178. Как видим, пи о возникновении космоса, ни о его строении невозможно получить точное и достоверное знание; приходится довольствоваться «правдоподобным мифом». Физика, по Платону, таким образом, не может и не должна претендовать на статус науки — таковой является лишь математика.
Такое отношение Платона к возможности создания физики как науки вполне понятно: убеждение в том, что физика не может быть строгой и достоверной, шло у него рука об руку с отсутствием естественнонаучного интереса; в этом смысле он был истинный ученик Сократа. Взор идеалиста Платона всегда устремлен в мир горний — к царству вечных и неизменных идей; из наук только математика приковывает к себе его внимание, ибо она — путь к миру вечного бытия. Этот специфический для Платона интерес к неизменному в многообразном и изменяющемся чувственном мире отметил В. Гейзенберг. Вот что говорит он в этой связи в своем докладе «К истории физического объяснения природы»: «Наиболее важными ему (Платону.— П. Г.) кажутся, прежде всего, математические законы природы, находящиеся за явлениями, а не сам многогранный мир явлений. Никакая другая задача науки о природе не кажется ему столь существенной, как задача открытия неизменных законов в постоянно меняющихся явлениях... В одном месте, например, Платон говорит о пифагорейцах и их исследованиях гармоний и колебаний струн. Единственно существенным в их экспериментах является для него мысль о численных отношениях, лежащих в основе гармонических звучаний; явления же сами по себе остаются несущественным дополнением» 179.
Не удивительно ли, однако, что диалог «Тимей», где изложен «правдоподобный миф» о становлении Вселенной и о законах, царящих в ней, привлекал, тем не менее, внимание математиков, оптиков, физиков, а не только
178 Тимей, 29b—е.
179 Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики. М., 1953, с. 26 (курсив мой — П. Г.).
224
Раздел второй
философов и теологов на протяжении более чем двух тысяч лет? И, в самом деле, не только в эпоху эллинизма, но и в средние века, а особенно в эпоху Возрождения мы находим множество комментариев к «Тимею» — не меньше, чем к «Физике» Аристотеля. Видимо, этот «правдоподобный миф» содержит в себе какие-то указания на то, как подходить к исследованию природы, и эти указания имеют определенную эвристическую ценность, несмотря на столь невысокую оценку возможностей физики самим Платоном.
Итак, помня о том, что мы будем иметь дело лишь с правдоподобным, а не истинным рассуждением, рассмотрим космогонию и физику Платона.
«Тимей» построен как повествование о том, почему, как и с помощью каких средств демиург создал видимый и осязаемый нами мир — космос. Физика Платона, таким образом, излагается им в органической связи с космогонией. В этом отношении по форме платоновское учение о природе оказывается близким к мифологическим космогониям. По-видимому, это обстоятельство Платон тоже имел в виду, когда назвал рисуемую им картину возникновения Вселенной «правдоподобным мифом». Остановимся сначала именно на этой мифоподобной форме: случайно ли избрал'ее Платон? Как известно, Аристотель в своем сочинении «О небе» подверг суровой критике платоновскую концепцию, согласно которой космос творится демиургом, а стало быть, существует не от века, но возникает.
Анализируя различные точки зрения относительно происхождения мира, Аристотель говорит о платониках: «...Имеются некоторые, по мнению которых и нечто невозникшее может уничтожиться, и нечто возникшее — оставаться не уничтожимым. (Как <это утверждается^ в «Тимее», где <Платон> говорит, что Небо возникло и тем не менее впредь будет существовать вечно.)» 180 Согласно же Аристотелю, то, что когда-то возникло, не может избегнуть разрушения; космос же — вечен, а это значит, что’он никогда не возник и никогда не погибнет. То, что
180 О небе, I, 10/Пер. А. Лебедева,
Становление первых научных программ
225
имело когда-то начало, должно, по Аристотелю, необходимо иметь и конец 181.
На это возражение Аристотеля ученики Платона Спевсипп и Ксенократ отвечали, по свидетельству Симп-ликия, что «возникновение» здесь понимается в том же смысле, как у математиков, которые тоже говорят о возникновении, если конструируют какую-нибудь геометрическую фигуру, но не имеют в виду, что эта фигура (треугольник или что-либо подобное) и в самом деле когда-то возникла, а говорят так из дидактических соображений: ибо человеку легче объяснять, если одновременно перед его глазами будет возникать геометрическая фигура 182.
Эти разъяснения Спевсиппа и Ксенократа мы не склонны рассматривать как некоторую уступку Аристотелю, как это представляется Э. Франку 183. Напротив, здесь Спевсипп и Ксенократ выявляют как раз внутреннее сходство между платоновским учением о воплощении идеального «образца» в чувственный мир — а это и есть «возникновение» космоса — и убеждением математиков в том, что акт начертания фигуры, т. е. ее «чувственного возникновения» — это не есть ее действительное возникновение, ибо уже раньше она «существовала», согласно своему понятию, «в уме», а теперь только явлена представлению. Эта аналогия, видимо, отнюдь не чужда самому Платону; но она совершенно чужда Аристотелю, которого вовсе не убедили возражения Спевсиппа и Ксенократа 184.
181 «...Все, что уничтожимо, по необходимости возникло... равно как все, что возникло, по необходимости уничтожимо, но если неуничтожимо, то, согласно исходной посылке, не возникло» (О небе, I, 12).
182 Цит. по: Frank Е. Plato und die sogenannten Pythagoreer, S. 240.
183 Франк пишет по этому поводу: «На этом примере видно, как из-за трудностей, вскрытых в учении Платона Аристотелем, этим enfant terrible Академии, Спевсипп и Ксенократ видят себя вынужденными шаг за шагом отказываться от этого учения» (Frank Е. Plato und die sogenannten Pythagoreer, S. 240—241).
184 «Уловка, с помощью которой некоторые из утверждающих, что (космос) возник, но неуничтожим, пытаются спасти свое положение, не достигает цели. Они заявляют, что говорят о возникновении (космоса) на манер тех, кто чертит геометрические фигуры — не в том смысле, что он когда-то возник, а в дидакти-
8 П. П. Гайденко
226
Раздел второй
Что же касается Платона, то его учение об онтологическом приоритете мира идей над чувственным миром как раз и служит логической базой для утверждения, что космос некогда возник; ибо, будучи переведена в форму представления (а именно представление и есть стихия «правдоподобного мифа»), мысль о первичности идеального мира должна с необходимостью обернуться повествованием о рождении чувственного мира из идеального: ведь мир представления обязательно превращает первичность логическую и предшествование во времени.
Но интуиции, которыми Платон руководствуется при переходе от идеального образца к чувственному, остаются математическими в том смысле, что этот переход для него в известном смысле аналогичен переходу от «идеи треугольника» — числа три — к «возникновению» треугольника как пространственной фигуры. Именно это и разъясняли ученики Платона. Но по этой же причине Платон и не считал, что он создает науку о природе — физику; все, что есть в его «Тимее» «правдоподобного», обязано своим правдоподобием математике. А все, что в нем есть «мифологического» — от погружения в стихию «иного», от «материи».
Перейдем теперь к содержанию диалога «Тимей».
ческих целях, поскольку, мол, увидев (космос), словно геометрическую фигуру, в процессе возникновения, (его) можно лучше понять. Но это, повторяем, не одно и то же. Ибо если в построении геометрических фигур допустить, что все (стадии) существуют одновременно, то получается то же самое, а если (допустить то же) в доказательствах (этих философов), то не то же самое, а нечто (логически) невозможное, так как допускаемое (ими> на более ранней и на более поздней стадии находится в противоречии. Из неупорядоченного, утверждают они, возникло упорядоченное, но быть одновременно неупорядоченным и упорядоченным — невозможно: необходимо возникновение и время, разделяющее (эти два состояния), тогда как в геометрических
-фигурах ничто не отделено временем» (О небе, I, 10).
В этом возражении уже содержится вся физическая программа Аристотеля в отличие от математической Платона. Аристотель указывает на непригодность геометрических понятий и методов для анализа природы, ибо в природе присутствует такой элемент — материя, а она «устраивается» и претерпевает все свои перемены — во времени, чего нельзя сказать о становлении геометрических объектов.
Становление первых научных программ
227
Итак, космос не всегда существовал, он возник 185. А причина его возникновения — в благости его творца 186. «Рассмотрим же, по какой причине устроил возникновение и эту Вселенную тот, кто их устроил. Он был благ, а тот, кто благ, никогда и ни в каком деле не испытывает зависти. Будучи ей чужд, он пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему самому» 187. Стало быть, Вселенная — это подобие творца, и, как всякое подобие, опа может быть постигнута лишь «по аналогии» с истинным познанием, которому доступны только предметы «тождественные себе», а не «подобные».
Разъясняя свой тезис о том, почему бог сотворил Вселенную, Платон говорит далее: «Невозможно ныне и было невозможно издревле, чтобы тот, кто есть высшее благо, произвел нечто, что не было бы прекраснейшим» 188. Может возникнуть вопрос: разве указание па то, что бог — благ, есть объяснение причины возникновения мира? Однако на этом, действительно мифологическом, языке Платон, в сущности, ставит, вопрос, который, будучи переведен на язык диалектики, должен звучать так: почему единое стало многим? Или: почему идея блага «породила» все остальные идеи и чувственные вещи? Как же ответил бы Платон на этот вопрос, поставленный теперь уже не
185 Что же касается вопроса о том, будет ли он теперь существовать вечно, то Платон говорит об этом следующее: «На таких основаниях и из таких составных частей числом четырех родилось тело космоса, стройное благодаря пропорции, и благодаря этому в нем возникла дружба, так что разрушить его самотождествен-ность не может никто, кроме лишь того, кто сам его сплотил» (Тимей, 32b—с). Космос «совершенен и непричастен дряхлению и недугам» (Тимей, 33); поэтому, сам по себе он неразрушим. Аристотель, стало быть, понимал дело так, что, согласно Платону, космос будет существовать вечно, хотя он и возник. Слова Платона о том, что разрушить космос не в силах ничто, кроме его творца, мы склонны понимать в том смысле, что несмотря на уже наличный космос, «образец» его продолжает и всегда будет оставаться «первым» по сравнению с чувственным миром.
186 Аргумент Платона сходен с тем, какой мы встречаем и в Ветхом завете; бог, по Платону, пожелал, «чтобы все было хорошо и чтобы ничто по возможности не было дурно» (Тимей, 30а). Библейский бог, сотворив небо, и землю, и все, что на земле, тоже «увидел, что это хорошо» (Бытие, I, 8; I, 12; I, 18).
187 Тимей, 29с.
188 Тимей, 30а—Ь.
8*
228
Раздел второй
на «мифологическом» языке? Видимо, точно так же: единое не могло не породить все, потому что оно — благо. И только. Никакого другого объяснения причины невозможно предложить, когда речь идет о том, что само есть условие возможности всякого телеологического, а не причинно-механического объяснения. А таково высшее благо. Поэтому «мифологический» ответ здесь совершенно аналогичен диалектическому ответу.
Мифологической же, нам думается, следует считать форму, в какой Платон разъясняет, как был создан космос. Платон различает «творца и родителя» космоса — демиурга и тот «первообраз», взирая на который демиург сотворил Вселенную. «...Для всякого очевидно, что первообраз был вечным; ведь космос — прекраснейшая из возникших вещей, а его демиург — наилучшая из причин» 189 190. Единое, таким образом, раздваивается на «первообраз» (целевую причину) и причину действующую — демиурга: другого способа дать наглядное представление о «развертывании» единого, о «воплощении» его у Платона нет 19°. В самой же философской идее «единого» нужно было бы найти то «различие», которое здесь представлено
189 Тимей, 29а—Ь.
190 Здесь у Платона мифологический оборот, а не строгое понятие. Поэтому космос Платона оказывается подобным то вечному образцу, то своему демиургу. «...Дабы произведение было подобно всесовершенному живому существу в его единственности, творящий не сотворил ни двух, ни бесчисленного множества космосов...» (Тимей, 31). Естественно предположить, что это всесовершенное живое существо — сам демиург. Но Платон поясняет, что живое существо, которому уподоблен космос, есть все же некий образец, а не сам демиург. «Что же это за живое существо, по образцу которого устроитель устроил космос? Мы не должны унижать космос, полагая, что дело идет о существе некоего частного вида, ибо подражание неполному никогда не может быть прекрасным. Но помыслим такое [живое существо], которое объемлет все остальное живое по особям и родам, как свои части, и решим, что оно-то и было тем образцом, которому более всего уподобляется космос...» (Тимей, 30с). Образец и демиург, таким образом, составляют два начала: образец есть как бы «форма» космоса, а демиург — действующая причина, которая, подобно ремесленнику, изготовляет «вещь» по определенному «образцу». Такого рода «разъединение» — видимо, дань представлению, т. е. мифологическому.
Становление первых научных программ
229
как мифологема «демиурга» и «первообраза», и логически объяснить акт «порождения».
Итак, поскольку творец создал космос, взирая на вечный первообраз, а сам этот идеальный образец постижим с помощью разума, то космос может быть познан в меру того, насколько в нем запечатлелся образец. Но для сотворения космоса демиургу понадобился не только образец, ему нужна была еще и материя, в которой он мог бы чувственно воплотить образец космоса. Ее Платон именует «восприемницей» (т( блобо/т,) 191, «кормилицей» (тс^трт)), иногда — матерью всего, что возникает в чувственном мире. Таким образцм, он выделяет «три рода: то, что рождается, то, внутри чего совершается рождение, и то, по образцу чего возрастает рождающееся» 192. То, что рождается — это чувственные вещи; о том, что такое образец, мы уже говорили; а то, внутри чего рождается чувственный мир, есть как раз материя, воспринимающее начало. «Воспринимающее начало можно уподобить матери, образец — отцу, а промежуточную природу — ребенку. Помыслим при этом, что если отпечаток должен явить взору пестрейшее разнообразие, тогда то, что его приемлет, окажется лучше всего подготовленным к своему делу в случае, если оно будет чуждо всех форм, которые ему предстоит воспринять: ведь если бы оно было подобно чему-нибудь привходящему, то всякий раз, когда на него накладывалась бы противоположная или совершенно иная природа, оно давало бы искаженный отпечаток, через который проглядывали бы собственные черты этой природы» 192а. Итак, Платон уподобляет материю некоторому совершенно лишенному качеств субстрату, из которого могут быть, как из золота, отлиты тела любой величины, формы и очертаний 193, но который сам не
191 Слово uTcoboynj можно также перевести как «вместилище», «хранилище»; это второе значение важно для нас, ибо оно поясняет, в каком смысле Платон понимает «восприемницу».
192 Тимей, 50с—d. 192а Тимей, 50d—е.
193 «Положим, некто,— говорит Платон,— отлив из золота всевозможные фигуры, без конца бросает их в переливку, превращая каждую во все остальные; если указать на одну из фигур
230
Раздел второй
должен привносить ничего своего, иначе он будет плохой материей. Здесь у Платона появляется то понятие материи, которое очень близко к развитому позднее понятию материи Аристотелем; во всяком случае, оно имеет целый ряд характеристик, формально сходных с признаками аристотелевской материи 194.
Отношение к «материи» у Платона иное, чем у Аристотеля. В сочинениях Платона можно встретить два различных (хотя и не во всех отношениях) понятия материи: об одном из них, принадлежащем уже позднему Платону, мы только что сказали. Но есть и второе, которое, видимо, более органично для мышления Платона и которое мы обнаруживаем не только в ранних, но и в более поздних его диалогах: материя здесь выступает как «иное» единого, как «множественность» или «неопределенная двоица». Если в качестве «восприемницы», «кормилицы» всякого рождения материя мыслится как нечто совершенно нейтральное по отношению к воплощаемым в пей «образцам» — идеям, как необходимое условие, без которого эти образцы не могут чувственно воплотиться, то в качестве «неопределенной двоицы», т. е. «природы иного», она пред-
и спросить, что же это такое, то будет куда осмотрительнее и ближе к истине, если он ответит «золото» и не станет говорить о треугольнике и прочих рождающихся фигурах как о чем-то сущем, ибо в то мгновение, когда их именуют, они уже готовы перейти во что-то иное, и надо быть довольным, если хотя бы с некоторой долей уверенности можно допустить выражение «такое». Вот так обстоит дело и с той природой, которая приемлет все тела... Всегда воспринимая все, она никогда... не усваивает никакой формы, которая была бы подобна формам входящих в нее вещей» (Тимей, 50а—Ь).
194 Вот характеристики, общие у материи-«восприемницы» Платона и «материи» Аристотеля: и у того и у другого материя означает как бы субстрат всего телесного; и у того и у другого она сама лишена формы и получает оформление от некоего другого начала; она не воспринимается чувствами, чувственно доступны только ее модификации, представляющие собой уже оформленную материю. И, наконец, как у Платона, так и у Аристотеля материя, не существует сама по себе, отдельно от оформляющего ее начала,— опа может быть отделена от него только путем абстракции. Но, несмотря на это формальное сходство, материя у Платона и материя у Аристотеля все-таки не тождественны. См. об этом: Schulz D.J. Das Problem der Materie in Platons Timaios. Bonn, 1968, S. 41—44, 55, 56.
Становление первых научных программ
231
стает как нечто, несущее в себе свой особый принцип, противоположный тому, какой несет в себе единое 195. И хотя здесь единое тоже не в силах «рождать» без соединения с «иным», но на характер порождаемого кладет свою печать не только «отец» — единое, но и «мать» — иное: именно благодаря «матери» все чувственное содержит в себе момент алогического, непостижимого разумом 196. Такое понятие «матери» присутствует также и в «Тимее». Собственно говоря, ведь и в материи-«кормили-це» налицо определение «иного»: будучи способной принимать любую форму, она постоянно становится иной, она сама по себе ничто, ибо в противном случае она сопротивлялась бы одним формам и шла навстречу другим. Но здесь этот аспект материи (материя «всегда иное») не выявлен в своем отрицательном смысле: Платон в этом контексте не указывает на то, что природа иного несоизмерима с природой тождественного; он подчеркивает только, что благодаря материи идеи могут воплотиться, по не говорит о том, чего они при этом лишаются.
В другом рассуждении «Тимея» Платон отмечает и эту вторую сторону материи. Повествуя о том, что прежде чем создавать тело космоса, демиург сотворил его душу 197, Платон следующим образом описывает, как он это сделал: «...А составил он ее вот из каких частей и вот каким образом: из той сущности, которая неделима и вечно тождественна, и той, которая претерпевает разделение в телах, он создал путем смешения третий, средний вид сущ
195 Г. Морин в результате анализа платоновского понятия материи приходит к выводу, что если у раннего Платона материя трактуется как «позитивное зло», то в «Тимее» понятие материи нейтрализуется, утрачивает прежнее значение злого начала. (См.: Morin Н. Der Begriff des Lebens im Timaios Platons unter Be-rucksichtigung seiner fruheren Philosophic. Uppsala, 1965, S. 55).
196 Против понятия материи как «иного» возражает Аристотель, отождествляя понятие «материи» целиком и полностью с «восприемницей», т. е. бескачественным субстратом, принимающим любую форму. Это связано у Аристотеля с принципиально иным, чем у Платона, отношением к чувственному миру и возможности его познания.
197 «...Бог сотворил душу первенствующей и старейшей по своему рождению и совершенству, как госпожу и повелительницу ТС’ ла...» (Тимей, 34с).
232
Раздел второй
ности, причастный природе тождественного и природе иного 198 199 200, и подобным же образом поставил его между тем, что неделимо, и тем, что претерпевает разделение в телах. Затем, взяв эти три [начала], он слил их все в единую идею, силой принудив не поддающуюся смешению природу иного к сопряжению с тождественным» 190. Этот отрывок проливает дополнительный свет на многие вопросы, уже обсуждавшиеся нами ранее, в том числе и на понимание Платоном онтологического статуса геометрических объектов.
Платон, как видим, связывает ум и тело (образец и его чувственное подобие) посредством души как некоего промежуточного начала, «составленного» из противоположностей: умопостигаемого — неделимого и вечно тождественного, с одной стороны, и телесного — делимого и вечно иного. Душа потому и служит связующим звеном между духом и телом, что она причастна и тому и другому. После создания души демиург, по Платону, взял все три начала: ум (образец), душу (смесь) и тело (иное) — и соединил их вместе в одну идею — идею живого космоса, ибо космос у Платона — живое и одушевленное тело. Образом и подобием этого живого и одушевленного космоса является и человек, и, как можно видеть из дальнейшего рассуждения Платона, идея человека точно так же состоит из этих трех «частей», которые пришлось богам «силой принудить к соединению» 20°.
Но, как можно видеть, «природа иного» сопротивляется соединению с «природой тождественного»,— она ведет себя иначе, чем «кормилица», безропотно принимающая любую форму. И не только сопротивляется в момент «сопряжения с тождественным», нои после соединения с ним накладывает печать своего присутствия на природу новообразованного соединения — космоса. Посмотрим, каким образом из этого соединения космического ума, космической души и космического тела демиург, по Платону,
198 В тождественном нетрудно узнать предел, в ином — беспредельное.
199 Тимей, 35а—b (курсив мой.— 17. Г.).
200 Здесь мы видим у Платона уже вполне развитой ту мысль о человеке как микрокосме, которая получила такую популярность В эпоху Возрождения,
Становление первых научных программ
233
строит космос. Получив из трех одно целое, демиург «в свою очередь разделил это целое иа нужное число частей, каждая из которых являла собой смесь тождественного, иного и сущности. Делить же он начал следующим образом: прежде всего отнял от целого одну долю, затем вторую, вдвое большую, третью — в полтора раза больше второй и в три раза больше первой, четвертую — вдвое больше второй, пятую — втрое больше третьей, шестую в восемь раз больше первой, а седьмую — больше первой в двадцать семь раз. После этого он стал заполнять образовавшиеся двойные и тройные промежутки, отсекая от той же смеси все новые доли и помещая их между прежними долями таким образом, чтобы в каждом промежутке было по два средних члена, из которых один превышал бы меньший из крайних членов на такую же его часть, на какую часть превышал бы его больший, а другой превышал бы меньший крайний член и уступал большему на .одинаковое число. Благодаря этим скрепам возникли новые промежутки по 3/2, 4/3 и 9/8 внутри прежних промежутков. Тогда он заполнил все промежутки по 4/3 промежутками по 9/8, оставляя от каждого промежутка частицу такой протяженности, чтобы числа, разделенные этими оставшимися промежутками, всякий раз относились друг к другу как 256 и 243. При этом смесь, от которой бог брал упомянутые доли, была истрачена до конца» 20Х.
Мы видим, что бог поступает как математик: он делит полученную «смесь» не как придется, а в соответствии с пифагорейским учением о пропорциональных отношениях. Вот числовое выражение тех первоначальных «долей», на которые бог поделил «смесь»: 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27. Этот ряд чисел нам уже известен: с ним постоянно имела дело пифагорейская математика и астрономия. Числа эти можно расположить по схеме
1
2 3
4 9
8 27
201 Тимей, 35b—36b.
234
Раздел второй
Единица служит началом обоих рядов; каждый из рядов обнаруживает различную природу: согласно пифагорейцам, нечетные числа причастны пределу, четные — беспредельному. Ряд 3, 9, 27 выражает, говоря языком Платона, «природу тождественного», а ряд 2, 4, 8 — природу «иного» 202. То, что оба эти ряда соединены, образуя последовательность чисел 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27, как раз и свидетельствует о том, что в «смеси», созданной демиургом, сказывается присутствие обоих ее «компонентов» — «тождественного» и «иного». Далее можно показать, что в этом ряду содержатся все виды пропорциональных отношений между числами: геометрическая, арифметическая и гармоническая пропорции.
Специфика пифагорейско-платоновского понимания чисел сказывается в том, что одни и те же числовые отношения обнаруживаются в самых разных областях. Так, числами 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27 выражается отношение сфер, вращающихся вокруг Земли, расположенной в центре. Всего сфер семь: 1 — самая близкая к Земле сфера Лупы, 2 — сфера Солнца. Затем идут сферы известных тогда пяти планет: 3 — Венеры, 4 — Меркурия, 9 — Марса, 8 — Юпитера, 27 — Сатурна. Последняя — сфера неподвижных звезд, которая занимает особое место среди остальных сфер 203.
Соединение в смеси, из которой сотворен космос, противоположных начал — «тождественного» и «иного» — сказалось также в том, что все движения космического тела имеют двойственный характер: в них обнаруживается наряду с природой тождественного также и природа «иного». Вот как в мифологической форме Платон описывает эту двойственность: «...рассекши весь образовавшийся состав по длине на две части, он (демиург.— //. Г.) сложил обе части крест-накрест наподобие буквы X и согнул каждую из них в круг, заставив концы сойтись
202 Дело не только в том, что числа 3, 9, 27 — нечетные, а 2, 4, 8 — четные, хотя это, как были убеждены пифагорейцы, уже указывает на то, что первые несут в себе предел, а вторые — беспредельны .
203 См. об этом: Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука, с. 196.
Становление первых научных программ
235
в точке, противоположной точке их пересечения. После этого он принудил их единообразно и в одном и том же месте двигаться по кругу, причем сделал один из кругов внешним, а другой — внутренним. Внешнее вращение он нарек природой тождественного, а внутреннее — природой иного. Круг тождественного он заставил вращаться слева направо, вдоль сторон [прямоугольника], а круги иного — справа налево, вдоль диагонали [того же прямоугольника]; но перевес он даровал движению тождественного и подобного, в то время как внутреннее движение шестикратно разделил на семь неравных кругов, сохраняя число двойных и тройных промежутков...» 204.
Таково, по Платону, устройство «неба». Одип круг, внешний, Платон помещает в экваториальной плоскости; этот круг движется слева направо, с востока на запад и представляет собой природу тождественного. Другой круг, внутренний, Платон располагает в плоскости эклиптики, и он вращается справа налево, с запада на восток, воплощая в себе природу иного, непостоянного, «беспредельного». 205 Именно в плоскости эклиптики расположены семь планетных сфер. Как говорит Платон, здесь движение «разделено на семь неравных кругов». Знаменательно, что движение экваториального круга Платон называет движением вдоль стороны четырехугольника, а движение эклиптики — движением вдоль диагонали этого четырехугольника. Этим он хочет подчеркнуть, что экваториальное и эклиптическое движение несоизмеримы; насильственно соединив в космической душе тождественное и «иное», демиург не смог устранить то, что привносит с собой «иное»: момент алогического, иррационального присутствует в космическом теле, пронизывая собой все отношения в нем. Он воплощен уже в раздвоенности неба, в двойственности и несоизмеримости его двух кругов и воспроизводится в каждой геометрической фигуре — квадрате, где сторона несоизмерима с диагональю, треугольнике, где катет несоизмерим с гипотенузой, круге, где диаметр несоизмерим с окружностью, и т. д. Начало иррацио
204 Тимей, 36b — d.
206 См. комментарии А. А. Тахо-Годи к «Тимею» {Платон. Соч.: В 3-х т. М., 1971, т. 3, ч. I, с. 670.
236
Раздел второй
нальности входит в мир вместе с природой «иного»; оно отныне неустранимо 206.
Природа «иного», которая сказывается, таким образом, и в строении неба, и присутствует в математических объектах в виде несоизмеримости, обнаруживает себя и в способах связи природных явлений и процессов: в них, кроме связи телеологической (какой и подобает быть связи моментов внутри одной системы), налицо также и связь необходимости, которую Платон отождествляет с механической причинностью. Многое в природном мире, говорит Платон, не может быть понято с помощью телеологического объяснения; это то, что «возникло силой необходимости; ибо из сочетания ума и необходимости произошло смешанное рождение нашего космоса. Правда, ум одержал верх над необходимостью, убедив ее обратить к наилучшему большую часть того, что рождалось» 207. Поэтому при рассмотрении генезиса Вселенной, говорит Платон, нужно иметь в виду не только то, что рождалось в соответствии с образцом, т. е. под руководством «наилучшего», но «привнести также и вид беспорядочной причины вместе со способом действия, который по природе этой причине принадлежит» 208.
Что жег однако, представляет собой «материя» у Платона? Исходя из анализа диалога «Тимей», можно, пожалуй, сказать, что понятия материи (бкобо/т]) и пространства (/Фра) у Платона если и не прямо отождествляются, то, во всяком случае, не различаются. Те характеристики, которые Платон обнаруживает у материи, а именно то, что она лишена формы и приемлет всякую форму, что она есть нечто неопределенное и не могущее быть постигнутым в понятии,-- все эти определения в равной мере мо
206 Соединение двух различных начал в самой мировой душе и в «смеси», из которой создано также и «тело» космоса, сказывается и в музыкальной гармонии, тоже пораженной этой двойственностью. Интересный анализ платоновско-пифагорейского понимания музыкальной гармонии, и особенно иррациональных интервалов, бделан в статье Б. Китцлера «Мировая душа и музыкальное пространство». См.: Hermes Bd. 87, Н. 4, Wiesbaden, 1959, S. 393-413.
207 Тимей, 47е—48.
208 Тимей, 48а.
Становление первых научных программ
237
гут быть отнесены и к пространству. Да они, впрочем, и оказываются отнесенными также и к пространству, которое тоже квалифицируется Платоном как некий «третий вид» и получает те же атрибуты, которые ранее получила «восприемница». Все это и дало повод Аристотелю считать, что Платон отождествил материю с пространством, против чего сам Аристотель резко возражает. Еще более убедительно об отождествлении материи с пространством свидетельствует платоновское рассуждение о правильных многогранниках как «сущности» основных природных элементов. К этому вопросу мы вернемся в следующем разделе.
Однако платоновское учение о материи настолько неоднозначно, что все-таки остаются некоторые неясности и вопросы — тем более что и само понятие пространства у Платона, не тождественное тому, которое мы находим в новое время (например, у Ньютона), тоже отнюдь не является чем-то само собой понятным. Некоторые исследователи Платона склонны допустить у него наличие не одной, а двух (а может быть, и большего числа?) «материй»: оцна из них, как бы ближе всего стоящая к миру умопостигаемому, может быть отождествлена с пространством; другая, низшая по сравнению с этой, представляет собой нечто иное; если первая материя (т. е. пространство) 209 представляет собой «субстрат» геометрических фигур, то вторая, низшая,— субстрат уже чувственных вещей. Такого рода различение «двух материй» мы находим в «Эннеадах» Плотина 21°; возможно, что это различение восходит к самому Платону, а может быть, оно позднейшего происхождения. Но детальное выяснение этого вопроса требует специального анализа текстов Платона, выходящего за рамки настоящего исследования.
К соотношению пространства и материи, а также материи и возникающих благодаря ее оформлению чувст-
во» Ее-то Прокл и назвал «умопостигаемой» материей в отличие от «чувственной».
210 Plotins Schriften: Text und Obersetzung der Schriften 1—21. Hamburg, 1956. Bd. la/Ubersetzt von R. Harder. Enn. II, 4. Соответствующий раздел у Плотина так и назван: «О двух материях».
238
Раздел второй
венных вещей мы еще раз обратимся при анализе платоновского учения о космических стихиях.
Космические стихии и их геометрические формы. Итак, материя, из которой созданы все чувственные вещи, есть нечто полностью неопределенное; ее нельзя отождествлять ни с какой из известных нам природных стихий, говорит Платон. «А потому мы не скажем, будто мать и восприемница всего, что рождено видимым и вообще чувственным,— это земля, воздух, огонь, вода или какой-либо другой [вид], который родился из этих четырех [стихий] либо из которых сами они родились. Напротив, обозначив его как незримый, бесформенный и всевосприемлющий вид, чрезвычайно странным путем участвующий в мыслимом и до крайности неуловимый, мы не очень ошибемся» 2П. Но если первичная материя не есть ни одна из природных стихий, то вполне резонно поставить вопрос: а что же представляют собой сами эти стихии, эти элементы, из которых состоят, по представлениям всех античных физиков, природные вещи — земля, вода, воздух и огонь?
Платон действительно ставит перед собой этот вопрос, и притом в специфической форме. Поскольку он хорошо знаком с критикой всякого чувственным путем полученного знания (мнения) — ведь он сам эту критику неоднократно направлял в адрес натурфилософов, то он спрашивает: не являются ли все эти элементы лишь теми различиями в первичной материи, которые воспринимаются чувственно, а уловить их мысленно невозможно? Следует рассмотреть, говорит Платон, «есть ли такая вещь, как огонь в себе, и обстоит ли дело таким же образом с прочими вещами, о каждой из которых мы привыкли говорить как о существующей самой по себе? Или же только то, что мы видим либо вообще воспринимаем телесными ощущениями, обладает подобной истинностью, а помимо этого вообще ничего и нигде нет? Может быть, мы понапрасну говорим об умопостигаемой идее каждой вещи, и идея эта не более чем пустой звук»? 212 Вопрос Платона понятен: при рассмотрении природных элементов он хочет выделить два момента: то, как эти элементы воспринимаются телес-
211 Тимей, 51а—Ь,
212 Тимей, 51с
Становление первых научных программ 239
по, в форме различных ощущений, и то, как их можно постигнуть мысленно, в понятиях. Если есть огонь «в себе», вода «в себе» и т. д., тогда возможно с помощью мысли определить их сущность,; если же пет, то о стихиях космоса вообще нельзя иметь никакого достоверного знания, а только мнение, ибо мнениями считает Платон воззрения древних натурфилософов.
У предшественников Платона можно выделить два разных подхода к рассмотрению природных стихий. Так, например, Эмпедокл рассматривал именно четыре элемента, перечисленных Платоном, но рассматривал как раз только те их свойства, которые даны чувственному восприятию. Напротив, Демокрит пытался определить огонь, воду и т. д. «в себе», т. е. так, как их можно лишь мыслить, а не воспринимать. Оба эти подхода Платона не удовлетворяют.
На поставленный вопрос Платон отвечает примерно так: природные элементы можно познать ровно настолько, сколько в них математики. А звучит ответ Платона в мифологической форме вот как. До создания космоса демиургом все четыре природные стихии находились в хаотическом, неупорядоченном состоянии, «в них не было ни разума, ни меры: хотя огонь и вода, земля и воздух являли кое-какие приметы присущей им своеобычности, однако они пребывали всецело в таком состоянии, в котором свойственно находиться всему, до чего еще не коснулся бог. Поэтому последний, приступая к построению космоса, начал с того, что упорядочил эти четыре рода с помощью юбразов и чисел» 213.
Образы, о которых здесь говорит Платон, это тоже математические определения; он имеет в виду очертания геометрических тел, которые, как мы уже знаем, внутренне связаны с числами и являют пространственное воплощение последних. Согласно Платону, то, что мы видим как свойства природных элементов и вообще воспринимаем с помощью нашего тела — что, например, огонь красен, горяч, а земля плотна, тяжела, непрозрачна и т. д.,— все эти свойства чаще ничего не говорят нам о том, что такое огонь и земля сами по себе. Чтобы узнать это, нужно вы-
213 Тимей, 53а—Ь.
240
Раздел второй
яснить, с помощью каких образов и чисел упорядочил бог эти стихии, т. е. нужно выяснить математические определения этих стихий.
Посмотрим, в чем же, по Платону, состоят эти математические определения. «Во-первых, каждому, разумеется, ясно, что огонь и земля, вода и воздух суть тела, а всякая форма тела имеет глубину. Между тем любая глубина по необходимости должна быть ограничена природой поверхности; притом всякая плоская поверхность состоит из треугольников. Однако все вообще треугольники восходят к двум, из которых каждый имеет по одному прямому углу и по два острых, но при этом у одного по обе стороны от прямого угла лежат равные углы величиной в одну и ту же долю прямого угла, ограниченные неравными сторонами. Здесь-то мы и полагаем начало огня и всех прочих тел, следуя в этом вероятности, соединенной с необходимостью; те же начала, что лежат еще ближе к истоку, ведает бог, а из людей разве что тот, кто друг богу» 214 215.
В этом отрывке Платон прежде всего вводит геометрическое понятие тела: это глубина, ограниченная поверхностью, т. е стереометрический объект. Затем он поясняет геометрическое понятие поверхности: поверхность «состоит» из треугольников. Что касается треугольников, то Платон в качестве их исходной («образцовой») формы указывает два вида: прямоугольные равнобедренные треугольники (с соотношением сторон 1 : 1 : ]/2) и треугольники, представляющие собой половину равностороннего треугольника, в которых гипотенуза вдвое больше одного из катетов; соотношение сторон здесь 1 : \ 3 : 2 21Б.
Из этих треугольников и образованы тела, которые составляют математическую сущность огня, воздуха, воды и земли. Три из них «слагаются из одного и того же неравнобедренного треугольника, и только четвертый род — из равнобедренного... Начнем с первого вида, состоящего
214 Тимей, 53с — d.
215 «...Нам приходится,— говорит Платон, — ртдать предпочтение двум треугольникам, как таким, из которых составлено тело огня и [трех] прочих тел: один из них равнобедренный, а другой таков, что в нем квадрат большей стороны в три раза превышает квадрат меньшей» (Тимей, 54Ь).
Становление первых научных программ
241
из самых малых частей: его первоначало — треугольник, у которого гипотенуза вдвое длиннее меньшего катета. Если такие треугольники сложить, совмещая их гипотенузы, и повторить такое действие трижды, притом так, чтобы меньшие катеты и гипотенузы сошлись в одной точке как в своем центре, то из шестикратного числа треугольников будет рожден один, и он будет равносторонним (рис. 6). Когда же четыре равносторонних треугольника
окажутся соединенными в три двугранных угла, они образуют один объемный угол, а именно такой, который занимает место вслед за самым тупым из плоских углов., Завершив построение четырех таких углов, мы получаем первый объемный вид, имеющий свойство делить всю описанную около него сферу на равные и подобные части» (рис. 7) 216.
«Первый объемный вид», т. е. первое стереометрическое тело — это простейшая пирамида — четырехгранник (тетраэдр), построение которой и описывает Платон. Аналогичным образом строятся и два других правильных многогранника — восьмигранник (октаэдр) и двадцатигранник (икосаэдр). Четвертое же «тело» строится из равнобедренных треугольников, «и притом так, что четыре треугольника, прямые углы которых встречались в одном центре, образовывали квадрат; а из сложения шести квадратов возникало восемь объемных углов, каждый из которых гармонично охватывался тремя плоскими прямыми углами. Составившееся таким образом тело имело очерта-
216 Тимей, 54d — 55.
242
Раздел второй
ния куба, паделеппого шестью квадратными плоскими гранями» 217.
Платон здесь, собственно, обращается к открытию Те-этета, построившего четыре правильных многогранника, что, по-видимому, вызвало восхищение Платона и произвело на пего сильное впечатление 218. Платон, видимо, впервые решил с помощью открытия Теэтета дать объяснение математической «структуры» космических элементов, т. е. применить это открытие в своей «космогонии». Это его тем более привлекало, что возникала возможность установить пропорциональные отношения между стихиями, чего никто до пего, вероятно, пе пытался сделать, но что было признано главным средством познапия объектов в рамках математической программы пифагорейцев и платоников. «Если нам удастся попасть в точку,— говорит Платон,— у пас в руках будет истина о рождении земли и огня, а равно и тех стихий, что стоят между ними как средние члены пропорции» 219.
Что дает нам знание пропорциональных отношений? Опо позволяет сравнивать между собой различные объекты и тем самым устанавливать тождество их отношений. Такого рода знание мы, согласно Платону, можем получить, если, установим пропорцию между четырьмя элементами. А последнюю мы можем установить, установив в свою очередь соответствие между стихиями и правильными стереометрическими объектами, которые описал Платон. Такое соответствие Платон и устанавливает: четырехгранник (тетраэдр) соответствует огню, восьмигранник (октаэдр) — воздуху, двадцатигранник (икосаэдр) — воде, а шестигранник, или куб, соответствует земле. Основания, из которых исходил Платон, устанавливая именно такое соответствие, оп указывает вполне недвусмысленно: каждое из правильных тел имеет определенные свойства, ко
217 Тимей, 55b — с.
218 Платон не устает восхищаться красотой этих математических тел: «... нет видимых тел более прекрасных, чем эти, притом каждое из них прекрасно в своем роде...» (Тимей, 53е).
219 Тимей, 53е (курсив мой.— П. Г.). Под «средними членами пропорции» Платон подразумевает воду и воздух. Четыре стихии тогда составят пропорцию: земля—вода—воздух—огонь, т. е. земля : вода = вода : воздух = воздух : огонь.
Становление первых научных программ
243
торые должны максимально соответствовать известным из опыта свойствам четырех элементов 220. Земле соответствует куб, потому что он — самое устойчивое из геометрических тел, а земля отличается именно свое неподвижностью, устойчивостью; огню — тетраэдр, ибо последний наиболее, вроде бы, «сходствует» с подвижной и легкой стихией огня и к тому же имеет наиболее острые грани и углы (режет, жжет, всюду легко проникает). Аналогичны и рассуждения о воде и воздухе 221.
Приводя в соответствие геометрическую «сущность» элементов с их чувственными свойствами, Платон постоянно подчеркивает всего лишь правдоподобный характер своих разысканий (см. Тимей, 56, 56с), который объясняется всюду присутствующей «природой необходимости» (56с). Несмотря па эти постоянные оговорки, оп, конечно же, • не смог предотвратить той критики, с которой обрушились на пего физики, и прежде всего его ученик Аристотель 222.
220 «Земле мы, конечно, припишем вид куба: ведь из всех четырех родов наиболее неподвижна и пригодна к образованию тел земля, а потому ей необходимо иметь самые устойчивые основания. Между тем не только из наших исходных треугольников равносторонний, если взять его как основание, по природе устойчивее неравностороннего, но и образующийся из сложения двух равносторонних треугольников квадрат с необходимостью более устойчив, нежели равносторонний треугольник... Значит, мы не нарушим правдоподобия, если назначим этот удел земле, а равно и в том случае, если наименее подвижный из остальных видов отведем воде, наиболее подвижный — огню, а средний — воздуху; далее, наименьшее тело — огню, следующее за ним воздуху, а третье — воде. Но из всех вышеназванных тел наиболее подвижно по природе своей и по необходимости то, у которого наименьшее число оснований, ибо оно со всех сторон имеет наиболее режущие грани и колющие углы... Пусть же образ пирамиды, рожденный объемным, и будет... семенем огня; вторым по рождению мы возьмем воздух, третьим же — воду...» (Тимей, 55d — 56b).
221 Как отмечает Я. Г. Дорфман, одним из соображений, которым руководствуется Платон, является следующее: «Форма «частиц» тела должна соответствовать основным его физическим свойствам (твердость, плавкость, воздухообразпость, подвижность и т. д.)» (Дорфман Я. Г. Молекулярная физика Платона.— В кн.: Труды XIII Международного конгресса по истории пауки, секции III, IV. М., 1974, с. 31).
222 В своем сочинении «О небе» Аристотель выставил целый ряд критических аргументов против «геометрической» модели чувствен-
244
Раздел второй
Но не в соотношениях очертаний фигур с чувственными свойствами природных элементов лежит центр тяжести рассуждений Платона. Все эти соотношения можно действительно, как об этом говорит и сам Платон, отнести к «правдоподобным рассуждениям». Важнее здесь то, что Платон выделяет именно геометрически-пространст-венные образования как исходные при изучении физических объектов 223. Выделив их, он затем устанавливает
ных качеств у Платона. Способ соотнесения, который в данном пункте применил Платон, действительно давал основания для такого рода критики. Так, Аристотель замечает, что геометриче-ски-пространственные образования, к которым принадлежат платоновские треугольники, не могут быть соотнесены с физическими объектами, так как последние всегда имеют тяжесть. Аргументация Аристотеля здесь очень показательна. Тяжесть, говорит он, принадлежит физическим объектам в качестве такого свойства их, которое может быть бесконечно делимым: любое тело может быть более тяжелым и менее тяжелым. Но если тела образуются из неделимых математических элементов, не имеющих тяжести (ибо какую тяжесть может иметь, например, точка?), то невозможно объяснить, откуда берется тяжесть. «Если каждая из двух частей не имеет никакой тяжести, то невозможно, чтобы обе вместе имели тяжесть; чувственные же тела — либо все, либо некоторые (например, земля и вода) — имеют тяжесть, с чем <эти, мыслители) согласились бы и сами. Стало быть, если точка не имеет никакой тяжести, то ясно, что ее не имеют и линии, а если линии — то и плоскости, откуда следует, что ее не имеет и ни одно из тел» (О небе, III, 1).
223 Что это действительно так, можно убедиться не только из текстов самого Платона, но из критики, которую обращает против такого способа объяснения физического мира Аристотель. Вот как он характеризует платоновский метод в «Тимее»: «...а другие приводят более тонкий аргумент: все тела состоят из наиболее тонкочастного, все телесные фигуры из пирамид, поскольку тончайшее из тел — огонь, мельчайшая и первичная фигура-пирамида, а первичная фигура принадлежит первичному телу, то огонь — пирамида» (О небе, III, 5). Платон, стало быть, «составляет» тела из «очертаний» фигур, т. е. пространственно-геометрических элементов. Так, первое тело — огонь — образуется «из первого очертания» — пирамиды. Аристотель довольно точно передает мысль Платона: пирамида — это не первое тело, а первое очертание; и хотя Платон и называет ее «телом», но Аристотель указывает на известную метафоричность этого названия; ведь тела — это объекты чувственного мира, а в нем нет пирамид, а есть огонь. Платон же, называя «первыми телами» правильные многогранники, тем самым хочет показать, что пространство — это «первая» материя (первая — в смысле идущая сразу
Становление первых научных программ
245
количественное соотношение между тремя космическими элементами, образованными из одинаковых треугольников, а именно между огнем, воздухом и водой (земля образована из других треугольников, поэтому о ней речь в этой связи не идет). И, в самом деле, легко сосчитать, сколько «треугольников» составляют одну «пирамиду» огня: в каждой грани их 6 — значит, в четырех гранях будет 24. Соответственно в восьмиграннике воздуха их будет 6x8= 48, а в двадцатиграннике воды — 6 X 20 = = 120. Тем самым установлено количественное соответствие между стихиями; это соответствие может быть применительно к физическому миру выражено в следующей форме: будучи составленными из одних и тех же элементов в определенном числе, три стихии — огонь, воздух и
после умопостигаемых идей и предшествующая чувственно данному), а потому пространственно-геометрические объекты — «первые тела». О различии платоновского и аристотелевского понимания материи и того, как из нее формируются тела, свидетельствует следующее рассуждение Аристотеля: возникновение и изменение тел можно понимать двояко: «...либо путем переоформления, как, например, из одного и того же куска воска могут возникнуть и шар, и куб, либо — как утверждают некоторые — путем разложения на плоскости» (О небе, III, 7).
Тут сразу видно различие между Платоном и Аристотелем: согласно Платону, воск возникает из «куба», а согласно Аристотелю — куб, и шар, и любое другое тело — из воска. Аристотель мыслит здесь материю как субстрат («воск»), из которого «лепится» всякое физическое тело, в том числе и шар, и куб, если они берутся как физические тела. Платон же мыслит материю прежде всего как пространство, из которого идеи-числа «режут» плоскости — треугольник или круг; эти «очертания», эти фигуры — первые элементы не просто математического, но и физического, т. е. чувственного, мира; исходя из них, нужно вывести определения последнего. Поэтому Аристотель совершенно правильно понимает замысел Платона, когда упрекает его в том, что «сторонники этой теории — хотят они того или нет — должны считать, что возникновение (элементов) происходит не из тела, ибо о том, что возникло из плоскостей, нельзя сказать, что оно возникло из тела» (О небе, III, 7).
Все аргументы Аристотеля против Платона — это аргументы физика: он исходит из физических свойств чувственных тел. См.: О небе, III, 8. Аристотель берет одно за другим свойства физических тел — тяжесть, сплошность, рыхлость и плотность, холод и теплоту, заявляя, что все это невозможно объяснить исходя из «очертаний», а потому физике математическое объяснение, как его предложил Платон, не подходит.
246
Раздел второй
вода — могут превращаться друг в друга: «...вода, дробимая огнем или воздухом, позволяет образоваться одному телу огня и двум воздушным телам, равно как и осколки одной рассеченной части воздуха могут породить из себя два тела огня» 224. Это рассуждение можно записать так:
1 вода 120 -> 2 Воздуха 48 + 1 Огонь 24,
1 Воздух 48 -> 2 Огня 24.
Но не только дробление, а и соединение одних стихий может, по Платону, порождать другие: так, «из двух с половиной тел воздуха составляется один вид воды» 225.
2V2 Воздуха 48 —► 1 Вода 120.
Таковы «атомы» Платона 226, природу которых нам теперь надо по возможности определить. Что представляют собой эти элементарные треугольники и составленные из них мпогогранники? Геометрические фигуры? Физические тела? Некоторыми из своих характеристик «первых тел» Платон дал основания считать их физическими телами. Говоря о том, что огонь «рассекает лезвиями своих граней» и «остриями углов» 227, он явно уподобляет пирамиду огня физическому телу; называя тетраэдр огня наиболее легким их всех остальных многогранников, Платон тем самым вводит определение тяжести, которое опять-таки присуще именно физическому, а не геометрическому телу 228. Более того, указывая на «малость» этих «исходных»
224 Тимей, 56d.
226 Тимей, 56е.
226 Установление Платоном таких количественных соотношений между элементами, в соответствии с которыми элементы могут «переходить» друг в друга, дало повод Э. Липману говорить о своего рода «стереохимическом» законе их взаимоперехода. См.: Lippmann Е. О. Chemisches und Physikalisches aus Platon.— Journal fiir praktische Chemie, Berlin, 1907, Bd. 76, S. 513-514.
227 Тимей, 56e — 57.
228 Все эти характеристики фиксирует в своей работе Я. Г. Дорфман, делая затем вполне однозначный вывод: «Итак, Платон считает треугольные пластинки граней весомыми, т. е. материальными, а ровсе не отвлеченными математическими формами, так их ошибочно представляет В. Гейзенберг» (Дорфман Я. Г. Молекулярная физика Платона, с. 32). Треугольники, поясняет Дорфман, играют у Платона роль как бы атомов вещества, а составленные из них правильные многогранники — роль мо-
Станойление первых научных программ
247
тел, Платон опять вызывает ассоциацию между ними и физическими атомами 229. И все же, несмотря на все эти характеристики, нам представляется, что Платон не мыслил свои «треугольники» и «многогранники» как физические тела, а все приведенные их определения надо отнести за счет того — «не истинного, а лишь правдоподобного»— способа рассуждения, о котором было сказано с самого начала. Реальностью, в которой восплощаются все эти фигуры, является материя, понятая не как вещество, а как пространство', двухмерное — для треугольников (плоскость), трехмерное — для многогранников (объем). В этом смысле нам кажется ближе к истине то истолкование этих платоновских «тел», которое предлагает В. Гейзенберг 23°.
Вопрос о том, как понимает Платон «материю», является одним из самых трудных; вокруг него всегда велось много споров, которые не прекращаются и сегодня. Но, учитывая особенности платоновской математической программы, можно полагать, что, по крайней мере, в сочинениях позднего Платона материя и в самом деле понимается как пространство. Об этом недвусмысленно говорит и Аристотель в «Физике»: «...с этой точки зрения место будет формой каждого тела, а поскольку место кажется протяжением величины — материей, ибо протяжение есть иное, чем величина, оно охватывается и определяется формой, как бы поверхностью и границей. А таковы именно материя и неопределенное... Поэтому Платон в „Тимее" и говорит, что материя и пространство — одно и то же,
лекул. Такую же интерпретацию правильных многогранников как «молекул» предложила в свое время Ева Закс. См.: Sachs Е. Die fiinf platonischen Кбгрег.— In: Philologische Untersuchun-gen. Berlin, 1917, H. 24, S. 223. Действительно, некоторые из характеристик, которыми Платон наделил свои «первые тела», дают основание для такой интерпретации.
229 «...Все эти [тела] до такой степени малы, что единичное [тело] каждого из перечисленных родов по причине своей малости для нас невидимо, и лишь складывающиеся из них множества массы бросаются нам в глаза» (Тимей, 56b — с).
230 «В «Тимее» Платона,— пишет Гейзенберг,— физические свойства элементов сведены к геометрии, то есть к свойствам пространства; отдельные элементы материи построены из основных тел стереометрии, а последние в свою очередь из простых треугольников» (Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики, с. 23).
248
Раздел второй
так как одно и то же восприемлющее и пространство» 231. А как понимает Платон пространство и в каком смысле пространство является условием возможности геометрических объектов («началом геометров»), об этом мы уже говорили выше.
То, что Платон отождествляет материю («мать-восприемницу») с пространством, признают многие исследователи. Так, В. Шадевальдт пишет по этому поводу: «На месте материи у Платона в качестве „материи и кормилицы44 всего сущего стоит чисто воспринимающее... Это чисто воспринимающее есть, согласно Платону, чистое, невидимое, лишенное образа пространство...» 232. Эту точку зрения разделяет и Э. Франк: «Субстанцией (материей) тела, остающейся неизменной и тождественной при всей смене чувственных определений, является здесь у Платона пустой пространственный образ (пространственное очертание) тела, атома независимо от того, имеет ли этот последний форму куба, тетраэдра или другого правильного многогранника...» 233.
Таким образом, и платоновские «атомы», будем ли мы рассматривать в качестве таковых треугольники или правильные многогранники, следует мыслить как геометрические пространственные образования. Этим они отличаются от атомов Демокрита как мельчайших физических тел. Поэтому представляется справедливым высказанное В. П. Зубовым соображение о том, что «Платон вовсе не мыслил образование „стихий44 из элементарных треугольников как некий реальный, физический процесс» 234 — и это несмотря на то, что сам способ, каким обсуждается в «Тимее» процесс сотворения космоса, дает, как мы выше видели, повод для такого физического толкования платоновских «тел».
Завершая рассмотрение платоновской «физики», отметим важнейшие ее особенности, связанные со спецификой платоновского понимания науки в целом.
231 Физика, IV, 2, 209b.
232 Schadewaldt W: Das Weltmodell der Griechen.— Die neue Rundschau, 1957, Jg. 68, H. S. 195.
233 Frank E. Plato und die sogenannten Pythagoreer, S. 367.
234 Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX века, с. 47.
Становление первых научных программ
249
1. Платон не считает научно достоверным такой род знаний о природе, какой назывался «физикой» в его время и был представлен в теориях натурфилософов — Фалеса, Анаксимена, Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита и др. Поскольку же речь все-таки заходит о структуре космоса и о физических явлениях и поскольку Платон сам о них говорит, он считает свои построения не более как «правдоподобным мифом».
2. Платон в «Тимее» делает попытку выявить в природном мире все то, что может быть предметом изучения математики и тем самым впервые в истории строит в сущности вариант математической физики. В физике он остается верным своей математической программе, считая, что в мире природы достоверное знание мы можем получить ровно в той мере, в какой раскроем математические структуры этого природного мира. Именно этим обстоятельством, на наш взгляд, объясняется интерес к «Тимею» ученых эпохи эллинизма, средних веков и эпохи Возрождения — вплоть до Галилея.
3. Однако платоновское представление о том, как соотносятся между собой физические свойства и качества вещей с лежащими в их основе математическими структурами, так же как и понимание самих этих структур, является весьма специфическим и глубоко отличным от того представления, которое сложилось в науке нового времени.
Платон искал посредствующее звено между числом и геометрическим объектом, и он нашел его — эту посредствующую реальность он увидел в «пространстве». Но ему не удалось найти посредствующее звено между чувственным миром, как он дан в эмпирическом опыте, и математическими объектами, как они существуют сами по себе. Поэтому он и не считал возможным научно исследовать природу, а свою работу, проделанную в «Тимее», осуществлял в форме непосредственного соотнесения чувственного мира с лежащим в его основе математическим «миром тождественного». И за это непосредственное соотнесение, которое внесло в повествование «Тимея» много моментов лишь «правдоподобного» и «мифологического», Платона заслуженно критиковал его ученик Аристотель. Последний выполнил работу непосредственного соотнесения чувственного
250
Раздел второй
мира с теоретической конструкцией совсем иначе, чем это сделал Платон; он реализовал задачу создания физики па базе античного мышления, отбросив платоновско-пифагорейскую программу и заменив ее другой — контину-алистской.
Платон об общественном назначении науки. Как понимал Платон цель научного познания и в чем видел высшее назначение науки? Для того чтобы выявить исходные позиции Платона в этом вопросе, посмотрим, какие именно мотивы в первую очередь побудили его вслед за Сократом выступить с критикой релятивизма софистов. Софисты разрушали представления, обычаи и верования, которые цементировали социальное целое традиционного типа общества. Их критика подрывала основу социальной общности и тем самым возбуждала вопрос о том, какой новой формой социальной связи можно заменить прежнюю. Стремясь найти ответ на этот вопрос, Платон, как мы уже выше показали, пытается найти надындивидуальные структуры в самом сознании индивида и находит их. Эти структуры как раз и обусловливают возможность научного и философского знания, а само это знание представляет собой воплощение и реализацию надындивидуального в индивиде. Значит, знание есть то единственно надежное, прочное и незыблемое, на чем, как на своем фундаменте, общество теперь может строить себя, не беспокоясь о прочности этого фундамента. Не толщина городских стен и укреплений, не сила армии и ее вооружение, а знание — вот что гарантирует в первую очередь безопасность и прочность общественного целого. Знание цементирует общество изнутри, тогда как армия и стены обороняют его извне. И именно в этом надо видеть, по Платону, важнейшее назначение науки и философии. Вот почему во главе государства Платон ставит жрецов и хранителей знания — философов.
Пе случайно философы платоновского «Государства» так часто ассоциировались со жрецами: в новом типе общества они выполняли функцию, аналогичную той, какую в традиционном выполняли жрецы. Последние были хранителями традиций, традиционных верований, философы же — хранители того, что теперь пришло на смену традиционному верованию,— знание. Достойное место в си
Становление первых научных программ
251
стеме знания занимает, по Платону, математика. Обратимся вначале к арифметике. «Эта наука,— говорит Платон,— подходит для того, чтобы установить закон и убедить всех, кто собирается занять высшие должности в государстве, обратиться к искусству счета, причем заниматься им они должны будут не как попало, а до тех пор, пока не придут с помощью самого мышления к созерцанию природы чисел — не ради купли-продажи, о чем заботятся купцы и торговцы, но для военных целей и чтобы облегчить самой душе ее обращение от становления к истинному бытию» 235. Арифметика, таким образом, содействует обращению души к истинному бытию, вечному, себе довлеющему, тождественному и потому прекрасному. И в этом — ее высшее назначение. А геометрия? «...Направлена ли она к нашей цели, помогает ли она нам созерцать идею блага? Да, помогает, отвечаем мы, душе человека обратиться к той области, в которой заключено величайшее блаженство бытия,— а ведь это-то ей и должно увидеть любым способом» 236. Поэтому и геометрию необходимо изучать государственным людям, а к ним Платон относит тех, кто «имеет прекрасные природные задатки» 237, способности к математическим наукам в первую очередь 238. Из них-то и надо, по его мнению, воспитывать будущих философов. Ту же роль играют в воспитании души, по Платону, и остальные математические науки: стереометрия, астрономия и музыка. Надо только заботиться о том, чтобы чистоту математического знания не замутняли те практические применения, которые всегда можно сделать из этого знания. Вот тогда-то «занятие теми науками, о которых мы говорили... ведет прекраснейшее начало на
235 Государство, VII, 525b — с (курсив мой.— II. Г.).
236 Государство, VII, 526d — е.
237 Государство, 526с.
238 О том, какими требованиями надо руководствоваться при отборе людей, из которых будут воспитываться будущие правители, Платон говорит следующее: «Нужно отдавать предпочтение самым надежным, мужественным и по возможности самым благообразным; но, кроме того, надо отыскивать не только людей благородных и строгого нрава, но и обладающих также свойствами, подходящими для такого воспитания... у них должна быть острая восприимчивость к наукам и быстрая сообразительность» (Государство, VII, 535а — Ь).
252
Раздел второй
шей души ввысь, к созерцапию самого совершенного в существующем...» 239.
Вот какое отношение имеет математика к управлению государством: она воспитывает возвышенный строй души, научает душу отвращаться от хаотического и беспорядочного мира чувственного (становления) и приобщаться к миру вечного бытия, где царят порядок, гармония, симметрия. Отсюда и стремление Платона представить мир математических объектов в виде стройного целого, порядок и структуру которого можно было бы созерцать, как «прекрасное изваяние». Математика, согласно Платону, должна подготавливать ум для занятия высшей из всех наук — диалектикой.
Интересно, а как представляет себе Платон «университет», в который приходят юноши двадцати лет после изучения «в школе» математических наук? «...Юноши, отобранные из числа двадцатилетних, будут пользоваться большим почетом сравнительно с остальными, а наукам, порознь преподававшимся им, когда они были детьми, должен быть сделан общий обзор, чтобы показать их сродство между собою и с природой бытия» 24°. Образование в «университете», таким образом, отличается от школьного тем, что здесь на первый план выступает обнаружение общности в предметах разных наук, раскрытие их связи между собой. Только после этой подготовки ученики могут переходить к изучению диалектики— не ранее чем в возрасте 30 лет. Правда, тут надо проявлять большую осторожность, говорит Платон. Ибо обучающиеся диалектике научаются рассуждать, а «разве ты не замечаешь зла, связанного в наше время с умением рассуждать?..» 241 Поэтому среди учеников надо допускать к изучению высшей науки — диалектики — только тех, у кого сильно развито чувство справедливости и кто поэтому не использует во зло приобретенное искусство. Лишь при таких условиях допускает Платон то искусство, которое разработали софисты. Диалектика имеет своей целью привести философов к созерцанию идеи блага — высшего бытия, на
239 Государство, VII, 532с.
240 Государство, VII, 537b — с.
241 Государство, VII, 537е.
Становление первых научных программ
253
котором держится все сущее, в том числе и справедливое государство.
Здесь Платон, правда, обнаруживает неожиданное затруднение: а захотят ли люди, в течение многих лет созерцавшие высшее благо, «спуститься» по истечении положенного срока обучения 242 назад «в пещеру», чтобы занять предназначенные им должности в государстве? Видимо, он рассчитывает на высокую сознательность избранных мужей; но при этом чтобы окончательно не оторвать их от радости созерцания высшего блага, он предлагает следующий проект: проведя 15 лет на службе государству, они могут вести образ жизни, более для них приятный: «Когда им будет по пятьдесят лет, то тех из них, кто уцелел и всячески отличился — как на деле, так и в познаниях — пора будет привести к окончательной цели: заставить их устремить ввысь свой духовный взор и взглянуть на то самое, что всему дает свет, а увидев благо само по себе, взять его за образец и упорядочить и государство, и частных лиц, а также самих себя... на весь остаток своей жизни. Большую часть времени они станут проводить в философствовании, а когда наступит черед, будут трудиться над гражданским устройством, занимать государственные должности -- не потому, что это нечто прекрасное, а потому, что так необходимо ради государства» 243.
Самой большой радостью для человека, полагает Платон, является созерцание идеи блага, этой цели самой по себе; занятие же государственными делами является его долгом. Так понимает он назначение науки и ее функцию как по отношению к обществу, так и по отношению к философии — этому высшему роду знания, которое само уже не является средством для чего-либо иного.
Платон, таким образом, прочпо связывает теоретическое познание — науку — с жизнедеятельностью человека и общества. Ни одна из наук не является для него частной в том смысле, как это впоследствии понимал Аристотель: все они вместе образуют единое целое, вершину которого составляет философия, а корни — математика и астрономия. Это целое есть смыслообразующее начало, которым
242 Платон отводит на обучение 5 лет.
243 Государство* VII, 540а — Ь.
254
Раздел второй
держится и социальная жизнь полиса, и духовная — каждого индивида. Как говорит один из исследователей античной науки и культуры, Г. Кремер, «Платон требует универсального отнесения теоретического постижения мира к человеческой жизненной действительности» 244. Эта установка Платона определяет собой понимание им места и роли науки в обществе: никакой автаркии по отношению к этико-политической сфере наука у Платона не имеет.
Глава четвертая
Континуалистская программа Аристотеля
Аристотель (384—322 гг. до и. э.), как известно, в течение 20 лет учился у Платона Ему была хорошо известна проблематика, которой занималась Академия при жизни ее основателя, так же как и после его смерти; он прекрасно понимал, в чем состояла научная программа его учителя, но с этой программой не был согласен.
Неправильно было бы, однако, считать, что по своим философским взглядам Аристотель совершенно разошелся с Платоном: несмотря на критику платонизма по ряду основных пунктов, Аристотель во многом обязан своим философским учением именно Платону. Что же касается собственно научной программы Аристотеля, то она радикально отличалась от платоновско-пифагорейской — гораздо в большей степени, чем философия Аристотеля от философии Платона в целом. В известном смысле можно даже говорить о противоположности этих двух программ, по
244 Kramer II. J. Das Verhaltnis von Platon und Aristoteles in neuer Sicht.— Zeitschrift fur Philos. Forschung, 1972, Bd. 26, H. 3, S. 349.
1 Аристотель находился в Академии с 17 до 37 лет; он пришел туда в 368/7 году до н. э. и был там до самой смерти Платона — до 348/7 г.
Становление первых научных программ
255
крайней мере в некоторых отношениях. Так, если Платон был убежден, что достоверное знание может быть получено только относительно неподвижного и неизменного бытия, то Аристотель утверждает, что относительно вещей изменчивых и движущихся, тоже может быть создана наука, и притом вполне достоверная: таковой он считал физику.
Аристотелевская научная программа отличается также и от той, которую предложили атомисты. Хотя Аристотель, отходя от платоновско-пифагорейского математизма, кое в чем сближается с физиками-досократиками, однако его понимание природы и способов ее изучения отличается и от воззрений на природу Анаксагора, Эмпидокла и других ранних натурфилософов.
Все это дает основание выделить аристотелевский подход к познанию мира как особую программу, которую мы будем называть континуалистской, хотя, конечно, это название весьма относительно и условно. Наряду с атомистической программой Демокрита и математической пифагорейцев и Платона программа Аристотеля в течение многих веков определяла направление научного поиска и характер научного мышления; при этом в эпоху эллинизма, а особенно в средние века, она явно превалировала над двумя другими научными программами, которые в большей или меньшей степени стояли в оппозиции к ари-стотелизму. И для этого были свои серьезные причины.
Аристотель был первым античным ученым, создавшим систематическую науку о природе — физику; он первый попытался научно определить центральное понятие физики — движение. Атомисты, правда, специально поставили в центр внимания вопрос о движении; допущение пустоты, в которой движутся атомы, как раз и диктовалось у них стремлением объяснить наличие движения в природе. Но атомистическое объяснение движения было скорее натурфилософским, поскольку атомисты непосредственно соотносили свой общефилософский принцип с эмпирическими явлениями, не создав опосредствующей системы понятий. Что же касается пифагорейцев и Платона, то их подход к изучению природы был ориентирован на познание математических отношений, а все, что составляло предмет познания античной математики, как мы уже видели, исключало движение и изменение.
256
Раздел второй
В этом — радикальное отличие ее от математики нового времени 2.
Именно то обстоятельство, что математика изучает «статические связи и отношения», привело Аристотеля к убеждению, что физика не может быть наукой, построенной на базе математики, ибо физика есть наука о природе, а природе присуще изменение, движение. И, действительно, именно Аристотелю принадлежит заслуга создания физики как науки о природе. «Аристотелевская физика, — , пишет Э. Кассирер,— является первым примером собственно науки о природе. Можно, конечно, считать, что этот славный титул подобает не ей, а что с большим правом его можно присудить основателям атомистики. Но, хотя атомистика в виде понятий атома и «пустого пространства» создала основополагающую концепцию и методический принцип будущего объяснения природы, тем не менее осуществить этот принцип она не смогла. Ибо в своей античной форме атомистика не смогла овладеть собственной и фундаментальной проблемой природы — проблемой становления. Атомистика решает проблему тела, сводя все чувственные «свойства» к чисто геометрическим определениям — к форме, положению и порядку атомов. Но у нее нет всеобщего мыслительного средства для изображения изменения, нет принципа, исходя из которого можно было бы сделать понятным и закономерно определить взаимодействие атомов. Только Аристотель, для которого природа — фюсис — отличается от простого продукта искусства тем, что она в самой себе обладает принципом движения, подошел к действительному анализу самого феномена движения» 3.
Аристотелевская физика, однако, может быть по-настоящему понята только при условии рассмотрения ее
2 «Область математических построений, имевшихся в распоряжении древней науки, была сравнительно узкой,— пишет В. Гейзенберг. Это были по преимуществу геометрические формы, относившиеся к явлениям природы. Поэтому греческое естествознание изучало статические связи и отношения» (Гейзенберг В. Идеи античной философии природы в современной физике.— В кн.: Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики, с. 51).
3 Cassirer Е. Philosophic der symbolischen Formen. Berlin, 1929, Bd. 3, S. 529.
Становление первых научных программ
257
в рамках всей системы аристотелевского способа мышления, его понимания знания и науки, его общеметодологических установок, определивших характер научной программы Аристотеля в целом. Поэтому обсуждение этой программы целесообразнее всего начать с общеметодологических принципов Аристотеля, которые формировались как под влиянием платоновской философии, так и в постоянной полемике с ней.
Влияние Платона на Аристотеля сказалось прежде всего в характерном для Аристотеля внимании к логической стороне любого рассматриваемого им вопроса. У Платона Аристотель прошел серьезную школу критической рефлексии, научился логически расчленять, анализировать, и надо сказать, что интерес Аристотеля к такого рода расчленению едва ли не больший, чем у его учителя. Искусством различения понятий, выявления всех значений, какие может иметь слово, прямых и переносных, Аристотель владеет виртуозно; это искусство он, несомненно, вынес из Академии и обязан им диалектике, которую в Академии всегда высоко ценили 4.
Однако Аристотель считает недостатком платоновской научной программы ее односторонний — логико-математический — характер. С его точки зрения, платоновско-пифагорейская школа не имеет столь же серьезной естественнонаучной подготовки, как логическая и математическая подготовка представителей этой школы. Поэтому Аристотель обращается к другой традиции в греческой науке, а именно к ранним «физикам» — Анаксагору, Эмпедоклу, Демокриту и др., стремясь преодолеть ту, на его взгляд, одностороннюю ориентацию, которую он видел в Академии.
Принимая во внимание интерес Аристотеля к натурфилософии и уважение, которое он выказывает по отно
4 Умение хорошо «работать» с понятиями Платон считал искусством, необходимым для постижения истины. В диалоге «Парменид» Платон вкладывает в уста Парменида следующие слова, с которыми тот обращается к молодому Сократу: «Твое рвение к рассуждениям, будь уверен, прекрасно и божественно, но, пока ты еще молод, постарайся поупражняться побольше в том, что большинство считает и называет пустословием; в противном случае истина будет от тебя ускользать» (Парменид, 135d).
9 П. П. Гайденко
258
Раздел второй
шению к тем, кто, по его мнению, имеет естественнонаучный опыт 5, некоторые исследователи склонны считать, что Аристотель, в сущности, возвращается от платонизма к натурфилософии 6. С такой точкой зрения, на наш взгляд, согласиться нельзя. Физика Аристотеля несет на себе печать логически рефлектирующей мысли, ее создатель — большой мастер в деле различения понятий, анализа их и сопоставления; ему хорошо известны все те трудности и противоречия, с которыми приходится сталкиваться при попытке определения фундаментальных понятий физики —движения, изменения, времени, места, континуума и др. В этом — его радикальное отличие от натурфилософов-досократиков.
Если бы Аристотель попытался всего лишь соединить в своем учении некоторые элементы естественнонаучного подхода досократиков с логико-математической программой Платона, то он пе был бы оригинальным философом и мы пе имели бы основания говорить о его особой научной программе. В действительности же Аристотель подверг критической переработке как наследие своего учителя, так и естественнонаучные представления ранних «физиков», создав совершенно новое учение — новую логику, новую физику и новое понятие науки в целом.
Поскольку научное мышление Аристотеля формировалось в полемике прежде всего с Платоном и его школой, мы рассмотрим вначале, какие именно методологические принципы Платона не удовлетворили его талантливого ученика.
Критика Аристотелем платоновского метода соединения противоположностей. Проблема опосредования и методологическое обоснование новой научной программы.
5 См. характеристику Аристотелем Демокрита на с. 92.
6 Действительно, есть один момент, в котором естественнонаучный подход Аристотеля сближается с натурфилософией досократиков. Этот момент чаще всего характеризуют как принцип «качественного» знания, имея в виду то обстоятельство, что Аристотель отказывается от платоновского стремления видеть в математике фундамент всякого достоверного знания, в том числе и физики, поскольку последняя хочет быть достоверной. В каком смысле можно говорить о «качественности» физики Аристотеля и о сближении его в этом пункте с натурфилософией, мы попытаемся показать ниже.
Становление первых научных программ
259
В предыдущей главе мы пытались показать, каким образом платоновская математическая программа органически связана с его диалектикол. С этой целью мы специально подробно рассмотрели диалог Платона «Парменид», в котором диалектический метод мышления выявлен наиболее отчетливо. Категории, которые анализируются Платоном в «Пармениде»,— это центральные понятия его философии: единое и многое.
Метод мышления Платона состоит в том, что понятие определяется через свою противоположность: единое — через многое, а многое — через единое. Такой способ определения через противоположное 7 предполагает, как мы пытались показать, что отнесенность противоположностей только и может конституировать бытие самих этих противоположностей, или, другими словами, что идеи существуют лишь в системе отношений 8, так что, проще говоря, отношение первичнее самих отнесенных элементов.
Вот против этого главного методологического принципа Платона и выступает прежде всего Аристотель. Противоположности, говорит Аристотель в «Метафизике», не могут выступать в качестве начала всех вещей. «Между тем у упомянутых выше философов (Аристотель имеет в виду пифагорейцев и Платона.— П. Г.) одна из двух противоположностей выступает в роли материи, причем одни <в качестве таковой) единому — как равному — противопоставляют неравное, считая, что именно в нем состоит природа множества, а другие этому единому противополагают множество (ибо у одних числа производятся из двойственности неравного — из большого и из малого,
? Определение через противоположное заимствовано Платоном у пифагорейцев, поэтому критика Аристотеля относится также и к ним. Вот что сообщает Секст Эмпирик об определении через противоположение у пифагорейцев: «...В противоположных вещах уничтожение одного есть возникновение другого, например при здоровье и болезни, при движении и покое... в противоположных вещах вообще не усматривается никакой середины... Ведь нет ничего среднего между здоровьем и болезнью, между жизнью и смертью, между движением и покоем» (Против ученых, X, 266 — 268).
8 Об этом как раз идет речь в рассмотренном нами выше диалоге Платона «Парменид».
2*
260
Раздел второй
а другой мыслитель создает их из множества 9, причем в обоих случаях (они возникают) действием сущности единого)» 10 11.
Аристотель не согласен с Платоном и его учениками в том, что все существующее рождается из взаимодействия противоположных начал — единого (как равного себе, самотождественного, неизменного, устойчивого и т. д.) и множества — «неопределенной двойки», «неравного», «иного», «нетождественного», «большого и малого» — все это определения того, что платоники называют «материей» чувственных вещей. Противоположности не могут воздействовать друг на друга, говорит Аристотель. Между ними должно находиться нечто третье, которое Аристотель обозначает термином orcoxetfxevov, дословно переводимым как подлежащее (лежащее внизу, в основе), или, по-латыни, субстрат н: «...возникновение вещей из противоположностей во всех случаях предполагает некоторый субстрат; значит, этот последний у противоположностей должен быть налицо всего скорее. Следовательно, все противоположные определения всегда восходят к некоторому субстрату, и ни одно (из них) не может существовать отдельно» 12.
Субстрад у Аристотеля есть, таким образом, посредник между противоположностями; обе они отнесены именно к субстрату и представляют собой уже не субъекты, но предикаты этого посредника; или, говоря словами Аристотеля, противоположности — это то, что сказывается о подлежащем, о субстрате.
А. Категория сущности
С этой точки зрения следует обратить внимание на аристотелевское понятие «сущности» — ooota 13, которое он
9 А. В. Кубицкий считает, что тут идет речь о Спевсиппе.
10 Метафизика, XIV, 1.
11 А. В. Кубицкий в «Метафизике» переводит urcoxetpievov как «субстрат», а В. П. Карпов в «Физике» — как «подлежащее».
12 Метафизика, XIV, 1.
13 Греческое слово у оиз(а — это существительное, образованное от причастия <nv, о5<за, 6v — «существующий» (от глагола eipii — «быть»). Аналогично ему образовано и русское слово «сущность» — от «сущее». Таким образом, в понятие oixsia — «сущ-
Становление первых научных программ
261
вводит с целью прояснения новой системы понятий, призванной служить опорным пунктом его мышления. Сущность — это первая из десяти категорий Аристотеля. В «Категориях» и в «Метафизике» эта категория рассматривается наиболее детально; при этом в «Категориях» Аристотель опускает некоторые из аспектов, присутствующих в «Метафизике», где он стремится показать соотношение попятил «сущность» с понятиями «материя», «форма», «суть бытия» (то ev etvat) и др. Связь этих понятий с категорией сущности Аристотель пытается раскрыть также в таких работах, как «Физика», «О душе», «Вторая аналитика», «Об истолковании». Выявление взаимной связи основных понятий аристотелевской философии требует специального анализа; здесь мы пе ставим эту задачу, а потому ограничимся только той стороной вопроса, которая должна быть принята во внимание при рассмотрении аристотелевского понимания науки.
В «Категориях» Аристотель следующим образом определяет категорию сущности: «Сущностью, о которой бывает (идет) речь главным образом, прежде всего и чаще всего является та, которая не сказывается ни о каком подлежащем и не находится ни в каком подлежащем, как, например, отдельный человек или отдельная лошадь. А вторичными сущностями называются те, в которых, как видах, заключаются сущности, называемые (так) в первую очередь, как эти виды, так и обнимающие их роды; так, например, определенный человек заключается, как в виде, в человеке, а родом для (этого) вида является живое существо. Поэтому здесь мы и говорим о вторичных сущностях, например это — человек и живое существо» 14.
Главным определением категории сущности, как видим, является то, что сущность «не сказывается ни о каком
ность» — изначально включается «существование» как его смысловой момент. Не случайно русское слово «существо» имеет двойной смысл: мы говорим и «существо дела» (сущность его), и «живое существо», имея в виду нечто существующее (само по себе). Лингвистический анализ греческого глагола «быть», от которого образовано и слово otai'a, дается Э. Бенвенистом в статье «Категории мысли и категории языка». См.: Бен&енист Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 107, 111—114.
14 Категории, 5, 2а/Пер. А. В. Кубицкого.
262
Раздел второй
подлежащем», т. е. не может быть предикатом чего-либо другого; опа сама как раз и является тем подлежащим, о котором сказывается все остальное. А это значит, что сущность есть «сама по себе», что она не есть нечто вторичное по сравнению с «отношением», как это мы видели у Платона. Сущность, как замечает далее Аристотель, также и не находится ни в каком подлежащем. Как же различает Аристотель «сказывание» о подлежащем и «нахождение» в нем? То, что сказывается о подлежащем, является характеристикой рода или вида этого подлежащего; то же, что находится в подлежащем, не является его родовым или видовым определением, а есть лишь его сопровождающий признак 15. Так, «животное» — это то, что «сказывается» о человеке (а тем самым и об отдельном человеке), а цвет — то, что «находится» в отдельном человеке, но не «сказывается» о нем.
Главное же, важное для нас в аристотелевском определении сущности — это то, что сама сущность ни о чем не сказывается (и ни в чем не находится); на этом определении основано и деление Аристотелем сущностей на «первичные» и «вторичные». Вторичные сущности — это те, которые сказываются о первичных, а первичные — те, которые уже ни о чем не сказываются. В этом смысле вид — болбе сущность, чем род, а отдельный индивид — более сущность, чем вид 16: «животное» (род) сказывает
15 Вот как поясняет это Аристотель: «...у того, что сказывается о подлежащем, должно сказываться о нем как имя, так и понятие; так, например, человек сказывается, как о подлежащем, об определенном человеке — ио нем, конечно, сказывается имя (человека)... Напротив, у того, что находится в подлежащем, в большинстве случаев ни имя, ни понятие не сказываются о подлежащем; в некоторых же случаях имя может (иногда) сказываться о подлежащем, но по отношению к понятию зто невозможно. Так, «белое», находясь в теле, как подлежащем, сказывается о подлежащем (ведь тело называется белым), но понятие белого никогда не может сказываться о теле» (Категории, 5, 2а).
16 «Первичные сущности,— пишет Аристотель,— называются сущностями по преимуществу, потому, что для всего остального они являются подлежащими и все остальное сказывается о них или находится в них. Но, подобно тому как первичные сущности находятся ко всему остальному, таким же образом и вид относится к роду; в самом'деле, вид является подлежащим для рода; ведь роды сказываются о видах, но виды, со своей стороны, не нахо-
Становление первых научных программ
263
ся о «человеке», но «человек» о «животном» — нет, говорит Аристотель. Что же касается самих первичных сущностей, то ни одна из них, по словам Аристотеля, не является в большей мере сущностью, чем любая другая: «Отдельный человек является сущностью нисколько не в большей степени, чем отдельный бык» 17. Именно в этом смысле к сущности, по Аристотелю, неприменимы определения «большее» и «меньшее», и все сущности, поскольку они первичные сущности, подлежащие, совершенно равноправны: ни одна сущность не имеет привилегированного положения по сравнению с другой. Отсюда, собственно говоря, происходит аристотелевский интерес ко всем явлениям природы в равной мере: к движению светил, так же как и к строению червя, к гражданскому устройству полиса, так же как к пищеварительной и дыхательной системе пресмыкающихся. Здесь следует искать обоснование того — совершенно нового по сравнению с платоновским — пафоса науки в ее аристотелевском понимании, науки, которая не знает предпочтений, для которой нет предметов, не достойных ее интереса.
В Академии отдавалось предпочтение изучению «существ ценных и божественных», говоря словами Аристотеля 18; с обоснованием этого предпочтения Платоном мы уже знакомы. Аристотель полемически замечает по этому поводу: «Выходит, однако, что об этих ценных и божественных существах нам присуща гораздо меньшая степень знания (ибо то, исходя из чего мы могли исследовать их, и то, что мы жаждем узнать о них, чрезвычайно мало известно нам из непосредственного ощущения), а относительно преходящих вещей — животных и растений — мы имеем большую возможность знать, потому, что мы вырастаем с ними...» 19. По поводу пренебрежения этими предметами как «низменными» Аристотель делает программное заявление, формулируя свое научное кредо так: «Остается сказать о природе животных, не упуская
дятся в таком же отношении к родам. Значит, еще и по этой причине вид является в большей степени сущностью, чем род» (Категории, 5, 2Ь).
17 Категории 6, 2Ь.
18 О частях животных, I, 5, 644 г/Пер. с греч. В. П. Карпова.
19 О частях животных, I, 5, 644Ь.
264
Раздел второй
по мере возможности ничего — ни менее, ни более ценного, ибо наблюдением даже над теми из них, которые неприятны для чувств, создавшая их природа доставляет все-таки невыразимые наслаждения людям, способным к познанию причин и философам по природе... Если же кто-нибудь считает изучение других животных низким, так же следует думать и о нем самом, ибо нельзя без большого отвращения смотреть на то, из чего составлен человек, как-то: на кровь, кости, жилы и подобные части...» 20.
Конечно, эта программа аристотелевской науки имеет в качестве своего теоретического обоснования не только его учение о сущности, как мы далее увидим. Но несомненно, что интерес к многообразию индивидуальных форм, существующих как в живой, так и в неживой природе (причем интерес к ним именно как своеобразным и не сводимым к другим формам или другой форме, которая принималась бы за универсальную), глубоко связан с учением о сущности и] равноправном статусе первичных сущностей.
Тот принцип, который характеризуют как эмпиризм Аристотеля, находит свое методологическое выражение в учении о сущности. Первичная сущность — это индивидуальный предмет: этот чедовек, это дерево. Вторичная сущность роды и виды; видом для этого человека будет «человек», для этого дерева — «береза»; родом же для человека — животное, для дерева — растение. «Род при этом дает более общее определение, чем вид: если назвать живое существо, этим достигается больший охват, чем если назвать человека» 21 22.
Все остальные категории — качества, количества, отношения, места, времени, положения, обладания, действия, страдания — сказываются о сущностях — первичных или вторичных. Благодаря этому «сказыванию» всякая сущность может принимать противоположные определения *2, противоположности всегда, таким образом, отнесены к «третьему» — сущности. Сущность — пер
20 О частях животных, I, 5, 645а.
21 Категории, 5,‘ЗЬ.
22 «...Так, например, отдельный человек,1 будучи единым и тождественным себе, иногда делается белым, иногда черным, а также теплым и холодным, дурным и хорошим». (Категории, 5, 4а).
Становление первых научных программ
265
вична, отношение — вторично; «быть самим собой» — первично, рпределяться через связь с другим — вторично. «Допускать противоположные определения в зависимости от собственной перемены — это составляет отличительное свойство сущности» 23. Для Аристотеля при этом важно, что сущность принимает противоположные определения сама, «через изменения ее самой» 24; ибо можно понять дело и иначе, приняв за отправную точку не сущность, а противоположность: тогда сущность будет только функцией, а самостоятельным бытием будет наделено отношение.
В этой связи интересно аристотелевское определение категории «отношения»: «Соотнесенным с чем-нибудь называется то, что в том, что оно есть само, обозначается зависящим от другого или каким-нибудь другим образом ставится в отношение к другому» 25. Именно потому, что сущность в том, что она есть сама, не зависит ни от чего другого, она есть нечто «само по себе сущее», не являющееся предикатом другого. Пример, который приводится Аристотелем, хорошо поясняет это: соотносительно определены понятия «большее — меньшее» (вообще «большое — малое»), «двойное — половинное» и т. д.; каждое из них сказывается о другом 26, каждое только через соотнесенность с другим получает свое содержание; можно было бы сказать, что «сущность» каждого — в другом, а потому «большее» и «меньшее» и не являются сущностями в аристотелевском смысле — ousla. Для соотнесенного существовать значит находиться в каком-нибудь отношении к чему-нибудь другому] настаивание Аристотеля на том, что сущность ни о чем не сказывается, означает, таким образом, что существование ее не выводится из чего-нибудь другого 27. Здесь нам кажется вполне правомерной ана
23 Категории, 5, 46.
24 Категории, 5, 46.
25 Категории 7, 6а (курсив мой.— П. Г.).
26 «Все, соотнесенное с другим, высказывается по отношению к вещам, находящимся во взаимной зависимости с ними: так, раб называется рабом господина, а господин господином раба; и двойное называется двойным по отношению к половинному, а половинное половинным по отношению к двойному...» (Категории, 7, 6Ь).
27 Аристотель, правда, признает, что если относительно первичных сущностей можно с уверенностью сказать, что ни одна из них не
266
Раздел второй
логия между учением Аристотеля о сущности и кантовским тезисом о том, что бытие не может быть предикатом. И у Аристотеля, и у Канта это положение означает, что эмпирическое начало имеет свой особый статус, что оно не может быть «выцарапано» из понятия и обладает известной непреложностью, которую необходимо принимать во внимание при разработке логики и методологии научного познания.
Б. Единое как «мера»
Единое и многое — эти центральные противоположности платоновской философии — выступают у Аристотеля как то, что «сказывается» о «третьем» — подлежащем. В то же время эти противоположности составляют исходные понятия не только платоновской диалектики, но и пифагорейско-платоновского «математизма». И не удивительно, что у Аристотеля радикально меняется способ философского обоснования математики, ее онтологический статус.
Характерно уже то, как Аристотель определяет поня тие «единого», которое, согласно Аристотелю, является мерой. С помощью единого предмет может быть измерен (соотнесен с мерой), или же один предмет соотнесен с другим (с помощью общей обоим меры). «Сущность единого,— пишет Аристотель,— в том, что оно известным образом представляет собою начало числа; дело в том, что началом является первая мера; ибо первая мера во всяком роде (бытия) есть то первое, с помощью которого мы этот род познаем; следовательно, единое является началом того, что может быть познано относительно каждого предмета. Но при этом единое — (это) не одно и то же для всех родов: в одном случае это наименьший интервал, в другом — гласный и согласный звук; особая единица — для тяжести и другая — для движения. И повсюду единое неделимо или по количеству, или по виду» 28.
принадлежит к соотнесенным вещам, то применительно к вторичным сущностям дело обстоит несколько сложнее: «...так, голова высказывается как голова кого-нибудь и рука — как рука кого-нибудь, и также во всех подобных случаях, так что такие сущности можно было бы, по-видимому, причислить к вещам соотнесенным» (Категории, 7, 8а).
28 Метафизика, V, 6.
Становление первых научных программ
267
Мера, единица меры — это главное значение единого у Аристотеля, хотя и не единственное 29. Понятно, ч'то единое в своей функции «меры» является не «подлежащим», а сказуемым, не сущностью, а «отношением». «Единое само по себе,— пишет Аристотель,— не является сущностью чего-либо. И это вполне обоснованно: ибо единое означает, что здесь мы имеем меру некоторого множества...» 30.
«Сущность» и «единое» различаются Аристотелем так же, как «подлежащее» и «сказуемое», как «существующее само по себе» и «существующее через другое» (т. е. — в отношении). Вот характерное рассуждение Аристотеля в этой связи: «В этом ряду (ряду бытия — П. Г.) первое место занимает сущность, а из сущностей — та, которая является простой и дана в реальной деятельности (<при этом надо учесть, что) единое и простое — это пе то же самое: единое обозначает меру, а простое — что у самой вещи есть определенная природа)» 31. Как поясняет В. Росс в комментарии к этому отрывку, единое в смысле «меры»
29 В 6-й главе V книги «Метафизики» Аристотель перечисляет ряд значений, в которых, кроме указанного основного, может употребляться понятие единого: «Единым называется одно в силу случайной связи, другое — само по себе» (Метафизика, V, 6). В силу случайной связи единое выступает тогда, когда определение составляет случайное свойство предмета (и в этом смысле — «одно» с предметом) или когда два взаимно не связанных определения являются свойствами одного предмета (и тем самым связываются «воедино»). Что же касается значений «единого» самого по себе, то здесь Аристотель указывает следующие:
1. едиными называются вещи непрерывные;
2. в другом смысле единство приписывается вещам благодаря тому, что материальная основа у этих вещей неразличима по виду;
3. Называется одним также и то, что принадлежит к общему роду;
4. «Как про одно говорится про все те вещи, у которых понятия, формулирующие суть их бытия, неотличимы друг от друга», т. е., проще говоря, у которых одна и та же сущность. Если подытожить все эти значения, то можно сказать, что единым называется что-то либо по непрерывности, либо по виду (или роду), либо по понятию. Но основное значение единого, его сущность, как подчеркивает Аристотель, состоит в том, чтобы быть «первой мерой» вещи.
30 Метафизика, ;XIV, 1.
31 Метафизика,лXII, 7.
268
Раздел второй
есть соотнесенное понятие (мера — измеряемое), оно по своему существу связано с отношением к другому; напротив, «простота» вещи характеризует вещь саму по себе, без ее отношения к другому 32.
Таков один из методологических аспектов аристотелевской критики метода «совмещения противоположностей»: единое и многое в силу их соотносительности предстают для Аристотеля лишь как определения некоей «сущности», чего-то «простого по природе». Отсюда уже нетрудно заключить, что статус математического знания у Аристотеля будет совершенно иным, чем у Платона, поскольку «математическое» имеет в качестве «начал» именно «единое» и «многое».
В. Закон противоречия и критика «доказательства по кругу» Недопустимость непосредственного соединения противоположностей для Аристотеля столь очевидна и несомненна, что он усматривает здесь первое условие мышления вообще, без соблюдения которого никакое научное познание (так же, впрочем, как и никакое практическое действие) невозможно.
Если противоположности соединяются без всякого «третьего», Тогда, по Аристотелю, мы имеем противоречие. «Между членами противоречия,— пишет Аристотель,— в середине нет ничего» 33. Таким же образом определяется противоречие и в «Метафизике»: «Противоречие — такое противоположение, которое само по себе не имеет ничего среднего» 34. Не считая возможным соединение противоположностей без всякого посредника, Аристотель формулирует в качестве важнейшего закона мышления принцип непротиворечия (или, как его обычно называют, закон противоречия): «Невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же и в одном и том же смысле... это, конечно, самое достоверное
32 Ross W. D. Aristotle’s Metaphysik. London, 1924, vol. II, S. 376.
33 Вторая аналитика, I, 2/Пер. с грсч. Б. А. Фохта.
34 Метафизика, X, 4. «...Ведь противоречие означает как раз это — такое противопоставление, в котором одна из двух частей (обязательно) присуща любой вещи, причем промежуточного здесь ничего нет...» (Метафизика, X, 7).
Становление первых научных программ
269
из всех начал...» 35. Невозможно, продолжает Аристотель, признавать, что одно и то же и существует и не существует, а если кто, подобно Гераклиту, и утверждает это, на самом деле он не принимает того, что утверждает на словах зб.
Возражения Аристотеля против тех, кто не признает необходимым опосредовать противоположности, сводятся к двум аргументам. Во-первых, «в споре с таким человеком невозможно выяснение никакого вопроса, ибо он не говорит ничего определенного» 37. Во-вторых, человек, не признающий закон непротиворечия на словах, всегда тем не менее считается с ним в своих действиях38. Этот
35 Метафизика, IV, 4.
36 См.: Метафизика, IV, 4.
37 Метафизика, IV, 4. «Действительно,—поясняет Аристотель,— он не говорит, ни — что это так, ни что это не так, но что это <и> так и не так; и в свою очередь он отрицает оба эти утверждения, (говоря), что это ни так, ни не так; ибо иначе имелось бы налицо что-то определенное» (Метафизика, IV, 4). Критикуя тех, кто не считается с законом противоречия, Аристотель явно имеет в виду и Платона. В самом деле, вот типичное рассуждение Платона, где относительно одного и того же утверждаются два противоположных определения и в то же время оба отрицаются, т. е. говорится, «что это и так и не так», и в то же время, «что это ни так, ни не так». «В силу всех этих соображений,— говорит Парменид в одноименном диалоге,— единое, с одной стороны, и есть и становится и старше и моложе себя самого и другого, а с другой — не есть и не становится ни старше, ни моложе себя самого и другого» (Парменид, 155с).
38 «...На самом деле подобных взглядов не держится никто — ни среди всех других людей, ни среди тех, которые выставляют это положение. Действительно, почему такой человек идет в Мегару, а не остается в покое, когда он думает <туда> идти? И почему он прямо утром не направляется в колодезь или в пропасть, если случится, но очевидным образом проявляет осторожность, так что, следовательно, не в одинаковой мере считает он падение туда неблагоприятным <для себя> и благоприятным? Поэтому ясно, что одно он признает лучшим <для себя>, а другое — нет. Но если так, то ему необходимо также признавать одно — человеком, другое — не-человеком, одно — сладким, другое — несладким. Действительно он ведь не все безразлично отыскивает и <не все одинаково) принимает <за предмет своих поисков), когда, сочтя за лучшее выпить воды или повидать человека, вслед за тем ищет (именно) их; а между тем это должно бы было быть так, если бы одно и то же в одинаковой мере было и человеком и не-человеком» (Метафизика, IV, 4).
270
Раздел второй
довод — апелляция к здравому смыслу — очень характерен для Аристотеля. В отличие от Платона, который, будучи учеником ироника-Сократа, любил сталкивать разные соображения здравого смысла друг с другом (чтобы подчеркнуть их несовместимость и тем самым указать, что истина скорее несовместима со здравым смыслом), Аристотель предпочитает строить науку в согласии со здравым смыслом, опираясь на него, а уж, во всяком случае, не в противоречии с ним. В этом коренится одно из главных отличий научной программы Аристотеля как от платоновско-пифагорейской, так и от атомистической.
Полемику с диалектическим методом Платона Аристотель продолжает и при рассмотрении вопроса о природе доказательства. Здесь он выступает против так называемого «доказательства по кругу», которое в сущности есть способ определения противоположных начал друг через друга как соотнесенных. Аристотель подвергает пересмотру тот метод, который мы выше анализировали как метод гипотез.
Согласно Платону, диалектический способ рассмотрения состоит в допущении противоположных утверждений и в выведении всех следствий из этих допущений. В результате приходится признать, как показывает Платон, что всякое понятие получает свое содержание только через отношение к своей противоположности; тем самым строится система отношений, в рамках которой только и имеют смысл все те понятия, которые должны быть определены. Отношение — первично, отнесенные элементы— вторичны, они целиком определяются отношениями. «Клеточкой» же этой системы, из которой она вырастает, является «первое», «исходное» отношение, а именно отношение крайних противоположностей (единое — иное). В диалектике поэтому не существует таких «начал», таких утверждений, которые были бы совершенно непосредственными: каждое из «начал» оказывается опосредованным своей противоположностью, определенным «через другое». Таким образом, в диалектике доказательство всегда ведется «по кругу» и, как пытается показать Платон, все получает свое доказательство, нет ни одного не доказанного (не опосредованного через систему) положения.
Становление первых научных программ
271
Аристотель в противоположность этому настаивает на том, что не все в науке может быть доказуемым: должны быть первые, исходные начала, которые не доказываются, а принимаются непосредственно. Именно диалектиков имеет в виду Аристотель, говоря о тех, кто считает, что для всего есть доказательство, «ибо доказательство можно вести (и) по кругу, и£одно (доказать) посредством другого и обратно. Мы же, напротив, утверждаем, что не всякая наука есть доказывающая(наука), но знание непосредственных (начал) недоказуемо... Доказательство же по кругу, безусловно, невозможно, если только доказательство следует вести из предшествующего и более известного. Ибо невозможно, чтобы одно и то же для одного и того же было одновременно и предшествующим и последующим, разве только в различном смысле... Те же, кто признает доказательство по кругу, не только (делают ту ошибку), о которой сейчас было сказано, по они также (не могут) сказать ничего другого, как только то, что если это и есть, то это есть. Но так можно доказать все» 39.
Вернер Байервальтес, анализируя аристотелевскую критику мышления по кругу, справедливо указывает на то, что Аристотель, не принимая этого важнейшего принципа диалектики, заменяет движение мысли по кругу движением ее по прямой, берущей начало в некотором пункте. Поэтому аристотелевское мышление Байервальтес называет «дискурсивно-прогрессирующим» 40, говоря о «линейном прогрессе конечного мышления» у Аристотеля и противопоставляя его круговому движению мысли у Платона и неоплатоников как движению «бесконечного мышления» 41.
Свою критику «доказательства по кругу» Аристотель дополняет тем, что не принимает платоновского тезиса о приоритете отношения над соотносимыми элементами. И это вполне последовательный шаг, поскольку данные методические принципы неразрывно связаны друг с дру-
30 Вторая аналитика, I, 3.
40 Beierwaltes W. Proklos. Grundziige seiner Metaphysik. Frankfurt a.M, 1966, S. 385.
41 Ibid., S. 384.
272
Раздел второй
гом. Для Платона отношение есть нечто самостоятельное; сами же противоположности — относительны. Для Аристотеля противоположности тоже относительны, но их отношение еще относительнее их самих. Самостоятельным же является то, о чем как о подлежащем высказываются противоположности, но что ни в коем случае не есть отношение, напротив, оно уже ни к чему другому не отнесено («ни о чем не высказывается») 41 42 — оно есть сущность. «...Большое и малое и все тому подобное,— пишет Аристотель,— это обязательно должны быть определения относительные; между тем то, что дано как относительное, меньше всего может быть некоторою от природы существующею вещью или сущностью... и оно стоит позже качества и количества; такое относительное определение представляет собою некоторое состояние у количества, но не материю... И что относительное — это меньше всего некоторая сущность и некоторая реальность, об этом свидетельствует тот факт, что для него одного нет ни возникновения, ни уничтожения, ни движения... Поэтому странно, больше того — невозможно делать не-сущность элементом сущности и (ставить первую) раньше (второй); ибо все роды высказываний (категории) позже (сущности)» 43. В нашу задачу не входит анализировать категорию сущности — одну из самых сложных у Аристотеля; но то, о чем он говорит, в данном случае нетрудно понять: нельзя ставить отношение раньше, чем то, что относится, нельзя делать отношение — субъектом, а соотносимые «сущности» предикатом, ибо сущность — это всегда то, что «лежит в основе», подлежащее, и она ни о чем не высказывается, а о ней высказывается все остальное 44.
Таким образом, проблема опосредования противоположностей «третьим» рассматривается у Аристотеля в следующих аспектах:
41 «...Все противоположные определения всегда восходят к некоторому субстрату, и ни одно <из них> не может существовать
^отдельно» (Метафизика, XIV, 1).
43 Метафизика, XIV, 1.
44 Понятие «сущность» и «подлежащее» у Аристотеля не вполне тождественны; в некоторых отношениях они совпадают, в других — различаются.
Становление первых научных программ
273
1) в виде запрета непосредственного соединения противоположностей — формулировка закона непротиворечия;
2) как требование везде искать «подлежащее», сказуемыми которого являются противоположности;
3) и как убеждение в том, что отношение является вторичным, а соотносимые сущности — первичными.
Г. Опосредование и непосредственное: проблема «начал» науки
Критика Аристотелем универсального опосредования приводит его к пересмотру того представления о «началах» науки, которое существовало в Академии Платона. Последний, как мы уже знаем, видел отличие философии от математики в том, что математики принимают за исходные некоторые далее уже не доказуемые положения и кладут их в основание своей науки; философия же пользуется иным методом: она отправляется от известных утверждений (гипотез), которые, однако, не остаются непосредственными, а опосредуются всем ходом дальнейшего рассуждения. Они оказываются моментами системы, которая хотя и возникает благодаря им, но, возникнув, становится чем-то самостоятельным, неким целым, в рамках которого и силой которого получают подтверждение и сами исходные начала — гипотезы.
Из гипотетических они, таким образом, становятся вполне истинными и, что самое главное, доказанными. Ибо хотя они были раньше системы «для нас», но система раньше их «сама по себе» — в этом, собственно, и состоит критикуемое Аристотелем «доказательство по кругу».
Для тех, кто принимает «доказательство по кругу», не может быть недоказуемых первых положений, у них все доказуемо, замечает Аристотель. Они считают науку возможной и признают, что достоверным знание может быть лишь посредством доказательства, но при этом не допускают никаких «первых положений», а доказывают все.
Имеется и другая точка зрения, согласно которой вообще невозможно научное познание, так как для этого нужно знать некоторые исходные положения; они-то как раз и не могут быть обретены нами, поскольку все, что мы знаем, уже основано на чем-то другом, а до первич
274
Раздел второй
ного невозможно добраться (регресс в бесконечность) 45 4б * 48. Эта точка зрения принимает необходимость для науки чего-то первого, что само уже не определялось бы через другое, но ее сторонники не считают возможным’дойти до этого первого, ибо для этого, по их мнению, надо было бы пройти бесконечное.
Аристотель не принимает ни первую, ни вторую точку зрения. Он согласен с «диалектиками» в том, что наука возможна, но не потому, что все доказуемо, а потому, что можно найти первые, далее уже ни из чего не выводимые, а стало быть, непосредственные положения, которые и будут началом пауки: «Мы же, напротив, утверждаем, что не всякая наука есть доказывающая (наука), но знание неопосредствованных (начал) недоказуемо. И очевидно, что это необходимо так, ибо если необходимо знать предшествующее и то, из чего доказательство исходит,— останавливаются же когда-нибудь на чем-нибудь неопосредствованном,— то это последнее необходимо недоказуемо. Следовательно, мы говорим так: есть не только наука, но также и некоторое начало науки, посредством которого нам становятся известными термины» 46.
Требование Аристотеля исходить из некоторых пе-опосредствованных (т. е. недоказуемых) начал внутренне связано' с его убеждением в том, что «в основе» бытия всегда лежит нечто такое, что уже не опосредовано другим. Поэтому и в основе познания должно лежать нечто, не опосредованное ничем другим, благодаря которому «нам становятся известными термины», представляющие те же «подлежащие», только взятые применительно к сфере знания.
45 Вот те две позиции, с которыми пе соглашается Аристотель:
«Некоторые считают, что нет <никакой> науки, так как <для этого> необходимо знать первичное; другие же — что есть <наука), но что все доказуемо. Ни одно из этих (мнений) ни истинно, ни необходимо. В самом деле, те, кто предполагает, что вообще нет никакого знания, считают, что (доказательство) вело бы в бесконечность, ибо нельзя последующее знать на основании предшествующего, для которого пет первичного, в чем они правы, ибо пройти бесконечное невозможно» (Вторая анали-
тика, I, 3).
48 Вторая аналитика, I, 3.
Становление первых научных программ
275
Д. Проблема опосредования и «подлежащее» в физике Мы рассмотрели логико-методологические аспекты проблемы опосредования противоположностей у Аристотеля. Но эта проблема имеет и свой «физический» аспект. Именно стремление создать науку о природе — физику — и было одним из мотивов, побудивших Аристотеля подвергнуть пересмотру диалектический метод Платона и поставить в центр внимания вопрос о поисках «третьего». Поэтому, переходя к физике Аристотеля, мы обращаемся к теме, где поиски «среднего», «третьего» представляют собой подготовку почвы для возведения на ней здания науки о природе.
Критикой метода «соединения противоположностей» начинается и аристотелевская «Физика». Здесь рассуждение Аристотеля особенно важно для нас, поскольку позволяет выявить отправные точки его метода изучения природы.
Начинать с фиксации противоположных определений предмета, по мнению Аристотеля, свойственно всем натурфилософам и пифагорейцам, элеатам и платоникам. Такое начало вполне законно и даже необходимо, как полагает Аристотель. «Все натурфилософы, конечно, принимают противоположности началами: и те, которые говорят, что «все» едино и неподвижно (ведь и Парменид делает началами теплое и холодное, называя их огнем и землей), и те, которые говорят о редком и плотном, и Демокрит со своим твердым и пустым, из которых одно он называет сущим, другое — не-сущим... Ясно таким образом, что все принимают начала в известном смысле противоположными. И это вполне разумно, так как начала не должны выводиться ни друг из друга, ни из чего-нибудь другого, а, наоборот,— из них все, а это как раз присуще первым противоположностям; они не выводятся из других, так как они первые, и друг из друга в силу своей противоположности» 47.
Но хотя начинать действительно правильно с противоположностей, однако нельзя двинуться дальше, если исходить из них в качестве неопосредованных: «ведь тогда
4? Физика, I, 5,
276
Раздел второй
возникнет недоумение, каким образом плотное может по своей природе сделать что-либо редким или редкое — плотным. То же относится и ко всякой другой противоположности, так как не дружба соединяет вражду и делает из нее что-нибудь, и не вражда дружбу, но по отношению обеих есть нечто иное, третье» 48. Это третье должно быть подлежащим (ueoxeijjisvov), сказуемыми которого являются (но не в одно и то же время и не в одном и том же отношении) противоположности 49.
Как же представляет себе Аристотель это «третье» в «Физике»? Он мыслит его как «особое природное начало», которое должно быть положено «в основу противоположностей» 50. Особое природное начало опосредует противоположности: «теплое — холодное», «образованное — невежественное», «единое — многое» и т. д., так как, по словам Аристотеля, «противоположности не могут воздействовать друг на друга» 51. Третье начало — подлежащее — само уже не будет противоположностью чего-либо, подчеркивает Аристотель.
Чтобы наглядно показать, как следует понимать это «лежащее в основе», Аристотель говорит: «Лежащая в основе природа познаваема по аналогии: как относится медь к статуе, дерево к ложу или материал и неоформленное вещество, до принятия формы, ко всему обладающему
48 Физика, I, 6.
49 Само же это подлежащее уже «не должно быть сказуемым какого-либо подлежащего; иначе будет начало начал, ибо подлежащее есть начало и, по-видимому, первее сказуемого» (Физика, I, 6).
50 Физика, I, 6. Аристотель в этом пункте одобряет натурфилософов, которые, рассматривая противоположные определения, кладут в основу их «нечто третье, как делают это утверждающие единую природу вселенной, хотя бы воду, огонь или что-нибудь промежуточное между ними. По-видимому, промежуточное подходит сюда скорее, так как и огонь, и земля, и воздух, и вода уже сплетены с противоположностями. Поэтому не без оснований поступают те, которые берут другой, отличный от них, субстрат (возможно, Аристотель имеет в виду апейрон Анаксимандра.— II. Г.), а из прочих натурфилософов те, которые берут воздух (Анаксимен — П. Г.), так как воздух меньше всех других тел обнаруживает воспринимаемые чувствами различия...» (Физика, I, 6).
61 Физика, I, 7 (курсив мой.— П. Г.).
Становление первых научных программ
277
формой, так и природный субстрат этот относится к сущности, определенному и существующему предмету» 52.
Опосредуя противоположности с помощью третьего — «подлежащего», или «лежащего в основе»,— Аристотель порывает с тем методом мышления, у истоков которого стоит элейская школа, а завершителем которого в античности по праву считают Платона (этот метод сам Аристотель называет диалектикой). Именно отсутствие «среднего звена» между противоположностями, согласно Аристотелю, лежит в основе тех апорий, которые характерны для философии элеатов: «...первые философы в поисках истины и природы существующего уклонились в сторону, как бы сбитые с пути незнанием; они говорили, что ничто из существующего не возникает и не уничтожается, так как возникающему необходимо возникать или из сущего или из не-сущего, но ни то, ни другое невозможно, так как сущее не возникает (оно уже существует), а из не-сущего ничего не возникнет... и таким образом... они стали утверждать, что многое не существует, а есть только само сущее» 53. Здесь Аристотель излагает учение Парменида, лежащее в основе также и апорий Зенона, которого Аристотель называл «первым диалектиком».
Действительно, Парменид исходил из «последних» противоположностей 54, далее уже ни к чему не сводимых: сущее — не-сущее (бытие — небытие); из невозможности их опосредовать он сделал последовательный вывод: бытие есть, небытия нет. «Амы утверждаем,— возражает Аристотель,—что когда возникает что-нибудь из сущего или из
52 Физика, I, 7.
63 Физика, I, 8.
64 Аристотель показывает, почему именно эти противоположности являются исходными началами у элеатов и Платона: «<Если взять противоположные друг другу определения, то> к одному из двух рядов таких определений относятся те, которые выражают собою отсутствие (положительных сторон), и все <эти противоположности) возводятся к сущему и не-сущему, к единому п множеству, например покой подходит под единое, а движение — под множество...» (Метафизика, IV, 2). Противоположности — это различия, взятые в их максимальном выражении. «Я называю противоположностью наибольшее различие»,— пишет Аристотель (Метафизика, III, 4); или там же: «Противоположность есть законченное различие»).
278
Раздел второй
не-сущего, или когда не-сущее или сущее производит или испытывает что-нибудь, или вообще когда оно становится чем-нибудь определенным, то в известном отношении это ничем не отличается от того случая, когда врач делает или испытывает что-нибудь, или вообще из врача что-либо делается или возникает...» 55
Там, где для элеатов возникали неразрешимые трудности: как из небытия может возникать бытие, из не-сущего — сущее — трудности, которые пытался разрешить Платон, открывший, что бытия нет, если нет небытия, что единого нет, если нет иного,— там для Аристотеля дело обстоит весьма просто, если не сказать — прозаически. Он указывает, что эта драматическая коллизия бытия — небытия ничем не отличается от случая, когда речь идет о бытии или небытии тех или иных предикатов любого из известных нам «сущих», например врача. Как же поясняет Аристотель свою мысль? «...Врач,— говорит он,— строит дом не как врач, а как строитель и седым становится, не поскольку он врач, а поскольку он брюнет: врачует же и становится невежественным в медицине, поскольку он врач. А так как мы правильнее всего говорим: «врач делает или испытывает что-нибудь или становится чем-нибудь,из врача», если он испытывает или делает это или становится чем-нибудь, поскольку он является врачом, то ясно, что и «возникать из не-сущего» обозначает: «поскольку оно является не-сущим». Вот этого-то не умея различать, прежние философы и сбились с пути и благодаря этому незнанию наделали столько новых ошибок, что стали думать, будто ничто прочее не возникает и не существует, и устранили всякое возникновение» 56.
Разберемся в аргументах Аристотеля. Его рассуждение исходит не из сущего как такового, как некоторого подлежащего (субъекта или субстанции) и не -сущего как противоположного ему подлежащего же, а из сущего и не-сущего как предикатов некоторого подлежащего (в данном случае — врача). В результате предикаты, которые характеризуют врача, поскольку он именно врач (умеет ли он хорошо лечйть или не умеет), а также изменение, про-
66 Физика, I, 8.
56 Физика, I, 8.
Становление первых научных программ
279
исходящее в нем, поскольку он врач, т. е. появление на место одного предиката другого, противоположного ему, будут выступать как сущее или как возникновение сущего из сущего. В отличие от них изменение предикатов, принадлежащих врачу «по совпадению», т. е. не поскольку он именно врач, но поскольку он также и строитель или поскольку он вообще человек и т. д., следует рассматривать как возникновение сущего из не-сущего 57. Другими словами, седина возникает у врача как не-врача, и дом строит врач как пе-врач — в этом именно смысле и возникает сущее из «не-сущего». У Аристотеля, таким образом, возникновение из «не-сущего» трактуется как случайное возникновение, причем само понимание случайного здесь весьма характерно. Пример с врачом показывает, что именно понимает Аристотель под случайным: признак «седины» для подлежащего «врач» совершенно не связан с его сущностью как врача и в этом смысле случаен. В «Метафизике» Аристотель тоже указывает, что возникновение из несуществующего «может совершаться только привходящим образом», т. е. случайно 58. Поскольку у критикуемых Аристотелем «диалектиков» речь идет о возникновении сущего из не-сущего, то всякое возникновение для них в конечном счете случайно, поэтому они и не считают возможной науку о природе, где происходит возникновение и уничтожение. Что же касается аристотелевского понимания возникновения, происходящего не случайно, то оно возникает из сущего. Аристотель специально ради объяснения возникновения подразделяет все существующее на возможное и действительное — категории, играющие важную роль в его философии. Не случайно возникает то, что переходит из возможного в действительное. В примерах с врачом не случайно возникает ухудшение или улучшение врачебного искусства, ибо всякий врач в возможности является искусным или неискусным врачом.
Вместо абсолютного различения сущего и не-сущего Аристотель говорит о переходе от существующего одним 87 «Возникновение из не-сущего бывает, например, «по совпадению», так как из «лишенности» — что само по себе не есть несущее — возникает нечто, чего в ней не было» (Физика, I, 8).
88 Метафизика, XII, 2.
280
Раздел второй
способом к существующему другим способом; основанием для различения этих способов является у него «природный субстрат», предикатами которого будут «сущее» и «не-су-щее». Подытоживая свое рассуждение, Аристотель говорит об элеатах (и всех тех, кто не сумел найти «третье»): «Если бы указанный природный субстрат был ими замечен, он устранил бы все их незнание»59. Главное же, что невозможно объяснить при отсутствии «третьего», опосредующего противоположности,— это, по убеждению Аристотеля, изменение; поэтому элеаты и доказывали невозможность (немыслимость) изменения.
Платон в отличие от элеатов признавал изменение, но считал, что изменчивое не может быть предметом достоверного знания, а потому и не разрабатывал физику как науку о природе 60. Согласно Аристотелю, этот взгляд Платона обусловлен его методологическим принципом; он тоже не сумел (или не счел нужным) найти средний термин, к которому были бы отнесены противоположности. В самом деле, Платон противопоставляет друг другу два начала: сущее и не-сущее; второе начало он называет также «материей», «неопределенной двоицей», «большим и малым»,— одним словом, «иное» есть принцип бесконечной изменчивости.
Материя'у платоников выступает, таким образом, как начало небытия (хотя и не только), т. е. как лишенность, по словам Аристотеля. «Мы, со своей стороны, говорим, что материя и лишенность — разные вещи, из коих одна, именно материя, является не существующей по совпадению, лишенность же — не существующей сама по себе, что материя близка к сущности и в известном отношении есть сущность, лишенность же — ни в коем случае. А они считают «большое» и «малое» одинаково не-сущим или то и другое вместе, или порознь каждое, так что этот способ образования триады совершенно иной, чем наш» 61.
В полемике с платониками Аристотель «расщепляет» платоновское понятие «иного» на два понятия: лишен
59 Физика, I, 8.
60 Излагая в «Тимее» свою физическую теорию, Платон, как мы отмечали, объявляет ее всего лишь «правдоподобным мифом».
61 Физика, I, 9.
Становление первых научных программ
281
ность (бтереб^) и материя (оХ?)) 62. Лишенность — это противоположное сущего, а материя — среднее между этими двумя противоположностями — сущего и не-сущего: «Так как существует нечто божественное, благое и достойное стремления, то одно мы называем противоположным ему, а другое — способным стремиться и домогаться его, согласно своей природе. У них же (платоников. — П. Г.) выходит так, что противоположное начало стремится к своему уничтожению. И, однако, ни форма не может домогаться самой себя, ибо она не нуждается, ни противоположности, ибо противоположности уничтожают друг друга. Но домогающейся является материя...» 63.
Материя. Различение Аристотелем двух категорий бытия — действительного и возможного. Стремясь найти «лежащее в основе» третье, которое было бы посредником между противоположностями, Аристотель вводит свое понятие материи, уточняя платоновское понятие материи как «иного», «небытия», «неопределенной двоицы». Уже у Платона в «Тимее», как мы отмечали, материя выступает не только в качестве «небытия», но и как «восприемница и кормилица всего сущего». Однако это второе значение материи у Платона, во-первых, недостаточно выявлено и отделено от первого, а, во-вторых, при уточнении этого понятия Платон сближает материю с пространством 64. Аристотель же четко и последовательно проводит различие между «лишенностью» и материей как возможностью
62 В «Тимее» Платона мы уже видели подход к подобному р азличе нию, но оно было осуществлено иначе.
63 Физика, I, 9.
64 Собственно говоря, сближение материи с пространством имеет место уже и в более ранних диалогах Платона; ведь когда ои называет «иное» «большим и малым», он тем самым признает в качестве главной характеристики материи именно ее пространственность, протяженность. На это указывает и Аристотель: «Но даже и самые начала, которые эти философы (имеются в виду Платон и его ученики — П. Г.) называют элементами, не устанавливаются у них удачным образом, — одни говорят здесь в соединении с единым о большом и малом, что эти три начала составляют элементы чисел, два последние — <их> материю, а единое — форму, другие <вместо того> указывают на многое и немногое, потому что большое и малое ближе по своей природе к пространственной величине...» (Метафизика, XIV, 1).
282
Раздел второй
(66va[xi(;) 65. Что же касается понимания этой последней, то здесь Аристотель полемизирует с Платоном, считая недопустимым отождествление материи с пространством.
Рассмотрим оба эти момента последовательно. Введение Аристотелем понятия материи как возможности вызвано его неприятием метода Платона, исходившего из противоположностей «сущее — не-сущее». В результате такого подхода, пишет Аристотель, Платон отрезал себе путь к постижению изменения, составляющего главную черту природных явлений. «...Если взять тех, кто приписывает вещам бытие и небытие вместе, из их слов скорее получается, что все вещи находятся в покое, а не в движении: в самом деле, изменению уже не во что произойти, ибо все свойства имеются (уже) у всех вещей» 66.
Этот упрек Аристотеля в адрес Платона, впервые создавшего тот метод, который объясняет все отдельное, исходя из его места в системе, т. е. метод системно-структурный, есть, по существу, тот же упрек, который часто можно слышать и сегодня по отношению к системно-структурному методу. Платон, говоря современным языком, не может объяснить развитие и изменение, ибо его система синхронична и диахрония в ее рамках невозможна, она разрушает эту систему.
Итак, противоположности бытие — небытие, говорит Аристотель, нужно опосредовать чем-то третьим; таким посредником между ними выступает у Аристотеля понятие «бытия в возможности». Понятие возможности Аристотель вводит, таким образом, для того, чтобы можно было объяснить изменение, возникновение и гибель всего природного и тем самым избежать такой ситуации, которая сложилась в системе платоновского мышления: возникновение из не-сущего — это случайное возникновение. И, действительно, все в мире преходящих вещей для Платона непознаваемо, ибо носит случайный характер. Такой упрек по отношению к великому диалектику античности может
в5 «Таким образом, <мы имеем> три причины и три начала, при этом два из них дает противоположность, у которой один член — логическая формулировка и форма, другой — отсутствие (или «лишенность») и, кроме того,— в качестве третьего <элемента> — материя» (Метафизика, XII, 2).
66 Метафизика, IV, 5 (курсив мой.— П. Г.).
Становление первых научных программ
283
показаться странным: ведь, как известно, именно диалектика рассматривает предметы с точки зрения изменения и развития, чего никак нельзя сказать о формально-логическом методе, создателем которого справедливо считают Аристотеля.
И тем не менее упрек Аристотеля вполне оправдан, если разобраться в существе дела. Действительно диалектика Платона рассматривает предмет в его изменении, но только это особый предмет — логический; парадоксальным образом оказывается, что при этом в поле зрения Платона не попадает то изменение, которое происходит с чувственными вещами. Еще более парадоксально то, что для создания условий, при которых в поле зрения пауки могли бы оказаться изменения, происходящие в чувственном мире, нужно было разработать логику, которая отличается от платоновской, а именно такую, в которой сами логические формы перестали бы быть субъектом изменения. Субъект изменения у Аристотеля из сферы логической переместился в то «подлежащее», по отношению к которому логические определения выступили как «сказуемые», как «предикаты». Если у Платона «отношение» было первичным, а «относимые» — вторичными, то у Аристотеля дело обстоит наоборот. Сущее, таким образом, имеет у Аристотеля двоякий характер: сущее в действительности и сущее в возможности. И поскольку оно имеет «двоякий характер, то все изменяется из существующего в возможности в существующее в действительности, например из белого в возможности в белое в действительности. И одинаково обстоит дело также по отношению к росту и убыли. А потому возникновение может совершаться не только — привходящим образом — из несуществующего, но также (можно сказать, что) все возникает из существующего, именно из того, что существует в возможности, по не существует в действительности» 67.
Понятие имеет несколько различных значений,
которые Аристотель выявляет в V книге «Метафизики». Два главных значения впоследствии получили и терминологическое различение в латинском языке — potentia и possibi-
67 Метафизика, XII, 2.
284
Раздел второй
litas, которые А. В. Кубицкий переводит как «способность» и «возможность» 68.
«Названием способности прежде всего обозначается начало движения или изменения, которое находится в другом или поскольку оно — другое, как, например, строительное искусство есть способность, которая не находится в том, что строится; а врачебное искусство, будучи некоторою способностью, может находиться в том, кто лечится, но не поскольку он лечится» 69.
Аристотель указывает далее возможные значения «способности» и «способного», общим моментом которых является именно отношение их к изменению, движению, переходу из одного состояния в другое 70. Так, «строительное искусство» — способность действия построения, согревающее — способность согреваемого, лечащее — способность оздоровляемого и т. д. 71 Именно потому, что потенция в смысле способности всегда связана с движением, изменением и является условием последнего, она и вводится Аристотелем как понятие, без которого невозможна наука о природе.
68 Аналогично переводятся эти термины и на немецкий язык: «способность» — Vermogen, «возможность» — Moglichkeit.
69 Метафизика, V, 12 (курсив мой.— П. Г.).
70 Аристотель различает 1) способность к действию, 2) к страданию, претерпеванию, 3) к переходу в иное (плохое или хорошее), 4) способность к пребыванию в неизменном состоянии, т. е. к устойчивости (подробный анализ всех этих значений «способности» и «способного» у Аристотеля см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975, с. 95-97).
71 В другом месте Аристотель разъясняет, что способность претерпевать воздействие («начало изменения, которое находится в другом») связана со способностью оказывать воздействие: «В известном смысле способность действовать и претерпевать воздействие (способным что-нибудь является и потому, что оно само имеет возможность воздействия, и потому, что другое способно к этому под действием его)...» (Метафизика, IX, 1). Примерами способности производить действие являются у Аристотеля «тепло и домостроительное искусство», способности же претерпевать действие иллюстрируются примерами: «жирное горит, то, что определенным образом поддается давлению, ломко» (Метафизика, IX, 1). В одной и той же вещи могут совмещаться и активная и пассивная способность: так, гореть есть пассивная способность жирного, а нагревать другое — его активная способность.
Становление первых научных программ
285
Второе значение понятия возможность (ббуоцлес) не имеет отношения к движению, ибо характеризует именно те объекты, которые не являются физическими в аристотелевском смысле этого слова. «Невозможным,— говорит Аристотель,—является то, противоположное чему необходимым образом истинно (как, например, невозможно, чтобы диагональ была соизмеримой, потому что такое утверждение есть ложь и противоположное ему не только истинно, но и необходимо (это), чтобы диагональ была несоизмеримой...). А противоположное невозможному, возможное, (имеется) в том случае, когда не необходимо, чтобы противоположное было ложью, как, например, что человек сидит — возможно: ибо не сидеть не является необходимым образом ложью» 72.
Оба значения понятия S6voqxiq между собой связаны органичнее, чем это может показаться на первый взгляд. В чем состоит эта связь, мы увидим при анализе понятия «действительность», коррелятивного с понятием «возможность».
«...Все то, в чем находит себе выражение понятие способности, восходит к первому значению этого понятия; таким началом для способности является начало изменения, находящееся в другом или поскольку это другое...» 73 Это значение Аристотель, как видим, объявляет основным 74.
Этот момент мы специально подчеркнули для того, чтобы не возникало недоразумения или двусмысленности при употреблении термина «потенция». Греческое Suvapitc часто переводится на русский язык как «возможность» и при этом именно в значении «способность»75. Так, В. П. Карпов переводит ббшрщ именно в его первом и основном значе
72 Метафизика, V, 12.
73 Метафизика, V, 12.
74 См. также: Метафизика, IX, 1.
75 Это значение понятия способности характеризуется А. Ф. Лосевым следующим образом: «Первое понятие, мощность, или способность, есть фактическая и эмпирическая способность вещи стать иною. Аристотель не раз называет ее «потенцией соответственно движению». Это — мощность факта стать тем или другим в зависимости от стечения тех или иных пространственно-временных и причинных условий» (Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика, с. 97).
286
Раздел второй
нии «способность» с помощью терминов «потенция» или «возможность», которые им употребляются как однозначные.
Понятие потенции (способности) имеет у Аристотеля в качестве своего коррелята понятие деятельности. Деятельность, как поясняет Аристотель, в известном смысле можно уподобить цели, т. е. тому, «ради чего» существует способность, «ибо как цель выступает дело, а делом является деятельность, почему и имя «деятельность» (evsp-TBioc) производится от имени «дело» (epyov) и по значению приближается к «осуществленности» (крб^ svceXe’/stav)» 76. Эти термины — энергейя, эргон и энтелехия (от слова телос — «цель», «конец»), как видим, самим Аристотелем характеризуются как родственные по смыслу. Иногда Аристотель соотносит потенцию с энтелехией 77, иногда же — с энергией 78.
При этом Аристотель различает два варианта реализации способности. В одном случае это будет сама деятельность осуществления (например, видение — процесс реализации способности к зрению), в другом —определенный продукт: например, дом есть осуществление способности к строительству. «Отсюда в тех случаях, где в результате получается еще что-нибудь, кроме применения (способности), в них действительность принадлежит тому, что
76 Метафизика, IX, 8.
77 Энтелехия выступает как осуществление, завершение того, что существовало потенциально. «Энтелехия способности к росту и убыли... есть рост и убыль, способного возникать и уничтожаться — возникновение и уничтожение, способного перемещаться — перемещение» (Физика, III, 1).
78 Вот как характеризует понятия энтелехии и энергии В. П. Карпов: «Противопоставление бытия в возможности или в потенции (6uvap,ec ov) бытию актуальному, находящемуся в состоянии реализации, завершения или энтелехии (evTeAex8^ ov) играет большую роль в философии Аристотеля и применяется им нередко для разрешения спорных вопросов. Наряду с термином энтелехия и даже чаще Аристотель пользуется термином энергия (svep^eia), но с несколько иным оттенком. Энергия обозначает собой переход потенции в ее реализацию, деятельность, акт; энтелехия — завершение этой деятельности» (Аристотель. Физика, кн. I, с. 177, прим. 7). Детальный анализ понятий потенции, энергии и энтелехии см.: Stallmach J. Dynamis und Energeia. Meisenheim a. Gian, 1959.
Становление первых научных программ
287
создается (например, деятельность строительства дана как реальность в том, что строится, ткацкая работа — в том, что ткется, а подобным же образом — ив остальных случаях, и вообще (всякого рода> движение — в том, что движется); а в тех случаях, когда не получается какого-либо результата, помимо (самой) реальной деятельности, эта деятельность находится как реальность в самих действующих существах...» 79.
Как видим, термин evepyeia употребляется Аристотелем как для характеристики деятельности по осуществлению способности, так и для обозначения результата, продукта деятельности. В первом случае «энергейя» — это деятельность; во втором — это скорее действительность; в русском языке нет слова, эквивалентного греческому «энергейя», в котором совмещались бы оба эти значения.
Необходимо также отметить, что деятельность — действительность, по Аристотелю, первее способности—возможности, хотя на первый взгляд может показаться, что дело обстоит наоборот, ибо прежде чем способность сможет реализоваться, она уже должна быть налицо. И в самом деле, с точки зрения времени, говорит Аристотель, она в известном смысле прежде действительности 80; но действительности принадлежит первенство в более важном — в отношении сущности: «Вещи, которые позже в порядке возникновения, раньше с точки зрения формы
79 Метафизика, IX, 8.
80 Хотя только в известном смысле, а в другом — нет; так, семя есть возможность растения, и оно прежде того растения, которое из него произрастет, но в более широком смысле растение, как действительность/прежде семени как’возможности. «По сравнению с этим вот человеком, который уже существует в действительности, и также — с хлебом и с тем, что видит, по времени прежде — материя, семя и то, что способно видеть, т. е. то, что в возможности является человеком, хлебом и видящим существом, а в действительности — еще нет; но им предшествуют по времени’"другие вещи, существующие в действительности,’’из которых получились эти... всегда из вещи, существующей в возможности, возникает вещь, существующая в действительности, действием (другой) вещи, (тоже) существующей в действительности, например, человек — действием человека, образованный — действием образованного, причем всегда (есть) что-нибудь первое, (что >вызывает движение, но то, что его вызывает, уже существует в действительности» (Метафизика, IX, 8).
288
Раздел второй
и сущности (например, взрослый мужчина (в этом смысле) впереди ребенка и человек — впереди семени...); а кроме того (потому, что) всё, что возникает, направлено в сторону своего начала и цели (ибо началом является то, ради чего происходит что-нибудь, а возникновение происходит ради цели); между тем цель — это действительность, и ради (именно) этой цели принимается способность. Ибо не для того, чтобы обладать зрением, видят живые существа, но они обладают зрением для того, чтобы видеть...» 81.
Тезис о приоритете деятельности (действительности) над способностью (возможностью) с точки зрения сущности очень важен для научной программы Аристотеля. Этот тезис полностью согласуется с аристотелевским учением об онтологическом первенстве формы по сравнению с материей. Нетрудно видеть, что положение о приоритете действительности над возможностью представляет собой философское выражение глубокого убеждения Аристотеля в том, что высшее не может возникать из низшего, что из хаоса самого по себе никогда не родится космос, из лишенного смысла — смысл, из материи — форма. Это убеждение Аристотель разделяет с Платоном, а эллинистическая и средневековая наука и философия — с Аристотелем.
Не случайно одним из важнейших аргументов в пользу приоритета действительности над возможностью является у Аристотеля аргумент «от вечных вещей»: «...ей (действительности.— П. Г.) принадлежит первенство и более основным образом, ибо вечные вещи — прежде преходящих, между тем ничто вечное не дается как возможное» 82. Характерно доказательство этого положения у Аристотеля: «Всякая способность есть в одно и то же время способность к отрицающим друг друга состояниям... То, что способно к бытию, может и'быть и не быть, а’следова-тельно, одно и то же способно и быть и не быть. Но то, что способно не быть, может не быть, а то, что может не быть, преходяще... Таким образом, все те вещи, которые являются непреходящими, как такие, никогда по бывают
81 Метафизика, IX, 8.
82 Метафизика, IX, 8.
Становление первых научных программ
289
даны, как такие, в возможности...» 83. Эту же мысль Аристотель поясняет и в другом месте: «В возможности одно и то же может быть вместе противоположными вещами, но в реальном осуществлении — пет». Как видим, возможность по самому своему понятию содержит противоречие: «способное быть» в то же время есть «способное не быть», а вещи вечные не могут быть к противоречию причастны — таков принцип Аристотеля. Мы помним, как решает Аристотель проблему противоречия: противоречащие друг другу утверждения не могут быть истинными иначе как при условии, что они характеризуют предмет либо в разное время, либо в различных отношениях. Поэтому и «способность быть <чем-то)» или «не быть <этим>» может принадлежать только вещам преходящим, ибо только они существуют во времени и могут меняться во времени 84.
Подведем итог рассмотрению понятий возможности и действительности. Какие задачи решает Аристотель, вводя в свое учение эти понятия? Видимо, не будет ошибкой сказать, что он разрабатывает таким путем несколько взаимно связанных проблем.
Во-первых, вопрос общеметодологический, связанный с проблемой противоречия: два противоположных определения не могут быть присущи предмету актуально; человек не может быть одновременно больным и здоровым. Противоположные определения могут быть присущи предмету только в возможности. Тождество противоположностей, этот основной принцип диалектики Платона, относится, по Аристотелю, только к сфере возможности.
Во-вторых, вопрос метафизический: сфера возможности именно в силу того, что ей присуще тождество проти
83 Метафизика, IV, 5.
84 То, что не имеет материи, не имеет и изменения; материя, или возможность,— это необходимое условие всякого изменения. «Материя есть не у всего, но у тех вещей, для’которых существует возникновение и изменение друг в друга»”(Метафизика, VIII, г 5). Что же касается вечных вещей, у которых ничто не дается, как возможность, а все только как действительность, то они не содержат материи. «А то, что не имеет материи, это все есть нечто единое по самому существу» (Метафизика, VIII, 6). Как видим, в этом пункте Аристотель очень близок к Платону.
10 П. П. Гайденко
290
Раздел второй
воположностей, по своему статусу ниже действительности; вечное бытие — это чистая действительность, оно не имеет возможности.
Наконец, в-третьих, категории возможности и действительности вводятся для решения основного вопроса физики: что такое движение? Очевидно, что решение этого вопроса внутренне связано как с общеметодологическими, так и с метафизическими основами учения Аристотеля. Трудность анализа аристотелевской программы состоит именно в том, что при рассмотрении физического аспекта любой проблемы нельзя терять из виду два других ее аспекта.
Аристотелевская теория движения,. Как уже отмечалось, Аристотель был первым античным философом, создавшим понятийный аппарат для определения того, что такое движение, а тем самым — первую форму физической пауки. «Так как природа,— читаем в „Физике" — есть начало движения и изменения, а предметом нашего исследования является природа, то нельзя оставлять невыясненным, что такое движение: ведь незнание движения необходимо влечет за собой незнание природы» 85.
Вопрос о том, что такое движение, как возможно определить еро в понятиях, представляет большие трудности, подчеркивает Аристотель. Не случайно Платон и его ученики в Академии не могут сделать движение объектом научного познания: они не могли дать ему положительного определения, а значит, и не могли постигнуть движение посредством понятий. Действительно, как мы говорили, платоновское определение всего подвижного и изменчивого является чисто отрицательным; изменчивое для Платона — это то, что противоположно миру вечно-сущего (идей), а стало быть, пе-сущее. Аристотель подвергает критике эту установку Платона и платоников: «Они
85 Физика, III, 1, 200b. Определив физику как науку о природе, а природу как «начало движения», Аристотель, в сущности, положил начало той науки, которую мы называем «естествознанием». И, действительно, спустя более чем две тысячи лет аристотелевское определение почти буквально воспроизвел Кант. «Естествознание вообще бывает либо чистым, либо прикладным учением о движении» (Кант И, Метафизические начала естествознания.— Соч., М., 1966, т. 6, с. 66).
Становление первых научных программ
291
говорят,— пишет он,— что движение есть разнородное, неравное и не-сущее; однако ничему из этого нет необходимости двигаться, будет ли оно разнородным, неравным или несуществующим, и изменение как в направлении к этому, так и от этого существует пе в большей степени, чем от противоположного. Причина, почему они помещают движение в такой разряд, заключается в том, что движение кажется чем-то неопределенным, а начала другого ряда — неопределенными вследствие того, что основаны на лишенности: ведь ни одно из них не представляет собой ни определенного предмета, ни качества, ни прочих категорий. А почему движение кажется неопределенным, это зависит от того, что его нельзя просто поместить ни в число потенций предметов, ни в число энергий: ведь ни потенциальное количество, ни актуальное не двигаются в силу необходимости; с другой стороны, движение кажется известной энергией, но только не завершенной» 86.
Аристотель описывает ту проблемную ситуацию, которую он застал в науке своего века и которая его не удовлетворила; отрывок этот интересен для нас тем, что здесь Аристотель позволяет увидеть теоретические истоки важнейших своих понятий. Так, объясняя, почему школа Платона оказалась не в состоянии определить движение 87, Аристотель одну из причин видит в том, что платоники понимали материю исключительно как «лишенность»; в результате поскольку движение всегда связано с материальным носителем, а последний оказывался чем-то радикально неопределенным, то и движение тоже считали невозможным выразить в понятиях. Эта особенность платоновского подхода связана с его методом; он не ищет посредника между противоположностями, а связывает их непосредственно именно как противоположности.
Аристотель же определяет движение опять-таки как средний термин, т. е. как переход от потенции к энергии, от возможности к действительности. Движение поэтому-есть для Аристотеля нечто нормированное этими двумя
86 Физика, III, 2, 201b — 202b.
87 С точки зрения Аристотеля, платоновское определение движения как отношения не является «физическим».
10
292
Раздел второй
«точками» как своим началом и концом; именно эти две «точки» кладут как бы предел движению, т. е. позволяют его определить. Движение идет всегда «от» — «к»; эти пункты суть то, что дает форму движению, что превращает его из бесформенного (а потому и неуловимого в понятиях), каким оно было у Платона, в оформленное и потому познаваемое. В результате возникает следующее определение движения: «...Движение есть энтелехия существующего в потенции, поскольку оно таково; например, энтелехия могущего качественно изменяться, поскольку оно способно к такому изменению, есть качественное изменение; энтелехия способного к росту и убыли (общего имени для обоих нет) есть рост и убыль, способного возникать и уничтожаться — возникновение и уничтожение, способного перемещаться — перемещение» 88. Аристотель перечисляет все виды движения — качественное изменение, рост и убыль, возникновение и уничтожение и, наконец, перемещение, указывая, что общим для всех них определением будет «энтелехия существующего в потенции», т. е. реализация возможного. Это — общее определение в духе аристотелевского метода: «энтелехия существующего в потенции» есть общий род, видами которого будут все перечисленные спецификации. Сами же эти спецификации могут быть установлены только эмпирическим путем; из опыта и наблюдения нам известны указанные виды изменений природных вещей: перемещение, уменьшение и увеличение и т. д.
Аристотель принципиально изменил способ мышления по сравнению с Платоном и только благодаря этому смог прийти к определению движения и к созданию физики как науки. В каком духе рассуждал Платон? Он искал определения движения вообще, не как перехода «от» — «к», а как чего-то единого. В соответствии со своим методом он стремился постигнуть движение как отношение. Но в понятиях Платона движение можно было мыслить только как отношение вечно-сущего единого к не-сущему беспредельному, а такое отношение могло иметь два значения: в сфере постижимого умом таковым было число, а в сфере чувственной — только то, что исчислимо с по
88 Физика, III, 1, 201а.
Становлеййе йервых йаучйых программ
293
мощью математики. Все остальное, в том числе процесс изменения, происходящий в эмпирическом мире, поскольку он не поддавался определению с помощью греческой математики, представал как нечто неопределенное, как не-сущее.
Можно поэтому сказать, что платоновское определение движения как чего-то «не-сущего» есть строгое определение движения как отношения. Наука нового времени, в сущности, возвращается к методу Платона; в лице Галилея она вновь ставит вопрос о движении вообще, стремясь постигнуть движение как всеобщее отношние. Но в отличие от Платона Галилей располагает новым математическим средством для того, чтобы дать содержательное определение движения. Метод бесконечно малых приближений — это новое средство Галилея, позволяющее создать математическую науку о движении. Галилею, как и античным платоникам, чужд тот способ определения движения, который предложил Аристотель, исходя из убеждения, что природные процессы невозможно адекватно описать средствами математики и что необходимо разработать новую логику (назовем ее условно логикой «сущности» — усии — или логикой «среднего термина» вместо логики, требующей «совмещения противоположностей»).
Поскольку движение всегда определяется Аристотелем через две его точки — «от» и «к», т. е. точку «отправления» и точку «прибытия», то ударение у него падает не столько на само движение, сколько на то, что именно движется; и это «что-то» — сущность (усия) — накладывает отпечаток и на характер движения. Именно поэтому Аристотель принципиально не в состоянии абстрагироваться от того, что движется; движение у него не становится самостоятельным субъектом, как это стало возможным в физике нового времени (где изучается поэтому движение «материальной точки»), а остается всегда предикатом. Аристотель сам это подчеркивает: «Не существует движения помимо вещей, так как все изменяющееся изменяется всегда или в отношении сущности, или количества, или качества, или места. А ничего общего нельзя усмотреть в вещах, что не было бы ни определенным предметом, ни количеством, ни качеством, ни какой-нибудь Другой категорией. Так что если, кроме указанного, ни
294
Раздел второй
чего не существует, то и движение и изменение ничему иному не присущи, кроме как указанному» 89.
Аристотель устанавливает, таким образом, четыре вида движения: в отношении сущности — возникновение и уничтожение; в отношении количества — рост и уменьшение; в отношении качества — качественное изменение; в отношении места — перемещение. В принципе ни один из этих видов движения не может быть сведен к другому или выведен из другого — в этом состоит специфика аристотелевского метода, благодаря которому движение нельзя полностью отделить от того, что движется: движение всегда предикат движущегося. Вот почему «видов движения и изменения столько же, сколько и сущего» 90.
Однако, хотя Аристотель и не считает возможным вывести все виды движения из одного, он тем не менее устанавливает некоторую иерархию между ними, объявляя первым движением перемещение. Это может вызвать вопрос: не является ли аристотелевский тезис о том, что «перемещение есть первое из движений» 91, шагом в направлении к тому, чтобы вывести из «первого» движения все остальные, т. е., другими словами, шагом к «субстанциа-лизации» самого движения, к отрыву его от «движущегося»?
Рассмотрим аргументацию Аристотеля. Первое соображение, которое он высказывает в этой связи, состоит в том, что без перемещения невозможно, в сущности, никакое другое движение; стало быть, перемещение обусловливает собой остальные движения. «Ведь невозможно,— пишет Аристотель, —чтобы рост происходил без наличия предшествующего качественного изменения, так как растущее иногда увеличивается насчет однородного, иногда насчет неоднородного, именно пища считается противоположным противоположному. Прирост же происходит у всего возникающего, когда однородное присоединяется к однородному, следовательно, необходимо, чтобы качественное изменение было переменой в противоположное. Но, если происходит качественное измене
89 Физика, III, 1, 200b — 201а.
90 Физика, III, 1, 201а.
91 Физика, VIII, 7, 261а.
Становление первых научных программ
295
ние, должно существовать нечто изменяющее и делающее из потенциально теплого теплое актуально. Ясно, таким образом, что движущее ведет себя неодинаково, но иногда находится ближе, иногда дальше от качественно изменяемого. А это не может осуществиться без перемещения. Следовательно, если движение должно существовать всегда, то необходимо, чтобы и перемещение всегда было первым из движений, и, если одно из перемещений первое, а другое последующее,— чтобы существовало первое перемещение» 92.
Таким образом, качественные и количественные изменения уже предполагают перемещение как свое обязательное условие; так, например, пища должна быть перемещена к существу, которое питается ею и таким образом изменяется и количественно и качественно. Перемещение, следовательно, выступает как такое движение, которое опосредует все остальные виды движения. Но можно ли на этом основании прийти к выводу, что оно является универсальным движением, а остальные — только его модификациями? Для этого нужно прежде всего допущение, что возможно рассмотреть движение в отрыве от того, что движется. Это допущение и было’сделано в эпоху Возрождения, но Аристотель как раз не позволяет сделать его.
В этом отношении характерна заключительная фраза приведенного нами отрывка, где говорится о необходимости само перемещение понять исходя из первого перемещения. Что же такое первое перемещение и в чем смысл иерархии внутри самого перемещения? Оказывается, первым перемещением, согласно Аристотелю, будет то, которым движется «первое» из всех сущих, а именно вечно-сущее. Перемещение есть первое из движений именно потому, что «небо» есть первая из движущихся сущностей, и то обстоятельство, что всякое другое движение — возникновение и уничтожение, рост и уменьшение, качественное изменение — уже нуждается в перемещении как условии своей возможности, объясняется тем, что движение неба есть условие возможности всякого движения и изменения в природе. Таким образом, мы видим, что те
92 Физика, VIII, 260а — 260Ь.
296
Раздел второй
зис Аристотеля о перемещении как первом среди движений не означает субстанциализации самого движения, отрыва его от «движущегося нечто» и рассмотрения самого по себе. Более того, этот тезис является еще одним подтверждением принципа Аристотеля: характер движения ставить в зависимость от характера движущегося. Иерархия движения определяется иерархией движущихся сущностей 93.
Существует ли, однако, у Аристотеля более глубокое основание для того, чтобы считать перемещение «первым» из всех движений, а «вечный двигатель», обусловливающий возможность такого «лучшего» движения, рассматривать в качестве «первой» природной сущности?
Видимо, такое основание имеется. В самом деле, обращаясь к проблеме движения в III книге «Физики», Аристотель замечает, что «движение, по всей видимости, относится к непрерывному» 94 *. Непрерывность рассматривается Аристотелем как одна из важнейших характеристик движения: именно с непрерывностью движения у Аристотеля связано его доказательство вечности космоса, который не возник и не погибнет, а вечно будет существовать. Таким образом, понятия непрерывности и сохраняемости (вечности) движения принципиально связаны.
Не только в своей космологии, изложенной в сочинении «О небе», но и в «Физике» Аристотель обсуждает этот вопрос: «Возникло ли когда-нибудь движение, не будучи
93 Эту особенность метода Аристотеля отмечает немецкий исследо-
ватель В. Виланд. «Аристотелевские причины,— пишет он,— это всегда прежде всего причины вещей и только во вторую очередь причины процессов. Так, например, причина движения... не есть процесс (Vorgang) вроде давления или толчка (как в но-
вое время), а вещь (Ding), которая возбуждает данное движение. И<1то, что в этом случае причиняется, не есть собственно само движение, 'а'опять-таки предмет (Sache), который является результатом этого движения» (Wieland W. Die aristotelische Phy-sik. Untersuchungen uber die Grundlegung der Naturwissenschaft und die sprachlichen*Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles. Gottingen, 1962, S. 266). Виланд, в сущности, говорит здесь- о том, что всякое движение мыслится Аристотелем без отрыва от того, что движется, а тем самым определяется не движение само по себе, а всегда — движение вместе с движущимся и взятое как предикат этого движущегося.
94 Физика, III, 1, 200b.
Становление первых научных программ
297
раньше, и исчезнет ли снова так, что ничто не будет двигаться? Или оно не возникло и не исчезнет, но всегда было и всегда будет, бессмертное и непрекращающееся, присущее существам, как некая жизнь для всего, образованного природой?» 95
Если движение (как и сам космос) когда-то возникло, как утверждал Платон в «Тимее» 96, то оно тем самым уже не может быть непрерывным в строгом смысле, ибо если был хотя бы один перерыв (когда не было движения), то может быть и сколько угодно других; в этом смысле Аристотель и говорит, что если вселенная возникла, то она может и погибнуть. В противоположность Платону Аристотель утверждает тезис о непрерывности (вечности) движения.
Рассматривая вопрос о том, почему перемещение следует считать первым среди движений, а перемещение неба — первым среди всех перемещений, Аристотель в качестве основания приводит довод о непрерывности. Непрерывным движением может быть только перемещение, а потому оно — первое: «Так как движение должно происходить безостановочно, а безостановочное движение будет или непрерывным, или последовательным, с другой стороны, так как мы всегда предполагаем, что природе свойственно лучшее, поскольку оно возможно, а непрерывность движения возможна... и такое движение может быть только перемещением, то необходимо, чтобы перемещение было первым движением. Ведь перемещающемуся телу нет никакой необходимости расти или качественно изменяться, а также возникать и исчезать, а
96 Физика, VIII, 1, 250b.
96 Полемику Аристотеля с Платоном по этому вопросу мы уже приводили выше. Аристотель подчеркивает, что, объявляя движение не вечным, а возникшим, Платон тем самым и время считает чем-то возникшим (ибо без движения, по Аристотелю, нет и времени), и в этом вопросе он расходится с большинством греческих философов. «...Относительно времени,— говорит Аристотель,— за исключением одного, все, по-видимому, думают одинаково — они называют его нерожденным. Поэтому и Демокрит доказывает невозможность того, чтобы возникло все, так как время не является возникшим. Один только Платон порождает его: он говорит, что оно возникло вместе с вселенной, а вселенная, по его мнению, возникла» (Физика, VIII, 1, 251b).
298
Раздел второй
ни одно из этих изменений невозможно без непрерывного движения, которое производит первый двигатель» 97.
Аристотелевское понимание непрерывности — ключ к решению проблемы движения и построению физики как науки. Именно по вопросу о непрерывности и вечности движения Аристотель ведет полемику не только со школой Платона, но и с другими своими предшественниками — «физиками» Анаксагором, Демокритом, Эмпедок • лом. То, что в общеметодологическом плане вылилось в учение о «середине», что в силлогистике предстало как вопрос о «среднем термине», теперь применительно к центральной теме физики — движению — реализовалось в преобразованной форме, в виде учения о непрерывности.
Проблема непрерывности и аристотелевское решение «парадоксов бесконечности» Зенона. С рассмотрением проблемы непрерывности мы вступаем на ту территорию, которая уже до Аристотеля не раз исследовалась в античной науке и соответственно рассматривалась и в нашей работе. Это — та самая чреватая противоречиями и парадоксами почва, которую «вскопал» еще Зенон. Как отмечалось, стремление найти способ решения зеноновых парадоксов послужило одним из стимулов к созданию научной программы Демокрита, с одной стороны, и платоновско-пифагорейской программы — с другой. Однако ни одна из этих программ не давала еще возможности создать науку о движении — физику. В своем стремлении создать эту науку Аристотель пытается найти третий способ разрешения парадоксов бесконечности и строит свою теорию континуума, которая, по его замыслу, должна служить фундаментом для создания науки о движении. И нужно сказать, что фундамент этот оказался
97 Физика, VIII, 7, 260b. Мы видим тут выделение перемещения как самого простого и самого элементарного из всех движений. Казалось бы, еще один маленький шаг — и можно будет сказать, что все движения — только видоизменения (усложнения) этого простейшего, а затем и искать способы перевода всех движений на язык этого простейшего. Но Аристотель не делает этого шага. Движение перемещения первее остальных движений, потому что первый двигатель первее остальных вещей. Будучи первым, он тем самым обеспечивает то условие, без которого не было бы того, что Аристотель называет природой: он обеспечивает непрерывность движения.
Становление первых научных программ
299
достаточно крепким. На нем возводила свои постройки не только физика античности и средних веков, но и физика нового времени. Многое было переосмыслено в аристотелевской физике учеными XVI—XVII вв.; были отвергнуты не только основные категории, с помощью которых Аристотель описывал движение, но был введен совершенно новый принцип объяснения движения — принцип инерции, так что физику нового времени ее создатели Галилей, Декарт, Ньютон рассматривали как неаристотелевскую. Но при этом осталось в силе аристотелевское учение о непрерывности 98, и это даже несмотря на то, что в физике нового времени играли важную роль атомистические представления, в корне чуждые Аристотелю.
Конечно, аристотелевская теория континуума, оказавшись включенной в новую систему понятий, получила также и повое математическое обоснование в виде исчисления бесконечно малых, но ее принципы в основе своей сохранились. «Как раз учение о континууме,— пишет немецкий исследователь В. Виланд,— принадлежит к тем частям аристотелевской физики, которые никогда не оспаривались и даже не ставились под сомнение основателями современного естествознания. То, что Аристотель высказывает о континууме, принадлежит к основаниям также и физики нового времени, в том числе даже и там, где она работала с атомистическими гипотезами. До Планка эти основания никогда пе продумывались во всех их следствиях, исходя из которых мог бы быть подорван прин-
08 В сущности, принцип инерции, из которого исходит физика нового времени, представляет собой не что иное, как условие возможности вечного движения; отбросив учение Аристотеля о вечном двигателе, который в физике Аристотеля был первым началом, обеспечивающим вечность движения, физики XVII в. находят в законе инерции другой способ обеспечения вечности (сохранения) движения (мы сейчас не касаемся вопроса о том, какая радикальная перестройка всей системы физики связана с этой «заменой»). Характерно, что, анализируя основания физики, Г.гСпенсер утверждает, что «беспрерывность движения» — это аксиоматическая истина, потому что противоположную ей истину невозможно было бы помыслить. (См.: Spenser If. First Principles. London, 1863, p. 246). Тем самым Спенсер признает, что физика нового времени кладет принцип непрерывности в основу всех своих рассуждений,
300
Раздел второй
цип непрерывности, фундаментальный для основных допущений Галилея и Ньютона. Только квантовая гипотеза Планка, логические следствия которой до сих пор еще ждут своего анализа, выводит за пределы горизонта, очерченного аристотелевской теорией континуума» ".
Теория континуума Аристотеля служит фундаментом не только физики, но и математики, поскольку Аристотель предложил, как уже упоминалось, также и повое обоснование математики по сравнению с тем, какое давала пифагорейско-платоновская школа. Обоснование математики не только у Аристотеля, но и в рамках любой научной программы всегда теснейшим образом связано с выработкой методологических принципов физики. Анализируя проблему непрерывности, как она ставится у Аристотеля, мы тем самым можем видеть, как понимает Аристотель связь физики с математикой.
До сих пор мы рассматривали аристотелевскую теорию движения в аспекте причин движения; теперь, в связи с проблемой непрерывности, речь пойдет о движении как таковом. Прежде всего Аристотель отличает «непрерывность» как определенную форму связи от других форм: последовательности и смежности. «Следующим по порядку,— пишет Аристотель,— называется предмет, на-ходящийсй за начальным по расположению или по природе или отделенный от него другим способом, если между ним и тем, за чем он следует, пе находится в промежутке предметов того же рода, например линии или лилий в случае линии, монады или монад в случае монады, дома в случае дома. Но ничто не препятствует находиться в промежутке чему-нибудь иному... «Смежное» есть то, что, следуя за другим, касается его. «Непрерывное» есть само по себе нечто смежное: я говорю о непрерывном, когда граница, по которой соприкасаются оба следующих друг за другом предмета, становится для обоих одной и той же и, как показывает название, не прерывается...» 99 100
Таким образом, следующее по порядку, смежное и непрерывное идут друг за другом по принципу возрастания связи между соответствующими предметами. Следование
99 Wieland W. Die aristotelische Physik, S. 278—279.
100 Физика, V, 3, 226b — 227a.
Становление первых научных программ 301
----------------------!----------------------------------- по порядку — необходимое, но недостаточное условие смежности, так же как смежность — условие непрерывности. Различие между смежным и непрерывным особенно важно: если предметы соприкасаются, но при этом сохраняют каждый свои края, так что две соприкасающиеся границы не сливаются в одну, то мы имеем дело со смежностью; если же граница между соприкасающимися предметами становится общей, то они становятся чем-то единым, и тут уже речь идет о непрерывности 101.
Непрерывными могут быть не только предметы, но и движения. Более того, подлинно непрерывно то, что непрерывно по движению, говорит Аристотель, тем самым подчеркивая важный аспект своего учепия о непрерывности: «...смежные и последовательные вещи непрерывны только по времени, непрерывны же вещи по движениям, а это происходит тогда, когда концы обоих движений соединяются. Поэтому подлинно непрерывное и единое движение должно быть тождественным по виду, быть движением единого предмета и в единое время; последнее необходимо, для того чтобы не наступала в промежутке неподвижность, так как в перерыве по необходимости наступает покой» 102. Если же в промежутке наступает покой, то следует говорить уже не об одном, а о нескольких движениях.
Таким образом, для того чтобы движение было непрерывным, должно быть выполнено три условия: единство (тождественность) вида движения 103, единство движущегося предмета 104 и единство времени. Ни одного из этих
101 «...Непрерывность имеется в таких вещах, из которых путем соприкасания может выйти нечто единое; и как соединяющее их в известных случаях бывает единым, так и целое становится единым, например, соединенное гвоздем, клеем, прижатием или приращением» (Физика, V, 3, 227а).
102 Физика, V, 4, 228а — 228b (курсив мой.— П. Г.)
1103 Т. е. движение должно быть или только перемещением, или качественным изменением, или изменением количественным, но не смесью всех этих видов. Так, если «после бега сейчас же залихорадит» (Физика, V, 4, 228а), т. е. без перерыва произойдет смена одного вида движения другим, то нельзя говорить о непрерывном движении, а лишь о двух смежных.
104 Аристотель приводит пример с факелом, передаваемым из рук в руки бегущими по очереди факельщиками, здесь передача непрерывна,— но сам движущийся предмет — бегущий человек —
302
Раздел второй
условий, взятого отдельно, недостаточно для того, чтобы движение было непрерывным.
Определяя содержание непрерывности, Аристотель решает проблему, поставленную Зеноном. Непрерывное, по определению Аристотеля,— это то, что делится на части, всегда делимые 10Б. А это значит, что непрерывное исключает какие бы то ни было неделимые части и уж тем более не может быть составлено из неделимых: «Невозможно ничему непрерывному состоять из неделимых частей, например линии из точек, если линия непрерывна, а точка неделима» 10в. Исходя из определения неделимого как того, что не имеет частей, Аристотель аргументирует свой тезис, раскрывая содержание понятий «неделимое» и «непрерывное»: «Ведь края точек не образуют чего-нибудь единого, так как у неделимого нет ни края, ни другой части 107; и крайние границы не находятся в одном месте, так как нет у неделимого крайней границы, ибо крайняя граница и то, чему она принадлежит, различны. Далее, точкам, из которых было бы составлено непрерывное, необходимо или быть непрерывными или касаться друг друга (то же самое рассуждение применимо и ко всяким неделимым). Но непрерывными они не будут на основании сказанного; касаются же друг друга все предметы или как целое целого, или своими частями, или как целое части. Но так как неделимое не имеет частей, им необходимо касаться целиком, но касающееся целиком не образует непрерывного, так как непрерывное заключает в себе от одного предмета одну часть, от другого другую и таким образом разделяется на различные, разграниченные
не является одним п тем же; поэтому и движение нельзя считать непрерывным. Любой современный физик спросит: почему движущийся предмет — человек, а не факел? Здесь и заключается различие между современным и античным способом рассуждения.
105 См.: Физика, VI, 1, 231b.
106 Физика, VI, 1, 231а.
107 Теперь мы видим, что аристотелевское рассуждение о том, что касание краев двух предметов (или движений) является необходимым (хотя и недостаточным) условием их непрерывности, было не случайным: то, что касается краями, еще не непрерывное; но то, что не касается и не может касаться (из-за отсутствия краев), заведомо не может быть и непрерывным.
Становление nejr
научных программ
303
по месту части» Все это рассуждение построено на раскрытии содержания понятий «непрерывного» как имеющего части, всегда Девою очередь состоящие из частей, и неделимого, котороеч вообще не состоит из частей. Понятно, что не состоящее из частей не может и касаться другого такого же (не состоящего из частей), ибо само понятие соприкосновения ^уже заключает в себе условие делимости на части: соприкасается то, что делимо, ибо только у делимого края могут находиться вместе. У неделимого же нет краев, поэтому неделимые не могут соприкасаться по определению. В непрерывном же «крайние концы образуют единое и касаются» 108 109, а потому, естественно, непрерывное не может состоять из неделимых.
Именно непрерывность является условием возможности движения. Здесь мы видим, что учение о непрерывности является ответом Аристотеля па парадоксы Зенона. Как показал уже Зенон, движение определяется прежде всего через путь 110 111 и время 1П. Если либо путь, либо время, либо то и другое мыслить как состоящие из неделимых (путь— из неделимых точек, а время — из неделимых моментов «теперь»), то движение окажется невозможным. Именно доказательству невозможности движения при допущении неделимости посвящены апории Зенона «Стрела» и «Стадий».
108 Физика, VI, 1, 231а — 231b.
109 Физика, VI, 1, 231а (курсив мой.— П. Г.).
110 Понятие пространства, как мы уже видели, в греческой науке еще не вполне оформилось.
111 К зеноновскому определению движения через путь и время Аристотель добавляет еще один момент: «Мы говорим о движении в отношении трех обстоятельств: «что» движется, «в чем» и «когда». Я имею в виду, что необходимо должно быть нечто движущееся, например человек или золото, далее, в отношении чего оно движется, например места или состояния, и когда именно, так как все движется во времени» (Физика, V, 4, 227b). Поскольку перемещение для Аристотеля — только один из видов движения, то «в чем» означает место («путь» или пространство) в случае, если речь идет о перемещении, и «состояние» — в случае если речь идет о других видах движения; «когда» — это время; но поскольку физика Аристотеля принципиально не может абстрагироваться от того, что движется (ибо она не допускает идеализированного движения материальной точки в отличие от физики нового времени), то Аристотель всегда принимает во внимание также характер движущегося.
304
Раздел второй
«По неделимому пути,— пишет Аристотель,— ничто не может двигаться, а сразу являете^ продвинувшимся»; в этом случае и движение должно мыслиться не как непрерывное, а соответственно как состоящее из неделимых — уже нельзя сказать «движений», ибо движение при таком условии перестанет быть процессом, но станет «суммой результатов». Или, как говорит Аристотель, «движение будет состоять не из движений, а из моментальных перемещений и продвижений чего-нибудь не движущегося... Следовательно, возможно будет прибыть куда-нибудь, никогда не проезжая пути: проехал его, не проезжая» 112.
Для того чтобы избежать этого парадокса и получить возможность мыслить движение именно как процесс, а не как сумму «продвинутостей», Аристотель и постулирует непрерывность пути, времени и соответственно самого движения.
Но этим дело еще не исчерпывается: ведь если апории Зенона «Стрела» и «Стадий» строятся на том допущении, что время и пространство состоят из неделимых, то две других — «Дихотомия» и «Ахиллес» — на допущении их бесконечной делимости. Однако же и это допущение приводит к противоречию: Зенон доказывает, что при бесконечной делимости времени и пространства движение тоже невозможно '(мыслить). Как же справляется Аристотель с этим вторым затруднением, вытекающим как раз из допущения непрерывности всякой величины? Из этого затруднения он выходит следующим образом. Если тело движется по определенному пути, который в силу его непрерывности делим до бесконечности, то движение будет невозможным (ибо невозможно пройти бесконечность) только при условии забвения того, что и время, в течение которого тело проходит этот путь, тоже делимо до бесконечности. А если учесть, что непрерывности пути соответствует непрерывность времени, то парадокс снимается. «Поэтому,— резюмирует Аристотель,— ошибочно рассуждение Зенона, что невозможно пройти бесконечное, т. е. коснуться бесконечного множества отдельных частей в ограниченное время. Ведь длина и время, как и вообще все непрерывное, называются бесконечными в
112 Физика, VI, 1, 232а.
Становление первый научных программ
305
двояком смысле: илй^ в отношении деления или в отношении границ. И вот,\бесконечного в количественном отношении нельзя коснуться в ограниченное время, бесконечного согласно делению — возможно, так как само время в этом смысле бесконечно. Следовательно, приходится проходить бесконечность в бесконечное, а не в ограниченное время и касаться бесконечного множества частей бесконечным, а не ограниченным множеством» 113.
То, что Аристотель называет бесконечным «в отношении деления», мы теперь называем «интенсивной бесконечностью»; а «бесконечное в количественном отношении» (или, иначе говоря, получаемое путем сложения) — это экстенсивно бесконечное. Между этими двумя «бесконечностями» Аристотель устанавливает принципиальное различие.
Итак, условиями возможности (и мыслимости) движения является непрерывность длины (пути), времени и самого движущегося тела: оно ведь тоже имеет величину, а не есть неделимая точка 114.
Однако и теперь аристотелевская теория движения не вполне «спасена» от парадоксов, вскрытых проницательным Зеноном. Остается еще один уязвимый пункт, а именно: поскольку всякое движение и изменение происходит во времени, а всякий отрезок времени, как бы мал он ни был, в силу своей непрерывности делим до бесконечности.115, то движение никогда не сможет начаться. Одним словом, та трудность, которую Аристотель преодолел по отношению к процессу уже совершающегося движения (указав на то, что «время и величина делятся одними и
113 Физика, VI, 2, 233а.
114 Здесь, как мы уже подчеркивали, лежит граница между физикой Аристотеля, ориентирующейся на реальные движения природных тел, и механикой нового времени, постулирующей идеализированное движение, движение «материальной точки» (понятие, кстати сказать, само по себе противоречащее установкам Аристотеля: ведь у Аристотеля все материальное, т. е. всякое тело, есть величина, а значит, делимо до бесконечности; точка же — это нечто неделимое, «граница» тела, но не тело. С этим моментом связаны и другие принципиальные отличия механики Галилея — Ньютона от физики Аристотеля).
115 Аналогично само изменение и движение тоже, как мы знаем, делимо до бесконечности.
306 у7 Раздел второй
/
теми же делениями»), остается в сильно отношению к моментам перехода от покоя к движению или от движения к покою 116. Тут теория непрерывности действительно наталкивается на «неудобный» для лее факт: переход всегда предполагает перерыв. /
Как же справляется Аристотель с этой новой трудностью? Он высказывает на первый взгляд парадоксальное, но логически совершенно необходимое положение: «Ни в том, что изменяется, ни во времени, в течение которого оно изменяется, нет ничего первого» 117. Это утверждение имеет силу по отношению ко всем видам движения (изме-
не Этот вопрос переходов, как мы помним, решался Платоном с помощью «прорыва» времени и введения некоего «вдруг» — неделимого момента, в который и совершается непостижимая для мышления «перемена», «перелом». Естественно, что Аристотель не может принять точку зрения Платона, ибо вся его теория непрерывности строится как полемически заостренная против Платона также и в этом пункте.
Х17 Физика, VI, 5, 236а (курсив мой.— П. Г.). Вот как доказывает Аристотель это свое утверждение: «Пусть АД будет первое; оно, конечно, не является неделимым, иначе «теперь» были бы смежными. Далее, если в течение всего времени тело покоилось (следует предположить его покоящимся), оно покоится и в А, так что если АД' неделимо, оно одновременно будет покоиться и будет уже измененным (такое совмещение противоположностей в неделимом моменте «вдруг» как раз постулирует Платон, не видя иной возможности объяснить момент перехода из одного состояния в противоположное ему.— П. Г.). А так как оно имеет части, оно необходимо должно быть делимо, и изменение должно произойти в какой-нибудь из его частей; если при разделении АД изменение не произошло ни в одной из его частей, оно не произошло и во всем АД; если оно произошло в обеих, то и во всем АД; если же в одной из двух, то изменение не произошло в целом АД, как в первом. Следовательно, изменение необходимо уже должно произойти в какой-нибудь части. Очевидно, таким образом, что нет того первого, в котором уже произошло изменение, ибо деления бесконечны» (Физика, VI, 5, 236а). Интересно в этой связи сравнить с аристотелевским рассуждение Галилея о том, что «падающее тело, выходящее из состояния покоя, проходит все бесконечные степени медленности...» (Галилей. Диалог о двух системах мира.— Избр. труды: В 2-х т. М., 1964, т. 1, с. 125). Галилей решает здесь ту же задачу, что и Аристотель; но он применяет к ее решению теорию бесконечно малых, а потому, несмотря на некоторое.сходство его рассуждения с аристотелевским, Галилей не нуждается в допущении, что в процессе изменения «первого нет».
Становление первых научных программ
307
нения), кроме изк№нений качественных: в последних Аристотель видит исключение в том смысле, что «в движении по качеству может быть само по себе неделимое» 118. Это соображение Аристотеля послужило впоследствии толчком к разработке в Средние века учения об интенсификации и ремиссии качеств — учения, которое в конечном счете оказывалось несовместимым с принципами аристотелевской физики и выводило за ее пределы, подготовляя тем самым научную революцию XVI—XVII вв.
Итак, ответ Аристотеля на вопрос о том, как возможно мыслить начало движения и изменения, гласит: такое начало мыслить невозможно в силу бесконечной делимости всякой величины и всякого времени. Первого момента никогда нельзя схватить, ибо «момент» означал бы нечто неделимое. Ничто, таким образом, не происходит «вдруг». Как справедливо отмечает В. П. Зубов, «мгновенные действия в перипатетической физике были исключены» 119.
Что же касается «конца» изменения, то, кроме изменения по качеству, имеющего такой конец 12°, никакой другой вид движения не имеет «первого в отношении конца»: «И как нет ничего первого, в котором начинает движение движущееся, так нет и того, в котором останавливается останавливающееся, ибо ни для движения, ни для остановки нет ничего первого» 121.
Учение о непрерывности, как видим, требует последовательности: не признавая неделимости применительно
118 Физика, VI, 5, 236b. Здесь, таким образом, Аристотель признает мгновенное изменение: «Ведь возможно качественное изменение, происходящее сразу, а нс сначала наполовину, например вся вода замерзает вместе» (Об ощущении и ощущаемом, 6, 447а).
119 Зубов В. П. Аристотель. М., 1963, с. 118—119.
120 Именно к качественному изменению надо, по-видимому, отнести следующее рассуждение Аристотеля: «Первое в смысле конца изменения наличествует и существует в наличности, так как изменение может завершиться и у него есть конец, который, как было доказано, неделим, потому что является границей. А первое в смысле начала вообще не существует, так как нет начала изменения и первого по времени, в котором происходит изменение» (Физика, VI, 5, 236а). Еще более определенно говорит Аристотель в другом месте: «Утверждать непрерывность качественного изменения значит сильно противоречить очевидности» (Физщ* ка, VIII, 3, 253b).
181 Физика, VI, 8, 238b - 239а,
308
Раздел второй
....------- /
/
к величине, времени и движению, Аристотель вынужден допустить отсутствие первого мр^тента — первого как с начала, так и с конца. Этот принцип «отсутствия первого» находит свое завершение в космологии Аристотеля. В полном соответствии с этим Принципом Аристотель не признает ни начала, ни конца мира; ни время, ни движение не могли иметь начала, так же как никогда не будут иметь конца.
По если величина (линия) и время непрерывны, то что же тогда представляют собой точка на линии и момент во времени, который мы называем «теперь»?
Точка на линии и (аналогично) «миг» на непрерывной «линии» времени, называемый нами «теперь», являются неделимыми; но, будучи таковыми, они принципиально разнородны со всем, что делимо: точка — с линией, а «теперь» — со временем. Точка не имеет величины; она есть граница линии; точно так же «теперь» не есть время, а есть граница времени. «Необходимо,— пишет Аристотель,— чтобы «теперь», взятое не по отношению к другому, а само по себе, первично, было неделимым... Ведь оно представляет собой какой-то крайний предел прошедшего, за которым нет еще будущего, и обратно, предел будущего, за которым нет уже прошлого, что... является 'границей того и другого» 122.
Поскольку «теперь» неделимо, то в момент «теперь» нет никакого движения, что логически вытекает из вышеизложенного. Но и покой, говорит Аристотель, в «теперь» тоже невозможен, ибо как покой, так и движение, будучи непрерывными состояниями, могут существовать только во времени, поскольку оно тоже непрерывно. Из этого с необходимостью следует, что неделимая точка не может двигаться; ведь двигаться неделимое могло бы только при условии, если бы можно было двигаться в неделимые мгновения — из одного «теперь» в другое «теперь»; в «теперь» невозможно ни движение, ни покой. Значит, двигаться и изменяться может только то, что само имеет величину (а значит, делимо); только такие объекты и подлежат изучению фдзики — науки о движении и изменении. «Не имеющее частей двигаться и вообще изменяться не
'22 Физика, VI, 3, 233b - 234а.
Становление первых научных программ
309
может; в одном только случае было бы для него возможно движение: это если бы время состояло из отдельных «теперь», ибо в момент «теперь» его движение всегда было бы закончено и изменение произошло, так что, никогда не двигаясь, оно всегда находилось бы в состоянии законченного движения» 123. А это невозможно.
Неделимая точка двигаться не может, иначе пришлось бы допустить, что линия состоит из точек, заключает Аристотель.
Таковы выводы, вытекающие из аристотелевского понимания континуума. Нам представляется, что аристотелевское учение о непрерывности органически связано с его методологическим принципом, рассмотренным нами в предыдущих разделах, а именно с принципом опосредования: подобно тому, как в логике и метафизике Аристотель ищет средний термин, то, что «лежит между», и связывает два крайних термина, подобно этому и в основу всей науки о природе он кладет учение о континууме, согласно которому между любыми двумя точками (на линии, во времени и т. д.) всегда можно взять среднюю точку. И как бы «близко» ни были расположены эти две точки, они никогда не могут мыслиться без посредника между ними: посредничество — бесконечно, ибо бесконечна делимость.
Аристотелевское учение о непрерывности имеет также непосредственный выход в математику.
Принцип непрерывности Аристотеля и метод исчерпывания Евдокса. Принцип непрерывности сыграл важную роль в античной математике. Он был введен в математику старшим современником Аристотеля Евдоксом в виде так называемой аксиомы непрерывности, которая стала известна как «аксиома Архимеда», поскольку Архимед указывает ее в числе своих постулатов. Вот как формулирует ее Архимед: «Требования (постулаты). Я принимаю следующее... Что из неравных линий и неравных площадей и неравных тел большее превосходит меньшее на такую величину, которая, будучи прибавляема к самой себе, может стать больше, чем любая заданная величина
123 Физика, VI, 10, 240b — 241а.
310
Раздел второй
из тех, которые сравнимы между собой» 124. У Архимеда речь идет о величинах одного измерения, которые могут быть сравнимы, т. е. могут находиться в отношениях друг к другу. Эту же аксиому мы находим среди определений V книги «Начал» Евклида, в которой он излагает теорию отношений Евдокса.
Четвертое определение V книги «Начал» гласит: «Говорят, что величины имеют отношение между собой, если они, взятые кратно, могут превзойти друг друга» 125. Как подчеркивает В. Вилейтнер, в этом определении, данном Евклидом, содержится нечто большее, чем в приведенном выше постулате Архимеда: «Евклид подобно Архи-. меду также имеет в виду однородные величины, но вместе с тем он высказывает нечто большее. Во-первых, Евклид стремится при помощи своего определения дать возможность находиться в «отношении» также и таким величинам, которые не имеют общей меры (несоизмеримы)... Во-вторых, Евклид хочет лишить права находиться в отношении «бесконечно малые» и «бесконечно большие» образы, как, например, введенные уже древними философами (Демокрит) последние частицы (атомы, неделимые) отрезка или же всю бесконечную прямую» 126. Первый момент, о котором говорит Вилейтнер, подразумевается также и в аксиоме Архимеда; видимо, то большее, что заключено в евклидовом (т. е., собственно, евдоксовом) определении, сводится ко второму моменту.
Рассмотрим последовательно каждый из этих моментов. Что касается первого, то действительно одна из главных задач, возникших перед Евдоксом после открытия несоизмеримости, состояла в том, чтобы найти способ установления отношения также и для несоизмеримых величин. До открытия несоизмеримости математики рассматривали отношения между числами (соизмеримыми величинами). Для соизмеримых величин, а и 6, отношение
124 Цит. по: Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики.
М.; Л., 1932, вып. IV, с. 7.
12 5 Евклид. Начала. Кн. I—VI, с. 142. Из этого исходит и Аристотель в своей физике; у него мы встречаем такую же формулировку, как и у Евклида: «...прибавляя все время к’конечпой величине, я превзойду всякую данную величину и/отнимая^таким же образом, уменьшу» (Физика, VIII, 10, 266b).
Вилейтнер В. Хрестоматия ро истории математики, с. 8.
Становление первых научных программ
311
которых было равно рациональной дроби —, равенство отношений выражалось пропорцией
а _ тп Ь п ’
т. е. соотношением: па = mb. Иначе говоря, пока отношения выражались целыми числами, для определения отношения двух величин нужно было меньшую взять столько раз, сколько необходимо для того, чтобы она сравнялась с большей. Но для несоизмеримых величин этот способ уже не годится: ибо отношения между ними невозможно выразить в виде пропорции, члены которой будут рациональными числами. Чтобы все же иметь возможность устанавливать отношения несоизмеримых величин, Евдокс предложил такой выход: если для двух величин а и &, где а 6, можно подобрать такое число п, чтобы меньшая величина, взятая п раз, превзошла большую, т. е. чтобы было справедливо неравенство nb а, то величины а и Ъ находятся между собой в некотором отношении. В противном же случае можно утверждать, что они не находятся ни в каком отношении. Аксиома Евдокса делала возможным оперирование также и с несоизмеримыми величинами и тем самым позволяла если не совсем преодолеть, то по крайней мере в работе математика нейтрализовать затруднения, порожденные открытием несоизмеримости.
Греческим математикам были известны так называемые роговидные углы, т. е. углы, образованные окружностью и касательной к ней (или же двумя кривыми). Но криволинейные и прямолинейные углы, хотя они и принадлежат к одному роду величин (углам), не находятся между собой ни в каком отношении, ибо для них не имеет силы аксиома Евдокса: роговидный угол всегда будет меньше любого прямолинейного угла. Иначе говоря, «роговидные углы по отношению к любому прямолинейному являются актуальными бесконечно малыми, или неархимедовыми величинами» 127; именно эти величины исключаются аксиомой Евдокса.
127 Башмакова И. Г. Лекции по истории математики в древней Греции. — Историко-математические исследования, вып. XI, с. 311.
312
Раздел второй
Как видим, Евдокс вводит аксиому непрерывности для решения затруднений, вызванных парадоксом несоизмеримости; аналогичную роль принцип непрерывности играет и в физике Аристотеля; с его помощью Аристотель хочет преодолеть парадоксы Зенона, препятствующие всякой попытке построить теорию движения — физику. Вот как формулирует Аристотель евдоксову аксиому непрерывности, недвусмысленно показывая, что альтернативой ее будет парадокс Зенона «дихотомия»: «Если, взявши от конечной величины определенную часть, снова взять ее в той же пропорции, т. е. не ту же самую величину, которая взята от целого, то конечную величину нельзя пройти до конца, если же настолько увеличивать пропорцию, чтобы брать всегда одну и ту же величину, то пройти можно, так как конечную величину всегда можно исчерпать любой определенной величиной» 128.
Рассмотрим теперь, что имеет в виду Вилейтнер, говоря о втором моменте, содержащемся в аксиоме Евдокса: «Евклид хочет лишить права находиться в отношении «бесконечно малые» и «бесконечно большие» образы». Относительно «бесконечно малых» мы уже приводили пример роговидных углов, которые не могут находиться в отношении с прямолинейными. Но аксиома Евдокса, что нетрудно видеть, не будет иметь силы также и по отношению к бесконечно большой величине, ибо тогда неравенство пЪ а не может быть справедливым; число п предполагается ведь сколь угодно большим, но конечным числом.
Очевидно, что аксиома Евдокса оказывается непосредственно связанной с проблемой бесконечного; и решение этой проблемы именно в духе Евдокса мы находим опять-таки у Аристотеля.
Таким образом, аристотелевская физика, построенная на основе принципа непрерывности, внутренне связана с математическим мышлением, как оно воплотилось
128 Физика, III, 6, 206b. В комментариях к Евклиду Омар Хайям называет аксиому Архимеда «одним из пяти принципов, заимствованных у Философа» (Хайям О. Трактаты. М., 1962, с. 119). Подробнее об этом см.: Розенфельд Б. А. История неевклидовой геометрии, с. 39.
Становление первых научных программ
313
в «Началах» Евклида; этим и объясняется отчасти то обстоятельство, что принцип непрерывности Аристотеля не был отменен и в механике нового времени; и только в связи с открытием неевклидовых геометрий возникла возможность пересмотра этого принципа. Правда, уже после открытия исчисления бесконечно малых понадобилось кое-что откорректировать как в принципе непрерывности Аристотеля, так и в аксиоме непрерывности Евдокса; однако эти коррективы самой непрерывности не отменили.
При рассмотрении аристотелевского принципа непрерывности мы уже говорили о проблеме бесконечности, однако эта проблема, составляющая один из стержневых пунктов всякой научной программы, нуждается в специальном анализе.
Понятие бесконечного у Аристотеля. Приступая к анализу понятия бесконечности, Аристотель предупреждает, что здесь приходится ходить по очень зыбкой почве, постоянно рискуя натолкнуться на парадоксы и противоречия: ибо «много невозможного следует и за отрицанием его (бесконечного.— П. Г.) существования и за признанием» 129. Но, несмотря на эти затруднения, возникающие при рассмотрении бесконечного, физика, так же как и математика, по мысли Аристотеля, не может обойтись без такого рассмотрения. «А что бесконечное существует,— пишет Аристотель,— уверенность в этом скорее всего возникает у исследователей из пяти оснований: из времени (ибо опо бесконечно), из разделения величин (ведь и математики пользуются бесконечным); далее, что только таким образом не иссякнут возникновение и уничтожение, если будет~бесконечное, откуда берется возникающее. Далее, из того, что конечное всегда граничит с чем-нибудь, так что необходимо, чтобы не было никакого предела, раз необходимо, чтобы одно всегда граничило с другим. Но больше всего и главнее всего — что доставляет для всех затруднение — на том основании, что мышление не останавливается: и число*кажется бесконечным, и математические величины, и то, что лежит за небом: а если лежащее за небом бесконечно, то кажется бесконечным
129 Физика, III, 4, 203b.
314
Раздел второй
тело и существует множество миров...» 130 Однако в вопросе о бесконечном, говорит Аристотель, доверять мышлению нельзя 131, поэтому ко всем перечисленным основаниям, побуждающим принять бесконечное, надо подойти критически, внимательно рассмотрев возможные следствия из каждого допущения относительно бесконечного.
Как обычно, Аристотель начинает исследование с критики платоновского и пифагорейского понятий бесконечного 132. И Платон, и пифагорейцы рассматривают бесконечное как сущность, а не свойство, не предикат чего-нибудь другого. В отличие от них натурфилософы считают бесконечное предикатом природных элементов, в зависимости от того, какой элемент каждый из них принимает за первоначало — воду, воздух или огонь. Аристотель не соглашается признать бесконечное ни сущностью, ни предикатом (сущности). Характерно его возражение против платоновско-пифагорейской трактовки бесконечного как сущности: если принять, что бесконечное является сущностью, то оно должно мыслиться как неделимое. «...Если бесконечное — сущность и не относится к какому-нибудь подлежащему,— говорит Аристотель,— то «быть бесконечным» и «бесконечность» — одно и то же, следовательно, оно или неделимо, или делимо на бесконечности, а быть одному и тому же предмету многими бесконечными невозможно. Однако если оно сущность и начало, то как часть воздуха остается воздухом, так и часть бесконечного — бесконечным. Следовательно, оно нераз
130 Физика, III, 4, 203b (курсив мой.— П. Г.)> Интересно, что Аристотель видит в бесконечности мышления («мышление не останавливается») одно из главных оснований для принятия бесконечного: именно деятельность мышления служит источником того, что бесконечными представляются и число, и величина, и протяженность космоса.
131 См.: Физика, III, 8, 208а.
132 «Некоторые, как пифагорейцы и Платон, берут его (бесконечное.— П. Г.) само по себе, считая само бесконечное не акциденцией чего-нибудь, а сущностью, с той только разницей, что пифагорейцы полагают его в чувственно воспринимаемых вещах (они ведь говорят, что число от них неотделимо) и утверждают, что есть бесконечность за пределами неба, а Платон говорит, что за небом нет никакого тела и даже идей, так как они нигде не помещаются, а бесконечное имеется и в чувственно воспринимаемых вещах, и в идеях» (Физика, III, 4, 203А).
Становление первых научных программ
315
делимо и неделимо. Однако невозможно бесконечному существовать актуально, ведь ему необходимо быть количеством. Бесконечное, следовательно, существует по совпадению... Поэтому нелепости утверждают те, которые говорят так же, как пифагорейцы: они одновременно делают бесконечное сущностью и делят его на части» 133.
Аристотель считает, что платоники и пифагорейцы, рассматривая бесконечное как «сущность», должны мыслить его как нечто неделимое, а тем самым как актуальнобесконечное. Как же аргументирует Аристотель недопустимость мыслить бесконечное как актуальное? Он говорит, что в этом случае невозможно объяснить такой «вид» бесконечного, как время и величина (а тем самым и движение), которые являются, по его выражению, «количествами». Что же представляет собой этот вид бесконечного? В чем его отличие от актуально-бесконечного? В том, что, «будучи проходимо по природе», это бесконечное «не имеет конца прохождения или предела» 134. Это бесконечное потенциально, бесконечное в возможности, а не в действительности, осуществляемое, а не осуществленное, незавершенное и не могущее быть никогда завершенным. В этом смысле Аристотель, явно полемизируя с платониками, говорит, что бесконечное — это «не то, вне чего ничего нет, а то, вне чего всегда есть что-нибудь» 135.
Потенциально-бесконечное существует как экстенсивно- или интенсивно-бесконечное, т. е. «или в результате сложения, или в результате деления, или того и другого вместе» 136. Отличие потенциально-бесконечного от актуально-бесконечного состоит в том, что первое в сущности всегда имеет дело с конечным и есть не что иное,
1за Физика, III, 5, 204а. Критика Аристотелем платоновско-пифагорейского понимания бесконечного как «сущности» представляет собой еще один аспект его критики метода соединения противоположностей без опосредующего начала. Ведь «бесконечное» у Платона есть «большое и малое», а у пифагорейцев — беспредельное, а из единства беспредельного и предела возникает, согласно им, число (как и все сущее вообще).
134 Физика, III, 4, 204а.
135 Физика, III, 6, 206b.
136 Физика, III, 4, 204а.
316
Раздел второй
как беспредельное движение по конечному; каждый раз, имеем ли мы дело с экстенсивной бесконечностью, например в процессе счета, или с интенсивной (в результате деления определенного отрезка), мы каждый раз получаем как угодно малую, но всегда конечную величину 137. Здесь принцип непрерывности оказывается принципом потенциальной бесконечности. «Вообще говоря, — пишет Аристотель,— бесконечное существует таким образом, что всегда берется иное и иное, и взятое всегда бывает конечным, но всегда разным и разным... Притом для величины это происходит с сохранением взятого, для времени и людей — вместе с их уничтожением, так, однако, чтобы не было перерыва» 138.
Как понять смысл последнего замечания? В чем отличие величины от «времени и людей»? Это отличие Аристотель видит в том, что если величина, получаемая в результате деления, сохраняет в себе как бы «в снятом виде» пройденные этапы, становясь все меньше и меньше, то время, протекшее до настоящего момента, исчезает, не сохраняясь. Характерно, однако, что в этом последнем смысле, как говорит Аристотель, «бесконечное будет актуальным» 139. Это замечание может ввести в заблуждение, если не принять во внимание оговорки Аристотеля, что «бесконечное как энтелехия» (т. е. осуществленное и в этом смысле актуальное) существует по совпадению;
137 Потенциальную бесконечность Гегель впоследствии назвал «дурной», или «конечной», бесконечностью на том именно основании, что здесь мы всегда имеем дело с конечной величиной, хотя и движемся бесконечно.
138 Физика, III, 6, 206а — 206b.
139 См.: Физика, III, 6, 206а. «...Так как бытие существует во многих значениях, то бесконечное будет как день или как состязание в том смысле, что становится всегда иным и иным. Ведь указанные предметы существуют и потенциально, и актуально: олимпийские игры существуют и как возможное наступление состязаний, и как наступившее...» (Физика, III, 6, 206а). Бесконечное, существующее как наступившее состязание, Аристотель называет существующим «в качестве энтелехии» — ведь состязание наступило и осуществляется актуально. Вот почему он говорит, что «бесконечное существует не иначе, как потенциальное и путем отнятия, с одной стороны, и как энтелехия — с другой» (Физика, III, 6, 206b).
Становление первых научных программ
317
другими словами, актуальным будет «день или состязание», а не само бесконечное.
Итак, отвечая на вопрос о том, существует ли бесконечное, Аристотель формулирует один из кардинальных тезисов своей научной программы: бесконечное существует потенциально, но не существует актуально. Иначе говоря, бесконечное не пребывает как нечто законченное, а всегда становится, возникает; оно не есть что-то действительное, а только возможное. Но остюда с очевидностью следует, что бесконечное для Аристотеля есть материя, ибо именно материя определяется им с самого начала как возможность. «Бесконечное есть материя для завершенности величины и целое в потенции, а не актуально, оно делимо и путем отнятия и путем обращенного прибавления, а целым и ограниченным является не само по себе, а по-другому; и поскольку оно бесконечно, не охватывает, а охватывается» 14°.
Хотя Аристотель и полемизирует с Платоном и пифагорейцами относительно логического и онтологического статуса бесконечного, темне менее, определяя бесконечное как нечто неопределенное (ибо материя сама по себе, без формы, есть нечто неопределенное), он остается на почве характерной для греков, в том числе и для Платона, «боязни бесконечного». Платон также считает (диалог «Парменид»), что если нет единого, то ничто не может ни существовать, ни быть познаваемо, ибо беспредельное само по себе неуловимо для мышления. Аналогично рассуждает и Аристотель, связывая бесконечное с материей: «Поэтому оно и непознаваемо как бесконечное, ибо материя не имеет формы» 140 141. И в самом деле, имея дело с потенциальной бесконечностью, мы всегда, как уже отмечалось, схватываем (т. е. познаем) лишь конечное — бесконечность же выражается тут в том, что это конечное «всегда иное и иное» 142. Аристотелевское понимание бесконечности как материи, или потенциальности, имеет огромное значение для его обоснования как физики, так и математики.
140 Физика, III, 6, 207а.
141 Физика, III, 6, 207а.
142 Невольно вспоминается платоновское определение беспредельного как «иного».
318
Раздел второй
Аристотель радикально различает бесконечное от деления и бесконечное от прибавления (т. е. интенсивную и экстенсивную бесконечности) в одном отношении 143, а именно: бесконечное от прибавления не может превзойти всякую определенную величину 144, а бесконечное от деления может. «Превзойти всякую величину путем прибавления невозможно даже потенциально,— говорит Аристотель,— если только не будет по совпадению бесконечного, как энтелехии» 145, о чем шла речь выше. Откуда же берется такое «неравенство» экстенсивной и интенсивной бесконечности? Бесконечное — это материя, оно не охватывает, а охватывается; в случае интенсивной бесконечности мы имеем определенную величину, допустим, отрезок известной длины, ограниченный двумя точками — границами, полагающими ему предел (границы эти суть момент формы), т. е. охватывающими его. Здесь бесконечное охватывается своими «концами», деление происходит внутри охваченного. Напротив, когда речь идет об экстенсивной бесконечности, то величина неограниченно растет, и охватывать тут должна была бы уже не форма (ибо тут границы нет, она убегает в бесконечность), а сама материя, что, согласно ранее сказанному, невозможно.
Одним словом, величина может бесконечно уменьшаться, но она не может бесконечно расти. Обратное мы имеем в случае числа: оно может бесконечно расти, но не может бесконечно уменьшаться; ведь его нижний предел — единица — не может быть превзойден, иначе оно перестанет — для грека — быть числом. Эту «обратную зависимость» числа и величины Аристотель характеризует в следующем отрывке, вскрывая при этом их глубокую внутреннюю связь: «...для числа имеется предел в направлении к наименьшему, а в направлении к наибольшему оно всегда превосходит любое множество, для величин же наоборот: в направлении к большему бесконечной вели
143 Как мы покажем ниже, в другом отношении обе эти бесконечности тождественны.
144 Здесь, видимо, Аристотель рассуждает иначе, чем Евдокс, и не принимает его аксиому.
14~ Физика, III, 6, 206b. (курсив мой.— П. Г.).
Становление первых научных программ
319
чины не бывает. Причина та, что единица неделима, чем бы она ни была... А в направлении к большему множеству всегда можно продолжать мысль, так как дихотомические деления величин бесконечны» 146. Последняя фраза этого отрывка может вызвать недоумение: ведь Аристотель всегда отличает число (множество) и величину, а тут они как бы отождествляются. В действительности же здесь, конечно, никакого отождествления нет, а скорее устанавливается именно что-то вроде «обратной зависимости»: Аристотель рассматривает процесс дихотомического деления определенной величины как процесс порождения числового ряда 147. Здесь хорошо видна связь двух «пределов»: тот самый предмет, который служит нижним пределом числового ряда — единицей, является верхним пределом для величины; так что мера для числа — его единица — оказывается мерой и для величины, образно говоря, ее единицей; только для числа единица —
146 Физика, III, 7, 207b.
147 Этот отрывок комментирует К. Прантль: «Индивидуальное единство есть понятийно (begrifflich) интенсивное, ему противостоит материально (stofflich) телесное, экстенсивное как источник множества, поэтому прогрессивный ряд чисел у Аристотеля должен, по-видимому, вытекать из экстенсии телесной материальности, которая делима до бесконечности — таким образом и человек как бы научился непрерывному (stete) продолжению счета. Поэтому и говорится, что этот счет пе может быть оторван от продолжающегося деления... Что же касается индивидуального единства, то благодаря ему множество как бы ограничивается и держится в узде; благодаря ему оно оформляется в конкретную тотальность (то ouvoXov); именно от него, индивидуального единства, начинается поэтому деление его экстенсивной составной части (материальной величины) и идет в нисходящем порядке (abwiirts — букв, «вниз») в бесконечное. Полученный таким образом числовой ряд, поскольку мы его отрываем, как раз и есть то, с помощью чего мы считаем в восходящем порядке (aufwarts — букв, «вверх»), начиная с единицы и теперь уже пользуясь абстрактными числами. Именно поэтому для Аристотеля бесконечное применительно к числам существует только в восходящем порядке, через прибавление, а применительно к величинам — только в нисходящем порядке, через деление; но прийти в конце концов к актуально-бесконечному мы не можем ни в одном из этих двух направлений, именно потому, что бесконечное не имеет границы, конца...» (Prantl К. Anmerkungen zur Aristoteles’ Pbysik.— В кн.: Aristotcles’ Acht Bucher Phy-sik. Leipzig, 1854, S. 493).
320
Раздел второй
это начало счета, а для величины — конец ее роста. Без меры же, по Аристотелю, нет ни числа, ни величины.
Мы остановились подробно на этом вопросе по двум причинам: во-первых, потому, что он является важным принципом аристотелевской физики, из которого, в частности, с необходимостью вытекает конечность мира. Во-вторых, потому, что именно в этом пункте физика (и метафизика) Аристотеля подверглась решительному пересмотру в эпоху Возрождения как в математике, так и в космологии. Пересмотр этот подготовил почву для мышления нового времени; понятия числа и величины больше уже не противопоставляются друг другу так жестко, как это было характерно для античной науки, поэтому нашему современнику нелегко вникнуть в аргументацию Аристотеля и понять, почему же величина может бесконечно уменьшаться, но не может бесконечно расти, а число — наоборот. Ведь с точки зрения современной математики нет ни наименьшего числа, ни наибольшей величины: всегда можно превзойти любое сколь угодно малое число, так же как и любую сколь угодно большую величину.
Из этих размышлений Аристотеля непосредственно вытекает известное положение в его физике, а именно что не можеФ существовать бесконечное, чувственно воспринимаемое тело 148. Аргументация Аристотеля в пользу этого положения проливает дополнительный свет также и на рассмотренный нами тезис о невозможности величине быть не только бесконечно большой, но и становиться сколь угодно большой: «Что такое тело вообще невозможно, ясно из следующего. По природе все воспринимаемое чувствами находится где-нибудь, и есть известное место для каждой вещи, одно и то же для части и для целого, например для всей земли и для отдельного комка, для огня и для искры. Так что если бесконечное тело однородно, оно будет неподвижным или вечно будет передвигаться. Однако это невозможно: почему оно будет внизу, а не вверху
148 Это один из главных вопросов аристотелевской физики: «Главным делом физика является рассмотрение вопроса, существует ли бесконечная величина,воспринимаемая чувствами» (Физика, III, 4, 203b - 204а).
Становление первых научных программ
321
или где бы то ни было? Я имею в виду, если будет, например, комок, куда он будет двигаться или где будет пребывать? Ведь место сродного ему тела бесконечно. Может быть, он захватит все место? А каким образом? Какое же и где будет его пребывание и движение? Или повсюду он будет пребывать? Тогда он не будет двигаться. Или повсюду он будет двигаться? Тогда он не остановится» 149.
Как видим, по Аристотелю, невозможно мыслить бесконечное тело, так как невозможно определять движение иначе чем через место. Возникает вопрос, идет ли речь о том, что бесконечную величину невозможно помыслить или же ее невозможно себе наглядно представить. Поскольку у самого Аристотеля идет речь о «бесконечной величине, воспринимаемой чувствами», то естественно возникает соображение, что «в его аргументации против возможности бесконечно большого значительную роль приобретали чувственная наглядность и представимость. Он не мог, например, представить себе, чтобы бесконечно большое тело могло совершить оборот в конечное время» (Зубов В. П. Аристотель, с. 118). С этим соображением В. П. Зубова, однако, невозможно согласиться, хотя сам способ связи мышления и чувственного созерцания в философии Аристотеля очень своеобразен и затрудняет однозначное решение подобных вопросов. Тем не менее в данном случае можно показать, что речь идет у Аристотеля не просто о невозможности созерцания бесконечно большого тела. Ведь он не допускает не только актуального существования бесконечно большой величины, по даже и потенциально-бесконечного возрастания ее, хотя в последнем случае созерцанию подлежит не сама величина, а процесс ее возрастания, ничем — для созерцания — не отличающийся от процесса убывания величины, допускаемого Аристотелем. Мы так же можем себе представить непрекращающуюся процедуру сложения, как и непрекращающуюся процедуру деления; тем не менее первая процедура применительно к величине запрещена, а вторая дозволена. И основания тому лежат в принципах мышления Аристотеля, в понятиях материи и формы, а не в возможностях созерцания.
149 Физика/III, 5, 205а.
Ц П. П. Гайденко
322
Раздел второй
Место играет в физике Аристотеля роль некоторой абсолютной системы координат, по отношению к которой только и можно вести речь о движении любого тела. Абсолютное место — это и то, куда движется тело, и то, откуда оно движется: если не окажется ни верха, ни низа, то всякое тело будет дезориентировано в своем движении. Подобно тому как всякое дихотомическое деление предполагает в качестве своего условия некоторую определенную величину, т. е. величину, ограниченную своими пределами, а без этого такое деление, по Аристотелю, невозможно, подобно этому и условием возможности движения является нечто определенное, а именно замкнутый (конечный) космос, имеющий свой верх и свой низ, центр и периферию, и только по отношению к этим абсолютным местам (как точкам отсчета) можно говорить об определенном движении, закон и порядок которого познаваем. В противном случае, по Аристотелю, движение вообще нельзя отличить от покоя, и непонятно, что будет побуждать тело к движению,— ведь в бесконечном теле все места одинаковы. Тело либо «повсюду будет двигаться» (принцип инерции!), либо повсюду пребывать.
Весь этот ход рассуждения Аристотеля облегчает понимание аристотелевской категории места, столь необычной йля нашего современного научного мышления; понятие места активно обсуждалось в средневековой физике, особенно в XIII и XIV вв., и было одной из «точек роста» механики нового времени. Аристотель определяет место как «первую неподвижную границу объемлющего тела»; 150 моделью места для него служит сосуд — место, в котором находится его содержимое.
Интересно отметить, что аристотелевское определение места представляет известные затруднения не только для современных ученых, чье мышление проникнуто принципом относительности, характерным для физики нового времени; оно не было общепринятым и в греческой науке — не случайно же Аристотель постоянно полемизирует с другими «физиками» относительно понимания «места». Но Аристотелю важно определить место именно как границу, ибо граница есть то основное определение, которое
Физика, IV, 4, 212а.
СтайойЛеййё первых научных программ
323
«держит в узде» бесконечность, делая ее из чего-то полностью неопределенного определенной величиной. Граница, таким образом, есть некая абсолютная система координат: «место не пропадает, когда находящиеся в нем вещи гибнут» 151. Поэтому для Аристотеля не только через вещи определяется место, но и вещи — через место 152: место в этом смысле наделено как бы некоторой силой, «Место,— говорит Аристотель,— есть не только печто, но оно имеет и какую-то силу. Ведь каждое из них (физических тел.— П. Г.), если ему не препятствовать, несется в свое собственное место, одно вверх, другое вниз, а верх, низ и прочие из шести измерений —части и виды места»153.
Таким образом, положение о том, что величина может бесконечно уменьшаться, но не может бесконечно возрастать, а число — наоборот, учение о невозможности для тела быть бесконечно большим и, наконец, определение места как «границы объемлющего тела» — все эти моменты аристотелевской физики тесно связаны с аристотелевским решением проблемы бесконечного. Аристотель не забывает отметить, что отрицание им актуальной бесконечности в физике не вступает в противоречие с математикой: «Наше рассуждение, отрицающее актуальность бесконечного в отношении увеличения, как не проходимого до конца, не отнимает у математиков их теории: ведь они не нуждаются в таком бесконечном и не пользуются им: математикам надо только, чтобы ограниченная линия была такой величины, как им желательно, а в той же пропорции, в какой делится величайшая величина, можно разделить какую угодно другую» 154. И Аристотель был прав, так как он мог спокойно сослаться на Евдокса и его учеников 155.
161 Физика, IV, 1, 209а.
162 Невольно возникает аналогия с рассмотренным выше учением Аристотеля о сущности: сущность не определяется через отношения, последние вторичны по сравнению с ней. Место тоже имеет в себе что-то от сущности для физической системы Аристотеля.
163 Физика, IV, 1, 208b.
164 Физика, III, 6, 207а.
156 «Можно с уверенностью утверждать, что Аристотель имел в виду школу Евдокса, когда говорил о математиках, не пользующихся актуальной бесконечностью»,— пишет И. Г. Башмакова (Историко-математические исследования, вып. XI, с. 333).
11
324
Раздел второй
В связи с понятием бесконечного остается, однако, не рассмотренным еще один вопрос. Аристотель, как мы видели, определяет бесконечное как то, вне чего всегда есть еще что-то. А может ли существовать нечто такое, вне чего больше ничего нет? Если да, то как следует называть это? «...Там, где вне ничего нет,— говорит Аристотель,— это закопченное и целое: ведь мы так именно и определяем целое: это то, у которого ничто не отсутствует, например, целое представляет собой человек или ящик... Целое и законченное или совершенно одно и то же или сродствеппы по природе: законченным не может быть ничто, не имеющее конца, конец же граница» 156. Если бесконечное — это материя, то целое — это материя оформленная, и «конец», который дает оформление целому, завершает его 157,— это и есть сама форма. Греческая наука делает акцент именно на конце, границе, ибо тут — начало оформления, а вместе с ним и начало познания: неоформленное, беспредельное как таковое — непознаваемо. Поэтому и бесконечное, число или величина, не может быть бесконечным «в обе стороны»: ибо в этом случае о нем вообще ничего нельзя было бы знать. Хотя бы один «конец» должен быть налицо: для числа — нижняя граница, для величины — верхняя.
На первый взгляд кажется, что исключение здесь составляет время: ведь оно бесконечно «в обе стороны» — и в прошлое, и в будущее. Однако, по Аристотелю, у времени тоже есть свой «конец», только он не «внизу» и не «вверху», в «середине». Таким «концом», «границей» времени является момент «теперь», который сам не есть время, но без которого мы не могли бы вообще говорить о времени. Причем эта «граница» весьма своеобразна; опа содержит в себе одновременно и начало, и конец: начало — будущего, конец — прошлого 158. Бесконечность
156 Физика, III, 6, 207а.
157 «Конец» и «цель» — это одно и то же слово — «телос». «Телос же — это перас (предел)»,— говорит здесь Аристотель. И когда мы читаем у Евклида, что «концы линии — точки», то не следует упускать из виду этот двойной смысл слова «конец».
168 «...Невозможно, чтобы время существовало и мыслилось без «теперь», а «теперь» есть какая-то середина, включающая в себя одновременно начало и конец — начало будущего и конец прошедшего...» (Физика, VIII, 1, 251b).
Становление первых научных программ
325
«в обе стороны» обеспечивается, таким образом, характерной для времени — и только для пего — границей, в которой то, что обычно разделено, а именно начало и конец, оказывается совпавшим в одной точке — «теперь». Не случайно время у многих мыслителей ассоциируется с образом круга 159: именно круг есть данная наглядно модель того, в чем начало и конец совпадают в одной точке. Но время все же и не вполне круг: граница «теперь» — это конец одного времени (протекшего) и начало другого (имеющего протечь), а в круге любая точка — это начало и конец одного и того же. Поэтому время — нечто вроде разомкнутого круга, круга, ставшего бесконечной прямой линией, убегающей в обе стороны от точки «теперь».
Вечный двигатель. Неделимое в физике Аристотеля. Рассмотрев содержание принципа непрерывности и связь его с аристотелевской концепцией бесконечного, мы можем теперь обратиться к аристотелевой теории движения в целом. Значение этой теории в становлении науки трудно переоценить: это в сущности исторически первая теория движения, а именно теория движения, по справедливому замечанию Ф. Франка, которая «является основной теорией для всех наук» 16°. Непрерывность, как мы уже говорили, является фундаментальной характеристикой движения. Именно потому, что перемещение более остальных видов движения способно явить свою непрерывность 161, оно, по Аристотелю, имеет приоритет перед другими видами движения.
Однако эмпирический опыт свидетельствует о том, что не всякое движение непрерывно; в природе одни предметы всегда движутся, другие покоятся, третьи то движутся, то покоятся. Это фактическое положение дела должно получить свое объяснение в теории движения Аристотеля.
169 «Так как «теперь»,— пишет Аристотель, — является концом и началом времени, только не одного и того же, а концом прошедшего, началом будущего, то подобно кругу, который в одном и том же месте и выпукл, и вогнут, и время всегда начинается и кончается» (Физика, IV, 13, 222а — 222b. Курсив мой.— П. Г.).
180 Франк Ф. Философия науки. М., 1960, с. 170.
161 Именно перемещение равномерно, поэтому оно и первое из движений: «...ни качественное изменение, ни рост, ни возникновение не равномерны, а только перемещение» (Физика, IV, 14, 223b).
326
Раздел второй
И оп дает такое объяснение, вводя понятие «первый двигатель» и различая движения в зависимости от того, насколько опосредована их связь с первым двигателем.
Для того чтобы понять, почему Аристотель допускает перводвигатель, достаточно вспомнить, что при рассмотрении движения он всегда требует различать движущее и движимое, но никакого самодвижения не допускает. При этом исключения не составляют живые и даже одушевленные существа 162. Что касается неодушевленных тел, то они, по Аристотелю, всегда движимы чем-нибудь другим. При этом их движение будет либо естественным (когда они движутся на «свое» место — огонь вверх, земля вниз), и тогда их движет «место» 163, либо насильственным, и тогда их движет какое-либо другое тело или система тел. Тут, как видим, можно всегда отличить движущее от движимого.
А как быть с движением одушевленных существ, которые, по-видимому, движут себя сами? Как в этом случае не признать, что существуют самодвижущиеся тела? Здесь движущее и движимое, как кажется, совпадают. Если бы Аристотель строил свою физику по «органической» модели, как это считает Франк, он должен был бы признать, во-первых, что движение не является непрерывным (ибо животные представляют собой картину само-прекращающегося и самовозбуждающегося движения), а во-вторых, исходить из наличия тождества движущегося и движимого, усматривая это тождество воплощенным в движении живого существа. У Аристотеля же читаем: «Мы видим... воочию существа, которые движут сами себя, например те, которые принадлежат к роду одушевленных существ и животных. Это именно и внушило
162 Именно в этом пункте наглядно видно, почему Аристотеля не следует характеризовать как органициста, а его теорию движения — как «органическую». Например, Ф. Франк пишет в этой связи, имея в виду перипатетическую физику античности и средних веков: «Она трактовала движение неодушевленных тел (таких, как камни) по аналогии с движением животных» (Франк Ф. Философия* науки, с. 174).
163 Можно сказать и иначе: в этом случае тела из потенциального состояния переходят в свойственную им актуальность, или энергию (см.: Физика, VIII, 4, 255а — 255b).
Становление первых научных программ
327
нам мнение... не может ли возникать движение, не будучи раньше совсем, так как нам пришлось видеть это в указанных телах; ведь будучи известное время неподвижными, они снова начинают двигаться: так это кажется. Это, однако, надо понимать таким образом, что они движут себя только одним движением и притом не в собственном смысле: ведь причина исходит не от самого животного, но в них происходят другие физические движения, которыми они движутся не сами по себе, например рост, убыль, дыхание, которые производит каждое животное, находясь в покое и не двигаясь собственным движением. Причиной этому является окружающая среда и многое из того, что входит внутрь...» 164. Таким образом, и в случае с одушевленными телами «первое начало движения находится вовне» 1б5. Движимое и движущее и здесь также различны.
Движущее может быть либо подвижным, либо неподвижным. Так, если человек с помощью палки толкает камень, то в этой системе следует различать несколько звеньев: палка и рука будут подвижными двигателями, сам же человек — неподвижным. И неподвижный двигатель в этой системе будет исходным началом движения, а подвижные — только передаточными инстанциями. В основе аристотелевской теории движения лежит утверждение: первично движущее во всех случаях движения является неподвижным. В любом движущемся теле, если оно, подобно животному, движет себя само, Аристотель различает части движущиеся и движущие 1б6. При этом, если движущая часть является и сама движущейся, по совпадению, то вся система не сможет производить непрерывного движения: она в конце концов остановится.
164 Физика, VIII, 6, 259b.
186 Физика, VIII, 6, 259b. Более детально вопрос о движении живых существ будет рассмотрен ниже.
188 «...В том, что само себя движет, одна часть движет, другая движется...» (Физика, VIII, 5, 257b). Как видим, живые существа в физике Аристотеля рассматриваются по аналогии с неживыми, а не наоборот. И потому невозможно согласиться с Ф. Франком, когда он пишет: «Эта организмическая теория могла применяться как к живым организмам, так и к неодушевленной природе; на самом же деле ее было легче применять к живым организмам» (Франк Ф. Философия науки, с. 177).
328
Раздел второй
Так, по совпадению, мотор (движущее) движется вместе с автомобилем (движимое), но именно поэтому такая система никогда не сможет двигаться вечно 167.
Следовательно, для того чтобы движение могло продолжаться непрерывно и всегда, движущее должно быть само неподвижным, оно не должно двигаться даже и по совпадению. Поскольку же в природе движение существует всегда и никогда не прекращается, «то необходимо должно существовать нечто вечное, что движет как первое... и должен существовать первый неподвижный двигатель»168. Этот вывод с необходимостью вытекает из исходного допущения, а именно различения движущего и движимого. Именно это различение и подверглось критике в эпоху Возрождения; отмена его привела к необходимости искать другого способа обоснования вечности движения.
Каким же способом движет вечный двигатель и каково то первое движение, которое от пего происходит? Поскольку вечный двигатель должен обеспечить вечность и непрерывность движения, то он должен двигать движимое круговым движением, ибо только круговое движение может быть поистине непрерывным. Ведь всякое движение по прямой линии, с точки зрения Аристотеля, не может быть вечным, ибо прямая линия не может продолжаться бесконечно: как мы уже знаем, никакой бесконечно большой величины, по Аристотелю, не существует. Что же касается ограниченной прямой, то движение по ней не может быть непрерывным: дойдя до конца, тело должно повернуть обратно, и в момент поворота тело неизбежно останавливается — в том смысле, что конечная точка становится начальной точкой движения в противоположном направлении, и движение тем самым делает из одной точки две — а в этом как раз и состоит «перерыв». Поэтому «непрерывное движение по прямой не может быть вечным» 169.
Таким образом, для того чтобы движение существовало непрерывно, необходимо допустить вечный перводвига-
167 Аристотель, конечно, приводит в качестве такого рода примеров живые существа, но принцип тут один и тот же, только в случае с автомобилем он нагляднее.
168 Физика, VIII, 6, 258b.
169 Физика, VIII, 8, 263а.
Становление первых научных программ
329
тель, который, сам будучи неподвижен, движет первое движимое круговым движением. Таким первым движимым является небо: оно движется круговым движением 170. Это движение вечно и непрерывно, оно также равномерно в большей степени, чем любое другое, ибо оно является в сущности эталоном равномерности. «Именно круговое движение является единым и непрерывным, а не движение по прямой, так как по прямой определены и начало, и конец, и середина... так что есть место, откуда может начаться движение и где окончиться... в круговом же движении ничто не определено: почему та или иная точка будет границей на круговой линии? Ведь каждая точка одинаково и начало, и середина, и конец... Поэтому шар движется и в известном отношении покоится, так как он всегда занимает то же место. Причиной служит то, что все это вытекает из свойства центра: он является и началом, и серединой, и концом всей величины, так что вследствие его расположения вне окружности негде движущемуся телу успокоиться, как вполне прошедшему; оно все время движется вокруг середины, а не к определенному концу. А вследствие этого целое всегда пребывает в известного рода покое и в то же время непрерывно движется» 171. Таково движение небесного свода — первое из всех движений, обеспечивающее непрерывность природных движений вообще.
Что же представляет собой первый двигатель? Или каким следует мыслить себе первый двигатель, чтобы он мог обеспечить непрерывное и вечное движение небесного свода, а тем самым и всякое движение в природе? Аристотель отвечает так: для этого первый двигатель должен быть неделимым, т. е. не имеющим никаких частей, а стало быть, и никакой величины. Это положение он аргументирует тем, что ничто конечное не может двигать
170 Аристотель отличает круговое движение (каким движется’по-истине только одно «тело» — небо) от движения по кругу, каким могут двигаться многие тела. «...Не одно и то же двигаться круговым движением и по кругу, так как в одном случае движение непрерывно соединяется, в другом движущееся, придя в то место, откуда начало двигаться, поворачивает назад» (Физика, VIII, 8, 262а).
171 Физика, VIII, 9, 265а — 265b.
330
Раздел второй
в течение бесконечного времени; всякая же величина конечна (бесконечной величины, как мы уже говорили, Аристотель не допускает), а в конечной величине немыслима бесконечная сила 172.
Итак, двигаться может только то, что имеет величину и, следовательно, делимо до бесконечности. В то же время ничто из имеющего величину не может двигать себя само: самодвижение аристотелевская физика принципиально исключает, не случайно у Аристотеля движущее и движимое всегда различены. Напротив, то, что движет, движет тем непрерывнее (и совершеннее), чем оно неподвижнее] и наисовершеннейшее из движений то, которое непосредственно производит неподвижный двигатель. Движущее неделимо, оно непричастно никакой величине, в нем нет ничего потенциального. Двигатель же, который сам тоже движется («по совпадению»), не может быть вечным, ибо, по словам Аристотеля, он будет «сопровождать движение и сам изменяться» 173. Следовательно, чтобы существовало потенциально-бесконечное, каким является движение, время и величина, необходимо, чтобы существовал вечный двигатель. В физике Аристотеля, так же как и в его метафизике, действительное (актуальность, энергия) первичнее возможного (потенции). Принцип непрерывности, непрерывной делимости для своего осуществления нуждается в существовании чего-то неделимого, потенциально-бесконечное — в существовании чистой актуальности.
Но как может двигать то, что само неподвижно? Оно движет так, говорит Аристотель, как «предмет желания и предмет мысли: они движут, (сами) не находясь в движении» 174. Вечный двигатель, стало быть, движет как причина целевая, т. е. как цель. Аналогия с мышлением здесь весьма существенна: Аристотель подчеркивает, что мыслящий ум приводится в движение действием того, что им постигается 175. Но не только предмет мысли есть для
172 Доказательства этому даны Аристотелем в 10-й главе VIII книги «Физики».
173 Физика, VIII, 10, 267а - 267b.
17\Метафизика, XII, 7.
175 Метафизика, XII, 7.
Становление первых научных программ
331
мысли ее «перводвигатель»; та же интенциональная структура характеризует и другие душевно-духовные движения. Желание, стремление, любовь тоже движимы «неподвижным двигателем» — своей целью. «...Движет она (цель. — П. Г.) как предмет любви, между тем все остальное движет, находясь в движении (само)»176. Вечный двигатель, таким образом, мыслится Аристотелем как живой и деятельный разум. «И жизнь, без сомнения, присуща ему: ибо деятельность разума есть жизнь, а он есть именно деятельность: и деятельность его, как она есть сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы утверждаем поэтому, что бог есть живое существо, вечное, наилучшее, так что жизнь и существование непрерывное и вечное есть достояние его» 177. Так физика Аристотеля оказывается тесно связанной с его метафизикой: наука о мире непрерывного и делимого — с теорией неделимого и не имеющего величины.
Однако двигатель и движимое противоположны по своим определениям: движимое движется, двигатель неподвижен, движимое имеет величину (бесконечно делимо), двигатель ее не имеет (неделим), движимое, стало быть, всегда в определенном месте и времени (где-то и когда-то), двигатель — нигде и никогда (или везде и всегда). Каким же образом эти две противоположности могут оказаться связанными друг с другом? Что опосредует их? Через какого «посредника» вечный двигатель может соединиться с природными движениями и быть их «двигателем»?
Аристотель и здесь вводит «средний термин» — движение небесного свода. Это особое движение, оно может служить посредником между «конечными» движениями земных вещей и «вечной неподвижностью» двигателя, ибо имеет общее как с первыми, так и со вторым. В самом деле, оно есть движение, а не неподвижность и потому сходно с другими движениями; но оно в то же время такое движение, которое «в известном отношении покоится»: ведь именно в этом — специфика кругового движения. Таким образом, движение небесного свода есть средний
176 Там же.
177 Там же.
332
Раздел второй
термин между потенциальной бесконечностью земных движений и актуальной вечностью перводвигателя.
Но движение небесной сферы — это то, чем измеряется время. Можно, впрочем, сказать и так, что движение небесного круга измеряется временем. «Если первое,— пишет Аристотель,— является мерой всего сродного, то равномерное круговое движение является самым известным. ...Оттого время и кажется движением небесной сферы, что этим движением измеряются прочие движения и время измеряется им же... И само время кажется каким-то кругом. А оно в свою очередь кажется кругом потому, что измеряет движение такого рода и само им измеряется» 178. Таким образом, время (оно же — движение небесного свода) является посредником между следующими противоположностями — актуальностью и потенциальностью, неделимым—делимым, неподвижным—вечно движущимся.
Категория времени в физике Аристотеля. Время как число движения. Для создания теории движения Аристотелю необходимо было также разработать понятия времени и места, ибо первое движение, т. е. перемещение, определяется через «то, что движется», «где движется» и «когда движется». В литературе, посвященной анализу естественцонаучных взглядов Аристотеля, можно встретить высказывание о том, что его интерпретация времени представляет собой одну из наиболее глубокомысленных страниц не только его научно-философского наследия, но и истории человеческого мышления вообще 179. Между тем интерпретация Аристотелем пространства с помощью категории места часто оценивается историками науки как один из наиболее слабых пунктов его физики и космологии: поэтому его ставят далеко позади его античных предшественников — досократиков и Платона.
Однако в рамках научной программы самого Аристотеля его категория «места» была совершенно органичной, точно так же как и его понимание времени. И «отменить» аристотелевское учение о «природе места» можно было только вместе со всей его научной программой.
1?» Физика, IV, 14, 223b.
179 См.: Fink Е. Zur ontologischen Frtihgeschichte von Raum-Zeit-Bewegung. Den Haag, 1957, S, 230.
Становление первых научных программ
333
Как Аристотель определяет время и место? Время, подчеркивает он, есть такая реальность, анализировать которую очень трудно 180. Те, кто пытался определить время, связывали его с движением небесной сферы: так, «одни говорят, что время есть движение целого (вселенной), другие — что это сама сфера» 181. Первая точка зрения, видимо, принадлежит Платону, вторая — пифагорейцам. Аристотель, однако, не согласен с ними: хотя время, говорит он, и связано с круговращением, но оно само не есть круговращение. Время, правда, всегда представляется каким-то движением, и оно действительно не существует без движения. Когда мы не замечаем никакого движения (ни вне нас, ни в нас самих), то мы, говорит Аристотель, не замечаем и времени. Распознаем же мы время, когда разграничиваем движение, воспринимая один раз одно, другой раз другое, а между ними нечто отличное от них. Но «время не есть движение, а является им постольку, поскольку движение имеет число... А так как число имеет двоякое значение: мы называем числом, с одной стороны, то, что сосчитано и может быть сосчитано, с другой — посредством чего мы считаем, то время есть именно число считаемое, а не посредством которого считаем» 182. Время, таким образом, определяется Аристотелем как число движения по отношению к предыдущему и последующему.
Если время — число движения, а с помощью числа мы измеряем ту или иную величину, то, стало быть, движение измеряется временем 183. И действительно, Аристо-
ве «чТо время или совсем не существует, или едва существует, будучи чем-то неясным, можно предполагать на основании следующего. Одна часть его была и уже не существует, другая — в будущем, и ее еще нет; из этих частей слагается и бесконечное время и каждый раз выделяемый промежуток времени. А то, что слагается из несуществующего, не может, как кажется, быть причастным существованию» (Физика, IV, 10, 217b—218а).
181 Физика, IV, 10, 218а.
182 Физика, IV, И, 219b.
183 Насколько, однако, трудно отделить время от движения, можно видеть по тому, что, признав время мерилом движения, Аристотель тут же добавляет, что и время в свою очередь измеряется движением — «вследствие их взаимного определения, ибо время определяет движение, будучи его числом, а движе-
334
Раздел второй
тель характеризует время как меру движения 184. «Отсюда ясно,— заключает Аристотель,— что и для всего прочего нахождение во времени обозначает измерение его бытия временем. Ведь находиться во времени значит одно из двух: во-первых, существовать тогда, когда существует определенное время, во-вторых, в Iom смысле, как мы говорим о некоторых вещах, что они «в числе». Это указывает для вещи или что она часть числа, его состояние и вообще что-нибудь от числа, или что у нее имеется число. А так как время есть число, то «теперь», предшествующее и все подобное им так же находятся во времени, как единица, нечетное и четное в числе... предметы же находятся во времени, как в числе. Если это так, то они охватываются числом, как предметы, находящиеся в месте, местом» 185.
Как видим, сам Аристотель сравнивает понятие времени с понятием места: подобно тому как предметы объемлют-ся местом, подобно этому они объемлются и временем. О том, что аристотелевское понимание времени отличается от того понимания, которое возникло в науке XVI — XVII вв., свидетельствует одна любопытная деталь. Разъясняя, что все вещи, кроме вечных, объемлются временем, Аристотель неожиданно приходит к любопытному заключению, что «время само по себе является причиной уничтожения: оно есть число движения, движение же выводит существующее из его положения» 186. С точки зрения абстрактного понимания времени, как мы его находим у Галилея, Декарта, Ньютона, время в такой же степени яв-
ние — время» (Физика, IV, 12, 220в). Поэтому понятно, почему Платон отождествлял время с движением небесной сферы: оторвать одно от другого не может и Аристотель. Но последнему необходимо это сделать, поскольку для него всякое природное сущее (небо тоже природное сущее), будучи наделенным материей (пусть даже и такой «тонкой», как эфир), принципиально отличается от таких категорий, как число, время и т. д. Для Платона же такой необходимости (отделять) не существует, ибо в основу своей научной программы он кладет принцип отношения, а не «сущности».
184 Так как время — мера движения, то оно же и мера покоя: покой тоже существует во времени. Аристотель поясняет, что поскольку время не движение, а число движения, то в числе движения возможно быть и покоящемуся.
186 Физика, IV, 12, 221в (курсив мой,— П. Г.),
186 Там же.
Становление первых научных программ
335
ляется причиной возникновения 187, как и уничтожения,— нет никакого основания для предпочтения того или другого, так же как и в абстрактном пространстве механики нового времени тоже нет предпочтительных точек (или абсолютных мест — верха и низа, центра и периферии). Для Аристотеля же время есть мера движения или покоя вещи, и эта мера у каждой вещи своя. Время отмеряет каждому сущему его срок; поэтому оно пе вполне абстрактно и не вполне «равнодушно» к своему содержанию.
Здесь вновь напрашивается аналогия с живыми организмами. Ибо, если что и имеет всегда свой «срок», свою временную меру, так это живое существо. Но этой аналогией не следует слишком увлекаться. Анализ физики Аристотеля потому и труден, что, с одной стороны, при рассмотрении природы он всегда помнит, что живые существа — это тоже природа и что их определения надо учитывать при построении науки о природе — физики (в отличие от физики нового времени, которая сознательно абстрагируется от живого), а с другой — он также имеет в виду, что природа — это и неорганические вещи, стихии: огонь, воздух, вода, земля, минералы, это, наконец, также и небесные светила — поэтому понятие природы и средства ее научного истолкования должны быть такими, чтобы они учитывали свойства как живой, так и неживой природы.
То же имеет силу и в отношении времени: всякое существо и всякая вещь имеют во времени свой «срок», и в этом смысле «все стареет от времени», «время точит» и т. д. Но средством измерения времени (его «мерой по преимуществу», как говорит Аристотель) является равномерное круговое движение, т. е. движение небесного свода. Так же, как и общая теория движения, теория времени Аристотеля учитывает живые существа, но они не являются моделью всей природы, поэтому мы и не склонны квалифицировать научную программу Аристотеля как «орга-ницизм».
187 Что касается возникновения, то Аристотель замечает, что время является причиной возникновения и бытия только «по совпадению», т. е., собственно говоря, не является их причиной, в отличие от уничтожения, причина которого — время.
336
Р аздел второй
Категория мезта у Аристотеля. Недопустимость пустоты в перипатетической физике. Определить, что такое место (тбгго;), согласно Аристотелю, не менее трудно, чем исследовать природу времени. В то же время наука о движении не может обойтись без этого определения, так как движение относительно места (перемещение) есть первое среди движений. Категория места играет в научной программе Аристотеля важную роль. Он специально создает это понятие для того, чтобы показать, что «не существует протяжения, отличного от тел, отделимого от пцх и существующего актуально» 188. Место, как и тело, его занимающее, имеет три измерения: длину, ширину и глубину, но оно не есть тело: если это допустить, то «в одном и том же будут находиться два тела» 189. Место нельзя отождествить пи с материей, ни с формой, ибо и та и другая неотделимы от тела, а место отделимо: место не пропадает, когда находящиеся в нем вещи гибнут. В результате этих размышлений Аристотель останавливается на аналогии между местом и сосудом: «По-видимому, место есть нечто вроде сосуда, так как сосуд есть переносимое место, сам же он не имеет ничего общего с содержащимся в нем предметом» 19°.
Вопрос о природе «места» — это пункт, где сталкиваются меящу собой все три научные программы античности: атомизм, «математизм» Платона и пифагорейцев и, наконец, аристотелевский континуализм. Аристотель прекрасно понимал, что здесь, в этом пункте, он должен отстоять свою линию — в противном случае его научная программа окажется продуманной не до конца. И в самом деле теория «места» стала ахиллесовой пятой аристотелевской программы: здесь была пробита брешь в перипатетической физике еще в XIII—XIV вв., а в эпоху Возрождения именно с этого пункта начинается пересмотр аристотелевской программы.
Некоторые историки науки склонны квалифицировать аристотелевский метод как «эмпирический» и «описательный». На примере аристотелевского рассмотрения кате-
88 Физика, IV, 6, 213а. 89 Физика, IV, 1, 209а. 90 Физика, IV, 2, 209в.
Становление первых научных программ
337
гории «места» хорошо видно, что с такой характеристикой научного метода Аристотеля нельзя согласиться. Концепция места возникает у Аристотеля отнюдь не как результат простого описания того, что он находит в эмпирическом опыте (ибо, строго говоря, в эмпирическом опыте можно найти все что угодно, и любое описание предполагает «точку зрения» описывающего). Эта концепция возникает в результате полемики с уже существующими понятиями пространства, а то обстоятельство, что Аристотель в своей полемике ссылается на эмпирические факты, еще не свидетельствует о его «эмпиризме»: у его теории так же имеются «свои» факты, как и у теории Демокрита или Платона. Может показаться, что известная аристотелева аналогия между «местом» и сосудом указывает на то, что истоки его учения о месте не теоретические, а чисто эмпирические. Попытаемся показать, что дело в действительности обстоит совершенно иначе.
У Аристотеля, когда он создавал свою научную программу, было два серьезных теоретических противника: во-первых, пифагорейско-платоновская школа, представители которой отрицали возможность создания науки об изменчивом мире природы, науки о движении, и, во-вторых, атомисты, которые признавали возможность науки о движении, но строили ее на совершенно иных теоретико-методологических основаниях. Оба эти направления исходили из определенного понимания пространства, но и платоновское, и демокритовское понимание пространства было для Аристотеля неприемлемым. Он выставляет аргументы как против платоновской, так и против атомистической трактовки пространства.
Рассмотрим эти аргументы по порядку. Направление, в котором Платон пытался дать характеристику пространства, было вполне определенным: оно задавалось математической программой Платона. Он, как мы уже говорили, сближает понятие пространства и понятие материи. Главный аргумент Аристотеля против Платона состоит в том, что при таком определении пространства игнорируется факт, который должна объяснить физика, а именно факт движения и изменения. «Материю можно было бы счесть также и местом,— пишет Аристотель,— если только рассматривать нечто в покоящемся теле, притом не
338
Раздел второй
как отделенное, а как непрерывное» 191. Тем самым Аристотель подчеркивает, что отождествление пространства с материей возможно для математика; оно возникает из попытки дать онтологическое обоснование геометрии, по для физика такое отождествление недопустимо.
Итак, понятие места тесно связано с понятием движения, и если бы не нужно было строить кинематику — теорию движения, то место вообще не стали бы исследовать, заключает Аристотель 192. Стало быть, место — это не столько то, «в чем» предмет покоится (хотя это, конечно, тоже место, место «по совпадению»), сколько то, «в чем» он движется (не случайно, определяя движение, Аристотель всегда указывает три момента: «что» движется, «в чем» и «когда»). Место, следовательно, есть нечто устойчивое, через него поэтому можно определить подвижное и изменчивое, ибо если нет ничего фиксированного, к чему мы могли бы отнести движущееся, то последнее оказалось бы неуловимым и неопределимым. Еще одно характерное рассуждение свидетельствует о том, что именно в этом смысле Аристотель понимает место: «Подобно тому как при качественном изменении есть нечто, что теперь является белым, а прежде было черным, и теперь твердое, а прежде было мягким (почему мы и говорим, что материя есть нечто), так и место кажется чем-то вследствие такого рода видимости; только первое мы утверждаем потому, что бывшее ранее воздухом, теперь стало водой, а о месте потому, что где был воздух, там теперь вода» 193. Здесь особенно наглядно видно, что категория места связана с необходимостью определить движение и изменение; но здесь сказано и больше: как категория материи вводится Аристотелем для объяснения изменения (материя — это «что» изменения, т. е. то, что сохраняется при изменении), так и категория места вводится ради того же, но только место — это «где» (а не «что») изменения, и оно тоже сохраняется при изменении: мы потому только можем
191 Физика, IV, 4, 211в.
192 «...Место не*стали бы исследовать, если бы не было известного вида движения относительно места; мы считаем, что и небо находится в месте главным образом потому, что оно всегда в движении» (Физика, IV, 4, 211а).
193 Физика, IV, 4, 211в (курсив мой.— П. Г.).
Становление первых научных программ
339
сказать о том, что туда, где раньше была вода, теперь переместился воздух, что это «где» остается постоянным 194.
Возражения Аристотеля против платоновского понимания пространства в связи с рассмотрением категории места аналогичны тем, которые он делал против платоновского понимания материи: у Платона материя лишена всякой «силы»; у Аристотеля же материя есть «способность», причем способность к изменению; материя у него динамична. Характерно, что и место, по Аристотелю, тоже не лишено «силы»: «Перемещения простых физических тел, например огня, земли и подобных им, показывают, что место есть не только нечто, но что оно имеет и какую-то силу. Ведь каждое из них, если ему не препятствовать, несется в свое собственное место, одно вверх, другое вниз, а верх, низ и прочие из шести измерений 195 — части и виды места» 196. Верх, низ, центр и периферия — это, как видим, для Аристотеля, не относительные, а абсолютные места. «Верх, низ, право, лево являются такими не только в отношении нас: для нас ведь они не всегда одно и то же, а становятся тем или иным, смотря по положению, как мы повернемся; поэтому нередко одно и то же бывает правой и левой, верхней и нижней, передней и задней стороной, но в самой природе каждая часть определена особо. Именно верх находится не где придется, а куда несутся огонь и легкое тело; равным образом не где придется находится низ, а куда двигаются тела тяжелые и землистые, как если бы эти определения различались не положением только, но и известной силой» 197.
194 Вот почему Аристотель настаивает на том, что «место предпочтительно должно быть неподвижным» (Физика, IV, 4, 212а), и, сравнивая место с сосудом, подчеркивает, что место «есть не
передвигающийся сосуд» (Там же).
196 Аристотель говорит о шести измерениях, имея в виду «верх», «низ», «право», «лево», «зад» и «перед».
196 Физика, IV, 1, 209в.
197 Физика, IV, 1, 208в (курсив мой.— П. Г.). Говоря об относительности места «для нас», Аристотель имеет в виду не только людей, но и вообще живые существа: «Ведь вверх и вниз не одно и то же для всех и повсюду, и то, что для животных голова, то для растений — корни, если определять тождество и различие органов по их деятельности» (О душе, II, 4, 416а).
340
Раздел второй
Именно благодаря «силе» места существует так называемое естественное движение, т. е. движение тел паевое исконное место: легких — вверх, тяжелых — вниз; а различение движений «естественных» и «насильственных» играет очень важную роль в физике Аристотеля. Не будь этого различения, ему трудно было бы последовательно провести одно из центральных положений его кинематики, а именно тезис о том, что всякое движение предполагает движимое и движущее. В насильственных движениях движущим является всегда какое-то другое тело, а вот в тех, которые Аристотель называет естественными, движущим является не другое тело, а само «место» 198. Поэтому не удивительно, что соображение об относительности всякого места сразу подрывало фундамент перипатетической физики и вело к пересмотру остальных ее положений.
Однако при рассмотрении понятия «места» Аристотель полемизирует не только с Платоном, но и с атомистами. Последние в отличие от Платона определяли место как пустоту исходя именно из необходимости объяснить возможность движения. Принять атомистическое объяснение движения Аристотель не может: его физика, строящаяся на основе принципа непрерывности, противоположна атомистической физике, допускающей физические неделимые, дискретные «тельца», движущиеся в пустоте. Понятно, что при определении «места» атомисты предполагают полнейшую независимость пространства от наполняющих его «тел»: в атомистической физике у тела нет и не может быть «своего» места, место и атом — две взаимно безразличные реальности. Единственная форма их связи состоит в том, что атому для движения нужен
198 При этом Аристотель рассуждает вполне последовательно, заявляя, что, если существует насильственное движение, необходимо существовать и природному, «так как насильственное происходит против природы, а противоприродное движение следует за .природным. Таким образом, если у физических тел нет движения, согласного с природой, то не будет и никакого другого движения» (Физика, IV, 8, 215а). Природное же движение существует благодаря абсолютному различию мест: верха, низа и т. д.
Становление первых научных программ
341
пустой «промежуток» 199 — такой, где в этот момент нет других атомов 20°.
Аристотель не считает возможным определять место как «промежуток» между телами: «...пет особого промежутка помимо величины помещающегося тела» 201. В качестве примера, наглядно демонстрирующего возможность движения при отсутствии «промежутков», Аристотель приводит движение в сплошных средах, а именно: «вихревые движения сплошных тел и движения жидкостей» 202. Здесь тела «уступают друг другу место» — так, в частности, движутся рыбы, тонущие предметы и т. д. Характерен при этом один из аргументов Аристотеля против «промежутка»: «Если бы был какой-нибудь промежуток в себе, по природе способный существовать и пребывать в себе самом, то мест было бы бесконечное множество...»203. Атомисты и допускали «бесконечное множество мест»: они мыслили пространство неограниченным, а потому и не имеющим никакого абсолютного центра, периферии, верха, низа и т. д. Правда, объясняя таким путем возможность движения, античные атомисты не разработали системы понятий, с помощью которых можно было бы описать реально существующие формы и виды движения: такую систему понятий, исходя из других принципов, впервые создал Аристотель. В основу этой системы понятий он положил принцип непрерывности — принцип антиатомизма, который, естественно, исключает допущение «пустого промежутка», как разрушающего непрерывность
199 Иначе говоря, «место» для атомистов было чисто отрицательным условием движения; Аристотель же стремился определить место в качестве положительного условия движения, поэтому оно и не было безразлично по отношению к движущимся телам.
200 «Они (атомисты.— П. Г.) утверждают,— пишет Аристотель,— что иначе движения по отношению к месту, т. е. перемещения и увеличения, не было бы: нельзя предполагать движения, если не будет пустоты, так как наполненное не имеет возможности воспринять что-либо» (Физика, IV, 6, 213в).
201 Физика, IV, 4, 211в. Иллюзия наличия «промежутка» между телами возникает, по Аристотелю, от того, что бестелесным кажется воздух, который заполняет какое-либо место, когда с этого места удаляется занимавшее его другое тело.
202 Физика, IV, 7, 214а.
203 Физика, IV, 4, 211В.
342
Раздел второй
телесного мира: ведь пустота — это место без тела 204 *.
Интересны собственно физические аргументы Аристотеля против возможности пустоты. Если бы существовала пустота, говорит он, то в ней движение было бы невозможным. «Ведь, подобно тому как, по утверждению некоторых, земля покоится вследствие равномерного окружения, так необходимо покоиться и в пустоте, ибо нет оснований двигаться сюда больше, сюда меньше', поскольку это пустота, в ней нет различий» 206. Пустота — это физический эквивалент «ничто», а стало быть, она не имеет никаких определений. Аристотель не допускает существования пустого так же, как не допускает существования актуально-бесконечного: в последнем тоже нет «никаких различий» (см. аргументацию Аристотеля против существования бесконечно большого тела).
Допустим далее, говорит Аристотель, что мы бросаем тело в пустоте. Обычно брошенное тело, поскольку бросивший больше не касается его, продолжает некоторое время двигаться под воздействием приведенного в движение воздуха 206, скорость и продолжительность его движения находятся при этом в обратной зависимости от силы сопротивления среды. Но если вместо среды оно движется в пустоте, то «никто не сможет сказать, почему тело, приведенное в движение, где-нибудь остановится, ибо почему оно скорее остановится здесь, а не там? Следовательно, ему необходимо или покоиться, или бесконечно двигаться, если только не помешает что-нибудь более
204 Не только Левкипп и Демокрит, но и пифагорейцы допускали
существование пустоты; они мыслили пустоту как то, что «разделяет» числа (и вещи); ведь число пифагорейцев тоже неделимое, хотя и не физическое, как атом у Демокрита. «Пифагорейцы,— пишет Аристотель,— также утверждали, что пустота существует и входит из бесконечной пневмы в само небо, как бы вдыхающее в себя пустоту, которая определяет природные существования, как если бы пустота служила для разделения и определения предметов, примыкающих друг к другу. И прежде всего, по их мнению, это происходит в числах, так как пустота разграничивает их природу» (Физика, IV, 6, 213в).
206 Физика, IV, 8, 214в (курсив мой.— П. Г.).
206 Это объяснение Аристотеля тоже оказалось тем слабым пунктом, который уже в эпоху эллинизма был подвергнут критике и пересмотру.
Становление первых научных программ
343
сильное» 207. Это в сущности не что иное, как формулировка принципа инерции: но принцип инерции запрещен Аристотелем; в системе его понятий нет места для этого принципа. Но теоретически он даже формулирует условия, при которых с неизбежностью нужно принять этот принцип. Далее, продолжает Аристотель, в пустоте все тела имели бы равную скорость (вспомнимГалилея!), что тоже невозможно 208. И все эти несообразности, связанные с допущением пустоты, упираются в один главный пункт: пустота не находится ни в каком отношении с наполненной средой, подобно тому как нуль не находится пи в каком отношении с числом209. Очевидно, физика Аристотеля так же «запрещает пустоту», как математика Евклида запрещает бесконечность. Аксиома непрерывности Евдокса так же запрещает иметь дело с величинами, не находящимися между собой в отношении, как физика Аристотеля — с движением в пустоте: пустое и наполненное несоизмеримы.
Понятие среды играет важную роль в физике Аристотеля. В этом отношении характерно его объяснение движения брошенных тел. Для Аристотеля, не признающего самодвижения, а потому вынужденного всегда искать двигатель, этот случай «насильственного» движения объяснить нелегко. В самом деле, двигатель (допустим, лук) больше не воздействует на брошенное тело (выпущенную
207 Физика, IV, 8, 215а.
208 Но равная скорость невозможна не потому, что это противоречит эмпирическому опыту (конечно, опыт тоже имеет значение для Аристотеля, но не в большей мере, чем для других физиков), а потому, что вступает в противоречие со всей системой понятий аристотелевской физики, не дозволяющей при объяснении движения отвлекаться от того, что движется. Опыту же это противоречит, если применить выражение самого Аристотеля, «по совпадению».
209 Среда может быть более или менее плотной, в зависимости от чего меняется скорость движущихся в ней тел. «И всегда чем среда, через которую происходит движение, бестелеснее, меньше оказывает препятствий и больше разделима, тем скорее перемещение. Для пустоты же не существует никакого пропорционального отношения, в каком оно превосходило бы тело, так же как у нуля по отношению к числу» (Физика, IV, 8, 215в). Поэтому и движение в пустоте не находится ни в каком числовом отношении к движению в наполненной среде.
344
Раздел второй
стрелу), а последнее тем пе менее некоторое время продолжает двигаться. В этом затруднительном случае Аристотель исходит, как и обычно, из принципа континуализ-ма, эвристического для его мышления. А континуализм требует ставить вопрос так: что непосредственно ближе всего соприкасается с движущимся телом? Какова его среда? Как правило, это воздух, иногда вода. Вот свойствами этой среды и надо объяснить то, что вызывает затруднение. И Аристотель объясняет: при движении брошенных тел имеет место последовательная передача движения через ближайшую к ним среду. Бросающий приводит в движение не только бросаемое тело, но и воздух (или другую среду, способную двигаться), и последний некоторое время сохраняет способность приводить в движение тело, непосредственно соприкасающееся с ним. Среда, таким образом, является промежуточным двигателем (ибо первым двигателем здесь был бросающий).
Характерно, что при этом излюбленным примером Аристотеля остается стрела. Сравнительно легкая, стрела, видимо, казалась наиболее наглядно подтверждающей концепцию движения брошенного тела, поддерживаемого с помощью движущей среды. Но уже в эпоху эллинизма начинается пересмотр гипотезы Аристотеля; в VI в. н. э. Иоанн Филопон, известный под именем Грамматика, положил начало теории, получившей впоследствии название теории «импетуса». Филопон считал, что с помощью обращения к «среде» невозможно объяснить движение брошенного тела и что разумнее допустить непосредственную передачу энергии от бросающего брошенному. Вполне допустимо, что в этот период определенную роль в объяснении движения могло сыграть, помимо чисто теоретических аргументов, и развитие техники, а именно появление катапульт. То, что могло казаться приемлемым для стрелы, стало совсем не столь очевидным после изобретения катапульты: воздух уже слишком «легок» для того, чтобы двигать тяжелое ядро. Это особенно заметно в позднейших рассуждениях Галилея. Не случайно на заре нового времени критическое отношение к перипатетической физике наблюдается у тех, кто занимался изучением баллистики; сюда можно отнести и Галилея. Перипатетическую концепцию движения брошенного тела из
Становление первых научных программ
345
лагает у Галилея Симпличио: «Бросающий держит камень в руке; он делает быстрое и сильное движение рукой, от которого приходит в движение не только камень, но и прилегающий воздух, так что камень, оставленный рукой, оказывается в воздухе, который движется с импульсом, и им уносится; если бы воздух не оказывал воздействия на камень, то камень упал бы из руки бросающего к его ногам».
На это Галилей-Сальвиати возражает: «Скажите, если большой камень или артиллерийский снаряд, только положенные на стол, остаются неподвижными даже при сколь угодно сильном ветре... то думаете ли вы, что, если положить шар из пробки или хлопка, ветер сдвинул бы их с места?
Симпличио: Знаю наверное, что ветер унес бы их прочь и тем быстрее, чем легче было бы вещество...
Салъвиати: А что такое ветер?
Симпличио: Ветер, согласно определению, есть не что иное, как движущийся воздух.
Салъвиати: Следовательно, движущийся воздух переносит вещества легчайшие гораздо быстрее и на большее расстояние, чем тяжелые?
Симпличио: Конечно.
Салъвиати: Но если вам надо бросить рукой камень, а затем клочок хлопка, то что будет двигаться с большей скоростью и на большее пространство?
Симпличио: Конечно, камень; наоборот, хлопок упадет к моим ногам.
Салъвиати: Но если то, что движет брошенное тело после того, как его выпустила рука, есть не что иное, как воздух, движимый рукой, а движущийся воздух легче переносит легкие вещества, нежели тяжелые, то почему же брошенное тело, состоящее из хлопка, не уносится дальше и быстрее, чем из камня?» 210
Брошенное тело — это, как видим, прежде всего камень или ядро: на их примере наиболее наглядно можно продемонстрировать несостоятельность перипатетического объяснения метательного движения тел с помощью среды. Характерно, что среда у Галилея выступает всегда
210 Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира,— Избр. труды: В 2-х т, М., 1964, т, 1, с, 249—250,
346
Раздел второй
в роли препятствия по отношению к движущемуся в ней телу: «среда» и «тело» как бы наделены здесь разными знаками: если тело — положительным, то среда — отрицательным (см. аналогичное рассуждение Демокрита). Органическое единство тела и среды, характерное для конти-нуализма Аристотеля, разрушено; оно уступило место представлению, в рамках которого среда—и тело — нечто принципиально разнородное и среда, скорее антитело, враг тела, чем его «естественное продолжение». «Дело происходит как раз обратно тому, что говорит Аристотель,— заключает Сальвиати-Галилей,— в той же мере ложно мнение, что среда сообщает движение брошенному телу, в какой справедливо то мнение, что она только создает препятствия» 211.
Диалог Симпличио и Сальвиати хорошо демонстрирует, каким образом развитие техники оказывает влияние на научное мышление: техника как бы предлагает каждый раз новые и для каждой эпохи свои примеры, те самые, которые служат своего рода наглядными моделями для определенной научной программы 212. А иногда мы имеем примеры «эпохальные», выходящие за рамки отдельной научной программы. Для механики нового времени таким примером стало, в частности, движение маятника.
Аргумейты Аристотеля против допущения пустоты интересны в нескольких отношениях. Во-первых, в этом вопросе сталкиваются две конкурирующие программы античной науки, и мы видим, каким образом конституируется перипатетическая физика в борьбе с атомизмом. Во-вторых, можно видеть, что в рамках определенной научной программы могут быть вполне осознаны альтернативные способы объяснения тех или иных явлений, но эти способы объявляются запрещенными, ибо они действительно с данной программой несовместимы. Таким образом, основатель научной программы сам указывает
211 Там же, с. 252.
212 Излюбленные для данной научной программы примеры гораздо глубже связаны с ее методом, чем может показаться на первый взгляд. Т. Кун называет их «парадигмальными типами инструментария» (см.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1975, с. 86), подчеркивая глубокую внутреннюю связь этих «примеров» со структурой научной теории.
Становление первых научных программ
347
те «болевые точки», рассмотрение которых — независимо от новых эмпирических и экспериментальных контрпримеров — впоследствии может вывести ученых за рамки данной научной программы. Смена одной программы другой может произойти не потому, что тот или иной вновь открытый факт вступит в противоречие со старой программой, а потому, что в силу определенного сдвига в общем мировоззрении эпохи возникает возможность (и потребность) развить в новую систему «болевые точки» старой научной программы. И именно потому, что они несовместимы с этой, ставшей неприемлемой старой программой. А последняя становится неприемлемой не только потому, что она не в состоянии объяснить новых фактов,— ведь она и «старые факты» не все объясняла, но и по причинам культурно-исторического характера.
Аристотель сам формулирует несовместимые с его научной программой принципы, облегчая таким образом работу своих будущих оппонентов и указывая им, с чего надо начинать ниспровержение его физики. Аристотелевская физика допускает два типа связи в телесном мире, при которых не нарушается принцип непрерывности: либо непрерывность в собственном смысле, когда два тела имеют одну общую границу, либо соприкосновение — когда граница между двумя телами хотя и не является общей, но в промежутке между ними пет ничего другого, т. е. нет никакого промежутка. Этот второй тип связи и становится у Аристотеля условием возможности определить место так, чтобы при этом не нарушить принципа непрерывности. «Место,— говорит он,— есть первая неподвижная граница объемлющего тела». Первая граница, т. е. та, которая соприкасается с объемлемым телом без промежутка между ними. Поэтому на вопрос, где находится вино, правильным будет ответ: в сосуде, но неправильным — с точки зрения Аристотеля — будет ответ: в доме, хотя сосуд и в самом деле находится в доме. И для сосуда его место не дом, а прилегающий воздух, ибо место — это первая граница объемлющего тела 213.
213 Поэтому тело, вне которого не существует никакого тела, не находится ни в каком месте, ибо его ничто не объемлет. Таков космос, который, по Аристотелю, не имеет места, а существует
348
Раздел второй
Итак, аристотелевское понятие места исключает принцип относительности: место того или иного предмета определяется Аристотелем не через положение его относительно других предметов. Именно так впоследствии определяет место, например Декарт 214, тоже не допускавший пустоты и не принимавший атомизма. Но Аристотель и здесь верен своему методу: для него отношение всегда вто-ричнее самих «относимых», а потому и место он должен определить так, чтобы не изменить своему пониманию «сущности». Учение об «абсолютных местах», верхе, низе ит. д.— это применение аристотелевского учения о сущности к космологии и физике: сущность есть то, что не сказывается ни о каком подлежащем 215. Аналогия места с «сосудом» поэтому очень важна для Аристотеля; он прямо говорит: «Подобно тому как сосуд есть переносимое место, так и место есть не передвигающийся сосуд» 216.
Однако аристотелевское решение вопроса о сущности места не случайно оказалось слабым пунктом его физики; сам Аристотель не смог избежать определения места предмета через отношение его к другим, принятым за неподвижные. Как, в самом деле, быть в том случае, если то, что является непосредственно объемлющим данное тело,
«нигде»: сам вопрос, где находится небо, для Аристотеля не имеет смысла — ведь вне неба ничего нет (Физика, IV, 4, 212а). 214 Чтобы определить место тела, т. е. его положение, «мы должны заметить некоторые другие тела, которые считаем неподвижными; но так как мы замечаем различные тела, то можем сказать, что одна и та же вещь в одно и то же время и меняет место, и не меняет его» (Декарт Р. Избр. произв. М., 1950, с. 471). Декарт поясняет эту свою мысль с помощью следующего примера: человек, сидящий на корме плывущего корабля, не меняет свое место по отношению к кораблю, но меняет его по отношению к реке и т. д.
216 В самом теле, что означает определение через отношение применительно к месту? Это значит, что нет ни одного предмета, который определялся бы через себя, а все определяется только через другое. Все места относительны, нет абсолютных мест. Определив место тела через отношение его к другим телам, Декарт, естественно, приходит к выводу, что «в мире нет неподвижных точек» (для Аристотеля такой «точкой» был центр космоса), а это зйачит, «что ни для какой вещи в мире нет твердого и постоянного места, помимо того, которое определяется нашим мышлением» (Там же).
216 Физика, IV, 4, 212а.
Становление первых научных программ
349
само находится в движении? Место, согласно определению, есть «неподвижная граница объемлющего тела». А такие случаи отнюдь не являются исключениями. Так, например, если лодка плывет по реке, то ее место — вода, но ведь вода в реке тоже движется. Поэтому, говорит Аристотель, «местом является скорее вся река, так как в целом она неподвижна» 217. А «вся река» — это ведь скорее ее берега, чем текущая в ней влага; стало быть, здесь из двух моментов, содержащихся в определении места (быть первой границей объемлющего тела и быть неподвижной границей его), Аристотель выбирает один, жертвуя другим. Правда, он тут же замечает, что в качестве последних неподвижных ориентиров для всех природных вещей являются «середина небесного свода и крайняя для нас граница кругового движения» 218. Но это не меняет дела: вопрос об определении места «внутри движущегося» является троянским конем в перипатетической физике.
Подводя итог анализу аристотелевского понятия места, остановимся еще раз на «модели» места — сосуде. Почему все-таки именно сосуд остается для Аристотеля наилучшим примером — парадигмой места? Основные признаки места, по Аристотелю, следующие: 1) место объемлет тот предмет, местом которого оно является; 2) не есть что-либо, присущее самому предмету; 3) первичное место не меньше и не больше предмета; 4) оно оставляется предметом и отделимо от него; 5) всякое место имеет верх и низ; 6) каждое тело по природе перемещается и остается в свойственном ему месте, а это и составляет верх и низ; 7) оно неподвижно.
1. Место объемлет предмет, говорит Аристотель, в этом отношении оно сродни форме, которая всегда есть предел, граница, то, что «собирает» материю и делает ее некоторой вещью. Подобно тому как для линии ее «формой» будет ее граница, т. е. две точки, два «конца» линии, подобно этому и сосуд будет как бы «формой» содержащейся в нем жидкости: жидкость получает форму сосуда.
2. Но здесь же Аристотель указывает, что место —
217 Физика, IV, 4, 212а.
218 Там же.
350
Раздел второй
это все-таки не форма: ведь без формы предмет перестает быть самим собой, форма присуща самому предмету, а место — нет: вино, вылитое из амфоры в чаши, остается самим собой, хотя и меняет свое место. Значит, место подобно форме, но не есть форма предмета.
3. Однако место подобно и материи: первичное место не меньше и не больше предмета, а потому Платон и отождествлял его именно с материей: ведь место имеет три измерения, подобно тому как их имеет и предмет; так что совершенно безразлично, вычислять ли объем тела или объем того места, которое оно занимает.
4. Но, как и в случае с формой, место, по Аристотелю, отделимо от предмета, в то время как материя от пего неотделима; предмет остается тем же самым, когда передвигается в другое место, а это значит, что его материя и его место нетождественны.
Таким образом, место в некотором отношении родственно форме, в некотором — материи, но в других отношениях оно отлично как от той, так и от другой. Как родственное с формой, оно есть граница тела (недаром же — сосуд: без него тело растеклось бы); как родственное с материей, оно протяженность тела. Если бы тело не двигалось, то сосуд был бы для него формой; но, двигаясь, тело оставляет свое место. Значит, можно сказать, что место — это заменитель, эрзац формы, как бы форма для движущегося 'тела, и именно постольку, поскольку оно движется. Форма — «граница» предмета, поскольку он находится «в себе»; место же —- граница «объемлющего тела», т. е. та граница, которая дается телу другим; образно говоря, это ослабленный вариант границы, ибо при движении тело тоже нуждается, по Аристотелю, в границах, но уже не только как тело, а и как движущееся тело. Место и есть граница тела, поскольку оно движется. Какая трудная, однако, задача найти такую «границу»: ведь граница по самому своему понятию есть нечто неподвижное, есть то, что удерживает (а значит, и само фиксировано, жестко определено); а требуется найти такую границу для самого движения, предел движения, взятого, однако, не абстрактно (как в случае движения «материальной точки»), а вместе с движущимся телом (с тем, что движется). Из-за трудности этой задачи и понятие
Становление первых научных программ
351
места у Аристотеля является столь трудным для работы с ним; не случайно это понятие оказалось у него одним из самых уязвимых.
По самому своему понятию, поскольку оно граница движущегося, место должно соприкасаться с телом, в этом месте находящимся. Но поскольку существует место не только для каждого движущегося тела, но и для всех вообще движущихся тел, то в результате Аристотелю приходится ввести (при общем, казалось бы, понятии места) разные его определения. Для каждого тела его место — это первая неподвижная граница объемлющего тела; а для всех вообще тел — это абсолютная граница всего 219, что способно двигаться: абсолютный верх и низ. Ясно, что абсолютный верх и низ нельзя назвать «первой границей» ни для какого тела в отдельности; это первая граница для всего космоса в целом. Такое различение каждого и всего вместе, различение, связанное с исходными принципами аристотелевского метода мышления, отличающими его от платоников и атомистов, приводит впоследствии, в средневековой науке, к различению так называемых категорематического и синкатегоре-матического применения терминов. Эти два разных способа применения терминов разрабатываются как в логике — в связи с проблемой суждения, так и в космологии и физике — особенно в связи с проблемой бесконечного. Из проведенного анализа можно видеть, что место у Аристотеля, так же как и время, не может быть полностью абстрагировано от того, что его «наполняет». Хотя тело в принципе и отделимо от своего места, но «абсолютные места», верх и низ, неразрывно связаны с тяжестью и легкостью тел, «местами» которых они являются.
Соотношение математики и физики в научной программе Аристотеля. В том, что Аристотель не принимал математическую программу пифагорейцев и Платона, мы уже неоднократно имели возможность убедиться. Основные философско-методологические принципы, например
219 Но абсолютная граница всего ни для какого отдельного тела не является первой, и для нее модель сосуда совсем не подходит. Здесь аристотелевское определение места требует дополнительных разъяснений, которых мы у Аристотеля не находим.
352
Раздел второй
требование опосредования противоположностей, закон противоречия, а также исходные категории, такие, как «сущность», «возможность» и «действительность» и другие, разработаны Аристотелем в полемике с Платоном, для которого отношение первично, а относимые реалии вторичны. Однако, отвергая платоновское и пифагорейское обоснования математического знания, Аристотель не может не предложить другого, так как математика в его время была не только самой разработанной и зрелой среди наук, но и самой точной, а потому и самой почтенной наукой. Естественно поэтому, что мыслитель, посвятивший себя науке и ее обоснованию, должен был указать место и функцию математики в системе научного знания.
При обосновании математики Аристотель исходит из своего учения о сущности. «Представляют ли числа, геометрические тела, плоскости и точки некоторые сущности или нет?» 220 На этот вопрос он отвечает отрицательно: «Состояния, движения, отношения, расположения и соразмеренное™ не обозначают, по-видимому, сущности чего бы то ни было: ведь все они высказываются о чем-нибудь, что лежит у них в основе, и ни одно не представляет собою некоторую данную вещь» 221. Но если математические предметы не являются сущностями, то возникает вопрос об их способе бытия 222, т. е. об их онтологическом статусе: каким образом они существуют? Математические предметы не могут существовать в чувственных вещах, говорит Аристотель, ибо тогда, во-первых, в одном и том же месте находились бы два тела, что невозможно, а во-вторых, в таком случае нельзя было бы разделить какое бы то пи было физическое тело: ведь деление физического тела, которое является непрерывным, и деление
220 Метафизика, III, 5.
221 Метафизика, III, 5 (курсив мой.— П. Г.).
222 «Если существуют математические предметы, они должны либо находиться в чувственных вещах, как утверждают некоторые, либо быть отдельно от чувственных вещей (и это тоже некоторые говорят); и.если они не существуют ни тем, ни другим путем, тогда они либо (вообще) не существуют, либо существуют в'ином смысле: таким образом, (в этом последнем случае) спорным у нас будет (уже) не то, существуют ли они,— но—каким образом (они существуют)» (Метафизика, XIII, 1).
Становление первых научных программ
353
математического «тела», представляющее собой особую процедуру, ничего общего с физическим делением не имеющую. различны.
Но математические предметы, рассуждает далее Аристотель, пе могут существовать и вне чувственных вещей, как самостоятельные сущности. «Если помимо чувственных тел будут существовать другие тела, отдельные от них и предшествующие чувственным, тогда ясно, что и помимо плоскостей должны иметься другие плоскости, отдельные (от первых), и также — точки и линии... А если существуют они, тогда в свою очередь — помимо плоскостей, линий и точек математического тела — будут существовать другие, данные отдельно...» 223. Такой же аргумент выдвигает Аристотель и против платоновского учения об идеях, что вполне понятно: ведь идеи и числа у позднего Платона имеют одинаковый онтологический статус. Сущность этого аргумента сводится к тому, что если наряду с чувственно данным медным кубом существует — отдельно от него — еще и математический куб, так сказать, идеализованный образец первого, то нужно допустить также и идеальные грани наряду с чувственно данными гранями медного куба. Но коль скоро мы вступили на этот путь рассуждения, то самому «идеальному кубу» тоже должны предшествовать те элементы, из которых он «состоит», а именно наряду с гранями идеального куба должны существовать еще грани (т. е. плоскости) сами по себе. Таким образом, окажется необходимым допустить плоскости уже трех родов: 1) те, которые мы находим в физическом кубе, 2) те, что в кубе математическом, и, наконец, 3) те, что существуют сами по себе — первичные, исходные. Нетрудно понять, что при таком рассуждении линии будут уже четырех родов, а точки — пяти.
Допущение самостоятельного существования математических предметов приводит и к другим затруднениям. В самом деле, предметы и других математических наук — астрономии, оптики и гармонии — тоже будут находиться в таком случае за пределами чувственных вещей: «...но как это возможно для неба и его частей или для
223 Метафизика, XIII, 2.
12 П. П. Гайденко
354
Раздел второй
чего-либо другого, у чего есть движение?» 224 * Все эти соображения служат аргументами в пользу выводов, к которым приходит Аристотель, а именно: 1) математические предметы не являются сущностями в большей мере, нежели тела; 2) они не предшествуют чувственным вещам по бытию, но только логически; 3) а значит, они не могут существовать отдельно; 4) однако они не существуют и в чувственных вещах. Поэтому они вообще не имеют непосредственного существования, какое имеют, согласно Аристотелю, только сущности — чувственные (преходящие) или сверхчувственные (вечные).
Таким образом, Аристотель показывает, чем математические предметы не являются. Теперь надо выяснить, чем же они являются, каков способ их бытия. Математические предметы, согласно Аристотелю, возникают в результате выделения определенного свойства физических объектов, которое берется само по себе, а от остальных свойств этого объекта отвлекаются. Геометр, говорит Аристотель, помещает отдельно то, что в отдельности не дано 226. «Человек есть нечто единое и неделимое, поскольку он — человек; а исследователь чисел принимает его (исключительно) как единое и неделимое и затем смотрит, присуще ли человеку что-нибудь, поскольку он — неделим. С другой стороны, геометр не рассматривает его ни поскольку он человек, ни поскольку он — неделим, а поскольку это — (определенное) тело» 226.
Такая операция абстрагирования, согласно Аристотелю, вполне правомерна. Более того, математик, выделяя таким образом предмет своего исследования и отвлекаясь от бесчисленного множества других свойств физических тел, в частности от их движения, имеет дело с очень простым предметом, а потому его наука и оказывается самой точной. Чем проще предмет, тем точнее исследующая его наука; так, арифметика, абстрагирующаяся от величины и имеющая дело только с числом, точнее геометрии; геометрия же, имеющая дело с числом и с величиной, но абстрагирующаяся от движения, точнее физики. В физи
224 Метафизика, XIII, 2.
226 Метафизика, XIII, 3,
226 Там же.
Становление первых научных программ
355
ке же самое точное знание возможно относительно самого простого из движений — перемещения: «...этот род — самый простой, и в нем (проще всего) движение равномерное» 227.
Но несмотря на то что математика — самая точная среди наук, она тем не менее имеет дело с предметом, который находится не в себе самом, а в другом 228. Предметы геометрии — точки, линии, плоскости — это или пределы, или сечения физических тел, сечения в ширину, глубину или длину 229; стало быть, они не имеют реального бытия, а представляют собой продукт мысленного выделения определенного аспекта физического мира. Поэтому и паука, имеющая дело с тем, что существует в себе самом, с сущностями, онтологически первее той, которая имеет дело с предметом, находящимся «в другом». Не математика должна быть фундаментом для построения физики, как полагают те, для которых «математика стала философией» 23°, а, напротив, физика скорее может претендовать на значение «базисной», «фундаментальной» науки. Ведь именно она изучает те «сущности», то непосредственное, опосредование (и отношение) чего изучает математика.
Но и сама физика не является, по Аристотелю, подлинной первоосновой для других наук. Ведь физика изучает не все виды сущностей, а только один их род — природные сущности 231, причем главным образом с точки зрения их движения и изменения. «Что касается физики, — пишет Аристотель,— она занимается предметами, имеющими начало движения в самих себе, с другой стороны, математика — это некоторая теоретическая наука, которая рассматривает объекты пребывающие, причем, однако, объекты эти не существуют самостоятельно. Следовательно, с бытием, существующим самостоятельно и неподвижным, имеет дело некоторая наука, отличная от них обеих» 232. Поскольку Аристотель допускает два вида
227 Метафизика, XIII, 3
228 Метафизика, XI, 2.
229 Метафизика, III, 5.
230 Метафизика, I, 9.
231 Метафизика, II, 3.
232 Метафизика, XI, 7.
12*
356
Раздел второй
сущностей — природные (подвижные) и сверхприродные, божественные (вечные и неподвижные), то науками, изучающими эти сущности, будут физика и метафизика (первая философия, или теология — наука о божестве) 233.
Насколько сверхчувственные сущности превосходят чувственные, настолько же первая философия по своему рангу выше физики. Таким образом, согласно Аристотелю, существует три области теоретического знания: математика, физика и философия 234. «При этом область теоретических наук выше всех других, а из этих наук — та, которая указана под конец: в ряду сущего она имеет наиболее ценный объект, а выше и ниже каждая наука ставится в зависимости от (ценности) того предмета, который ею познается» 235.
В философии исследуются общие основания всякого знания, поэтому она служит теоретическим базисом как для математики, так и для физики. Изучая высший род бытия, философия в то же время разрабатывает те категории и методологические принципы, которые кладут в основу своих исследований и физика, и математика. Так, физика изучает вещи, обладающие материей, но только философия в состоянии разрешить вопрос о том, что такое материя 236. Точно так же и математика пользуется в качестве своих исходных утверждений аксиомами, истинность которых не может быть доказана в самой математике 237: только философия, рассматривая каждый из предметов не отдельно, а «в отношении сущего как такового» 238, в состоянии обосновать эти аксиомы.
233 «Есть три рода теоретических наук — физика, математика, наука о божестве» (Метафизика, XI, 7).
234 Эти науки в свою очередь служат фундаментом для прикладных наук, таких, как оптика, медицина, биология и др.
235 Метафизика, XI, 7.
236 Метафизика, XI, 1.
237 «Положение — «если от равных величин отнять равные, остатки (будут) равны» — является общим по отношению ко всем количествам, а математика, выделив (одну область), делает предметом своего рассмотрения ту или иную часть относящегося к ней материала... Между тем философия не обследует частичных предметов... но рассматривает каждый из этих предметов (только) в отношении сущего как такового» (Метафизика, XI, 4).
238 Там же.
Становление первых научных программ
357
Таким образом, рассмотрение аксиом является делом философа, «ибо аксиомы эти имеют силу для всего существующего, а не специально для одного какого-нибудь рода, отдельно от всех других. И пользуются ими все, потому что это — аксиомы, определяющие сущее, как такое, а каждый род (изучаемых предметов) есть (некоторое) сущее» 239. По отношению к аксиомам положение физика предпочтительнее, чем положение математика; хотя в целом рассмотрение аксиом — дело философа, но поскольку физик в отличие от математика имеет дело не просто с одним аспектом сущего, а с определенным родом его, а именно с природным сущим, то он может исследовать и некоторые из аксиом. «Никто из тех, кто ведет исследование частного характера, не берется что-либо сказать про них (аксиомы.— П. Г.), истинны они или нет — ни геометр, ни арифметик, но только некоторые из физиков, со стороны которых поступать так (вполне) естественно: они ведь одни полагали, что подвергают исследованию всю природу и сущее (как таковое)» 24°.
Высшая же из всех аксиом, исследуемых первой из наук — философией, является также первой и для каждой науки, ибо она есть самое достоверное из всех начал; эту аксиому Аристотель формулирует так: «Невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же и в одном и том же смысле» 241. Это закон непротиворечия, высший закон мышления, сформулированный Аристотелем в полемике с диалектиками, и прежде всего с Платоном. Этот закон мы уже рассматривали в начале главы, где показали, каким образом он связан с аристотелевским принципом опосредования и с учением о сущности. А принцип опосредования в свою очередь лежит в основе аристотелевской теории непрерывности, составляющей фундамент перипатетической физики и шире — всей научной программы Аристотеля, которую мы поэтому называем континуалистской.
Как видим, для Аристотеля философия является высшим родом знания, как и для Платона; но в отличие от Платона, для которого математика была после философии
239 Метафизика, IV, 3.
240 Метафизика, IV, 3.
241 Там же.
358
Раздел второй
наивысшим родом знания, Аристотель считает таковой скорее физику. Если выстроить науки в ряд, то между математикой и философией у Аристотеля должна быть помещена физика. Математика для него, таким образом, ни в коем случае не может служить теоретическим фундаментом для физики, как это было бы в программе Платона, если бы он считал возможным создание физики как строгой науки. Скорее уж физика будет основой для математики, если ставить вопрос об их соотношении.
Так Аристотель реализовал идею физики, альтернативную математической физике, намечавшейся в платоновском «Тимее» и у пифагорейцев. Он создал физику как науку, отличную от математики, имеющую другой предмет и другие задачи, чем те, которые решает математика. Дальнейшее развитие физики на протяжении больше чем полутора тысяч лет пошло по пути, указанному Аристотелем. И только на исходе средних веков ученые вновь обратились к той альтернативе, которую заслонил Аристотель: к идее математической физики. Но это могло произойти только потому, что математическая программа античной науки, хотя и вытесненная на периферию, все же продолжала оказывать влияние если не в сфере самой физики, то в смежных с ней областях. Обе программы-соперницы, хотя и не вполне равноправные, сосуществовали впоследствии в науке эпохи эллинизма и средних веков.
Биологические науки в рамках континуалистской программы. Нельзя закончить анализ научной программы Аристотеля, не рассмотрев вопроса о его биологических исследованиях. Из трех представленных нами программ античной науки, предопределивших эволюцию науки в целом более чем на полтора тысячелетия, ни одна программа не смогла создать понятийного аппарата для изучения живых организмов. Это удалось сделать только Аристотелю — и удалось именно потому, что при разработке как основных категорий, так и методов изучения природных (и сверхприродных) сущностей он всегда принимал во внимание специфическую форму организации живых существ. Как мы уже отмечали, природа для Аристотеля никогда не была ни только неорганической, ни только органической природой: оба эти рода природных сущих он имел в виду, создавая свою научную программу.
Становление первых научных программ
359
Поскольку задача наша состоит не в том, чтобы излагать содержание тех отраслей знания 242, которые были либо впервые созданы, либо систематизированы Аристотелем — этот универсальный ум не оставил вне поля своего зрения ни одной области знания, то мы коснемся его биологических исследований лишь в той мере, в какой в них сказались методологические принципы научной программы Аристотеля.
При изучении органического мира Аристотель стремился не упустить из поля зрения ни одного существенного факта: природное многообразие во всей его пестроте представляло для него большой интерес. Пытаясь найти средство для описания всего многообразия живых существ, Аристотель прибегает к сравнению и различению признаков, предварительно выясняя, какие именно из них следует принимать за существенные 243. Само предварительное выяснение предполагает разработку системы понятий, с помощью которой не просто описывается живое существо, а постигается его сущность 244. Отсюда понятна тенденция Аристотеля к классификации живых форм. Оба эти момента — интерес к эмпирическому многообразию и стремление его упорядочить — присутствуют не только в учении Аристотеля об органическом мире, они характерны для его работы в любой области знания. Так, в учении о силлогизме он классифицирует формы мысли, в «Риторике» —
242 Что касается аристотелевской физики, то мы вынуждены были рассмотреть ее детально потому, что именно в ней формулируются основные категории и раскрываются методы работы с эмпирическим материалом, характерные для аристотелевской программы в целом. Чем для Платона была математика, тем для Аристотеля является физика (а не биология, как считают некоторые исследователи).
243 Если бы всякое единичное существо пришлось описывать как данное единичное, то такая работа уводила бы в бесконечность. Поэтому Аристотель с самого начала ставит вопрос о методе работы биолога: «Я выдвигаю как раз вопрос: следует ли, беря каждую единичную сущность, определять ее самое по себе, как, например, природу человека, льва, быка или кого другого, занимаясь каждым в отдельности, или брать только то общее, что совпадает во всех них, полагая в основу какой-либо общий признак» (О частях животных, I, 1, 639а).
244 Однако разработка такой системы понятий постоянно корректируется у Аристотеля наблюдением живых существ.
360
Раздел второй
формы речи, в «Политике» — формы государственного устройства и т. д.
На какую же систему понятий опирается Аристотель, классифицируя живые организмы, распределяя их по родам и видам? При рассмотрении живого организма Аристотель исходит из различения материи и формы: без этого различения у него не было бы инструмента, с помо-мощыо которого он впервые выделяет признаки как исходный материал для классификации. В области биологии понятия материи и формы оказываются настолько эвристичными, что не случайно некоторые исследователи склоняются к мысли, что именно потребности объяснения живого организма (в частности, потребности медицины) послужили главным источником для создания этих понятий 245.
При анализе органического мира, как и в физике, Аристотель опирается на основные категории материи и формы, возможности и действительности, а также на учение о четырех видах причин 246. До него была сделана не одна попытка объяснить жизнедеятельность организмов (главным образом в учениях натурфилософов), высказывались даже гипотезы о происхождении живых существ (Эмпедокл). Но только Аристотель положил начало биологии как науке. Эта наука, вышедшая из его рук, так же как и перипатетическая физика, не была и не могла быть математической. Но если по отношению к физике это обстоятельство было одной из главных причин той критики, которая обрушилась на Аристотеля уже в XVI—XVII вв., то по отношению к биологии вопрос о ее математизации не возникал вплоть до появления генетики. Еще в XVIII в., в период триумфа математического естествознания, не только не встает вопрос о том, чтобы создать биологию как
246 Так, Т. Гомперц считает, что в Аристотеле осуществился синтез платоника и асклепиада: Аристотель происходил из рода врачей, и, конечно, в его интересе к природе и в подходе к ной сказалось то, что он еще в ранней юности усвоил от своего отца — Асклепиада.
246 Если в физике так называемая целевая причина была элиминирована уже в конце XVI в., то в биологии, где целесообразность явлена наглядно, эта аристотелевская категория не утратила своего значения и сегодня,
Становление первых научных программ
361
математическую дисциплину по аналогии с физикой, но, напротив, Кант, в частности, высказывает мысль, что живой организм есть абсолютная граница, которую не может переступить естественная наука (ибо естественная наука, в понимании Канта,— это наука математическая). Более того, и в XVIII, и в XIX вв. именно из среды биологов часто исходила критика механицизма, характерного для того периода, когда образцом науки была математизированная физика, и в первую очередь механика. Поэтому аристотелевская программа в биологии не была отменена в европейской науке вплоть до появления генетики — последняя действительно ориентируется не на континуа-листскую программу Аристотеля.
Рассматривая представления натурфилософов о природе и сущности органических образований, Аристотель отмечает, что общий недостаток их подхода состоит в том, что они обращали гораздо больше внимания на материю, из которой состоят живые существа, чем на то, что отличает живое от неживого. А такую специфику всякого рода бытия следует искать не столько в материи, говорит Аристотель, сколько в форме, «ибо природа формы имеет большую силу, чем природа материи» 247. При этом, говоря о форме, Аристотель имеет в виду не просто внешнее очертание, а также окраску и т. д. живого существа: к форме здесь гораздо ближе функция, чем морфологические признаки. «Ведь и мертвый,— пишет Аристотель,— имеет ту же самую форму внешнего образа, и все-таки он — не человек» 248. Чтобы пояснить сказанное, он приводит пример из другой области: формой топора, говорит он, будет не его внешний образ, а его пригодность для рубки дров; его форма — это его назначение, то, ради чего он существует. В соответствии с этим подбирается и подходящий материал, из которого делают топор; он должен быть твердым, острым и т. д., чтобы исполнять свою функцию. Точно так же обстоит дело и с живым существом: его кости, плоть, кровь и т. д., т. е. тот материал, из которого оно состоит, полностью соответствует той функции, которая и есть «форма» живого; а простейшей из функций для живого
247 О частях животных, I, 1, 640в.
248 Там же.
362
Раздел второй
организма являются самосохранение и воспроизведение рода 249 *.
Что же представляет собой «форма» живого, обеспечивающая его самосохранение и воспроизведение? Такой формой, по Аристотелю, является душа 2б°. Аристотель различает душу растительную (основная функция, обеспечиваемая растительной душой,— это питание), животную (основная функция — движение и ощущение) и разумную (основная функция — мышление). Растения обладают только растительной душой, животные — растительной и животной, люди, помимо двух первых,— еще и разумной. Это, однако, не следует понимать так, что у животных — две души, а у людей — три: по Аристотелю, растительная душа составляет «часть» животной 251, другими словами, более элементарная «душа» — предпосылка и условие существования более развитой. Исследуя функцию растительной души — питание, Аристотель замечает, что при осуществлении этой функции живое существо как целое неотделимо от окружающей среды, ибо именно последняя есть источник питания. Здесь, таким образом, «мы различаем троякое: питающееся, то, чем оно питается, и то, что питает; то, что питает,— это первая душа; питающееся — тело, обладающее душой; то, чем тело питается,— пища» 252. Как видим, тело есть «средний термин» между душой и пищей, т. е. «началом» живого и средой его обитания. Таким образом, связь между живым и его средой является достаточно тесной.
Еще глубже и содержательнее принцип непрерывности разработан Аристотелем применительно к животной душе, функции которой гораздо более сложны, чем функции растительной души. Главное, что отличает животную ду-
249 «Так как справедливо все называть в соответствии с целью, цель же состоит здесь в воспроизведении себе подобного, то первой душой следует называть способность воспроизведения подобного» (О душе/Пер. с греч. П. С. Попова, II, 4, 416в.).
260 «Душа есть причина и начало живого тела. О причине говорится в различных значениях. Подобным же образом душа есть причина в трех смыслах... А именно: душа есть причина как то, откуда движение, как цель и как сущность одушевленных тел» (О душе, II, 4, 415в).
261 О частях животных, I, 1, 641а.
252 О душе, II, 4, 416в.
Становление первых научных программ 363
- ~V" " '
шу,— э^р способность ощущения (ибо движутся, говорит Аристотель, не все животные; а ощущают все). Существует два вида ощущаемого: то, что ощущается отдельным чувством и не может быть воспринято другим (так, цвет и свет воспринимается только зрением, звук — только слухом), и то, что может быть воспринято разными чувствами: так, движение воспринимается и осязанием, и зрением 2б3.
Что же представляет собой акт ощущения согласно Аристотелю? Поскольку Аристотель не признает атомов, то он не может объяснять ощущение так, как это делал Демокрит: как истечение атомов из того или иного тела и воздействие их на воспринимающий орган. Не согласен Аристотель и с теорией зрения Платона, рассмотренной нами выше. Он исходит из предпосылок своей программы и объясняет всякое ощущение, вводя в качестве посредника между воспринимаемым объектом и воспринимающим органом определенную среду, передающий медиум.
Возьмем, например, зрение. Что воспринимается зрением? Цвет и свет. «Всякий цвет,— пишет Аристотель,— есть то, что приводит в движение действительно прозрачное, и в этом — его природа. Вот почему нельзя видеть цвет без света, а всякий цвет каждого предмета видим при свете. Поэтому необходимо прежде всего сказать, что такое свет. Так вот, имеется нечто прозрачное. Прозрачным я называю то, что правда, видимо, но видимо... не само по себе, а посредством чего-то постороннего — цвета 2б4. Таковы воздух, вода и многие твердые тела... Свет же есть действие прозрачного как прозрачного. Там же, где про
2бэ о душе, II, 6, 418а.
254 Здесь перевод представляется сомнительным: прозрачное видимо не через посредство цвета, ибо цвет у предметов имеется и ночью, имеется и «прозрачное», но мы не видим окраски предмета. Скорее правы Зибек и Казанский, которые считают, что в ^той фразе надо выкинуть слово «цвета» и оставить только мысль, что прозрачная среда видима посредством «другого», подразумевая под «Другим» огонь или нечто подобное. Правда, когда Зибек утверждает, что цвет здесь вообще не при чем, это, видимо, тоже не вполне так; ведь при наличии дневного света (делающего «среду» прозрачной актуально) мы видим именно через посредство цвета; мы видим окрашенные предметы, хотя не видим при этом самого условия, без которого нет зрения, а именно света.
364 ‘ Раздел второй
зрачное имеется лишь в возможности, там тьма» ?55. Для того чтобы стал виден окрашенный предмет, нужйа, стало быть, среда; эта среда — «прозрачное»; б!удет ли этой средой вода, воздух или твердое тело — это не существенно, важно лишь, чтобы оно было прозрачным. Свет — это «энтелехия» прозрачного; потенциально прозрачное есть тьма, но оно становится светом «при наличии в нем огня или чего-то подобного» 255 256. Сразу можно заметить трудность, с которой сталкивается Аристотель при определении «среды» и при попытке указать, что же, собственно, актуализирует ее (ибо потенциально она темная): если — цвет, то неясно, почему он не делает этого в отсутствие солнца или огня; если же — солнце и огонь, то какова тут роль самого цвета 2б7.
Однако нам важно подчеркнуть методологический принцип Аристотеля, которым он руководствовался при анализе зрения: воспринимающий орган и воспринимаемый объект не могут сомкнуться иначе как посредством чего-то третьего; посредник, с одной стороны, разделяет их, а с другой — соединяет, причем соединяет очень тесно. «Если бы кто положил себе на глаз вещь, имеющую цвет, он ничего бы не увидел. Цвет же приводит в движение прозрачное, например воздух, а этим движением, продолжающимся непрерывно, приводится в движение и орган чувства» 2б8. Это принцип перипатетической оптики; главный’оппонент, которого при этом имеет в виду Аристотель,— это Демокрит. Согласно Демокриту, условием возможности зрения является отсутствие среды: среда (воздух, вода и т. д.) рассматривается им как препятствие, т. е. отрицательное, а не положительное условие зрения. Это и понятно: поскольку любой’объект воспринимается органом зрения в силу истечения атомов (того и другого), то чем меньше препятствий для этого истечения, тем отчетливее и яснее
255 О душе, II, 7. Прозрачная среда есть то подлежащее (бгсохе^еуоу), сказуемыми которого являются «свет» и «тьма». Эта точка зрения противойолагается концепции зрения (и света как его Условия) у Платона.
2бв О душе, II, 7, 418в.
267 Этот вопрос впоследствии детально обсуждался в XIII—XV вв. 268 0 душе, II, 7, 419а (курсив мой,— Я. Г.).
становление первых научных программ
365
виден предмет. Поэтому, согласно Демокриту, если бы между глазом и предметом была пустота, «то можно было бы со всей отчетливостью разглядеть даже муравья на небеУ2б9. Аристотель же, напротив, убежден, что «при пустите не только не отчетливо, но и вообще ничего нельзя было бы увидеть» 26°, ибо «воздействие не может исходить от самого видимого цвета» 259 260 261, оно происходит через среду, «так что необходимо, чтобы существовала такая среда» 262. То же рассуждение приложимо и к звуку, и к запаху 263; среда для звука — воздух, а для запаха она «не имеет названия: имеется во всяком случае некоторое свойство, общее воздуху и воде...» 264
Затруднение для Аристотеля представляет чувство осязания и (родственное ему) чувство вкуса, так как здесь ощущение имеет место именно при непосредственном прикосновении осязаемого объекта к поверхности тела. Однако так обстоит дело только при поверхностном рассмотрении, говорит Аристотель. В действительности же тут тоже имеется среда, но только ее наличие менее очевид-
259 Там же.
260 Там же.
261 Там же.
262 Там же.
263 «Ведь от непосредственного прикосновения того и другого с органом чувства ощущение не вызывается, но запахом и звуком приводится в движение среда, а ею возбуждается каждый из этих органов чувств» (О душе, II, 7, 419а).
264 О душе, II, 7, 419а. Интересен аристотелевский анализ слуха. Для того чтобы ухо воспринимало звук, нужно, говорит Аристотель, чтобы «что-то ударялось о что-то». Но при этом не всяким ударом вызывается звук (например, «шерсть от удара не звучит»); звук вызывается при ударе «гладких и полых вещей», ибо необходимо, чтобы «движение ударяющего предотвратило разрежение воздуха» (О душе, II, 8, 419в). Воздух вызывает слышание, когда, будучи приведен в движение, составляет нечто «непрерывное и плотное». А воздух становится «плотным» лишь благодаря гладкой поверхности ударяемого тела. «Итак,— заключает Аристотель,— звучащее есть то, что приводит плотный воздух в непрерывное движение, доводя его до органов слуха» (О душе, II, 8, 420а). Интересна приводимая Аристотелем аналогия между отражением воздуха и света (О душе, II, 8, 419в); аристотелевское рассуждение о свете и звуке по методологическому принципу близко к волновой (а не корпускулярной) теории.
366 Раздел второ^
-- ::—.............. .........: Г
но, чем в случаях зрения или слуха. При осязании тоже нужен посредник: «Твердое и мягкое мы также воспринимаем через другое, как звучащее, видимое и обоняемо^, но последние — на расстоянии, первые — вблизи» 265./ Посредником при осязании, говорит Аристотель, является плоть (в случае чувства вкуса это будет язык); а это значит, что осязаем мы не самой плотью: орган осязания находится внутри 266. Тело же является не органом осязания, а передатчиком, медиумом, связывающим между собой осязаемый предмет с осязающим органом. «Плоть есть необходимо приросшая к органу осязания среда, через которую происходит множество ощущений».
Интересно также соображение Аристотеля о том, что орган восприятия сродни той среде, которая служит связующим звеном между органом и объектом: так, глаз «прозрачен»; слышим же мы «воздухом» («мы слышим тем, что содержит воздух, отграниченный со всех сторон» 267,— таково устройство уха), осязаем — твердой частью внутри нашего тела, которая сродни плоти, медиуму осязания.
Как видим, животное у Аристотеля настолько «вросло» в «среду», что его невозможно ни представить себе, ни помыслить изолированно от последней; среда — нечто вроде продолжения органов чувств животного, а эти последние — нечто вроде «концентрированной» среды. В этом смысле рассмотрение аристотелевского учения о живых существах особенно ярко демонстрирует его метод изучения природы в целом, метод, который мы охарактеризовали как континуалистский.
Научная программа Аристотеля в культурно-историческом контексте эпохи. Аристотелевская научная программа была создана на переломе двух эпох. Это сказалось и на характере программы: Аристотель по духу еще близок к античной классике с ее стремлением к философски целостному осмыслению изучаемых явлений; но уже специфически эллинистической является возникшая у него тенденция к выделению отдельных направлений исследования в относительно самостоятельные науки,
265 О душе, II, 11, 423в.
268 Разве это не предвосхищение учения о нервных центрах?
207 О душе, II, И, 423а.
Становление первых научных программ
367
обладающие своими особыми предметом и методом. В III в. до н\ э. усиливается процесс отпочкования от философии отдельных наук, который был только слабо намечен в предшествующий период (когда выделилась главным образом ли^пь математика, включающая астрономию и отчасти оптику и география) 268, но углубляется он в эпоху эллинизма в науке так называемого александрийского периода.
Для Аристотеля научное мышление отнюдь не противостоит обычному здравому смыслу, аккумулировавшему весь человеческий опыт, а лишь проясняет и просветляет здравый смысл, подытоживает человеческий опыт и осмысляет его с помощью понятий. Наука, как ее понимает Аристотель, призвана постигнуть мир в его целостности, не абстрагируясь при этом от всего разнообразия и богатства его проявлений: понимание целого должно служить направляющим ориентиром при рассмотрении всех отдельных вещей и явлений, а последнее в свою очередь должно корректировать общую картину целого. При этом существенно, что научное познание мира отнюдь не предполагает, с точки зрения Аристотеля, абстрагирование от изучающего этот мир сознания и опыта человека, стремление к постижению мира «с ничьей точки зрения», как в свое время сформулировал тенденцию науки нового времени неокантианец Э. Кассирер. Мир, как его изучает перипатетическая физика, есть мир, в котором живет человек, он вполне соразмерен человеку, соответствует ему, а потому и опыт человека о мире вполне достоверен', его не надо отбрасывать, достаточно его лишь проконтролировать, критически подытожить и прояснить с помощью категорий. Человеческий опыт отйосительно мира не является, по Аристотелю, чем-то ложным; субъективное не есть нечто принципиально несоизмеримое с объективным 269, опыт всего лишь недостаточен и не всегда правильно сознает то, чем располагает.
Чувственное восприятие, согласно Аристотелю, само по себе не есть нечто заведомо ложное и обманчивое; свидетельство чувств как таковое не обман, но .его не всегда
268 См. об э том: Jaeger W. Aristoteles. Berlin, 1955, S. 430.
269 Противопоставление субъективного объективному в этом смысле характерно для элеатов и Демокрита; это противопоставление еще более углубляется в науке и философии нового времени.
368 Раздел второй
удается правильно истолковать. Именно через наше истолкование того, о чем свидетельствуют чувства, может вкрасться ошибка, заблуждение. Поэтому задача /науки состоит не в том, чтобы абстрагироваться от этих'свидетельств, а в том, чтобы с помощью рассуждения найти правильную интерпретацию того, что мы воспринимаем с помощью чувств.
Таким образом, научная программа Аристотеля отнюдь не носит революционного характера па отношению к предшественникам; скорее здесь можно говорить о сочетании традиции и рационального ее осмысления, нежели о противопоставлении того и другого. 13 традиции Аристотель видит помощника науки, будь то традиционные представления прежних «физиков» или же накопленный опыт пастухов, рыбаков, ремесленников, будь то язык — основное хранилище традиции народа или даже мифологические представления о богах, с которыми воевали прежние ученые, такие, как Ксенофан или Анаксагор. Аристотель в отличие от них склонен видеть в мифах не заблуждения древних, а их не лишенные глубокого смысла представления о структуре мира и человека, только поданные «в мифической оболочке, дабы вызвать доверие в толпе и послужить укреплению законов и (человеческой) пользе» 270.'Освобожденные от этой оболочки (например, от уподобления богов людям или животным), многие мифы, согласно Аристотелю, оказываются глубокими прозрениями в сущность вещей 271. Эту особенность мышления Аристотеля очень хорошо передал К. Маркс: «Аристотель говорит: иногда кажется, что понятие подтверждает явления, а явления — понятие. Так, все люди имеют представления о богах и отводят божественному первое место; так поступают и варвары и эллины, вообще все те, кто верит в существование богов, связывая, очевидно, бессмертное с бессмертным; иначе и невозможно. Если, таким образом, божественное существует,— как оно и есть на самом деле,— то и наше утверждение о субстанции небесных тел
270 Метафизика, XII, 8.
271 В этом пункте Аристотель был предшественником целого направления в науке и литературе александрийского периода, представители которого занимались истолкованием мифов.
Становление первых научных программ 369
вернб. Но это соответствует и чувственному восприятию, поскольку речь идет о чувственном убеждении» 272.
Маркс здесь, во-первых, показывает, что у Аристотеля понятие и явление не противостоят, а подкрепляют друг друга; во-вторых, он вскрывает связь между феноменоло-гизмом Аристотеля и его отношением к сфере мнения (убеждения), а тем самым и к традиционным народным представлениям о мире и богах. Как видим, не только учения первых философов, но и верования предков не отбрасываются полностью Аристотелем, не объявляются простыми предрассудками, по рассматриваются в качестве «предварительного знания», с которого начинается научное рассмотрение предмета.
Вот почему именно в школе Аристотеля берет свое.начало история науки как специфическая область научного знания. Сам Аристотель в своих сочинениях излагает точки зрения своих предшественников по всем тем вопросам, какие он исследует: о природе и способах ее изучения; о предмете математики и обосновании математических наук; о сущности и специфике философии как первой науки; о природе живого организма; о понятии жизни и души и т. д. Именно благодаря Аристотелю мы имеем сегодня более или менее отчетливое представление о ранних греческих философах, чьи сочинения не дошли до нас или дошли только в отрывках. Большинство античных свидетельств позднейших авторов также опираются на труды Аристотеля.
После Аристотеля историко-научную работу продолжили его ученики. Так, Феофраст написал исследование «Мнения физиков», где излагал взгляды и открытия ученых по отдельным вопросам; Евдем Родосский написал историю геометрии, арифметики и астрономии — сочинения, которые, к сожалению, до нас не дошли. Менон написал историю медицины, Дикеарх Мессинский — историю литературы. Такой интерес к истории науки в школе Аристотеля базировался на том убеждении, что знание о предмете не может возникнуть «сразу», подобно Минерве из головы Юпитера, а формируется усилиями поколений людей, изучающих этот предмет, а потому история науки составляет органический момент самой науки. Такой
272 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 40, с. 190.
370 Раздел второй
подход является заслугой именно аристотелевского метода, хотя, как о том свидетельствует наука александрийского периода, он и таит в себе некоторые опасности.
Представление Аристотеля о науке как продукте коллективного творчества, продукте деятельности многих умов имело и еще один важный аспект: убеждение в том, что научное исследование предполагает соединение усилий группы ученых, научного коллектива, научной ассоциации. По свидетельству древних авторов, исследования самого Аристотеля уже требовали для своего осуществления работы целой группы людей: таковы, например, его сочинения, посвященные анализу политического устройства ста пятидесяти восьми известных ему греческих государств-полисов (уцелела только «Афинская полития»). Разумеется, труд по изучению такого громадного материала не мог выполнить один человек; видимо, здесь Аристотель выступал не только как исследователь, но и как организатор коллективной работы своих учеников. «Никогда до этого и никогда после этого,— пишет Ф. Зелинский, глубокий знаток античности,— опыт организации и централизации науки не был сделан в столь широких размерах и с такой надеждой на успех. Я не буду говорить здесь о самом руководителе, этом единственном человеке, знавшем решительно все, что было доступно знанию в те времена,— а этого было гораздо более, чем склонны думать люди, незнакомые с греческой наукой; едва ли не важнее учености Аристотеля, которой он никому завещать не мог, была его организаторская деятельность. Он назначал каждому из своих учеников соответствующую его таланту работу; под его руководством и при его непосредственном участии образовался тот клад учености, который остался после смерти учителя достоянием его школы...» 273
Однако для осуществления научных исследований в духе Аристотеля недостаточно было организованного коллективного труда: нужны были также вспомогательные средства. Так, по сообщению Плиния Старшего, Александр Македонский во время своих походов в Азию выделил несколько тысяч (!) человек «для сбора всего, что могут дать охота, ловля птиц и рыболовство; этим же людям была
273 Зелинский Ф. Из жизни идей. Пг., 1916, с. 97.
Становление первых научных программ
371
поручена забота о зверинцах, стадах, пчельниках, рыбных садках, птичниках, дабы ничто живое не осталось где-либо ему неизвестным» 274. В какой мере достоверно сообщение Плиния, сказать трудно: вряд ли, конечно, можно говорить о нескольких тысячах человек, выделенных Александром, но несомненно однако, что Аристотель для написания своей истории животных нуждался в такого рода помощи, и естественнонаучные коллекции Ликея значительно пополнились в результате завоеваний Александра. Таким образом, новая организация научных исследований предполагала, во-первых, совместный научный труд многих людей; во-вторых, наличие вспомогательных средств: астрономических приборов, коллекций животных, растений, минералов, одним словом, произведений природы; и, наконец, библиотеки— коллекции книг, продуктов человеческого творчества прежних поколений. Все это становилось тогда непременным условием для занятий наукой. Но для того чтобы реализовать такое условие, нужны были немалые материальные средства, такие, которыми прежде наука не располагала. Аристотель в этом отношении оказался в известном смысле в привилегированном положении: возможно, Александру он обязан был не только пополнением своей коллекции животных и растений, но и отчасти своей библиотекой 275. «Если и несправедливо,— замечает по этому поводу П. Л. Лавров,— что Александр Македонский обогащал дорогими присылками библиотеку своего учителя и доставлял ему предметы для исследования, то весьма вероятно, что города Греции и разные лица, желавшие снискать благосклонность лица, связь которого с македонским завоевателем была всем известна, присылали Аристотелю то и другое. Во всяком случае предание об обширной библиотеке, им составленной и переданной Теофрасту, не встречает опровержений» 276 * 278.
Становится очевидным, что не все ученые имели возможность таким путем получить необходимые для своих
274 Plinius. Historia naturalis, VIII, 16, 44.
275 Библиотека Аристотеля была первым в Европе большим собра-
нием книг. Ранее подобные собрания могли иметь люди царского
звания: книги были тогда редкой и очень дорогой роскошью.
278 Лавров П. Л. Очерк истории физико-математических наук. СПб., 1866, с. 223—224.
372
Раздел второй
исследований средства. Поэтому возникла настоятельная потребность в новой социальной форме организации научного знания. Как справедливо замечает Лавров, «вследствие движения, которое Аристотель сообщил мысли в Греции, научная литература возрастала столь значительно, что частные лица были уже не в состоянии окружать себя надлежащими пособиями, и это было еще более ощутительно в отношении средств прямого наблюдения природы. Поэтому ученые как в области литературноисторической критики, так и в области естествознания весьма нуждались в центре, где библиотеки и ученые пособия были бы сгруппированы при содействии средств государства и где различные отрасли знания и литературы имели бы своих представителей, которые могли бы друг другу сообщать свои розыскания...» 277.
Таким образом, методологические принципы научного исследования, как они были разработаны Аристотелем, привели в конечном счете к необходимости перестройки прежнего способа деятельности ученого, к появлению нового типа ученого и новой организации науки. В свою очередь новая организация научной работы определенным образом сказывалась и на результатах последней, во всяком случае на их форме. Эту взаимную связь обоих моментов — содержательного и организационного (т. е. социального в узком смысле слова) — отмечает В. Ж. Келле, подчеркивая при этом, и совершенно справедливо, определяющую роль содержательного момента. «Процесс формирования науки связан, как показывает опыт истории, с институционализацией научной деятельности. Наука и ее связи с обществом облекаются в определенные организационные формы. Последние создают некоторые объективные рамки для научной деятельности и в этом отношении являются элементом объективных условий конкретного развития науки. Но, с другой стороны, сами эти организационные формы являются вторичным образованием и по своему назначению должны быть ориентированы на научную деятельность, приспособлены к ней, а не наоборот» 278. 277 278
277 Лавров П. Л. Очерк истории физико-математических наук. СПб., 1866, с. 224.
278 Келле В. Ж. Проблема уровней теории в социологии науки. М., 1970, с. 4-5.
Становление первых научных программ
373
Научная программа Аристотеля оказалась созвучной духу своего времени и выразила этот дух не в меньшей степени, чем это сделали художники и поэты — его современники. Мы уже говорили, что характерной особенностью аристотелевского понимания науки было убеждение в том, что все сферы бытия в известном смысле равноправны и достойны быть объектами изучения. Астрономия изучает движение небесных тел, биология — жизнь животных, в том числе и червей, лягушек и насекомых; и светила, и насекомые являются в равной мере «первичными сущностями», так как природа открывается ученому через тех и других. Этот своеобразный плюрализм Аристотеля, вытекающий из его понимания «сущности», влечет за собой и плюрализм его методов: относительно каждого рода сущностей должен быть свой метод их рассмотрения, ибо метод должен сообразоваться со спецификой объекта. Вот почему у Аристотеля мы находим целый ряд принципов, которые невозможно ни свести к единому началу, ни вывести из него: четыре причины, материя и форма, возможность и действительность (которые невозможно целиком отождествить с материей и формой) и т. д. В этом отношении Аристотель отличается от философов-систематиков, таких, как неоплатоник Прокл 279 280, а в новое время Фихте или Гегель. Не случайно Гегель, непревзойденный мастер систематизации, упрекал Аристотеля в отсутствии у него единого принципа, который объединял бы в себе все остальные: «Недостаток аристотелевской философии состоит в том, что —после того, как она возвела многообразие явлений в.понятие, последнее же, однако, распадалось на ряд определенных понятий — она не выдвигала единства абсолютно объединяющего их понятия...» 28°. В целом гегелевское замечание вполне справедливо. Тем не менее вряд ли здесь можно говорить о недостатке аристотелевского мышления: дать место всему многообразию природной, общественной и духовной жизни — это продуманный
279 Создание систематической философии впервые осуществляется в эпоху эллинизма; в этом отношении философские системы неоплатоников, особенно Прокла, стали прообразом философских систем в новое время.
280 Гегель. Соч., т. X, с. 319.
374
Раздел второй
и сознательно проводимый Аристотелем принцип его научной программы.
И в этом состоит своеобразный «демократизм» концепции Аристотеля — если можно употребить это выражение применительно к науке — по сравнению с «аристократизмом» научной программы Платона. Мы уже говорили, что Платон видит назначение науки в том, чтобы подготовить сознание индивида к созерцанию идей. Наука, т. е. главным образом математика, должна, по Платону, быть как бы лестницей к философии (или диалектике); последняя представляет собой высшее знание, т. е. созерцание идеи блага — этой вершины царства идей, которая является условием возможности всего сущего вообще. Именно поэтому наука и философия представляют собой, с точки зрения Платона, тот духовный фундамент, на котором отныне только и может строиться здание общественно-государственной жизни. Ту роль, которую прежде выполняла религия, теперь должна взять на себя философия. Отсюда неразрывная связь между научно-теоретической сферой, с одной стороны, и нравственной и социально-политической — с другой.
Все отраслц знания у Платона служат единой цели — созерцанию идеи блага, аналогично тому как в «Государстве» Платона ни одна из сфер жизни не является сколько-нибудь самостоятельной, а все предельно централизовано, подчинено целому и лишено всякого значения само по себе.
Иную ситуацию мы находим у Аристотеля. У него требование централизации оказывается существенно ослабленным, хотя и не исчезает полностью: отдельные области исследования становятся относительно самостоятельными, но в то же время не теряют своей связи с философией. И в такой же мере, в какой разные науки — физика, биология, силлогистика и т. д.— связаны своими корнями с «первой наукой»— метафизикой, метафизика в свою очередь оказывается связанной с этико-практической сферой, со сферой ‘общественной жизни — но не больше того. Как отмечает немецкий исследователь Г. Кремер, у Аристотеля «теоретическая философия отделяется от целостной этико-политической связи и получает автар
Становление первых научных программ
375
кию» 281. Вряд ли можно говорить здесь, как это делает Кремер, о полной независимости теоретического мышления Аристотеля от этико-политической сферы; правильнее, пожалуй, будет сказать, что эта зависимость значительно ослабляется, но не исчезает совсем. Сам пафос познания истины, которым одушевлен Аристотель и его последователи независимо ни от практической полезности добытого знания, ни от его непосредственной связи со сферой «высшего бытия», сам этот пафос определяется также высокой ценностью знания как такового. То, что жизнь ученого (t3ioq ^е(орт)тьх^) рассматривается Аристотелем как высшая форма жизни, как наиболее адекватное осуществление человеческой сущности, говорит о том, что связь между любым частным научным исследованием и философией как постижением смысла целого еще не порвалась, а вместе с тем не порвалась связь науки вообще с этико-смысловой сферой. Любое научное исследование, каким бы на первый взгляд частным оно ни было, дает радость и даже «блаженство», ибо оно есть созерцание истины. «А по общему признанию созерцание истины есть самая приятная из всех деятельностей, сообразных с добродетелью» 282,— говорит Аристотель.
Но ученый уже не выступает у Аристотеля как человек, который призван управлять государством, как это мы видели у Платона 283. Знание уже не рассматри
281 Kramer Н. J. Das Verhaltnis von Platon und Aristoteles in neuer Sicht, S. 351.
282 Этика Арйстотеля / Пер. Э. Радлова. СПб., 1908, с. 198.
283 Созерцательная жизнь ученого, философа (мудреца) ставится Аристотелем выше деятельной жизни государственного человека. В отличие от деятельности политика, которая «лишена покоя и всегда имеет в виду, помимо самого управления, власть или почести», «созерцательная деятельность разума, напротив, отличается значительностью, существует ради самой себя, не стремится ни к какой (внешней) цели и заключает в себе одной ей* свойственное наслаждение, которое усиливает энергию...» (Этика Аристотеля, с. 198). Как видим, Аристотель уже не ставит философа перед альтернативой: созерцание или государственная деятельность, перед которой его ставил Платон, требуя, чтобы философ пожертвовал радостью созерцания истины ради деятельности на благо идеального государства. Аристотель недвусмысленно ставит науку выше государственной дея-
376
Раздел второй
вается Аристотелем как тот фундамент, па котором должна возводиться вся постройка государственной и общественной жизни. И хотя от Аристотеля еще далеко до стоика или эпикурейца, призывавшего философа уйти из общественной жизни, поскольку она уже не есть жизнь целого, как это было в эпоху классического полиса, поскольку «дух покинул ее»,— но известный шаг в этом направлении Аристотель уже сделал. Тот пафос обновления общества через знание, который владел Платоном, ослабел у Аристотеля: теоретическая жизнь сама по себе, радость познания, созерцания истины как высшая радость — вот характерная особенность аристотелевского понимания науки 284. Частное еще не освободилось от всеобщего, в частном видно всеобщее, но радость доставляет уже не только само всеобщее, но и его способы преломления в каждой из частных областей, его спецификации.
В этом отношении научная программа Аристотеля представляет собой известный аналог греческой литературе того периода, которую обычно характеризуют как реалистическую по сравнению с классической тра-
тельности — и не в последнюю очередь потому, что уже не верит в возможность создания идеального государства. Для Платона наука приобретает смысл чего-то наивысшего именно в соотнесении с государственной деятельностью, между тем как для Аристотеля она есть нечто высшее уже сама по себе.
284 «Расхождение платоновской и аристотелевской тенденций реализации одного и того же умонастроения было крайне знаменательно. Первая из них отражала попытку приостановить прогрессирующую атомизацию древнегреческого общества, сопровождающую процесс разложения классического полиса. Вторая была философским выражением этого процесса, стремлением исходить из духовно атомизированной личности как из реальности, попыткой извлечь наслаждение — «блаженство» — из самого факта подобной атомизации, переживаемого как непосредственное общение один на один с истинным, добрым и прекрасным, словом, с божественным» (Давыдов Ю. Н. Искусство как социологический феномен: К характеристике эстетико-политических взглядов Платона и Аристотеля. М., 1968, с. 262). Эта характеристика, на наш взгляд, вполне справедлива; вряд ли можно говорить только о том, что Аристотель стремился извлечь наслаждение «из самого факта атомизации», ибо содержание истинного есть, напротив,. преодоление атомизации, только уже не в сфере социально-политической, а в сфере интеллектуальной, духовной.
Становление первых научных программ
377
гедией или комедией Аристофана. Конечно, это весьма своеобразный реализм, существенно отличающийся от реализма в искусстве XIX в. Новоаттическая комедия, складывающаяся именно в тот период, когда жил и творил Аристотель, представляет собой комедию характеров, в которой действие играет совсем иную роль, чем в классической драме. Яркая обрисовка бытовых характеров, действие как средство раскрытия психологии героев отличают новоаттическую комедию, которая идет от мифологии к быту. Образец этой комедии дал Менандр.
Характерную особенность новой комедии я отличие от древней трагедии отметил архитектор древности Витрувий: «Трагические украшения образованы из колонн, фронтонов, статуй и других предметов пышности, комические имеют вид частных зданий... из подражания обыкновенным жилищам» 285. Как замечает О. Фрейден-берг, Витрувий «не застал уже комедии Аристофана, но знает новую комедию Менандра, реалистическую» 286, и его характеристика относится, естественно, к последней.
Уже у Еврипида мы видим первые шаги в направлении к реалистической драме: вместе со сдвигом центра тяжести с судьбы к характеру он начинает вводить интригу, поэтический эквивалент случайности, который в средней и новой комедии уже становится каноном. В эпоху эллинизма «высокие жанры снижены, поэзия прозаизируется» 287, частное и бытовое получает право на самостоятельность 288. В этом отношении аристотелевский Ликей идет в ногу со временем: в своих «Ха
285 Vitruv. V, 6, 9. Цит. по: Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936, с. 300. Аналогично этому и сообщение римского грамматика Диомеда: «Комедия отличается от трагедии тем, что в трагедии выводятся герои, вожди, цари, в комедии — люди низкого происхождения и частные лица; в трагедии — печали, изгнания, умерщвления, в комедии — любовные приключения, похищения девиц и т. д.» (Там же).
286 Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра, с. 299.
287 Там же с. 275.
288 Между творчеством Еврипида и творчеством Аристотеля можно провести известную параллель. Не случайно «моделью» трагедии в «Поэтике» Аристотеля становится именно трагедия Еврипида: внутреннее родство обоих заключается в том, что они оба были выразителями духа своей эпохи, эпохи конца греческого полиса. «Греческая трагедия, — пишет немецкий историк Т. Момм-
378
Раздел второй
рактерах» ученик и преемник Аристотеля Феофраст дает такую же типологию нравов, как и его учитель,— типологию животных, растений и типологию конституций греческих государств 289. В своем сочинении Феофраст предстает не как моралист или сатирик-обличитель, а скорее как бесстрастный ученый, изучающий различные характеры так же, как врач изучает болезни человеческого тела. Феофраст описывает типы льстецов, хвастунов, скупцов, лгунов, трусов, и т. д.— всего тридцать характеров. Тем не менее вряд ли можно согласиться с О. Фрей-денберг, считающей «характеры» Феофраста произведени-
зен,— переступила при Еврипиде через самое себя и вследствие того рухнула, но успех поэта-гражданина-космополита от этого только возрос, так как в это же время нация тоже переступила через самое себя и тоже рухнула. Аристотелевская критика, пожалуй, и была вполне права как с нравственной, так и с поэтической точки зрения; но историческое значение поэзии измеряется не ее абсолютными достоинствами, а тем, до какой степени она умеет предугадать дух времениг— и в этом отношении никто не превзошел Еврипида. Этим и объясняется, почему Александр усердно читал произведения Еврипида, почему Аристотель развивал понятие о трагическом поэте, имея в виду Еврипида, почему из его произведений как бы выросло в Аттике новейшее поэтическое и пластическое искусство, почему новоаттическая комедия ограничилась переложением его произведений на комический стрьй, а школа живописи, с которой мы знакомимся по вазам более поздней эпохи, заимствовала свои сюжеты не из древних эпических сказаний, а из еврипидовских трагедий, и, наконец, почему слава и влияние поэта росли по мере того, как древняя Эллада отодвигалась на задний план перед новым эллинизмом...» (Моммзен Т. История Рима. М., 1936, т. I, с. 861).
289 Ф. Зелинский даже высказывал предположение, что «Характеры» Феофраста создавались в качестве эмпирического подготовительного материала для аристотелевской «Этики». «Нельзя думать,— пишет он,— чтобы философ, построивший свою «Политику» на таком огромном фундаменте, как 158 книг ПоХггеиЬу, свою «Этику» создал априорным путем; ...мы должны допустить сочинение, относившееся к «Этике» Аристотеля точно так же, как его 158 книг ПоХьтеиЬу относятся к его «Политике»... Этот неизвестный член будет иметь содержанием описание определенного числа человеческих характеров...» (Зелинский Ф. Из жизни идей, с. 98).
Именно «Характеры» Феофраста и были, по мнению Зелинского, этим «неизвестным членом». Были ли «Характеры» эмпирическим «базисом» при разработке «Этики» Аристотеля, сказать трудно; ясно одно, что, родившись в школе Аристотеля, это сочинение Феофраста классифицирует различные характеры, давая их объективное и бесстрастное описание.
Становление первых научных программ
379
ем «сатирическо-обличительным»; эпически спокойный тон, в каком написано это произведение, и сам дух аристотелевской школы, которой чуждо обличение, а свойствен скорее живой интерес ко всем сферам реальности, говорит против этого 290. Сочинение Феофраста, столь созвучное духу реализма, преобладавшему в литературе III в. до н. э., видимо, в свою очередь оказало влияние на литературу того времени. Так, «Мимиямбы» Герода, писателя III в. до н. э., достаточно близки к «Характерам» Феофраста 291.
Реализм научного подхода Аристотеля, как и реализм современной ему комедии, является выражением миросозерцания эпохи, когда греческие города теряют свою политическую самостоятельность. Типичной государственной формой становится уже не полис, а военно-бюрократическая монархия. «Прежний полис требовал местного патриотизма и возлагал на активных граждан обязанность участвовать в государственной жизни. Эллинистические монархии, в которых греческое общество нашло временный исход из тупика противоречий рабства, не имели народного базиса, и управление было сосредоточено в руках чиновников-специалистов. Космополитизм и замыкание в сфере частных интересов оставляют глубокий отпечаток на всей эллинистической идеологии» 292.
Таким образом, научная программа Аристотеля тесно связана с социальными и культурно-историческими условиями своего времени; на примере этой программы можно видеть, как исторические условия влияют на научное мышление.
290 Вот, например, начало десятой характеристики: «О скаредности. Под скаредностью мы понимаем превосходящую разумную меру бережливость по отношению к деньгам; скаредным мы называем человека, который, например, уступая свой дом друзьям для собрания, взыскивает по х/2 обола с человека; или, видя, что его раб разбил горшок или сковороду, делает ему соответствующий вычет из его порции и т. д.» (цит. по: Зелинский Ф. Из жизни идей, с. 100).
291 «Мимиямбы» Герода представляют собой натуралистическое изображение бытовых сценок. Действие происходит в школе, в суде, в лавке сапожника, в частном доме; персонажи те же, что и у Феофраста, но поданные в несколько более комическом духе.
292 Тройский И. М. История античной литературы. Л., 1957, с. 194.
Раздел третий
Эволюция понятия науки в средние века
При рассмотрении средневекового научного знания чаще всего обращают внимание па те особенности, которые отличают его от пауки нового времени. И это вполне оправдано, поскольку как по своему содержанию и методам, так и по той роли, которую наука играет в средневековом обществе, она весьма радикально отличается от науки нового времени. Есть у средневекового научного знания своя специфика, отличающая его и от античной науки, хотя с последней средневековая наука имеет и много общего.
В наследство от античности средневековье получило три фундаментальные научные программы, а именно: атомистическую программу Демокрита, математическую — пифагорейцев и Платона и континуалистскую — Аристотеляг. Никаких радикально новых фундаментальных программ'средневековая наука не создала; именно это обстоятельство обычно и служило поводом к рассмотрению средневековой науки как застывшей, не развивающейся, лишенной какого бы то ни было самостоятельного значения, не давшей ни новых открытий, ни методологических принципов, сравнимых с достижениями античной математики или механики XVII в. Однако такая нигилистическая оценка средневековой науки не является обоснованной, и исследования историков науки XX в.1 2 показывают ее несостоятельность. Хотя средневековье и не
1 Правда, в средние века атомистическая программа Демокрита оказалась вытесненной на периферию, наибольшее же развитие получила континуалистская программа Аристотеля, а затем математическая программа Платона и пифагорейцев. Однако на исходе средних в*ков, а особенно в эпоху Возрождения атомизм начинает привлекать все большее внимание ученых.
2 Достаточно назвать в этой связи работы П. Дю гема, В. Зубова, А. Кромби, А. Койре, А. Майер и др.
Эволюция понятия науки в средние века
381
предложило новых фундаментальных программ науки, но оно не ограничилось пассивным усвоением достижений античной науки. Средневековая наука предложила целый ряд интерпретаций и уточнений как в области математики, особенно оптики (последняя входила в состав математических наук), так и в области физики (прежде всего механики). Средневековье создало целый ряд новых понятий и методов исследования, которые, хотя и разрабатывались в рамках античных программ, тем не менее постепенно разрушали их изнутри, подготовляя тем самым почву для создания механики нового времени. Больше того, восприятие и понимание фундаментальных научных программ претерпели существенные изменения. Во-первых, для средневековой науки характерен пересмотр их соотношения. Во-вторых, средневековые ученые постепенно меняют саму структуру научных программ, давая новую интерпретацию категорий бесконечности, непрерывности, пространства, времени и т.д.
Но и сами эти новые интерпретации античной науки, прежде всего аристотелевской физики, оказались возможными потому, что средневековье переосмыслило важнейшие принципы античной науки. Речь идет о тех изменениях, которые христианская теология внесла в понимание объекта естественнонаучного знания — природы, с одной стороны, и субъекта научного познания — человека, с другой. Эти изменения касались всего строя мышления и шли параллельно с теми социальными сдвигами, которые постепенно изменили характер общественных отношений и способствовали формированию новой социально-политической структуры — феодального общества.
Обычно у историков науки мы обнаруживаем следующее членение средневековья с точки зрения развития науки: раннее средневековье (VI —IX вв.) — темное время, упадок образования, общая варваризация и одичание. Средний период (X—XI вв.) — переводы античных" классиков и появление университетов. Наконец, зрелое средневековье (XII—XIV вв.) — высокий уровень образованности, расцвет науки и искусства, подготовка той эпохи, которую мы называем Возрождением.
Не отрицая известной доли справедливости таких чле
382
Раздел третий
нений, мы должны, однако, отметить, что и в эти «темные» периоды происходила интенсивная умственная работа: шла серьезная перестройка понятий, впоследствии сказавшаяся не только в период XII—XIV вв., но и в XV—XVII вв. В эпоху позднего эллинизма и раннего средневековья переосмыслялось античное понимание бога, природы и человека, устанавливались новые отношения между этими началами; сюда-то и уходила теперь умственная энергия христианского Запада. А начиная с XII в. эти новые понятия и принципы стали «работать» уже непосредственно в сфере науки.
В соответствии с этим мы рассмотрим сначала, в каком направлении шло переосмысление античного понятия природы и человека, а затем обратимся к анализу тех изменений в понятии науки, которые происходили в XII— XIV вв. и которые подготовили науку эпохи Возрождения, а отчасти и научную революцию XVII л.
Глава первая
Средневековое понимание природы и человека
Развитие наукив эпоху раннего средневековьяопределялось той общей социально-исторической ситуацией и духовной атмосферой, которая сложилась в Римской империи в первые века новой эры. «Одним из наиболее характерных явлений религиозной жизни... в эпоху эллинизма,— пишет В. В. Соколов,— стал синкретизм, взаимное проникновение религиозных верований и культов различных народов Средиземноморья, вступающих во все более тесный контакт друг с другом»3. В этот период все сферы жизни римского общества сильно эллинизируются. Правда, Италия уже очень давно находилась под греческим влиянием, но начиная со II — I вв. до н. э. это влияние носило уже существенно иной характер: в эпоху эллинизации сама греческая культура приобрела новые черты. Как замечает
3 Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979, с. 6.
Эволюция понятия науки в средние века
383
Т. Моммзен, «хотя эллинская цивилизация все еще называла себя этим именем, но на деле уже не была таковой, а скорее была гуманистической и космополитической. Она уже разрешила — в духовной области вполне, а в политической до некоторой степени — задачу, как из массы различных национальностей организовать одно целое, а так как Риму приходилось теперь разрешать ту же задачу в более широком объеме, то он и усвоил эллинизм вместе с остальным, оставшимся от Александра Великого, наследием» 4.
Влияние эллинизма было очень широким, но особенно сильным было оно в области культуры: литературы, искусства, религии. Характерно, что просвещенный эллинизм, проникая в Италию и размывая твердые устои народной религии, не только не ослабляет, но, напротив, усиливает характерную для римлян склонность к суевериям и предрассудкам. К старым и традиционным суевериям самих италиков прибавились суеверия и предрассудки других народов. «Народное суеверие и иноземная лжемудрость переплетались и сталкивались одно с другим... У этрусков процветало изучение кишок и молниеведение, а у са-беллов и в особенности у марсов — свободное искусство наблюдения за полетом птиц и заклинания змей.. .Эллинизм того времени, уже утративший свою национальность и пропитавшийся восточной мистикой, заносил в Италию как безверие, так и суеверие в их самых вредных и самых опасных видах, а это шарлатанство было особенно привлекательно именно потому, что было чужеземным. Халдейские астрологии составители гороскопов еще в VI в. распространились по всей Италии; но еще гораздо более важным и даже составляющим эпоху во всемирной истории был тот факт, что в последние тяжелые годы войны с Ганнибалом (550) правительство вынуждено было согласиться на принятие фригийской матери богов в число публично признанных божеств римской общины»5.
4 Моммзен Т. История Рима. М., 1936, т. 1, с. 814.
5 Моммзен Т. История Рима, т. 1, с. 819. Моммзен указывает даты не от начала новой эры, а от основания Рима (в 753 г. до н. э.).
384
Раздел третий
Огромный паптеоп римских богов был пополнен не только восточным культом Кибелы, но и прежде не принятым в Риме греческим культом Вакха (около 185 г. до н. э.); стали использоваться бесчисленные способы заклинаний, гаданий, прорицаний, в которых и прежде в Риме пе было недостатка. Такое распространение чужих религий и культов наряду с собственными культами и богами еще более обострило характерную для римского духа веру в чудеса, знамения, предсказания и т.д.6 Эту особенность отмечает и Августин, большой знаток и ценитель римской литературы и поэзии, особенно Вергилия и Цицерона7. Впрочем, эта духовная атмосфера была свойственна не одним только римлянам, но поздней античности в целом и составляет характерную особенность эллинизма I— III вв.
Усиление суеверий в рассматриваемый период отмечает Р. М. Грант в своей книге «Чудо и естественный закон в греко-римском и раннехристианском мышлении». Помимо увеличения числа и возрастания роли религиозных культов в этот период, Грант указывает еще некоторые причины широкого распространения суеверий: во-первых, постепенный спад гражданской активности и, во-вторых, уменьшение роли научного знания, в том числе математики,* в образовании 8. Теон Смирнский (II в.} в своем
6 О склонности той эпохи к чудесам см.: Lecky Н. Sittengeschichte Europas von Augustus bis auf Karl den Grossen. Leipzig; Heidelberg, 1870, S. 322 ff. He только жрецы Изиды и не только маги творили чудеса — в качестве кудесников и посланных богом пророков выступали и философы. Так, чудеса и пророчества Аполлония Тиапского признавались отчасти даже Лукианом и Оригеном.
7 Августин сообщает о множестве чудес у римлян, «которые у них называются monstra, ostenta, portenta, prodigia,— такое множество, что, если бы я захотел их перечислять и припоминать, не было бы и конца настоящему сочинению. Monstra (знамения) называются так от monstrando (означать), так как они уясняют что-нибудь знаком; ostenta (предуказания) от ostendendo (указывать); portenta (предзнаменования) от portendendo (предзнаменовать, предуказывать); наконец, prodigia (предвещания) называются так потому, что они наперед говорят, предрекают будущее» (Августии. О граде божием, ч. 6, с. 269).
8 Grant R. М. Miracle and Natural Law in Graeco-Roman and Early Christian Thought. Amsterdam, 1952, p. 121.
Эволюция понятия науки в средние века
385
трактате «Математическое знание, необходимое при изучении Платона» жалуется на то, что изучающие Платона не знают математики в должной для этого мере.
Наряду с распространением суеверий и снижением общего уровня образования для позднего эллинизма характерно также усиление скептического умонастроения, особенно в среде образованных людей; скепсис и неверие были формой реакции на многочисленные культы чужеземных богов и бесчисленные суеверия. Легковерие и скепсис идут обычно рука об руку. «В Риме, куда стекались покоренные народы,— замечает Ф. А. Ланге об этом периоде,— вскоре не было более ничего, что не находило бы верующих, так же как не было ничего, над чем не смеялось бы большинство» 9.
Опыт, разум и откровение. В этой ситуации раннехристианские писатели видят одну из главных своих задач в борьбе со скептицизмом. Поскольку скептики прежде всего апеллировали к недостоверности чувственного восприятия, то христианские теологи берут под свою защиту чувства, стараясь доказать, что они нас не обманывают. «Не чувства,— обращается Тертуллиан к академикам,— надобно обвинять в обмане, а те причины, по которым предметы иначе представляются чувствам. Да и причины не обманывают, если они действуют сообразно с законами природы... В природе нет обмана, всякий предмет выражает то, что должен выражать. Чувства возвещают нам то, что предписал им закон, который заставляет чувства несколько иначе представлять предметы, нежели как бывает в действительности» 10.
Августин, подобно Тертуллиану, тоже выступает против скептицизма академиков и продолжает тертуллиа-нову аргументацию. «Если вы доказываете, — обращается он к академикам, — что человек не может знать ничего истинно, то осуждаете его на вечное невежество. Мы не должны жаловаться на чувства, будто бы они нас обманывают; мы не имеем права требовать от них более надлежащего. Что видят глаза, то видят совершенно правильно.
9 Ланге Ф.А. История материализма. СПб., 1899, с. 109.
10 Tertullian. De anima, с. 17. Цит. по: Скворцов К. Августин Иппонийский как психолог. Киев, 1870, с. 87.
13 П. П. Гайденко
386
Раздел третий
Если палка, опущенная в воду, кажется изломанною, то есть причина такого явления, так что мы больше права имели бы жаловаться на чувства, если бы они представляли палку в воде прямою. Глаза не обманывают, потому что передают душе предметы именно в таком виде, в каком они им представляются» и. По Августину, заблуждения возникают не из-за ложных свидетельств органов чувств, а из-за превратных суждений самой души, принимающей чувственное явление предмета за сам предмет.
Августин ведет борьбу со скептицизмом, в какой бы форме он ни выступал: в прямой и доведенной до последних выводов у скептиков или в более сдержанной у неоплатоников. «...Что касается той особенности в воззрениях, которую Варрон заимствовал у академиков новых, считающих все за недостоверное, то Град Божий решительно отклоняет от себя такое сомнение как безумие; ибо имеет о доступных пониманию и разуму предметах познание хотя и малое, по причине отягощающего душу тленного тела... но достовернейшее; и чувствам, которыми пользуется душа через посредство тела, при очевидности какой-либо вещи, верит: так как более жалким образом обманывается тот, кто полагает, что им никогда не следует верить. Верит он и священным писаниям, древним и новым, Которые мы называем каноническими...» 11 12
Как видим, в отличие от широко распространенного в те времена скептицизма Августин не сомневается в достоверности свидетельств чувств; столь же твердо убежден он в достоверности священных текстов, сообщающих, по его словам, истинное знание о таких вещах, «которых мы не можем уловить ни чувством, ни разумом» 13. Христианская теология, таким образом, значительно меньше доверяет разуму, чем философия: с одной стороны, она реабилитирует чувственную достоверность, восстанавливая доверие к чувствам в тех пределах, в каких это допускает здравый смысл; с другой — она требует веры в авторитет писания, веры, которая нередко вступает в проти
11 Contra academicos, III, 24, 26. Цит. по: Скворцов К. Августин Иппонийский как психолог, с. 139.
12 Августин. О граде божием, ч. 6, с. 141.
13 Там же, ч. 6, с. 142.
Эволюция понятия науки в средние века
387
воречие с доводами разума. Последний, как видим, теряет ту роль главного арбитра в вопросах истины, которую ему отводили античная философия и наука.
Однако эта общая установка христианской теологии по отношению к трем источникам знания — опыту, разуму и откровению — не исчерпывает собой всей специфики средневекового мышления. Важна еще одна сторона дела, связанная с трудностями совмещения опыта и разума с откровением. Августин сталкивается с этой проблемой постоянно. Как может бог воплотиться в человека и быть рожденным женщиной — вот один из главных вопросов языческих философов христианам 14. Августин подробно обсуждает также вопрос о том, как можно согласовать с доводами разума и со свидетельствами опыта христианское учение о воскресении плоти, подвергнутое острой критике языческими философами. Не менее резко критиковалось и христианское учение о вечных адских муках грешников: «...говорят, нет такого тела, которое могло бы страдать и не умереть» 15.
Проблема, вставшая перед христианской теологией, может быть сформулирована так: каким образом можно, сохраняя доверие человека к опыту, в то же время принять утверждения, резко этому опыту противоречащие? Августин решает эту задачу путем приведения опыта, так сказать, во взвешенное состояние. Рассуждает он так: «Если ... ответят нам, что нет собственно такого земного, т. е. грубого и видимого, тела, или — выражаясь яснее — такой плоти, которая бы могла страдать и не умереть: то что другое говорят, как не то,о чем люди узнают на основании телесного чувства и опыта? Кроме смертной плоти, они не знают никакой другой: и вся аргументация их сводится к тому, что чего они не испытали, того, по их мнению, и быть не может»16. Согласно Августину, то, что люди узнают на основании своего чувства и опыта, нельзя абсолютизировать, хотя нельзя и совсем не доверять этому; тот опыт,
14 «О воплощении Господа нашего Иисуса Христа, которое стыдится признать нечестие платоников» — так назвал Августин 29-ю главу 10-й книги «О граде божием».
15 Августин. О граде божием, ч. 6, с. 248.
16 Августин. О граде божием, ч. 6, с. 248.
13*
388
Раздел третий
который имеется у человека, должен быть принят, но с оговоркой, что возможен и совсем другой опыт, непохожий на нынешний. «... Если какое-либо страдание может действовать разрушительно, причина этого заключается в том, что душа соединена так с этим телом, что уступает слишком сильным страданиям и уходит из тела... Между тем тогда душа будет соединена с таким телом и таким образом, что этой связи уже не расторгнет никакая продолжительность времени, не разрушит никакое страдание. Поэтому, хотя в настоящее время нет плоти, которая могла бы испытывать чувство страдания и не умереть, однако тогда плоть будет не такою...» 17
Тут Августин вступает в противоречие пе только со своими непосредственными оппонентами — неоплатониками, стоиками, скептиками, но и вообще со всей традицией античной философии. В самом деле, большинство представителей философской и научной мысли Греции и Рима исходили из общей предпосылки, согласно которой существуют два источника знания: чувственное восприятие и мышление. То, что не может стать предметом чувственного восприятия (и базирующегося на нем опыта), познается с помощью разума — и этому последнему отдавали предпочтение перед чувственным восприятием и Демокрит, и Платон, и Аристотель. Что же касается какого-либо иного рода опыта, чем тот, каким располагает человек ныне, то об этом и вопроса никогда не возникало. Сам этот вопрос возник впервые в христианской теологии в связи с особым отношением к плоти.
Часто можно встретить утверждение, что христианство принизило значение плотского (чувственного) начала в человеке; и в определенном смысле так оно и есть: духовное начало в христианстве поставлено над чувственным. Однако этим еще не исчерпывается все своеобразие христианского понимания отношения между чувственностью и духом по сравнению с древним языческим: ибо в связи с учением о воплощении бога и воскресении плоти христианство возвело плотское начало в более высокий ранг, чем это имело место в язычестве и особенно в философии пифагорейцев, Платона и неоплатоников.
17 Августин, О граде божлем, ч. 6, с. 249.
Эволюция понятия науки в средние века
389
Согласно Платону, тело есть темница души, и только освободясь из этой темницы, душа попадает в ту стихию, которая соответствует ее более высокой природе. И не случайно неоплатоник Порфирий в книгах «О возвращении души» советует избегать всякого тела, «чтобы душа могла пребывать блаженною с богом» 18. Согласно Порфирию,, душа, познавая зло материального начала, должна стремиться обратно к Отцу и никогда уже не подвергаться «оскверняющему соприкосновению с этим злом» 19. Платон и платоники, таким образом, видят источник зла в самой «материи», в чувственно-телесном начале как таковом.
Христианская теология усматривает злое начало не в плоти как таковой, а в ее испорченности, вызванной грехопадением. И соответственно не освобождение бессмертной души от тленной плоти, а освобождение плоти от греховности, одуховление плоти, которое произойдет по воскресении, является целью христианского спасения. Причина зла и греха, согласно учению отцов церкви, — не в материи, а в воле. Сама по себе материя, плоть — это благо, но в том виде, как она существует сейчас, она в силу своей испорченности оказывается причастной злу.
При таком рассуждении становится важнейшим моментом постоянное различение природы, чувственного начала, как оно есть теперь и каким оно будет, «когда исполнятся времена», —различение, совершенно чуждое античной мысли. Применительно к проблеме познания это ведет к различению чувственного опыта, каким мы его знаем, и того чувственного опыта, который станет возможным по воскресении. Вот любопытное рассуждение Августина по этому поводу. Поскольку святые в будущей жизни, говорит он, будут обладать «духовными телами, так как плоть их будет жить не плотским, а уже духовным образом» 20, то все телесные отправления у них сохранятся, «и дух будет ими пользоваться через духовное тело» 21. В числе других телесных органов сохранятся
18 Августин. О граде божием, ч. 4. Киев, 1905, с. 159.
19 Там же, с. 162.
20 Августин. О граде божием, ч. 6, с. 391.
21 Там же, с. 394.
390
Раздел третий
и глаза. И тут возникает каверзный вопрос: зачем же святым глаза, если они, будучи существами духовными, могут видеть все духовные силы — бога и ангелов — непосредственно духовным (умным) созерцанием аналогично тому, как, согласно Платону и платоникам, бессмертные души, освободившись от телесной оболочки, непосредственно созерцают бога и идеальный мир? Но, с другой стороны, если допустить это платоновское рассуждение, то непонятно будет, зачем же святым в будущей жизни нужно их тело. Какое «применение» найдет оно в одуховленном мире? На этот сложный вопрос Августин дает такой ответ: «...вопрос в том, будут ли они (святые.— П.Г.) видеть Его и телесными глазами, когда будут иметь их открытыми? Если в духовном теле глаза даже и духовные будут способны видеть столько же, сколько способны видеть и такие, какими мы имеем их теперь, то без сомнения ими нельзя будет видеть Бога. Ясно, что они будут иметь совершенно иную способность, как скоро посредством них созерцаться будет та бесконечная природа, которая не ограничена пространством, а находится везде вся» 22.
Это парадоксальное рассуждение есть логически неизбежное следствие христианских догматов о воплощении бога и об обожении плоти. Августин прекрасно понимает, что его тезис о видении бога также и «телесными глазами» столь же абсурден для античных философов, сколь абсурдны ддя них и оба эти догмата христианской веры.
Именно с философами Августин и ведет теперь полемику. «Конечно, если бы рассуждение философов, путем которого они приходят к мысли, что предметы мысленные мы видим умственным взором, а чувственные, т.е. телесные, телесными чувствами, так что ум наш не может созерцать ни мысленных предметов посредством тела, ни телесных — без посредства тела, — если бы рассуждение это было несомненно верным, то было бы несомненно верно и то, что Бога нельзя видеть глазами даже и духовного тела, но это рассуждение опровергают и здравый разум, и авторитет пророческий» 23. В чем же Августин
22 Августин. О граде божием, ч. 6, с. 394, 395.
23 Августин. О граде божием, ч. 6, с. 397,'
Эволюция понятия науки в средние века
391
видит аргумент «здравого разума», подтверждающий его тезис?
«Кто же настолько отклонился от истины, чтобы осмелился сказать, будто Бог не знает телесного? А разве ж Он имеет тело, глазами которого мог бы это знать?» 24 * Если парадоксальным кажется допущение, что можно видеть духовную реальность телесными глазами, то не менее парадоксально и другое допущение, а именно что можно видеть телесную реальность, не обладая телесными органами. Но здесь, по мнению Августина, мы имеем дело с тезисом, не допускающим никакого сомнения, ибо тут речь идет о самой непреложной для средневекового мыслителя «истине разума» — всемогуществе и всеведении божием, В дальнейшем мы увидим, как часто в наиболее трудных случаях средневековая мысль обращается к аргументу, совершенно чуждому античной философии и пауке, а именно что для бога нет ничего невозможного.
К этому же аргументу обращается, как видим, и Августин2б. Этот аргумент встречаем и у представителей греческой патристики. Так Иоанн Златоуст (IV в.) постоянно подчеркивает, что всемогущество бога позволяет ему творить вопреки естественному порядку вещей. «...Он сделал для нас наилучшим учителем самый образ сотворения, устроив все сотворенное выше естественного порядка. Быть может, сказанное мною несколько темно: так нужно еще сказать об этом пояснее. Все согласятся, что по естественному порядку вода должна носиться поверх земли, а не земля на водах, потому что земля, будучи густа, Жестка, упруга и плотна, легко может держать на себе воду,’а вода, будучи жидка и удобоподвижна, мягка и текуча, и уступчива всяким напорам, не могла бы поддерживать ни одного тела, даже и самого легкого;
24 Там же.
26 «Для мудрствующих по Богу на все, что людям представляется невероятным, но что содержится однако же в священных писаниях... величайшим аргументом служит несомненное всемогущество Божие. Они наверное знают, что Бог не мог в тех писаниях говорить неправду, и может сделать то, что для неверного ка-
жется невозможным» (Августин. О граде божием, ч. 6, с. 245. Курсив мой.— П. Г.).
392
Раздел третий
часто она, при впадении малого камешка, уступает и даетему место, и пропускает его в глубину. Поэтому, когда увидишь, что носится поверх воды не малый камешек, но вся земля, и не погружается, то подивись силе, так сверхъестественно чудодействующей» 26.
Возникает вопрос: какие именно природные явления побудили Златоуста прибегнуть к аргументу о божественном всемогуществе? И можно ли увидеть, что «носится поверх воды не малый камешек, но вся земля, и не погружается»? Тут как раз мы и имеем дело с характерной особенностью раннехристианского мышления: Златоуст говорит «увидишь», имея в виду текст священного писания. «А откуда это видно, что земля носится поверх воды» — резонно спрашивает Златоуст. И дает ответ: «Пророк говорит об том так: той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть (Псал. XXIII, 2); и опять: утвердившему землю на водах ея (Псал. CXXXV, 6)» 27. Одним словом, «факты», о которых сообщается здесь,— это отнюдь не то, что наблюдал сам автор или что было сообщено ему другими наблюдателями, но в несомненности этих «фактов» Златоуст убежден более, чем если бы подобное было увидено им самим. То, что античный философ и ученый отверг бы; объявив невозможным, принимается на веру и — более того — само служит аргументом в пользу идеи о божественном всемогуществе, действующем вопреки природному порядку. «Малого камешка вода не может снести на своей поверхности, а носит такую землю, и горы, и холмы, и города... и (Земля) не погружается. Что говорю — не погружается? Как она, будучи столь долгое время омываема снизу водою, не расплылась и вся не превратилась в грязь?.. Кто же не изумится и не удивится этому, и не скажет смело, что это дела не природы, но сверхъестественного Промысла?» 28.
Естественный порядок вещей и божественное всемогущество. На протяжении многих столетий естественнонаучные проблемы обсуждались с помощью толкования
26 Творения Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. СПб., 1896, т. 2, кн. 1, с. 114 (курсив мой.— П. Г.).
27 Там же.
28 Творения Иоанна Златоуста..., с. 114, 115.
Эволюция понятия науки в средние века
393
соответствующих текстов священного писания. Интересующий нас вопрос — о соотношении естественного порядка вещей и божественного всемогущества, т. е., иначе говоря, природной закономерности и сверхъестественного, чудесного вмешательства провидения — часто решали в форме комментария к первым главам книги Бытия, где повествуется с сотворении мира богом. Характерен комментарий Василия Великого (около 330—379 гг.) к первой главе этой книги, особенно к тому месту, где речь идет о разделении вод и о их «собирании»: «II сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды... И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. ...И назвал Бог твердь небом... И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. (И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша)» 29. Комментируя этот текст, Василий отмечает, что воде не всегда было свойственно стекать вниз, но что это свойство она получила в силу божественного повеления. «Если бы вода была послушна этому закону, то было бы излишним повеление ей собраться в одно место, ибо тогда благодаря своей естественной склонности к глубине она сама потекла бы в более глубокое место и не остановилась бы до тех пор, пока везде не установился бы одинаковый уровень» 30. В действительности же, как о том свидетельствует писание, вода получила свою склонность течь вниз «только по повелению Господа». Ибо «глас Божий есть творец природы, и повеление, обращенное тогда к творению, дало тварям норму для будущего» 31. Таким образом, согласно Василию, естественные законы и свойства вещей — такое же творение бога, как и сами природные вещи. Но именно поэтому они не представляют собой чего-то вечного и неизменного: так же, как некогда они были сотворены, они могут быть и преобразованы и даже уничтожены 32.
29 Бытие, I, 6-9.
30 Basileios, Hexaemeron IV, 2; Sources chretiennes 26, 1950, p. 250.
Ibid.
32 Любопытно, что этот же библейский текст у другого византийского богослова, Иоанна Златоуста, вызывает несколько иные соображения: он обращает внимание на то, что, будучи отделен-
394
Раздел третий
Именно в этот период формируется воззрение на природу, которое становится преобладающим в средневековом мире: природа не есть нечто самостоятельное, несущее в себе свою цель и свой закон, как это мы видели у античных мыслителей, в частности у Аристотеля; напротив, она создана для человека, для его блага — как в целом, так и в отдельных своих проявлениях. Учение о божественном всемогуществе оказывается связанным с тенденцией к ликвидации самостоятельности природы, поскольку благодаря своему всемогуществу бог может действовать вопреки естественному порядку. Связь этих двух мотивов хорошо видна опять-таки у Златоуста. «Огонь по своей природе,— говорит он,— стремится вверх, всегда рвется и летит на высоту, и, хотя бы тысячу раз его нудили и заставляли, не устремится вниз. ...Но с солнцем Бог сделал совершенно противное: обратил лучи его к земле и заставил свет стремиться вниз, как бы говоря ему этим положением: смотри вниз и свети людям; для них ты и сотворено. И пламя свечи не позволило бы сделать этого с собою, а столь великая и чудная звезда склоняется вниз и смотрит к земле, — в противоположность огню, — по силе Повелевшего» 33.
Нам еще не раз придется обращать внимание на внутреннюю связь этих двух важнейших принципов средневекового мировосприятия: тезис о всемогуществе бога, спо-
ной, вода, находящаяся над твердью (т. е. над небесным сводом), ведет себя совсем не так, как ей свойственно по ее природе. «Хребет видимого неба со всех сторон окружают воды — и не стекают, не спадают, хотя не таково свойство вод: напротив, они легко стекают во впадины, если же тело будет выпуклое, они со всех сторон сбегают, и ни малая часть их не устоит на такой форме. Но вот чудо это случилось с небесами... И вода не погасила солнца, и солнце, столько времени ходя внизу, не высушило лежащей наверху воды» (Творения Иоанна Златоуста..., с. 115). У Златоуста особенно поражает свойственная ему больше, чем другим представителям раннехристианской мысли, готовность отказаться от всяких попыток согласовать тексты писания со свидетельством опыта и доводами здравого смысла. Нет у него и того философского интереса, который заставляет Августина вести полемику с неоплатониками и другими языческими философами, детально входя в их аргументацию и разрабатывая при этом свою.
33 Творения Иоанна Златоуста..., с. 115.
Эволюция понятия науки в средние века
395
собного нарушать естественный ход природных процессов, с одной стороны, и убеждение в том, что природа не имеет в себе самостоятельной ценности, что она не есть цель для себя самой, а создана ради человека. Эти принципы составили предпосылку символизма и аллегоризма, который характерен для средневекового способа рассмотрения природных явлений.
Итак, средневековое мышление ориентировано пара-доксалистски: оно допускает, как видим, два рода опыта, не отказывая в доверии обычному чувственному опыту, а лишь стремясь показать, что он не является единственно возможным.
Посмотрим теперь, какая установка вытекает отсюда для научного исследования, какие предварительные, не всегда вполне осознанные допущения лежат в основе средневековой науки.
Прежде всего для средневекового ученого характерен интерес к тем явлениям природы, которые поражают воображение, будучи как бы исключениями из общего правила, противореча обычному представлению о явлениях данного рода. Удивительное, необычное, из ряда вон выходящее — вот то, что приковывает к себе внимание ученого, так же как и прорицателя, мага, заклинателя. Такого рода интерес к исключительному в природе был свойствен уже и римлянам: так, Плиний в своей «Естественной истории» повествует о множестве «чудес природы»; на него, кстати, ссылается и Августин, приводя примеры парадоксального в природе. «В Сицилии,— пишет он, отсылая читателя к Плинию,— есть агригентская соль: если, говорят, приблизить ее к огню, она делается жидкою, как в воде, а если приблизить к воде, трещит как в огне. В Гарамантах есть один источник, который днем бывает таким холодным, что из него нельзя пить, а ночью таким горячим, что нельзя к нему прикоснуться. В Эпире есть другого рода источник, в котором горящие факелы тухнут, как и во всех других, но потухшие зажигаются., не как в других» 34. Он же приводит еще множество примеров такого же парадоксального свойства.
84 Августин. О граде божием, ч. 6, с. 256.
396
Раздел третий
Но не только такие редкие и малоизвестные явления приковывают внимание Августина: он подчеркивает также, что удивительное и парадоксальное мы находим и в повседневно наблюдаемых феноменах и только привычка мешает нам разглядеть в них «чудесное». «Кто объяснит удивительные свойства самого огня, который все обожженное делает черным, будучи сам светлым?.. Да и это свойство огня не составляет, так сказать, правила, потому что, наоборот, побывавшие в его пламени камни становятся и сами белыми...» 35 Августин приводит также в пример удивительную особенность известкового камня: «Уже то одно разве не заслуживает удивления, что известь воспламеняется тогда, когда гасится?..» 36
Еще Аристотель отмечал, что удивление является началом философии и науки. Но нельзя не обратить внимания на то, что удивление Аристотеля, как и других греческих ученых, и удивление Августина оказываются разнонаправленными. Аристотель останавливается в удивлении перед каким-либо природным феноменом, чтобы затем начать искать объяснение тому, что его удивило; Августин же, напротив, видит в удивительных «случаях» образцы того, что непостижимо для человеческого ума и что свидетельствует об ограниченности человеческой возможности объяснения. «...Когда мы говорим о бывших или имеющих быть чудесах Божиих, люди неверующие, которым мы не можем доказать их на опыте, требуют от нас их объяснения, и в виду того, что мы не можем этого сделать (так как оно превышает силы человеческого ума), считают слова наши ложью. Пусть же сами они дадут объяснения тем весьма многим удивительным явлениям, которые мы или можем видеть, или даже и видим. Если они поймут, что объяснить таких явлений человек не в состоянии, то должны будут признаться, что если что-нибудь не может быть объяснено, это еще не служит доказательством, что его не было или не будет; ибо и теперь есть явления, которых также объяснить мы не можем» 37.
Но не только невозможность объяснения удивительных,
36 Августин. О граде божием, ч. 6, с. 252.
38 Там же, с. 253.
37 Августин. О граде божием, ч. 6, с. 255, 256 (курсив мой.— П. Г.).
Эволюция понятия науки в средние века
397
«чудесных» явлений хочет показать Августин; не менее важно для него подчеркнуть относительность всех привычных представлений людей о предметах опыта. Он настаивает на том, «что всякий предмет может оказаться иным, чем каким он был известен в ряду других предметов прежде по существенным признакам своей природы» 38 *. Это тоже тенденция, противоречащая установке античной науки. Аристотель был убежден, что природа верна себе и что путем тщательного изучения, опираясь на повседневный опыт и те сведения, которые человечество накопило о явлениях природы за многие столетия, можно установить с полной определенностью, что соответствует природе и что ей противоречит. Наличие так называемых «неудач» природы или «монстров» (уродов) нисколько не опровергает этой общей установки.
Совсем иначе настроен мыслить Августин. Ему важно доказать, что наше представление о том, что согласно с природой и что противно природе, всегда будет недостаточным и что не следует даже и стремиться достигнуть в этом пункте какой бы то ни было определенности. «...Все чудеса мы называем явлениями, противными природе.Но на самом деле они не противны природе. Ибо как может быть противным природе то, что совершается по воле божией, когда воля творца есть природа всякой сотворенной вещи? Чудо противно не природе, а тому, как известна нам природа» ".
Только при такой установке сознания можно допустить те чудеса, о которых повествуется в священном писании и которые далеко превосходят своей «противностью природе» все, что Августин рассказал об извести, агригент-ской соли, эпирском источнике и т. д. «В божественных книгах мы читаем, что даже само солнце раз остановилось... а в другой отодвинулось назад...»40
Августин ясно и недвусмысленно сформулировал тезис, который в течение целого тысячелетия определял воззрения людей на природу и ее закономерности: «Пусть неверующие не отуманивают себя знанием природы, как будто
38 Там же, с. 265.
89 Августин. О граде божием, ч. 6, с. 266,
40 Там же, с. 267,
398
Раздел третий
божественною силою в той или другой вещи не может совершиться что-либо иное в сравнении с тем, как люди знают ее природу путем опыта; хотя уже и то самое, что в природе вещей всем известно, не меньше было бы удивительным и для всякого внимательного наблюдателя поразительным, если бы люди не имели обыкновения удивляться только явлениям редким» 41.
Среди всех удивительных и чудесных явлений, наполняющих мир, самое большое чудо, по Августину, есть сам этот мир 42. Поэтому справедливо замечание Этьена Жильсона, что для христианства в определенном смысле все есть чудо 43; понятие чудесного и понятие сотворенного богом оказываются у Августина совпадающими; это и означают слова, что «самый уже этот мир есть чудо, без сомнения, большее и превосходнейшее, нежели все, чем он наполнен» 44.
Мир, по Августину, великое чудо, точно так же, как и сам человек. И «ключи» от творения недоступны человеку; это, собственно, и означает понятие чуда: непостижимость для человеческого разума. «...Все, что ни совершается чудесного в этом мире, все это — несомненно меньше, чем весь этот мир, т. е. небо, земля, и все в них существующее; что все сотворено, конечно, Богом. И как сам Сотворивший, так и способ, которым Он сотворил, сокровенны и непостижимы для человека... Да и человек представляет собою большее чудо, чем всякое чудо, совершаемое человеком» 45.
Этот ход мысли мы наблюдаем и у Златоуста: не в отдельных только явлениях, а во всем строении мироздания надо видеть явленное чудо. «...Удивительно не только, что Бог создал мир великим и чудным, и что утвердил его превыше естественного порядка, но также и то, что составил его из противоположных стихий — теплой и холодной, сухой и влажной — из огня и воды, из земли и воздуха: и эти противоположные стихии, из которых
41 Августин. О граде божием, ч. 6, с. 267.
42 Там же, с. 262.
43 Gilson Е. L’esprit de la philosophie medievale. Paris, 1948, p. 357.
44 Августин. О граде божием, ч. 6, с. 262.
46 Августин. О граде божием, ч. 4, с. 127 (курсив мой.— П. Г.).
Эволюция понятия науки в средние века
399
составлена вселенная, враждуя одна против другой, не истребили однако ж друг друга... Кто же настолько глуп и бесчувствен, что видя такую массу тел, такую красоту, такой состав, непрерывную борьбу, противоборство и устойчивость таких стихий,— не размыслит сам с собою и не скажет: если бы не было какого-либо Промысла, поддерживающего эту массу тел и не попускающего вселенную распасться, она не могла бы существовать более и продолжаться?» 46.
Как видим, здесь природа в самом существе своем, в своей «составленное™ из противоположных стихий» рассматривается как чудо; сохранение и поддержание ее существования, по Златоусту, тоже не есть результат ее собственного внутреннего закона, а представляет собой чудо, возможное благодаря божественному всемогуществу.
Но не только в этом пункте мы видим отличие средневекового строя мышления от античного. Существенно важным моментом средневекового понимания природы для дальнейшего развития науки был христианский догмат о сотворении мира богом из ничего. Этот догмат требует радикального переосмысления всего античного (языческого) отношения к природе. Вот как представлен процесс сотворения мира у Бэды Достопочтенного в «Книге о природе вещей»: «В самом начале творения были созданы из ничего небо, земля, ангелы, воздух и вода. А именно, в первый день был создан свет, также из ничего; во второй день — твердь посреди вод; на третий — море и земля вместе со всем тем, что на ней произрастает; на четвертый — небесные светила, из того света, что был создан в первый день; на пятый день — морские рыбы и птицы; на шестой — все прочие земные животные и человек, плоть которого была создана из земли, а душа из ничего. Он был поселен в раю, который Господь насадил с самого начала. В седьмой же день отдыхал Господь, но не от управления сотворенным, благодаря которому мы только и живем, движемся и существуем, а от творения новой субстанции» 47. Нетрудно видеть, что здесь Бэда просто
46 Творения Иоанна Златоуста..., с. 116.
47 Migne J-Р. Patrologiae cursus completus. Series latina. Parisii, 1851, vol. XC, p. 87.
400
Раздел третий
пересказывает содержание первой и второй глав книги Бытия. Но как теолог Бэда не ограничился пересказом библейского текста, он предложил также интерпретацию этого текста в разделе с характерным названием — «О четырех сторонах божественного творения». «Божественная деятельность,— пишет здесь Бэда,— которая сотворила мир и управляет им, может быть разделена и рассмотрена с четырех точек зрения. Во-первых, мир сей в замысле Слова Божьего не создан, а существует вечно: по свидетельству апостола, Бог предназначил нас для царства до начала времен этого мира. Во-вторых, элементы мира были сотворены в бесформенной материи все вместе, ведь Бог, живущий вечно, создал все одновременно. В-третьих, эта материя в соответствии с природой одновременно созданных элементов не сразу преобразовалась в небо и землю, но постепенно, за шесть дней. В-четвертых, все те семена и первопричины вещей, что были сотворены тогда, развиваются естественным образом все то время, что существует мир, так что до сего дня продолжается деятельность Отца и Сына, до сих пор питает Бог птиц и одевает лилии» 48.
Бэда, таким образом, различает четыре значения понятия «божественное творение». Первое — это как бы «идея» творения, которая так же вечна, как и сам творец, и которая всегда пребывала в «замысле», или в уме бога. Второе — это сотворение «материи» мира, оно-то и есть творение из ничего в собственном смысле слова. Третье — это формирование этой материи, создание из первоначальной «смеси всех вещей» определенных, оформленных предметов. И, наконец, Бэда выделяет еще одно значение слова «творение»: это непрерывно продолжающееся сохранение сотворенного, существующего лишь благодаря животворящей силе, исходящей от бога.
Это последнее значение очень важно для средневекового понимания природы: чудо создания мира — это для средневекового ученого не что-то однажды имевшее место, оно постоянно происходит на наших глазах; всякое природное явление — это такое же чудо, как и первоначальное
48 Migne J.-P. Patrologiae cursus completus. Series latina. Parisii, 1851, vol. XC., p. 86.
Эволюция понятия науки в средние века
401
сотворение материи из ничего. Творение из ничего — это догмат, переносящий центр смысловой тяжести с природы на сверхприродное начало, лишающий природу той самостоятельности, какую она имела для греков. «Всякий сотворенный предмет,— пишет К. Скворцов, излагая точку зрения Августина,— как бы он ни был совершенен, не имеет самостоятельного, безусловного бытия, и, следовательно, может быть абсолютно обращен в ничто, то есть сделаться тем, чем был до творения» 49.
В христианстве изменился онтологический статус природы, а вместе с ним изменилось и понимание отношения человека к ней. По словам Иоанна Златоуста, для язычников мир есть бог. Вот как он воспроизводит логику их рассуждения: «Как хитро отвечают неверующие, когда мы станем показывать им величие и красоту природы, обилие и избыток во всем! Это-то самое, говорят, и есть главная вина, т. е. что Бог сотворил мир столь прекрасным и великим, потому что, если бы Бог не сотворил его прекрасным и великим, мы и не боготворили бы его, теперь же, поражаясь его величием и удивляясь его красоте, мы думаем, что он есть Бог» 50.
Именно отношение к природе как чему-то божественному, самоценному и самостоятельно сущему, т. е. некоторая сакрализация природы является, на наш взгляд, одной из причин того, почему в античности принципиально не могла появиться наука в той форме, в какой мы находим ее па заре нового времени. Правда, в античности был сделан важный шаг в направлении десакрализации природы: мы имеем в виду то развитие мысли — от элеатов и до Платона, которое привело в философии к расщеплению мира на идеальный и чувственный, а тем самым сделало возможной математику как науку, оперирующую идеализованными объектами. Однако общее миросозерцание античности, для которого «природа есть бог», сказалось уже в самой форме, какую приняло учение об идеальном мире: это мир вечных и неподвижных сущностей, которые человек может лишь созерцать, но не может
49 Скворцов К. Августин Иппонийский как психолог, с. 197 (курсив мой.— П. Г.).
60 Творения Иоанна Златоуста..., с. 122, 123 (курсив мой.— 77. Г.).
402
Раздел третий
относиться к ним действенно-практически. Да и отношение к природе, окружающей человека, у философов и ученых античности осталось в сущности прежним: даже для платоников природа есть пусть бледная и изменчивая, но все же копия вечных идей.
Не следует забывать, что Платон (в «Тимее») и неоплатоники считали мир вечным и блаженным живым существом, обладающим душой — представление, против которого резко обрушивается Августин 51. Не менее резко высказывается против платоновского учения об идеях другой христианский теолог — Ориген (185—253 гг.). Возражая тем, кто мог бы «думать, будто мы признаем существование каких-то образов, которые греки называют ISeocc» 52, Ориген недвусмысленно заявляет: «Мы совершенно чужды того, чтобы признавать бестелесный мир, существующий только в воображении ума и в игре представлений, и я не понимаю, как можно утверждать, что Спаситель — из этого мира, или что туда пойдут святые» 61 62 бз 64. Мир идей Платона для христианских теологов — бесплотный и лишенный подлинной реальности мир, являющийся лишь умственным порождением; именно как такое порождение его можно только созерцать умом, но в нем нельзя реально существовать.
В христианстве появляется совершенно новый мотив также и по отношению к природе. «...Бог не только положил на природе стихий знак их несовершенства,— говорит Златоуст,— но и соизволил рабам своим — человекам повелевать или, чтобы, если по виду их ты не узнаешь их рабства, то от повелевающих ими ты научился, что все они подобные тебе рабы. И вот Иисус Навин говорит: да станет солнце прямо Гаваону, и луна прямо дебри Елон (Иис. Нав. X, 12). Еще и пророк Исаия... заставил его идти назад (Ис. XXXVIII, 8); и Моисей повелевал воздуху, и морю, и земле, и камням; Елисей переменил естество воды (4 Цар. II, 22); три отрока одолели огонь» 54.
61 См.: Творения блаженного Августина..., ч. IV, с. 159.
62 Творения Оригена, учителя Александрийского. О началах. Казань, 1899, с. 105, 106.
63 Там же, с. 106.
64 Творения Иоанна Златоуста..., с. 126, 127 (курсив мой.— П. Г.).
Эволюция понятия науки в средние века
403
Здесь можно ясно видеть, как внутренне связаны между собой догмат о творении, вера в чудо и убеждение в том, что природа «сама для себя недостаточна» 55 и что человек призван быть ее господином, «повелевать стихиями».
Отношение к естествознанию в средние века. Однако это изменение отношения к природе стало сказываться на развитии естествознания спустя почти целое тысячелетие после того, как был провозглашен рассматриваемый догмат, а именно начиная с XIV в., а особенно сильно в эпоху Возрождения, когда основы христианства были существенно поколеблены. И причина этого «запаздывания» — в том, что наряду с радикальным изменением онтологического статуса природы христианство решительно пересматривает также и статус естественнонаучного знания, с одной стороны, и понимания человека, объявленного господином природы,— с другой.
Рассмотрим последовательно оба эти момента. В средние века, и прежде всего в период раннего средневековья, о котором сейчас идет речь, наука о природе утратила то значение, которое она играла в античности и особенно в эпоху эллинизма. Ведь коль скоро природа утратила свой прежний статус безусловной реальности, то и наука о природе потеряла свое прежнее значение и стала рассматриваться либо символически, либо в аспекте ее практической полезности. Ибо безусловной реальностью для христианской теологии является только бог, а изучение творения имело смысл разве что с точки зрения постижения всемогущества и мудрости творца, но не имело прямой связи ни с познанием бога, ни с главным делом человека — спасением души. Вот почему Августин твердо заявляет, что «проповедование научных познаний, хотя бы они и заключали в себе истину, есть суета мирская; а благочестие состоит в исповедании Тебя и поклонении Тебе» б6. Такая установка, естественно, отнюдь не благоприятствовала развитию науки. И на многие столетия стало нормой рассуждение, которое мы встречаем у того же Августина: «Когда я слышу кого-либо из собратов христиан,
66 Там же, с. 125.
66 Августин. Исповедь, с. 102.— В кн.: Творения блаженного Августина епископа Иппонийского. Киев, 1880.
404
Раздел третий
ошибающегося в суждениях своих о научных предметах, то я терпеливо и снисходительно смотрю на него и не считаю даже для него вредным, если он, положим, и не знает чего-нибудь о свойствах каких-либо творений, но в то же время о Тебе, Господи, творце вселенной не мыслит ничего недостойного и не верит тому» 57. Нет ничего удивительного в том, что при такой установке средневековая наука на протяжении нескольких веков (VI — X вв.) не только не внесла чего-либо существенно нового в античное естествознание, но даже не сумела сохранить того научного уровня, который имел место в эпоху эллинизма.
Естественнонаучный интерес ослабевает еще и потому, что природа, будучи несамостоятельной, по убеждению отцов церкви, не дает возможности познать последние причины и основания своего собственного существования: они не могут быть открыты человеку на земле. В этом отношении характерно следующее рассуждение Оригена: смысл и значение земных вещей могут быть раскрыты людям (святым) только «после отшествия их из жизни... чтобы они могли насладиться неизреченною радостью через познание всего этого и под влиянием благодати полного знания» б8.
Как видим, «последние основания» природных явлений рассматриваются Оригеном как непостижимые не только с помощью естественного света разума, но даже и с помощью божественного откровения — в посюстороннем мире мы виним лишь явления, значение которых от нас скрыто. «Пока мы находились на земле, мы видели, например, животных или деревья и наблюдали различия их, а также весьма большое различие между людьми; однако, видя это различие, мы не понимали основания всего этого; видимое нами разнообразие побуждало нас только исследовать и доискиваться, почему все это сотворено различным и различно управляется. Но раз на земле зародилась в нас ревность и любовь к познанию такого рода,— после смерти нам будет дано уже (самое) познание и понимание этого (разнообразия)... Итак, когда мы вполне постигнем 67
67 Августин. Исповедь, с. 103.
88 Творения Оригена..., с. 177.
Эволюция понятия науки в средние века
405
основания этого (разнообразия), тогда мы и будем иметь двоякое познание о том, что мы видим на земле» б9.
Под «последними причинами» Ориген вовсе не имеет в виду те общие закономерности или же «последние гипотезы», о которых уже в новое время говорил Ньютон, заявляя: «hypothesis non fingo», отвергая тем самым претензии на объяснение сущности тех процессов, способ протекания которых описывается в физике с помощью математических формул. Говоря о «последних основаниях», Ориген имеет в виду совершенно иное, а именно постижение символического смысла каждого индивидуального явления природы во всей его индивидуальности. После смерти бог откроет святым основания своих творений: «Он будет показывать (им) причины вещей и силу Своего творения; и Он научит их, почему такая-то звезда поставлена в таком-то месте неба, и почему она отделяется от другой звезды известным пространством, и что было бы, если бы, например, она была ближе (к этой другой звезде), и что случилось бы, если бы она находилась дальше от нее» 60. Для Оригена вселенная и все, что мы находим в ней, представляют собой только символическое выражение трансцендентного замысла, и каждое отдельное явление во всем многообразии своих определений служит одним из проявлений общего замысла; именно постижение потустороннего значения каждой из бесконечных деталей мироздания, ее роли в целом божественного замысла — это и есть, по Оригену, «познание последних оснований»61.
69 Творения Оригена..., с. 178.
60 Там же, с. 179.
61 Чтобы яснее представить себе, какие именно вопросы прежде всего волновали средневекового теолога и ученого, в чем видел он важнейший предмет познания, приведем еще один отрывок из Оригена. «Возвратившись ко Христу, он (человек.— IT. Г.) ясно узнает смысл всего, что делается на земле,— узнает о человеке, и о душе человека, и об уме; узнает, что такое дух, действующий в каждом из них, а также, что такое жизненный дух и что такое благодать Святого духа... Потом он узнает, что такое Израиль, каково различие народов, что означают 12 колен израильских... Он узнает, что такое добрые силы, сколько их и каковы они, а равным образом, каковы силы противные... Он узнает, какова сущность душ, каково различие животных,— и живущих в водах, и птиц, и зверей,— что означает разделение каждого рода
406
Раздел третий
Ни одно явление, ни одна вещь не открывают здесь сами себя; каждая указывает на иное, на высший, потусторонний ей смысл; каждая вещь есть символ 62. Отсюда и проистекает та характерная черта средневекового сознания, которую называют «моральным символизмом» и которая выражается в типичном для средневековья интересе к естественным явлениям как к «иллюстрации истин морали и религии» 63. К естественнонаучной литературе средневековья обычно относят те произведения, в которых, как, например, в «Физиологе», преследуется не столько цель описания природных явлений и существ и уже тем более не их объяснения в естественнонаучном плане, сколько их символическое истолкование 64. Значение того же «Физиолога» поэтому не познавательное, а скорее назидательное 6б. Моральный символизм порождает специфическую именно для средневековья телеологию, где в качестве обт-
на столь многие виды,— узнает, каково намерение было при этом у творца и какая мысль его премудрости скрывается во всем этом...» (Творения Оригена..., с. 176—177).
62 «Для античности природа была действительностью, для средних веков она была символом божества» (Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания. СПб., 1907, с. 543).
63 Crombie А. С. Medieval and Early Modern Science. Vol. I.— In: Science in the Middle Ages: V—XIII Centuries. N. Y., 1959, p. 15.
64 Так, «агнец и единорог считались символами Христа. Питающий своих птенцов своею кровью пеликан был всегдашним символом жертвенной смерти Христа... Овцы и рыбы обозначали последователей Христа, олень — душу, ищущую спасения...» (Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания, с. 557).
66 Символизм и аллегоризм средневекового мышления, воспитанные в первую очередь на священном писании и его истолковании, были в высшей степени изощренными и разработанными до тонкостей. Так, Рабан Мавр (начало XII в.) в своей работе «Аллегории ко всему священному писанию» следующим образом характеризует метод своей работы: «У мудрости — четыре дочери, четыре способа истолкования текста священного писания: история, аллегория, тропология и анагогия. История, давая нам примеры жизни выдающихся людей, побуждает нас подражать их святости. Аллегория ведет к познанию истины через откровение веры. Тропология путем нравственного наставления пробуждает любовь к добродетели. Анагогия, показывая вечные радости, побуждает нас стремиться к вечному блаженству. В здании нашей души история закладывает фундамент, аллегория возводит стены, анагогия} кладет кровлю, а тропология украшает его...» (Migne J.-Р. Patrologiae cursus completus. Series latina. Parisii, 1852, vol. GXII, p. 849).
Эволюция понятия науки в средние века
407
ясняющей причины оказывается цель, и при этом часто неизвестная, осуществлению которой и служит то или иное явление.
Для того чтобы глубже понять отличие средневековой науки от античной, интересно сравнить понимание целевой причины (допустим, у Аристотеля) со средневековым истолкованием целевой причины. В античной науке телеологическое объяснение не предполагало привлечения трансцендентной цели: цель, так же как и средство ее осуществления, принадлежала посюстороннему миру — будь то мир природы или человеческой деятельности. В средние века при рассмотрении природных явлений прибегают, конечно, и к «внутримирской» телеологии, но «последние цели» все же остаются непостижимыми; отсюда и символизм средневекового мышления, чуждый греческой пауке.
Таким образом, мы видим, что вместе с изменением онтологического статуса природы, которая теперь выступает как творение и потому всегда отсылает к творцу, куда неуклонно и устремляется духовный поиск средневекового человека, меняется также и отношение к естественнонаучному познанию. И меняется в двух отношениях: во-первых, ему отводится второстепенное место по сравнению с познанием бога и души; во-вторых, если даже внимание и привлекается к природным явлениям, то они выступают в качестве символов, указывающих на другую реальность и отсылающих к ней: а это опять-таки реальность религиозно-нравственная. Именно поэтому на протяжении всего того периода, пока христианская вера не утратила своей силы, не могло быть в полную меру обнаружено все значение, которое для научного знания имело изменение статуса природы. Только начиная с XIII — XIV вв. стали понемногу сказываться важные для науки последствия того мировоззренческого переворота, который произошел при переходе от языческой античности к христианскому средневековью.
По мере того как изучение природы теряет свое мировоззренческое значение и сохраняется главным образом в качестве средства, полезного — и не более того — для устроения мирских дел (ведения торговли, землемерия и т. д.), возрастают роль и значение изучения человечес
408
Раздел третий
кой души. Христианство вносит существенные изменения в понимание человека, изменения, впоследствии сказавшиеся и на развитии научного знания.
Научная революция, происшедшая в конце XVI — XVII вв., была бы невозможна, если бы за 1000 лет до нее не произошел тот радикальный мировоззренческий переворот, который изменил как отношение человека к природе, так и понимание им самого себя. Как изменилось отношение человека к природе, мы уже знаем. Но в чем состояло новое понимание человеком самого себя?
Средневековое понимание человека. Позднеантичный человек чувствовал себя элементом космоса и в этом отношении был близок к античному мировосприятию. Это особенно ярко проявилось в неоплатонизме, у Плотина, Ямвлиха, Прокла. Даже когда неоплатоники устремлялись к Единому, отвращаясь от мира с его бесконечным разнообразием, они тем самым углублялись в основу космической жизни. Само Единое неоплатоников было безличным, лишенным всякого образа началом, подобным по своей вечной неподвижности миру идей Платона, чуждому страданий, но чуждому и радости, любви; растворение, слияние с единым тождественно было для Плотина полному исчезновению его личности; не случайно поэтому, к4к справедливо замечает К. Ясперс, Плотин «не хотел показывать себя, никогда не говорил о самом себе», а отсюда понятно «исчезновение человека Плотина» 66: история сохранила нам только мысли Плотина, но не сохранила почти ничего от его живой личности.
Христианское понимание человека отличается от античного прежде всего тем, что человек не чувствует себя органической частью, моментом космоса; он вырван из космической, природной жизни, и поставлен вне ее; по замыслу бога, он выше космоса, должен быть его господином; но в силу своего грехопадения его положение господина пошатнулось, и хотя он не утратил и не может утратить своего сверхприродного статуса, но в своем испорченном состоянии он полностью зависит от божественной милости. Без веры в бога и без помощи божественной благодати человек оказывается, согласно хри
66 Jaspers К. Plato, Augustin, Kant. Munchen, 1965, S. 145.
Эволюция понятия науки в средние века
409
стианскому учению, гораздо ниже того, чем он был в язычестве: у него нет больше того твердого статуса — быть высшим в ряду природных существ, какой ему давала языческая античность; зато с верой он сразу оказывается далеко за пределами всего природно-космического: он непосредственно связан живыми личными узами с творцом всего природного. И отношение человека к творцу в христианстве совсем иное, чем отношение неоплатоников к Единому: личный бог предполагает и личное же к себе отношение; а отсюда изменившееся значение внутренней жизни человека: она становится теперь предметом глубокого внимания, приобретает первостепенную религиозную ценность.
Именно потому, что человеческая душа оказывается вознесенной пад всем космическим бытием 67 и незримыми нитями связанной с трансцендентным богом, возникает особая ее глубина, ее бездонность, которая неведома была античному язычеству и которую с таким волнением открывает Августин. Для античного грека, даже прошедшего школу Сократа («познай самого себя») и Платона, душа человека соотнесена с душой космоса и есть «микрокосм». Отсюда постоянные аналогии между космическо-природной и душевной жизнью. Августин же вслед за апостолом Павлом открывает «внутреннего человека», которому ничего в космосе не может соответствовать и который целиком обращен к надкосмическому творцу. Глубины «внутреннего человека» скрыты даже от него самого, они не могут быть постигнуты силами одного только естественцого разума — для их постижения нужен сверхъестественный свет благодати. «Ты же, Господи, судишь меня, ибо никто из людей не знает, что есть в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем... но есть нечто в человеке, чего не знает и сам дух человеческий, живущий в нем, а Ты, Господи, создавший человека, знаешь все... Итак, я исповедаюсь Тебе и в том, что о себе знаю, и в том, чего не знаю. Ибо и то, что я знаю о себе, знаю только при помощи Твоего света, и чего не
67 «...Душа разумная,— говорит Августин, — выше себя не имеет иной природы, кроме Бога, Который сотворил мир и Которым создана и она...» (О граде божием, ч. 4, с. 106).
410
Раздел третий
знаю о себе, дотоле не знаю, пока не воссияет во тьме свет Твой...» 68.
Именно потому, что душа поставлена надо всем природным миром, что она «не от мира сего», надкосмична и уходит своей глубиной в трансцендентное, исследование ее таинственных «пещер» (выражение Августина) есть дело важнейшее и нужнейшее для христианина, ибо непосредственно связано со спасением. И если познание природы оценивается Августином как «суета мирская», то познание себя — как первостепенное религиозное дело. Стремление к познанию тайны природы Августин считает родственным «похоти очес» 69; познание же тайн души — благочестивым и спасительным для человека. Но почему же познание собственной души так важно для личного спасения? Да потому, что греховные помыслы человека не всегда явны даже для него самого: «...весьма опасаюсь,— пишет Августин,— тайных грехопадений... которые известны очам Твоим, но не моим. При каких-нибудь других искушениях я имею возможность сознавать себя, но при искушениях тщеславия — почти никакой» 70. А поэтому важно глубже изучить душу чело
68 Августиц. Исповедь, с. 273, 274 (курсив мой.—Л. Г.).
69 «Кроме похоти плоти,— говорит он,— есть еще в нашей душе, от телесных чувств, какое-то пустое желание не только получать приятные ощущения телом, но и испытать все через тело,— какая-то суетная страсть любопытства, украшающаяся именем знания и мудрости. Так как эта страсть состоит в стремлении к знанию, а глаза преимущественно перед всеми другими чувствами служат орудиями познавания, то она в слове божием названа похотию очес (Иоанн II, 16)... Отсюда является стремление к познанию тайн природы (которая вне нас); это знание не приносит никакой пользы, да люди ничего и не ищут в нем, кроме знания. Из того же стремления к извращенному знанию получили свое начало искусства магиков» (Августин. Исповедь, с. 308— 310). Как видим, стремление к знанию самому по себе, безотносительно к его практической или морально-религиозной пользе, Августин считает опасным искушением, родственным магическому искусству. Он усматривает его внутренний стимул в жажде все испытать на себе, «через тело», а в этой жажде видит антипод целомудрия и врага христианской духовности. Вот почему Августин восклицает: «Буду хвалить Тебя, чудный Творец и устроитель всех вещей, но не буду чрезмерно устремлять на них свое внимание» (Августин. Исповедь, с. 314).
70 Там же, с. 314.)
Эволюция понятия науки в средние века
411
веческую, проникнуть в ее тайны, чтобы и себя, и других по возможности оградить также и от тайных грехопадений. По этой же причине приобретает важное значение и правдивая исповедь: жизнь души важно научиться понимать всякому христианину, без этого он не сможет бороться с искушениями в себе. «Умоляю Тебя, Боже мой, открой мне меня самого, чтобы я исповедался своим братьям, которые будут воссылать молитвы о мне, какие язвы я увижу в себе. После этого я еще тщательнее изучал бы себя» 71.
Христианская религия, отвращая взор человека от природных явлений и процессов, охлаждая его стремление к познанию внешней природы, в то же время стимулирует интерес к изучению им самого себя и тем самым открывает путь к развитию науки о душе — психологии. Правда, исследование душевной жизни не является в средние века самоцелью, «знанием ради знания», оно подчинено религиозным задачам спасения, но тем не менее в рамках христианства достигают небывалой глубины самонаблюдение и самоанализ, и таким образом создаются условия накопления огромного опыта душевной жизни: размышления христианских теологов о содержании душевной жизни неизмеримо превосходят по богатству наблюдений и по уровню анализа все, что ими сообщается о внешней природе.
Вместе с христианством формируется новый подход к анализу как онтологических, так и теоретико-познавательных проблем: вместо характерного для античности объективизма,теперь все чаще аргументация идет от сферы внутренне-субъективного.
В этом отношении в высшей степени показательно, что в полемике со скептицизмом Августин выставляет принцип субъективной достоверности, предвосхищая тем самым знаменитое «cogito ergo sum» Декарта. Характерен и тот ход мысли, который приводит Августина к утверждению этого принципа. Чтобы нагляднее объяснить три ипостаси единого бога, где Отец есть бытие, Сын— познание или созерцание, а Дух Святой — любовь 72, Ав
71 Там же, с. 316.
2 Августин. О граде божием, ч. 4, с. 213. 214.
412
Раздел третий
густин прибегает к аналогии, которая сама по себе очень интересна: «И сами мы в себе узнаем образ Бога, т. е. сей высочайшей Троицы... Ибо и мы существуем, и знаем, что существуем, и любим это наше бытие и знание. Относительно этих трех вещей... мы не опасаемся обмануться какою-нибудь ложью, имеющею вид правдоподобия. Мы не ощущаем их каким-либо телесным чувством, как ощущаем те вещи, которые вне нас...» 73. Поскольку о своем существовании мы знаем изнутри и непосредственно, то это знание не подвержено никаким ошибкам, оно не является субъективным в отрицательном значении этого слова, потому что не связано ни с каким внешним чувством, могущим искажать познаваемый объект. Поэтому знание о своем существовании, согласно Августину, абсолютно достоверно и не может быть поколеблено возражениями скептиков. «Без всяких фантазий и без всякой игры призраков для меня в высшей степени достоверно, что я существую, что я это знаю, что я люблю. Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны академиков, которые могли бы сказать: «А что если ты обманываешься?» Если я обманываюсь, то поэтому уже существую. Ибо кто не существует, тот не может, конечно, и обманываться...» 74
Августин, таким образом, впервые ищет обоснования достоверности знания в субъективном сознании, находя в свидетельстве внутреннего начала некоторую непреложную реальность 75. Это внутреннее ндчало Августин называет «внутренним человеком»; именно «чувство внутреннего человека» в отличие от телесных чувств дает нам, по Августину, сознание нашего существования.
В античности, как известно, тоже имело место обращение к субъективности, но здесь оно, как правило, приобретало значение критико-скептического размывания принципов. С такого рода субъективизмом мы имеем дело, например, у софистов, а позднее — у скептиков. В христианской же философии субъективное начало получает позитивно-конструктивное, а не только негативно-разрушительное значение.
73 Августин. О граде божием, ч. 4, с. 216.
74 Августин. О граде божием, ч. 4, с. 217.
™ Там же, с. 220.
Эволюция понятия науки в средние века
413
Далее, у Августина мы обнаруживаем совершенно новое по сравнению с античной философией и наукой обоснование; времени. Если Аристотель связывает время с движением небесного свода и считает, что без этого движения невозможно было бы говорить о времени, то Августин укореняет время не в движении чего бы то ни было внешнего, в том числе и небесных тел 76, а во внутреннем мире человека, который есть прежде всего память. «Теперь ясно становится для меня, что ни будущего, ни прошедшего не существует, и что не точно выражаются о трех временах, когда говорят: прошедшее, настоящее и будущее; а было бы точнее, кажется, выражаться так: настоящее прошедшего, настоящее будущего. Только в душе нашей есть соответствующие тому три формы восприятия, а не где-нибудь инде. Так, для настоящего прошедших предметов есть у нас память или воспоминание (memoria); для настоящего настоящих предметов есть у нас взгляд, воззрение, созерцание (intuitus); а для настоящего будущих предметов есть у нас чаяние, упование, надежда (expectatio). Говоря таким образом, я не затрудняюсь в понимании времени, оно становится тогда для меня ясным, и я признаю его тройственность» 77. Это ход мысли совсем не свойственный античности. Августин, как нетрудно видеть из приведенного отрывка, отнюдь не хочет доказать иллюзорность, нереальность времени тем, что укореняет его в душе; напротив, этим путем он впервые делает его для себя обоснованным. «... Я понимаю хорошо, что все тела движутся во времени; но чтобы движение тел составляло самое время, этого ни я не понимаю, ни Ты мне не внушаешь» 78. Даже измерение времени он считает осуществляющимся не с помощью движения тел, а в самой душе: в этом отношении интересен августиновский анализ времени на примере звучания долгих и коротких слогов, которое измеряется не с помощью какого-либо внешнего инструмента, а «самой душой»: «В тебе, душа моя, измеряю я времена... Постоянное напряжение души нашей переводит свое будущее в свое
76 См.: Августин. Исповедь, с. 356.
77 Там же, с. 348, 349.
78 Там же, с. 356.
414
Раздел третий
прошедшее, доколе будущее не истощится совершенно и не обратится всецело в прошедшее...» 79.
Стремление изучить скрытые до сих пор глубины души порождает у Августина новый интерес к той способности, которая никогда в такой мере не занимала античную мысль,— к памяти. Последняя предстает теперь как стихия душевного по преимуществу 80; ничего аналогичного памяти невозможно увидеть в природе: память есть хранительница того, что скрыто в глубине души 81. «Велика сила памяти, Боже мой, велика чрезмерно, глубина безмерная и бездонная! Кто достиг до дна ее? И эта сила находится в душе моей, принадлежит к природе моей. Я сам не знаю вполне, что я. Итак, мой дух недостаточен, чтобы постигнуть себя самого. Где же он, если не постигает сам себя? Неужели вне себя, а не в самом себе? Как же он не постигает себя? При этом меня поражает величайшее удивление...» 82
Так было открыто в христианстве особое, внутреннее измерение человека, чего, строго говоря, не знали античная философия и наука даже на вершине их развития.
Тут, однако, может возникнуть естественный вопрос: не подготовлено ли августиново учение о времени и о душе именно позднеантичной философией? Ведь у неоплатоников, в частности у Плотина, мы встречаем вполне определенно выраженную связь времени с жизнью
79 Августин. Исповедь, с. 362—363. Интересно, что пример, с которым работает Августин, уже в XX в. использует и Гуссерль в своем анализе восприятия времени (Августин имеет дело с долгими и краткими слогами, с поэзией, а Гуссерль — с музыкой, музыкальной фразой). И оба, кстати, приходят к одинаковому выводу. «Я измеряю не самые слоги, а их образ в памяти»,— резюмирует Августин (Исповедь, с. 361). Гуссерль же вводит понятия «ретенции» и «протенции», которые означают «только-что-прошедшее» («образ в памяти») и «непосредственно-ожидае-мое» («экспектация» Августина), и с помощью них только и считает возможным восприятие музыкальной мелодии, как и вообще всего, длящегося во времени.
80 Как отмечает К. Скворцов, «Августин не только находит в памяти зародыш и начало всех высших познаний, но даже, кажется, поставляет в ней и самосознание» (Скворцов К. Августин Иппонийский как психолог, с. 121).
81 Августин. Исповедь, с. 278.
82 Августин. Исповедь, с. 279.
Эволюция понятия науки в средние века
415
души. Время, пишет Плотин,— это «жизнь души в некотором движении, переходящем из одной жизненной фазы в другую» 83. Плотин полемизирует с Аристотелем, определявшим время как «меру движения» и связывавшим его прежде всего с движением небесного свода. Многие исследователи поэтому считают, что Плотин «психологизировал» время по сравнению с той «космологической» его трактовкой, какую мы встречаем в греческой традиции 84. Поскольку же неоплатоники, по собственному признанию Августина, оказали на него сильное влияние, то вполне вероятно, что и в вопросе о природе времени он идет по пути, указанном Плотином. И тогда у нас нет оснований для того, чтобы различать античную и средневековую традиции в трактовке времени.
Однако это не совсем так: различие между Плотином и Августином в этом вопросе достаточно велико. Плотин вовсе не отказывается от космологической интерпретации времени, характерной для античности, и не столь уж сильно психологизирует время. Говоря о связи времени с душой, он имеет в виду «мировую душу», а уж потом душу человеческую, поскольку последняя связана с мировой душой. Время как форма жизни человеческой души имеет, по Плотину, основу во времени как форме жизни мировой. И не случайно подчеркивает Плотин, что «время возникло вместе с Небом, или мировой душой» 85,— Небо и мировая душа у него как бы отождествляются. Через понятие мировой души время, таким образом, оказывается у Плотина связанным, с одной стороны, со стихией души, а с другой — с космической стихией.
Не то мы видим у Августина. У него нет языческого понятия мировой души, и поэтому время у него не есть способ бытия мира, а уже потом «внутреннего человека». Время у Августина целиком интериоризируется, персонализируется: человеческая душа становится первоначаль-лой мерой времени.
83 Enneade, III, 7, 11.
84 См., напр.: Нарре J. de la. Les progres de Г idee du temps dans la philosophic greque.— In: Festschrift von A. Speiser. Zurich, 1945, S. 131.
88 Enneade, III, 7, 13.
416
Раздел третий
Проблема свободы воли. Интерес к внутреннему миру человека еще более углублялся благодаря христианскому догмату о свободе воли и той нагрузке, которую в христианстве впервые получило понятие воли. Это понятие выступило на первый план потому, что христианский бог— сверхприродный и личный; в качестве такового он существенно отличается, с одной стороны, от природных богов языческой античности, а с другой — и от бога греческих философов, будь то демиург Платона, вечный двигатель Аристотеля или Единое неоплатоников. В качестве бога-личности христианский бог в отличие от безличного Единого наделен волей. Воля бога — это одна из центральных интуиций христианской религии. «Да будет воля Твоя» — самое адекватное выражение христианского благочестия. Определять бога в понятиях воли, хотения — специфическая особенность христианской теологии. «Как не было невозможным для бога создать природы, какие Он хотел, так не невозможно для Него и в созданных производить какие Ему угодно перемены...» 86 Или еще: «...хотя для нас во многих случаях неизвестно, чего Он хочет, однако вполне несомненно, что для Него возможно все, чего бы Он ни захотел» 87. Для воли бога нет ничего невозможного; на нежелание язычников «верить чему-либо* как невозможному мы... отвечаем, что такова воля всемогущего Бога, который потому и называется всемогущим, что может все, чего ни захочет...» 88.
Личный характер христианского бога не позволяет мыслить его в терминах необходимости: если бог — это «Ты», то он имеет свободную волю. «И никакая необходимость,— обращается к богу Августин,— не может принудить Тебя против воли Твоей к чему бы то ни было, потому что божественная воля и божественное всемогущество равны в существе Божества...» 89
Соответственно и в человеке воля выступает на первый план; христианство переосмысляет античное понима
86 Августин. О граде божием, ч. 6, с. 269 (курсив мой.— П. Г.).
87 Там же, с. 258.
88 Там же, с. 263 (курсив мой.— П. Г.).
89 Там же, с. 165 (курсив мой.— П. Г.).
Эволюция понятия науки в средние века
417
ние человека; это переосмысление органически связано с иным представлением о боге и иным отношением между человеком и богом.
Как отмечает К. Скворцов в своем исследовании учения Августина о душе, «все люди, мог бы сказать Августин, суть воли, и мы ничего не имеем, кроме воли» 90. И в самом деле, размышления Августина о природе воли существенно отличаются от тех, которые мы находим у античных философов. Для античности в большой степени характерно разделение человеческой природы на разумную и чувственную — достаточно вспомнить учение Платона о высшей, разумной душе и двух низших, чувственных душах 91, заимствованное в эпоху эллинизма манихеями, с которыми Августин полемизирует в целом ряде своих сочинений.
Победа разумной души над влечениями чувственной -г вот идеал добродетели не только для Платона, но и для большинства античных мудрецов. Но при этом главный упор делался на познание истины — достаточно разуму постигнуть собственную природу и понять, что он есть представитель высшего, бессмертного начала в человеке, чтобы разумная воля стала противиться неразумным влечениям плоти. Правда, последние тем самым не перестают существовать и оказывать свое пагубное влияние на человеческую жизнь, по это, по мнению платоников, есть борьба двух разных природных, космических начал, доброго (духа) и злого (материи), и ареной этой борьбы является душа человека. Победа злого начала вовсе не рассматривалась как результат предпочтения человеческим духом именно этого низшего начала и предательства им начала высшего: за исход борьбы двух начал, говоря вообще, ответственна была не личность человека, т. е. не его воля, а само соотношение сил добра и зла в данной человеческой душе, сила его духа, с одной стороны, и сила чувственного начала — с другой.
Не так рассуждает Августин. Вот его свидетельство о той внутренней борьбе, которая предшествовала принятию им христианства: «О, как желал и я достигнуть
90 Скворцов К. Августин Иппонийский как психолог, с. 125.
91 Государство, IX, 580d— е.
14 П. П. Гайденко
418
Раздел третий
этого счастья, только не по сторонним побуждениям, а по собственной воле. А воля моя, к несчастью, была в то время не столько во власти моей, сколько во власти врага моего... Между тем во мне родилась новая воля — служить Тебе бескорыстно и наслаждаться Тобою, Боже мой, как единственным источником истинных наслаждений. Но эта воля была еще так слаба, что не могла победить той воли, которая уже господствовала во мне... Таким образом, две воли боролись во мне, ветхая и новая, плотская и духовная, и в этой борьбе раздиралась душа моя»92. Аналогичные состояния платоники описывали как борьбу двух природ: разумной и чувственной, но не как борьбу двух воль; манихеи рассматривали ее как борьбу двух душ в человеке, исход которой зависит не от свободного выбора человека, а от природы этих душ в нем и от соотношения их сил. Эти две души суть две разные субстанции. Августин ставит вопрос иначе. «Между тем я, — говорит он,— служивший поприщем борьбы, был один и тот же... По своей же воле дошел я до того, что делал то, чего не хотелось мне делать... У меня не было никаких извинений. Я не мог сказать, что потому именно доселе не отрешился от мира и не последовал Тебе, что не знаю истины; нет, истину я познал, но, привязанный к земле, отказывайся воинствовать для Тебя... Я одобрял одно, а следовал другому...» 93
Это раздвоение человека Августин называет «болезнью души»; состоит она в том, «что мы по своей поврежденно-сти и греховности как бы раздвояемся, прилежа одною стороною к добру, а другою ко злу» 94. В человеке — одна душа, но она-то и не подчиняется самой себе. «...Тело охотнее покорялось душе,— сетует Августин,— нежели душа сама себе в исполнении высшей воли своей, в одной и той же субстанции моей, тогда как, казалось, достаточно было бы одного хотения для того, чтобы воля привела его в действие» 95.
92 Августин. Исповедь, с. 209, 210.
93 Там же, с. 210, 211. Ср. аналогичное признание апостола Павла: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7, 15).
94 Августин. Исповедь, с. 222, 223.
95 Там же, с. 221.
Эволюция понятия науки в средние века
419
Неподчинение души самой себе — это явление, которое не было и не могло быть замечено античными психологами, потому что они осмысляли душевную реальность в других понятиях, чем это делают христианские писатели. Но новое осмысление в данном случае приводит и к изменению самой жизненной установки, которую Августин хорошо поясняет, критикуя манихеев: «Но да исчезнут от лица Твоего, Боже... те, которые, видя две воли в борьбе духа нашего, утверждают, что в нем существуют два духовные начала противоположного естества, одно доброе, а другое злое. Питая такие нечестивые мысли, они сами признают себя злыми; между тем могли бы быть добрыми, если бы отказались от этих мыслей...» 96.
Иными словами, установка манихеев (а во многом и неоплатоников и язычества вообще) неприемлема для христианской религии в силу ее фатализма, связанного с убеждением в природном, а потому и необходимом источнике зла в человеке. Августин упрекает манихеев в том, что, считая искоренение зла непосильным для человека, они и не стремятся к его преодолению; их установка, с точки зрения христиан, является пассивно-пораженческой.
Неверно, однако, было бы думать, что перенося источник зла из человеческой природы в человеческую волю, христианство приходит к выводу, что теперь собственными силами человек может освободиться от зла в себе 97. Воля человека, по убеждению Августина, настолько больна греховным раздвоением и поражена бессилием, что без помощи божественной благодати она не в состоянии преодолеть свою раздвоенность. Поворот, произведенный христианством в понимании человека, состоит в том, что в центр внимания теперь наряду с разумом входит и воля, и подчас трудно сказать, какая из этих способностей является главной. Главное же отличие средневекового понимания человека от античного состоит в том, что воля оказывается тесно связанной с верой', вера выступает как направленность воли, и предмет веры определяется имен
96 Там же, с. 223.
97 Такое убеждение, по Августину, тоже является ересью, и к нему склонны пелагиане, с которыми в последний период своей деятельности Августин вел ожесточенную полемику.
14*
420
Раздел третий
но волей в первую очередь. «Не тот человек по справедливости называется добрым, который знает, что такое добро, а тот, который любит,,. Есть и любовь, которою мы любим то, чего не следует любить; и эту любовь ненавидит в себе тот, кто ту любит, которая любит, что должно любить» 98 99 *. Любовь же, как можно видеть из августи-новской интерпретации троицы, есть акт воли; троичности бога в человеке соответствуют бытие, ум и воля (esse, nosse, velle) ".
Таким образом, если в античности центр тяжести этики был в знании, то в средние века появляется ярко выраженная тенденция перенести его из знания в веру, из разума в волю.
Еще определеннее, чем в раннем средневековье, эта тенденция сказывается в XIII—XIV вв. У таких теологов XIII в., как Бонавентура, Вальтер ван Брюгге, а особенно у пеоавгустинианцев Петра Оливи и Вильгельма де ла Маре, отчасти также у Джона Пеккама и Дунса Скота мы видим стремление подчеркнуть определяющую роль воли по сравнению с другими способностями человека. По-видимому, эта тенденция была усилена полемикой с аристотелизмом, которая развернулась во второй половине XIII в. Аристотелевская философия, к тому же воспринятая* через арабов, представлялась спиритуализму XII — XIII вв. слишком рационалистичной и привязанной к земному миру. Полемика особенно обострилась, когда на выступление одного из основателей латинского аверроизма, Сигера Брабантского, последовала реакция Бонавентуры, выступившего в 1267, 1268 и 1273 гг. с критикой аристотелевских положений о вечности мира, монопсихизме (единстве человеческого интеллекта у всех людей) и детерминизме 10°. Эту полемику мы рассмотрим в соответствующем разделе; сейчас мы лишь упоминаем о ней, чтобы указать одну из причин, побудивших целый ряд теологов в XIII в. заострить проблему соотношения разума и веры, знания и воли.
98 Августин. О граде божием, ч. 4, с. 220, 221.
99 Августин. Исповедь, с. 430.
1,0 См. об этом: Ratzinger J. Die Geschichtstheologie des hl. Bona-ventura. Munchen; Zurich, 1959, S. 136 ff.
Эволюция понятия науки в средние века
421
Проблему воли Бонавентура обсуждает в своем «Комментарии» к «Сентенциям» (1250—1253). Воля здесь рассматривается как та инстанция, в которой «пребывает высшая власть» (residet summa potestas) 101. Чем отличается эта постановка вопроса от точки зрения аристоте-ликов? Немецкий исследователь Эрнст Штадтер следующим образом излагает концепцию средневекового аристо-телизма в этом вопросе: «Воля — это пассивная способность, она движима посредством bonum apprehensum 102, она не может сама себя двигать...» 103. Следуя Августину, Бонавентура ведет свое рассмотрение способностей души изнутри, феноменологически-дескриптивным способом; при этом он показывает, как человеку непосредственно дано сознание своей власти над своими действиями.
В духе августинианства размышляет о сущности воли также Вальтер вап Брюгге в своих «Questiones clisputate» (около 1267—1269 гг.). Подобно тому как бог относится к миру со всем многообразием его содержания, точно так же воля относится ко всем другим способностям человеческой души; в космосе человеческих способностей ей принадлежит особое место. При этом существенна аналогия человеческой воли с волей божественной: «Бог не связан никаким законом» 104 — и человеческая воля тоже свободно определяет себя. Не ум, а воля выступает для Вальтера ван Брюгге как «всеобщий двигатель» (universalis motor) в ряду движущих сил души.
Теологи-францисканцы существенно расходятся в понимании душевной деятельности с теми представителями средневековой мысли, которые находятся под влиянием Аристотеля. К последним, в частности, принадлежит Фома Аквинский. Как отмечает Э. Штадтер, «Фома заимствует идею теории» 105 и кладет ее в основу своего научно
101 I. Sent. 45а Iq. 1. Sed. contra 3 (цит. по: Stadter Е. Psychologic und Metaphysik der menschlichen Freiheit: Die ideengeschichtliche Entwicklung zwischen Bonaventura und Duns Scotus. Miinchen etc., 1971, S. 29).
102 Воспринятого блага (лат.).
103 Stadter E. Psychologic und Metaphysik..., S. 28.
104 Questiones disputate q4 (39f). Цит. no: Stadter E. Psychologic und Metaphysik..., S. 35.
105 Штадтер употребляет здесь термин «теория» в его первоначальном значении: «созерцание», «умозрение».
422
Раздел третий
го этоса: бог созерцает самого себя и действительность; функция теологии как quadam «impressio divinae scien-tiae» 106 — следовать за этим божественным знанием. Напротив, ряд францисканцев прибегают к богу как к «primus motor» 107, который все приводит в движение. Соответственно в их антропологии воля выступает па вершине душевного космоса в качестве «первого двигателя». Одно направление выводит из Аристотеля примат познавательных способностей, другое основывает па аристотелевских элементах свой волюнтаризм 108.
Здесь термин «волюнтаризм» представляется пе очень удачным, ибо сразу же вызывает ассоциации с волюнтаристическими концепциями нового времени, начиная с Шопенгауэра, Эд. Гартмана и др. Срдневековое же мышление очень далеко от подобных философских построений; во-первых, потому что человеческая воля не предстает для средневекового теолога в качестве высшей реальности — таковой для него всегда является воля бога, и, во-вторых, поскольку не внешний мир должен стать предметом овладения со стороны воли, а внутренний мир самого индивида, его душа. Воля должна преодолеть свою расколотость, свойственную ей в силу грехопадения человека (вспомним Августина) и стать суверенной госпожой в доме души. Такое направление приобретает в теологии франсцисканцев библейский тезис о том, что человек призван богом быть господином над всем сотворенным миром.
Наиболее радикальную антитезу аристотелизму представляет собой учение Петра Иоганна Оливи, одного из крупнейших представителей августинианства в XIII в. По сравнению с Оливи позицию Бонавентуры можно квалифицировать как умеренную. Оливи же был непримиримым противником аристотеликов, противопоставлявшим францисканский спиритуализм детерминизму и рационализму Сигера Брабантского и его сторонников. Подобно Августину, Оливи сосредоточен на внутреннем опыте человека, опирается на самонаблюдение и утверждает, что
106 Некоторого «отпечатка божественного знания» (лат.).
107 Первому двигателю (лат.).
108 Stadter Е. Psychologic und Metaphysik..., S. 36.
Эволюция понятия науки в средние века
423
ничего нет достовернее собственного опыта 109. Внутренняя сфера нашего духа не единственный предмет, интересующий Оливи, но это один из самых важных предметов, подлежащих познанию. И средство для его познания должно быть адекватным: это прежде всего «sensus nobis in-timus» —наше глубоко внутреннее чувство; а постижение с помощью чувства Оливи оценивает очень высоко: «сег-tissime omnis homo sentit» — всякий «человек чувствует самым достоверным образом» 110. Поразительно, сколько слов находит Оливи для передачи всех оттенков постижения с помощью чувства, и прежде всего внутреннего: videre (видеть), sentire (чувствовать), patere (претерпевать, страдать), clarescere (прояснять), experiri (испытывать), testificari (свидетельствовать), attestari (удостоверять). Ни у какого античного философа мы не встретим такого богатства оттенков для передачи всей гаммы внутренних состояний, но взятых не просто как таковые, не сами по себе, а в качестве свидетельств различной глубины и характера постижепия предмета, проникновения в предмет, уяснения его себе. Именно в средние века была впервые открыта и детально исследована особая сфера реальности — внутренний мир души; и не случайно в философии нового времени такое большое внимание уделяется именно гносеологическим и психологическим проблемам: освобожденная от своего религиозного содержания, человеческая душа по-прежнему остается предметом пристального внимания теперь уже светской философии и науки.
Как же представляет себе Петр Оливи структуру внутреннего мира человека? Э. Штадтер, посвятивший целый ряд работ исследованию творчества Оливи, детально рассмотрел иерархическую структуру душевного мира, как ее представлял этот средневековый философ и теолог. «Внизу находится элементарная форма; выше нее — смешанная, еще выше — вегетативная, сенситивная, интеллектуальная и, наконец, сфера воли... Воля есть властелин, главный двигатель, agens principale, корень. Опа есть коренная основа единства, из которой развиваются
109 «Этому учит собственный опыт, достовернее которого ничего
нет» (Summa questionum super Sententias, pars 11, q. 59).
424
Раздел третий
все различия, подобно тому как ветви развиваются из корня. В сфере деятельного бытия душа со всеми своими потенциями образует единую собирающую способность (unum plenum posse), или, иначе говоря, наделенную властью целостность способностей: unum totum virtuale seu potestativum. На вершине этой целостности способностей стоит воля как та инстанция, в которой сконцентрирована власть (тех), как источник, от которого исходит все движение и деятельность (primus motor, causa prima, agens principale). В распоряжении воли находятся подчиненные способности» ш. Штадтер подчеркивает, что воля в качестве высшей инстанции ставится у Оливи над интеллектом; «специфически человеческое начинается у Оливи не с рассудка, а только с воли» 111 112. Между интеллектом и волей Оливи видит различие, бесконечную пропасть; он убежден, что, «если бы мы обладали только интеллектом, но не имели свободной воли, мы были бы своего рода интеллектуальными животными... Только свободная воля есть та способность, которая делает человека человеком» 113.
Оливи радикальнее, чем раннехристианские философы (Августин, Ориген и др.), настаивает на приоритете воли по отношению ко всем остальным способностям души. Полемизируя с аристотелизмом аверроистов (например, Сигера Брабантского), Оливи отвергает их тезис о том, что воля определяется объектом, к которому она стремится, и поэтому есть пассивная способность 114. Согласно Оливи, воля — это активная способность; она не нуждается для своей актуализации во внешнем объекте; «объект не оказывает никакого воздействия па волю, он только «определяет» поток волевой энергии» 115.
Хотя полемика Оливи направлена против аристоте-лизма, по в сущности его учение о воле противостоит античной концепции человека в целом; тезис о примате воли связан с христианским догматом о свободе человека и служит основой для создания антропологии, совершен
111 Stadter Е, Psychologic und Metaphysik..., S. 176, 177.
112 Ibid., S. 180.
113 Ibid.
114 Summa questionum super Sententias, p. II, q. 58.
115 Stadter E. Psychologie und Metaphysik..., S. 183.
Эволюция понятия пауки в средние вока ' 425
но чуждой античному мировосприятию. В средневековье, как видим, формируется новое понимание человека: последний выступает как активный субъект действия — точка зрения, неведомая античности с ее объективно-созерцательной установкой. Правда, этот активизм субъекта имеет чисто религиозную направленность вплоть до XV в., до эпохи Возрождения. В своем отталкивании от аристотелизма Оливи был весьма последователен: он полемизировал не только с Сигером Брабантским, но выступал и против гораздо более умеренного аристотелизма Фомы Аквината.
Показательна полемика, которая велась между арис-тотеликами и их противниками в связи с понятием созерцания — contemplatio; латинский перевод греческого 4te<opia. Contemplatio означает теоретическую установку сознания, установку незаинтересованного созерцания действительности. В сущности это установка античной философии, и не случайно аристотелики, воскрешая античную интеллектуально-созерцательную ^традицию, склонны были рассматривать созерцание как высшую форму человеческого бытия 116. «Ибо нет более превосходного состояния, чем быть свободным для философии» 117. И еще: «Ибо всякое благо, которое возможно для человека, состоит в интеллектуальных добродетелях» 118. Характерно, что в числе тезисов, осужденных в 1277 г. парижским епископом Этьеном Тампье, оказались и те, где идеалом и высшей формой жизни объявляется философское созерцание. Фома Аквинский наряду с созерцанием подчеркивает также понятия «cognitio» (познание) и «visio» (видение), поскольку они выражают ту же — теоретическую — установку сознания. Оливи решительно противопоставляет созерцательно-познавательному пафосу аристотеликов свою спиритуалистическую этику «perfectio evangelica» 119.
116 Не только у Платона и неоплатоников, но и у Аристотеля в «Никомаховой этике» созерцательная жизнь оценивается как высшее благо для человека.
117 Mandonnet Р. Siger de Brabant et I’averroisme latin au XIIIе siecle. Louvain, 1908, vol. II, p. 176.
118 Ibid., p. 188.
119 Stadter E. Das Problem der Theologie bei Petrus Johannis Olivi.— In: Franziskanische Studien, 1961, N 43, S. 113—170.
426
Раздел третий
При этом характерно, что он тоже признает созерцание самой совершенной формой жизни, но существенно иначе истолковывает его. Согласно Оливи, contemplatio — это вовсе не теоретический акт, скорее его следует определить как акт любви, и исходит он не от интеллекта, а от воли: сущностью этого акта любви является преданность богу, а интеллектуальные элементы хотя и включены в этот акт, но играют подчиненную роль.
Таким образом, диапоэтическим добродетелям, как они представлены Аристотелем в «Никомаховой этике», Оливи противопоставляет новую этику «евангельского совершенства» — «perfectio evangelica». Аристотелевскому пониманию науки как интеллектуальной деятельности Оливи противопоставляет свою интерпретацию познания как акта веры и любви, т. е. в конечном счете пе разума, а воли. «В научном ratio радикальных аристотели-ков францисканец видит дьявольскую hybris (гордыню)»120, человеку не подобающую.
Таким образом, перенесение центра тяжести из разума с его теоретически незаинтересованным подходом в волю сопровождается в средневековом мышлении — начиная с Августина и кончая Оливи и Дунсом Скотом — апелляцией к вере и любви как высшим формам внутренней жизни человека. Именно эта направленность воли к богу как предмету, в высшей степени достойному любви, отличает средневековое понимание воли от того, которое появляется впоследствии; по мере углубления процесса секуляризации, начавшегося уже в эпоху Возрождения, постепенно секуляризируется и воля; а это, как мы покажем ниже, играет важную роль в становлении науки нового времени.
Именно сосредоточенность средневекового мышления на понятии воли подготовляет тот поворот к новому пониманию соотношения между субъектом и объектом, который характерен для науки нового времени. В античности научное познание предстает прежде всего как созерцание объекта (будь то созерцание умом, умозрение, или созерцание чувственное, играющее у греков подчиненную роль), при котором субъект пассивен. В новое время на-
120 Stadter Е. Psychologie und Metaphysik..., S. 342.
Эволюция понятия науки в средние века
427
учное познание выступает как конструирование объекта (будь то теоретическое конструирование, построение умственного эксперимента, или конструирование практическое, т. е. эксперимент в собственном смысле). Здесь субъект с самого начала активен. Как и почему произошел этот радикальный переворот? Видимо, он подготовлялся на протяжении долгого времени, и не последнюю роль в этой подготовке сыграло христианское учение о природе как созданной богом из ничего и о человеке как активно-волевом субъекте действия. Свои плоды это переосмысление природы и человека принесло для науки лишь после того, как христианская вера начала терять власть над умами людей. К этому времени — а именно к XV—XVI вв.— было почти полностью освоено наследие античной науки, и для развития науки открывалась совершенно иная перспектива: теперь античные научные программы можно было переосмыслить по-новому. Для античных научных программ началась вторая жизнь.
Глава вторая
Судьба античных научных программ в средние века
Компиляторский и систематизаторе кий характер средневековой науких. Не только в эпоху раннего средневековья, но и на протяжении нескольких последующих столетий вплоть до XIII в. научно-теоретический интерес, каким мы его знали в периоды классической античности и эллинизма, уступил свое место религиозно-нравственным исканиям. В средние века наука утратила не только то значение, какое она имела во времена Демокрита и Платона, а именно школы воспитания духа и гражданской доблести. Она утратила и то значение, какое получила в период поздней классики, а еще больше в эпоху эллинизма, когда
1 Мы рассматриваем здесь только европейское средневековье.
428
Раздел третий
научное знание рассматривалось как нечто само по себе ценное, как самоцель: познание истины ради самой истины, а не только ради тех практически полезных результатов, которые могут быть получены с помощью науки,— вот пафос Архимеда, Птолемея и их современников.
В средние века вопросы, связанные с истиной, решались не в науке и даже не в философии, а в теологии. И лишь постепенно, к концу XII в., мы видим некоторый сдвиг в этом пункте: философское мышление, а рядом с ним, хотя и в меньшей степени, также и научное исследование приобретают пусть и не вполне самостоятельное, но намного большее значение. Что же касается роли науки в период раннего средневековья, то она рассматривалась главным образом как средство для решения практических задач. Не только медицина, которая всегда выполняла практические задачи, по и математика, физика изучались не ради них самих, как мы это видели в античности, а для решения с их помощью прикладных задач. Так, Бэда Достопочтенный (VII в.) занимается изучением арифметики и астрономии, чтобы вычислить даты религиозных праздников, прежде всего Пасхи; изучение им приливов связано с развитием мореплавания у британских берегов, необходимостью найти удобные бухты. Как отмечает Кромби, в Vlli в. в Италии появляется наиболее ранняя из латинских рукописей, в которой даются советы по самым разным ремеслам: о приготовлении красок, о пиротехнике (искусстве делать фейерверки), о ювелирном мастерстве и т. д. 2
Такая'" ситуация отнюдь не способствовала развитию науки, и не случайно средневековье не только не дало новых научных программ, но поначалу вообще утратило тот высокий уровень научного мышления, благодаря которому в античности стало возможно появление первых научных программ (V—III вв. до н. э.), а затем плодотворная работав рамках этих программ (III в. до н. э. —-III в. н. э.), имевшая своим результатом геометрию Евклида, механику Архимеда, астрономию Птолемея (если называть только самые крупные достижения).
2 Crombie А. С. Medieval and Early Modern Science. N. Y., 1959 vol. I, p. 24.
Эволюция понятия науки в средние века
429
В силу специфики средневекового отношения к знанию вообще как к интерпретации того, о чем говорится в освященных авторитетом книгах, и в результате отсутствия самостоятельности научное знание в средние века имеет характерные особенности. Прежде всего оно выступает, как правило, в форме комментария. На протяжении всего средневековья мы имеем дело с различными комментариями: к работам Аристотеля — «Физика», «О небе», «Метеорология», «О возникновении и уничтожении», «Категории»; к «Тимею» Платона и т. д.
В XIII и XIV вв. эти комментарии нередко вносят весьма существенные изменения в традиционное толкование соответствующих работ Аристотеля, но сама форма комментария сохраняется. В форме комментария этих важнейших сочинений Аристотеля велось преподавание соответствующих научных дисциплин в средневековых университетах, возникших в начале XIII в. «Преподавание,— пишет по этому поводу немецкий историк культуры Ф. Паульсен,— замкнуто было в твердо установленные формы. Само содержание занятий в существенных чертах дано было раз навсегда извне. В основе их повсюду лежали книги, имевшие каноническое значение. На богословском факультете нормы даны были Священным писанием и церковной догмой; лишь толкование, систематизация и способ аргументации оставляли для индивидуальной мысли некоторый простор. Содержание лекций на1 юридическом факультете также было строго нормировано: церковное право изучалось по canones et decreta соборов и римской .курии; римское право — по Юстинианову кодексу; здесь тоже дело шло главным образом об интерпретации и систематизации. На двух низших факультетах 3 субъективному мышлению предоставлялась, может быть, несколько большая свобода, но все-таки и здесь имелось известное принятое учение, изложенное в одобренных книгах. Творения Гиппократа и Галена на медицинском факультете, Аристотеля — на философском были своего
3 Медицинском и общеобразовательном; последний носил название facultas artium, и изучались здесь так называемые свободные искусства — artes liberates.
430
Раздел третий
рода каноном, так что изучение их содержания и являлось настоящим предметом научных занятий» 4 *.
Второй особенностью средневековой науки является тенденция к систематизации и классификации. Именно средневековье с его склонностью к классификации наложило свою печать и на те произведения античной науки и философии, которые были признаны каноническими в средние века. Сюда прежде всего относятся сочинения Аристотеля, стиль мышления которого не носил в такой степени «классификаторского» характера, какой ему придало средневековье.
В средние века большое распространение получили сочинения типа энциклопедий, в которых давались краткие сведения из самых разных областей знания. Одним из наиболее ранних сочинений такого рода, послужившим впоследствии образцом для аналогичных произведений, была работа Исидора Севильского (570—638 гг.) «Этимологии», или «Начала». В этой работе Исидор предлагал заимствованные им из разных источников сведения по истории, географии, космологии, антропологии, теологии и грамматике. «Отбирая сведения у тех и других писателей без предвзятой вражды к языческой литературе,— пишет Т. А. Мидлер,— Исидор стремился установить конечную, бесспорную истину о каждом предмете. При этом не только многие определения и факты, но и сами методы подхода к материалу оказались^взятыми из античной науки. Двумя такими методами были._аналогия и этимология, разработанные эллинистическими грамматиками и превращенные Исидором в универсальный инструмент научного анализа. Этимология как поиск первооснов дала ему возможность представить все знание как сумму первоэлементов, а аналогия позволила установить связь между макро- и микромиром. Трактаты Исидора приняли вид терминологических исследований, разъясняющих смысл и содержание главнейших понятий, которыми оперировал средневековый человек» б.
4 Паулъсен Ф. Исторический очерк развития образования в Германии. М., 1908, с. 25, 26 (курсив мой.— П. Г.).
* Памятники средневековой латинской литературы IV—IX веков,
М., 1970, с. 196,1197.
Эволюция понятия науки в средние века4 ч 431
Сочинения такого энциклопедического стиля создавались на протяжении всего средневековья. Так, в XIII в. (около 1260 г.) Брунетто Латини паписал произведение «Tresor» 6, пользовавшееся большой популярностью вплоть до XVI в.; оно тоже было своеобразной энциклопедией, где в общедоступной форме рассматривались самые разные вопросы. Характерно построение этого сочинения, многократно переиздававшегося на протяжении XV и XVI вв.:
1. Введение в философию, предисловие; библейская история, восточная, троянская и римская, история с различными экскурсами (история Франции, Англии и др.).
2. История святых и церковная история, космография.
3. География.
4. О животных (бестиарий); рыбы.
5. О змеях и других животных.
6. Этика Аристотеля.
7. Моральная философия.
8. Риторика.
9. Политика 7.
Как пишет Л. Олыпки, «это знаменитое произведение представляет собой смесь непереваренной учености и народных суеверий, путаную компиляцию из Библии, Аристотеля, отцов церкви, Птолемея, Плиния и из средневековых естественнонаучных и медицинских сочинений, мудрость которых вместе с историческими датами и указаниями для практической жизни Брунетто почерпнул из вторых рук...» 8. Интересно, что сочинение, столь невысоко оцениваемое историком науки XX в., вызывало восхищение у современников самого Брунетто: ученый флорентийский хронист Филиппо Виллани называл автора «великим философом», а Данте видел в нем своего учителя и отзывался о нем весьма почтительно 9. Видимо, такого рода компиляции, где сводилась воедино библейская история и астрономия Птолемея, христианская теология и космология Аристотеля и неоплатоников, где излагались
6 Tresor — клад, сокровищница (фр.).
7 См.: Ольгики Л. История научной литературы на новых языках.
М.; Л., 1933, т. 1, с. 13.
8 Там же, с. 12.
9 См.: Божественная комедия, Ад, песнь 15.
432
Раздел третий
сведения и о животных, и об ангелах, и о светилах, а проблемы морально-этические трактовались в тесной связи с космологическими и теологическими, как раз передают духовную атмосферу средневековья, особенно позднего, и хотя не представляют большого интереса с точки зрения научно-теоретической, но очень интересны с точки зрения культурно-психологической. В «Божественной комедии» Данте мы видим аналогичное соединение множества самых разнородных знаний, иногда весьма странным и причудливым образом между собой связанных. А дантовский «Пир» представляет собой все ту же средневековую «энциклопедию», только написанную живо и изящно, с большим художественным мастерством. Ведь в своем «Пире» Данте, как и его предшественники, трактует вопросы теологии и философии, космологии, истории и этики, обращаясь к священному писанию и к Аристотелю, к Августину и Овидию, к Авиценне и Дионисию Псевдо-Ареопа-гиту.
Такого рода энциклопедии, будучи весьма характерным жанром средневековой литературы, дают известное представление и о науке, поскольку позволяют реконструировать ту культурно-историческую атмосферу, которая не,является безразличной для развития научной мысли.
Наряду с такими энциклопедиями в средневековой Европе существовал еше один тип классификаций, которые были ближе к школьной науке, как она изучалась на протяжении многих веков. Это классификации не просто различных сведений, а классификации самих наук. Чтобы дать о них представление, рассмотрим одну из наиболее известных классификаций наук, принадлежащую Доминику Гундиссалину (Гундисальви) (XII в.) и названную им «De divisione philosophiae» 10.
Работа Гундиссалина представляет собой компиляцию из арабских и латинских источников: Алькипди, Альфа-раби, Авиценны, с одной стороны, и Боэция, Исидора Севильского, Бэды Достопочтенного — с другой. Уже из этого перечисления можно сделать вывод, что Гундис-
10 Это сочинение было издано в 1903 г. Людвигом Бауром, снабдившим латинский текст подробным комментарием.
Эволюция понятия науки в средние века
433
салип базируется па аристотелевской программе, имея своей целью систематизацию паук. Компиляция в качестве метода построения научных и философских сочинений отнюдь не является отличительной особенностью Гундис-салина: этот метод характерен для всей поздней античности и средневековья. Им пользовались уже римские грамматики Баррон, Флакк, Викторин, Исидор и многие другие. Компиляторство, столь чуждое и неприемлемое для пауки нового времени, составляет как раз весьма характерную черту средневековой науки, связанную с общей мировоззренческой и культурной атмосферой этой эпохи. В средние века, пишет Л. Баур, «мы имеем дело с философией, которая верит в возможность прочного, объективно-истинного, неизменного познания истины. Весь паучпый интерес копцентрируется па истине как таковой, цель состоит в том, чтобы найти раз навсегда установленные истины. Они являются общим достоянием, и само по себе безразлично, кто их нашел: поскольку истина по возможности отвлекается от конкретного и стремится представлять всеобщее и общезначимое, опа не несет в себе никаких индивидуальных черт, и существенная задача учителя — передавать дальше однажды найденную (действительную или мнимую) истину» n. С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся и в других сферах средневековой жизни, например в искусстве. Здесь тоже характерно сосредоточение интереса па воспроизведении традицией унаследованных способов создания художественных произведений, будь то писание икон, строительство храмов, сочинение церковной музыки и т. д. Не случайно история не сохранила имен тех, кто создавал эти произведения: индивидуальная манера мастера не имела существенного значения ни для него самого, пи для других; главное состояло в верности традиционным образцам, которые воспринимались как подлинные эталоны эстетической истины — красоты. Определенные приемы и способы изображения предмета передавались по традиции и в живописи, и в архитектуре, и в литературе. Как показывает
11 Dominions Gundissalinus. De divisionephilosophiae/ Ed. L. Baur. Munster, 1903, S. 315, 316.
434
Раздел третий
Д. С. Лихачев, метод компиляции, который мы видим в средневековой науке, характерен и для средневековой литературы. «Заимствования и компиляции, стремление избегать индивидуальных особенностей стиля составляют характерную черту литературы церковных жанров. В «Слове похвальном Петру и Павлу» иерусалимского пресвитера Исихиа... обосновывается необходимость пользоваться другими произведениями для создания своего собственного... Работа писателя сравнивается... с составлением букета цветов — цветов из других произведений. Чем авторитетнее круг произведений, из которых собираются писателем «цветы» его стиля, тем сильнее они настраивают читателя на благочестивый лад своею привычной приподнятостью, тем легче вызывают они благоговение и сознание высоты описываемого» 12.
Обратимся, однако, к Гундиссалину. Он ставит своей целью систематическое изложение в определенном порядке всех наук, изучавшихся в его время; каждой из паук посвящен особый раздел. После краткого пролога рассматриваются различные области научного знания в следующем порядке: естественная паука; математика; божественная наука (теология); грамматика; поэтика; риторика; логика; медицина; арифметика; музыка; геометрия; оптика (de aspectibus); астрология; астрономия; наука о весах (de ponderibus); механические искусства (de inge-niis)13.
При этом каждая из наук описывается по стереотипной схеме: 1) что она есть; 2) каков ее род; 3) каков предмет; 4) каковы виды; 5) каковы части; 6) какова задача; 7) какова цель; 8) каковы средства; 9) кто мастер; 10) почему так называется; 11) в каком порядке следует ее излагать.
Чтобы отчетливее представить себе дух средневековой пауки и способ ее изложения, мы приводим отрывок из этой работы Гундиссалина.
12 Лихачев Д\ С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1971, с. 127, 128.
13 К механическим искусствам Гундиссалин относит, например, технику шлифовки зажигательных стекол, технику обработки камней, подъема тяжестей и т. д.
Эволюция понятия науки в средние века
435
«Об арифметике 14
Относительно арифметики нам нужно рассмотреть то же самое: что она такое, каков ее род, каков предмет, каковы части, каковы виды, средства, кто ее мастер, какова ее задача, какова цель, почему опа так называется и какое место занимает среди наук.
Что такое она сама, определяется так: арифметика есть наука об исчислимом количестве как таковом. Или: арифметика есть наука о числе. Число же может рассматриваться двумя способами в зависимости от того, существует ли оно в чувственных вещах или не в них, а также в зависимости от того, рассматривается ли оно интеллектом, будучи абстрагировано от всего того, в чем оно существует. В чувственных же вещах оно [рассматривается] как «тройка» в трех людях, в печуветвенных — как «тройка» в трех ангелах. Будучи же абстрагировано с помощью интеллекта от всего, в чем оно содержится, [число] рассматривается так, как когда говорят: «тройка есть первое нечетное, которое не может быть разделено на две равные части». Следовательно, [число] рассматривается в чувственных или в нечувственных вещах, когда оно [выступает] как считающее или считаемое; абстрактно же оно, когда оно не считающее или не считаемое.
Следовательно, число относится к тем (вещам), которые рассматриваются двояким способом, именно: само по себе и в материи, в движении и без движения. Число рассматривается в себе, когда обращается внимание только на сущность его и свойства, когда оно воспринимается абстрактно от всего чувственного благодаря тому, что ум (mens) воспринимает его отдельно от всякой материи и движения и рассматривает только то, что свойственно его сущности. В материи число рассматривается тогда, когда обращается внимание па то, что нечто им исчисляется, каковым образом оно и используется в торговле и в мирских делах. Поэтому одни свойства присущи ему самому по себе, другие — из-за его смешения с материей. Так, самому по себе ему свойственно быть четным или нечетным, большим или меньшим и т. п., что перечисляется в Нико-
14 Gundissalinus. De divisione philosophiae I Пер. с лат. Т. Ю. Бородай, р. 90—96.
436
Раздел третий
маховой арифметике. От материи же ему присуще свойство прибавляться и отниматься, умножаться и делиться и т. п., что излагается в книге алгоритмов. Рассмотрение числа самого по себе называется теоретическим или спекулятивным. Рассмотрение его в материи называется практическим, или активным. Теоретическое рассмотрение исходит из допущения, что числа состоят не из чисел, но из отдельных единиц. При этОхМ нельзя считать какое бы то ни было число частью или частями другого, поскольку признается, что каждое число само по себе есть вид, откуда и различия между видами; т. е. существует троичность (ternarietas), присущая определенному роду числа, и она устанавливает тот вид, каким является тройка (ternarius), и т. д.; так что этот способ рассмотрения делит число не на числа, а только на единицы. Практическое же рассмотрение, поскольку оно изучает число не иначе как в материи, которая может быть многократно делима, делит единицу (unum) на части и части на части до бесконечности и называет части дробями (fractiones), а части частей — дробями дробей. Так, единицу разделяют на две половины, затем каждую из них снова делят на две половины, так что каждая равна четверти целого. И снова делят каждую из них на две половины, так что каждая равна восьмой целого и так до бесконечности. А поскольку именно арифметика изучает все эти свойства числа, постольку она есть наука о числе.
Ее род: она есть первая из всех научных дисциплин (prima disciplinarum matheseos), которая рассматривает неабстрактный объект, лишенный движения.
Ее предмет есть число, так как она рассуждает о его акциденциях. Ибо хотя арифметика и называется наукой о числе, тем не менее она не рассуждает о самой сущности числа. Ведь никакая наука не устанавливает (stabilire) свой предмет, как говорит Аристотель, но сама изучает его свойства и акциденции, присущие ему или самому по себе, или из его смешения с материей. Рассуждать же о самой сущности числа есть дело другой науки, а именно божественной, ’ которая обосновывает начала всех наук.
Части же ее одни — теоретические, другие — практические. Теоретических частей три: первая — рассмотрение того, что свойственно числу по его сущности, т. е. что од
Эволюция понятия науки в средние века
437
но число четное, другое — нечетное и т. п. Вторая часть — рассмотрение того, что свойственно из сопоставления (рго-positio) одного числа с другим числом, т. е., что одно — результат умножения, другое — результат деления и т. п., третья — рассмотрение того, что свойственно ему из сравнения с непрерывными количествами, т. е., что одно — линейное, другое — квадратное (плоскостное), третье — кубическое, четвертое — телесное и т. п.
Практических частей основных две, а именно: наука соединения (conjungendi) чисел и наука их разъединения (disjungendi). Наука соединения включает сложение, удвоение и умножение, а наука разъединения — вычитание и деление. Наука же извлечения корней содержится в обеих, поскольку корень числа извлекается тем и другим способом, а именно: и умножением, и делением.
Виды арифметики бывают теоретические и практические. Теоретических видов три: арифметическая пропорция (medietas), геометрическая пропорция и гармоническая пропорция, о которых подробно говорится в Нико-маховой арифметике. Практические виды суть различные деятельности (negotiationes), каждая из которых является отдельным искусством: наука продавать и покупать; брать деньги в долг и давать в рост; наука брать в кредит и помещать (в какое-либо предприятие — locandi); сохранять деньги и платить по счетам; наконец, паука находить глубину, ширину или высоту, или любые другие измерения пространства (spatia). Обо всех них удовлетворительно трактуется в книге, которая по-арабски называется «Ма-hamelech».
Задача теоретической [арифметики] — тщательное исследование природы чисел и демонстрация их силы на сотворенных вещах.
Цель арифметики — познание порядка (dispositio) всего [сущего] с помощью чисел.
Задача практической арифметики — упражняться в соединении и разъединении чисел как целых, так и дробей. Цель же ее — не допускать ни малейшей ошибки в исчислении ни в каком виде (практической) деятельности.
Инструментом теоретической арифметики является доказательство. Что оно собой представляет и из каких [частей] состоит, было сказано выше.
438
Раздел третий
Инструментом же практической арифметики является абак, или ритмомахия, т. е. игра в сравнение чисел в соответствии с их пропорциями.
Мастер этого искусства — арифметик, который либо в теоретической арифметике может определить достоинство (virtus) чисел, либо в практической может произвести расчет (summam invenire) относительно любой вещи, разъединяя и соединяя числа в соответствии со всеми видами своего искусства.
Арифметикой называется наука о достоинстве числа. Ибо «ares» переводится как достоинство (virtus) 15. Поэтому наука о достоинстве числа называется арифметикой. Она рассматривает всякое достоинство числа и демонстрирует силу его (quid valeat) в творениях.
Порядок ее таков, что она первая среди всех дисциплин, потому что она сама не нуждается ни в одной из них, они же нуждаются в ней, поскольку они нуждаются в ее помощи, чтобы существовать и сохранять свое существование. Ибо если по природе более первые те [науки], при уничтожении которых уничтожаются и другие, но при возникновении их другие не возникают, и наоборот: при возникновении других они необходимо возникают, но при уничтожении t других они не уничтожаются,—то, конечно, арифметика будет первее всех других: ибо при уничтожении арифметики все остальные уничтожаются. Ибо если нет числа, нет тройки; если нет тройки, пет треугольника; если нет треугольника, нет никаких угольных фигур, поскольку все угольные фигуры производятся (probare) из треугольника, и таким образом нет геометрии. Точно так же если нет числа, то нет ни четверки, ни пятерки, ни восьмерки; если их не будет, не будет музыкальных созвучий — ни кварты, ни квинты, ни октавы, которые определяются указанными выше числами. Поэтому без арифметики не будет музыки. Точно так же можно сказать об остальных науках. Однако полагание арифметики еще не означает полагания остальных наук. Но существование всех остальных с необходимостью предполагает существование арифметики. Ибо* если существует геометрия, музыка или лю- 16
16 Гундиссалин здесь производит слово «арифметика» от греческого «ares» (arete — достоинство, aristos — достойнейший).
Эволюция понятия науки в средние века
439
бая другая наука, несомненно, есть и арифметика, но не наоборот. Во-вторых, она потому первее остальных, что создатель мира бог имел число в качестве образца разумности (ratiotinatio). Ибо все, созданное им с помощью разума, он соединил между собой посредством чисел. И потому число предшествует по природе всякому творению, что оно недалеко по самой сущности от невыразимой троицы, которая все создала. Отсюда и слова: «Numero Deusim-pare gaudet» 16. И все, что возникло, не могло возникнуть без бога точно так же, как и без числа. Поэтому числу естественно быть присущим всем вещам. Ибо так как всякая субстанция или акциденция, телесная или бестелесная, состоит, как говорят, из материи и формы, то, конечно, истинное единство, которое есть бог, не могло создать ничего, кроме двойственности, которая есть материя и форма. Ибо первое, что рождает из себя единица, есть двойка, которая делима. Поэтому всякое творение делимо на материю и форму, из которых оно состоит и в которых существует. И в таком виде науку о числе первым открыл Пифагор. Подробнее об этом написал Никомах, которого впоследствии перевел на латинский язык Апулей, а затем Боэций».
Соотйошение физики и математики. Компиляторский и классификаторско-систематизаторский характер средневес ковой науки не способствовал четкости и продуманности ее теоретических предпосылок; к такой продуманности, по-видимому, средневековые ученые и не очень стремились. И тем не менее в средневековой науке явственно проступает ориентация на две разные программы: аристотелевскую (континуалистскую) и платоновско-пифагорейскую (математическую). В эпоху эллинизма неоплатоники, стремясь показать общность научно-теоретических предпосылок Платона и Аристотеля и по возможности сблизить учения двух философов, предприняли попытку соединить эти две программы. В средневековой литературе можно проследить и традицию, идущую от неоплатоников; но наряду с ней мы видим и более или менее определенную ориентацию на одну из этих программ и осознание их раз- 16
16 Цитата из Виргилия (Eclog., VIII, 75): «Бог радуется нечетному числу», ср. русское: «Бог троицу любит».
440
Раздел третий
личия. Насколько влиятельным было в средние века учение Аристотеля (начиная с XII и особенно в XIII и XIV вв.), говорить не приходится. Но и платонизм был известен средневековым теологам и ученым, причем не только в том виде, какой ему придали неоплатоники. Как отмечает Раймонд Клибанский, «современные историки... склонны считать, что средневековый платонизм был представлен лишь в форме неоплатонизма и что Плотин вместе с Аристотелем были реальными учителями (the real master) Средних веков. Взгляд этот одлосторо-пен, так как не учитывает двух фактов. Во-первых, в этой традиции были элементы, например в сочинениях каппадокийцев, которые восходили к более раннему этапу развития платонизма. Даже в неоплатонизме Августина есть элементы, восходящие через Амвросия и латинский перевод Оригена к ранней александрийской философии, к Филоновой интерпретации платонизма или через Апулея к средней Академии. Сюда же относится и «Комментарий к «Тимею» Халкидия. Во-вторых, существовала и прямая традиция в виде латинских переводов Платона» 17.
На протяжении всех Средних веков, так же как и позднее, в эпоху Возрождения, можно заметить две различных тенденций: одна — к сближению платонизма с аристоте-лизмом, как это имело место уже в IV—V вв. у неоплатоников; другая — к различению, разделению этих двух научных установок.
В сфере собственно научных исследований можно видеть обе эти тенденции.
Тенденция к соединению обеих программ особенно наглядно проявилась в XIV в. у так называемых калькуляторов: оксфордцев Томаса Брадвардина, Ричарда Суисета (прозванного «калькулятором») и др. Базой для «калькуляторов» служила аристотелевская физика, к которой они пытались применить евклидову теорию пропорций. «Своеобразная «математизация» Аристотеля и «физикализация» Евклида — такова почва, на которой выросла «калькуляция»,—пишет В. П. Зубов 18. «Калькуляторы» ис
17 Klibansky Л. The Continuity of the Platonic Tradition during the Middle Age. London, 1939, p. 27.
18 Зубов В. П. Аристотель, с. 271.
Эволюция понятия науки в средние века
441
кали способ математически описать те разделы физики Аристотеля, где рассматриваются соотношения между движущей силой, сопротивлением и движением тел. Постепенно стали распространяться математические способы описания для установления пропорциональных отношений и в других областях физики.
Однако поскольку исследования «калькуляторов» были накрепко привязаны именно к аристотелевской физике, которая по самому своему замыслу плохо поддавалась математизации, постольку попытки ее математизации не открывали возможности перейти к новой форме изучения природных явлений. Впоследствии они были забыты и не сыграли значительной роли в переходе к науке нового времени.
Что же касается тенденции к размежеванию теоретических программ Платона и Аристотеля, то она сказывается, например, в астрономии в связи с обсуждением системы Птолемея 19. Характерно, что и сам Птолемей в двух своих сочинениях отдал дань сначала платоновской математической, а позднее аристотелевской физической программе. А именно, в «Альмагесте» он склонен толковать астрономические теории как удобные математические фикции, из которых следует предпочесть те, что наиболее легко согласуются с наблюдаемыми фактами. В этой работе Птолемей пе создает гипотез, которые могли бы дать физическое объяснение небесных движений и, таким образом, оправдали бы те математические допущения, которые он принимал. Позднее, однако, Птолемей пишет другую работу — «Гипотезы о планетах», где пытается рассуждать уже пе просто как математик, но как «физик» в аристотелевском понимании этого слова, т. е. хочет дать не просто описание, но физическую интерпретацию движения небесных тел.
Насколько различными были подходы к исследованию одних и тех же объектов у математиков (астрономия тоже выступала как одна из математических дисциплин), с одной стороны, и у физиков — с другой, можно судить по ряду источников как эпохи эллинизма, так и средних ве
19 «Алмагест» Птолемея был переведен на латинский язык Герардом Кремонским в 1175 г.
442
Раздел третий
ков. Об этом свидетельствует интересное рассуждение Гемина, цитируемое Симпликием в его комментарии к «Физике» Аристотеля. «Задача физического исследования — рассмотреть субстанцию неба и звезд, их силу и качество, их возникновение и гибель; сюда относится доказательство фактов, касающихся их размера, формы и устройства. С другой стороны, астрономия ничего этого не обсуждает, а исследует расположение небесных тел исходя из убеждения, что небо есть реальный космос, и сообщает нам о форме и размерах Земли, Солнца и Луны и расстояниях между ними, а также о затмениях, о сочетаниях звезд, а также о качестве и продолжительности их движений. Так как астрономия связана с исследованием величины, размера и качества формьц она нуждается в арифметике и геометрии... Итак, во многих случаях астроном и физик стремятся выяснить одно и то же, например, что Солнце очень большого размера или что Земля сферична, но они идут при этом разными путями. Физик доказывает каждый факт, рассматривая сущность, или субстанцию, силу, или то, что для всех вещей наилучшим является быть такими, каковы они суть, или возникновение и изменение; астроном же доказывает их через свойства фигур или величин или путем расчета движения и соответствующего ему времени. Да'лее, физик во многих случаях доискивается причины, рассматривая производящую силу, астроном же... не компетентен судить о причине, как, например, когда он говорит, что Земля или звезды сферичны. Иногда он даже не стремится установить причину, например, когда рассуждает о затмении; в других случаях он изобретает гипотезы и вводит определенные приемы, допущение которых спасает явления. Например, почему кажется, что Солнце, Луна и планеты движутся неравномерно? Мы можем ответить, что если допустить, что их орбиты — эксцентрические окружности или что звезды описывают эпициклы, то явление их неравномерного движения будет спасено; необходимо, далее, выяснить, сколькими различными способами можно объяснить наличие этих явлений, чтобы привести нашу.теорию планет в согласие с тем объяснением причин, которое следует из принятого метода. И мы в самом деле обнаруживаем человека, утверждавшего, что явление неравномерного движения Солнца может быть спа
Эволюция понятия науки в средние века
443
сено и в том случае, если допустить, что Земля движется, а солнце покоится. Ибо не дело астронома знать, чему по природе свойственно покоиться и какого рода тела способны двигаться, по он вводит гипотезы, при которых некоторые тела остаются фиксированными, тогда как другие движутся, а затем рассматривает, каким гипотезам соответствуют явления, действительно наблюдаемые в небе. Но он должен обращаться к физику за своими первыми принципами, а именно что движения звезд просты, однородны и упорядочены, и с помощью этих принципов оп затем доказывает, что ритмичное движение всего подобного осуществляется по кругу, причем некоторые обращаются по параллельным кругам, а другие — по наклонным» 20.
Как можно видеть из приведенного отрывка, сам комментатор разделяет взгляды Аристотеля, поскольку подчеркивает не только тот факт, что одними своими силами астрономия не в состоянии указать причины изучаемых ею небесных движений, но что и свои предпосылки астрономия заимствует у физики.
Средневековая наука аналогичным образом различала физику и астрономию. Так, в рассуждениях Фомы Аквинского мы встречаем ту же аргументацию, какую видели у Гемина. Фома различает два вида гипотез: физические (или метафизические), которые являются истинными, и математические, к которым вообще неприменима характеристика истинного или ложного, ибо они заведомо суть лишь условные конструкции, назначение которых — «спасти явления». «Один способ,— пишет Фома,— сводится к доказательству некоторого принципа, как в естественной науке, где может быть найдена достаточная причина, чтобы показать, что движение неба всегда имеет, равномерную скорость. С помощью другого способа можно привести основания, которых недостаточно для доказательства принципа, по которые могут показать, что действия, вытекающие из пих, согласуются с явлениями, как в астрономии кладется в основу система эксцентриков и эпициклов, поскольку это допущение дает возможность рассмотреть чувственные явления небесных движений. Но это доказа
20 Цит. по: Grombie А. С. Medieval and Early Modern Science, vol. 1, p. 87, 88.
444
Раздел третий
тельство недостаточное, поскольку можно выдвинуть другую гипотезу, которая тоже дает такую возможность» 21.
Сосуществование двух способов изучения небесных явлений осложнялось тем, что математический (птолемеевский) и физический (аристотелевский) методы не во всем согласовывались между собой. Так, теория эпициклов Птолемея была несовместима с теорией движения Аристотеля, согласно которому круговые движения должны иметь твердо фиксированный центр вращения. Кроме того, птолемеево объяснение прецессии предполагает, что звездная сфера имеет два разных движения в одно и то же время, а это опять-таки противоречит важнейшему закону физики (и шире — логики) Аристотеля, согласно которому противоположные атрибуты не могут быть присущи одной и той же субстанции в одно и то же время.
Эти несоответствия и побуждали ученых, работавших в рамках одной из этих двух программ, а тем более тех, кто пытался как-то совместить обе, постоянно искать возможности устранения этих противоречий. Некоторые из них поэтому обращались к астрономической системе Аристотеля, но последняя сильно уступала птолемеевской по части математического описания наблюдаемых фактов: недостаточно «спасала явления».
К концу XIII в. в Париже была отвергнута астрономическая система Аристотеля и общепринятой стала система Птолемея. Однако на положении чисто математической «гипотезы», задача которой — объяснить явления, система Птолемея оставалась вплоть до XV в. и даже позже. «Физический смысл» наблюдаемого она, по убеждению самих астрономов, раскрыть не могла. В такой форме сосуществовали математическая и континуалистская (физическая) программы в средневековой астрономии.
Но различие этих двух программ сказывалось не только в отдельных науках; оно давало о себе знать и в общетеоретической, общефилософской ориентации целых направлений средневековой мысли. Так, А. Биркенмайер в своем исследовании показал, что естественнонаучные идеи Аристотеля начали особенно широко распространять
21 Цит. по: Crombie Л. С. Medieval and Early Modern Science, vol. 1., p. 89.
Эволюция понятия науки в средние века
445
ся в XII в. среди врачей и натуралистов 22 и лишь позднее началось освоение физики и метафизики Аристотеля. С другой стороны, изучение математики, занятие геометрией, оптикой, астрономией, как правило, формировали антиаристотелевский дух. Это сказалось, например, в работах представителей Оксфордской школы (XIII — XIV вв.), таких, как Роберт Гроссетет, Джон Пеккам, Томас Брадвардин и др. Все они были математиками, пытавшимися философски осмыслить математическую программу пифагорейцев и Платона. Направленностью своих научных интересов Оксфордская школа сильно отличалась от Парижской, где ориентировались преимущественно на научную программу Аристотеля. Гордон Лефф, сравнивая научную атмосферу в Оксфордском и Парижском университетах в XIII и XIV вв., пришел к выводу, что один из крупнейших представителей Оксфорда, Р. Гроссетет, был первым, кто заложил основания экспериментальной науки. Лефф считает, что научная революция в большей мере обязана своей подготовкой платоновскому «математизму», чем аристотелевскому «физикализму».
Сопоставление исходных принципов аристотелевской «Физики» и платоновского «Тимея» мы встречаем в XII в. у Аделарда Батского, Гуго из Сен-Виктора и Гильома из Конше, которые обсуждают платоновское учение о пяти правильных многогранниках и в связи с ним платоновское понятие материи. В XIII в. Роджер Бэкон цитирует высказывания Аверроэса о правильных многогранниках и обсуждает математическую конструкцию пяти элементов: земли, воды, воздуха, огня и эфира. Интересны при этом аргументы, которые высказывает Бэкон против платоновской математической конструкции материи. Он заявляет, что платоновская теория правильных многогранников влечет за собой с необходимостью допущение пустого пространства, а пустого пространства Бэкон не принимает, соглашаясь в этом пункте с аргументами Аристотеля.
22 См.: Birkenmajer A. Le role, joue par les medicins et naturalistes dans la reception d’Aristote an XIImc — XIIIme siecles.— In: Extrait de la «Pologne au VIе Congres international des sciences historiques». Oslo, 1928.
446
Раздел третий
Как видим, платоновская программа с разных точек зрения обсуждалась многими учеными с XII по XIV вв. Однако, несмотря на все это, именно аристотелевская научная программа была господствующей в средневековых университетах начиная с XII и вплоть до XIV в.
Даже в эпоху Возрождения, когда платонизм получил широкое распространение благодаря натурфилософии, аристотелевская научная программа тем не менее оставалась основой школьного преподавания. Правда, следует иметь в виду, что и в рамках аристотелевской научной программы происходили существенные изменения, особенно начиная с XIII—XIV вв. Эти изменения исподволь накапливали в средневековой физике те сдвиги, которые в конце концов послужили одной из причин, приведших к научной революции XVII в. и формированию научных программ, составивших содержание науки нового времени. Мы говорили «одной из причин», потому что становление пауки нового времени не может быть объяснено только исходя из внутреннего преобразования аристотелевской физики: нужен был целый ряд других факторов, которые дискредитировали бы саму аристотелевскую программу. Ибо, как можно видеть из истории науки, научные программы весьма живучи: внутри них всегда есть возможность отыскать резервы /(ля объяснения даже тех фактов, которые, казалось бы, невозможно рационально объяснить в рамках данной программы. Так, па протяжении многих веков приверженцы аристотелевской физики находили способы объяснять движение брошенного тела, и теория импетуса не казалась ее создателям противоречащей исходным принципам аристотелевской физики.
Однако прежде чем перейти к рассмотрению эволюции аристотелевской физики в средние века, нужно предварительно рассмотреть вопрос о том, каким образом вообще аристотелевская научная программа вошла в систему средневекового мышления, которое, как мы уже выше показали, существенно отличалось от античного.
Включение аристотелизма в структуру средневекового миросозерцания. Столкновение принципов аристотелизма и христианской теологии. Христианская доктрина о творении мира находилась в явном противоречии с аристотелевским учением о вечности мира, которое, напротив, хо
Эволюция понятия науки в средние века
447
рошо согласовалось с античным отношением к природе как к чему-то самоценному и самостоятельному. В вопросе о статусе природы среди античных философов Платон был ближе всех к христианской теологии. В «Тимее» мы находим учение о творении космоса демиургом. Правда, демиург Платона — это не христианский бог, но тем не менее у Платона и его учеников статус природы ближе к ее статусу в христианстве, чем у Аристотеля. Не случайно же Августин, один из самых авторитетных на Западе отцов церкви, писал, что Платон и неоплатоники ближе всех философов к христианству и что именно чтение неоплатоников содействовало его переходу от манихейства к христианской вере 23.
Но не только в вопросе о песотворенности и вечности космоса аристотелизм вступает в противоречие с христианской теологией. Одним из важнейших принципов Аристотеля является положение о том, что одной только естественной необходимости достаточно для объяснения всех явлений, происходящих в мире. Это положение вступает в противоречие с христианским учением о божественном провидении и с тем восходящим еще к Августину убеждением, что сам мир есть чудо, и притом гораздо более удивительное, чем любое из чудес, происходящих в мире. Наконец, аристотелевское учение о душе тоже с трудом согласуется с христианским 24.
23 Августин. Исповедь, VII, 6.
24 Полемика христианских теологов против аристотелизма велась на протяжении нескольких столетий как на Западе, так и в Византии (здесь особенно). Так, византиец Георгий Гемистий Плефон (около 1360—1452 гг.) во время своего пребывания в Италии (он присутствовал на Флорентийском соборе в 1439 г.) написал сочинение «О различиях платоновской и аристотелевской философии». В этой книге он осуждал не только аверроист-ский и томистский аристотелизм, но и самого Аристотеля за то,что тот признает мир вечным, а в боге видит ли шь целевую и движущую причину космоса. Характерно, что в 1513 г. папа Лев X в своей булле осудил «заблуждения аристотеликов»: «Особенно относительно природы разумной души, что она, очевидно, смертна или же едина во всех людях, некоторые, опрометчиво философствующие и следующие за философией, утверждают, что это правда...» (Penzinger Н. Enchiridion symbolorum. Aufl. 18—20, 1932, N 738).
448
Раздел третий
И по духу своего учения, требующего отрешиться от чувственного мира и обратиться к созерцанию вечного, сверхчувственного, платонизм гораздо ближе к христианству, как оно предстает в святоотеческой литературе, чем Аристотель, пафос которого — стремление к познанию всего существующего как к самоцели. Научное познание для Аристотеля выступает как высший род деятельности; при этом, как мы помним, Аристотель подчеркивает, что для науки нет «низких» предметов: изучение червя или лягушки — не менее почтенное дело, чем изучение души или форм государственного устройства. Такую установку раннехристианские богословы квалифицируют как «похоть очес», которая несовместима с христианским благочестием.
Принимая во внимание все эти соображения, нельзя не поставить вопрос: как же в таком случае стало возможным проникновение аристотелизма в средневековую науку и теологию, тем более что речь здесь идет не просто о сосуществовании той и другой, а об их внутренней органической сращенности, примеры которой мы видим у Альберта Великого и особенно у Фомы Аквината.
Нет сомнения, что «аристотелизация» христианской теологии и появление натурфилософии, которая обязана своим возникновением рецепции естественнонаучных сочинений Аристотеля, обусловлены существенными сдвигами, происшедшими в западноевропейском средневековье в конце XI — XII вв. Эти сдвиги затронули как социальную структуру средневекового общества, так и общественное сознание. Обычно эти изменения связывают с началом крестовых походов, которые оказали сильное влияние па феодальное общество средних веков. Но не только крестовые походы определили наступившие изменения: тут сказались прежде всего социально-экономические факторы. «К концу XI в. феодальная Европа,— пишет М. Л. Гаспаров,— впервые стала неуверенно применять к большим делам свои медленно копившиеся производительные силы. Сельское хозяйство стало прокармливать не только деревню, но и город, город ответил на это крутым подъемом ремесла, изделия ремесла поползли па тяжелых возах по ухабистым дорогам па ярмарки и поплыли на грузных итальянских кораблях к недоступным ра
Эволюция понятия науки в средние века
449
нее восточным рынкам, в ответ с Востока в Европу потекли деньги и предметы роскоши, загрубелые в своих замках феодалы почувствовали вкус к изящному быту и «ве-жествеппому» обхождению, рядом с прежними двумя сословиями, на которые распадался европейский мир, знатью и крестьянством, явились и потребовали внимания и уважения два новых — рыцарство и бюргерство. Чтобы поддерживать в порядке этот зашевелившийся муравейник феодального общества, потребовалась небывалая дотоле работа во всех местах, где что-то сосредоточивалось, координировалось, намечалось, назначалось,— в канцеляриях графов, герцогов и королей, в консисториях аббатов, епископов, архиепископов и пап. Потребовались люди — люди образованные или, по крайней мере, грамотные» 25.
Эта краткая, но емкая характеристика социально-экономических и последовавших за ними культурных сдвигов в средневековом обществе позволяет понять, почему именно в XII в. оживляется деятельность переводчиков, происходят перемены в системе образования, резко увеличивается число грамотных людей, причем не только клириков, но и мирян 26.
Французский историк средневековой культуры М. Ше-ню называет XII в. «той точкой средневековой цивилизации, которая знаменует поворот в материальных условиях жизни. Можно было бы даже назвать этот поворот технической революцией. Применение новой техники и ее рост вносят глубокие изменения не только в материальную, но и в духовную жизнь, порождая новое восприятие, новые чувства, представления, способствуя разрушению феодализма с его территориальной замкнутостью, содействуя
25 Гаспаров М. Л. Поэзия ваг,антов.— В кн.: Поэзия вагантов. М., 1975, с. 444, 445.
26 О том, насколько наглядными были эти изменения, свидетельствует историк первого крестового похода Гвиберт Ножанский (род. в 1053 г.): «Незадолго до моего детства, да, пожалуй, и тогда еще школьных учителей было так мало, что в маленьких городках найти их было почти невозможно, а в больших городах — разве что с великим трудом; да если и случалось встретить такого, то знания его были столь убоги, что их не сравнить было даже с ученостью нынешних бродячих клириков» (Patrologia latina, vol. 156, р. 844. Цит. по: Поэзия вагантов, с. 424).
15 П. П. Гайденко
450
Раздел третий
экономической эмансипации городских ремесленников... образованию менового хозяйства, активной циркуляции людей и богатств» 27. Шепю приводит ряд примеров, свидетельствующих о «технической революции» XII в.: «Технический прогресс выводит знание за рамки, установленные профессиональным или религиозным мышлением — выводит как в качественном, так и в количественном отношении. Новые источники энергии обусловливают революционный прогресс в распространении и совершенствовании машин... Изобретение хомута вносит переворот во всю деревенскую жизнь. В 1180 г. появляется жесткое рулевое управление, компас делает возможным дальнее плавание, благоприятствующее торговле, и буржуазия, держащая ее в своих руках, теснит дворянство, выводит суда из Средиземного моря па просторы Атлантики» 28.
В этой ситуации понятны расширение научных интересов, появление стремления к изучению природы, с одной стороны, и к развитию «практических искусств» — с другой. Шеню, в частности, видит в этих социально-экономических изменениях одно из условий, сделавших возможным расцвет Шартрской школы, где вместе с обращением к философии Платопа усиливается интерес к естественнонаучному знанию.
Именно в XII в. происходит восприятие средневековыми схоластиками Аристотеля, имевшее весьма серьезное влияние на последующее развитие научной мысли. Известный историк науки Аннелиза Майер даже считает возможным сказать, что «с рецепции Аристотеля начинаются натурфилософия и естествознание христианского Запада» 29. Поэтому вопрос о том, как стала возможной и как протекала эта рецепция, имеет для пашей темы существенное значение.
Начиная с XII столетия, как показали исследования последней четверти нашего века, ряд важнейших сочинений Аристотеля был переведен на латинский язык непос
27 Chenu М.-D. L’homme et la nature.— In: Archives d’histoire et litteraire du moyen age, annee 1952. Paris, 1953, p. 62.
28 Chenu M.-D. L’homme et la nature, p. 63—64.
29 Maier A. Metaphysische Hintergriiudc der spiitscholastischen Haturphilosophie. Homa, 1955, S. 10,
Эволюция понятия науки в средние века
451
редственно с греческого 30. До тех пор средневековые ученые располагали главным образом логическими сочинениями Аристотеля, переведенными на латинский язык еще в V—VJ вв. Так, Боэций (480—525 гг.) перевел «Категории» и «Об истолковании» Аристотеля и снабдил их комментарием. Он перевел также Введение Порфирия к «Категориям» Аристотеля, ставшее одним из наиболее популярных логических сочинений в средние века. По перевод других логических работ Аристотеля, например «Первых аналитик», оставался неизвестным до XII в. Только в середине XII в. стал известен на Западе весь «Органон». В 1128 г. Яков Венецианский (Джакопо из Венеции) перевел с греческого па латынь «Топику», обе «Аналитики» и книгу «О софистических опровержениях». Как было недавно установлено, переводы на латинский язык «Второй аналитики», а также «Физики», «Метафизики» и «О душе» также связаны с именем Якова Венецианского.
В XII в. в Италии, в основном в Палермо, был переведен с греческого ряд естественнонаучных сочинений Аристотеля. Генрих Аристипп (ум. около 1162 г.) привез греческие рукописи из Византии и сам перевел IV книгу «Метеорологии». Тогда же были переведены «Физика», «О возникновении и уничтожении», «Метафизика».
Параллельно в Толедо при дворе епископа Раймунда работала большая группа переводчиков с арабского. Герард Кремонский (ум. в 1187 г.) перевел с арабского на латынь «Физику», «О возникновении и уничтожении», первые три книги «Метеорологии» и «Вторую аналитику» 31. Там же трудился и Михаил Скот, переведший (около 1220—1230 гг.) биологические работы Аристотеля («История животных», «О частях животных» и «О возникновении животных») в переработке Авиценны, а также «О небе» и «О душе» — обе работы с комментариями Аверроэса. Позднее Феодор Антиохийский (возможно, вместе с Михаилом Скотом) перевел с арабского «Физику» Аристотеля с комментариями Аверроэса. Аристотель, таким образом,
30 См.: Зубов В. П. Аристотель, с. 227.
31 Sarton G. Introduction to the Hystory of Science. Baltimore, 1931, vol. 2, pt 1, p. 339-344.
15*
452
Раздел третий
пришел на латинский Запад вместе с аверроизмом 32, и христианской теологии стоило немало труда так истолковать аристотелево учение, чтобы оно не противоречило догматам христианской веры. Тем не менее эта задача была решена, прежде всего Фомой Аквинским, и решена настолько основательно, что в эпоху Возрождения и вплоть до XVIII в. все те, кто сознательно или бессознательно оказывался в оппозиции к церкви, видели своего главного противника в Аристотеле. Тот самый Аристотель, чье учение в XII в. теологи встречали с настороженностью и опаской, а многие, особенно среди францисканцев 33, решительно отклоняли и в XIII, и в XIV в. как несовместимое с христианством34, стал в эпоху Возрожде-
32 Спустя столетие Роджер Бэкон следующим образом прокомментировал «открытие Аристотеля»: «Философия Аристотеля пребывала в застое и молчании в большей своей части либо вследствие пропажи экземпляров и их редкости, либо вследствие зависти, либо вследствие войн на Востоке вплоть до времен после Магомета, когда Авиценна, Аверроэс и другие вновь извлекли аристотелеву философию на ясный свет толкования. И хотя некоторые логические, равно как и некоторые другие, сочинения были переведены Боэцием с греческого, тем не менее лишь во времена Михаила Скота, который по прошествии 1230 лет от рождества Христова выступил с переводами некоторой части аристотелевых книг о естествознании и метафизике вместе с их настоящими толкованиями, прославилась у латинян философия Аристотеля» (Bacon R. Opus majus, И, 13/ Ed. J. H. Bridges. Oxford, 1897, vol. I, p. 54—55. Цит. по: Зубов В. П. Аристотель, с. 230). Р. Бэкон, видимо, не был осведомлен о наличии переводов Аристотеля с греческого, осуществленных раньше; да и переводы Скота он датирует неточно; но в целом картину появления на Западе аристотелизма он дает верную.
33 Решительными противниками Аристотеля были Роджер Бэкон, заявивший, что, будь его власть, он сжег бы книги Философа, Петр Иоганн Оливи, отвергавший учение тех, из которых «один — язычник, а другой — сарацин» (имеется в виду Аверроэс), не менее резко выступали против Аристотеля и аристотеликов Вильям Оккам, а также Франциск из Маршии, Иоганн Каноник, Геральдус Одонис и др. См.: Maier A. Metaphysische Hintergriin-de der spatscholastischen Naturphilosophie, S. 11.
34 В этом отношении характерен запрет, наложенный в 1270 г. парижским епископом Этьеном Тампье на 13 тезисов аристотелев-ско-аверроистского учения, приписывавшихся (видимо, не во всем справедливо) Сигеру Брабантскому. Вот эти тезисы, отвергнутые церковью: 1. Интеллект всех людей един по числу и один и тот же. 2. Ложно и неподобающе утверждать: человек познает.
Эволюция понятия науки в средние века
453
ния и Реформации как бы символом официальной церковной ортодоксии.
С точки зрения развития средневековой науки усвоение Аристотеля сыграло очень важную роль. И не только в том смысле, что вместе с переводом естественнонаучных работ Аристотеля вошел в оборот огромный научный материал, которым до тех пор схоластика не располагала, по и в том смысле, что изучение Аристотеля открывало совершенно новый подход, способ анализа фактов, задавало определенную модель объяснения явлений, т. е. давало научно-исследовательскую программу. Эта программа по существу и была воспринята средневековой наукой. Но, вступая в противоречие с теологией, она привела к серьезной «сшибке» в средневековом мышлении; средством «спять» эту сшибку, преодолеть постоянно возникающее противоречие явилась концепция двойственной истины.
Принцип двойственной истины. Сущность этой концепции — в признании прав «естественного разума» наряду с христианской верой, основанной на откровении. Однако неправильно было бы думать, что для схоластики XII — XIII вв. оба эти источника знания были абсолютно равноправны: философские положения Аристотеля и его арабских комментаторов признавались вероятными, а не истинными в строгом смысле слова. Знание, добытое с помощью естественного разума, даже у Сигера Брабантского рассматривается как обладающее вероятностью, а не безусловной достоверностью 35.
3. Воля человека желает и выбирает исходя из необходимости.
4. Все, что происходит в этом мире, подчиняется закону небесных тел. 5. Мир вечен. 6. Никогда не было первого человека. 7. Душа, которая есть форма человека, подобно тому как и человек, погибает вместе с разрушением тела. 8. Душа, отделившись после смерти, не страдает от телесного огня. 9. Свобода решения — это пассивная потенция, а не активная, и по необходимости она приводится в движение тем, к чему стремится. 10. Бог не познает частности. 11. Бог не познает чуждое ему самому. 12. Деяния человека не направляются божественным провидением. 13. Бог не может дать разрушимой и смертной вещи бессмертие и нетленность (цит. по: Лей Г. Очерк истории средневекового материализма. М., 1962, с. 336, 337).
35 Miiller J. Р. Philosophic et foi chez Siger de Brabant. La theorie de la double verite.— In: Studia Anselmiana VII—VIH. Paris, 1938, p. 35-50.
454
Раздел третий
С точки зрения схоластов ХШ в., Аристотель пришел к своим выводам с помощью дедуктивного метода, и сам по себе этот метод безукоризнен, его нельзя заподозрить в неточности или недостоверности. Но те предпосылки, от которых отправляется Аристотель, с которых он начинает движение своей мысли, не обладают такой же высокой точностью и непреложностью, ибо они получены опытным, индуктивным путем и удостоверены тоже только опытом. А что касается знаний, полученных из опыта, так же как и доказательств через индукцию, то они могут быть лишь вероятными, но не истинными. Поэтому и все здание аристотелевской философии и базирующихся на ней естественных наук, согласно теологам ХШ в., обладает лишь относительной, но не абсолютной достоверностью 36.
Вот что пишет по этому поводу Альберт Великий в своем комментарии к работе Аристотеля «О небе»: «Ни одно свойство какой-либо природной вещи мы не признаем ни всеобщим, ни истинным, если не сможем с помощью индукции обнаружить то же свойство либо во всех либо во многих вещах, особенно если эти природные вещи даны в чувственном восприятии (sensibiles) и могут быть исследованы чувственным индуктивным познанием (sensibili cognit ione inductionis). Свойство же, которое эти люди 37 приписывают небу и миру, а именно, что, очевидно, началом их было естественное рождение 38 и что они не уничтожимы и не имеют конца,— этого свойства мы не сможем увидеть ни в одной вещи, которая имеет начало; напротив, скорее мы видим во всем обратное, так как все, что имело начало, однажды родившись, на наших глазах уничтожается по истечении определенного срока» 39.
Как видим, Альберт исходит из того, что всякое утверждение, выходящее за пределы возможного опыта, не может базироваться на тех знаниях, которые почерпнуты
36 Нужно отметить, что вХПиХШ вв. схоластика не очень высоко оценивала индуктивный метод познания; значение индукции сильно возрастает в науке XIV в., а соответственно и оценка этого метода в XIV в. повышается.
37 Имеются в виду Аристотель и его последователи.
38 А не творение.— П. Г.
39 De caelo I, trakt. 4, cap. 2 (Alberti Magni Opera omnia/ Ed. Borg-net. Paris, 1890-1899, vol. VI, p. 93).
Эволюция понятия науки в средние века
455
из опыта, а потому носит только вероятностный характер. Отсюда делается вывод, что все то, суждение о чем превышает всякий возможный опыт 40, может быть достоверным только в том случае, если знание о нем почерпнуто из сверхопытпого источника. Таким источником средневековая теология считает откровение.
Поэтому аристотелевское учение о вечности мира и материи можно допустить лишь «naturaliter loquendo» 41, как говорили в то время. Рассуждение «по естественной логике» было па таких основаниях впущено в схоластику и получило свои права гражданства в натурфилософии. Эта установка нашла свое наиболее четкое выражение у Альберта Великого: «Никогда,— пишет он,— по закону природы не прекращалось и не прекратится рождение. Если же кто-нибудь скажет, что по воле Бога рождение когда-нибудь прекратится, так же как когда-то не существовало... я скажу, что мне нет дела до чудес Бога, когда я рассуждаю о естественных вещах (de naturalibus), следуя естественной логике (naturaliter)» 42.
Интересно в этой связи обсуждение Буриданом вопроса о том, может ли нечто возникнуть из ничего. В своем комментарии к «Физике» Буридан после детального анализа всех за и против приходит к выводу, что утверждение о возможности творения из ничего истинно, но его истинность не может быть удостоверена ничем иным, кроме веры. Что же касается утверждения о том, что все возникающее естественным путем должно порождаться из уже существующего, а творение из ничего естественным путем невозможно, то это положение доказывается, но лишь через индукцию 43.
Здесь мы имеем дело с типичным примером признания двойственной истины: для Буридана существуют две принципиально разные картины мира: верующего христианина
40 А к таким суждениям относятся положения Аристотеля о вечности мира, материи и движения.
41 Naturaliter loquendo — с точки зрения естественного разума (лат.).
42 De generatione et corruptione I, tract. 1, cap. 22 (Alberti Magni Opera omnia, vol. VI, p. 363) (курсив мой.— П. Г.)-
43 Maier A. Metaphysische Hintergriindc der spatscholastischen Naturphilosophic, S. 16,
456
Раздел третий
и натурфилософа. Первая удостоверяется откровением вторая — естественным разумом, базирующимся на опыте и пользующимся индукцией. И хотя картина мира, предстающая перед натурфилософом, квалифицируется как лишь в высшей степени вероятная, тем не менее наличие этих двух несовместимых принципов подхода тревожит средневекового ученого и порождает стремление как-то устранить это разномыслие. В этом плане характерен путь, избранный учеником Буридана Николаем Оремом (20-е годы XIV в.— 1382 г.), который был не вполне согласен со своим учителем по вопросу о двух истинах. Комментируя трактат Аристотеля «О небе», где доказывается, что необходимо принять безначальпость мира, потому что допущение его начала с небходимостью влечет за собой и допущение его конечности (так Аристотель критикует платоновское учение о создании космоса демиургом), Орем замечает, что это утверждение Аристотеля ложно не только с точки зрения христианской веры, но и с точки зрения естественного разума. Орем считает возможным рационально доказать, что некоторые процессы, имевшие начало во времени, могут продолжаться бесконечно.
Интересно, что опровержение аристотелевского тезиса Орем осуществляет с помощью философии и математики. Здесь мы уже имеем дело с развитием научного знания в средние века, с пересмотром ряда предпосылок не только одного Аристотеля, но и всей античной науки. И хотя Оремом при этом двигало стремление согласовать натурфилософию с христианской теологией, но результат, к которому он пришел, выходит далеко за рамки его субъективного намерения и предвосхищает тот путь, по которому позднее пойдет развитие математики, подготовляя научную революцию XVII в.
Подводя итог нашему рассмотрению учения о двойственной истине, можно сказать, что в XIII в. две картины мира — теологическая и натурфилософская — еще не воспринимались как равноправные: религиозная истина представлялась очевиднее философско-научной. «Несмотря на это, вместе с фактическим разрывом философской и теологической — или, правильнее, христианской — картин мира уже был сделан первый шаг на пути, который затем будет пройден до конца натурфилософией ц
Эволюция понятия науки в средние века
457
естествознанием последующих столетий. Ближайшей вехой на этом пути будет та, когда естественный разум будет поставлен рядом с божественным откровением и авторитетом церкви; последней же вехой — когда он будет поставлен выше откровения» 44. Этот последний этап осуществляется уже в эпоху Возрождения, хотя отдельные схоласты делают этот шаг и в XIV в. Мы имеем в виду итальянца Биаджжо Пелакани (Блазиус Пармский), принадлежавшего к традиции школы Буридана, но пошедшего значительно дальше, чем Буридан: вслед за аверроистами он признавал вечность мира, естественную, даже механическую необходимость природных процессов, смертность человеческой души.
Как бы предвидя такого рода последствия учения о двойственной истине, церковь в 1277 г. в лице парижского епископа Этьена Тампье осудила тех, кто признавал двойственность истины. «...Ониговорят, что известно и истинно по Философу (но не по католической вере), будто существуют две противоположные истины и будто в противовес истине Священного писания есть истина в словах осужденных язычников...» 45
Однако раз начавшееся движение мысли остановить было невозможно. Аристотелизм все более укоренялся в схоластике, и, несмотря на осуждение, теория двойственной истины открывала широкий простор для обсуждения естественнонаучных вопросов.
44 Maier A. Metaphysische Hintergriinde der spatscholastischen Naturphilosophie, S. 42.
45 Chartularium universitatis Parisiensis/Denifle et A. Chatelain. Paris, 1889, vol. I, p. 543.
458
Раздел третий
. Глава третья
Пересмотр предпосылок античной науки в средние века
Осуждение парижским епископом Этьеном Тампье аристотелизма в 1277 г. интересно для нас еще в одном аспекте. Отвергая аристбтелевское учение о вечности и несотво-ренности космоса, Тампье в то же время допускает мысль о возможности множества миров в противоположность аристотелевскому учению о единственности мира, а также обсуждает возможность прямолинейного движения небесных сфер. Именно это дало возможность П. Дюгему сказать: «Дата рождения современной науки — 1277 год, когда парижский епископ заявил, что может существовать множество миров и что совокупность небесных сфер может двигаться прямолинейно, ибо в этом нет никакого противоречия» Ч
Хотя приведенный факт сам по себе и характерен, но датировать им рождение науки нового времени вряд ли правомерно: в обсуждаемом декрете нет никакой попытки серьезного обсуждения, а уж тем более обоснования тезиса о бесконечности универсума; что же касается науки нового времени, то она предполагала существенное разрушение всей структуры аристотелевского (и вообще античного) космоса, отмену аристотелевского понятия «места», геометризацию пространства и пересмотр всей теории движения, созданной в рамках перипатетической физики. Всего этого, разумеется, еще пе было в XIII в., а тем бо-
1 Duhem Р. Etudes sur Leonard de Vinci. Paris, 1909, vol. 2, p. 411 etc. По этому же поводу интересное соображение высказывает историк средневековой философии и теологии Этьен Жильсон. Он считает, что хотя 1277 год и не является датой рождения современной науки, он тем не менее есть дата, «когда в христианской среде стало возможным рождение христианской космологии» (Gilson Е. La philosophic du moyen age. Paris, 1944, p. 460). Именно учение о бесконечности вселенной и множестве миров, по Жильсону, больше соответствует христианскому миросозерцанию, чем античная теория единичного и конечного космоса.
Эволюция понятия науки в средние века
459
лее в декрете Тампье. Последний по своему реальному смыслу был актом защиты католической веры от распространяющегося аверроизма; как отмечает А. Койре, «он был одновременно коварной университетской операцией, вдохновленной, однако, светскими теологами, традиционалистами и консерваторами и направленной как против мэтров факультета свободных искусств, так и против францисканских и доминиканских монахов, почти целиком поглощенных новыми науками, физикой Аристотеля и астрономией Птолемея» 2.
Для теологии декрет парижского епископа имел известное значение; но что касается естественных наук, и прежде всего космологии, то здесь его значение было ослаблено активным сопротивлением доминиканцев, создавших — прежде всего благодаря Фоме Аквинскому — сильный противовес антиаристотелевским тенденциям и закрепивших авторитет Философа на несколько столетий — вплоть до конца XVI в.
Однако уже после того, как аристотелевская научная программа оказалась господствующей в средневековых университетах, постоянная необходимость поддерживать ее согласие с христианской теологией порождала некоторые новые, несходные с античными натурфилософские построения, которые оказались весьма существенными для развития науки. Одним из наиболее актуальных вопросов, обсуждавшихся на протяжении XIII и XIV вв., был следующий: будет ли невозможное с точки зрения разума и основанной на нем античной науки невозможным и для всемогущего бога христианской религии? Этот вопрос, имевший чисто теологическое происхождение, сыграл важную роль в подготовке предпосылок науки нового времени. Его обсуждение вылилось в рассмотрение так называемых воображаемых допущений и повлекло за собой пересмотр важных понятий античной физики и космологии.
Проблема так называемых воображаемых допущений. Широкое обсуждение в средневековой схоластике вопроса
2 Koyre А . Le vide et 1’espace infini au XIVе siecle.— In.: Archives d’histoire doctrinale et lilteraire du moyen age. Paris, 1949, vol. 17, an. 24, p. 47.
460
Раздел третий
о «воображаемых допущениях» связано с ситуацией, порожденной столкновением двух разных подходов к миру: с точки зрения естественного разума и с точки зрения веры в сверхприродного бога. Эта ситуация характерна для средневекового мышления в целом: уже у Августина налицо была тенденция к приведению опыта во взвешенное состояние; что же касается прав естественного разума, то они ограничивались всеми христианскими теологами. А остраненное отношение к естественному опыту и естественному разуму открывает широкое поле для воображения — способности, получившей особые права в западноевропейском варианте христианской культуры в отличие от культуры античной и восточно-христианской — византийской.
На место характерного для языческой Греции уважения к тому, что есть, встает менее почтительное отношение к природному сущему, низведенному до «творения», и все возрастающее стремление постигнуть возможное. Это стремление, в целом чуждое античному мышлению, находит отчасти себе почву в математической программе 3, поскольку здесь — особенно со времен неоплатоников — воображение получило известные права гражданства. Так, например, обращение к «воображаемой реальности» мы видим в астрономии Птолемея. Уже античные комментаторы Аристотеля, как мы видели, склонны были принять птолемеевы эпициклы и деференты в качестве «воображаемых фикций», в то же время сохраняя в качестве реальной космологии и физики аристотелевскую 4 *.
Средневековые натурфилософы, однако, идут по части «воображаемых допущений» значительно дальше этого, да и их побудительные мотивы выходят за рамки необхо
3 Средневековые физики называли воображаемым пространство, с которым оперировала геометрия; при этом они, видимо, не приходили в конфликт с математиками; ведь со времени неоплатоников существовала традиция, согласно которой геометрические объекты являются «гибридным» продуктом ума совместно с «воображением».
4 Интересно, что воображаемые величины имели оттенок недействительных и даже невозможных вплоть до XIX в. См. об этом: Fraenkel-Kiel А . Das Problem des Unendlichen in der neueren
Mathematik.— Blatter fur deutsche Philosophic. Bd. 4, H. 3/4, S. 282,
Эволюция понятия науки в средние века
461
димости принять астрономию Птолемея. Они ставят под сомнение фундаментальные понятия физики Аристотеля. Так, например, Генрих Гентский, соглашаясь с Аристотелем в том, что природа не терпит пустоты («пустота не может существовать сама по себе»), в то же время обсуждает возможность создания пустоты с помощью божественного всемогущества. «Может ли Бог сделать так, чтобы существовала пустота?» — спрашивает он. Ход рассуждения Генриха Гентского очень характерен для его времени: допустим, говорит он, что Бог может создать пустоту, поскольку он в состоянии лишить материю присущей ей субстанциальной формы и количества. Но существование пустоты влечет за собой допущение движения с бесконечной скоростью, т. е. мгновенного перемещения, что противоречит физике Аристотеля. Но еще абсурднее, согласно Генриху, другое следствие, вытекающее из существования пустоты: «Если бы Бог мог сотворить пустоту, то тем самым Он мог бы сделать так, чтобы в одно и то же время существовали противоположности, т. е. части, между которыми находилась бы пустота, были вместе и не вместе» б. В самом деле, части тела, содержащие пустоту, одновременно соответствуют двум разным определениям: поскольку между ними ничего нет (пустота — это ничто), они «вместе», т. е., по определению Аристотеля, составляют непрерывное тело; поскольку же между ними есть пустота, они «не вместе», т. е. не составляют непрерывного тела. Парадокс здесь основан на двусмысленности понятия пустоты: один раз пустота отождествляется 1 с «ничто», другой раз — с незаполненным пространством, т. е. с интервалом между телами, в котором могут располагаться другие тела6. Отсюда и противоречие, возникающее у Ген
6 Цит. ио: Коугё А . Le vide et 1’espace infini au XIVе siecle, p. 53. 6 Уже из этого определения пустоты понятно, что наш автор рассматривает только пустоту «внутри мира», а не пустоту за пределами мира, ибо в этом втором случае ее нельзя определить как «промежуток между телами» (разве только допустив множество миров). Вот почему Генрих Гентский говорит: «Если бы Бог создал тело вне неба (т. е. вне аристотелевского конечного космоса.— II. Г.), то оно было бы не в полноте и не в пустоте, а в чистом ничто, как и само небо было создано в чистом ничто» (цит. по: Коугё A. Le vide et 1’espace infini au XIVе siecle, p. 53).
462
Раздел третий
риха и приводящее его к выводу, что признание существования пустоты влечет за собой допущение истинности двух противоположных утверждений.
А нужно сказать, что в схоластике XIII и особенно XIV в. при обсуждении проблемы божественного всемогущества признавался только один предел, которого не мог преступить даже творец мира: это формальный закон противоречия, как он был сформулирован Аристотелем. Поэтому и Генрих Гентский, обнаружив, что допущение пустоты влечет за собой нарушение логического закона противоречия, оказывается перед неразрешимой , дилеммой: либо признать, что даже бог пе в состоянии создать пустоту (тогда он не всемогущ), либо допустить, что бог может преступить закон противоречия.
Вокруг этой дилеммы бился не один только Генрих Гентский. К этой же проблеме, но несколько в ином плане, обращается францисканец Ричард из Мидлтауна (XIII в.), воспитанный в традициях Оксфордской школы. Ричард тоже обсуждает проблемы космологии в связи с вопросом о божественном всемогуществе. «Может ли Бог,— рассуждает он,— заставить последнее небо двигаться прямолинейным движением? 7 По-видимому, нет, ибо всякое прямолинейное движение тела происходит от одного мтэста к другому месту. Но, согласно Аристотелю (Физика, IV), последнее небо не находится ни в каком месте, и, согласно I книге «О небе», вне последнего неба нет ни места, ни заполненности, ни пустоты; следовательно, невозможно, чтобы бог двигал последнее небо прямолинейным движением» 8.
Ричард еще и потому исключает возможность прямолинейного движения последнего неба, что это предполагало бы наличие пустоты. А бог не может создать пустоту, поскольку пустота — это промежуток между телами, между которыми нет на самом деле никакого промежутка. «Если бы Бог мог двигать последнее небо прямолинейным
7 Не только Аристотель, но и все античные астрономы согласны между собой в том, что «последнее небо» движется круговым движением и не может двигаться прямолинейно.
8 Clarissimi Theologi Riccardi de Mediavilla Super quattuor lib-ros sententiarum quaestiones subtillissimae. Brixiae, MDXCI, livre I, II, dist. XIII, art. 3. qu. 3, p. 186a,
Эволюция понятия науки в средние века
4(53
движением, то некоторая часть неба оставила бы место, в котором она находится, а на это место не встало бы никакое другое тело: следовательно, Бог не может двигать последнее небо прямолинейным движением» 9. Эти рассуждения заслуживают того, чтобы на них остановиться внимательнее. Прямолинейное движение, которое Ричард «вообразил» себе, не такая уж безделица: будь оно и в самом деле осуществимо, оно полностью разрушило бы тот мир, в котором существовал и средневековый и античный человек, мир, каким его мыслила наука на протяжении почти двух тысяч лет: конечный, завершенный в себе космос, вне которого больше ничего нет. Независимо от того, к каким выводам пришел сам Ричард, его размышления о возможности прямолинейного движения неба и связанной с этим пустоты, т. е. ничем не заполненного пространства, а также возможности для бога создать другой мир или миры ставит под вопрос не только ключевые понятия аристотелевской физики, по и общеантичные представления о космосе. На место единой целостности, какой является космос и для физиков, и для астрономов, встает теперь,— правда, пока только в качестве воображаемой возможности — совокупность сотворенных миров, каждый из которых прямолинейно движется в некотором пустом «промежутке» — этом первом предвосхищении бесконечного пространства науки нового времени.
К таким «разрушительным» последствиям приводит средневековую схоластику размышление над тем, как совместить идею конечного замкнутого космоса с бесконечностью божественного всемогущества. Наиболее последовательно принципы аристотелевской космологии пересматриваются Фомой Брадвардином (XIV в.). Важное место в сочинениях Брадвардина занимает полемика с пелагианской ересью, которую он называл «каинистской», поскольку пелагиане, согласно ортодоксальному воззрению церкви, преувеличивали возможности человека в достижении спасения собственными силами и, таким образом, недооценивали силу и роль божественной благодати. Проблема божественного всемогущества в этой свя-
9 Ibid., р. 71.
464
Раздел третий
зи очень занимала Брадвардина, и он обсуждал ее как с точки зрения теологии, так и с точки зрения космологии и физики.
По интересующему нас вопросу Брадвардин высказывается значительно определеннее, чем Генрих Гентский и Ричард из Мидлтауна. «Бог присутствует необходимо везде, — пишет он, — не только в мире и во всех его частях, но и вне мира в месте или в воображаемой бесконечной пустоте... Откуда с ясностью следует, что может существовать пустота без тела, но никоим образом не может быть пустоты без бога» 10 11. Это рассуждение очень показательно в том отношении, что оно наглядно позволяет увидеть связь определенных научных интуиций — в данном случае интуиции пустого незаполненного пространства, которым не оперировала в этой форме античная наука,— с предпосылками средневекового сознания, с особенностями религиозных представлений средневекового периода. В самом деле, поскольку бог вездесущ, то он присутствует не только в мире и в сотворенных им вещах, но и там, где нет мира и вещей,— в пустоте. Пустота, стало быть,— это то «место», где нет ничего, кроме божественного присутствия. Так «ничто» приобретает оптологическую значимость, становится существующим.
Брадвардин был не только теологом, но и математиком п. Считая необходимым привести доказательство своего положения, он рассуждает следующим образом: «Для доказательства я предполагаю, что А есть фиксированное воображаемое место этого мира, а В — одновременно с ним воображаемое место вне мира, находящееся на определенном расстоянии от А; во-вторых, я предполагаю, что Бог движет мир из [точки] А в [точку] В... Отсюда следует,
10 Thomae Bradwardini Archiepiscopi Olim Cantuarensis. De Causa
Dei contra Pelagium et de Virtute causarum ad suos Mertonenses Libri tres. Londini, MDXVIII, in-fol, 1.5, p. 177.
11 Хорошо известен математический трактат Брадвардина «О континууме» (см.: Зубов В. П. Трактат Брадвардина «О континууме».— В кн.: Историко-математические исследования. М., 1960, вып. XIII), в котором он критикует финитистскую концепцию «неделимых», показывая, что отказ от принципа непрерывности приводит к неразрешимым противоречиям и разрушает основы математики.
Эволюция понятия науки в средние века
465
что Бог теперь находится в Б независимо от того, был ли он там раньше или нет. Если он там был, то он был и теперь находится в воображаемом пространстве вне мира. Если не был, то он теперь уже находится не в А, а в Б. Следовательно, он ушел из точки А и достиг точки В, отделенной от А известным промежутком, т. е. совершил движение перемещения. Сторонники Философа не признают движения Бога из точки А в мире в точку В вне мира, ибо это движение не вверх, не вниз и не круговое, а значит, оно невозможно. Но Бог всемогущ, следовательно, он может создать мир в точке В, а стало быть, и двигаться туда» 12.
Всемогущество бога служит, таким образом, средством отмены тех запретов, которые составляют сущность аристотелевской научной программы: запрета допускать пустоту, мыслимую как «место» или пространство вне мира; запрета мыслить прямолинейное движение «не вверх> и «не вниз», а «за пределы мира», которое требует отмены конечного космоса с его системой абсолютных мест. В лице Брадвардина средневековая наука впервые реализует в сфере космологических (правда, пока только воображаемых) построений догмат о трансцендентном боге христианской теологии. Бог абсолютно совершенен, пишет Брад-вардин, а потому он находится одновременно везде. Эта вездесущность бога, будучи переведена на космологический язык, предстает в виде возможного, т. е. воображаемого бесконечного пространства.
Поэтому представляется справедливым вывод, к которому пришел А. Койре на основании анализа «воображаемых допущений»: теологическое понятие божественной бесконечности вместе с геометрическим понятием пространственной бесконечности привело к созданию парадоксальной концепции реальности воображаемого пространства, пространства пустого, подлинного осуществленного ничто, в котором три века спустя разрушились и исчезли небесные сферы, заключавшие в себе прекрасный космос Аристотеля и средних веков. А на протяжении этих трех веков мир, который уже не был космосом, пред
12 Thomae Bradwardini..., р. 178 — 179.
466
Раздел третий
стал перед человеколМ как помещенный в ничто, окруженный ничто и насквозь пронизанный этим ничто» 13.
Обсуждение космологических вопросов — о пустоте, бесконечном прямолинейном движении и т. д.— в средневековой схоластике существенно отличается от обсуждения этих вопросов в античной философии и науке. В этом пункте мы можем видеть, как культурно-историческая реальность самым интимным образом присутствует в научно-теоретическом мышлении и определяет не просто отдельные детали, отдельные моменты научного знания, но влияет на важнейшие понятия, на сам фундаментальный строй мышления, на структуру научных программ. Ведь именно ключевые категории античной физики — категории пространства и движения — подвергаются здесь трансформации. В античности вопрос о возможности или невозможности пустоты — это теоретический вопрос. В средние века он получает еще и дополнительное значение: пустота — это «физический» эквивалент того ничто, из которого бог сотворил мир, а потому и обсуждение этого вопроса оказывается нагруженным еще и религиознонравственным, а не только теоретическим смыслом. В результате появляется мощный дополнительный аргумент в защиту пустоты, которого не было и не могло быть в античной науке, и в конечном счете он оказывается в состоянии одержать победу над теми теоретическими аргументами, которые были выставлены Аристотелем против допущения пустоты.
На протяжении ХШ—XIV вв. идет неуклонная работа по расшатыванию главного предубеждения, лежавшего в основе всей античной науки (и античного мировосприятия вообще), а именно предубеждения против бесконечности как позитивного начала. Ведь и запрещение пустоты в аристотелевской физике связано с тем, что скорость движущегося тела в пустоте должна быть бесконечной, а там, где появляется такого рода бесконечность, кончается всякая возможность познания. Вспомним, что, создавая фундамент своей физики, Аристотель сначала «обезвредил» разрушительные для нее парадоксы Зенона.
13 Thomae Bradwardini., р. 91.
Эволюция понятия науки в средние века
467
В XIII и XIV вв. меняется отношение к проблеме бесконечности, а вместе с тем ослабляется и сила некоторых аристотелевских аргументов, направленных против понятий пустоты (а вместе с ней и бесконечности). Это изменение связано с формированием целого ряда новых подходов в физике и космологии; в данном случае, как мы видели, оно связано со введением понятия «ничто» — чисто теологического понятия — в ту сферу, которой занимается натурфилософия. Койре хорошо почувствовал это, сказав, что старый космос «теперь предстал перед человеком как помещенный в ничто, окруженный ничто и насквозь этим ничто пронизанный». Таким образом, догмат о сотворении богом мира из ничего неожиданно получает новый смысл именно в научном мышлении: он оказывается способным поставить под вопрос ряд запретов аристотелевской физики и тем самым континуалистской программы вообще.
Проблема бесконечности. Возможность бесконечно большого тела. Средневековая схоластика подвергает пересмотру не только принципиальный для аристотелевской физики запрет пустоты; она ставит под сомнение и аристотелевское положение о невозможности существования бесконечно большого тела. Тем самым пересматривается кардинальный принцип всей аристотелевской научной программы, а именно тезис о недопустимости актуальной бесконечности. Средневековые натурфилософы и здесь выдвигают против Аристотеля аргумент всемогущества бога. В XIV в. так называемые инфинитисты утверждали, что актуально-бесконечное (infinitum in actu) может быть осуществлено божественным всемогуществом, поскольку понятие актуальной бесконечности никакого противоречия в себе не содержит. Проблема актуальной бесконечности обсуждалась Герардо из Болоньи, Джоном Ба-конторпом, Паоло из Перуджи. Так, Герардо из Болоньи ставит следующий вопрос: «Может ли что-нибудь другое, кроме бога, быть бесконечным по величине?» 14 * Определенного решения по этому вопросу у Герардо нет, но его размышление очень характерно: «У меня,— пишет он,— есть
14 Summa qu 20, art. 3, Borg. 27, fol. 76v —77v. Цит. no: Maier A.
Metaphysische Ilintergriinde der spatscholastischen Naturphilo-sophe, S. 381.
468
Раздел третий
сомнение в этом вопросе. Ибо, с одной стороны, общепринято, что величина не может быть актуально-бесконечной, а идти против общепринятого трудно, но, с другой стороны, в допущении бесконечного тела или бесконечной величины я не усматриваю ясно никакого противоречия. И я не решусь с уверенностью сказать, что Бог не может сделать того, в чем человек не видит противоречия, ибо Бог в состоянии сделать все, в чем не содержится противоречие» 15.
«Сумма» Герардо Болонского была написана в начале XIV в., в 1313—1317 гг. Приблизительно в то же время Джон Баконторп в Комментарии к «Сентенциям» (1316— 1318) уже более уверенно заявляет, что «Бог в силу абсолютного могущества может сделать актуально-бесконечное» 1в. Он допускает, что актуально бесконечной может быть всякая величина: число, время, экстенсивная и интенсивная величины. Такая постановка вопроса влечет за собой серьезные выводы, подрывающие фундамент не только физики Аристотеля, но и всей прежней космологии. В самом деле, конечный универсум Аристотеля предполагает необходимость нематериального вечного двигателя, иначе Аристотель не может объяснить вечное движение, а именно движение небесного свода. Согласно Аристотелю, никакой конечный двигатель пе в состоянии производить движение в течение бесконечного времени, а бесконечного телесного (материального) двигателя он не допускает, так как вообще не допускает актуально-бесконечной величины (бесконечно-большого тела).
Возникшее в XIV в. рассуждение о возможности для бога создать актуально-бесконечную величину и соответственно бесконечно-большое тело ставит под вопрос надобность в нематериальном вечном двигателе; во всяком случае возможность иным путем объяснить вечное движение неба такие размышления, несомненно, открывают. Однако осуществление этой возможности мы находим лишь в эпоху Возрождения: Джордано Бруно полностью принимает идею «бесконечно-большого тела» (такова его бесконечная вселенная). В средние века еще 16
16 Summaqu 20, art. 3, Borg. 27, fol. 76 vt —76 v., S/391.
16 Ibidem.
Эволюция понятия науки в средние века
469
многое препятствовало допущению бесконечно-большого физического тела. Как отмечает В. II. Зубов, «первоначально теологи выносили бесконечное за пределы физического мира 17. Приписать материальному миру бесконечность означало бы для них признать существование „второго бога“. Однако отказаться от понятия бесконечности вообще, усматривая в нем как таковом внутреннее противоречие, было бы опасно, поскольку этим подрывались бы основы всей средневековой теологии: учения о бесконечном божестве» 18. Не случайно Фома Аквинский пытается выйти из затруднения, отвергая тезис о возможности для бога создать бесконечнобольшое тело; он согласен с Аристотелем в том, что последнее невозможно, но при этом признает необходимость нематериальной бесконечности, каковой является бог. Характерно, что у Аристотеля вечный двигатель никогда не определяется как «бесконечный»: он выступает у него как неделимый, в то время как все материальное, согласно античным мыслителям платоновской и аристотелевской школы, делимо.
Здесь мы, видимо, имеем дело с одним из принципиальных различий между античным и средневековым способами мышления. Для древних греков бесконечное — это то, что не имеет конца, предела. То же самое — и для христианских теологов. Но при этом отношение к бесконечному у тех и других принципиально различно. Не имеющее предела греки называли беспредельным — апейроп. Ему противостоит предел — перас. Вспомним категории пифагорейцев: предел — беспредельное, единое — многое, мужское — женское, свет — тьма, хорошее — дурное.
Мы взяли только некоторые из противоположных начал пифагорейцев, чтобы показать, что пределу у них соответствует хорошее, беспредельному — дурное, пределу — единое, беспредельному — множество, пределу — свет, беспредельному — тьма и т. д. II хотя для существования мира необходимы оба противоположных начала, но их ценностный ранг обозначен совершенно не
17 Прежде всего в план «воображаемых допущений».
18 Зубов В. П. Аристотель, с. 263, 264.
470
Раздел третий
двусмысленно. Еще более определенным является отношение к беспредельному у элеатов: оно сведено к статусу небытия. Отрицая мыслимость множества, элеаты тем самым признают тождество бытия с единым (т. е. с пределом). У Платона, как мы помним, беспредельное — это материя, благодаря «соединению» которой с «единым» возникает изменчивый мир становления. Таким образом, беспредельное у Платона, как и у пифагорейцев, соответствует множественному, движущемуся, темному, одним словом, дурному. У Аристотеля, наконец, все материальное тоже делимо, множественно и т. д., а нематериальное — это неделимое (целое). В этом смысле можно сказать, что у греков бесконечность в подавляющем большинстве случаев воспринималась и осознавалась как нечто дурное, как «дурная бесконечность» (Гегель). Ей противопоставлялся предел, единое, «целое» как нечто оформляющее, завершающее, благодаря чему хаос беспредельного превращался в космос. Можно, пожалуй, сказать, что понятие, противоположное «бесконечному» — а именно «конечное» (как имеющее конец — предел, завершение), есть понятие ценностно более высокое для греческого сознания.
В данном контексте нас особенно интересует Аристотель, поскольку его контипуалистская программа оказалась господствующей в естествознании средних веков. О том, что Аристотель в данном вопросе рассуждает в духе общеантичной традиции, свидетельствует хотя бы следующий отрывок: «Если бесконечное не есть пи величина, ни множество, а само является сущностью, а пе акциденцией, то опо будет неделимо, так как делимое будет или величиной, или множеством. Если же оно неделимо, оно не бесконечно, разве только в том смысле, как голос невидим» 19. Аристотель, таким образом, не допускает бесконечной сущности (а только бесконечные акциденции, такие, как величина или множество); а то, что он называет неделимым, не есть бесконечное. Следовательно, он пе признает актуальной бесконечности. «Очевидно также,— продолжает он,— что немыслимо бесконечному существовать как актуальное, как
19 Физика, III, 5.
Эволюция понятия науки в средние века
471
сущность и начало; ведь если оно делимо, любая часть, взятая от него, будет бесконечным» 20.
В философских понятиях и понятиях науки нашло свое выражение общее для греческого духа стремление к пластически завершенному, обозримому и имеющему в самом себе свою цель — самодовлеющему, самоудов-летворенному. Эта особенность наложила свою печать и на греческое искусство, что неоднократно отмечали историки культуры, искусства и философии. Так, немецкий исследователь В. Шадевальдт пишет по этому поводу: «В том, как греки видели и оформляли свой космос, можно заметить отсутствие чувства бесконечного. В своем образе мира они держались конечного, зримого, завершенного...» 21. Чувство формы, чувство границы, свойственное грекам, нашло свое выражение и в учении о «примате» предела над беспредельным, и в созданной на греческой почве перипатетической физике, не допускавшей актуальной бесконечности.
Христианская теология уже самим своим учением о трансцендентном боге, боге, находящемся за пределами космоса, разрушала примат предела и требовала пересмотра греческой «системы мыслительных координат». Все конечное было объявлено творением бога, тварью, не имеющей своего источника и своей цели в самом себе. Разрушалась завершенная пластика греческого восприятия мира и сущих в нем вещей. Трансцендентность христианского бога, его внеприродность, его личный характер предполагали рассмотрение его в совершенно новых категориях — категориях воли и могущества. Как отмечает А. Койре, первая попытка инфинитизации бога, а тем самым и переосмысления понятия бесконечности была осуществлена александрийцем Филоном (I в. до н.э. — I в. н.э.), стремившимся соединить греческую философию (платонизм) с иудаизмом — религией трансцендентного единого бога. Учение Филона оказало большое влияние на первых христианских богословов, в том числе и на Оригена, который представлял себе соотно
20 Физика, III, 5.
21 Schadewaldt W. Das Welt-Modell der Griechen.— In: Die neue Rundschau, 68, H. 2. Frankfurt a/M, 1957, S. 187.
Раздел третий
шение трансцендентного бога-отца, Логоса (Христа) и мира так же, как и Филон. И хотя на первом Вселенском соборе это учение было осуждено, но первая попытка выразить идею трансцендентного бога с помощью понятий античной философской традиции привела к существенной перестройке одного из базисных понятий научной и философской мысли — понятия бесконечности. Для христианской теологии то, что имеет предел — это конечное, а оно наделено более низким статусом, чем бес конечное, т.е. бог. Это радикальный переворот в самом способе мышления, имевший большое значение для развития пауки.
Средневековый мыслитель не усматривал в понятии актуальной бесконечности ничего такого, что мешало бы его принять. Так, Дунс Скот, полемизируя с Фомой Аквинским, доказывавшим невозможность бесконечно большого тела, считает, что довод Фомы не имеет никакой силы22. Согласно Дунсу Скоту, понятие бесконечности не только не содержит в себе внутреннего противоречия, но, напротив, вполне согласуется с понятием бытия, поскольку «конечность в понятие бытия не включается». И человеческий ум «не испытывает никакого отталкивания», цогда мыслит бесконечное; напротив, бесконечное «представляется ему самым совершенным предметом постижения»23. Дунс Скот здесь с большой определенностью выразил глубокую интуицию средневекового сознания, которому бесконечность отнюдь не представлялась чем-то «дурным» или содержащим в себе парадоксы (противоречия), как для античного грека. Между понятием бытия н понятием бесконечности Скот не видит никакой несовместимости, возможно, именно потому, что христианский бог, всемогущий, вездесущий, т. е. во всех отношениях бесконечный, сказал когда-то о себе Моисею: «Аз есмь Сущий»?
У Дунса Скота, как и у других его предшественников — францисканцев (например, Петра Оливи), мы находим учение о примате воли над всеми остальными
22 Scotus Duns. Opus Oxoniense, I, 1, dist. 2, qu.2, n. 34.— In: Opera omnia. Paris, 1893, t. 8, p. 481.
23 Scotus Duns. Op. cit., I, 1, dist. 2, qu. 2, n. 31 et 32 t. 8, p. 479.
Эволюция понятия науки в средние века
473
способностями — как у человека, так и у бога. А учение о примате воли влечет за собой, как мы видели выше, переосмысление античного понимания человека и мира в целом. На примере Дунса Скота можно видеть, как происходила перестройка античного способа мышления применительно к понятию бесконечности. «Утверждение Дунса Скота,— пишет В. П. Зубов,— подготовляло возможность признания бесконечной материи и бесконечной вселенной,— правда, только подготовляло, но еще не реализовало» 24.
Рассмотрение понятия бесконечности в схоластике было связано не только с проблемой бесконечного пустого пространства или бесконечно большого тела. Не всегда такое рассмотрение сопровождалось и вопросом: о пределах божественного всемогущества. Пересмотр оснований аристотелевской физики именно в связи с проблемой бесконечности шел и подругой линии. Уже упоминавшийся нами оксфордский теолог и ученый Роберт Грос-сетет, учитель Роджера Бэкона, подверг критике тезис Аристотеля о том, что существует и мыслимо только потенциально, но не актуально-бесконечное. Гроссетет считает, что актуально-бесконечное есть certus numerus — «определенное число», которое хотя и не познаваемо для нас, но тем не менее существует актуально. Более того, одно актуально-бесконечное может быть больше или меньше другого, утверждает Гроссетет, считая, таким образом, возможным сравнивать между собой бесконечности. При этом для дарования актуальной бесконечности права гражданства в науке, Гроссетет обращается к той же самой инстанции, к богу. Вот рассуждение об этом Гроссетета, воспроизведенное в 1323 г. Вильгельмом фон Альнвиком. «Он (Гроссетет. — П. Г.) говорит, что одно бесконечное больше другого бесконечного и что больше моментов в большем времени, чем в меньшем, и что больше точек в большей величине, чем в меньшей. Затем он ,говорит, что первая мера (mensura) времени, с помощью которой природа впервые измерила величину времени, не может быть какой-либо величиной времени, нам известной, ибо и опа измерена, и не через саму себя, но через другую.
Зубов В. П. Аристотель, с. 264,
474
Раздел третий
Следовательно, первая мера, по его словам, есть истинное множество бесконечных моментов, содержащихся (contentorum) во времени, ибо в числах дано (est dare) первое и наименьшее, хотя ине в непрерывных. II бог, который знает это множество, измеряет с его помощью другие времена» 25.
В данном случае Гроссетет рассматривает актуально-бесконечное па примере времени; при этом он считает величину (в данном случае величину времени) составленной из бесконечного множества «единиц» — моментов времени. Такой способ рассмотрения, исключаемый конти-нуалистской программой Аристотеля, имеет скорее свои истоки в пифагорейской школе: ведь именно пифагорейцы, как свидетельствует Аристотель, «составляли величины из чисел». Правда, неизвестно, допускали ли пифагорейские математики актуально-бесконечное множество неделимых: если судить по общему для античного сознания отталкиванию от бесконечного и по тому, что пифагорейцы исходили из понятия «предела», «неделимого», то они вряд ли могли бы принять понятие актуальной бесконечности.
Что же касается Гроссетета, то, будучи математиком, он отдавал предпочтение пифагорейско-платоновской научной программе. Для его рассуждения характерен и другой момент: он допускает «первую меру» времени — не ту, которую люди принимают «по установлению»: час, сутки и т. д. Для Гроссетета не так уж существенно, что эта мера восходит к определенным природным процессам — прежде всего к вращению неба — и что человеческое «установление» здесь, таким образом, не является совершенно произвольным. В средние века время, как мы это видели у Августина, в значительной мере «эмансипировалось» от природных процессов 26, поскольку
25 Цит. по: Maier A. Metaphysische Hintergriinde..., S. 399.
20 Как отмечает А. Манер, «был один пункт, в котором христианские философы всегда расходились с Комментатором (Аверроэсом.— П. Г,.). Согласно многократно цитированным ими всеми словам Августина, движение и время были бы даже тогда, если бы небо остановилось» (Maier А . Metaphysische Hintergriinde..., S. 118). Поскольку природа для христианских философов перестала быть последней и высшей реальностью, а христианский
Эволюция понятия науки в средние века 475
с самого начала получило связь преимущественно с миром души и истории. В качестве истинной меры времени Гроссетет ищет некоторое «бесконечное число моментов». Однако человеку знание этой меры не дано: ее знает только бог и с ее помощью он измеряет все времена. Как видим, размышление об актуальной бесконечности и у Гроссетета не обходится без обращения к богу — человек и актуальная бесконечность настолько несоизмеримы, что человеческий разум не может ее постигнуть.
Так же рассуждает Гроссетет и по поводу другой величины — пространственной. «Бесконечное число точек во всех линиях длиной в локоть — одно, и этим числом достовернейше и определеннейше бог измерил все линии длиной в локоть» 27. Гроссетет решительно не согласен с теми, кто считает, что нет никакой «истинной», т. е. абсолютной, меры для всякой величины, а всякая мера относительна, поскольку для контипуалиста любая величина, как и ее часть, бесконечно делима и в этом смысле дготен^нально-бесконечна. «Только для того, чтобы получить прерывную (praecisam) и определенную (di-stinctam) меру непрерывного количества (quantitatis соп-tinuae), недостаточно численное отношение части к целому. Ибо величина какой-либо линии не становится известной из того, что она содержит четыре раза свою четвертую часть или пять раз свою пятую, ибо мы знаем лишь это о всякой величине, а меры мы так и не знаем. Ведь надо знать величину этой части, а ее можно узнать лишь с помощью ее (части) простого и неделимого [элемента]. Поэтому совершенная мера непрерывного количества не может быть найдена иначе, кроме как с помощью неделимого [элемента] этого непрерывного количества, например с помощью точки, и никакая величина не может быть в совершенстве измерена, если не известно, сколько неделимых точек она содержит. А так как их
бог оказался непосредственно соотнесенным с человеческой душой, то и время стало определяться через душу (память) и через бога (вечность). Важную роль в переосмыслении античного понятия времени сыграло то обстоятельство, что в христианстве история приобрела онтологическую реальность, какой она не имела в античности.
27 Ibidem.
476
Раздел третий
бесконечно [много], то тварь знать их не может, а может знать один только бог, который все устроил (disposuit) в числе, мере и весе» 28.
В основе этого рассуждения Гроссетета лежит аргумент, характерный именно для средневекового мышления: он не может допустить, что отрезок линии, который рассматривается Аристотелем как делимый до бесконечности, т. е. как потенциально-бесконечный (infinitum in iieri), является потенциально-бесконечным и для бога. С точки зрения Гроссетета, человек в силу несовершенства своего интеллекта пе в состоянии постигнуть бесконечное in actu, но для бога дано сразу, в одном акте то, что человек осуществляет лишь шаг за шагом, т. е. бог постигает актуально-бесконечное. Таким образом, потенциально-бесконечное у Гроссетета оказалось низшим видом бесконечности, доступным только человеку. Истинно бесконечным является для него актуально-бесконечное. Потенциально-бесконечному здесь противостоит не единое, как у пифагорейцев, Платона и Аристотеля, а актуально сущее бесконечное множество единиц (моментов времени, точек пространства и т. д.).
Экстенсивная и интенсивная бесконечности и проблема движения в средневековой физике. При рассмотрении проблемы* движения средневековые ученые исходили из двух важнейших положений перипатетической физики: во-первых, всякое движение предполагает двигатель; во-вторых, всякое движимое оказывает сопротивление двигателю, которое должно быть преодолено, чтобы движение началось, и постоянно преодолеваемо, чтобы движение затем сохранялось. Эти два исходных положения формулировались так: 1) omne quod movetur, ab ali-quo movetur — все движущееся движимо чем-нибудь 29; 2) resistentia est causa successionis in motu — сопротивление есть причина последовательности в движении.
Первое положение означает, что всякое движение нуждается для своего возникновения и продолжения в по
28 Цит. по: Мaier А . Metaphysische llintergriinde...., S. 400.
29 «Все движущееся должно необходимо приводиться в движение чем-нибудь» — этими словами открывается VII книга «Физики» Аристотеля, посвященная теории движения.
Эволюция понятия науки в средние вока
477
стоянно действующей силе. Второе положение есть по существу другая формулировка аристотелевского тезиса о невозможности движения в пустоте: там, где тело не оказывало бы никакого сопротивления, мы имели бы не движение (motus), а мгновенное изменение (mutatio), которое происходило бы с бесконечной скоростью. Отсюда Аристотель делал вывод о невозможности допущения пустоты. Средневековые физики в качестве такого мгновенного изменения указывали на распространение света, который, по их воззрениям, не должен преодолевать никаких препятствий, ибо является особым родом «качества», не имеющим своей противоположности 30. Поэтому освещение любой среды, согласно представлениям средневековой оптики, есть мгновенный процесс (mutatio). Закон, согласно которому «все движущееся движется чем-то», дополняется в перипатетической физике другим положением, а именно что состояние покоя для своего сохранения не нуждается ни в каком «внешнем» факторе. Античная и средневековая физика, таким образом, исходит из онтологической неравноценности двух физических состояний: движения и покоя 31.
Покой имеет в известном смысле преимущество перед движением: тело покоится, достигнув своего «естественного места». Эта онтологическая неравноценность движения и покоя является в античной физике некоторой само собой разумеющейся предпосылкой, не нуждающейся в доказательствах; видимо, здесь мы имеем дело
30 Средневековая наука делила все качества на обладающие противоположностью (contrarium) и не обладающие ею. Так, «качество» движения имело своей противоположностью покой; качество теплоты — холод и т. д. Что же касается света, то ес, тественно было бы считать его противоположностью тьме. Но-согласно схоластической физике, тьма не есть нечто положительное, она лишь отсутствие света.
31 В механике нового времени вместе с введением закона инерции происходит отмена онтологической неравноценности движения и покоя. В самом деле, закон инерции гласит, что наличное в данный момент состояние тела, будь то покой или движение, не требует для своего сохранения применения какой-либо силы. Покой и движение здесь, как видим, совершенно равноценны. Приложение силы теперь считается необходимым либо для приведения покоящегося тела в движение, либо для изменения скорости его движения (для сообщения ему ускорения).
Раздел третий
с перенесением в научную теорию одной из интуиций античного мировосприятия, для которого движение вообще есть только средство обретения покоя, деятельность — средство, позволяющее затем предаться созерцанию: одним словом, состояние удовлетворенности, самодовления, достигнутой цели выше, чем состояние неудовлетворенности, стремления к чему-то другому, деятельности для достижения цели.
Далее, в согласии с Аристотелем схоластическая физика делит все движения па естественные и насильственные. К естественным движениям на земле относятся те, которые вызваны стремлением тел достигнуть своего естественного места; к естественным движениям принадлежит и круговое движение неба. Его вечность и равномерность, по Аристотелю, гарантируются «вечным двигателем». Мы уже говорили о том, что вечный двигатель, являюТций-ся у Аристотеля причиной движения неба, не может мыслиться иначе как нематериальным. Поскольку никакая конечная величина не располагает возможностью двигать что-либо бесконечное время, а бесконечной величины, по Аристотелю, не существует, то остается толь ко один путь: допустить, что бесконечный двигатель нематериален (не является величиной) и что он движет небо не как движущая причина, а как цель. Только такого рода двигатель, согласно Аристотелю, не может истощить свою силу и в состоянии вечно, т. е. на протяжении бесконечного времени, приводить в движение небесный свод. В средневековой физике проводится — па первый взгляд вполне в духе Аристотеля — различие двигателей (движущих сил) на конечные — vires fatigabiles (силы истощимые) и бесконечные— vires infatigabiles (силы неистощимые). К последним относится вечный двигатель.
Какие же изменения вносит в физику Аристотеля средневековая наука применительно как к конечным (земным) силам, так и к силе бесконечной, неисчерпаемой? В VII кн. «Физики» Аристотель устанавливает, в каком отношении находятся между собой движущая сила, сопротивление тела (которое здесь отождествляется с его весом), пройденный путь и время, в течение которого тело находилось в движении. Вот соотношение, установленное Аристотелем: «Если А будет движущее, Б — движимое,
Эволюция понятия науки в средние века
479
Г — длина, на которую оно продвинуто, Д — время, в течение которого оно двигалось, тогда в равное время сила, равная А, продвинет половину Б на двойную длину Г, а на целое Г — в половину времени Д: такова будет пропорция. И если одна и та же сила движет одно и то же тело в определенное время на определенную длину, а половину — в половинное время32, то половинная сила продвинет половину движимого тела в то же время на равную длину» 33.
Следует отметить, что Аристотель не пользуется здесь понятием скорости 34, определяя отношение между двигателем (силой), движимым (сопротивлением), пройденным расстоянием и временем. Устанавливая пропорциональную зависимость указанных четырех величин, он имеет в виду, что большая сила способна передвинуть тело па большее расстояние, поскольку она способна двигать его более продолжительное время, а не постольку, поскольку она в состоянии придать ему большую скорость.
Как полагает А. Майер, у самого Аристотеля еще нет последовательно проведенного различия между понятиями силы и энергии, как они стали различаться в физике нового времени, хотя он и сознает, что «потенция, которая может действовать более или менее длительное время, другого рода, чем движущая сила (vis motrix), величина которой при прочих равных условиях пропорциональна вызываемой ею скорости. Поэтому он постулирует, что potentia infinita (бесконечная потенция), производящая вечное движение, пе может быть величиной 35, а должна иметь имматериальную природу, иначе она произвела бы движение не бесконечной продолжительности, а бесконечной скорости» 36.
В средние века обсуждение проблемы движения сосредоточивается на вопросе о том, что возрастает пропорционально возрастанию движущей силы: продолжительность движения или его скорость? Характерно, что Аверроэс, обсуждая вслед за Аристотелем функциональную
32 Здесь неточный перевод: «а половину» следует перевести: «а на половинную длину».
33 Физика, VII, 5.
34 Это понятие Аристотель вводит в других книгах «Физики»,
35 Точнее, не может быть выражена в величине.
36 Maier A. Metaphysische llintergriinde..., S. 232 — 233,
480
Раздел третий
зависимость между четырьмя величинами, придал этой зависимости несколько иную форму: в его интерпретации отношением движущей силы к сопротивлению определяется скорость движущегося тела (а не продолжительность движения, как у Аристотеля). В результате у Аверроэса возникает затруднение: если пропорционально возрастанию потенции двигателя увеличивается скорость движимого, то отсюда следует, что вечный двигатель, поскольку он есть сила «неистощимая», должен вызывать движение с бесконечной скоростью — а такое движение исключается принципами аристотелевской физики и противоречит наблюдаемым фактам. Чтобы разрешить это затруднение, Аверроэс делает следующее допущение: движение неба обусловливается двумя двигателями: бесконечным (motor separatus) и конечным (motor coniunc-tus). Вечная продолжительность движения неба определяется первым, а его конечная скорость — вторым37. Здесь мы видим, что Аверроэс делает попытку отличить энергию (в данном случае бесконечную энергию — motor separatus)38 и конечную силу (motor coniunctus)39, посредством которой энергия преобразуется в работу (если применить здесь понятия позднейшей физики). Таким образом, уже у Аверроэса вечный двигатель Аристотеля истолковывается как интенсивная бесконечность — понятие, которое затем разрабатывается дальше в физике XIII— XIV вв.
Аристотелю вечный двигатель понадобился для того, чтобы объяснить бесконечную длительность движения неба. Но для схоластики бог есть интенсивная бесконечность потенции. Здесь налицо изменение содержания понятия, которое обусловлено переходом от античного «единого» (а вечный дцигатель Аристотеля — это физикокосмологический эквивалент «единого» Платона и платоников) к христианскому богу, который есть «virtutis infinitae in vigore». В результате такого изменения понимания бога Фома Аквинский приходит к выводу, что сила, которая может двигать небо на протяжении бесконечного
37 Maier A. Metaphysische Hintergriinde, S. 234,
38 Отделенный двигатель (лат.).
39 Соединенный двигатель (лат.).
Эволюция понятия науки в средние века
481
времени, в состоянии также двигать и тело бесконечных размеров, если бы таковое существовало, так как эта сила является интенсивно бесконечной.
Насколько здесь в самом деле идет речь об изменении содержания исходных понятий античной физики, свидетельствует возражение, которое сделал против выводов Фомы Аквинского английский аверроист Фома из Уилтона. По его убеждению, ни Аристотель, ни Аверроэс не допускали интенсивной бесконечности перводвигателя, ибо на основании аргументов разума такую бесконечность перводвигателя доказать невозможно: она может быть принята только на основании веры. Тем самым Фома Уилтонский раскрыл действительно реальную основу, на которой базировался пересмотр содержания понятия перводвигателя: это понятие истолковывалось теперь в духе христианского понимания бога. Для Аристотеля первый двигатель не может определяться как интенсивно бесконечный, ибо он не есть движущая причина (какими являются конечные двигатели, например лошадь), а*есть цель: потому его и невозможно толковать в духе механики нового времени как «бесконечную энергию». Как видим, перевод античного понятия «цели» в понятие новой физики — «энергию» был опосредован средневековой физикой, исподволь и с разных сторон размывавшей систему понятий, а главное, исходных интуиций античной науки.
Наиболее радикальное переосмысление аристотелевского понятия вечного двигателя мы встречаем у Буридана. Буридан заявляет, что для обеспечения бесконечно продолжительного движения неба нет необходимости постулировать бесконечный двигатель: эту задачу, по Буридану, мог бы выполнить и двигатель конечный40. По Буридану, споры вокруг вопроса о вечном двигателе возникли оттого, что Аристотель не указал ясно, как же все-таки двигатель осуществляет движение неба. Если он имеет бесконечную силу и движет небо активно, то почему вызываемое им движение не имеет бесконечной скорости? Чтобы избежать парадокса, связанного с допущением бесконечной скорости, Буридан различает в вечном двигателе два рода «неистощимости»: актуальную и потенци
40 Цит. по: Maier Л. Metaphysische Hintergriinde..., S. 258.
16 П. П. Гайденко
482
Раздел третий
альную неистощимость, т. е. энергию и силу. От величины энергии зависит длительность движения, от величины силы— его скорость. Энергию Буридан характеризует как «актуальную длительность».
Различие между энергией и силой двигателя проводили также Уильям Оккам (интенсивность и экстенсивность движущей силы) и Фома Брадвардин (количество и качество движущей силы). Это различие имело силу не только применительно к перводвигателю, но и по отношению к двигателям конечным. Особенно важную роль оно сыграло в теории импетуса, подготовившей почву для формулирования закона инерции.
Таким образом, в схоластической физике было разработано чуждое Аристотелю понятие актуально-бесконечного, которое теперь фигурирует наряду с признанной Аристотелем потенциальной бесконечностью. Бесконечная продолжительность движения неба — это потенциальная бесконечность; условием ее возможности является вечный нематериальный двигатель («неделимое»), который действует как причина целевая. В средневековой физике наряду с понятием бесконечной временной длительности появляется понятие бесконечной интенсивности, т. е. беско-нечностй актуальной. Это нововведение имело огромные последствия для дальнейшего развития науки.
Пересмотр аристотелевской «целевой причины». Аристотель различал два вида целевой причинности: целевая причина в сфере практической человеческой деятельности, т. е. в сфере «искусственного» или «технического» (те/мт]), и целевая причина в природе, в мире «естественного» — 9651с. Так, в сфере «искусственного» дом есть целевая причина деятельности строителя, а здоровье — цель деятельности врача. В этой сфере деятельность по построению дома опосредована сознанием действующего; цель, таким образом, выступает как некая идея в сознании, и эта идея обусловливает деятельность сознательного агента— человека.
Иначе обстоит дело в сфере природы. Здесь в качестве целевой причины,— например, для семени растения — является само «взрослое» растение, а для зародыша животного — взрослое животное. Действие такой цели не получает никакого опосредования через сознание:
Эволюция понятия науки в средние века
483
это объективная телеология, в силу которой развивается все живое: оно как бы бессознательно «стремится» к цели, являющейся его природным завершением, его «пределом» — «телосом». Стремление к пределу, который и есть форма соответствующего существа,— вот что, по Аристотелю, является движущей силой всякого органического развития. В известном смысле и вся природа в целом, включая и неорганическую, подчинена тому же принципу. В самом деле, в физике Аристотеля всякое тело «стремится» к своему «естественному месту»: тяжелое — вниз, к центру земли, легкое — вверх. И, наконец, само движение первого неба тоже вызывается целевой причиной: вечный двигатель • движет небо не механически, а в качестве цели. Равномерное и непрерывное, вечное движение небосвода — это, по Аристотелю, единственно возможный для него способ «уподобиться» совершенству вечного и неподвижного, нематериального перводвигателя, свойственный небу способ достигать своей «цели», своего «предела».
В XIII и XIV вв. аристотелевское учение о целевой причине ставится под сомнение и становится предметом обсуждения и пересмотра. Уже само деление на естественное и искусственное не может не вызвать возражений со стороны христианской теологии. Для Аристотеля естественное — это то, «что носит в самом себе начало движения и покоя, будь то по отношению к месту, увеличению и уменьшению или качественному изменению»41. Для христианской теологии такого «естественного» вообще не существует: поскольку природа есть творение бога, то «начало ее движения и покоя»—не в ней самой, а в творце. Средневековая схоластика рассматривает творение — в соответствии с ортодоксальным учением церкви — не как однократный акт, продолжавшийся в течение шести дней, как об этом сообщает книга Бытия, а как постоянный и непрерывный процесс: бог постоянно творит мир, ежеминутно и ежесекундно. Существование мира и творение его богом — тождественные понятия. В дальнейшем мы увидим, какие неожиданные последствия Для развития науки и научного метода исследования,
41 Физика, II, 1.
16*
484
Раздел третий
характерного именно для нового времени, имело это представление о творении.
Ясно поэтому, что средневековый философ видит различие между естественным и искусственным совсем не там, где видел его философ и ученый античности: для схоластики естественное — это то, что создано бесконечным творцом, а искусственное — то, что создано человеком, творцом конечным. И подобно тому как создание дома или плаща опосредовано соответствующей «идеей» в сознании человека, так и создание камня, дерева или животного опосредовано идеей в божественном интеллекте. Для осуществления идеи (цели), имеющейся в голове человека, ему нужны определенные средства, с помощью которых он материализует свой идеальный план. Эти средства представляют собой уже «действующую причину», или, по Аристотелю, причину механическую. Следовательно, и творцу всей природы нужны соответствующие «средства», «действующие причины», для осуществления «идей» божественного ума.
Вот почему схоластическая физика ищет именно действующие причины там, где Аристотель считал достаточным указать на причины целевые. Такого рода тенденцию можно заметить уже у Дунса Скота, но особенно она усиливается в XIV в. Наиболее ярким выразителем этой тенденции был Жан Буридан (ум. около 1358 г.). В своих «Questionen» и в Комментарии к «Физике» Буридан заявляет, что в мире не существует никакой целевой причины, а природная связь явлений определяется лишь действующими причинами. Однако это его заявление нуждается в пояснении, ибо речь здесь идет не об отмене всякой цели, а об отмене целевой причины, как ее понимал Аристотель, т. е. объективной телеологии.
Так, например, Буридан не отрицает, что «естественное место» и состояние покоя, обретаемое телом по достижении естественного места, есть «цель», побуждающая его либо падать вниз, либо двигаться вверх в зависимости от того, тяжелое оно или легкое. Но указания на эту цель отнюдь не достаточно для объяснения движения тел. Нужно обязательно найти соответствующую движущую причину, которая и производит его движение в собственном смысле слова.
Эволюция понятия науки в средние века
485
Поиски движущей причины — это то, что сближает средневековую физику с физикой нового времени. Правда, направление, по которому пошла поздняя схоластика в своем поиске движущих причин, существенно отличает ее от механики нового времени. А именно, схоластика везде стремится открыть некоторого «деятеля» (agens), или «силу» , которая и является ближайшей действующей причиной. Эти «силы» вызывают перемещения тел, качественные изменения в них и т. д. Так, в неорганической природе имеются следующие «силы»: теплота и холод, влажность и сухость (так называемые первые качества) и тяжесть и легкость (так называемые качества движения). Всякий «деятель» есть субстанция, действующая через свои качества, а последние являются инструментами субстанциальных форм. «Субстанции», «субстанциальные формы» ит. д., в которых не нуждался Аристотель, вводятся в средние века именно для того, чтобы поставить на место целевой причины причину действующую. Сами по себе субстанции тоже могут возникать и уничтожаться, но это происходит только благодаря непосредственному воздействию на них «интеллигенций», которые движут небо и в свою очередь являются «инструментами» бога.
Возникает вопрос, откуда в средневековой теологии и физике появляются понятия скрытых «деятелей», субстанциальных форм, сил и т. д.— в античной философии и науке, в том числе у античных перипатетиков, еще нет этих понятий. Не только в XIV в., но значительно раньше, в IV в., у греческого богослова Каппадокийской школы Григория Нисского мы встречаем рассуждение, которое проливает свет на интересующий нас вопрос. «Если бог не материален,— пишет Григорий,— то откуда материя? Каким образом возникает количественное из неколичественного, видимое из невидимого, определенное величиной и объемом из не имеющего величины и определенного очертания, и все прочее, усматриваемое в материи, — как и откуда произвел Тот, Кто не имеет ничего подобного в своей природе?» 42. Григорий пытается объяснить материальное начало таким образом, чтобы
42 Цит. по: Несмелое В. Догматическая система святого Григория Нисского. Казань, 1887, с. 339—340.
4<86
Раздел третий
можно было «вывести», «получить» его из нематериального, божественного начала. Как же он достигает этого? «Путем анализа понятия вещества,— пишет исследователь богословской системы Григория В. Несмелов,— Григорий приходит к выводу, что веществом мы собственно называем только сумму признаков, под которыми является для нас каждое материальное тело. Прежде всего мы называем телом то, что имеет цвет и вместе с ним некоторое пространственное очертание, а потом уже мягкость, упругость, твердость, легкость, запах и тк д. Это показывает, что каждый материальный предмет не есть что-либо простое по своей природе, а слагается из взаимодействия нескольких качеств или сил, и пока эти силы действуют вместе, предмет существует, а как только взаимодействие порвано, он исчезает, и вместо него остаются только составляющие его силы» 43.
Григорий, таким образом, уничтожает'понятие вещества и превращает материальный мир в процесс взаимодействия сил, нематериальных по своей природе. Всемогущая божественная воля, согласно объяснению Григория, творит эти нематериальные силы, которые у Бури-дана выступают уже в преобразованном виде — в виде «деятелей», т. е. орудий божественной воли. Так, в схоластической физике всякая действующая причина оказывается в конечном счете механическим средством, которое служит для осуществления идей, содержащихся в божественном уме.
Это серьезный отход от античного понимания природы, каким оно было в аристотелевской физике. Если для Аристотеля целевая причина в природном мире — это то, к чему «влечется» всякое природное сущее без всякого опосредования сознанием, то схоластика (Буридан) рассматривает цель как то, к чему стремится какая-либо воля (божественная или человеческая), а она может действовать только опосредованно — через сознание, реализующее эту цель с помощью действующих причин.
Понятно, что при таком подходе затруднение возникает прежде всего при объяснении явлений органической
43 Цит. ио: Несмелов В. Догматическая система святого Григория Нисского. Казань, 1887, с. 340.
Эволюция понятия науки в средние века
487
природы. Так, Буридан ставит следующий вопрос: является ли выведение птенцов «причиной» витья гнезд птицами? Является ли будущее растение «причиной» для тех процессов, которые происходят в семени? Может ли причина, таким образом, быть не раньше, а позже следствия? II отвечает на него отрицательно: нет, не может 44. Так же, как появление листьев и цветов, рассуждает Буридан, каузально не может зависеть от плодов, которых еще нет, а наоборот: плоды целиком зависят от листьев и цветов, точно так же спаривание птиц и витье ими гнезд не может иметь своей причиной цель, а именно выведение птенцов. Это поведение птиц определяют не будущие птенцы (т. е. то, чего еще нет), а только их природный инстинкт, который Буридан отождествляет с действием неорганических природных сил, а также небесные тела, без влияния которых, как убежден Буридан, не могут происходить никакие природные процессы. А за всем этим в конечном^ счете стоит сам бог, и о цели можно говорить только как о «представлении», имеющем место в божественном интеллекте. «Буридан, — пишет А. Майер,— радикально исключает causae finales (целевые причины) и хочет осуществить объяснение природы только с помощью causae efficientes (действующих причин)» 45.
Как видим, первые шаги на пути к механистическому объяснению мира были сделаны в эпоху поздней схоластики. В средние века, таким образом, подготавливается целый ряд предпосылок науки нового времени: понятие пустоты, бесконечного пространства, бесконечного движения по прямой линии, а также требование устранить из объяснения, даже живой природы, телеологический принцип и ограничиться действующими причинами.
Однако еще очень многое отделяет средневековую науку от науки нового времени. Понадобилось целых два столетия, и столетия очень бурного развития научного и общественного сознания, чтобы все то, что было подготовлено в средневековой физике и космологии, смогло принести свои плоды в творчестве Галилея, Ньютона
44 Maier A. Metaphysische Hintergriinde..., S. 318.
45 Ibid., S. 331.
488
Раздел третий
и Декарта. Должна была произойти настоящая революция в мировоззрении и сознании средневекового человека, обусловленная радикальными переменами в социально-экономической жизни европейского общества, чтобы на место божественного творца встал творец-человек. Эта революция происходила в XV и XVI вв. Она и привела в конечном счете к полной перестройке научного мышления, закончившейся отменой старых античных научных программ и созданием новых. Но без тех накоплений, которые дала средневековая наука, так же как и без того изменения в понимании человека и космоса, которое внесло христианство (а оба эти момента непосредственно связаны друг с другом), невозможно представить себе научной революции, положившей начало новой эпохе в становлении научного знания.
Новые тенденции в понимании механики. Важный шаг в переосмыслении понятия механики был сделан уже в XIV в. В этот период выявилась тенденция к преодолению характерного для античности противопоставления естественного, с одной стороны, и искусственного, созданного человеком — с другой. А для античного мышления именно с этим противопоставлением было связано ,характерное разделение на науку и технику. Это разделение жестко проводилось не только в континуа-листской программе Аристотеля, но и в математической программе Платона и пифагорейцев. И хотя, как известно, уже Архит решал математические задачи с привлечением механики, а в эпоху эллинизма, особенно у Архимеда, Герона и Паппа, мы видим разработку и по существу создание одной из областей механики — статику, тем не менее ни в античности, ни даже в эпоху эллинизма не возникла механика как наука в том виде, в каком мы ее находим в XVII в.
Физика (<роб1хт| согласно древним, рассма-
тривает «природу» (<рэ5сс) вещей, их сущность, их свойства, движения и рассматривает так, как они существуют сами по себе. Механика (p^q/avix-ij те/vv]) — это искусство, позволяющее создавать инструменты для осуществления таких действий, которые не могут быть произведены самой природой. Механика для древних — это вовсе не часть физики, а особое искусство построения мдщин;
Эволюция Понятия науки в средние бека 489
оно не может добавить ничего существенного к познанию природы, ибо представляет собой не познание того, что есть в природе, а изобретение того, чего в самой природе нет. Само слово [xvj/dvT] означает «орудие», «приспособление», «ухищрение», «уловка» — независимо от того, идет ли речь о технических сооружениях или об «уловке» («интриге») в человеческих отношениях: важно только то, что с ее помощью достигается решение задачи, которая не могла бы быть решена, если бы течение событий было предоставлено самому себе 46.
Что же именно относили греки к механике? Гемин (I в. до н. э.) и Папп (III—IV вв. н. э.) перечисляют следующие виды античной техники: строительное искусство, создание подъемных кранов, искусство строительства защитных укреплений, строительство ирригационных сооружений — обводнения и осушения земель, искусство создания чудесных машин, или «чудес», искусство создания водных и солнечных часов, а также конструирования сфер, прежде всего планетариев. К механике Прокл относит также искусство нахождения равновесия и центра тяжести — вообще «всякое искусство приводить материю в движение»47.
Для античности механика начиная с V в. до н. э. была и осталась средством «перехитрить» природу, но не средством познать ее. У Платона, и тем более у Аристотеля, природа рассматривалась как органическое единство, как целое, что вполне соответствовало общегреческому отношению к космосу как к живому существу. Поэтому и сущность отдельного явления или процесса воспринималась не изолированно, а должна была быть понята в системе целого. Этому не помешало и то обстоятельство, что платоновский демиург («Тимей») предстал как божественный строитель: прежде чем создать космос, демиург сотворил космическую душу — то, что прин- 48
48 Не случайно греческое слово H7)X°tvTl, так же как и ег0 латинский аналог (ingenium), первоначально переводилось на славянский язык как «хитрости», a piT)xavix6<; — как «хитрец». В романских языках этому понятию соответствует происходящее от латинского ingenium слово ingenieur (инженер).
47 Proklus Diadochus Euklid-Kommentar, S. 192.
490
Раздел третий
ципиально не в состоянии сделать никакой «механик»48. А душа-то как раз и является посредницей между «умом»-демиургом и «телом»-космосом.
В то же время и механика в качестве прикладной математики, как она выступала, например у Архита, не встретила поддержки у Платона. Он целиком признавал ее в качестве полезного искусства (и даже, как известно, сам изобрел водяной будильник), но совершенно отвергал ее как науку, так как считал невозможным применительно к материальному миру строгое математическое познание. Таким образом, ни в рамках математической программы, ни тем более в рамках континуализма Аристотеля механика не могла быть принята как наука о природе.
Что же касается третьей научной программы — атомизма, то она по своему характеру скорее всех других могла бы увидеть в механике науку. Но в силу отмеченных нами особенностей античного атомизма этого не произошло. Характерно, что по мере того, как средневековая схоластика подготавливала снятие противоположности между природным и техническим, возрастал и интерес к атомизму; этот интерес особенно усиливается в эпоху Возрождения по мере того, как новое представление о космосе открывает и новые перспективы для механистической картины мира, как ее создал еще античный атомизм.
Конечно, переосмысление природы, которое мы находим, например, у Буридана, далеко не сразу могло привести к выводу о том, что мир — это машина в руках бога-механика. Мир становится машиной, а соответственно и механика — главной отраслью физики только к XVII в. Но предпосылки этого переворота исподволь подготавливаются уже в XIV в. Следует заметить, что многие из творцов механики нового времени, в том числе Ньютон и Лейбниц, были также и теологами 48 49. И в
48 Не случайно и в эпоху Возрождения натурфилософы-платоники с резкой враждебностью относились к механистическим тенденциям и нередко критиковали схоластику за непонимание ею стихии душевного и органического, т. е., как ни парадоксально, за механицизм.
49 Это обстоятельство отмечает Э. Мах в своей истории развития механики: «Человек беспристрастный не усомнится в том, что
Эволюция понятия науки в средние века
491
этом вряд ли следует усматривать только случайное совпадение. Такие ученые XVII в., как Декарт, Гюйгенс, Ньютон, Лейбниц и другие, имели много точек соприкосновения со средневековой теологией: природа была для них творением бога (отсюда характерная для XVII в. идея «первотолчка», которым бог привел мир в движение)50. Между природой, которая понималась ими как machi-na mundi (машина мира), и механиком-богом не было тех «посредствующих звеньев», какие, например, натурфилософия эпохи Возрождения унаследовала от Платона. Как известно, для мышления Декарта не было более чуждых понятий, чем «душа» или «жизнь». В период, когда велась острая борьба против всякого рода телеологии, эти понятия так же отовсюду изгонялись, как и понятие «цели», «целевой причины» по отношению к природе: «душа» и «жизнь» в античных научных программах осмыслялись с помощью категории «цели» (теХо;).
Q точки зрения эволюции науки изменение статуса механики имеет принципиальное значение. Только после того, как изобретенные человеком инструменты стало возможным рассматривать не как нечто инородное по отношению к природе, не как «искусственное», а как однородное с природой, тождественное с ней, открылась возможность видеть в эксперименте средство познания природы. До тех пор всякий эксперимент в принципе мог рассматриваться как нечто созданное, построенное человеком, подобно любой машине, т. е. как техническое ухищрение, кунстштюк, результаты которого, так же как и результаты разных «чудес» и «фокусов», демонстрируемых искусными «инженерами», к научному познанию природы отношения не имели. Как хорошо известно из истории науки, не случайно представители перипатетической физики даже в XVI в. не считали средством
эпоха, на которую приходится главным образом развитие механики, была настроена теологически. Все сводилось к вопросам теологическим и на все эти вопросы имели влияние» (Мах Э. Механика: Историко-критический очерк ее развития. СПб., 1909, с. 380).
50 Идею первотолчка, с помощью которого бог привел в движение мир, первым высказал средневековый теолог Ж. Буридан.См.: Maier A. Metaphysische Hintergrunde..., S. 266.
492
Раздел третий
познания природы первые телескопы, применявшиеся, в частности, также и Галилеем,— для них такого рода изобретения были сродни «чудесам» обычной техники, и в научном споре аргументы, полученные путем наблюдения за небесными светилами через телескоп, во внимание не принимались.
Размывание границ между физикой как познанием природы и механикой как искусством «обмануть природу» создавало одну из важнейших предпосылок для появле-ния эксперимента, который лег в основание науки нового времени. Но это только одна предпосылка. Не менее важной второй предпосылкой возникновения эксперимента было создание условий для точного измерения. Измерение определенных параметров исследуемого природного явления входит необходимым компонентом в состав эксперимента. В науке вплоть до эпохи Возрождения всякое точное измерение природных процессов считалось невозможным. Это еще одна особенность, общая для античной и средневековой науки; ни в одной из античных научных программ не допускалось точного измерения всего, в чем присутствует материя. Точной наукой поэтому могла быть только математика: физике в этом было принципиально отказано. А математика в эпоху античности и средних веков даже не пыталась осуществить измерение каких бы то ни было природных процессов, так как точность рассматривалась исключительно в качестве характеристики идеальных объектов. Даже движение небесных тел, которое изучала одна из ветвей математики, астрономия, уже не признавалось как объект чистой математики, здесь всегда допускались определенные погрешности, ибо измерение в астрономии обязательно, а измерение всегда по необходимости неточно51. Поэтому даже небесные тела, при всей их «идеальности» по сравнению с земными, уже потому, что они являются телами, т. е. наделены пусть даже тончайшей, но материей, не могут 61
61 Как мы уже отмечали, вопрос о возможности найти истинную меру для всех величин, а тем самым вопрос о возможности абсолютно точного измерения ставил в XIII в. Гроссетет. Но попытка его была зачеркнута им самим: он был убежден, что истинная мера известна одному лишь богу.
Эволюция понятия науки в средние века
493
удовлетворить строгим требованиям точнейшей из наук — математики. Не случайно именно с астрономии начинается то движение математизации физики и физикализации математики, которое в конечном счете завершается созданием математической физики нового времени. Следовательно, не случайно у истоков науки нового времени стоят астрономы — Коперник, Кеплер, Галилей.
Николай Орем и попытка «реабилитации» несоизмеримого. Одним из характерных направлений, в которых шло переосмысление исходных понятий античных научных программ, было предпринятое Николаем Оремом исследование проблемы несоизмеримости. В своем «Трактате о соизмеримости или несоизмеримости движений неба», написанном в середине XIV в., Орем ставит под сомнение одну из ключевых интуиций всей античной культуры (а не только науки) — интуицию о преимуществе предела перед беспредельным, единого — перед бесконечным, космоса — перед хаосом б2. Эта интуиция первоначально вошла через неоплатонизм и в христианское мышление; однако, как мы уже отмечали, в христианской теологии были мотивы, несовместимые с античной философией. Но в то же время принципы научного мышления, нашедшие себе выражение в математике и физике древних и затем заимствованные средневековой наукой, были тесно связаны с этой исходной интуицией античного сознания.
Трактат Орема интересен в том отношении, что на его примере легко видеть, как по мере того, как эта античная интуиция теряет для средневекового мыслителя свою убедительность, свою «непосредственную достоверность», происходит и пересмотр фундамеиталт пых понятий античной науки. Работы Орема вообще имеют большое значение для подготовки науки нового времени. Так, в своем трактате «Об отношении отношений» он формулирует новую для математики XIV в. идею дробных показателей, чуждую духу античной математики. В работе «О конфигурации качеств» он рассматривает равномерные и ускоряющиеся движения и вводит при этом графические схемы, 52 * *
52 Согласно пифагорейскому изречению, «зло есть свойство беспре-
дельного, а добро — определенного (или ограниченного)»:
(Аристотель. Никомахова этика, II, 5, 1106 в).
494
Раздел третий
расцениваемые историками науки как «первое приближение к системе прямоугольных координат» 53.
Но наиболее интересным с точки зрения эволюции античных научных программ под влиянием средневековой культуры является Оремов «Трактат о соизмеримости или несоизмеримости движений неба». Здесь Орем рассматривает два предположения: движения небесных тел соизмеримы друг с другом и альтернативное ему — движения их несоизмеримы, а затем указывает, какие следствия вытекают из каждого из этих предположений. При этом Николай Орем исходит из основных принципов геометрии Евклида, на которого многократно ссылается в своем трактате. В каком смысле говорит Орем о соизмеримости или несоизмеримости движения небесных тел? «Соизмеримость и несоизмеримость движений (круговых) мы определяем либо по величине углов, описанных вокруг центра или центров, либо по числу оборотов, так что обладают соизмеримыми движениями те тела, которые либо в равные времена описывают соизмеримые углы или окружности, либо совершают или заканчивают свои обороты в соизмеримые времена. А несоизмеримыми движениями являются те, которые заканчиваются в несоизмеримые времена и на протяжении которых описываются за равные промежутки времени несоизмеримые центральные углы. Соответственно такого рода мере определяются и имеют место конъюнкции, противостояния и прочие аспекты, и все движения, которые усматриваются астрономами на небе...» 54
При этом Орем в полном соответствии с античной и средневековой традицией четко различает математическую науку и науку астрономическую. Первая исходит из совершенно определенных и точных понятий, поскольку она имеет делЬ с идеальными объектами; вторая же, поскольку ее объекты причастны материи, может давать
13 Зубов В. П. Николай Орем и его математико-астрономический трактат «О соизмеримости или несоизмеримости движений неба».— В кн.: Историко-астрономические исследования, М., 1960, вын. VI, с. 302.
84 Орем*Николай. Трактат о соизмеримости или несоизмеримости движений неба/Пер. В. П. Зубова.— В кн.: Историко-астрономические исследования, вып. VI, с. 320.
Эволюция понятия науки в средние века
495
лишь приблизительное знание и не претендует на математическую точность и непогрешимость своих результатов. Астрономы, как говорит Орем, заботятся «лишь о том, чтобы ие было ощутительной погрешности, хотя незначительная неощутимая ошибка, будучи умножена на время, и создает погрешность заметную»55. Следует обратить внимание на важную деталь, лишний раз показывающую, как средневековая наука относится к возможностям точного измерения: погрешность, разъясняет Орем, абсолютно неизбежна там, где производится измерение; никакое измерение не может быть точным, а потому оно и несовместимо с единственной точной наукой — математикой. «...Астроному,— пишет он, — достаточно, что конъюнкция происходит в таком-то градусе, или в такой-то минуте, или секунде и т. д., хотя он и не знает, в какой именно точке этой минуты, иначе говоря, с него достаточно, что погрешность его не улавливается глазом при помощи какого-либо инструмента» 56. Поэтому Орем считает, что «полная точность в отношении всех движений неба не может быть достигнута при помощи никаких таблиц...» 57.
Что касается его исследования соизмеримости или несоизмеримости движений неба, то оно может быть только строго математическим, ибо, как ясно уже из приведенных соображений Орема, с помощью астрономических измерений, имеющих лишь приблизительный характер, этот вопрос обсуждать невозможно. Поэтому и последнее решение вопроса о том, какое из двух допущений справедливо (т. е. соизмеримы ли движения неба или нет), может быть дано не с помощью опыта и измерения, а исходя из умозрительных соображений. Здесь мы имеем дело с той самой установкой, которой руководствовались и позднейшие физики, и астрономы вплоть до XVI в., отвергая наблюдения, сделанные Галилеем с помощью подзорной трубы как не имеющие никакого значения для решения теоретических вопросов науки.
Итак, Орем имеет дело с произвольными допущениями: 1) движение небесных тел соизмеримо; 2) по крайней 66 *
66 Там же, с. 320—321.
56 Там же, с. 350 (курсив мой.— П.Г.).
57 Орем Николай. Трактат о соизмеримости, с. 326.
496
Раздел третий.
мере некоторые из движений небесных тел несоизмеримы. Он доказывает лишь логическую и математическую возможность обоих альтернативных допущений. А именно, поскольку существуют пропорции совместимые и несовместимые б8, то и движения — их скорости или величины описываемых ими углов — относятся друг к другу как совместимые или, напротив, несовместимые пропорции и могут быть соизмеримы или несоизмеримы.
Какие же следствия вытекают, по Орему, из этих разных, казалось бы, равно вероятных допущений? Если движения небесных тел соизмеримы, то «любое тело, перемещающееся несколькими движениями, взятое само по себе, имеет известный период, по прошествии которого этот последний возобновляется вновь, и так до бесконечности. Его можно назвать великим годом этого движущегося тела. Аналогично любые два движущихся тела, взятые вместе, совершают свое течение за определенный период времени, по прошествии которого они вновь начинают его, как прежде. И так же следует сказать о трех, четырех и любом числе тел. И можно назвать это их великим годом. Так, некоторые доказывают в отношении солнца и восьмой сферы, что великий год их составляет 36 000 солнечных лет... Коротко говоря, если все движения неба друг с другом соизмеримы, необходимо, чтобы все вместе составляли один максимальный период, по прошествии которого он возобновлялся бы, но не тот же, а сходный, бесконечное число раз, если бы мир был вечным» б9.
Одним словом, если движения неба соизмеримы, то «нет ничего нового под луной», а вечно происходит «возвра
68 «Пропорции называются несовместимыми, когда нет двух совместимых (т. е. измеряемых каким-либо определенным числом.— П. Г.) чисел, из которых одно принадлежало бы одной пропорции, а другое — другой; таковы, например, пропорция, соответствующая отношению 2 к 1, т. е. 1, 2, 4, 8 и т. д., и пропорция, соответствующая отношению 3 к 1, т. е. 1, 3, 9, 27 и т. д. Совместимыми же являются те пропорции, в которых какое-нибудь число одной пропорции является совместимым с числом другой. Таковы, например, пропорция, соответствующая отношению 2 к 1, и пропорция, соответствующая отношению 4 к 1» (Орем Николай. Трактат о соизмеримости, с. 319).
69 Там же, с. 347—348.
Эволюция понятия науки в средние века
497
щение равного», вечный круговорот одного и того же, как говорили античные мудрецы, впервые рассчитавшие, как о том свидетельствует предание, величину мирового года — 36 000 солнечных лет. Отсюда понятно древнегреческое и древнеримское отношение к истории; последняя не представляет для греческого философа метафизического и теоретического интереса, ибо она имеет дело с тем, что «случается», а не с тем, что «всегда есть». Ни одна из научных программ античности не обращается к истории как к области, из которой можно узнать что-либо об истинно-сущем. В этом отношении исключения не составляет даже Аристотель, который более всех других античных теоретиков науки был чуток к сфере фактического, эмпирического. Но даже он, сравнивая поэзию и историю, пишет следующее: «... историк и поэт отличаются... тем, что первый говорит о действительно случившемся, а второй — о том, что могло бы случиться. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, а история — о единичном. Общее состоит в том, что человеку такого-то характера следует говорить или делать по вероятности или по необходимости,—к чему и стремится поэзия, придавая (героям) имена; а единичное, например, что сделал Алки-виад или что с ним случилось» 60. Именно потому, что история имеет дело с однократным, а стало быть, единичным явлением, она не представляет интереса для научно-теоретического мышления, имеющего дело с общим. Такова установка всей античности по отношению к истории.
Христианство отличается от античности именно тем, что для него однократное (единичное) событие благодаря соединению божественного (аналог «общего») с человеческим (аналог единичного) в лице богочеловека Иисуса Христа, т. е. благодаря воплощению божественного в человеческом приобретает значение всеобщего. В результате однократное событие истории — прежде всего смерть и воскресение Христа — становится вселенско-космическим фактором, меняющим характер не только земного, человеческого бытия, но являющимся также событием и в сфере божественного. Вечное — божественное и природное — и человеческое — историческое и преходящее —
60 Аристотель. Поэтика, 9, 1451в/Пер. В. Г. Аппельрота.
498
Разцел третий
соединяются в христианском мировосприятии, они уже не представляют собой две разнопорядковые реальности, а тесно связаны между собой. Поэтому земные исторические события, несмотря на свою однократность (и даже именно благодаря своей однократности), приобретают символический характер и соотносятся со сферой небесного, божественного. История, таким образом, получает совершенно новое значение — она становится важнейшим предметом научно-теоретического осмысления.
Все это и сказалось на способе рассуждения Орема. В отличие от античных философов его пе только не радует, но, напротив, подавляет мысль о вечном возвращении одного и того же. «...Если все движения небес соизмеримы, необходимо тем же одинаковым движениям и действиям повторяться до бесконечности, при условии, что мир существовал бы вечно. Равным образом, необходимо быть тому великому году, который вообще перед очами божества есть словно минувший день вчерашний, даже меньше. Вот почему более отрадным и совершенным кажется и более подобающим божеству, чтобы не столько раз повторялось одно и то же, но чтобы всегда появлялись новые и несходные с прежними констелляции и разнообразные действия, дабы тот длинный ряд веков, который подразумевал Пифагор под «золотой цепью», не замыкался в круг, но уходил без конца по прямой всегда вдаль» 61.
Во всей научной литературе эпохи средневековья трудно найти более поразительный пример смены установок: круг, для античности воплощенное совершенство, оказывается крепко-накрепко спаянным с идеей вечного возвращения равного (образ змеи, кусающей свой хвост), и потому средневековый мыслитель отменяет подобное понимание совершенства: более отрадным и подобающим божеству он считает не круг, а бесконечное движение вдаль, бесконечную линию, бесконечную прямую — образ, всегда вызывавший отвращение у античных философов, ибо для них бесконечная прямая — символ дурной бесконечности, беспредельности, а значит, хаоса, господства материи над формой. Здесь по существу уже создаются мировоззренческие пред
61 Орем Николай. Трактат о соизмеримости, с. 382 (курсив мой.— П. Г.).
Эволюция понятия науки в средние века
499
посылки идеи бесконечной вселенной. А ряд веков может бесконечно уходить вдаль только при условии, если небесные движения будут несоизмеримы. Ибо если в результате соизмеримости движений небесные тела по истечении определенного периода возвращаются к прежнему взаимному расположению, то при несоизмеримости движений возвращение к прежнему состоянию уже невозможно. «Если два движущихся тела, перемещающихся несоизмеримыми друг с другом движениями, теперь находятся в конъюнкции, они больше никогда не окажутся в конъюнкции в той же точке» 62. Конъюнкция двух таких тел будет иметь место каждый раз в новой точке круга, а если принять, что движение неба происходит вечно, то «не будет ни одной столь малой части круга, в какой-нибудь точке которой не происходила бы когда-нибудь в будущем конъюнкция...» 63. И при этом каждый раз конъюнкция будет иметь место в новой точке, ибо точек деления круга — бесконечное множество.
В результате три или большее число небесных тел в любой момент будут иметь такое взаимное расположение, которого они никогда не имели прежде и не будут иметь впредь: налицо торжество однократности и неповторимости каждого исторического (ибо теперь космическое уравнивается с историческим) момента времени й человеческой жизни. «И если констелляции являются причинами подлунных действий и эффектов, расположение непрерывно будет такое, что никогда оно не окажется одинаковым в нашем мире. И поскольку важнейшие аспекты связаны с определенным видом вещей, не представляется недопустимым с физической точки зрения, что одна большая конъюнкция планет, которой никогда не было и не будет подобной, производила бы нечто индивидуальное, чему не будет подобного по виду и что начнет быть чем-то новым и невиданным, либо субстанциально, либо акцидентально» 64.
Здесь Орем не вполне ортодоксален с точки зрения христианской теологии: как мы знаем, Августин в свое время резко выступил против соотнесения судеб человече-
82 Там же, с. 350.
83 Орем Николай. Трактат о соизмеримости, с. 350.
64 Там же, с. 362.
500
Раздел третий
ской жизни и вообще исторических событий с расположением небесных светил, т. е. против астрологии, ибо последняя несовместима с учением о свободе воли. Что касается Орема, то он, как и многие другие представители средневековой науки, не чужд астрологии, которая была в тот период (как, впрочем, и в античное время) связана с астрономией. Интересно, однако, что внутренняя мотивировка оремовых рассуждений при этом глубочайшим образом связана с христианским отношением к однократному и неповторимому, т. е. индивидуальному событию, и если он при этом грешит против учения о свободе воли, то в своем предпочтении нового вечно повторяющемуся он выражает дух исторического, вошедший в мир вместе с христианством. Таким образом, допущение несоизмеримости движений хотя бы некоторых из небесных тел позволяет объяснить возможность появления нового, никогда ранее не виданного и чему не будет ничего подобного никогда впредь. Именно потребность онтологического обоснования возможности нового приводит Орема к переоценке понятия несоизмеримости: оно не только не вызывает отрицательного отношения у Орема, но, напротив, «есть нечто утешительное», поскольку «новизна более радует», а «однообразие рождает скуку» 6б.
Характерно, что свой трактат Орем заканчивает спором между двумя науками: арифметикой, защищающей тезис, что все движения неба соизмеримы, и геометрией, защищающей положение, что некоторые из них несоизмеримы. Спор этот так и не разрешается в пользу той или другой из этих наук. Аполлон, который должен был произнести окончательный приговор, не успевает этого сделать: автор просыпается раньше, чем успевает услышать приговор; оказывается, вся тяжба между арифметикой и геометрией велась во сне.
Сама незавершенность спора указывает на то, что в XIV в. были еще равно сильны обе тенденции в научном мышлении: тенденция, идущая от античной науки, давшей христианской цивилизации арифметику, геометрию, астрономию и оптику, а вместе с ними и через них’также и теоретическое осмысление принципов самого научного зна-
85 Орем Николай. Трактат о соизмеримости, с. 382.
Эволюция понятия науки в средние века
501
ния, и тенденция, идущая из недр самого средневекового духа, рожденная в лоне христианской теологии и возникшего вместе с ней понимания мира. Только в XIII и XIV вв. обе эти тенденции по-настоящему столкнулись, и только тогда начался пересмотр оснований научных программ античности.
Античное миросозерцание представляет у Орема Арифметика. У нее несоизмеримость вызывает ощущение «некоего неблагообразия, каковое неприлично приписывать вечным движениям, дабы таковым столь великим безобразием и непристойностью не была запятнана красота неба. И такая диспропорция оскорбляет не только чувство, но и интеллект, коль скоро согласно 10-му положению II книги Евклида при вычитании одной несоизмеримой величины из другой возникает некая бесконечность, при созерцании которой мысль становится тупой, ум теряется, ибо этот непостижимый хаос бесконечности делает души ленивыми и печалит их» вв.
На это Геометрия возражает, что бесконечность, порождаемая иррациональностью, не только не печалит душу и не отупляет ум, но, напротив, привлекает и радует, ибо «небесное сияет гораздо большей и шире простирающейся красой (античное замкнутое небо тесно для средневекового ученого XIV в.— П. Г.), если тела соизмеримы и движения несоизмеримы или если одни движения соизмеримы, другие же несоизмеримы, хотя каждое из них равномерно, нежели в том случае, если все они соизмеримы. Тогда, при сочетании иррациональности и равномерности, равномерность разнообразится иррациональностью» 66 67.
Спор о несоизмеримости имеет и еще один аспект: допущение несоизмеримости хотя бы некоторых движений небесных тел снимает принципиальное для всей прежней науки различение небесного и земного. Так, в качестве одного из аргументов в пользу соизмеримости Арифметика приводит следующий: «Если нечто у нас иногда пропор-ционируется в несоизмеримых отношениях вследствие своей непрерывной изменчивости, это случается, говоря
66 Орем Николай. Трактат о соизмеримости, с. 370 (курсив мой.— П. Г.).
п Там же, с. 379 (курсив мой.— 77. Г.).
502
Раздел третий
словами Аристотеля, потому только, что дольнее полно смятения из-за своей удаленности от божественного блага, т. е. от божества, которое такого порядка не допускает у себя на небесах»68.
Как видим, уже средневековый номинализм, представителем которого является также и Орем, склонен отменить ту непереходимую грань между земным и небесным, которая составляла одну из важнейших предпосылок как античной математики, так й античной физики. Видимо, интерес к третьей научной программе античности (а именно к атомизму), который возрождается в XV и особенно в XVI в., не в последнюю очередь определяется тем, что это единственная из программ древней науки, в которой нет столь принципиального разграничения небесного и земного.
Таким образом, развиваясь на базе научных программ, сложившихся в античной Греции, средневековая наука постепенно разрушала предпосылки этих программ, тем самым подготовляя почву для формирования науки нового времени. В первую очередь критическому анализу средневековых теологов и физиков подверглись некоторые исходные понятйя аристотелевской физики и космологии. Не остались без пересмотра и основания математической античной программы, как мы это видим у Гроссетета, с одной стороны, и у Орема — с другой.
Особенно важную роль для дальнейшего развития науки имела трансформация, которой подверглось понятие бесконечного: ведь именно в средневековой физике при рассмотрении движения появляется впервые понятие бесконечно большого тела, бесконечно удаленной точки, а также понятие экстенсивной и интенсивной бесконечности. Не менее существенными были размышления средневековых ученых о возможности пустоты, которая не допускалась в античной (перипатетической) физике: впоследствии именно через этот канал проникает в научную мысль идея возможности однородного геометрического пространства, которое является бесконечным и лишенным каких бы то ни было «абсолютных мест».
68 Орем Николай. Трактат о соизмеримости, с. 371.
Эволюция понятия науки в средние века
503
Существенными для дальнейшего развития науки и становления новых научных программ были пересмотр аристотелевского учения о целевой причине и связанное с этим пересмотром преодоление пропасти между «естественным» и «искусственным», «природой» и «механикой». Только теперь появилось условие для превращения механики из искусства в основную науку о природе, под знаком которой развивалось научное мышление в XVII и XVIII вв.
Анализируя эволюцию понятия науки в средние века, мы пытались показать, каким образом пересмотр ключевых принципов научного мышления, заимствованного вначале от античности, определялся культурно-историческими факторами, как под влиянием новых мировоззренческих установок менялось отношение к тем предпосылкам, которые лежали в основе античных научных программ.
Именно при переходе от одной социально-экономической формации к другой происходит тот перелом в способе рассмотрения объекта и субъекта знания, в способе понимания мира, человека и их взаимосвязи, который накладывает свой отпечаток и на исходные понятия науки, прежде всего на исходные принципы и интуиции, составляющие фундамент научной программы. Исследования историков науки XX в. убедительно показали, что взгляд на средневековье как на мрачный пробел в истории человечества, взгляд, сложившийся в эпоху Просвещения, является результатом «исторического нигилизма французских просветителей» 69. Для них, писал Ф. Энгельс в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», характерно именно «отсутствие исторического взгляда на вещи. Здесь приковывала взор борьба с остатками средневековья. На средние века смотрели как на простой перерыв в ходе истории, вызванный тысячелетним всеобщим варварством. Никто не обращал внимания на большие успехи, сделанные в течение средних веков: расширение культурной области Европы, образование там в соседстве друг с другом великих жизнеспособных наций, наконец, огромные технические успехи XIV и XV веков. А тем самым становился невозможным правильный взгляд 68
68 Соколов В. В. Средневековая философия, с. 426.
504
Раздел третий
на великую историческую связь, и история в лучшем случае являлась готовым к услугам философов сборником примеров и иллюстраций» 7°. Как мы видели, средние века внесли свой вклад и в развитие науки. Правда, средневековые ученые — физики, астрономы, оптики, математики — в целом остаются в рамках античных научных программ; новые научные программы создаются только в конце XVI—XVII вв. Важную роль в становлении научных программ Нового времени сыграли философия и наука эпохи Возрождения.
?о Маркс К., и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 21, с. 287—288.
Раздел четвертый
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
В эпоху Возрождения начинается новый этап в эволюции научного знания. Если в средние века происходила трансформация только отдельных понятий и методов научного исследования в рамках старых античных научных программ, то в XV и XVI вв. можно видеть радикальный пересмотр самих принципов этих программ и обработку почвы для науки нового времени. Именно эпоха Возрождения подготовила науку нового времени, положив начало современному исследованию природы. «...Современное исследование природы,— пишет Ф. Энгельс, — как и вся новая история, ведет свое летосчисление с той великой эпохи, которую мы, немцы, называем... Реформацией, французы — Ренессансом, а итальянцы — Чинквеченто и содержание которой не исчерпывается ни одним из этих наименований. Это — эпоха, начинающаяся со второй половины XV века» х.
В этот период происходит целый ряд изменений в социально-экономическом развитии Западной Европы, изменений, которые привели в конечном счете к появлению буржуазного общества. Вот как характеризует эти изменения Ф. Энгельс: «Королевская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства и создала крупные, в сущности основанные на национальности, монархии, в которых начали развиваться современные европейские нации и современное буржуазное общество... Рамки старого orbis terrarum2 были разбиты; только теперь, собственно, была открыта земля и были заложены основы для позднейшей мировой торговли и для перехода ремесла
1 Маркс КЭнгельс Ф. Соч., 2-е цзд., т. 20, с. 345,
* Круг земель (дат.).
506
Раздел четвертый
в мануфактуру, которая, в свою очередь, послужила исходным пунктом для современной крупной промышленности» 3.
Социально-экономические изменения сопровождались существенными переменами в умонастроениях. Эти перемены были связаны прежде всего с процессом секуляризации, происходившим во всех областях культурной и общественной жизни. Приобретают автономию, самостоятельность по отношению к церкви не только экономическая и государственная жизнь, но и наука, искусство. Правда, этот процесс совершается очень медленно; в XV в. он только начинается, а затем продолжается и углубляется на протяжении нескольких столетий вплоть до XIX в. Но важность этого процесса для развития европейской культуры и науки трудно переоценить. Вот что пишет по этому поводу Э. Кассирер, посвятивший ряд работ проблеме развития научного знания: «В средние века различные направления духовного творчества, наука и искусство, метафизика и история... связаны общим и исключительным религиозным интересом. Теперь они становятся обособленными и самостоятельными и приобретают свой собственный фундамент и свой собственный центр»4 *. Происходит своеобразная децентрализация духовной жизни, поскольку ее прежняя связь с церковью и религией постепенно х ослабевает, а иногда и резко порывается.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 345—346.
4 Cassirer Е. Das Erkenntnisproblem in der Philosophic und Wis-
senschaft der neueren Zeit. Berlin, 1906, S. 86.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
507
Глава первая
Новое понимание человека в эпоху Возрождения.
Человек как творец самого себя
Автономизация всех сфер социальной и культурной жизни средневекового общества существенно отражается и на роли и значении отдельного индивида, который тоже обретает самостоятельность по мере того, как ослабляются корпоративные и религиозные связи, через которые он обретал свое место в системе целого. Немецкий историк Г. Фойгт еще в конце прошлого века подчеркивал эту особенность средневековой жизни: «Ничто так не проникает собой всю средневековую жизнь и не характеризует ее более, чем корпоративизм. После хаоса, вызванного переселением народов, обновленное человечество кристаллизовалось в группы, упорядоченные структуры, системы. Иерархия и феодализм — это были только самые крупные формы организации. Даже научная жизнь... подчинялась всеобщей тенденции: она, как замерзающая вода, стягивалась вокруг некоторых центров, а уже из этих центров во все стороны исходили лучи. Не было другой эпохи, когда такие массы людей жили бы и действовали — даже думали и чувствовали — настолько одинаково, как в средние века. Если появлялись выдающиеся люди, то они выступали только как представители системы, в центре которой они стояли, только как первые среди равных, точно так же, как главы феодального государства и церкви. Их величие и сила зависели не от случайностей и своеобразия их личности, а от того, что они энергично представляли идеальное ядро своей системы и при этом жертвенно отрицали самих себя... Предводителями человечества были не индивиды, духовно подчиняющие себе массы, а сословия и корпорации, для которых индивидуум представляет собой только некоторую норму (стандарт)» б.
6 Voigt G. Die Wiederbelebung des klassischen Altertums, Berlin, 1880, Bd. 1, S. 131.
508
Раздел четвертый
В эпоху Возрождения эта ситуация радикально меняется. Индивид приобретает все большую самостоятельность; он все чаще представляет не тот или иной союз, а самого себя; отсюда вырастает новое самосознание индивида и новая его общественная позиция: гордость и самоутверждение, сознание собственной силы и таланта становятся отличительными качествами человека эпохи Ренессанса. В противоположность сознанию средневекового человека, который считал себя всецело обязанным традиции — даже в том случае, если он как художник или ученый вносил существенно новый вклад в традицию,— индивид эпохи Возрождения склонен приписывать все свои заслуги только самому себе. «Пробуждение индивидуальности,— пишет в этой связи Я. Буркгардт,— проявляется также в преувеличенном взгляде на самостоятельное развитие, в утверждении, что нравственное или умственное состояние индивидуума складывается независимо от родителей и предков, в отрицании наследственности. Бокка-чио... указывает на то, что Сократ — сын необразованных людей, Еврипид и Демосфен происходят от неизвестных родителей, и восклицает: «Quasi animos a gignentibus habeamus!» 6.
Именно эпоха Возрождения дала миру целый ряд выдающихся индивидуальностей, обладавших ярким темпераментом, всесторонней образованностью, выделявшихся среди остальных своей волей, целеустремленностью, огромной энергией,— «титанов по силе мысли, страсти и характеру» 7. И дело, разумеется, здесь не в том, что по случайному стечению обстоятельств XV и XVI века оказались столь богатыми крупными дарованиями, дело тут в самой установке общественного сознания, которая способствовала формированию «ренессансного человека». В средние века человека с энциклопедическими знаниями можно тоже встретить во всех странах. И это вполне естественно в эпоху, когда наука еще не специализировалась и теолог одновременно мог и должен был быть и физиком, и математиком, и грамматиком, и музыкантом. Такие ученые, как
6 Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения, СПб., 1904, т. I, с. 164.
1 Энгельс Ф. Диалектика природы, с. 4.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
509
Р. Гроссетет, Р. Бэкон, Фома Аквинат, такие поэты, как Данте, были людьми не менее одаренными и не менее образованными, чем Леонардо да Винчи или Леон Альберти. Но у них было совсем другое самосознание, поскольку иной была общая культурная атмосфера их эпохи: они не стремились всех превзойти, это не было их сознательной целью, как в XV в., когда отличие от остальных стало сознательно культивируемой чертой личности, а дарования и мастерство — средством удовлетворения честолюбия.
Характерна в этом отношении биография флорентийского гуманиста Л. Альберти 8, рассказанная Буркгард-том, весьма глубоко проникшим в дух этой эпохи. «С самого детства Лев Альберти оказывается первым во всем, чем только может человек отличаться от других. Его успехи в гимнастических и всякого рода физических упражнениях вызывают вообще удивление; рассказывают, как он без разбега перепрыгивает через головы людей, бросает монету в соборе так, что она залетает под верхний свод; как он укрощает самых диких коней, потому что хочет превзойти всех в трех отношениях', в искусстве говорить, ходить и ездить верхом. Он обязан одному себе успехами в музыке и тем не менее знатоки удивляются его произведениям. Он стал изучать право... но после нескольких лет занятий заболел от переутомления', на 24-м году у него стала ослабевать память к словам, хотя способность понимания вообще не уменьшилась, — тогда он перешел к изучению физики и математики, но в то же время не перестал приобретать познания в теории и практике наук и искусств, вступая в беседу с учеными, художниками и ремесленниками и перенимая у них технику искусств и ремесел, вплоть до сапожного мастерства» 9.
Как видим, стремление Альберти к разностороннему образованию и всестороннему развитию личности не в последнюю очередь подогревалось желанием «всех превзойти» — и не только в одном каком-нибудь искусстве или
8 Теория архитектуры, живописи и ваяния, математика, механика, картография, философия, этика, эстетика, педагогика — таков круг занятий Альберти. См.: Брагина Л. МАльберти — гуманист.— В кн.: Леон Баттиста Альберти. М., 1977, с. 10—49.
9 Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения, с. 167— 168.
510
Раздел четвертый
науке, но именно в разносторонности, в умении все сделать и все познать. Видимо, в отличие и в противоположность средневековому мастеру, который принадлежал к своей корпорации, к своему цеху и который должен был достичь мастерства именно в своей сфере, ренессансный мастер, освобожденный от корпорации и вынужденный сам отстаивать свою честь и свои интересы, видит свое принципиальное отличие именно во всесторонности своих умений и знаний. Такую установку мы встречаем и у другого выдающегося художника эпохи Возрождения — у Бенвенуто Челлини. Бенвенуто не знал усталости в овладении все новыми и новыми видами искусства; он был большим мастером в разных видах многогранного ювелирного мастерства, в резьбе печатей и медалей, чеканке монет; занимался фортификацией и зодчеством, артиллерийским искусством, играл на флейте и кларнете и, наконец, был непревзойденным ваятелем. Вот что пишет сам Челлини: «Все эти сказанные художества весьма и весьма различны друг от друга; так что если кто исполняет хорошо одно из них и хочет взяться за другие, то почти никому они не удаются так, как то, которое он исполняет хорошо; тогда как я изо всех моих сил старался одинаково орудовать во всех этих художествах] и в своем месте я покажу, что я добился того, о чем я гюворю» 10.
Стремлению быть выдающимся мастером — художником, поэтом, ученым и т. д.— содействует общая атмосфера, окружающая одаренных людей буквально религиозным поклонением; их чтут теперь так, как в античности героев или в средние века святых. «В Италии в это время,— пишет Буркгардт,— города считают величайшею честью обладать прахом кого-нибудь из знаменитых людей, даже родившегося в другом городе, и нас невольно поражает стремление флорентийцев, например, еще в XIV веке, задолго до сооружения Санто-Крочче — обратить собор в пантеон великих людей. Здесь они хотели поместить великолепные гробницы Аккорзо, Данте, Петрарки, Боккаччо и юриста Цанноби-делла Страда. Позже, в XV веке, Лоренцо Великолепный обращался к споле-тинцам с личной просьбой уступить Флорентийскому со
10 Жизнь Бенвенуто Челлини/Пер. М. Лозинского. М., 1958, с. 77.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
511
бору останки художника Фра-Филиппо-Липпи, но получил ответ, что они, жители Сполето, не богаты излишними украшениями в своем городе, в особенности такими, как прах знаменитых людей, а потому не могут уступить его никому» и. Такая обстановка, безусловно, способствовала развитию наук, искусств и ремесел, но одновременно порождала сильнейшее честолюбие и жажду славы, известности. Эта жажда была так сильна, что многие не останавливались ни перед какими средствами, чтобы прославиться. Как говорит Макиавелли, «многие, не имея возможности отличиться чем-нибудь похвальным, стремятся к той же цели постыдным путем» 11 12.
Социально-экономическому развитию общества XV— XVI вв. и общей психологической и духовной атмосфере соответствовало и развитие философско-теоретической мысли. В эпоху Возрождения формируется совершенно новое самосознание человека: и хотя сама эта эпоха сознает себя по преимуществу как возрождение античной культуры, античного образа жизни, образа мышления и чувствования, но в действительности самосознание «ренессансного» человека существенно отличается от античного — греческого или римского. «Новое язычество» эпохи Ренессанса несет на себе явственные следы своего происхождения: хотя оно и противопоставляет себя средневековому христианству, но оно наследует в то же время,—правда, в новой форме — многие черты последнего.
Чаще всего возвращение к античности понимается философами и художниками Возрождения как возвращение в лоно природы. Этот мотив центральный у большинства натурфилософов XV и XVI вв. Как пишет А. Ф. Лосев, «возрожденческая эстетика не хуже античной проповедует подражание природе. Однако, всматриваясь в эти возрожденческие теории подражания, мы сразу же замечаем, что на первом плане здесь не столько природа, сколько художник... художник здесь не только не натуралист, но он считает, что искусство даже выше природы» 13. В самом деле, каков характер возрожденческого «возвра-
11 Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения, с. 176.
12 Там же, с. 184.
13 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978, с. 57.
512
Раздел четвертый
щения к природе»? Вот что говорит в «Речи о достоинстве человека» Пико делла Мирандола: сотворив человека и «поставив его в центре мира», бог обратился к нему с такими словами: «Не даем мы тебе, Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю» 14 *. Это совсем не античное представление о человеке. В античности человек был природным существом в том смысле, что его границы были определены его природой, и от него зависело только то, последует ли он своей природе или же отклонится от нее. Отсюда и интеллектуалистский характер древнегреческой этики: человек должен познать, в чем состоит добро, а познав это, он уже последует доброму. В этом состоит нравственный аспект знания, каким мы его находим у Сократа, Платона, меньше у Аристотеля. Образно говоря, античный человек признает природу своей «госпожой», а не себя — ее господином.
Совсем иные мотивы звучат у Мирандолы. В них слышны отзвуки учения о человеке, которому бог дал свободную волю и который сам должен решить свою судьбу, определить свой образ, свое место в мире, свое лицо. Человек не просто природное существо, он творец самого себя и этим он отличается от прочих природных существ. По отношению к ним он господин, точно так же, как он является господином и над всей остальной природой,— здесь в преобразованной форме очевиден христианско-библейский мотив. В преобразованной форме потому, что в средневековом христианстве человек является господином над природой лишь постольку, поскольку он раб божий; подлинным творцом мира и самого человека в христианстве является бог. Теперь же по мере освобождения от христианского понимания человека, по мере се
14 Джованни Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве человека.— В кн.: История эстетики. Памятники мировой эстетической мыс-
ли. М., 1962, т. 1, с. 507,
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
513
куляризации религиозных представлений человек становится на место бога: он сам свой собственный творец, он владыка природы. Так, по убеждению Марсилио Фичино, человек способен «создать сами... светила, если бы имел орудия и небесный материал» 15.
Эта мысль абсолютно чужда языческой Греции. Чужда потому, что, во-первых, природа — это то, что существует само по себе, что никем не создано (ср. у Аристотеля понятие естественного, противоположное понятию искусственного, созданного мастером, человеком). Во-вторых, чужда потому, что для античной науки и античного сознания вообще небесные тела, светила — нечто принципиально отличное от всего земного, от подлунного мира. Небесные тела — это божественные существа, и «создать» их с помощью «орудий и небесного материала» было бы равносильно созданию человеком богов — кощунственная мысль для правоверного язычника и абсурдная идея для греческого ученого.
Для средневекового представления о мире в мысли о возможности создать светила нет ничего кощунственного: христианство снимает с природного начала его сакральный характер, и светила действительно мыслятся им созданными, только не человеческим, а божественным творцом. Но коль скоро человек получает освобождение от бога, коль скоро он берет на себя, так сказать, божественные — творческие — функции, то очень естественно у него появляется мысль о том, что для него нет ничего невозможного в природе — нужно только создать соответствующие орудия и найти, а может и создать, нужный материал. А что человек действительно чувствует себя божественным, едва ли не равным богу по своим возможностям, об этом свидетельствует тот же Мирандола. Именно в том, что человеку не дано никакой полной определенности, как другим творениям — ангелам или животным, Мирандола видит залог бесконечных возможностей человека. «Я не сделал тебя ни небесным, ни земным,— продолжает бог свою речь, обращенную к Адаму, — ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь, 16
16 История эстетики, т. I, с. 468.
17 П. П. Гайденко
514
Раздел четвертый
Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души в высшие, божественные'... О высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет!» 16
Такой силы, такой власти своей над всем существующим и над самим собой человек не чувствовал ни в античности, ни в средние века. Только в эпоху Возрождения он осознает себя творцом, «свободным и славным мастером», только в эту эпоху он ощутил себя ничем не ограниченным 17 — ни природой, которая была божественным началом у греков, ни богом христианской религии, отменившим божественность природы, а теперь постепенно терявшим власть и над человеком. Вот почему в эпоху Возрождения столь символическое значение получает фигура художника: в ней наиболее адекватно выражается самая глубокая для Ренессанса идея — идея человека-творца, человека, вставшего на место бога. Леонардо да Винчи очень точно сказал о символическом значении художника как едва ли не центральной в идеологическом отношении фигуре эпохи Ренессанса: «Если живописец пожелает увидеть прекрасные вещи, внушающие ему любовь, то в его власти породить их, а если он пожелает увидеть уродливые вещи, 'которые устрашают, или шутовские и смешные или поистине жалкие, то и над ними он властелин и Бог... И действительно, все, что существует во вселенной как сущность, как явление или как воображаемое, он имеет сначала в душе, а затем в руках...» 18. Отсюда понятна и гордость, которую культивирует эпоха Возрождения как положительное качество человека, в противоположность христианской добродетели смирения, и то поистине демоническое честолюбие и стремление к славе, каких не знала другая эпоха. Человек — центр мироздания, он теперь
18 История эстетики, т. I, с. 507—508.
Х7 «Человек не желает ни высшего, ни равного себе и не допускает, чтобы существовало над ним что-нибудь не зависящее от его власти. Он повсюду стремится владычествовать, повсюду желает быть восхваляемым и быть старается, как бог, всюду» (Монъе Ф. Опыт литературной истории Италии XV века. Кваттроченто. СПб., 1904, с. 37—38).
18 История эстетики, т. I, с. 543.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
515
не столько творение, сколько творец, и потому он вправе гордиться собой и утверждать свое человеческое достоинство: он теперь сам — творец, он в первую очередь деятель.
Деятельность в эпоху Возрождения — будь то деятельность художника, скульптора, архитектора или инженера, мореплавателя или историка и поэта — воспринимается не так, как она воспринималась в античности или в средние века. У греков созерцание не случайно ставилось выше деятельности, даже деятельности государственного человека, которую так уважали в греческих республиках: созерцание приобщает человека к тому, что вечно есть, к самой сущности природы, в то время как в деятельности, особенно той, которая не относится к сфере гражданской или военной, человек предстает в своей пар-тикулярности, он погружен в мир преходящего, мир суетный, одним словом, мир профанный, а не сакральный.
В средние века отношение к деятельности несколько меняется; но высшей формой деятельности признается здесь та, что имеет отношение к нравственно-религиозной сфере — к спасению души; а эта деятельность во многом сродни созерцанию: это молитва, богослужебный ритуал, размышления о вещах божественных. И только в эпоху Возрождения, когда человек видит в себе творца, его творческая деятельность приобретает в его собственных глазах оттенок сакрально сти: в своей деятельности человек теперь не просто удовлетворяет свои партикулярно-земные нужды — он творит мир, красоту, творит самое высокое, что есть в мире — самого себя. «Возрожденческая эстетика,— говорит А. Ф. Лосев,— базировалась на стихийном самоутверждении человеческой личности в ее творческом отношении как ко всему окружающему, так и к себе самой» 19.
Вот почему именно в эпоху Возрождения впервые снимается граница, которая существовала между наукой (как постижением сущего) и практическо-технической, ремесленной деятельностью,— граница, которую не переступали ни античные ученые, ни античные ремесленники: художники, архитекторы, строители. Мы уже говорили,
19 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения, с. 69,
17*
516
Раздел четвертый
что в средние века частично преодолевается та пропасть, которая существовала между естественным и искусственным в физике Аристотеля, отражавшей установки античного общественного сознания. Но это преодоление осуществлялось на философско-теоретическом уровне. В XV и XVI вв. навстречу тенденции теоретическо-философского преодоления различия между «природным» и «техническим» идет общемировоззренческое стирание неперехо-димой грани между теоретиком — ученым и практиком — художником или практиком — инженером. Инженер и художник теперь — это не просто каким он был
в древности и в средние века: это — Творец. В своей деятельности он не просто создает жизненные удобства — он. подобно божественному творцу, творит само бытие: красоту и уродство, смешное и жалкое, а по существу он мог бы сотворить даже и светила. Сначала он подражает творцу мира и природы, а затем постепенно сам начинает творить мир и — вторую — природу. И прежде чем он увидит подлинные границы своей мощи и подлинный смысл им сотворенного, пройдет много времени. Художник подражает теперь не столько созданиям бога, что, конечно, тоже имеет место,— он подражает самому творчеству бога: в созданиях бога, т. е. в природных вещах, он стремится Феперь увидеть закон их построения. Аналогичные мотивы появляются также и в науке.
Теперь мы рассмотрим, в каких именно направлениях ведется критика научной программы Аристотеля, а отчасти и математической программы Платона, хотя многие ученые эпохи Возрождения, в том числе и сам Галилей, часто ссылаются на Платона и противопоставляют его математическую программу коптинуалистской программе Аристотеля. Здесь следует отметить, что в новых исторических условиях получает новую жизнь научная программа атомизма, — имя Демокрита, так редко упоминаемое средневековыми теологами (да и то лишь в отрицательном смысле), приобретает все большую популярность в эпоху Возрождения.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
517
Глава вторая
Проблема бесконечности в эпоху Возрождения
Николай Кузанский. Учение о максимуме и минимуме. В эпоху Возрождения необычайно усиливается интерес к проблеме бесконечности. То, что у греческих философов носило имя единого и неделимого, теперь в гораздо более законченной, чем в средневековье, форме отождествляется с бесконечным. В этом отношении особенно характерны работы Николая Кузапского, подготовившего ренессансный пантеизм и создавшего предпосылки для обоснования бесконечности вселенной. В своем сочинении «Об ученом незнании» Кузапец с самого начала вполне определенно заявляет, что единое и бесконечное — это одно и то же. С целью проведения такого отождествления он вводит новое понятие — понятие максимума и минимума, т. е. «наибольшего» и «наименьшего», которые у него оказываются совпадающими противоположностями. «Я называю максимумом нечто такое, больше чего ничего не может быть. Изобилие связано в действительности лишь с единым. Вот почему единство совпадает с максимальностью и также является бытием. Если же такое единство универсально абсолютно, вне всяких отношений и всяких ограничений, то, так как оно является абсолютной максимальностью, очевидно, ничто ему не противостоит. Абсолютный максимум единственен, потому что он — все, в нем все есть, потому что он — высший предел. Так как ничто ему не противостоит, то с ним в то же время совпадает минимум, и максимум тем самым находится во всем» \
Здесь Кузанец делает такой шаг, который существенно отдаляет его не только от греческого мышления, но и от средневекового. Он не только отождествляет единое с бесконечным, каким для него является максимум, но и идет дальше: в отличие от греческих философов (платоников или пифагорейцев), которые исходили из того
1 Кузанский Николай. Избр. филос. соч. М., 1937, с. 8.
518
Раздел четвертый
что единое имеет в качестве своей противоположности беспредельное (бесконечное), и в этом смысле полагали как бы два исходных первоначала (ум и материю), Кузанец утверждает, что у максимума нет никакой противоположности («ему ничто не противостоит»), а то, что естественно было бы считать его противоположностью — минимум, с ним совпадает.
Учение Николая Кузанского о совпадении противоположностей, одно из наивысших достижений диалектической мысли эпохи Ренессанса, несет в себе заряд большой взрывной силы. Его тезис о тождестве максимума с единым отменяет античное учение о противоположности единого беспредельному. Тезис об отсутствии у максимума какой бы то ни было противоположности отменяет античное (во многом также и средневековое) противопоставление единого — многому, ума — материи, неделимого — делимому, неколичественного — количественному 2.
Согласно Кузанцу, противоположности существуют только по отношению к конечным вещам, а максимум бесконечен и потому для него нет противоположного. «Противоположности существуют лишь для вещей, допускающих нечто превосходящее и превзойденное, с которым они различно сходны. Нет никакого противопоставления абсолютному максимуму, ибо он выше всякой противоположности. Так как абсолютный максимум непременно содержит действительно все вещи, какие только могут быть вне какой бы то ни было противоположности, то минимум совпадает с максимумом; равным образом максимум находится и над всяким утверждением, и над всяким отрицанием. Все то, что мыслится несуществующим, есть и не есть в одинаковой степени. Но тогда всякий отдельный предмет оказывается бытием всех, соединенных вместе вещей, и все собранные воедино вещи оказываются ничем, и то, что есть в максимуме, существует одновременно и в минимуме» 3.
2 Не безусловно, так как христианская теология преодолевала абсолютное разделение идеального и чувственного миров, которое мы находим у Платона, да и не только у него одного. Для античного миросозерцания в целом божественное и человеческое начала не могут быть соединены — они разноприродны.
3 Кузанский Николай. Избр. филос. соч., с. 12.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
519
Именно в силу своей бесконечности, в которой совпадают все противоположности, максимум, согласно Кузан-цу, непостижим: «истину невозможно постигнуть таковой, какова она доподлинно» 4. «Эта истина выше нашего разумения, ибо разум в основе своей не может сочетать противоречия с рассудком... Рассудок наш спотыкается оттого, что далек от этой бесконечной силы и не может связать противоречия, разделенные бесконечностью» 5. Казалось бы, рассуждения Кузанца об абсолютном максимуме, в котором совпадают противоположности и который непостижим для человека во всей свой подлинности, в сущности воспроизводят рассуждения неоплатоников о едином: ведь единое тоже непостижимо для человеческого ума. Об этом недвусмысленно сказано еще в «Пармениде» Платона. Не значит ли это, что Кузанец только переименовал «единое» в «максимум», не изменив в существенных чертах способ мышления и оставаясь, таким образом, в рамках традиции платонизма? В истории культуры любое переименование, кажущееся подчас совершенно формальным и не вносящим существенных изменений в само понимание переименованного, не бывает никогда просто внешним: оно всегда есть — осознанное или неосознанное — переосмысление. А тем более когда речь идет о переименовании таких ключевых категорий научного и философского мышления, как «единое», «бесконечное», «неделимое» и т. д. Так, уже в средние века понятие бесконечного получило переосмысление: оно перестало быть «беспредельным». Параллельно этому, как мы уже говорили, произошло переосмысление также и понятия «несоизмеримого»: Николай Орем попытался «реабилитировать» это понятие и лишить его того отрицательного смысла, который с ним связывался как в античной философии, так и в античной математике. Хотя Кузанец и не внес заметного вклада в развитие самой математики 6, но его учение о бесконечности привело к радикальным изменениям в математическом мышлении эпохи Возрож
4 Там же, с. И.
6 Там же, с. 12.
6 См. об этом: Юшкевич А. П, История математики в средние века. М., 1961, с. 406-407.
520
Раздел четвертый
дения. Его представление о максимуме и минимуме, совпадающих друг с другом, подготавливало ту революцию в математическом способе мышления, которая завершилась созданием исчисления бесконечно малых и тем самым создала математический фундамент естествознания нового времени.
Создание методологических предпосылок новой математики. «Бесконечные фигуры». «Бесконечно большое и бесконечно малое». Изменение содержания понятия бесконечного, как мы уже подчеркивали, начинается у Николая с отождествления бесконечного и единого. Если для Платона и Аристотеля к единому и неделимому неприменимо понятие количества, поскольку количество связано с присоединением к единому беспредельного, т. е. материи, то у Кузанца здесь создается другая система понятий. С одной стороны, к понятию минимума и максимума количественные определения вроде бы неприменимы: во всяком случае количественные определения неуместны там, где обе противоположности совпадают. Разъясняя, что такое максимум и минимум, Николай Кузанский пишет: «Это станет тебе яснее, если ты сведешь максимум и минимум к количеству: максимальное количество есть максимально великое; минимальное количество есть максимально малое. Очищая максимум и минимум от количества, мысленно отбрасывая большое и малое, тебе станет очевидным, что максимум и минимум совпадают»1. Выходит, что нужно освободиться от количественного определения, чтобы прийти к максимуму и минимуму, потому что все количественное предполагает различение «больше» и «меньше» (Платон как мы уже говорили, определял «материю», или «беспредельное», как «больше» и «меньше»). Но далее Николай говорит: «Таким образом, в действительности максимум, как и минимум, есть превосходная степень. Итак, абсолютное количество не более максимально, чем минимально, ибо в нем минимум и максимум совпадают» 7 8. Как видим, то, в чем совпадают минимум и максимум, Кузанец называет «абсолютным количеством»', оно отличается от обычного (конечного!) количества, но все-таки название
7 Кузанский Николай* Избр. филос. соч., с. 11.
8 Там же, с. 11—12.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
521
количества за ним сохраняется. «Абсолютное количество» — это такое же соединение противоположных (для античного мышления) понятий, каким является и «бесконечное единство». А вот у Кузанца «божественность есть бесконечное единство» 9.
Свое понимание максимума Николай считает возможным пояснить с помощью математики, и в этом он наследник традиции платонизма и пифагорейства, поскольку полагает, что математика есть наилучший путь к постижению высших предметов, путь к философии. «Так, Боэций, самый ученый из римлян,— пишет Николай, — утверждал, что ни один человек, будучи совершенно чуждым математической практике, не мог постигнуть понятия о божественных вещах. Разве Пифагор, первый из философов, по достоинству и на деле не направил искание истины на числа? Так, платоники и даже первые из наших мыслителей следовали математике настолько строго, что св. Августин и вслед за ним Боэций утверждали, что число неоспоримо было в мысли тцорца его основным образцом для сознания вещей» 10 11.
Но если понимание роли и значения математики Кузанский полностью заимствует у греков, то в истолковании основных принципов математического мышления он далеко уходит от «Начал» Евклида. Вот так он формулирует свой метод рассмотрения математических объектов: «...так как все математические величины конечны, без чего их нельзя было бы представить, то, когда мы захотим воспользоваться, как примером, конечными вещами в пашем стремлении к простому максимуму, необходимо: во-первых, рассматривать конечные математические фигуры с их влечениями и их разумением; во-вторых, перевести, заставляя их соответствовать друг другу, в бесконечные фигуры, которые были бы такими же, как и основания; в-третьих, надо более глубоко обследовать самые основания конечных фигур, доведя их до простого максимума, абсолютно очищенного от всякой фигуры» п.
Первое требование состоит, как видим, в том, чтобы
9 Там же, с. 14.
10 Там же, с. 23—24.
11 Кузанский Николай. Избр. филос. соч., с. 25.
522
Раздел четвертый
рассматривать математические фигуры не так, как они есть, а в их «влечениях» т. е. тенденциях, иначе говоря, в их становлении, а не в их бытии, и в этом смысле в движении, а не статически. Первое требование здесь связано со вторым требованием: перевести конечные фигуры в бесконечные, но при этом так, чтобы формальное определение фигуры оставалось одним и тем же. В самом деле, если брать фигуру не как готовую и ставшую, но как происходящую из своего определения, т. е. в ее «влечении», а не в ее завершенности и самодовлении, то тем самым придется брать конечное в его тенденции к бесконечному. А при переходе к бесконечному необходимо пересматривать и, строго говоря, отменять само понятие фигуры, поскольку в сфере бесконечного невозможно пользоваться представлением (или «воображением», как говорили античные математики); геометрическая же фигура — будь то треугольник, квадрат, круг и т. д.— необходимо предполагает участие воображения, а не только рассудка (ума) 12.
12 Несомненно, Кузанец в своем стремлении ввести в математику понятие бесконечности развивает традицию средневекового мышления, о чем свидетельствует и его собственная ссылка на средневековых теологов, прежде всего на Ансельма Кентерберийского, в мышлении которого также весьма ощутимы пантеистические тенденции. «Блаженный Ансельм,— говорит Кузанец — сравнивал бесконечную истину с бесконечной прямизной. Последуем за ним и остановимся на образе бесконечной прямизны, которую мы представляем себе прямой линией. Другие весьма ученые мыслители сравнивали с всеблагой троицей треугольник, имеющий три равных и прямых угла. И так как такой треугольник по необходимости имеет бесконечные стороны... его можно назвать бесконечным треугольником. Мы также следуем этим мыслителям. Другие ученые старались представить бесконечное единство и говорили, что бог есть бесконечный круг. Но те, кто размышлял о самом действенном, актуальном бытии бога, утверждали,что бог—бесконечная сфера» (Кузанский Николай^ Избр. филос. соч., с. 25). Бесконечная линия (которая для античной науки была образом беспредельного, противоположного божественному началу и истине), бесконечный треугольник являющийся противоречивым понятием, с точки зрения геометрии Евклида и философии Платона, и бесконечная сфера — все это понятия, неприемлемые ни для античной математики, ни для античной философии. И не случайно понятие треугольника, с тремя равными и прямыми (!) углами, который, разумеется, уже не есть треугольник в обычном смысле слова, сумма углов которого, как известно, не может превышать двух прямых (2с?), возникает
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
523
Как же Кузанец реализует эти требования? Метод его очень прост: если конечная линия отличается от треугольника, круга, сферы и любой другой фигуры, если все эти фигуры в свою очередь, будучи конечными, различаются между собой, то, становясь бесконечными, они теряют свои различия и совершенно отождествляются. В бесконечности все теряет свою милую сердцу античного грека завершенность и определенность, свою самодовлеющую природу и становится всем или, что то же самое, ничем: ведь противоположности-то здесь совпадают!
«Я утверждаю,— пишет Николай,— что если бы имелась бесконечная линия, она была бы прямой, треугольником, была бы кругом и была бы сферой. Таким же образом, если бы имелась бесконечная сфера, она была бы треугольником, кругом и линией. То же следует сказать о бесконечном треугольнике и бесконечном круге. Прежде всего очевидно, что бесконечная линия — прямая. Диаметр круга — прямая линия, а окружность — кривая линия, большая, чем диаметр. Если же кривая линия тем менее крива, чем окружность является окружностью большего круга, то окружность максимального круга, который не может быть еще большим, минимально крива или пряма в максимуме» 13. Иначе говоря, по мере того как радиус круга стремится к бесконечности (становится бесконечной прямой), окружность этого круга стремится к прямой линии, а ее кривизна — к минимуму, и таким образом она становится тождественной прямой линии, что и требовалось доказать. Вот что значит, по Николаю, рассматривать фигуры «в их влечениях»; вот что значит, далее, перевести конечные фигуры в бесконечные, сохраняя их прежние основания, т. е. сохраняя их определения «кру-
у христианских теологов, которые хотят с помощью математического парадокса указать на парадоксальность для человеческого мышления понятия божественной троицы. Треугольник, сумма углов которого равна 3rf, представляет собой математический аналог догмата о божественном триединстве. И в самом деле, ведь христианская теология должна постигнуть возможность единства божественного и человеческого начал в лице Бога-Сына Иисуса Христа, а такое единство с точки зрения античного мышления есть абсурд, как и треугольник с тремя прямыми углами.
*3 Кузанский Николай. Избр. филос. соч., с. 26.
524
Раздел четвертый
гов», «прямых», «треугольников» и т. д. Но, как видим, при этом формальном сохранении формальных определений фигур совершенно снимается их «фигурность»: происходит, как говорит Кузапец, «очищение от всякой фигуры» 14.
Аналогичным образом доказывается тождество бесконечной линии и бесконечного треугольника. Согласно геометрии Евклида, треугольник существует до тех пор, пока его самый большой угол не достигает двух прямых: в противном случае он уже не будет треугольником. А вот что говорит Николай Кузанский: «...каждый измеримый треугольник имеет свои равные двум прямым углы и таким образом, что чем больше один угол, тем меньше другие, и хотя каждый угол может быть увеличиваем до двух прямых исключительно, но не полностью, согласно нашему первому принципу, тем не менее примем, будто он увеличен до двух прямых включительно, но без исчезновения самого треугольника (?). Тогда будет ясно, что труголышк имеет один угол, который составляет три, а эти три суть один. Можно также видеть, что треугольник есть линия» 15.
Для греческой математики, как и для греческой философии, линия и треугольник принципиально не могут быть тождественны друг другу, так же как не могут быть тождественны друг другу двойка (это и есть «линия») и тройка (это треугольник). Греческая математика не случайно допускает увеличивать угол треугольника до двух прямых «исключительно», как говорит Кузапец, т. е. не доводя его до двух прямых, не преступая эту меру. Греческое мышление потому и не оперирует с бесконечным и несоизмеримым, что последнее не имеет меры; этот запрет нарушает средневековая, а тем более ренессансная наука и философия; более того, в лице Николая Кузанского философия Возрождения делает безмерное (бесконечное) принципом совершенно новой «меры». В результате треугольник мыслится превратившимся в линию, но при этом не исчезнув
14 «Способность воображения, не возвышающаяся над видом чувственных вещей, не в состоянии представить, что линия может быть треугольником, потому что это неоднородные количества, но разумом это так легко понять» (там же, с. 28).
15 Кузанский Николай. Избр. филос. соч., с. 29.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
525
шим как треугольник (ведь в бесконечном все тождественно всему!). Чтобы треугольник представлял простую линию, недопустимо в рамках конечных треугольников. Но Кузанец же и призывает выйти за эти рамки! «Это положение, недопустимое при измеримых треугольниках,— говорит он,— дает тебе возможность вознестись мыслью к тому, кто выше всякой меры, в котором ты видишь, что то, что невозможно в измеримом, является совершенно необходимым, и отсюда явствует, что бесконечная линия есть максимальный треугольник....» 16.
По не только переход к неизмеримому предлагает совершить Кузанец: он требует рассматривать неизмеримое, бесконечное, как истинную меру всего. «Бесконечная линия,— говорит он,— является наиболее адекватной мерой всех линий... На самом деле максимум, так как минимум ему не противоположен, является наиболее адекватной мерой из всех: ни слишком большой, так как имеется минимум, ни слишком малой, так как имеется максимум. Всякая измеримая вещь находится между максимумом и минимумом. Бесконечная сущность есть адекватная всем сущностям и самая точная из всех них» 17.
Аристотель, как мы уже говорили, называет мерой единое, с помощью которого может быть измерено что-либо, мере — единому — противопоставляет он безмерное, оно же беспредельное, бесконечное. Мысль о том, что само это бесконечное может быть мерой всего остального, была бы так же неприемлема для него, как и утверждение о том, что треугольник (бесконечный) тождествен бесконечной линии. Но подход Николая Кузанского к математическим объектам открывает совершенно новые возможности: он предполагает рассмотрение фигур в их становлении, в их взаимном переходе друг в друга; в отличие от геометрии Евклида, где каждый математический объект рассматривается в его отличии от других, поскольку внимание сосредоточено на его определенности и завершенности, Кузанец рассматривает скорее способ превращения фигур друг в друга, а это возможно только при установке, 18
18 Там же (курсив мой.— П. Г.).
17 Кузанский Николай. Избр. филос. еоч., с. 32.
526
Раздел четвертый
фиксирующей их в точке предельных переходов: такую установку позволяет получить понятие бесконечности.
Для любого античного математика, в том числе Евклида и Архимеда, различие между кругом и вписанным в него многоугольником не может быть преодолено, сколько бы мы ни увеличивали количество сторон многоугольника; для Николая Кузанского, который берет все эти фигуры в точке их максимума, такой переход уже не составляет проблемы. Э. Кассирер пишет по этому поводу: «Николай Кузанский первым отважился на утверждение, далекое от античного метода исчерпывания: что круг по своему понятийному содержанию и по бытию есть не что иное, как многоугольник с бесконечным количеством сторон» 18.
Это изменение возникает в результате переосмысления отношения к понятию беспредельного 18 19.
Понятие бесконечности (максимума и минимума) и у Кузанца, несомненно, связано с идеей божественного всемогущества; ведь вселенная, как он говорит, не является бесконечной: в истинном смысле бесконечен только бог 20. Бог определяется Кузанцем как абсолютная возможность. В отличие от бога мир конечен, но его конечность есть его отрицательная характеристика: в ней в отличие от античных философбв Кузанец видит не преимущество, а недостаток. Поэтому обоснование конечности мира у него совсем иное, чем у Платона или Аристотеля. «Несмотря на то, что бог бесконечен, и следовательно, имел в своей власти силу создать бесконечный мир, однако именно потому, что возможность по необходимости ограничена и способность ее целиком не абсолютна и бесконечна,— мир, вследствие этой своей возможности стать собой, не мог стать в действительности бесконечным, более великим и обширным или иным, чем он есть. Ограничение возмож
18 Cassirer Е. Erkenntnisproblem, Bd. I, S. 56.
19 Этот момент также отмечен у Кассирера: «Незавершимость этого процесса теперь уже не предстает как доказательство внутреннего недостатка самого понятия, а как свидетельство его силы и своеобразия: только в бесконечном объекте, в безграничном процессе разум может прийти к сознанию своей собственной возможности» (Cassirer Е. Op. cit., S. 56).
10 См.: Кузанский Николай. Избр. филос. соч., с. 61.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
527
ности идет от действия, от самого максимума в действии. И так как ограничение возможности исходит от бога, а ограничение действия — от случайности, то выходит, что мир, по необходимости ограниченный случайностью, конечен. Благодаря нашему знанию возможности мы видим, каким образом ограниченная максимальность исходит от возможности, по необходимости ограниченной... Абсолютная возможность есть бог» 21.
Анализ категории возможности, как она рассматривается Николаем Кузанским, увел бы нас далеко в сторону от нашей непосредственной задачи. Здесь достаточно приведенного отрывка, по которому можно судить, что понимание воможности Кузанцем существенно отличается от того, какое мы видели у Аристотеля и в античной мысли вообще. Различие это обусловлено тем, что античная мысль воспринимала возможность как нечто еще незавершенное и определяла возможное как вторичное по отношению к действительному. Кузанец же, отождествляя возможное с божественным всемогуществом, а затем и с материей 22, совершенно иначе соотносит все те понятия, с которыми оперировала и античная наука 23. Переосмысление и переоценка понятия бесконечного, как мы находим его у Кузанца, с необходимостью влекли за собой не только новое понимание возможности, которая теперь получает санкцию божественного, но вместе с тем приводили к пересмотру понятия «становление»: процесс, движение, становление выступают теперь как нечто более достойное уважения, чем завершенность, покой, ставшее. Законченное, завершенное, равное себе, самодовлеющее получает в сознании эпохи Возрождения оттенок конечности и несовершенства в отличие от того, как оно понималось в античности и раннем средневековье.
Неожиданным образом новое отношение к понятию «становление», «процесс» оказывается внутренне связанным с утверждением индивидуальности, с требованием сво-
21 Кузанский Николай. Избр. филос. соч., с. 86.
22 «....Нужно исправить... то, что говорится о всемогуществе, или возможности, или материи...» (Там же, с. 86). Как видим, эти три понятия употребляются как идентичные.
28 См. об этом: Meurer К. Die Gotteslehre des Nikolaus von Kues in ihrer philosophischen Konsequenzen. Bonn, 1971.
528
Раздел четвертый
бодпого и раскованного развития личных задатков каждого человека. Эту связь подметил уже упоминавшийся нами немецкий историк культуры Л. Баур. Он, правда, говорит уже о новом времени, но его слова в известной мере можно отнести и к эпохе Возрождения: «В новое время,— пишет Баур,— где становление встает на место бытия, единичное — на место всеобщего, где индивидуальность выходит на передний план, где и познание истины включается в яаута- pet 24 исторического развития, также и в научной работе появляется своего рода скептическая резиньяция: уже не стремятся получать такие общезначимые истины: скорее писатель хочет изложить свои собственные мысли, предложить мировоззрение, которое кажется ему лучшим. Тем самым на передний план выступает личность писателя, свободное научное творчество...» 25.
Элементы скептицизма, о которых говорит Баур, действительно развились в новое время. Для Николая Кузан-ского скептицизм не характерен: напротив, его творчество проникнуто духом энтузиазма, который роднит этого мыслителя с другими представителями возрожденческого неоплатонизма.
Понятие бесконечности и гелиоцентрическая система Николая Коперника. Как мы уже говорили, понятие бесконечности у Николая Кузанского выступало в качестве специального предмета исследования: он рассматривал это понятие прежде всего как философ. Но в этот период понятие бесконечности привлекает внимание также математиков и естествоиспытателей. Показательно обращение к этому понятию выдающегося ученого эпохи Возрождения Николая Коперника, роль которого в развитии науки нового времени невозможно переоценить, создателя гелиоцентрической системы мира. В отличие от Ку зайца Коперник не делает бесконечность специальной темой исследования; скорее она играет в его построениях вспомогательную роль в качестве натурфилософского допущения. Однако значение созданной Коперником новой астрономической теории для дальнейшего развития науки трудно переоценить. Поэтому нам представляется необходи
24 Ttavra pel — все течет (греч.).
26 Dominicas Gundissalinus. De divisione philosophiae, S. 316.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
529
мым рассмотреть те общеметодологические установки, на которых она базируется.
В «Малом комментарии относительно установленных гипотез о небесных движениях» Коперник указывает семь постулатов (называя их также и аксиомами), которые он выдвигает с целью «найти какое-нибудь более рациональное сочетание кругов, которым можно было бы объяснить все видимые неравномерности» 26. Здесь он имеет в виду видимые неравномерности движения небесных тел, объяснение которых всегда представляло для астрономов большие трудности. Для объяснения этих неравномерностей древние астрономы, в частности Калипп и Евдокс, ввели эксцентрические круги и эпициклы, а Птолемей ввел круги, называемые эквантами. В постулатах, или требованиях, Коперник формулирует исходные допущения своей системы.
«Первое требование*. Не существует одного центра для всех небесных орбит или сфер.
Второе требование. Центр Земли не является центром мира, но только центром тяготения ицентром лунной орбиты. Третье требование. Все сферы движутся вокруг Солнца, расположенного как бы в середине всего, так что около Солнца находится центр мира.
Четвертое требование. Отношение, которое расстояние между Солнцем и Землей имеет к высоте небесной тверди, меньше отношения радиуса Земли к ее расстоянию от Солнца, так что по сравнению с высотой тверди оно будет даже неощутимым.
Пятое требование. Все движения, замечающиеся у небесной тверди, принадлежат не ей самой, но Земле. Именно Земля с ближайшими к ней стихиями вся вращается в суточном движении вокруг неизменных своих полюсов, причем твердь и самое высшее небо остаются все время неподвижными.
Шестое требование. Все замечаемые нами у Солнца движения не свойственны ему, но принадлежат Земле и нашей сфере, вместе с которой мы вращаемся вокруг Солнца, как и всякая другая планета; таким образом, Земля имеет несколько движений.
26 Коперник Н. О вращениях небесных сфер. М., 1964, с. 419.
1/, 18 П. П. Гайденко
530
Раздел четвертый
Седьмое требование. Кажущиеся прямые и попятные движения планет принадлежат не им, но Земле. Таким образом, одно это ее движение достаточно для объяснения большого числа видимых в небе неравномерностей» 27.
В этих постулатах сформулированы все основные предпосылки гелиоцентрической теории Коперника. Нетрудно заметить, что все они находятся в прямом полемическом отношении к принципам, на которых стоит «Алма-гест» Птолемея. Вот как формулирует Птолемей общие предпосылки своей астрономической теории: «...в качестве общего положения мы должны принять, что Небо имеет сферическую форму и движется сферически, затем, что Земля является по виду сферической, если рассматривать ее по всей совокупности частей, по своему положению она лежит в середине всего Неба, являясь как бы его центром, по величине же и расстоянию относительно сферы неподвижных звезд она является как бы точкой и не имеет никакого движения, изменяющего место» 28.
Коперник полностью согласен с Птолемеем лишь в том, что Земля и небесный свод имеют сферическую форму, видимо, поэтому он и не счел нужным включать это утверждение в число своих постулатов 29. Что же касается положения Земли и ее подвижности, то здесь Коперник утверждает прямо противоположное Птолемею: Земля не находится в центре мира и не является неподвижной, она движется, как доказывает Коперник, «тремя движениями» (суточное вращение вокруг своей оси, годовое вращение вокруг Солнца и деклинационное движение тоже с годовым обращением, но противоположное движению центра Земли вокруг Солнца). Центром мира, по Копернику, является Солнце (или, как он иногда говорит с большей осторожностью: центр мира находится около Солнца), и вокруг Солнца вращаются как Земля, так и остальные планеты. Что же касается небесного свода, который, по Птолемею, вращается вокруг Земли, то здесь Коперник решительно утверждает его
27 Коперник Н. О вращениях небесных сфер, с. 420.
28 Правда, в основной своей работе—«О вращениях небесных сфер»— Коперник, как и Птолемей, вводит эти положения. См. : Коперник Н. О вращениях небесных сфер, кн. I, гл. 1 и 2.
29 Алмагест, 1, 2/Пер. И. И. Веселовского.
Эволюция понятия ггауки в эпоху Возрождения
531
неподвижность и приводит целый ряд натурфилософских и философских соображений в пользу своего утверждения. «Так как именно небо все содержит и украшает и является общим вместилищем,— пишет он,— то не сразу видно, почему мы должны приписывать движение скорее вмещающему, чем вмещаемому, содержащему, чем содержимому»30. И другой аргумент: «Гораздо более удивительным было бы, если бы в двадцать четыре часа поворачивалась такая громада мира, а не наименьшая его часть, которой является Земля» 31. «Громада мира» выступает у Коперника как неизмеримо большая по сравнению с Землей, пределы которой невозможно установить: «Скорее следует допустить, что подвижность Земли вполне естественно соответствует ее форме, чем думать, что движется весь мир, пределы которого неизвестны и непостижимы» 32. Эти аргументы вполне понятны сторонникам концепции Птолемея: ведь и Птолемей, допустив, что Землю можно считать как бы точкой по отношению к расстоянию от сферы неподвижных звезд, тем самым признал «пределы мира» неизмеримо большими по сравнению с радиусом Земли, так что вряд ли бы он возразил против того, что эти пределы «неизвестны».
Рассмотрим более подробно различие между Коперником и Птолемеем. Обратим внимание на содержание четвертого постулата Коперника. Он гласит, что отношение радиуса земной орбиты к радиусу вселенной меньше, чем отношение радиуса Земли к радиусу земной орбиты, т. е. что (7?0//?в) < (7?3/7?0), где 7?0 — радиус орбиты, RB — радиус вселенной, а 7?3 — радиус земли. Коперник, таким образом, исходит из положения, что не только радиус Земли можно принять за исчезающе малую величину по сравнению с размерами вселенной, но что такой исчезающе малой величиной является также и земная орбита («несущий землю великий круг», как он ее называет).
Почему понадобилось Копернику вводить это новое допущение? Дело в том, что, помещая центр мира не в центре Земли, а «около Солнца», Коперник тем самым
30 Коперник Н. О вращениях небесных сфер, с. 22.
31 Там же, с. 24.
82 Там же, с. 27 (курсив мой.— П. Г.),
18*
532
Раздел четвертый
оказывается перед целым рядом трудностей в объяснении видимых явлений, которые в свое время и послужили для Птолемея и других астрономов аргументом в пользу допущения, что Земля находится в центре мира 33. Трудности эти можно преодолеть только путем введения другого допущения, а именно, что расстояние от Земли до центра мира (т. е. радиус земной орбиты) в свою очередь можно принять за исчезающе малое, т. е. как бы за точку. Ученик и последователь Коперника Ретик подчеркивает поэтому, что принятие радиуса «великого круга» как бы равным нулю снимает те трудности, которые возникают для гелиоцентрической системы, «сдвигающей центр мира» от Земли к Солнцу. «...Всякий горизонт на Земле разделяет звездную сферу на равные части, как большой круг Вселенной, и равномерность вращений сфер определяется по отношению к неподвижным звездам; таким образом, вполне ясно, что звездная сфера в высшей степени подобна бесконечному, так как по сравнению с ней становится ничтожным даже Великий круг, а все tparvopieva наблюдаются не иначе, как если бы Земля находилась в середине Вселенной» 34. Как видим, принятие земной орбиты за величину исчезающе малую по сравнению с величиной универсума, т. е. звездной сферы (Коперник рассматривает небесный свод как крайний предел, объемлющую границу универсума), необходимо для того, чтобы все явления наблюдались так, как если бы Земля была центром мира.
Допущение, произведенное Коперником, «сильнее», чем птолемеево: если Птолемей считал возможным принять за точку Землю по сравнению с расстоянием от нее до сферы неподвижных звезд 35, то Коперник принимает
93 См.: Алмагест, кн. I, гл. V.
34 Коперник Н. О вращениях небесных сфер, с. 511.
85 Аргументы, которые побудили Птолемея принять Землю за точку по отношению к расстоянию до сферы неподвижных звезд, следующие: «...для всех ее (Земли.— II. Г.) мест величины и расстояния светил в одно и то же время кажутся во всех отношениях равными и подобными; произведенные на различных широтах наблюдения одного и того же не обнаруживают ни малейших разногласий... Помещенные в различных местах Земли гномоны и центры армиллярных сфер будут поистине равнозначными с центром
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
533
за «точку» всю земную орбиту, в результате чего мир у него значительно расширяется по сравнению с вселенной Птолемея 36. Ретик в приведенном отрывке даже говорит о том, что «звездная сфера в высшей степени подобна бесконечному», что неоднократно повторяет и сам Коперник. Так, перечисляя вкратце важнейшие свои предпосылки, он пишет, что «мир сферичен, неизмерим и подобен бесконечности...» 37. Выражение «подобен бесконечности», по-видимому, является соответственным выражению, что Великий круг (земная орбита) есть «как бы точка», и должно означать, что вселенная сравнима с бесконечностью, так же как и земная орбита сравнима с точкой — оба, и Вселенная, и земная орбита, таковы в отношении друг к другу. Но у Коперника есть и более недвусмысленные выражения, где он называет Небо не «подобным бесконечности», а «бесконечным», а расстояние от Земли до небесного свода — бесконечно большим. «...Небо неизмеримо велико по сравнению с Землей и представляет бесконечно большую величину*, по оценке наших чувств Земля по отношению к небу, как точка к телу, а по величине, как конечное к бесконечному» 38.
Интересно отметить, что рассуждение Коперника о бесконечно большом — вселенной (вспомним «максимум» Кузанца) сопровождается, как и у Кузанца, обращением к бесконечно малому — атому. «Величина неба по сравнению с Землей не является конечной. До каких пор распространяется эта необъятность, никоим образом неизвестно. Точно так же будет и обратно — у мельчайших
Земли и воспроизводят наблюдения и круговые движения теней так согласно со сделанными предположениями относительно небесных явлений, как если бы они были помещены в центральной точке Земли... Проведенные через глаз плоскости, которые мы называем горизонтальными, везде делят небесную сферу пополам, чего никак не могло бы произойти, если бы величина Земли была заметной по сравнению с расстоянием до небесных тел...» (Алмагест, I, VI).
86 (гак справедливо отмечает Н. И. Веселовский в комментариях к работам Коперника, в результате этого допущения Коперника «неизмеримо расширились масштабы вселенной» (Коперник Н, О вращениях небесных сфер, с. 561).
Там же, с. 41.
38 Там же, с. 24.
534
Раздел четвертый
и неделимых телец, которые называются атомами; так как они неощутимы для наших чувств, то, взяв два или какое-нибудь другое их число, мы не можем сразу получить видимое тело, а все же эти частицы можно так умножить, что, наконец, их будет достаточно для слияния в заметное тело. То же можно сказать и о месте Земли: хотя бы она сама и не находилась в центре мира, но, во всяком случае, само ее расстояние от последнего будет несравненно малым, в особенности по отношению к сфере неподвижных звезд» 39.
Все высказывания Коперника о мире как «подобном бесконечности» или даже «бесконечно большом» ставят нас перед вопросом: почему Птолемей, делая допущение о том, что величину Земли можно принять за исчезающе малую (как бы за точку), тем не менее нигде не говорит о том, что сам космос можно считать бесконечным (или даже подобным бесконечному), а Коперник, принимая за исчезающе малую величину радиус земной орбиты, считает возможным говорить о бесконечности вселенной? Естественно предположить: либо Птолемей должен был из своего допущения сделать вывод о бесконечности размеров вселенной, либо Коперник не может из своего допущения сделать вывод о бесконечности (или даже подобии бесконечности) этих размеров. В самом деле, из допущения, что размерами земной орбиты можно пренебречь в силу их малости по сравнению с размерами вселенной, вытекает только то, что вселенная Коперника расширяется — и очень сильно — по сравнению с вселенной Птолемея, но не вытекает, что она расширяется до бесконечности: ведь радиус земной орбиты больше радиуса Земли в конечное число раз.
Почему же Птолемей, отождествивший, казалось бы, Землю с точкой по сравнению с универсумом, не сделал отсюда вывода о бесконечности последнего? Ведь точка не имеет измерений, и по сравнению с ней всякое тело (в данном случае тело универсума) является бесконечным. Все дело в том, что Птолемей принимал Землю практически равной точке, поскольку все те приборы, которыми он пользовался для измерений, не улавливали
39 Коперник Н. О вращении небесных сфер, с. 25.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
535
и не могли уловить того различия в положении небесных тел, которое должно было бы иметь место, если бы размеры Земли оказывали существенное влияние на положение и видимые движения небесных тел. Не случайно с самых древних времен астрономию отличали от остальных математических наук (арифметики, геометрии, стереометрии): некоторые ее допущения, и притом очень важные, имели не чисто теоретическое, а в известной мере практическое значение, поскольку зависели от точности измерительных приборов. Иными словами, эти допущения носили принципиально приблизительный характер, чего категорически не допускала геометрия и арифметика древних, какой мы ее находим в «Началах» Евклида 40.
Вот почему Птолемей, вроде бы и отождествлявший Землю с точкой, нигде не говорит о том, что в результате этого Небо становится «подобным бесконечности». И не случайно он замечает также, что Земля «подобна точке», «сравнима с точкой», есть «как бы точка» — в этих оговорках и содержится ограничение: Земля есть точка практически , т. е. приблизительно, относительно, а не теоретически, не в точном смысле этого слова. А то, что вселенная «подобна бесконечности», Птолемей не говорит нигде, хотя, видимо, имеет полное право сказать об этом. Но не говорит в силу очень веского соображения: если бы небесный свод был бесконечным, то его движение (вокруг Земли) было бы невозможным. В этом пункте «матема-тпк»-Птолемей и «физик»-Аристотель вполне согласны между собой: как мы уже говорили, Аристотель подробно доказывает, что бесконечно большое тело двигаться не может. Это положение не опровергает и Коперник, он
40 После того как в науке XVII в. процедура измерения стала и поникать также и в физику, физика нового времени, начиная с эпохи Галилея, приобретает тот же характер принципиальной приблизительности, какой раньше имела астрономия. Но революционный переворот Галилея состоял именно в том, что он снял различие между математикой как наукой точной (теоретической) и новой физикой (механикой) как наукой менее точной (практической), поскольку никакое измерение не может не оперировать с приближенными значениями величин. И не случайно новая физика возникла вместе с новой ветвью математики — исчислением бесконечно малых: это исчисление как раз и было методом оперирования с приближенными значениями.
536
Раздел четвертый
полностью разделяет его: «Вследствие известной физической аксиомы, что бесконечное не может быть ни пройдено, ни каким-либо образом приведено в движение, небо необходимо остановится» 41.
Но Копернику-то как раз и нужно «остановить» Небо! Ведь тезис о том, что движется Земля, а небесный свод неподвижен, есть исходный пункт его гелиоцентрической системы! Поэтому аксиома, что бесконечному невозможно двигаться, которая для древней астрономии служила аргументом в пользу конечности вселенной, используется теперь Коперником как дополнительный — и очень веский — аргумент в пользу тезиса о неподвижности неба. «Ибо самое главное,— говорит он,— чем старались обосновать конечность мира,— это и есть движение» 42, т. е. движение небесного свода. Коперник, таким образом, не доказывает бесконечности вселенной (из его четвертого постулата самого по себе такой вывод не следует), но охотно допускает эту бесконечность, ибо такое допущение значительно подкрепляет его идею о движении Земли. Потому он и называет в числе своих важнейших «гипотез» утверждение о том, что «мир неизмерим и подобен бесконечности». Правда, научная добросовестность заставляет Коперника сделать при этом оговорку: «Предоставим естествоиспытателям (видимо, имеются в виду «физики», которые еще и в эпоху Коперника решали принципиальные теоретические вопросы о структуре космоса так, как этого требовала научная программа Аристотеля.— П. Г.) спорить, является ли мир конечным или пет» 43.
Анализируя работы Коперника, мы видим, как понятие бесконечности в эпоху Возрождения становится темой для размышления не только у философов и теологов, по и у математиков: допущение бесконечности они считали необходимым для решения собственно астрономических проблем. Вот что говорит по этому поводу ученик Коперника Ретик: «....господин доктор, наставник мой, наблюдения всех времен вместе со своими собственными всегда имеет перед глазами, собранные в полном порядке, как бы
41 Коперник Н. О вращениях небесных сфер, с. 27.
42 Там же.
43 Там же.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
537
в указателях, а если понадобится что-нибудь или установить, или превратить в практические правила, он идет от первых произведенных наблюдений вплоть до своих собственных и обдумывает, как их согласовать; затем, получив под руководством Урании правильные выводы, он возвращается к гипотезам Птолемея и древних и, наконец, обдумав с величайшей тщательностью, убеждается в силу астрономической avdyxT] (необходимости) в том, что их нужно отбросить и принять новые гипотезы, не без некоторого божественного вдохновения и соизволения богов. С помощью математики он из них геометрически получает добрые следствия, какие можно вывести; затем с принятыми гипотезами согласует наблюдения древних и свои собственные, и только тогда, выполнив все эти труды, он выводит астрономические законы» 44.
Как прекрасно показывает Ретик, Коперник обращается к поискам новых «гипотез» тогда, когда с помощью старых ему не удается «согласовать между собой» наблюдаемые факты, поэтому гипотезы эти важны для него не сами по себе (как для философа, например Кузанца), а для построения стройной системы, объясняющей наблюдаемые факты. Но как при этом ученый «ищет» новые гипотезы? Очевидно, обращаясь к тем общефилософским, точнее, натурфилософским идеям, которые «носятся в воздухе» его эпохи. Коперник, как мы знаем, был хорошо знаком с новыми направлениями мысли — он учился в Италии тогда, когда там получили широкое распространение идеи неоплатонизма. Как показал Л. А. Биркенмайер, Коперник был знаком с Пико делла Мирандолой, одним из выдающихся гуманистов XV в., и, стало быть, ему не были чужды умонастроения итальянского неоплатонизма. Не случайно мы встречаем в работах Коперника нескрываемо полемическое отношение к перипатетикам и почтительновосхищенное — к пифагорейцам и Платону (именно пифаг горейцы были теми античными философами, к которым, помимо платоновской Академии, чаще всего обращались взоры гуманистов-неоплатоников XV в., оппозиционно настроенных по отношению к современному перипатетизму).
Тенденция к пантеизму, заложенная в итальянском
44 Коперник Н. О вращениях небесных сфер, с. 523.
19 П. П. Гайденко
538
Раздел четвертый
неоплатонизме XV в., оказала, надо полагать, свое влияние на «гипотезы» Коперника, который в вопросе о бесконечности в определенном смысле пошел дальше Николая Кузанского: ведь Кузанец, как мы отмечали, считал вселенную конечной, и только богу приписывал атрибут бесконечного. Правда, Коперник делает очень частые оговорки, вводя понятие бесконечной вселенной,— но именно на Коперника опирается Бруно, решительно снимающий все эти оговорки и доказывающий (а не только допускающий в качестве гипотезы) необходимость принятия идеи бесконечности мира уже как философ.
Но прежде чем перейти к рассмотрению учения о бесконечности мира у Бруно, остановимся на вопросе о том, какую роль сыграла гелиоцентрическая система мира для дальнейшего развития науки.
Переворот, совершенный Коперником, имел серьезные последствия для всего естествознания — не только для науки о движениях небесных тел, но и для науки о движении (т. е. физики) в целом: ведь гипотеза о подвижности Земли в корне подрывала основы аристотелевской физики. Эта гипотеза отменяла важнейший принцип перипатетической физики, гласящий, что центр Земли совпадает с центром мира, а именно этот принцип являлся базой для теории естественного и насильственного движения. Правда, сам Коперник, не имея возможности предложить иную, чем у Аристотеля, теорию движения,—что впервые сделал только Галилей — был вынужден ввести не вполне убедительную гипотезу: он допустил, что Земля, не являясь центром мира, является тем не менее центром тяготения. Это утверждение, разумеется, требовало дополнительного обоснования, которое Коперник в сущности дать не мог.
Таким образом, отменив аристотелевское представление о структуре надлунного мира (общее у Аристотеля с общеантичным — не в частностях, но в самом принципе), Коперник сохранил его учение о движении в подлунной сфере. Но при этом у него возникла серьезная трудность; каким следует считать вращательное (вокруг своей оси) и поступательное (вокруг Солнца — его, впрочем, Коперник тоже называет вращательным, поскольку оно круговое, т. е. происходит по кругу) движение Земли — естественным или насильственным? Насильственным его
ЭвоЛЮЦйЯ понятия науки в эпоху Возрождения
539
считать невозможно, так как оно с необходимостью всегда имеет начало и конец 45 и соответственно предполагает определенную внешнюю силу, воздействующую на предмет. Признать же его естественным тоже затруднительно: естественное круговое движение имеют, по Аристотелю, только небесные тела в силу особой их природы, отличной от природы земных тел. Небесные тела эфирны, эфир же — самый легкий элемент, который лежит как бы на границе между материальным и нематериальным, а потому для небесных тел и возможно движение, которое недоступно ничему земному. Копернику же приходится утверждать, что, хотя все земные тела имеют прямолинейное (т. е. конечное) движение, сама Земля движется круговым (бесконечным) движением. Это уже серьезное нарушение границы, проходящей между надлунным и подлунным миром. Вот как Коперник пытается преодолеть возникшее затруднение: «...если говорят, что у простого тела будет простым и движение (это прежде всего проверяется для кругового движения), то это лишь до тех пор, пока простое тело пребывает в своем природном месте и в целостности. В своем месте, Конечно, не может быть другого движения, кроме кругового, когда тело всецело пребывает в себе самом, наподобие покоящегося. Прямолинейное движение бывает у тел, которые уходят из своего природного места или выталкиваются из него, или каким-либо образом находятся вне его. Ведь ничто не противоречит так всему порядку и форме мира, как то, что какая-нибудь вещь находится вне своего места. Следовательно, прямолиней-
«...Если кто-нибудь выскажет мнение, что Земля вращается,— пишет Коперник,— то ему придется сказать, что это движение является естественным, а не насильственным. Все то, что происходит согласно природе, производит действия, противоположные тем, которые получаются в результате насилия. Те вещи, которые подвергаются действию силы или напора, необходимо должны распасться и существовать долго не могут. Все то, что делается согласно природе, находится в благополучном состоянии и сохраняется в своем наилучшем составе. Поэтому напрасно боится Птолемей, что Земля и все земное рассеется в результате вращения, происходящего по действию природы; ведь это вращение будет совсем не таким, какое производится искусственно или достижимо человеческим умом» (Коперник Н, О вращениях небесных сфер, с. 26—27).
19*
540
Раздел четвертый
ное движение происходит только, когда не все идет как следует, а для тел, совершенных по природе,— только когда они отделяются от своего целого и покидают его единство» 4в.
Сохраняя основные принципы перипатетической физики, Коперник, как видим, вводит новое, в отличие от Аристотеля, понятие тела, которое, «пребывая в своем природном месте и в целостности», движется равномерным круговым движением, тем самым уподобляясь покоящемуся (такое движение, уподобляющееся состоянию покоя, свойственно, по Аристотелю, «последнему небу»). Но подобное примирение гелиоцентрической системы Коперника с научной программой Аристотеля было все-таки искусственным и не убеждало современников Коперника. Строго говоря, они были правы: созданная Коперником астрономическая система требовала новой научной программы. Она взрывала рамки старой физики и не могла согласоваться с принципами перипатетической кинематики. Это одна из важных причин, почему гелиоцентрическая система Коперника вплоть до создания новой кинематики, основанной на принципе инерции (пусть даже и не вполне четко сформулированном, как мы это видим у Галилея), не была принята большинством ученых, в том числе и таких выдающихся, каким был, например, Тихо Браге.
Этим же обстоятельством в значительной мере объясняется и та оценка гипотезы Коперника, которая была дана в предисловии А. Осиандера к первому изданию основного сочинения Коперника — «О вращениях небесных сфер». «Всякому астроному,— писал Осиандер,— свойственно на основании тщательных и искусных наблюдений составлять повествование о небесных движениях. Затем, поскольку никакой разум не в состоянии исследовать истинные причины или гипотезы этих движений, астроном должен изобрести и разработать хоть какие-нибудь гипотезы, при помощи которых можно было бы на основании принципов геометрии правильно вычислять эти движения как для будущего, так и для прошедшего времени. И то и другое искусный автор этой книги выполнил в совершенстве. Ведь нет необходимости, чтобы эти гипо
46 Коперник Н. О вращениях небесных сфер, с. 28—29.
Эволюция пойЯтиЯ науки в эпоху Возрождения 541
тезы были верными или даже вероятными, достаточно только одного, чтобы они давали сходящийся с наблюдениями способ расчета...» 47 Нужно сказать, что эта мысль (Эспандера не могла ни поразить, ни даже удивить астрономов того времени: еще со времен античности мы находим именно такого рода отношение астрономов к принимаемым ими натурфилософским гипотезам. На нем основано характерное как для античности, так и для средних веков размежевание между физикой и астрономией, которое, надо сказать, было вполне в духе научной программы Аристотеля.
Для развития научного мышления характерно, однако, что именно то обстоятельство, которое мешало ученым XV — первой половины XVI в. полностью оценить значение системы Коперника, а именно ее противоречие физике Аристотеля, в дальнейшем оказалось причиной триумфа системы Коперника. При разработке новой теории движения Галилей в своей полемике с перипатетиками опирался именно на его систему. К Копернику апеллировал также и Д. Бруно, доказывая свой тезис о бесконечности вселенной.
Джордано Бруно и бесконечная вселенная. Для Бруно, который делает дальнейший шаг в развитии пантеистических тенденций Кузанца, бесконечным является не только бог, но и мир. Различие между богом и миром, столь принципиальное для христианства, у Бруно по существу снимается, что и вызывает те его преследования со стороны церкви, которые закончились в конечном счете столь трагически.
В своем размышлении о природе и мире Бруно исходит из учения Николая Кузанского о боге как абсолютной возможности. В терминологии Аристотеля, унаследованной и большинством средневековых теологов, возможность — это материя. Определение бога как абсолютной возможности чревато поэтому еретическими выводами о том, что чисто духовное существо, каким является христианский бог (так же, впрочем, как и «форма форм» Аристотеля, в которой уже нет никакой возможности — потенциальности, а только действительность — чистая актуальность), ока
47 Цит. по: Коперник Н. О вращениях небесных сфер, с. 549.
542
Раздел четвертый
зывается каким-то образом причастным материи. «...Абсолютная возможность,— пишет Бруно,— благодаря которой могут быть вещи, существующие в действительности, не является ни более ранней, чем актуальность, ни хоть немного более поздней, чем она. Кроме того, возможность быть дана вместе с бытием в действительности, а не предшествует ему, ибо если бы то, что может быть, делало бы само себя, то оно было бы раньше, чем было сделано. Итак, наблюдай первое и наилучшее начало, которое есть все то, что может быть, и оно же не было бы всем, если бы не могло быть всем; в нем, следовательно, действительность и возможность — одно и то же» 48.
Однако тождество возможности и действительности — это принадлежность одного абсолюта; в сфере конечного «ни одна вещь не является всем тем, чем может быть» 49 50. Тем не менее отождествление действительного и возможного в боге, т. е. отождествление бесконечного и единого, предела и беспредельного, или, на языке Кузанца, минимума и максимума имеет далеко идущие следствия. Это означает, что применительно к абсолюту уже нет различия материального и формального (материи и формы). Или, как говорит Бруно: «...хотя спускаясь по... лестнице природы, мы обнаруживаем двойную субстанцию — одну духовную, другую телесную, но в последнем счете та и другая сводятся к одному бытию и одному корню» б0. Теперь нам ясен тезис Бруно, что «имеется первое начало вселен ной, которое равным образом должно быть понято как такое, в котором уже не различаются больше материальное и формальное и о котором из уподобления ранее сказанному можно заключить, что оно есть абсолютная возможность и действительность» 51.
Подобно тому как античное понятие Единого уже у Кузанца, а тем более у Бруно отождествляется с бесконечным, античное понятие материи, которая в отличие от Единого и в противоположность ему есть бесконечно делимое (беспредельное), в свете учения о совпадении про-
48 Бруно Д. Диалоги. М., 1949, с. 242 (курсив мой.— П. Г.)-
49 Там же.
50 Там же.
81 Бруно Д. Диалоги, с. 247.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
543
тивопсложностей получает теперь характеристику «неделимого» 52. При этом, правда, Бруно различает материю телесную и материю бестелесную: первая делима, а неделимой является только вторая 53. Итак, согласно Бруно, существует материя, которой свойственны количественные и качественные определенности (т. е. материя телесная) и материя, которой чуждо и то, и другое, по «тем не менее как первая, так и вторая являются одной и той же материей» 54. Материя как неделимая «совпадает с действительностью» 55 и, следовательно, «не отличается от формы» 56.
Отсюда Бруно делает и следующий шаг: если материя в своем высшем виде (как материя бестелесная) ничем не отличается от формы, то снимается и другое важное различие, которое признавалось и аристотеликами, и плато-пиками, а именно что форма (и соответственно бытие актуальное, бестелесное, наделимое) активна, а материя (потенциальное, телесное, делимое) пассивна. Форма понималась в античности как начало творческое, которое, внедряясь в материю, создает таким образом все оформленное. Бруно не разделяет этого воззрения по вполне понятным основаниям. Он пишет в этой связи: «...следует скорее говорить, что она (материя.— П. Г.) содержит формы и включает их в себе, чем полагать, что она их лишена и исключает. Следовательно, она, развертывающая то, что
52 «...Материя сама по себе не обладает какими-либо размерами в пространстве и поэтому понимается как неделимая, размеры же она приобретает сообразно получаемой ею форме» (там же, с. 262).
63 «...Если бы пожелали принять протяженность за сущность материи, то эта сущность не оказалась бы чуждой ни одному виду материи, но... одна материя отличается от другой единственно лишь по бытию, свободному от протяженности, и бытию, сведенному к протяженности» (там же, с. 262). При этом Бруно апеллирует к неоплатоникам, которые тоже различали два вида материи: чувственную и умопостигаемую. Но апелляция эта не вполне правомерна: умопостигаемую материю неоплатоники не могли бы никогда назвать «неделимой»: для них неделимое и материальное, как и для Платона,— это взаимоисключающие понятия.
54 Бруно Д. Диалоги, с. 260 (курсив мой.— П. Г.),
65 Там же, с. 261.
Там же.
544
Раздел четвертый
содержит в себе свернутым, должна быть названа божественной вещью и паилучшей родительницей, породи-тельницей и матерью естественных вещей, а также всей природы и субстанции» 57. В этом состоит решительная отмена Бруно дуализма духовного и телесного начал, дуализма, который в разных вариантах имел место и в философии Платона и Аристотеля, и в христианской теологии. Таковы следствия, вытекающие из принципов, провозглашенных еще Кузанцем, но доведенных до логического конца именно Брупо.
Таким образом, все понятия античной науки получили не просто ипое, а по существу противоположное содержание. Согласно Аристотелю, материя стремится к форме как к высшему началу; Брупо возражает: «Если, как мы сказали, она (материя.— П. Г.) производит формы из своего лона, а следовательно, имеет их в себе, то как можете вы утверждать, что она к ним стремится?» 58 Согласно Аристотелю, материя — начало всего изменчивого, преходящего, временного, а форма — начало постоянства, устойчивости, вечности. У Бруно все обстоит наоборот: «Она (материя.— П. Г.) не стремится к тем формам, которые ежедневно меняются за ее спиной, ибо всякая упорядоченная вещь стремится к тому, от чего получает совершенство. Что может дать вещь преходящая вещи вечной? Вещь несовершенная, каковой является форма чувственных вещей, всегда находящаяся в движении,— другой, столь совершенной, что она... является божественным бытием в вещах... Скорее подобная форма должна страстно желать материи, чтобы продолжиться, ибо, отделяясь от той, она теряет бытие; материя же к этому не стремится, ибо имеет все то, что имела, прежде чем данная форма ей встретилась, и может иметь также и другие формы» б9.
Таково естественное и логичное завершение того пути, на который вступило теоретическое мышление уже в средние века, но который оно завершило в эпоху Возрождения. Так раскрывается у Брупо тезис, что Единое есть бесконечное,— тезис, который мы встречаем не только в XIII в.,
57 Там же, с. 267.
68 Бруно Д. Диалоги, с. 271.
S9 Там же (курсив мой.— П. Г.),
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения 545
но в самой «зародышевой» форме уже у Филона Александрийского, пытавшегося соединить античную философию с религией трансцендентного (личного) бога. Но между Филоном и Бруно — очень длинный путь, пройденный не только теоретической мыслью на протяжении полутора тысячелетий; между Филоном и Бруно — целый ряд культурно-исторических преобразований, который привел к совершенно новому мироощущению человека.
Новое понимание материи и новое соотношение между материей и формой свидетельствуют о том, что в XVI в. окончательно сформировалось сознание, представляющее собой прямую противоположность античному: если для древнегреческого философа предел «выше» беспредельного, форма совершеннее материи, завершенное и целое прекраснее незавершенного и бесконечного, то для ученого эпохи Возрождения беспредельное (возможность, материя) совершеннее формы, так как бесконечное предпочтительнее перед имеющим конец (предел), становление и непрерывное превращение (возможность/— выше того, что неподвижно. Поэтому, если эпоха Возрождения написала на своем знамени лозунг «назад к античности», не следует думать, что она и в самом деле возвратилась к античным идеалам. Лозунг этот был лишь формой самосознания данной эпохи; он лишь свидетельствовал о ее оппозиции по отношению к традиционному христианству и ее стремлении к секуляризации именно христианского духа. В пей получали своеобразное новое преломление и трансформацию те начала, которые складывались в сознании общества на протяжении более чем тысячелетнего господства христианской религии, что не могло не сказаться на специфике культуры и науки эпохи Возрождения.
Как же изменившееся содержание понятий материи и формы сказалось на космологии Брупо и привело к последовательному пересмотру всей физики Аристотеля? «Итак,— пишет Бруно,— вселенная едина, бесконечна, неподвижна. Едина, говорю я, абсолютная возможность, едина действительность, едина форма или душа, едина материя или тело, едина вещь, едино сущее, едино величайшее и наилучшее. Она никоим образом не может быть схвачена и поэтому неисчислима и беспредельна, а тем самым бесконечна и безгранична и, следовательно, не
546
Раздел четвертый
подвижна. Она не движется в пространстве, ибо ничего не имеет вне се.бя, куда бы могла переместиться, ввиду того что она является всем. Она не рождается, ибо нет другого бытия, которого она могла бы желать и ожидать, так Как она обладает всем бытием. Она не уничтожается, так как нет другой- вещи, в которую она могла бы превратиться, так как она является всякой вещью. Она не может уменьшиться или увеличиться, так как она бесконечна» 60.
Вселенной, таким образом, приписаны атрибуты божества. Пантеизм потому и рассматривался церковью как опасное для нее учение, что он вел к устранению трансцендентного бога. Этих выводов не сделал Николай Кузанский, хотя он и проложил тот путь, по которому до конца пошел Бруно. Представления Бруно о вселенной не имеют ничего общего и с античным пониманием космоса: для грека космос конечен, так как конечное выше и совершеннее беспредельного; вселенная же Бруно бесконечна, беспредельна, так как бесконечное для него совершеннее конечного.
Как и у Николая Кузанского, у Бруно в бесконечном оказываются тождественными все различия. Он совершенно ясно говорит об этом: «Если действительность не отличается От возможности, то необходимо следует, что в ней точка, линия, поверхность и тело не отличаются друг от друга; ибо данная линия постольку является поверхностью, поскольку линия, двигаясь, может быть поверхностью; данная поверхность постольку двинута и превратилась в тело, поскольку поверхность может двигаться и поскольку при помощи ее сдвига может образоваться тело... Итак, неделимое не отличается от делимого, простейшее от бесконечного, центр от окружности» 61. Все существующее, как видим, рассматривается в течении, изменении, взаимопревращении; ничто не равно самому себе, а скорее равно своей противоположности. Это означает, что возможность — становление, движение, превращение, изменение — стала основной категорией мышления.
Одним из важнейших гносеологических положений
60 Бруно Д. Диалоги, с. 273.
ei Там же, с. 275—276.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения 547
философии Бруно является положение о приоритете разума над чувством, разумного познания над чувственным восприятием. Здесь он считает себя последователем Платона и выступает против Аристотеля, который, по его мнению, часто заменяет в своей физике разумное постижение чувственным образом и восприятием. Требование Бруно отдать предпочтение разуму перед чувством вполне понятно: центральная категория его мышления — а именно категория бесконечности — не может быть предметом чувства, но лишь предметом мышления 62.
Итак, если для Платона чувственное восприятие способно быть направленным на движущееся и изменчивое, а разум — на созерцание вечных и неподвижных идей, если, таким образом, восприятию посредством чувств открывается все то, что связапо с беспредельным, т. е. с материей, а уму — то, что очищено от всего материального, текучего, изменчивого, то для Бруно дело обстоит значительно сложнее. С его точки зрения, чувственное восприятие постигает все конечное— а такова, как мы уже видели, всякая форма: ведь она ограничивает бесконечную материю. Напротив, то, что Бруно называет бесконечностью, абсолютной возможностью, в которой все вещи совпадают друг с другом, в которой тождественны противоположности и точка есть линия, а линия — поверхность ит. д., постигается с помощью разума. Конечно, та текучесть и становление, которая есть абсолютная возможность, не тождественна текучести и изменчивости, с которой мы имеем дело в непосредственном восприятии; но в силу парадоксальности пантеистического мышления, где противоположности совпадают, она в определенном смысле и тождественна текучести последней. Правильнее было бы сказать так: конечные вещи и процессы именно со стороны своей изменчивости и подвижности ближе к абсолюту, ибо здесь нагляднее дан момент перехода всего во все, т. е. момент возможности] напротив, для античного сознания конечные вещи были ближе к принципу единства, «предела», «завершенности» со стороны своей относительной устойчивости и неизменяемости, ибо в последних проявлялось начало формы,
вг Там же, с, 304.
548
Раздел четвертый
Понятие бесконечной вселенной несовместимо с положениями аристотелевской космологии. Прежде ^всего, Бруно выступает против тезиса Аристотеля о том, что вне мира нет ничего. «...Я нахожу смешным утверждение,— пишет он,— что вне неба не существует ничего и что небо существует в себе самом... Пусть даже будет эта поверхность (имеется в виду поверхность последнего «объемлющего тела», последнего неба.— П. Г.) чем угодно, я все же буду постоянно спрашивать: что находится по ту сторону ее? Если мне ответят, что ничего, то я скажу, что там существует пустое и порожнее, не имеющее какой-либо формы и какой-либо внешней границы... И это гораздо более трудно вообразить, чем мыслить вселенную бесконечной и безмерной. Ибо мы не можем избегнуть пустоты, если будем считать вселенную конечной» 63.
Тут уже говорит человек нового времени, которому трудно именно вообразить, представить себе конечный космос, не поставив тотчас же вопрос: а что находится там, за его пределами? Если даже космос конечен, то за его пределами — бесконечное пустое пространство, а это уже не «ничто». Именно так рассуждает и Бруно — мыслитель, стоящий у истоков нашего времени: «Я настаиваю на бесконечном пространстве, и сама природа имеет бесконечное пространство не вследствие достоинства своих измерений или телесного объема, но вследствие достоинства самой природы и видов тел; ибо божественное превосходство несравненно лучше представляется в бесчисленных индивидуумах, чем в тех, которые исчислимы и конечны» 64.
Насколько бесконечное превосходит конечное, настолько, продолжает свою мысль Бруно, заполненное превосходит пустое; поэтому коль скоро принимается бесконечное пространство, то гораздо правдоподобнее будет предположить его заполненным бесчисленными мирами, нежели пустым. Аргумент Бруно здесь подобен аргументу Платона: почему демиург создал космос? Потому что это хорошо. Вот что говорит Бруно: «Согласно каким соображениям мы должны верить, что деятельное начало,
63 Бруно Д. Диалоги, с. 307—308.
64 Бруно Д. Диалоги, с. 311—312.
Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения
549
которое может сделать бесконечное благо, делало лишь конечное?» 65 Конечный мир — это, по Бруно, конечное благо, а бесконечное число миров — благо бесконечное. Такой аргумент, видимо, показался бы абсурдным и Платону, и Аристотелю.
Утверждение Бруно о том, что вселенная бесконечна, отменяет аристотелевское понятие абсолютных мест: абсолютного верха, низа и т. д. — и вводит новое для физики того времени понятие относительности всякого места. «...Все те, которые принимают бесконечную величину тела,— говорит Бруно,— не принимают в ней ни центра, ни края» 66. Земля, по Бруно, является центром не в большей степени, чем какое-либо другое мировое тело, и то же самое относится ко всем другим телам: «...Они в различных отношениях все являются и центрами, и точками окружности, и полюсами, и зенитами, и прочим» 67. Все движения тел также являются относительными, и неправильно, считает Бруно, различать тела на легкие и тяжелые: «...Та же самая вещь может быть названа тяжелой или легкой, если мы будем рассматривать ее стремление и движение с различных центров, подобно тому как с различных точек зрения та же самая вещь может быть названа высокой или низкой, движущейся вверх или вниз» 68. Итак, Бруно не останавливается перед самыми смелыми выводами, вытекающими из допущения бесконечности вселенной. Он разрушает аристотелевский конечный космос с его абсолютной системой мест, тем самым вводя предпосылку относительности всякого движения.
Подрывая те принципы, на которых стояла перипатетическая физика и космология, Кузанец, Коперник и Бруно подготовили почву для создания новой научной программы. Работу по созданию новой научной программы осуществил Галилео Галилей.
«5 Там же, с. 317.
вв Там же, с. 330.
67 Бруно Д. Диалоги, с. 337,
•в Там же, с. 338.
Заключение
Мы рассмотрели несколько этапов в развитии науки: период ее становления (VI — начало V вв, до н. э.), формирование первых научных программ (V—III вв. до н. э.), особенности функционирования этих программ в средние века, пересмотр некоторых их положений в XIII— XIV вв., и, наконец, их трансформацию в XV—XVI вв., которая подготавливала переход к науке нового времени.
Формирование первых в истории научных программ — атомистической, математической и континуалистской — имело в качестве своей предпосылки социальные изменения, имевшие место в Греции VI —IV вв. до новой эры. Они были связаны с разрушением локальных целостностей и возникновением интенсивных межгосударственных связей.
Уже в лице первых философов-досократиков мы видим представителей новой формы знания, отличной от мифологической, хотя в некоторых отношениях и весьма родственной мифологии: рефлексия по поводу оснований собственного знания у досократиков еще слаба. Но именно с конца VI в. до н. э. формируются предпосылки первой научной программы, которой была суждена долгая жизнь: мы имеем в виду учение пифагорейцев о том, что «все есть число»,— учение, составившее фундамент математической программы.
В V в., в эпоху бурного развития научно-философской мысли Греции, мы встречаем и первую, но очень резкую критику тех понятий, которыми оперировали философы-досократики и которые еще не утратили глубокой связи с метафорическо-мифологическим мышлением. Эта критика была осуществлена Элейской школой. Именно элеаты подготовили почву для создания систематически раз
Заключение
551
работанных научных программ: парадоксы Зенона послужили мощным толчком к анализу понятий, которые раньше употреблялись недостаточно критически: понятий единицы, числа, пространства, времени, движения, прерывности и непрерывности, неделимого и делимости и т. д.
Стремление решить парадоксы Зенона привело к созданию трех важнейших научных программ античности: атомизма Демокрита, математизма позднейших пифагорейцев и Платона и континуализма Аристотеля. Атомизм Демокрита стоит как бы еще на рубеже между «физика-ми»-досократиками, с одной стороны, и научными программами Платона и Аристотеля — с другой. С досокра-тиками Демокрита сближает то, что его учение с самого начала было ориентировано на объяснение явлений эмпирического мира, а не на решение отвлеченно-теоретических, а тем более логических задач. Демокрит, несомненно, знаком с элеатовской критикой «физиков», но в отличие, скажем, от Аристотеля его волнует не столько проблема непрерывности, в ее логико-математической трактовке, сколько стремление доказать возможность мыслить движение; Демокрит в первую очередь физик в античном смысла этого слова, и о том, насколько плодотворным оказалось его атомистическое учение для науки о природе, свидетельствует вся последующая история науки, особенно в новое и новейшее время.
В то же время учение Демокрита дало толчок рефлексии о природе познания и познавательных возможностях человека: его анализ субъективного характера ощущений и чувственного восприятия как такового заострял интерес к теоретико-познавательным вопросам, которые оказались в центре внимания софистов (V—IV вв. до н. э.). А софисты, поставившие в центр внимания вопросы о природе знания и природе сознания вообще, переключив тем самым исследовательский интерес с внешнего мира на жизнь самого сознания, пришли к релятивистским и скептическим выводам относительно возможностей человека познать истину — критический дух рефлексии достиг у них крайних пределов. Софисты в этом отношении оказались выразителями тех социальных тенденций, которые привели в этот период к обособлению индивида,
552
Заключение
отделению его от социального целого и осознанию себя как основания всякой достоверности; индивидуальное сознание противостоит теперь традиции, традиционным верованиям и ценностям в качестве последней критической инстанции. Эта социально-историческая ситуация, вызвавшая к жизни сначала критику элеатов, а затем и софистов, подготовила культурные и духовные предпосылки для разработки логико-теоретических оснований науки и создания научных программ Платона и Аристотеля.
На базе прежней — раннепифагорейской — математики в IV в. до н. э. была разработана и логически обоснована платоновско-пифагорейская математическая программа. На базе ранней натурфилософии («физики» до-сократиков) сложилась логически расчлененная и представляющая собой связную систему программа естествознания Аристотеля.
Таким образом, все три научные программы, так же как и первые шаги древнегреческой математики, которая в отличие от математики древнего Востока носила не прак-тически-прикладной, а теоретический характер, представляют собой продукт культурно-исторической ситуации и духовной атмосферы, возникшей в связи с разложением традиционного типа общества архаической Греции. В V в. до н. э., а тем более в последующие столетия возникает потребность в опосредовании человеческих связей и отношений сознанием индивида; поэтому критическая рефлексия, опосредованное знание, становится регуля-тивом общественных отношений наряду с традиционными регулятивами — некритически усваиваемыми верованиями, нравами и обычаями. Знание, именно в этой новой его форме — как философское и научное, обоснованное, удостоверенное,— знание становится моментом, необходимым для существования социальной общности. Вот почему проблема знания у Сократа и Платона выступает как проблема нравственности, а наука, как ее понимал, в частности, Платон, претендует на то, чтобы стать фундаментом государственной жизни в целом.
Первые научные программы формируются в тот период, когда достоверным знанием признается только такое, которое может дать себе отчет в своих собственны
Заключение
553
основаниях. Отныне наука решает двойную задачу: она исследует природу и постоянно проверяет достоверность и надежность своих методов исследования.
Отметим вкратце особенности каждой из трех научных программ античности. Прежде всего, атомизм, как и кон-тинуализм, представляет собой физическую программу в том смысле, что каждая из них пытается дать объяснение явлений физического мира и в этом видит свою главную задачу. Различие же между ними состоит в способе объяснения физических явлений: если Демокрит исходит из принципа дискретности первичных «начал» природы — атомов, то создатель другой физической программы — Аристотель — исходит, напротив, из принципа непрерывности. Вот почему мы и назвали созданную Аристотелем научную программу континуалистской. Не случайно поэтому двойственное отношение Аристотеля к атомизму Демокрита: с одной стороны, он признает в Демокрите выдающегося «физика», который стремится решать не отвлеченно теоретические, а естественнонаучные проблемы и имеет богатый опыт изучения эмпирических явлений природы, а с другой — он непримирим по отношению к самому принципу объяснения природы Демокритом, почему и выдвигает против него целую серию аргументов.
Есть и еще одно важное различие между физической программой Демокрита и физической программой Аристотеля. Большой опыт логико-теоретической работы с понятиями, приобретенный Аристотелем в школе Платона, наложил свою печать и на его физическую программу. Она оказалась логически обоснованной: Аристотель четко эксплицировал все ее стороны — отношение физики и метафизики, физики и математики, физики и логики. Важнейшие принципы континуалистской программы Аристотель формулирует в полемике с Зеноном, так же как основные принципы силлогистики — в полемике с элеа-тами, пифагорейцами и Платоном.
Третью программу мы назвали математической, так как в ее основе лежал следующий принцип: в природе познаваемо только то, что может быть выражено на языке математики, поскольку математика есть единственно достоверная среди наук. Из этого принципа исходили пифагорейцы, а наиболее четко его сформулировал Платон.
554
Заключение
Между программами математической и атомистической в свою очередь также можно найти определенное сходство: и та и другая в качестве важнейшего вводят понятие неделимого. Понятие «неделимого», «монады», играло важную роль в философии и математике пифагорейцев. По свидетельству Секста Эмпирика, оно было введено еще Пифагором. Характерно при этом, что «монада» — в такой же мере «единое», как и «единица», в ней совпадают важнейшие понятия и античной математики, и античной философии. Монада неделима, она дает начало всякому единству и всякой целостности. Однако в ранний период, судя подошедшимдо нас свидетельствам, сами пифагорейцы не ставили вопроса об онтологическом отатусе монады. Он возник лишь позднее, отчасти благодаря анализу единого у элеатов, отчасти в результате критической деятельности софистов. Демокритовское неделимое — атом — можно, видимо, рассматривать как физическую интерпретацию пифагорейской монады; вводя понятие неделимого физического тела, Демокрит стремился решить физические и натурфилософские, а не математические и логические проблемы.
Платон в-отличие от него вводит понятие неделимого для того, чтобы решать логические и философско-математические вопросы; при этом он определяет статус единицы (единого) как идеальный. Арифметика как наука о числе есть, по Платону, наука, изучающая идеальные образования. Нетрудно понять, почему в этой связи в центре его внимания оказывается вопрос об онтологическом статусе геометрических объектов как объектов пространственных, а тем самым и о природе пространства. Стремясь понять связь арифметики как науки о числе и геометрии как науки о пространственных объектах, Платон устанавливает промежуточное положение пространства (между миром идеальным, с одной стороны, и чувственным — с другой) и определяет пространство как геометрическое.
Математическое неделимое у Платона — это не мельчайшая частица вещества, как у Демокрита, и даже не наименьшая «часть» пространства х, а невещественное и
1 Такое истолкование «неделимых линий» Платона дается в интересной, ярко и талантливо написанной книге А. Н. Вяльцева
Заключение
555
внепространственное образование, идеальный объект — число. Всякая же пространственная фигура — плоская или объемная — неделима, по Платону, лишь как чувственный аналог своего идеального прообраза; именно в этом смысле неделимы «элементарные тела», о которых идет речь в платоновском «Тимее». Точка, согласно Платону, неделима как «пространственный образ» единицы,, линия — как «образ» двойки, плоскость (треугольник) — как пространственное «изображение» тройки, а «первое тело» (пирамида) — как образ четверки. «Разделить» линию в этом смысле означает разделить не ее пространственный образ, данный нашему представлению (т. е., например, разделить отрезок пополам), а ее идеальный прообраз — двойку. Результатом такого деления линии будет точка., результатом деления плоскости — линия и т. д.
Против математической программы с резкой критикой выступил Аристотель, убежденный в том, что не математика должна лечь в основу физики, а, наоборот, физика как первая среди наук должна быть фундаментом всех остальных, в том числе и математики. Математика, по Аристотелю, идет «после» физики, предмет ее изучения — число, линия, плоскость; объем — это только абстракция от физических объектов. Аристотель считает, что природу невозможно понять, если исходить из того, что она «построена» по законам математики.
Начиная с XVII в. физика и математика оказываются органически связанными, и полемика между математиками и физиками, подобная античной, становится совершенно невозможной. Физика теперь строится на фундаменте математики. Не случайно такие крупные современные ученые, как, например, В. Гейзенберг, Н. Бор и другие, считают, что в современной науке реализовалась именно математическая программа античности. Наука нового времени, убежденная в том, что «книга природы написана на языке математики», пошла по пути, намеченном античной математической программой. Однако
«Дискретное пространство-время». Вяльцев считает, что, по Платону, «всякая прямая линия состоит из некоторого конечного числа таких (наименьших, неделимых.— П Г.) отрезков» (Вяльцев А. Н. Дискретное пространство-время, М., 1965^ Q. 136).
556
Заключение
в новое время сам характер математики, так же как и ее логико-философское осмысление, изменился по сравнению с математикой античной.
^-^ Рассматривая содержание математической программы античности, как оно реализовалось прежде всего в «Началах» Евклида, мы стремились выявить специфику античной математики, а также те философско-теоретические предпосылки, на которые она опиралась. При этом обнаружилось, что, несмотря на все различие научных программ и возникших на их основе научных теорий античности, они имели между собой и нечто общее. Это общее можно заметить и в античной науке и в науке позднейшего времени. При сравнении античной науки с наукой средневековой, которая отличалась от античной не столь радикально, как наука нового времени, можно заметить существенные различия в стиле мышления средневековых ученых и ученых древности. В свете этого различия ярче выступает то общее, что имели между собой представители греческой науки, даже если они исходили из разных научных программ. По-видимому, эта общность есть результат принадлежности всех — столь между собой различных — научных программ к одной культурно-исторической эпохе, наложившей свою печать на характер мышления и математиков, и физиков античности. Естественно поэтому, что общими оказываются у античных ученых и философов их «предельные» понятия и интуиции, которые находят свое выражение именно в научных программах, служивших как бы посредником между общим духом эпохи, ее культурой, ее специфическим мировоззренческим «горизонтом», с одной стороны, и наукой этой эпохи — с другой. Научная программа как бы «переводит» на язык научных категорий и понятий с трудом уловимую в строгих понятиях и как бы «разлитую в воздухе» особенность данной культурно-исторической общности, связанную с характером ее производства, общественных отношений и спецификой их осмысления, с особенностями
\ сознания носителей данной общности.
\ Наиболее ярко общность античного научного мышления по сравнению со средневековым обнаруживается при анализе такой важной фундаментальной категории, как «бесконечность». Греческое понимание бесконечности как
Заключение
557
беспредельности, апейрона, характерно как для художников и поэтов, так и для философов и физиков. Для грека бесконечное — это то, что не имеет конца, предела. Вообще говоря, средневековый теолог и ученый с таким определением согласен. Но при этом отношение к бесконечному в античности и в средние века существенно различается. Беспредельному греки противопоставляют предел. У пифагорейцев пределу соответствует единое, свет, хорошее; беспредельному — многое, тьма, дурное и т. д. И хотя для существования мира необходимы оба эти начала, но их ценностный ранг не вызывает никаких сомнений. Еще более определенно отношение к беспредельному у элеатов: беспредельное сведено к небытию. Отрицая мыслимость множества, элеаты в сущности отождествляли бытие с единым (т. е. с пределом). У Платона беспредельное — это темное, текучее, неуловимое начало — материя. Наконец, у Аристотеля бесконечное мыслится только как потенциально бесконечное, бесконечно делимое; в качестве момента формы и начала движения ему противопоставляется неделимое. У всех этих мыслителей бесконечное по существу отождествляется с древним, идущим из античной мифологии, хаосдри,, которому противостоит космос — начало оформленное и упорядоченное, причастное пределу. В этом смысле понятие «конечного» — того, что имеет конец, предел, завершенность,— есть понятие для греческого сознания ценностно более высокое, чем понятие бесконечного. Не здесь ли кроется причина того, что ни греческая математика (включая Евклида, Архимеда, Паппа, Птолемея и др.) не знает актуальной бесконечности, пи греческая физика не допускает актуально-бесконечного — во всяком случае там, где она дает себе отчет во всех своих предпосылках. В этом отношении древнегреческая наука имеет сходство с древнегреческим искусством, которому свойственно чувство формы, чувство меры и границы, откуда и происходит его удивительная пластичность.
В средние века научное мышление развивается в новой культурно-исторической обстановке, в отличной от античности атмосфере. Природа рассматривается теперь как «творение» трансцендентного бога, лишенное — в строгом смысле слова — своей самостоятельности. Су
558
Заключение
щественно меняется также и понимание человека и представление о задачах и целях познания. Весь «посюсторонний» мир предстает для средневекового человека как явление «потустороннего», и это не может не сказаться на отношении к науке. В средневековье не были созданы новые научные программы: оно унаследовало программы античные, пытаясь дать им новое истолкование. При этом переосмыслялись такие фундаментальные понятия античного научного мышления, как бесконечное и конечное, целевая и действующая причины, естественное и искусственное (т. е. «физическое» и «техническое») и т. д. Но часто в средневековом мышлении мы встречаем и простое изменение ценностных установок, ценностного отношения к тому или иному понятию, своего рода переворачивание ценностной шкалы. Это также влечет за собой существенные преобразования в античной научной программе и имеет далеко идущие следствия.
Возьмем в качестве примера понятие бесконечного, как оно толковалось в греческой науке и каким оно стало в науке средневековой. Трансцендентность христианского бога, его внеприродность, его личный характер предполагают рассмотрение его в новых по сравнению с античностью категориях — категориях воли и бесконечного могущества. Все, что имеет предел, предстает теперь как конечное, как творение бесконечного творца. Если «беспредельное» у греков есть атрибут хаоса, лишенного формы, то «бесконечное» в средние века есть атрибут наивысшей реальности — божества. Для средневековых теологов и ученых поэтому в понятии актуальной бесконечности нет ничего, что мешало бы включить его в научный обиход. Напротив, как подчеркивал Дунс Скот, бесконечное есть самый совершенный предмет постижения. Отсюда интерес средневековой схоластики к таким проблемам, как проблема бесконечного пространства или бесконечно большого тела,— проблемам, которые обсуждаются уже с иных мировоззренческих и методологических позиций, чем во времена Аристотеля, с одной стороны, и у античных атомистов — с другой. Гроссетет подверг критике контину-алистскую программу античности именно за то, что в ней не допускается актуально бесконечное, при этом характерна его аргументация; хотя человеку ц невозможно по-
Заключение
559
стигнуть актуально бесконечное множество, но для' бога оно не может остаться непостижимым. Потенциально-бесконечное у Гроссетета объявляется низшим видом бес-ко-нечности, которое только и доступно человеческому познанию. Истинно-бесконечным, с его точки зрения, является актуально-бесконечное. Причем важно подчеркнуть, что потенциально-бесконечному здесь противостоит не единое, как у пифагорейцев, Платона и Аристотеля, а актуально сущее бесконечное множество единиц (точек пространства, моментов времени и т. д.).
Именно в средневековой физике впервые появляется понятие бесконечно большого тела, бесконечно удаленной точки, а также понятие экстенсивной и интенсивной бесконечности при рассмотрении движения. Средневековые философы и ученые подготовили тот переворот в научном мышлении, который произошел в XVII в. и привел к созданию научных программ нового времени.
В связи с пересмотром исходных понятий античной науки интересен трактат Николая Орема «О соизмеримости и несоизмеримости движений неба». В этом трактате Орем пытается доказать, что по крайней мере некоторые из движений небесных тел несоизмеримы. Характерно при этом, что мысль о возможной несоизмеримости в движении «самых совершенных тел» не только не огорчает, но, напротив, радует Орема, ибо если движения неба соизмеримы, то «нет ничего нового под луной», а вечно происходит «возвращение равного» через определенные промежутки времени, носящие название «мирового года». Если же некоторые движения неба, как говорит Орем, несоизмеримы, то вечный круг размыкается: ничто в мире уже не повторится дважды. Таким образом, круг для античной науки — воплощенное совершенство — оказывается крепко связанным с идеей вечного возвращения равного, с характерным для греков неисторизмом, а потому, с точки зрения средневекового мыслителя, более подобающим божеству оказывается не круг, а бесконечная линия, бесконечное движение вдаль, бесконечная прямая — образ дурной бесконечности, т. е. с античной точки зрения-г беспредельности, а значит, хаоса, господства материи над формой. Так в средние века мы наблюдаем «переоценку ценностей», смену установок сознания, свя
Заключение
занную с изменением культурно-исторической атмосферы и социально-экономической структуры общества.
Следующий существенный перелом в эволюции научного мышления происходит в эпоху Возрождения. Этот новый этап в развитии науки внутренне связан с изменениями в социально-экономическом развитии Западной Европы. В XV в. начинается процесс секуляризации во многих областях общественной и культурной жизни; известную самостоятельность по отношению к церкви приобретают искусство, философия и, конечно же, наука. В эпоху Ренессанса формируется новый тип человека — он становится все более самостоятельным, освобождается от прежних связей и от сознания своей зависимости от традиции, он сознает себя иначе, чем человек античный и средневековый: он теперь творец самого себя. Не случайно в эпоху Возрождения столь символическое значение приобретает фигура художника: в ней воплощается идея человека-творца, человека, вставшего на место бога.
В эпоху Возрождения пересматриваются такие ключевые понятия науки, как «материя», «движение», «становление». Они оказываются внутренне связанными с трактовкой бесконечности. Благодаря учению Николая Кузанского о бесконечности, а также о совпадении «максимума» и «минимума» подготавливаются предпосылки для появления новой математики, математики бесконечно малых, с одной стороны, и новой космологии — с другой. Учение Кузанца находит свое продолжение в теории бесконечных миров Д. Бруно, а также в гелиоцентрической системе Н. Коперника. Именно в эпоху Возрождения разрушаются предпосылки, на которых держались научные программы античности, и возникает настоятельная потребность в создании новых научных программ. Такие программы и формируются в ходе научной революции XVII в. Однако старые научные программы отменяются далеко не сразу. Даже и в XVIII в. некоторые физики еще работают в рамках перипатетической программы.
Указатель имен
Августин Аврелий 81, 384— 391, 394-398, 401—403, 409— 422, 424-426, 432, 440, 447, 460, 474, 499, 521
Аверинцев С. С. 175
Аверроэс 445, 451, 452, 474, 479-481
Авиценна 432, 451, 452
Аделард Батский 445
Аккорзо 510
Александр Афродизийский 99
Александр Македонский 370,371, 378, 383
Алкивиад 497
Алкмеон из Кротоны 22
Альберт Великий 448, 454, 455
Альберти Леон Баттиста 509
Алькинди 432
Альфараби 432
Амвросий 440
Аминий 57
Амфином 185
Анакреон 119
Анаксагор 23, 68, 74, 77, 78, 115, 249, 255, 257, 298, 368
Анаксимандр 23, 88, 276
Анаксимен 23, 88, 249, 276
Ананьин С. А. 122
Ансельм Кентерберийский 522
Антисфен 72
Антифонт 119
Аполлодор из Кизика 57, 75
Аполоний Тианский 384
Аппельрот В. Г. 497
Апулей 439, 440
Арендт Ф. 102
Аримнест 105
Аристоксен 22
Аристотель 7, 14, 23—25, 30— 34, 39, 40, 42—49, 53-56, 58, 60, 66—69, 73, 74, 76, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 90—93,
95, 98—100, 105—109, 115, 128, 132, 134, 158, 159, 164, 169-175, 179-181, 186, 190, 191, 202, 206, 208—211, 216, 218, 220, 224—227, 230, 231, 237, 243—245, 247, 249, 253— 310, 312-344, 346-380, 388, 394, 396, 397, 407, 413, 415, 416, 421, 422, 425, 426, 429-432, 436, 439—445, 447, 448, 450-456, 459—462, 465—470, 473, 474, 476—486, 488-490, 493, 497, 502, 512, 513, 516, 520, 525, 526, 535, 536, 538— 541, 544, 545, 547—549, 551— 553, 555,. 557—559
Аристофан 130, 377 Аронов Р. А. 82
Архимед 53, 101—104, 111, 189, 194, 309, 310, 312, 428, 488, 526, 557
Архит Тарентинский 14, 22, 24, 32, 37, 42, 45, 55, 76, 108, 134, 159, 169, 184, 188, 189, 488, 490
Асклепиад 360
Асмус В. Ф. 82, 100, 114 Ахиллес 67, 69
Ахундов М. Д. 82
Аэтий 37, 47, 86, 90
Байервальтес В. 271 Баконторп Дж. 467, 468 Бар — Хиллел И. 61 Баур Л. 432, 433, 528 Башмакова И. Г. 18, 19, 48, 52, 66, 82, 101, 311, 323
Беккер О. 48, 53, 54, 182-184, 191, 196, 198,
Беме Я. 147
Бенвенист Э. 261
Бернет Дж. 30, 71
562
Указатель имен
Биаджо Пелакани (Блазиус Пар-мский) 457
Биркенмайер А. 444, 445
Биркенмайер Л. А. 537
Богомолов С. А. 66, 69
Боккачио 508, 510
Бонавентура 420—422
Бор Н. 555
Боэций 432, 439, 451, 452, 521
Браге Тихо 540
Брагина Л. М. 509
Брадвардин Т. 76, 440, 445, 463-465, 482
Брентин 22
Бруиетто Латини 431
Бруно Д. 468, 538, 541—549, 560
Брюгге В. ван 420, 421
Брюнсвик Л. 51
Буридан Жан 455—457, 481, 482, 484, 486, 487, 490, 491
Буркгардт Я. 508—511
Бэда Достопочтенный 399, 400, 428, 432
Бэкон Роджер 445, 452, 473, 509
Вавилов С. И. £6
Вардер Б. Л. (ван дер Варден) 17, 19, 20, 42, 50, 55, 171, 172, 188, 189
Баррон Марк Теренций 386, 433
Василий Великий 393
Васильева Т. В. 129
Вейль Г. 61
Вергилий 384, 439
Веселовский И. Н. 17, 102, 530, 533
Викторин Марий 433
Виламовиц — Мёллендорф У.
188
Виланд В. 296, 299, 300
Вилейтнер Г. 218, 310, 312
Вильгельм де ла Маре 420
Вильгельм Альнвик 473
Вильперт П. 222
Виндельбанд В. 23, 116, 117
Витрувий 203, 377
Выгодский М. Я. 178—182
Ряльцев А. Н. 554, 555
Гален 429
Галилей Галилео 29, 66, 104, 105, 249, 293, 299, 300, 305, 306, 334, 343—345, 487, 492, 493, 495, 516, 535, 538, 540, 541, 549,
Гартман Эд. 422
Гаспаров М. Л. 448, 449
Гатри У. К. 26, 32
Гвиберт Ножанский 449
Гегель Г. В. Ф. 66, 121, 124, 316, 373, 470
Гейберг И. 102, 181
Гейзенберг В 42, 223, 246, 247, 256, 555
Гемин 442, 443, 489
Генрих Аристипп 451
Генрих Гентский 461, 462, 464
Гераклит 23, 30, 72, 95, ИЗ, 269
Геральдус Одонис 452
Герард Кремонский 442, 451
Герардо Болонский 467, 468
Герод 7, 379
Герои 194, 488
Гесиод 28
Гильом из Конше 445
Гиппас из Метапонта 21, 22
Гиппий из Элиды 115, 117, 119
Гиппократ 33, 36, 429
Гиппократ Хиосский 21, 188
Гиппон из Самоса 22
Главк из Регина 75
Главкон 169, 200, 202
Гомер 28, 119
Гомперц Т. 360
Горгий 114, 115, 117, 119
Грант Р. М. 384
Григорий Нисский 485, 486
Гуго из Сен — Виктора 445
Гундиссалин Д. /Гундисальви/ 432—435, 438
Гуссерль Э. 414
Гюйгенс X. 491
Давыдов 10. Н. 376
Данте 431, 432, 509, 510
Дейстерхёйс Э. 103
Декарт Р. 299, 334, 348, 488, 491
Демодок 22
Демокрит 23, 54,66, 73—79, 81 —
Указатель имен
563
94, 96—108, 110, 111, ИЗ, 114, 123, 190, 216, 218, 239, 248, 249, 255, 257, 258, 275, 297, 298, 310, 337, 342, 346, 363— 365, 367, 380, 388, 427, 516, 551, 553, 554
Демосфен 508
Денцингер Г. 447
Дёринг В. 23, 24, 26
Джои Пеккам 420, 445
Дикеарх Мессинский 369
Дильс Г. 35, 90, 203
Диоген Лаэрций 57, 74—76, 78, 100, 117, 168
Диокл 22
Диомед 377
Дионисий Псевдо—Ареопагит
432
Дорфман Я. Г. 243, 246
Дунс Скот 420, 426, 472, 473, 484, 558
Дюгем П. 109, НО, 176, 380, 458
Евдем Родосский 27, 369
Евдокс Книдский' 24, 45, 48, 49, 53, 55, 102, 134, 159, 169, 184, 189, 198, 309-313, 318, 323, 343, 529
Евклид 14, 16, 24, 25, 31, 38, 51, 53, 55, 62—64, 145, 159, 170, 173, 174, 178, 180—182, 184, 185, 187, 191, 192, 198, 211-214, 310, 312, 313, 324, ' 343, 428, 440, 494, 521, 522, 524-526, 535, 556, 557
Еврипид 377, 378, 508
Егунов А. Н. 162
Жильсон Э. 398, 458
Закс Е. 247
Зеленский Ф. Ф. 370, 378, 379
Зенон Элейский 49, 54—57, 60, 61, 65—75, 77, 78, 89, 105, 112-114, 127, 157, 161, 218, 277, 298, 302—305, 312, 466, 551, 553
Зибек Г. 363
Зубов В. П. 81, 82, 84, 97, 98, 103, 104, 111, 248, 307, 321,
380, 440, 451, 452, 464, 469, 473, 494
Иоанн Златоуст 391—394, 398, 399, 401, 402
Иоганн Каноник 452
Иоанн Филонов (Грамматик) 90, 344
Ион Хиосский 22
Исидор Севильский 430, 432, 433
Исихий 434
Йегер В. 367
Казанский А. П. 363
Каллипп 529
КантИ. 66, 177, 266, 290, 361
Кантор Г. 54, 69
Карпов В. П. 260, 263, 285, 286
Кассирер Э. 79, 80, 256, 367, 506, 526
Кеплер И. 493
Келле В. Ж. 372
Китцлер Б. 236
Клибанский Р. 440
Койре А. 380, 459, 461, 465, 467, 471
Коперник Николай 493, 528—
541, 549, 560
Корнфорд Ф. М. 56
Коши О. Л. 66
Кремер Г. 254, 374, 375
Критий 118, 119
Кромби А. 380, 406, 428, 443
Ксенократ 81, 84, 168, 210, 216, 225
Ксенофан Колофонский 57, 368
Ксенофил 22
Кубицкий А. В. 260, 261, 284
КунТ. 346
Лаврентий Лид 35
Лавров П. Л. 371, 372
Лакатош И. 9
Лактанций 85
Ланге Ф. А. 385
Лассвиц К. 83
Лебедев А. 224
Лев X 447
Левкипп 74, 77—79, 83—85, 87, 89,. 91-93, 97, 98, 105, 107, 108, 123, 342
564
Указатель имен
Лей Г. 453
Лейбниц Г. В. 66, 490, 491
Лейнфельнер В. 58, 59, 70, 77, 89, 95, 114, 159,
Лекки Г. 384
Ленин В. И. 139
Леонардо да Винчи 509, 514
Лефф Г. 445
Липман Э. 246
Лиспе 22
Лихачев Д. С. 434
Лозинский М. Л. 510
Лоренцо Великолепный 510
Лосев А. Ф. 25, 43, 63, 96, 113— 115, 117, 119, 120, 123, 130, 206, 211, 235, 284, 285, 511, 515
Лузин Н. Н. 60
Лукиан 384
Лурье С. Я. 74-76, 79, 81-84, 86, 88—94, 97—101, 104, 105, 107, 108
Майер А. 380, 450, 452, 455, 457, 467, 474, 476, 479, 481, 487, 491
Макиавелли 511
Маковельский А. О. 21, 22, 27, 30-32,36-41,43-45,47, 57, 60, 65, 72, 78, 118
Мандонне П. 425
Маркс К. 5, 150, 368, 369, 504—506, 557
Мау Ю. 82, 84
Мах Э. 490, 491
Менандр 7, 377
Менестор из Сибариса 22
Менехм 55, 184-186, 191
Менон 369
Микулинский С. Р. 6
Миллер Т. А. 430
Минь Ж.—П. 399, 406
Михаил Скот 451, 452
Мнесарх 30
Мойрер К. 527
Моммзен Т. 377; 378, 383
Монье Ф. 514
Мордухай—Болтовской Д. Д.
31, 49, 51, 53, 174, 182, 214
Морин Г. 231
Мюллер И. П. 453
Наан Г. И. 60, 61, 71 Нейгебауэр О. 17, 18 Несмелов В. И. 485, 486 Николай Кузанский 517—528, 533, 537, 538, 541, 542, 544, 546, 549, 560
Николай Орем 456, 493—496, 498-502, 519, 559
Никомах 439
Ньютон И. 94, 95, 237, 299, 300, 305, 334, 405, 487, 490, 491
Овидий 432
Оккам Вильям 452, 482
Оливи Петр Иоганн 420, 422— 426, 452, 472
Олыпки Л. 431
Омар Хайям 312
Ориген 384, 402, 404, 405, 424, 440, 471
Осиандер А. 540, 541
Паоло из Перуджи 467
Папп 488, 489, 557
Парменид 57—61, 74, 78, 87, 89, 112, 143—145, 158, 161, 257, 269, 275, 277
Паульсен Ф. 429, 430
Петрарка Ф. 510
Петрон 22
Пико делла Мирандола 512, 513, 537
Пифагор 20—24, 26, 27, 30, 41, 42, 47, 52, 61, 63, 75, 76, 78, 86, 105, 109, 439, 498, 521 554
Планк М. 299, 300
Платон 7, 14, 23, 24, 30, 39, 42, 45, 49, 53—58, 60, 73, 74, 76, 81, 84, 91—93, 97, 107, 108, 110, 111, 115, 118, 122, 125, 127-130, 133-179,
184, 186—210, 212, 214-232, .234—255, 257—260, 262, 263, 268—273, 275, 277, 278, 280— 283, 288—293, 297, 298, 306, 314, 315, 317, 332-334, 336, 337, 339, 340, 350-353, 357-359, 363, 364, 374-376, 380, 385, 388-390, 401, 402, 408, 409, 416, 417, 425, 427, 429,
Указатель имен
565
439—441, 445, 447, 450, 470, 476, 480, 488—491, 512, 516, 518-520, 522, 526, 537, 543, 544, 547—549, 551—555, 557, 559
Плефон Георгий Гемист 447
Плиний Старший 370, 371, 395, 431
Плотин 237, 408, 414, 415, 440
Плутарх 88, 101, 189, 190
Полимнаст 22
Попов П. С. 362
Порфирий 105, 389, 451
Прантль К. 319
Продик 117, 118
Прокл 23, 27, 38, 39, 178, 179, 181 — 187, 190-193, 207, 208, 211, 215, 219, 237, 373, 408, 489
Протагор 114, 117, 119, 123, 125, 126, 129, 134
Протарх 164
Птолемей 428, 431, 441, 444, 459-461, 529-535, 537, 539, 557
Рабан Мавр 406
Радлов Э. Л. 375
Ракитов А. И. 9, 11
Ратцингер И. 420
Рейвен Дж. 56
Рейдемейстер К. 62
Ретик 532, 533, 536, 537
Ричард из Мидлтауна 462—464
Ричард Суисет 440
Роберт Гроссетет 208, 445, 473—
476, 492, 502, 509, 558, 559
Родный Н. И. 9, 13
Рожанский И. Д. 68, 77, 78
Розенфельд Б. А. 27, 82, 312
Росс В. 267, 268
Руднев В. И. 33
Сабо А. 16, 60-64, 170, 172, 173, 192, 193
Самбурский С. 31
Самсонов Н. В. 163
Сартон Дж. 451
Секст Эмпирик 55, 56, 63, 64, 259, 554
Сигер Брабантский 420, 422, 424, 425, 452, 453
Симпликий 22, 65, 83, 89, 90, 96, 97, 225, 442
Сириан 81, 82
Скворцов К. 385, 386, 401, 414, 417
Соколов В. В. 382, 503
Сократ 23, 57, 74, 80, 115, 119, 120, 124, 126—128, 130, 131, 133-135, 137, 140, 141, 143— 145, 161—164, 166, 169, 188, 200, 222, 223, 250, 257, 270, 270, 409, 508, 512, 552
Соловьев В. С. 122
Сотион 57
Софокл 7
Спевсипп 35, 37, 38, 184—186, 187, 191—193, 210, 225, 260
Спенсер Г. 299
Степин В. С. 9
Стобей 44
Стройк Д. Я. 66
Тампье Э. 425, 452, 457-459 Таннери П. 21, 35, 37, 38, 57, 65, 77
Тахо—Годи А. А. 235
Теон Смирнский 32, 384,
Теофраст (Феофраст) 7, 54, 89, 216, 369, 371, 378, 379
Тертуллиан 385
Теэтет 24, 55, 134, 169, 198, 242
Томасов Н. Н. 143, 147
Торндайк Л. 27, 28
Тройский И. М. 379
Трубецкой С. Н. 43
Фалес Милетский 20, 22, 23, 27, 88, 141, 249
Фантон 22
Фемистий 81
Феодор Антиохийский 451
Феодор из Кирены 21 Феофраст см. Теофраст
Ферли Д. 82, 84, 85,
Филиппо Виллани 431
Филолай 14, 22—24, 35, 37 — 39, 43-47, 56, 75, 209
Филон Александрийский 471, 472, 545
566
Указатель имен
Финк Э. 332
Фихте И. Г. 373
Фичино Марсилио 214, 217, 513
Флакк Верий 433
Фогель К. 26
Фойгт Г. 507
Фома Аквинский 421, 425, 443, 448, 452, 459, 469, 472, 480, 481, 509
Фома из Уилтона 481
Фохт Б. А. 179, 268
Фра — Филиппо — Липпи 511
Франк Ф. 325—327
Франк Э. 23—26, 41, 42, 76, 105—109, 225, 248
Франциск из Маршии 452
Фрасил 75
Фрейденберг О. М. 377, 378
Френкель А. А. 61
Халкидий 440
ХисЛ. 180
Хоппе Э. 103
^Крисипп 101
Цадноби делла Страда 510
Щейтен Г. Г. 48, 50, 52, 184— 186
Целлер Э. 22
Дицерон 88, 91, 119, 120, 384
*Челлини Бенвенуто 510
Шадевальдт В. 248, 471
Шенбергер Л. 192
Шешо М. 449, 450
Шопенгауэр А. 422
Штадтер Э. 421—426
Штальмах В. 286
Штенцель Ю. 175, 217
Шульц Д. 230
Эврит 22, 46
Эйкен Г. 406
Экфант 47
Экхарт Иоганн, Мейстер Экхарт 147
Эмпедокл 88, 239, 249, 255, 257, 298, 360
Энгельс Ф. 5, 369, 503—506,
508, 557
Эпаминонд 22
Эпикур 78, 85, 89, 93, 98, 99, 190
Эратосфен 189
Эсхил 7, 119
Эхекрат 22
Юнге Г. 26, 51, 56
Юшкевич А. П. 218, 519
Яков Венецианский (Джакопо из Венеции) 451
Ямвлих 21, 23, 408
Ясперс К. 408
Оглавление
Введение ................................. 5
Раздел первый У истоков научно-теоретического мышления ...................................................... 16
Глава первая Пифагореизм и истоки древнегреческой математики................................................ 16
Глава вторая Элейская школа и первая постановка проблемы бесконечности.................................... 57
Раздел второй Становление первых научных программ . . t 74
Глава первая Научная программа Левкиппа — Демокрита: атомизм............................................... 74
Глава вторая Греческое Просвещение. Становление гуманитарного знания................................... 112
Глава третья Платон и теоретическое обоснование математической программы в античной науке 135
Глава четвертая Континуалистская программа Аристотеля 254
Раздел третий Эволюция понятия науки в средние века 3801'
Глава первая Средневековое понимание природы и человека ........................................... 382'
Глава вторая Судьба античных научных программ в средние века................................................ 427’
Глава третья Пересмотр предпосылок античной науки в средние века.......................................... 458>
Раздел четвертый Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения .................................................. 505-
Глава первая Новое понимание человека в эпоху Возрождения. Человек как творец самого себя 507
Глава вторая Проблема бесконечности в эпоху Возрождения ................................................... 517
Заключение.............................. 550
Указатель имен........................, 561
БИБЛИОТЕКА
V ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
- ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Эволюция понятия науки Становление и развитие первых научных программ
Пиама Павловна
Гайденко
Утверждено к печати Институтом истории естествознания и техники АН СССР
Редактор издательства
Л. В. Пеняева
Художник
А. Г. Кобрнн
Художественный редактор
С. А. Литвак
Технический редактор
C.f Г. Тихомирова
Корректоры
Ю. Л. Косорыгин, Л. И. Харитонова
ИБ № 15146
Сдано в набор 19.07.79.
Подписано к печати 14.12.79.
Т-17876. Формат 84X108732
Бумага типографская № 2.
Гарнитура обыкновенная.
Печать высокая
Усл. печ. л. 29,82. Уч.-изд. л. 31,7.
Тираж 5300 экз. Тип. эак. 2138 Цена 2 р. 10 к.
Издательство «Наука» 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., Ю