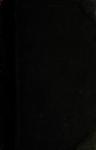Текст
СЭхиіль» <Е>аг*е>.
МОРАЛИСТЫ
первой третйЛХІХ вѣка.‘-
/Іереводъ съ французскаго подъ РЕДАКЦІЕЙ
Н. Н. Шамонина.
МОСКВА.
Ріа даніе II. А. Баландина,
1900.
Эмиль Фагэ.
ПОЛИТИЧЕСКІЕ МЫСЛИТЕЛИ
II
МОРАЛИСТЫ
первой трети XIX вѣка.
Переводъ съ французскаго
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ
Н. Н. Шамонина.
МОСКВА.
Изданіе И. Баландина.
1900.
Дозволено цензурою. Москва, 22 сентября 1899 года
Типографія И. А. Баландина, Волхонка, домъ Михалкова.
ОГЛАВЛЕНІЕ.
Стр.
Предисловіе.......................................... V
Жозефъ де-Местръ................................ 1
I. Политическая теорія Ж. де-Местра..................... 3
II. Взгляды де-Местра иа его время....................... 15
III. Философія де-Местра................................. 19
VI. Религіозная система де-Местра........................ 26
V. Замѣчанія о системѣ и методѣ де-Местра................ 31
Бональдъ....................................... 41
I. Философія Бональда.—Троичная система ....... 42
II. Философія Бональда.—Твореніе міра.................... 52
III. Политическія воззрѣнія Бональда..................... 63
IV 71
Мадамъ де-Сталь................................ 72
I. Общее направленіе................................... 73
II. М-мъ де-Сталь до „Германіи".......................... 80
III. М-мъ де-Сталь послѣ „Германіи".—Ея философія ... 87
IV. Взгляды м-мъ де-Сталь на искусство.................. 94
V. Политическія воззрѣнія м-мъ де-Сталь.................102
VI 108
Бенжаменъ Констанъ.............................109
ч I. Его характеръ.............’............................ПО
II. Его характеръ.—„Адольфъ".............................115
ПІ. Политическіе взгляды Бенж. Констана........... . . 123
IV. Его религіозные взгляды..............................136
V........................................................147
Ройе-Колларъ.............................150
I. Его общіе взгляды.............................151
II. Его политическія воззрѣнія.....................154
III. Замѣчанія касательно его системы..............167
IV 176
Гизо.....................................180
I. Философія „золотой середины"...................183
II. Политика „золотой середины".—Средній классъ .... 188
ПІ. Какою должна быть политика средняго класса? .... 194
IV. Какова была политика Гизо?.....................200
V........................................................217
ПРЕДИСЛОВІЕ.
Я собралъ здѣсь нѣсколько этюдовъ о французскихъ мыслителяхъ XIX вѣка. У моралистовъ истекающаго вѣка есть та важная особенность, что политикой они занимались столько же, сколько и моралью, и даже нѣсколько больше первой, чѣмъ послѣднею. А потому, надѣюсь, можетъ быть, простятъ этимъ статьямъ, если нерѣдко онѣ оказываются этюдами еще болѣе политическими, чѣмъ нравственными.
Нѣтъ основаній сильно удивляться тому значеною, какое въ умахъ французскихъ философовъ съ 1800 по 1830 годъ получила политика. Послѣ французской революціи представлялось самымъ настоятельнымъ установить именно конституціонную политику, и слѣдовательно нужно было создать общую соціологію. До 1789 года во Франціи нужно было исправить конституцію; послѣ французской революціи и имперіи нужно было найти конституцію для Франціи. Этимъ и занялись главнымъ образомъ мыслящіе и смѣлые умы.
Винить ихъ за это, конечно, нельзя. Но все же они сдѣлали небольшую ошибку. Послѣ періода съ 1789 по 1815 годъ, правда, необходимо было выработать политическую теорію; но послѣ всего ХѴШ вѣка слѣдовало создать науку о нравственности, установить основы для нравственности. Въ XVIII вѣкѣ исчезла вѣра, унося съ собою связанную съ нею мораль. А такъ какъ сильныя и жизненныя системы морали возникаютъ обыкновенно въ видѣ религіи, то историкъ-моралистъ ожидаетъ въ первые годы XIX вѣка появленія новой религіи, и его, напримѣръ, совсѣмъ не удивляетъ попытка Сенъ—СимоннСтовъ.
Великіе умы, о которых^-ѣитъ рѣчь въ этой книгѣ, не стали на эту точку зрѣнія, потому' что одни изъ нихъ были ревностными христіанами, другіе оставались, христіанами наполовину, считая себя ими вполнѣ; отъ этого одни просто рекомендовали христіанство во всей его чистотѣ, другіе предлагали его въ смягченной и умѣренной формѣ, считая ее болѣе доступной. На взглядъ наблюдателя или, какъ теперь говорятъ, дилеттанта, они отъ этого теря-
VI
ютъ и съ этой точки зрѣнія представляютъ менѣе интереса, чѣмъ созидатели или даже разрушители. Но все же въ ихъ опытахъ полной перестройки или частичныхъ поправокъ и сохраненія стараго можно найти много поучительнаго.
Что касается ихъ политическихъ трудовъ, то они имѣютъ первостепенное значеніе; со времени Монтескьё нѣтъ въ этомъ родѣ ничего глубже продуманнаго и добросовѣстнѣе изученнаго.
Я сказалъ, что въ началѣ нашего вѣка нужно было создать науку о нравственности и науку политическую. Дѣйствительно въ нравственномъ строѣ XVIII вѣкъ разрушилъ два чувства: вѣру въ сверхестественное и преданность традиціи, и такимъ образомъ подорвалъ христіанство, уже низведенное протестантизмомъ до минимума. Съ этихъ поръ нравственныя чувства не носятъ болѣе въ сердцѣ человѣка религіозной формы. Необходимо отлить ихъ въ новую, хотя бы временную, форму.
Въ политической жизни XVIII вѣкъ разрушилъ династическое чувство и старую французскую конституцію. — Необходимо „организовать" французовъ, объединить ихъ новымъ чувствомъ, новой конституціей, приспособленной къ ихъ нуждамъ и идеямъ.
Съ другой стороны, въ теченіе XVIII вѣка у французовъ появились и развились, въ области нравственной, три главныя вѣрованія: индивидуализмъ, вѣра въ прогрессъ и вѣра въ науку. Французъ XVIII и начала XIX вѣка вѣритъ въ себя, вѣритъ въ безпредѣльное усовершенствованіе, вѣритъ, что знаніе является ключомъ ко всякому успѣху и единственной основой цивилизаціи. Онъ съ уваженіемъ относится къ человѣческой личности,—порывается къ будущему, которое считаетъ непремѣнно лучше настоящаго,—наконецъ, онъ убѣжденъ въ томъ, что это будущее будетъ завоевано знаніемъ. Изучая въ XIX вѣкѣ мораль или политику, нужно обращать вниманіе на эти именно три вѣрованія, все равно—для борьбы ли съ ними, или для поощренія ихъ, или для опредѣленія ихъ вліянія.
Наконецъ, въ XVIII вѣкѣ явились два новые факта,' двѣ великія историческія силы — свобода и демократія. Свобода прежде всего н сама по себѣ есть историческій фактъ. Это—невозможность для людей, на извѣстной ступени цивилизаціи, жить одною общею мыслью, общею вѣрой, общей наукой, довольствоваться одной общею нравственностью и воепптаніемъ,—такъ какъ на извѣстной ступени цивилизаціи является слишкомъ много различныхъ мышленій, вѣрованій, неодинаковыхъ знаній, понятій о нравственности, взглядовъ на воспитаніе. При такомъ положеніи является потребность избѣгать подчиненія нашего образа жизни постороннему вліянію. Прежде вполнѣ естественное, это подчиненіе представляется теперь до того невыносимымъ, что ему готовы предпочесть смерть. Послѣ долгой борьбы люди въ концѣ концовъ признаютъ эту общественную потребность и уступаютъ каждому болѣе или менѣе
VII
щедро отмѣренную долю свободы мыслить, вѣрить, писать, жить и воспитываться на свой ладъ. Общество отъ этого теряетъ, личность выигрываетъ; но свободный членъ оказываетъ обществу нѣсколько больше услугъ, чѣмъ сколько оно получило бы ихъ отъ непокорныхъ слугъ.
Демократія представляетъ собою фактъ такого же рода. Въ основѣ своей это—отрицательное равенство, устанавливаемое между несхожими людьми, именно въ силу ихъ несходства, различіемъ мыслей и чувствъ. При такомъ положеніи люди отлично чувствуютъ, что равенства между ними не больше прежняго, пожалуй даже гораздо меньше; но при страшномъ разнообразіи и разбросанности они не различаютъ больше, кто выше, кто ниже, кто лучше, кто хуже, кто вождь и кто созданъ для подчиненія,—и они подчиняются если не вѣрѣ во всеобщее равенство, то провозглашенію его. Сейчасъ только они отказались подчинять одинъ другого; теперь они отказываются отъ мѣстничества. Но все-таки необходимо, если не существованіе начальства, то по крайней мѣрѣ принятіе рѣшеній; кто же будетъ рѣшать? Большинство. Во избѣжаніе вѣчной борьбы люди только что отказывались отъ подчиненія однихъ другими; теперь во избѣжаніе борьбы они считаютъ голоса.
Вотъ крупные политическіе факты, приближавшіеся къ завершенію и признанію въ теченіе XVIII вѣка. Какъ всегда бываетъ, эти два факта, проходя чрезъ сознаніе людей, становились чувствами. Смотря по характерамъ, свобода принимала чистѣйшую форму гордости или самый низменный видъ тщеславія. Она то обращалась въ энергическій стоицизмъ, упивающійся своею собственной энергіей, становилась вѣрой въ себя, въ свою способность къ добру, являлась однимъ изъ прекраснѣйшихъ и благороднѣйшихъ двигателей человѣческой дѣятельности, — то вырождалась въ пустое убѣжденіе, что каждый изъ насъ можетъ руководить собою и стать великимъ, опираясь только на свои собственныя силы. Точно также и демократія, смотря по характерамъ, принимала то трогательную форму братства, то грубѣйшую форму зависти,—то выражалась сознаніемъ того, что никогда превосходство одного человѣка надъ другими не даетъ ему права навязывать свою волю другимъ, то проявлялась въ нетерпимости и отвращеніи къ самому очевидному и твердому превосходству.
Эти великіе факты, какъ мы видѣли, состоятъ во взаимной связи, но въ то же время представляютъ и противоположность. Они связаны своимъ происхожденіемъ и своею основою; они про-тиворѣчатъ другъ другу въ своихъ стремленіяхъ: каждый изъ нихъ идетъ своимъ путемъ, приводящимъ ихъ къ встрѣчѣ и столкновенію. Свобода требуетъ, чтобы въ народѣ какъ можно меньше вещей исполнялось по приказанію, а власть правительства доводилась до все большаго минимума. Демократія требуетъ, чтобы ни
VIII
одно лицо ничего не приказывало, такъ какъ это доставляетъ ему превосходство надъ другими, а чтобы распоряжались всѣ; кромѣ того, она стремится къ тому, чтобы все дѣлалось по приказу, чтобы всякое проявленіе человѣческой дѣятельности предписывалось всѣми; другими словами она не только не желаетъ личной власти, но не хотѣла бы и личной свободы. Въ этомъ она проявляетъ проницательность и логичность. Сначала свобода не есть привилегія, но затѣмъ становится ею. Свобода, осуществляемая на дѣлѣ, присоединяетъ къ себѣ новыя вольности, образуетъ вмѣстѣ съ ними небольшую группу преимуществъ, независимую общественную силу; съ этихъ поръ она перестаетъ быть только свободой и становится силѣю, а стало быть авторитетомъ,—чего не можетъ желать демократія.
Итакъ, эти два крупные факта, порожденные общею причиною—индивидуализмомъ, стоятъ въ противорѣчіи другъ съ другомъ и, достигнувъ зрѣлости и самосознанія, вступаютъ въ борьбу. Дойдя до конца и до крайности, одинъ изъ нихъ разрушилъ бы государство, другой установилъ бы чистѣйшій деспотизмъ. — Они борются, оспариваютъ другъ у друга господство; оба они очень сильны, такъ какъ почерпаютъ свои силы изъ одного и того же глубокаго и отдаленнаго источника. Возможно, правда, что эта борьба служитъ причиной крайней неустойчивости общественнаго строя; но въ то же она сообщаетъ ему жизнь и движеніе.
Писатели, которыхъ мы будемъ изучать въ этой книгѣ, на мой взглядъ, не замѣтили всей важности нравственной задачи XIX вѣка; за то они очень хорошо поняли, почти до самой ея глубины, его политическую задачу.
Нравственная задача представлялась имъ въ видѣ полнаго или частнаго возстановленія старой религіи. Люди вродѣ де-Местра или Бональда, желавшіе возстановить ее вполнѣ, были по крайней мѣрѣ послѣдовательны. Каждый по своему, придавая этой старой вѣрѣ свой особый оттѣнокъ, они не колеблясь воскрешали самыя оригинальныя ея стороны, всего болѣе противорѣчившія новому образу мыслей. Они цѣликомъ возстановили ея ученіе о сверхъестественномъ и о предначертаніи. Они захотѣли лишній разъ доказать необходимость того и другого. Они въ это вѣрили; они именно такъ мыслили; нельзя возставать противъ нихъ за это. — Дѣло только въ томъ, что именно отъ этого и отсталъ почти совсѣмъ французскій народъ,—если ограничиваться имъ,—въ ХѴШ вѣкѣ. Вѣра въ сверхъестественное начало и его вмѣшательство въ дѣла міра, въ откровеніе и провидѣніе Божіе,—вотъ мысль, которою люди жили въ теченіе вѣковъ; она, быть можетъ, явится снова, но въ ХѴШ вѣкѣ, подъ вліяніемъ удивительныхъ и внезапныхъ успѣховъ научнаго изслѣдованія, она покинула умы. Если люди, подъ вліяніемъ извѣстныхъ инстинктовъ или наслѣдственныхъ привычекъ, еще остаются вѣрующими, то они идутъ къ
IX
Богу иными, можетъ быть болѣе длинными и менѣе надежными, но не прежними путями. Противъ этого направленія умовъ долго еще никакія усилія ничего не подѣлаютъ. Доказательствомъ исчезновенія старой вѣры служитъ существованіе новой. Толпа оказываетъ ученому довѣріе, въ которомъ отказываетъ священнику. Она не принимаетъ отъ священника религіозной истины безъ доказательства и принимаетъ отъ ученаго научныя истины безъ провѣрки. Со священникомъ она берется разсуждать, съ ученымъ она не разсуждаетъ. Вѣчно присущая человѣчеству вѣра перемѣстилась. Попытки Бональдовъ и де-Местровъ возсоздать религію оказываются или запоздалыми, или преждевременными.
Попытки „умѣренныхъ" страдаютъ неловкостью и неувѣренностью. Всѣ они хотятъ поддержать въ людяхъ религіозное настроеніе, спасая нѣкоторый минимумъ сверхъестественнаго,—желаютъ показать свое уваженіе къ современному образу мыслей и для этого по возможности суживаютъ и лишаютъ опредѣленности этотъ минимумъ. Это—раціоналисты безъ послѣдовательности и вѣрующіе безъ опредѣленности, а иногда раціоналисты безъ логики и вѣрующіе безъ вѣры. Въ своей раціоналистической системѣ они изъ учтивости даютъ мѣсто сверхъестественному, но не отдаютъ ему должнаго. Въ это время ожидаешь или религіознаго возрожденія посредствомъ вѣры,—или появленія новой религіи, основанной на наукѣ и вызывающей не только вѣру, но и обожаніе; это былъ бы родъ новаго натурализма или язычества;—или же религіи индивидуализма, обоготворенія человѣческой совѣсти, чего то вродѣ возобновленнаго стоицизма. За исключеніемъ, пожалуй, этой послѣдней,—мы находимъ ее до нѣкоторой степени у Констана и м-мъ де-Сталь,— ни одно изъ этихъ вѣрованій не обрисовалось ясно у разбираемыхъ нами писателей по философіи. Такъ называемое религіозное возрожденіе XIX вѣка нельзя назвать около 1820 года чистымъ пустякомъ; это не призракъ, а вполнѣ несомнѣнное и очень явное направленіе, но только направленіе. Попытки созиданія нравственности и религіи, о которомъ я говорю, явятся позже и, можетъ быть, слишкомъ поздно; ихъ нѣтъ или онѣ очень слабы у мыслителей, которымъ посвященъ этотъ томъ.
Объясняется это тѣмъ, что религія представляетъ собою страсть. Она составляется изъ полнаго и неразрывнаго сліянія вѣры съ любовью; она не допускаетъ разсужденія или по крайней мѣрѣ не начинаетъ съ него; это—любовь къ тому, во что вѣришь, но еще болѣе — вѣра въ то, что любишь* и потому именно, что любишь. Безъ мистицизма нѣтъ религіи. Между тѣмъ мыслители времени съ 1800 по 1830 годъ, насколько только это возможно, чужды ему. Это резонеры, люди „идейные"; у нихъ если и является пылъ сграсти, то только по отношенію къ идеямъ. У всякаго „идейнаго" человѣка преобладаетъ критика, а никогда критикъ не можетъ быть основателемъ или возстановителемъ религіи. Эти діалектики- -
I
X
за исключеніемъ м-мъ де-Сталь, но и та слишксмъ рѣдко и непослѣдовательно,—вносятъ очень мало чувства въ свои идеи и упиваются одною логикой. Въ еще большей степени чѣмъ другіе носятъ этотъ характеръ возстановители христіанства, де-Местръ и Бональдъ, отчаянные идеологи и резонеры.—Однимъ словомъ, всѣ эти мыслители волею или неволею оказываются людьми XVIII вѣка. Подобно тому какъ Шатобріанъ вносилъ въ свою эстетическую защиту христіанства долю того легкомыслія, съ какой нападали на него люди ХѴШ вѣка, такъ и современные ему философы были проникнуты духомъ XVIII столѣтія, какъ ни желали отъ него освободиться. Пожалуй рѣзче другихъ это проявляется у де-Местра и Бональда. Опровергая Вольтера и Руссо, они обнаруживаютъ складъ мысли того и другого. Успѣхъ получается сомнительный и неваж-ный: они не столько опровергаютъ ихъ, сколько высказываютъ мнѣнія противоположныя.
Въ вопросахъ религіи и морали эти философы оказываются блестящими идеологами, прекрасными полемистами или робкими реставраторами. Люди съ сильными чувствами и глубокими страстями, мистики, — мистицизмъ долго еще будетъ по временамъ возрождаться,—появятся позже, приблизительно между 1830 и 1848 годомъ, и мы займемся ими въ другомъ рядѣ статей.
Писатели, о которыхъ я говорю теперь, очень хорошо поняли политическую задачу XIX вѣка,—поняли ее пожалуй лучше слѣдовавшихъ за ними мыслителей. Они вѣрно оцѣнили важность Свободы и демократіи, этихъ двухъ началъ, связанныхъ между собою, но противорѣчащихъ другъ другу,—этихъ двухъ параллель-л ныхъ и противоположныхъ формъ современнаго индивидуализма; ^ояи оцѣнили ихъ значеніе даже раньше, чѣмъ тѣ достигли пол-. наго развитія и зрѣлости, и поняли отлично, что съ ними связанъ, или лучше—въ нихъ заключается, весь политическій вопросъ XIX 5 вѣка. Одни изъ нихъ были поражены опасностями крайняго индивидуализма и пришли къ убѣжденію, что торжество его разрушить націю. Поэтому они отвергли обѣ формы индивидуализма, всту-Ш пили въ борьбу въ одно время и со свободой и съ демократіей,—не дѣлая выбора между двумя опасностями, захотѣли отвратить ту и другую. Такъ они представили міру прекрасное, но грустное зрѣлище борьбы одинокихъ мыслителей съ ходомъ исторіи. Вся исторія была противъ нихъ, и они не могли противопоставить ей ни-_ чего кромѣ своихъ разсужденій.
Другіе, видя, что выборъ необходимъ, и считая демократію опаснѣе свободы, попробовали побороть выраженный въ ней индивидуализмъ при помощи индивидуальной свободы. Это значило опираться въ борьбѣ на нѣчто однородное по своему происхожденію съ тѣмъ, противъ чего борешься, п могущее оказаться столь же крѣпкимъ и устойчивымъ. Всѣ усилія Констана, Сталь, Ройе-Кол-лара и Гйзо были направлены на предупрежденіе и предотвраще
XI
ніе самодержавія народа посредствомъ провозглашенія, опредѣленія и организаціи свободы, но при этомъ каждый понималъ ее по своему.
Одинъ требуетъ извѣстнаго числа личныхъ правъ, принадлежащихъ индивиду и огражденныхъ отъ захвата повелителемъ. — будетъ ли то народъ или король. Другой понимаетъ подъ вольностями преимущества, принадлежащія извѣстнымъ группамъ личностей и являющіяся ограничительными силами по отношенію къ центральной власти. Третій понимаетъ подъ свободой участіе неслужащихъ гражданъ въ управленіи страной.
Всѣ какъ будто побуждаютъ индивидуализмъ удовлетвориться свободой, не увлекаясь демократіей; всѣ считаютъ свободу истинной основой индивидуализма и убѣждаютъ его не искать въ демократіи призрачной побѣды.
Впрочемъ, при всякомъ положеніи дѣла, всѣ отвергаютъ организацію народнаго владычества и стараются каждый по своему уклониться отъ нея. Съ этой цѣлью всѣ они отрицаютъ существованіе верховенства вообще и организуютъ не верховенство, а управленіе такъ, чтобы это исключало господство большинства.
Одинъ полагаетъ правленіе въ равновѣсіи различныхъ властей, изъ которыхъ ни одна не проистекаетъ прямо отъ народа. Другой выводитъ его изъ самого закона, изъ хартіи или конституціи,—власти безличной, не поддающейся вліянію ни личному, ни коллективному. Третій выводитъ его изъ разума и передаетъ его „среднимъ классамъ", считая ихъ наилучшими выразителями національнаго разума.
Въ этомъ вопросѣ всѣ эти либералы оказываются такими же реакціонерами, какъ и чистые ретрограды, Бональдъ и де-Местръ. Даже и либералами, въ большей или меньшей степени и съ различными оттѣнками, они являются только потому, что свобода или вольности представляются имъ помѣхами къ установленію демократіи.
За это ихъ нельзя назвать аристократами въ старомъ смыслѣ этого слова. Они не мечтаютъ о возстановленіи разрушенныхъ и ниспровергнутыхъ кастъ. Историческое чутье подсказываетъ имъ, что нельзя возстановить привилегированныя сословія, разъ они были разрушены,—нельзя создать ихъ сразу. Они хорошо сознаютъ, что не революція разрушила высшія сословія стараго порядка,— это ихъ не остановило бы; болѣе рѣшительнымъ и окончательнымъ ударомъ оказывается подрывъ привилегій за много времени до революціи, а потому напрасно было бы и пытаться возстановить ихъ. Но въ глубинѣ души нѣкоторые изъ нихъ остаются аристократами н повидимому надѣются на то, что еще до утвержденія демократіи возникнутъ, установятся и укоренятся новыя аристократическія корпораціи. Такимъ образомъ, они надѣются опередить надвигающуюся демократію и въ тотъ моментъ, когда она станетъ силой, противопоставить ей преграды посерьезнѣе простыхъ доказательствъ ея непригодности.
XII
Таково приблизительно было настроеніе „мыслящихъ умовъ“, по выраженію м-мъ де-Сталь, въ руководящихъ классахъ націи въ теченіе первыхъ тридцати или тридцати пяти лѣтъ XIX вѣка.— Всѣ ихъ надежды были обмануты; всѣ ихъ разсчеты оказались невѣрными. Настоящая книга излагаетъ исторію глубокаго заблужденія и крупной ошибки.
Можетъ быть великія души и оказываютъ вліяніе на ходъ человѣческой исторіи; великіе умы не вліяютъ на нее нисколько, исключая тѣхъ случаевъ, когда они оказываются идущими въ томъ же направленіи; но здѣсь трудно бываетъ сказать, руководятъ они движеніемъ или слѣдуютъ за нимъ. Народная масса, не слушавшая и не читавшая мыслителей 1800—1830 гг., рукоплескала имъ, слыша, что они одного съ ней мнѣнія. Сама она слѣдовала движенію, увлекавшему ее уже болѣе столѣтія, и, утрачивая все болѣе и болѣе вѣру въ сверхъестественное, привязанность къ преданію, династіи и даже іерархіи, отдавалась индивидуализму, вѣрѣ въ прогрессъ и науку.—Страстный индивидуализмъ могъ сдѣлать ее и либеральной, и демократической. Но свобода составляетъ потребность небольшого числа людей; большинству необходимо лишь равенство и пріятное сознаніе своей власти. Поэтому демократическое теченіе должно было вскорѣ (пересилить и даже поглотить теченіе либеральное. Теоретики, о которыхъ я веду рѣчь, были оставлены назади очень скоро, еще въ то время какъ говорили. Непопулярность послѣдняго изъ нихъ зависѣла отъ того, что онъ управлялъ государствомъ около десяти или пятнадцати лѣтъ послѣ того, какъ народъ пересталъ понимать языкъ, на которомъ онъ говорилъ.
Тѣмъ не менѣе они оставили намъ не только сюжеты для интересныхъ этюдовъ по вопросамъ морали и исторіи, но и уроки, которыми мы можемъ воспользоваться, не смотря на полное господство демократіи. — Религіи въ видѣ общественной силы уже не существуетъ, но все еще сохраняется тамъ и сямъ религіозное чувство *въ личности. Очень интересно, и быть можетъ полезно, присмотрѣться поближе, какимъ образомъ слабое и неопредѣленное, но искренное религіозное возрожденіе XIX вѣка поняло религіозное чувство и пыталось сохранить за нимъ мѣсто среди новыхъ идей. — Демократія у насъ почти достигла той полноты, какой только можно желать; но существуетъ также и по тѣмъ же причинамъ очень сильное стремленіе къ свободѣ. Какимъ образомъ теоретики свободы, а также и ихъ противники, понимали и объясняли проявленія либеральныхъ стремленій въ народѣ? Для насъ важно познакомиться съ этимъ, чтобы знать или предугадать, какимъ образомъ удержится у насъ свобода и какія завоеванія можетъ даже совершить она. У насъ господствуетъ почти полная демократія; но не доказано, что въ народѣ, ставшемъ демократическимъ, не могутъ образоваться и вырости
хш
новыя аристократіи, совсѣмъ непохожія на старыя. Политическіе теоретики, изучавшіе преобразованія обществъ, могутъ показать намъ, какъ образуются въ народѣ аристократическія корпораціи. Вотъ различные вопросы, затронутые въ этой книгѣ по одному тому, что въ ней изучаются философы-соціологи XIX вѣка
За ними явилось новое, совсѣмъ другое поколѣніе мыслителей. Оно отличалось гораздо большею смѣлостью и также большею мечтательностью, было какъ будто затронуто неожиданнымъ возвратомъ мистицизма и перенесло мистицизмъ въ наиболѣе чуждыя ему области. На нихъ мы изучимъ въ слѣдующемъ томѣ новую сторону XIX вѣка. — Что касается общихъ заключеній о ходѣ умственнаго и нравственнаго движенія всего столѣтія, то понятно, что если мы и возьмемъ на себя смѣлость высказать ихъ когда-либо, такъ подождемъ окончанія этихъ этюдовъ, чтобы на это отважиться.
Декабрь 1890 г. Э. Ф.
Жозефъ де-Местръ.
Одно время, около 1830 года, не трудно было написать этюдъ о Жозефѣ де-Местрѣ; но изобразить его портретъ въ слѣдовавшій затѣмъ періодъ отъ 1850 до 1860 года стало дѣломъ много болѣе затруднительнымъ. Читатели, сбитые съ толку, не узнавали его: до того онъ перемѣнился. По появленіи „Разсужденій о Франціи", „Петербургскихъ вечеровъ", „Папы", „Галликанской церкви", личность его обрисовалась для всѣхъ отчетливо; двѣ, три черты обрисовали его такъ рѣзко, что пріятно было, особенно его недоброжелателямъ, рисовать съ него портретъ. Даже людямъ, знакомымъ съ"его произведеніями, онъ представлялся непримиримымъ легитимистомъ, ѳеократомъ и абсолютистомъ, апостоломъ чудовищной троицы, состоящей изъ папы, короля и палача, неумолимымъ послѣдователемъ самыхъ узкихъ, суровыхъ догматовъ, мрачнымъ исчадіемъ среднихъ вѣковъ, совмѣщавшимъ въ себѣ схоластика, инквизитора и палача.
Но вотъ появились его посмертныя бумаги, и если „Разборъ Бекона" не измѣнилъ, и справедливо, установившагося мнѣнія, то его „Записки и дипламатическая переписка", а затѣмъ его „Письма и мелкія статьи" всѣхъ сбили съ толку и смутили людей, написавшихъ уже о немъ статью и составившихъ себѣ о немъ опредѣленное мнѣніе. Теперь про него говорились удивительныя вещи. Его называли милымъ, въ высшей степени симпатичнымъ человѣкомъ, хорошимъ другомъ, отцомъ достойнымъ обожанія, нѣжнымъ, заботливымъ, снисходительнымъ; въ деревнѣ желаннымъ сосѣдомъ, настоящимъ дворяниномъ ХѴШ вѣка, всегда умѣющимъ развеселить граціозною шуткой въ галльскомъ духѣ. Онъ оказался даже либераломъ. Его лозаннскіе друзья въ 1795 году называли его „якобинцемъ". Онъ дѣйствительно стоялъ за комитетъ общественнаго спасенія и за Францію противъ коалиціи. Его отнюдь нельзя причислить къ эмигрантамъ, которыхъ онъ проклиналъ. Притомъ, г Альберъ Бланъ, издатель его мемуаровъ, считалъ его предшественникомъ Сенъ-Симонизма.
Было отъ чего публикѣ усомниться въ себѣ или въ немъ. Сенть-Бевъ отдѣлался въ этомъ случаѣ сарказмомъ, сказавъ: „Вотъ и де-Местръ, кажется, на пути къ измѣнѣ своей партіи", и тѣмъ временемъ самъ же въ статьѣ 1851 года исподволь привлекалъ его
2
къ бонапартизму. Это было уже черезчуръ смѣло, хотщ^здѣсь и не было большей лжи, чѣмъ во всемъ остальномъ. *
На самомъ дѣлѣ это новое представленіе о Жозефѣ де-М,естрѣ, было не болѣе обманчиво чѣмъ прежнее. Да, онъ дѣйствительно сторонникъ папской непогрѣшимости, абсолютизма, инквизиціи, отмѣны Нантскаго эдикта. Онъ даже, если хотите, стоитъ и за палача, хотя отцы паши, съ которыми вообще шутить было опасно, черезчуръ серьезно отнеолись къ его словамъ о палачѣ, бывшимъ съ его стороны лишь простой вспышкой юмора а Іа Свифтъ,— правда, шуткой, пахнувшей висѣлицей. При всемъ томъ де Местръ обходительнѣйшій чйювѣкъ; взглядъ на него не возбуждаетъ въ васъ представленія вВ р кровавыхъ рѣкахъ, ни о заживо сожженныхъ людяхъ, такъ какъ онъ прежде всего добръ, что бы тамъ ни говорили и какъ бы ни былъ онъ самъ противъ такого мнѣнія; затѣмъ онъ просвѣщенный человѣкъ и наконецъ человѣкъ умный; я не знаю, какое изъ этихъ трехъ основаній самое лучшее.
Его доброта отличается большею глубиной, чѣмъ шпротою и распространяется далеко не на весь свѣтъ; но сердце у него горячее, любовь сильная, привязанность прочная, вѣрность непоколебимая. Знаменателенъ тотъ фактъ, что всю жизнь онъ съ благоговѣйной любовью относился къ людямъ чуждой ему вѣры, греческимъ христіанамъ Россіи и швейцарскимъ протестантамъ, и для этихъ друзей своего сердца, пе ума, онъ является изобрѣтательнымъ утѣшителемъ и неизмѣннымъ доброжелателемъ.
Де-Местръ разсудителенъ. Онъ ясно видитъ, что послѣ французской революціи неіьзя править народомъ такъ, какъ прежде: „Вы говорите, что народы нуждаются въ сильномъ правительствѣ; если вы видите силу монархіи въ неограниченности ея власти, тогда правительства Неаполя, Мадрида и Лиссабона должны казаться вамъ крѣпкими... Будьте увѣрены, что монархія тогда станетъ прочною, когда вы въ основаніе ея положите законъ, а не произволъ “.—Въ этихъ словахъ вамъ слышится голосъ либерала; на самомъ дѣлѣ это просто человѣкъ, знающій, что такое значитъ управлять.
Де-Местръ принадлежитъ къ хорошему обществу; онъ остроуменъ и на столько не лишенъ веселости, что иногда способенъ на нѣсколько вольныя выходки, правда, въ предѣлахъ приличія, т. е. рѣдко, но безъ жеманства.» Въ самомъ дѣлѣ, просьба, съ которой я къ вамъ обращаюсь, не стоитъ и зрѣлища М-Ие Амфитриты, (корабль, спущенный наканунѣ на воду съ нѣкоторымй затрудненіями), которая, какъ всѣ женщины, жеманничала вчера цѣлый часъ передъ тѣмъ, ц^го ей хотѣлось больше всего на свѣтѣ". Онъ проситъ у своего правительства секретаря посольства. Ему нуженъ любезный молодой человѣкъ, хорошій танцоръ, украшеніе гостиной, одинъ изъ тѣхъ людей, „которые черезъ женъ узнаютъ ек-
3
реты мужей“. Забавно, что ему присылаютъ въ секретари его собственнаго сына, совершенно впрочемъ не преднамѣренно. Такую шутку можетъ сыграть съ человѣкомъ только случай.
Во всемъ этомъ много противорѣчій. Постараемся прослѣдить, какъ они сочетались и согласовались въ одномъ человѣкѣ.
I. Политическая теорія Ж. де-Местра.
Мнѣ кажется, что въ Жозефѣ де-Местрѣ нужно сначала изучать политическаго теоретика и потомъ уже философа и богослова, такъ какъ съ перваго взгляда ясно, что въ немъ политикъ преобладалъ надъ философомъ п богословомъ, и что можетъ быть, его философія и религія просто формы и развитіе его политики. По крайней мѣрѣ замѣтьте, что онъ началъ съ размышленій политическаго характера. „Разсужденія о Французской революціи" написаны имъ въ юностп; всѣ остальныя его произведенія принадлежатъ зрѣлому возрасту. Въ юности мы видимъ у него внушенную чувствомъ и воспитаніемъ вѣру, надъ которой онъ повидимому еще не размыш -лялъ, и политическую систему, которую онъ глубоко изслѣдовалъ, много разъ перестраивалъ и которую онъ продолжаетъ разрабатывать до конца своей жизни. Въ зрѣломъ возрастѣ овъ начинаетъ задумываться и надъ религіозной системой, стараясь сдѣлать ее глубже и полнѣй; на ней вѣроятно (я высказываю тутъ только свое предположеніе) отражается вліяніе его уже давно установившихся политическихъ воззрѣній. Итакъ, разсмотримъ сначала политическіе взгляды де-Местра, и не боясь ошибки будемъ считать его философію какъ бы за продолженіе его соціальныхъ идей.
Жозефъ де-Местръ занимаетъ особое мѣсто въ ряду политическихъ теоретиковъ и даже просто среди людей, причастныхъ къ народной жизни. Это патрицій, котораго нельзя назвать аристократомъ, и это придаетъ ему сложную оригинальность и дѣлаетъ интереснымъ ближайшее ознакомленіе съ нею.
Итакъ онъ патрицій по происхожденію; онъ съ молокомъ матери всосалъ презрѣніе къ народу и сознаніе своей съ нимъ разобщенности. Семейство его принадлежитъ къ древнему, извѣстному, уважаемому дворянскому роду, даже болѣе—къ наслѣдственной магистратурѣ, которая вмѣстѣ съ духовенствомъ глубже проникнута патриціанскимъ духомъ, чѣмъ само дворянство. Она сознаетъ себя уже не только сословіемъ, но кастой; кромѣ старинной знатности у ней есть вѣками накопленное знаніе, преемственная привычка судить, просвѣщать людей, управлять ими и возбуждать ихъ мысль. Она охраняетъ правила и завѣты старины, непонятные и обязательные для толпы; отъ народа она стоитъ не измѣримо далеко, много дальше напр. военной аристократіи.—Духъ касты унаслѣдованъ Жозефомъ де-Местромъ; идеи ея быстро къ нему привились, такъ какъ вполнѣ соотвѣтствовали его характеру.
4
Дѣтство его прошло въ непомѣрномъ трудѣ и полнѣйшемъ послушаніи. Для сына касты, предназначеннаго войти въ составъ ея, это двѣ существенно необходимыя черты. Ему надо какъ можно ранѣе пріобрѣсти традиціонныя знанія, составляющія силу касты,— запечатлѣть въ памяти обряды, формулы и толкованія; съ другой стороны, ему, какъ всякому человѣку, повелѣвающему отъ имени корпораціи и текста, необходимо привыкнуть къ повиновенію. Это воспитаніе наслѣдственнаго судьи,—воспитаніе пригодное пожалуй и для левита.
Пользуясь крѣпкимъ здоровьемъ и богатѣйшею по тому времени памятью, онъ съ жаднымъ увлеченіемъ предавался чтенію, но читалъ, и это характеризуетъ его, лишь то, что ему позволяли. Въ 20 лѣтъ, учась въ Туринѣ, онъ брался только за книги, разрѣшенныя ему для прочтенія матерью. Такимъ онъ остался до старости; тогда онъ нашелъ новую мать, у которой спрашивалъ, что ему читать и во что вѣрить.
Потомъ онъ самъ сталъ судьей, но въ противоположность Монтескье не гнушался своей спеціальности, а любилъ ее и прилежно1 ею занимался. Онъ не былъ ни любителемъ наукъ, ни свѣтскимъ человѣкомъ, ни мелкимъ сатирическимъ писателемъ; сидѣлъ дома, не сочинялъ „Персидскихъ писемъ", не анатомировалъ лягушекъ, находилъ юриспруденцію прекрасною наукой, вполнѣ соотвѣтствующей складу своего ума; поэтому у него на Ьсю жизнь осталась склонность къ юридическимъ уловкамъ и тон^рстямъ. Процессы, доклады, величавые приговоры на ясномъ и важномъ языкѣ, торжественныя рѣчи, безконечное чтеніе, вотъ тѣ чинныя и благородныя занятія, въ которыхъ де-Местръ охотно провелъ бы всю жизнь.
Но тутъ съ нимъ случился внезапный переворотъ, обыкновенный въ жизни великихъ писателей, безъ котораго они вѣроятно и не стали бы писать. Вообще лишь посредственные мыслители непремѣнно хотятъ мыслить за другихъ; великіе легко довольствовались бы мышленіемъ для себя. У нихъ хватаетъ силы примириться съ безвѣстнымъ трудомъ, съ почтенною профессіей, при которой выберется досужій часъ пофилософствовать наединѣ съ собой. Юноша, твердо рѣшившій стать писателемъ, можетъ обладать большими литературными талантами, которыя и обнаружатся позже, но пока онъ не отличается блестящей способностью сужденія. Обыкновенно крайность, внезапный толчекъ заставлялъ великихъ писателей высказываться, а до того они вовсе объ этомъ не думали. Такимъ толчкомъ была для де-Местра французская революція. Вторженіе непріятеля на его родину, конфискація имущества, преслѣдованіе, изгнаніе,—все это разразилось вдругъ, надъ его головой; онъ лишился отечества, состоянія, семьи, занятій и очутился въ положеніи эмигранта въ протестантской Лозаннѣ. Что ему оставалось дѣлать? Писательство своего рода дѣятельность;
о
это также способъ сосредоточиться на своихъ мысляхъ, выражая ихъ, отдать себѣ въ нихъ болѣе ясный отчетъ, необходимый въ виду грозныхъ событій. — И де-Местръ написалъ „Разсужденія". Какъ всякій мыслитель помѣшанный на точности и логикѣ, онъ съ перваго же раза высказывается цѣликомъ. Предъ нами здравомыслящій, умный патрицій, чуждый мелочности или глупой гордости, принимающій вещи въ настоящемъ ихъ свѣтѣ; но въ то же время мы видимъ и непоколебимо убѣжденнаго, упорнаго и рѣшительнаго человѣка, способнаго еще уступать на практикѣ, но не признающаго уступчивости въ области идей. Теперь мы уже можемъ всесторонне съ нимъ ознакомиться.
Единство и преемственность—его девизъ, его идея. Государство, говоритъ онъ, есть тѣло, которое, чтобы быть единымъ, должно подчиняться единой разумной волѣ и слѣдовать олной традиціонной мысли для сохраненія своего существованія. Жизнь его должна исходить изъ единаго центра, а не создаваться изъ взаимодѣйствія сотни тысячъ единичныхъ волей. Такое взаимодѣйствіе даже и неосуществимо, такъ какъ совѣтоваться съ народомъ не значитъ вызывать взаимодѣйствіе частныхъ волей, а просто считать ихъ. Но путемъ сложенія живого организма не получишь. Вотъ вы насчитали 50,000 голосовъ, поданныхъ въ одномъ смыслѣ, и 49,000— въ другомъ; что получилось? Насиліе большинства надъ меньшинствомъ, можетъ быть лучшимъ, и болѣе ничего. Это даже и не сложеніе, а вычитаніе. Черезъ равные промежутки времени вы ставите вопросъ, сколько гражданъ можно вамъ устранить изъ общества, лишить, такъ сказать, гражданскихъ; правъ. Такая система правленія есть не что иное, какъ организованный остракизмъ.
Но, кромѣ того, вы, умѣющіе только считать да пересчитывать, взгляниТе-ка съ чѣмъ вы имѣете дѣло? Съ волею гражданъ? Едва ли! Съ доводами? Вовсе нѣтъ. Вамъ приходится пересчитывать вожделѣнія и инстинкты. Вѣдь большинство это—народъ, а народъ — существо неразумное. Въ немъ нѣтъ ни единства, ни преемственности. Это воплощеніе каприза, разбросанности и розни. У васъ встрѣчаются странныя злоупотребленія выраженіями; вы смѣшиваете народнаго представителя и народнаго повѣреннаго. Но представитель и есть именно человѣкъ, заступающій того, кто не можетъ давать полномочій. „Ежедневно въ судахъ ребенокъ, сумашедшій и отсутствующій замѣняются представителями, уполномоченными на то единственно закономъ. Народъ соединяетъ въ себѣ эти три качества въ высшей степени, такъ какъ онъ вѣчно дитя, всегда безуменъ, всегда и вездѣ отсутствуетъ".
Если бы люди были математическими величинами, ваше политическое счетоводство не было бы такъ плохо. Если бы всѣ люди были подобны, имѣли бы одинакія права (а для этого надо, чтобъ у всѣхъ былъ одинакій умъ), имѣли бы однѣ и тѣ же обязанности
6
(а для выполненія одинакихъ обязанностей имъ необходимы одинаковыя силы), одинаковыя способности, одинаковую личную цѣнность,—я согласился бы на подсчетъ ихъ; это было бы законно и даже безполезно, потому что по всей вѣроятности при такомъ сходствѣ всѣ бы имѣли одну волю, и ее можно было бы опредѣлить и безъ сложенія голосовъ. Равенство — вещь справедливая, но лишь въ случаѣ полнаго подобія людей.—Здѣсь-то и заключается ваша ошибка. Не отдавая себѣ яснаго отчета въ своихъ мысляхъ, вы желаете равенства людей, потому что въ сущности считаете ихъ всѣхъ одинаковыми. Вы говорите о правахъ „человѣка" и конституцію пишете для „человѣка" вообще. Ясно, что по вашему мнѣнію различія между людьми не существуетъ, и всѣ люди подходятъ подъ одинъ общій типъ „человѣка". Это не вѣрно. Увѣряю васъ, „что въ свѣтѣ нѣтъ такою общаго типа; въ жизни моей я встрѣчалъ французовъ, итальянцевъ, русскихъ; благодаря Монтескьё я знаю, что можно быть персіяниномъ; что же касается типичнаго „человѣка", я заявляю, что въ жизни споей не встрѣчалъ его, и если онъ существуетъ, то мнѣ неизвѣстенъ".
Будемъ же мыслить здраво. Вы кладете въ основу вашего государства разъединеніе и при помощи грубаго пріема возвращаете ему искусственное единство. Вы освѣдомляетесь о стремленіяхъ конечностей организма и требуете, чтобы эти конечности образовали его сердце. Вы пересчитываете песчинки и думаете, что сумма ихъ составитъ домъ. Я же въ основу моего государства кладу истинное единство, дѣйствительную преемственность. Государство есть организмъ и подобно всякому организму живетъ силой, почерпнутой въ отдаленномъ, неизвѣстномъ ему прошломъ, живетъ внутреннимъ образующимъ началомъ, также ему неизвѣстнымъ. Въ основѣ его единства лежитъ тайна, и такая же тайна составляетъ основу его преемственности. Это не ясно, но потому и жизненно: жизнь основана на совершенно неуловимыхъ началахъ.—Вы полагаете вмѣстѣ съ Руссо, что общество возникаетъ путемъ соглашенія; люди, по вашему, соберутся, посовѣтуются, пересчитаютъ голоса, распредѣлятъ между собой права и обязанности,—и дѣло слажено. Такой взглядъ ясенъ, но и глубоко ложенъ. „Никогда общество не создавалось въ силу соглашенія". Самая возможность совѣщанія заставляетъ предполагать существованіе уже устроеннаго общества. Уже для одного такого собранія необходимо присутствіе государства, цивилизаціи, правительства, полиціи.
Такія совѣщанія не только не создаютъ, они скорѣе губятъ общество. Когда вы собираете народъ съ цѣлью дать ему устройство, не говорите ли вы этимъ самымъ что до исхода этого совѣщанія народа не существуетъ?—На другой день недовольные принимаются мечтать о новомъ обсужденіи дѣла; довольное же большинство начинаетъ опасаться потерять свою власть и стать меньшинствомъ;
7
у нѣхъ и у другихъ является убѣжденіе, что пользованіе учредительной властью не исчерпываетъ ея, и что ложно ожидать еще новыхъ политическихъ соглашеній. Они и дѣйствительно будутъ являться, такъ какъ надо отъ времени до времени освѣдомляться о настроеніи большинства. И много разъ общество будетъ прекращать свое существованіе чтобы возрождаться вновь. Каждое десятилѣтіе вы заставляете государство перерождаться и этимъ самымъ мѣшаете его жизни и развитію^. Вы похожи на ребенка, который ежедневно сажаетъ и пересаживаетъ свое деревцо, чтобъ измѣрять его корни.
Вы думаете, что государство зиждется на писаной конституціи. Это другой видъ той же ошибки. „Всякая писаная конституція теряетъ свое значеніе". Она слишкомъ извѣстна, слишкомъ ясна, въ ней нѣтъ уже ничего таинственнаго. А люди всѣмъ сердцемъ, активно повинуются только тому, что сокровенно, такимъ темнымъ и могучимъ силамъ, какъ нравы, обычаи, предразсудки, общее настроеніе ума и души, которое ихъ окружаетъ, проникаетъ и оживляетъ безъ ихъ вѣдома. Онѣ, эти темныя силы, только и неоспоримы, по причинѣ своей загадочности. Текстъ обсуждаютъ, думаютъ его исправить, и такъ какъ въ составленіи его участвовала человѣческая рука, на него думаютъ наложить руку. Текстъ исполняютъ, во не чувствуютъ къ нему уваженія; ему уступаютъ, но не повинуются. Такая пассивная покорность не можетъ создать ничего плодотворнаго, живого. Въ текстѣ нѣтъ души.
Не спрашивайте меня, въ чемъ сущность души народа, такъ какъ сущность души непостижима. Я могу только указать вамъ нѣкоторые ея признаки. Душа народа это все то, что ведетъ его къ единству и даетъ ему долговѣчность. Это, напримѣръ, любовь его къ самому себѣ,—патріотизмъ, создающій ему отечество. Но патріотизмъ не есть нѣсколько очищенный эгоизмъ, какъ вы это думаете. Быть патріотомъ не значить уважать чужія права, разсчитывая этимъ выговорить и къ своимъ правамъ уваженіе; это тоже не жертва, приносимая каждымъ классомъ обществу въ надеждѣ на выгоду. Такой патріотизмъ не чувства, а разсчета будетъ сродна вашей счетоводной политикѣ; онъ создастъ не націю, а финансовую компанію. Истинный патріотизмъ чуждъ разсчета; это—чувство преданности. Онъ состоитъ въ томъ, что человѣкъ любитъ свою родину, потому что она его родина, т. е. любитъ неизвѣстно за что. Если бы причина этого была извѣстна, ее стали бы обсуждать, обдумывать и любовь бы исчезла. Какъ добродѣтель заключается въ самопожертвованіи, въ забвеніи всѣхъ личныхъ интересовъ, соображеній и побужденій передъ внутреннимъ безотчетнымъ стремленіемъ, такъ и патріотизмъ не есть соединеніе моего „я“ съ цѣлымъ въ какихъ-либо корыстныхъ видахъ, но есть поглощеніе „я“ въ общемъ цѣломъ. Только при этомъ условіи патріо
8
тизмъ могущественъ и плодотворенъ и создаетъ нѣчто живое, отечество, а не финансовую компанію.
Но такого рода патріотизмъ немыслимъ въ демократіи, такъ какъ сущность демократіи—эгоизмъ, т. е. постоянная забота о томъ, чтобъ не стать жертвой, не даться въ обманъ; основной принципъ ея—наблюденіе за властью, ограниченіе и періодическое обезсиленіе власти въ видахъ предупрежденія ея захватовъ и огражденія своихъ личныхъ интересовъ. Въ этой системѣ гражданинъ не отдаетъ себя государству навсегда, а лишь на время, какъ бы нанимается на годъ, съ правомъ во всякое время нарушить договоръ. Можетъ быть такое отношеніе къ государству вызывается сильнымъ чувствомъ самоуваженія, но все же это уничтожаетъ могучее соединеніе усилій въ одномъ направленіи, уничтожаетъ идею отечества.
Вы смѣетесь надъ монархіей; но она есть видимое выраженіе идеи отечества, а преданность монарху есть осязательная форма патріотизма. Чувство это сильно, потому что чуждо разсчету, глубоко, потому что недоступно анализу, и непоколебимо, потому что неразсудочно. Человѣкъ, который говоритъ: „Мой король", не разсуждаетъ, не разсчитываетъ, не совѣщается, не подписываетъ договора, не подписывается на акціи, не вкладываетъ въ дѣло капитала съ намѣреніемъ взять его обратно завтра, если не получится прибыли. Все это онъ могъ бы продѣлать съ равнымъ себѣ; но короля своего онъ любитъ, глубоко преданъ ему и больше ничего; въ лицѣ короля онъ привязался къ родинѣ. Монархія это родина, воплощенная въ одномъ человѣкѣ и любимая въ немъ.
Душа народа, кромѣ того, это — его національная традиція. Франція это не тѣ 30 милліоновъ людей, что живутъ между Пиринеями и Рейномъ, это тотъ милліардъ людей, которые въ ней жили раньше*, и умершіе значатъ больше живыхъ, такъ какъ они первые вспахали поля и построили дома. Воспоминаніе о нихъ и создаетъ непрерывность идеи родины, имъ живетъ родина, рѣзко отличаясь отъ временной ассоціаціи. Только благодаря предкамъ вы имѣете право провозглашать Францію нераздѣльною; не будь ихъ, не оставь они намъ своихъ традицій, не живи ихъ мысль въ насъ, не уважай мы сдѣланнаго ими дѣла, всякій сепаратистъ со своимъ стремленіемъ къ обособленію заслуживалъ бы полнаго уваженія и былъ бы вполнѣ правъ. Родина, это—союзъ, на одной почвѣ, живущихъ съ умершими и имѣющими родиться.
Здѣсь я опять нахожу монархію. Что сдѣлаетъ этотъ союзъ видимымъ для глазъ и понятнымъ сердцу? Что послужитъ для него символомъ и образомъ?—Законъ? Но законъ, какъ вы его понимаете, т. е. выраженіе общей воли,—мѣняется каждыя двадцать лѣтъ. Вашъ законъ—народный капризъ.—Нравы? Но и они мѣняются.—Языкъ? Но онъ преобразовывается.—Намъ нужно здѣсь нѣчто похожее на вѣчность,—имя, безпредѣльно, по наслѣд
9
ству передающееся изъ рода въ родъ,—семья, которая служила бы символомъ преемственной жизни націи. Бъ этой семьѣ безсмертная нація сознаетъ свою вѣчность; чѣмъ древнѣе династія, тѣмъ лучше выразитъ она безпредѣльность жизни страны. Какъ ничтоженъ законъ, съ виновникомъ котораго мы ежедневно сталкиваемся, такъ шатокъ правящій родъ, происхожденіе котораго всѣмъ памятно; надо, чтобы, хотя для толпы, начало его терялось во мракѣ преданій. Ничто не вліяетъ такъ на умы людей, какъ слова: „отъ вѣка"; идея вѣчности лежитъ въ основѣ всѣхь мыслей, вѣрованій, желаній и надеждъ людскихъ, живетъ въ умѣ и сердцѣ каждаго человѣка.
Итакъ вотъ портретъ де-Местра, какъ политическаго теоретика. Передъ нами непреклонный, горделивый патрицій съ легкой примѣсью мистицизма,—патрицій, презирающій народъ и особенно права личности. Главная идея его — объединенность и преемственность въ существованіи націи; все, что служитъ элементомъ розни, крошитъ страну на мелкія части въ отношеніи пространства и времени, все это возбуждаетъ въ немъ отвращеніе; ему бы хотѣлось все привести къ живому и прочному единенію; а въ глубинѣ этого искомаго единства и желанной преемственности ему чувствуется нѣчто, неуловимое для чувства и разсудка, нѣчто не видимое, не поддающееся счету, доказательству, пониманію, нѣкая тайна, свято оберегаемая и любимая за то, что умъ человѣка не можетъ постичь ея, а сердце отдается ей въ порывѣ вѣры.—Это грубое отрицаніе, прямое осмѣяніе всего ХѴШ вѣка, основами котораго служило именно то, что де-Местръ открыто и страстно отрицаетъ. XVIII вѣкъ былъ исполненъ индивидуализма, вѣры въ человѣка, въ его право, въ возможность для него пользоваться своимъ правомъ; то было время ослабленія центральной власти и внутренняго двигателя, который приводитъ въ дѣйствіе государственную машину, затменія идеи государства. Возстановляя ее, люди того вѣка вмѣстѣ съ Руссо переносили ее на цѣлое, лучше сказать—на большинство; они производили подсчетъ частнымъ желаніямъ съ цѣлью извлечь изъ нихъ общую мысль и видѣли въ случайномъ итогѣ руководящую мысль вѣчнаго организма.—Наконецъ ХѴШ вѣкъ былъ по преимуществу вѣкомъ позитивизма, а эта простая и ясная система не видитъ въ человѣческомъ обществѣ ничего таинственнаго, ничего сложнаго; она низводитъ общество на степень собранія простыхъ силъ (30 милліоновъ человѣкъ безъ предковъ, каждый съ шестью правами, сведенными Руссо до одного), а общественную науку сводитъ на знаніе четырехъ правилъ счисленія. Позитивизмъ и не подозрѣвалъ, что связью можетъ служить не механическое сцѣпленіе, а чувство неясное, сильное своей безотчетностью, необдуманностью и произвольностью, порожденное вѣрой, инстинктомъ, передающееся по наслѣдству, не поддающееся разсудку во всѣхъ своихъ проявленіяхъ и умирающее отъ разру
— 10 —
шительнаго дѣйствія анализа.--По мнѣнію де-Местра, не было той идеи въ XVIII вѣкѣ, которая не противорѣчила бы истинѣ.
Въ лицѣ де-Местра аристократія, или вѣрнѣе патриціатъ, возвращался къ своимъ старымъ формуламъ и противопоставлялъ ихъ новому обществу. Де-Местръ былъ аристократомъ не болѣе Руссо, а можетъ быть даже и менѣе его. Сущность аристократіи состоитъ въ признаніи народа и всякой отдѣльно взятой личности безправными; въ интересахъ общества она требуетъ правъ лишь для нѣкоторыхъ классовъ народа. Для аристократа общественная наука — это механика, какъ для демократа — ариѳметика. Всякое общество представляетъ собою нѣсколько хаотическій образующій элементъ, чуждый организованной власти, науки, преданія; это толпа. Изъ этого матеріала иногда ничего не выходитъ, и тогда образуется народъ съ деспотическимъ образомъ правленія. Иногда, но очень рѣдко, въ народѣ, возвышающемся надъ общимъ уровнемъ, изъ массы выдѣляются извѣстныя группы людей, воиновъ, ученыхъ, судей, которыхъ соединяетъ между собой не договоръ, а взаимное сходство, отраженное и наслѣдственное. Путемъ долгаго общенія и благодаря воспитанію они примѣняются другъ къ другу, пріобрѣтаютъ силу благодаря наслѣдственности и мало по малу становятся надежными и прочными двигателями среди инертной массы, сосредоточиваютъ въ себѣ движущую силу и получаютъ возможность передавать это движеніе въ извѣстномъ направленіи. Это—общественныя силы, безъ которыхъ не движется ничто. Совершая эту работу, онѣ за то присваиваютъ себѣ и пользуются извѣстными правами. Въ нихъ заключается все, что есть цѣннаго въ народѣ. Ни одной изъ нихъ законодатель не долженъ упускать изъ вида; онъ долженъ не надѣлять ихъ правами,—ими онѣ и безъ того пользуются, да притомъ же права и не подлежать раздачѣ, такъ какъ представляютъ собою правильно примѣняемую власть,—а долженъ создать для нихъ организацію, пользоваться ихъ богатыми средствами, однѣ изъ нихъ ограничивать другими, такъ чтобы ихъ соприкосновеніе между собой не порождало у нихъ спора, а вызывало тѣсное единеніе,—чтобы ихъ совокупная дѣятельность была не борьбой, а соревнованіемъ на пользу общаго блага. Въ этомъ заключается вся общественная наука; Монтескьё не знаетъ иной.
Де-Местръ не принимаетъ этой системы, во-первыхъ, руководясь историческимъ основаніемъ, несмотря на свою непривычку разсматривать вопросы съ точки зрѣнія исторіи. Неоднократно, сначала одинъ, потомъ вмѣстѣ съ Бональдомъ, онъ повторяетъ, что „въ Европѣ нѣтъ болѣе знати**. Это вѣскій доводъ, такъ какъ изъ самой теоріи аристократіи, только что нами изложенной, слѣдуетъ, что человѣкъ можетъ быть аристократомъ лишь при наличности сложившихся уже аристократическихъ сословій,—что изобрѣсти аристократію нельзя. А между тѣмъ современная исторія
11
есть именно исторія постепеннаго разрушенія аристократіи до появленія законодателя, который могъ бы дать ей правильную организацію.
Было бы достаточно одного этого довода, но у де-Местра есть еще и другіе. Онъ безпощадно осмѣиваетъ (Письмо къ кавалеру ..., 15—27 августа 1811 г.) „столь славные въ наши дни три вида власти, съ ихъ географической картой, столь серьезно начерченной Монтескьё". Онъ отвергаетъ эту общественную механику, и права аристократіи кажутся ему обоснованными не лучше, чѣмъ права народа.
Дѣло въ томъ, что онъ слишкомъ убѣжденный патрицій, чтобы быть аристократомъ. Идея аристократіи конечно не народная, но извѣстныя стороны ея носятъ чисто буржуазный характеръ. Это доказывается тѣмъ, что временами не гнушаемся ея и мы, буржуа XIX вѣка. Стоитъ намъ только почувствовать себя людьми не вполнѣ заурядпымп, а членами солиднаго класса, какъ сейчасъ же мы начинаемъ добиваться привилегій. Аристократія — просто организовавшійся народъ; для создаваемыхъ ею самыхъ ничтожныхъ организацій она требуетъ тѣхъ же привилегій, какихъ демократія добивается для личностей. Ей нужны права сословныя, а демократіи — права личныя; какъ демократія присвоиваеть долю верховенства личности, такъ аристократія придаетъ ее группѣ; а это тоже индивидуализмъ — въ смыслѣ раздробленія. Каждый классъ является здѣсь нравственной или скорѣе общественной личностью, пользующейся цѣлымъ рядомъ неотъемлемыхъ правъ, имѣющей свою небольшую политическую собственность, свою долю королевской власти. Система эта пожалуй не такъ груба, какъ чистая демократія; но все же обѣ онѣ другъ на друга похожи, обѣ исходятъ изъ принципа раздѣленія власти, котораго де-Местръ никакъ не можетъ понять.
По его мнѣнію настоящее общество отличаютъ единство и преемственность. Между сословными и личными правами конечно разница; но тѣ и другія одинаково ведутъ націю къ розни и разброду. Жизнь націи заключается въ единой мысли, а мыслить всѣмъ обществомъ невозможно, такъ какъ всякое соглашеніе рождаетъ не идею, а сдѣлку, и этотъ рядъ сдѣлокъ является не развитіемъ единаго плана, а рядомъ опытовъ.
Поэтому права сословныя также не нужны, какъ и права человѣка. Это не истины, а искуственныя созданія, почетныя названія для эгоизмовъ личныхъ или коллективныхъ. Это не объединяющія силы, а разлагающія начала. Они не привлекутъ гражданина къ дѣятельному участію въ политической жизни націи, а наоборотъ побудятъ его къ отложенію. „Право человѣка" просто желаніе какъ можно менѣе нести обязанности гражданина; сословное право—не что иное, какъ стремленіе создать въ государствѣ частное общество. Аристократическое правленіе дробитъ націю;
12 —
при демократіи она совсѣмъ распадается, и затѣмъ отъ нея не остается ничего.
Итакъ де-Местръ не признаетъ правъ ни за своей, ни за какою другою кастой. Для него вельможи, мудрецы, ученые, лучшіе люди, всѣ одинаково безправны, — въ этомъ отношеніи онъ не аристократъ; но, какъ патрицій, онъ всѣхъ пхъ надѣляетъ обязанностями.
Патриціатъ, по его мнѣнію, не есть часть народа, отдѣлившаяся отъ него и организовавшаяся въ соотвѣтствіи съ тѣми обязанностями, которыя онъ обращаетъ въ свое право. Патриціатъ служитъ органомъ монархіи, „продолженіемъ верховной власти". Монархія— это руководящая мысль, а вельможи—ея истолкователи; монархія это внутренняя сила, которую вельможи какъ каналы передаютъ отъ центра къ окраинамъ, — это тайна, разумѣніе которой дано вельможамъ, —это—законъ, хранителемъ котораго является патриціатъ.
Это налагаетъ на него обязанности болѣе важныя, чѣмъ на остальныхъ людей. Патриціи посвящены въ государственныя тайны; ихъ первый долгъ —сознать все значеніе этого; имъ ввѣрено „сбереженіе охранительныхъ истинъ". Руссо правъ, говоря, что эти истины должны находиться въ рукахъ государства и охраняться имъ; но только у него государство отвлеченное и потому не имѣетъ рукъ. Напротивъ въ государствѣ де-Местра душою является король, органами—вельможи, орудіемъ—вооруженная сила, матеріаломъ— толпа. Вельможи должны быть разумными, просвѣщенными и справедливыми, должны умѣть повелѣвать народу и повиноваться королю. Они составляютъ семейный совѣтъ государя и должны освѣдомлять его, какъ дѣти предостерегаютъ отца. Они поддерживаютъ національное единство, служа связующимъ звеномъ между народомъ и монархомъ, охраняютъ преемственность національнаго существованія, поддерживая традиціи.
Нѣтъ ничего выше и нѣтъ ничего труднѣе роли патриціата. Онъ занимаетъ двойственное положеніе посредника между государемъ и подданными, а потому языкъ его двойственъ, и, что бы ни говорилъ онъ, обѣ стороны могутъ заподозрить его въ неискренности. Онъ можетъ вызвать подозрѣніе въ народѣ, защищая передъ нимъ интересы государя, или подозрѣніе въ государѣ, ратуя за нужды народа. Въ самомъ дѣлѣ, онъ долженъ постоянно проповѣды-вать народу о благодѣтельности власти, королямъ—о благодѣтельности свободы. Притомъ онъ долженъ стараться, чтобы его проповѣдь свободы не была услышана народомъ, не вызвала бы въ немъ волненія, и чтобы слова его къ толпѣ о значеніи власти не внушили королю преувеличеннаго понятія о ней.
Но о какой же „< вободѣ" можетъ быть рѣчь въ системѣ полнѣйшаго деспотизма?—Объ истинной свободѣ, такъ какъ на современномъ языкѣ „свободой" неправильно называютъ упраздненіе
— 13 —
власти или систему гарантій противъ нея. Настоящій деспотизмъ царитъ тогда, когда у народа, который самъ не знаетъ чего хочетъ, испрашиваютъ мнимую волю его, обманомъ извлекаютъ ее, возводятъ на степень закона и въ видѣ обязательнаго правила возвѣщаютъ ее народу же, а тотъ не узнаетъ конечно имъ самимъ отданнаго повелѣнія, хотя какъ будто управляется самъ собой. Въ результатѣ является лживая мистификація, въ которой народъ фигурируетъ въ качествѣ раба, притомъ же обманываемаго. Съ другой стороны, видомъ свободы, но свободы искусственной и безплодной, является система перегородокъ между властью и гражданиномъ. Гражданинъ говоритъ государю: „Твоя власть надо мною простирается до извѣстной черты и не идетъ дальше; за чертой начинается область моего господства, въ которую тебѣ не про-никнуть“. Права личности, это—мелкія гражданскія самоубійства. Представьте себѣ каплю сока, которая раздѣлилась бы пополамъ и сказала: „одну часть отдамъ дереву, другую себѣ“. Что бы изъ этого вышло? Капля добилась бы смерти половины своего существа единственно изъ-за чувства удовлетворенія, которое испытала бы, располагая удержанной себѣ частицей. Сознаніе личной свободы досталось бы ей цѣною добровольнаго умерщвленія части самой себя.
Поймите же, что вы живете только въ великомъ общественномъ организмѣ и только имъ, какъ онъ живетъ вамп; чего онъ не беретъ отъ васъ, то теряется не только для него,—это могло бы быть для васъ пріятно,—но и для васъ, а это не такъ интересно. Права личности — безумный эгоизмъ. Для разумнаго человѣка не существуетъ личной свободы, а есть только свобода національная, т. е. свободная и гибкая дѣятельность всѣхъ частныхъ силъ въ цѣляхъ общаго блага, придающая имъ новую энергію, которую онѣ пускаютъ въ общій оборотъ, и такъ до безконечности. Правда, работа эта только тогда будетъ дружной и согласной, когда каждый дѣятель получитъ возможность располагать собой по своему усмотрѣнію, когда воля его станетъ свободной, потому что безъ воли, собственно говоря, не можетъ быть дѣятельности. Когда человѣкъ имѣетъ возможность выбрать по своей склонности тотъ родъ дѣятельности, въ которомъ онъ будетъ трудиться на благо обществу, трудъ его будетъ производительнѣе. Въ этомъ только смыслѣ нужна для него свобода и самостоятельность. Такъ нечего говорить о неприкосновенныхъ правахъ личности; рѣчь идетъ объ уваженіи къ личнымъ силамъ, примѣняемымъ на общее благо.
Но кто будетъ судьею ихъ полезности? Ихъ обладатели? Они могутъ судить о чистотѣ своихъ намѣреній, но не о томъ общемъ благѣ, которое должно вытечь изъ ихъ поступковъ.—Въ такомъ случаѣ законъ? Это современная теорія: законъ опредѣляетъ долю того, что государство беретъ у человѣка для своего существованія, и того, что оно ему оставляетъ; и человѣкъ остается свободнымъ,
— 14 -
и государство живетъ. Но строгій и точный, одинаковый для всѣхъ, законъ всего менѣе пригоденъ для опредѣленія такого измѣнчиваго и живого понятія какъ свобода. Онъ предоставляетъ каждому одинаковую долю независимости, признаетъ за каждымъ его „человѣческія права". Но для одного человѣка, лишеннаго полезной энергіи, эта доля слишкомъ велика; она лишь дастъ ему возможность уклоняться отъ службы государству, что будетъ только потерей. Для другого человѣка, энергичнаго, знающаго, талантливаго, доля эта слишкомъ мала; опять потеря.—Наконецъ такая, разъ навсегда установленная, норма смотря по обстоятельствамъ оказывается то слишкомъ малой, то слишкомъ крупной. Одна и та же сила, полезная для государства въ обыкновенное время, можетъ оказаться вредной во время кризиса. А разъ человѣкъ перестаетъ приносить пользу, свободу его надо ограничить; онъ теряетъ свои права, которыми пользуется законно, только пока трудится на общее благо.—Итакъ, если смотрѣть на права личности не какъ на собственность, что совершенно безсмысленно, а какъ на полезныя для общества силы, законъ не можетъ дать имъ разумнаго опредѣленія. Имъ нужны, особыя подвижныя границы, которыя расширяются и суживаются смотря по требованіямъ времени и по сферѣ дѣятельности каждой силы. Только живой, разумный, внимательный законъ можетъ регулировать эти живыя силы; обыкновенный законъ лишаетъ ихъ подвижности и стѣсняетъ, т. е. сковываетъ ихъ. Государь освобождаетъ ихъ, или, по крайней мѣрѣ, одинъ онъ можетъ освободить ихъ; и потому разумный деспотизмъ составляетъ непремѣнное условіе свободы. Уваженіе къ народной свободѣ составляетъ одно изъ началъ королевской власти, а не безсильнаго въ этомъ случаѣ закона. Роль патриціевъ заключается въ постоянномъ введеніи либеральныхъ идей въ основныя начала самодержавія.
У либеральнаго государя иногда можетъ явиться мысль отказаться отъ права верховнаго судьи въ пользу Сената и передать часть исполнительной власти Государственному Совѣту. Вотъ три опыта нововведеній: опытъ раздѣленія властей, опытъ либеральнаго управленія, опытъ съ писаной конституціей. Изъ этихъ трехъ опытовъ два первые превосходны, если государь производитъ ихъ по собственному побужденію; „пусть онъ это самъ сдѣлаетъ, я могу только восторгаться этимъ". Наоборотъ, они отвратительны, если являются отказомъ отъ власти, если они превращаютъ Сенатъ и Государственный Совѣтъ изъ органовъ монархіи въ самостоятельныя и отдѣльныя отъ нея власти.
Разница въ томъ, что при такой постановкѣ дѣла патриціатъ преобразуется въ аристократію, а Сенатъ и Совѣтъ, прежде „продолженіе верховной власти", становятся отдѣльными самостоятельными силами, но по какому праву, неизвѣстно. Цѣль достигалась съ одинаковымъ успѣхомъ, когда опп исполняли тѣ же обязан
— 15 —
ности отъ имени монарха, а не отъ лица ихъ самихъ. Является только поводъ къ столкновеніямъ.—Ошибка думать, что государственныя учрежденія представляютъ собою независимые органы; они только члены цѣлаго. Превращать ихъ въ самостоятельныя корпораціи значитъ завѣдомо разрушать единство и вызывать борьбу. Скажемъ еще разъ: патриціи могутъ имѣть только обязанности, но не права. Это и возбуждаетъ къ нимъ уваженіе: чувство долга очищаетъ и возвышаетъ человѣка, сознаніе права ожесточаетъ и принижаетъ его. Для всякой знати основаніемъ и честью служатъ ея обязанности.
Третье нововведеніе, необходимое слѣдствіе двухъ предыдущихъ, введеніе писаной конституціи, де-Местръ рѣшительно отвергаетъ. Онъ допускаетъ либеральную конституцію по традиціямъ монархіи, а не въ качествѣ афиши на воротахъ дворца, постоянно призывающей къ возстанію. „Я совѣтую всѣмъ государямъ", говорится въ запискѣ, поданной русскому императору въ 1807 г., „проникнуться духомъ удивительной анплійской конституціи, но не подчиняю ихъ ей; я не желаю договора между властью и подданными. Но почему? спросятъ меня. Разъ англійскій строй такъ хорошъ, его надо упрочить силою закона.—Ну, это другое дѣло. Съ этимъ я не могу согласиться. Ехргезза посепі, поп ехргезза поп посепі. Есть множество вѣрныхъ я справедливыхъ мыслей, которыхъ не слѣдуетъ ни выражать, ни тѣмъ болѣе записывать. Прилагаемыя государемъ, эти начала являются благодѣяніями монархіи; возведенныя въ законъ, они становятся орудіями въ борьбѣ партій. Если бы народъ проникся духомъ этихъ коварныхъ нововведеній и полюбилъ ихъ, пришелъ бы къ мысли о противодѣйствіи всякой отмѣнѣ или измѣненію въ томъ, что онъ назвалъ бы своими конституціонными вольностями... невозможно выразить, чего бы можно было въ этомъ случаѣ опасаться. Веііа, ѣоггійа Ьеііа... (Письмо къ кавалеру... 15—27 августа 1811 г.).
II. Взгляды дѳ-Местра на его время.
Вотъ во всей полнотѣ политическое ученіе Жозефа де-Местра. Его основа—національное единство. Никто не понималъ глубже, не чувствовалъ сильнѣе идеи родины. Все, что объединяетъ націю, дорого ему; все, въ чемъ онъ заподозриваетъ стремленіе къ расчлененію ея, его возмущаетъ. Аристократія ведетъ къ раздробленію націи, демократія обращаетъ ее въ прахъ: и ту, и другую онъ считаетъ заблужденіемъ. Привилегіи создаютъ государства въ государствѣ, а права личности, это—уклоненія отъ обязанностей; и въ томъ, и въ другомъ онъ видитъ преступленіе противъ общества. Самый законъ (законъ политическій, конституція), по его мнѣнію, парализуетъ жизнь общества, мертвитъ живые органы и превращаетъ весь организмъ въ бездушный, грубый механизмъ, не под
— 16 —
дающійся преобразованію, неспособный къ развитію; живыя ткани онъ превращаетъ въ колеса.—Равенство въ смыслѣ отрицанія аристократіи—справедливая идея, а какъ раздѣлъ верховенства между 10-ю милліонами гражданъ—полная, безсмыслица. Свобода какъ право возможно большей независимости личности отъ государства-преступленіе; свобода въ смыслѣ самостоятельности человѣческой личности, уважаемой тѣмъ болѣе, чѣмъ больше она приноситъ пользы государству, и для того, чтобы она была для него полезнѣе,—такая свобода—нравственный законъ благоустроенныхъ обществъ.
Итакъ, не нужно аристократіи, не нужно сословныхъ, личныхъ правъ и областныхъ привилегій; не нужно коллективнаго верховенства и верховенства народнаго; не нужно писаной конституціи; а нужно личное верховенство — король. Этотъ король не связанъ никакой конституціей; онъ уважаетъ гражданскіе законы и подчиняется традиціямъ и принципамъ монархіи. Онъ—государь просвѣщенный, и ему помогаютъ совѣтомъ и дѣломъ вельможи, какъ и онъ хранители традицій и принциповъ, органы и отрасли верховной власти, выдающіеся надъ всѣми только большимъ количествомъ обязанностей. Въ согласіи съ ними и сообразуясь съ обстоятельствами, съ силами и съ особенностями каждой личности и съ общими потребностями, король опредѣляетъ, чѣмъ изъ правъ своихъ долженъ каждый пожертвовать на пользу общую, и что онъ долженъ, наоборотъ, въ интересахъ того же общаго блага сохранить. Такимъ образомъ, среди полной покорности, вытекающей изъ безсознательной преданности подданныхъ, и среди проявленій свободы, являющихся невольною данью, король вызываетъ свободную дѣятельность всѣхъ силъ, дѣйствующихъ согласно своей природѣ на пользу общую, а въ этомъ и состоитъ національная свобода.
Теперь понятно, почему де-Местръ могъ казаться не то что принадлежащимъ по очереди ко всѣмъ партіямъ, а скорѣе враждебнымъ каждой изъ нихъ; потому то всякая партія могла причислять его къ категоріи своихъ противниковъ. Вотъ почему онъ оказывается либераломъ въ глазахъ нѣкоторыхъ изъ его друзей. Конечно трудно найти болѣе убѣжденнаго сторонника сильной власти; но только отождествленіе сильной власти съ произволомъ вызываетъ въ де-Местрѣ горькое сожалѣніе. Не затѣмъ онъ возненавидѣлъ капризную демократію, чтобы капризъ же возвести на тронъ. Правительство это—національная воля понимаемая имъ лучше, чѣмъ самимъ народомъ, никогда не знающимъ чего онъ хочетъ. Эта воля, неясная и разсѣянная въ народѣ, сознаетъ себя въ одномъ человѣкѣ. Это полная противоположность капризу; это какъ бы живая традиція, одаренная словомъ и твердой волей. Правительство произвольное не просто плохо, это—отсутствіе всякаго правительства.
Точно также де-Местръ представляется людямъ своей партіи
— 17 —
необыкновеннымъ оппортюнистомъ. Управлять послѣ революціи такъ же какъ и до нея онъ считаетъ чистымъ безуміемъ. „Всякая крупная революція въ большей или меньшей степени всегда воздѣйствуетъ даже на тѣхъ, кто ей противится, и не допускаетъ полнаго возстановленія прежнихъ идей**. Это само собой разумѣется. Измѣнился матеріалъ, надъ которымъ работали; работникъ же зависитъ отъ матеріала въ томъ смыслѣ, что послѣдній ограничиваетъ его дѣятельность. Изъ новыхъ элементовъ вы выработаете меньше прежняго; но будетъ еще хуже, если вы не будете обращать вниманія на свойства этого новаго матеріала, а будете обращаться съ нимъ какъ со старымъ: въ такомъ случаѣ вы уже ровно ничего изъ него не сдѣлаете.
Точно также эмигрантамъ де-Местръ казался якобинцемъ. Въ сравненіи съ ними онъ дѣйствительно якобинепъ; до того онъ не похожъ на „эмигранта**. Эмиграція въ его глазахъ преступленіе, и эмигранты, за немногими исключеніями, пустые люди. Когда ему говорили, что Александру I нуженъ совѣтникъ съ сѣдой головой, онъ отвѣчалъ: „Да, но не съ напудренной**.—Онъ хорошо зналъ, что за люди эмигранты. Это —люди бывшіе остряками, фрондёрами и философами до 1789 года и превосходно подготовившіе французскую революцію; но затѣмъ они испугались сдѣланнаго ими дѣла и задумали разрушить его, не имѣя возможности его передѣлать; такимъ образомъ это люди вредные въ прошломъ, ненадежные въ будущемъ, отказавшіся отъ своихъ прежнихъ идей, по неспособные къ выработкѣ новыхъ, люди все забывшіе и ничему не научившіеся, и поэтому ничтожные, но опасные.—А что до эмиграціи, то это — отступничество никому непозволительное, тѣмъ менѣе патрицію, девизъ котораго національное единство. Либералъ еще можетъ согласовать отступничество со своими принципами: народъ не уважаетъ его „правъ человѣка**, и онъ спасаетъ ихъ. И демократъ въ этомъ случаѣ поступаетъ логично: онъ связанъ съ народомъ договоромъ; доказывайте ему ненарушимость договора, притомъ же подписаннаго его доисторическимъ предкомъ! Демократъ чувствуетъ себя задѣтымъ слѣдствіями заключеннаго договора и отказывается отъ него. Но человѣкъ, признающій народъ живымъ организмомъ, не отдѣлится отъ него, не подастъ собою примѣръ соціальнаго самоубійства, не сдѣлается добровольно гражданиномъ безъ родины, т. е. нулемъ. Онъ умретъ скорѣе физически чѣмъ граждански. — Въ этомъ случаѣ правы якобинцы. Правда, это — варвары, но въ нихъ живо чувство недѣлимости родины. Они борются за нее. Въ нихъ нужно видѣть слѣпое орудіе Божьяго Промысла. Охраняя недѣлимость своей республики, они безсознательно поддерживаютъ цѣльность французскаго государства. „Когда ослѣпленные честолюбцы провозглашаютъ недѣлимость республики, ими явно руководитъ Провидѣніе, провозглашающее цѣлость королевства" (Размышленія).
— 18 —
По этимъ же основаніямъ де-Местръ вовсе не питаетъ къ Наполеону ребяческаго отвращенія, свойственнаго приверженцамъ стараго порядка. Онъ считаетъ его имперію созданіемъ искусственнымъ и потому непрочнымъ; прочная монархія образуется и вы-ростаетъ вмѣстѣ съ націей и изъ самой націи, какъ косточка въ серединѣ плода, а случайная монархія — явленіе уродливое. Но изъ того, что Наполеонъ не въ состояніи основать династію, не слѣдуетъ, что онъ не государь. Считать его простымъ авантюристомъ — чистое ребячество. Онъ монархъ, такъ какъ въ немъ очевидно проявляется единство націи; онъ собралъ и сосредочилъ распавшуюся родину; она разрушалась, а онъ возстановилъ ее въ своей личности. Въ немъ одномъ заключается комитетъ общественнаго спасенія. Наконецъ, де-Местръ считаетъ Наполеона истиннымъ монархомъ еще потому, что въ немъ самомъ патрицій преобладаетъ надъ аристократомъ и монархистъ надъ легитимистомъ.
И любопытная вещь, удивлявшая современниковъ, соотечественниковъ и единовѣрцевъ,—де-Местръ оказался пылкимъ францу-зомъ-патріотомъ. Французы разрушили одинъ за другимъ всѣ дорогіе иму принципы, — религію, дворянство, монархію, и на ихъ мѣсто поставили матеріалистическую философію, демократію, права личности и республику. Де-Местръ—пьемонтецъ и въ то же время неизмѣнный сторонникъ Франціи. Когда онъ встрѣчаетъ хорошаго эмигранта,—бываютъ и такіе,—который радуется побѣдамъ французовъ надъ иноземными арміями, онъ торжествуетъ отъ всего сердца. Онъ не хочетъ торжества коалиціи, а желаетъ спасенія Франціи хотя бы руками революціонеровъ. „Чего требовали роялисты, добиваясь рѣзкой насильственной контръ-революціи? Они требовали завоеванія Франціи, а стало-быть раздробленія ея, уничтоженія ея вліянія, униженія ея короля и неизбѣжнаго слѣдствія такого рѣзкаго нарушенія равновѣсія—быть можетъ трехвѣковыхъ избіеній. Наши внуки очень мало будутъ интересоваться нашими страданіями, будутъ танцовать на нашихъ могилахъ; ихъ разсмѣшитъ наше теперешнее непониманіе; за видѣнныя нами излишества они найдутъ легкое утѣшеніе въ томъ, что это сохранитъ цѣлость прекраснѣйшаго царства послѣ небеснаго".
Онъ стоитъ на своемъ: гибель Франціи представляется ему несчастіемъ для всей Европы. Г. Винье Дезетоль выражаетъ союзникамъ пожеланіе побѣды; на это де-Местръ замѣчаетъ: „Разъ вы усматриваете общее благо въ торжествѣ коалиціи надъ Франціей, вамъ естественно желать этого торжества. Мнѣ же естественно желать союзникамъ побѣды надъ одними якобинцами, такъ какъ, по моему, уничтоженіе самой Франціи вызоветъ двухвѣковую рѣзню, освятитъ самыя ненавистныя положенія маккіавелизма, поведетъ за собою полное озвѣреніе человѣческаго рода и даже, что покажется вамъ очень удивительнымъ, нанесетъ смертельный ударъ религіи".
Высказываясь такимъ образозъ сотни разъ, де-Местръ руково
— 19 —
дится вѣрою въ высокое назначеніе Франціи: „ 6-езіа Веі рег Ггап-соз (дѣла Божіи, совершенныя руками франковъ).... это—исторія крестовыхъ походовъ. Эта книга можетъ быть расширяема изъ вѣка въ вѣкъ подъ тѣмъ же заглавіемъ. Ничто великое не совершается въ нашей Европѣ безъ участія французовъ... “—Онъ вѣритъ въ высокое призваніе французовъ потому, что у нихъ, въ ихъ исторіи, онъ почерпнулъ свои политическія идеи и свое понятіе о государствѣ, если не нашелъ въ ней потомъ ихъ подтвержденія. Не знаю, которое изъ этихъ предположеній вѣрнѣе, да это и не важно. Монархія представляетъ душу націи, національную волю, сознающую себя въ одномъ человѣкѣ и одномъ родѣ; этотъ родъ преслѣдуетъ цѣли смутно сознаваемыя народомъ, осуществляетъ, поддерживаетъ,укрѣпляетъ и охраняетъ національное единство; одинъ человѣкъ представляетъ понемногу сосредоточившееся въ немъ одномъ государство. Такою была именно королевская власть во Франціи. Далѣе, его патриціатъ, отличный отъ аристократіи, не имѣющій правъ или лишившійся ихъ, остающійся только окомъ и рукою государя, это—какъ разъ французское дворянство. Его народъ, безправный, какъ и вельможи, но несущій меньше обязанностей, — народъ, отъ котораго требуется лишь повиновеніе и любовь къ родинѣ въ лицѣ короля,—это французскій народъ. Конституція де-Местра, неписаная, но дѣйствительная, созданная традиціями и обычаями, обязывающая короля передъ его совѣстью, но не связывающая его,—это конституція французская; никто не читалъ ея, ноиБос-сюэ и Фенелонъ знаютъ ее и напоминаютъ объ ней; и Монтескьё хорошо знаетъ объ ея существованіи; благодаря ей, Франція—не Турція.
Монархія, налагающая на подданныхъ не цѣпи, а обязанности; нація, организованная въ цѣляхъ единства и преемственности,— вотъ идеалы, возможное осуществленіе которыхъ де-Местръ находитъ во Франціи. Онъ любитъ Францію еще потому, что кромѣ нея и любить некого, за выключеніемъ раскольническихъ, еретическихъ націй и Австріи, этого естественнаго врага Пьемонта; онъ любитъ ее умомъ больше чѣмъ сердцемъ, такъ какъ она—вопло щеніе его мысли. Итакъ, да здравствуетъ Франція! Она измѣнила своимъ традиціямъ; но развѣ можетъ народъ надолго уклониться отъ своей природы? Не случай ли все это, не несомнѣнное ли испытаніе? И де-Местръ возвращается къ своей мечтѣ объ абсолютной монархіи, только въ самой себѣ находящей ограниченіе.
Ш. Философія де-Местра.
Мысль эту онъ расширяетъ и обобщаетъ, ставя ее въ связь съ общимъ представленіемъ о человѣчествѣ и о мірѣ... Можно спросить себя, зачѣмъ это? Къ чему закутывать политическую систему въ философскую теорію, рискуя этпмъ задушить ее? Не достаточ-
— 20 —
но-ли, если соціальная система логична сама по себѣ, оправдываетъ сама себя своими доводами и опроверженіемъ противныхъ системъ, не прибѣгая къ помощи метафизическихъ разсужденій?— Мало найдется философовъ и даже мало теоретиковъ, думающихъ такъ. Самъ Монтескье, по преимуществу критическій соціологъ, считаетъ своей обязанностью помѣстить въ началѣ своего г.Духа Законовъ* краткую метафизику, которую повидимому онъ самъ не вполнѣ ясно понимаетъ. Въ де-Местрѣ склонность эта проявляется всего ярче: это умъ въ высшей степени систематичный, и нѣтъ человѣка болѣе склоннаго доказывать вещь вполнѣ ясную ссылкою на менѣе ясную. Онъ принадлежитъ къ разряду мыслителей, считающихъ міръ единымъ сплоченнымъ цѣлымъ, и такъ какъ идеи единства и преемственности составляютъ сущность его ума, то онъ усиленно требуетъ ихъ и въ государствѣ; ему нужно, чтобы система міра объясняла его соціальную систему.
Это во-первыхъ, потому, что онъ де'-Местръ, а затѣмъ потому, что онъ, не смотря на всѣ свои старанія отрѣшиться отъ такого родства, сынъ XVIII вѣка,—вѣка крайнихъ теорій, радикальной ломки въ видахъ полнаго переустройства,—вѣка, когда изъ-за неудачно свареннаго яйца сжигали цѣлые дома. Поэтому то онъ, сильно рискуя повредить своей политической системѣ, тѣсно связываетъ ее съ возможно болѣе общимъ представленіемъ о мірѣ.
Дѣйствительно, онъ замѣчаетъ выставляемыя противъ нея возраженія. Ему слышатся протестующіе голоса. Ему говорятъ: „Ваша система неправильна, такъ какъ въ ней нѣтъ справедливости. Свобода, равенство, права человѣка не выдуманы гордостью или завистью; это—формы справедливости. Вашъ абсолютный монархъ-чистый и обыкновенный тиранъ, какъ бы ловко вы его ни маскировали. Ему не хватаетъ двухъ условій, для того чтобы разумъ могъ признавать его законнымъ государемъ: основанія его права и отвѣтственности". Де-Местръ сказалъ себѣ: я опровергну это возраженіе насчетъ несправедливости моей теоріи; я найду это основаніе для королевской власти, эту отвѣтственность короля. И вотъ что онъ отвѣтилъ.
Говорятъ, что нѣтъ справедливости тамъ, гдѣ нѣтъ управленія всѣхъ всѣми. Но несправедливость составляетъ основу общества, такъ какъ она—міровой законъ. Міръ основанъ на безграничной и всеобщей неправдѣ. Сама природа возмутительный тиранъ. Если бы сильный не губилъ въ ней слабаго, и слабый и сильный всѣ погибли бы. Жизнь всего міра только и поддерживается непрестаннымъ убійствомъ. Всякая жизнь, растительная, животная, человѣческая, возникаетъ изъ тысячъ смертей, безъ которыхъ ея бы не было. Кровь съ перваго дня творенія, какъ роса, пропитываетъ землю, и всѣ живыя существа дышутъ атмосферой испареній крови.—И вотъ среди этой сплошной рѣзни является существо, настолько превосходящее всѣ другія, что, пови
— 21 —
димому, оно можетъ не подчиняться закону убійства. Оно истребляетъ по произволу всѣ другіе виды; оно сѣетъ смерть въ мірѣ—„его столы завалены грудами труповъ", и нѣтъ высшаго существа, которое могло-бы поступить съ нимъ также. Неужели оно избѣжитъ подчиненія міровому закону? Возможно-ли такое нарушеніе общаго порядка? Нѣтъ! „Развѣ вы не слышите стона земли требующей крови?" Какъ же будетъ выполненъ этотъ законъ? „Какое существо уничтожитъ всеобщаго истребителя?—Онъ самъ! Умерщвлять человѣка поручено человѣку же". Тамъ, гдѣ кончается истребленіе слабыхъ породъ болѣе сильными, начинается война.
тВойна то и осуществитъ законъ". Война—„обычное состояніе людей"; она—правило; „людская кровь должна проливаться непрерывно тамъ или здѣсь на землѣ".—Нѣтъ ничего чудовищнѣе войны, согласенъ; но почему солдатъ пользуется такимъ почетомъ и уваженіемъ? Не потому ли, что онъ осуществляетъ предвѣчный порядокъ міроправленія, и мы видимъ въ немъ орудіе верховнаго закона, правящаго міромъ?—Нѣтъ ничего отвратительнѣе убійства холоднаго, разсчитаннаго, совершаемаго убійцей безъ риска за собственную жизнь, въ полной для себя безопасности. Оно возмущаетъ всѣ человѣческіе инстинкты. И тѣмъ не менѣе всегда существовалъ и существуетъ палачъ, и извѣстно, что нѣтъ никогда недостатка въ кандидатахъ на эту ужасную должность. — Говорятъ, палачъ служитъ только для наказанія за преступленіе, и, слѣдовательно, должность его—выраженіе правосудія. Это ничего не доказываетъ; является вопросъ: зачѣмъ существуетъ само преступленіе? Зачѣмъ, какъ не для примѣненія закона войны, не только между отдѣльными обществами, но и внутри каждаго изъ нихъ?—Было бы страннымъ нарушеніемъ этого закона, еслибы человѣкъ жилъ въ мірѣ съ человѣкомъ даже въ узкихъ предѣлахъ того, что мы называемъ ро пиной. Внутри самыхъ просвѣщенныхъ обществъ презрѣнными, но необходимыми представителями этого міроваго закона являются преступникъ и палачъ. Благодаря имъ безконечно льется кровь, которая должна литься по уставу., благодаря имъ безпрерывно переходитъ отъ слова къ дѣлу, осуществляется законъ несправедливости; несправедливость исправляется насиліемъ, а насиліе по своей природѣ въ свою очередь стремится къ несправедливости.
Взгляните, какъ очевидно существованіе этого закона. Человѣкъ, животное общественное, составилъ вовсе не одно общество, что безконечно сократило бы царство беззаконія на землѣ; онъ образовалъ много обществъ, т.-е. скопленій силъ, изъ которыхъ каждое служить прекраснымъ орудіемъ для насилія надъ сосѣдомъ. Одно изъ такихъ „скопленій" несправедливо нападаетъ на другую группу людей; та отражаетъ неправду силой; если она падетъ въ борьбѣ, несправедливость торжествуетъ; если одержитъ верхъ, у у нея является достаточно силы и желанія, чтобы стать въ свою
— 22 —
очередь притѣснителемъ, и несправедливость совершается. Такова несправедливость международная. А тѣмъ временемъ въ каждомъ обществѣ преступникъ и палачъ работаютъ безъ устали надъ удобреніемъ каждой пяди земли кровью: преступленіе создаетъ несправедливость, наказаніе подавляетъ ее; то же наказаніе, оттого ли, что ему не хватаетъ силъ на подавленіе ея до конца или потому, что оно довольствуется преслѣдованіемъ ея, позволяетъ ей сохраняться или даже усиливаться. Такова несправедливость національная.
Итакъ, человѣчество удивительно устроено для совершенія несправедливости всѣми способами: и войной наступательной, и войной оборонительной, и убійствомъ безпричиннымъ, и убійствомъ изъ мести, и беззаконіемъ, вызывающимъ насиліе, и насиліемъ, превращающимся въ беззаконіе, и возстаніемъ народа на народъ, и взаимнымъ отчужденіемъ членовъ одного народа.
И это далеко не все. Пожираніе однихъ животныхъ другими, тиранія человѣка надъ животными видами, умерщвленіе имъ себѣ подобныхъ, преступленіе, казнь, война,—все это проявленія неправды, но въ концѣ концовъ къ вей привыкаютъ. Она кажется просто проявленіемъ зла на землѣ; это постоянное, какъ бы свыше предопредѣленное зло должно бы вѣчно тревожить сердца; однако, именно, въ виду его вѣчности о немъ совсѣмъ перестаютъ думать. Мы не обращаемъ достаточно вниманія на то, съ какимъ безпредѣльнымъ уваженіемъ относится человѣчество къ несправедливости ненужной, безпричинной, неразумной, невызванной и даже безполезной, къ несправедливости совершаемой ради нея самой, изъ-за удовольствія быть несправедливымъ или съ цѣлью сохраненія ея. Это одна изъ основныхъ идей человѣчества. Кровавыя жертвоприношенія всегда считались за выраженіе преклоненія предъ таинственнымъ закономъ, управляющимъ судьбами міра. Люди искони вѣрили, что недостаточно убивать въ пылу увлеченія или по необходимости. Убивать животное себѣ въ пищу, убивать человѣка въ наказаніе или ради самозащиты—значитъ примѣнять законъ объ убійствѣ ради цѣли, а не безкорыстно; это—подчиненіе, а не осуществленіе его; это—убійство изъ нечистыхъ побужденій, недостаточно добровольное; это не—пролитіе крови ради него самого. Жертва, это—идеальное убійство, внушенное единственно мыслью исполнить свой долгъ и черезъ то пріобщиться къ высшему закону, управляющему всѣми нами; это—исповѣданіе вѣры въ убійство; это—пролитіе крови въ видѣ молитвы. Всѣ люди считали этотъ актъ необходимымъ и благоговѣйно исполняли его. Кровавыя жертвы были у всѣхъ народовъ; всѣ они соглашались съ выводами неумолимой логики и убѣждались въ томъ, что необходимымъ выводомъ изъ этой мысли является человѣческая жертва. Всѣ думали, что въ извѣстныхъ случаяхъ, при неувѣренности, въ достаточвой ли мѣрѣ выполненъ законъ, требующій убійства че
— 23 —
ловѣка, его слѣдуетъ торжественно провозгласить добровольнымъ выполненіемъ.
Но это—ужасное варварство!—Можетъ быть и такъ; но какъ могли бы люди выразить признаніе мірового закона иначе, не осуществляя его? А если они осуществляли его всегда такимъ способомъ, значитъ, они всегда и понимали его въ такомъ именно смыслѣ. Люди видятъ, что несправедливость царитъ въ общественныхъ и международныхъ отношеніяхъ, что она—законъ земли. А. такъ какъ всякая религіозная идея является исповѣданіемъ мірового закона, а всякій религіозный актъ—добровольнымъ и безкорыстнымъ выполненіемъ все того же закона, причемъ мотивомъ является единственно желаніе исполнить его требованія,—то абсолютная несправедливость естественно должна была представляться людямъ религіознымъ актомъ. Они такъ и поняли ее и сообразно съ этимъ дѣйствовали; а это доказываетъ несомнѣнно, что они считали міръ лежащимъ во злѣ. Отсюда слѣдуетъ, что онъ и на самомъ дѣлѣ во злѣ лежитъ, такъ какъ одинъ и тотъ же законъ несправедливости встрѣчается и въ природѣ, и въ обществѣ, и въ отношеніяхъ между обществами, и въ религіяхъ, и какъ бы въ сознаніи народовъ.
А вотъ тотъ же вопросъ въ другой формѣ или, если хотите, та же идея въ утонченномъ видѣ. Если во избѣжаніе застоя въ примѣненіи закона убійства на землѣ невинный приносится въ жертву, это несправедливо п потому въ порядкѣ вещей. Но здѣсь невинный невиненъ лишь въ томъ смыслѣ, что неизвѣстно, виновенъ ли онъ; кто онъ, это не важно; беззаконіе совершено, такъ какъ смерти преданъ человѣкъ, не заслужившій этого формально. Но несправедливость будетъ много разительнѣе, если будетъ убитъ человѣкъ завѣдомо невинный, если выберутъ его именно потому, что на немъ нѣтъ вины, и онъ долженъ заступить мѣсто виновнаго и искупить его вину. Люди не преминули замѣтить этотъ крайній выводъ изъ основного начала и примкнули къ нему. Эта идея, какъ болѣе утонченная, не получила правда широкаго распространенія, но ясные слѣды ея тѣмъ не менѣе замѣтны всюду Мысль о перенесеніи вины и заслугъ съ одного человѣка на другого показалась человѣчеству вполнѣ естественной. При видѣ наказанія невиннаго и безнаказанности преступника люди не признали эти два факта независящими другъ отъ друга, а напротивъ, связанными. Они не сказали: преступникъ торжествуетъ, а правый погибаетъ. Они сказали: правый гибнетъ ради преуспѣвающаго преступника. Законъ предписываетъ искупленіе, но не обязательно искупленіе виновнымъ. Мы искупаемъ и свои и чужіе грѣхи. „Дивное слово вырвалось у Давида: Боже, очисти меня отъ невѣдомыхъ мнѣ грѣховъ моихъ и прости мнѣ чужіе".
Мысль нелѣпая, скажутъ иные, но въ сущности она просто служитъ выраженіемъ общечеловѣческой солидарности. Идеи един
— 24 —
ства и преемственности до того стали чужды умамъ людей, что наши современники могутъ понять только личную вину и не въ состояніи допустить общей отвѣтственности человѣчества и наказанія всего его за преступленія, совершаемыя отдѣльными людьми. Однако мысль эта не представляетъ ничего страннаго; ее встрѣчаешь всюду; она ничуть не страннѣе идеи наслѣдственности благородства. Нѣтъ того человѣка, какимъ бы демократомъ онъ себя ни считалъ, который не гордился бы своей принадлежностью къ фамиліи порядочныхъ людей; всякій ставитъ человѣку въ заслугу его принадлежность къ хорошей семьѣ. Чтожъ это, какъ не аристократическій предразсудокъ, и въ чемъ основа этого предразсудка, какъ не въ смутной мысли о перенесеніи заслугъ? Такъ какое же основаніе, считать невѣрнымъ мнѣніе параллельное только что приведенному,—мысль о перенесеніи вины? „Вы гордитесь тѣмъ, что вашъ предокъ былъ убитъ въ Египтѣ подлѣ Людовика Св.; согласитесь, что если бы вашъ предокъ предалъ Св. Людовика сарацинамъ, эта низость запятнала бы васъ". Всѣ такъ точно и разсуждаютъ; „въ наслѣдственное безчестіе не вѣритъ лишь тотъ, кто отъ него страдаетъ." Итакъ круговая передача винъ и заслугъ есть одна изъ несправедливостей, считаемыхъ людьми за вполнѣ естественную вещь. Это можетъ быть величайшее зло, но его считаютъ вполнѣ законнымъ; это одно изъ проявленій міровой несправедливости.
Всѣ эти разсужденія приводятъ къ признанію существованія зла на землѣ,—Да, конечно, зло существуетъ, и кромѣ вего ничего на землѣ и нѣтъ. Это вполнѣ естественно: это законъ несправедливости въ самомъ широкомъ своемъ проявленіи. Зло—это Божья несправедливость. Потомъ мы увидимъ, что мы, христіане, должны въ сущности думать объ этой несправедливости. Но если смотрѣть на міръ и его исторію съ философской точки зрѣнія, то станетъ ясно, что никогда люди не признавали Божества иначе, какъ несправедливымъ. Доказательствомъ этого служитъ ихъ обращеніе къ нему съ молитвами. Молить кого значитъ просить о милости, располагать судью въ свою пользу. Вѣдь никому не придетъ въ голову обращаться съ мольбою къ закону, потому что всѣ знаютъ его неумолимость. Судью же просятъ; значитъ, считаютъ его способнымъ на лицепріятіе, увѣрены въ этомъ и такъ и говорятъ ему это въ лицо. А всѣ люди молились, т. е. всѣ обращались къ небу съ надеждою на благосклонность неправеднаго судьи. Такъ было и будетъ всегда. Нѣтъ въ человѣчествѣ болѣе глубокаго убѣжденія, тверже обоснованнаго на наблюденіи за ходомъ дѣлъ, какъ вѣра въ склонность высшихъ силъ ко злу. И онѣ хотятъ не простого зла, а зла по ихъ произволу, смѣшаннаго съ добромъ,—т. е., большаго безпорядка, чѣмъ чистое зло; онѣ создали зло капризное и произвольное, такое, которое можетъ переходить въ добро и иногда переходитъ на самомъ дѣлѣ
— 25 —
въ доказательство того, что, при желаніи его можно поправить. Это несправедливость остроумная и забавная; это больше чѣмъ зло; это—духъ злобности.
Для разума, разсудка и сердца нѣтъ ничего противнѣе подобныхъ идей, въ особенности послѣдней, резюмирующей всѣ прочія: это—позоръ для разума.—Да, безъ сомнѣнія; это зависитъ отъ того, что истинно лишь то, что противно разуму: неразумность—доказательство истины. Это—послѣднее соображеніе, которымъ де-Местръ угощаетъ своихъ читателей. Критеріемъ разума служитъ очевидность. Если вы положитесь на очевидность, вы можете быть почти увѣрены, что обманетесь и что опытъ жестоко васъ разочаруетъ. Почти всегда „теорія повидимому самая доказательная оказывается въ противорѣчіи съ опытомъ",—Очевидность говоритъ намъ, что человѣкъ отъ природы добръ, что онъ „рожденъ свободнымъ", что равенство-естественное состояніе людей, и что исторія человѣчества представляетъ непрерывное движеніе отъ состоянія дикости къ цивилизаціи. Весь оптимизмъ, либерализмъ, вся философія и соціологія XVIII вѣка, все это основано на очевидности и потому такъ удивительно поверхностно. Все это удовлетворяетъ разумъ, но на каждомъ словѣ опровергается опытомъ, соприкосновеніемъ съ дѣйствительностью, наблюденіемъ. Когда Руссо говоритъ, что „человѣкъ рожденъ свободнымъ, но всюду окованъ цѣпями", онъ, незамѣтно для себя, не только говоритъ глупость, но, высказывая ее, самъ признаетъ ее таковою. Разъ положеніе: „человѣкъ всюду въ цѣпяхъ" — оказывается на опытѣ постоянно истиной, таково вѣроятно его естественное положеніе. Иначе такъ же справедливо было бы сказать, что овцы отъ природы животныя плотоядныя, но всюду питаются травой. Но нѣтъ, прирожденная свобода человѣка—разумная очевидность, это аксіома, противъ которой нечего возражать; всегдашнее рабство человѣка, это—только дѣйствительность, которую нужно передѣлать.
То же самое мы видимъ и во всемъ. „Въ теоріи нѣтъ ничего нелѣпѣе наслѣдственной монархіи. Если бы людямъ, никогда не слыхавшимъ ни о какомъ родѣ правленія, пришлось выбирать извѣстный видъ его, они сочли бы сумашедшимъ того, кто сталъ бы колебаться между наслѣдственной и избирательной монархіей. А между тѣмъ мы знаемъ по опыту, что первая въ цѣломъ всего лучше, вторая всего хуже".— То же можно сказать и относительно народовластія, относительно выработанной и писаной конституціи. Если вы утверждаете, что правильное государство не основывается на конституціи, васъ считаютъ безумцемъ, — а между тѣмъ, „всего лучше политическое устройство у того народа, который писалъ всѣхъ меньше конституціонныхъ законовъ".—Можетъ ли что-нибудь быть чудовищнѣе продажи судебныхъ должностей? Она возмущаетъ разумъ. Оставимъ его возмущаться и замѣтимъ, что на практикѣ независимыми оказываются лишь судьи, владѣющіе своими должностями, а сдѣ
— 26 —
латься владѣльцами ихъ можно только путемъ покупки. Разсужденіе оказывается такимъ образомъ благородной игрушкой ума; она удовлетворяетъ и забавляетъ умъ, пока ему нечего дѣлать, и обманываетъ его непремѣнно, какъ только ему приходится дѣйствовать. Полагаясь на разсудокъ при соприкосновеніи съ дѣйствительностью, разумъ перестаетъ понимать самый характеръ того матеріала, надъ которымъ ему приходится работать, такъ какъ дѣйствительность нераціональна и смѣется надъ неумѣлымъ работникомъ. Міръ не подчиняется разсудку, а представляетъ собою систему глубокихъ, крупныхъ и рѣзкихъ нелѣпостей.—Ж. де-Местръ потому такъ и парадоксаленъ, что весь міръ представляется ему какъ бы парадоксомъ.
Итакъ, для него не имѣетъ значенія возраженіе, указывающее на несправедливость его политической системы, такъ какъ міръ—царство исключительной неправды, или возраженіе, указывающее на ея нераціональность, такъ какъ раціональность не есть признакъ истины.
Теперь онъ объяснитъ, въ чемъ на его взглядъ заключается основа королевской власти, этого центра, всей его политической системы, и въ чемъ состоитъ отвѣтственность монарха,—объяснитъ это указаніемъ на свою принадлежность къ христіанству и на свое пониманіе его ученія.
IV. Религіозная система де-Местра.
Христіанство Ж. де-Местра представляется въ сущности просто объясненіемъ его политики и оправданіемъ его философіи, а та, въ свою очередь,—лишь большое уклоненіе въ сторону, при помощи котораго политическій теоретикъ возвращается къ своему исходному пункту. Христіанство де-Местра дополняетъ его философію, служа ей подтвержденіемъ, во-первыхъ,—во-вторыхъ, раскрывая тайну ея, выясняя скрытую ея сущность. Оно оказываетъ поддержку его политикѣ, сообщаетъ ей законченность, обосновывая и освящая ее. Изо всего христіанства де-Местръ повидимому замѣтилъ лишь, то, что служило подтвержденіемъ его философіи и дополняло его политику; дальше этого онъ не заглядывалъ.
Христіанство на его взглядъ потверждаетъ и завершаетъ только что изложенную нами съ его словъ систему философскаго пессимизма, въ томъ смыслѣ что оно и есть эта именно система; а его конечный выводъ только освѣщаетъ и въ то же время очищаетъ ее. Въ самомъ дѣлѣ, не слѣдуетъ думать, будто христіанство принесло съ собой новый, особый взглядъ на мірт> и на человѣка, взглядъ, раньше неизвѣстный. Это, напротивъ,—мысль, съ самаго начала присущая всему человѣчеству. Люди бьіли христіанами уже до Христа, хотя правда плохими и безсознательными. „Богословскія истины, это—истины всеобщія".
— 27 —
Такъ оно и слѣдуетъ. Безъ этого въ мірѣ не было бы ни единства, ни преемственности, а въ мірѣ, устроенномъ такимъ образомъ, де-Местръ не понялъ бы ничего. Всему, чему учитъ христіанство, люди вѣрили и раньше, но вѣрили смутно, безсознательно, дивясь, волнуясь и страшась; всему, чему вѣрили люди, христіанство даетъ божественное объясненіе, разсѣивающее ужасъ и мракъ.
Язычество было ребяческимъ христіанствомъ. Христіанство — „очищенное", просвѣтленное язычество, „освобожденное отъ зла", надѣленное свѣточемъ истины. До Христа люди всегда вѣрили, что неправда—всемірный законъ; въ этой мысли столько правды, что все христіанство основано на страшной несправедливости: на пораженіи, жертвѣ и мученичествѣ праведника. До Христа люди всегда вѣрили въ законъ крови; они были правы, потому что христіанство на всѣхь алтаряхъ вѣчно проливаетъ кровь вѣчной жертвы. До Христа люди вѣрили въ переходъ отвѣтственности, въ первородный грѣхъ (мыслью этою дѣйствительно полна греческая трагедія); вѣрили въ то, что праведникъ платится за виновнаго и искупаетъ злодѣянія міра. Тайна эта и есть само христіанство. Люди до Христа вѣрили, что зло по волѣ боговъ господствуетъ здѣсь на землѣ; и у христіанства то же ученіе. Оно только по своему объясняетъ эту истину; оно говоритъ: міръ скверенъ, такова воля Божія; но это не потому, что Богъ несправедливъ, а потому что онъ оскорбленъ, оскорбленъ отъ начала и до нашего времени по закону преемственности, истинность котораго признана нами. Отсюда и зло. Богъ сдѣлалъ изъ зла міровой законъ въ видѣ наказанія и испытанія. Онъ зломъ караетъ и зломъ искупаетъ, принимая за насъ страданіе на крестѣ; зломъ испы-туетъ и наконецъ избавляетъ отъ зла тѣхъ, кто искупилъ свои и чужіе грѣхи.
Какъ язычники потому и молили свопхъ боговъ, что тѣ были несправедливы, такъ мы молимъ нашего, потому что онъ несправедливъ; разница въ томъ, что мы знаемъ, кто вынудилъ его на несправедливость, и это оправдываетъ его. Богъ несправедливъ во времени, справедливъ въ вѣчности. Чтобы наказать насъ, онъ ввергаетъ насъ въ неправду міра, и мы въ этой юдоли зла молимъ его такъ, какъ молили своихъ боговъ язычники, т. е. обращаемся къ нему, какъ къ властителю произвольному. Дѣйствительно въ этомъ царствѣ несправедливости, которое онъ по заслугамъ нашимъ пожелалъ водворить на землѣ, власть его произвольна. Но послѣ этого испытанія онъ привлекаетъ насъ въ жизнь вѣчную, гдѣ все—справедливость. Эту вѣчную истину ясно предчувствовали язычники; ученіе христіанства освободило ее отъ скрывающихъ ее покрововъ. Итакъ, въ христіанствѣ де-Местръ находитъ всѣ свои философскія идеи, но находитъ ихъ со спокойной увѣренностью.
А такъ какъ онъ не легко останавливается, разъ ухватившись
— 28 —
за идею, особенно если это идея соблазнительная, то въ язычествѣ онъ усматриваетъ одну за другою всѣ истины христіанства. Все язычество представляется ему заранѣе христіанскимъ, безсознательно, но дивно и всецѣло христіанскимъ (Объясненіе жертвоприношеній): „Есть ли хоть одна истина христіанства, которая не нашлась бы въ язычествѣ? Правда, у язычниковъ много боговъ и владыкъ на небѣ и на землѣ, и надо у каждаго добиваться пріязни и благосклонности. Но вѣрно и то, что Юпитеръ, это нѣчто, не имѣющее надъ собой высшей силы, у нихъ одинъ... Совершенно вѣрно, что Минерва вышла изъ головы Юпитера... что у каждаго человѣка есть духъ, руководящій имъ, указывающій ему путь среди тайнъ жизни... что Геркулесъ тогда только можетъ взойти на Олимпъ, когда огонь на горѣ Этѣ истребитъ въ немъ все человѣческое... Вѣрно и то, что герои, дѣйствительно заслужившіе это имя, могутъ быть провозглашены законной властью богами. Канонизація монарха въ языческой древности и апоѳеоза героя христіанства церковью исходятъ изъ одного принципа... Вѣрно и то, что боги сходили иногда къ людямъ, садились за столы праведниковъ, а но временамъ сходили на землю искупать злодѣянія людей..."
И въ такомъ духѣ много страницъ: играть въ такую игру если и неблагоразумно, то легко. Впрочемъ для де-Местра это даже не игра. У него во всемъ единство, преемственность; міръ единая мысль, потому единая, что исходитъ отъ Бога. Мысль эта извращена язычниками, которые имѣютъ несчастіе обладать христіанствомъ безсознательно, но все же обладаютъ имъ, „такъ какъ заблужденіе есть не что иное какъ искаженіе истины". Та же Божья мысль, но просвѣщенная и законченная, видна въ христіанствѣ; христіане обладаютъ истиной во всей ея чистотѣ и, лишь заблуждаясь, впадаютъ въ язычество.
Вотъ полная философія де-Местра; это—пессимизмъ, останавливающійся и отдыхающій на христіанствѣ, удовлетворяющійся имъ; это вѣра—въ зло, находящая себѣ въ христіанствѣ подтвержденіе, объясненіе и утѣшеніе; это—вѣра въ несправедливость, подтверждающаяся и преобразующаяся въ христіанствѣ, согласующаяся съ христіанствомъ на землѣ и отодвигающая царство справедливости въ міръ вѣчности; это, наконецъ,—инстинктивная настоятельная потребность единства вь системѣ міра, находящая въ христіанствѣ разрѣшеніе міровой загадки и считающая его за всеобщую вѣчную мысль человѣчества, а язычество—за разлагающійся библизмъ и предвосхищенное христіанство.
Все это какъ бы группируется и строится вокругъ политической идеи, какъ вокругъ центра, для поддержанія, укрѣпленія и возвеличенія ея, для доказательства ея связи съ настоящимъ строемъ міра и со всѣми истинами. „Петербургскіе вечера" и
— 29 —
„Объясненіе жертвоприношеній“ представляютъ собою смѣлое и блестящее обобщеніе на поддержку „Разсужденій о Франціи
Книги о „Папѣ* и о „Галликанской церкви* дополняютъ мысль де-Местра, опредѣляя монархическую власть, какъ „Петербургскіе вечера* ее оправдывали. Спрашивается, откуда происходитъ королевская власть, что служитъ ей основаніемъ и что освящаетъ ее, кто даетъ королю его права, передъ кѣмъ онъ отвѣтственъ? Основою власти короля служитъ Богъ, а его обязанности вѣдомы Богу же. „Отъ Бога зависитъ всякая власть*, потому что онъ творецъ власти и судья надъ ней. Онъ создаетъ власти, по мнѣнію людей, несправедливыя, а, можетъ быть, и на дѣлѣ такія, такъ какъ онъ Творецъ безмѣрной несправедливости, называемой міромъ и существующей въ наказаніе и на испытаніе людямъ. Люди могутъ считать власть проявленіемъ несправедливости; этому такъ же мало можно удивляться и отъ этого такъ же трудно защищаться, какъ и отъ общей неправды, окружающей насъ. Возмущеніе противъ короля равносильно мятежу противъ мірового порядка. — Но Богъ же и судитъ царей, какъ Творецъ той вѣчной правды, къ которой онъ насъ призываетъ, приглашая заранѣе примкнуть къ ней нашими дѣлами, чтобы со временемъ оказаться достойными жить въ ней. Въ этомъ вся сущность королевскихъ обязанностей.—-Властькоролей называютъабсолютною;но абсолютны ихъ обязанности, такъ какъ они отвѣтственны не предъ капризнымъ мнѣніемъ и не передъ тлѣнной конституціей, но предъ существомъ абсолютнымъ. Говорятъ, что могущество королей не-ограничено; именно по безконечности ихъ могущества безконечны и ихъ обязанности, такъ какъ передъ вѣчною правдою обязанности соразмѣряются съ властью, и если ихъ мало у народа, больше у знати, то у короля неограниченнаго онѣ неисчерпаемы; въ рукѣ Божьей царь тѣмъ болѣе связанъ, чѣмъ онъ свободнѣе. Какая теперь нужда въ конституціи и въ правахъ народа? Права народа, это — обязанности государя передъ Богомъ. Демократы отчасти правы, говоря: „Гласъ народа—гласъ Божій*; но правы, какъ язычники; они искажаютъ истину или высказываютъ ее безъ пониманія. Голосъ народа не голосъ Бога, но права народа-права Бога.
Но гдѣ же найти въ мірѣ голосъ Божій, къ которому долженъ прислушиваться государь, и который налагаетъ на него обязанности? Онъ не въ народѣ, не въ законѣ, не въ конституціи. Гдѣ же глашатай Бога?—Какъ гдѣ? Да развѣ Богъ не говорилъ съ людьми, не возвѣщалъ своихъ словъ имъ? Развѣ нѣтъ хранителей его мысли? Государь отвѣтствененъ предъ истиной, а хранитъ ее церковь.
Итакъ, государь оказывается рабомъ церкви! — Кто вамъ это сказалъ? Развѣ короли Франціи были рабами парламента отъ того, что онъ былъ хранителемъ законовъ? Они нравственно были под
— 30 —
чинены охраняемой имъ конституціонной истинѣ. Точно такъ же государи должны нравственно подчиняться божественной правдѣ, тайну которой хранитъ церковь. Церковь это великое зеркало человѣчества, въ которомъ отражается божественный свѣтъ, и въ этомъ зеркалѣ должны безпрестанно созерцать его государи. Церковь просвѣщаетъ государей насчетъ ихъ долга, опредѣляетъ ихъ обязанности, устанавливаетъ начала ихъ власти. Таково ея назначеніе въ жизни человѣчества.
Но этимъ роль ея не ограничивается. Человѣчество разбилось на группы, на различныя общества, не столько подчиняясь извѣстному сродству, сколько сообразуясь съ темнымъ и неизбѣжнымъ закономъ неправды, представляющимъ одну изъ формъ зла на землѣ; оно раздѣлилось для того, чтобы велась война и лилась кровь. Таковъ человѣческій порядокъ. Но церковь, представляя порядокъ божественный, несмотря на свое сліяніе съ человѣчествомъ, по мѣрѣ силъ осуществляетъ Идею единства на землѣ. Какъ безпрестанно твердитъ де-Местръ, „католичество—это единство". Законъ всеобщаго убійства распространяется на всѣ существа отъ послѣдняго зоофита до высшаго животнаго; для того чтобы онъ не остановился на человѣкѣ, нужно, чтобы англичанинъ видѣлъ во французѣ животное другой породы, которое слѣдуетъ убивать. Но нужно также, чтобы по временамъ ясно, а обыкновенно смутно французъ видѣлъ въ англичанинѣ брата. Какъ люди, они не братья, а враждебныя животныя: таковъ человѣческій порядокъ. Они должны быть братьями въ Богѣ, какъ причастники Божественной мысли, для того, чтобы на землѣ осуществлялось хотя подобіе божественнаго порядка. Такое единеніе даетъ міру церковь. Люди постоянно мечтаютъ объ единствѣ, безпрестанно отклоняются отъ него и постоянно возвращаются къ нему, потому что по двойственности ихъ натуры оно составляетъ для нихъ недостижимую цѣль. Церковь оживляетъ эту мечту, поддерживаетъ ее, не даетъ ей слабѣть, спасаетъ ея непрерывность въ человѣческомъ родѣ.
Потому-то церковь и устроена монархически. Извѣстно, что совѣщаніе не можетъ породить идею, а можетъ лишь указать способъ дѣйствія. Собраніе, когда оно не бываетъ простымъ смѣшеніемъ идей, является соединеніемъ почти однородныхъ вожделѣній и устраненіемъ многихъ другихъ. Тутъ нѣтъ и подобія единства. Потому то какъ государство сосредоточивается въ государѣ, только наставляемомъ вельможами, такъ церковь представляетъ папа, при которомъ епископы являются простыми совѣтниками, и какъ королевская власть, сила матеріальная, носитъ характеръ неограниченный, такъ власть папы, сила духовная, не можетъ не быть непогрѣшимою.
И такъ теперь все приведено въ связь. Бъ наказаніе за грѣхи подчиненный злу и неправдѣ, міръ устраивается сначала соотвѣт
— 31 —
ственно своей природѣ отдѣльными обществами; въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ послѣднія являются орудіями несправедливости, но внутри они осуществляютъ подобіе правды, порядокъ,— въ тѣхъ случаяхъ, когда они не груды сухихъ, листьевъ, но живые организмы, получающіе изъ центра непрерывную, безостановочно изливающуюся жизнь, когда они неразрывныя цѣлыя, т. е. наслѣдственныя монархіи. Затѣмъ, міръ находитъ себѣ болѣе совершенное устройство во власти духовной, единой и всемірной, которая руководитъ мѣстными властями, мѣшаетъ ослабленію и исчезновенію въ мірѣ высшаго закона справедливости, поддерживаетъ и представляетъ единство человѣческаго рода.
V. Замѣчанія о системѣ и методѣ де-Местра.
Такая система отличается смѣлостью,'мощью, устойчивостью, даже глубиною, потому что заключаетъ въ себѣ мысли Паскаля, доведенныя до крайности; въ этомъ неоднократно можно было убѣдиться въ теченіе нашего анализа. Страстная, горделивая и увлекательная, — она плѣняетъ насъ, захватываетъ и порабощаетъ. Она дерзко, если можно такъ выразиться, подкупаетъ логическія способности нашего ума, но она вовсе не убѣждаетъ. Въ ней есть нѣчто вызывающее, что заставляетъ человѣка, готоваго признать истину словъ де-Местра, страстно желать, чтобъ онъ ошибался; она представляется пари или вызовомъ. Мнѣ кажется, это зависитъ отъ странной особенности въ характерѣ де-Местра. Я подозрѣваю, что его умъ и характеръ находились въ противорѣчіи, и онъ, смутно чувствуя это. усиленно старался, чтобы его характеръ ни въ чемъ не отражался на его умѣ.
Онъ былъ очень добрымъ человѣкомъ и создалъ злую систему. Доброта его мало проглядываетъ въ томъ, что онъ говорилъ публикѣ, и мнѣ приходится настаивать на этомъ качествѣ. Его интимныя письма прелестны. Никто не пожелалъ бы видѣть его законодателемъ, но многіе пожелали бы имѣть такого отца. Вотъ конецъ письма къ невѣсткѣ: „Прощайте, дорогія и милыя дѣти; я васъ больше не различаю; дряхлыми руками прижимаю васъ къ моему молодому сердцу". Письмо къ дочери: „Для женщины нѣтъ ничего смѣшнѣе, дорогое дитя мое, какъ быть мущиной.... Не вздумай смотрѣть на женскія рукодѣлья съ точки зрѣнія матерь-яльной пользы, не имѣющей никакого значенія. Они служатъ доказательствомъ того, что ты женщина и считаешь себя таковою. Въ этихъ занятіяхъ заключается очень тонкое и невинное кокетство. Увидѣвъ тебя усердно занятою шитьемъ, всякій скажетъ: „Можно ли повѣрить, что эта молодая дѣвушка читаетъ Клоп-штока!" а заставъ тебя за Клопштокомъ, скажутъ: „можете себѣ представить, эта дѣвушка чудесно шьетъ!". Итакъ, дитя, попроси твою мать,—она такъ добра,—купить тебѣ хорошенькую прялку,
— 32 —
осторожно смочи кончикъ пальца, и затѣмъ врррр...>, а потомъ скажи мнѣ,какъ идутъ дѣла".—Письмо къ пріятельницѣ: „Есть что-то особенно страшное въ томъ, что молодость исчезаетъ въ самомъ расцвѣтѣ. Это точно несправедливость какая-то. Въ мірѣ столько зла! Я всегда говорилъ, что, будь у людей здравый смыслъ, свѣтъ не могъ бы существовать. Если бы мы задумались надъ тѣмъ, что намъ обыкновенно дается въ удѣлъ 25 лѣтъ жизни, и что разъ вы достигаете 26 лѣтъ, это доказываетъ, что другой умираетъ въ 24 года, право всякій улегся бы въ постель и врядъ ли сталъ бы одѣваться. Все движется только благодаря безумію нашему. Одинъ женится, другой строитъ домъ, а объ томъ ни минуты не думаетъ, что ему не видать своихъ дѣтей и не жить въ своемъ домѣ. Все равно, жизнь идетъ своимъ чередомъ, и этого довольно". — Вотъ задушевный пессимизмъ де-Местра, изъ котораго онъ не создаетъ теоріи. Этотъ пессимизмъ исполненъ сильнѣйшей жалости къ людямъ. „Въ мірѣ столько зла!". Это крикъ страждущаго сердца.
Въ своп теоріи де-Местръ не вложилъ ни капли своей доброты, своей привѣтливости, своей очаровательной любезности. Его разсудокъ отличался инымъ складомъ чѣмъ сердце, не оказавшее на умъ никакого вліянія. Есть ли это застѣнчивость, деликатность или гордость патриція, изысканная, правда, но нѣсколько преувеличенная въ этомъ случаѣ? Желаніе ли это и сознательное намѣреніемъ принципѣ впрочемъ похвальное, какъ можно менѣе походить на Руссо? Не знаю. Но если м-мъ де-Сталь всѣ свои чувства переводила въ мысли, то самъ де-Местръ, говорившій, что у нея самая извращенная въ свѣтѣ голова и лучшее въ мірѣ сердце, очевидно,закрылъ сердцу доступъ къ головѣ изъ боязни развратить свой умъ.—Это конечно недурная предосторожность, если не доводить ее до крайности и не дѣлать изъ нея системы; иначе она налагаетъ на умъ особый отпечатокъ. Привычка не довѣрять чувству вызываетъ насмѣшливое отношеніе къ здравому смыслу, представляющему именно скромное сочетаніе чувства съ разсудкомъ; благодаря ей умъ начинаетъ находить удовольствіе въ противорѣчіи общему мнѣнію, въ поддразниваньи противника. Де-Местръ придирчивъ въ высшей степени. Во всякомъ вопросѣ онъ правда доискивается истины, но въ то же время такого ея доказательства, которое всего сильнѣе возмутитъ читателя, задѣнетъ за живое его здравый смыслъ и возмутитъ его сердце. Страницы, въ которыхъ де-Местръ говоритъ о палачѣ, о жертвоприношеніяхъ написаны (и съ какой любовью, какъ хорошо и заботливо написаны!) съ единственной цѣлью раздражить насъ. Я не говорю здѣсь объ его идеяхъ—онѣ отвѣчаютъ его системѣ;—но подробное любовное описаніе колесованія, клиньевъ, застѣнка, съ трескомъ ломающихся костей, ручьями текущей крови п принесенія въ жертву тельца (іаигоЬоІе),—описаніе, въ которомъ де-Местръ соперничаетъ съ
— 33 —
этимъ варваромъ Пру денціемъ,—предназначены единственно къ тому, чтобы вывести насъ изъ себя
Къ чему это? Его цѣль запугать насъ. Де-Местръ охотно даетъ намъ почувствовать, что при всей своей серьезности онъ нѣсколько смѣется надъ нами, немного презираетъ наше простодушіе. Въ де-Местрѣ есть склонность къ зловѣщей мистификаціи. Очень часто при чтеніи его Вечеровъ кажется, будто перечитываешь Кандида. Это не можетъ не производить на насъ нѣкотораго впечатлѣнія. Мыслители такого рода (къ нимъ отчасти принадлежитъ Монтень, чаще, чѣмъ думаютъ, Паскаль и иногда Вольтеръ) тѣмъ и страшны, что имъ не рѣшаешься противорѣчить даже послѣ ихъ смерти; такъ и кажется, что они захохочутъ вамъ въ лицо. Однако это лишаетъ ихъ вліянія на самую задушевную сторону человѣка, мѣшаютъ имъ увлекать насъ именно потому, что они насъ запугиваютъ.
Привычка къ поддразниванью породила въ де-Местрѣ настоящую страсть къ парадоксу; страсть эту приписывали особому складу его ума, но на самомъ дѣлѣ это—особенность его характера.— Онъ любитъ удивлять, любитъ раздражать, а парадоксъ отличное средство для этого. Де-Местръ называетъ гдѣ то преувеличеніе ложью честныхъ людей; въ такомъ случаѣ парадоксъ — злость добрыхъ и черезчуръ умныхъ людей. Съ помощью его можно доказывать противникамъ, что они не видятъ истины, а друзьямъ— что они плохо защищаютъ ее. Парадоксъ ожесточаетъ атакуемыхъ, сбиваетъ съ толку защищаемыхъ, безпокоитъ и удивляетъ всѣхъ. Парадокса нужно остерегаться, потому что онъ сильно тѣшитъ тщеславіе автора. Де-Местра онъ восхищаетъ; можно почти сказать, что въ парадоксѣ состоитъ вся его метода. При рѣшеніи вопроса онъ быстро находитъ,—я подозрѣваю даже, нарочно выискиваетъ,—мысль, на общій взглядъ имѣющую къ вопросу наименьшее отношеніе, и на ней строитъ всѣ свои выводы и доказательства. „Петербургскіе Вечера", какъ видно изъ подзаголовка, представляютъ собою трактатъ о земномъ правленіи Провидѣнія. Человѣкъ простой или геній, умѣющій снисходить къ человѣческой слабости, напримѣръ, Фенелонъ, сначала просто указалъ бы на благое воздѣйствіе Бога на міръ, затѣмъ перешелъ бы къ возраженіямъ, вызываемымъ существованіемъ зла на землѣ, и постарался бы опровергнуть ихъ. Де-Местръ сразу выдвигаетъ возраженіе во всей его силѣ и начинаетъ любовно носиться съ нимъ. Богъ несправедливъ; онъ караетъ невиннаго вмѣсто преступника. Де точно ли безгрѣшенъ невинный? Не всѣ-ли мы солидарно преступны? Я предвижу моментъ, когда де-Местръ объявитъ преступника менѣе виновнымъ чѣмъ праведникъ... Затѣмъ далекимъ обходомъ онъ приводитъ насъ къ мысли, что міръ это—испытаніе, а справедливость—исключительная собственность Бога. До тѣхъ же з
— 34 —
поръ онь насъ изумляетъ, мучитъ, потрясаетъ и ведетъ скачками-и прыжками по тысячѣ мѣстъ, усѣянныхъ пропастями.
Такъ у Платона Сократъ проводитъ за ухо Горгія сквозь цѣлый рядъ необычайныхъ утвержденій, доказывая ему, что краснорѣчіе не искусство, а лишь навыкъ, во всемъ похожій на кухонную стряпню, и въ концѣ концовъ приходитъ къ заключенію, что ро-торика должна быть подчинена морали; такимъ образомъ къ истинѣ, и безъ того ясной для здраваго смысла, онъ приводитъ насъ рядомъ ослѣпительныхъ парадоксовъ. Это можетъ быть и діалектика, можетъ быть и акушерство, но прежде всего это софистика. Выраженіе рѣзкое, но оно само просится на языкъ,—ничего не подѣлаешь. Де-Местръ, какъ въ древности Сократъ, побиваетъ современныхъ софистовъ ихъ же оружіемъ, рискуя при этомъ, какъ извѣстно, быть смѣшаннымъ съ ними. Метода его состоитъ въ постоянныхъ отступленіяхъ отъ предмета и въ самыхъ неожиданныхъ заключеніяхъ. „Вы видите что идеѣ перехода отвѣтственности приходится такъ же мало удивляться какъ и идеѣ знатности, и что знать—явленіе естественное". Стоило ли изъ за такого простого вывода ходить такъ далеко?
Потому-то книги его кажутся (если хотите, только кажутся) плохо написанными. Метода его требуетъ, чтобы цѣль была постоянно скрыта, чтобы читатель, приближаясь къ ней, считалъ себя отъ нея очень далекимъ, и чтобы она вдругъ появлялась предъ нимъ. Отсюда форма размышленій или разговоровъ. Діалогъ особенно подходитъ къ этому складу ума. При діалогѣ можно уклоняться и возвращаться къ предмету, суживать рамки вопроса, наконецъ совсѣмъ терять его изъ вида,—можно заставлять, кого надо, говорить глупости и пользоваться этимъ. Діалогъ даетъ возможность чрезвычайно рѣзко и быстро мѣнять направленіе мысли. Таковъ по преимуществу жанръ де-Местра. Это былъ умъ въ высшей степени систематичный, а между тѣмъ его книги отличаются чрезвычайной безпорядочностью.—Замѣтьте, что здѣсь тоже сказывается его насмѣшливость. Приведите его ученіе въ стройную систему,—онъ преспокойно заявитъ вамъ, что вы его не поняли.
Эта склонность къ парадоксу не только утомительна, но п чрезвычайно опасна. Извѣстно, что случилось съ Паскалемъ, имѣвшимъ несчастіе основать свою вѣру на цѣлой системѣ непознаваемости, по временамъ пожалуй разрушающимъ самую вѣру,-—а затѣмъ случайно не окончившимъ своей книги. Паскаля могли иногда принимать за скептика, по крайней мѣрѣ, изъ осторожности. Сочиненія де-Местра закончены, но ихъ нужно непремѣнно прочесть цѣликомъ; иначе, просмотрѣвъ 200—300 страницъ, его можно принять за атеиста. Даже человѣка, изучившаго его произведенія до тонкости, поражаютъ иногда такія мысли, которыя, высказывай ихъ кто другой, заставили бы заподозрить автора въ атеизмѣ.
— 35 -
Вотъ чему подвергается писатель, когда приводитъ въ защиту мысли доводы, на взглядъ добрыхъ людей ей противорѣчащіе. Усиливая вашъ любимый доводъ, вы рискуете подтвердить возраженіе ..Это родъ діалектическаго кокетства; но можно сказать, что де-Местръ слишкомъ имъ злоупотребляетъ. Существованіе Бога вы доказываете единственно присутствіемъ зла на землѣ. Это конечно очень тонко, и какъ же нравится такой пріемъ диллетанту логики! Но обыкновенные люди не столь возвышенны, это ихъ только смущаетъ. Такая выдумка прекрасна; но имѣйте въ виду, что въ душѣ всякаго христіанина или просто вѣрующаго въ Бога непремѣнно сидитъ крошечный, смиренный и кроткій манихей; онъ мало философствуетъ, еретикомъ себя вовсе не считаетъ, любитъ Бога не какъ всекарающаго Творца зла, но какъ существо благое и жертву зла; онъ считаетъ его страдающимъ, подавленнымъ неправдою, нѣжно любитъ его за это, и чаще говоритъ: „да пріидетъ царствіе Твое", чѣмъ „избави насъ отъ лукаваго".—Хорошо ли убивать въ людяхъ такое чувство?—Конечно, разъ это заблужденіе.—Пусть такъ; я говорю только, что риска здѣсь пожалуй больше чѣмъ выгоды.
Его толкованіе христіанства оскорбляетъ все тѣ же чувства, возбуждаетъ тѣ же опасенія. Оно грубо и опасно. Замѣчательно, что если взять нѣкоторые частные взгляды, которымъ самъ онъ не придавалъ особаго значенія, можно составить совсѣмъ отличную отъ де-Местровой, очень убѣдительную и очень привлекательную систему христіанскаго ученія. Таковы, напримѣръ, слова о возстановлепіи и какъ бы созданіи христіанствомъ человѣческой нравственности: нравственность зависитъ отъ женщины, а жизнь женщины, какъ человѣка, начинается лишь съ христіанства. Какой глубокій взглядъ и какая правда! Очевидно, разъ мущинѣ принадлежитъ сила, и онъ создаетъ законъ, женщина является просто вещью, если у ней нѣтъ личнаго права, составляющаго ея достоинство и ставящаго ее выше грубой силы и общественной власти. Право женщины это—ея вѣра. Религія духа создала женщину какъ существо нравственное.—Встрѣчаются у де-Местра и такія мысли: „Христіанство уничтожило рабство; чтобы уничтожить что-либо, надо его чѣмъ нибудь замѣнить; христіанство потому и разрушило рабство, что замѣстило его. Волю нужно или очистить или обуздать; дать ей нравственную узду или вещественные путы. Правители нуждаются или въ толпѣ безотвѣтной, силой принуждаемой къ повиновенію, или въ толпѣ вѣрующей, покоряющейся по убѣжденію".—Замѣчательное объясненіе,—можетъ быть не достаточное, какъ всѣ другія, но глубокое, — крупныхъ отличій, отдѣляющихъ древній міръ отъ новаго!
И что же! Всѣ эти мысли о великомъ нравственномъ и общественномъ переворотѣ, называемомъ христіанствомъ, обронены моралистомъ какъ бы нечаянно, мимоходомъ; онъ относится къ нимъ
— 36 —
небрежно, скажу болѣе,—презрительно, и не только не приводитъ ихъ въ опредѣленную систему, но создаетъ ученіе имъ совершенно противоположное. Онъ останавливается не столько на различіяхъ между христіанствомъ и язычествомъ, сколько на сходствахъ между тѣмъ и другимъ. Подмѣтить, что новаго внесло въ жизнь христіанство, достаточно для мелкаго ума. Доказать, что богословскія истины — истины общія, что единство п непрерывность въ духѣ человѣка, и какъ на слѣдствіе этого указать на полное сходство язычества съ христіанствомъ,—вотъ задача, достойная мастера діалектики. Все это возможно; но вотъ является человѣкъ, который возьметъ готовое толкованіе и выведетъ изъ него совершенно другое заключеніе и, основываясь на словахъ де-Местра, покажетъ полное сходство христіанства съ язычествомъ. Такіе люди впрочемъ уже находились; со времени Фонтенеля не одинъ философъ указывалъ на это сходство съ цѣлями, мало похожими на цѣли де-Местра.
Потому-то де-Местръ не только смущаетъ, но и соблазняетъ христіанъ. Въ прекрасной статьѣ, возбудившей справедливо восхищеніе Сентъ-Бева, Шереръ останавливается въ изумленіи передъ этимъ страннымъ христіанствомъ, въ которомъ нѣтъ и слѣда любви, какъ будто-бы оно не заключалось цѣликомъ въ заповѣди: возлюби ближняго какъ самого себя. Я иду дальше и останавливаюсь въ удивленіи передъ христіанствомъ, въ которомъ не нахожу самого Христа. Можно утверждать, что у де-Местра нѣтъ ни любви, ни вѣры, ни даже идеи Христа. Я стараюсь узнать мнѣніе де-Местра объ этомъ и не нахожу его. Христосъ для него лишь „кровавая жертва** и больше ничего. Тутъ я совсѣмъ смущаюсь и задаю себѣ вопросъ: Ужъ не язычникъ ли въ. сущности де-Местръ? По крайней мѣрѣ онъ на него походитъ. Идея преемственности до того завладѣла имъ, что у него вырываются немножко сильныя выраженія, вродѣ такихъ: „ Суевѣріе — передовой стражъ религіи **, — „ французскіе епископы — преемники друидовъ**, „всякая цивилизаціи начинается жрецами... чудесами истинными или ложными, безразлично**. — Бѣда его въ томъ, что онъ подаетъ массу поводовъ невѣрно понимать его. Въ его христіанствѣ нѣтъ ни любви, ни милосердія, ни провозглашенія права человѣка на свободное отъ опеки государства мышленіе,—чтб представляется мнѣ основною идеею и благомъ христіанства. Христіанство де-Местра—государственная религія, терроръ и пассивная покорность; оно не далеко ушло отъ религій древности, и потому понятно, что оно просто нѣсколько „очищенное** язычество. Дѣло въ томъ, что есть по крайней мѣрѣ два главные способа пониманія христіанства. Одни видятъ въ немъ прежде всего принципъ индивидуализма, ставящій человѣка въ качествѣ члена града Божія въ нѣкоторую независимость отъ государства; разъ человѣкъ воздаетъ должное Кесарю, онъ пользуется полной
— 37 —
свободой въ области религіозной мысли. Де-Местръ далекъ отъ такого взгляда: ко всякому праву человѣка онъ относится подозрительно, а всякое проявленіе индивидуализма ненавидитъ. Другіе видятъ въ христіанствѣ прежде всего принципъ единства, великую ассоціацію человѣчества, соединяющую всѣ народы вокругъ одного центра, объединяющую человѣчество, духовный Римъ. Таковъ прежде всего и почти исключительно взглядъ де-Местра.
Онъ не язычникъ, нѣтъ, онъ римлянинъ до мозга костей. Его патриціатъ—хранитель консервативныхъ истинъ и религіи: аизрі-сіа зипі раігит,—іі№я чисто римская; его папа, глава царей и народовъ, это духовный Цезарь. Представьте себѣ римскаго патриція V вѣка, совершенно не понявшаго Христа, но въ силу обстоятельствъ ставшаго христіаниномъ; ни сущность его натуры, ни складъ мыслей не измѣнились. И вдругъ онъ узнаетъ, что имперія разрушена, что въ мірѣ остались только отдѣльныя мѣстныя власти; смущенный такой неурядицей, онъ восклицаетъ: „Остался еще епископъ Рима; онъ возстановитъ и будетъ представлять міровое единство"! Таково въ его глазахъ назначеніе христіанства. Представьте себѣ такого патриція, и вы получите довольно ясное представленіе объ идеѣ Ж. де-Местра. Оригинальное и любопытное явленіе представляетъ собою такой складъ ума въ началѣ XIX вѣка. Де-Местръ представляется чѣмъ то вродѣ преторьянца Ватикана.
Хотите доказательства? Онъ не любитъ грековъ. При чтеніи одной главы, затерявшейся въ его богословской книгѣ (Папа IV, 7), невольно восклицаешь: „Я того и ждалъ". Грековъ не надо противополагать римлянамъ, какъ индивидуализмъ — всемогущему государству. У нихъ, какъ и у другихъ народовъ, были свои государственныя религіи; имъ и въ голову не приходила идея свободы личности, свободы совѣсти. Индивидуализмъ—созданіе новаго времени. Но у грековъ существовали индивидуалистическія стремленія хотя бы потому, что среди нихъ встрѣчались люди геніальные и оригинальные. Умъ—грозная основа индивидуализма, такъ какъ создаетъ личности; въ глупости всегда есть нѣчто безличное. Греки любили мыслить по своему. Этого достаточно для того, чтобы де-Местръ ихъ ненавидѣлъ. Онъ не признаетъ за ними ни военнаго, ни философскаго, ни научнаго таланта; онъ часто повторяетъ: это не народъ; у нихъ нѣтъ ни единства, ни преемственности. „Греція родилась раздробленной", замѣчаетъ онъ удивительно мѣтко и удачно. Греки всѣми силами старались помѣшать объединенію своей страны и потомъ должны были нарушить единство церкви. „Они стали еретиками т. е. отщепенцами въ религіи, какъ раньше были ими въ политикѣ". Берегитесь учиться у нихъ, вдохновляться ихъ жизнью; въ дѣлѣ народнаго образованія дѣтей слѣдуетъ учить только латыни. Нельзя быть болѣе ярымъ римляниномъ; де-Местръ римлянинъ до глубины души.
— 38 —
Забавно обладать насмѣшливымъ умомъ и въ то-же время быть анахронизмомъ; не только забавно, но и опасно. Философъ Сенъ-Мартенъ говорилъ: „Мы съ міромъ разнаго возраста"; эти слова могутъ быть отнесены вполнѣ и къ де-Местру. На практикѣ онъ, будьте увѣрены, понимаетъ, какое значеніе имѣетъ время. Обсуждая съ будущимъ Людовикомъ ХѴШ проектъ манифеста къ французамъ, онъ совершенно правильно замѣчаетъ: „Если бы мы на минуту забыли, что живемъ въ 1804 году, трудъ нашъ оказался бы несостоятельнымъ. Самая полезная книга для справки предъ началомъ работы, это—календарь". Но въ теоріи это— его слабая сторона. Онъ упорно держится въ области отвлеченныхъ идей и никогда не заглядываетъ въ календарь. Всего болѣе ему не хватало историческаго чутья; вѣрнѣе не столько не хватало, сколько онъ его отвергалъ. У него замѣчается иногда глубокое пониманіе историческихъ фактовъ, но онъ имъ совершенно не пользуется. Такъ, нѣсколько разъ онъ замѣчаетъ, что идея Бога, а съ нею и весь старый порядокъ былъ поколебленъ „наукой", научными гипотезами XVII и ХѴШ вѣка. Въ одномъ этомъ замѣчаніи заключается почти вся новѣйшая исторія. Но если, разъ сдѣлавъ его, не желаешь оказаться простымъ теоретикомъ іп аЬзігасіо, т. е. просто блестящимъ говоруномъ, нужно попытаться произвести полный анализъ того состоянія духа и образованія, какое произвелъ этотъ умственный переворотъ. О такомъ изслѣдованіи де-Местръ совсѣмъ не заботится. Онъ ограничивается предсказаніемъ, что въ будущемъ произойдетъ примиреніе между религіей и наукой. Да покажите же намъ, по крайней мѣрѣ, при какихъ условіяхъ можетъ и должно оно произойти. Я готовъ отдать всю вашу систему за простое указаніе способа разрѣшить наконецъ это противорѣчіе въ нашей жизни.
Даже въ политической системѣ де-Месгра, почти полной, почти на все дающей отвѣтъ, я, тѣмъ не менѣе, вижу большой пробѣлъ, и это, какъ и слѣдовало ожидать,—опущеніе одного факта. Де-Местръ трактуетъ о демократіи, объ аристократіи, о королевской власти, о теократіи, о либерализмѣ; все это отлично; но онъ ни слова не говоритъ о парламентской системѣ. Система эта служитъ орудіемъ, или пожалуй уловкой, той политической теоріи, которая опирается на народовластіе. Такъ какъ это не идея, а орудіе, де-Местръ имъ пренебрегаетъ; но какъ фактъ парламентская система имѣетъ огромное значеніе; она—всѣми принятая или испробованная форма политической жизни современныхъ народовъ, и мы имѣемъ право спросить у де-Местра его мнѣніе объ ней. Онъ его не высказалъ; это стѣснило бы его. Факты или вызываютъ въ немъ скуку, или раздражаютъ его. Въ его книгѣ о галликанской церкви очень замѣтенъ такой же пробѣлъ. Сказавъ, что нужно быть или сторонникомъ непогрѣшимости или еретикомъ, онъ считаетъ все сказаннымъ. Логически это можетъ быть и такъ;
— 39 —
но галликанская церковь прежде всего извѣстное душевное состояніе: это чувство принадлежности къ католической церкви п вмѣстѣ сознаніе французской національности. Это сознаніе связано съ извѣстными традиціями и съ извѣстными вольностями. Но не традиціи и вольности здѣсь важны, а важно чувство, которое и надо изучить и изслѣдовать; нужно увидѣть и почувствовать личный характеръ французской церкви. Весь вопросъ въ томъ, благомъ или зломъ было существованіе такой личности. Но это-вопросъ историческій, и де-Местръ не разбираетъ его, а когда касается, то, на мой взглядъ, дѣлаетъ небольшую ошибку. Галликанская церковь представляется ему зародышемъ, „гражданскаго устройства" духовенства. Если это такъ, то можно сказать, что галликанская церковь развернулась въ гражданскомъ устройствѣ духовенства только затѣмъ, чтобы умереть въ немъ, такъ какъ, несомнѣнно, это устройство убило ее. Какъ только французская церковь утратила свою самостоятельность, она должна была стать ультрамонтанской и искать поддержки въ Римѣ, такъ какъ не могла уже опираться на самое себя. Очень милъ отры вокъ письма къ Бональду, гдѣ де-Местръ, съ массою ораторскихъ предосторожностей, какъ бы нечаянно роняетъ неясный намекъ на кобылицу Роланда: „Все это, милостивый государь, сказано мною безъ цѣли повредить высокимъ правамъ галликанской церкви; никто не знаетъ и не чтитъ ея больше меня. Остается узнать, не умерла-ли она, и если да, за что я не ручаюсь, то можетъ ли она возродиться". Безъ сомнѣнія, она погибла, но погибла жертвою революціи, чего де-Местръ, повидимому, не подозрѣвалъ, а это, можетъ быть, помѣшало бы ему радоваться.
Такимъ образомъ, ему часто не хватаетъ историческаго чутья, и оттого можно было потѣшаться надъ его предсказаніями, почти цѣликомъ оказывавшимися ложными. Чтобы по временамъ вѣрно предугадывать будущее, нужно быть историкомъ. А такъ какъ де-Местръ разсуждаетъ отвлеченно, то и пророчества онъ изрекаетъ до того общія, что очень часто ихъ можно понимать въ смыслѣ противоположномъ ожиданіямъ автора. Онъ высказываетъ мысль (очень вѣрную, между прочимъ), что всякое возстаніе противъ католицизма приводитъ лишь къ очищенію его, что Реформація, напримѣръ, вызвала прежде всего спасительное преобразованіе въ католической церкви; мысль эта заставляетъ его предсказывать великое обновленіе религіи въ теченіе XIX вѣка. На это протестантъ могъ бы замѣтить, что де-Местръ предсказалъ новыя побѣды протестантизма и въ то же время очищеніе и ослабленіе католической церкви.—Точно также довольно различно можно толковать его слова о грядущемъ примиреніи религіи и науки: можно видѣть это примиреніе и вѣ произведеніяхъ Николй, и въ письмѣ Ренана къ Бертело. — Точно также превращеніе его „очищеннаго язычества" въ христіанство можетъ привести къ
— 40 —
мысли о такомъ очищенномъ и утонченномъ христіантствѣ, для котораго христіанство де-Местра служитъ лишь первымъ наброскомъ; тутъ догматы и тайны отбросятъ свои покрывала и оболочки и свободно разовьются въ чистыя идеи, образуя просто идеалистическую философію... Еще, разъ повторяю,—де-Местръ опасенъ своимъ злоупотребленіемъ общими мѣстами, своею неловкою, но смѣлою игрою съ нимн. То что составляетъ силу мыслителя, часто оказывается слабостью апологета. Сит роіепз зит, іит іп/ігтиз.
И тѣмъ не менѣе онъ безконечно интересенъ для насъ. Любители идей, которымъ доставляетъ удовольствіе наблюдать за величавымъ столкновеніемъ теорій въ мірѣ, при выходѣ изъ XVIII вѣка ищутъ человѣка, который представлялъ бы собою полное отрицаніе его. Шатобріанъ больше раздражаетъ фантазію, чѣмъ удовлетворяетъ это желаніе; онъ больше накидывается на XVIII вѣкъ, чѣмъ борется съ нимъ. Де-Местръ стоитъ въ самомъ центрѣ доктрины наиболѣе противоположной ученію философовъ. Индивидуализмъ, свобода мысли, свобода совѣсти, идея человѣческаго прогресса, раздѣлъ верховенства, мысль сама по себѣ, мысль какъ царица міра, обоготворенный разумъ,—всѣ эти идеи находятъ въ немъ ожесточеннаго, сильнаго, грознаго, прекрасно вооруженнаго противника.—Въ самой своей ли чности де-Местръ является отрицаніемъ ХѴІПвѣка. „Философы** обыкновенно были людьми легкой нравственности, холостяками, или дурными мужьями, всего менѣе отцами семействъ. Де-Местръ наоборотъ—идеальный мужъ и отецъ; какъ добрый патрицій, онъ чтитъ домашній очагъ и остается неизмѣнно раіег [атіііаз несмотря на разлуку и разстояніе. Онъ очарователенъ, но прежде всего онъ—человѣкъ почтенный; такимъ его всѣ признаютъ, всѣ величаютъ; съ нимъ никогда никто не отваживался на фамильярность. Душой и тѣломъ онъ представляетъ противоположность своимъ противникамъ.
А между тѣмъ онъ все же сынъ столь ненавистнаго ему XVIII вѣка. Онъ сынъ его по недостатку критическаго смысла, по удивительной способности видѣть лишь одну сторону вещей или, если онъ видитъ двѣ, что съ нимъ бываетъ,—безъ труда сосредоточивать свое вниманіе на одной. XVIII вѣкъ сказывается въ немъ и недостаткомъ историческаго чутья, и той необыкновенной легкостью, съ которой онъ совмѣщаетъ въ себѣ обширную ученость съ нестѣсняемою ею идеологіей, такъ что факты не останавливаютъ и не смущаютъ его въ смѣломъ и быстромъ построеніи своей системы. Онъ принадлежитъ XVIII вѣку по самому духу его системы, по необузданному и поспѣшному догматизму, по нескрываемой поспѣшности въ доказательствѣ своей правоты. При чтеніи его поминутно приходитѣ на умъ мѣткое слово, сказанное о немъ Шереромъ: „Вольтеръ на изнанку". Онъ самъ сказалъ: „Оскорбленіе—вѣрный признакъ заблужденія". Прилагая эти слова
— 41
къ нему самому, спѣшу ихъ исправить: оскорбленіе—вѣрный признакъ убѣжденности. Нельзя и вообразить, до какой степени графъ де Местръ—убѣжденный человѣкъ.
ХѴШ вѣкъ сказался въ немъ еще и недостаткомъ артистическаго чутья. Онъ всецѣло принадлежитъ времени, не любившему грековъ. Артисту Шатобріану пришла въ голову нѣсколько соблаз нательная мысль—объяснить почитаніе христіанства его красотою, какъ будто бы оно было язычествомъ. Я не берусь защищать его; я замѣчу только, что въ этомъ онъ былъ такъ близокъ времени, слѣдовавшему за нимъ, что его можно было принять за родоначальника новой эпохи. XIX вѣкъ выказываетъ больше склонности къ христіанству, чѣмъ къ деизму; онъ отвыкаетъ отъ поклоненія Богу и готовъ боготворить религіи за ихъ несравненную красоту.
Наконецъ, де-Местръ является сыномъ ХѴШ вѣка по отсутствію въ немъ настоящаго религіознаго чувства; я потому особенно настаиваю на этомъ, что въ немъ хотѣли видѣть какого-то предтечу Сенъ-Симонистскаго движенія, что до болѣе подробнаго разсмотрѣнія, представляется мнѣ странною ошибкою. Нигдѣ такъ ясно какъ въ его книгахъ не выступаетъ различіе между религіей и богословіемъ. Съ твердымъ намѣреніемъ не допускать вліянія своихъ чувствъ на идеи, де-Местръ написалъ произведенія, говорящія только разсудку и логикѣ, и вмѣсто введенія въ религіозную жизнь, составилъ руководство къ теократіи. Здѣсь умъ ХѴШ вѣка возсталъ противъ идей XVIII вѣка: діалектики революціи сочинили права человѣка; де-Местръ противопоставилъ имъ декларацію правъ Бога, не замѣчая того, что подобно имъ онъ самъ нѣсколько приходитъ къ террору.
Несмотря на все это, за де-Местра говоритъ то, что онъ постоянно будитъ мысль. Съ нимъ разстаешься, унося глубокое уваженіе къ его характеру, живую симпатію къ достоинствамъ сердца и воспоминаніе объ одномъ изъ великолѣпнѣйшихъ діалектическихъ турнировъ, когда либо виданныхъ на свѣтѣ.
Бональдъ.
„У меня не было ни одной мысли, о которой бы вы не писали; а я не писалъ ни о чемъ такомъ, о чемъ бы вы не думали**, писалъ Жезефъ де-Местръ виконту де-Бональду, а этотъ послѣдній на поляхъ письма отмѣтилъ: „Въ столь лестномъ для меня утвержденіи слѣдуетъ однако допустить съ той и другой стороны нѣкоторыя исключенія". Исключеній можно привести столько, что кромѣ нихъ ничего и не останется, и если эти два человѣка считаютъ себя согласными, то лишь потому, что они сходятся, и то съ трудомъ, въ заключеніяхъ, не приходя къ нимъ никогда одинаковыми путями. Можетъ быть, во всемъ свѣтѣ не встрѣтишь двухъ дру
— 42
гихъ умовъ, которые, мысля столь различно, приходили бы къ одинакимъ выводамъ.
Это два совсѣмъ противоположные ума. Одинъ—пессимистъ, изъ с&маго пессимизма, изъ существованія зла, впрочемъ намѣренно имъ преувеличеннаго,, выводящій деистическое и христіанское заключеніе. Другой—оптимистъ, который считаетъ порядокъ и благо присущими міру; по его мнѣнію они иногда искажаются слегка, но никогда не исчезаютъ совершенно. Провидѣніе не устраняется отъ земныхъ дѣлъ, а дѣйствуетъ постоянно, и Богъ совсѣмъ близокъ къ міру.—Одинъ изъ нихъ чрезвычайно запутанъ, лукавъ и изворотливъ. Система другого, при тонкости въ частностяхъ, отличается чрезвычайною простотою, краткостью и прямотою.—Одинъ до крайности парадоксаленъ; идею, не поражающую читателя, онъ считаетъ слишкомъ простой и потому неистинной. Другой стремится не говорить ничего, кромѣ вполнѣ традиціонныхъ, искони существующихъ вещей; если его не понимаютъ, онъ обвиняетъ лишь современные умы, для которыхъ затмилась вѣчная истина, имъ, по его мнѣнію, только повторяемая.—Одинъ любитъ поддразнивать и мистифицировать; служа истинѣ, онъ иногда вызываетъ соблазнъ. Другой, человѣкъ серьезный, искренній, прямой, пришелъ бы въ отчаяніе, если бы смутилъ простыхъ людей; онъ никогда не даетъ воли своей фантазіи, избѣгаетъ блеска, не прочь былъ бы отказаться отъ остроумія и сохраняетъ его противъ воли. Онъ былъ бы счастливъ, если бы всѣ мысли его развивались въ прозрачной чистотѣ, ободряющей солидности и даже сухости ряда теоремъ. Отнимая у словъ ихъ оскорбительный смыслъ, мы называемъ одного превосходнымъ софистомъ, другого — упрямымъ и безстрашнымъ схаластикомъ, невольно внушающимъ къ себѣ уваженіе.
I. Философія Вональда. Троичная система.
Бональдъ какъ разъ послѣдній изъ схоластиковъ. Онъ исходитъ изъ одной аксіомы, изъ которой безъ конца выводитъ слѣдствія, отвергая все то, что не заключается въ основномъ началѣ; отъ времени до времени, напримѣръ въ началѣ новой книги, онъ возвращается къ аксіомѣ, снова выставляетъ ее въ тѣхъ же выраженіяхъ и даетъ новый рядъ выводовъ;—вотъ не только метода, а, такъ сказать, самый способъ существованія Бональда. Онъ представляетъ собою непрерывное разсужденіе; онъ весь состоитъ изъ сорита. Мнѣ нечего говорить объ его характерѣ: невольно рождается мысль объ отсутствіи въ немъ всякаго характера; онъ представляется чистымъ умомъ. Въ де-Местрѣ, Руссо, Монтескьё, чувствуется то насмѣшливый аристократъ, то желчный плебей, то насмѣхающійся гасконецъ. Въ Рональдѣ я вижу только логика и больше ничего. Даже гнѣвъ его представляется просто мимолетной вспышкой, увлеченіемъ въ спорѣ. „Низкими" онъ называетъ, и слиш
комъ часто, лі^^доктриньісс, но отнюдь не людей; онъ оскорбля-етъ тольк^Ш^^Шіциты; это—просто увлеченіе діалектикой. Быть можетъ, боль^^^якаго другого онъ былъ чистымъ резонеромъ.
У него есть одна любимѣйшая теорія, распространенію которой онъ содѣйствовалъ, а именно, что „книги создаютъ исторію". „Со времени Евангелія и до Общественнаго договора, перевороты производили книг#“. Литература является выразительницей настоящаго и создательницей будущаго общества. Надъ міромъ царятъ идеи.— По крайней мѣрѣ онѣ царятъ надъ умомъ Бональда, и ’ если онъ вѣрилъ, что онѣ: властвуютъ надъ людьми, то это потому, что чувствовалъ ихѣДооподство надъ собою. Онъ-чистѣйшій идеологъ. Въ "одномъ случаѣ онъ осмѣиваетъ идеологію, называя ее безплоднымъ занятіемъ, непроизводительной работой мысли надъ самой собою. „Разсмотрѣнію этой опасной привычки ума Тиссо могъ бы посвятить второй томъ".
Лучшимъ примѣромъ ея могъ бы служить самъ Бональдъ. Нѣтъ болѣе удивительнаго обращика мысли, безпредѣльно работающей надъ самой сЬбою и не желающей брать матеріалъ извнѣ. Она какъ будто боится, и не безъ причины, выходить за предѣлы себя, чтобы не попасть подъ вліяніе скептицизма. Дѣйствительно, выйти изъ своей сферы и не довѣрять себѣ значитъ сомнѣваться, а возвращаться отсюда назадъ такъ далеко, что рискуешь навѣкъ остаться въ дорогѣ. А сомнѣнія Бональдъ боится какъ огня. Оно до того страшно ему, что онъ выказываетъ къ нему притворное презрѣніе; онъ говоритъ: „Высокіе умы естественно обращаются къ абсолютнымъ истинамъ и стремятся всегда укрощать свои идеи... Сомнѣніе, на которомъ успокоиваются умы посредственные, служитъ для сильныхъ умовъ тѣмъ, чѣмъ нерѣшительность для сильныхъ характеровъ, вызываетъ въ нихъ безпокойство и стѣсненіе чувства, на которыхъ имъ невозможно остановиться". Въ этихъ трехъ строкахъ весь секретъ Бональда. Боязнь сомнѣнія, сознаніе того, что потребность вѣры есть въ сущности потребность дѣятельности,—что человѣкъ желаетъ но сомнѣваться въ идеяхъ, чтобы не быть нерѣшительнымъ въ дѣйствіяхъ, — наивное презрѣніе къ посредственнымъ умамъ, обладающимъ сложными идеями, —убѣжденіе въ томъ что у высокихъ умовъ есть лишь небольшое чпело простыхъ идей,—въ этомъ высказывается весь Бональдъ; такимъ онъ былъ и хотѣлъ быть потому, что такъ сложился его характеръ. Если возможно, онъ носилъ бы въ умѣ одну только идею, но такую, въ которой былъ бы вполнѣ, абсолютно увѣренъ. Онъ никогда не удалялся бы отъ нея, вывелъ бы изъ нея все: систему политическую, нравственную, религіозную, семейную, міровую; эту идею онъ сдѣлалъ бы своею единственною духовною „сущностью", по отношенію къ которой всѣ прочія ияеи стали бы простыми слѣдствіями; къ ней нечего больше прибавлять и нечего убавлять; она, собственно говоря, не „творитъ" ничего, но безпрестанно выра-
— 44
[ринципы, )рые онъ
жается въ новыхъ видахъ и различныхъ образа: ' которыхъ главнымъ образомъ держался Бональд
почти цѣликомъ провелъ. Ц—_, ѵ
Въ сущности ему присуща потребность, таящаяся 5^ глубинѣ
души всякаго догматика, только въ немъ она выражается болѣе
настоятельно, деспотически, неотступно и безпокойно; это—потребность постоянно мыслить на одну и ту же тему. ЭтсОвбЬбще удѣлъ посредственности, но здѣсь надо установить разли^еі Для 'посредственности это—просто желаніе покоя. Подобное желаніе можетъ быть и у человѣка высокаго ума, но рядомъ сДД^гимъ въ немъ живетъ и другое стремленіе. Паскаль говорит1^|ЖЛгакой человѣкъ стремится къ покою черезъ волненіе. Бойаждъ стремится
всегда говорить одно и то же, всегда находитъ новые способы выраженія старой мысли и новые, доводы для доказательства истины своихъ словъ. Онъ былъ бы счастливъ, еслибы, ^мирая, могъ воскликнуть: „Въ жизни у меня была лишь одна ид^;—правда,\мнѣ приходило въ голову множество мыслей, но я доказалъ, что всѣ онѣ были просто выводами изъ первой". у
Онъ такъ глубоко проникнутъ духомъ системы, что из^ за тѣни съ легкимъ сердцемъ упускаетъ добычу. Онъ, напримѣръ, думаетъ, или скорѣе чувствуетъ, что въ 1800 году надо вновь приняться за изученіе души человѣка, чтобы на этомъ новомъ, или возобновленномъ, основаніи утвердить всякую общественную или религіозную теорію. Эта мысль увлекаетъ его; онь видитъ въ ней какъ бы призывъ, и это стремленіе прекрасно. Всякій разъ, какъ читаешь у него, что тайна судьбы человѣка заключается въ его сердцѣ,—что тотъ, кто сумѣлъ бы опредѣлить человѣка, нашелъ
бы ключъ ко всему на землѣ,—что единственнымъ предметомъ изученія должно служить понятіе долга, а все остальное представляетъ „міръ преходящихъ образовъ",—читая это, невольно восклицаешь: „Браво!"—Ну, конечно! ХѴШ вѣкъ занимался почти исключительно внѣшнимъ міромъ, писалъ столько по исторіи естественной и анекдотической, далъ столько описаній путешествій, свѣтскихъ мемуаровъ, романовъ и политическихъ системъ, при чемъ послѣднія входили въ составъ предыдущей категоріи; ХѴШ вѣкъ старательно и не безъ удовольствія отвыкалъ размышлять надъ человѣкомъ и представлять его такимъ, каковъ онъ есть. Послѣ всего этого вернуться къ задачѣ Паскаля значитъ взяться за настоящую, можетъ быть полезную и навѣрное уже оригинальную, работу, достойную мыслителя и заманчивую для христіанина. Притомъ же еще, возстановителями христіанской идеи и монархической системы являются люди вродѣ Шатобріана, превращающаго христіанство въ предметъ эстетики, или де-Местра, писателя бле
стящаго, но черезчуръ остроумнаго для доказательства и слишкомъ дерзкаго для убѣжденія; вотъ самый удобный моментъ для серьезнаго мыслителя—изъ глубокой и устойчивой морали вывести закон-
— 45 -
ченную политическую систему и доказать истинность исповѣдуемой имъ религіи. Разъ онъ монархистъ, пусть какъ Боссюэ, но только-подробнѣе и приводя новые аргументы, которые въ избыткѣ доставитъ ему исторія недалекаго прошлаго, покажетъ онъ намъ, что въ основѣ монархіи лежитъ потребность людей имѣть надъ собою человѣка, который обуздывалъ бы буйныя страсти, дѣлающія ихъ несговорчивыми, такъ что они могутъ объединяться только подъ условіемъ подчиненія всѣхъ единой руководящей власти.—Разъ мыслитель христіанинъ, пусть, подобно Паскалю, но съ массою новыхъ взглядовъ и точекъ зрѣнія, которые можно найти даже у Руссо, докажетъ онъ намъ истинность христіанства, такъ какъ оно разрѣшаетъ и миритъ противорѣчія и нескладицы въ нашей натурѣ, или хотя бы потому, что нѣтъ на землѣ философіи, глубже ихъ познавшей и изслѣдовавшей въ самой сущности.—Во всякомъ случаѣ пусть онъ явится во Франціи нежданнымъ новымъ человѣкомъ, какихъ не видѣлъ цѣлый вѣкъ; пусть онъ изучитъ человѣческія чувства, опредѣлитъ ихъ значеніе и условія, ихъ силу и возьметъ на себя разрѣшеніе этихъ вопросовъ. — Уже одинъ этотъ новый поворотъ и направленіе ума тотчасъ развлекъ бы людей и вознаградилъ бы ихъ за отвлеченность системъ, притязательность теорій, неосновательность построеній и шумъ словопреній.
Но моралистъ—человѣкъ терпѣливый; какъ „умъ утонченный", онъ дѣйствуетъ медлительно, осторожно, осмотрительно и несмѣло. Его „основныя начала11 состоятъ изъ тысячи мелкихъ и тонкихъ наблюденій десять разъ разсмотрѣнныхъ и провѣренныхъ. Исторія нравственности есть исторія, а моралистъ—тотъ же историкъ. Основаніемъ, надъ которымъ онъ мало возвышается, ему служитъ тысяча доказанныхъ фактовъ; и отъ этой исходной точки онъ уходитъ впередъ лишь на одинъ шагъ. Насколько скорѣе создается обширная логическая система, и насколько полнѣе она удовлетворяетъ чистый разумъ, при условіи, впрочемъ, бездѣйствія критики! И какъ легко пользоваться ею человѣку въ борьбѣ, въ виду того что рядъ выводовъ такъ далеко отгоняетъ противника! Правда, это значитъ поражать его только логическими доводами, но иллюзія побѣды все-таки сладка!
Вотъ почему на пути если не къ истинѣ, то, по крайней мѣрѣ, къ вѣрной методѣ Бональдъ возвращается вспять и вводить насъ въ область чистой идеологіи. Онъ принимаетъ одно начало, одну аксіому, привязывается къ ней всѣми силами своего ума, приписываетъ ей несомнѣнность, признаетъ за нею по своей милости какой-то таинственный авторитетъ и привыкаетъ къ этому подъ вліяніемъ питаемаго къ ней уваженія. Къ этому началу онъ все приноравливаетъ, все съ нимъ связываетъ, все изъ него выводитъ, и если случайно нашимъ глазамъ начало представляется менѣе очевиднымъ и, переходя изъ ума автора въ нашъ, теряетъ свой священный характеръ, тогда все рушится.
— 46 —
Какова же, наконецъ, эта всемірная идея? Вотъ здѣсь то Бо-нальдъ и оказывается чистѣйшимъ схоластикомъ. Идея эта,—я не имѣю ни малѣйшаго желанія предательски пародировать почтеннаго и серьезнаго мыслителя,—идея эта—цифра; эта идея—число три. Все идетъ троицами: Богъ, міръ, государство, семья, человѣкъ, — все видимое и невидимое. Безъ идеи троичности ничто не объяснимо; съ нею все понятно, потому что ею все создано и поддерживается. На что ни взглянешь въ мірѣ, всюду встрѣчаешь причину, орудіе, слѣдствіе, и ничего другого кромѣ этого. Міръ есть система троицъ.
Что такое Богъ и міръ? Богъ—причина; міръ—слѣдствіе; орудіе, —здѣсь надо говорить: посредникъ,—Іисусъ Христосъ.—Что такое человѣкъ? Разумъ и служащіе ему органы, т. е. душа—причина, члены—орудіе; слѣдствіе—сохраненіе и воспроизведеніе жизни.—Что такое семья? Причина—мущина; орудіе—женщина; слѣдствіе—дѣти. —Наконецъ, въ обществѣ: причина—государь; орудіе дѣйствія— патриціатъ; слѣдствіе — сохраненіе и воспроизведеніе народа. И т. д. и т. д
Не хотите ли теперь на мѣсто отвлеченныхъ поставить конкретныя имена. Не говорите: причина, орудіе, слѣдствіе, а власть, слуга, подданные. Вы только повторите теорію, провѣряя и подтверждая ее. Богъ есть власть, Іисусъ Христосъ—слуга, міръ—подданные. —Душа—власть, члены—слуги ея, матерія—подданные.—Мужъ— власть, жена—слуга, ребенокъ—подданный.—Король—власть, дворяне, духовные и сановники—слуги, народъ—подданный.—Вотъ единственная идея или скорѣе все пониманіе Бональда,—Онъ понимаетъ такъ и не можетъ понимать иначе;проникая въ его умъ. вещи принимаютъ троичную форму, все равно какъ если бы человѣкъ все видѣлъ въ лиловомъ цвѣтѣ или любилъ только кислое. У Бональда въ мозгу треугольникъ, къ которому онъ подгоняетъ все, что попадаетъ ему на мысль. Единицу онъ разлагаетъ на три или все сложное приводитъ къ тремъ, чтобы приноровить къ своему мышленію и понять то или другое. Чудесными изворотами, можетъ быть вполнѣ естественными пріемами для его ума, онъ приспособляетъ всякій предметъ къ геометрической фигурѣ, разъ навсегда отразившейся въ центральномъ пунктѣ его разума.— Напримѣръ, если Іисусъ Христосъ является орудіемъ или посредникомъ въ общей системѣ міра, то, разсматриваемый самъ по себѣ, онъ долженъ быть и будетъ—причиной, орудіемъ и слѣдствіемъ. Онъ будетъ властью, слугою и подданнымъ въ религіозномъ обществѣ: властью по своей мысли, слугою по своему слову, подданнымъ какъ жертва собственной проповѣди. Властью же, слугою и подданнымъ онъ будетъ и въ обществѣ политическомъ: властью какъ царь Іудейскій, слугою какъ священникъ, подданнымъ какъ покорный волѣ Божіей страстотерпецъ.
Если въ системѣ оказывается очевидный пробѣлъ, если что-
— 47 —
нибудь, повидимому, ей не подчиняется, Бональдъ не стѣсняется препятствіемъ и очень быстро его устраняетъ. Пусть душа будетъ власть, члены—слуги, матерія—подданные; все это отлично, скажутъ ому, но добрая половина тѣла не повинуется душѣ: желудокъ варитъ, а кровь обращается въ жилахъ, и воля здѣсь не причемъ и не можетъ остановить ихъ дѣятельности иначе какъ самоубійствомъ. Прежде всего, отвѣчаеть Бональдъ, у ней есть средство, самоубійство, эта иіііта гаііо владычества души, „высшее проявленіе ея власти надъ тѣломъ". Животныя не знаютъ самоубійства, и это вѣрное доказательство того, что они не болѣе, какъ механизмы. Самоубійство доказываетъ существованіе души и, замѣтьте, доказываетъ ея безсмертіе: если душа можетъ убить тѣло, значитъ, она чувствуетъ, что поражая его, она не убиваетъ себя, что она отъ него освобождается и переживаетъ его. Убить себя невозможно, это безсмыслица; всякое существо можетъ стре миться только жить; поэтому ничто не убиваетъ себя въ природѣ; только въ человѣкѣ оказывается существо убивающее свои члены, причина истребляющая свои временныя орудія.—Болѣе того, если вы находите въ человѣкѣ части, не повинующіяся душѣ, и заключаете отсюда, что душа не владычица надъ тѣломъ, значитъ, вы разсматриваете человѣка самого по себѣ, независимо отъ общества, для котораго онъ созданъ. Но человѣкъ представляетъ цѣлый міръ (причина, орудіе, слѣдствіе) и цѣлое общество (власть, слуга, подданные) лишь относительно. Онъ составляетъ часть семьи, другого міра полнаго и относительнаго, другого общества цѣльнаго и относительнаго, и онъ жертвуетъ собою семьѣ, которая въ свою очередь (почему она тоже цѣлостна лишь относительно) жертвуетъ собой государству.—И такъ, надлежало, чтобы человѣкъ властвовалъ надъ собою, но не безпредѣльно, чтобы онъ распоряжался своими членами, но въ извѣстныхъ предѣлахъ. Безъ этихъ границъ онъ распоряжался бы ими слишкомъ легкомысленно. Если бы ему достаточно было на минуту не захотѣть, чтобъ его кровь обращалась, и отъ этого обращеніе ея остановилось, какъ закрываются его глаза, лишь только онъ того захочетъ,—для совершенія самоубійства, дѣйствія непоправимаго, было бы достаточно дѣтскаго гнѣва или юношеской досады. Отсюда, эти ограниченія и преграды полновластію нашей воли. Она полновластна; не будь этого, у человѣка не было бы власти, слуги, подданнаго, и онъ не понималъ бы себя, не былъ бы „организованъ" былъ бы ничѣмъ, бездушнымъ минераломъ. Она полновластна и можетъ всегда уничтожить своихъ слугъ и своихъ подданныхъ, но для этого ей необходимо громадное усиліе; ей нужно вооружить хотя одинъ органъ противъ всего организма; самое это усиліе указываетъ ей на то, что, освобождаясь отъ тѣла, она уклоняется отъ истиннаго своего назначенія.
Точно также въ семьѣ отецъ представляетъ власть, но власть
— 48 —
не неограниченную. Его „слуга" и его „подданные “ обязаны ему повиновеніемъ; но, господствуя здѣсь, онъ является подданнымъ въ другомъ случаѣ, и его власть надъ подчиненными ограничена покорностью, которою онъ обязанъ высшей власти, т. е. государю. Тоже и въ обществѣ: король неограниченный владыка въ человѣческомъ смыслѣ слова; его слуги и его подданные обязаны ему повиноваться; но, господствуя на землѣ, онъ остается подданнымъ неба.
Между личнымъ обществомъ, называемымъ „ человѣкомъ ", домашнимъ обществомъ, называемымъ семьей, политическимъ обществомъ, называемымъ государствомъ, нашлась бы масса сходствъ, пожалуй даже тождествъ, если бы разыскивать ихъ всѣ; это только три формы одного начала, три текста одного закона. Такимъ образомъ, какъ въ тѣлѣ существуютъ функціи, независимыя отъ руководящей воли, которыя она можетъ уничтожить лишь умерщвляя весь организмъ,— точно также и въ государствѣ существуютъ,—и хорошо, что существуютъ, и должны существовать,—отдѣльныя независимыя общества, имѣющія свое особое значеніе и средства къ существованію; они служатъ государству и охраняютъ его, не побуждаемыя къ тому головой его; центральная власть можетъ сокрушить ихъ лишь „дѣйствіемъ беззаконнымъ и притѣснительнымъ, похожимъ на соціальное самоубійство".—И далѣе въ томъ же духѣ.—Хотите узнать правду о человѣкѣ?—Обратитесь къ государству. Правду о государствѣ?—Взгляните на семью. Правду о семьѣ?—Ищите ее въ человѣкѣ. Правду о мірѣ?—Посмотрите на государство, или на человѣка, или на семью. Можете какъ угодно извращать выраженія, вы всегда найдете одно разрѣшеніе вопроса, потому что въ мірѣ существуетъ одинъ основной законъ, или лучше сказать, потому что міръ представляетъ собою единый фактъ.
Къ чему служитъ это хитроумное стремленіе сводить все къ единству? Къ тому, чтобы заставить людей подъ принудительнымъ давленіемъ, производимымъ обыкновенно на умы аналогіей, признать монархію истиной. Это—явная цѣль всѣхъ діалектическихъ изворотовъ Бональда. Міръ представляетъ собою монархію, вотъ великая истина, подлежащая доказательству.—Когда она будетъ доказана, немонархическое правленіе будетъ казаться нарушеніемъ естественныхъ законовъ, какъ имъ казалось бы тѣло, не подчиненное тяготѣнію. Цѣль состоитъ въ доказательствѣ чудовищности не-монархическаго правленія.—Мѣсто, занимаемое правительствомъ въ системѣ и какъ бы въ іерархіи организмовъ, понятно разуму. Правительство стоитъ посрединѣ между невидимыми властями небесными и различными учрежденіями земными, насъ составляющими или нами образуемыми. Чѣмъ Должно оно быть? Разъ доказано, что Божество правитъ міромъ монархически, что устройство семьи монархическое, что самъ человѣкъ представляетъ монархію, не вытекаетъ ли отсюда, что и государство должно быть монар
—• 49 —
хическимъ, и что въ противномъ случаѣ оно является чѣмъ то страннымъ, искусственнымъ, противоестественнымъ и стремится занять непринадлежащее и неподходящее ему мѣсто? Возбудить въ людяхъ страхъ предъ страшной и возмутительной смѣлостью стремленія нарушить міровой порядокъ, затронувъ монархію; показать людямъ невозможность измѣнить одно колесо, связанное съ системою всего міра; убѣдить ихъ въ томъ, что, затрогивая монархію, они нападаютъ на самую .природу вещей11,—такова постоянная цѣль Бональда, къ которой онъ упорно стремится.
„Природа вещей" это дѣйствительно его любимое слово, вѣчный его припѣвъ. „Законы суть необходимыя отношенія, вытекающія изъ природы вещей",—эта фраза Монтескье была его лозунгомъ; всю свою жизнь онь стремился отыскать эту „природу вещей" и необходимыя отношенія (онъ сто разъ повторяетъ это слово и съ какимъ то упрямствомъ подчеркиваетъ его), вытекающія изъ нея. Бональдъ замѣчаетъ, и замѣчаетъ вполнѣ вѣрно, что Монтескьё, выставивъ эту аксіому, вовсе не слѣдовалъ ей. Эта первая фраза и слѣдующая за ней глава обѣщали систематическую соціологію, но авторъ оказался по преимуществу соціологомъ критикомъ. Онъ по очереди останавливался передъ всякимъ сложеніемъ и настроеніемъ общества и опредѣлялъ внутреннюю силу того и другого и вѣроятныя границы ея, его скрытые пороки и возможныя средства противъ нихъ, желательный режимъ, ожидаемыя болѣзни, полу-излѣченія и возвраты болѣзней. Въ отличіе, можетъ быть, отъ всѣхъ соціологовъ, столь увѣренныхъ въ постоянномъ дѣйствіи рекомендуемой ими гигіены, онъ повидимому всюду видитъ близость смерти; онъ твердо убѣжденъ, что судьба всѣхъ народовъ— быстрая гибель, увѣренъ, что сколько-нибудь прочная соціальная организація является чудеснымъ равновѣсіемъ противоположныхъ силъ, каждую минуту готовымъ нарушиться. Онъ ежеминутно повторяетъ: „Если того-то и того-то не окажется, все потеряно". Среди всѣхъ системъ у него едва есть одна, которую онъ считаетъ немного менѣе несовершенной, чѣмъ другія. Однимъ словомъ, это—поборникъ теоріи случайностей и вѣроятностей, создающій главнымъ образомъ прекрасный курсъ соціальной патологіи.—Напротивъ, Бональдъ стремится отыскать политическое безсмертіе, эликсиръ вѣчной общественной жизни. Законы это—необходимыя отношенія, вытекающія изъ природы вещей; значитъ тотъ, кто нашелъ бы природу вещей и не одного только извѣстнаго народа или страны, но природу вещей всего міра, тотъ сразу нашелъ бы и законы, необходимые не одному какому-нибудь народу для удлин-ненія срока его жизни, но законы необходимые народамъ всѣхъ широтъ и всѣхъ климатовъ. И эту природу вещей, какъ мы видѣли, Бональдъ нашелъ, это—причина, орудіе и слѣдствіе; власть, слуга, подданный. Вотъ она вѣчная истина. Это не—совершенная, а единственно возможная конституція; въ мірѣ никогда не было 4
— 50 —
другой. Почитатели Аристотеля говорятъ намъ, что онъ изучилъ сто-пятьдесятъ конституцій, „какъ будто существуетъ больше двухъ конституцій, одной хорошей и одной плохой; первая состоитъ въ единствѣ, вторая въ дробленіи власти". Пожалуй даже, и двухъ нѣтъ, а есть конституція и отсутствіе ея. Есть народы благоустроенные,—это народы съ монархическимъ образомъ правленія, и есть неустроенные,—это остальные.—Теперь, обладая нашимъ высшимъ закономъ, мы должны только вывести изъ него неоспоримыя слѣдствія, чтобы навѣрное получить всѣ частныя и прикладныя истины.
Въ этомъ неустрашимомъ догматизмѣ, въ этой непоколебимой вѣрѣ, во-первыхъ, въ общую идею, а во-вторыхъ, въ дедуктивную логику, заключается нѣчто поразительное. Неужели Бональдъ ни разу не усумнился въ своей начальной аксіомѣ, въ своемъ треугольномъ началѣ? Ни одного раза.—Неужели онъ никогда не задавалъ себѣ вопроса, не простая ли гипотеза этотъ общій законъ, найденный въ одно прекрасное утро, можетъ быть подкрѣпляемый въ его умѣ, но не подтверждаемый въ его произведеніяхъ ни исторіей, ни естественной исторіей, ни физіологіей и ни одной наукой?— Ему никогда не приходила въ голову мысль, что этотъ міровой законъ, долженствующій доказать необходимость и законность монархіи, извлеченъ имъ изъ созерцанія самой монархіи, не изъ чего другого; онъ не замѣтилъ, что, смотря на свѣтъ глазами монархиста, онъ этотъ свѣтъ дѣлаетъ доказательствомъ въ пользу монархіи, и что, слѣдовательно, его доводъ можетъ оказаться просто бездоказательнымъ утвержденіемъ.
Я не знаю болѣе поразительнаго примѣра резонерствующаго ума. Бональдъ вложилъ въ свою мыслительную машину тотъ минимумъ матерьяла, который необходимо бросить въ нее, чтобы она не вращалась совсѣмъ въ пустотѣ; онъ вложилъ въ свой умъ аналогію—сходство государства съ семьею, и вотъ что изъ этого вышло: машина пошла устанавливать отношенія, составлять рядъ уравненій, выводить и обобщать, и отъ обобщенія, обнимающаго весь міръ, спускаться къ самымъ частнымъ идеямъ, работая безъ устали, не принимая новаго матерьяла и частымъ дождемъ разсыпая вокругъ себя безконечныя формулы. Этого удаленія и отвращенія Бональда отъ матерьяла для мысли, отъ факта, наблюденія и ознакомленія съ дѣломъ я, право, не преувеличиваю. Онъ знакомъ и хорошо знакомъ съ исторіей,—мы это еще увидимъ,—но презираетъ ее. „Тѣ, кто въ управленіи людскими дѣлами руководятся единственно историческими фактами и такъ называемымъ, опытомъ, а не принципами, научающими связывать факты и извлекать изъ нихъ опытность, тѣ похожи на мореплавателей, не захватившихъ съ собой ни циркуля, ни компаса, а лишь описанія путешествій и корабельные журналы". Бональдъ убѣжденъ, что у него передъ глазами компасъ и въ рукахъ циркуль.
— 51 —
Онъ похожъ на того Паскалевскаго человѣка, который „судитъ по своимъ часамъ** и смѣется надъ людьми, думающими по своему. Онъ съ невѣроятнымъ высокомѣріемъ и отвращеніемъ отталкиваетъ все, что стѣсняетъ его принципы. Чувствуя, что ему мѣшаетъ естественная исторія, что она находитъ все менѣе простымъ, чѣмъ ему это угодно, онъ не колеблясь жестко аттестуетъ ее, обвиняетъ ее въ томъ, что она ведетъ людей съ одной стороны къ „звѣ-ропоклонству**, а съ другой къ „озвѣренію**. Вотъ его милыя выходки. У де-Местра попадаются вещи въ этомъ родѣ, но онѣ у него забавны, блещутъ юморомъ и всего чаще сопровождаются градомъ остротъ и парадоксовъ; Бональдъ изрекаетъ ихъ внушительно и важно какъ интердикты. Это раздражаетъ читателя; онъ поднимаетъ голову и спрашиваетъ, по какому праву Бональдъ принимаетъ такой тонъ. По праву своего „принципа**? По праву идеи троичности? По праву довольно произвольнаго обобщенія, опирающагося на двѣ, на три нѣсколько натянутыя аналогіи? Достаточно ли этого? Для него достаточно, потому что онъ гордъ, какъ вѣрующій, и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшителенъ, какъ резонёръ ХѴШ вѣка. Эти „софисты** ХѴШ вѣка, какъ онъ ихъ называетъ, были по своему, насколько только можно, людьми убѣжденными. Они вѣрили въ логику, въ объективную реальность діалектическаго построенія на столько, на сколько схоластикъ среднихъ вѣковъ могъ вѣрить въ „слово** и въ выраженіе наставника. Для нихъ истиной была мысль, создающая систему. Мысль эта могла быть невѣроятной, безполезной, могла не быть даже гипотезой, содѣйствующей классификаціи идей и, какъ хорошій перечень содержанія, вносящей въ мозгъ ясность; съ другой точки зрѣнія, она могла не отличаться благовидной привлекательностью изящества, красивымъ замысломъ, дивной смѣлостью или счастливой гармоніей линій. Въ ней была правда, и дѣйствія людей должны были ей подчиняться. Такъ мыслилъ Руссо, если исключить дѣлающія ему честь многочисленныя противорѣчія; такъ думали и Кондорсе, и Вольней, и многіе другіе; изъ другого лагеря той же методѣ слѣдуетъ Бональдъ. Бональдъ проникнутъ этой философской схоластикой. Умъ его наслаждается этой игрой въ отвлеченности развертываньемъ цѣлаго ряда силлогизмовъ и формулъ; въ эту игру онъ имѣетъ неосторожность втягивать свои убѣжденія и хочетъ вовлечь въ нее и наши. Мы не отказываемъ ему въ удивленіи и даже, можетъ быть, еще немного и мы также увлеклись бы этой игрою, считая ее только игрою; нужно бы только немного больше легкости и свѣжаго воздуха для его слишкомъ сжатыхъ страницъ. Но нельзя никакъ согласиться съ разсужденіями, у которыхъ общая основа такъ узка, что кажется совсѣмъ несуществующей, и которыя, за неимѣніемъ солиднаго или, по крайней мѣрѣ, широкаго основанія, поддерживаются только другъ другомъ и взаимно сообщаютъ призрачную силу: второе получаетъ ее отъ перваго, а первое отъ второго.
— 52 —
II. Философія Бональда —Твореніе міра.
При такой необузданной діалектикѣ и беззавѣтной вѣрѣ въ разъ усвоенные принципы очень легко сбиться съ пути здраваго смысла и дойти до какого-то суевѣрнаго почитанія своего „частнаго мнѣнія". ВъБональдѣ есть задатки еретика, такъ какъ въ немъ живетъ духъ резонера ХѴПІ вѣка. Это бросается въ глаза и часто внушаетъ опасенія; но его спасаетъ ненависть къ тѣмъ, отъ кого онъ безсознательно перенялъ умственныя привычки. У него систематическій умъ; но онъ любитъ его лишь въ себѣ и ненавидитъ въ другихъ; ненавидя его въ другихъ и борясь съ нимъ въ нихъ, онъ, не отдавая себѣ въ томъ отчета, приходитъ къ отказу отъ него и, самъ того не замѣчая, осуждаетъ его въ себѣ. Это вторая мысль Бональда; онъ такъ и не созналъ во всю свою жизнь, на сколько она противорѣчила первой его идеѣ. Находя передъ собою философію ХѴПІ вѣка, онъ боролся съ ней сначала при помощи своей системы, затѣмъ осужденіемъ и презрѣніемъ ко всякой системѣ и ко всякому чисто-человѣческому изобрѣтенію. Наконецъ онъ выдвинулъ противъ нея обѣ эти идеи заразъ, соединивши или скорѣе сопоставивши ихъ, и ни разу не задавая себѣ вопроса, не обязывала ли его вторая предпочитаемая имъ идея попросту отказаться отъ первой. Предоставленный самому себѣ, онъ неумолимо разматываетъ блестящую, но непрочную нить своихъ троичныхъ разсужденій и занимается этимъ, не отвлекаясь, довольно долго, до появленія Философскихъ изысканій. Чувствуя натискъ противника, онъ начинаетъ отрицать у него возможность быть правымъ, такъ какъ онъ умствуетъ, изобрѣтаетъ идеи, вноситъ въ міръ мысли, не существовавшія въ немъ отъ вѣчности; затѣмъ, не производя своей совѣсти особенно строгаго допроса объ этомъ, онъ съ жаромъ кидается на „традицію", запирается и укрѣпляется въ ней съ тѣмъ непримиримымъ упорствомъ, которое онъ вноситъ во все.—Теперь его главная идея та, что человѣкъ радикально неспособенъ къ чему бы то ни было. Человѣкъ лишенъ всякой способности къ изобрѣтенію. Онъ не изобрѣлъ ни искусствъ, ни общества, ни семьи, ни своего языка, ни своей мысли. Всему этому его научили. Онъ былъ чистой доскою. Въ него вложили не только задатки всѣхъ тѣхъ способностей, которыми онъ такъ гордится, не только самыя эти способности но и все, что онъ считаетъ плодами и медленно вы работанными результатами этихъ способностей,—все, однимъ словомъ, что отличаетъ его, какъ существо мыслящее, говорящее, любящее, семейственное, общественное, политическое. Сначала человѣкъ былъ ничтожествомъ. Все пришло къ нему извнѣ; только это не ощущеніе, какъ думалъ Кондильякъ, вооружило и медленно образовало его; это Богъ сразу одарилъ его всѣмъ. Богъ—наставникъ рода человѣческаго. На вопросъ, въ чемъ начало идей,—отвѣтъ: въ Богѣ. Кто изобрѣлъ первыя искусства
— 53 —
и языкъ? Богъ. Кто выдумалъ письмо? Богъ или апостолъ, прямо пмъ вдохновленный. Семью, общество, политическій строй (ибо конституція всего одна) впервые установилъ Богъ.—Богъ сначала, а затѣмъ его преданіе,—это только и существуетъ въ мірѣ, а человѣческія способности простыя иллюзіи.
Сочетая идеи, люди воображаютъ, что они мыслятъ. Это— заблужденіе. Они только располагаютъ, сцѣпляютъ, расцѣпляютъ и переставляютъ идеи, дарованныя имъ разъ навсегда Богомъ вмѣстѣ съ извѣстной свободою въ обращеніи съ ними; больше ничего. Въ сущности люди вѣчно думаютъ Божью думу, вѣчно заняты одною мыслью. Какъ и всѣ, Бональдъ представляетъ себѣ все человѣчество на свой образецъ и потому, пріобрѣтя твердую привычку вѣчно думать объ одномъ и томъ же, онъ увѣренъ, что все человѣчество всегда было и будетъ занято одною мыслью. Человѣкъ такъ же не выдумалъ искусства, какъ не придумалъ идеи. Замѣтили ли вы, что никто не знаетъ изобрѣтателей главныхъ искусствъ, для которыхъ прочія служатъ лишь приложеніями? Ихъ начало относится ко времени первобытнаго общества, а „первобытное общество" это выраженіе, изобрѣтенное людьми съ цѣлью не называть Бога. Но это, не во гнѣвъ имъ будь сказано,—не что иное какъ Богъ. Первобытное общество, это Богъ говорящій съ человѣкомъ и наставляющій его.
Напримѣръ, вы согласитесь конечно съ тѣмъ, что безъ языка не было бы ни искусствъ, ни общества, однимъ словомъ, не было бы человѣчества. А считаете ли вы человѣка способнымъ самому открыть и создать языкъ? Это полнѣйшая невозможность: чтобы выдумать языкъ, надо имѣть идею языка, а безъ языка нѣтъ и идеи. Мысль безъ слова, ее выражающаго, не то что остается неясной, а совсѣмъ не существуетъ. Вдумайтесь хорошенько; признайтесь, что вы тогда только узнаете, что вы хотѣли сказать, когда выговариваете слово, что даже въ умѣ идея представляется вамъ только въ словѣ, а до тѣхъ поръ не существуетъ, является, если хотите, только въ видѣ стремленія замѣчаемаго вами, лишь когда вы ее себѣ представили, т. е. сказали слово, хотя бы сами себѣ. Слѣдовательно это стремленіе вы только предполагаете, такъ какъ самого его вы никогда не схватывали; а до тѣхъ поръ, пока вы его не подмѣтите, т. е. вѣчно, я буду считать его простой иллюзіей.
Итакъ, мысль и слово, судя по тому, что мы о нихъ знаемъ, представляются намъ, когда мы не довольствуемся словами „можетъ быть", да „кажется",—неизмѣнно идущими вмѣстѣ и нераздѣльными. Это, если хотите, форма и содержаніе, ио форма и содержаніе, неразличимыя другъ отъ друга, въ сущности нѣчто единое. Итакъ, чтобы мыслить, нужно было говорить, не сначала, но въ одно время, за одинъ разъ. Слово, значитъ, не было придумано. Предполагать, что оно придумано, значитъ предполагать мысль, ищущую для себя
— 54 —
несуществующее слово, т. е. предполагать въ несуществующей идеѣ стремленіе возникнуть, т. е. предполагать ничтожество исполненнымъ энергіи. Избавьте насъ отъ подобныхъ предположеній. Я готовъ въ такомъ случаѣ допустить созданіе міра самимъ собою изъ ничего: ничто захотѣло Стать всѣмъ, ничто возымѣло мысль, планъ, волю, энергію и, не существуя и не мысля, отлично осуществило свой планъ.—И дѣйствительно это какъ разъ тотъ же вопросъ. Это —вопросъ о твореніи. Предполагать началомъ ничто и думать, что это ничто благодаря громадной энергіи и продолжительному времени нечувствительно становится всѣмъ, это та же теорія изобрѣтенія языка безъ Бога, —теорія міра безъ творца. Вотъ почему въ томъ и въ другомъ случаѣ Бональдъ стоитъ за противоположную мысль.
И онъ придерживается ея во всѣхъ возможныхъ случаяхъ и увеличиваетъ ихъ число. Нѣтъ слова—мысли или мысли—слова безъ дарующаго ихъ Бога. Нѣтъ первоначальнаго и необходимаго искусства (прочія суть забавы человѣческой гордости) безъ Бога, имъ научающаго. Нѣтъ общества безъ создающаго его Бога. Аргументація та же. Изобрѣтеніе общества, это—нелѣпое выраженіе. Бональдъ только что вывертывалъ Кондильяка; онъ говорилъ: „человѣкъ—гладкая доска и потому что-нибудь должно наложить на него отпечатокъ, но не внѣшній міръ, начало инертное, а Богъ, начало дѣятельное". Теперь онъ выворачиваетъ Руссо. Онъ, говоритъ: Первобытный человѣкъ очевидно стоитъ внѣ общества; но въ такомъ случаѣ онъ никогда и не создастъ его. Самъ онъ никогда не вступитъ въ него. Для этого нужно совѣщаться, а совѣщаніе предполагаетъ человѣка уже живущимъ въ обществѣ. Чтобы составить общество, нужно условиться, а такое соглашеніе предполагаетъ общественную жизнь въ теченіе ряда вѣковъ. Ваше изобрѣтеніе общества но что иное, какъ усовершенствованіе политическаго строя: человѣкъ уже живущій въ обществѣ сговаривается съ другими насчетъ его улучшенія; это возможно. Но начальный фактъ не можетъ быть созданъ человѣкомъ: это было бы ничто превращающееся въ нѣчто. Это не понятно. Остается признать начальный фактъ, какъ и всякое такъ называемое изобрѣтеніе человѣка, дѣломъ Божества.
Поставить, т. е. возстановить Бога въ началѣ всѣхъ установленій и всѣхъ способностей человѣка,—вотъ цѣль, которую Бональдъ преслѣдуетъ всѣми силами своей логики.—Но этимъ онъ не ограничивается. Онъ провозглашаетъ Бога началомъ всего, но не оставляетъ его тамъ. Это бцло бы слишкомъ „по философски**. Богомъ не только все начинается, но и все поддерживается. Твореніе продолжается непрерывно. Богъ, пользуясь созданнымъ имъ обществомъ, продолжаетъ творить насъ, какъ существа мыслящія, говорящія, любящія, общественныя. Сами мы ничего не создаемъ, ничего не изобрѣтаемъ; но мы слиты съ обществомъ, представляющимъ
— 55 —
Божью мысль. Оно хранитъ Его слово, Его идеи, Его искусство, Его изобрѣтенія, хранитъ благодаря непрерывному преданію. Въ обществѣ, т. е. въ Богѣ, мы живемъ и дѣйствуемъ, пользуясь извѣстной долей свободы, дарованной намъ имъ*, но все же поддержка Бога такъ важна для насъ, что мы изнемогаемъ, какъ только онъ ослабляетъ свои узы, и погибли бы, еслибы онъ разрѣшилъ ихъ. Человѣкъ— животное традиціи; онъ скованъ преданіемъ; другихъ животныхъ связываетъ необходимость, и въ этомъ все отличіе ихъ отъ человѣка, отличіе впрочемъ громадное. Человѣкъ живетъ въ мірѣ Божіихъ изобрѣтеній и можетъ только совершенно или несовершенно поддерживать ихъ. Если бы онъ случайно позабылъ одно изъ нихъ, оно было бы потеряно навсегда, такъ какъ въ мірѣ нѣтъ существа, способнаго изобрѣсть заново семью, общество, языкъ, даже земледѣліе или одежду. Жизнь человѣка вплетена въ фибры общества, полнаго духа Божія; мысль человѣка плѣнена языкомъ, созданіемъ Бога. Языкъ это —традиціонная мысль. Мы неспособны къ мысли безъ слова, ее выражающаго, и заимствуемъ наши идеи изъ словъ, передаваемыхъ намъ нашими отцами. Мы можемъ начать мыслить лишь мыслью нашихъ предковъ, восходящею къ мысли Божества. Наша мысль, такимъ, образомъ намѣчена и какъ бы изваяна отъ вѣка божественнымъ деміургомъ, такъ какъ она сознаетъ себя и оформливается, лучше сказать, получаетъ существованіе, лишь съ того момента, какъ вливается въ форму слова, обрисовывается имъ. Когда мы создаемъ новое слово, вы знаете, мы только воображаемъ себя творцами его. Мы выводимъ его изъ другого слова; образуя его, мы повинуемся вѣчнымъ законамъ языка; намъ навязываютъ его тѣ, которымъ мы желаемъ быть понятными. Въ насъ и нашими устами говоритъ своимъ языкомъ человѣчество, а его языкъ—языкъ Бога.
Общество и слово подчиняютъ, слѣдовательно, человѣка двойному игу Божію; онъ принужденъ жить традиціонной жизнью и думать унаслѣдованной отъ предковъ мыслью. Пусть онъ рвется къ свободѣ; это ему возможно, и, можетъ быть, такое стремленіе для него необходимо; но этимъ онъ безсознательно стремится къ смерти, такъ какъ крайнее проявленіе желанія освободиться отъ вліянія общества приноситъ смерть тѣлу, а крайнее проявленіе желанія освободиться отъ общаго мышленія вызываетъ бездѣйствіе слова и мысли и смерть души. Человѣкъ можетъ отдѣлиться отъ Бога только для смерти. Подчинимся же закону всецѣло и безъ оговорокъ. Чѣмъ болѣе мы удаляемся отъ преданія, тѣмъ болѣе приближаемся къ смерти; чѣмъ тѣснѣе примыкаемъ мы къ преданію, тѣмъ полнѣе и сильнѣе наша жизнь. Отышемъ преданіе самое чистое, самое вѣрное, самое древнее; не будемъ ограничиваться общей традиціей, необходимостью жить обществомъ и мыслить сообща; но обратимся къ традиціи болѣе узкой, къ завѣту, данному Богомъ людямъ и сохраняемому вѣрными. Не будемъ стараться изобрѣтать, такъ какъ мы къ этому неспособны;
— 56 —
не будемъ стараться мыслить, такъ какъ мы неспособны мыслить самостоятельно, не отдаваясь иллюзіи. Постараемся лишь найти божественную идею; сумѣемъ схватить ее и проникнуться ею, откроемъ только для нея нашъ умъ и, какъ говоритъ Паскаль, будемъ внимать Богу!
Какъ могъ такой непреклонный изобрѣтатель системы и системы, не внесенной, мнѣ кажется, ни въ одну священную книгу, дойти до такой полной покорности традиціонной истинѣ, до такого отреченія отъ личной мысли передъ преданіемъ? Съ другой стороны, принявъ это второе воззрѣніе, какъ онъ не бросилъ просто первое, подозрительное по крайней мѣрѣ въ смыслѣ нѣкотораго стремленія къ свободомыслію? Не знаю. Что вѣрно, такъ это то, что онъ упорно держался обоихъ воззрѣній. ВъБональбѣ сидитъ человѣкъ 1760 года, ярый діалектикъ, живо построившій свою собственную систему и втискивающій въ нее волей-неволей вселенную; это его какъ бы положительная сторона. Въ немъ сверхъ того живетъ христіанинъ, презирающій всякую систему, противоположную христіанству, и стремящійся унизить создателей системъ доказательствомъ слабости человѣческаго разума; это его отрицательная сторона. Онъ остался въ этомъ двойственномъ положеніи, убѣжденный, что его утвержденіе не противорѣчитъ христіанству (это вѣрно), и что оно подтверждаетъ его идею христіанства и служитъ высшимъ выраженіемъ его,—что не доказано. Христіанинъ не долженъ имѣть личной системы. Онъ только долженъ доказывать неправоту всѣхъ свободныхъ мыслителей, и, когда ему приходится утверждать въ свою очередь, утверждать лишь св. Писаніе. Этого Бональдъ не сдѣлалъ. Важно отмѣтить эту крупную разницу между нимъ и Боссюе, разницу, ясно характеризующую время того и другого.
Что касается духа, которымъ проникнута безличная, истинно христіанская часть системы Бональда, онъ привлекаетъ вниманіе, внушаетъ уваженіе, наводитъ на размышленіе. У Бональда есть влеченіе къ прямой полемикѣ, къ занятію центральной позиціи, какъ у де Местра—склонностъ къ уклончивымъ движеніямъ и блестящимъ фантазіямъ. Бональдъ расположился въ центрѣ дѣйствій и двинулся прямо впередъ.—Онъ разсуждалъ такъ: христіанство это—твореніе; все, что не есть христіанство, является отрицаніемъ или смягченіемъ, или помраченіемъ, или отодвиганіемъ идеи творенія въ туманную даль. Для доказательства истины христіанства есть всего одна вѣрная метода, это—возстановленіе вѣры и уваженія къ идеѣ творенія. Доказывать это иначе значитъ измѣнять ему.— Доказывать это разсмотрѣніемъ его „красотъ",—значитъ указывать на то почетное мѣсто, какое оно можетъ занять среди различныхъ, забавлявшихъ людей, языческихъ религій.—Доказывать это при помощи пессимизма—значитъ вызывать скорѣе стремленіе къ христіанству, чѣмъ вѣру въ него,—значитъ возбуждать желаніе, чтобы оно было истинно, какъ справедливое вознагражденіе и удовлетво
— 57 —
рительное разрѣшеніе нашихъ жалобъ на природу. Это не значитъ доказать истинность его, а напротивъ оставить читателя на полудорогѣ, т. е. съ понятіемъ о Богѣ зломъ или равнодушномъ.— Оставимъ эти пути, служащіе острякамъ увеселительными прогулками или, можетъ быть, ловушками. Но если есть идея, присущая одному лишь христіанству, докажемъ ея истинность и необходимость, и тогда настоящее, а не приблизительное и поверхностное, христіанство, будетъ возстановлено. Идея эта существуетъ; это идея творенія. Ея нѣтъ у язычниковъ, нѣтъ у матеріалистовъ, нѣтъ у деистовъ. Отъ нея далеки современные христіаніе, артисты, свѣтскіе люди, даже прекрасные проповѣдники.—Язычники видятъ въ мірѣ безсмертную матерію, могущественнаго художника, организовавшаго ее, и капризныя высшія, существа, которыя слегка волнуютъ ее тамъ и сямъ.—Матеріалисты видятъ въ немъ вѣчную матерію, одаренную присущими ей внутренними силами, которыя волнуютъ и преобразуютъ ее довольно правильнымъ образомъ.— Деистъ, этотъ человѣкъ, „не достаточно долго пожившій для того, чтобы стать атеистомъ", вѣритъ во что то въ родѣ конституціоннаго Бога, создавшаго, правда, міръ, но очень давно, и теперь наблюдающаго (да и наблюдаетъ ли онъ еще?) за самостоятельнымъ ходомъ своего созданія. Твореніе представляется деисту моментомъ очень отдаленнымъ, первымъ актомъ, сведеннымъ до минимума. Богъ сотворилъ матерію и надѣлилъ ее движущими силами, а затѣмъ этихъ силъ вполнѣ достаточно для безконечнаго развитія вселенной. Отсюда только одинъ шагъ до отрицанія Бога и до признанія безконечности матеріи, одаренной такими силами; достаточно отодвинуть неопредѣленно исходную точку. Когда деистъ размышляетъ, онъ замѣчаетъ, что не нуждается въ Богѣ, и теряетъ этотъ послѣдній остатокъ богословскаго направленія мысли, перешедшій къ нему по наслѣдству и удержавшійся въ немъ благодаря воспитанію.
Самъ современный христіанинъ вѣритъ въ твореніе, но не думаетъ о немъ. Современный христіанинъ не христіанскій философъ. Онъ не задумывается надъ содержаніемъ идеи творенія, не думаетъ о томъ, что это значитъ: „въ началѣ былъ Богъ и ничто". Идея этого „ничто" померкла. Оттого, что міръ старъ, какая то полуидея, полу-чувство „приблизительнаго" безсмертія міра прокрадывается въ умъ невнимательнаго христіанина. По крайней мѣрѣ этотъ христіанинъ не безъ нѣкотораго труда старается представить себѣ чистое „ничто". Эту то именно идею абсолютнаго „ничто" и нужно возстановить и укрѣпить; нужно вернуть къ ней христіанина и сдѣлать его твердымъ въ вѣрѣ, вернуть деиста и сдѣлать его христіаниномъ. Вотъ почему Бональдъ такъ щедръ на разсужденія относительно этой идеи. Онъ видитъ въ мірѣ одно твореніе, одно „ничто", становящееся кое-чѣмъ по желанію Бога. Съ одной стороны, онъ старается разсѣять иллюзію, порожденную двумя его
— 58 —
личными врагами, исторіей и естествознаніемъ, иллюзію глубокой древности міра. Не слѣдуетъ считать міръ очень древнимъ; такой взглядъ на него ведетъ (правда, при отсутствіи философскаго чутья} къ признанію его вѣчнымъ. Твореніе совершилось всего вчера. Вчера еще вы были ничѣмъ; подъ дуновеніемъ Бога вы едва выходите изъ небытія.—Съ другой стороны, онъ прилагаетъ идею творенія ко всему. Богъ—творецъ не только неба и земли, онъ—творецъ мысли, слова, цивилизаціи, семьи и всего того, чѣмъ мы живемъ,—Наконецъ, Бональдъ продолжаетъ актъ творенія во времени и видитъ его и показываетъ намъ его столь же дѣятельнымъ во всякій переживаемый нами моментъ, какъ и въ первую минуту. Преданіе доставляетъ намъ жизнь, мысль, слово; но оно можетъ порваться; мы даже стремимся порвать его, но Богъ поддерживаетъ его. При помощи его Онъ создаетъ насъ въ каждую минуту нашей жизни. Вотъ истина, которой учитъ одно христіанство. Будьте же христіанами! Но берегитесь! Между этимъ ученіемъ и чистымъ матеріализмомъ нѣтъ другого ученія. Всѣ остальныя ученія или совсѣмъ не говорятъ о твореніи, или скрываютъ его и, повидимому, ставятъ своею цѣлью отвлекать мысль отъ него. Въ мірѣ существуетъ лишь два ученія: о твореніи и о вѣчности матеріи, т. е. христіанство и атеизмъ. Будьте христіанами!
Ясную идею творенія Бональдъ справедливо находитъ только у христіанъ; его главная оригинальность и заключается въ томъ, что онъ кладетъ ее въ основу своего христіанства. Эта доктрина давно уже пришла въ забвеніе. Такимъ образомъ, Бональдъ возвращается къ христіанскимъ философамъ IV вѣка или къ схоластикамъ среднихъ вѣковъ. Мнѣ кажется, онъ много изучалъ тѣхъ и другихъ. Его доказательство бытія Божія представляетъ точную копію аргументаціи Св. Ансельма; оно у него только нѣсколько болѣе развито и къ идеѣ Бога прибавляетъ ощущеніе Бога. Возстановленіе этой доктрины пришлось какъ нельзя болѣе кстати и было оригинально и достойно серьезнаго мыслителя. Это был а дѣйствительно основная идея не первоначальнаго христіанства, а его перваго философскаго обоснованія, подкрѣпленнаго Библіей и тѣсно примыкавшаго къ преданію. Я называю это оригинальнымъ, такъ какъ, насколько я знаю, никто, по крайней мѣрѣ изъ людей замѣтныхъ, не возобновлялъ съ этой стороны великой христіанской полемики. Это было и очень кстати. Бональдъ отлично понялъ (въ 1800 году), что можно пренебречь Вольтеромъ и всѣмъ вольтерьянствомъ, какъ блестящими мелкими схватками, значеніе которыхъ скоропреходяще и которыя сильно повліять на умы не могутъ;—напротивъ, грознымъ врагомъ являются трансформизмъ и эволюціонизмъ, гораздо менѣе извѣстные и еще не вышедшіе изъ дѣтства,—врагомъ, которому предстоитъ рости. Это былъ врагъ будущаго, котораго вѣчно забываютъ уничтожить сегодня. Говорить такъ значило предска
59 —
зывать, предвидѣть будущее. Въ умѣ этого человѣка прошлаго-было много пониманія будущаго.
Мнѣ кажется только, онъ былъ недостаточно освѣдомленъ, нѣсколько неловокъ и иногда заходилъ слишкомъ далеко. Чтобы защитить идею творенія противъ эволюціонной теоріи, конечно немаловажно было обладать хорошею логикою и свести вопросъ къ его простѣйшимъ формамъ. Важно было сказать: приписывать вѣчность случайнымъ и конечнымъ вещамъ значитъ впадать въ противорѣчіе;, міръ имѣлъ начало; слѣдовательно, раньше не было ничего; чтобы превратить ничто во что нибудь недостаточно вѣковъ и постепенности: тутъ есть противорѣчіе; слѣдовательно было твореніе извнѣ; нѣкто создалъ міръ, и этотъ нѣкто и есть сущность и душа всего. Важно было довести умъ читателя до конечнаго-пункта, гдѣ ему надо принять чью-нибудь сторону, признать существованіе двухъ непримиримыхъ идей и склониться на сторону одной изъ нихъ.
Да, это что-нибудь да значитъ. Это проливаетъ на вопросъ яркій свѣтъ. При всемъ томъ было бы недурно, если бы Бональдъ былъ ближе и подробнѣе знакомъ съ опровергаемымъ имъ ученіемъ. Онъ плохо знаетъ его и слишкомъ поспѣшно раздѣлывается съ нимъ, обзывая его „низкимъ" или осыпая эпиграммами, точь въ точь напоминающими Вольтера, тоже бывшаго врагомъ возникавшихъ эволюціонныхъ теорій и также относившагося къ нимъ поверхностно и пренебрежительно. Бональдъ, какъ и Вольтеръ, искренно посмѣялся надъ мыслью, что прародитель человѣка могъ быть рыбой, и думаетъ, что сразилъ противника; но это значитъ торжествовать слишкомъ рано. Читая Бональда, все ожидаешь отъ него обстоятельнаго, полнаго и добросовѣстнаго изложенія гипотезъ трансформизма. У него такой систематическій умъ и онъ такъ умѣетъ излагать теоріи, что отъ него ожидаешь даже изложенія этихъ гипотезъ съ прибавленіями и въ систематическомъ порядкѣ, послѣ чего онъ вступитъ съ ними въ борьбу. Эта надежда постоянно остается обманутой. — Поэтому и впечатлѣніе получается совсѣмъ другое. Раньше онъ представлялся человѣкомъ вполнѣ современнымъ, схватывающимъ самую суть вопроса въ томъ видѣ, какъ его ставятъ современники; теперь онъ оказывается проста схоластикомъ, повторяющимъ очень старые доводы и не освѣжающимъ даже ихъ сопоставленіемъ съ возраженіями. Не родился еще тотъ христіанинъ или истинный деистъ, который отнесся бы серьезно къ эволюціонной теоріи, призналъ бы за нею все ея значеніе и сумѣлъ бы доказать, что, даже при истинности ея, идея творенія остается.
Я сказалъ еще, что Бональдъ представляется неловкимъ и заходящимъ слишкомъ далеко. Право онъ хочетъ доказать слишкомъ ужъ много. Какъ въ другой своей системѣ, или, если онъ на томъ настаиваетъ, въ другой части своей системы, онъ злоупотребляетъ
— 60 —
идеею троичности, такъ здѣсь онъ злоупотребляетъ идеей творенія. Его и здѣсь увлекаетъ стремленіе къ системѣ, и онъ опять вредитъ своей идеѣ, злоупотребляя ею. Такъ ли ужъ нужно для цѣлости идеи творенія изображать Создателя творцомъ языка? Мы видѣли, какъ Бональдъ .на этомъ настаиваетъ. Спрашивается, почему онъ думаетъ, что здѣсь непремѣнно дѣло идетъ о Богѣ. Вотъ одна изъ возможныхъ гипотезъ. Человѣкъ — общественное животное; какъ и всѣмъ животнымъ, ему врожденъ инстинктъ самосохраненія; такъ какъ онъ общественное животное, то и его инстинктъ самосохраненія, какъ и всѣ его главныя влеченія, носитъ общественный характеръ, и каждая особь разсчитываетъ на помощь другой; отсюда—призывный крикъ въ опасности, крикъ ребенка къ матери, женщины къ мущинѣ, мущины къ собрату. Не можетъ ли крикъ этотъ мало по малу превратиться въ языкъ, сначала грубый, потомъ болѣе сложный и наконецъ крайне сложный?—Нѣтъ идеи безъ слова, выражающаго ее, говорите вы. Это, конечно, такъ, но кто говоритъ, что слово и идея не рождаются вмѣстѣ, сначала смѣшанными, причемъ идея выражается напримѣръ звукоподражательно, и это инстинктивное звукоподражаніе вызываетъ идею, а затѣмъ сохраняетъ и укрѣпляетъ ее въ памяти? Въ чемъ эта гипотеза затрогиваетъ идею творенія и что мѣшаетъ существамъ такъ устроеннымъ быть сотворенными?—При этой типотезѣ они являются, такъ сказать, „менѣе сотворенными", что и не нравится Бональду. Твореніе отступаетъ и отдаляется; а онъ хочетъ, чтобъ оно было близко и такъ сказать на лицо,—Тоже и съ обществомъ. Въ чемъ ущербъ идеѣ творенія, если смотрѣть на общество, какъ на произведеніе человѣческое, а не божественное? Богъ создаетъ міръ,—это такъ; онъ даетъ міру всѣ необходимыя ему силы. Всѣ онѣ восходятъ къ Нему, исходятъ отъ Него, а затѣмъ дѣйствуютъ. Одною изъ этихъ силъ является инстинктъ общественности у человѣка; человѣкъ ему подчиняется. Онъ обязанъ имъ Богу, но чувствуетъ вліяніе его, вовсе не принуждаемый къ этому словомъ или форменнымъ приказомъ. Чѣмъ эта гипотеза затрогиваетъ идею творенія?—Она дѣлаетъ твореніе въ нѣкоторомъ родѣ менѣе прямымъ, непосредственнымъ, а это то и противно Бональду. Далѣе идетъ то же самое.
Его преслѣдуетъ идея, тягостная и невыносимая для его ума, идея, бывшая въ большой чести въ ХѴШ вѣкѣ, что „все человѣческое изобрѣтено человѣкомъ". Руководясь ужаснымъ разсчетомъ и гнуснымъ стремленіемъ угнетать, люди изобрѣли религію. Люди выдумали общество. Его могло и не быть; но въ одинъ прекрасный день они сказали другъ другу, что будетъ гораздо удобнѣе создать его. Произошелъ споръ, но здравомыслящіе взяли верхъ. Ни у одного философа я не нахожу мнѣнія, будто слово выдумано благодѣтелемъ человѣчества; но вполнѣ возможно, что въ чьемъ-нибудь умѣ родилась такая идея. Бональдъ справеливо
— 61 —
находитъ ее ребяческой. Онъ замѣчаетъ вполнѣ резонно и глубоко: всѣ главнѣйшія учрежденія людей не были изобрѣтены', у человѣка не было выбора принять ихъ или обойтись безъ нихъ; они необходимы.—Необходимы, это такъ; не изобрѣтены, это вѣрно; но не доказано, что они первобытны въ своей законченности, первобытны во всемъ своемъ теперешнемъ состояніи, первобытны въ своемъ совершенствѣ; это не доказано, а Бональдъ безпрестанно это утверждаетъ. Онъ не видитъ никакого промежутка времени между первобытнымъ и вполнѣ развитымъ языкомъ: Богъ далъ людямъ языкъ уже совершеннымъ. Онъ не видитъ разницы между первобытнымъ и организованнымъ обществомъ. Богъ установилъ организованное общество со всѣми его органами, и къ нему примѣнима теорія троичности: Адамъ — власть, Ева — слуга, дѣти — подданные. У Бональда, безъ сомнѣнія, нѣтъ ни капли эволюціонизма, и постепенность вполнѣ изгнана изъ его теоріи.
Это вредитъ ему. Чувствуется ясно, что въ исторіи человѣчества и міра гораздо больше движенія и попытокъ. Даже сторонники идеи творенія не могутъ приписать ей такой абсолютный характеръ, признать его столь прямымъ и принудительнымъ; не считая матеріи вѣчной, они считаютъ ее очень древней и пережившею много переворотовъ. Они находятъ систему Бональда узкой; они думаютъ, что онъ слишкомъ низко оцѣнилъ возраженія противниковъ.—Какъ извѣстно, эти возраженія берутся изъ жизни животныхъ въ исторіи міра и изъ жизни дикарей въ исторіи человѣчества. Развѣ у животныхъ нѣтъ тоже языковъ и обществъ? И неужели Богъ непосредственно научилъ ихъ тому и другому? И если нѣть, то не будетъ ли это отрицаніе приложимо и къ человѣку? Бональдъ отвергаетъ эти замѣчанія, больше гнѣвно, чѣмъ доказательно. Онъ просто возвращается къ ученію о животномъ, какъ о чистомъ механизмѣ, и быстро обходитъ этотъ вопросъ. — У дикарей совсѣмъ нѣтъ „устроеннаго общества"; если они стоятъ на пути къ нему, то представляютъ подобіе тѣхъ предполагаемыхъ первобытныхъ обществъ, изъ которыхъ развились болѣе совершенныя общественныя организаціи, и слѣдовательно не получили ихъ готовыми. Бональдъ поспѣшно отвѣчаетъ, что дикари не—первобытные люди, но „выродки", наказанные и изгнанные изъ среды человѣчества за грѣхи ихъ отцовъ, и тѣмъ и ограничивается.—По правдѣ это называется слишкомъ быстро разрѣшить вопросъ. Общества животныхъ, полу-общества дикихъ, вотъ что человѣкъ науки долженъ изслѣдовать внимательно, добросовѣстно, не стѣсняясь опасеніемъ, которое я невольно подозрѣваю всегда у Бональда, — что изслѣдованіе приведетъ къ нежелательному заключенію.
Въ цѣломъ у Бональда можно отмѣтить всего одну крупную идею, идею творенія, энергично возстановленную и ярко освѣщенную, и одно главное стремленіе, болѣе сильное, чѣмъ умѣлое,—
— 62 —
•стремленіе собрать воедино, сосредоточить міръ. Міръ распадался на части. Идея господства Бога надъ маленькимъ міромъ понемногу изгладилась изъ умовъ подъ вліяніемъ изученія исторіи, столь длинной при всей ея краткости,—подъ вліяніемъ открытія географіей новыхъ міровъ и странныхъ народовъ, ознакомленіе съ которыми расширило прежнія узкія понятія,—подъ вліяніемъ естествознанія, открывшаго или возвѣстившаго новыя тайны. Богъ отдалялся къ отступавшимъ со дня на день предѣламъ все расширявшагося міра. Выраженіе деистовъ ХѴШ вѣка: „Нужно расширить понятіе о Богѣ! “ привело Бональда въ ужасъ. Онъ зналъ слабость ума человѣческаго, зналъ, что, расширяя понятіе о Богѣ, люди легко могутъ совсѣмъ потерять Его изъ вида. Онъ именно и хотѣлъ возстановить идею непосредственной близости Бога къ міру. Онъ выразилъ это въ прекрасной страницѣ, отлично передающей его сожалѣнія, опасенія и стремленія, а также характеризующей достоинства его, какъ писателя. „Въ первыя времена человѣчества, когда законы природы были мало извѣстны, мысль въ нѣкоторомъ родѣ перескакивала черезъ нихъ и восходила къ самому Богу, Творцу всѣхъ законовъ. Это вездѣсущее присутствіе Божества, представляющееся догматомъ для ума просвѣщеннаго, было для ихъ рождающагося разума „мѣстнымъ пребываніемъ"; эта общая воля, общими законами опредѣляющая ходъ событій во всемъ широкомъ мірѣ, представлялась имъ рядомъ частныхъ вліяній, дѣйствовавшихъ на всѣ существа... *)“. Бональдъ именно и хотѣлъ отыскать и возстановить идею „мѣстнаго присутствія" Бога. Онъ нашелъ ее для себя въ идеѣ творенія, за которую и схватился съ какой-то страстной горячностью. Онъ какъ будто насильно заставилъ міръ вернуться къ Богу, силѣ вѣчной и единой. Онъ приблизилъ къ намъ Бога, отбросивъ все то, что даже исходя отъ Него, на его взглядъ скорѣе разъединяетъ, чѣмъ связываетъ насъ съ Богомъ. Бональда справедливо называли реакціонеромъ (гёасіеиг'у, но еще вѣрнѣе было бы назвать его объединителемъ (сопігасіеиг). Его стремленія отличались силою и изворотливостью, но ему не хватало ловкости. Для этого нужно было отрицать всякое развитіе и какъ бы всякое движеніе въ мірѣ. Вселенная Бональда пребываетъ въ священной неизмѣнности и неподвижности. Она поэтому понятна лишь такому же. какъ онъ, неподвижному уму, остановившемуся на единой мысли.—Явятся другіе мыслители, наоборотъ безконечно увлеченные и какъ бы проникнутые эволюціонной идеей; они увидятъ въ Богѣ не „первую" а „конечную причину", признаютъ міръ полнымъ Бога, не потому, что вселенная исходитъ отъ Него, но потому что она стремится къ Нему. Они будутъ представлять себѣ міръ какъ бы восходящимъ къ Богу и этимъ стремленіемъ медленно осуществляющимъ Его. Существованіе Бога они поставятъ въ зависимость не отъ
*) Философскія изысканія.—О первой причинѣ.
— 63 —
вѣчной неподвижности, а отъ вѣчной измѣнчивости, и, такимъ образомъ на свой ладъ будутъ свидѣтельствовать о Богѣ, свидѣтельствовать скорѣе о вѣчной потребности высокихъ умовъ—тѣмъ или другимъ концомъ связать съ идеею Бога цѣпь своихъ „общихъ" идей.
Это возвращеніе къ идеѣ Бога, это возстановленіе ея въ теоріи, казалось бы наиболѣе ее исключающей, не удовлетворило бы Бо-яальда, а испугало бы его, какъ реставрація запятнанная хартіей. Онъ побоялся бы, какъ бы люди не почувствовали своего значенія, узнавъ, что они содѣйствуютъ осуществленію идеи Бога, и не заключили бы изъ этого,что Богъ зависитъ отъ ихъ усилій.—Въ самой глубинѣ мысли Бональда лежитъ идея ничтожества человѣка. Въ немъ была гордость смиренія, но было и само смиреніе. Онъ увѣренъ въ томъ, что, если люди считаютъ себя способными на что-нибудь, это дѣлаетъ ихъ способными на все. Такова его •философія исторіи вообще и исторіи французской революціи въ частности, философія не во всѣхъ пунктахъ ложная. Онъ сказалъ, ' однажды, не помню уже по какому поводу, со свойственнымъ ему искусствомъ превращая идею въ образъ: „Въ цѣпи слѣпыхъ, держащихъ другъ друга за руку, посохъ нуженъ только первому". Вотъ какъ онъ смотрѣлъ на человѣчество. Всѣ люди слѣпцы; Богъ даетъ первому въ руки посохъ традиціи, и этого достаточно, чтобы всѣ могли итти. Но надо крѣпко держаться за руки и не терять посоха.
111. Политическія воззрѣнія Бональда.
Не знаю, навѣрное, но можно пожалуй было бы пожелать, чтобы въ .своихъ разсужденіяхъ о политикѣ Бональдъ такъ же вдохновлялся традиціей, какъ своихъ въ „философскихъ изысканіяхъ". Самъ онъ, считаетъ себя „традиціонистомъ" въ политикѣ, но, странное дѣло, очень мало является таковымъ, несмотря на видимость, даже, я согласенъ, большую видимость. Половину своей умственной жизни онъ провелъ въ утвержденіи и доказательствѣ того, что старый порядокъ былъ либеральнымъ управленіемъ, а другую — въ отрицаніи изо всѣхъ силъ либеральнаго управленія; поэтому, еслибы кто нибудь коварно сопоставилъ его историческіе взгляды и его политическія вѣрованія, то оказалось бы, что либеральныя посылки приводятъ у него къ деспотическимъ выводамъ. Не будемъ такъ коварны и разсмотримъ порознь эти двѣ, слишкомъ, правда, раздѣленныя, области его ума.
Бональдъ сумѣлъ замѣчательнымъ образомъ уловить самый духъ стараго порядка, того именно, который такъ важно знать намъ, людямъ новаго времени. У него не было ни феодальныхъ мечтаній, столь частыхъ въ его время, ни идеализаціи старой Франціи въ эпоху первой или второй династіи. (Замѣтили ли вы, что Монтескьё нѣсколько впадаетъ въ эту ошибку?) Старый французскій
— 64 —
порядокъ, тотъ, который могъ представлять какое нибудь значеніе для нашихъ предковъ въ 1800 или 1816 г., изслѣдованіе котораго было по крайней мѣрѣ полезно для нихъ и конечно для насъ,— этотъ старый порядокъ начинается съ Генриха IV и съ Ришелье. Бональдъ былъ съ нимъ хорошо знакомъ и, мнѣ кажется, за нѣкоторыми изъятіями, онъ превосходно понялъ его духъ, можетъ быть лучше самого Монтескьё. Онъ очень ясно доказалъ, до какой степени этотъ порядокъ былъ гибокъ, силенъ, способенъ къ развитію, насколько, относительно, но дѣйствительно, либераленъ, уравнителенъ и демократиченъ. Онъ лучше всякаго другого понялъ главную ошибку XVIII вѣка и революціи, состоявшую въ непониманіи того, что и до 1789 года существовала конституція; послѣ него мы могли убѣдиться, что именно съ 1789 г. конституція больше не существуетъ. Эта старая конституція обезпечивала равенство гражданъ передъ закономъ, неприкосновенность собственности, защиту отъ злоупотребленій центральной власти и допускала, даже требовала доступа для всѣхъ гражданъ ко всѣмъ должностямъ, кромѣ сана короля.
Въ этой старой конституціи была, во-первыхъ, магистратура, самая прочная, свободная и могущественная изъ всѣхъ бывшихъ въ Европѣ: „Въ Европѣ были судьи; только во Франціи были ма-гистраты“. Дѣйствительно, эта магистратура являлась „хранилищемъ законовъ"; она сдерживала, стѣсняла власть отказомъ въ регистраціи указовъ и представленіями, служила преградой для каприза или по крайней мѣрѣ постояннымъ призывомъ къ обдуманности; она сдерживала увлеченія верховной власти, сдерживала не какъ Палата, которую глава, король или народъ, можетъ распустить или измѣнить путемъ выборовъ, но какъ корпорація самостоятельная, постоянная и вѣчная. Этихъ магистратовъ не назначалъ ни король, ни народъ; сословіе существовало само собою. Его право составляло его собственность; на нее у него были грамоты. Это можетъ вызвать улыбку или протестъ, но все-таки грамота составляетъ самую прочную гарантію права. Отъ этой почти безмѣрно могущественной магистратуры зависятъ всѣ, къ суду ея привлекаютъ и принца крови и мужика. Ея авторитетъ устанавливаетъ и гарантируетъ всѣмъ равенство передъ закономъ. Уничтожьте остатки вотчиннаго и церковнаго суда, и у васъ получится независимый судъ, т.-е. возможность повиноваться только закону, т.-е. свобода. Составляетъ ли это могущественное сословіе касту? Замкнуто ли оно? Оно открыто для всѣхъ. Сынъ купца, разжившись, покупаетъ должность и становится магистратомъ. Трудъ и бережливость одного поколѣнія, вотъ — единственная требуемая при этомъ гарантія; можно жаловаться только на недостаточность ея; слѣдовало бы требовать болѣе строгаго опредѣленія духовныхъ правъ на такую должность. Во всякомъ случаѣ, здѣсь нельзя найти недоступной касты, угнетающей народъ.
— 65 —
Въ этой старой французской конституціи Бональдъ находитъ еще систему корпоративныхъ и личныхъ вольностей, основанныхъ на собственности. Все было собственностью при старомъ порядкѣ (здѣсь онъ заходитъ немного далеко); то, что съ отвращеніемъ называли привилегіями, было собственностью. Провинціи, города имѣли привилегіи, т.-ѳ. вольности; у корпорацій были привилегіи, т.-е. права. Должности были привилегіями, собственностью, чѣмъ то неприкосновеннымъ, въ чемъ укрѣплялся человѣкъ. „Обычай распространилъ эту неотчуждаемость на всѣ почти должности; всѣмъ -владѣли во имя службы (еще разъ, это преувеличено, хотя здѣсь есть и правда), все было собственностью. Собственность, какъ непроходимая преграда между силою и слабостью, составляла вокругъ монарха стѣну, черезъ которую онъ не могъ перешагнуть".—Современная идея такова: вы свободны сами по себѣ, какъ человѣкъ; на практикѣ это сводится къ избирательному праву, и Богъ одинъ знаетъ, какую это даетъ свободу! Прежняя идея заключалась вотъ въ чемъ: вы пріобрѣтете свободу черезъ службу, черезъ должность, которую заслужите трудомъ,—черезъ корпорацію, классъ, сословіе, котораго достигнете (всѣ они открыты) работой. Свобода пріобрѣтается и завоевывается усиліемъ какъ въ соціологіи, такъ и въ психологіи, какъ въ государствѣ, такъ и въ душѣ. Вы не свободны отъ рожденія. Развѣ вы не знаете, что на дѣлѣ природа не даетъ вамъ сама собой никакой свободы? Вы становитесь свободными, направляя къ тому ваши усилія. Будьте энергичны, вы будете свободны благодаря вашей корпораціи, владѣющей правами,—благодаря вашей службѣ, дающей вамъ собственность,—благодаря привилегіямъ магистратуры, въ которую вы вступили,—благодаря привилегіямъ церкви, въ которую вы проникли,—благодаря преимуществамъ дворянства, которое вы себѣ завоевали,—Въ самомъ дѣлѣ, дворянство такъ же доступно, какъ и магистратура, и церковь. Странно считать французское дворянство какой то египетской кастой. Французское дворянство—учрежденіе демократическое. Хорошо извѣстно, что прадѣдъ всякаго дворянина, за немногими исключеніями, былъ разночинцемъ,—что дѣдъ всякаго вельможи былъ новопожалованнымъ дворяниномъ. Дворянство вбираетъ въ себя чистыя и здоровыя части народной массы и возвышаетъ ихъ. Оно пріобрѣтается всякаго рода заслугами, даже деньгами,—что очень демократично, такъ какъ деньги, это накопленный трудъ,—а сохраняется честью и вѣрностью. —„Конституція говорила всѣмъ частнымъ семьямъ: когда вы выполните ваше назначеніе въ домашнемъ кругу, когда вы трудомъ, аккуратностью, бережливостью пріобрѣтете имущественную независимость, перестанете нуждаться въ другихъ и получите возможность на свой счетъ служить государству, тогда вы достигнете величайшей чести, на какую только можете разсчитывать: вы поступите на службу государству и пріобрѣтете право занимать всѣ общественныя должности".
5
— 66 —
Обратите вниманіе на глубокую мудрость этой созданной нравами конституціи. Чтобы стать дворяниномъ, черезъ посредство ли магистратуры или путемъ прямого пожалованья нужно пріобрѣсти деньги; но дворянинъ уже не долженъ болѣе добывать денегъ. Здѣсь останавливается стремленіе энергичнаго плебея къ обогащенію, такъ какъ безъ этой мудро установленной преграды водворилась бы плутократія. Накопленіе богатствъ образовало бы классъ, задачей котораго было бы не служить народу, руководя имъ, но угнетать его. Служа наградой за пріобрѣтеніе богатства, дворянство должно служить также предѣломъ его. Разъ вы стали дворяниномъ, не пріобрѣтайте болѣе, чтобы всѣмъ было ясно, что вы наживали лишь съ цѣлью достигнуть дворянства. Достигнувъ цѣли, слѣдуетъ относиться къ средству съ презрѣніемъ, чтобы пріобрѣтеніе богатства не представлялось и не было высшей цѣлью народнаго труда; это превратило бы народъ въ толпу нищихъ и милліонеровъ, завистниковъ и скупцовъ, т. е. лишило бы его равновѣсія и навлекло на него презрѣніе. Теперь, положимъ, уничтожьте дворянство; стремленіе энергичнаго плебея къ обогащенію сохранится, но не будетъ имѣть ни благородной цѣли, ни предѣла; цѣлью будетъ ему лишь само богатство, и такимъ образомъ создастся аристократія, но не знать; у стремленія къ наживѣ не будетъ никакихъ границъ, и оно создастъ денежный патриціатъ, суровый и притѣснительный; онъ вызоветъ еще болѣе сильную ненависть, и въ одинъ прекрасный день противъ него вспыхнетъ возстаніе, вызванное уже не тщеславіемъ, но алчностью и голодомъ.—Наконецъ, Бональдъ разсматриваетъ въ этой старой французской конституціи обращеніе къ націи, генеральные штаты. Онъ совсѣмъ не любитъ ихъ, но видитъ въ нихъ крайнее средство въ пору грозныхъ опасностей, когда государство собираетъ всѣ свои силы, уже вполнѣ развитыя и только формирующіяся, чтобы выяснить свои явныя и скрытыя средства и опредѣлить, на что въ будущемъ оно можетъ разсчитывать.
Все это вѣрно подмѣчено; справедливо и то замѣчаніе, къ которому Бональдъ часто возвращался въ своемъ сравненіи старой и новой Франціи,—что въ государствѣ всегда необходимо нѣкоторое количество монархіи, и что это количество, пока не начнется окончательный, упадокъ, должно не измѣняться, а только перемѣщаться. Такъ въ старой Франціи конституція была монархической, а мѣстная администрація народной. Городскія и областныя собранія,—права которыхъ впрочемъ въ разныхъ областяхъбыли очень различны,— были настоящими административными собраніями, а ихъ существованіе и ихъ дѣятельность служили сильною гарантіей мѣстной независимости и автономіи. Общая демократическая организація вызвала необходимость усиленія монархіи въ администраціи. Положимъ, вся Франція издаетъ законъ,—это возможно, хотя это до нѣкоторой степени иллюзія; но, съ другой стороны вся
— 67 —
Франція сжата крѣпкою сѣтью единообразной администраціи, глава которой пребываетъ въ центрѣ. Франція мѣняетъ министровъ, но она подчиняется чиновникамъ, а эти чиновники составляютъ своего рода армію, кажущуюся иностранной, до того солдаты ея всегда чужды мѣстности, въ которой стоятъ лагеремъ; эта армія подчиняется отвѣтственному передъ страной главѣ, но тѣмъ не менѣе сохраняетъ все тотъ же духъ, ту же дисциплину и деспотическую силу, на которую не можетъ дѣйствовать умѣряюще никакое мѣстное вліяніе.—Это тягостно, но законно, и этого не слѣдовало бы мѣнять. Ослабленіе монархіи въ центрѣ дѣлаетъ необходимымъ усиленіе ея въ администраціи: порядокъ долженъ становиться строже по мѣрѣ ослабленія темперамента власти. Потому, когда центральная власть во Франціи на время вновь становится монархической, вездѣ воцаряется одна монархія, и страна, какъ бы удивленная, замѣчаетъ надъ собою иго необыкновеннаго деспотизма, страшнаго, неслыханнаго, еще не испытаннаго въ ея исторіи. Подумайте, что представляетъ собою страна, гдѣ нѣтъ ни независимой магистратуры, ни аристократіи, ни привилегированныхъ корпорацій, ни городскихъ, ни провинціальныхъ привилегій, а есть одни чиновники и центральная власть, сдѣлавшаяся независимой •отъ всякаго контроля.
Вотъ понятіе, составленное себѣ Бональдомъ о старой французской конституціи; оно не ложно, хотя онъ смотритъ на нее нѣсколько снисходительно. Говоря о старой французской конституціи, не надо забывать, что она постоянно извращалась; она существовала, но, по остроумному замѣчанію м-мъ де-Сталь, она состояла изъ однихъ нарушеній; она существовала, но всѣ колеса ея заржавѣли или стали негодными, или перестали служить своей цѣли.— Генеральные штаты существовали, но ихъ никогда не созывали.— Магистратура была поставлена на наилучшія основанія, какія только могли сдѣлать ее независимой и сильной на добро; но одновременно существовали тайные приказы и королевскія засѣданія, (ТЛіз Не дизіісе) а парламенты, отъ времени до времени совсѣмъ упразднялись.—Дворянство служило отличнымъ средствомъ для превращенія трудолюбиваго народа въ аристократію; но, созданное для того, чтобы быть постоянно „открытымъ", оно замыкалось все болѣе и болѣе, и царствованія Людовика XV и Людовика XVI гораздо менѣе „буржуазны", чѣмъ царствованіе Людовика XIV. Въ послѣдніе часы монархіи у плебея всего рѣшительнѣе отнимали возможность черезъ армію пройти въ аристократію. Затѣмъ, дѣйствительно изъ замѣчательнаго обычая выработался кастовый законъ, по которому плебей, ставъ благороднымъ, не долженъ былъ болѣе обогащаться; но если онъ не обогащался трудомъ, то обогащался благодаря милости и черпалъ въ Версали готовыя наличныя богатства изъ общественной казны; такимъ образомъ трудъ былъ запрещенъ дворянину, но плутократіи не избѣжали.—Дѣйстви
— 68
тельно, мѣстныя вольности, называть ихъ привилегіями или другимъ именемъ,—вещь превосходная; но интендантъ Людовика XIV или Людовика XV уже не кто иной, какъ префектъ или преторъ.
И далѣе идетъ все то же.—Идея Бональда справедлива. Во Франціи до 1789 года была конституція; были зародыши, немного замершіе, и нѣсколько искаженный и затемненный планъ превосходной конституціи, удачнаго смѣшенія монархіи, доступной аристократіи и демократіи, — съ корпораціей дивно организованной для „храненія законовъ". Все это можно было сохранить подъ условіемъ исправленія и оживленія, и я согласенъ съ тѣмъ, что не нужно было революціи, но утверждаю, что была необходима реформа. Нужно было вновь найти конституцію, хорошенько понять ее и затѣмъ снова оживить ее. Учредительное собраніе должно было бы назваться „возстановительнымъ",—-Повидимому Бональдъ дѣйствительно такъ и думалъ: онъ удивляется этой конституціи и производитъ такое возстановленіе ея. Дивясь тому, что могли бы сдѣлать различныя части старой конституціи, онъ указываетъ и на то, чѣмь онѣ должны были бы быть. Онъ показываетъ, какое уровновѣшенное, гибкое, сильное, непринужденное и либеральное правленіе могло выйти изъ старой французской конституціи, возстановленной въ ея настоящемъ смыслѣ. Послѣ этого ждешь, что онъ скажетъ: „Я принадлежу ко времени до 1789 года, такъ какъ я либералъ. Самымъ ощутительнымъ и самымъ неоспоримымъ пріобрѣтеніемъ 1789 года я считаю деспотизмъ. Изъ этого мы исходимъ. Я утверждаю, что во Франціи деспотизмъ новъ, а свобода стара. Я слѣдовательно хочу оживить старую конституцію, въ тысячу разъ болѣе либеральную, чѣмъ всѣ наши новыя изобрѣтенія.— Переносясь къ 1788 году, я нахожу для всѣхъ открытое дворянство, аристократію, непрерывно образующуюся изъ самыхъ чистыхъ элементовъ народа и не могущую въ силу закона превратиться въ денежный патриціатъ; я возстановляю ее въ этомъ видѣ и запрещаю ей обогащаться путемъ нищенства. — Я вижу независимую магистратуру, хранительницу законовъ; продажей ли должностей или другимъ менѣе обезславленнымъ способомъ, я поддерживаю ея независимость, противлюсь превращенію ея въ сословіе чиновниковъ, оставляю за нею охрану законовъ. —Я нахожу мѣстныя вольности, регулирую ихъ и устанавливаю, т. е. вѣрнѣе, возстанавливаю широкую административную децентрализацію. — Я нахожу генеральные штаты, регулирую ихъ, хотя бы затѣмъ только, чтобы безъ созванія ихъ не проходило двухъ вѣковъ. Я преобразую ихъ, напримѣръ, въ парламентъ изъ двухъ палатъ; въ одной засѣдаетъ духовенство и дворянство, въ другой—среднее сословіе. Парламентъ собирается по закону, не постоянно,—это вызвало бы пустую трату времени и силъ, — но періодически, устанавливаетъ налоги и слѣдитъ за управленіемъ, не участвуя въ немъ. — И я утверждаю, что такимъ образомъ я воскрешаю старую Францію,.
— 69 —
лишь упорядочивъ ее и давши ей возможность дѣйствовать свободнѣе".
Отъ Бональда ожидаешь такихъ или подобныхъ словъ: вѣдь говоритъ же онъ это, обращаясь къ прошлому. Но, разсматривая настоящее или будущее, онъ говоритъ совсѣмъ другое. Тутъ онъ становится чистымъ приверженцемъ деспотизма; по крайней мѣрѣ я не вижу между ними различія. Онъ не желаетъ ни періодически созываемаго парламента, ни независимой магистратуры, ни хартіи; что такое хартія въ своей сущности, въ принципѣ, какъ не старая французская конституція, наконецъ, записанная и ставшая уже не темнымъ и таинственнымъ, а признаннымъ государственнымъ закономъ? — Онъ не допускаетъ свободы совѣсти, и я согласенъ, что свобода совѣсти не была основнымъ закономъ старой Франціи. Однако почти цѣлый вѣкъ она существовала на дѣлѣ и по праву, освященная торжественнымъ эдиктомъ, и была отмѣнена съ нарушеніемъ владѣнія и права только при помощи настоящаго переворота. Касаясь настоящаго и будущаго, онъ не говоритъ совсѣмъ о мѣстныхъ вольностяхъ и административной децентрализаціи; точно также только въ прошломъ онъ уважаетъ личныя права, предоставляемыя человѣку должностью и принадлежащія ему въ виду сана. Не видно, чтобы онъ желалъ ихъ оживить,—Нѣтъ, его идеалъ въ настоящемъ, это—Людовикъ ХѴШ на престолѣ Наполеона, это— чисто неограниченный государь. Бональдъ въ сущности не совсѣмъ ужъ противникъ прогресса. Онъ не настолько реакціонеръ, чтобы желать для Франціи такой же свободы или возможности свободы, какою она пользовалась до 1789 года. Онъ вполнѣ мирится съ тою Франціей, какою ее сдѣлалъ Конвентъ и какъ ее усовершенствовала Имперія, лишь бы она была въ рукахъ Бурбона. Хотите вы яркаго доказательства тому? Онъ не очень ненавидитъ Наполеона, а это пробный камень для отличенія абсолютиста отъ либерала, даже самаго робкаго. Его статейка о Бонапартѣ1) очень любезна.
Уничтоженіе трибуната, молчаніе депутатовъ, безвластіе сената,— все это такія учрежденія имперіи, для которыхъ онъ находитъ лишь похвалы; свой гнѣвъ онъ обращаетъ на тѣхъ, кто, устанавливая или желая установить парламентскую монархію, пытался „укрѣпить революцію на основахъ законности".—Но въ то же время, по взглядамъ самаго Бональда на старый порядокъ и на революцію, „монархія въ духѣ хартіи" оказывается не монархіей созданной революціей, а монархіей стараго порядка въ его настоящемъ смыслѣ. Монархистъ 1815 года можетъ, а послѣ прочтенія Бональда даже долженъ, быть либераломъ, парламентаристомъ, де-централистомъ и даже полу-демократомъ, не принимая въ разсчетъ революціи, въ силу именно своей нелюбви къ ней.—Это любопытное
Ч Замѣчанія о „Разсужденіяхъ" м-къ дѳ-Стадь и о французской рѳво» люціи, VII.
— 70 —
противорѣчіе, менѣе полное и рѣзкое, чѣмъ какимъ я его здѣсь выставляю,—для большей ясности я его нѣсколько преувеличиваю,— но дѣйствительно существовавшее и отличавшее цѣлую партію. Бональдъ и рядомъ съ нимъ, и послѣ него, многіе другіе постоянно повторяли три положенія: во первыхъ, что они хотятъ стараго порядка, во-вторыхъ, что до 1789 года было въ тысячу разъ больше вольностей, чѣмъ потомъ, въ третьихъ, что ихъ больше не нужно.— Все на свѣтѣ легче принять, чѣмъ подобную систему; все надежнѣе и успокоительнѣе такого настроенія ума. Де-Местръ, не видѣвшій въ старой Франціи ни капли свободы, не признававшій за нею ни смѣшаннаго умѣреннаго управленія, ни сложной конституціи, былъ по крайней мѣрѣ логиченъ и указывалъ намъ почву болѣе прочную, увѣряя, что абсолютизмъ и резоненъ, и традиціо-ненъ. Нельзя быть въ претензіи на Бональда за то, что онъ распозналъ либеральныя черты въ конституціи старой Франціи, допустивъ разъ, что онъ въ этомъ не ошибается. Но, спрашивается, что дало ему это открытіе? — Тутъ не столько виноватъ онъ, сколько его время. Виноватъ прежде всего, если хотите, національный характеръ: французу почти невозможно быть либераломъ, и либерализмъ не французское растеніе. Но главнымъ образомъ виновата тутъ время, когда писалъ Бональдъ. По окончаніи революціи должно было пройти много времени,—для всѣхъ кромѣ полуиностранцевъ Констана или де-Сталь,—прежде чѣмъ вернулось спокойствіе духа и хладнокровіе Монтескьё, хотя бы къ тѣмъ, кто, какъ Бональдъ, хорошо былъ знакомъ съ нимъ; а пока для всѣхъ либерализмъ служитъ просто аргументомъ, противупоставляемымъ противнику.— Французская революція сильно повредила французскому либерализму. Политическая свобода, это—все большее усложненіе управленія народомъ, по мѣрѣ того какъ въ немъ появляется все большее количество различныхъ силъ, имѣющихъ право на жизнь и участіе въ общественныхъ дѣлахъ. Политическая свобода—результатъ цивилизаціи; она медленно прививается къ организованному обществу, но отнюдь не является основой общества, еще только организующагося. Когда Руссо представляетъ себѣ людей, которые собираются и совѣщаются относительно созданія общественнаго строя, то въ создающемся такимъ образомъ на его взглядъ обществѣ онъ не допускаетъ совсѣмъ свободы; въ этомъ онъ поступаетъ очень логично и разумно, такъ какъ при такихъ условіяхъ люди отнюдь не „придумали" бы свободы, а организовали бы власть и больше ничего; свободѣ оставалось бы мало-по-малу проникнуть туда потомъ. А чего люди не создали въ началѣ исторіи, то они дѣйствительно стремятся произвести при помощи коренного переворота и до извѣстной степени производятъ. Въ извѣстномъ отношеніи они возвращаются, или па крайней мѣрѣ думаютъ, что возвращаются, въ первобытное состояніе и производятъ то, что сдѣлали бы съ самаго начала: они организуютъ верховную власть и ничего болѣе. Дѣятели 1789 года перемѣстили
— 71 —
верховенство. Съ этихъ поръ мы имѣемъ дѣло съ чѣмъ-то вродѣ очень простого первобытнаго общества, не переносящаго сложности; свобода безъ сомнѣнія проникнетъ туда, но лишь возобновивъ свое развитіе, на время замедленное, подавленное и сдержанное: прибавьте къ этому, что вчерашніе революціонеры—учредители только перемѣстили верховенство, значитъ, раньше было одно, а теперь явилось другое; поэтому, долго еще будутъ только люди, стоящіе за старый, и люди, стоящіе за новый порядокъ: сторонники стараго, тоже на свой ладъ учредители, будутъ думать лишь о возстановленіи верховенства, приходящагося имъ по вкусу, и не болѣе своихъ противниковъ будутъ желать или даже думать объ ограниченіи или ослабленіи своего созданія.
Изъ этого слѣдуетъ, что для водворенія свободы нужно общество, издавна установившееся, и что произвести революцію значитъ навѣрняка не создать свободы, такъ какъ она вообще не создается. — Бональды, какъ и ихъ противники, испытываютъ на себѣ вліяніе революціи, такъ какъ живутъ въ созданномъ ею настроеніи ума; они могутъ быть, и, какъ видно, иногда дѣйствительно бываютъ, либералами въ роли историковъ и созерцателей прошлаго, но нельзя требовать отъ нихъ либерализма въ положеніи теоретиковъ, основателей и „учредителей".
ГУ.
Такимъ представляется мнѣ Бональдъ; это былъ сильный, честный и узкій умъ, умъ преимущественно отрицательный, очень слабый и, можно, сказать, немного ребяческій, когда онъ выставлялъ и защищалъ личную тему, положительный и довольно сильный въ отрицаніи современныхъ идей, но и въ этомъ случаѣ узкій и забывавшій, что задушить противника можно только сильно обхвативъ его.—Отсюда понятно вліяніе, какое онъ оказывалъ на умы. Онъ казался философомъ, котораго можно противупоставить Руссо, и изъ ознакомленія съ нимъ видно, что онъ и самъ считаетъ себя антагонистомъ женевскаго философа. Онъ его изучаетъ, любуется имъ, указываетъ на него, споритъ съ нимъ; онъ вѣчно о немъ думаетъ и чаще всего представляетъ собою „Руссо наизнанку". Руссо вѣрилъ въ естественное состояніе; Бональдъ вѣритъ, что общество существовало всегда. По Руссо человѣкъ родится хорошимъ, и общество его развращаетъ; по мнѣнію Бональда человѣкъ родится не дурнымъ, но ничтожнымъ, и общество его создаетъ. Руссо желаетъ, чтобы государь установилъ гражданскую религію; Бональдъ требуетъ, чтобы религія образовала и урегулировала политическое общество.—Если такимъ образомъ одинъ можетъ часто представлять собою полную противуположность другому, то это по тому, что у нихъ обоихъ умы одинаковаго склада. Оба они страстные, ярые и, въ особенности Бональдъ, непримиримые идео-
— 72 —
логи; оба плохіе психологи и посредственные историки,—по крайней мѣрѣ исторія не даетъ имъ своихъ идей. Они созданы на то, чтобы понимать другъ друга или спорить, а это почти одно и то же; настоящее различіе между людьми не обусловливается употребленіемъ одного языка, а они говорятъ на томъ же нарѣчіи.
Въ Бональдѣ видѣли человѣка, призваннаго уничтожить Руссо; въ эпоху, когда Руссо болѣе чѣмъ всякаго другого считали виновникомъ революціи, въ Бональдѣ видѣли побѣдителя революціонной идеи; но, какъ Руссо не произвелъ революціи, такъ Бональдъ не уничтожилъ ея. Одинъ снабдилъ ее фразами, другой посылалъ ей проклятія. Она была фактомъ и едва замѣтила и своего учителя, и своего критика. Тѣмъ не менѣе тотъ и другой остаются интересными свидѣтелями этого великаго событія.
Одинъ прекрасно понялъ, что изъ міра исчезаетъ великое начало, традиція, что человѣкъ порываетъ связи съ человѣкомъ, и полный индивидуализмъ готовъ стать лозунгомъ новаго человѣчества. Увидавъ это, онъ обрадовался и построилъ на этомъ прекрасную систему, переходящую отъ религіи къ политикѣ и отъ политики къ воспитанію.—Другой тоже прекрасно замѣтилъ исчезновеніе традиціи и понялъ изолированность современнаго человѣка, окопавшагося въ своемъ правѣ и въ своей ревнивой свободѣ, безъ заботы о предкахъ, безъ обязанностей по отношенію къ современникамъ. Онъ увидѣлъ это и пришелъ въ уныніе; и изъ противоположнаго начала, доведеннаго до высшей крайности, онъ создалъ прекрасную систему, обнимающую религію, политику, воспитаніе, мораль.
Оба они поясняютъ одинъ другого. Было бы желательно, чтобы они обладали одинаковымъ геніемъ; тогда вопросъ былъ бы освѣщенъ съ обѣихъ сторонъ во всѣхъ своихъ глубинахъ. Но и такъ какъ они есть, ихъ интересно слушать вмѣстѣ; при зарожденіи современнаго міра нельзя безъ волненія и участія слышать эти два крика, одинъ радостный, другой отчаянный, говорящіе объ одномъ и томъ же.
Мадамъ де-Сталь.
Я не пытаюсь ни представить здѣсь біографію Жермены де-Сталь, ни точно обрисовать ея характеръ, но хочу дать очеркъ ея литературныхъ, политическихъ и философскихъ идей. Какъ она любила выражаться, ее постоянно занимали „мыслящіе умы**. Этотъ то „мыслящій умъ** съ его неутомимой страстью къ самому разнообразному мышленію я и хотѣлъ бы изучить въ ней, такъ какъ убѣжденъ, что онъ всего менѣе подвергся вліянію времени, и всѣмъ, что отъ нея осталось, она обязана ему.—Потомство многое сокращаетъ: это его право, такъ какъ для него и пишутъ, и это также его долгъ, священная обязанность, потому что оно сокра
— 73 —
щаетъ для того, чтобы не все потерять. Такъ оно забыло политику Шатобріана. Смѣю опасаться, или надѣяться, что оно забудетъ и политическія воззрѣнія Гюго. На долю м-мъ де-Сталь, мнѣ кажется, выпадетъ какъ разъ обратное. Дельфина и Коринна блѣднѣютъ; наоборотъ разсужденія объ исторіи, политикѣ и морали, щедро разсыпанныя ею во всѣхъ ея произведеніяхъ, всегда будутъ привлекать вниманіе. Не такъ давно Эдгаръ Кине написалъ большое сочиненіе о французской революціи, въ которомъ онъ постоянно обращался къ ней, называлъ ее съ первой страницы, постоянно стараясь опровергнуть ее, какъ будто его стѣсняло воспоминаніе о ней. Какъ смотрѣла она на свое время, какъ понимала душу и умъ своихъ современниковъ, что считала въ прошломъ близкими или далекими причинами современныхъ событій, какъ пыталась проникнуть въ будущее, тогда для всѣхъ столь сокрытое, — вотъ что хотѣлъ бы я выяснить и опредѣлить.
I. Общее направленіе.
М-мъ де-Сталъ прославляютъ, но очень мало читаютъ. Полукнижная толпа отлично знаетъ, что это — крупная личность въ исторіи французской мысли, но совершенно незнакома съ ея идеями. Ея именемъ обозначаютъ извѣстную эпоху. Никто не скажетъ: „это временъ Шатобріана“, развѣ только въ чисто литературныхъ преніяхъ, и всякій скажетъ: „вотъ это времени м-мъ де-Сталь“. Этимъ именемъ лучше, чѣмъ всякимъ другимъ, опредѣляется извѣстная складка ума, не свойственная нашему времени, но не принадлежащая и ХѴШ вѣку,—вѣрнѣе переходъ, оттѣнокъ, неясный для большинства.
Въ общемъ такой взглядъ на м-мъ де-Сталь нельзя назвать невѣрнымъ. Она представляетъ мысль извѣстной эпохи. Она не принадлежитъ къ тѣмъ великимъ геніямъ, которые какъ бы молотомъ поражаютъ умы современниковъ и налагаютъ на нихъ свою печать. Она только сильнѣе и глубже своихъ современниковъ переживаетъ свое время. Въ лицѣ ея думаетъ, страдаетъ, удивляется, безпокоится и надѣется цѣлое поколѣніе. Въ ея произведеніяхъ заключается исторія идей 1780—1817 годовъ. Въ своихъ мечтахъ и думахъ она не заходитъ, подобно другимъ болѣе крупнымъ умамъ, далеко впередъ, во времена поколѣній слѣдующихъ за нею. Она представляетъ полное и ясное сознаніе духовной жизни своихъ современниковъ; охватывая и согрѣвая въ себѣ душу своей эпохи, она оставляетъ въ сторонѣ лишь область чуждую мысли. Въ этомъ заключается простая разгадка ни съ чѣмъ несравнимаго успѣха, какимъ она пользовалась при жизни, и также причина того, что слава ея померкла и почти изгладилась послѣ ея смерти. Тѣмъ болѣе, значитъ, интересно схватить въ ней по возможности складъ ума тѣхъ нѣсколькихъ тысячъ просвѣщенныхъ
— 74 —
людей, которые жили около 1800 года и оставили ея произведенія какъ бы памятниками своего существованія.
Въ 1780 году ей было 15 лѣтъ, и она была почти такъ же знаменита, какъ и теперь. Ни у кого не было дѣтства менѣе уединеннаго и сосредоточеннаго, менѣе пригоднаго для образованія художника, и она на самомъ дѣлѣ имъ не стала. Она уже тогда жила чтеніемъ и бесѣдою, т. е. мыслью. Она читала Руссо, дѣлала извлеченія изъ Монтескьё и писала комментаріи къ нему, разсуждала съ Томасомъ, Мормонтелемъ, Гриммомъ, Рейналемъ. Не было часа въ день, когда бы она не соприкасалась съ идеей. Темпераментъ у нея былъ сильный, умъ крѣпкій, настроеніе веселое, — и она устояла. Другая врядъ ли выдержа а бы такое напряженіе ума. Уже въ 15 лѣтъ она была глубоко проникнута всѣмъ духомъ своей эпохи: романической чувствительностью, избыткомъ общительности, наивной и абсолютной вѣрой въ идеи. Воспитаніе сдѣлало ее идеологомъ, женщиной со свѣтскимъ разговоромъ и экзальтированнымъ чувствомъ; воспитаніе ослабляло въ ней артистическое воображеніе или' мѣшало ему развиваться, склоняя эту уже могучую душу перенести ея воображеніе въ разработку идей.
Но на какой почвѣ работали всѣ эти внѣшнія, случайныя силы? На почвѣ сердца отъ природы страстнаго и непреодолимо романическаго. Основа характера м-мъ де-Сталь, это любовь къ жизни, отвращеніе къ одиночеству во всѣхъ его видахъ, будь то смерть или скука, и безпредѣльная жажда счастья. „Вѣчно живая и грустная", говоритъ она о себѣ не совсѣмъ вѣрно: живая и веселая въ молодости, когда она видитъ передъ собой счастье и надѣется достигнуть его; — живая и грустная въ зрѣломъ возрастѣ, когда она вѣчно рвется къ счастью и вѣчно разочаровывается, находя его неуловимымъ.—„Моей слабостью была склонность къ обществу", говоритъ она еще. Сюда можно прибавить ея неспособность переносить что бы то ни было кромѣ жизни дѣятельной, напряженной, поглощающей. Уединеніе для нея —пустыня, а меланхолія—отчаяніе. Она не умѣетъ, какъ другіе, превращать скуку въ „мрачное удовольствіе", а дѣлаетъ себѣ изъ нея агонію. Для нея счастье—цѣль, а не случайность въ жизни. Самыя краснорѣчивыя слова приходятъ къ ней въ пылу погони за счастьемъ или мечтаній о немъ: „Они заставляютъ искать славы тѣхъ, кто удовольствовался бы привязанностью". — „Добиваясь славы (говоритъ Коринна), я всегда надѣялась, что она доставитъ мнѣ любовь".—„Сама слава можетъ быть для женщины только блестящимъ трауромъ по счастью". А въ самомъ концѣ „Германіи", дойдя до главы „объ энтузіазмѣ", какимъ тономъ она восклицаетъ: „Пора заговорить о счастіи!.."
Отсюда ея отвращеніе къ безотраднымъ или даже просто мрачнымъ ученіямъ, къ пессимизму, такъ же какъ и къ стоицизму. „Все это пахнетъ смертью". Отсюда ея отвращеніе къ самоубійству, внушившее ей въ юности цѣлую книгу, а позднѣе заста
— 75 —
вившее ее измѣнить развязку Дельфины. —Ее вѣчно преслѣдуетъ романическая мечта о счастьѣ прочномъ и спокойномъ, о глубокой и искренней любви. Семейная жизнь Бельмонтовъ въ Дельфинѣ представляетъ идиллію въ духѣ Руссо, рисуемую ею съ любовью, съ волненіемъ, невольно сообщающимся читателю. — Въ молодости она зачитывается Ричардсономъ: „похищеніе Клариссы было однимъ изъ важныхъ событій моей молодости Умирая, она находитъ утѣшеніе въ Вальтеръ Скоттѣ. Своими первыми и послѣдними радостями она обязана роману, т. е. счастью въ мечтѣ.
А такъ какъ въ молодости вся ея жизнь была заполнена серьезными и остроумными разговорами, непомѣрнымъ чтеніемъ, преніями и литературными трудами, постояннымъ анализомъ и сопоставленіемъ всякаго рода идей, то ея чувства стали идеями. По словамъ м-мъ Неккеръ де-Соссюръ, подтверждаемымъ всѣми ея произведеніями, она при всей своей восторженности обладала сильными аналитическими способностями. Черезъ горнило анализа прошли всѣ движенія ея сердца и затѣмъ превратились въ системы,—прошли всѣ ея волненія и обратились въ философію.
Чтобы не ходить далеко,—ея сильная личность, всегда дѣятельная энергія ея бодраго характера и неутомимаго мозга преобразовались въ индивидуалистическую теорію. Теорія эта утверждаетъ, что человѣческая личность священна и неприкосновенна, не представляется органомъ, подчиненной функціей великаго цѣлаго, но живетъ для себя и сама себѣ составляетъ цѣль, такъ что общая организація должна именно имѣть въ виду охраненіе правъ и свободы дѣйствія личности Идея эта теперь очень распространена подъ тѣмъ или другимъ именемъ, но она совсѣмъ не такъ ужъ стара. Одни насчитываютъ ей 18 столѣтій, другіе триста лѣтъ, третьи сто. Одно только несомнѣнно, что возникла она въ умѣ человѣка стремившагося къ дѣятельности. За нее не держатся крѣпко ни мечтатели, ни созерцатели и артисты, ни лѣнивцы и глупцы, кромѣ глупцовъ, несмотря на свою глупость, отличающихся подвижностью. „Права человѣка“ придумалъ человѣкъ энергичный. Всѣ нравственныя и умственныя силы м-мъ де-Сталь, жившая въ ней потребность мыслить, говорить, дѣйствовать, вліять,—прибавьте сюда еще двигателей менѣе опредѣленныхъ: ея протестантское происхожденіе и воспитаніе, а также ея положеніе, видное и возбуждающее зависть, но недостаточно опредѣленное и устойчивое, положеніе иностранки въ монархической странѣ,—все дѣлало ее страстной сторонницей теорій, обезпечивавшихъ за человѣкомъ право располагать собою, гдѣ бы онъ ни былъ, на томъ основаніи, что онъ „человѣкъ".
Она либералка по происхожденію и по характеру. Я потому только не назвалъ ее такъ раньше, что она сначала индивидуалистка и потомъ уже либералка. Можно быть либераломъ и совсѣмъ не походить на нее.—Можно быть либераломъ изъ великодушія, изъ доброты душевной къ людямъ, которыхъ не желаешь
— 76 —
видѣть угнетенными и притѣсненными; можно быть либераломъ по убѣжденію, по историческимъ соображеніямъ, по той отвлеченной и довольно сухой идеѣ, что свобода—созданіе цивилизаціи, и что она необходима намъ въ наше время при безконечномъ разнообразіи идей, чувствъ и способностей въ людяхъ.—Либерализмъ м-мъ де-Сталь совсѣмъ не таковъ; у нея онъ исходитъ изъ сердца, изъ глубины души. О свободѣ она говоритъ не иначе, какъ въ лирическомъ тонѣ и со страстнымъ увлеченіемъ; ея либерализмъ граничитъ съ энтузіазмомъ.—Но пусть не ошибаются на этотъ счетъ люди мало читавшіе ее: это не тотъ революціонный энтузіазмъ, не та религія революціи, съ которой намъ пришлось потомъ познакомиться. Она очень далека отъ этого своеобразнаго чувства. Она обожаетъ не революцію, а свободу, освобожденіе человѣческой личности. Никто, можетъ быть, глубже ея не понималъ и не чувствовалъ свободы, какъ спасительной и плодотворной обособленности человѣка въ широкомъ и ровномъ мірѣ. Отъ этого у нея, какъ мы увидимъ, идея отечества выражена относительно слабо. У индивидуализма не было болѣе убѣжденнаго поборника и представителя. Она не умѣла, по собственнымъ ея словамъ, отдѣлять чувствъ отъ идей, и индивидуализмъ былъ самой ея природой.
Точно такъ же свойственное ей стремленіе къ счастью превратилось у ней въ теорію усовершенствованія. Грубаго человѣка •стремленіе къ счастью дѣлаетъ просто эгоистомъ; въ душѣ возвышенной и по природѣ экспансивной оно расширяется и разгорается въ мечту о счастіи человѣчества. Человѣкъ имѣетъ право на счастье. Человѣчество имѣетъ право на человѣческое величіе. Оно не достигло еще его, это слишкомъ ясно,—значитъ, должно достигнуть. Предположить всѣ способности человѣка, его добродѣтели, идеи, таланты въ вѣчномъ прогрессѣ,—смотрѣть на человѣчество, какъ на человѣка, идущаго впередъ по знакомому пути, все болѣе увѣреннаго въ немъ и потому все тверже по нему идущаго, — несомнѣнно это идея общаго счастія.
Пусть не возражаютъ, что нѣтъ ничего эгоистичнѣе и безжалостнѣе „страданій тысячи людей ради счастія послѣдняго". Пусть не говорятъ, что идея прогресса сводится въ сущности къ чудовищной гекатомбѣ, вѣками утучняющей почву для того, чтобы подъ конецъ на ней выросъ пышный цвѣтокъ. —Совершенно вѣрно, что мечта о всеобщемъ счастьѣ не имѣетъ другой опредѣленной формы, кромѣ идеи прогресса. Вѣрно также, что увѣренность въ существованіи прогресса представляетъ уже осуществленное счастье. Если бы у всѣхъ людей была въ душѣ эта идея, непоколебимая и живая какъ вѣра, — съ нынѣшняго же дня всѣ люди стали бы счастливы: въ виду этой цѣли ихъ горести стали бы радостями, ихъ жертвы—удовольствіями, ихъ смерть—торжествомъ. Нравственно они стали бы вполнѣ счастливы, а въ мірѣ только и есть счастье нравственное.
— 77 —
Чувства м-мъ де-Сталь очень скоро приняли такое направленіе и привели ее къ этой идеѣ. Мысль ея въ этомъ случаѣ безъ сомнѣнія не отдѣлялась отъ чувства. Во всей ея книгѣ о литературѣ господствуетъ наивное и милое а ргіогі по этому вопросу о прогрессѣ. Литература грековъ должна была быть менѣе возвышенной, чѣмъ литература римлянъ; испанцы должны были имѣть болѣе замѣчательную литературу, чѣмъ итальянцы. Это была ихъ нравственная обязанность, такъ какъ, если-бы прогрессъ оказался несуществующимъ въ чемъ либо, человѣчество усумнилось бы въ его существованіи вообще и лишилось бы единственной доступной ему формы счастья. Что дѣти лучше своихь отцевъ, это не только фактъ, это ихъ долгъ. „Аристотель, жившій въ III вѣкѣ (литературномъ), слѣдовательно въ вѣкѣ, по мысли стоявшемъ выше предшествовавшихъ"...—Но если бы, тѣмъ не менѣе, все это оказалось неправдой?—Нѣтъ, это правда, такъ какъ, будь это ложь, это было бы горько и безнравственно. „Въ какое уныніе впалъ бы умъ, если бы пересталъ надѣяться, что каждый день прибавляетъ что-либо къ массѣ знаній"?.. И вслѣдъ за этимъ м-мъ де-Сталь произноситъ слова, дающія ключъ къ разгадкѣ всей ея системы: „Ничто не можетъ оторвать разумъ отъ идей плодотворныхъ счастливыми результатами". Но на какомъ основаніи считаете вы счастливый результатъ признакомъ истины? На томъ основаніи, конечно, отвѣтила бы она, что мнѣ нужно счастье.
Таково было въ общемъ направленіе ума м-мъ де-Сталь въ началѣ ея писательской карьеры. Но, замѣтимъ, мысли эти были не что иное какъ идеи ХѴШ вѣка, только очищенныя, расширенныя и сильнѣе прочувствованныя. Если брать XVIII вѣкъ не просто со стороны отрицательной и разрушительной, то основою его служитъ доведенный до крайности индивидуализмъ и теорія человѣческаго усовершенствованія. Нужно всегда во что нибудь вѣрить. Древніе вѣрили въ государство, христіане—въ Бога, ХѴШ вѣкъ увѣровалъ въ человѣка. Онъ призналъ человѣка достойнымъ глубокаго уваженія, имѣющимъ такія права, передъ которыми государство останавливается или которыя оно обязано охранять. Онъ мало по малу стѣснилъ идею общности, чтобы расширить идею индивидуальности. Онъ призналъ личную мысль, личное чувство, даже личный вкусъ имѣющими значеніе даже безъ отношенія къ общему благу. Боссюе не можетъ выносить „частныхъ мнѣній"; они оскорбляютъ его, какъ случайности, нарушающія общественный, порядокъ. Про ХѴІП вѣкъ можно сказать, что онъ питалъ особенную слабость къ „частнымъ мнѣніямъ". Даже его чувствительность, очень реальная, притворная лишь у плохенькихъ писателей, тоже сводится къ индивидуализму, какъ къ своей основѣ. Индивидуалиста трогаетъ страданіе ближняго, тяжелый гнетъ, подъ которымъ тотъ изнемогаетъ. Человѣкъ, сосредоточившій все свое вниманіе на великомъ общемъ началѣ, религіи или госу
— 78 —
дарствѣ,—менѣе чутокъ къ такимъ вещамъ. И дѣйствительно религія и государство въ ХѴШ вѣкѣ приходятъ въ упадокъ. Въ этомъ отношеніи Руссо, Руссо „Договора", шелъ въ разрѣзъ со всѣмъ своимъ вѣкомъ; но, несмотря на все вліяніе Руссо, притомъ же не тотчасъ понятаго, прежнія идеи продолжали проникать и распространяться.—Съ другой стороны, и еще сильнѣе, въ ХѴШ вѣкѣ царитъ идея человѣческаго усовершенствованія, впрочемъ, неотдѣлимая отъ вѣры въ человѣка. Человѣкъ достоинъ уваженія лишь потому, что способенъ къ непрерывному прогрессу; а къ прогрессу онъ способенъ лишь тогда, когда въ его дѣятельности и во всѣхъ его поступкахъ уважается его безпредѣльная способность развиваться. Давайте ему свободу дѣйствія и движенія. Вѣрьте «му вполнѣ; считайте его натуру доброю по природѣ, превосходной въ намѣреніяхъ, исходящей отъ добра и къ добру стремящейся. Здѣсь Руссо не противорѣчилъ своему вѣку. Въ своей своеобразной логикѣ онъ нашелъ средство быть мизантропомъ — оптимистомъ: онъ считалъ человѣка добрымъ отъ природы и развратившимся подъ вліяніемъ созданной имъ для себя на землѣ обстановки; онъ любилъ человѣка и проклиналъ человѣческія учрежденія. Онъ считалъ людей добрыми, испорченными, но исправимыми. Проклиная данное общество, онъ мечталъ о такомъ, гдѣ люди не достигли бы совершенства, но вернулись бы къ нему, — а вѣрить въ это, значитъ косвенно, болѣе чѣмъ кто-либо, вѣрить въ способность людей къ усовершенствованію.
Всѣ эти идеи ХѴПІ вѣка у глупцовъ и людей порочныхъ были лишь нетерпѣливымъ желаніемъ свободы отъ всякаго ига, соединеннымъ съ неспособностью отличать доброе отъ дурного. У людей ловкихъ это было стремленіе замѣнить старые авторитеты вліяніемъ „просвѣщенія", т. е. своимъ собственнымъ. У самыхъ великихъ и чистыхъ душъ это была болѣе или менѣе неясная мечта—обновить человѣчество большимъ довѣріемъ къ его добрымъ инстинктамъ. Эти то идеи и жили въ умѣ м-мъ де-Сталь въ самой возвышенной, нѣжной и утонченной формѣ, въ соединеніи съ самыми благородными чувствами, какія только онѣ могли внушать или поддерживать.
Ея юношескія произведенія очень интересны въ этомъ отношеніи, хотя довольно слабы; въ нихъ стоитъ вдуматься тому, кто хочетъ хорошо понять ихъ автора. Догадливый Сентъ-Бевъ не преминулъ это сдѣлать. „Вліяніе страстей на счастье" не обнаруживаетъ въ авторѣ глубокаго моралиста, но книга эта очень оригинальна, съ явственно чувствуемымъ „личнымъ" оттѣнкомъ: въ ней живетъ все, что было чистаго и нѣжнаго въ душѣ ХѴШ вѣка. Это духъ Во-венарга и нѣчто еще большее. Въ ней чувствуется стремленіе возвысить человѣческую природу, вѣра во все доброе и цѣнное въ человѣкѣ, „любовь къ благороднымъ страстямъ", отводящая Во-венаргу среди моралистовъ особое мѣсто; въ ней чувствуется страсть болѣе нѣжная, пылкая жалость, служащая не только къ
— 79 —
утѣшенію самого автора, но вполнѣ искренно распространяющаяся на все человѣчество.—Вполнѣ законченной системы здѣсь нѣтъ, а есть Зіігзит согйа, возгласъ сочувствія, одобренія, надежды обращенный къ народамъ послѣ революціоннаго испытанія.—Кажется, въ этой книгѣ ХѴПІ вѣкъ со всѣмъ, что въ немъ есть лучшаго, вѣкъ „человѣчности", „чувствительности", прогресса и „просвѣщенія", съ трогательной наивностью говоритъ людямъ голосомъ болѣе чистымъ и нѣжнымъ, чѣмъ когда-либо: „я все еще здѣсь!"
Далѣе, „Письма о Ж.Ж. Руссо", требующія внимательнаго прочтенія, уже очень точно опредѣляютъ мысль м-мъ де-Сталь. Общій тонъ ихъ—тонъ восторженнаго панегирика; но и мотивировка похвалъ и оговорки ясно указываютъ, чтд съ 1788 года м-мъ де-Сталь удерживала изъ Руссо и что отбрасывала. Она обожаетъ въ немъ человѣка чувства и, если всмотрѣться, отвергаетъ его, какъ теоретика, цѣликомъ: она отказываетъ въ своемъ одобреніи только теоріямъ „Разсужденія о литературѣ и искусствахъ", теоріямъ „Общественнаго Договора" и „Эмиля". Что касается „Разсужденія", то она говоритъ: „онъ хотѣлъ вернуть людей къ тому состоянію, понятіе о которомъ даетъ лишь золотой вѣкъ миѳологіи. Планъ этотъ конечно химера; но и алхимики въ поискахъ философскаго камня открыли полезныя тайны".—Говоря о „Договорѣ" она ясно осуждаетъ соціологію, основанную на отвлеченностяхъ: „выше труда Руссо слѣдуетъ поставить произведеніе государственнаго человѣка, у котораго наблюденія предшествовали бы теоріямъ, который пришелъ бы къ общимъ идеямъ путемъ изученія частныхъ фактовъ и занялся бы не столько какъ художникъ составленіемъ плана гармоничнаго зданія, сколько въ качествѣ опытнаго человѣка исправленіемъ найденной имъ постройки"...—Наконецъ она доходитъ до лукаваго замѣчанія, что, можетъ быть, она не стала бы воспитывать своего сына, какъ Эмиля, хотя и желаетъ видѣть другихъ воспитываемыми такъ, какъ онъ.
Это значитъ быть другомъ Руссо, но, какъ говорили въ старину, „другомъ до алтаря" и даже немного не доходя. Таковы дѣйствительно предѣлы дружбы м-мъ де - Сталь; она не забыла стараго совѣта своей матери—„ухаживать за добрымъ разумомъ, ничему не вредящимъ и на все пригоднымъ". М-мъ де-Сталь 18О(» года это—ХѴШ вѣкъ, но ХѴШ вѣкъ великихъ надеждъ, великой гордости и доброты, не низостей, а смѣлости и химеръ; ХѴШ вѣкъ Монтескье, Вовенарга, отчасти Вольтера съ его человѣчной и жалостливой стороны, но отнюдь не Дидро; ХѴПІ вѣкъ Руссо въ смыслѣ нѣжности, романическихъ изліяній, мечтаній о лучшемъ человѣчествѣ, а также салоновъ, высшей общительности и остроумныхъ или возвышенныхъ разговоровъ. Все это пронизано бурей революціи, смягчено и смочено жалостью и постепенно все болѣе „проникаетъ по временамъ въ глубь вещей, т. е. до скорби человѣческой" .
— 80 —
II. Мадамъ де-Сталь до „Германіи*1.
Здѣсь намъ надо на минуту остановиться и разсмотрѣть м-мъ де-Сталь только какъ наслѣдницу и хранительницу идей ХѴШ вѣка, въ періодъ предшествовавшій имперіи и появленію „Германіи". Здѣсь мы находимъ постоянныя основы ея воззрѣній, впослѣдствіи измѣнившихся и расширившихся. Въ эту эпоху, идущую отъ Литературы (1800 г.) до Дельфины (1802 г.) и отчасти до Коринны (1807 г.), все существо М-мъ де-Сталь какъ бы дѣлится между идеей и чувствомъ—идеей, составляющей ея радость и утѣшеніе, и чувствомъ, горестнымъ и тяжелымъ для ея души. Первую она вноситъ въ свои теоріи, второе—въ свои романы. Главная мысль ея, это—идея прогресса, осуществляющагося черезъ посредство литературы; а главное чувство—сознаніе несчастій человѣка, въ особенности тѣхъ, которыя преслѣдуютъ великія души въ ихъ поискахъ счастья или славы. Тутъ всѣ учители м-мъ де Сталь нашли бы плоды своихъ уроковъ. Если ХѴШ вѣкъ почти цѣликомъ вѣрилъ въ соціальный прогрессъ подъ вліяніемъ литературы, то Руссо, не вѣрившій въ него, узналъ бы себя въ горькомъ чувствѣ одиночества высокаго сердца среди людской пустыни.
Итакъ, можно сказать, что настроеніе м-мъ де-Сталь опирается на идею и чувство, противорѣчащія другъ другу?—Едва ли: ничто такъ легко не уживается вмѣстѣ, какъ пессимистическое основаніе съ религіозною или какой-либо другою вѣрой. Горечь чувствъ, какъ протестъ противъ извѣстнаго порядка вещей, нерѣдко является просто обращеніемъ къ лучшему строю, а такое обращеніе мало возможно безъ вѣры. М-мъ де-Сталь чувствуетъ, что высокія души несчастливы; достаточно ей надѣяться на то, что такое положеніе дѣлъ все измѣняется къ лучшему,. чтобы не только оставаться при своихъ идеяхъ прогресса, но и еще сильнѣе къ нимъ привязаться и ихъ полюбить, считая ихъ утѣшеніемъ за горести настоящаго; чѣмъ печальнѣе будетъ ей представляться настоящее, тѣмъ упорнѣе будетъ она вѣрить въ обѣщанія великаго будущаго. Но для этого нужно, чтобы теорія прогресса была дѣйствительно вѣрой; будь она простымъ мнѣніемъ, ее легко разрушило бы отличное отъ нея, если не противуположное ей, чувство, живущее съ ней рядомъ. Непрерывный прогрессъ человѣчества, вѣчно просвѣщаемаго писателями, поэтами, философами, „мыслящими умами", составляетъ предметъ настоящей вѣры м-мъ де-Сталь, какъ и Кон-дорсе.
Это замѣтно по тону и методѣ ея книги о Литературѣ, представляющей собою просто апологію. Въ ней, какъ въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ такого рода, чувствуется, что заключеніе предшествовало изысканію, чувствуется сильное стремленіе собрать все, что говоритъ въ пользу этого заключенія, и пренебречь осталь
— 81 —
нымъ. Во всемъ произведеніи господствуютъ три идеи: литература служитъ выраженіемъ, а также закваской нравственной дѣятельности общества,—прогрессъ исходитъ отъ литературы и возвращается къ ней изъ глубины національнаго сознанія, такъ что нѣтъ вѣка, который не былъ бы выше предыдущаго,—литература создаетъ свободу и ею живетъ.
Все это очевидно очень оспоримо и до сихъ поръ еще мало доказано фактами. До сихъ поръ не было ясно замѣчено, чтобы великія эпохи литературы являлись также эпохами для политической свободы; самое большее, что здѣсь можно сказать, это—назвать противное утвержденіе ложнымъ. Чрезвычайно трудно прослѣдить съ достовѣрностью прогрессъ литературы въ теченіе ряда вѣковъ. Встрѣчаются частичные успѣхи, остановки и попятныя движенія, сбивающія съ толку нѣсколько робкіе умы. Наконецъ, лучше доказаннымъ представляется утвержденіе, что литература выражаетъ складъ ума націи, а разъ выражаетъ, то несомнѣнно и создаетъ его, какъ бы посредствомъ отраженія. Какъ въ умѣ каждаго изъ насъ выраженіе возникаетъ изъ идеи, но въ свою очередь даетъ идеѣ сознаніе самой себя, даетъ ей жизнь и возможность творчества вмѣсто прежней неясности и безплодія,—такъ, если литература дѣйствительно служитъ выраженіемъ души народа, то можно сказать, что она и есть сама эта душа и всеоживляю-щее начало жизни.
Такъ ли это на самомъ дѣлѣ, въ сущности не извѣстно. Ясно ли видно, что реформація вытекла изъ возрожденія, а французская революція изъ XVIII вѣка? Что касается этого послѣдняго факта, тоотношеніе причины къ слѣдствію считается несомнѣннымъ, потому то м-мъ де-Сталь такъ увѣрена въ своей теоріи. Но возникаетъ сильное сомнѣніе при мысли о постоянномъ разладѣ между высшею литературой страны и литературою вдохновляющей народъ. Развѣ не правда, что во всѣхъ областяхъ мысли, при обращеніи къ народу, талантъ великаго философа или поэта, замѣчательнаго романиста, просвѣщеннаго политика, оказывается не помощью, а помѣхой? Говорятъ, и это важный доводъ, что чистая мысль вырабатывается въ сущности нѣсколькими избранными умами и затѣмъ, въ болѣе упрощенной и грубой формѣ, доходитъ черезъ посредствующіе умы до народа въ собственномъ смыслѣ, превращающаго ее въ свою нравственную сущность. Но при переходѣ отъ одного къ другому эта мысль подвергается переработкѣ; не приходитъ ли она поэтому къ своему предѣлу до того измѣненной, что оказывается какъ бы полной противоположностью тому, чѣмъ она была раньше? Я допускаю, что революція была осуществленіемъ мысли Вольтера, и дѣйствительно это не невозможно; но при переходѣ его идея терпимости , претерпѣла полное измѣненіе и перешла въ самую полную и страстную нетерпимость. Я допускаю, что революція осуществила мысль Руссо, и, замѣтьте, я почти
— 82 —
готовъ этому вѣрить. Но, не смотря на свое происхожденіе отъ Савойскаго викарія, Робеспьеръ такъ непохожъ на свой вѣроятный первообразъ, что Руссо за него не можетъ отвѣчать.—Наконецъ, если слѣдствіе заключаетъ въ себѣ столько элементовъ, чуждыхъ причинѣ, созданы ли они этою причиною?-Это не извѣстно. Въ этомъ то и заключается неудобство подобныхъ общихъ теорій. Чувствуется, что въ нихъ есть правда, а между тѣмъ худшій видъ лжи это— тотъ, въ которомъ заключается доля истины. Абсолютная ложь не такъ опасна’: „указывая очевидно на заблужденіе, она въ то же время опредѣляетъ истину". Пошли намъ Богъ абсолютную неправду!
М-мъ де-Сталь, какъ и многихъ другихъ, вводитъ въ заблужденіе то, что она, какъ эти другіе, принимаетъ во вниманіе лишь ограниченную часть человѣчества или даже націи. Слово „общество" она сначала беретъ въ его узкомъ смыслѣ и потомъ незамѣтно по мѣрѣ изложенія сильно его распространяетъ. Утвержденіе, что Вольтеръ служилъ выразителемъ общества литераторовъ, вдохновляемаго имъ или вдохновляющаго его самого,—настолько справедливо, что объ этомъ нечего и говорить; для того, кто видитъ въ этомъ обществѣ цѣлый народъ и называетъ его, какъ Сенъ-Симонъ Версаль: „Вся Франція",—Вольтеръ понятно будетъ цѣлой Франціей. Но отсюда еще далеко до историческаго закона, все равно какъ, по моему, Сенека далеко не представляетъ собою римскаго міра І-го вѣка.
Значитъ, общія идеи „Литературы" если не вызывали ошибокъ, то во всякомъ случаѣ были истинами сомнительными. Онѣ привели м-мъ де-Сталь къ нѣсколькимъ справедливымъ и нѣсколькимъ страннымъ сужденіямъ. Еслибы ихъ цѣликомъ всегда имѣть въ виду и не забывать во время стѣснительныхъ, онѣ могли бы привести къ противоположнымъ заключеніямъ объ одномъ и томъ же. Напримѣръ, вѣкъ Перикла, какъ предшествующій, долженъ быть ниже вѣка Августова и въ то же время, какъ эпоха свободы, долженъ стоять безконечно выше его. Это создаетъ затрудненіе, или слишкомъ облегчаетъ дѣло, оставляя выборъ свободнымъ, Я высказываюсь здѣсь въ пользу вѣка свободы, хотя, можетъ быть, и не изъ либерализма.—Эти рѣзкія начала неудобны еще и въ томъ отношеніи, что вызываютъ недовѣріе: всегда можно опасаться, что сужденіе обусловлено лишь желаніемъ подтвердить теорію. Мы скорѣе повѣрили бы, что м-мъ де-Сталь ставитъ Монтескье выше Аристотеля, если бы знали, что у нея нѣтъ никакихъ другихъ основаній къ такому предпочтенію, кромѣ ея личнаго мнѣнія.
Надо ли говорить, что м-мъ де-Сталь обладала слишкомъ живымъ и свободнымъ умомъ, чтобы не чувствовать самой, что ея система не объясняетъ всего и что ее не слѣдуетъ принимать во всей строгости? Она не бросаетъ, но мало-по-малу ограничиваетъ ее, измѣняетъ ея формулировку и наконецъ даетъ понять, что
— 83 —
этотъ законъ прогресса въ точности приложимъ только къ философской литературѣ. Это опять заставляетъ ее признать римлянъ, несомнѣнно стоящихъ поперекъ дороги, лучшими философами, чѣмъ греки; но все же, исправленная такимъ образомъ, теорія становится болѣе вѣроятной: если трудно долго доказывать превосходство современныхъ писателей—художниковъ надъ древними, то легче утверждать, что „мыслящіе умы" становятся болѣе многочисленными и пожалуй великими по мѣрѣ движенія впередъ исторіи человѣчества.—А средніе то вѣка?—Вотъ такъ то именно стремленіе къ системѣ, иногда вводя въ заблужденіе, временами наводитъ и на путь открытія. Вообще создавать систему надо съ твердымъ намѣреніемъ воспользоваться всѣмъ тѣмъ хорошимъ, на что она натолкнетъ насъ, и затѣмъ, какъ только ея выводы покажутся нашему внутреннему чувству подозрительными, бросать ее. Принципы требовали, чтобы въ теченіе среднихъ вѣковъ человѣческая мысль не дремала; м-мъ де-Сталь утверждаетъ это принципіально, не пытаясь подтвердить это фактами. Тѣмъ не менѣе она несомнѣнно права, и ея утвержденіе подтверждается всѣми данными современной науки. Дѣйствительно, въ эти темные вѣка искусство было въ упадкѣ, но мысль шла впередъ, и чѣмъ дальше будутъ итти изслѣдованія, тѣмъ яснѣе конечно будетъ становиться, что въ литературѣ главный вкладъ среднихъ вѣковъ составляетъ ихъ философія. Система м-мъ де-Сталь иногда попадала на правду.
Но что думаетъ она о великомъ нравственномъ переворотѣ, отдѣляющемъ древній міръ отъ новаго и придающемъ имъ такой различный характеръ? Мнѣ кажется, она еще не такъ глубоко, какъ впослѣдствіи, понимаетъ нравственный переворотъ, совершенный христіанствомъ. Ея индивидуалистическія идеи отлично подготовляли ее къ пониманію этого, но я не вижу, чтобы гдѣ либо она говорила о почти полномъ созданіи христіанствомъ достоинства личности, индивидуальной свободы, „права человѣка," о превращеніи имъ въ теорію того, что до него было лишь чувствомъ и чувствомъ аристократическимъ. Христіанство впервые отдѣлило церковь отъ государства; а стоило чему-либо отдѣлиться отъ государства, какъ появилась личность. М-мъ де - Сталь не дошла еще до яснаго пониманія этого вопроса.—Но она глубоко чувствуетъ серьезный характеръ христіанства, его великую скорбь,—доказательство если не истинности, то по крайней мѣрѣ глубины его; всѣ чувства, всѣ глубокія идеи, внушаемыя имъ человѣку, проникнуты печалью. М-мъ де-Сталь ясно видитъ и источникъ этой безконечной скорби: христіанство впервые оставило человѣка одинокимъ, безъ поддержки и утѣшительнаго обольщенія, лицомъ къ лицу съ идеей смерти. „Христіанская религія, самая философская изъ всѣхъ, предоставляетъ человѣка самому себѣ... свободная отъ жреческихъ выдумокъ и близкая къ чистому деизму, она устранила рядъ воображаемыхъ существъ, окружавшихъ человѣка у
— 84 —
дверей могилы. Древніе населили природу покровительственными существами, жившими въ лѣсахъ и рѣкахъ, оживлявшими день и ночь; теперь природа снова стала пустынею, и отъ этого ужасъ человѣка возросъ ".
Если оставить въ сторонѣ теоріи и обратиться къ общему впечатлѣнію, производимому книгою, и къ сужденіямъ чуждымъ духу системы, то насъ поразитъ пристрастіе м-мъ де Сталь къ идейной литературѣ и слабое пониманіе, — приходится это сказать,— всѣхъ чисто художественныхъ элементовъ ея. И въ этомъ (и до сихъ поръ) она—дочь ХѴШ вѣка; для пониманія поэзіи, особенно древней, т. е. по преимуществу художественной, ей очевидно нужно нѣкоторое усиліе. Этимъ, не одной только системой, объясняется предпочтеніе ею римлянъ грекамъ. Ея похвалы Софоклу и Эврипиду звучатъ холодно; въ нихъ есть что-то офиціальное, и онѣ нисколько не мѣшаютъ ей открыто отдавать предпочтеніе французской трагедіи передъ греческой. Она не замѣчаетъ въ Аристофанѣ великаго художника. Греція видимо ей недоступна; творцы прекраснаго представляются ей просто милыми дѣтьми.
Это послѣдній примѣръ неспособности XVIII вѣка понимать высокое искусство. Онъ поддерживаетъ въ умѣ читателя убѣжденіе, что духъ Возрожденія, оживлявшій два вѣка, потерялъ свою силу, гаснетъ и исчезаетъ въ эпоху съ 1715 по 1820 годъ, вызывая лишь холодное восхищеніе или еще болѣе холодное подражаніе. Андре Шенье вовсе не предвѣстникъ, а запоздалое или, вѣрнѣе, одиноко стоящее явленіе. Чувствуется приближеніе новаго, еще не дувшаго вѣянія.—Хотите доказательства этого? Лучшая глава „Литературы" посвящена Шекспиру. М-мъ де-Сталь отлично поняла сѣвернаго генія. Безпредѣльная жалость, которую Шекспиръ возбуждаетъ въ глубинѣ нашей души, „эта жалость безъ малѣйшей примѣсив осхищенія страдальцемъ",—жалость вызываемая просто несчастнымъ человѣкомъ, потому что онъ несчастенъ и потому что онъ человѣкъ,—а также постоянное присутствіе смерти, чувство близости ея и грозной опасности, проявляющееся дѣйствительно во всѣхъ трагедіяхъ Шекспира въ видѣ физическаго ощущенія холода,—все это она глубоко прочувствовала, и въ нѣсколькихъ сильныхъ страницахъ она, какъ бы со страхомъ, выразила свое преклоненіе предъ царемъ ужасовъ.
Вдумываясь въ книгу о „Литературѣ", постепенно приходишь къ мысли, что къ 1800 году у М-мъ де Сталь осталась лишь привычка къ классическому искусству; она въ него не вникаетъ, смутно мечтаетъ о новомъ искусствѣ, котораго еще не видитъ, а между тѣмъ предпочитаетъ художникамъ философовъ. Такъ она ставитъ ХѴШ вѣкъ выше XVII и полагаетъ, что „литература „вымысла" не сдѣлаетъ болѣе успѣховъ во Франціи". Это конечно идеи ложныя,—мы вернемся еще къ нимъ позднѣе и даже въ бесѣдѣ съ нею,—но онѣ доказываютъ, что не видя еще обнов
— 85 —
ленія, она хорошо видитъ вымираніе стараго. Такъ, она тонко замѣчаетъ, что изящный вкусъ салоновъ ХѴПІ вѣка „начинаетъ терять свою силу", что онъ исчезаетъ, его уже нѣтъ и что это даже до извѣстной степени можетъ быть хорошо.—Очень любопытная, подобно всѣмъ произведеніямъ м-мъ де-Сталь, книга о „Литературѣ" прекрасно характеризуетъ тотъ моментъ, на закатѣ ХѴПІ вѣка, когда люди перестаютъ понимать античное искусство и дорожить своимъ; они хранятъ и лелѣютъ свои философскія идеи, чувствуя ихъ плодотворность, а въ томъ, что касается новаго искусства, они спрашиваютъ, ищутъ, сомнѣваются и ждутъ.
Съ своей стороны М-мъ де-Сталь меньше искала бы, если бы была крупнымъ художникомъ. Но она несомнѣнно не была имъ отъ природы, а воспитаніе, какъ мы уже видѣли, мало могло содѣйствовать развитію въ ней художественныхъ способностей. Свою изобрѣтательность она всегда прилагала къ идеямъ, теоріямъ, системамъ. Фантазія была свойственна ея мысли. Но при всемъ томъ сердце у ней было романическое; она была чувствительна, т. е. въ ней жила потребность любить и страдать;—она стала писать романы. Писала она ихъ постоянно, почти съ самаго дѣтства. Тогда это были незначительныя исторійки, наполовину простодушныя изліянія наивности, наполовину упражненія въ слогѣ умной молодой особы, прочитавшей „Новую Элоизу". Въ зрѣломъ возрастѣ она написала два крупныхъ произведенія: Дельфину и Коринну. Это—продукты воображенія чувствительной женщины, тонкой моралистки, при томъ весьма изобрѣтательной въ проведеніи интриги романа, но обладающей фантазіей только въ области идей. М-мъ де-Сталь обладаетъ талантомъ изобрѣтенія, но не творчества. Несомнѣннымъ доказательствомъ, приложимымъ ко многимъ другимъ, служитъ ея умѣнье рисовать только самое себя. И Дельфина и Коринна — вылитая она; а устраните ихъ, и въ ея романахъ не останется ни одного живого лица. Можно удивляться тому, насколько условны у нея любимые мущины. Трудно быть „кѣмъ то" въ такой степени какъ Леонсъ или Освальдъ. Это два ]еипез-ргетіегз, каждый съ недостаткомъ или скорѣе съ маніей, необходимой въ романѣ для помѣхи счастью или для вызова катастрофы, но прибавленной какъ будто потомъ и не совсѣмъ логически входящей въ составъ ихъ характера; въ прочемъ они условно благородны, туманно изящны и отвлеченно идеальны. Я сказалъ, что удивительно, какъ эти лица мало походятъ на портреты, но это наоборотъ естественно. Вѣдь въ своихъ романахъ м-мъ де-Сталь изображаетъ свои мечты и свои страданія; изъ страданій она создаетъ реальное и живое лицо, тождественное съ нею, а мечта превращается въ лицо идеальное, остающееся идеальнымъ, т. е. туманнымъ. Ея романы это — изліянія, полуисповѣди, нѣчто вродѣ лирическихъ романовъ. Мы ищемъ другого, и потому мало ими интересуемся; но современники были ими какъ
— 86 —
бы ошеломлены и очарованы. Они были правы, такъ какъ находили въ нихъ то, чего искали: изображеніе горестей знаменитой женщины и ея грезы о счастьѣ; поэтому они со страстнымъ интересомъ слѣдили за всѣми превратностями вплоть до катастрофы, непремѣнно трагической.
Съ этой точки зрѣнія произведенія м-мъ де-Сталь чрезвычайно привлекательны. Въ нихъ царитъ глубокая, непритворная грусть и, по мѣрѣ развитія дѣйствія, возникаетъ какое то безпокойство, нервная тревога и волненіе въ поискахъ счастья, изображенныя очень правдиво и чрезвычайно драматично. Чувство того, что высота и превосходство нравственное (Дельфина) и умственное (Коринна) оказываются для всѣхъ, и особенно для женщины, только причинами несчастія; сознаніе, что простое и незамѣтное счастье лучше столькихъ талантовъ, вызывающихъ больше удивленія, чѣмъ любви къ вамъ; негодованіе на несправедливость такой участи, эти путешествія, лихорадочные переѣзды, погоня за убѣгающимъ счастіемъ Коринны въ Англіи, Дельфины въ Германіи; внезапные отъѣзды, остановки, возвращенія, изображеніе волненій пылкаго и неспокойнаго сердца,—все это очень живо и прочувствовано, представляется признаніемъ, почти исповѣдью, въ которой слышно біеніе сердца. Это—Руссо, прочувствованный тоньше, чѣмъ имъ самимъ,—Руссо, менѣе- гордый, но такой же страстный и безпокойный, умиляющійся самимъ собою, но болѣе нѣжный, полный широкой и открытой: жалости, простирающейся на все, что страдаетъ.
Прибавьте къ этому эпизодическія лица, интересныя совсѣмъ въ другомъ отношеніи, не живыя, но вѣрныя. Въ лицѣ м-мъ де-Сталь соединено много личностей: рядомъ съ романической и страстной женщиной въ ней уживается проницательная, если не очень глубокая, то наблюдательная моралистка, ученица „Персидскихъ писемъ", а также „Новой Элоизы", сумѣвшая живо схватить нѣкоторые характеры современнаго общества и вставить ихъ въ свои романы. Дипломатъ, обезличенный своей должностью, спокойная и терпѣливая интриганка, главнымъ орудіемъ для которой служитъ ея мнимая безпечность, узколобая ханжа, замѣнившая всякое сердечное влеченіе ч^мъ то вродѣ нравственнаго кодекса и вызывающая ненависть къ долгу.—всѣ эти личности очерчены очень ясно, но не одушевлены и не дышутъ. Онѣ слишкомъ придуманы, а этого для драмы не достаточно. Это то же что характеры Лабрюйера. Итакъ,—живое существо—авторъ, условное-любимый человѣкъ, далѣе существа правдивыя, но безжизненныя, слѣдовательно, скорѣе правильныя, чѣмъ правдивыя,—вотъ персоналъ этихъ романовъ, гдѣ единственнымъ интереснымъ, но зато чрезвычайно интереснымъ лицомъ является самъ авторъ.
Построеніе отличается скорѣе искусствомъ, чѣмъ силою. М-мъ де-Сталь совсѣмъ не умѣетъ извлекать изъ характеровъ своихъ героевъ, изъ столкновенія ихъ страстей перипетіи ихъ приключеній;
— 87 —
зато она прекрасно умѣетъ комбинировать правдоподобныя происшествія, приводить ихъ кстати въ связь, чтобы завязывать, развязывать и вновь завязывать тонкія нити легкой, но достаточно прочной основы. Въ ея ловкихъ рукахъ мотокъ легко и быстро запутывается и распутывается, и съ удовольствіемъ и безъ усталости слѣдишь за этой изящной, немного мелкой женской работой.
Всѣ эти замѣчанія сводятся къ тому, что въ ея произведеніяхъ незамѣтно могучей нравственной жизни (за исключеніемъ жизни автора), но зато въ нихъ оказываются всѣ другія достоинства выдающагося романиста. Мы только что высказали мнѣніе, что разбирая и оцѣнивая литературы греческую, латинскую и французскую, м-мъ де-Сталь обнаружила неполное пониманіе высокаго искусства; теперь мы начинаемъ подозрѣвать, что это пожалуй объясняется отсутствіемъ въ ней основной способности крупнаго художника.
III. М-мъ де-Сталь послѣ „Германіи**.—Ея философія.
И вотъ повидимому положеніе мѣняется. М-мъ де-Сталь находитъ отсутствовавшее у ней художественное чувство. Она пріобрѣтаетъ и обнаруживаетъ оригинальность мысли въ литературѣ, философіи и политикѣ. Уже независимая, но все еще ученица французскаго ХѴШ вѣка если не исчезаетъ, то, по крайней мѣрѣ, отступаетъ на задній планъ; является новая м-мъ де-Сталь. Это отнюдь не значитъ, что положеніе дѣйствительно измѣнилось; произошелъ не поворотъ, а обновленіе и обогащеніе этой сильной натуры, благодаря освобожденію и развитію нѣкоторыхъ дотолѣ дремавшихъ въ ней силъ. Умъ м-мъ де-Сталь обновили двѣ великія силы: Имперія и Германія,—страданія, перенесенныя ею отъ первой, и открытіе второй. Болѣе вѣрнымъ и яснымъ пониманіемъ своего характера она обязана Наполеону I. Ничто такъ не помогаетъ намъ въ самоопредѣленіи какъ наши антипатіи. Мы стремимся потонуть въ тЬмъ, что любимъ, и наоборотъ сознаемъ себя въ томъ, чего не можемъ терпѣть. М-мъ де-Сталь такъ пріятно было отличаться отъ Наполеона, что, ненавидя его, она какъ бы укрѣпила и оформила свою личность. Въ этой борьбѣ нашли себѣ точку опоры для болѣе высокаго подъема весь ея характеръ и всѣ общія идеи.
Наполеонъ ненавидѣлъ идеи и теоріи, признавалъ лишь факты и фактическія состоянія, силы и разсчетъ силъ;—она была идеалисткой и стала еще большей. Онъ былъ цезарьянцемъ по рожденію и по складу ума, видѣлъ въ людяхъ только части великой общественной машины, которыя не имѣютъ ни правъ, ни иниціативы, ни даже личности, а представляютъ собою лишь орудіе, подчиненное цѣлому и направляемое цѣлымъ;—она была индивидуалисткой и либералкой и стала ею еще больше, все болѣе и болѣе убѣж
— 88 —
даясь въ священномъ и неприкосновенномъ характерѣ человѣческой личности и въ томъ, что націю скорѣе усиливаетъ свободная дѣятельность отдѣльныхъ умовъ, чѣмъ вынужденное и искусственное взаимодѣйствіе дисциплинированныхъ силъ. Въ этомъ убѣжденіи она заходитъ такъ далеко, что умаляетъ государство, теряетъ ясное пониманіе или, по крайней мѣрѣ,' чувство идеи родины; наконецъ начинаетъ думать,—а это можетъ завести далеко,—„что никогда нельзя ошибиться, становясь на сторону побѣжденнаго1*. Еще менѣе чѣмъ идеи признавалъ Наполеонъ чувство. М-мъ де-Сталь сравнительно съ прежнимъ, начинаетъ отводить чувству еще больше мѣста въ своихъ идеяхъ и теоріяхъ; она удаляется въ этомъ отъ прежнихъ учителей, ищетъ и находитъ новыхъ, развиваетъ въ себѣ такіе инстинкты, которые и прежде имѣли большую силу, но которымъ она подчинялась только на половину. Наполеонъ не былъ ни философомъ, ни художникомъ. М-мъ де-Сталь съ наслажденіемъ углубится въ созерцаніе и изученіе самыхъ смѣлыхъ, самонадѣянныхъ философовъ, наиболѣе удаляющихся отъ земли, а также станетъ изучать и углубляться въ искусство, всего болѣе пропитанное и чувствомъ и философіей.— Наконецъ, она уже любила Англію, какъ ученица Монтескье, и стала любить ее еще сильнѣе и откровеннѣе въ качествѣ врага Наполеона.—Она многимъ обязана этому человѣку; онъ далъ ей какъ бы новый толчекъ, внушивъ ей страстное стремленіе отдалиться отъ нёго.
Все это конечно результаты отрицательные. Но, опять таки подъ вліяніемъ своей ненависти къ Бонапарту, м-мъ де-Сталь увлекается Германіей. Здѣсь является вліяніе уже прямое и глубокое. Оно захватываетъ м-мъ де-Сталь цѣликомъ, распространяется на ея понятіе объ искусствѣ, о душѣ, о жизни.
Я не буду долго останавливаться на ея книгѣ о Германіи какъ на этюдѣ о нравахъ и характерѣ нѣмецкаго народа. Французу въ наше время вообще неловко говорить объ этомъ; онъ не можетъ вполнѣ свободно ни одобрять м-мъ де-Сталь, ни противорѣчить ей. Если бы критикъ не имѣлъ чести родиться нѣмцемъ, ни несчастья быть французомъ, онъ пожалуй не придалъ бы особаго значенія этой части произведенія и, можетъ быть, сказалъ бы: „У м-мъ де-Сталь было достаточно времени, чтобы основательно прочитать нѣмецкихъ философовъ и поэтовъ и вникнуть въ нихъ; но ей совсѣмъ некогда было изучать нравы нѣмцевъ, и, какъ романистка, она создала изъ нихъ очаровательную идиллію. Тому было много причинъ: во-первыхъ, она недолго пробыла въ Германіи*, а во-вторыхъ, сама того не замѣчая, она писала свою книгу такъ, какъ Тацитъ писалъ „Нравы германцевъ**, т. е. съ неяснымъ поползновеніемъ на сатиру, или, по крайней мѣрѣ, на критику по отношенію къ Франціи, какой ее сдѣлала имперія.—Какою ее сдѣлала имперія—это можно.даже пожалуй не прибавлять. М-мъ де-Сталь
— 89 —
всю жизнь свою колебалась между любовью и недоброжелательствомъ къ французскому обществу, блестящему, шлифованному, остроумному и насмѣшливому. Въ книгѣ о Литературѣ нерѣдко встрѣчаются нападки на „насмѣшливый умъ" французовъ, изсушающій и истребляющій всякую чувствительность и экспансивность. Сентиментальность и наружное добродушіе нѣмцевъ должны были очаровать человѣка, не имѣвшаго времени докапываться и проникать вглубь. Въ этихъ вещахъ легко ошибиться: иные люди выставляютъ свою доброту наружу, другіе скрываютъ ее внутри. Это — различіе мѣстное, такъ сказать, въ „способѣ сберѳженія“; но человѣка, быстро составляющаго свои сужденія, это можетъ ввести въ обманъ. По выходѣ изъ парижскихъ салоновъ и въ моментъ сильнаго недовольства Франціей, Германія была для м-мъ де-Сталь чрезвычайно привлекательнымъ городкомъ Лабрюйера. Неизвѣстно, не захотѣлось ли бы ей уйти изъ него, если бы она пробыла въ немъ подольше".—Я почтя того же мнѣнія, что и предполагаемый англійскій или американскій критикъ. Замѣчу еще, что м-мъ де-Сталь была не совсѣмъ ослѣплена всѣми указанными условіями. Ее иногда очень непріятно поражала нѣмецкая афек-тація, — рисовка чувствомъ, въ противоположность французамъ, которые любятъ скорѣе рисоваться его отсутствіемъ: „они безъ конца восторгаются" и „кокетничаютъ энтузіазмомъ, какъ мы кокетничаемъ остроуміемъ и насмѣшкою". Надо думать, что всюду человѣку трудно быть простымъ,—Но этотъ общій взглядъ на нѣмцевъ вообще занимаетъ въ книгѣ гораздо меньше мѣста, чѣмъ въ мысляхъ читающихъ ее французовъ и нѣмцевъ. Главнымъ образомъ плѣнили м-мъ де-Сталь великіе умы Германіи, нѣмецкія книги, философія и искусство открытыя ею тамъ. Она нерѣдко ошибалась въ частностяхъ, но съ перваго взгляда схватила и рѣзко намѣтила основныя черты. Вступая въ Германію, она руководилась горячимъ желаніемъ вырваться изъ міра грубой силы, холоднаго разсчета и поверхностной насмѣшливости. Какъ всегда, она посылала свои чувства на поиски идей; уловъ на этотъ разъ оказался богатымъ, и она нашла себѣ отвѣтъ.
Нѣмецкая философія не имѣла ничего общаго съ точной и ясной, йо сухой и ограниченной французской философіей того времени; она отличалась смѣлостью и отвагою, стремилась объяснить міровую загадку или, по крайней мѣрѣ, охватить весь міръ въ своихъ системахъ и построеніяхъ; она была проникнута глубокимъ идеализмомъ, всегда стремилась, по какой бы дорогѣ ни шла, разсматривать факты и вещи сквозь идею, поглощать и растворять вещи и факты въ чистой мысли; она была цѣликомъ приподнята воображеніемъ и согрѣта чувствомъ, всегда вносила въ разумъ много фантазіи, очень любила отъ холоднаго ума обращаться къ пылкому чувству; она была постоянно проникнута сознаніемъ человѣческаго достоинства и величія человѣческаго ума, чувствомъ
— 90 —
превосходства чистой и сильной человѣческой мысли надъ всѣмъ тѣмъ, что ее угнетаетъ, стѣсняетъ или противорѣчитъ ей; короче, это была философія тонкихъ метафизиковъ, романическихъ мудрецовъ и великодушныхъ мечтателей. Вотъ что она встрѣтила, что привлекло, восхитило и очаровало ее.
Это были ея собственныя мысли, продуманныя болѣе сильными умами: та же вѣра- въ величіе человѣка, та же смѣлая фантазія въ обращеніи съ идеями, то же стремленіе приподнять точку зрѣнія и расширить горизонты, та же потребность сильной вѣры и великодушныхъ убѣжденій; философы какъ бы давали ей позволеніе переводить свои чувства въ идеи. Съ другой стороны, она находила и здѣсь, хотя въ особой формѣ, свой ХѴПІ вѣкъ: та же смѣлость, какъ будто при началѣ міра, все подчиняющая сомнѣнію, та же склонность къ общимъ системамъ и универсальнымъ теоріямъ, та же усиленная работа сызнова на гладкой доскѣ для объясненія міра, тѣ же поиски новыхъ основъ морали, чувства, чистой идеи, съ цѣлью установить на нихъ цѣликомъ человѣчество. Но тутъ было еще иное: была соблазнительная дерзость, „тонкая, привлекательная и смѣлая**, тѣхъ обновленій, которыя люди обыкновенно принимаютъ за возрожденіе и даже за рожденіе, — былъ если не духъ, то порывы, увлеченіе наивной гордостью философовъ ХѴПІ вѣка,—былъ ХѴІП вѣкъ, но нѣмецкій, болѣе серьезный, болѣе вдумчивый и созерцательный, болѣе сентиментальный и мечтательный и болѣе нравственный; всѣмъ ,двоимъ содержаніемъ онъ больше подходилъ къ натурѣ м-мъ де.-Сталь, составлялъ предметъ ея смутныхъ мечтаній.
Поэтому она и бросилась на него со всѣмъ пыломъ. Вполнѣ свободно, не подчиняясь никакой системѣ, а выбирая изъ каждой то, что соотвѣтствовало ея уму и сердцу, и при нуждѣ исправляя Канта Якоби, она составила себѣ кругъ идей. Въ основаніи его лежитъ понятіе долга; она допускаетъ свободу воли, спиритуализмъ души, добродѣтель, какъ особую силу человѣка, и безсмертіе души, какъ логическій выводъ изъ всего этого.—Она твердо стоитъ на этомъ послѣднемъ пунктѣ, не хочетъ и вѣрить, чтобы вѣра въ будущія награды была возвращеніемъ къ своекорыстной морали, а думаетъ, что небесное безсмертіе не имѣетъ никакого отношенія къ земнымъ горестямъ и наградамъ, и разсчетъ на небесную награду есть не что иное, какъ пожертвованіе дѣйствительнымъ счастьемъ ради счастья воображаемаго, т. е. удовольствіемъ въ пользу идеи; такимъ образомъ „началомъ религіознаго, блаженства является жертва собою **, и оно оказывается проявленіемъ полнѣйшаго безкорыстія.
Она постоянно возвращается къ этимъ основнымъ идеямъ и изъ-за нихъ цѣнитъ всѣ нѣмецкія системы, находя удовольствіе въ томъ, что ихъ сближаетъ, и мало заботясь о томъ, что ихъ разъединяетъ. Свой философскій взглядъ она выражаетъ въ такой
— 91 —
прекрасной общей формулѣ: „Одинъ вѣритъ, что Божество открывается каждому человѣку особо, какъ открылось человѣческому сердцу, приготовившемуся къ пониманію его молитвой и дѣлами; другой утверждаетъ, что для человѣка, чувствующаго въ себѣ влеченіе къ вѣчному, безсмертіе начинается уже здѣсь на землѣ; третій вѣритъ, что природа возвѣщаетъ человѣку волю Божію, и что вселенная громкимъ и жалобнымъ голосомъ призываетъ его къ освобожденію міра и человѣка въ борьбѣ съ началомъ зла. Различіе этихъ системъ зависитъ отъ особенностей воображенія каждаго писателя.... Но общее направленіе этихъ ученій всегда одно и то же; ихъ цѣль—освободить душу отъ вліянія внѣшнихъ силъ, предоставить намъ власть надъ самими собою, назначивъ ей закономъ долгъ и наградой загробную жизнь".
Но въ такомъ случаѣ это приближеніе или возвращеніе къ, христіанству?—Это одновременно и приближеніе, и возвращеніе къ. нему. Въ глубинѣ души м-мъ де-Сталь всегда была христіанкой. Ея затаенною мыслью всегда было христіанство, но христіанство очень независимое и, прибавимъ, очень своеобразное,—христіанство разума, а не вѣры, оторванное и освобожденное отъ догматовъ; на мой взглядъ, это было почти какъ разъ исповѣданіе савойскаго викарія, но во всякомъ случаѣ — своего рода христіанство. Оно уже сказывалось, какъ мы видѣли, въ Литературѣ, въ 1800 году. Тамъ она задавала себѣ далеко, не пустой вопросъ, какая „философская система** объединитъ въ одномъ общемъ мнѣніи побѣдителей и побѣжденныхъ 93 года, подобно тому какъ христіанство объединило міръ латинскій и міръ варварскій. Шатобріанъ вѣроятно прочелъ невнимательно этотъ отрывокъ ея, когда говорилъ, что онъ видитъ Іисуса Христа вездѣ, а м-мъ де-Сталь—нигдѣ. Точно также христіанка и протестантка вдругъ обнаружилась въ „Дельфинѣ" и даже обнаружилась, по моему, нѣсколько нескромно (смерть м-мъ Вернонъ). — Въ „Германіи" идея христіанства привлекаетъ м-мъ де-Сталь все болѣе и болѣе,-привлекаетъ ее свойственное ей непобѣдимое стремленіе „не отдѣлять чувствъ отъ идей". Размышляя надъ категорическимъ императивомъ Канта, она отлично видитъ, что законъ долга, который предписываетъ, потому что повелѣваетъ, и которому надо покоряться потому только, что онъ нами повелѣваетъ, не указывая никакого основанія,—что этотъ законъ—просто послѣдняя теологическая идея, не что иное какъ Богъ пребывающій въ насъ. Но разъ онъ пребываетъ въ насъ, ему трудно говорить голосомъ чистаго, холоднаго, отвлеченнаго и безстрастнаго закона. Онъ скорѣе совсѣмъ будетъ молчать, чѣмъ говорить такимъ образомъ. На практикѣ мы нерѣдко испытываемъ, что онъ говоритъ намъ голосомъ чувства, проникнутымъ негодованіемъ, нѣжностью или гордостью. Обращаться, какъ къ послѣднему средству, къ голосу совѣсти, значитъ всегда взывать къ чувству, несмотря на всѣ предосторожности и на всѣ усилія отдѣлить его отъ мо-
— 92 —
ради. Дѣлать что-нибудь по долгу значитъ всегда дѣлать изъ любви къ Богу. А любовь къ Богу если не все христіанство, то во всякомъ случаѣ его основа.
Такъ именно и думаетъ м-мъ де - Сталь. Идею долга она тѣсно связываетъ съ сопровождающимъ ее чувствомъ: „Тотъ, кто говоритъ человѣку: найди все въ самомъ себѣ, всегда пробуждаетъ въ душѣ нѣчто великое, зависящее отъ того самого чувства, жертвы которымъ онъ требуетъ". Этому то закону долга, превратившемуся въ страсть долга, она и довѣряется, вѣря, что ему слѣдуетъ довѣриться. Такимъ образомъ она приходитъ къ религіозному ученію, рисующему намъ ее такою, какою мы ее уже знаемъ,—но приходитъ какъ бы воспламененная и очищенная высокими и благородными размышленіями нѣмецкихъ философовъ. Она приходитъ къ „религіи энтузіазма". Слѣдуетъ слушаться голоса сердца, вѣрить въ непрестанное откровеніе живущаго въ насъ Бога, узнавать это откровеніе по душевному возбужденію, по полному довѣрію, съ которымъ душа внимаетъ ему и покоряется, и этимъ самымъ возбужденіемъ поддерживать вѣчное общеніе между нами и Богомъ. Йо это постоянное общеніе развѣ не самый духъ христіанства?—Да, безъ всякаго сомнѣнія, отвѣчаетъ м-мъ де-Сталь, и правъ былъ нѣмецкій философъ, сказавшій, что „нѣтъ другой философіи кромѣ христіанской религіи", а это значитъ, что „самыя глубокія и высокія идеи приводятъ къ обнаруженію полной гармоніи между этой религіей и природой человѣка".—Сказано прямо, и однако я не знаю, точно ли м-мъ де - Сталь такая христіанка, какою она себя считаетъ. Присматриваясь ближе, приходишь всегда къ такимъ заключеніямъ: христіанство есть покорность внутреннему голосу; оно допускаетъ и вызываетъ взаимодѣйствіе съ нимъ чувства; оно есть также любовь къ Богу, не допускающая контроля разсудка, слѣпая жертва безъ всякаго разсчета на выгоду. Со всѣмъ этимъ я согласенъ, но прежде всего христіанство состоитъ въ смиреніи.—А эта бесѣда между нами и нашей душой, какъ бы чиста послѣдняя ни была, составляетъ лишь условіе христіанской жизни, но не само христіанство: это не смиреніе. Это по-христіански, но это не христіанское настроеніе. Здѣсь сказывается самолюбіе и гордость. Это скорѣе приближеніе къ мистицизму, чѣмъ къ христіанству въ духѣ Боссюе или Паскаля. Это раствореніе насъ въ Богѣ, составляющее предметъ усилій всякаго мистицизма, всегда приводитъ къ поглощенію, если не къ совершенному исчезновенію Бога въ насъ самихъ. Въ сущности въ такомъ состояніи мы просто обожаемъ самихъ себя за свою чистоту. Христіанство знало, что дѣлало, относя законъ долга къ Богу и ставя Бога внѣ насъ и далеко отъ насъ. Не слѣдуетъ становиться къ Богу слишкомъ близко, чувствуя его въ себѣ.
Я вовсе не ошибаюсь, говоря о мистицизмѣ: одно время м-мъ де-Сталь подчинилась было его вліянію. Склонность ея къ такому
— 93 —
настроенію предшествуетъ послѣднимъ годамъ ея жизни и сильно-чувствуется уже и въ „Германіи". Здѣсь очень интересна глава о мистичности. Тутъ опять сталкиваешься съ вѣчной у м-мъ де-Сталь потребностью вносить въ религію любовь", переносить религіозную, какъ и всякую другую, идею въ область чувства. Здѣсь замѣтно также усиленное стараніе не допустить ослабленія человѣческой дѣятельность тѣмъ душевнымъ настроеніемъ, которому не безъ основанія приписываютъ притупленіе и усыпленіе воли. По ея утвержденію мистицизмъ вызываетъ равнодушіе только къ тому, чего не стоитъ желать, а затѣмъ вызываетъ въ душѣ еще большую дѣятельность для осуществленія свободы и справедливости. Здѣсь снова появляются примиренными, насколько это для нихъ возможно, оба основныя стремленія м-мъ де-Сталь,—потребность внутренней глубокой нѣжности и дѣятельная, горячая преданность великимъ интересамъ человѣчества.
Въ сущности она хотѣла бы все согласить и все обнять; въ сотнѣ мѣстъ она старается доказать, что эти высокія религіозныя и спиритуалистическія идеи являются самыми лучшими союзниками, и какъ бы закваской всего великаго и прекраснаго въ человѣкѣ: поэзіи, искусства, литературы. На этотъ разъ она рѣшительно, порвала съ французскимъ ХѴШ вѣкомъ. Многія страницы „Германіи" кажутся вырванными изъ „Духа христіанства", и замѣтьте, онѣ звучатъ и не такъ воинственно, и болѣе убѣдительно. М-мъ де-Сталь не врагъ XVIII вѣка, какъ Шатобріанъ, который, изъ желанія поддѣть его, нѣсколько неразборчиво и нескромно прославляетъ все, что тотъ презиралъ,—прославляетъ въ произведеніи, гдѣ есть и неподдѣльная страсть, и софизмы, и величіе, и придирчивость; это—великое произведеніе, зародившееся въ узкомъ умѣ. М-мъ де Сталь — дочь XVIII вѣка; имъ вскормленная, она поняла все его великодушіе и безсиліе; она почерпнула въ немъ пылкое стремленіе къ благу человѣчества и кинулась на высочайшія вершины души; тамъ она нашла въ еще неясномъ свѣтѣ вѣру, божественную любовь, совѣсть, сліяніе съ Богомъ, признала ихъ великими силами и не захотѣла отказаться отъ этой завидной доли наслѣдія человѣчества.
Въ этомъ смыслѣ она отвергаетъ или по крайней мѣрѣ сдерживаетъ философію холоднаго разсчета и чисто-утилитарныхъ разсужденій. Она восклицаетъ: „Цѣль трудовъ философовъ составляло усовершенствованіе управленія и увеличеніе народонаселенія при помощи разумной политической экономіи; ...достоинство рода человѣческаго важнѣе его счастья, а тѣмъ болѣе его размноженія; увеличивать число рожденій, не облагораживая условій жизни, значитъ только готовить смерти роскошнѣйшій праздникъ."—И еще: „Французы! если когда-либо энтузіазмъ угаснетъ среди васъ, если всѣмъ завладѣетъ разсчетъ и одинъ разсудокъ будетъ внушать даже презрѣніе къ опасностямъ... дѣятельный умъ и заученая горячность
— 94 —
могутъ еще сдѣлать васъ властителями міра; но вы оставите въ немъ только слѣдъ песчаныхъ потоковъ, страшныхъ какъ морскія волны, сухихъ какъ пустыня!"
IV. Взгляды м-мъ дѳ-Сталь на искусство.
Въ одно время съ новой философіей Германія раскрыла передъ м-мъ де-Сталь и новое искусство. Она понимала, классическое искусство, такъ какъ не было вещи, которой бы она не понимала, но не особенно живо чувствовала его. Слѣдовательно, ничто не мѣшало ей понять искусство совершенно иное и привязаться къ нему со всѣмъ пыломъ, а именно нѣмецкое искусство какъ нельзя болѣе подходило къ складу ея чувства и воображенія. Это искусство дѣйствительно не заключало въ себѣ ничего классическаго, ни псевдоклассическаго; эта литература вовсе не была подражательной, и даже всѣми своими недостатками она была обязана самой себѣ; она плѣняла по крайней мѣрѣ неоспоримой наивностью. Вотъ что открылось ей съ перваго взгляда.—Но главною прелестью м-мъ де-Сталь были всегда ея чистосердечіе и самобытность; никто, если не считать Дельфину, составляющую впрочемъ съ нею почти одно лицо, не покорялся такъ, какъ она, порыву и первому движенію, не отличался такой полною искренностью. И вотъ передъ ней были поэты и романисты, не желавшіе знать и дѣйствительно не знавшіе никакихъ „правилъ" и „образцовъ", не подражавшіе, не предписывавшіе законовъ и даже не очень за собой наблюдавшіе. У ней возникла къ нимъ симпатія, такъ какъ между ними оказалось сродство.
Она мало вникала въ античное искусство и потому оставалась нѣсколько равнодушной къ классическому французскому искусству, вышедшему изъ Возрожденія, достигшему полной зрѣлости въ XVII вѣкѣ и сохранившемуся въ формѣ подражанія въ теченіе ХПП вѣка. Она встрѣтила литературу, не переживавшую Возрожденія, — оригинальная черта, ставившая ее особо отъ всѣхъ литературъ Европы. Послѣ періода французскаго вліянія,—вліянія слабаго, такъ какъ оно было чѣмъ-то вродѣ отраженія,—эта литература, собственно говоря, только еще возникала, отъ времени до времени стремилась примкнуть къ среднимъ вѣкамъ, а въ сущности дѣлала попытки найти себѣ формы и понять себя и вдохновлялась сама собою.— Въ общемъ, въ области чистаго искусства м-мъ де-Сталь дѣйствовала точно также, хотя и менѣе успѣшно. — Но все это черты только отрицательныя. Всего важнѣе было то, что она оказалась лицомъ къ лицу съ литературой, за нѣкоторыми исключеніями, съ которыми мы потомъ познакомимся, чрезвычайно субъективной. Чувство, воображеніе, мечта,—все, на что такъ скупа была французская классическая литература, особенно въ эпоху своего упадка,— все, чему научилъ м-мъ де-Сталь Руссо, котораго она не забыла,—
— 95 —
все это она находила тутъ на каждой страницѣ въ избыткѣ, и этотъ избытокъ не могъ быть ей непріятенъ.
Злые шутники говорятъ: „Сущность французскаго искусства состоитъ въ трезвомъ взглядѣ на вещи и въ доставляемомъ этимъ удовлетвореніи; сущность нѣмецкаго искусства—въ неопредѣленномъ взглядѣ и въ вызываемой этимъ вѣчной меланхоліи, смѣшанной съ извѣстной долей гордости/ Это насмѣшливое замѣчаніе не лишено справедливости. Мы воспитаны, около 1550 года, людьми, выражавшими простыя чувства въ удивительно совершенной формѣ, и стремились сначала подражать прежде всего формѣ этихъ древнихъ образцовъ; въ эту уважаемую форму мы стали потомъ вливать чувства болѣе сложныя, но все еще простыя и притомъ упрощенныя подъ вліяніемъ нашей склонности къ анализу; мы мечтаемъ такъ же, какъ и другіе, но изъ нашихъ мечтаній мы любимъ давать публикѣ лишь выводъ, обдуманную формулу, конечную идею,— а эта идея, какъ идея, отнимаетъ у грезы ея характеръ, измѣняетъ ее при переводѣ, нѣсколько подсмѣивается надъ нею, выражая ее. Мы создали литературу отчетливыхъ общихъ идей, сильныхъ и ясныхъ чувствъ, мы дали глубокое и, что бы ни говорили, нимало не отвлеченное изображеніе человѣка, но изображеніе достаточно обезличенное, чтобы съ перваго взгляда быть понятнымъ всей Европѣ. Однимъ словомъ, мы были менѣе классиками, чѣмъ древніе, и по другому, но все же классиками, т. е. всемірными писателями.
Первой причиной тому, послѣ нашего воспитанія, была наша склонность къ анализу. Другая причина, отлично подмѣченная м-мъ де-Сталь, заключается въ томъ, что мы вообще не отшельники. Мы пишемъ не для себя, но для публики. „Во Франціи публика повелѣваетъ авторами". Мы всегда видимъ передъ собою читателя и больше стараемся понравиться ему, чѣмъ самимъ себѣ. Мы, можно сказать, скорѣе разговариваемъ, чѣмъ пишемъ. Это заставляетъ насъ соблюдать ясность, порядокъ, послѣдовательность, мѣру, а при нуждѣ проявлять ораторскіе таланты; но это же лишаетъ насъ возможности изливаться, мечтать, обобщать иначе какъ послѣ ряда анализовъ, противорѣчить себѣ, отдаваться созерцанію, не приводящему къ выводу,—а все это не хуже другого служитъ выраженіемъ истины.
Стало-быть, мы не можемъ быть лириками и элегикамя?—Почти что такъ. — Значитъ, мы должны ограничиться ролью драматурговъ и разсказчиковъ? — Да, приблизительно такъ. Исключеніе составляютъ только геніи: они, хотя и примѣняются къ потребностямъ времени, но тѣмъ не менѣе всегда умѣютъ выпутаться. Но общія особенности нашей литературы несомнѣнно заключаются въ этомъ. Бюффонъ ставитъ писателю въ обязанность остерегаться перваго движенія, лучше моего выражая все сказанное мною и отмѣчая одну изъ существенныхъ чертъ нашего искусства. Един
— 96 —
ственная книга, въ которой, на вѣчное восхищаніе намъ, набросаны на бумагу изліянія сердца, грезы, лирическіе порывы, противорѣчія, созерцанія, однимъ словомъ, вся глубь души, это — „Мысли11 Паскаля, но и то потому, что онѣ не были проредактированы.
Нѣмцы времени м-мъ де-Сталь, а также немного предшествовавшаго ему, т. е. періода порыва и періода романтическаго, не были и не хотѣли быть ничѣмъ обязаны античному міру. Они возстали даже противъ своихъ классиковъ, т. е. тѣхъ изъ нихъ, которые хорошо отзывались о древнемъ мірѣ,—Лессинговъ и Вин-кельмановъ. Они обыкновенно отличались большою субъективностью, совсѣмъ не были ораторами или разсказчиками, въ слабой степени драматургами; не придерживаясь строгаго порядка и съ наслажденіемъ слушая себя, они любили слѣдить за медленнымъ, прихотливымъ, неопредѣленнымъ развитіемъ своей нѣжной и сентиментальной мечты. Центръ ихъ искусства составляла элегія и лирика въ новомъ смыслѣ, вообще не имѣющая ничего общаго съ лирикой античной,—то изліяніе личныхъ чувствъ, единственнымъ образцомъ котораго, какъ они отлично понимали, могъ служитъ Шекспиръ.
Кромѣ того, эти нѣмцы были философами, вѣчно примѣшивавшими къ своимъ литературнымъ мечтаніямъ метафизическую теорію. Но это отнюдь не мѣшало имъ быть самобытными и естественными; это было только формой для выраженія того н другого. Философія настолько сродни нѣмцамъ, что сама собой примѣшивается къ душевнымъ движеніямъ поэтовъ. Это одна изъ тѣхъ обычныхъ мыслей, которыя уже переходятъ въ чувство. Философія у нѣмцевъ живетъ столько же въ сердцѣ, сколько въ головѣ. Личныя грезы приводятъ къ размышленію о человѣческой судьбѣ, и это размышленіе поддерживаетъ, обогащаетъ и расширяетъ исповѣдь души поэта. Эти поэты связывали свои созерцанія съ теоріей, слушали, какъ учителя, друга м-мъ де-Сталь, Шлегеля, и мечтали благоговѣйно читая „Атенеумъ".—Они были отшельниками относительно публики, о которой мало думали, не испытывая на себѣ того вліянія общественнаго духа, которое такъ сильно во Франціи. Слишкомъ глубокому уединенію, опасному для здороваго состоянія ихъ ума, мѣшали ихъ общія связи, философскія изысканія, обсужденіе и горячее изслѣдованіе великихъ міровыхъ вопросовъ. Всѣ эти особенности привели м-мъ де-Сталь въ восхищеніе. Здѣсь было все, что она любила: естественность, сердечныя изліянія, чувство, мечты, наивность, идеп, оригинальность, отсутствіе подражанія, а также декламаціи.
Но главное тутъ была новизна, которая такъ нравится всѣмъ, а особенно женщинамъ. М-мъ де-Сталь увидѣла тутъ обновленіе литературы, и она была права. Она уже раньше смутно почувствовала, что французское классическое искусство принесло всѣ
97 —
свои плоды, что французская литература просто прозябаетъ и держится .только чуждыми элементами, сочиненіями по политической философіи. Въ Германіи м-мъ де-Сталь неожиданно нашла новое искусство и пришла въ восторгъ. Это измѣнило ея взгляды даже на французскую литературу. Во-первыхъ, съ этихъ поръ она яснѣе прежняго замѣтила странную пустоту и ребячество, до которыхъ дошла современная ей французская поэзія. Она увидѣла, что эти стихотворцы конца ХѴПІ вѣка словно боятся думать и чувствовать, что ихъ заботы объ остроумномъ исполненіи, ихъ стремленіе преодолѣвать трудности проистекаютъ въ сущности изъ ихъ безсилія, а также изъ какой то странной стыдливости, изъ боязни открыть глубины своей души. Это конечно очень изысканно, а противоположная крайность донельзя груба и безвкусна; но мы знаемъ также, до чего скучна классическая рутина.
Теперь м-мъ де-Сталь исправляетъ многія изъ литературныхъ сужденій своей книги о „Литературѣ". Тогда вмѣстѣ съ Вольтеромъ она думала, что театръ долженъ преслѣдовать морализующія цѣли: „Писатель тогда только заслуживаетъ настоящей славы, когда пользуется вызваннымъ имъ волненіемъ на пользу великихъ нравственныхъ истинъ". Уже въ Кориннѣ она отказывается отъ этой идеи, вызванной ея смутнымъ пониманіемъ античнаго искусства и узкимъ взглядомъ на искусство современное: „Алфіери хотѣлъ достигнуть политической цѣли при помощи литературы... Это была благородная цѣль, но во всякомъ случаѣ ничто такъ не извращаетъ художественнаго произведенія какъ предвзятая цѣль". Наконецъ въ „Германіи" она указываетъ настоящее рѣшеніе вопроса, рѣшеніе столько же древнее, сколько и современное, вытекающее и изъ „Поэтики" Аристотеля, и изъ Корнелевскаго театра: „Цѣль театра волновать душу, облагораживая ее".—Вся ея книга о „Литературѣ" была проникнута идеей превосходства ХѴПІ вѣка надъ ХѴІІ-мъ. Познакомившись съ душами глубоко набожными, понявъ ихъ настроеніе, увидѣвъ источникъ настоящаго лиризма, м-мъ де-Сталь обращается къ Франціи, и у ней вырывается восклицаніе: „Можетъ быть наши лучшіе лирическіе поэты, это—великіе прозаики: Боссюе, Паскаль, Фенелонъ"... — Она повторяла на всѣ лады, что, по крайней мѣрѣ съ точки зрѣнія философской литературы, французы ХѴПІ вѣка ушли далеко впередъ сравнительно со своими предшественниками. Но даже въ этомъ отношеніи она не такъ уже увѣрена въ своей правотѣ и совсѣмъ забываетъ теорію усовершенствованія. Философы ХѴПІ вѣка остаются великими: они „воители"; но философы XVIIвѣка— „отшельники", и въ ихъ произведеніяхъ больше философіи.„ Философія состоитъ главнымъ образомъ въ познаніи нашего духовнаго существа", и „философы ХѴП вѣка по одному тому, что они были людьми религіозными, знали лучше глубь человѣческаго сердца". Но конечно м-мъ де-Сталь не зачѣмъ было очень снѣ-
— 98 —
шить и отказываться отъ всѣхъ рѣшительно убѣжденій своей молодости. Въ глубинѣ души она все же сохраняетъ нѣкоторую нѣжность къ тому времени, къ которому принадлежитъ, и все еще съ благоговѣніемъ произноситъ имена Монтескьё и Руссо, хотя на каждой почти страницѣ „Германіи" можно встрѣтить совѣтъ забыть „Литературу".
Но къ какимъ же практическимъ заключеніямъ приходитъ она?—Во-первыхъ, не подражать больше. Она не перестаетъ говорить объ этомъ; эта мысль служитъ какъ бы припѣвомъ въ Кориннѣ и въ „Германіи".—Но изъ чего, спрашивается, будетъ состоять новое?—М-мъ де-Сталь съ этого времени стоитъ настолько далеко отъ „Литературы14, что черезъ десять лѣтъ она сходится во взглядахъ со своимъ старымъ противникомъ Шатобріаномъ. Традиціи Возрожденія—ложный путь. Замѣтили ли вы, что французская литература не есть литература народная?—Причина этому та. что наши литераторы составили искусственно свой особый, непонятный толпѣ, міръ. Въ христіанской странѣ они были учениками языческихъ художниковъ. „Литература древнихъ является у современныхъ народовъ пересаженпнымъ растеніемъ; литература романтическая или рыцарская—наша природная; ее создали наша вѣра и наши учрежденія". Памъ нужна литература романтическая, такъ какъ романтизмъ это - возвратъ къ среднимъ вѣкамъ, т. е. къ источнику, къ колыбели современнаго чувства. — Какъ, послѣ революціи? Благодаря революціи: „Греческіе сюжеты исчерпаны... Двадцать лѣтъ революцій сообщили воображенію потребности иныя, чѣмъ во времена Кребильона". Это уже не „Духъ Христіанства", и однако это говоритъ м-мъ де-Сталь. Въ этихъ новыхъ теоріяхъ она сказывается цѣликомъ. Она никогда не любила сильно античнаго искусства; теперь она опять приноситъ его въ жертву, не тому, чему раньше, но все же приноситъ. Она всегда чувствовала потребность воздѣйствовать на людей; отсюда требованіе популярной литературы для содѣйствія общему благу. Наконецъ, великое событіе—революція, должно было повліять на искусство и литературу, на мысль и воображеніе. Во всемъ этомъ видна та же м-мъ де-Сталь, какою мы ее знаемъ, хотя путемъ обхода она и пришла къ неожиданнымъ заключеніямъ.
Эти заключенія намъ и остается разсмотрѣть. М-мъ де-Сталь ошибалась, по крайней мѣрѣ отчасти, объясняя непопулярность французской литературы ея нехристіанскимъ и ненаціональнымъ характеромъ. Нѣтъ ни одной народной литературы. Исключеніе, да и то только отчасти, составляетъ литература драматическая, и все же Шекспиръ пользуется у англійскаго народа гораздо меньшимъ успѣхомъ, чѣмъ любой переводъ самой плохой изъ нашихъ драмъ. И у насъ Корнель со своими римлянами волнуетъ толпу ни больше, ни меньше, чѣмъ ПТокспиръ въ Англіи со своими англичанами. Если бы теорія была вѣрна,—Христіанскіе писатели XVII вѣка должны бы были быть
— 99 —
народными. Изъ чего можно заключить, что Боссюе и Паскаль были популярнѣе Расина?—Надо примириться съ очевидностью: литература и искусство популярны только тогда, когда посредственны, если народъ—толпа, а не цвѣтъ избранныхъ, какъ это было въ Аѳинахъ. Это было бы лишнее основаніе, не заботясь больше объ одобреніи народномъ, вернуться къ средневѣковымъ традиціямъ, разъ онѣ истинны и плодотворны. Но м-мъ де-Сталь, подобно Шатобріану, забываетъ, что средніе вѣка съ литературной точки зрѣнія совсѣмъ не такъ проникнуты духомъ христіанства, какъ имъ это кажется. Гораздо болѣе проникнутъ имъ XVII вѣкъ, такъ часто обвиняемый въ язычествѣ. Ни трубадуры съ ихъ пѣснями о любви и войнѣ, ни труверы съ ихъ Карломъ Великимъ, съ ихъ феями и волшебниками, или, замѣтьте это, съ ихъ смутными воспоминаніями объ языческой древности,—не выказываютъ сильнаго христіанства въ своихъ стихахъ. Они не воспѣваютъ Христа; Шатобріанъ воспѣвалъ его больше ихъ. Религіозное вдохновеніе, и то вмѣстѣ со многими другими элементами, проявляется только въ театрѣ, такъ какъ театръ обращается къ толпѣ. Итакъ, безполезно воскрешать традицію, потерявшую смыслъ и даже можетъ быть никогда не существовавшую.
М-мъ де-Сталь добивалась этого по другимъ мотивамъ, чѣмъ Шатобріанъ. Тотъ проповѣдовалъ крестовый походъ изъ ненависти къ ХѴШ вѣку. М-мъ де-Сталь присоединялась къ нему изъ расположенія къ своимъ новымъ друзьямъ. У нѣкоторыхъ нѣмецкихъ литераторовъ существовало стремленіе вернуться къ Среднимъ Вѣкамъ и къ Иибелунгамъ и такимъ образомъ изгладить изъ исторіи своей литературы слѣды французскаго вліянія. Они тоже льстили себя надеждой показать свѣту литературу дѣйствительно національную, единственную національную изъ всѣхъ существовавшихъ. М-мъ де-Сталь приняла стремленіе школы за дѣйствительность, подобно тому какъ Шатобріанъ принялъ тактическій пріемъ за теорію. Разница только въ томъ, что Шатобріанъ какъ художникъ вышелъ за предѣлы указанные ему теоріей; въ свои произведенія онъ ввелъ искусство какъ античное, такъ и современное,—христіанство и язычество, изображеніе цѣлаго міра, какъ и изображеніе самого себя. Онъ указалъ искусству XIX вѣка руководящее начало: предметомъ искусства служитъ все то, что живо прочувствовано.
М-мъ де-Сталь дѣлала болѣе важную ошибку относительно самой сущности или, лучше сказать, относительно общаго смысла проповѣдуемаго ею новаго искусства. Она говорила, какъ мы видѣли выше, что образцомъ или, по крайней мѣрѣ, началомъ новаго искусства должно служить искусство нѣмецкое, носившее вполнѣ субъективный характеръ, создавшееся не ораторами, не разсказчиками, не драматургами, не спорщиками, не людьми стоявшими лицомъ къ лицу съ публикой и ничего ей о себѣ не
— 100 —
говорившими. Оно было болѣе искренно и непосредственно; въ немъ люди изливали свою душу, свободно слѣдовали своимъ мечтамъ, отдавались волненіямъ,—однимъ словомъ, пѣли,а это всегда случай говорить съ самимъ собою. Все это вѣрно, но только отчасти. Такими были нѣкоторые нѣмецкіе поэты, но не всѣ. У самыхъ великихъ изъ нихъ былъ и періодъ личной поэзіи, и періодъ объективнаго искусства. Шиллеръ, геній по преимуществу лирическій, написалъ тѣмъ не менѣе „Боговъ Греціи"; какъ во Франціи Шатобріанъ не оставался всю жизнь Рене, такъ Гёте не вѣчно былъ Вертеромъ; напротивъ, онъ охватилъ своимъ могучимъ искусствомъ и созерцалъ яснымъ взглядомъ в. е, что могло служить матеріаломъ искусству и поэзіи въ мірѣ чувства антич наго и современнаго.
Во что же въ такомъ случаѣ превращалась теорія и всѣ эти особенности новаго искусства, являвшагося изліяніемъ души, это различеніе искусства античнаго — южнаго и новаго — сѣвернаго разъ „Вертеръ", „Фаустъ", и „Ифигенія" вышли изъ подъ одного пера?—Но м-мъ де-Сталь какъ разъ и не любитъ „Ифигеніи". Она отзывается о ней довольно холодно и съ оговорками, говоритъ о „болѣе живомъ и затрогивающемъ интересѣ, возбуждаемомъ новыми сюжетами", — говоритъ точно тѣмъ же тономъ, какимъ отзывалась о греческихъ трагедіяхъ. Въ общемъ, какъ это всегда бываетъ, она преобразовала въ теорію свою симпатію, отбросила всѣ противорѣчившіе ея вкусу элементы и стала нѣмкой больше, чѣмъ сами нѣмцы, пренебрегая тѣми ихъ произведеніями, гдѣ авторы не отвѣчали ея желаніямъ.
Но это не важно. Подобно Шатобріану съ его „Духомъ Христіанства", она своей узковатой теоріей открывала очень широкіе пути. Сказать французамъ: „Не закапывайтесь безвозвратно въ подражаніе древнимъ; вы христіане, а христіанство прекрасно; пойте вашего Бога",—это что-нибудь да значило. Правда они не очень то ея послушались, но за то бросили много дурныхъ привычекъ. Важно было также сказать имъ: „Ваше искусство живетъ слишкомъ внѣ васъ; вы слишкомъ далеко отъ себя ищете для него содержанія. Сосредоточьтесь въ себѣ; вы найдете тутъ истинный источникъ. Прислушайтесь къ вашимъ чувствамъ, пойте вашу душу". Они пожалуй приняли это слишкомъ близко къ сердцу, но вѣдь раньше они ужъ черезчуръ вдавались въ противоположную крайность.
Вотъ въ чемъ по моему мнѣнію заключается настоящее значеніе „Духа Христіанства", также какъ и „Германіи". Литературныя, какъ и всякія другія, революціи отнюдь не подчиняются всецѣло своимъ иниціаторамъ, но для начала имъ необходимы иниціаторы. Необходимо, чтобы въ извѣстный моментъ кто-нибудь сказалъ: „Сдѣлайте такъ", не для того именно, чтобы сдѣлалось по его слову, но чтобы явилось сознаніе необходимости что-нибудь
— 101 —
сдѣлать. Шатобріанъ и м-мъ де-Сталь были полезны не столько своими совѣтами, сколько осужденіемъ стараго. Они больше указывали на необходимость кинуть старую дорогу, чѣмъ помогали найти новую. Они обновляли литературу, освобождая ее отъ стѣсненій, а давать возможность возникнуть значитъ создавать.
Французскій „романтизмъ11 вовсе не былъ тѣмъ „христіанскимъ искусствомъ11, о которомъ мечталъ Шатобріанъ, когда писалъ „Духъ Христіанства11. Доказательствомъ тому служитъ онъ самъ. Художникъ въ немъ если не противорѣчилъ теоріи, то во всякомъ случаѣ очень сильно выходилъ за предѣлы ея. Тѣмъ не менѣе его „Духъ11 является если не хартіей, то, по крайней мѣрѣ, призывомъ къ возстанію всей современной литературы, такъ какъ онъ указалъ и на ничтожность классицизма эпохи упадка, и на тѣ заблужденія, слѣды которыхъ онъ сохранялъ всегда въ эпоху своего торжества, со времени Буало и Ронсара.—Французскій „романтизмъ11 ни въ чемъ не походилъ на нѣмецкій, и для него слѣдовало бы найти другое названіе. Онъ носилъ чисто французскій характеръ и всегда сохранялъ въ себѣ ясность, единство, порядокъ, гармонію частей, изобиліе красокъ и ораторскія привычки,—качества и недостатки, отличающіе наше племя; въ цѣломъ онъ выказывалъ мало склонности къ философіи, носилъ характеръ болѣе ораторскій, чѣмъ философскій, не любилъ ни таинственности ни отвлеченности, проявлялъ мало сентиментальности и отличался больше пылкостью воображенія, чѣмъ наклонностью къ изліяніямъ чувствительности. И тѣмъ не менѣе путь ему указала „Германія". Его приглашали стать субъективнымъ; онъ не сталъ имъ вполнѣ, но принялъ болѣе личный характеръ. Наши поэты осмѣлились наконецъ говорить отъ своего имени, отбросили стѣснительную привычку маскироваться. Несмотря на всѣ усилія, они уже и прежде вносили въ свои произведенія свои чувства; но по внѣшности опи создавали произведенія безличныя и высказывались, напримѣръ, отъ имени героя трагедіи. Теперь они, по крайней мѣрѣ, стали чаще показываться въ своихъ произведеніяхъ. Это обновило литературныя формы безъ особыхъ перемѣнъ въ самомъ основаніи. Ламартинъ открыто выразилъ все, что Расинъ таилъ въ своемъ сердцѣ.
Въ этомъ смыслѣ справедлива и мысль о вліяніи французской революціи на французское искусство. Люди утверждающіе, что современная литература кое-чѣмъ обязана революціи, ошибаются лишь въ приводимыхъ ими доводахъ. Дѣйствительно и непосредственно революція создала лишь парламентскую литературу, которою, строго говоря, можно и пренебречь. Но вполнѣ справедливо, что, разрушая „общество" въ узкомъ смыслѣ слова и „духъ общества", революція измѣнила положеніе писателя. Она поставила литератора въ большую независимость отъ свѣта, позволила ему меньше заботиться о мнѣніи публики или по крайней мѣрѣ огра-
— 102 —
ничейнаго кружка ея; она „уединила" его и затѣмъ дѣйствительно придала ему болѣе личный характеръ. Ночь 4-го августа была очень крупнымъ литературнымъ переворотомъ, и потомство можетъ быть скажетъ, что 89 годъ всего болѣе освободилъ литературу.
Вотъ важныя перемѣны, происшедшія въ положеніи литературы въ началѣ XIX вѣка. Заслуга м-мъ де-Сталь заключается въ томъ, что она подмѣтила ихъ и помогла ихъ завершенію.
V. Политическія воззрѣнія м-мъ де-Сталь.
Какъ въ своихъ философскихъ и литературныхъ, такъ и въ политическихъ идеяхъ м-мъ де-Сталь отличалась большою проницательностью и живостью, свободою отъ всякихъ предразсудковъ, искренностью и великодушіемъ, но недостаточной послѣдовательностью и нѣкоторой неопредѣленностью въ своихъ выводахъ. Свои политическія идеи она собрала въ „Разсужденіяхъ о французской революціи"; книга эта страдаетъ неполнотой, да къ тому же и не окончена, но носитъ чрезвычайно личный характеръ и на каждомъ шагу наводитъ на размышленіе. Въ этомъ произведеніи съ перваго взгляда поражаетъ отсутствіе изслѣдованія причинъ революціи. Исторія революціи, это — подведеніе итоговъ работѣ ХѴПІ вѣка; м-мъ де-Сталь, близко съ нимъ знакомой, слѣдовало бы анализировать созданное имъ во Франціи настроеніе умовъ. Она и не забываетъ этого совершенно; въ ея изложеніи попадаются очень тонкія и вѣрныя замѣчанія о характерѣ современныхъ ей французовъ. Живо подмѣтивъ, она часто самоувѣренно и лукаво выставляетъ на видъ (и не только въ „Революціи" но и въ „Кориннѣ" и въ „Германіи") ихъ легкомысліе, самодовольство, убѣжденіе въ томъ, что все на свѣтѣ просто и легко. Я даже думаю, что она пожалуй слишкомъ сильно останавливается на этомъ. Ова возвращается къ этому какъ будто изъ мести. Какъ легкомысленны эти французы! Она повидимому не можетъ забыть, что въ одинъ прекрасный день г. Неккеръ долженъ былъ уступить министерство г. де-Калонну.
Во всякомъ случаѣ она права, особенно по отношенію къ двумъ французскимъ сословіямъ, притомъ оказавшимъ очень сильное вліяніе на революцію: относительно буржуазіи, ускорившей революцію своей нетерпѣливостью, п дворянства, ускорившаго ее своимъ сопротивленіемъ. Точно также она хорошо видитъ, что революція, въ сущности вызванная другими мотивами, была въ значительной степени возстаніемъ тщеславія. Раздражалъ не столько деспотизмъ, сколько неравенство, не столько неравенство правъ, сколько неравенство отличій, не столько злоупотребленія, сколько привилегіи. Люди не столько желали пріобрѣсти свободу, сколько уничтожить приниженность. Это стремленіе было присуще не одной буржуазіи; его испытывалъ точно также и народъ, у котораго
— 103 —
оно, какъ и всегда, выражалось чрезвычайно рѣзко. „Факелы фурій зажглись въ странѣ, гдѣ царило одно самолюбіе, а раздраженное самолюбіе народа совсѣмъ не походитъ на наши робкія чувства; оно вызываетъ жажду убійства".
Такой взглядъ справедливъ, но едва ли объясняетъ все. М-мъ де-Сталь такъ и не написала книги подъ заглавіемъ „О Франціи", книги столь же продуманной и столь же интересной изслѣдованіями въ области нравственности, какъ и „Германія". Въ ней она дала бы намъ если не объясненіе, то по крайней мѣрѣ подробное изслѣдованіе того ослабленія религіознаго чувства во Франціи (съ 1700 года), которое безспорно явилось главной причиной французской революціи п объясняетъ ея бурный характеръ, ея гордость и недостатокъ чувства мѣры, ея стремленіе ко всемірной пропагандѣ и ея фанатизмъ, этотъ характеръ религіозной войны, усвоенный ею съ самаго начала и сохраняемый до сихъ поръ.—Я думаю, намъ нужно было сказать, что французская революція была высшимъ проявленіемъ оптимизма. ХѴПІ вѣкъ мало-по-малу замѣнилъ доктрину покорности, поддерживаемой надеждою, теоріей величія и совершенства человѣка, осуществимыхъ здѣсь на землѣ съ небольшимъ усиліемъ, путемъ нѣсколькихъ жертвъ, именно пожертвованіемъ не нравящимися намъ людьми. Это совершенно измѣнило нравственную атмосферу націи: если признаніе невозможности всякаго прогресса приводитъ къ какому то отупѣнію, то признаніе легкости прогресса и силы человѣка ведетъ къ какой то наивной жестокости и чистосердечной ярости, къ оптимизму толпы, увѣренной въ томъ, что единственно злая воля нѣсколькихъ тюремщиковъ отдѣляетъ ея тюрьму отъ Эльдорадо.—Сказать все это было не трудно; но нужно было кромѣ того изучить по философскимъ произведеніямъ ХѴПІ вѣка, какъ по „Приложенію къ путешествію Бугенвиля", такъ и по „Общественному Договору" и по многимъ другимъ, — изучить постепенный ходъ образованія этой новой вѣры, отличавшейся такою силою и пыломъ, исполненной того особаго фанатизма, который вообще характеризуетъ воинствующее невѣріе.
Можетъ быть нужно было бы также дать намъ нѣчто вродѣ исторіи идеи отечества въ ХѴПІ вѣкѣ. Обыкновенно считаютъ совершенно достаточнымъ указать на ослабленіе монархическаго чувства въ эту эпоху. Я не знаю, но монархическое чувство представляется мнѣ лишь формой патріотизма, для существованія котораго необходимо нѣчто конкретное и осязательное. Посмотрите же, въ какомъ видѣ представляется ближе къ намъ вполнѣ искренній и истинный патріотъ 1825 или 1828 гг.? Онъ не философствуетъ, не анализируетъ, не размышляетъ, не изслѣдуетъ. Онъ впрочемъ хорошій гражданинъ и не особенно желаетъ ниспроверженія Карла X, но влюбленъ въ революцію или восторгается Наполеономъ I. Его любовь къ отечеству вылилась въ форму страстнаго увлеченія.
— 104 —
великимъ подвигомъ, совершеннымъ ого родиной, или великимъ человѣкомъ, ею руководившимъ. Точно также со временъ Генриха IV французы въ своихъ короляхъ любили Францію. У мыслителей XVIII вѣка есть общая черта: они забываютъ идею отечества. XVIII вѣкъ былъ вѣкомъ „всечеловѣчности". Ученики этихъ мыслителей въ 1789 году легко отбросили всѣ вѣковыя традиціи и рѣшились снова начать исторію, вмѣсто того чтобы продолжать ее, именно потому, что идея отечества почти исчезла. Первымъ ихъ словомъ были права человѣка и человѣчества. Но идея отечества очень скоро появилась вновь!—Такъ должно было быть: ничто не возбуждаетъ такъ сильно патріотизмъ, какъ вторженіе непріятеля. Современный патріотизмъ появляется съ 1792 года; разъ пробудившись, онъ естественно не замедлилъ принять свою прежнюю форму и обратился къ Наполеону, какъ къ олицетворенію отомщенной и торжествующей Франціи. Но въ 1789 году онъ какъ бы затемнился въ сердцахъ, заслоненный филантропическими теоріями и ученіями индивидуализма, — противоположностями очень легко согласуемыми. Онъ живетъ, но въ мечтахъ лелѣетъ лишь будущее, привязывается къ надеждѣ,—явное доказательство его слабой энергіи; вѣдь патріотизмъ есть какъ бы чувство преемственности національной личности, способность любить ее въ прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ, любить ее въ ея вѣчности.
У историка моралиста, пишущаго о французской революціи, я желалъ бы встрѣтить изслѣдованіе какъ этого, такъ и многихъ другихъ вопросовъ; жаль, что ими не занялась м-мъ де-Сталь, могшая отлично ихъ разрѣшить. Но если она разсматривала революцію больше въ ней самой, отдѣляя ее отъ всего, что предшествовало ей и объясняло ее, зато она разсмотрѣла ее очень ясно и отчетливо, безъ предвзятой системы и пристрастія и, что такъ рѣдко всегда, а тѣмъ болѣе въ 1816 году, вполнѣ спокойно. Она не унижаетъ и не возвеличиваетъ ее. Въ то время когда она писала эту книгу, она очевидно хотѣла спасти нѣсколько настоящихъ и существенныхъ пріобрѣтеній революціи.
Она либеральна въ томъ смыслѣ, какое это слово имѣло тогда; но это вовсе не ослѣпляетъ ея. Она ясно видитъ и обнаруживаетъ благія намѣренія и страшное невѣжество дѣятелей 1789 года, ихъ удивительную самоувѣренность, ихъ невниманіе или пренебреженіе къ конституціямъ свободныхъ странъ, Англіи и Америки, — конституціямъ, которыя могли служить имъ образцомъ. Дѣятели этп были велики сердцемъ и пусты умомъ, великодушны и мало свѣдущи, какъ и самый вѣкъ, ихъ породившій. Несчастіе ихъ заключалось въ незнаніи исторіи. До нихъ исторія не существовала; ее создали потомъ. А въ такомъ случаѣ ихъ дѣятельность, могла служить только палліативомъ. Среди нихъ только одинъ человѣкъ былъ знакомъ съ исторіей и одаренъ высшимъ умомъ, и того они
— 105 —
имѣли несчастіе потерять. Къ чести м-мъ де-Сталь нужно сказать, что она отлично поняла Мирабо, хоть и не любила его какъ дочь Неккера.
Рядомъ съ великодушными стремленіями „учредителей", она выставляетъ въ яркомъ свѣтѣ ихъ полную административную неспособность и тотъ безпорядокъ, въ который привела Францію въ 1789 году ихъ диктатура,—безпорядокъ, вызвавшій тнраннію комитета общественнаго спасенія, такъ какъ онъ сдѣлалъ ее необходимой. Она указываетъ на самый источникъ той самонадѣянности, которая привела Учредительное собраніе къ сосредоточенію въ своихъ рукахъ всѣхъ полномочій,—чтб грозило опасностью самому существованію государства. Тутъ было конечно и недовѣріе къ королевской власти, но прежде всего презрѣніе къ другимъ пародамъ и самолюбіе, мѣшавшее французамъ подражать чужой конституціи. „Манія почти литературнаго тщеславія внушила французамъ стремленіе изобрѣтать новое въ этомъ отношеніи. Они боялись, какъ писатели, заимствовать характеры и положенія изъ существующаго уже произведенія. Когда дѣло идетъ о вымыслѣ, стремиться къ оригинальности возможно; но въ вопросѣ о дѣйствительныхъ учрежденіяхъ..."—Отсюда отвлеченный характеръ всѣхъ изобрѣтеній „учредителей". Они очевидно „изобрѣтаютъ", создаютъ въ пустотѣ своего невѣжества и въ наивномъ еще и пріятномъ головокруженіи своихъ мечтаній. Подобно толпѣ, они удовлетворяются фразами, которыя придумываютъ какъ писатели. „Таковъ былъ тогда пароль, такъ какъ во Франціи при каждой революціи создается новая фраза, чтобы у каждаго было готовое отношеніе и готовый взглядъ надѣло;... вѣдь большинство дюжинныхъ людей вполнѣ подчиняется ходу событій, и ихъ мысль не имѣетъ силъ подняться надъ фактомъ".
Какъ истыми учениками философовъ, ими „владѣла страсть къ отвлеченнымъ идеямъ", они хотѣли „предоставить небольшому числу началъ ту абсолютную власть, которую до тѣхъ поръ при-своивала себѣ небольшая группа людей". Опьяненные чистыми идеями, безъ поддержки, безъ опоры въ настоящемъ, опираясь на абсолютныя начала, они „обращались съ Франціей какъ съ колоніей". Въ сущности революція, окончившаяся трагически, началась въ высшей степени романтически. Издали она представляется событіемъ исключительно отрицательнымъ. Она какъ будто не создала ничего, а просто произвела опустошеніе и тѣмъ уравняла и расчистила мѣсто для свабоднаго утвержденія деспотизма. Но это иллюзія. У ней была масса идей политическихъ и соціальныхъ, но всѣ онѣ предполагали не поправку, а разрушеніе и полное устраненіе всего стараго; а такъ какъ ей удалось лишь разрушеніе, то она оставила послѣ себя пустое мѣсто. Независимая магистратура, духовенство съ его особою жизнью, обширное дворянское сословіе, представительница традиціи—королевская власть,—
— 106 —
все это вмѣстѣ не составляло, правда, конституціи, но служило для нея превосходнымъ матеріаломъ. Очищенные отъ искаженій, исправленные и возвращенные къ отправленію ихъ настоящихъ обязанностей, эти элементы могли образовать уравновѣшенное, гибкое и чрезвычайно крѣпкое цѣлое. Періодичность генеральныхъ штатовъ, вотированіе имп бюджета, сосредоточеніе дворянства и духовенства въ одной палатѣ, а средняго сословія въ другой, независимость магистратуры, уменьшеніе богатства духовенства и подчиненіе его государственнымъ повинностямъ, но сохраненіе за нимъ автономіи для того, чтобы оно не сдѣлалось немедленно ультрамонтанскимъ, ограниченіе королевской власти и установленіе надъ нею контроля,—вотъ практическая и согласная съ указаніями фактовъ революція, которая уже въ 1789 году создала бы Францію подобную той, какою она явилась въ 1815 г., но болѣе свободную и лучше организованную.
' Была ли такая революція возможна? Этого мы не знаемъ, но обращаемъ вниманіе на то, что ее и не пробовали осуществить. Вмѣсто того, чтобы поставить себѣ цѣлью, по выраженію м-мъ де-Сталь, „болѣе точное опредѣленіе всегда существовавшихъ во Франціи границъ" и „пустить въ ходъ конституцію, до того лишь постоянно нарушавшуюся", но существовавшую въ ея элементахъ и планѣ, они „составили конституцію въ видѣ плана аттаки". Они не подумали о томъ, что разъ „въ странѣ существуетъ какое-либо жизненное начало, законодатель долженъ имъ воспользоваться" и попробовать „привить" новое учрежденіе къ старому. Изъ всѣхъ основныхъ элементовъ старой Франціи они оставили одинъ только народъ,—элементъ, собственно, не основной, но образующій, изъ котораго легко и безпрепятственно должны истекать основныя начала.—Они уничтожили самопополненіе, т. е. независимость, магистратуры, о чемъ м-мъ де-Сталь, по нашему, недостаточно сожалѣетъ, нѣсколько неясно выражая свое мнѣніе на этотъ счетъ. Они уничтожили духовенство, какъ государственное сословіе, тогда какъ достаточно было лишить его части имуществъ, и чрезвычайно неудачно замѣнили его „конституціоннымъ духовенствомъ", т. е. классомъ враждебно настроенныхъ чиновниковъ. Они не захотѣли ни двухъ палатъ, для которыхъ былъ совсѣмъ готовъ матеріалъ, ни королевскаго ѵеіо, т. е. ограниченной и потому упроченной королевской власти.
М-мъ де-Сталь отлично поняла и превосходно показала, что „учредители" были крайне радикальными демократами. Всѣ полномочія сосредоточивала въ себѣ одна палата: она издавала законы, управляла, руководила; ни выше, ни ниже, ни подлѣ нея не было другой власти. Король оказывался какою то тѣнью, чѣмъ то вродѣ президента или скорѣе старшины республики, а всѣ дѣла вѣдало всемогущее собраніе, стоявшее надъ избирателями и чиновниками. Это была чистая демократія, „королевская демократія", какъ
— 107 —
тогда говорили, т. е. украшенная трономъ. Однимъ прыжкомъ Франція перешла отъ абсолютной монархіи къ Конвенту: вѣдь первымъ Конвентомъ было Учредительное Собраніе. Между 1788 и 1790 годомъ Франція только перемѣнила одинъ абсолютизмъ на другой. Думая устроить государство, учредители только перемѣстили правительственную власть. Къ этой то основной ошибкѣ ихъ м-мъ де-Сталь возвращается постоянно, такъ какъ (хоть она этого и не говоритъ) ея умъ постоянно занятъ мыслью объ имперіи. Она замѣчаетъ всеобщее тяготѣніе къ цезаризму въ странѣ, гдѣ уравнители оставили только чиновниковъ для великаго администратора, солдатъ для полководца, подданныхъ для цезаря и анархію въ качествѣ побужденія къ монархіи.
Раскрывая такъ ясно ошибки революціи, м-мъ де-Сталь тѣмъ не менѣе любитъ ее неизмѣнно и глубоко. Въ основѣ этой мало просвѣщенной, плохо освѣдомленной и дерзкой политики она замѣчаетъ начало чрезвычайно чистое и благородное, страшно сильное стремленіе къ человѣчности и справедливости. Революціонеры бѣшено стремились къ равенству во всѣхъ его видахъ именно потому, что оно представляется если не справедливостью, то подобіемъ ея и вызываетъ въ простыхъ умахъ полную иллюзію ея. Они разрушили или докончили разрушеніе всѣхъ частей національнаго зданія именно потому, что въ своемъ полуразрушеніи онѣ представлялись не столько опорами, сколько преградами. Они установили опасное политическое равенство и по тѣмъ же побужденіямъ создали равенство гражданское, которое представляется справедливостью, правосудіемъ, братствомъ или скорѣе отеческимъ отношеніемъ другъ къ другу и какъ будто до нѣкоторой степени водворяетъ рай на землѣ. Они стремились создать правосудіе равное, для всѣхъ доступное и милостивое, и создали его. Ови стремились сообщить уголовному процессу характеръ искренности и кротости, освободить его отъ тайны, ловушекъ, пытокъ и пристрастія, и достигли этого Они стремились сдѣлать общественныя должности доступными для всѣхъ французовъ, что, при сохраненіи руководящаго класса, дало бы Франціи еще невиданную ею аристократію, открытую и постепенно обновляемую. Они стремились къ полной свободѣ исповѣданія, а это приводило тогда неизбѣжно къ полной свободѣ мысли. Онп обладали чувствомъ очень рѣдкимъ у правителей, довѣріемъ къ человѣческому разуму,—мысль великодушная и пожалуй вѣрная.
Даже ихъ химера всеобщаго равенства имѣла свою хорошую сторону. Тотъ, кто говоритъ людямъ: „Вы всѣ равны", будитъ въ нихъ въ одно время и наихудшія и наилучшія страсти; является много неудачниковъ (сіёсіаззёз) и нѣсколько выдающихся „выскочекъ" (Ьоттез попѵеапх), а вопросъ, не выкупаетъ ли появленіе одного великаго генія созданіе въ то же время массы бездарностей, остается, по крайней мѣрѣ, нерѣ-
— 108 —
шейнымъ.—Ихъ мечта о свободѣ тоже не осталась безплодной, хотя ея настоящіе результаты обнаружились не тотчасъ. Она приводитъ мало - по - малу къ очень суровому общественному строю, вовсе не патріархальному. Напротивъ, тутъ у гражданина тѣмъ болѣе отвѣтственности чѣмъ болѣе свободы; тутъ никто не предостерегаетъ его отъ ошибки, а наказываютъ за сдѣланную; тутъ у человѣка нѣтъ заданнаго урока и начертаннаго пути, и онъ дѣйствуетъ на свой рискъ и страхъ, долженъ знать, что ему дѣлать, обязанъ быть разсудительнымъ. Это можетъ погубить много слабыхъ и безразсудныхъ и зато удесятеряетъ энергію сильныхъ. Строй этотъ повидимому былъ придуманъ людьми энергичными для своихъ собратьевъ. Тутъ возбуждаютъ силы индивидуализма, какъ въ другихъ случаяхъ уважаютъ его права. За это именно, въ концѣ концовъ, м-мъ де-Сталь и любитъ этотъ строй. Во всей этой революціи реальной и идейной ей почти всюду видится свобода; ее она призываетъ, ее лелѣетъ, ее привѣтствуетъ, наконецъ, ее воспѣваетъ въ заключеніи своей книги въ настоящемъ гимнѣ. Тутъ она снова находитъ себя цѣликомъ,—находитъ въ сферѣ дорогихъ ей чувствъ и мыслей свою сильную личность, свою потребность усиленнаго воздѣйствія на другихъ, свою вѣру въ себя, а отсюда и вѣру въ человѣка вообще,—однимъ словомъ, свой оптимизмъ, свое убѣжденіе въ величіи человѣка, въ его правѣ и способности къ свободѣ, обусловленныхъ его силой.
VI.
Итакъ очевидно, что нѣтъ того вопроса въ области философіи, литературы или политики, котораго бы м-мъ де-Сталь не изслѣдовала, не прочувствовала, не обновила.—Она дѣлала мало выводовъ. Общее впечатлѣніе получающееся при разставаніи съ нею не принимаетъ у насъ въ умѣ вида и плана системы. Но она всюду вносила проницательный умъ и живую, пылкую страсть, нисколько не затемнявшія въ ией ясности ума. Она замѣтила о Руссо: „Онъ ничего не изобрѣлъ, но во все вдохнулъ огонь". Это сомнительно по отношенію къ Руссо и вполнѣ приложимо къ ней самой. Она поняла, прочувствовала и выразила самыя высокія, благородныя и чистыя стороны ХѴПІ вѣка. Она поняла зарождавшееся XIX столѣтіе, поняла, сколько нѣжнаго чувства, сердечныхъ изліяній, субъективной поэзіи, серьезной грусти, немного смутныхъ, но искреннихъ религіозныхъ стремленій долженъ былъ онъ внести въ поэзію и литературу. Она прослѣдила и какъ бы прослушала въ самой себѣ это развитіе и превращеніе, такъ что она представляется той самой рукой, которая мягко, несмотря на нѣкоторое сопротивленіе, соединяетъ нашу эпоху съ предшествовавшей.—Точно также она стремилась ввести во французскій
— 109 —
умъ частицу нѣмецкаго генія; и съ этой стороны она сдѣлала попытку соединенія, приведшую по крайней мѣрѣ къ тому, что мы познакомились съ тѣми, съ кѣмъ она хотѣла насъ сблизить. Она обладала очень добрымъ, убѣдительнымъ, свободнымъ и гибкимъ геніемъ. Она скорѣе внушаетъ, чѣмъ повелѣваетъ и производитъ гораздо меньше впечатлѣнія, чѣмъ, напримѣръ, Шатобріанъ, но зато и вызываетъ къ себѣ больше любви. Она не дала французскому уму могучаго толчка, но внушила ему многія идеи, чувства и наклонности. Ее по справедливости можно считать родоначальницей извѣстнаго „настроенія ума“, до послѣднихъ лѣтъ отличавшаго не то чтобы партію, а значительную фракцію французскаго общества. Это было настроеніе аристократичное безъ высокомѣрія, либеральное, религіозное или скорѣе почтительное къ религіямъ; оно вдохновлялось французскою революціей, но не принимало ея крайнихъ выводовъ. Изъ юношей, воспитавшихся на искусствѣ Шатобріана, на идеяхъ м-мъ де-Сталь, могло образоваться только поколѣніе благородныхъ, великодушныхъ и порядочныхъ людей. Читая ее, истекающій вѣкъ долженъ сказать себѣ слова маркиза Позы: „Напомните ему, что онъ долженъ уважать мечты своей юности".—У ней у самой вырвалось глубокое замѣченіе: „Отнынѣ необходимо обладать европейскимъ умомъ". Этими словами она дала возникавшему вѣку его девизъ. Девизъ этотъ она могла бы взять и себѣ. При всей ея любви къ великимъ дѣламъ и идеямъ родины, никто больше нея не обладалъ умомъ доступнымъ всей работѣ европейской мысли, Она скорѣе расширяла, чѣмъ забывала родину. Это былъ европейскій умъ во французской душѣ.
Бенжаменъ Констанъ.
Это былъ либералъ, но не оптимистъ, и скептикъ выставившій самую непреклонную догматическую систему, человѣкъ лишенный всякаго религіознаго чувства, онъ всю свою жизнь писалъ сочиненіе о религіи съ цѣлью возстановить къ ней уваженіе; человѣкъ очень слабой нравственности, онъ положилъ въ основаніе всей своей политической системы уваженіе къ нравственному закону; наконецъ, онъ отличался удивительной прямотой мысли и необыкновенной нерѣшительностью въ поступкахъ, былъ почти великимъ человѣкомъ по уму и почти ребенкомъ волею; онъ никогда не зналъ, чего хотѣлъ, и это ставило его почти ниже средняго уровня и наоборотъ далеко возвышался надъ посредствепностью, такъ какъ точно зналъ, что думаетъ,—вещь мало обыкновенная. Не то чтобы это было больше противорѣчій, чѣмъ сколько ихъ оказывается въ каждомъ изъ насъ, но они оказываются въ человѣкѣ, занимавшемъ очень видное мѣсто, сдѣлавшемъ блестящую карьеру, оставившемъ по себѣ глубокій слѣдъ и богатую жатву; это—сюжетъ для глубоко интерес
— 110-
наго изслѣдованія. Очень любопытно разобраться въ этой путаницѣ чувствъ и идей.
I. Его характеръ.
Онъ происходилъ изъ сеиьи, гдѣ много работали головою, гдѣ мышленіе, системы, игра идеями какъ бы передавались по наслѣдству. Его прадѣдъ, Давидъ Констанъ де Ребекъ, написалъ Краткую Политику, указываемую гдѣ то Бейлемъ. Его дядя, Самуилъ Констанъ, другъ Вольтера, былъ романистомъ, публицистомъ, моралистомъ, много писалъ: нравственныя драмы и комедіи во вкусѣ Дидро, поучительные и назидательные романы, Трактатъ объ естественной религіи, Нравственныя наставленія и т. д. Эта семья была проникнута литературнымъ духомъ.
Какимъ представляется намъ Бенжаменъ Констанъ по достиженіи зрѣлости? Съ перваго взгляда это просто безпокойный человѣкъ. Ни въ комъ такъ фантастически „одни планы не уничтожали дру гихъ“. Въ своемъ Личномъ дневникіъ онъ производитъ впечатлѣніе персонажа древней комедіи нѣсколько неправдоподобнаго, утрированнаго, смахивающаго на каррикатуру. Сотни разъ онъ повторяетъ буквально: „Я, кажется, лучше бы сдѣлалъ, женившись на Изабеллѣ*1, и сотни разъ восклицаетъ со всей наивностью и чистосердечіемъ: „Какъ я дошелъ до этого?**—обычная фраза людей, какъ бы лишенныхъ способности руководить собою въ нравственномъ отношеніи: попеипі. вей (египіиг (нейдутъ, а несутся). Иногда это возмущаетъ его, а иногда онъ проникается такою жалостью къ себѣ, что это его забавляетъ. Своимъ девизомъ онъ беретъ: 8оІа іпсопзіапііа сопзіапз“ (постояненъ въ одномъ непостоянствѣ). Въ одинъ изъ трагикомическихъ моментовъ своей жизни онъ восклицаетъ: „Глупо жить съ людьми, не умѣющими спать! Мнѣ надо жениться, чтобы раньше ложиться**, а далѣе: „Моя жена имѣетъ привычку бодрствовать! а я то женился съ цѣлью раньше ложиться спать!" Это напоминаетъ Плавта, но очъ отъ этого ужасно страдаетъ, сознавая серьезность этой комедіи, такъ какъ развязкой ея должна служить только смерть, и видя себя добычей безсмыслицы, лежащей въ основаніи самой его натуры. Онъ безпрестанно ставитъ передъ собою очень ясно и рѣзко альтернативу, изъ которой очевидно должно выйти твердое рѣшеніе и которую отлично формулируютъ именно тѣ, кто никогда ни на что не рѣшается: или жизнь спокойная, правильная, вся посвященная наукѣ, книгѣ, безъ всякаго вниманія ко внѣшнему міру, — или же власть, борьба, отвѣтственность, безпрестанная дѣятельность. Выбирать такъ часто значитъ никогда не выбрать; кто не сдѣлалъ выбора сразу, по инстинкту, безъ разсужденія,— тотъ будетъ колебаться всегда. Констанъ всю жизнь раздумывалъ надъ собой, надъ тѣмъ, что ему нужно не думать а дѣлать.
—111 —
Нерѣшительность эта происходила не отъ мягкости или неустойчивости человѣка, а отъ его чрезмѣрной возбужденности и порывистости: его дѣятельность была не то чтобы безцѣльна, а направлялась къ тысячи цѣлей, его постоянно увлекали бурные порывы. Любопытно было посмотрѣть на него въ палатѣ на скамьѣ депутатовъ. Здѣсь онъ въ одно время писалъ двадцать писемъ, исправлялъ корректуры, прерывалъ оратора, подзывалъ то одного, то другого служителя, давалъ наставленія товарищу и кончалъ тѣмъ, что просилъ слова и произносилъ рѣчь блестящую, сжатую, убійственную. Все это онъ дѣлалъ, чтобы „произвести эффектъ", по любимому его выраженію,—я это хорошо знаю,—но сверхъ того его увлекало постоянно лихорадочное стремленіе къ дѣятельности.— Такимъ же былъ онъ и въ частной жизни. Онъ обожалъ свѣтъ, обѣды, ужины, вечера, разговоры, споры, игру. Никто не обѣдалъ такъ часто въ гостяхъ, никто не бесѣдовалъ больше и лучше со всею Европой на четырехъ или пяти языкахъ, отлично ему знакомыхъ. Всякое короткое и сильное ощущеніе, потрясающее нервы до боли, было ему по сердцу. Дуэль восхищала его. „Форбенъ оскорбилъ меня у м-мъ Р..., ему однимъ рубцомъ не отдѣлаться... Они хотятъ уладить мое дѣло съ Форбеномъ, какая скука!" Онъ дрался двадцать разъ, дрался даже больной и безсильный, сидя въ креслѣ, такъ что одна рука поднимала оружіе, а другая опиралась на ручку. Вообразите себѣ Гудоновскаго Вольтера съ пистолетомъ въ правой рукѣ. Дни у Констанъ были всегда переполнены. Тутъ было и чтеніе, и визиты, и письма, и передѣлка въ десятый разъ главы, — онъ никогда ничѣмъ не былъ доволенъ,— были и любовныя исторіи, начинавшіяся, бросавшіяся, возобновлявшіяся, переплетавшіяся, съ отчаяніемъ, отвращеніемъ и восторгомъ.—Вернувшись къ себѣ, онъ замѣчаетъ въ своемъ дневникѣ, что все это страшно глупо, и жестоко смѣется надъ самимъ собой.
Это Донъ-Жуанъ, т. - е. человѣкъ, старающійся наполнить свою жизнь наибольшимъ количествомъ живыхъ, сильныхъ и разнообразныхъ ощущеній и не рѣшающійся пожертвовать однимъ ощущеніемъ ради другого или ради долга и здраваго смысла. Только это не злой Донъ-Жуанъ; онъ не наслаждается несчастіемъ другихъ или причиняемымъ имъ зломъ; это также не великій художникъ, сочиняющій и сопоставляющій свои ощущенія такъ, что изъ нихъ составляются поэмы, восхищающія его умъ и воображеніе. Для этого у него слишкомъ мало фантазіи и слишкомъ много жажды дѣятельности; отъ этого его разнообразныя ощущенія доставляютъ ему мимолетное удовольствіе и скоро вызываютъ въ немъ отвращеніе. Такъ живетъ онъ, какъ сказалъ Сентъ-Бёвъ о Ша-тобріанѣ, „всего желая и ни о чемъ не заботясь", разочаровываясь во всемъ, что онъ испытываетъ, вѣчно неудовлетворенный и вѣчно больной отъ пресыщенія. Это дѣйствительно Шатобріанъ, но безъ
-112-
его могучей фантазіи и величавой походки; онъ не на столько поэтъ, чтобъ превратить свою скуку въ величественную лирическую меланхолію, и не на столько гордъ, чтобъ остановить въ величественной позѣ самое свое пресыщеніе. Онъ только обладатель того сухого, грустнаго, Мрачнаго матеріала, изъ котораго Шатобріавы создаютъ поэмы.
Сказать вмѣстѣ съ матерью Сисмонди: „У него нѣтъ души", значитъ зайти слишкомъ далеко. У него бываютъ премилые "порывы чувствительности. Не любя болѣе, но все же возвращаясь къ любимому человѣку, оставаясь съ нимъ и не находя силъ уйти, онъ доказываетъ, конечно, этимъ свою нерѣшительность, но также я сильное страданіе, причиняемое ему страданіемъ другихъ. Наконецъ, порвавши связь и разбивши цѣпи, онъ пріѣзжаетъ въ Парижъ съ чувствомъ нѣсколько наивнаго стыда, возбуждающаго къ нему симпатію. Онъ опускаетъ занавѣси экипажа, чтобы его не видѣли, чтобы не читать упрека во взглядахъ прохожихъ. Это ребячество очаровательно. Да, дѣйствительно у него есть душа, но душа неглубокая, легкая земля, въ которой не укрѣпляются прочные корни; какъ воля его вся состоитъ изъ бурныхъ порывовъ, такъ чувство выражается во внезапномъ подъемѣ, быстро спадающемъ; это—пламя соломы, Похожее на молніи. „Въ пустой душѣ чувство разрѣшается однѣми вспышками", говорилъ Бон-штеттенъ; а онъ хорошо зналъ Констана и часто присутствовалъ при мимолетной иллюминаціи фейерверка его страсти. Авторъ Адольфа былъ скорѣе страстенъ, нежели чувствителенъ и скорѣе романтиченъ, чѣмъ страстенъ; но онъ былъ искрененъ въ своихъ романахъ, которыхъ способенъ былъ имѣть заразъ нѣсколько; онъ мучился отъ всѣхъ нихъ и если ему не случалось повторять слова Катулла: „Я люблю и ненавижу, и мучусь", что, безъ сомнѣнія, слишкомъ просто для современнаго человѣка, то онъ могъ сказать: .Люблю здѣсь, люблю тамъ и страдаю". И онъ могъ страдать дѣйствительно, такъ какъ былъ очень уменъ, „совѣстливъ", даровитъ и склоненъ анализировать эти противорѣчія и нерѣшительность своего сердца. Это то именно и побудило признать его за человѣка злого и безчувственнаго. Людямъ легкомысленнымъ прощаютъ, если у нихъ слабый умъ. Прощаютъ людямъ безумнымъ, безразсуднымъ, возбужденнымъ, если они увлечены своими чувствами и нервами до безумія и потери сознанія. Людей способныхъ разсуждать судятъ строго. Изъ того, что они достаточно разсудительны, чтобы осуждать себя, заключаютъ всегда, что они'достаточно сильны, чтобы руководить собою. Вотъ причина той строгости, съ какой всегда относились къ Констану. Въ немъ ясный, прямой, строгій и сильный умъ стоялъ лицомъ къ лицу съ безпорядочными страстями, холодная мысль была свидѣтельницей душевной смуты, зрѣлый человѣкъ высматривалъ ребенкомъ.
Онъ очень аккуратно велъ свой дневникъ. Не смѣйтесь за это-
— 115 —
надъ нумъ. По большей части люди, одержимые этимъ тайнымъ порокомъ, бываютъ жрѳпами личнаго Бога: они достаточно скромны, чтобы не пѣть себѣ публично Тебе Бога, но не могутъ отказать себѣ въ тайномъ кажденіи. Совсѣмъ не таковъ Констанъ. Онъ ведетъ свой дневникъ очень добросовѣстно. Не увѣренный никогда въ ходѣ своей нравственной жизни, онъ, чтобы разобраться въ ней, почти каждый вечеръ ведетъ даннымъ ея двойной счетъ. Здѣсь онъ старается овладѣть собою, чтобы попробовать править собой. Чаще всего ему приходится указывать на страшную недоимку, но уже одно это указаніе имѣетъ нѣкоторое значеніе. Онъ говоритъ напримѣръ: „Сегодня я завтракалъ у X, обѣдалъ у У, ужиналъ у 2.... смотрѣлъ, какъ играли Заиру,... день потерянный. Когда же возьмусь я за умъ?“... Или: „Сегодня я сидѣлъ дома съ абажуромъ на свѣчахъ. Мои глаза и мой умъ отдыхали. Вотъ что надо бы дѣлать каждый вечеръ, и чего я не дѣлаю никогда". Или еще: „Вотъ 400 дней, изъ которыхъ 174 я ничего не дѣлалъ". Невозможно вести болѣе точный учетъ безпорядочности и строже констатировать дефицитъ. Это зеркало его жизни. Здѣсь въ безразсудномъ человѣкѣ заключенъ точный и проницательный аналитикъ, сильная и ясная мысль бьется въ кругу разнузданныхъ страстей; онъ самъ видитъ ихъ безразсудность и глупость, но не можетъ избавиться отъ нихъ. Это хорошій счетоводъ; онъ превосходно знаетъ дѣла и съ проклятіями записываетъ производимыя имъ безразсудныя операціи, ясно понимая свое постепенное приближеніе къ банкротству.
Это прекрасно объясняетъ его политическую жизнь. Одни говорятъ: „Какая послѣдовательность! Онъ постоянно говорилъ одно и то же“. Другіе находятъ его поведеніе недостойнымъ: „Къ какой партіи принадлежалъ онъ? Къ какой только партіи онъ не принадлежалъ!"—И всѣ правы. Онъ часто поступалъ неосмотрительно и странно. За три недѣли до Ста дней онъ прямо восклицалъ въ дневникѣ: „Я не стану презрѣннымъ перебѣжчикомъ", а тремя недѣлями позже онъ былъ министромъ „Чингисхана".— Онъ былъ главнымъ дѣятелемъ темной интриги, стремившейся возвести Бернадотта на французскій престолъ. Его дѣйствія часто отличались нѣкоторою изворотливостью или порывистостью подъ вліяніемъ противорѣчивыхъ дружбы или симпатіи.—Все это такъ* а между тѣмъ его система никогда не мѣнялась, и при всѣхъ правленіяхъ онъ поддерживалъ два или три принципа, отъ которыхъ не отступалъ ни на шагъ, какъ отъ догматовъ. Это было бы вполнѣ естественно, если бы онъ всегда стоялъ въ оппозиціи Но онъ составилъ конституцію, буквально представлявшую какъ его прежнюю, такъ и послѣдующую систему. Ег0 дѣйствія безсвязны, а мысль непоколебима, жизнь безпорядоцц^ система ясна нервы волнуются, а мозгъ спокоенъ,—іп соп^і ресіоге зепіепііа сопзіапз; словомъ, это „непонятное и тяжелое сочетаніе двойствен
8
— 114-
ной натуры", образующее постоянную дисгармонію. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и частныхъ, и общественныхъ Констанъ былъ всегда человѣкомъ разлада.
Ну, а въ самой сущности своей очень ли онъ симпатиченъ потомству, этому строгому судьѣ, требующему, чтобы люди, составляющіе предметъ его вниманія, думали исключительно только объ немъ? Нѣтъ, съ этой строгой точки зрѣнія Бенжаменъ Констанъ не вполнѣ симпатиченъ. Чувствуется, что его недостатки довольно низменны, а его достоинства не представляютъ собою ничего высокаго. Онъ честенъ, Жалостливъ, ему свойственны прекрасные порывы искренности и даже великодушія, но у него нѣтъ высокихъ стремленій, нѣтъ стремленія къ жертвѣ, преданности, самоотреченію; у него нѣтъ широты, великой жалости. Скажемъ прямо, онъ думаетъ о себѣ, если не исключительно, то много. Его нападки на свои безразсудства вызываются не рѣшимостью посвятить себя великой цѣли, а желаніемъ болѣе умѣлаго дѣйствія въ видахъ успѣха. Констанъ самъ убѣждаетъ себя трудиться для достиженія власти, для пріобрѣтенія почета, котораго онъ всегда жаждетъ и никогда не достигаетъ, или для сочиненія хорошей книги. Подобныя намѣренія похвальны, но восхищенія не возбуждаютъ. Признаемъ это,—онъ былъ эгоистомъ, но эгоистомъ порядочнымъ, не глупымъ и не низкимъ, какъ тѣ, которые считаютъ себя выше его, потому только, что ловко устраиваютъ свою жизнь въ видахъ успокоенія ума и сердца: вѣдь это просто гигіена; онъ эгоистъ пылкій, воинственный, любитель приключеній и славы. Онъ, если хотите, скорѣе субъективенъ, чѣмъ эгоистиченъ; но извѣстно, что субъективизмъ — просто смягченное выраженіе. Онъ нѣсколько больше субъективенъ, чѣмъ это прилично „честному человѣку" въ благородномъ смыслѣ этого слова. Когда въ эпоху Ста дней онъ говоритъ въ своемъ дневникѣ: „Наконецъ-то! “ то общій смыслъ мѣста указываетъ, что это не значитъ: „наконецъ-то я буду полезенъ", но: „наконецъ-то я буду пользоваться почетомъ", или, пожалуй: „наконецъ-то я буду принужденъ работать, а обстоятельства примутъ на себя заботу о моей совѣсти". Въ этомъ нѣтъ ничего высокаго. Даже его добрые порывы представляются просто почтенными усиліями, а его добродѣтели не болѣе, какъ достоинствами. Занявъ видное положеніе, онъ, строго судя, только поднимаетъ на извѣстную степень свой эгоизмъ, гдѣ тотъ просто мѣняетъ названіе, оставаясь почти тѣмъ же по существу. Говоря по справедливости, онъ поднимаетъ эгоизмъ вмѣстѣ съ собой на значительную высоту, но не освобождается отъ него. Мы увидимъ, можетъ быть, что этимъ объясняется многое, даже то, что касается склада его ума.
— 115 —
П. Его характеръ. „Адольфъ".
Весь этотъ сложный характеръ онъ прекрасно обрисовалъ въ своемъ чудномъ романѣ Адольфъ. Только Констанъ, да еще Ларошфуко и могли написать эту книгу. Немногимъ людямъ дано умѣнье обрисовывать свою личность, не прикрашивая и не унижая ея (самое униженіе, какъ извѣстно, служитъ для тщеславія отличнымъ поводомъ польстить себѣ); поэтому, всякому романисту полезно совѣтовать: „Описывайте другихъ". Перечитавъ разъ одно мѣсто въ своемъ дневникѣ, Констанъ восклицаетъ: „Какъ я ни старался, а опять говорилъ для публики". Ну, хоть это я не вѣроятно, но онъ клевещетъ на себя. Перечитываешь послѣ него и чувствуешь, что онъ и не думалъ „производить эффектъ"; оттѣнокъ искренности несомнѣненъ. Мало кто былъ прямодушнѣе его въ своихъ признаніяхъ; вотъ почему онъ симпатиченъ, несмотря ни на что.—Такимъ является онъ въ своемъ дневникѣ, такимъ же и въ Адольфѣ, представляющемъ собою просто подобранный, связно составленный, но не прикрашенный дневникъ. Авторъ обрисовывается здѣсь вполнѣ съ его „смѣсью эгоизма и чувствительности, восторженности и ироніи", съ его насмѣшливостью. прикрывающею и защищающею его боязливость, съ его жаждой независимости и противодѣйствующей ей потребностью общественности, съ его сердечною сухостью и крупинкою чувствительности, заставляющею его чувствовать это и страдать отъ этого; передъ нами обрисовывается „тотъ не дающій счастія, и не ведущій къ нему умъ, которымъ гордятся люди"любовь, которая должна связать на всю жизнь и начинается съ какого-то пари, любовь, порожденная тщеславіемъ и потребностью поступать подобно другимъ, та любовь, о которой Ларошфуко сказалъ: „Есть люди, которы^ совсѣмъ не любили бы, еслибъ не слышали разговоровъ о любви".
Первыя пятьдесятъ страницъ Адольфа прекрасны. А затѣмъ продолженіе! Любовь безъ любви, попытки отдѣлаться, только привязывающія еще крѣпче,—ложь передъ другими, только унижающая, но никого не обманывающая, лганье самому себѣ, не обманывающее, во мучающее, — невозможность ни порвать, ни продолжать, ни подчиниться, ни убѣжать, ни предпринять что-либо,—сознаніе невозможности отсрочки и разрѣшенія въ будущемъ, и, что всего ужаснѣе, — стремленіе оживить безвозвратно погибшее чувство, ощущеніе пустоты и абсолютнаго безсилія,—вотъ прекрасный кошмаръ, раздирающій душу своей неотразимой реальностью; очевидно здѣсь каждая строчка представляетъ собою итогъ долгихъ и тяжелыхъ страданій, тайныхъ душевныхъ трагедій.
Эта книга — созданіе двухъ сильныхъ способностей: грозной -способности ясно читать въ своемъ сердцѣ и дара выражать все
—116 —
вкратцѣ благодаря своему ясновидѣнію. Написать Адольфа могъ-пожалуй одинъ Констанъ съ его безпристрастнымъ отношеніемъ ко всѣмъ волненіямъ таившагося въ немъ дикаго и безпорядочнаго существа. Одинъ авторъ Дневника былъ настолько далекъ отъ притворства, даже передъ самимъ собою, что обнаруживалъ даже склонность перетолковывать свои чувства въ дурную сторону, разъ они допускали два толкованія, и говорить скорѣе противъ, чѣмъ за себя. Извѣстно, напримѣръ, и ясно чувствуется, что онъ любилъ,' если не глубоко, то по крайней мѣрѣ живо; а между тѣмъ въ Адольфѣ встрѣчается такая унизительная мысль: „Мы такъ непостоянны, что подъ конецъ испытываемъ на дѣлѣ чувства, въ которыхъ раньше только притворялись".—Извѣстно, что Констанъ былъ способенъ пренебрегать свѣтскими предразсудками, въ то же время чрезвычайно ихъ боясь; у него не было охоты къ этому, но храбрости на это хватало. Однако въ Адольфѣ онъ изображаетъ самую несимпатичную сторону своего характера, столь же истинную, какъ и другая, но не болѣе и не менѣе. Адольфу ни на минуту не приходитъ мысль ввести Элленору въ свѣтъ, дать ей свое имя, публично вознаградить ее за жертву благодѣяніемъ. Онъ рабъ всѣхъ слабостей заразъ: онъ не любить Элленоры, но остается при ней; онъ не уважаетъ мнѣнія свѣта, но отступаетъ передъ нимъ. Когда читаешь Адолъфа, хорошо понимаешь характеристическую слабость — боязнь свѣтскаго злословія, соціальное суевѣріе, приписанное авторомъ Дельфины Леонсу. „Собраніе было многочисленно; меня внимательно разсматривали... при моемъ приближеніи замолкали; когда я отходилъ, разговоръ возобновлялся... Мое положеніе было невыносимо; холодный потъ выступалъ у меня на лбу...“ Совѣсть составляетъ пожалуй основу человѣка и во всякомъ случаѣ одну изъ его потребностей: человѣку нужна совѣсть, великая или ничтожная. По временамъ у него не оказывается совѣсти, истекающей изъ нравственнаго убѣжденія или религіозной вѣры; тогда человѣкъ создаетъ ее себѣ изъ страха передъ людскими толками. У Констана была не одна только такая совѣсть, но была и такая, и ее только онъ приписалъ Адольфу, движимый какойгто горькой строгостью и какъ бы утонченной, жестокой искренностью, не лишенной изящества.—Эта холодная и мѣткая жестокость наводитъ страхъ: до того она кажется исполненной человѣческой правды, приложимой ко всѣмъ намъ. Когда Адольфъ видитъ угасаніе Элленоры, онъ удрученъ, онъ плачетъ, но смутно чувствуетъ, что онъ оплакиваетъ самого себя: „Грусть моя была мрачна и одинока. Я не надѣялся умереть съ Эллено-рой; я долженъ былъ жить безъ нея... Одиночество уже захватывало меня... Я былъ уже одинъ на землѣ... Вся природа, казалось, говорила мнѣ, что никогда больше я не буду любимъ".
Адольфъ это тотъ же Рене, только безъ его могучаго воображенія’ и широкаго взгляда художника, ежеминутно охватывающаго міръ и
— 117 —
пріобщающаго его къ своимъ глубокимъ печалямъ и тайнымъ мукамъ съ цѣлью украсить, красиво задрапировать ихъ и создать изъ себя и изъ нихъ великолѣпное траурное торжество. Но это—Рене болѣе проницательный, болѣе увѣренный въ своемъ знаніи себя, а потому его нечего объяснять, онъ самъ объясняетъ себя съ непогрѣшимою и холодною проницательностью. Никто со времени Ларошфуко не позналъ лучше всей низости нашей слабой и презрѣнной натуры, эгоизма любви, разсудочныхъ оговорокъ самоотверженія, вплоть до низости сожалѣнія. Онъ нѣсколько клевещетъ на себя, такъ какъ кто же можетъ познавать себя, не презирая, и презирать безъ гнѣва, и сердиться безъ несправедливости? Но онъ просвѣщаетъ всѣхъ насъ яркимъ свѣтомъ, какпмъ освѣщаетъ самую глубь своей души, предостерегаетъ насъ своей исповѣдью. Ему свойственна рѣдкая способность—не примѣшивать гордости къ тому презрѣнію, какое онъ чувствуетъ къ себѣ. И онъ симпатиченъ, во-первыхъ, этимъ самымъ прямодушіемъ, а во-вторыхъ, уже тѣмъ, что вообще грустна исторія людей слишкомъ слабыхъ, чтобы выдерживать внушаемыя ими чувства. Къ нему относятся съ сожалѣніемъ, въ которомъ онъ себѣ отказываетъ, понимаютъ и жалѣютъ страшную усталость существъ, волнуемыхъ черезчуръ сильными для нихъ страстями. Эта усталость наполняетъ цѣликомъ Адольфа, какъ и послѣднія страницы Принцессы, Кіевской, скорбнымъ чувствомъ человѣческаго безсилія.
Говорили, что роману не хватаетъ поэтическаго вымысла, что онъ не трогаетъ сердца, что въ немъ не видно сценъ и умѣнья изображать вещи, создавая изъ нихъ рамку для сердечной исторіи. Я уже соглашался и буду соглашаться съ тѣми, кто признаетъ у Констана извѣстный недостатокъ фантазіи. Но въ данный моментъ и относительно указанныхъ пунктовъ я протестую или, вѣрнѣе, оспариваю ихъ мнѣніе. Оригинальность и искренность этой книги заключается въ томъ, что въ ней вы не находите тѣхъ сентиментальныхъ изліяній, которыхъ вы ищете въ романѣ, особенно въ романѣ этой эпохи. „Чары любви, кто опишетъ васъ?..** При этихъ словахъ вы спѣшите и заранѣе предвкушаете страницу нѣжнаго краснорѣчія, но нигдѣ ея не находите. Вы ошиблись, думая, что Констанъ хотѣлъ подарить васъ ею. Васъ обманули первыя слова: „Чары любви**, напомнившія вамъ Жанъ-Жака. Жанъ-Жакомъ отзывается единственно тонъ первыхъ словъ, приступъ къ отрывку, но не ожидайте или не опасайтесь поддѣлки подъ Новую Элоизу. Наперекоръ вступленію вы получите суровый и глубокій анализъ извѣстнаго душевнаго состоянія: „на жизнь проливается внезапный свѣтъ, какъ бы объясняющій ея тайну; мельчайшія обстоятельства получаютъ особенное значеніе, часы быстро бѣгутъ... Мы отрѣшаемся отъ всѣхъ мелкихъ заботъ и чувствуемъ себя выше всего насъ окружающаго, мы увѣрены, что свѣтъ теперь не можетъ достать насъ тамъ, гдѣ мы живемъ*. Вмѣсто обѣщаннаго имъ
— 118 —
повидимому романса, Констанъ даетъ намъ точное опредѣленіе вѣчнаго воздѣйствія, какое имѣетъ на насъ сильнѣйшая изъ чарующихъ насъ иллюзій. Ничто не показываетъ нагляднѣе, насколько онъ субъективенъ и чуждъ романтическихъ традицій даже тогда, когда, повидимому, переходитъ на ихъ сторону.
Точно также Адольфъ „взбирается на холмъ, съ котораго виденъ домъ Элленоры, и стоитъ тамъ, не сводя глазъ съ этого убѣжища, въ которомъ онъ никогда не будетъ жить". Дома этого онъ не описываетъ къ сожалѣнію читателей; но развѣ представляетъ для него этотъ домъ какой-либо интересъ самъ по себѣ, иначе какъ жилище Элленоры? Вы думаете, Адольфъ видитъ его, замѣчаетъ окраску ставень или стиль его архитектуры? Для него это только „убѣжище, въ которомъ ему не жить никогда;" онъ и не любилъ бы его, какъ влюбленный, если бы могъ описать. Не вѣрьте любви того, кто сумѣетъ описать вамъ, какое платье было вчера на его возлюбленной. Вамъ хотѣлось бы здѣсь немножко риторики; самъ Констанъ очень богатъ ею, но ея, въ угоду вамъ, не долженъ имѣть Адольфъ. Доказательствомъ этого,—черта, достойная восхищенія,—служитъ то, что Адольфъ начинаетъ замѣчать вещи, лишь только перестаетъ любитъ. Вотъ вамъ и описанія, и картины природы, но,—на это недостаточно обращали вниманіе,— помѣщенныя туда, куда слѣдуетъ. Побывавъ въ свѣтѣ, почувствовавъ себя окончательно возвратившимся къ правильной жизни, составлявшей все время предметъ его сожалѣній, Адольфъ медленно, какъ въ тюрьму, возвращается въ замокъ Элленоры, оттягивая минуту прибытія; теперь, когда онъ освободился нѣсколько отъ страсти, всецѣло поглощавшей и захватывавшей его въ свой узкій кругъ, онъ снова начинаетъ видѣть и замѣчать окружающее его. Онъ вспоминаетъ прошлое и бросаетъ взглядъ на окрестности, опять появляющіяся передъ нимъ. Онъ „снова видитъ старый замокъ, въ которомъ жилъ съ своимъ отцомъ,... рѣку... лѣса... обрамлявшія горизонтъ горы", и все это, такъ „живо, такъ полно жизни, что его охватываетъ почти нестерпимая дрожь". Онъ видитъ и окружающую его тихую землю, ясное небо, успокоительное и торжественное безмолвіе. „Ночныя тѣни сгущались съ каждымъ мгновеніемъ; глубокое молчаніе, окружавшее меня, прерывалось лишь рѣдкими, отдаленными звуками... Я окидывалъ взглядомъ сѣроватый горизонтъ, которому уже не видно было границъ и который вызывалъ во мнѣ поэтому до нѣкоторой степени впечатлѣніе безпредѣльности... Такъ прошла почти вся ночь; я шелъ наудачу по полямъ и лѣсахъ, проходя безмолвныя селенія. Время отъ времени я замѣчалъ въ какомъ-нибудь отдаленномъ жилищѣ слабый свѣтъ прорѣзывавшій темноту"... —Человѣкъ, написавшій эту чудную страницу, безъ сомнѣнія художникъ, но художникъ очень трезвый, не признающій или пренебрегающій искусственными пріемами; въ немъ психологъ беретъ верхъ надъ
— 119 —
художникомъ и позволяетъ своимъ персонажамъ поэтизировать только тогда, когда это для нихъ возможно, когда ослабленіе страсти возвращаетъ свободу ихъ воображенію,—позволяетъ въ той мѣрѣ, въ какой это допускаетъ ихъ минутное уклоненіе, въ томъ направленіи, куда влечетъ ихъ складъ ихъ чувствъ.
Ошибочно также назвать сцены эти „недодѣланными": онѣ только не „передѣланы", выдаются за то, что онѣ есть; въ нихъ нѣтъ ни разрисовки, нп преувеличенія. Въ нихъ Констанъ такъ же прямодушенъ, какъ и въ своихъ признаніяхъ. Такова послѣдняя прогулка Элленоры: дѣло подъ вечеръ зимой; солнце печально освѣщаетъ сѣрыя поля;
„Она взяла меня подъ руку, и мы долго шли, не говоря ни слова; она подвигалась съ трудомъ, почти цѣликомъ склоняясь ко мнѣ. „Остановимся на минуту—„Нѣтъ, мнѣ пріятно все еще чувствовать вашу поддержку". И снова мы замолчали. Пебо было ясно, но деревья стояли безъ листьевъ; въ воздухѣ не чувствовалось никакого движенія, ни одна птица не пролетала мимо насъ; все было неподвижно, и шумъ производила только мерзлая трава, ломавшаяся подъ нашими ногами. „Какъ все спокойно! сказала Елленора. Какъ безропотно покорна природа! Не должно ли и сердце научиться покорности Она сѣла на камень... она стала на колѣни... я замѣтилъ, что она молится... „Вернемся, сказала она, мнѣ холодно, я боюсь дурноты".
Вотъ основная манера Констана. Онъ описываетъ сцену, какъ будто пишетъ страницу нравственной психологіи. Двумя или тремя сильными и рѣзкими чертами, которыя только и останутся въ умѣ читателя по прочтеніи ряда страницъ съ подробнымъ описаніемъ, онъ даетъ умѣлый ракурсъ, сжатый, увѣренный и рѣзкій рисунокъ, думая, что этого достаточно, такъ какъ только это должно сохраниться. Можетъ быть въ этомъ онъ и ошибается, и за то люди, прочитавшіе его только разъ, обвиняютъ его въ сухости. Но въ его книгѣ каждая страница открываетъ передъ нашимъ мышленіемъ широкіе горизонты, и, каждый разъ какъ перечитываешь ее, она представляется все болѣе полной и неисчерпаемой; да и написана она для тѣхъ, кто привыкъ перечитывать.- И все же,—къ этому нужно наконецъ прійти,—я самъ чувствую нѣкоторый недостатокъ фантазіи въ этомъ крупномъ произведеніи, но не той фантазіи, въ отсутствіи которой его упрекали и которую напротивъ мнѣ пожалуй непріятно было бы встрѣтить у него. Констанъ не высказываетъ всего, и это самое лучшее: дѣло читателя дополнить и благодарить автора за всѣ тѣ мысли, какія внушила ему книга. Констанъ избѣгаетъ побочныхъ описаній и не придумываетъ вставокъ и подробностей; это даетъ ему право на признательность потомства. Но у него нѣть всей той творческой фантазіи, какая нужна. Это замѣтно на второстепенныхъ лицахъ слабо очерченныхъ и почти безжизненныхъ. Отецъ Адольфа могъ бы бить очень интересенъ, содѣйствуя выясненію характера сына, но онъ обрисованъ недостаточно ясно и рѣзко; варшавскій другъ, окончательно отдаляющій Адольфа отъ Элленоры, смутно напоминаетъ любезнаго и
— 120 —
ловкаго дипломата, но набросанъ небрежно и нѣсколько сливается въ нашемъ представленіи съ отцомъ Адольфа; наконецъ, подруга Элленоры, роль которой могла бы быть столь важной, лицо столь интересное, въ романѣ едва набросана въ неясномъ профилѣ. Особенно жаль, что, изображая ее, Констанъ не сумѣлъ ее оживить: ему представлялся случай нарисовать портретъ м-мъ Рекамье, и онъ упустилъ его, даже два раза: первый—когда писалъ свой романъ въ 1806 году, и второй при изданіи его въ 1816 г. Въ 1806 г. это понятно: вытерпѣвъ бурю, онъ испытывалъ потребность разсказать только что пережитую имъ драму, чтобъ избавиться отъ нея, отдохнуть и, можетъ быть, еще насладиться ею. Его мысль и воображеніе были всецѣло заняты только двумя лицами, имъ и ею; увидавъ м-мъ Рекамье въ Коппе, онъ не обратилъ на нее вниманія, такъ какъ слишкомъ занятъ былъ другимъ. Правду сказать, онъ тогда и не зналъ ея совсѣмъ; но въ 1816 г. „бѣдный Бен-жаменъ" былъ знакомъ съ нею и даже, пожалуй, ближе, чѣмъ самъ того желалъ. Мнѣ жаль и меня удивляетъ, какъ онъ до печатанія книги не дополнилъ и не оживилъ портрета, который представилъ бы съ Элленорой любопытный и несомнѣнно очень поучительный контрастъ.
Да и сама Элленора представляетъ ли она собою вполнѣ ясное, яркое, глубоко продуманное лицо? На этотъ счетъ у меня есть сомнѣніе, вѣрнѣе безпокойство, и извѣстное колебаніе. Мнѣ кажется, она нѣсколько искусственно составлена изъ частей не совсѣмъ между собою гармонирующихъ. Она представляется мнѣ женщиной очень мягкой, нѣжной, склонной подчиняться и жертвовать собою любимому человѣку, готовою съ восторгомъ потонуть въ любви, которой она долго ждала и наконецъ нашла,—готовою пожертвовать ради нея своимъ почетомъ, своими столь любимыми прежде дѣтьми, которыхъ она теперь, полюбивъ Адольфа, называетъ просто „дѣтьми г-на П.,“ своимъ покоемъ, своею совѣстью, наконецъ, своею жизнью. Такой является она мнѣ въ началѣ, въ серединѣ и въ концѣ романа. Это—жертва, доставшаяся въ добычу и испытывающая безконечныя радости самопожертвованія. А въ такомъ случаѣ я не совсѣмъ понимаю ярость, вспыльчивость, тѣ сцены, въ которыхъ „мы говорили другъ другу все, что только могли внушить ненависть и гнѣвъ"... Я допускаю еще кокетство Элленоры въ концѣ: она хочетъ возбудить досаду и ревность, чтобы вернуть къ себѣ того, кто больше не любитъ ея, и неловко старается обратить на себя вниманіе другихъ мущинъ. Бѣдная! Но мнѣ непонятны ея гнѣвные порывы и вспышки. Обыкновеннымъ и грознымъ оружіемъ подобныхъ женщинъ въ поединкѣ, называемомъ любовью, служатъ слезы, робкія жалобы, полное погруженіе въ горе, потухшій голосъ н взглядъ. Когда Элленора становится Медеей, я чувствую себя нѣсколько сбитымъ съ толку.
Такая перемѣна быть можетъ находитъ себѣ объясненіе, и
— 121 —
даже не одно, а два. Мы знаемъ хорошо, о комъ думалъ Констанъ въ 1806 году, когда создавалъ Элленору, и знаемъ, что изъ деликатности, неизвѣстной въ наше время, онъ старался сдѣлать ее непохожей. По словамъ Сисмонди, „онъ перемѣнилъ для нея все: отечество, положеніе, внѣшность, умъ, всю ея жизнь и лич-ность“.—Но со всѣмъ тѣмъ онъ, конечно, не могъ и не хотѣлъ все уничтожить и все забыть. „На нее смотрѣли съ интересомъ, какъ любуются прекрасной грозой". Прекрасная гроза! Этой чертой онъ не хотѣлъ пожертвовать и вставилъ ее, выставилъ даже на видъ, извлекъ изъ нея все. что могъ. Но эта черта не гармонировала съ остальнымъ, а онъ не позаботился объяснить этотъ разладъ. Вѣдь не будетъ же объясненіемъ, если сказать объ Элле-норѣ романа, что „положеніе ея было двусмысленное, а чувства— высокія, и это-то противорѣчіе дѣлало ея настроеніе очень неровнымъ". Неровнымъ, пожалуй, но скорѣе робкимъ и пугливымъ, чѣмъ „яростнымъ" и необузданнымъ, какъ буря. Съ другой стороны, не позволивъ себѣ, что служитъ ему къ чести, дать намъ настоящую Элленору, онъ не сумѣлъ, соединивъ со своимъ энергическимъ умомъ богатую творческую фантазію, создать такое лицо, которое дало бы намъ полное ощущеніе реальности.
Вотъ тотъ родъ творческой фантазіи, котораго единственно и не хватаетъ Бенжамену Констану. Онъ не умѣетъ создать лицо совсѣмъ живое. Въ Адольфѣ—одна только живая личность, самъ авторъ. Чтобъ изобразить Адольфа ему надо было лишь всмотрѣться въ себя, взглянуть въ свою душу своимъ неподражаемо мягкимъ и въ то же время проницательнымъ взглядомъ. Чтобы создавать другія личности, нуженъ особый природный талантъ, которымъ не надѣленъ Констанъ. Если я сказалъ, что пожалуй одинъ Констанъ могъ написать Адольфа, то я пожалуй готовъ также сказать, что Б. Констанъ могъ написать только одинъ романъ, Адольфа. Впрочемъ, это прекрасная книга, не только образцовое произведеніе,—довольно было бы и этого,—но также драгоцѣнный источникъ для характеристики своего времени. Психологическому роману, придуманному Ларошфуко и Расиномъ и впервые написанному м-мъ де-Лафайетъ, не очень посчастливилось во Франціи. Лабрюйеръ быстро закончилъ свою карьеру. Изъ поверхностнаго наблюденія надъ „характерами", т. е. надъ типами съ ихъ внѣшними странностями и рѣзкими маніями, быстро развился, скрывавшійся до того подъ оболочкой смѣхотворнаго жанра, реальный романъ; скромный въ Персидскихъ письмахъ, широкій въ произведеніяхъ Лесажа, онъ скоро заполонилъ литературу. Едва успѣлъ Мариво въ своихъ разнохарактерныхъ сочиненіяхъ показать очарованіе и интересъ осторожнаго анализа сложныхъ чувствъ, какъ вниманіемъ завладѣли романы тенденціозные, служившіе только рамками для идей. И если на время оставить въ сторонѣ романы съ приключеніями и романы изъ семейной жизни, то мы приходимъ
— 122 —
къ роману сентиментальному а Іа Жанъ Жакъ, приводящему насъ къ м-мъ де-Сталь, если не называть м-мъ Коттенъ. Итакъ, если не имѣть въ виду глубокаго и ужаснаго Лакло, столь проницательнаго, но наблюдавшаго только одну, и самую гнусную, сторону души человѣка, то придется сказать, что Констанъ возстановлялъ, почти незамѣтно для самого себя, тотъ литературный жанръ, о которомъ не думали со времени Мариво и который самъ Мариво затронулъ только слегка и неловко. Итакъ, при всей слабости его творчества, Констанъ оказывается возстановителемъ одного изъ видовъ искусства, не въ силу своего воображенія, но благодаря особенно оригинальной манерѣ чувствовать и отдавать себѣ въ своемъ чувствѣ отчетъ. Творческимъ оказывался складъ его ума; къ его несчастію въ данный моментъ и къ великой славѣ его въ потомствѣ, это случилось какъ разъ въ то время, когда происходило обновленіе искусства въ совершенно иномъ направленіи, когда подъ могучимъ вліяніемъ Шатобріана всюду оживали и приходили въ движеніе дремавшія силы французскаго воображенія. Поэтому Адольфъ сначала прошелъ почти незамѣченнымъ и незамѣтно выросъ къ тому времени, когда литературная фантазія изсякла, и онъ сталъ образцомъ для терпѣливыхъ, внимательныхъ и проницательныхъ наблюдателей надъ темнымъ, полнымъ глухой тревоги міромъ, носимымъ нами въ себѣ.
Здѣсь то и нужно искать значеніе этого единственнаго въ своемъ родѣ произведенія. Психологическій романъ представляетъ собою одну изъ прекрасныхъ формъ литературы, но уже по самому, опредѣленію своему онъ предоставляетъ каждому изъ насъ весьма ограниченное поле дѣятельности. Сущность его состоитъ въ томъ, чтобы схватить и выразить человѣческое чувство не во внѣшнемъ его проявленіи, но въ самой его сути, передать тотъ сладкій трепетъ илп мучительное стѣсненіе, при которомъ чувства возникаютъ или которыми сопровождаются, зарождаясь въ самой глубокой складкѣ нравственнаго существа. Изъ чувствъ въ такомъ состояніи мы знаемъ только свои собственныя, или вѣрнѣе, самые проницательные и внимательные изъ насъ знаютъ только свои чувства п чувства всего ближе связанныхъ съ ними людей, жизнью которыхъ они жили.—Отсюда слѣдуетъ, что психологическій романъ можетъ и долженъ быть только рѣдкимъ, чтобы не стать сочиненіемъ искусственнымъ, недопустимымъ самымъ характеромъ жанра. Такой романъ, собственно говоря, не сочиняется, а переносится авторомъ, достаточно владѣющимъ своими чувствами, чтобы описать его. Придумать такой романъ, значитъ совершить почти нравственный проступокъ въ томъ смыслѣ, что это своего рода ложь; описывать же свой собственный, значитъ какъ бы профанировать чувство; выходитъ, что только въ рѣдкомъ случаѣ можно написать психологическій романъ, который не былъ бы ни проступкомъ, ни глупостью. Поэтому психологическое наблюденіе обыкно
— 123 —
венно служитъ основой или приправой для созданій фантазіи и входить въ нихъ только какъ часть въ цѣлое. Такъ какъ въ этомъ случаѣ оно носитъ характеръ болѣе общій и болѣе скрытый, то и пользоваться имъ не такъ рискованно.—Но являясь пожалуй самымъ труднымъ и отвѣтственнымъ изъ произведеній искусства, чисто психологическій романъ именно поэтому и даетъ понятіе объ абсолютной красотѣ. По самой природѣ своей онъ не допускаетъ ни ремесленности, ни изученія пріемовъ и уловокъ производства, а является какъ бы прямымъ непосредственнымъ произведеніемъ чистаго ума. На ряду съ сильнымъ умомъ, онъ требуетъ чрезвычайной тонкости и мѣткости стиля, прямодушія, искренности н строгой ясности ума, не поддающагося соблазнамъ сердца, а также извѣстной скромности, являющейся здѣсь мѣриломъ вкуса; однимъ словомъ, онъ требуетъ, если не нравсівеннаго величія, то по крайней мѣрѣ нравственнаго изящества, не всѣмъ свойственнаго. Если удастся преодолѣть, или вѣрнѣе, легко обойти всѣ эти трудности, онѣ превращаются въ красоты. Во всей нашей литературѣ Адольфъ даетъ намъ наименѣе несовершенное понятіе обо всѣхъ этихъ достоинствахъ достигаемыхъ безъ усилія, обо всѣхъ этихъ препятствіяхъ преодолѣваемыхъ незамѣтно, объ этой оригинальной и рѣдкой красотѣ.
III. Политическіе взгляды Венжамѳна Констана.
Когда знаешь характеръ Бенжамена Констана по его Дневнику, по его Письмамъ, по Адольфу, и читаешь его политическія и философскія сочиненія, то начинаешь къ чести автора думать, что на нихъ совсѣмъ не отразился его характеръ. Повидимому на его теоретическія произведенія не оказали никакого вліянія ни причудливое настроеніе, ни неизлѣчимо больная воля, ни порывы, ни подергиванія, ни мелкія бури съ короткими, но страшными валами, подобныя бурямъ его Леманскаго озера, ни та желчность и порча крови, которыхъ Сентъ-Бёвъ, пожалуй, одинъ во всѣмъ свѣтѣ не замѣчалъ въ Адольфѣ. И вотъ говоришь себѣ: вотъ это прекрасно; ничѣмъ нельзя выразить лучше уваженія къ своимъ идеямъ, какъ отдѣливъ ихъ отъ чувствъ, не говоря ужъ о томъ, что подобное отдѣленіе, пожалуй, не только доказываетъ уваженіе къ своимъ идеямъ, но является также однимъ изъ средствъ къ пріобрѣтенію ихъ. Итакъ мы имѣемъ дѣло съ истиннымъ мыслителемъ, съ человѣкомъ, не облекающимъ свои страсти въ теоріи, гнѣвъ въ систему, нерасположеніе въ доводы, а слабости въ соціологію.—Такое впечатлѣніе сохраняется довольно долго, но его слѣдуетъ остерегаться. Мы и здѣсь находимъ ту же ясность ума среди сердечныхъ бурь, которой мы обязаны Адольфомъ. Она помогла Констану не только познать себя, что является уже нѣкоторымъ освобожденіемъ; она также въ значительной степени помогла
— 124 —
•ему освободиться отъ самого себя. Она помогала ему оставлять у двери рабочаго кабинета, когда онъ рѣшался входить въ него, добрую половину его безразсуднаго, вѣчно измѣнчиваго „я.“ Она позволила ему пронести длинный рядъ идей черезъ самую безпорядочную жизнь, быть великимъ политическимъ писателемъ и вмѣстѣ великимъ политикомъ,—вещь рѣдкая и впослѣдствіи немыслимая, да и тогда уже мало обыкновенная. Она позволила ему сохранить ясные, твердые, неизмѣнные принципы, хотя его частная жизнь ихъ не допускала, а въ мірѣ политическомъ онъ велъ не мирившуюся съ ними жизнь вѣчно торопящагося честолюбца. Термидоріанецъ, поборникъ Директоріи, сторонникъ Консульства, а потомъ Ста дней, онъ вѣчно бродилъ около власти съ нетерпѣливымъ желаніемъ пріобрѣсти ее, и притомъ (не такъ часто, какъ это говорили, но, несомнѣнно, иногда) отвлекаемый любимой рукою къ одной партіи, въ то время какъ самъ онь склонялся къ другой; да и вообще онъ былъ очень неразборчивъ въ дѣлѣ сближеній и знакомствъ, и я вовсе не думаю извинять его въ этомъ. Нужно только замѣтить, просто потому что это правда, что онъ такъ мало дорожилъ своей доброй славой, если хотите, своимъ достоинствомъ, но не идеями. Онѣ были менѣе продажны чѣмъ самъ онъ, даже не были продажны совсѣмъ. Его честь отличалась гибкостью, а умъ непоколебимостью. Будь то Директорія, Консульство или Сто дней, Констанъ сначала располагался тамъ, какъ у себя дома, а затѣмъ начиналъ спокойно развивать свою программу либеральной политики, всегда неизмѣнную, принадлежавшую ему одному и не заключавшую въ себѣ ничего лакейскаго.—Поэтому также, входя всюду, онъ, надо ему отдать справедливость, нигдѣ не оставался. Когда Людовикъ-Филлпнъ заплатилъ за него долги, онъ принялъ одолженіе со словами: „Но предупреждаю, я все равно буду бороться съ вами, если найду васъ плохимъ**. Про него сложилась ужасная поговорка: „Онъ продался, но не отдался**. Это зло, но справедливо и попадаетъ дальше цѣли. Примирялся ли онъ просто изъ честолюбія или по еще болѣе низкимъ побужденіямъ, въ немъ оставалось нѣчто, чѣмъ онъ не могъ пожертвовать; это его идеи. Онѣ не зависѣли ни отъ его чувствъ, ни отъ его страстей, ни отъ его слабостей, ни отъ его нуждъ; онѣ какъ бы совсѣмъ не зависѣли отъ него. Онъ, представлялъ собою странное зрѣлище человѣка, отъ котораго можно отдѣлить его идеи, чтобы разсмотрѣть ихъ отдѣльно и съ большею свободою восхищаться ими.
А между тѣмъ, если и нужно удержать что-нибудь изъ этого перваго впечатлѣнія, то его не слѣдуетъ сохранять цѣликомъ. Корни идей Констана не въ его страстяхъ, но своимъ отдаленнымъ источникомъ онѣ имѣютъ далекій, глубокій и спокойный уголокъ его души, все-таки и тѣмъ сильнѣе завися отъ его характера. Какъ я сказалъ, основой характера Бенжамена Констана, на которую онъ опирался, когда ему удавалось овладѣть собой, служилъ сво
— 125 —
его рода эгоизмъ, отличавшійся большою порядочностью и пристойностью, но вмѣстѣ съ тѣмъ рѣзкостью и требовательностью. Страшное стремленіе къ независимости, стѣсненное требованіями жадной до наслажденія натуры,—вотъ Бенжаменъ Констанъ. Отсюда слѣдуетъ, что, освобождаясь отъ этихъ стѣсненій, онъ естественно возвращался какъ разъ къ этому инстинкту независимости и автономіи. Индивидуализмъ былъ для него отплатой за слабости. Защиты отъ увлеченій своею чувствительностью онъ искалъ не въ духѣ самоотверженія, жертвы или просто человѣчности, а въ разумномъ и отлично обоснованномъ эгоизмѣ. Когда онъ уходилъ изъ салона, изъ-за ужина или изъ игорнаго дома, онъ не становился членомъ великаго союза, работникомъ великаго общаго дѣла или великой цѣли, а стремился быть самимъ собой, распоряжаться собою и наслаждаться этимъ. Этотъ пугливый эгоизмъ служитъ основой всей его политической системы, быть можетъ всѣхъ его религіозныхъ идей.
Констанъ создалъ либерализмъ чрезвычайно прямой и удивительно холодный и сухой, представляющій собою просто вѣчную потребность личной автономіи и ревнивое стремленіе поставить всѣ возможныя преграды между „я“ и всѣми существующими, или предвидимыми, или подозрѣваемыми формами „не я". Констанъ относится съ постояннымъ недовѣріемъ къ инстинкту общественности во всѣхъ его формахъ, со всѣми его силами и, слѣдовательно, со всѣми его стѣсненіями. Его девизомъ не было бы ни „Сохраню", ни „Разрушу", но „Защищаюсь".
Для иныхъ людей главное—нація; для другихъ—національная традиція,—что отнюдь не одно и то же и часто совершенно противоположно первому; для третьихъ,—какъ напримѣръ для аристократіи, —національный духъ; для четвертыхъ—законъ; для Констана— гражданинъ или человѣкъ, другими словами: „я". Деспотизмъ—варварство; демократія—все тотъ же деспотизмъ. „ Подъ свободой я разумѣю торжество (даже не независимость, а торжество) индивидуальности, какъ надъ авторитетомъ, желающимъ властвовать при помощи деспотизма, такъ и надъ массой, требующей права порабощать меньшинство большинству*.—Констанъ какъ бы стоитъ на стражѣ чьихъ бы то ни было посягательствъ на индивида.
Заговорите вы съ нимъ о правительствѣ, онъ скажетъ вамъ* будьте осторожны; это—органъ государства, непобѣдимо стремящійся считать себя государствомъ и дѣйствительно стать таковымъ путемъ допущеннаго захвата. Нужно ограничить его обязанности, въ которыхъ только и заключается его право. Онъ вовсе не утверждаетъ этимъ, что нужно какъ можно меньше правительства; это теорія Годвина и ее напрасно приписываютъ Констану. Онъ требуетъ не какъ можно меньше правительства, а минимума его, — что не одно и то же. Онъ требуетъ строгаго опредѣленія точныхъ границъ полезности правительства, границъ, которыя
— 126 —
станутъ предѣлами его права и его власти; внутри ихъ его сила должна быть велика, а внѣ ихъ она должна равняться нулю. „Не нужно, чтобы правительство выходило изъ своей сферы, но власть его въ своей области должна быть неограниченна*. Онъ требуетъ, чтобы правительство пользовалось свободной дѣятельностью, степень силы которой опредѣлялась бы тѣми услугами, какія оно можетъ оказать личности; онъ желаетъ, чтобы оно пользовалось ровно тою долей могущества, какая необходима ему, чтобы защищать меня извнѣ и оказывать мнѣ покровительство внутри. Но сверхъ этого пусть оно не требуетъ отъ личности никакой жертвы и не имѣетъ надъ нею никакой власти; другими словами, личность вооружаетъ его исключительно въ своихъ интересахъ и ограничиваетъ размѣры его вліянія для своей безопасности.
Заговорите вы съ Констаномъ объ аристократіи? Нѣкоторые слѣды ея онъ сохранилъ въ своей системѣ. Онъ, напримѣръ, желаетъ наслѣдственной верхней палаты, не объясняя отчетливо, почему онъ желаетъ ее такою. Но онъ совсѣмъ не понимаетъ аристократической системы. Онъ видитъ въ ней лишь притѣсненія, привилегіи, присвоеніе части общественной силы однимъ классомъ въ ущербъ личности; онъ совсѣмъ не допускаетъ и не понимаетъ скопленія общественной силы гдѣ бы то ни было. Аристократія представляется ему, ярому врагу деспотизма, болѣе опасной, чѣмъ самъ деспотизмъ: „Она особенно пагубна въ эпоху торговли и просвѣщенія, когда немыслима абсолютная власть одного лица; а если чистый деспотизмъ становится невозможенъ, то настоящимъ бичемъ является аристократія". Но прежде всего слѣдовало бы доказать, что возможно такое время, когда деспотизмъ дѣйствительно немыслимъ, и что, въ случаѣ его возможности, аристократія не служитъ для него уздой.
Заговорите вы съ Констаномъ о демократіи? Онъ какъ будто склоняется на ея сторону. Онъ разсматриваетъ все развитіе человѣчества какъ прогрессивное движеніе къ равенству. „Способность человѣческаго рода совершенствоваться есть не что иное, какъ стремленіе къ равенству". Но, замѣчательная вещь, онъ стоитъ за равенство, не будучи демократомъ. Онъ хочетъ равенства людей для того, чтобы ни одинъ не навязывалъ своей воли другому, а не для того, чтобы всѣ навязывали свою волю каждому,—такъ какъ это было бы сильнѣйшимъ ограниченіемъ индивидуальной свободы и самымъ тяжелымъ стѣсненіемъ человѣческой личности. Руссо ошибается, думая, что „всякій индивидъ уступаетъ свои права общинѣ". Это—теорія деспотизма; индивидъ не отрекается, не смѣетъ отречься отъ своихъ правъ; даже еслибъ онъ хотѣлъ стать вещью, онъ остается человѣкомъ. Люди равны въ томъ смыслѣ, что они равно свободны, а не въ томъ, что одинаково содѣйствуютъ деспотизму, такъ какъ всеобщій деспотизмъ падаетъ
— 127 —
на всякаго, п крайнимъ выраженіемъ его служитъ всеобщее равенство въ рабствѣ. Демократія—не свобода; это—опошленіе дес-ептизма.
Заговорите вы съ Констаномъ о законѣ? Здѣсь онъ высказываетъ оригинальныя и совершенно новыя мысли. Онъ не скажетъ вамъ, подобно нѣкоторымъ: „это зависитъ отъ того, кто его создалъ", а наоборотъ заявитъ: кѣмъ бы пи былъ законъ созданъ, наихудшей ошибкой въ политикѣ служитъ идея его верховенства. Говорить о такомъ состояніи, гдѣ всякій подчиненъ только закону, и гдѣ законъ сильнѣе всѣхъ людей,—не значитъ давать опредѣленіе свободы. Есть закопы притѣснительные, законы тиранническіе, которымъ не слѣдуетъ подчиняться. Это тѣ, которые умаляютъ человѣческую личность и затрогиваютъ самую сущность человѣка, требуя, чтобы онъ отрекся отъ самого себя; затѣмъ, это тѣ, которые завладѣваютъ, если не мыслью, вѣрованіями, нравственной личностью его, то его силами, дѣятельностью, здоровьемъ, собственностью больше, чѣмъ это строго необходимо для сохраненія государства, требуютъ отъ индивида ббльшаго вклада въ общую массу, чѣмъ сколько нужно для существованія общины. Это законы если не неправые, то несправедливые въ томъ смыслѣ, что они основаны на капризѣ и произволѣ. Въ этихъ случаяхъ законъ— деспотъ. Онъ поступаетъ, какъ государь, у котораго есть свои прихоти, фантазіи, личные вкусы, въ особенности склонность къ захвату, подчиненію и поглощенію; съ нииъ нужно поступать, какъ съ неограниченнымъ деспотомъ: противъ него законенъ мятежъ. — Верховенство закона, это—безличный деспотизмъ.
Вотъ абсолютный либерализмъ. Онъ приходитъ къ отрицанію всякаго верховенства. До Констана всѣ публицисты старались найти государя; Констанъ объявилъ, что его нѣтъ. Я вовсе не преувеличиваю измѣннически его выводовъ; вотъ его слова: „Въ человѣческой личности есть сторона, по природѣ необходимо остающаяся независимой и личной... Переступая этотъ предѣлъ, общество является узурпаторомъ, большинство—насильникомъ... Когда власть совершаетъ подобныя дѣла, не важно, откуда она выводитъ свое начало, называется ли она индивидомъ или націей; будь она цѣлой націей безъ притѣсняемаго ею гражданина, она не станетъ отъ этого болѣе законной".
Что это значитъ? — То, что у человѣка есть личное право, вполнѣ неотъемлемое и ненарушимое; нѣтъ ничего выше его; оно не склоняется ни передъ чѣмъ и не зависитъ отъ самого человѣка. Это не что иное, какъ божественное право человѣка. — Что бы люди ни дѣлали, они всегда кончаютъ тѣмъ, что помѣщаютъ верховенство куда-нибудь. Патріоты приписываютъ его или королю, олицетворяющему собою націю, или самой націи. Отвлеченные умы находятъ его въ законѣ, ораторы — въ парламентѣ. Люди независимаго и нѣсколько эгоистическаго характера не приписываютъ
— 128 —
верховенства никому, но, не отдавая себѣ ясно въ томъ отчета, присвоиваютъ себѣ его начало и желаютъ такого общества, въ которомъ никто и ничто не властвовало бы надъ всѣми, но всѣ были бы возможно полнѣе господами самихъ себя. Такъ и въ случаѣ Констана. Пылкое стремленіе быть господиномъ надъ собой, только усиливаемое чувствомъ своей невольной зависимости, породило систему самаго крайняго и смѣлаго индивидуализма, когда либо созданнаго разумнымъ человѣкомъ.
Но всякое право должно имѣть основаніе. На что опирается божественное право человѣка, выдаваемое Констаномъ за законъ общества? Онъ ясно чувствовалъ, что оно не можетъ зависѣть лить отъ самого себя, существовать само собою и опираться лишь на естественную любовь человѣка къ самому себѣ. Если у человѣка, говоритъ онъ намъ, есть сторона, которою онъ не обязанъ обществу и которую онъ можетъ защищать отъ него, то это потому, что человѣкъ существо нравственное, и свою нравственную личность онъ и долженъ беречь и защищать. Государство останавливается тамъ, гдѣ начинается совѣсть; государство не можетъ предписывать человѣку того, что ему запрещаетъ совѣсть. Границей закону служитъ та точка, гдѣ съ нимъ встрѣчается нравственное чувство человѣка. Подобно философамъ, основывающимъ свободу воли на существованіи нравственнаго закона въ человѣческомъ сердцѣ, Констанъ на этомъ же законѣ и на невозможности для человѣка отрѣшиться отъ него основываетъ свободу политическую. Часто говорили, что деспотизмъ низводитъ человѣка на степень животнаго, такъ какъ дѣйствительно одинъ нравственный законъ отличаетъ животныхъ отъ насъ; если соціальный законъ не имѣетъ законной власти надъ всѣмъ человѣкомъ, то это потому, что онъ встрѣчаетъ въ человѣкѣ существо, имѣющее свой законъ въ себѣ.
Констанъ очень тонко замѣчаетъ, что „даже люди, провозглашающіе подчиненіе законамъ строгимъ и непремѣннымъ долгомъ, всегда исключаютъ изъ своего правила сторону ихъ интересующую. Паскаль исключалъ отсюда религію; въ вопросахъ религіозныхъ онъ не подчинялся власти гражданскаго закона и эгимъ неповиновеніемъ вызывалъ противъ себя преслѣдованіе".—Принципъ таковъ: человѣкъ священенъ, такъ какъ онъ представляетъ собою храмъ; онъ пользуется божественнымъ правомъ, такъ какъ носитъ въ себѣ нѣчто божественное; онъ не обязанъ подчиняться законамъ, противорѣчащимъ его внутреннему чувству; общественный законъ не имѣетъ значенія передъ закономъ нравственнымъ, а право совокупное—передъ правомъ личнымъ.—Это также тотъ, пожалуй, неожиданный изворотъ, при помощи котораго человѣкъ сомнительной нравственности, отыскивая основаніе для своей системы, приходитъ къ морали, чтобы не остаться при одномъ эгоизмѣ. Онъ не хотѣлъ видѣть ничего кромѣ правъ человѣка, и для того
— 129-
чтобы сдѣлать его свободнымъ, онъ объявилъ его священнымъ; чтобы обезпечить ему свободу, онъ провозгласилъ его богомъ.
Эти идеи отличаются извѣстною новизною, ясностью, даже красотою. Констанъ—прекрасный политическій критикъ. Онъ отлично подмѣчаетъ недостатки системы, крайности, къ которымъ она стремится, начало ея упадка и въ особенности основы ея несправедливости. Въ этомъ онъ оказывается отличнымъ ученикомъ Монтескьё. Какъ и учитель,—иногда даже лучше, благодаря своему знакомству съ двумя различными проявленіями деспотизма, не виданными Монтескьё,—онъ умѣетъ подмѣтить и показать зародыши деспотизма, заключающіеся въ извѣстной теоріи. У него замѣчательно тонкій анализъ. Онъ говоритъ напримѣръ: „Доказывать, что основаніемъ существующаго соціальнаго порядка служитъ злоупотребленіе, не значитъ оправдывать его. Всякій разъ, какъ въ общественномъ строѣ является злоупотребленіе, оно представляется основаніемъ всего, такъ какъ, при его инородности и обособленности, для сохраненія его нужно, чтобы все примѣнялось къ нему, сосредоточивалось вокругъ него, т. е., чтобы все опиралось на него. Таково рабство, затѣмъ феодализмъ, далѣе дворянство..." — Подумайте о нашемъ всеобщемъ избирательномъ правѣ, и вы увидите, насколько это справедливо. Это замѣчаніе могло бы составить параграфъ Духа Законовъ. Анализъ здѣсь настолько вѣренъ, что оказывается пророческимъ, какъ это нерѣдко бывало съ анализомъ Монтескье.
Какъ теоретикъ Констанъ не лишенъ глубины. При своей чрезвычайной проницательности онъ замѣтилъ нѣчто новое, что едва подозрѣвали политическіе мыслители ХѴПІ вѣка, именно, что свобода не заключается въ верховенствѣ закона, что и законъ можетъ быть тираномъ. Монтескьё назвалъ свободу „правомъ дѣлать то, чего не запрещаетъ законъ". Изъ этого опредѣленія свободы легко вывести, ужасающую систему деспотизма. Констанъ хорошо понимаетъ, что или свободы не будетъ совсѣмъ, или она будетъ провозглашена и поставлена выше закона, и законъ долженъ будетъ остановиться передъ ней. Онъ видитъ необходимость опредѣленія области личныхъ правъ и вольностей, предѣлы которой будутъ недоступны ни для монарха, ни для націи, ни даже для закона. Онъ хорошо понимаетъ, что теоретики ХѴШ вѣка въ своихъ поискахъ основы для свободы, отнявъ власть у одного лица и вручивъ ее всѣмъ гражданамъ или закону, лишь перемѣстили деспотизмъ; поэтому, не желая довольствоваться перемѣщеніемъ власти, онъ не помѣщаетъ ея никуда.—Но эта система либерализма плохо имъ обоснована и недостаточно отграничена. Основаніемъ ей, не то слишкомъ узкимъ, не то черезчуръ широкимъ, служитъ нравственная совѣсть. Положимъ, законъ долженъ уважать во мнѣ лишь то, что мнѣ предписываетъ совѣсть и можетъ взять у меня все остальное. Въ этомъ случаѣ ему достаточно не быть уголов
— 130 —
нымъ и предоставлять мнѣ свободу быть честнымъ человѣкомъ. Ясно, что этого недостаточно. Положимъ теперь, что изъ уваженія къ моему внутреннему закону, законъ общественный долженъ предоставить мнѣ выборъ способа пользованія всѣми моими силами и не брать у меня ничего изъ того, въ чемъ я сочту нужнымъ ему отказать. Въ такомъ случай я вполнѣ добросовѣстно приноровлю свою совѣсть къ своимъ интересамъ и, напримѣръ, откажусь проливать кровь, чтобъ уклониться отъ военной службы. Совѣсть слишкомъ подчиняется желаніямъ личности, чтобъ служить прочной границей, у которой должно останавливаться право общества. Поэтому Констанъ почти постоянно упускаетъ изъ вида эту основу своей теоріи.
Но въ такомъ случаѣ какую онъ можетъ указать другую границу личныхъ вольностей? Ту, къ которой, часто забывая о первой, онъ постоянно возвращается: я законно владѣю всѣми присущими мнѣ силами, кромѣ тѣхъ, которыя нужны государству для его существованія. Вотъ, дѣйствительно, ясная формула, и найти ее было со стороны Констана прекраснымъ дѣломъ. Только при ней свобода перестаетъ служить основой въ теоріи, а на практикѣ границы личнаго владѣнія остаются неопредѣленными. Если размѣры моихъ уступокъ государству опредѣляются нуждами послѣдняго, то опредѣлять эти нужды будетъ само государство, и вотъ я возвращаюсь къ полной зависимости отъ общества. Моя свобода перестаетъ быть началомъ священнымъ, предъ которымъ все должно преклоняться; она уже не догматъ, а я не святилище. Если свобода моя имѣетъ предѣлы и ихъ опредѣляю не я, а кто-то другой, то она зависитъ отъ произвола этого другого и можетъ стать для меня рабствомъ. Когда я самъ опредѣлялъ предѣлы моей свободы, основываясь на требованіяхъ совѣсти, эта свобода оказывалась неограниченной; теперь, когда всѣ вы опредѣляете мои повинности сообразно съ вашими нуждами, моя свобода превращается въ ничто.—И на практикѣ та область личныхъ правъ, которую ревниво охраняетъ Констанъ, имѣетъ предѣлы колеблющіеся, смотря по обстоятельствамъ. Если государство справедливо и не требуетъ болѣе того, что необходимо для его существованія, въ чемъ, спрашивается, оно дѣйствительно нуждается?—Иногда во многомъ, въ другое время въ маломъ; во всемъ, когда отечество въ опасности, и почти ни въ чемъ, когда оно сильно. Поэтому вопросъ заключается даже не въ томъ, кто будетъ опредѣлять эти предѣлы, но какъ опредѣлить ихъ.
Ничто въ мірѣ не опредѣляется съ такимъ трудомъ какъ свобода, и ничто съ такимъ трудомъ не обосновывается, какъ либеральная политическая система. Прочному обоснованію ея Констаномъ мѣшаетъ близость его къ ХѴІП вѣку; это заставляетъ его, подобно тѣмъ философамъ, съ которыми онъ расходится, исходить отъ основныхъ началъ и примѣнять дедукцію. Его, конеч
— 131 —
но, нельзя назвать чистымъ метафизикомъ; по складу своего ума, а также по времени онъ стоитъ посрединѣ между предшествовавшей ему школой логической и слѣдовавшей за нимъ исторической. Онъ знакомъ съ фактами, принимаетъ ихъ въ разсчетъ, часто къ нимъ обращается; но исходитъ онъ отъ основного начала, которымъ для него служитъ свобода. А именно свобода и не можетъ быть принципомъ; она представляетъ собою нѣчто менѣе почтенное и болѣе настоятельное: это—фактъ. Какимъ образомъ Бенжаменъ Констанъ, написавшій прекрасную статью „О свободѣ у древнихъ п у современныхъ народовъ", не замѣтилъ достаточно ясно того, что государство принадлежитъ древней исторіи, а свобода—исторіи современной, и что этимъ исчерпывается весь вопросъ? Свободу создаетъ и навязываетъ міру не „право человѣка", а исторія человѣка, сначала придающая каждому своеобразіе, а затѣмъ превращающая это своеобразіе въ право. —Сначала появляется не свобода мысли, а просто одна мысль, затѣмъ другая, потомъ сотня тысячъ другихъ, наконецъ, почти столько мыслей, сколько людей; наступаетъ моментъ, когда ни одинъ человѣкъ не думаетъ одинаково со своимъ сосѣдомъ, оказывается необходимымъ признать это многообразіе и провозгласить на дѣлѣ уже существующую свободу мысли.—Не свобода совѣсти служитъ исходной точкой, а вѣра общая для всѣхъ; но мало-по-малу вѣрованія начинаютъ различаться, увеличивается число различныхъ толковъ, является безчисленное множество различныхъ способовъ поклоненія, религія получаетъ личный характеръ, и послѣ долгой борьбы люди подчиняются этой розни и условливаются уважать въ каждомъ его пониманіе таинственнаго. Повторяясь безконечное число разъ, фактъ упрочивается и создаетъ право. Такъ было и во всемъ остальномъ.
Если личныя вольности почти неизвѣстны древнимъ, то это потому, что у нихъ не существовало крайняго раздѣленія идей, чувствъ, мнѣній и даже способностей. Они не были индивидуалистами, потому что не были индивидуальны. Они были индивидуальны въ искусствѣ. Нѣсколько художниковъ—поэтовъ или художниковъ—философовъ возвышались надъ толпой до особеннаго понятія о жизни, и эта-то именно оригинальность генія и создала индивидуальную свободу мысли и слова, отличавшую выдающихся людей,—свободу относительную и спорную, но тѣмъ не менѣе знакомую древности. Что касается простонародья, у него не было такого права, такъ какъ право это не развилось еще изъ факта; (У народа не было личной свободы, такъ какъ личности не различались еще рѣзко. Не было раздѣленія труда и знанія, почти что не существовало разницы способностей и совсѣмъ не было различія вѣрованій; одинъ и тотъ же человѣкъ готовился въ ораторы, сановники, жрецы и полководцы и дѣйствительно часто бывалъ
— 132 —
потомъ жрецомъ, ораторомъ, полководцемъ, сановникомъ, военнымъ интендантомъ и даже поэтомъ.
. Научная цивилизація измѣнила все это. Въ наше время между двумя людьми, живущими вмѣстѣ въ одномъ домѣ, существуетъ крупное различіе. По мысли я несомнѣнно ближе къ какому-нибудь греческому или римскому ритору, чѣмъ къ моему сосѣду инженеру. Я не понимаю рѣчи естественника, или юриста, или богослова, или музыканта; даже общій складъ его ума удивляетъ и безпокоитъ меня, и я чувствую, что и мой образъ мыслей смущаетъ его: поэтому мы ограничиваемся банальнымъ разговоромъ. Вотъ уже пять вѣковъ какъ люди работаютъ надъ своимъ разъединеніемъ. Да и что подѣлаешь при продолжающейся и все усиливающейся розни, дѣлающей общія идеи и вѣрованія одного до извѣстной степени непроницаемыми для другого? Естественно девизомъ будетъ: „всякій самъ по себѣ". Свобода является не чѣмъ другимъ, какъ разоруженіемъ людей безсильныхъ покорить другъ друга. Люди приняли ее за священное право, такъ какъ ко всѣмъ ихъ понятіямъ еще примѣшивается остатокъ метафизики и богословія; они окружили ее формулами или высокопарными фразами, смотря по склонности каждаго, и превратили ее въ принципъ. Мы, вообще, превращаемъ въ разумное начало всякій крупный историческій фактъ, который затрогиваетъ насъ и оказываетъ на насъ вліяніе. Въ этомъ еще нѣтъ большой бѣды; но есть факты, трудно поддающіеся преобразованію въ начала, и къ числу ихъ принадлежитъ свобода.
Повидимому, Констану не удалось найти удачную формулу для свободы, разсматриваемой какъ отвлеченный принципъ. Она для него или только уваженіе къ нравственной совѣсти, и въ такомъ случаѣ границы ея для нашего времени оказываются слишкомъ узкими; или же она опредѣляется формулой: все для государства кромѣ тою, что ему не нужно для существованія, и въ этомъ-случаѣ она является чѣмъ-то случайнымъ и неопредѣленнымъ,, совсѣмъ лишеннымъ характера принципа.
Лучше было предупредить людей, что въ такомъ случаѣ необходимо внимательное изученіе историческихъ фактовъ. Будемъ каждые полвѣка задавать себѣ вопросъ, какую долю личности работа раздробленія общества, называемая цивилизаціей, отняла окончательно у общей жизни и превратила въ личную собственность, такъ какъ эта доля неодинакова у разныхъ людей. Сначала признаемъ, что при существованіи тысячи различныхъ наукъ,—у каждаго человѣка своей собственной,— государственная наука не можетъ существовать; затѣмъ заявимъ, что разъ существуетъ десять религій, и всѣ онѣ серьезны и важны, не можетъ быть государственной религіи; наконецъ скажемъ, что, разъ двѣ или три значительныя группы отцовъ семействъ понимаютъ воспитаніе двумя или тремя различными способами, не можетъ уже быть государ
— 133 —
ственнаго воспитанія въ теоріи, такъ какъ это уже не вѣрно на практикѣ. Признаемъ, что эти постепенныя урѣзки обезсиливаютъ « ведутъ къ гибели государство, и, такъ какъ мы не одни на свѣтѣ, то посмотримъ на успѣхи той же самой работы у другихъ народовъ, чтобы сообразоваться съ ними. Изъ всѣхъ этихъ различныхъ наблюденій, чисто практическихъ, выведемъ практическое, современное, но всегда временное опредѣленіе свободы, отнюдь не принимая ее впрочемъ за неизмѣнный и непоколебимый принципъ, такъ какъ это можетъ представлять много неудобствъ, напримѣръ, приводить прямо къ анархіи. Систематическій либералъ это—анархистъ, не рѣшающійся открыто выразить свое мнѣніе, а анархистъ— непримиримый либералъ.
Когда у Бенжамена Констана вырывается утвержденіе, что „цѣлый народъ, за выключеніемъ притѣсняемаго имъгражданина, является мятежникомъ и узурпаторомъ", потому что стѣсняетъ совѣсть этого единственнаго гражданина,—онъдоводитъ свободу человѣка до упраздненія государства. Онъ утверждаетъ, что нѣтъ государственной совѣсти, и, живя въ XIX вѣкѣ по Рождествѣ Христовѣ, я съ нимъ въ этомъ согласенъ; но онъ говоритъ также, что власть государства можетъ быть ограничена личною совѣстью, которая можетъ опредѣляться капризомъ или корыстью, и провозглашаетъ упраздненіе патріотизма. Иа это Сократъ, при всемъ его индивидуализмѣ, вѣроятно отвѣтилъ бы ему обращеніемъ отъ лица заколовъ. Съ исторической точки зрѣнія . не рискуешь впасть въ такія ошибки. Тутъ ясно, что свобода является не непримиримымъ принципомъ, а мировою сдѣлкою, что ее надо беречь, какъ берегутъ и уважаютъ факты, когда они представляютъ силу. Если въ общественномъ организмѣ является новая крупная сила, религія, ассоціація, мнѣніе, даже просто индивидуальность, изъ тѣхъ, которыя запечатлѣны геніемъ, то государство должно понимать, что нужно предоставить ей свободу развитія, хотя бы потому, что оно потеряетъ гораздо больше, потративъ свои силы на ея истребленіе, чѣмъ оставивъ ей жизнь. Государство—это совокупная сила, вступающая въ сдѣлку съ частными силами, но не съ личными фантазіями.
Вотъ, скажете вы, очень аристократическій либерализмъ!—Да безъ сомнѣнія, и мнѣ кажется, Бенжаменъ Констанъ не правъ еще и тѣмъ, что при своемъ либерализмѣ онъ ни капли не былъ аристократомъ. Государство—это господство одного человѣка надъ всѣми, т. е. деспотизмъ, или это господство всѣхъ надъ каждымъ, т. е. тотъ же деспотизмъ, какъ это лучше всѣхъ показалъ Б. Констанъ. Ни того, ни другого деспотизма онъ не желаетъ; что предполагаетъ онъ между этими двумя крайностями? Хартію личныхъ правъ, которой никто не можетъ нарушить ни сверху, ни снизу. Никто еще не пробовалъ откровеннѣе раздѣлить двухъ могучихъ противниковъ листомъ бумаги. И кто же будетъ охранять и за
— 134 —
щищать эту хартію? Весь свѣтъ.—Хорошо, если вамъ удастся убѣдить всѣхъ.
Будетъ ли эта хартія провозглашеніемъ нравъ, какъ вы думаете, или, по моей мысли, мирнымъ договоромъ между воюющими сторонами, — она должна быть поручена могущественной корпораціи, ие имѣющей ни выгоды, ни желанія ее нарушать. Между властью и народомъ, если вы не хотите стать жертвою той или другого, а желаете спасти свободу, вамъ необходимы тѣ „посредствующія корпораціи“, о которыхъ говоритъ Монтескьё, которыя не заинтересованы ни въ захватахъ власти, ни въ мятежахъ толпы, и, превращая вашу хартію въ свою собственность, сообщаютъ ей силу.—Затѣмъ, если вы не хотите передавать верховенство ни отдѣльному человѣку, ни всѣмъ вмѣстѣ,—что вполнѣ справедливо, — отсюда не слѣдуетъ, что его можно не отдавать никому, какъ вы это дѣлаете,—это невозможно,—или отдать конституціонной хартіи, какъ вы думаете сдѣлать, такъ какъ это самообманъ. Вамъ остается раздѣлить верховенство, и вотъ мы возвращаемся къ тому раздѣленію общественной власти между различными элементами націи,—правительствомъ, посредствующими корпораціями и народомъ, которое составляетъ отличіе аристокрактической организаціи.—Далѣе, если вы желаете сохранить свободу, недостаточно-сказать: „да будетъ"; нужно ввѣрить храненіе ея людямъ, къ ней привязаннымъ. А привязана къ ней, какъ вы знаете, не центральная власть, стремящаяся лишь подчинить ее, и не народъ, какъ вы знаете, стремящійся только къ уравненію. Кто же это? Какъ разъ люди, которые создали эти права созданіемъ могучихъ факторовъ ихъ вызвавшихъ.
Всякая прочно организованная группа, обладающая одной общей мыслью, однимъ направленіемъ, однѣми традиціями, живущая своей жизнью, является историческимъ фактомъ, создающимъ себѣ право, стремящимся къ самосохраненію и защитѣ этого права. Такая группа является одновременно элементомъ и либеральнымъ и аристократическимъ: либеральнымъ по своему аристократизму и аристократическимъ до перехода въ либерализмъ. Одна такая группа способна (если кто-либо способенъ на это) отъ сознанія своего права перейти къ признанію права другихъ; если этихъ общественныхъ группъ много, онѣ легко могутъ почувствовать потребность во взаимной гарантировкѣ своихъ правъ и хорошо исполнятъ роль хранителей вольностей общественныхъ, въ которыхъ заключаются ихъ собственныя.—Во всякомъ случаѣ приходится или разсчитывать на поддержку аристократіи, или же отказаться отъ сохраненія свободы. Либеральная система, претендующая ва практичность, чтобы не стать призрачной, должна быть аристократичной, подобна тому, какъ самой узкой аристократической системѣ нужно быть либеральной, просто чтобы не вызвать междоусобной войны.— И абсолютистъ сверху и абсолютистъ снизу, и де-Местръ в
— 135 —
Руссо, могутъ одинаково отвергать аристократію, оставаясь послѣдовательными; но если либералъ объявляетъ „человѣческое совершенствованіе постояннымъ стремленіемъ къ равенству", онъ своею защитою подрываетъ свою систему, или же предлагаетъ систему, основою которой служитъ только его личное мнѣніе.
Теоріи Бенжамена Констана не достаетъ еще одной опоры — извѣстнаго великодушія. Либерализмъ, представляемый постоянно въ видѣ гордаго и ревниваго уединенія личности за стѣнами крѣпости его правъ, представляется теоріей сухой и безплодной. Она отзывается расколомъ, хуже того, она стремится превратить въ раскольника каждаго гражданина. Констанъ устраиваетъ какъ бы республику изъ пятисотъ тысячъ индивидуальныхъ отклоненій. Вотъ странная родина. Идея свободы хороша, плодотворна и соціальна, только когда она соединяется съ чувствомъ солидарности. Хорошо, что я уважаю свое право, особенно если я уважаю и чужое; хочу ли я быть свободнымъ, это прекрасно, если во мнѣ хватитъ великодушія представить себя въ положеніи сосѣда; было бы еще лучше, если бы я защищалъ свое право лишь изъ опасенія, что нарушеніе его вызываетъ привычку нарушать права другихъ. Если либерализмъ является только личнымъ противодѣйствіемъ, то это просто эгоизмъ; онъ перестаетъ быть таковымъ, лишь становясь добродѣтелью.
Не будемъ слишкомъ поспѣшно заподозривать въ классической декламаціи Монтескьё, когда онъ называетъ добродѣтель основой республики. Положимъ, онъ думалъ о древнихъ республикахъ и подъ добродѣтелью разумѣлъ преданность отечеству. Что отъ времени до времени форма общественной добродѣтели измѣняется, съ этимъ я согласенъ, но добродѣтель служитъ всегда для общества связующимъ началомъ. Для древнихъ это было пожертвованіе личностью государству; люди новаго времени уважаютъ человѣческую личность,—это такъ; но пусть они знаютъ, что это самое уваженіе есть новая добродѣтель, что она заключается не въ самоуваженіи только, но въ сознаніи высокаго человѣческаго достоинства, проявляющемся сильнѣе, когда затрогиваютъ другихъ, чѣмъ когда затрогиваютъ насъ, и что въ концѣ концовъ свобода—деликатная форма милосердія.
Этой мысли я не нахожу у Бенжамена Констана, да онъ и не могъ имѣть ея. Онъ превратилъ либерализмъ въ красивую систему гордаго и смѣлаго эгоизма, такъ какъ великодушіе не составляло основы его характера. Но во всякомъ случаѣ онъ со свойственной ему ясностью, проницательностью, логичностью и силою высказалъ то, что нужно было кому-нибудь высказать въ его эпоху. Онъ далъ значеніе принципа исторической истинѣ, о которой никто не имѣлъ точнаго и яснаго понятія. Несомнѣнно слѣдовало рѣшиться признать, что свобода, въ смыслѣ лп догмата или мировой сдѣлки, является соціальной необходимостью и вовсе не состоитъ въ пе
— 136 —
редачѣ всемогущества въ руки массы; что она представляется не пораженіемъ, а отступленіемъ въ строгомъ порядкѣ государства передъ личностью. Все это вѣрно, какъ вѣрно и то, что самъ Монтескьё не выразилъ этого ясно, и что Констанъ доказалъ это вполнѣ.
Другимъ оставалось пожалуй лучше понять условія, при которыхъ должны совершаться это отступленіе и опредѣлиться новыя границы. Но мысль была высказана, и всѣ познакомились съ новымъ фактомъ. Мы живемъ среди него и съ трудомъ освоиваемся съ нимъ, слѣдовательно живемъ мыслью Констана. Его современники спорили о преимуществѣ той или другой формы правленія; многіе изъ насъ слѣдуютъ имъ въ этомъ. Констанъ показалъ вдумчивымъ людямъ, что главный вопросъ не въ этомъ; прежде всего нужно опредѣлить долю всякаго правительства, быть противникомъ правительства, не допускающаго этого раздѣла, и подчиняться, даже поддерживать правительство, его допускающее. Вотъ по крайней мѣрѣ одна изъ причинъ, почему Констанъ, оговорившись такимъ образомъ, не противился никакому режиму.
Теперь является вопросъ: какова должна быть доля правительства и какова доля гражданина? Мнѣ кажется, Констанъ не разобралъ этого ясно. Но дѣло всякаго поколѣнія опредѣлять это, сообразуясь съ постоянно измѣняющимися историческими условіями и поступая по возможности добросовѣстно.
IV. Религіозные взгляды.
Религіозныя изслѣдованія Бенжамена Констана чрезвычайно интересны, поучительны и обманчивы.
Его главный трудъ—Религія, изъ котораго посмертная книга О римскомъ политеизмѣ представляетъ только обширную главу. Это — блестящая, ученая бесѣда, очень богатая идеями; но она плохо построена, авторъ двадцать разъ начинаетъ сначала, и каждый разъ она производитъ впечатлѣніе прекрасной книги, которой авторъ не могъ докончить за недостаткомъ силы и возвышенности ума.—Исходная точка, лучше сказать первоначальное намѣреніе, отличается основательностью и здравомысліемъ. Бенжаменъ Констанъ былъ хорошо знакомъ съ Германіей и Франціей своего времени и не выказывалъ пристрастія ни къ той, ни къ другой. Онъ былъ недоступенъ тогдашнему нѣмецкому мистицизму, тому смѣшенію самыхъ разнородныхъ чувствъ и идей въ какомъ то восторженномъ обожаніи неизвѣстно чего,—тому „сонамбулизму**, примѣръ котораго онъ могъ съ удивленіемъ наблюдать въ своемъ собутыльникѣ Вернерѣ.—Съ другой стороны его чрезвычайно раздражало умственное убожество душеприкащиковъ Вольтера, особенно Гольбаха. Онъ даже слишкомъ суровъ къ Вольтеру: можно сильно сожалѣть объ его „плачевной суетности**, но глупо говорить объ его
— 137 —
„глубокомъ невѣжествѣ". Дюпюи и Вольней приводятъ Констана въ ярость. Онъ ясно чувствуетъ, что прошло то время, когда религіи изучали въ ихъ предметѣ съ цѣлью показать ихъ ложность, что настало время изучать ихъ въ основѣ, чтобы понять ихъ сущность и прослѣдить представляемыя ими проявленія души человѣка въ различныя эпохи его развитія,—что нужно однимъ словомъ создать психологію и исторію религіознаго чувства. — Онъ глубоко проникнутъ идеями Крейцера, но благоразумно относится съ недовѣріемъ къ крайностямъ символической системы. Эпиграфомъ онъ охотно взялъ бы не прямо опредѣленіе нѣмецкаго мыслителя: „Миѳологія есть наука, научающая насъ тому, какъ всемірный языкъ природы выражается въ тѣхъ или другихъ символахъ", но скорѣе ту-же формулу, исправленную Германомъ: „Миѳологія есть наука, знакомящая насъ съ тѣмъ, какія понятія и какія идеи извѣстный народъ воспринимаетъ и представляетъ въ тѣхъ или другихъ символахъ, образахъ, миѳахъ*. Психологическая и этическая исторія религіознаго чувства людей, слѣды котораго дошли до насъ,—вотъ какое заглавіе представлялось навѣрное уму Констана, когда онъ носился съ этимъ планомъ отъ Веймара до Коппе и излагалъ его Виланду или Бонштетену.
Кое-что изъ этого сохранилось въ книгѣ, писавшейся слишкомъ медленно, съ слишкомъ частыми перерывами и вышедшей черезчуръ поздно.—Сохранилась, во-первыхъ, идея, что религія составляетъ какъ бы основной элементъ нашего существа, что человѣкъ—животное религіозное, какъ и общественное, какъ и животное съ „членораздѣльнымъ говоромъ".—Происхожденіе общества, языка, религіи, все это поочередно служило предметомъ изслѣдованія. „Во всѣхъ этихъ изысканіяхъ одна и та же ошибка. Они начинались съ предположенія, что когда-то человѣкъ существовалъ безъ общества, безъ языка и безъ религіи". Это предположеніе совершенно неосновательно. Все заставляетъ думать, что нужно исходить не отъ отсутствія религіи и затѣмъ спрашивать, какъ люди создали себѣ ее, а отъ элементарнаго религіознаго чувства, чтобы слѣдить потомъ за развитіемъ его въ теченіе вѣковъ. Общество, языкъ, религія, это — три необходимыя условія человѣческаго существованія. Религіозное чувство „присуще и необходимо человѣку, какъ чувство самосохраненія". Мы стоимъ здѣсь у самой сущности человѣка, передъ глубокой первоначальной связью, лучше сказать, передъ единствомъ основныхъ стремленій нашей природы, впослѣдствіи некстати раздѣленныхъ философскимъ анализомъ и отвлеченіемъ. Эта идея тѣсной связи между соціальнымъ инстинктомъ и религіознымъ чувствомъ, блестяще развитая въ недавно вышедшей книгѣ *), высказана Констаномъ. Жаль, что онъ усвоилъ ее
*) Безвѣріе будущею, Гюйо.
— 138 —
достаточно полно, чтобы выразить ее во всей силѣ, но недостаточно для извлеченія изъ нея всего ея содержанія.
Весьма оригинально также замѣчаніе объ устойчивости религіознаго чувства въ человѣческомъ сердцѣ и объ его способности пользоваться въ извѣстный моментъ тѣмъ, что, повидимому, грозила ему гибелью. „Скептицизмъ обезоруживаетъ и невѣрующаго человѣка и религіознаго. Когда человѣческій умъ склоняется къ невѣрію, скептицизмъ благопріятствуетъ невѣрію; а когда человѣкъ склоняется къ религіи, скептицизмъ доставляетъ религіи доводы противъ разсудка. Во времена Карнеада скептицизмъ служилъ мотивомъ къ отрицанію всего, а два вѣка спустя онъ сталъ основаніемъ вѣры во все“.—Затѣмъ, нѣтъ ничего справедливѣе мимоходомъ сдѣланнаго замѣчанія: философскія ученія и теоріи религіозной эмансипаціи считаютъ себя демократическими на томъ основаніи, что онѣ стремятся къ сверженію ига, и въ то же время отличаются особеннымъ аристократизмомъ, такъ какъ отдѣляютъ мыслящее меньшинство отъ вѣрующей толпы до тѣхъ поръ, пока не выроютъ между ними непроходимой пропасти. Но можно пойти еще дальше и прійти къ такому же заключенію, но въ противоположномъ смыслѣ,—сказать, что философствованіе отдѣляетъ избранниковъ отъ толпы до тѣхъ поръ, когда народъ, желая разыграть избранника, притворяется невѣрующимъ, а избранникъ, чтобы не походить на толпу, начинаетъ притворяться вѣрующимъ; въ этомъ случаѣ пропасть остается такой же глубокой, какъ и прежде, и, можетъ быть, даже становится глубже.
Какъ моралистъ и соціологъ, Констанъ прекрасно подмѣчаетъ и изображаетъ эпохи религіозныхъ кризисовъ въ развитіи обществъ. Съ тѣхъ поръ исторія религіознаго возрожденія въ первый вѣкъ римской имперіи была изучена лучше *); но и Констанъ хорошо подмѣтилъ и отчетливо охарактеризовалъ это возрожденіе. Онъ понялъ всю глубину его, его стремленіе найти нравственный принципъ въ томъ, что такъ долго служило ему оболочкой, и вмѣстѣ съ тѣмъ указалъ на то, что въ немъ было искусственнымъ: на выборъ изъ того, что по природѣ, его не допускаетъ, требуя подчиненія всей души, на стремленіе къ толкованіямъ и переводамъ только смущающимъ простецовъ, на искусственный символизмъ, на замѣну существъ аллегоріями и собственныхъ именъ замысловатыми эпитетами, на злоупотребленіе запутанными и скользкими абстракціями, въ которыхъ на половину сохраняется, на половину теряется, и въ общемъ разлагается предметъ обожанія, нѣчто „божественное**, замѣняющее Бога, — на сохраненіе миѳологическаго языка и на утрату вѣры. Такимъ-то образомъ „изъ неуловимыхъ различеній и несовмѣстимыхъ понятій философы создаютъ цѣлую религію, не имѣющую ни популярности, ни разсудочнаго основанія".—Констанъ
*) Римская религія, Гастона Буассье.
— 139 —
говоритъ здѣсь о религіозныхъ мыслителяхъ римской имперіи, и я хотѣлъ только показать, какъ хорошо онъ о нихъ говоритъ.
Много справедливаго также въ его изображеніи прогресса или, если хотите, почти постоянной смѣны формъ проявленія религіознаго чувства среди людей. Сначала это — фетишизмъ, вѣра въ таинственное существо, близкое къ намъ и защищающее насъ, если мы его почитаемъ, противъ чудовищныхъ и своенравныхъ силъ природы.—Затѣмъ это—политеизмъ, обожаніе самихъ силъ природы; ихъ скоро олицетворяютъ, стараются умилостивить и боятся, какъ существъ доступныхъ жалости и въ то же время могучихъ и коварныхъ.—Но существа эти еще обособлены, дики, не имѣютъ опредѣленныхъ формъ и связи между собой; вскорѣ они становятся подобными вамъ, но только сильнѣйшими людьми, со всѣми нашими понятіями и страстями.—Затѣмъ мало-по-малу въ религію прокрадывается мораль; боги становятся не столько людьми, сколько нравственными законодателями, награждающими и мстящими за правду. Эта новая роль обезличиваетъ и поглощаетъ ихъ; вмѣстѣ съ страстями они теряютъ личность и становятся чистыми духами, довольно трудно отличимыми по этому самому другъ отъ друга.— Съ этихъ поръ они получаютъ способность легко соединяться въ одно; силы ставшія личностями, личности ставшія добродѣтелями, добродѣтели ставшія нравственными законами, соединяются и сгущаются въ единую чистую идею.—Но подъ каждой новой формой религіознаго чувства еще сохраняются старыя: изъ подъ торжествующаго политеизма виденъ фетишизмъ, а сквозь офиціальный антропоморфизмъ просвѣчиваетъ обожаніе силъ природы, такъ что язычникъ не знаетъ, царь ли морской его Посейдонъ или само море; подъ очищеннымъ политеизмомъ таится антропоморфизмъ, и даже подъ восторжествовавшимъ монотеизмомъ живутъ всѣ предшествовавшія ему и всѣ вообще извѣстныя формы обожанія.
Вотъ спстема основательная, объясняющая многое, представляющаяся справедливой въ ея главныхъ чертахъ,—система, которой, какъ извѣстно, не слишкомъ противорѣчатъ даже самыя недавнія и основательныя изслѣдованія касательно древнѣйшихъ монотеистическихъ народовъ *). Въ то время, когда писалъ Констанъ, во Франціи, и даже вездѣ, представлялась новостью мысль о томъ, что, очищая политеизмъ, мораль ослабила его, что все, возбуждавшее къ богамъ большее почтеніе, уничтожало ихъ въ смыслѣ личностей, такъ что представленіе ихъ болѣе безупречными дѣлало ихъ менѣе осязаемыми, а освященіе ихъ лишало ихъ жизненности.
Замѣчаніе это имѣетъ очень большое значеніе, и удивительно, какъ Констанъ, всегда старавшійся указывать на громадное различіе между христіанствомъ и язычествомъ,—различіе, котораго ни
*) См. Ренана: Пародъ Израильскій.
— 140 —
когда нельзя преувеличить,—какъ йе замѣтилъ онъ, что въ этомъ и заключается все различіе. Христіанство въ своей исторіи слѣдуетъ порядку совершенно противоположному порядку язычества. Въ язычествѣ религія предшествовала морали; въ христіанствѣ мораль предшествовала религіи. Христіанство это—Валорная проповѣдь, это великая проповѣдь міру братской любви, жалости, преданности и самопожертвованія. Наюрная проповѣдь это—христіанство цѣликомъ, такъ какъ это — та часть его, которую понялъ міръ; въ ней-то и заключается толчекъ, потрясеніе и искра. Христіанство произвело нравственный переворотъ, сопровождавшійся многимъ такимъ, что привлекало людей искусныхъ и интересовало остроумныхъ, но не особенно занимало простыхъ,—Въ противоположность тому, что было раньше въ язычествѣ, на этой морали и вокругъ нея мало-по-малу образовалась и организовалась религія. По примѣру прочихъ религій, она усвоила себѣ-, допущенными пли недостаточно отвергнутыми, традиціонные религіозные элементы-символизмъ, антропоморфизмъ, массу благодѣтельныхъ или гибельныхъ геніевъ и даже фетишизмъ; здѣсь могла бы быть вполнѣ приложима теорія Констана. Но, вмѣсто того чтобы видѣть въ морали внѣшняго врага, который проникаетъ въ твердыню и разрушаетъ ее, христіанство сдѣлало мораль своимъ первоначальнымъ и основнымъ началомъ. Освобождаемъ ли мы христіанство отъ оболочки съ цѣлью постигнуть его сущность или переносимся назадъ, чтобы прослѣдить его происхожденіе,—въ его глубинѣ и въ его источникѣ мы находимъ всегда эту неприступную или непобѣдимую мораль, даже врагамъ его внушающую уваженіе. Эта мораль служитъ для него изстари патентомъ на благородство и залогомъ вѣчнаго обновленія, такъ какъ человѣкъ, желающій, напасть на христіанство, можетъ сдѣлать это не иначе, какъ заимствовавъ у него самое его начало, и, слѣдовательно, желая уничтожить его, только содѣйствуетъ его возстановленію.
Важно было бы выяснить и доказать эту удивительную оригинальность христіанства усиленнымъ сравненіемъ его со всѣмъ язычествомъ, найти здѣсь причину, по которой до тѣхъ поръ относительно вѣротерпимое язычество явилось по отношенію къ религіи Христа непримиримымъ гонителемъ, какимъ всегда является человѣкъ по отношенію къ абсолютному отрицанію и осужденію всего, что заключается въ немъ. Далѣе, хорошо было бы найти въ самыхъ этихъ гоненіяхъ и борьбѣ, съ одной стороны, а съ другой—въ необходимости для каждаго новаго человѣческаго учрежденія принять на себя какъ наслѣдство часть того, что имъ замѣщается, — найти въ этомъ объясненіе превращенія христіанства въ метафизическую и даже миѳологическую религію. Но важнѣе всего было бы указать на его постоянное и нерушимое основаніе, на его нравственное ученіе, эту безсмертную душу христіанства, служащую ему такой крѣпкой защитой, что возста
— 141 —
ніе противъ него оканчивается всегда обращеніемъ къ нему. Вотъ что, повидимому, должно было бы составлять содержаніе книги Бенжамена Констана, книги достойной его и согласной съ его взглядами; здѣсь философъ, христіанинъ и также, замѣтьте, про* тестантъ, былъ бы на своемъ мѣстѣ. Но этой книги онъ не написалъ; непріятно по этому, читая эти томы, видѣть, мимо какихъ дивныхъ сюжетовъ онъ прошелъ, что всего досаднѣе, отлично видя ихъ.
Подробно указавъ на то, чего онъ напрасно намъ не далъ, я скажу теперь, что онъ сдѣлалъ. При помощи долгихъ изысканій, большихъ познаній и массы идей, онъ создалъ произведеніе въ духѣ отрицательнаго либерализма и узкаго протестантизма. Онъ пробовалъ доказать превосходство религій не - жреческихъ надъ жреческими. Нѣтъ той великой философской идеи, нѣтъ того мѣткаго историческаго наблюденія, которыми онъ не пользовался бы старательно для этихъ мелкихъ цѣлей; а въ концѣ каждой главы изслѣдованіе философіи религіи сводится и принижается имъ до мелкой полемики. Объясняется это отчасти условіями времени: книга эта, задуманная около 1800 года, была написана имъ при реставраціи съ тайнымъ умысломъ дать отвѣтъ на „нелѣпое произведеніе1* Шатобріана; а отчасти причина этого заключается и въ самомъ авторѣ, въ его ревнивомъ и безпокойномъ индивидуализмѣ. Онъ не любитъ государства, не довѣряетъ ему; всякая обособляющая сила представляется ему возможной гарантіей индивидуальной свободы. А онъ замѣтилъ, что религія представляетъ собою именно такую силу, святилище, куда скрывается человѣкъ, твердыню, ограждающую его отъ всемогущества государства, — представляетъ прибѣжище, и одну эту сторону онъ и сталъ видѣть въ ней.
Его религіозная философія до того тѣсно связана съ его политикой, что трудно сказать, что изъ чего возникло. Констанъ съ удовольствіемъ читаетъ у Оригена, что не обязательны законы, идущіе противъ истинъ совѣсти: „не составляетъ преступленія сплочиваться въ интересахъ истины, даже когда внѣшніе (общественные) законы это запрещаютъ; не совершаютъ никакого грѣха люди вступающіе въ заговоръ съ 'цѣлью погубить тирана**. Въ своихъ религіозныхъ разсужденіяхъ онъ руководится политическими взглядами, а свои религіозныя идеи онъ подкрѣпляетъ доводами, заимствованными изъ другой области. Когда Ламеиэ отъ частныхъ мнѣній апеллируетъ къ „человѣческому разуму**, онъ видитъ въ этомъ лишь заимствованную изъ Общественнаго Договора теорію. „О непогрѣшимомъ разумѣ рода человѣческаго можно сказать то же, что и о неограниченномъ верховенствѣ народа. Одни пришли къ мысли, что гдѣ-нибудь долженъ существовать непогрѣшимый разумъ... другіе вздумали, что должно быть неограниченное верховенство. Отсюда въ первомъ случаѣ вытекла нетерпимость и съ
— 142 —
яею всѣ ужасы религіозныхъ преслѣдованій; во-второмъ—тираническіе законы и всѣ крайности народной ярости. Во имя непогрѣшимаго разума христіанъ отдавали звѣрямъ; во имя неограниченнаго верховенства воздвигали эшафоты ".
Въ этомъ основа идей -Констана. Онъ стоитъ за все, что даетъ свободу, а религія можетъ быть одною изъ формъ освобожденія. Она можетъ воздвигнуть алтарь противъ Палатина, при томъ условіи впрочемъ, чтобъ сама она не была Ватиканомъ, обществомъ, организованнымъ для послушанія, не была властью, закономъ, іерархіей,—была личнымъ правомъ, а не общимъ закономъ и не правительствомъ. — Въ религіи Констана каждый является господиномъ, судьей и властителемъ. Религію организованную, съ повелителями наверху и подчиненными внизу, онъ отвергаетъ. Для него религія—только одна изъ формъ индивидуальной свободы.
Въ этомъ онъ очень логиченъ и никогда себѣ не противорѣ-читъ. Въ религіозной теоріи онъ все тотъ же, что и въ политикѣ, даже,—замѣтимъ это,—въ морали. Въ морали онъ питалъ отвращеніе къ общимъ правиламъ, аксіомамъ, готовымъ формуламъ, въ которыхъ видѣлъ родъ налога, возлагаемаго общимъ мнѣніемъ на совѣсть каждаго человѣка. „Я не понимаю, почему эта мораль, вытекающая изъ естественныхъ движеній и вліяющая на общее теченіе жизни, многимъ какъ будто не нравится. Потому ли что она необходимо измѣняетъ наше поведеніе, тогда какъ прямыя аксіомы остаются, такъ сказать, въ своихъ нишахъ, уподобляясь индѣйскимъ пагодамъ, которыя ихъ обожатели привѣтствуютъ издали, никогда къ нимъ не приближаясь?.. Точныя правила обязываютъ человѣка только повторять ихъ “.—Уже въ Адольфѣ Констанъ говорилъ: „Не слѣдуетъ довѣрять общимъ аксіомамъ, свободнымъ отъ всякихъ ограниченій... Глупцы дѣлаютъ изъ своей морали сплошную массу, чтобы она какъ можно меньше затрогивала ихъ поступки и оставляла ихъ свободными во всѣхъ частностяхъ".— Констанъ неудержимо стремится къ возможному сокращенію вліянія и власти общества; въ морали его идеалъ—внутреннее побужденіе, въ политикѣ—личное право, въ религіи—личное творчество. Эту семейную или личную религію онъ зоветъ религіознымъ чувствомъ, постоянно противополагая ее „религіи формальной", т. е. организованной и предписывающей законы, или „религіи жреческой".
Тутъ онъ даетъ себѣ полный просторъ. Все прекрасно въ „религіозномъ чувствѣ", все отвратительно въ религіи, ставшей правительствомъ; религія личная внушаетъ одни добрыя дѣла, религія общественная ведетъ ко всякимъ преступленіямъ. Какъ доказать это исторически? Для этого, есть простое и легко предвидимое средство. Изъ всего внушеннаго людямъ религіозными идеями Констанъ приписываетъ религіозному чувству то, что ему представляется добрымъ; все, по его мнѣнію, достойное осужденія онъ приписываетъ религіи предписывающей законы. Пріемъ очень ле
— 143 —
гокъ. Религіозное чувство создало добрые нравы; формальная религія внушила „Варѳоломеевскую ночь и неистовства Драгонадъ".— Очень хотѣлъ бы я найти доказательства того, что въ ярость убійцъ Варѳоломеевской ночи не входило ни капли религіознаго чувства, и что они были фанатиками изъ простого повиновенія.— Религіозный человѣкъ добръ, но онъ становится злымъ, когда его соединяетъ съ другими общая религіозная мысль; такова въ сущности теорія Констана. Это странно само по себѣ и, притомъ, это очень трудно доказать, такъ какъ для этого нужно было бы найти гдѣ-нибудь это личное „религіозное чувство", внѣ связи съ другими личными религіозными чувствами, лишенное этимъ возможности вмѣстѣ со своимъ личнымъ характеромъ утратить и свое превосходство.
Любопытно, что Констанъ сдѣлалъ попытку доказать это. Онъ пытался найти въ исторіи такія религіи, которыя были бы только религіозными чувствами, не были бы организованы въ религіозныя общества и въ религіозныя управленія, и думалъ найти ихъ у грековъ и римлянъ. Доказывать, что греческая и римская религіи не были жреческими, довольно трудно, но Констанъ ухитряется и здѣсь, говоря, что онѣ „почти" не были жреческими, были ими на сколько возможно мало. На это можно возразить многое. Изъ того, что греческая и римская религіи сливались съ государствомъ, странно выводить заключеніе, что онѣ носили менѣе законоположительный, іерархическій и властный характеръ. Констанъ удовлетворяется здѣсь чистымъ софизмомъ. Увлекаясь своимъ отвращеніемъ, съ одной стороны, къ строго организованной, съ другой— къ независимой отъ государства религіи, по-просту говоря, къ католицизму, онъ ухитряется видѣть больше гарантій для свободы въ государственной религіи, чѣмъ въ автономной, и этимъ прямо идетъ въ разрѣзъ со своими теоріями, признающими вѣру дѣломъ личнымъ. У грековъ и римлянъ онъ не находитъ религіи, которая была бы сильна сама по себѣ, составляла общество въ обществѣ, имѣла свои собственные законы, господствовала надъ умами,— и этого ему достаточно; онъ думаетъ, что нашелъ здѣсь свободу. Не находя въ отдѣльности того и другого ига, съ которыми онъ привыкъ сталкиваться, онъ не замѣчаетъ, что они слиты въ одно, гораздо болѣе тяжелое.
Отсюда развивается цѣлый рядъ предвидѣнныхъ нами выводовъ. Религіи греческая я римская отличалась терпимостью,—Да, когда имъ не противорѣчили. Когда политеизмъ находилъ предъ собой -только новыя формы политеизма, у него не было причинъ отвергать ихъ. Но когда онъ сталкивался съ отрицаніемъ своей сущности, съ монотеизмомъ философскимъ, іудейскимъ или христіанскимъ, онъ поступалъ такъ, какъ всякая аттакованная религія: онъ не выказывалъ особенной мягкости.—Греческая и римская религіи не требовали у человѣка жертвъ, не умаляли его личность.—
— 144 —
Онѣ брали у человѣка его личность всю цѣликомъ. У нихъ было двѣ руки: одна — религія, другая — государство; государство отъ имени боговъ требовало у человѣка всего его тѣла, а боги, охраняемые государствомъ, требовали отъ человѣка всей его души. Личная свобода, какъ и вездѣ, существовала у древнихъ лишь въ видѣ равнодушія къ государству и къ религіи, а въ принципѣ о личности въ древнемъ мірѣ можно сказать только то, что она не существовала—Религія греческая и римская не знали Бога злобнаго, разгнѣваннаго на человѣка, Бога завистливаго.—Какъ разъ такими и были всѣ ихъ боги. Божественная Немезида составляетъ основаніе античныхъ вѣрованій. Правда, вѣра въ нее ослабѣла, но ослабѣла благодаря проникновенію нравственныхъ идей, благодаря тому утонченію политеизма, который, по мѣткому замѣчанію Констана, былъ просто ослабленіемъ его; стало быть, благодарить за это нужно не политеизмъ,—Въ томъ же духѣ Констанъ продолжаетъ и далѣе, но я останавливаюсь здѣсь, такъ какъ дальше онъ совершенно утрачиваетъ оригинальность. Возьмите „Опытъ о нравахъ* и взгляните на него не какъ на защиту невѣрія, а какъ на введеніе къ протестантизму; вы постигнете весь смыслъ книги о Религіи.
Я впрочемъ напрасно назвалъ протестантизмъ. Протестантизмъ тоже былъ и есть организованная религія, а въ нѣкоторыхъ странахъ онъ имѣетъ даже своихъ князей церкви, является правительствомъ, „жреческой религіей" и могъ бы подвергнуться осужденію Констана. Констану долженъ быть извѣстенъ городъ, гдѣ первымъ дѣломъ протестантизма было созданіе довольно суроваго и прочнаго теократическаго управленія. Въ этомъ онъ слѣдовалъ своей природѣ, своему назначенію—быть религіей, т. е. организаціей, союзомъ людей. Даже тамъ, гдѣ протестантизмъ носить болѣе свободный и индивидуальный характеръ, онъ остается и долженъ оставаться жреческимъ или просто стать чистою свободой, т. е. получить право не вѣрить даже въ себя, а слѣдовательно и не существовать.
Бенжаменъ Констанъ проповѣдуетъ протестантизмъ лишь сведенный къ тому, что въ немъ есть чисто отрицательнаго и протестующаго. Въ такомъ видѣ онъ даже не религія, онъ просто потребность не имѣть ея. Религія Констана сводится къ индивидуалъ-, ной свободѣ, и притомъ къ ея исключительной, обособляющей и протестующей сторонѣ. Если брать ее въ ея сущности, то ея девизомъ было бы: „Оставьте меня въ покоѣ**. Въ этомъ правилѣ есть хорошее и даже много хорошаго, но это не религія и даже не религіозное чувство. Услышавъ это, де-Местръ сталъ бы торжествовать и сказалъ бы: „Католицизмъ есть единство; все, что разбиваетъ единство, обособляетъ и раздѣляетъ людей,—все это протестантизмъ; прочтите Констана**. — Относительно протестантизма Констана онъ былъ бы правъ.
— 145 —
Любопытная вещь: Констанъ гнушается, само собой, фетишизма, и въ то же время, незамѣтно для самого себя, возвращается въ мему. Что такое фетишизмъ? Это—частная религія. „Фетишизмъ по своей природѣ борется съ господствомъ жречества. Фетишъ-существо удобоносимое, имъ легко располагать, съ нимъ его почитатель при всѣхъ обстоятельствахъ можетъ совѣтоваться самъ, съ нимъ онъ прямо заключаетъ свой договоръ**.—Таковъ же и богъ Констана. Это удобоносимый и покладистый идеалъ, который каждый создаетъ себѣ самъ и съ которымъ совѣтуется, когда ему вздумается. Человѣкъ хорошо понимаетъ, что это не что иное, какъ онъ самъ, очищенный и хорошо настроенный, и что овъ совѣтуется съ собою относительно нравственныхъ вопросовъ. Какъ въ политикѣ человѣкъ зависитъ только отъ своего права, такъ въ религіи онъ обожаетъ лишь свою мысль. Его религія—внутренній фетишизмъ, преклоненіе предъ идолами его души.
Замѣчаніе это, быть можетъ, идетъ дальше простой эпиграммы. Человѣчеству, быть можетъ, суждено начинать съ индивидуальныхъ религій и оканчивать возвращеніемъ къ нимъ,—начинать съ особи обожающей амулетъ и кончать особью обоготворяющей самое себя, какъ оно начинаетъ особью обособленною въ своей слабости и кончаетъ особью обособленною въ ея силѣ и гордости. Между двумя крайностями помѣщаются всѣ придуманные людьми способы объединенія, организаціи, взаимной защиты: племя, отечество, государство, союзы внутри государства, союзы за предѣлами его; религія племени, религія государства, религія церкви, религія церкви всемірной.
Дѣло въ томъ, что религія, въ точномъ смыслѣ слова, есть не что иное какъ объединеніе людей въ общей мысли. Жуберъ говорилъ: „Личная совѣсть, личная мораль, личная религія! Все это по природѣ своей не можетъ быть частнымъ**. И оно никогда не было такимъ: отвлеченный человѣкъ, такъ хорошо извѣстный ХѴПІ вѣку, никогда не существовалъ, а существовали только люди, которымъ для поддержанія жизни приходилось тѣмъ или другимъ способомъ примыкать къ жизни другихъ. Однимъ изъ такихъ способовъ была религія. Религія въ своей сущности есть потребность думать и чувствовать въ согласіи съ извѣстнымъ числомъ своихъ ближнихъ, имѣть общую съ ними душу, жить ихъ мыслью, обладать мыслью настолько чистой и безкорыстной, чтобы и другіе могли жить ею. Приводя Жубера, я совершаю элементарный религіозный актъ. Однимъ словомъ, религія это духовное объединеніе. Ииогда она смѣшивается съ объединеніемъ политическимъ и становится религіей государственной; иногда она обособляется отъ государства и становится аристократіей, одной изъ тѣхъ соціальныхъ группъ въ средѣ націи, которыя я назвалъ элементами аристократіи. Она обладаетъ всѣми ихъ особенностями: она соединяетъ обособленныхъ людей въ одной мысли, въ одномъ ученіи,
Ю
— 146 —
въ одномъ стремленіи, однѣхъ традиціяхъ. Она становится сначала сцѣпленіемъ силъ, затѣмъ хорошо устроеннымъ примѣненіемъ ихъ, т. е. организмомъ. Она беретъ на себя обязанность, исполненіемъ ея создаетъ себѣ право и является одною изъ корпорацій въ государствѣ.—Но что же можетъ понять здѣсь Констанъ, не признающій аристократіи и возмущающійся всякимъ поглощеніемъ личности въ чемъ бы то ни было и даже всякой привязанностью особи къ чему бы то ни было? Онъ допуститъ скорѣе религію государственную, такъ какъ, не особенно долюбливая государство, онъ по крайней мѣрѣ понимаетъ его; и мы видѣли, что древнія государственныя религіи дѣйствительно не были ему противны.
Но я желаю быть такимъ же прямодушнымъ, какъ Бенжаыенъ Констанъ, въ спорѣ всегда добросовѣстный и не скрывающій возраженій противника. Что бы я ни говорилъ, мнѣ хорошо извѣстно присутствіе во всякой религіи весьма значительнаго личнаго элемента. Религія не только духовный союзъ; она прежде всего духъ. Такъ, конечно, и слѣдуетъ; она прежде всего стремленіе къ таинственному. Однажды Констанъ, гуляя съ Бонштеттеномъ, разсуждалъ о происхожденіи религіозныхъ идей. Бонштеттенъ сказалъ ему: „Дѣятельный человѣкъ встрѣчаетъ въ окружающемъ сопротивленіе и создаетъ себѣ боговъ; созерцатель испытываетъ въ сердцѣ смутную потребность и творить себѣ бога". Это справедливо; есть религія личная и внутренняя; это—созерцаніе, обожаніе чего-то неизвѣстнаго, предшествовавшаго намъ, слѣдующаго за нами и окружающаго насъ; это—потребность сказать ему, что мы передъ нимъ ничто, что мы ничтожество предъ лицомъ его безконечности; это—потребность примкнуть къ этой огромной силѣ своимъ стремленіемъ постигнуть ее и желаніемъ добровольно подчиниться ей. Намъ представляется, что постигая эту великую тайну и проникаясь ею, мы вступаемъ въ общеніе съ нею. Созерцать Бога значитъ отражать его. „Въ глубинѣ нашей ДУШИ“, говоритъ Ренанъ, „какъ будто бьетъ волшебный источникъ, ясный и глубокій, отражающій въ себѣ безконечность". Это вѣрно, и религія, разсматриваемая какъ духовная ассоціація, представляетъ собою не что иное, какъ это самое чувство, находимое каждымъ изъ насъ въ другомъ.
Но бѣда въ томъ, что Бенжаменъ Констанъ вовсе его не испытываетъ, хотя постоянно стремится къ нему, какъ къ послѣднему своему прибѣжищу. Это видно изъ того, что онъ говоритъ о немъ коротко, неловко, неувлекательно. М-мъ де-Севинье говорила съ улыбкой: „Какъ можно любить Бога, не слыша доброй рѣчи о немъ? На это нужна особая благодать". О Констанѣ часто хочется сказать! „Какъ можно хорошо говорить о Богѣ, не любя его? На это нужна особая благодать". Благодать эта не была дана ему. Онъ говоритъ о Виландѣ: „Ему хотѣло01* бы вѣрить, такъ какъ это отвѣчало его воображенію, которому онъ хо
— 147 —
тѣлъ бы придать поэтичность*. Замѣчаніе это приложимо не къ одному Виланду.
Когда читаешь де-Местра, онъ всегда производитъ впечатлѣніе больше католика, чѣмъ христіанина; когда читаешь Констана, онъ можетъ показаться не очень усерднымъ протестантомъ, но скорѣе протестантомъ, чѣмъ деистомъ. Онъ нашелъ способъ исповѣдовать религію, не представляющую собою вѣрованія, и держится за нее, какъ за отрицаніе всего того, что онъ отвергаетъ. Какъ его либерализмъ помогаетъ ему держать дверь на запорѣ, такъ религія помогаетъ ему защищать ее. У него было нѣсколько принциповъ, за которые онъ крѣпко держался и которые съ любовью оберегалъ; но они не были глубокими и сильными чувствами, а скорѣе оборонительнымъ оружіемъ.
V.
За то онъ блестяще защищалъ эти принципы. Это былъ чрезвычайно изящный писатель, слѣдующій непосредственно за знаменитостями. Онъ отличался удивительной ясностью. У самого Вольтера не найти болѣе яснаго, сжатаго и въ то же время прозрачнаго разсужденія, чѣмъ „Разговоръ избирателя съ самимъ собою". Это чистая мысль безъ всякихъ покрововъ выдаваемыхъ за одѣянія. Его тонъ отличается искренностью, вслѣдствіе того что, при всей лживости своего сердца, Констанъ сохранилъ прямодушіе ума. Его Адольфъ съ его отрывистой манерой, увѣренной поступью, опредѣленными и нѣсколько рѣзкими движеніями представляется настоящимъ образцомъ стиля художника—моралиста. Тутъ большее изящество не желательно; оно походило бы на слабость. Во всемъ этомъ пожалуй нѣсколько не хватаетъ силы. Де-Местръ, за словомъ въ карманъ не лазившій и отличавшійся при случаѣ колкостью, какъ то сказалъ: „Г. де-Ребеку какъ будто не хватаетъ мужества, по крайней мѣрѣ въ его книгахъ*. У него дѣйствительно нѣть могучаго краснорѣчія, увлекающаго и подчиняющаго людей и поражающаго противниковъ,—краснорѣчія хорошо знакомаго дѳ-Местру; но онъ превосходно умѣетъ опутать врага тѣсною сѣтью изъ гибкой проволоки, привязь которой крѣпко зажата у него въ рукѣ. Онъ мастерски обезоруживаетъ противника.
Ему мало были свойственны полнота, гармонія и особенно плавность. Онъ не былъ лишенъ фантазіи, но ей трудно было находить для себя выраженіе. „Ночь* въ Адольфѣ, приведенная милю выше, превосходна по глубинѣ чувства, прекрасно показываетъ намъ, какъ душевныя состоянія сочетаются съ гармоніей природы или вѣрнѣе сами создаютъ ее, переносятся на внѣшній міръ и въ свою очередь воспринимаютъ отъ него въ увеличенномъ и усиленномъ видѣ то, что сами въ него вложили,—а это то и составляетъ особенность воображенія. Но перечитайте эту прекрасную стра-
— 148 —
ницу: короткія фразы, сухія, отрывочныя замѣчанія, отдѣльныя мелкія указанія,—вотъ форма, въ которой авторъ передаетъ, но не рисуетъ, ясное спокойствіе природы, ея глубокую тишину, ея нѣжную и покорную усталость. Стихъ де-Виньи: „Передъ вами разстилаются обширныя нѣмыя пространства" смутно отзывается въ нашей памяти. Констанъ не умѣетъ дать равноцѣннаго ему описанія. У него найдутся новые и сильные образы или скорѣе видѣнія вродѣ такого:... „неизбѣжная старость, подобно магамъ восточныхъ сказаній, садится окруженная сумракомъ въ концѣ нашего жизненнаго пути, устремивъ на васъ неподвижные, пронзительные глаза, несмотря на наши усилія, привлекающіе насъ къ себѣ какою то сокровенною силою". Образъ поражаетъ силою, а выраженіе слабо, фраза не додѣлана и кончается отвлеченными словами. Въ ней нѣтъ полноты и гармоніи. Будь она создана Боссюэ или Шатобріаномъ, она вашла бы себѣ форму и оборотъ,—стала бы такой же живою какъ прекрасный стихт и запечатлѣлась бы навсегда въ памяти. Констанъ-выдающійся, но не великій писатель. Выдающійся писатель находитъ подходящее выраженіе, великій писатель находитъ естественное сочетаніе словъ, группирующихся и взаимодѣйствующихъ какъ клѣточки живого организма, превращающихъ фразу въ живое существо съ легкой и плавной походкой.
Но все же ясная мысль—вещь чрезвычайно сильная и важная. Констанъ остается если не самымъ сильнымъ, то самымъ яснымъ мыслителемъ нашего времени. Онъ никогда не смотрѣлъ, или скорѣе—не хотѣлъ смотрѣть, на идеи съ разныхъ сторонъ. Онъ, я знаю, любилъ говорить: „Сказанное вами настолько вѣрно, что и противоположное вполнѣ справедливо;" но изъ этой шутки онъ не захотѣлъ сдѣлать пріемъ. Онъ предпочиталъ ясно представлять себѣ идею во всѣхъ ея частностяхъ со стороны, казавшейся ему наиболѣе важной, чѣмъ изучать ее всесторонне; можетъ быть, онъ думалъ, что всестороннее изученіе, если оно не продолжается до безконечности, оканчивается возвращеніемъ къ исходной точкѣ. Взявши идею свободы, онъ остановился на ней, проанализировалъ и изслѣдовалъ ее съ чрезвычайною силой и проницательностью и исчерпалъ ее цѣликомъ. Овъ такъ глубока разсмотрѣлъ ея сущность, что даже противники этого начала могутъ обращаться къ Констану за доводами его разрушающими; а только очень сильные и послѣдовательные теоретики могутъ доставлять оружіе своимъ противникамъ.
Эта идея, какъ всегда бываетъ съ нашими основными идеями, жила въ зародышѣ въ самой глубинѣ характера Констана. Въ своемъ поведеніи онъ, къ чести его, былъ непослѣдовательнымъ и неловкимъ эгоистомъ; въ теоріи онъ сдѣлалъ изъ либерализма разумный эгоизмъ, а изъ религіознаго чувства—личную религію, въ которой вѣрующій, жрецъ и даже самъ Богъ почти сливаются
— 149 —
въ нераздѣльную троицу. Во всемъ этомъ можно подозрѣвать недостатокъ чувства человѣческой солидарности; но проповѣдники этой солидарности такъ часто оказываются непослѣдовательными, понимая ее какъ свою личную выгоду, такъ охотно превращаютъ ее во всепоглощающій эгоизмъ, что эгоизмъ болѣе обособленный въ концѣ концовъ начинаешь считать почти великодушіемъ.
Далѣе, хорошая или дурная, спасительная или гибельная, идея эта принадлежала вѣку. Упадокъ силъ объединяющихъ, освобожденіе силь индивидуальныхъ, облегченіе ига государства, ослабленіе религіозныхъ связей, открытіе простора иниціативѣ каждаго,— воть въ чемъ состояло великое дѣло нозой эпохи. Констанъ только представилъ фактъ подъ видомь идеи; но въ этомъ то и заключается оказанная имъ услуга. Въ самомъ дѣлѣ очень вѣроятно, что мы только и дѣлаемъ, что преобразуемъ въ идеи крупные факты, окружающіе и увлекающіе насъ; французская революція напримѣръ, представляетъ собою лишь фактъ, а позднѣе ока стала идеей. Затѣмъ, такая передѣлка имѣетъ свое значеніе: фактъ отъ нея не становится ни лучше, ни хуже, но одухотворяя его, мы можемъ сдѣлать его менѣе грубымъ. Въ Политикѣ извлеченной изъ св. Писанія деспотизмъ Людовика XIV* неизбѣжно становится чѣмъ то болѣе благороднымъ, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, и кое-что изъ того, чѣмъ онъ сталь въ теоріи, можетъ перейти въ практику и улучшить ее. Точно также представить людямъ освобожденнымъ освобожденіе въ видѣ принципа, значить придать ему достоинство нравственной вещи; иной человѣкъ готовъ видѣть въ фактѣ только удобный случай, а идею онъ можетъ признать за патентъ на благородство и постарается выказать себя достойнымъ его. Человѣкъ освящаетъ вещи, продумывая ихъ, и можетъ въ концѣ концовъ создать религію изь самаго грубаго факта, одухотворяя его. Консгану принадлежитъ заслуга освященія свободы путемъ преобразованія ея въ теорію.
Въ вопросахъ религіозныхъ ему приносить честь его серьезное отношеніе къ предмету. Возможно, что у него не было религіознаго чувства, но у него былъ зародышъ религіи въ видѣ серьезнаго взгляда на нее. При выходѣ изъ XVIII вѣка это являлось заслугой. Констанъ оставилъ книгу, выводы которой представляются спорными, но которая проникнута возвышеннымъ духомъ. Послѣ Дюпюи и Вольнея, передъ лицомъ ІПатобріана, ослѣпленнаго своей фантазіей п незамѣтно для самого себя доходившаго въ своемъ католицизмѣ почти до язычества, Констанъ ввелъ во французскую мысль начало вполнѣ ей чуждое—небольшую примѣсь протестантизма. У насъ быль уже католицизмъ, янсенизмъ, мистицизмъ и бурное невѣріе. Новостью было для насъ серьезное, нѣсколько холодное, но добросовѣстное изслѣдованіе религіознаго чувства, стремленіе связать его съ нравственнымъ закономъ, сдѣлать его внутреннимъ устоемь, скорѣе нравственной дисциплиной или ру
— 150 —
ководителемъ, чѣмъ усладой воображенія. Это стремленіе явилось снова послѣ Констана, было лучше понято другими, сыграло свою роль въ исторіи идей XIX вѣка, оказало дѣйствительное, хотя и ограниченное вліяніе. Мнѣ кажется, Констанъ первый указалъ на него, хотя самъ недостаточно былъ убѣжденъ въ немъ и проникнутъ имъ.
По всѣмъ этимъ основаніямъ Констана должно признать иниціаторомъ, умомъ оригинальнымъ, человѣкомъ стоящимъ не ниже излагаемыхъ имъ идей,—а это бываетъ рѣдко. Авторъ Адольфа не могъ не быть почти великимъ художникомъ; первый теоретикъ либерализма не могъ не быть почти великимъ умомъ.
Ройе-Колларъ.
19 сентября 1833 года Ройе-Колларъ писалъ Баранту: „У меня была склонность только къ либерализму, связанному съ легитимностью". Этими словами онъ прекрасно опредѣлилъ себя. Либеральный легитимистъ,—столько же либералъ, сколько и легитимистъ, и наоборотъ—столько же легитимистъ, сколько и либералъ, —вотъ весь Ройе-Колларъ. Онъ не признаетъ ни легитимности безъ свободы, ни свободы безъ легитимности.—„Отдѣлите свободу отъ законности, вы приблизитесь къ варварству; отдѣлите законность отъ свободы, вы вновь вызовете ужасную борьбу, въ которой погибла и та и другая".—Онъ признаетъ легитимность только въ соединеніи со свободой, такъ какъ безъ свободы она является не только деспотизмомъ, во нравствевяой анархіей, чѣмъ то вродѣ наслѣдственной, традиціонной маніи величія, освященной временемъ и прославленной исторіей. Онъ признаетъ свободу только въ связи съ законностью, такъ какъ для него свобода только предѣлъ, граница, гдѣ останавливается власть и которая освящаетъ право власти, ограничивая ее. А если она уже не ограничиваетъ законную власть, то изъ ограниченія она сама превращается во власть, власть произвольную, капризную, неопредѣлелную и неограниченную, становится новой формой анархіи и безпорядка гражданскаго и нравственнаго. Итакъ, упорный легитимистъ и упрямый либералъ,— вотъ чѣмъ оставался Ройе-Колларъ до конца съ чрезвычайной послѣдовательностью и постоянствомъ.
Подобная система подходила къ его характеру, и онъ привязался къ ней. Есть люди либеральные изъ либерализма, есть люди, либеральные изъ любви къ власти. Ройе-Колларъ принадлежалъ къ числу послѣднихъ. Строгій, если не суровый, что, можетъ быть, было бы черезчуръ сильно, жестокій до того, что онъ не скрывалъ ничего по отношенію къ своимъ въ частной жизни, очень гордый в очень рѣзкій,—Ройе-Колларъ съ раннихъ поръ выказывалъ наклон-сти прекурора и навсегда сохранилъ ихъ. Тэнъ прекрасно назвалъ го „диктаторомъ". Онъ вовсе не былъ легитимистомъ изъ чув
— 151 —
ства гордости и любви; душа его ничуть не была роялистской. Его характеру нужно было такое политическое устройство, при которомъ онъ, или, если хотите, человѣкъ подобный ему, пользовался бы своей долей вліянія, правомъ уважаемымъ, освященнымъ и неотъемлемымъ,—гдѣ никакая власть не могла бы тронуть его на его профессорской кафедрѣ, на скамьѣ депутата или въ креслѣ несмѣняемаго судьи.—Съ другой стороны, онъ былъ довольно лѣнивъ, старательно избѣгалъ хлопотъ и отвѣтственности, связанныхъ съ властью, и потому не могъ думать объ удовлетвореніи своихъ властолюбивыхъ наклонностей путемъ участія въ исполнительной власти. Итакъ, ему оставалось быть „парламентаріемъ“, человѣкомъ, желающимъ не крупной власти руководящаго министра, а власти болѣе ограниченной въ своей дѣятельности, хотя столь же и даже болѣе абсолютной въ своей узкой сферѣ, власти судьи, безотвѣтственнаго депутата,—однимъ словомъ, власти человѣка, вліяніе котораго охраняется, защищается и поддерживается внесеннымъ въ конституцію закономъ. Если кто мечталъ объ учрежденіи несмѣняемыхъ сенаторовъ и желалъ принадлежать къ числу ихъ, такъ это именно Ройе-Колларъ.
Вотъ что можно сказать объ его либерализмѣ и о пониманіи имъ слова „свобода“. Его легитимизмъ вытекаетъ изъ того же источника. Если разумѣть подъ вольностями конституціонныя права, которыми пользуются нѣкоторые классы гражданъ, чтобы оказывать извѣстное вліяніе на дѣла, то очевидно, что настоящей и дѣйствительной гарантіей этихъ правъ должно служить тоже право, но право высшее и пользующееся всеобщимъ признаніемъ; его настоящее, а особенно прошедшее и давнишній наслѣдственный авторитетъ пріучаютъ народъ уважать и поддерживать своимъ уваженіемъ права низшія и второстепенныя.—Если даже королевская власть вытекаетъ изъ народнаго полномочія, то тѣмъ болѣе это вѣрно относительно всѣхъ прочихъ властей и авторитетовъ. Если королевская власть является слѣдствіемъ удачи, трофеемъ счастливаго солдата или добычей ловкаго интригана, она становится случайностью, и такой же случайный характеръ получаютъ всѣ власти и авторитеты низшаго порядка.
Итакъ, Ройе-Коллару хотѣлось бы жить въ такомъ государствѣ, гдѣ королевская власть была бы правомъ, но не единственнымъ, чтобы рядомъ съ нею существовали права для другихъ,— чтобы она была властью, но не единственной, а чтобы ниже ея могли существовать другія власти, не преклоняющіяся передъ ней.
I. Общіе взгляды Роде-Коллара.
Говорятъ, однажды онъ нашелъ на набережной томъ Томаса Рида и, открывъ его, замѣтилъ что въ этой книгѣ заключается его философія. Въ 1815 году онъ нашелъ другую книгу, въ ко
— 152 —
торой, при правильномъ ея пониманіи, заключалась вся его политика; этой книгой была Хартія. Ройе-Колларъ, по справедливому замѣчанію Ремюза, „создалъ филолософію ХартіиВъ ней онъ нашелъ написаннымъ то, что жило у него въ умѣ въ видѣ системы, а въ глубинѣ его души подъ видомъ потребности: соединеніе легитимности съ свободой. „Хартія- не что иное, какъ неразрывное соединеніе законной власти, отъ которой она проистекаетъ, съ національной свободой, которую она освящаетъ. Въ этомъ ея основа; оттого-то она и сильна какъ необходимость**.
Въ 1815 году Ройе-Колларъ замѣтилъ, что въ теченіе ночти шестидесяти лѣтъ французы, разсуждая о политикѣ, должны были предлагать другъ другу одинъ вопросъ: кому принадлежитъ верховная власть? Королю или народу? Принадлежитъ ли она королю, какъ уполномоченному народа или какъ уполномоченному Бога? Принадлежитъ ли она народу неотчуждаемо и постоянно или народу представляемому уполномоченными, собирающимися вокругъ короля или безъ него?—Ройе-Колларъ отвѣтилъ на это: „Вопросъ поставленъ неудачно по той простой причинѣ, что его совсѣмъ не должно ставить. Спрашивается: гдѣ верховная власть? Я говорю: ея совсѣмъ нѣтъ. Разъ существуетъ верховная власть, является деспотизмъ, а разъ существуетъ деспотизмъ, общество если не умираетъ (часто немногаго не хватаетъ до этого), то во всякомъ случаѣ въ немъ возникаетъ глубокій органическій безпорядокъ. Спрашивать, гдѣ верховная власть, значитъ быть абсолютистомъ и объявлять себя таковымъ; значитъ не понимать, не чувствовать и даже не подозрѣвать, что такое свобода**.
Верховной власти не существуетъ,—вотъ весь смыслъ политической теоріи Ройе-Коллара; онъ по очереди обращается ко всѣмъ общественнымъ властямъ, древнимъ, новымъ и будущимъ, и говоритъ каждой изъ нихъ: вы не государь.—Ему досталось много дѣла: въ его время всѣ въ свою очередь перебывали государями, и всѣ стремились вновь стать ими, такъ что Ройе-Коллару приходилось говорить со многими.—Королю онъ говорилъ: вы не государь, а правительство, что совсѣмъ не одно и то же —Народу онъ говорилъ: вы не государь; вы—сила, а это дѣло иное.—Членамъ парламента онъ говорилъ: вы не государи; вы—законодатели, а это не одно и тоже.
Въ этомъ весь секретъ его колебаній или скорѣе его поворотовъ, который, конечно, легко разгадать. Въ 1816 году Ройе-Колларъ вмѣстѣ съ правительствомъ идетъ противъ палаты, и это понятно, такъ какъ палата 1816 г. по своимъ намѣреніямъ и по духу пе что иное, какъ Конвентъ. Она стремится управлять, пользоваться верховной властью: вы не государи!—Въ 1828 году онъ вмѣстѣ съ палатой идетъ противъ правительства, и это понятно, такъ какъ правительство 1828 г хочетъ быть Людовикомъ XIV: вы не государь.—Онъ всегда повторяетъ одно и то же, всегда
— 153 —
говоритъ однимъ языкомъ. Онъ только, смотря но времени, обращается кь разнымъ лицамъ; одно это и придаетъ ому видъ крайней перемѣнчивости.
Эту теорію, твердую и неизмѣнную, онъ находитъ, или думаетъ найти, въ хартіи. Хартія, по его мнѣнію, провозгласила отсутствіе верховной власти. Она установила безыменную и безличную власть—законъ, она устранила въ сущности созданіе закона лицомъ: столько оказалось различныхъ и отдѣльныхъ силъ, согласіе которыхъ необходимо для его созданія. Законъ, по хартіи, не создается ни народомъ, ни королемъ ни аристократіей, ни избранниками народа. Онъ создается королемъ,, перами и уполномоченными народа, когда всѣ они приходятъ къ соглашенію; отсюда слѣдуетъ, и это не просто тонкость выраженія,—что онъ создается не королемъ, перами и депутатами, а создается соглашеніемъ короля, перовъ и депутатовъ. Источникъ закона остается тайнымъ, настолько многочисленны начала его создающія, и онъ въ копцѣ концовъ одинъ является государемъ. Никто не можетъ сказать, въ комъ онъ зародился, и кто его создалъ. Нлчто является верховной властью, никто не оказывается государемъ.
Вотъ смыслъ и духъ хартіи. Все исходитъ отъ нея. Она утверждаетъ насъ въ нашихъ правахъ, въ нашемъ вліяніи, въ нашей власти. Всякая власть исходитъ отъ нея и существуетъ только ею для того,чтобы никто въ странѣ не былъ могущественъ самъ по себѣ. Хартія создаетъ короля, перовъ, депутатовъ, избирателей или избираемыхъ. Если, напримѣръ, не всякій гражданинъ является избирателемъ, умы практическіе и положительные могутъ объяснить это тѣмъ, что нужно обращать вниманіе на компетентность, даже когда дѣло идетъ о спасеніи страны, и еще тѣмъ, что только зная ремесло, можно заниматься имъ,—и они, конечно, будутъ правы. Но главная цѣль этого ограниченія—нагл ядно показать, что человѣкъ становится избирателемъ не въ силу естественнаго права, но по праву, установленному хартіей, цѣликомъ исходящему отъ нея и не существовавшему раньше нея.
Чтобы придать конституціи такой авторитетъ, одарить ее такимъ всемогуществомъ, приписать ей такую силу, надо, на сколько возможно, возвысить ее во млѣніи людей. Ройе-Колларъ не упускаетъ этого: онъ старается, какъ мы уже видѣли, слить ее съ „необходимостью**, разумѣя подъ этимъ необходимость историческую. Хартія, это—исторія Франціи. Ея первыя „очертанія** замѣтны во время Людовика Толстаго. Она существуетъ не со вчерашняго дня; со вчерашняго дня существуетъ только бумага, на которой она написана. Завися отъ хартіи, мы зависимъ отъ нашей исторіи. Въ лицѣ ея безсмертная Франція налагаетъ обязательства на француза данной минуты; она же даетъ ему права и, создавъ его, какъ человѣка, создаетъ изъ него также естественно гражданина, судью, законодателя и короля. Такой взглядъ на конститу
— 154 —
цію очень удобенъ для Ройе-Коллара. Приписывая ей такую же древность, какъ и монархіи, онъ получаетъ возможность быть столько же конституціоналистомъ, какъ и роялистомъ, столько же либераломъ, какъ и легитимистомъ, человѣкомъ какъ будто одного чувства и одной мысли. Хартія и королевская власть представляютъ собою двѣ стороны одного права; это двуличное пра-во всегда существовало во Франціи и происхожденіе его сливается съ началомъ страны. Легитимность и хартія переживали одну судьбу въ исторіи, имѣютъ одинъ смыслъ и одинъ духъ въ теоріи. Та и другая существуютъ для водворенія права въ царствѣ силы и случайности. Легитимность нужна для того, чтобы вступленіе на престолъ и царствованіе не были случайностями. Хартія мѣшаетъ закону служить проявленіемъ силы, давленіемъ большинства на меньшинство, одной цифры на другую немного меньшую. Законность я хартія являются остроумной и спасительной замѣной силы правомъ, замѣной чего-то матерьяльнаго и грубаго чѣмъ то духовнымъ; обѣ онѣ представляютъ собою формы, созданія и опоры цивилизаціи, такъ какъ въ дѣлѣ созданія исторіи человѣчества значеніе силъ и обстоятельствъ сводится единственно къ ограниченію варварства.
П. Политическіе взгляды Ройе-Коллара.
Опираясь на эти общіе взгляды, Ройе-Колларъ спокойно переходитъ къ точной и справедливой оцѣнкѣ переживаемаго имъ времени и производитъ ее съ большимъ пониманіемъ и съ проницательностью настоящаго государственнаго человѣка. Онъ замѣчаетъ, что Франція 1816 года стоитъ между двумя „верховенствами", однимъ въ прошедшемъ, другимъ въ будущемъ. Прежнее верховенство было почти абсолютной монархіей, верховная власть будущаго, это—абсолютное верховенство народа.
Прежнее верховенство было почти абсолютной монархіей.— Оно точно было ею, что бы ни говорилъ Ройе-Колларъ о непрерывности легитимности и хартіи. Онъ самъ хорошо звалъ, что, все сказанное имъ относительно хартіи было теоріей, а что въ дѣйствительности изъ этихъ двухъ вѣчныхъ правъ одно было очень сильно, а другое наоборотъ очень слабо. Необходимо признать, что до 1789 года существовало верховенство; но дѣйствительно оно было только почти абсолютнымъ. Рядомъ или, если хотите, ниже права короля во Франціи существовали другія права. Существовали силы, не истекавшія отъ королевской власти, были авторитеты и магистратуры, зависѣвшія сами отъ себя; были должности, составлявшія собственность. Франція долго была „испещрена*, она всегда была полна „не только орденами, сеньеріями, коммунами, но и массой корпорацій, каждая со своими особыми сановниками... Право было вездѣ... Существовали сильныя группы частныхъ правъ,
— 155 —
настоящія республики въ монархіи. Эти учрежденія, правда, не раздѣляли верховной власти; но они всюду ставили ей границы, упорно защищаемыя честью".—Все это исчезло. Революція думала создать свободу и только перемѣстила верховенство, превративъ его изъ почти абсолютнаго, какимъ оно становилось, въ абсолютное безъ всякихъ ограниченій. „Революція сохранила только личности". Дѣйствительно, въ 1816 году мы централизованы, т. е. обособлены другъ отъ друга и объединены прямою непосредственною властью государства надъ каждымъ изъ насъ. „Общее рабство... вотъ наслѣдство, доставшееся Людовику XVIII" отъ тѣхъ, чьимъ наслѣдникомъ онъ не былъ. Мы не граждане; мы менѣе граждане, чѣмъ до изобрѣтенія этого слова мы „управляемые". Верховенство насъ поглощаетъ; мы тонемъ въ немъ; „его уполномоченные метутъ наши улицы и зажигаютъ наши фонари".
Мы стоимъ на пути отъ прежней почти абсолютной власти къ новому верховенству, которое будетъ буквально подавляющимъ. Мы совсѣмъ готовы подчиниться игу абсолютнаго народнаго верховенства. Мы испытали его случайно; завтра мы подчинимся ему какъ учрежденію правильному и постоянному. Еще нѣсколько лѣтъ, и дѣло будетъ сдѣлано; еще нѣсколько лѣтъ, и „демократія потечетъ къ намъ полнымъ потокомъ".
Что дѣлать, чтобы помѣшать установленію этого будущаго, близкаго уже владычества? Прежде всего поддерживать легитимность. Это дѣйствительно необходимо. Въ выровненной и централизованной Франціи изъ столь многочисленныхъ прежде правъ, а не силъ, остается она одна. Разъ она остается одна, могутъ, конечно, сказать, что она почти не существуетъ: право, ставшее одинокимъ и не ограничиваемое болѣе никакимъ другимъ, становится просто угнетающей силой. Но оно все же — право, въ томъ смыслѣ, если хотите, что было имъ; оно сохраняетъ характеръ права, внушаетъ къ себѣ почтеніе и, можетъ быть, служитъ хорошимъ примѣромъ; въ этомъ отношеніи оно стоитъ выше простой чистой силы, не похожей на право даже тѣмъ, что она была имъ когда то.
Сверхъ того, разъ отъ старыхъ правъ ничего не остается, нужно создать новыя. Нужно, чтобы во Франціи установились извѣстныя независимыя и ненарушимыя учрежденія, которыхъ не могла бы касаться верховная власть, ни власть всецѣло относительная, существующая въ данный моментъ, благодаря хартіи, ни власть на сей разъ абсолютная, которая вѣроятно появится завтра и будетъ называться верховенствомъ народа.—И замѣтьте, что когда легитимность считалась единственнымъ правомъ, она была только воспоминаніемъ о правѣ, и что она становится настоящимъ правомъ, лишь только являются другія права; ограничивая ее, я, такъ сказать, ее узакониваю.
Какія же новыя права надо освятить, чтобы замѣстить ими
— 156 —
старыя, отмѣненныя, а затѣмъ прямо искорененныя? Эти права должны быть общими, т. е. вольностями, вмѣсто того, чтобы быть попрежнему частными правами, т. е. привилегіями. Только въ этомъ, только соблюдая, эту разницу между прошлымъ и настоящимъ, и можно быть демократомъ и принимать революцію. Право класса, корпораціи, общины, право личное, все это вольность, нельзя не признать этого; все, что ограничиваетъ, останавливаетъ или уравновѣшиваетъ абсолютную власть одного или всѣхъ, является вольностью, косвенной выгодой для всѣхъ, хотя и составляетъ собственность одного лица. Но это—вольность общая въ своемъ конечномъ выводѣ и частная, какъ бы „домашняя" по своей природѣ и сущности. Современному міру непонятны и непригодны частныя преимущества, такъ какъ, являясь исключеніями и представляясь злоупотребленіями, они могутъ быть установлены только временемъ; ему нужды общія вольности. Конечно, ими воспользуются далеко не всѣ,—на это разсчитывать нечего; вполнѣ и неизбѣжно окѣ окажутся, какъ и прежнія,—привилегіей немногихъ; но тѣмъ не менѣе онѣ останутся „общими" въ томъ смыслѣ, что всѣ французы будутъ имѣть доступъкь нимъ, какъ къ „общественнымъ должностямъ", будутъ если не избранными, то по крайней мѣрѣ призванными кь нимъ.—Въ этомъ смыслѣ онѣ будутъ носить нѣсколько обманчивый, пусть такъ, но соблазнительный и правдоподобный характеръ всеобщности, чго удовлетворитъ демократическому стремленію къ равенству; а въ глазахъ серьезнаго мыслителя онѣ будутъ имѣть одно назначеніе и одно дѣйствіе со старыми, ни больше, ни меньше,—и этого достаточно: онѣ будутъ мѣшать появленію верховенства.
Каковы же будутъ эти общія вольности, предназначенныя замѣнить вольности частныя? Эго будутъ: свобода печати, свобода вѣроисповѣданія, несмѣняемость судей, парламентское правленіе.
Свобода печати не является, какъ говорили о ней, гарантіей, охраной прочихъ вольностей. Она совсѣмъ не служитъ ревнивымъ стражемъ ихъ; ей нѣтъ до нихъ дѣла, такъ какъ она заботится только о самой себѣ. Печать стремится существовать, утверждаться, развиваться, быть могущественной, и больше ничего. Она вовсе не чувствуетъ себя солидарной съ прочими вольностями, и она права: она дѣйствительно съ ними не солидарна. Напротивъ, она чувствуетъ себя болѣе значительной, и дѣйствительно является таковою, когда парламентъ парализованъ, а магистратура порабощена, такъ какъ тогда ей вполнѣ принадлежитъ общественное мнѣніе, которымъ она живетъ. Значить, ока носитъ характеръ вполнѣ эгоистичный и довольно злотворный и не заслуживаетъ особеннаго почитанія. Но, замѣтьте, по своей природѣ она больше другихъ вольностей является вольностью народною. Она почти замѣняетъ мелкія народныя вольности и „домашнія" права былого времени, которыхъ уже не существуетъ. Путемъ печати кому
— 157 —
угодно всегда будетъ относительно легко предъявить свои жалобы и свои требованія; а это ограничиваетъ верховенство, такъ какъ настоящее верховенство основывается прежде всего ва молчаніи подданныхъ,—Печати ставятъ въ упрекъ, и она хвалится тѣмъ, что является „третьей" или „четвертой державой". Для этого то именно и нужно ея существованіе. Вокругъ настоящей власти нужно создать другія силы или допустить ихъ образовавіе вокругъ нея. Нужно, чтобы эта власть не стояла одиноко, не поглощала всей массы общественныхъ силъ. Печать является одной изъ ограничительныхъ силъ; за нее говоритъ и то, что она, если и не находится въ рукахъ, то по крайней мѣрѣ состоитъ отчасти въ распоряженіи людей маленькихъ. Это ихъ орудіе; положимъ, пусть это будетъ ихъ утѣшеніе. Общественная гигіена требуетъ, чтобы у нихъ было утѣшеніе, или чтобы они вѣрили въ обладаніе имъ.
И это общее право станетъ привилегіей!—Безъ всякаго сомнѣнія. Все, что въ теоріи является вольностью, становится на практикѣ привилегіей. Печать, если посмотрѣть на дѣло ближе, станетъ силою въ рукахъ извѣстныхъ людей, отъ чего не выиграетъ, а скорѣе пострадаетъ частное лицо; противъ этого придется даже принять извѣстныя предосторожности. Но во всякомъ случаѣ это— преимущество въ томъ смыслѣ, что это—сила, ограничивающая верховенство.—Почему интересоваться печатью больше, чѣмъ другимъ преимуществомъ? Потому что теперь выборъ у насъ небогатъ. Тѣ ограничивающія власти, которыя Монтескье называлъ „посредствующими властями" и которыхъ было такъ много въ старой Франціи, хотя подъ конецъ онѣ и ослабѣли,—оказываются теперь очень малочисленными. Произошла нивелировка; прошелъ катокъ. Я ищу преграды противъ абсолютизма и нахожу ее въ печати.
' Она не безъ неудобствъ, но имѣетъ и преимущества. Подведя итогъ, я оставляю ее.
Свобода вѣроисповѣданія тоже представляетъ собою ограничительную силу, но отличается отъ другихъ силъ тѣмъ, что ни въ какомъ случаѣ не можетъ стать привилегіей. Въ этомъ отношеніи она является исключеніемъ. Это—ограничивающая власть, имѣющая силу только въ качествѣ границы, или, лучше сказать, это—граница, не представляющая собою власти. Это происходитъ отъ того, что, являясь въ видѣ вольности, она утрачиваетъ свою власть. Церковь вообще является властью, церковь привилегированная есть иго, а церковь, слитая съ государствомъ,—самый полный изъ деспотизмовъ. Церкви свободныя являются просто вольностями, и больше ничего, и постоянными наставницами свободы. Онѣ постоянно напоминаютъ гражданину, что онъ не весь цѣликомъ принадлежитъ государству, что въ глубинѣ его есть священный уголокъ, въ который ничего заглядывать государству, и которымъ человѣкъ располагаетъ вполнѣ по своему усмотрѣнію, присоединяясь добро
— 158 —
вольно къ той или другой религіозной общинѣ. Это—ограничительныя силы, но ограниченія чисто нравственныя. Онѣ освобождаютъ души; онѣ помогаютъ совѣсти очнуться, убѣдиться въ своемъ существованіи, и съ этой минуты она дѣйствительно становится совѣстью, вмѣсто того, чтобы быть простымъ подчиненіемъ. Освобождать совѣсть значитъ создавать ее. На свѣтѣ нѣтъ болѣе могущественной закваски индивидуализма.
Въ то время, когда почти абсолютная монархія, уравнительная демократія и имперія, наперерывъ другъ передъ другомъ, уравняли, централизовали и соціализовали народъ до того, что государство, т. е. на практикѣ правительство, стало всѣмъ,—тутъ то, болѣе чѣмъ когда-либо, необходимо существованіе хотя бы одной индивидуальной вещи—совѣсти, а также свободныхъ союзовъ совѣсти-церквей. Мы видѣли, что нѣкогда въ монархіи существовали маленькія республики; но ихъ не будетъ сегодня въ монархіи, завтра въ деспотической демократіи, этихъ маленькихъ республикъ, если церкви не возьмутъ на себя ихъ роли. Теперь болѣе чѣмъ когда-либо государственная церковь представляетъ страшную опасность для свободы. Въ старой монархіи офиціальная церковь пе была государственной: она была с юловіемъ въ государствѣ, т. е. властью ограничивавшей верховенство. Теперь, слившись съ государствомъ, живя имъ, она будетъ уже не ограничивать его, а усиливать его вліяніе и силу; являясь религіознымъ государствомъ, она будетъ усиливать государство гражданское, явится усиленіемъ централизаціи, гнета и деспотизма. Государство— церковь является неограниченнымъ деспотизмомъ; свободная церковь есть школа свободы.
Несмѣняемость судей представляется также ограничивающимъ началомъ, болѣе матеріальнымъ и осязательнымъ, но столь же необходимымъ.—Здѣсь государство признаетъ возможность существованія уже не совѣсти внѣ его, а правосудія противъ него,—признаетъ, что при столкновеніи съ гражданиномъ оно можетъ быть осуждено, и что эта возможность полезна для общества,—признаетъ, что ему нельзя быть судьей, такъ какъ можетъ случиться, что оно явится и судьей, и стороною. Гражданская свобода и безопасность частнаго гражданина, а, слѣдовательно, вся общественная безопасность, основываются на этой необходимой жертвѣ.
Что говоритъ государство судьѣ, когда назначаетъ его? Какое государство, это все равно^ такъ какъ въ принципѣ всегда бываешь справедливъ, и лишь случайности заставляютъ позднѣе уклоняться отъ правды. „Оно говоритъ ему: будь безстрастенъ, не бойся и не надѣйся. Если личныя мои заблужденія или осаждающія меня постороннія вліянія вырвутъ у меня несправедливыя приказанія, не слушайся меня.—Судья отвѣчаетъ: я не болѣе какъ человѣкъ... Вы слишкомъ сильны, а я слишкомъ слабъ. Я не выдержу... Я не могу всегда возвышаться надъ собою, если вы не
— 159 —
будете ограждать меня заразъ и отъ меня самого, и отъ васъ. Помогите мнѣ въ моей слабости. Освободите меня отъ страха и надежды".
Вотъ что можетъ сдѣлать, даже не государство, а единственно принципъ несмѣняемости. Правосудіе можетъ быть справедливымъ только тогда, когда судья будетъ собственникомъ своей должности. Онъ былъ имъ когда-то. Эта продажность должностей, вызванная самымъ низкимъ побужденіемъ, нуждою короля въ деньгахъ, тѣмъ не менѣе создала правосудіе во Франціи. Она создала судей, не боявшихся смѣщенія,—магистратуру, не опасавшуюся періодическаго очищенія.—Придетъ, можетъ быть, время (это говоритъ уже не Ройе-Колларъ), когда нужда въ деньгахъ возстановитъ продажность должностей; это возмутитъ общественное мнѣніе, но составитъ соціальный прогрессъ, несмотря на протестъ народнаго чувства и на низость побужденія, изъ котораго она возникнетъ: несчастіе составляетъ не продажность должности, а продажность судьи.—Придетъ, можетъ быть, и такое время, когда въ какой-нибудь Салентской республикѣ магистратура не будетъ составляться ни изъ покупателей, ни изъ наслѣдниковъ, ни изъ чиновниковъ, а будетъ государственнымъ сословіемъ, пополняющимъ себя самовольно изъ юристовъ; она будетъ пользоваться полной самостоятельностью, будетъ такъ же, и по той же причинѣ, независима отъ исполнительной власти, какъ теперь она независима отъ власти законодательной... А пока несмѣняемость, нисколько не стѣсняющая честолюбцевъ, но успокоивающая робкихъ, является наименьшей гарантіей, достаточной въ томъ случаѣ, если считать несмѣняемость непоколебимымъ конституціоннымъ началомъ... и нарушать его не чаще какъ чрезъ каждыя тридцать лѣтъ.
И вотъ является еще новая привилегія.—Да, и будьте увѣрены, что въ политикѣ отвлеченности не могутъ не становиться реальностями. Въ теоріи государство представляется совокупностью, которая, какъ учитъ Руссо, не можетъ быть притѣснителемъ, а на практикѣ государство оказывается всегда правительствомъ, которое находитъ средства притѣснять не только меньшинство, но даже довольно часто и большинство. Точно также свобода въ теорія представляется словомъ, подъ которымъ каждый подразумѣваѳтъ все, что ему представляется самымъ лучшимъ; а на практикѣ свобода всегда оказывается вольностью, т. е. правомъ, принадлежащимъ кому-нибудь и ограничивающимъ власть государства; т. е., если она не остается теоретическимъ правомъ или пустымъ звукомъ, она становится извѣстною властью, данною кому-либо, или—привилегіей.
Да, несмѣняемость судей, это—привилегія, привилегія на первый взглядъ странная, такъ какъ судья получаетъ жалованье отъ государства, не будучи чиновникомъ правительства, и, получая жалованье, не обязанъ повиноваться государству. Но замѣтьте, что
— 160 —
всеобщую свободу только и можно установить учрежденіемъ извѣстнаго числа разумныхъ привилегій.—Старый порядокъ состоялъ изъ привилегій, установленныхъ временемъ и составлявшихъ извѣстную сумму вольностей; новый порядокъ долженъ создаваться привилегіями, за отсутствіемъ старыхъ, устанавливаемыми разумомъ. „Духъ новаго времени" долженъ находить себѣ удовлетвореніе въ томъ, что это по крайней мѣрѣ не прежнія привилегіи.
Наконецъ, величайшей гарантіей свободы, сильнѣйшей „ограничительной властью", а также крупнѣйшей „привилегіей" новаго времени является парламентское правленіе. Собственно говоря, какъ гарантіи свободы его было бы достаточно. Народъ свободенъ тогда, когда платитъ назначенный имъ налогъ; свободный народъ самъ назначаетъ совѣтъ, управляющій финансами.—Это, дѣйствительно устанавливаетъ свободу, нѣсколько, такъ сказать, грубую и насильственную, такъ какъ народъ владѣетъ всего однимъ и при томъ грознымъ средствомъ „ограничивать" и подчинять себѣ правительство въ отвѣтъ на тысячу мелкихъ способовъ непрерывнаго угнетенія, которыми располагаетъ правительство. Пользуясь однимъ этимъ правомъ, народъ, если имъ плохо правятъ, можетъ только отказать въ налогѣ; одно только это можетъ онъ сдѣлать и тогда, когда когда его плохо судятъ, если имъ неумѣло руководятъ въ дипломатіи, если „уполномоченные верховной власти" плохо зажигаютъ его фонари. Поэтому то въ этой гарантіи свободы есть что-то первобытное, грубое, насильственное. Это не что иное, какъ организація возстанія во время мира. Но это во всякомъ случаѣ могучая и даже безмѣрная гарантія, одна уже устанавливающая политическую свободу,—гарантія въ виду своей колосальности весьма существенная. Никто впрочемъ и не думаетъ нападать на ея основу. Что необходимо, такъ это понять ея характеръ, опредѣлить ея границы и устранить приносимыя ею опасности. Парламентское правленіе представляетъ собою вольность, ограничительную власть, а, слѣдовательно, привилегію; только это такая сильная ограничительная власть, что она грозитъ поглотить то, что ограничиваетъ, а привилегія эта настолько крупна, что она грозитъ сдѣлаться всемогущею. То, что создано для установленія или поддержанія свободы, можетъ на этотъ разъ ее погубить. Парламентъ непобѣдимо стремится къ тому, къ чему онъ всего менѣе способенъ,—къ управленію; стремится во-первыхъ, потому, что людямъ свойственно стремленіе быть тѣмъ, къ чему природа ихъ не предназначаетъ, а, во-вторыхъ, потому, что всякій человѣкъ и всякая корпорація всего болѣе желаетъ управлять.
Парламентъ не можетъ и не долженъ управлять. Онъ не можетъ управлять, такъ какъ представляетъ собою корпорацію, а дѣйствіе требуетъ всегда единаго главы. Когда парламентъ правитъ, онъ правитъ не иначе какъ черезъ человѣка, облеченнаго
—161 —
его довѣріемъ, откуда слѣдуетъ, что править самъ онъ вовсе не можетъ и правятъ лишь отрекаясь отъ управленія.
Парламентъ не долженъ управлять, такъ какъ въ его дѣйствіяхъ не можетъ быть ни быстроты, ни тайны, ни послѣдовательности. Самое большее, могла руководить народомъ въ исторіи очень сильная, энергичная и строгая аристократія, объединенная въ наслѣдственный и малолюдный совѣтъ. Современный парламентъ съ его болѣе или менѣе демократическимъ характеромъ и сильною отвѣтственностью передъ народомъ, при которой больше послѣдній руководитъ имъ, чѣмъ наоборотъ, — такой парламентъ никогда управлять не будетъ. Онъ будетъ приноровляться, будетъ придумывать, не политику, но рядъ уловокъ,—будетъ, пожалуй ловко подчиняться исторіи, но не будетъ въ состояніи создавать ее самъ. — Парламентъ не долженъ управлять. А между тѣмъ онъ пожелаетъ взять власть въ свои руки и будетъ въ состояніи сдѣлать это. Какъ только парламентъ появился во Франціи, его первымъ дѣломъ было захватить въ свои руки управленіе, а вторымъ—подчиниться руководству толпы. Стремленіе править и подчиненіе чужому руководству—вотъ исторія парламентскаго правительства. Какъ, предупредивъ первое изъ этихъ несчастій, помѣшать имъ обоимъ?— Прежде всего нужно постараться отнять у парламентскаго управленія его мнимыя права. Депутаты всегда считаютъ себя представителями верховнаго народа а потому воображаютъ и самихъ себя государями. Они употребляютъ безразлично,—и это очень характерно, — выраженія: „Парламентское управленіе, управленіе представительное". Это—выраженія неточныя, заключающія въ себѣ невѣрную мысль. Депутаты отнюдь не уполномоченные представители народа; они—представители интересовъ народа, а это большая разница. Если бы они были уполномоченными народа, у насъ прежде всего была бы республика; а затѣмъ что представляли бы они? Представляли бы людей цѣликомъ, ихъ страсти, желанія, вкусы, т. е. представляли бы силы. Но сила не передается; она остается тамъ, гдѣ находится. Какъ только мы предположимъ, что депутатъ представляетъ гражданъ, людей, ихъ совокупность, онъ становится безсмыслицей и утрачиваетъ право на существованіе. Вмѣсто того, чтобы выставлять его своимъ представителемъ,
люди должны были бы пересчитать себя и сказать: „насъ три милліона съ такой то страстью, васъ два милліона со страстью противоположною, а потому наша страсть станетъ закономъ". Представительное правленіе, слѣдуя своей собственной логикѣ, должно преобразоваться въ правленіе непосредственное, т. е. перестать существовать.
Но эта логика и эта теорія чужды намъ. Въ теоріи хартіи нѣтъ представителей народныхъ правъ. Народныя права въ ней признаны, провозглашены, приняты во вниманіе, но не представлены. Депутаты не представители народа; они блюстители народ-
11
— 162 —
ныхъ интересовъ; не народъ уполномочиваетъ ихъ, а хартія. Она создаетъ и назначаетъ ихъ, все равно какъ она сохраняетъ короля, создаетъ перовъ и судей, создаетъ избирателей; причина тутъ вездѣ одна: всѣ оци нужны ей.
.Ей нужна охрана и защита различныхъ и даже противоположныхъ интересовъ націи. Для націи важна извѣстная преемственность и традиціонное единство въ ея существованіи; для этого хартія сохраняетъ короля. У высшихъ классовъ, мыслящихъ, просвѣщенныхъ, ведущихъ крупныя предпріятія, преслѣдующихъ широкіе замыслы, есть свои особые интересы, защиты которыхъ требуетъ общая польза; съ этою цѣлью хартія создаетъ перовъ. У народа есть свои интересы, потребности и страданія; для него хартія создаетъ депутатовъ, создаетъ ихъ, правда, не прямо, а назначаетъ для выбора ихъ избирателей. Но избиратели не что иное какъ служители хартіи. - Это вполнѣ очевидно. Если бы депутаты были представителями народа, народъ и долженъ былъ бы ихъ назначать. Всеобщая подача голосовъ была бы разумной необходимостью. Но хартія ея не допускаетъ. Она говоритъ: Депутатовъ будутъ назначать избиратели съ такимъ то цензомъ". Это все равно, что сказать: „я назначаю избирателями такихъ то и такихъ то гражданъ, считаю ихъ пригодными для этого и потому возлагаю на нихъ эту обязанность". Избирательное право есть дѣйствительно обязанность. — Другою обязанностью, подобною перству и королевской власти, является депутатство. Хартія составила правительство изъ трехъ правительствующихъ элементовъ съ тѣмъ, чтобы оно могло охранять и защищать различные интересы націи. Палата депутатовъ только одинъ изъ этихъ трехъ элементовъ. Стремясь захватить управленіе, она, во-первыхъ, ниспровергаетъ всю конституцію, а затѣмъ наноситъ ударъ двумъ изъ трехъ основныхъ интересовъ страны.
Итакъ, постараемся, прежде всего, прочно установить то положеніе, что парламентское управленіе противно конституціи, нераціонально и пагубно. Затѣмъ противопоставимъ его захватамъ другія преграды кромѣ разсужденій.
Намъ грозитъ „верховенство"; поступимъ съ нимъ такъ, какъ и со всякимъ другимъ. Скажемъ сначала, что верховенства не существуетъ, а затѣмъ разрушимъ его въ данномъ случаѣ такъ, какъ разрушали его въ другихъ, т. е. путемъ его раздробленія. Уже для одного этого, оставляя въ сторонѣ различіе интересовъ, необходимы двѣ палаты. Либералы всего крѣпче держатся за двойственность парламента; по ней ихъ, такъ сказать, можно узнавать,—такъ какъ уже одна эта двойственность мѣшаетъ установленію абсолютнаго верховенства. При республикѣ либералы безъ сомнѣнія еще сильнѣе стоятъ за двойственность, чѣмъ при монархіи, такъ какъ при республикѣ у парламентскаго верховенства оказывается однимъ ограниченіемъ меньше; но принципіально они
— 163 —
всегда стоятъ за нее, такъ какъ для ослабленія всякого верховенства необходимо его раздробленіе, а изъ всѣхъ возможныхъ верховенствъ, какъ это ни странно на первый взглядъ,—самымъ гнетущимъ оказывается верховенство, парламента. Оно гнететъ гораздо сильнѣе, чѣмъ народъ или король,—сильнѣе непосредственной демократіи или личнаго абсолютизма. Непосредственное управленіе было бы абсурдомъ, такъ какъ совсѣмъ не могло бы дѣйствовать; но даже если предположить возможность этого, и оно не было бы способно на мелочное и тонкое угнетеніе. Оно настаивало бы только на двухъ или трехъ радикальныхъ мѣрахъ, напримѣръ, на упраздненіи налоговъ и ар міп, но вовсе не носило бы деспотическаго характера и спокойно предоставляло бы всякому жить по своему желанію. Если можно хотя на минуту говорить о немъ серьезно,—оно очень быстро преобразовалось бы въ неопредѣленный союзъ ста тысячъ мелкихъ земледѣльческихъ или промышленныхъ республикъ. Свобода здѣсь не погибла бы, а погибла бы пожалуй нація.
Парламентское верховенство деспотичнѣе абсолютнаго короля, такъ какъ обособленность влечетъ за собою такую отвѣтственность, которой не чувствуетъ рѣдкій король. — Король стоитъ на виду у всѣхъ, такъ какъ ему одному принадлежитъ власть. При каждой несправедливой или хотя бы рѣзкой мѣрѣ онъ знаетъ, на кого обращаются взоры и жалобы, къ кому протягиваются руки съ мольбой или угрозой. Король управляетъ наперекоръ общественному мнѣнію, по крайней мѣрѣ послѣдовательно, гораздо рѣже, чѣмъ это думаютъ. Правда, время отъ времени, и чаще всего въ согласіи съ общественнымъ мнѣніемъ, онъ дѣлаетъ сильные промахи, которыхъ не сдѣлалъ бы парламентъ, при медленности его совѣщаній, особенно при его раздѣленіи на партіи, и которые губятъ въ одно мгновеніе великій народъ.
Парламентъ по самой своей природѣ оказываетъ гнетъ непрерывный. Онъ гнететъ, такъ какъ чувствуетъ себя относительно неотвѣтственнымъ, такъ какъ онъ—учрежденіе анонимное и собирательное. Мѣры, принимаемыя имъ, не носятъ ничьей подписи, кромѣ министровъ, которыхъ онъ дѣлаетъ неотвѣтственными, ставя въ зависимость отъ себя, и которыхъ покрываетъ, поглощая въ себѣ. Онъ управляетъ такъ, что никто не знаетъ, чья здѣсь дѣйствуетъ рука и на кого именно слѣдуетъ пенять. Правленіе его, такое открытое и ясное въ своихъ дѣйствіяхъ, сокровенно въ томъ, что касается отвѣтственности.—Кромѣ того, парламентъ какъ бы лучше всякаго другого учрежденія приспособленъ къ захвату непринадлежащей ему власти. Издавая законъ, онъ можетъ и хочетъ всегда направлять его къ усиленію своего авторитета. Онъ издаетъ законы, болѣе или менѣе полно утверждающіе за нимъ исполнительную власть и ослабляющіе, судебную власть, какъ власть государственную; онъ издаетъ законы, ослабляющіе или уничтожаю
— 164 —
щіе „власть• прессы и всѣ права, считаемыя имъ на власть, такъ какъ они могутъ служить для иего ограниченіями. Ничто такъ не трудно, ни на чемъ не истощается такъ изобрѣтательность либераловъ, какъ на огражденіи отъ захвата законодательной власти путемъ помѣщенія ихъ въ твердынѣ, называемой конституціей, тѣхъ правъ, къ которымъ прикосновеніе законодательной власти нежелательно; нѣтъ ничего труднѣе, какъ провести достаточно ясную границу, вырыть достаточно глубокую пропасть между закономъ въ собственномъ смыслѣ, издаваемомъ законодательной властью, и закономъ конституціоннымъ, который она должна уважать.
По этимъ то основаніямъ вокругъ нея нужно воздвигнуть какъ можно больше преградъ, но прежде всего ограничить ее при помощи ея же самой. Нужно создать двѣ палаты съ одинаковыми правами, чтобы каждая порознь была безсильна, и обѣ вмѣстѣ становились бы могущественными только въ случаѣ согласія. Раздробленный такимъ образомъ, парламентъ править не будетъ. Онъ можетъ править, только сосредоточиваясь, объединяя свою дѣйствующую силувъ комитетѣ, который, въ свою очередь сосредоточиваетъ ее въ своемъ главѣ; этотъ комитетъ и этотъ глава, въ случаѣ существованія двухъ палатъ, будутъ всегда принадлежать къ одной изъ нихъ, и тогда другая, видя себя устраненной отъ управленія, тотчасъ же станетъ въ оппозицію къ первой, сдѣлается для нея преградой и уздой. Уже одно убѣжденіе въ этомъ, лучше сказать—постоянное сознаніе каждою изъ двухъ палатъ, что дѣла пойдутъ именно такъ, лишь только одна изъ нихъ захочетъ править,—уже одно это постоянно будетъ мѣшать возникновенію у нихъ такого стремленія. Обѣ онѣ ограничатся, съ одной стороны, изданіемъ законовъ—въ чемъ и состоитъ ихъ обязанность,—а съ другой—контролемъ надъ правительствомъ и черезъ это косвеннымъ вліяніемъ, а это и законно, и спасительно. И здѣсь, хотя сдѣлать это труднѣе, чѣмъ гдѣ либо, мы помѣшали появленію верховенства.
Это не все. Постояннаго верховенства въ только что изложенной нами системѣ нѣтъ вовсе. Хорошо было бы, если бы въ ней не было также верховенства перемежающагося, взрывчатаго, если можно такъ выразиться; на техническомъ языкѣ это означаетъ нежелательность плебисцита. Плебисцитъ—это временное и внезапное вмѣшательство народа въ дѣла. Это—случайное проявленіе непосредственнаго управленія, т. е. нѣчто худшее, чѣмъ непосредственное управленіе, такъ какъ это послѣднее, если бы было возможно организовать его у большого народа, пріобрѣло бы, можетъ быть, при постоянномъ примѣненіи нѣкоторую послѣдовательность. Но плебисцитъ это—непосредственное управленіе, призываемое къ дѣлу случайно и внезапно въ одинъ прекрасный день; это самое рискованное изъ приключеній. По сущности своей оно можетъ быть лишь выраженіемъ каприза.—Это все равно, какъ если бы
— 165 —
человѣкъ подчеркнулъ на удачу извѣстное число въ своемъ календарѣ и сказалъ бы себѣ: „Настроеніе, въ которомъ я буду въ этотъ день, я на всю мою жизнь или на десять лѣтъ приму за основное начало моего поведенія, за мой законъ, мораль и религію*. Если бы этотъ человѣкъ отличался необыкновенно ровнымъ расположеніемъ духа, онъ не сдѣлалъ бы этимъ глупости, будучи заранѣе увѣренъ, что его настроеніе въ такой то день будетъ обыкновеннымъ; но человѣкъ рѣдко бываетъ такимъ постояннымъ, да и вообще лучше создавать себѣ правило изъ ряда наблюденій надъ самимъ собою, выводя изъ нихъ, въ концѣ концовъ, среднее, отъ котораго можно ожидать разумности.
Итакъ, не надо плебисцита, во-первыхъ, съ точки зрѣнія принципіальной, такъ какъ онъ предполагаетъ народное верховенство, а его не существуетъ, какъ и всякаго другого. Народъ не верховная власть; онъ—сила. Можно думать, что всѣ стремленія, усилія и изобрѣтенія цивилизаціи направлены на то, чтобы управлять собой иначе', чѣмъ простымъ примѣненіемъ силы. Освобождаясь отъ варварства, человѣчество стремится замѣнить силу разумомъ. Верховная власть принадлежитъ народу такъ же мало, какъ парламенту или королю. Какъ король, парламентъ и магистратура, народъ является въ государствѣ просто однимъ изъ элементовъ.
Потому то онъ и не подаетъ голоса, когда ему захочется, по своему капризу, какъ это дѣлается во время возстанія, представляющаго собою чистую и простую силу. Онъ тдаетъ голосъ, когда ему велитъ конституція; другими словами, бываютъ моменты, когда конституція налагаетъ на него извѣстную обязанность, дѣлаетъ его на время служителемъ, избирателемъ, состоящимъ на службѣ у государства. Потому то онъ и не подаетъ нигдѣ голоса въ полномъ своемъ составѣ; дѣти, юноши и женщины нигдѣ не участвуютъ въ подачѣ голосовъ, а это значитъ, что конституція выбираетъ, назначаетъ изъ народа извѣстное число мущинъ избирателями, не потому, чтобы они одни составляли весь народъ,— въ него входятъ и другіе люди,—и не потому, чтобы имъ принадлежало исключительное право на это,—почему бы это было?—а потому, что признаетъ ихъ способными къ этому.—Даже въ странахъ, гдѣ существуетъ такъ называемая „всеобщая подача голосовъ*, народное верховенство государствомъ не признается и проявляется на практикѣ и на дѣлѣ только въ дни мятежа.—При строѣ установленномъ хартіей 1815 года дѣло поставлено если неяснѣе, то опредѣленнѣе, такъ какъ конституція, признавая избирателями лишь ограниченное число гражданъ, вполнѣ опредѣленно превращаетъ избирательное право въ должность, отнюдь не считая его правомъ человѣка и не подчиняясь ему какъ силѣ.
Итакъ, во-первыхъ, необходимо отрицать народное верховенство и тщательно поддерживать это отрицаніе въ хартіи; но, даже допуская народное верховенство, не слѣдуетъ допускать выраженія
—166 —
его въ плебисцитѣ,—т. е. капризно, случайно и въ видѣ какого-то неожиданнаго изверженія, какъ будто превращая Лиссабонское землетрясеніе въ конституціонное правило.
Поэтому нежелательно, полное обновленіе избирательной палаты. Полное обновленіе, какимъ бы смягченнымъ именемъ вы его ни называли, всегда будетъ плебисцитомъ. Въ странѣ, гдѣ править одна палата, полное обновленіе этой палаты обозначаетъ вотъ что: вчера было все, сегодня нѣтъ ничего, сегодня вечеромъ опять явится все. Вотъ грубые толчки. Въ странѣ, гдѣ парламентъ не правитъ и гдѣ существуютъ двѣ палаты, такое обновленіе все же вноситъ слишкомъ много неустойчивости, неизвѣстности, безпокойства въ теченіе всего года предшествующаго выборамъ и всего за ними слѣдующаго.—Но вѣдь всѣмъ извѣстно, когда должны происходить выборы. Удивительно это успокоиваетъ! Извѣстно, когда наступитъ изверженіе; извѣстно, когда разразится кризисъ. Уже одно предвидѣніе переворота заставляетъ заранѣе переживать его. „Полное обновленіе, это—періодическія бури1*. — Но главное это-признаніе плебисцита конституціей; а она не должна признавать его даже косвенно. Другими словами, государство не должно допускать, чтобы его ставили на карту; а это какъ разъ бываетъ, когда народу говорятъ на дѣлѣ или только повидимому: „Законодателей больше нѣтъ; назначьте другихъ". Народъ переводитъ это на свой языкъ такъ: „Нѣтъ больше ничего; надо все создать заново, и дѣлаю это я".—Вы, такимъ образомъ, придаете верховенству Богъ вѣсть какое грозное освященіе, придаете его примѣненію не вѣсть какую торжественную форму и устрашающій видъ. Вы превозносите верховенство, когда оно не существуетъ на дѣлѣ; да если бы оно и существовало, не слѣдовало бы особенно настаивать на признаніи его. Депутаты, вышедшіе изъ этихъ великихъ народныхъ выборовъ, всегда воображаютъ себя стоящими при началѣ міра и призванными все организовать.—Дѣйствительно, ихъ иллюзія вполнѣ естественна. Вѣдь передъ ними только что возобновился „общественный договоръ". Всякое полное обновленіе возстановляетъ предполагаемое первобытное состояніе, уничтожаетъ старый общественный строй, чтобы вызвать новый строй изъ естественнаго состоянія. Это по меньшей мѣрѣ опасная игра, прерывающая и разрушающая всякую традицію. Избавьте избирательную палату отъ этого періода смѣлой неопытности и дѣланой юности, въ которую она впадаетъ каждыя пять лѣтъ. Не внушайте ей періодически, передъ лицомъ другихъ властей государства, ложной мысли, будто она „все", и что въ ней сосредоточивается всякое право и вся законность.—Раздѣленный на двѣ палаты, изъ которыхъ каждая будетъ медленно и постепенно обновляться, парламентъ не будетъ имѣть ни верховенства, ни опасной мечты о немъ. Онъ добросовѣстно и терпѣливо будетъ исполнять свою роль законодателя, къ которой онъ только и пригоденъ.
— 167 —
Вотъ совокупность идей Ройе-Коллара, въ томъ видѣ, какъ ее можно извлечь изъ многочисленныхъ рѣчей, произнесенныхъ имъ по различнымъ вопросамъ съ 1815 по 1840 годъ. „Верховенства" нѣтъ нигдѣ; правительство раздѣлено на различныя власти, одновременно ограничивающія и уравновѣшивающія другъ друга и помогающія другъ другу въ борьбѣ съ верховенствомъ вѣчно угрожающимъ, исходитъ ли оно отъ возстановленной монархіи или торжествующаго всевластія. Вмѣсто прежнихъ частныхъ преимуществъ — привилегіи общія, на обыденномъ языкѣ называемыя общественными вольностями. Все это представлено не въ видѣ теоріи уединеннаго мыслителя, но въ видѣ теоріи опредѣленной, изложенной и возвѣщенной конституціей 1815 года и представляющей собою философію хартіи. Вотъ политическая система Ройе-Коллара.
ПІ. Замѣчанія касательно этой системы.
Г
Прежде всего нужно замѣтить, что система эта носитъ характеръ чисто политическій и историческій и совсѣмъ чужда метафизики. Ройе-Колларъ вовсе не искалъ принципа или принциповъ для установленія своей теоріи. Онъ не создавалъ .ни догматики либерализма, подобно Бенжамену Констану, ни догматики власти, подобно де-Местру или Бональду. Этотъ либералъ ни разу не далъ опредѣленія свободѣ, нигдѣ не сказалъ, чѣмъ является свобода по своей сущности, во самой своей природѣ.—Онъ не сказалъ: это—право присущее человѣку потому, что опъ существо нравственное, что у него есть совѣсть. Самое выраженіе „право человѣка" совсѣмъ неизвѣстно Ройе-Коллару и, можетъ быть, даже противно ему.—Онъ также не связывалъ свободу съ присущей человѣку способностью чувствовать достоинство своего ближняго и уважать это достоинство въ немъ. Онъ не придалъ свободѣ формы братства или милосердія: для этого онъ былъ недостаточно чувствителенъ.—Свобода никогда не представляется ему иначе, какъ въ видѣ отрицанія, ѵеіо, преграды, предостереженія. Подъ какой бы формой она ему ни представлялась, она всегда кажется ему ограничивающей властью. Онъ прямо сказалъ: „Вольности, это—преграды".—Свобода должна существовать для устраненія верховенства. Вотъ его взглядъ на это, взглядъ, котораго онъ никогда не покидаетъ. Ройе-Колларъ — человѣкъ оппозиціи, правда, оппозиціи консервативной и патріотической, во все-же оппозиціи. Онъ постоянно говоритъ кому-нибудь: „Вы не пойдете дальше", иногда власти, иногда палатѣ и всегда толпѣ. Онъ призванъ стоять въ оппозиціи и служить ограничителемъ, а это, пожалуй, не то что быть основателемъ.
Вотъ почему его вольности столь произвольно установлены, столь неясно опредѣлены и ограничены. Этихъ вольностей четыре: сво
— 168 —
бода печати, вѣроисповѣданія, парламента и магистратуры. Почему четыре, а не три и не пять? Почему именно эти, а не другія? Почему, напримѣръ, онъ не говоритъ о свободѣ индивидуальной, личной, домашней? Мнѣ кажется, я понимаю въ чемъ дѣло: для Ройе-Коллара свобода, собственно говоря, не свобода, а власть,— нѣчто такое, что можетъ остановить, отодвинуть, устранить верховенство. Замѣчаете вы чисто практическій, вовсе не философскій, не общій и, можно даже сказать, ничуть не возвышенный характеръ этого либерализма? Ройе-Колларъ полагаетъ,—и взглядъ этотъ не лишенъ справедливости, — что всякая вольность становится привилегіей; но отчасти онъ думаетъ такъ потому, что считаетъ и признаетъ за свободу только то, что уже является привилегіей. Этотъ либерализмъ отличается чрезвычайно властнымъ характеромъ, и дѣйствительно самъ Ройе-Колларъ былъ человѣкомъ очень властнымъ.
Въ немъ особенно былъ силенъ,—а это почти то же самое,—духъ недовѣрія и разочарованія, какъ-бы заранѣе наступающаго и настраивающаго. Слово „довѣріе" чуждо Ройе-Коллару. Онъ всегда ожидалъ всего худшаго, всегда говорилъ: „Мы будемъ потоплены этимъ или-тѣмъ, деспотической монархіей, притязательной палатой, необузданной демократіей, и послѣ этого наводненія ничего уже не останется. Давайте намъ границы, преграды, плотины"! Такое настроеніе ума—вещь далеко не лишняя, и государственный человѣкъ не можетъ быть довѣрчивымъ и спокойнымъ; но у Ройе-Коллара настроеніе это носитъ слишкомъ ужъ тревожный, сердитый и мрачный характеръ. Доброй половиной своего ума и характера онъ принадлежалъ старому порядку. Онъ былъ вполнѣ правъ, говоря, что „склонность къ либерализму соединялась у него съ любовью къ легитимности"; его цѣлью при этомъ было ограничивать и стѣснять эту легитимность, руководить ею и спасать ее, — надо признать это и отдать ему въ этомъ справедливость. Его либерализмъ былъ либерализмомъ стараго парламентарія, преданнаго великимъ французскимъ учрежденіямъ, примиряющагося съ нѣкоторыми изъ новыхъ; въ тѣхъ и другихъ онъ справедливо видитъ гарантіи свободы, но видитъ въ нихъ свободу цѣликомъ и не допускаетъ и не любитъ слышать, что она имѣетъ иной смыслъ.
Поэтому-то, какъ я сказалъ, онъ никогда не кладетъ въ основу своей либеральной теоріи какого-нибудь философскаго или нравственнаго начала, а его вольности носятъ нѣсколько незаконченный, неопредѣленный и измѣнчивый характеръ. Онъ могъ иногда, не будучи непослѣдовательнымъ, высказываться очень различно о значеніи иныхъ изъ этихъ общественныхъ вольностей. Напримѣръ, въ началѣ реставраціи онъ выказываетъ большую строгость къ печати, а въ концѣ царствованія Карла X относится къ ней очень либерально. Происходитъ это отъ того, что свобода печати не была для него правомъ, связаннымъ, на мой взглядъ, со свободой
— 169-
мысли и вѣрованія, съ правомъ быть мыслящимъ существомъ; для него она не право, а власть. Это просто сила, мѣсто которой могла бы занимать другая сила, но которой, разъ ужъ она есть на лицо, полезно воспользоваться для ограниченія власти монарха или парламента. Если она представляетъ только это, она для него важна и онъ держится за нее; но она не носитъ священнаго характера, и онъ, смотря по обстоятельствамъ, въ видахъ обще-государственнаго блага, имѣетъ право оставить за ней все ея вліяніе или же отнять его у ней, если это удастся. Подобныя чистопрактическія системы являются цѣликомъ созданіемъ обстоятельствъ, но я даю имъ это имя отнюдь не изъ пренебреженія—тѣмъ болѣе, когда то, чтд я называю обстоятельствами, оказывается ЗО-лѣт-нимъ періодомъ исторіи. Напротивъ, слѣдуетъ поставить въ похвалу Ройѳ-Коллару то, что онъ, на мой взглядъ, яснѣе и проницательнѣе кого другого понялъ, во что надо было вѣрить и что говорить въ политикѣ съ 1815 по 1840 годъ. Это то главнымъ образомъ и было причиной громаднаго авторитета какимъ онъ пользовался въ то время. Онъ является очень разсудительнымъ сторонникомъ стараго порядка и легитимности и въ то же время очень проницательнымъ сторонникомъ свободы, при чемъ выказываетъ много умѣренности и такта. Въ сущности, или скорѣе по общему характеру его теоріи, если не по основѣ его характера, Ройе-Коллара можно сравнить съ Бональдомъ; только это — Бональдъ чуждый страсти и потому лучше разсуждающій и заключающій. Я указывалъ что, будучи, подобно Ройе-Коллару человѣкомъ властнымъ, легитимистомъ, чуждымъ „либеральной философіи", Бональдъ всегда разсуждалъ слѣдующимъ образомъ: Я человѣкъ стараго порядка; при немъ было въ тысячу разъ больше вольностей, чѣмъ при новомъ порядкѣ; я не желаю никакой свободы.—Ройе-Колларъ подхватываетъ это разсужденіе и выводитъ изъ него не такое неожиданное заключеніе. Онъ говоритъ: при старомъ порядкѣ существовали всякаго рода вольности; я разумѣю всякаго рода частныя власти, власти сильныя, а главное многочисленныя, ограничивавшія всемогущество центра (когда онъ перечисляетъ ихъ любовно, вамъ кажется, что вы ошиблись томомъ и читаете страницу Бональда, только написанную краснорѣчивѣе и ярче обыкновеннаго); ихъ нѣтъ болѣе: революція, если и не создала деспотизма, то во всякомъ случаѣ завершила его созданіе. Но „власти" эти необходимы; я сохраняю тѣ изъ нихъ, отъ которыхъ осталось по крайней мѣрѣ смутное воспоминаніе, перство, магистратуру, если не автономную, то по крайней мѣрѣ несмѣняемую; я даю множество правъ вновь возникшимъ учрежденіямъ,—буржуазному собранію, печати,— и нахожу, что прежнія вольности почти замѣнены новыми; нахожу по крайней мѣрѣ, что существуютъ гарантіи свободы, и думаю, что лучше принять ихъ, нежели говорить: онѣ были, я ими восхищаюсь, считаю ихъ необходимыми и все-таки не желаю ихъ.
— По-
прибавимъ, что, какъ мы это замѣтили, онъ придавалъ этимъ новымъ властямъ до нѣкоторой степени общій характеръ; отъ этого вмѣсто вольностей, бывшихъ привилегіями въ старой Франціи, Франція вовая получала вольности, хотя по внѣшности, всѣмъ болѣе доступныя; онѣ правда очень легко могли обратиться въ привилегіи, но все же носили видъ пользованія правомъ и тѣмъ нѣсколько болѣе подходили къ требованіямъ современнаго ума. Это было то, что Бональдъ называлъ съ презрѣніемъ „ставить революцію на основу законности". Это было не совсѣмъ то; это было стремленіе ограничить законную власть, какъ она всегда, по крайней мѣрѣ, въ принципѣ, была ограничена до революція,—ограничить ее единственно возможными послѣ революціи предѣлами.
Итакъ, для времени, когда она была изложена, система эта, или вѣрнѣе совокупность идей, представлялась очень справедливой и разумной. Несомнѣнно, что она отличается нѣкоторой узкостью. Она соотвѣтствуетъ своему времени, создана исключительно для него, изъ излишней ли скромности или изъ упрямства. Ее нельзя перенести изъ одной эпохи въ другую, — за исключеніемъ одной очень важной части. Современники Карла X, или даже Людовика Филиппа, могли извлечь изъ нея пользу. Ройе-Колларъ .конечно предвидѣлъ наступленіе новой эпохи, но не хотѣлъ обращать на все вниманія и довольствовался выраженіемъ презрѣнія кь ней. Онъ какъ будто говорилъ: „Я отрицаю верховенство народа, какъ и всякое другое. — Ну, а если оно установится?-Напрасно люди установятъ его!—Но все-таки?—Все погибнетъ,—Но все же, какъ можно ужиться съ нимъ?—Я. слава Богу, къ тому времени умру".—Его знаменитая шутка: „Спасеніе ваше въ томъ, что мы погибнемъ", представляетъ собою не просто шутку: въ ней отразилась цѣлая сторона его характера. Онъ былъ представителемъ вѣрной, неподатливой системы, изъ круга которой не выходилъ, считая невозможнымъ выйти изъ нея и не погибнуть. Его учитель. Монтескьё, на котораго онъ не безъ основанія и довольно часто ссылался, обладалъ способностью, имѣя собственную систему, въ то же время выставлять на видъ осуществимыя стороны чужихъ системъ и указывать условія ихъ осуществленія. Ройе-Колларъ не обладалъ такой широтою взгляда и такой гибкостію политическаго пониманія. Потому то его либерализмъ носитъ такой условный и обусловленный характеръ, занимаетъ такое опредѣленное мѣсто и помимо легитимности не знаетъ, за что ему взяться.
Все дѣло въ томъ, что Ройе-Колларъ имѣетъ узкое и неполное понятіе о свободѣ. Совершенно вѣрно, что власти посредствующія, какъ называетъ ихъ Монтескьё, или ограничивающія, какъ выражается Ройе-Колларъ, являются гарантіями свободы. Вѣрно также, что онѣ являются какъ бы органами ея, до того важными, что, гдѣ ихъ нѣтъ, свобода рискуетъ исчезнуть; но онѣ отнюдь
— 171 —
не представляютъ собою всей свободы.—Точно также, говоря почтм то же въ обратной формѣ, — всякая вольность въ рукахъ людей, умѣющихъ ею пользоваться, въ то время какъ другіе обходятся безъ нея, становится собственностью, привилегіей. Бояться этого не слѣдуетъ, такъ какъ эта привилегія представляетъ собою свободу, примѣненную на практикѣ, вмѣсто того чтобы оставаться только въ теоріи,—свободу, ставшую осязательнымъ правомъ, а не правомъ только достижимымъ; наконецъ, привилегіи являются доказательствомъ того, что свобода существовала и существуетъ, и что ею пользовались и пользуются. Нужно только слѣдить за тѣмъ, чтобы какая либо изъ привилегій не превратилась въ концѣ концовъ въ гнетущую силу, чтобы, подобно многимъ человѣческимъ учрежденіямъ, она усиливаясь не оказалась въ концѣ концовъ полной противоположностью тому, чѣмъ она была въ принципѣ, и не уничтожила источника, изъ котораго произошла. —Это аристократическое понятіе о свободѣ правильно, не противорѣчитъ исторіи, представляетъ вещи такъ, какъ онѣ есть и какъ онѣ всегда происходили. Но оно не полно; оно называетъ свободой то, что является лишь результатомъ, доказательствомъ и признакомъ ея; а результатъ, хотя и удачный и почтенный, доказательство, хотя и яркое, признакъ несомнѣнный остаются все-таки только результатомъ, доказательствомъ и признакомъ. Хорошо конечно сохранить эти ограничительныя власти, когда то родившіяся изъ свободы; очень благоразумно освятить въ конституціи ограничительныя власти, зарождающіяся изъ свободы, и Ройе-Колларъ заслуживаетъ горячей похвалы за рѣшительное указаніе на это. Но видѣть въ этихъ „властяхъ" всю возможную свободу, связывать ихъ исчезновеніе съ гибелью всѣхъ надеждъ, значитъ черезчуръ скоро отчаиваться. Думать, что съ водвореніемъ демократіи свобода не только погибнетъ, но и лишится возможности возродиться,—значить имѣть о свободѣ слишкомъ узкое понятіе.
Демократія неоспоримо и неизбѣжно стремится къ деспотизму, но не создаетъ его. Она не можетъ любить свободу, но не можетъ и помѣшать ея существованію. Демократія есть историческій фактъ, аналогичный съ абсолютной монархіей; поэтому то какъ свобода пробила себѣ путь сквозь деспотизмъ монархіи, такъ она можетъ пробить его себѣ и сквозь деспотизмъ толпы. При абсолютной, или только стремившейся къ абсолютизму, монархіи свобода устанавливалась благодаря слабостямъ правительства, благодаря усиліямъ общинъ, корпорацій, классовъ; усилія эти становились мало-помалу вольностями, а разъ завоеванныя вольности превращались въ священныя привилегіи. Но, если монархія имѣетъ слабости, то онѣ существуютъ также и у демократіи и являются ея ограниченіемъ. Руссо, а вслѣдъ за нимъ, можно сказать, и его противники ошибаются, думая, что демократія, лучше сказать, народъ, располагающій собою и призванный управлять, будетъ отдавать себѣ отчетъ
— 172 —
въ своихъ желаніяхъ, вести себя какъ одинъ человѣкъ, мечтать постоянно о томъ, какъ бы стать притѣснителемъ, превратить свою волю, свой вкусъ, вѣрованія, взгляды на вещи, свою мораль—въ законъ, приказъ, полицейское правило,—подогнать подъ свой уровень и образъ мыслей, и образъ дѣйствій отдѣльныя личности. Демократія, безъ сомнѣнія, постоянно преслѣдуетъ эту цѣль, и изъ опасенія, внушаемаго подобной перспективой всякому человѣку, желающему мыслить самостоятельно, и развился такъ называемый либерализмъ; но своей цѣли демократія не достигаетъ почти никогда.
Въ большомъ народѣ почти никогда не встрѣчается это общее согласное стремленіе къ одной опредѣленной цѣли—угнетенію. Онъ сходится въ стремленіи доставить торжество своей волѣ, но расходится въ прочихъ своихъ желаніяхъ. Страсть къ борьбѣ перевѣшиваетъ или по крайней мѣрѣ уравновѣшиваетъ въ немъ стремленіе къ тираніи. Выборы, даже плебисцитъ, даетъ народу случай, во-первыхъ, конечно, навязать отдѣльнымъ личностямъ свои вкусы, а затѣмъ—ссориться и драться. Послѣднимъ онъ дорожитъ сильнѣе перваго; поэтому, еслибъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ вполнѣ или почти единодушенъ, онъ пожалуй совсѣмъ не сталъ бы подавать голосовъ. Но уже въ силу одного стремленія къ борьбѣ и вѣчно присущей человѣку потребности—вступать въ рукопашную, народъ всегда дѣлится на двѣ—три крупныя партіи, для которыхъ выборы служатъ просто полемъ битвы, гдѣ царитъ ненависть. Если большинство оказывается слишкомъ сильнымъ, будьте увѣрены, что оно раздѣлится и составитъ двѣ крупныя партіи, которыя и будутъ яростно бороться одна съ другой.
При существованіи такихъ постоянныхъ условій, демократія постоянно стремится править и не правитъ почти никогда. Она не ограничена ничѣмъ и сама ограничиваетъ себя извнутри своимъ дѣленіемъ на партіи. Благодаря этому свобода находитъ себѣ путь и водворяется по обыкновенію незамѣтно,—единственный надежный для нея способъ водворенія. Случается, что страшныя усилія побѣдоносной партіи уничтожить неугодную ей вольность только пріостанавливаютъ на время ея дѣйствіе, нѣсколько стѣсняютъ ее, а въ концѣ концовъ она возрождается, въ то время какъ партіи борются изъ-за другого.
Итакъ, полезно по возможности ограничивать демократію извнѣ, — спасать отъ захвата ею извѣстныя общія права, укрывая ихъ какъ въ крѣпости въ конституціи; но такъ какъ предосторожность эта, хотя и разумная, представляется нѣсколько обманчивой, то прежде всего нужно разсчитывать на присущую демократіи способность развивать и совершенствовать свои слабости. На это Ройе-Колларъ совсѣмъ не разсчитываетъ; отсюда его увѣренность въ наступленіи потопа послѣ него,—увѣренность, представляющаяся мнѣ только полу - прозорливостью. Можно при всякомъ порядкѣ
— 173 —
служить дѣлу свободы и дѣйствительно содѣйствовать водворенію ея, и при монархіи, и при господствѣ толпы. Для этого нужно только быть чѣмъ-нибудь, отличаться отъ другихъ классовъ, корпорацій, товариществъ, группъ, или даже частныхъ лицъ,—извѣстной мыслью, планомъ, постояннымъ стремленіемъ къ опредѣленной цѣли, правильно поставленной работой. При такихъ условіяхъ человѣкъ становится общественной силой, пріобрѣтающей право на продолженіе существованія уже въ силу одной давности. Ройе-Колларъ подмѣтилъ, какъ эти снабженныя правомъ общественныя силы являются результатами свободы, а затѣмъ становятся ея опорами, такъ какъ дѣлаются мало-по-малу властями ограничивающими. Ройе-Колларъ усиленно утверждалъ, что защищать ихъ значитъ спасать свободу; нужно только принимать во вниманіе какъ возникающія и могущія возникнуть силы, такъ и силы уже развившіяся и достигшія полной зрѣлости; нужно также считать исчезновеніе старыхъ силъ несчастіемъ, но не непоправимымъ бѣдствіемъ; нужно только снова взяться за работу, а это всегда возможно.
Защита ограничительныхъ силъ существующихъ составляетъ дѣло добраго либерала - консерватора; содѣйствіе возникновенію ограничительныхъ силъ въ будущемъ составляетъ задачу настоящаго либерала—прогрессиста. Это двѣ стороны одного дѣла, изъ которыхъ не слѣдовало бы никогда пренебрегать ни одной, ни другой. Ограничительная власть, уже существующая, представляетъ собою свободу пріобрѣтенную, становящуюся традиціей, прочно укореняющуюся, служащую ключемъ для свода: она поддерживаетъ свободу. Ограничительная власть возникающая, это — свобода организующаяся, усиливающаяся, это — длительная энергія,—Особенно ошибочно полагать, что при исчезновеніи либеральныхъ пріобрѣтеній прошлаго, либеральная энергія настоящаго не въ силахъ возстановить свое созданіе, отличное отъ перваго, но все-таки равноцѣнное ему. Ройе-Колларъ слишкомъ ограничилъ свою дѣятельность одною изъ двухъ сторонъ указанной задачи, къ одной только отнесся съ вѣрою.
Правда, то, за что онъ взялся, онъ проводитъ съ удивительной силой воли и необыкновенной ясностью ума. Онъ посвятилъ себя главнымъ образомъ анализу и теоріи парламентскаго правленія. Изъ всѣхъ ограничительныхъ властей онъ взялся защищать, разъяснять и точно опредѣлять эту послѣднюю*, а это значило подмѣтить и затронуть самую суть. Опасенія Ройе - Коллара за будущность свободы во Франціи и его почтя безнадежное отношеніе къ ней .ре имѣли основанія, намой взглядъ по крайней мѣрѣ*, но они представлялись бы очень небезосновательными въ томъ случаѣ, если бы парламентское правленіе исчезло или, измѣнивъ свою форму, измѣнило бы вмѣстѣ съ тѣмъ свой характеръ и приняло видъ совершенно отличный отъ того, какой былъ жела-
— 174 —
телеаъ Ройе-Коллару,—У Ройе-Коллара и нужно искать самую основательную, глубокую и „пророческую*1 теорію парламентскаго правленія. Лучше чѣмъ кто-либо, онъ понялъ, что парламентское правленіе представляетъ самую прочную гарантію свободы, какою только можетъ обладать народъ; что при неправильномъ устройствѣ оно можетъ превратиться въ деспотизмъ столь же грубый, какъ и всякій другой; наконецъ, онь указалъ способъ, какимъ оно должно быть организовано, чтобы исполнять свое назначеніе и не выродиться въ противоположную крайность.—Онь показалъ, что всякое не чисто-парламентское правленіе роковымъ образомъ превращается въ деспотизмъ при саномъ искреннемъ нежеланіи этого. Онъ показалъ, насколько неправильно противополагать парламентъ народу, убѣждая послѣдній въ возможности для него выражать свои желанія, проявлять и осуществлять свою волю иначе какъ чрезъ посредство парламента. Ройе-Колларъ, если не уничтожилъ, то по крайней мѣрѣ вполнѣ доказалъ химеричность непосредственнаго управленія и плебисцистараго порядка, — химеру, настолько же пустую, насколько она можетъ казаться логичной; онъ показалъ, что этотъ порядокъ можетъ быть только или постояннымъ подчиненіемъ власти, притворно контролируемой, и слѣдовательно лицемѣрнымъ деспотизмомъ,—или же насильственной неустойчивостью, т. е. анархіей.
Съ другой стороны, въ то время казалось, что деспотизмъ можетъ возникнуть только при безмолвіи собраній, а не при ихъ существованіи Ройе-Колларъ яснѣе всѣхъ понялъ, что и парламентское правленіе можетъ также стать деспотизмомъ, не монархическимъ, правда, но отъ того не менѣе несправедливымъ и тягостнымъ. Онъ требовалъ двухъ палатъ рѣзко различныхъ по природѣ и происхожденію для того, во-первыхъ, чтобы за отсутствіемъ всякой ровной ей силы, одна изъ нихъ не могла сосредоточить въ себѣ всю общественную власть, считать себя за націю, говорить: „Государство — это я“, — быть государствомъ въ дѣйствительности, наперекоръ всякой правдѣ и всякому смыслу, быть чѣмъ-то вродѣ легальной страны (рауз 1ё§а1), т. е. фикціей столь же странной, столь же опасной и даже болѣе опасной, чѣмъ государство въ лицѣ короля. Затѣмъ существованіе двухъ палатъ представлялось ему необходимымъ для того, чтобы законъ, издаваемый двумя различными и соперничающими собраніями, не служилъ никогда выраженіемъ интереса или честолюбія одного изъ нихъ, подъ видомъ законодательствующей воли, не создавался собраніями, не исходилъ отъ нихъ, а являлся безличнымъ, какимъ и долженъ быть; онъ былъ бы только или велѣніемъ и признаніемъ силы вещей, или признаніемъ и обращеніемъ въ законъ общественной пользы, не потому чтобы собранія этого желали, а потому что они сходятся въ подчиненіи ей. Законъ такимъ образомъ, какъ оно и должно быть, представляется выше людей, повидимому его
— 175 —
создающихъ: онъ оказывается не тѣмъ, чѣмъ они сдѣлали бы его, если бы были предоставлены своимъ капризамъ и страстямъ, а результатомъ соглашенія, подчиненія разумной необходимости.
Ройе-Колларъ настаивалъ также на фикціи, которая, какъ это часто бываетъ въ политической наукѣ, оказывается истиной, — на томъ, что избирательное право нужно считалъ не столько правомъ, сколько обязанностью. Дѣйствительно въ „странахъ организованныхъ", по выраженію Бональда, по самой ихъ природѣ владѣльцы не защищаютъ своихъ правъ. Лишь въ состояніи варварства всякій охраняетъ свое право, добивается признанія его. Въ государствѣ организованномъ всѣ охраняютъ право каждаго, и каждому гражданину запрещается самому защищать свое право. Въ благоустроенномъ государствѣ самоуправство воспрещено, такъ какъ существуетъ учрежденный для всѣхъ судъ государственный. Вь благоустроенномъ государствѣ лишь за отсутствіемъ общественной силы и въ ожиданіи ея появленія, т. е. въ случаѣ временнаго „отсутствія" государства, другими словами, при временномъ возрожденіи варварской жизни,—дозволяется защищать самому свою собственность, такъ какъ для защиты ея существуетъ организованная государственная сила. И такъ далѣе. — Точно также право правитъ въ видѣ права личнаго но существуетъ. Не управляетъ никто, даже всѣ вмѣстѣ; правитъ законъ. Для существованія закона государство обязываетъ васъ избирать законодателей; оно назначаетъ васъ избирателями, налагаетъ на васъ обязанность, а не даетъ вамъ права. Вы такимъ образомъ исполняете должность.
Это не пустая тонкость. Если бы избирательство было правомъ, имъ должны были бы пользоваться всѣ. Каждый долженъ былъ бы имѣть право подавать голосъ, какъ онъ имѣетъ право на свободу и на собственность; а это привело бы насъ ко всеобщей подачѣ голосовъ не въ томъ видѣ, какъ она существуетъ у нѣкоторыхъ пародовъ, но къ подачѣ голосовъ абсолютно всеобщей, въ которой участвовали бы женщины, дѣти, юноши и чужестранцы, которая практиковалась бы непрерывно и управляла непосредственно; мы приходимъ, слѣдовательно, къ „непосредственному управленію" и къ ежедневному плебисциту.
Нѣтъ,. существуютъ права гражданина, признаваемыя конституціей, организованнымъ государствомъ, — права, не допускающія ни исключенія, ни давности, ни перерыва. Права эти (свобода, безопасность, собственность и т. д.) охраняются государствомъ и не должны охраняться частнымъ лицомъ. — Существуютъ также отправленія, исполняемыя частными лицами и составляющія для нихъ обязанность, а не право. Если гражданинъ является избирателемъ, это очевидное доказательство того, что онъ исполняетъ обязанность, а не пользуется правомъ. Иное пониманіе этого было бы не только путаницей и безсмыслицей, но и представляло бы опасность для общества.
— 176 —
Эти соображенія приложимы впрочемъ не только къ избирате лямъ, но и къ депутатамъ. Депутатъ тоже отнюдь не является владыкой, пользующимся правомъ править. Онъ—тотъ же магистратъ. Онъ — человѣкъ, на котораго организованное государство налагаетъ, какъ и на прочихъ, обязанность создавать законъ, являющійся единымъ владыкой. Лишь только депутатъ воображаетъ себя обладателемъ права, онъ совершаетъ захватъ, является узурпаторомъ: онъ считаетъ себя повелителемъ, думаетъ, что собраніе, часть котораго онъ составляетъ, можетъ приписывать себѣ всемогущество и пользоваться имъ, а это полная противоположность идеѣ парламентскаго правленія, разрушеніе самой сущности его.
Вся эта часть теоріи Ройе-Коллара настолько основательна, что остается истинной, цѣнной и поучительной даже для политическаго строя, вполнѣ отличнаго отъ того, какой онъ старался изслѣдовать, опредѣлить и выяснить. Онъ является настоящимъ наставникомъ въ дѣлѣ не только „управленія согласно хартіи“, но и парламентскаго правленія и даже демократіи, на все то время, пока она управляется при помощи парламентовъ. Онъ создалъ не только „философію хартіи"; онъ создалъ п изложилъ съ удивительной ясностью и глубиною философію представительнаго правленія.
IV.
Всѣ эти идеи онъ защищалъ со свойственнымъ ему краснорѣчіемъ, съ несравненною діалектическою силою, которая пожалуй въ наше время не произвела бы никакого дѣйствія, но производила глубокое впечатлѣніе въ то время, когда находились слушатели, способные слѣдить за аргументаціей. Онъ излагалъ свои идеи съ удивительной ясностью въ тонкостяхъ, а главное съ авторитетностъю, которою никто, можетъ быть, въ свѣтѣ не обладалъ въ такой степени какъ онъ. Онъ казался олицетвореніемъ авторитета, такъ какъ владѣлъ всѣми безъ исключенія извѣстными элементами той трудно поддающейся опредѣленію силы, которая называется авторитетомъ. У него былъ внушительный видъ, высокій ростъ, энергичная голова, полное лицо, крупныя и широкія черты, грубыя, но энергичныя и властныя. Его рѣчь была медленная, ровная безъ колебаній, твердая, какъ бы выкованная изъ стали. Спокойно и ровно онъ отчеканивалъ свои формулы и изреченія, ясныя и рѣзко рельефныя, какъ новыя медали. У него была полная, абсолютная, восхитительная, непоколебимая убѣжденность олимпійца, вѣрнѣе самой судьбы, такъ какъ онъ не давалъ себѣ труда даже метать громы. У него было то полное презрѣніе къ слушателямъ, которое составляетъ половину ораторскаго генія, при условіи существованія другой. Наконецъ, у него была естественная органическая важность, не заученная, не выдающая
-177-
застѣнчивости, которую желаютъ скрыть. Особенно опасной дѣлало эту важность то, что она не была „тѣлесной оболочкой, предназначенной для сокрытія недостатковъ ума" и недостатка остроумія. Ройе-Колларъ былъ до того остроуменъ и колокъ, что приводилъ въ ужасъ своихъ враговъ, противниковъ, союзниковъ и близкихъ друзей. Чувствовалось всегда, что онъ съ полной серьезностью готовъ пронзить васъ стрѣлой, пропитанной тончайшимъ ядомъ его діалектики. Его знаменитыя остроты стали классическими. Я привожу изъ нихъ наименѣе извѣстныя. Однажды при немъ хвалили очень милаго человѣка, непреодолимо очаровательнаго, подъ его изяществомъ, можетъ быть, нѣсколько испорченнаго: „Да, это цвѣтъ плутовъ", спокойно замѣтилъ Ройе-Колларъ.—Разъ онъ встрѣтилъ одного изъ своихъ товарищей, только что получившаго очень пѣнившееся отличіе. „Поздравляю васъ...— Помилуйте!... —Да, да! поздравляю... это васъ не умаляетъ." — Встрѣтивъ Одилона Барро послѣ одной его рѣчи, онъ сказалъ ему: „Вы меня интересуете... — Вотъ какъ? — Даже очень. Я впрочемъ давно уже слѣжу за вами, очень давно. Тогда васъ звали Петіономъ."
Такъ, въ промежуткѣ между двумя рѣчами, онъ распространялъ вокругъ себя нѣкоторый ужасъ, всего болѣе пугающій французовъ. Иногда, но очень рѣдко, онъ приносилъ съ собой эти колкія выходки на трибуну цѣлою охапкою и осыпалъ противника цѣлымъ градомъ стрѣлъ. Это было тогда интересное зрѣлище, нѣчто столь же ужасное, но болѣе продолжительное, упорное, жестокое и яростное, чѣмъ громовые раскаты Мирабо,—причемъ всегда соблюдалась неизмѣнная серьезность. Однажды привлекли къ суду палаты издателя Коммерческаго Журнала, замѣтившаго, что въ палатѣ много эмигрантовъ и чиновниковъ и что это, можетъ быть, объясняетъ вознагражденіе эмигрантовъ и преданность палаты правительству. Вообразите себѣ человѣка съ невозмутимымъ лицомъ и внушительной осанкой, медленно поднимающагося на трибуну, и прислушайтесь къ его рѣчи:
„Изъ того, что въ нашемъ собраніи много эмигрантовъ, журналистъ заключилъ, что вознагражденіе было вотировано въ интересахъ личныхъ, а изъ того, что много чиновниковъ, онъ заключилъ, что палата сильно покровительствуетъ приказнымъ (соготіз)... Я думаю, что эмигранты, засѣдающіе въ этой палатѣ, руководились соображеніями болѣе высокими, чѣмъ ихъ личный интересъ. Мнѣ хочется или я имѣю право такъ думать; но ни разсудокъ, ни нравственность не обязываютъ меня къ этому. Я думаю также, что чиновники сохраняютъ свою независимость въ этой палатѣ; но я не обязанъ ни думать, ни говорить это... Общественная мудрость, столь же древняя, какъ и родъ человѣческій, учитъ, что личное положеніе людей опредѣляетъ ихъ интересы, и что слишкомъ часто ихъ интересы опредѣляютъ ихъ дѣйствія. Тамъ,
12
— 178 —
гдѣ происходитъ противоположное, проявляется доблесть; одна доблесть совершаетъ это чудо. Итакъ, я говорю во всеуслышаніе, говорю, опираясь на авторитетъ всеобщаго опыта, — эмигрантамъ нужна была добродѣтель, чтобы предохранить себя отъ вліянія личныхъ интересовъ при вотированьи вознагражденія; нужна была добродѣтель чиновникамъ, добродѣтель непрерывно возрождающаяся, для того чтобы они могли оставаться независимыми въ палатѣ. — Въ чемъ же теперь преступленіе Коммерческая Журнала! Единственно въ томъ, что онъ судилъ о палатѣ по ея внѣшности, какъ судитъ благоразуміе, какъ судитъ исторія; — въ томъ, что онъ искалъ и нашелъ оживляющій ее духъ въ обычномъ законѣ человѣческаго сердца, а не въ необычномъ законѣ добродѣтели... Я спрашиваю васъ, господа, можно ли заставить народъ вѣчно находить одну добродѣтель въ тѣхъ, кто имъ управляетъ".—Ройе-Колларъ чрезвычайно восхищался „ЛГыслялм" Паскаля; надо думать, что онъ не пренебрегалъ и «.Письмами провинціала».
Человѣкъ инстинктивно одобряетъ и любитъ въ политическихъ и вообще во всѣхъ человѣческихъ учрежденіяхъ то, что до извѣстной степени сродно ему, соотвѣтствуетъ его характеру. Ройе-Колларъ любилъ и всюду старательно искалъ ограничивающихъ властей, такъ какъ самъ принадлежалъ къ числу ихъ и чувствовалъ это. Онъ не чувствовалъ склонности къ управленію, тщательно избѣгалъ участія въ немъ и являлся крѣпкой, монументальной, грозно ощетиненной преградой противъ захватовъ правительства, палаты и толпы. Эту обязанность, необходимую и полезную для общества организованнаго по системѣ представительства, и даже для всякаго общества, онъ исполнялъ 'энергично и сурово, съ упорствомъ и достоинствомъ.
Такъ какъ его умъ отличался систематичностью, то мало-по-малу, и даже довольно скоро, изъ этого ряда схватокъ вышла если не теорія, такъ во всякомъ случаѣ метода, нѣчто въ родѣ политической грамматики, очень ясной и точной, но нѣсколько утонченной. Онъ былъ защитникомъ необходимыхъ вольностей, а затѣмъ—профессоромъ свободнаго правленія. Онъ часто представляется мнѣ ученикомъ великаго философа, взявшимъ изъ широкой и полной теоріи своего учителя существенную сторону, остановившимся на ней и развивающимъ ее съ большею опредѣленностью, ясностью, точностью и полнотою, чѣмъ его вдохновитель. Изъ могучей, свободной и иногда нѣсколько неопредѣленной системы учителя онъ сохраняетъ одну только, пожалуй, самую существенную идею, докапывается до глубины ея, проникаетъ въ ея сущность, прослѣживаетъ ее въ ея слѣдствіяхъ' и примѣненіяхъ и создаетъ изъ этого основательную, полную книгу, читающуюся спокойно и увѣренно,—книгу не возбуждающую и не внушающую особенно новыхъ мыслей, но излагающую доказанныя и поучительныя истины. Ройе-Колларъ былъ ученикомъ Монтескьё. У Монтескьё онъ
— 179 —
завиствовалъ теорію раздѣленія властей, и она завладѣла всею его мыслью, преподаваніемъ, проповѣдью, апостольствомъ и поле* микой.
- При этомъ важно то, что онъ, съ одной стороны, проанализировалъ глубже Монтескьё не только теорію трехъ властей, но и теорію всѣхъ властей, соперничество и взаимодѣйствіе которыхъ обезпечиваетъ обществу свободу, не ослабляя правительства. Съ другой стороны, присутствуя при началѣ практическаго и почти добросовѣстнаго примѣненія задуманныхъ Монтескьё учрежденій, онъ могъ провѣрить, на фактахъ и сообразовать съ ними теорію Монтескьё. Онъ замѣтилъ или убѣдился,—и это убѣжденіе, исходя отъ такого сильнаго ума, во всякомъ случаѣ является довольно сильнымъ доводомъ въ пользу системы, — что теорія Монтескьё удовлетворяетъ самымъ настоятельнымъ и разнообразнымъ потребностямъ современнаго общества, а также не менѣе сильнымъ освободительнымъ стремленіямъ новаго общественнаго духа.
Въ преподаваніе своей политической науки онъ вносилъ нѣсколько излишнее высокомѣріе, а также извѣстное пристрастіе къ дедукціи и нѣкоторую утонченность, отчасти затруднявшую пониманіе. Это—надменный и утонченный наставникъ политической философіи. Въ немъ чувствуется бывшій профессоръ философіи. О немъ говорили или къ нему прилагали замѣчаніе: „Доктринеръ — существо надменное и отвлеченное0, и это не лишено справедливости, хотя очень непочтительно выражено.
Высокомѣріе Ройѳ-Коллара было безполезно, хотя и усиливало значительно его авторитетъ, но утонченность была неизбѣжна. Политическая теорія есть наука, а всякая наука сохраняетъ простоту и полную доступность для здраваго смысла лишь до тѣхъ поръ, пока она не сформировалась, т. е. пока она не научна. Становясь настоящей наукой, она пріобрѣтаетъ чрезвычайную сложность; для пониманія и усвоенія ея приходится напрягать всѣ силы ума. Это отнюдь не мѣшаетъ ей быть практической по «я результатамъ и въ ея приложеніяхъ. Людямъ, не имѣющимъ времени изучать ее, она доставляетъ готовыя формулы, которыя пмъ остается считать доказанными, уважать и примѣнять. Съ политикой происходитъ то же, что и со всякой другой наукой. Непонятная разница заключается только въ одномъ: толпа благоговѣйно принимаетъ формулы другихъ наукъ, довѣрчиво прилагаетъ ихъ и не пытается проникнуть въ глубь самой науки; напротивъ, въ политикѣ она отнюдь не отличается такою покладистостью, а стремится разобраться въ ней прямо и непосредственно, потому ли что она не считаетъ политику за науку, или потому что она считаетъ себя отъ природы свѣдущей въ ней. — Поэтому она упрекаетъ наставниковъ политической науки въ сложности и отвлеченности ихъ науки, въ пристрастіи къ мелочному анализу, однимъ словомъ, въ учености. Подобно Монтескье, Ройе-Колларъ
— 180 —
считаетъ политику наукой, очень трудной и щекотливой. Въ частности, какъ и Монтескье, онъ зналъ, что наука о свободѣ отличается наибольшею сложностью, такъ какъ свобода представляетъ собою не что иное какъ страшно трудно достижимое и сохраняемое равновѣсіе, которому постоянно угрожаютъ различныя формы деспотизма, и такъ какъ деспотизмъ въ той или иной формѣ представляетъ собою естественное состояніе человѣческаго общества. Свобода—блестящее исключеніе,—подобно цивилизаціи, одной изъ формъ которой она является. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что наука о свободѣ оказывается наукой утонченною; чтобы выиграть партію и научить другихъ этому, нужно быть знатокомъ правилъ игры.
Ройе-Коллару были извѣстны почти всѣ секреты этой науки, какъ и всѣ почти пріемы этого искусства. Можетъ быть только, въ свои лекціи объ этомъ онъ внесъ нѣкоторую аффектацію и щегольство талантливаго профессора; но еще и до сихъ поръ цѣлая половина его курса сохранила свою силу и значеніе и должна служить предметомъ нашихъ размышленій. Намъ слѣдуетъ внимательно справляться съ его прекрасной старой политической грамматикой, какъ съ руководствами столь любимаго имъ Поръ-Рояля; это будетъ намъ только полезно.
Гизо.
Говорятъ, Гизо создалъ партію, правленіе и теорію „золотой середины" ^изіе тіііеи). — Но человѣкъ не создаетъ, а выражаетъ себя въ своихъ произведеніяхъ, въ своихъ дѣйствіяхъ, болѣе или менѣе ясно, болѣе или менѣе удачно. Гизо, по складу ума, по умственному темпераменту, по общему взгляду на вещи, былъ золотой серединой уже съ самаго начала, былъ ею еще въ томъ возрастѣ, когда люди естественно стремятся къ крайнимъ и даже противорѣчивымъ идеямъ; а онъ, — вещь замѣчательная, — скорѣе подъ старость, повидимому,—но только повидимому,—сталъ увлекаться исключительными идеями и предубѣжденіями.
Онъ былъ золотой серединой разсудительной и твердой, такъ какъ былъ убѣжденъ, что человѣческая истина есть величина средняя, лпнія, проведенная на равномъ разстояніи отъ рискованныхъ и крайнихъ мнѣній правой и лѣвой стороны, средина, въ которую надо вѣрить и которой надо держаться, а прочее нужно только знать и понимать. Онъ представлялъ себѣ человѣческій умъ, правда, способнымъ быстро охватить взглядомъ всѣ точки окружности, но это для того, чтобы найти ея центръ, перенестись туда и тамъ утвердиться. Онъ думалъ, что знаніе, мышленіе, размышленіе, разсужденіе служатъ только средствами для болѣе точнаго, надежнаго и увѣреннаго нахожденія этой серединной области,—естественнаго и здороваго мѣстопребыванія нормальнаго ума. Онъ съ недовѣріемъ относился къ
— 181 —
оригинальности, какъ къ вещи опасной, ненадежной и обманчивой, по крайней мѣрѣ для того, чтобы при ней оставаться или ее любить. Боссюэ относился къ частнымъ мнѣніямъ не съ большимъ недовѣріемъ, чѣмъ Гизо. Для послѣдняго это были вещи, которыя слѣдуетъ изучать, допускать и избѣгать,—области опасныя и запутанныя, куда надо производить рекогносцировки для полученія полезныхъ свѣдѣній, но гдѣ не слѣдуетъ основывать поселеній.
Умы такого рода обыкновенно страдаютъ непостоянствомъ, нерѣшительностью, непослѣдовательностью и невыдержанностью. Они представляются чѣмъ то разнороднымъ; это матерія, составленная изъ разныхъ кусковъ. Мнѣнія ихъ противорѣчивы и плохо согласованы. Ихъ утвержденіе не идетъ дальше извѣстнаго предѣла; отрицаютъ они также до намѣченной точки. Ихъ средина—величина приблизительная, а ихъ умѣренность—простая нерѣшительность. Ихъ умственная жизнь представляется рядомъ перемѣнъ, и, дѣлая лишній шагъ влѣво, они возмѣщаютъ его лишнимъ шагомъ вправо. Человѣкъ умѣренный обыкновенно страдаетъ нерѣшительностью, да и становится умѣреннымъ только благодаря своей нерѣшительности. Если онъ человѣкъ посредственный, онъ пере-ряживаетъ, а если умный, преобразуетъ слабость характера въ наружную выправку мысли.
Совсѣмъ не таковъ Гизо. Въ немъ умѣренность мысли соединялась съ суровой и властной энергіей характера, что придавало его умѣренности увѣренность. Ни у кого не было большей увѣренности; онъ былъ воплощеніемъ ея. Онъ вѣрилъ въ себя неустрашимо, откровенно и добросовѣстно, а эта добросовѣстность—вещь очень рѣдкая въ наше время. Теперь никто не доводитъ своего скептицизма до сомнѣнія въ самомъ себѣ, не бываетъ скептикомъ на столько, чтобы стать скромнымъ. Но, съ другой стороны, почти никто не доводитъ увѣренности до нескромности, хотя этого требуетъ полное прямодушіе. У Гизо хватало смѣлости на такое прямодушіе, и онъ, не колеблясь, выказывалъ его. „Я ненавижу болѣе всего", говорилъ онъ, „лицемѣріе и уклончивость".—Онъ ненавидѣлъ лицемѣріе, мѣшающее человѣку открыто объявлять себя правымъ, когда онъ увѣренъ въ своей правотѣ; онъ ненавидѣлъ уклончивость, побуждающую человѣка съ увертками называть себя правымъ и выманивать одобреніе, вмѣсто того чтобы требовать и захватывать его себѣ. Гизо было вполнѣ чуждо такое настроеніе ума; онъ былъ способенъ не только на увѣренность, но я на вѣру. Вѣрная мысль, тѣмъ болѣе если она представлялась ему исполненной практической важности, была для него предметомъ увѣренности и вѣры; онъ и вѣрилъ въ нее и проникался ею со всѣмъ скрытымъ пыломъ своей души. „Мысль, представляющаяся челозѣку истиной, но въ то же время не поражающая его широтою или важностью своихъ послѣдствій, можетъ вызвать въ немъ увѣренность, но не вѣру.—Точно также практическаго до»
— 182 —
стоинства или полезности мысли недостаточно для пробужденія вѣры; надо, чтобы мысль привлекала къ себѣ также вниманіе чистое красотою истины... Духовная красота и практическое значеніе— вотъ признакъ идей, могущихъ стать предметомъ вѣры**.
Гизо былъ человѣкомъ до того вѣрующимъ, что не питалъ отвращенія къ непопулярности, — а это вѣрное доказательство. Склонность къ непопулярности есть начало склонности къ мученичеству. Онъ самъ сказалъ, что не ищетъ непопулярности, а довольствуется полнымъ равнодушіемъ къ ней. На дѣлѣ онъ этимъ не довольствовался: ему не былъ непріятенъ горькій вкусъ непопулярности, и она вдохновляла его. Онъ былъ всего красивѣе, когда, не вызывая правда ея, говорилъей: „Къ вашимъ услугамъ**. Онъ увѣряетъ, что „не знаетъ затрудненій и не боится отвѣтственности**. Ему можно въ этомъ вѣрить: онъ не только не боится отвѣтственности, но даже съ готовностью принимаетъ ее на себя. „...Въ этой политикѣ**, говорилъ онъ передъ всей палатой, „мнѣ принадлежитъ извѣстная доля иниціативы, и я требую только своей доли; но если отвѣтственность за нее покажется кому-нибудь слишкомъ тяжелой, я готовъ принять на себя также всю ту долю ея, отъ которой откажутся другіе**.
Такимъ былъ онъ въ 1838 году и такимъ же уже съ 1812 г. Тогда шла рѣчь о внесеніи комплимента по адресу императора во вступительную лекцію въ Сорбоннѣ. Фонтанъ просилъ Гизо: „сдѣлайте это для меня**, но молодой человѣкъ заупрямился. Пришлось обойтись безъ комплимента. Это молодой Гизо учился не гнуться.— Эта увѣренность, твердость, устойчивость характера проявляется какъ въ его дѣйствіяхъ, такъ и въ его антипатіяхъ. Шатобріанъ поражаетъ его постояннымъ повтореніемъ одной мысли: „главный мой недостатокъ, это—скука, отвращеніе ко всему, вѣчное сомнѣ-ніе“, и Гизо восклицаетъ по этому поводу: „Странное настроеніе для человѣка, посвятившаго себя возстановленію религіи и монархіи11. Самъ Гизо не скучалъ и не сомнѣвался. Онъ былъ рожденъ для увѣренности и для дѣйствія.
Эта умѣренность ума и эта твердость характера и составляютъ оригинальную особенность Гизо. Это—человѣкъ умѣренный и въ то же время властный. Его идеалъ, это—„умѣренныя мѣры, прилагаемыя къ дѣлу энергичными людьми**. Другіе обыкновенно приносятъ съ собою слабости или небрежность, или нерѣшительность, превращая свои слабости въ темпераментъ, свою небрежность въ компромисы, а свои колебанія въ полумѣры. Напротивъ, Гизе вносилъ радикальное настроеніе въ служеніе примирительнымъ идеямъ, до нѣкоторой степени соединялъ непримиримость съ умѣренностью.
И вотъ мы постараемся изучить эти умѣренныя идеи и этотъ боевой характеръ, ихъ неразрывное сочетаніе и его слѣдствія, а также результаты ихъ взаимодѣйствія на практикѣ.
— 183 —
I. Философія „золотой середины*.
Прежде всего замѣтимъ, что, если „зоютая середина* была, какъ я думаю, натурой Гизо, то она была также для него и привычкой ума, образовавшейся очень рано, подъ вліяніемъ обстоятельствъ и тѣхъ первыхъ уроковъ, которые даетъ вамъ наша молодость. Гизо отнюдь не является, какъ многіе другіе, и какъ можно подумать о немъ,—профессоромъ, поздно вступившимъ въ политическую жизнь, теоретикомъ, въ сорокъ лѣтъ поставленнымъ въ необходимость заниматься дѣлами и вести ихъ. Онъ съ самаго начала былъ въ одно время и человѣкомъ дѣла и человѣкомъ науки. Если въ двадцать пять лѣтъ онъ является профессоромъ исторіи, то въ двадцать восемь онъ занимаетъ мѣсто политическаго посредника въ Гентѣ, играетъ при Людовикѣ ХѴШ ту же роль, какую Бенжаменъ Констанъ при Наполеонѣ,—роль вдохновителя дополнительнаго акта къ установленіямъ королевской власти. Съ этихъ поръ, въ теченіе всей реставраціи, онъ является поперемѣнно историкомъ и политикомъ; одинъ въ немъ вдохновляетъ и сдерживаетъ другого, руководить имъ и направляетъ его; его теорія вытекаетъ нзъ практики, а практика сообразуется съ теоріей; обѣ онѣ связаны другъ съ другомъ, родственны или по крайней мѣрѣ близки одна другой, не теряютъ другъ друга изъ вида. „Золотая середина* не можетъ не служить естественнымъ центромъ этого взаимоотношенія, а „серединныя* идеи не могутъ не овладѣвать умомъ нашего историка-политика, такъ какъ умѣренныя идеи прежде всего идеи практическія. А потому всѣ общія идеи Гизо оказываются идеями умѣренными, сложными и составными по своей сущности, прикладными п примѣнимыми по своей цѣли; съ одной стороны, это идеи составленныя изъ очень различныхъ элементовъ, которые примиряются между собой или скорѣе прилаживаются другъ къ другу, какъ можно лучше; съ другой стороны, это идеи поддающіяся непосредственному примѣненію: ими можно жить, онѣ представляютъ готовый матеріалъ для осторожной и разумной дѣятельности человѣка.
У Гизо есть „середина* въ философіи и религіи, „середина* въ политикѣ, а его историческія изслѣдованія служатъ для доказательства исторической разумности „золотой середины*.—Сейчасъ чувствуется, что онъ не сочиняетъ политической теоріи, пригодной для Франціи, сидя въ петербургскомъ дворцѣ.
Его религіозную философію можно находить поверхностной, но она проникнута смѣлымъ и горячимъ пыломъ: это просто добросовѣстное, упорное и великодушное стремленіе къ примиренію. Онъ хотѣлъ бы, чтобы философія была вполнѣ христіанской и чтобы философъ легко могъ поладить съ христіанствомъ. Въ успѣхѣ такой попытки онъ не отчаивается, такъ какъ вѣритъ, что въ
— 184 —
случаѣ его она принесетъ нравственную и практическую пользу. Онъ является здѣсь примирителемъ не потому, что поверхностенъ, а скорѣе поверхностность его обусловлена его ролью примирителя, такъ какъ онъ хорошо знаетъ, что именно глубокое изслѣдованіе и ведетъ къ разъединенію. Онъ проситъ каждаго сдѣлать легкую или кажущуюся ему легкой уступку и довольствуется этимъ; онъ старается довести каждаго до минимума его вѣрованій. Изъ этихъ вѣрованій, лишенныхъ ихъ стѣснительныхъ придатковъ, онъ надѣется создать общую вѣру, а изъ уступокъ—создать связи, или по крайней мѣрѣ точки прикосновенія, тѣсно все соединяющія.
Отъ философа онъ требуеть нѣкоторой вѣры въ сверхъестественное, по крайней мѣрѣ признанія того, что оно не противоречитъ неизбѣжно разуму. Конечно, этимъ не слѣдуетъ злоупотреблять, такъ какъ внесеніе всюіу сверхъестественнаго и упрямое настаиваніе на немъ, какъ это дѣлаетъ Бональдъ, подорвало къ нему вѣру въ людяхъ. „Пусть не примѣшиваютъ его такъ часто и напрасно къ нашему міру и къ нашей исторіи," но пусть оставятъ его въ твореніи. Вотъ необходимый минимумъ. Признаніе сверхъестественнаго акта при началѣ міра, акта, предполагающаго присутствіе сверхъестественной силы надъ міромъ, —вотъ уступка, требуемая отъ философа. Она не должна возмущать его, такъ какъ сверхъестественному, замѣтьте это, дано неподходящее имя, и это вредитъ ему. Сверхъестественное вполнѣ естественно для человѣка. Человѣкъ всегда вѣритъ въ него. Это необходимость и потребность его природы. Вѣра въ сверхъестественное такъ же инстинктивна въ человѣкѣ, какъ и увѣренность въ окружающей его дѣйствительности. Допустимъ даже, что эта ощущаемая нами потребность не доказываетъ реальности предмета, на который она направлена,—что инстинктивный, естественный и всеобщій характеръ вѣры доказываетъ только необходимость иллюзіи. Пусть изъ того, что мы видимъ окружающій насъ міръ, не слѣдуетъ, что онъ и на самомъ дѣлѣ существуетъ, а изъ того, что мы непобѣдимо вѣримъ въ сверхъестественное, не слѣдуетъ, что оно есть на дѣлѣ. Съ этимъ можно согласиться. Но здѣсь условія по крайней мѣрѣ одинаковыя. Вѣра человѣка въ сверхъ-естестественное не доказываетъ его реальности, точно такъ же какъ видимость п обязательность не доказываетъ реальности окружающаго насъ міра. Какъ признаютъ невозможность вызвать въ человѣкѣ недовѣріе къ свидѣтельству его гла.ъ, такъ- "‘іѣдуетъ признать и невозможность лишить человѣка его мистическихъ стремленій, не менѣе всеобщихъ, традиціонныхъ, настоятельныхъ и необходимыхъ. Мы требуемъ признанія сверхъестественнаго такимъ же необходимымъ условіемъ человѣческой жизни, какъ и убѣжденіе столь же глубокое и постоянное, столь же мало оправдываемое доказательствами и столь же неосновательное съ точки зрѣнія разума,—въ существованіи земли, скалъ, деревьевъ и двѣ-
— 185 —
товъ. Мы требуемъ, чтобы сверхъестественное считалось столь же естественнымъ, какъ и. все то, чего мы не можемъ доказать и во что не можемъ не вѣрить.
Добившись подобной уступки, или только считая ее достигнутой, Гизо считаетъ дѣло выиграннымъ, такъ какъ довольствуется, не для себя одного, но и для всего свѣта, минимумомъ вѣры; затѣмъ онъ обращается поочередно къ католикамъ и протестантамъ съ требованіемъ не соглашенія, а взаимной симпатіи и совмѣстнаго стремленія къ общей цѣли—поддержанію въ мірѣ извѣстнаго количества религіознаго духа.—Это зо и составляетъ главную цѣль Гизо въ области нравственности, его задачу объединенія. Онъ не думаетъ о настоящемъ „объединеніи", чувствуя себя для этого слишкомъ далекимъ отъ времени Лейбница и Боссюэ; но онъ желалъ бы по крайней мѣрѣ установить родъ свободнаго, оборонительнаго союза, тоЛиз ѵіѵепІі, полнаго вниманія и сердечнаго уваженія, если не согласія. Онъ видптъ и радостно, любовно привѣтствуетъ всеобщее религіозное возрожденіе безъ участія церкви, возникшее въ началѣ XIX вѣка и представлявшее собой характерную черту этогс столѣтія.—черту, на мой взглядъ, чисто поверхностную и обреченную на скорое изчезновеніе, но неподлежавшую отрицанію. Гизо находитъ это возрожденіе и въ католической, и въ протестантской церкви, и въ независимой философіи. Онъ поощряетъ его вездѣ; онъ говоритъ: „можно сговориться или по крайней мѣрѣ прекратить борьбу". Онъ протягиваетъ руку, съ одной стороны, либеральному католицизму, съ другой—правовѣрному протестантизму, какъ относительно близкимъ другъ къ другу вѣроисповѣданіямъ, могущимъ скорѣе другихъ группъ, если не соединиться, то по крайней мѣрѣ терпѣть другъ друга. Онъ пробуетъ нѣчто вродѣ сліянія центровъ.
Такъ было съ 1838 года. Онъ писалъ тогда: „Пусть они устраняютъ споры; пусть они занимаются не столько одинъ другимъ, сколько самими собой и своей задачей; католицизмъ и протестантизмъ заживутъ мирно не только съ новымъ обществомъ, но и между собою. Я знаю, миръ этотъ не будетъ тѣмъ духовнымъ единствомъ, о которомъ такъ много говорили... Но гармонія въ свободѣ, вотъ единственнное единство, на которое люди могутъ разсчитывать на землѣ; или скорѣе это для нихъ лучшее, единственное средство все больше и больше возвышаться до истиннаго единства... Гармонія въ свободѣ—вотъ духъ христіанства".— Церкви не должны забывать, что борясь другъ съ другомъ, онѣ подрываютъ сами себя и поддерживаютъ и усиливаютъ своего общаго врага. „Пусть всѣ христіане, католики, или протестанты, будутъ убѣждены въ одномъ: если католицизмъ лишится довѣрія и власти въ католическомъ обществѣ, а протестантизмъ въ протестантскомъ, то выиграетъ отъ этого не враждебное исповѣданіе, а невѣріе. Слѣдовательно, для всѣхъ христіанъ, каковы бы ни
— 186 —
были ихъ разногласія, очевидно важно и настоятельно необходимо взаимное согласіе и поддержка своихъ естественныхъ союзниковъ противъ враждебнаго имъ всѣмъ невѣрія*.
У Гизо является привычка говорить такимъ образомъ, тономъ властнаго примирителя,—онъ всегда властенъ,—которому хотѣлось бы охватить все христіанство, чтобы крѣпче связать его въ одинъ могущественный союзъ: „Я думаю о церкви христіанской, о всей христіанской церкви; я хочу говорить о христіанской церкви, о всей церкви христіанской.*—Онъ доходитъ до мечты о либеральномъ католицизмѣ, исходящемъ изъ самого Рима, о либеральномъ ЗуІІоЪиз'ѣ, который позволилъ бы различнымъ группамъ христіанскаго общества видѣть между собою лишь разнорѣчія, оттѣнки, различія въ степени и не только допускалъ, но почти вызывалъ между ними, если не сліяніе, то по крайней мѣрѣ сообщеніе и гармонію. „Я иногда представляю себѣ, что произошло бы, если бы въ одинъ прекрасный день владыка католической церкви принялъ гласно и во всей полнотѣ начало религіозной свободы... Никто не сумѣетъ опредѣлить заранѣе все то вліяніе, какое оказало бы на цивилизованный міръ открытое и твердое введеніе этого принципа въ католическую церковь"...
Гизо постоянно стремился внушить католикамъ, протестантамъ и даже простымъ философамъ спиритуалистамъ не общій символъ вѣры, но общее направленіе мысли, общее сознаніе важности религіозной мысли въ мірѣ, общее боевое настроеніе.—Это философская и религіозная „середина*. Здѣсь политическій умъ стремится образовать изъ общихъ и срединныхъ вѣрованій человѣчества ядро арміи, объединить его за исключеніемъ крайнихъ фланговъ, непослушныхъ отрядовъ и отдѣльныхъ солдатъ,—силится намѣтить для него широкій путь, по которому оно могло бы двигаться безъ замѣшательства, съ сохраненіемъ за каждой дивизіей ея особыхъ знаменъ и ея разстоянія отъ другихъ.
Чтобы облегчить осуществленіе этой „коалиціи*, Гизо отнюдь не сводитъ и не допускаетъ сведенія религіи до чистаго и простого религіознаго чувства. Онъ очень далекъ въ этомъ отъ идей Бенжамена Констана, обладаетъ умомъ слишкомъ организаторскимъ, чтобы стремиться къ этому. Въ немъ нѣтъ ни одной черты, напоминающей мрачнаго и уединяющагося индивидуалиста. Если онъ былъ „правовѣрнымъ*, въ качествѣ протестанта и члена своей особой церкви, то это проистекало изъ его твердой увѣренности въ томъ, что религія необходимо служитъ и должна служить тѣсной связью между людьми,—должна создавать общій складъ мышленія, духовное общеніе, обязанности, вызывать въ человѣкѣ чувство единенія,—должна, слѣдовательно, имѣть свон установленные догматы и свою дисциплину. „Религія не есть фактъ чисто личный; это могучій и плодотворный принципъ ас
— 187 —
соціаціи... Изъ самыхъ элементовъ религіи возникаетъ религіозное общество".
Итакъ, религіи должны быть церквами, а церкви обществами; но между этими церквами и даже между церквами и философскими школами, допускающими сверхъестественное, должно быть постоянное сообщеніе, токъ симпатіи, духъ союза, хотя бы только оборонительнаго; и изъ всего этого должна развиться всеобщая ассоціація, направляющая человѣчество и поддерживающая его въ той нравственно-умѣренной области, гдѣ оно всегда любило вращаться, въ атмосферѣ, состоящей изъ нѣкоторой дозы сверхъестественнаго, вѣры и любви къ ближнему и большого количества здраваго смысла.
Эта философская и религіозная „середина" есть самое посредственное и въ то же время самое значительное изъ воззрѣній Гизо. Оно ясно доказываетъ слабость его философскаго сужденія, или скорѣе его равнодушіе къ серьезной философіи. Его практическій умъ ищетъ прежде всего между идеями наиболѣе пригодную для немедленнаго приложенія къ дѣлу, вообще идею могущую служить для чего нибудь. Онъ стремится къ организаціи и сосредоточенію п обладаетъ искусствомъ убѣждать людей, если только это не враги съ ножами въ рукахъ,—что они могутъ прійти къ соглашенію, если не будутъ много говорить; въ то же время онъ любитъ дисциплину, порядокъ и послушаніе въ рядахъ. Наконецъ, онъ склоненъ къ оптимизму и убѣжденъ въ томъ, что достаточно немного доброй воли для разрѣшенія самыхъ рѣзкихъ духовныхъ разногласій, какъ и самыхъ крупныхъ политическихъ трудностей. Онъ очень смѣло думаетъ, что затрудненія въ области нравственной можно устранить, какъ матерьяльныя препятствія, энергіей, усердіемъ и правильными пріемами дѣйствія.
Гизо хотѣлъ бы управлять душами, какъ партіей, какъ двумя или тремя партіями, соединенными общей программой и подчиняющимися искусному вождю. Онъ вѣрилъ, вѣрнѣе—ему хотѣлось вѣрить, что система не очень отличается отъ программы, тогда какъ это—вещи по существу и натурѣ совершенно различныя. Изъ католиковъ, протестантовъ и философовъ спиритуалистовъ онъ создавалъ или хотѣлъ создать коалицію, похожую на коалицію 1838 года, составленную изъ центра праваго, центра лѣваго и династической лѣвой. Онъ вѣрилъ, или хотѣлъ вѣрить, что религіозное движеніе можетъ быть чѣмъ то вродѣ манёвра. Въ этой, великодушной и почтенной, впрочемъ, попыткѣ его поддерживала идея, умѣстная только въ политикѣ, что истина заключается въ „серединѣ", а вѣрныя рѣшенія представляютъ собою среднія выводы, угадываемыя догадливымъ умомъ. Онъ искалъ „середины" въ вопросахъ совѣсти; а именно здѣсь-то середины и нѣтъ совсѣмъ, или, если она и существуетъ, то въ дѣланой и искусственной формѣ, въ видѣ смѣси, въ которую входитъ много доброй воли, но немного искренности.
— 188 —
П. Политика» золотой середины.и- Средній классъ.
Его историческія произведенія были всецѣло внушаемы, оживляемы и направляемы духомъ „золотой середины*. „Середина* въ исторіи, въ дѣлѣ историческаго развитія, это—средніе классы. Средніе классы должны быть правы и пользоваться въ народѣ вліяніемъ и перевѣсомъ; ихъ существованіе обезпечиваетъ націи прочность: они составляютъ какъ бы балластъ страны. Отсутствіе ихъ лишаетъ страну равновѣсія, конституцію—силы, исторію— послѣдовательности и заставляетъ націю, претерпѣвая тысячу переворотовъ, неудачъ и потрясеній, колебаться между деспотизмомъ и анархіей.
Средній классъ, это прежде всего классъ гражданъ, не оброшенныхъ и какъ бы притупленныхъ ни чрезмѣрнымъ трудомъ, ни праздностью; это—граждане, которые имѣютъ и занятія, и досугъ, пользуются благотворной дисциплиной труда и свободой мысли, доставляемой отдыхомъ.—Это, далѣе, классъ гражданъ, имѣющихъ состояніе, но не черезчуръ большое. Бѣдность создаетъ рабство, а рабство обращается въ раболѣпство или въ мятежъ. Богатство создаетъ обособленіе, оно дѣлаетъ человѣка настолько могущественнымъ, что онъ перестаетъ нуждаться въ другихъ и не обращаетъ на нихъ вниманія, если гордость не побуждаетъ его порабощать или унижать пхъ. Богатство ставитъ человѣка внѣ націи, такъ какъ онъ мало нуждается въ ней и мало заботится о ней.— Человѣкъ средняго состоянія трудится, но не слишкомъ много, имѣетъ состояніе, но не черезчуръ большое, нуждается въ другихъ вообще, но не въ защитѣ или покровительствѣ того или другого въ частности, и долженъ поэтому быть существомъ очень уравновѣшеннымъ. Онъ не бываетъ ни безучастнымъ или жестокимъ господиномъ, ни раболѣпнымъ или мятежнымъ рабомъ. Онъ интересуется общественными дѣлами, но не можетъ претендовать на единоличное веденіе ихъ и не имѣетъ основанія отчаиваться въ нихъ, такъ какъ ие настолько слабъ, чтобы не оказывать на нихъ вліянія. У него есть общія идеи и есть время на то, чтобы измѣнять и приноровлять ихъ къ требованіямъ обстоятельствъ; этого не можетъ дѣлать человѣкъ постоянно трудящійся, такъ какъ онъ живетъ одной широкой, общей и простой идеей, принятой имъ разъ навсегда и упорно защищаемой; на это не способенъ и членъ касты, погруженный въ узкіе предразсудки, которыхъ онъ не покидаетъ изъ аристократическаго самолюбія.—Обществомъ должны руководить люди среднихъ классовъ. Разъ эти классы существуютъ, они какъ бы роковымъ образомъ становятся руководителями общества. Теорія подтверждается здѣсь фактомъ. Члены среднихъ классовъ руководятъ обществомъ, создавая мнѣніе.
Мнѣніе, это—то, что всѣ говорятъ, что повторяютъ вездѣ, то,
— 189 —
что, вы чувствуете заранѣе, скажетъ вамъ при встрѣчѣ знакомый, что вы сами говорите себѣ, даже когда этого не думаете, въ видѣ болѣе или менѣе явной уступки общей мысли, изъ какого-то уваженія къ ней. Это мнѣніе во всѣ эпохи исторіи оказываетъ неизмѣримое вліяніе на поступки людей, вліяніе все болѣе возрастающее, по мѣрѣ того какъ у людей является больше средствъ прислушиваться другъ къ другу, а толки распространяются быстрѣе и производятъ больше шума. Этого требуетъ принципъ общительности, а также желаніе избѣгать лишнихъ споровъ, чтобы жить по возможности спокойно на землѣ,—А это мнѣніе и есть именно „золотая середина", по крайней мѣрѣ та средина, къ которой инстинктивно стремятся люди. Но мнѣніе,—вотъ что важно.—не всегда выражаетъ общую волю. Напротивъ, очень часто общая воля разбивается, лучше сказать, притупляется и смиряется мнѣніемъ. Это чувствуется въ странахъ со всеобщей или очень широкой подачей голосовъ. У выборовъ тамъ бываетъ одинъ смыслъ, у мнѣнія другой. Напримѣръ, выборы требуютъ очень рѣшительной, очень радикальной мѣры; мнѣніе требуетъ, внушаетъ и мало - по малу, даже очень скоро, предписываетъ мѣру очень умѣренную,—по крайней мѣрѣ въ эпохи относительнаго спокойствія страны и нормальнаго, правильнаго хода національной жизни.—И національная воля примиряется съ этимъ обманомъ; она не протестуетъ горячо, не создаетъ своимѣ неудовольствіемъ натянутаго настроенія въ обществѣ; она снова проявляется только на новыхъ выборахъ, но въ то же время снова начинаетъ дѣйствовать и мнѣніе.—Такимъ образомъ мнѣніе является не выраженіемъ общей воли, но ея регуляторомъ.
Объясняется это тѣмъ, что мнѣніе представляетъ собою то, что всѣ говорятъ, а то, что всѣ говорятъ, есть нѣчто болѣе разумное, чѣмъ то, чего всѣ хотятъ: вмѣсто того чтобъ оставаться смутнымъ желаніемъ, страстью, стремленіемъ или нетерпѣливымъ порывомъ, мнѣніе оказывается уже мыслью, если не цѣлою идеей. Національная воля, выражаемая мнѣніемъ, является ролей уже очищенной, одухотворенной и исправленной. Какъ мысль находитъ себѣ въ словѣ выраженіе и, можетъ быть, больше того, свой коррективъ, такъ народная воля находитъ себѣ во мнѣніи выраженіе, но еще болѣе—приподнятое и скромное толкованіе.
Это зависитъ еще отъ того, что мнѣніе въ сущности представляетъ собою то, въ чемъ люди рѣшаются и могутъ признаваться. Мы не говоримъ о томъ, что есть въ насъ нездороваго и дурного, или выражаемъ это въ анонимныхъ письмахъ. И мнѣніе не выражаетъ дурныхъ, нездоровыхъ и гнусныхъ сторонъ народной воли. Оно выражаетъ только идеи, и идеи относительно порядочныя. И у него также есть лицемѣріе, и оно часто преображаетъ въ идеи то, что на дѣлѣ является страстью, алчностью, гнѣвомъ и злобой; но хорошо уже то, что оно вынуждено прео
— 190 —
бражать все это въ идеи. Оно можетъ находить себѣ выраженіе только въ мысляхъ; это его назначеніе и его характеръ. Итакъ, всѣ дурныя стороны народной воли выразятся въ запискахъ при подачѣ голосовъ, которыя представляютъ собою въ общественной жизни анонимныя письма. Но мнѣніе дурного не выскажетъ; оно выразитъ нѣчто сходное, но это „нѣчто" будетъ много благороднѣй, безкорыстнѣй и чище, будетъ по меньшей мѣрѣ такимъ, въ чемъ можно сознаться.
Такимъ образомъ, на свѣтѣ существуютъ двѣ весьма различныя вещи: общая воля и мнѣніе; послѣднее носитъ много болѣе духовный, разумный характеръ, отличается большею умѣренностью и приноровлевностью къ темпераменту народа; это потому, что народная воля, представляетъ душевное состояніе народа, а мнѣніе — состояніе его ума. Въ странахъ съ легкими сообщеніями и быстрымъ освѣдомленіемъ въ спокойное время руководителемъ всегда является мнѣніе; а это мнѣніе создается среднимъ классомъ. Объясняется это очень просто. Мнѣніе это— „то, что говорятъ люди", а „говоритъ" въ обществѣ средній классъ. Онъ находитъ формулу, истолковывающую скорѣе, чѣмъ выражающую національную волю. Онъ находитъ умѣренное, очищенное и исправленное выраженіе для народныхъ стремленій, онъ распространяетъ его и предписываетъ государству общую волю, ставшую, единственно благодаря выраженію въ словѣ, хотя до нѣкоторой степени идеей, мыслью, принципомъ, вещью разумной, мнѣніемъ.
Почему именно средній, а не какой другой классъ создаетъ мнѣніе? Потому что низшій классъ умѣетъ только чувствовать, а говорить не умѣетъ. Высшій классъ обладаетъ словомъ, но онъ слишкомъ далекъ отъ всѣхъ прочихъ, чтобы знать ихъ желанія и вдохновляться ихъ чувствами. Низшій классъ можетъ только чувствовать; его недостатокъ—отсутствіе мысли и привычки выражать или скорѣе изливать только желанія и жалобы. Высшій классъ можетъ только мыслить; его недостатокъ—неспособность чувствовать вмѣстѣ съ народомъ, отсутствіе связи съ нимъ, невозможность, несмотря на всю добрую волю, знать ясно, отъ чего народъ страдаетъ, чего онъ требуетъ, чему противится. Вотъ почему мнѣніе создаетъ исключительно средній классъ.
А мнѣніе—царь міра, какъ сказалъ Паскаль; оно правитъ міромъ, лишь только появляется, какова бы ни была форма правленія,—при деспотическомъ управленіи, какъ и при всякомъ другомъ. Различіе заключается единственно въ большей или меньшей легкости, съ которой оно завладѣваетъ управленіемъ. Ришелье имѣлъ успѣхъ потому, что правилъ заодно съ общественнымъ мнѣніемъ. Точно также и Людовикъ XIV; извѣстно, что онъ не расходился съ общественнымъ мнѣніемъ, даже когда отмѣнилъ Нантскій эдиктъ. Вѣдь нельзя сказать, что мнѣніе всегда бываетъ
— 191 —
право; можно только утверждать, что оно управляетъ всегда, съ бблыпей или меньшей легкостью.
Оно начинаетъ править, какъ только появляется, но необходимо, чтобы оно существовало а оно существуетъ не всегда. Его не бываетъ именно при отсутствіи средняго класса, необходимаго, какъ мы видѣли, для его созданія. Были прежде, да существуютъ еще и теперь народы безъ средняго класса, у которыхъ слѣдовательно управленіе не опредѣляется, да и не можетъ опредѣляться мнѣніемъ. Древній міръ не зналъ среднихъ классовъ, и потому древніе народы склонялись къ деспотизму, какъ къ естественному концу. Македонской имперіи удалось въ очень короткое время поглотить мелкія республики грековъ, да и всѣ другія государства того времени были деспотическими монархіями.—Что касается римскаго государства, то оно такъ живо чувствовало отсутствіе средняго класса и необходимость его существованія, что искусственно создало его учрежденіемъ должности трибуновъ, уполномоченныхъ закопомъ выражать народное мнѣніе и служить посредниками между толпой и правящимъ классомъ; тѣмъ не менѣе отсутствіе средняго класса сначала вызвало императорскій деспотизмъ, а затѣмъ исчезновеніе государства.
Подъ конецъ имперія захотѣла создать нѣчто вродѣ средняго класса учрежденіемъ куріаловъ, обезпечить въ каждомъ муниципіи зажиточной и независимой буржуазіи участіе въ дѣлахъ мѣстной администраціи. Ыо, съ одной стороны, имперія организовала, а главное примѣняла это учрежденіе въ духѣ всего менѣе либеральномъ, принимая такія предосторожности, что у куріаловъ оказывались однѣ обязанности безъ настоящихъ правъ, и они становились просто безплатными чиновниками. Съ другой стороны, имперія, еслибъ и хотѣла, не могла бы создать класса, такъ какъ классъ вообще не создается, или вѣрнѣе создается самъ собою, но не можетъ быть созданъ. Чего не хватало римской имперіи, такъ это именно средняго класса, какъ класса, составляющаго настоящее, организованное сословіе въ обширномъ организмѣ государства, представляющаго нѣчто однородное, связное, живое, чувствующаго себя самимъ собою и сознающаго себя.
Существованіе этого класса не есть явленіе обычное. Народъ существуетъ всегда; это „всѣ“, это толпа.. Онъ является только болѣе „народомъ ' или болѣе „толпой*, сообразно со своимъ нравственнымъ достоинствомъ, и занимаетъ въ государствѣ болѣе или менѣе важное мѣсто, смотря по размѣрамъ своей способности мыслить, выражать свою мысль, составлять себѣ мнѣніе.—Правящій классъ существуетъ всегда; къ нему принадлежатъ люди, которымъ нѣтъ нужды трудиться; онъ только бываетъ болѣе или менѣе правящимъ смотря по тому, больше или меньше онъ заботится объ общественномъ благѣ и о собственномъ достоинствѣ; иногда случается,—и это большое несчастіе,—что у него есть одни
— 192-
недостатки и нѣтъ достоинствъ; тогда онъ почти не править, а только предсѣдательствуетъ.—Средній классъ можетъ и не существовать. Для его существованія нужно, чтобы богатство было раздроблено и разсѣяно, чтобы собственность была раздѣлена, или чтобы было создано движимое богатство, или чтобы произошли оба эти общественныя явленія.
Еще болѣе чѣмъ разсѣяніе богатствъ нужно для этого распространеніе просвѣщенія, такъ какъ невѣжественный средній классъ былъ бы среднимъ классомъ по своему состоянію и народомъ по умственному уровню, и такъ же мало какъ и народъ могъ бы создавать мнѣніе, а въ этомъ состоитъ его обязанность. Чтобы такое распространеніе просвѣщенія существовало въ достаточной степени, необходимо, чтобы въ странѣ были очень удобныя сообщенія и очень быстро распространялись свѣдѣнія, такъ какъ, если общія идеи создаются знаніемъ уединеннымъ, то мнѣніе возникаетъ благодаря быстрому и постоянному общенію многихъ людей.
Наконецъ,—н это не менѣе важно для существованія средняго класса,—ему необходимо чувствовать себя таковымъ, быть, если не организованнымъ, то по меньшей мѣрѣ сплоченнымъ, сознавать себя и владѣть собою, а это возможно только тогда, когда онъ общими силами совершаетъ крупное дѣло или производитъ рядъ долгихъ усилій: подобно личностямъ классы сознаютъ себя только въ своихъ дѣлахъ.—Всѣ эти условія, или большая часть ихъ, необходимы для существованія средняго класса въ дѣйствительности и для водворенія и упроченія господства общественнаго мнѣнія.
Въ этомъ какъ разъ и заключается исторія Европы съ древнихъ временъ. Для Гизо исторія Европы съ древности представляетъ собою только долгую, медленную и тягостную выработку средняго класса, а слѣдовательно господства общественнаго мнѣнія, т. е. представительнаго правленія. „Образованіе третьяго сословія представляетъ собою фактъ огромной важности; оно не только громадно, оно ново и безпримѣрно въ исторіи міра*. Къ этому стремится вся исторія, стремится чрезъ феодализмъ, устанавливающій въ націи іерархію, послѣ довательность классовъ, мѣшающій сохраненію и увѣковѣченію равенства подъ властью одного повелителя,—чрезъ освобожденіе коммунъ, изъ котораго должна образоваться буржуазія, а главнымъ образомъ чрезъ королевскую власть уже съ XVII вѣка „буржуазную". А затѣмъ торговля, промышленность, движимое богатство, съ одной стороны, и книгопечатаніе, книги, газеты, общественная жизнь, легкое сообщеніе, быстрое и частое освѣдомленіе—съ другой, ускоряютъ возникновеніе класса, создаваемаго всѣмъ этимъ, живущаго всѣмъ этимъ, пользующагося этимъ для новаго усиленія и развитія и извлекающаго изъ этого развитія новую жизнь и силу.
Наконецъ, этотъ классъ, уже существующій, жизненный, какъ бы возмужалый, совершаетъ великое дѣло, подобное французской
— 193 —
революціи; тутъ онъ начинаетъ понимать себя, собираетъ для этого свои силы, почерпаетъ бодрость въ восхищеніи своимъ дѣломъ, наконецъ, познаетъ себя въ пылу дѣйствія и созерцаніи созданія. Тогда этотъ классъ является сформированнымъ, достигшимъ полной силы и зрѣлости, а современная исторія—завершенной.
Эта историческая теорія можетъ быть созданіемъ только историка, исполненнаго увѣренности, и увѣренности властной; по остроумному выраженію Жюля Симона, это значитъ „дисциплинировать исторію". Это — взглядъ на исторію государственнаго человѣка, нуждающагося въ ея одобреніи. Такъ, или подобнымъ образомъ, смотритъ на нее лишь историческая личность или человѣкъ готовящійся стать таковою. Такъ Гизо намѣчалъ себѣ путь и опредѣлялъ цѣль исторіи человѣчества, между 1815 и 1830 годомъ, когда онъ былъ уже совѣтникомъ монарха и готовился играть еше большую роль въ судьбахъ своей страны. Для политическаго дѣятеля исторія рѣдко бываетъ чѣмъ-либо другимъ, кромѣ политики прошлаго. Она служитъ ему доводомъ, исходной точкой для его дедукціи, доказательствомъ въ пользу того, чтб онъ хочетъ извлечь изъ нея, На его взглядъ она должна оправдывать, объяснять и подготовлять его политику. Для Гизо всемірная или, по крайней мѣрѣ, новая исторія всего скорѣе должна представляться введеніемъ къ его управленію.
Тѣмъ не менѣе въ этихъ прекрасныхъ трудахъ, полныхъ притомъ же кропотливой и основательной учености, заключается очень вѣрная идея; она гласитъ, что въ современныхъ обществахъ сравнительно съ древними гораздо больше различныхъ интересовъ, разнообразныхъ источниковъ богатства, различныхъ потребностей, а слѣдовательно и больше классовъ. Общественный строй усложнился. Въ современной націи сравнительно съ древней больше различныхъ „міровъ1*, отъ вершины до основанія въ ней больше ясно отмѣчающихся и очерченныхъ ступеней. Эти посредствующія ступени Гизо и называетъ среднимъ классомъ, тогда какъ надо было бы говорить о среднихъ классахъ. Ошибка заключалась пожалуй въ постановкѣ собирательнаго единственнаго числа тамъ, гдѣ нужно было множественное.
Это ошибка не просто грамматическая, а историческая; это родъ анахронизма. Средніе классы привыкли называть себя однимъ именемъ, именемъ третьяго сословія, и стали считать себя на самомъ дѣлѣ однимъ классомъ, какимъ они были приблизительно въ тѣ отдаленныя времена, когда было придумано ихъ названіе. Они сказали себѣ, что съ 1789 года одинъ классъ сталъ на мѣсто другого, что отнынѣ слѣдовало править ихъ сословію; это служило общимъ заключеніемъ и заканчивало исторію.
Но это едва ли было справедливо. Болѣе вѣрнымъ представляется увеличеніе числа общественныхъ группъ по мѣрѣ движенія впередъ, по мѣрѣ того, какъ открывается и устанавливается все
13
— 194 —
большее число способовъ воспитанія, обученія, развитія, обогащенія, другими словами—большее число способовъ существованія. Такое усложненіе не позволяетъ просто ставить одинъ классъ на мѣсто другого; оно требуетъ отысканія средства—предоставить всѣмъ общественнымъ группамъ, обладающимъ извѣстной сплоченностью и силой, соразмѣрное съ ихъ значеніемъ участіе въ управленіи государствомъ. Всѣ отступаютъ передъ трудностью установки подобнаго механизма. Одни прибѣгаютъ къ простому разрѣшенію задачи, къ деспотизму, другіе —къ разрѣшенію столь же простому и грубому, къ демократическому равенству. Гизо приходитъ къ рѣшенію почти столь-же простому и неполному—къ передачѣ власти одной изъ общественныхъ группъ и къ устраненію всѣхъ прочихъ.
И все же важно было понять какъ слѣдуетъ, что между огромной толпой и немногими избранниками мало по малу, съ теченіемъ псторическаго развитія, явилось нѣчто несуществовавшее прежде, и это нѣчто было историческимъ и политическимъ элементомъ исключительной важности. Гизо хорошо замѣтилъ это „нѣчто". Онъ только приписалъ ему нѣкоторое, въ сущности искусственное, единство, и эта иллюзія пожалуй его и обманула.
Ш. Какою должна быть политика средняго класса?
„Середина", найденная Гизо въ исторіи, была найдена имъ и въ политикѣ. Его политика предоставляетъ управленіе государствомъ среднему классу. Онъ долженъ править, во-первыхъ, при помощи мнѣнія, имъ же создаваемаго, а затѣмъ- чрезъ прямое участіе въ веденіи общественныхъ дѣлъ. Управленіе при помощи мнѣнія и управленіе представительное,--вотъ двойная форма современнаго строя, или вѣрнѣе—управленіе при помощи мнѣнія, упорядочиваемое и нормируемое представительнымъ правленіемъ, вотъ единая форма строя современныхъ народовъ.
Но все же, какимъ образомъ, въ какомъ смыслѣ и духѣ, на какихъ началахъ долженъ управлять этотъ средній классъ? Онъ самъ до себѣ, въ своей сущности, является золотой серединой націи. Какой-же „середины“ въ общей мысли и въ политическомъ темпераментѣ долженъ онъ придерживаться?—Онъ долженъ быть разсудительнымъ и либеральнымъ.
Онъ долженъ быть благоразумнымъ, т. е. помнить, что разумъ долженъ править міромъ, что разуму принадлежитъ верховная власть. На вѣчный вопросъ: кому принадлежитъ верховенство? Гизо, какъ и Ройе-Колларъ, какъ Констанъ, какъ Монтескьё, отвѣчаетъ: верховенства не существуетъ, не существуетъ потому, что ничья воля не имѣетъ силы закона, пока она является только волей. Недостаточно сказать „я хочу", чтобы быть правымъ и чувствовать и сознавать себя таковымъ. Всѣ мы сознаемъ въ душѣ, что наша воля становится законной, лишь подчиняясь живущей
—195 —
въ насъ способности правильно смотрѣть на вещи. Точно такъ же ни отдѣльный человѣкъ, ни цѣлый классъ, ни даже всѣ граждане не имѣютъ права хотѣть, основываясь только на своемъ желаніи,— другими словами, ни человѣкъ, ни классъ, ни „всѣ* не являются государями (зоиѵегаіпз). Одно и то же аристократическое чувство и предразсудокъ прописываютъ верховенство человѣку, классу или всему народу. Во всѣхъ трехъ случаяхъ провозглашается верховенство по праву рожденія. Говорится или: „я прирожденный государь по своему царскому происхожденію11, или: „я прирожденный государь по своему знатному происхожденію1*, или: „я прирожденный повелитель, такъ какъ я—человѣкъ*. Ни одинъ изъ этихъ патентовъ на власть не дѣйствителенъ по праву, по разуму, по справедливости, по здравому смыслу. Существуетъ только одно верховенство, мѣшающее кому бы то ни было стать его обладателемъ. Это—верховенство разума.
Верховенство должно принадлежать разуму для того, чтобы ни одна воля, единичная, или сложная, или всеобщая, не могла претендовать на него. Верховенство должно принадлежать разуму еще и потому, что онъ является единственнымъ началомъ единства, который можетъ найти нація внѣ чисто абсолютной монархіи. Паскаль сказалъ: „множество, не сводимое къ единству, создаетъ безпорядокъ; единство, не заключающее въ себѣ множества, является тиранніей*. За устраненіемъ тиранніи, остается свести множество къ единству, свести многообразіе чувствъ къ единому сужденію, т. е. къ ясной идеѣ, другими словами—къ разуму.
Задача класса, поставленнаго его предполагаемою компетентностью во главѣ государственныхъ дѣлъ, заключается въ извлеченіи изъ націи содержащагося въ ней количества разума. Мы сказали выше, что средній классъ долженъ управлять потому, что онъ создаетъ мнѣніе. Нужно идти дальше. Онъ создаетъ мнѣніе, потому что такова его природа; онъ долженъ создавать разумъ, такъ какъ въ этомъ его долгъ. Онъ естественно преобразовываетъ общее чувство въ идеи; это его свойство. Онъ долженъ преобразовывать общее чувство въ вѣрныя идеи; въ этомъ его обязанность. Онъ долженъ сначала слѣдовать своей природѣ, а затѣмъ примѣняться къ своей обязанности. Такимъ образомъ, въ предѣлахъ силъ человѣческихъ, будетъ осуществлена политическая правда, т. е. царство разума. Такимъ образомъ будетъ установлено единственное законное верховенство, верховенство безличное и не допускающее захвата лицомъ. Здѣсь надо замѣтить, что въ своемъ стремленіи примѣнить знаменитое положеніе: „верховенства не существуетъ*, въ своихъ стараніяхъ отыскать безличнаго государя, который долженъ помѣшать появленію другого,—Гизо приходитъ къ теоріи, отличной отъ той, на которой остановился Ройе-Колларъ, его учитель. Изъ двухъ мыслителей Ройе-Колларъ оказывается больше историкомъ, Гизо—больше философомъ. Ройе-Колларъ говорилъ:
— 196 —
верховенства не существуетъ; никто не можетъ быть повелителемъ; повелителемъ является хартія; она то и дѣлаетъ насъ гражданами, избирателями, избираемыми, депутатами, пэрами. Почему ей принадлежитъ верховенство? Потому что она представляетъ исторію Франціи; ея корни восходятъ къ самымъ отдаленнымъ временамъ нашего національнаго существованія; въ лицѣ ея вѣчная Франція налагаетъ обязанности на современнаго француза.—Гизо говоритъ: верховенства не существуетъ; никто не можетъ быть повелителемъ; высшая власть принадлежитъ разуму; онъ управляетъ не въ силу историческаго, а въ силу своего собственнаго права; онъ извлеченъ изъ несвязной массы народныхъ чувствъ тѣми, кто лучше другихъ въ состояніи произвести эту работу.— Теорія Гизо очевидно носитъ болѣе философскій, отвлеченный и я не скажу—болѣе демократическій, но точно болѣе республиканскій характеръ, сравнительно съ теоріей Ройе-Коллара. Мы увидимъ, впрочемъ, что несмотря на это, онѣ сближаются при помощи обхода.
Итакъ, обязанность средняго класса—извлечь изъ народа всю сумму содержащагося въ немъ разума. Какъ исполнитъ онъ эту задачу? Онъ проникнется общераспространенными чувствами и опредѣлитъ, что въ нихъ есть законнаго. Такъ должно поступать и всякое правительство; но онъ сдѣлаетъ это съ исключительнымъ успѣхомъ, такъ какъ съ демократическимъ инстинктомъ класса, вышедшаго изъ народа и остающагося близкимъ къ нему, онъ соединяетъ способность къ выработкѣ общихъ идей, развиваемую досугомъ, воспитаніемъ и болѣе широкимъ взглядомъ на вещи.
Эту задачу онъ можетъ осуществить еще и другимъ способомъ, дополняющимъ первый. И разумъ и традиція имѣютъ законное право на существованіе: традиція это—тотъ же разумъ. Разумъ, это—умственная „середина",традиція—„середина**, непрерывно проходящая черезъ исторію. Традиція это—преемственный разумъ; она сохранилась благодаря своей разумности; ея разумность доказывается самымъ ея сохраненіемъ. Ей не надо другихъ доказательствъ, лучшихъ оправданій, иныхъ правъ. Уцѣлѣть значитъ доказать свое право на существованіе. „Изъ одного факта сохраненія можно заключить, что общество не вполнѣ нелѣпо, безразсудно, беззаконно, что оно не совсѣмъ чуждо тѣмъ началамъ разумности, правды, справедливости, безъ которыхъ общества не могутъ существовать. Если притомъ общество развивается, становится сильнѣе и могущественнѣе, если общественный строй принимается все большимъ числомъ людей, это значитъ, что подъ вліяніемъ времени въ него все больше проникаютъ начала разума, справедливости и права, — значитъ, дѣла мало-по-малу направляются на путь настоящей законности".
Итакъ въ мірѣ есть двѣ законныя вещи: разумъ и исторія; а, стало быть, двѣ „середины", которыя средній классъ,—самъ въ
— 197 —
своей сущности „середина", —долженъ ясно различать и поникать: это „середина" настоящаго, т. е. безпорядочныя чувства націи, сведенныя къ единой общей идеѣ, п „середина" историческая, т. о. все, что въ народѣ было достаточно сильно, т. е. достаточно хорошо организовано, упорядочено и разумно, чтобы сохранить существованіе. Между этими двумя серединами правитель долженъ найти третью или, говоря проще, долженъ одну смягчить другою, согласовать сь вѣрными взглядами традицію—разумъ историческій и настроеніе общества — разумъ настоящаго. Другими словами, средній классъ, сдѣлавшись законодателемъ, долженъ быть хорошимъ историкомъ-философомъ.—Рѣдко бываетъ, чтобы человѣкъ представлялъ себѣ идеальное правленіе, даже царство небесное, иначе какъ по своему образу и подобію.
Средній классъ, какъ мы уже сказали, долженъ быть разумнымъ и либеральнымъ. Свобода, какъ понимаетъ ее Гизо, представляется интереснымъ предметомъ для изученія. Гизо—человѣкъ властный; онъ твердо убѣжденъ не только въ томъ, что „управлять можно единственно сверху внизъ", но и въ томъ, что индивидуализмъ-простой эгоизмъ, а эгоизмъ—безсиліе; поэтому онъ былъ индивидуалистомъ въ чрезвычайно слабой степени и, если не высказывался никогда прямо, то очень склоненъ былъ думать, что человѣкъ имѣетъ значеніе не самъ по себѣ, а лишь въ группѣ, въ обществѣ, во взаимодѣйствіи съ другими, при участіи въ общей работѣ. Онъ никогда не считалъ свободу правомъ личнымъ, присущимъ человѣку, вызываемымъ самымъ существованіемъ человѣка. Никто не пренебрегалъ больше Гизо „Деклараціей правъ человѣка". Поэтому онъ еще меньше занимался основными вопросами либерализма: на чемъ основывается право человѣка на свободу и какъ опредѣлить предѣлы, которыми она должна ограничиваться? А такъ какъ эти вопросы постоянно обсуждались вокругъ Гизо, даже доктринерами, хотя и въ меньшей степени, чѣмъ другими, то его молчаніе о нихъ слѣдуетъ приписывать его пренебреженію къ нимъ, а не незнакомству съ предметомъ.
Дѣло въ томъ, что Гизо настолько мало былъ метафизикомъ, даже въ популярномъ смыслѣ этого слова, насколько только это возможно. Въ сущности онъ обладалъ очень положительнымъ, хотя и возвышеннымъ умомъ. Мы замѣтили это очень ясно тогда, когда излагали если ие его религіозныя идеи, то по крайней мѣрѣ его взгляды на вопросы религіи. Тѣмъ же оставался онъ н въ политикѣ. Его очень мало занимали принципы и раціональное основаніе вещей. Онъ не былъ теологомъ. Политическая теологія Бен-жамена Констана или Бональда, или де-Местра навѣрное представлялась ему дѣломъ нѣсколько празднымъ, и если бы онъ высказалъ на этотъ счетъ свое мнѣніе, мы вѣроятно узнали бы, что онъ видѣлъ въ немъ лишь забаву ума.
Поэтому свобода представляется ему просто „участіемъ гражда-
— 198 —
нин& въ общественныхъ дѣлахъ**. А почему гражданинъ имѣетъ право на участіе въ нихъ? Да потому, что это вещь хорошая и благотворная; другой причины нѣтъ, по крайней мѣрѣ Гизо ея не видитъ. Свобода, дЛя Гизо, это — свобода политическая. Вы свободны въ странѣ, гдѣ вами правитъ одинъ законъ, и притомъ законъ составляемый совѣщательными собраніями; вы свободны по своей принадлежности къ свободной ассоціаціи, и только благодаря этому; свобода на столько право не личное, что вы владѣете ею только въ качествѣ члена либерально организованнаго общества. Дѣйствительно всѣ общества начинаютъ съ анархіи, которая такъ мало похожа на свободу, что является противоположностью ей. Затѣмъ они переходятъ къ деспотизму монархическому или узко-аристократическому и кончаютъ, спустя долгій промежутокъ времени, устройствомъ ассоціацій, гдѣ власть крайне раздѣлена и гдѣ, слѣдовательно, человѣкъ, частное лицо начинаетъ дышать свободнѣе. Но возможность этого онъ получаетъ лишь съ того момента, какъ общество организовалось такимъ образомъ, и слѣдовательно онъ пользуется свободой только какъ членъ такъ именно сложившагося общества, по этой единственно причинѣ, по этому исключительно праву.
Разсматривать личную свободу какъ право первоначальное, „неотъемлемое**, долго нарушавшееся и наконецъ возстановленное, какъ право, па которомъ основывается и должно основываться цивилизованное общество,—значитъ впадать въ довольно забавный обманъ. Истина заключается какъ разъ въ обратномъ. Какъ разъ цивилизованное общество и основываетъ личную свободу, лучше сказать, рождаетъ ее, не намѣренно и для самого себя незамѣтно,— создаетъ такимъ образомъ нѣчто, не бывшее правомъ, но становящееся имъ. Итакъ, свободу даетъ вамъ свободное общество, непринужденная и свободная дѣятельность его учрежденій; вы свободны только благодаря свободному обществу и только въ немъ, и степень вашей свободы опредѣляется большей или меньшей легкостью, полнотою, благоустроенностью и гармоничностью жизни самого общества. Отсюда слѣдуетъ, что свобода не есть право, личная, неотъемлемая собственность, родъ идола, передъ которымъ государство останавливается въ суевѣрномъ оцѣпенѣніи, прибѣжище, святыня, какой то двузубецъ освященный молніей. Это просто извѣстный способъ управленія, чуждый всякой таинственности; это—прекрасный, благородный, великодушный, удобный и полезный способъ управленія.
Общества-, по мѣрѣ своего существованія, усложняются. Ихъ администрація становится дѣломъ безконечно обширнымъ и сложнымъ, исполненнымъ мелкихъ подробностей. Она составляется изъ „огромнымъ машинъ“ со множествомъ колесъ. Истинная свобода гражданина заключается во введеніи въ эти огромныя машины извѣстной крупной доли личнаго почина, въ привлеченіи къ руно
— 199 —
водству ими гражданина съ его собственнымъ опытомъ, съ его личнымъ знаніемъ и благими намѣреніями, съ его совѣстью, даже съ его неопытностью, являющейся недурною поправкою къ духу традиціи и рутины; другими словами, свобода заключается во все большемъ привлеченіи личности къ руководству обществомъ, а слѣдовательно въ возбужденіи у нея духа общественности, въ обезпеченіи ей все большаго участія въ управленіи. Для государства это составляетъ драгоцѣнную помощь, облегченіе и прогрессъ.
Замѣтьте притомъ, что правленіе представительное, или скорѣе парламентское, или лучше сказать—требующее содѣйствія парламента, представляетъ только первый шагъ на этомъ пути. — Парламентская система, это — правительство, которое говоритъ гражданину: „Помогите мнѣ. Машина слишкомъ сложна. Это превышаетъ мои силы. Съ другой стороны, васъ она также, говорите вы, давитъ. Подойдите же къ ней. Дайте мнѣ вашу долю свѣдѣній, наблюденій, изобрѣтательности, силы и авторитета. Для васъ выгодно тутъ то, что вы будете, по крайней мѣрѣ въ извѣстной степени, управлять сами собою. Мнѣ это выгодно тѣмъ, что, не переставая быть руководителемъ, я буду руководимъ другими, буду получать новыя указанія, избавлюсь отъ полной и абсолютной отвѣтственности, а главное — я не упущу, не дамъ пропасть нѣкоторымъ силамъ, выдѣлившимся изъ массы силъ непригодныхъ къ дѣлу, вчера неизвѣстнымъ, сегодня открывшимся,— силамъ, которыя могли бы быть потеряны для общественнаго блага, а теперь будутъ обращены на пользу его**.
Но это только первый шагъ, хотя и самый значительный изъ всѣхъ тѣхъ, которые можно сдѣлать. Это начало слѣдуетъ прилагать всюду. Нужно, чтобы всюду, въ главныхъ административныхъ учрежденіяхъ, гражданину предоставлялась доля участія, въ видѣ наблюдателя, помощника, союзника; нужно, чтобы гражданинъ могъ надзирать, помогать, нести долю отвѣтственности, а главное упражнять свои силы и расширять свои свѣдѣнія. Надо, чтобы всюду въ управленіе входили „управляемые**. Въ этомъ заключается истинная свобода гражданина. Она состоитъ въ участіи въ управленіи, которое уже не является замкнутымъ, обнесеннымъ стѣной или рѣшеткой. Она состоитъ въ близости къ общественнымъ дѣламъ и въ участіи въ нихъ. Свобода не только не является пропастью между гражданиномъ и государствомъ, предъ которой останавливается власть государства; она представляетъ засыпанный ровъ, опущенный подъемный мостъ, возстановленіе свободнаго и постояннаго сообщенія и сношеній. Свобода въ собственномъ смыслѣ совсѣмъ не существуетъ, какъ думаютъ это нѣкоторые, отдѣльно отъ политической свободы. Существуетъ только свобода политическая. Человѣкъ тогда только бываетъ свободнымъ гражданиномъ, когда участвуетъ въ общественныхъ дѣлахъ; онъ—рабъ,
— 200 —
когда въ нихъ не участвуетъ, и отступникъ, т. е. данникъ, когда видитъ свою свободу въ отдаленіи отъ дѣлъ.
Таково назначеніе среднихъ классовъ: 1) создавать мнѣніе;— 2) управлять согласно разуму, примиряемому съ традиціей;—3) управлять либерально, иначе говоря, вводить въ управленіе какъ можно больше личнаго почина.
Эта превосходная политическая теорія очевидно—созданіе историка, политическаго философа-реалиста и государственнаго человѣка. Она отличается извѣстною широтою и въ то же время энергіей и силой. При правильномъ пониманіи, во всей ея полнотѣ и широтѣ, она, на мой взглядъ, все приняла бы въ разсчетъ и отвѣтила бы на всѣ дѣйствительно законныя потребности современныхъ обществъ. Она, можетъ быть, относится слишкомъ пренебрежительно къ тому, что Гизо всю жизнь называлъ съ возраставшею горечью „химерами",—къ идеямъ и теоріямъ черезчуръ „личнымъ", а слѣдовательно нѣсколько эксцентричнымъ, ко всему, что не допускаетъ непосредственнаго приложенія къ практикѣ. Она пренебрегаетъ также, и даже черезчуръ, смутнымъ чувствомъ толпы, которое Гизо признаетъ лишь тогда, когда оно дѣлается „мнѣніемъ", преобразуется въ идеи классомъ мыслящихъ и разсудительныхъ людей. Это смутное чувство толпы конечно не можетъ служить путеводителемъ по своей смутности, во-первыхъ, и недостатку послѣдовательности, во-вторыхъ. Его поэтому можно устранять съ дороги, не поддаваться его вліянію до того времени, когда оно лучше выработается и яснѣе пойметъ себя; но съ нимъ крайне важно быть знакомымъ, внимательно слѣдить и постоянно наблюдать за нимъ, даже обращаться къ нему съ запросами, и крайне опасно не обращать на него вниманія.—Это—теорія, такъ сказать, черезчуръ центральная, „серединная"; она стремится видѣть только одну большую дорогу и слѣдовать исключительно по ней; но это не теорія „середины" слѣпой и узкой. Напротивъ, она отличается большою широтою, либерализмомъ и великодушіемъ. Если бы ее можно было примѣнить во всей ея широтѣ, со всѣмъ тѣмъ прямодушіемъ и всею тою смѣлостью, съ какой она была задумана, она, пожалуй, могла бы разрѣшить вполнѣ всѣ затрудненія.
Но теоріи примѣняются далеко не въ томъ видѣ, какъ онѣ создаются. Этому мѣшаютъ, или по крайней мѣрѣ въ этомъ стѣсняютъ насъ, обстоятельства, другіе люди и мы сами. Это самое мы, можетъ быть, и увидимъ сейчасъ.
IV. Какова была политика Гизо?
Какъ и всѣ люди съ идеями, Гизо хотѣлъ управлять, руководясь ими. Мы знакомы съ его идеями, мы знаемъ, что онъ хотѣлъ сдѣлать. Онъ хотѣлъ править при помощи средняго сословія, — руководясь разумомъ въ той мѣрѣ, въ какой его могло допускать
— 201 —
мнѣніе,—въ духѣ свободы, какъ онъ понималъ ее, въ той мѣрѣ, которая не порывала насильственно традиціи.
Что касается средняго класса, то, какъ ни была вѣрна теорія Гизо, все же онъ сдѣлалъ ошибку, вмѣстѣ со всей своей партіей, въ ея примѣненіи. Онъ впалъ въ оптическій обманъ, увидѣлъ средній классъ тамъ; гдѣ во Франціи въ 1830 году его не было. Онъ счелъ за средній классъ крупную буржуазію, тогда какъ она съ 1830 года и даже съ начала XIX вѣка была не среднимъ классомъ, а аристократіей. Ошибка Гизо объясняется тѣмъ, что онъ считалъ старую аристократію еще существующей, а отсюда вытекало, что среднимъ классомъ является классъ непосредственно слѣдующій за нею. Но старой аристократіи уже не было, не было со времени революціи; пожалуй даже она перестала существовать до революціи. Высшимъ классомъ была крупная буржуазія, поглотившая и растворившая въ себѣ во всѣхъ отношеніяхъ остатки старой аристократіи. Старая аристократія еще могла производить впечатлѣніе обаяніемъ именъ и титуловъ, историческими воспоминаніями, а также личными достоинствами нѣкоторыхъ изъ своихъ представителей; но это не затрогивало сути вопроса, и изъ этого не слѣдовало заключать, что она еще представляетъ собою классъ, и на этомъ основаніи искать средній классъ непосредственно подъ нею. — Несмотря на внѣшніе признаки, въ сущности приходилось имѣть дѣло съ націей, въ которой не было другого замѣтнаго различія между людьми, разсматриваемыми по группамъ, кромѣ денегъ. Общая классификація французовъ на крупныя, рѣзко различающіяся категоріи указывала на классъ богатыхъ людей, затѣмъ на классъ людей готовившихся стать таковыми, наконецъ на классъ неимущій; исключеніе дѣлалось только въ пользу блестящихъ личныхъ достоинствъ.
Стало быть, если дѣйствительно разумное и естественное правленіе должно принадлежать среднему классу; если дѣйствительно средній классъ создаетъ мнѣніе, такъ какъ аристократія стоитъ слишкомъ далеко отъ народа, чтобы ясно понимать общее настроеніе націи; если, стало быть, вся теорія Гизо вѣрна, то ось политики проходитъ не въ крупной буржуазіи, а ниже ея.—Съ нашей точки зрѣнія вся политика Гизо представляется теоріей среднихъ классовъ, отданной въ услуженіе аристократической политикѣ.
Объясняется это отчасти невѣрностью теоріи, въ виду ея неполноты, а отчасти ея неправильнымъ примѣненіемъ.
Отчасти была невѣрна теорія. Править долженъ не одинъ средній классъ, при безусловномъ устраненіи всѣхъ выше и ниже его стоящихъ классовъ; участвовать въ управленіи должна вся нація, каждый классъ -соразмѣрно со своей компетентностью, при чемъ среднее сословіе сохраняетъ за собой,—если хотите, и я съ этимъ согласенъ,—характеръ и обязанность руководителя. Отчасти была неправильно примѣнена теорія, такъ какъ Гизо и его партія,
— 202 —
на половину подъ вліяніемъ ложнаго историческаго взгляда, на половину изъ чрезмѣрнаго увлеченія среднимъ классомъ, считали себя за таковой, тогда какъ на дѣлѣ составляли аристократію своего времени. Заблужденіе это имѣло важныя послѣдствія, такъ какъ, несмотря на ихъ политическій тактъ, знаніе, большую освѣдомленность и ни кѣмъ еще, на мой взглядъ,' не превзойденную ловкость въ административной техникѣ, Гизо и его партія больше самбй аристократіи грѣшили недостаткомъ этого класса, потому именно, что аристократіей себя не считали. Аристократія подлинная,—если мнѣ позволятъ такъ выразиться, — чувствуетъ, что она „аристократія*, и хотя иногда,—если въ ней живы традиціи политическаго пониманія и благоразумія,—въ силу этого самаго чувства, наблюдаетъ за собой, обращаетъ вниманіе на общественное мнѣніе, инстинктивно понимая, что ей не уловить его, если она будетъ справляться только съ самой собою; такимъ образомъ она противодѣйствуетъ той вѣрѣ въ свою собственную непогрѣшимость, которая составляетъ недостатокъ природы всѣхъ насъ. У Гизо и его партіи не было такихъ основаній не довѣрять себѣ; они были такъ увлечены своей теоріей, что готовы были говорить себѣ: „Мы не аристократія; мы—средній классъ. Мы не можемъ ошибаться". — Въ этомъ-то и заключается главная ошибка Гизо, какъ политическаго дѣятеля.
Все естественно вело его къ этой ошибкѣ или къ этому недостаточному пониманію вещей. Влекла прежде всего его увѣренность, полная и энергичная вѣра въ себя: онъ началъ съ увѣренности, продолжалъ убѣжденностью и кончилъ непогрѣшимостью; влекли затѣмъ и идеи, также какъ и характеръ: идеи заставляли его приписывать почти непогрѣшимость „серединѣ", какою онъ былъ, и среднему классу, къ которому онъ себя причислялъ..— А преувеличенная самоувѣренность, почти въ такой же степени какъ и нерѣшительность, является, особенно въ политикѣ, причиной ошибокъ. Главное, она придаетъ разуму видъ неправоты. Она придаетъ ему энергію и отнимаетъ у него авторитетность. Стоя во главѣ правительства, Гизо имѣлъ видъ скорѣе борца, чѣмъ правителя. Онъ походилъ не столько на перваго министра, сколько на противника оппозиціи. Его сторонники скорѣе шли за нимъ на приступъ, чѣмъ поддерживали его противъ нападающихъ. Это дѣйствительно нѣсколько извращало парламентское правленіе, извращало если не общій духъ его, то по крайней мѣрѣ его форму, его видъ и ходъ, — обстоятельство, имѣющее нѣкоторое значеніе.
Дѣйствительно, этотъ человѣкъ борьбы прекрасно дисциплинировалъ свою армію и въ теченіе восьмо лѣтъ держалъ ее крѣпко въ рукахъ, съ удивительной послѣдовательностью и въ превосходномъ порядкѣ. Это вполнѣ понятно. Этимъ членамъ центра, привлеченнымъ въ него именно своей нерѣшительностью, онъ давалъ то, чего имъ какъ разъ недоставало: энергію характера и темпера
— 203 —
мента. Онъ представлялъ собою рѣдкій примѣръ человѣка, совмѣщавшаго энергичный характеръ съ умѣренностью идей. Онъ былъ трибуномъ умѣренности и долженъ былъ стать диктаторомъ центра; онъ имъ и сдѣлался. За нимъ послѣдовали, вокругъ него собрались люди нерѣшительные, постоянно относившіеся къ нему съ преданностью и восторгомъ. Къ повиновенію, которое ему оказывали, примѣшивалась своего рода признательность. Благодарили за его умѣренность человѣка, отъ природы къ ней несклоннаго,—благодарили его за то, что онъ посвятилъ на служеніе оборонѣ свои блестящіе боепые таланты; центръ былъ удивленъ и очарованъ, видя во главѣ себя такого прекраснаго вождя оппозиціи.
Что касается, задачи поставленной себѣ Гизо, то онъ не разрѣшилъ ея,—какъ это довольно часто бываетъ, — но и не отказался отъ нея совсѣмъ и никогда не терялъ ея изъ вида, кромѣ случая съ важной ошибкой, допущенной имъ въ дѣлѣ „коалиціи*1 1838 года. Задача была двойная: поддерживать традицію и развивать „свободу** въ томъ смыслѣ, какой онъ придавалъ этому слову, т. е., расширять свободу политическую. Это заставляло его вести параллельно какъ бы двѣ политики: политику „сопротивленія*1 и политику прогрессивнаго „освобожденія11, или* скорѣе предоставленія гражданамъ все бблыпей доли участія въ политическихъ дѣлахъ. „Сопротивленіе11 было тогда необходимостью. „Сопротивле-ніе** было не чѣмъ инымъ, какъ консервативной политикой; она необходима всегда, но превращается роковымъ образомъ въ политику сопротивленія на другой день послѣ переворота, когда въ странѣ всѣ преобразовательныя начала находятся въ состояніи кипѣнія и броженія и должны быть не только сдерживаемы, но и подавляемы для поддержанія или возстановленія традиціи. Гизо съ 1830 года, и особенно въ 1830 году, очень ясно понялъ, что въ этомъ заключается первая задача, самая необходимая, но и самая трудная. Онъ уже въ 1830 году былъ первымъ Казимиромъ Перье, предупредившимъ появленіе настоящаго. Правда, впослѣдствіи мнѣ придется назвать его запоздалымъ Казимиромъ Перье.
Не менѣе былъ онъ преданъ и другой части своей задачи, политикѣ свободы. Для него, какъ мы уже видѣли, свобода заключалась во все болѣе сильномъ проникновеніи въ государственныя дѣла частной иниціативы, во все большемъ устраненіи замкнутости государства для гражданъ.
Это какъ бы система прогрессивной вентиляціи и освѣженія воздуха,—система превосходная. Она и относится внимательно къ традиціи, и носитъ дѣйствительно либеральный характеръ. Она расширяетъ свободу гражданина, но параллельно усиливаетъ и его отвѣтственность, т. е. сдерживаетъ его, освобождая, сдерживаетъ самымъ способомъ освобожденія. Много разъ Гизо указывалъ на то, съ какимъ постоянствомъ либерально-консервативная партія слѣдовала этой системѣ съ 1816 по 1848 годъ, не торопясь, но и
— 204 —
не отступая назадъ послѣ разъ сдѣланнаго шага: „Всѣ великія учрежденія революціи и имперіи,.... какъ бы ни были они въ своихъ началахъ далеки отъ принциповъ и требованій свободы, могутъ примиряться съ'ними... Да, свобода можетъ проникнуть въ эти громадные механизмы, созданные имперіей для защиты и возстановленія власти... Было ли на свѣтѣ что-нибудь болѣе пригодное для усиленія власти, чѣмъ наше административное устройство, конституція VIII года, управленіе префектовъ, совѣты префектуръ, совѣть государственный? И что же? Мы ввели свободу въ нашъ величавый административный механизмъ. Выборные генеральные совѣты, выборные муниципальные совѣты, всѣ эти реальныя и жизненныя учрежденія привились къ административному строю, унаслѣдованному нами отъ имперіи. Свобода проникла туда съ выгодой для себя и съ пользой для власти*.
Вотъ либеральная сторона задачи Гизо. Нужно не отдалять гражданъ отъ государства, а напротивъ привязать ихъ къ нему, — привязать не бременемъ, налагаемымъ на нихъ государствомъ, но услугами, которыя они ему оказываютъ; нужно привязать гражданъ къ государству такъ, чтобы не оно тяготѣло надъ ними, а напротивъ они оказывали на него извѣстное вліяніе. Этой цѣли служатъ выборные муниципальные совѣты, выборные генеральные совѣты, мэры, избранные изъ среды муниципальныхъ совѣтниковъ, совѣщательныя комиссіи, участвующія въ трудахъ администраціи, изслѣдованіе важныхъ экономическихъ, промышленныхъ и земледѣльческихъ вопросовъ и т. д.
Цѣль здѣсь—урегулировать свободу. Нужно не обуздывать постоянно обнаруживающееся въ народѣ броженіе, — волненіе, порождаемое нуждами, стремленіями, страданіями, идеями, мечтами и химерами*, не слѣдуетъ даже пренебрежительно относиться къ выраженію, изліянію всего этого вь народныхъ рѣчахъ и въ декламаціяхъ прессы, а слѣдуетъ дать ему законный исходъ и правильную форму, допустить законное его выраженіе и тѣмъ побудить его выражаться спокойно. Вся задача и заключается въ переводѣ свободы изъ буйнаго состоянія въ нормальное и такимъ образомъ,— по крайней мѣрѣ на это можно надѣяться, — изъ состоянія безплоднаго въ плодотворное.
Мы видимъ, какъ Гизо старается разрѣшить вопросъ собственно объ административныхъ учрежденіяхъ. Въ дѣлѣ обученія, вопросѣ болѣе щекотливомъ, онъ пытается примѣнить подобные же пріемы и опираться на тѣ же принципы. Обученіе составляетъ задачу государства. Это одна изъ „громадныхъ машинъ*, завѣщанныхъ намъ имперіей. Такимъ ему и слѣдуетъ оставаться. Не мало времени потребуется на то, чтобы частная иниціатива могла замѣнять такую обширную и сложную организацію. Замѣтьте, въ этомъ случаѣ и „середина* требуетъ, чтобы обученіе оставалось дѣломъ государства. Частная иниціатива находитъ силу, связность и сред
— 205 —
ства, только подчиняясь крупнымъ „партіямъ", раздѣляющимъ націю,—это для нея естественный и почтя неизбѣжный способъ организаціи. Значитъ, частное обученіе будетъ проникнуто духомъ партіи; отнимая у словъ ихъ оскорбительный и грубый смыслъ, придется сознаться, что частное обученіе будетъ обученіемъ партійнымъ; оно будетъ, слѣдовательно, отличаться крайнимъ и безконечнымъ разнообразіемъ направленій; просвѣщая націю, оно будетъ вносить въ нее рознь.—Это не такъ уже плохо; передъ этимъ не слѣдуетъ отступать съ отвращеніемъ или ужасомъ; однообразіе въ обученіи вовсе не представляется идеаломъ; оно даже приводитъ къ умственному безсилію и оцѣпенѳнію и можетъ кончиться смертью,—и это въ дѣлѣ, требующемъ больше всякаго другого оживленія и жизненности. Но во всякомъ случаѣ, если полное однообразіе грозитъ большой опасностью, то нужно признать, что и безконечное разнообразіе представляетъ важныя неудобства.— А потому обученіемъ должно заниматься государство, для того, чтобы оно не сдѣлалось дѣломъ партіи или партій, не пріобрѣло оттого чрезмѣрнаго разнообразія и не явилось поэтому въ странѣ началомъ разъединяющимъ.
На практикѣ государство представляется въ сущности правительствомъ и является тоже партіей. Это неоспоримо, да иначе и быть но можетъ. Это—партія, составляющая большинство и потому пользующаяся властью. Но надо признать, что это, по крайней мѣрѣ, партія центральная. Она не можетъ быть партіей крайней, а если случайно и была ею, до полученія власти,—что бываетъ рѣдко,— то, достигнувъ ея, она становится болѣе умѣренной. Прибавьте къ этому, что корпорація, которой будетъ поручено обученіе, также будетъ имѣть свои традиціи, свое положеніе, свою устойчивость, а кромѣ того будетъ находиться въ постоянныхъ сношеніяхъ со среднимъ классомъ націи, постоянно смѣшиваться съ нимъ, и эти сношенія все болѣе будутъ склонять ее къ „золотой серединѣ" и къ серединному положепію.
По всѣмъ этимъ причинамъ традиція, устойчивость, золотая середина, самъ здравый смыслъ и практическій разумъ требуютъ, чтобы обученіе было дѣломъ государства. Но и у свободы, въ интересахъ самого государства, ость также и здѣсь свои требованія. Неужели же,[изъ всѣхъ упомянутыхъ нами крупныхъ государственныхъ механизмовъ, одно обученіе останется закрытымъ установленіемъ, не допускающимъ содѣйствія или по крайней мѣрѣ доступа частной иниціативы? Эта сторона дѣятельности государства'можетъ конечно легче всего оказываться гнетущей, такъ какъ она воздѣйствуетъ на умы и души, и притомъ на умы и души еще мягкіе и гибкіе; неужели же только здѣсь государство сохранитъ, какъ и въ арміи, всемогущество, ничѣмъ не умѣряемое? Это представляется вполнѣ необходимымъ, такъ какъ трудно допустить вмѣшательство сюда избирательныхъ совѣтовъ и комиссій. Школа
— 206 —
не должна быть замкнутой; она должна быть широко открытой и не избѣгать надзора отповъ семей; но она не можетъ зависѣть отъ него. Съ высшей и до низшей ступени она должна подчиняться общей мысли, единому плану, который можетъ быть составленъ только наверху. Она имѣетъ цѣлью „воспитывать" націю, поднимать ее, болѣе или менѣе, по силѣ возможности, до высоты, достигнутой высшими умами страны; поэтому она должна сообразоваться съ общимъ планомъ, задуманнымъ и начертаннымъ наиболѣе опытными и высоко-поставленными умами.—Самое большее, что можно допуститъ, по моему,—п въ этомъ я согласенъ съ общими принципами Гизо,—это, что на самомъ верху, въ высшемъ совѣтѣ, руководящемъ судьбами обученія и надзирающемъ за ходомъ его, полезно присутствіе отцовъ семействъ, избранныхъ совокупностью отцовъ семействъ всей націи; эти представители будутъ здѣсь совѣщаться, излагать свои взгляды, желанія и жалобы, а также получать свѣдѣнія и отдавать себѣ отчетъ, наставлять другихъ и наставляться сами.—Но даже и это не давало бы удовлетворенія принципу и потребности свободы. Значитъ, въ дѣлѣ обученія свобода не можетъ организоваться, такъ сказать, внутри, въ самомъ государственномъ учрежденіи. Ей остается организоваться внѣ государства. Этому надо покориться, и Гизо съ большою прямотою и мужествомъ остановился на этомъ.
Свобода обученія была занесена въ хартію 1830 года. Въ 1833 году Гизо ввелъ ее въ первоначальное обученіе. Къ этому вопросу онъ возвращался нѣсколько разъ въ парламентскихъ преніяхъ съ точки зрѣнія другихъ ступеней обученія. Въ 1836, въ 1841, въ 1844, въ 1846 годахъ онъ то поддерживалъ, то предлагалъ, смотря по тому, былъ онъ министромъ или депутатомъ, эту важную и щекотливую реформу, всегда приводя въ защиту ея все тѣ же знакомые намъ доводы. Онъ всегда становился скорѣе на точку зрѣнія государства и его блага, чѣмъ на точку зрѣнія отвлеченнолиберальнаго принципа и правъ человѣка. Онъ всегда смотрѣлъ на свободу какъ на причину успѣховъ самого государства, всегда говорилъ: свобода это просто извѣстное количество личной иниціативы, которая быта бы потеряна для государства при чисто неограниченной системѣ правленія; допуская ея существованіе, мы заставляемъ ее въ ея конечныхъ результатахъ невольно обращаться на пользу государства. Напримѣръ, при настоящемъ порядкѣ, мы говоримъ: „Примѣненіе конкуренціи, видъ свободы послужитъ на благо государству, государственнымъ учрежденіямъ и даже руководящему ими правительству".
Въ своемъ чудномъ законѣ 1833 года о начальномъ образованіи, въ сущности положившемъ начало послѣднему во Франціи, Гизо представилъ какъ бы уменьшенное изображеніе и первый очеркъ этой системы будущаго національнаго образованія. Въ центрѣ государство даетъ образованіе, согласное съ понятіемъ о немъ цен
— 207 —
тральной партіи страны. Лѣвое и правое крыло пользуются свободой обученія, но все таки находятся подъ надзоромъ государства и обязаны уважать общественную мораль и конституцію съ ея законами.
Начальное обученіе свободно; его можетъ производить каждый человѣкъ, доказавшій достаточную для этого подготовку; такимъ образомъ образованіе распространяется по всей странѣ людьми, у которыхъ есть къ этому охота. Государство наблюдаетъ за нимъ только съ точки зрѣнія соблюденія законовъ и нравственности.— До нѣкоторой степени въ серединѣ этого обученія стоитъ въ качествѣ образца, примѣра и руководителя обученіе, предоставляемое государствомъ; оно ничуть не стѣсняетъ частной иниціативы, 8 мирно живетъ рядомъ съ ней и имѣетъ своею главною цѣлью проникать туда, куда не можетъ или не смѣетъ идти частный починъ.— Это образованіе, хотя оно дается правительствомъ, представляющимъ тоже партію, не имѣетъ и стремится изо всѣхъ силъ не имѣть ничего общаго съ партійнымъ обученіемъ; оно прямо получаетъ приказъ—не задѣвать ни одного мнѣнія, а для этого—не затрогивать ни одного современнаго вопроса, ни одного спорнаго пункта,—Это обученіе преставляетъ собой скорѣе государство, чѣмъ правительство; являясь въ нѣкоторомъ родѣ отраженіемъ и представителемъ государства, оно, съ одной стороны, находится въ опредѣленныхъ отношеніяхъ съ народными властями (мэрами, общинными совѣтами), а, съ другой, заключаетъ съ церквами нѣчто вродѣ конкордатовъ, позволяющихъ имъ проникать въ него для преподаванія своихъ догматовъ, но не допускающихъ съ ихъ стороны захватовъ.—Наконецъ, хотя обученіе это нарочно слито съ народомъ и погружено въ него, но всетаки оно знаетъ, что найдетъ всегда покровительство и защиту у власти, если эти многосложныя и щекотливыя отношенія со всѣмъ окружающимъ приведутъ къ затрудненіямъ и столкновеніямъ.—Вотъ главныя черты закона. 1833 года, задуманнаго въ духѣ крайняго великодушія, либерализма, пожалуй даже оптимизма. Онъ проникнутъ вѣрою въ здравый смыслъ націи и даже простого народа, далеко не всегда вдохновлявшею Гизо,— внушенъ духомъ гражданскаго и религіознаго мира, терпимости и свободы, приносящимъ величайшую честь автору закона; притомъ законъ этотъ сохранился и своимъ успѣхомъ доказалъ здравый смыслъ, твердость и широту ума, его задумавшаго. За отсутствіемъ всего другого, одного этого было бы достаточно, чтобы спасти нмя Гизо отъ забвенія.
Вотъ что мы называли либеральной политикой Гизо и его партіи. Это была высокая и прекрасная политика, и 1846 годъ, какъ мы видѣли, доказалъ, что до конца Гизо не думалъ отказываться отъ этой части своей задачи.
Въ копцѣ концовъ его однако почти всецѣло поглотила другая
— 208 —
часть задачи — политика сопротивленія; эта политика сопротивленія и осталась его отличительной чертой въ исторіи.
Это объясняется многими причинами. Гизо являлся представителемъ политики „золотой середины11 какъ разъ въ такую эпоху современной исторіи, когда было всего труднѣе отыскать и сохранить эту „середину" и найти основаніе и поддержку для такой политики. Для правительства, вышедшаго изъ революціи, трудно не вдаться въ крайнюю покладистость или въ крайнее сопротивленіе. Надъ нимъ тяготѣетъ создавшая его революція; она принуждаетъ его или слѣдовать теченію, или же, ни въ чемъ не уступая ему, выказывать энергичное сопротивленіе. Передъ нимъ стоитъ только что возродившееся или ожившее революціонное право, проявившееся въ великомъ событіи.
Съ первыхъ же мѣсяцевъ существованія іюльской монархіи, Гизо очень удачно и остроумно опредѣлилъ положеніе вещей. Онъ сказалъ: у іюльской монархіи есть своя 14 статья. У хартіи 1815 г. была 14 статья, при неосторожномъ толкованіи уничтожавшая всѣ другія, такъ какъ она позволяла ихъ нарушать. У іюльской монархіи есть своя 14 статья. У ней есть своя хартія, своя конституція, свое опредѣленное и нормальное устройство, — и это прекрасно. А затѣмъ передъ нею оказывается только что примѣненное революціонное право народа; оно создало или приняло хартію 1830 года, провозгласило ее, но не считаетъ себя исчерпаннымъ и заявляетъ, что будетъ считать ее „за что нибудь", только пока ему это будетъ угодно. Въ 1815 году хартію даровалъ король; въ 1830 году утверждаютъ, что хартія была дарована народомъ. Въ эпоху реставраціи надъ хартіей тяготѣла, ей угрожала и этой угрозой подрывала ее власть ей предшествовавшая и стоявшая выше ея; надъ хартіей 1830 года, безпрестанно ее потрясая, тяготѣла создавшая ее высшая власть—народное установленіе. Въ обоихъ случаяхъ, это значитъ давать и удерживать,—вещь, несмотря на свою странность, вполнѣ естественная, такъ какъ, кто считаетъ себя' дарителемъ, думаетъ, что въ правѣ взять назадъ подарокъ.
Это было дѣйствительно затрудненіе, изъ котораго можно было выйти только посредствомъ много болѣе энергичнаго сопротивленія, чѣмъ то, въ какомъ нуждается правительство старое, съ неяснымъ и забытымъ происхожденіемъ. Вопросъ: „кто сдѣлалъ тебя королемъ?" представляетъ важность и даже просто значеніе только по отношенію къ королю, ставшему таковымъ со вчерашняго дня.—Въ сущности, съ практической точки зрѣнія, этотъ „первородный грѣхъ" — сущій пустякъ. Правительство представляетъ собою историческій фактъ. Оно почерпаетъ свою законность въ благѣ, которое приноситъ, въ услугахъ, которыя оказываетъ, въ способѣ выполненія своей задачи. Но въ преніяхъ, рѣчахъ, памфлетахъ и газетахъ, во всѣхъ словесныхъ состязаніяхъ, этотъ
— 209 —
„первородный грѣхъ" пріобрѣтаетъ необыкновенную важность, такъ какъ доставляетъ обильную пищу и содержаніе для бесѣдъ и разсужденій. Отсюда можно заключить, что правительство, вышедшее изъ революціи, не можетъ допускать обсужденія. Такъ оно и есть на дѣлѣ, и люди, совершающіе государственные перевороты, отлично это знаютъ. Это новое доказательство того общаго правила, что революціи всего менѣе пригодны для созданія либеральнаго правительства.—Итакъ, іюльская монархія, какъ и всякое другое правительство, вышедшее изъ революціи, вынуждено было не допускать обсужденія своихъ правъ. Но, къ чести своей, оно не соглашалось на это; отсюда то именно и возникало затрудненіе, являлась для него необходимость, допуская обсужденіе вопроса, дѣйствовать съ большою твердостью и настойчивостью.
Все это Гизо ясно понялъ съ самаго начала и не могъ не понимать, несмотря на весь свой либерализмъ. Онъ хорошо понялъ, что при такомъ положеніи необходимо создать въ центрѣ сплоченную, крупную группу рѣшительныхъ людей, которые немного бы разсуждали и не позволяли бы увлекать себя спорщикамъ. Его задачей было дисциплинировать партію центра, и онъ успѣлъ въ этомъ. Но онъ не замедлилъ скомпрометировать это полезное дѣло п отнять у него часть его значенія, сдѣлавъ крупную ошибку, признанную впослѣдствіи имъ самимъ. Несмотря на всю своюумѣрен-ность, непримиримый членъ центра остается непримиримымъ. Таковъ ужъ его характеръ; это цѣльный, рѣзкій, высокомѣрный человѣкъ, очень склонный дисциплинировать другихъ, но самъ недисциплинированный. Такимъ былъ Гизо въ 1838 году. Ради своихъ личныхъ антипатій онъ покинулъ свою партію и, чтобы свергнуть Молэ, подалъ ей примѣръ непослушанія, котораго не допускалъ по отношенію къ себѣ. Онъ присоединился къ парламентской коалиціи, послѣдствія которой, правда, доставили ему въ 1840 году власть, но которая, безъ всякаго сомнѣнія, потрясла самыя основы порядка, такъ какъ сбила съ толку консервативное мнѣніе. Въ 1840 году у Гизо снова оказалась подъ рукой еще вѣрная ему партія; но она прошла черезъ слишкомъ рѣзкое потрясеніе, чтобы сохранить всю свою сплоченность; и съ тѣхъ поръ основаніе, на которое онъ опирался, стало въ одно время и менѣе твердымъ и болѣе узкимъ. •?* м Ж’
Это происходило въ тотъ моментъ, когда къ указаннымъ выше первоначальнымъ затрудненіямъ присоединялись новыя, или старыя пріобрѣтали новый и болѣе серьезный характеръ. Эпоха эта представляетъ больше интереса для наблюдателя или историка, чѣмъ для государственнаго человѣка. Я думаю, не было еще времени. когда въ духовной жизни Франціи проявлялось больше раздѣленія и разіробленности, болѣе пыла въ стремленіи по различнымъ путямъ. XVIII вѣкъ съ его двумя крупными рѣзко разграниченными партіями, изъ которыхъ одна очень слаба, пре дота-
— 210 —
вляѳтся менѣе безпокойнымъ; реставрацію съ ея тремя партіями, но партіями почти исключительно политическими, не такъ неистово раздираетъ стремленіе въ противоположныя стороны. Царствованіе ЛуИ’Филиппа, и въ частности время съ 1838 по 1848 годъ, особенно отличается многообразіемъ мнѣній философскихъ, религіозныхъ, политическихъ, экономическихъ, „соціальныхъ", а также ихъ крайнею противоположностью. Это то, что, со свойственною ему рѣзкою манерою, Гизо очень вѣрно назвалъ „умственною анархіей".
Это несомнѣнно была анархія. Никогда еще, буквально, все такъ полно не подвергалось сомнѣнію. Нужно представить себѣ тысячу маленькихъ не Вольтеровъ и не Монтескьё, но Руссо, изъ которыхъ каждый хочетъ по своему передѣлать и пересоздать буквально все общество и весь міръ. Въ эту эпоху всѣ партіи становятся крайнимп. Тутъ и легитимисты, и ультрамонта-ны, и бонапартисты, и республиканцы, и соціалисты десяти раз-личныхь школъ. Всѣ они носятъ крайній характеръ: легитимисты оказываются абсолютистами, ультрамонтаны — іезуитами, бонапартисты— деспотистами, республиканцы—радикалами, соціалисты-мечтателями. Притомъ всѣ эти партіи допускаютъ самыя странныя примѣси, искажающія ихъ характеръ, но не умѣряющія его: легитимисты требуютъ всеобщей подачи голосовъ, ультрамонтаны — свободы обученія, бонапартисты ссылаются на французкую революцію, а республиканцы, подъ предлогомъ демократической пропаганды, проповѣдуютъ политику завоеваній. Это умственная анархія, а главное это полный разладъ.
Посреди всего этого, „золотой серединѣ," понятно, было много дѣла. Ей трудно уже просто опредѣлить себя, такъ какъ среди столькихъ противоположностей середины больше не существуетъ. Прибавьте, что всѣ эти различныя партіи имѣютъ къ своимъ услугамъ и краснорѣчіе, и фантазію, и литературныя достоинства, и политическіе недостатки, до крайности развитые романтизмомъ, и внушительный и благовидный философскій аппаратъ. Онѣ воспользовались огромной умственной работой и логической гимнастикой двухъ вѣковъ, богатыхъ ловкими и сильными полемистами, и развили свои способности къ отвлеченію до высшей степени. Всѣ онѣ опираются на принципы и съ чрезвычайною ловкостью выводятъ изъ нихъ всѣ заключенія. Между тѣмъ у „середины" нѣтъ принциповъ, и она открещивается отъ нихъ: это—партія положительная. Она стремится изучать факты и находить ихъ среднюю линію, чтобы править сообразуясъ съ тѣмъ, чего они требуютъ или что допускаютъ. Въ спорѣ это большое неудобство; а тогдашній строй допускалъ обсужденіе своихъ основъ. Въ сравненіи съ массою увлекательныхъ, грандіозныхъ и смѣлыхъ утвержденій, „середина" представляется очень блѣдной, тусклой и скромной. При такихъ условіяхъ единственно возможнымъ оказывается охранять
— 211 —
свое существованіе, а для этого нужно держаться политики сопротивленія, политики отрицательной. „Партія тумбъ" могла бы отвѣтить: „я стремилась быть партіей плотинъ".—Въ общемъ правительство должно конечно играть роль иниціатора и, отказываясь отъ нея, оно утрачиваетъ часть своего вліянія; но бываютъ случаи, когда ему чрезвычайно трудно взять на себя эту роль. Однимъ изъ такихъ случаевъ представляется тотъ, когда во всѣхъ отношеніяхъ иниціативу берутъ на себя рѣшительно всѣ. Тогда правительство обязано заявить твердо, пожалуй даже нѣсколько повелительно: „Прежде всего постараемся успокоиться". Съ 1840 по 1848 годъ Гизо могъ, подобно Вильгельму Оранскому, сказать: „Я поддержу", или скорѣе,—и уже это было не такъ маловажно,—„я удерживаю". Онъ принужденъ былъ ограничиться этою неблагодарною задачей и выполнилъ ее добросовѣстно, съ мужествомъ и краснорѣчіемъ, становившимся все болѣе сильнымъ, смѣлымъ и блестящимъ.
Всего сильнѣе возставалъ онъ противъ того, что называлъ „духомъ 91 года". Это былъ духъ революціи, являвшійся въ двухъ видахъ: броженія внутри страны и „вмѣшательства", пропаганды и войны за освобожденіе народовъ во внѣ. Въ періодъ съ 1820 по 1830 годъ возникло довольно странное чувство, гдѣ находило себѣ удовлетвореніе національное самолюбіе и пищу извѣстныя мистическія стремленія. Это была своего рода религія французской революціи. Этого чувства совсѣмъ нѣтъ у людей, настроеніе которыхъ сформировалось до 1820 года. Они смотрятъ на французскую революцію какъ на такой историческій періодъ, когда существовала масса очень различныхъ мнѣній, стремленій, идей и системъ; изъ этихъ системъ они принимаютъ одну, измѣняя и смягчая ее, сообразно складу своего ума. Но начиная съ 1825 года во многихъ, въ прочемъ иногда даже выдающихся, умахъ устанавливается привычка считать французскую революцію единой мыслью, чѣмъ то недѣлимымъ, любить ее и благоговѣть передъ ней въ ея общемъ и цѣломъ, безъ разбора, не различая въ ней ни эпохъ, ни разныхъ и даже противоположныхъ системъ.
Это явленіе умственной жизни, при всей своей странности, очень обыкновенно. Встрѣчаются же люди, которые находятъ возможнымъ быть одновременно сторонниками и Вольтера и Руссо. Точно также и культъ революціи относился съ одинаковымъ пыломъ и къ Мирабо, и къ жирондистамъ, и къ монтаньярамъ. Этому настроенію ума не вредило легкое невѣжество и сильно помогала извѣстная доля мистицизма. Когда идея, а особенно то, что никогда идеей не было, становится .чувствомъ, въ него могутъ входить противоположности, не исключая я не стѣсняя одна другую. Революція превратилась въ религію.
Съ этихъ поръ все, что ни сдѣлали революціонеры, стало казаться хорошимъ и достойнымъ возобновленія. Въ этомъ неясномъ
-212-
представленіи о революціонной эпохѣ смутно было замѣтно, что Франція проявляетъ большое безпокойство внутри и воинственность во внѣ.. Это то и былъ идеалъ, который инстинктивно хранили въ глубинѣ души и лелѣяли съ большимъ или меньшимъ увлеченіемъ всѣ люди, стремившіеся быть „передовыми",—одни съ большою искренностью, другіе съ риторской горячностью, третьи безъ убѣжденія, а просто уступая общему мнѣнію. По отношенію ко внутреннимъ дѣламъ обыкновенно говорили; „Мы ничего не дѣлаемъ, не двигаемся, не идемъ впередъ. Франція скучаетъ!" а по отношенію къ внѣшнимъ: „Франція уже не вождь народовъ. Она уже не волнуетъ міра, не страшитъ королей, не безпокоитъ Европы".
Та и другая политика представляли крайнія опасности, та и другая были еще опаснѣе по своей полной неопредѣленности; въ ту эпоху никто ихъ точно не опредѣлялъ. Та и другая составляли для Гизо предметъ постоянной заботы, опасеній и затрудненій, именно въ виду ихъ неустойчивости и неуловимости. Онъ боролся тутъ не съ теоріями, но съ извѣстнымъ состояніемъ ума, или скорѣе — состояніемъ души, которое, сначала понемногу, а потомъ сразу, могли устранить только время и наши несчастія. Для борьбы съ подобнымъ врагомъ Гизо прибѣгалъ къ упорному, мрачному и нѣсколько надменному сопротивленію, и, если не брать во вниманіе его полнаго пренебреженія, надо признать, что ему больше ничего и не оставалось дѣлать.
Что касается частнаго случая, послужившаго причиной или скорѣе поводомъ къ его паденію, что касается его противодѣйствія всякому расширенію избирательнаго права, то оно заслуживаетъ особаго разсмотрѣнія.
Возможно было двоякое расширеніе избирательнаго права; то и другое находили себѣ сочувствіе и сторонниковъ. Одно заключалось во введеніи всеобщей подачи голосовъ; другое состояло въ пониженіи податного ценза и въ присоединеніи къ нему образовательнаго. Первый способъ Гизо безусловно отвергалъ. Ничто не противорѣчило такъ всѣмъ его взглядамъ; ничто не противорѣчило такъ его системѣ управленія страною прп помощи средняго класса. Интересную вещь можно замѣтить теперь, впослѣдствіи: Гизо и не подозрѣвалъ, что всеобщее избирательное право могло не быть противно ни самому ему, ни человѣку, похожему на него, ни политикѣ подобной его собственной. Всеобщая подача голосовъ во Франціи преслѣдуетъ такія же консервативныя и миролюбивыя цѣли, какъ и Гизо. Нашему всеобщему голосованію, когда еп> предоставляютъ самому, когда его не обманываютъ,—чего конечно Гизо не сталъ бы дѣлать,—свойственна та же политика, которой слѣдовалъ и Гизо, политика охраненія основъ и мира во что бы то ни стало, политика вражды или пренебреженія къ отвлеченностямъ и мечтаніямъ, политика положительная и реальная.
— 213 —
Но такого характера всеобщаго голосованія не зналъ и не подозрѣвалъ тогда ни Гизо, ни кто другой. Только что упомянутое голосованіе, это—французскій крестьянинъ, а въ то время никто не обращалъ на него вниманія. Знали только крупную буржуазію, мелкую буржуазію и низшіе слои городского населенія. И друзья и противники всеобщаго голосованія думали, что оно отдастъ Францію въ руки рабочихъ. Въ то время слово „народъ" не имѣло другого значенія. Это то всеобщее голосованіе Гизо и отвергалъ изо всѣхъ силъ.
Если онъ заглядывалъ дальше.—чего я не думаю, но что возможно,—то онъ могъ считать крестьянина еще недостаточно просвѣщеннымъ закономъ 1833 года, чтобы быть въ состояніи управлять страной. Онъ могъ считать его консервативнымъ, разсудительнымъ, благонамѣреннымъ, но способнымъ легко поддаваться внѣшнему обману и соблазну. Онъ могъ думать, что подъ руководствомъ Гизо, Молэ, Тьера или Ламартина крестьянинъ будетъ вести разумную политику и служить отличной и непреодолимой преградой для духа мечтаній, опрометчивости и приключеній. Но онъ могъ также думать, что изъ духа консерватизма крестьянинъ станетъ поддерживать правительство въ высшей степени мечтательное и безразсудное. Гизо могъ предвидѣть имперію со всѣми ея послѣдствіями, и въ этомъ случаѣ его трудно упрекать за отрицаніе всеобщей подачи голосовъ.
Но и не прибѣгая къ гипотезамъ, а разсматривая положеніе въ цѣломъ, онъ считалъ нужнымъ идти шагъ за шагомъ; онъ думалъ, что внезапное появленіе невѣдомой силы, вродѣ всеобщаго голосованія, можетъ только вызвать въ странѣ страшное потрясеніе, и что устанавливать въ 1848 году всеобщее голосованіе дѣйствительно слишкомъ рано.—Онъ могъ думать также, возвращаясь къ своимъ общимъ началамъ, что. если бы и слѣдовало организовать всеобщую подачу голосовъ въ видѣ политическаго средства, то не слѣдовало бы предоставлять ей все. Всеобщая подача голосовъ, по крайней мѣрѣ во Франціи и при условіи, что ее не обманываютъ, служитъ, а по мѣрѣ того, какъ его труднѣе будетъ обманывать, станетъ еще болѣе элементомъ устойчивости. Всеобщее голосованіе не представляетъ собою начала прогресса, нововведеній, изобрѣтеній или ловкости. Оно не думаетъ и не имѣетъ времени думать; у него нѣтъ идей и оно не преслѣдуетъ цѣли. У него, собственно говоря, нѣтъ и воли, такъ какъ оно само не знаетъ, чего хочетъ, а знаетъ только то, чего не хочетъ. Его рѣшенія,—это можно провѣрить,—всегда носятъ характеръ протеста, отказа, предостереженія. Оно никогда не проситъ, а всегда что-нибудь да отвергаетъ; оно не указываетъ пути, а отказывается итти по указываемой дорогѣ.
Потому то такъ и необходимо знакомиться съ его настроеніемъ, такъ какъ во избѣжаніе взрыва или хотя бы крупныхъ обществен
— 214-
ныхъ безпокойствъ необходимо знать, чего не хочетъ народъ. Но у него нечего спрашивать, чего онъ хочетъ, такъ какъ онъ самъ этого не знаетъ; отъ него нечего требовать самоуправленія, такъ какъ онъ на это не способенъ. Въ хорошо устроенномъ государствѣ народъ, въ лицѣ своего представителя—палаты, долженъ былъ бы имѣть ѵеіо, а классамъ мыслящимъ, въ лицѣ ихъ представителя— палаты, принадлежала бы иниціатива. Итакъ, во всѣхъ отношеніяхъ всеобщее голосованіе должно было представляться Гизо съ исторической точки зрѣнія преждевременнымъ, асъ философской— несовершеннымъ.
Что касается ограниченнаго расширенія избирательнаго права, пониженія ценза податного и присоединенія къ нему образовательнаго, то у Гизо были важныя, хоть и носившія нѣсколько личный характеръ, основанія—отвергать также и эту менѣе радикальную реформу. Откуда исходила, кто посылалъ въ палату ту оппозицію, съ которой онъ такъ энергично боролся, — оппозицію исполненную или по крайней мѣрѣ затронутую „духомъ 91 года", мало имѣвшую противъ нѣкотораго броженія внутри и извѣстной революціонной пропаганды вовнѣ? Именно та второстепенная, буржуазія средняго достатка, та буржуазія „образованныхъ", которую хотѣли въ большемъ числѣ ввести въ классъ избирателей, какъ тогда выражались, въ „опредѣленную закономъ страну*. Эту второразрядную буржуазію Гизо находилъ, если не вполнѣ открытой, то очень сочувствующей „умственной анархіи"; этой буржуазіи Гизо боялся, если не больше, то столько же, сколько и всеобщаго голосованія.—Этотъ-то именно средній классъ, столь превозносимый имъ въ теоріи, Гизо на практикѣ находилъ тогда слишкомъ безразсуднымъ и увлекаемымъ опасными идеями. Появленіе его, по мнѣнію Гизо, разстроило бы ту партію центра, которую онъ съ такимъ трудомъ образовалъ и дисциплинировалъ, отняло бы значеніе у всей его работы, и онъ возставалъ противъ этого.
У него были вѣскіе доводы. Онъ обращалъ всеобщее вниманіе на то, что постепенное расширеніе избирательнаго права входило въ его идеи и въ его программу, но при условіи постепенности; что въ 1830 году было только 99000 политическихъ избирателей, а въ 1842 году уже 224000, и что такое прибавленіе въ двѣнадцать лѣтъ указывало на довольно быстрый ходъ реформы. Онъ указывалъ на то, что агитація въ пользу расширенія избирательнаго права представлялась очень поверхностной, и что страна, повидимому, нисколько не требовала этой реформы. Это было справедливо; правоту Гизо доказывали рѣчи самой оппозиціи. Оппозиція ставила въ упрекъ правительству „оцѣпенѣніе*1 страны; это было однимъ изъ общихъ мѣстъ ораторовъ эпохи. Въ то же время утверждали, что страна требуетъ большаго участія въ управленіи. Страна требуетъ этого не очень энергично, отвѣчалъ имъ Гизо:
— 215 —
вы же увѣряете, что она спитъ, желая упрекнуть меня въ допущеніи этого. Мнѣ ли вызывать въ ней волненіе, отсутствіе котораго вы оплакиваете?—Онъ особенно указывалъ на то, что за него стоитъ большинство въ парламентѣ, что онъ сообразуется съ настроеніемъ этого большинства, и это когда большинство склонятся на сторону реформы, оно замѣнитъ Гизо другимъ лицомъ, которое и проведетъ реформу.
Это были скорѣе хорошіе доводы, чѣмъ вѣскія основанія. Постараемся не судить по исходу,—это было бы слишкомъ легко,— и добросовѣстно перенесемся къ январю 1848 года. Мы замѣтимъ, что дѣйствительно агитація въ пользу реформы не отличалась глубиною, и что болѣе строгое правительство очень легко могло бы подавить ее; но въ то же время мы замѣчаемъ, что стремленіе къ преобразованію было довольно сильно. Въ послѣдній разъ, когда ставился вопросъ, въ февралѣ 1848 года (поправка Салландруза), за „реформу" было 189 голосовъ противъ 222. Въ палатѣ, гдѣ есть чиновники и гдѣ большинство было вышколено и дисциплинировано очень твердою рукой, тридцать голосовъ представляютъ лишь матеріальное большинство; если важная реформа имѣетъ за себя 189 голосовъ противъ 222, это доказываетъ, что она созрѣла.
Съ другой стороны, я совсѣмъ не понимаю, почему Гизо считалъ нужнымъ предоставить другому задачу выполненія требуемой такимъ образомъ реформы. Онъ достаточно былъ знакомъ съ дорогбй ему исторіей Англіи, чтобы знать, сколько разъ руководящій министръ становился во главѣ реформы, противъ которой долго возставалъ,— разъ признавалъ ее необходимой. Слѣдовало попробовать; это могло принести честь.—Но съ этимъ были связаны хлопоты, и потому то отчасти, мнѣ кажется, І'изо и отказался отъ этого. Въ приписываніи подобнаго мотива столь мужественному человѣку нѣтъ ничего удивительнаго. Гизо работалъ съ постоянно возраставшимъ пыломъ ѵже тридцать пять лѣтъ; уже восемь лѣть на немъ лежало почти все бремя управленія и еще болѣе почти все бремя преній. Мнѣ кажется, у него въ эту эпоху замѣтны нѣкоторые слѣды усталости. Усталость у энергичныхъ людей выражается извѣстнымъ раздраженіемъ и упрямствомъ.
Онъ возсталъ противъ реформы, и это конечно было несчастіемъ. Франціи не слѣдовало такъ быстро доходить до полной демократіи. Раньше, можетъ быть, ей слѣдовало испробовать республику; къ республикѣ Франція была много лучше подготовлена. Страна бываетъ вполнѣ подготовлена къ республикѣ, и въ сущности уже пришла къ ней, когда двѣ или три династіи оспариваютъ господство другъ у друга и имѣютъ за себя значительныя партіи. Въ этомъ случаѣ споръ разрѣшается очень просто—устраненіемъ всѣхъ династій. Въ этомъ отношеніи революція 1830 года созданіемъ лишней династіи только усиливала шансы республики, ускоряла на
— 216 —
ступленіе ея. Итакъ, съ 1830 года Франція явно стояла на пути къ республикѣ.
Она была также подготовлена и къ демократіи, но съ демократіей можно и должно было ждать. Постепенное расширеніе избирательнаго права было естественнымъ, надежнымъ и наиболѣе безопаснымъ пріемомъ. Постепенное установленіе во Франціи парламентской монархіи, очень похожей на нѣсколько аристократическую республику, или, смотря по требованію обстоятельствъ, — парламентской республики, все еще относительно аристократической, представлялось очевидно естественнымъ и разумнымъ переходомъ отъ абсолютной монархіи прошлаго къ чистой демократіи, повиди мому, служившей цѣлью будущаго.
Гизо могъ содѣйствовать этому переходу, и положеніе дѣлъ, даже парламентское положеніе, казалось, предписывало ему это. Если въ этой крупной исторической случайности нужно принимать въ разсчетъ личныя ошибки, то онъ отчасти виноватъ въ томъ, что произошло обратное хорошему, что Франція оказалась демократіей, раньше чѣмъ стала республикой. Брошенная въ 1848 году въ полную демократію, Франція, послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ республиканскаго управленія или скорѣе революціи, оставалась въ теченіе двадцати одного года, отъ 1849 до 1870 г., демократіей безъ республики и только тогда пришла къ установленію послѣдней. Вмѣсто того, чтобы республикѣ воспитать демократію, — нереспубликанская демократія воспитала республику. Послѣдствія этого даютъ себя чувствовать еще и теперь, и иногда жестоко.
Въ частности изъ этого вытекъ одинъ результатъ, надъ которымъ Гизо долженъ былъ размышлять среди уединенія и занятій своей старости. Дѣло въ томъ, что Франціей никогда не управляли средніе классы, постоянный предметъ предпочтенія Гизо. Они не управляли при немъ, хоть онъ и думалъ это. Онъ принялъ за нихъ нѣчто совсѣмъ другое. Съ 1815 по 1848 годъ Франціей правила аристократія. — Средніе же классы не управляли и послѣ Гизо, какъ ни надѣялись они на это, свергая его или, скорѣе, присутствуя при его паденіи. Ихъ обошли въ тотъ самый день, какъ онъ палъ. Исторія точно перескочила черезъ нихъ. 1848 годъ былъ для высшаго класса годомъ жертвъ, а для средняго—годомъ обмановъ. - Политическая мечта Гизо никогда не была осуществлена. Онъ самъ не осуществилъ ея, думая осуществить, и не видѣлъ осуществленія ея и послѣ своего паденія. Неизвѣстно, что дали бы эти столь прославленные средніе классы. Опыта не было; фактическаго доказательства не было дано.
Даже и въ наши дни не слѣдовало бы думать, что средніе классы при помощи обхода достигли этого преобладающаго положенія. Они принимаютъ большое участіе въ управленіи страной, потому что всеобщее голосованіе во Франціи значительнымъ большинствомъ какъ будто примкнуло къ нимъ. Между ними и крестьян-
— 217-
стромъ оказалось сродство. Но управляютъ не они; чрезъ нихъ управляетъ всеобщее голосованіе. Они правятъ косвенно, приноровляя свои взгляды ко взглядамъ сельскаго населенія; такимъ-то образомъ они управляютъ съ нѣкоторымъ стѣсненіемъ и неловкостью, по способу не вполнѣ согласному съ ихъ вкусами и собственными идеями.
Съ другой стороны, имъ принадлежитъ администрація, такъ какъ изъ нихъ выходятъ всѣ чиновники, и это статья важная; но все же завѣдовать дѣлами не значитъ управлять; это ясно видно на небольшой, но существенной разницѣ, отличающей характеръ собственно правительства отъ характера администраціи. На правительствѣ отражается характеръ среднихъ классовъ, принимающихъ во вниманіе чувства толпы и принужденныхъ постоянно сообразоваться съ ними. На администраціи отражается настроеніе среднихъ классовъ, независящее отъ этого подчиненія и относительно свободное отъ заботы объ этомъ. Такимъ образомъ, ни правительство, набранное изъ среднихъ классовъ, нп чиновники, также выходящіе изъ нихъ и завѣдующіе дѣлами, но не управляющіе страною, не представляютъ собою въ точномъ смыслѣ слова правящаго средняго класса.—Нѣтъ, опытъ произведенъ не былъ. Идеи Гизо не подверглись испытанію на практикѣ. Что дали бы средніе классы въ качествѣ правительства, осталось неизвѣстнымъ.
V.
Это былъ великій умъ, стѣсненный сильною волей. Это часто случается. Властный характеръ придаетъ уму, вмѣстѣ съ необъятной силой, ту прямоту, которую можно назвать преувеличенной въ томъ смыслѣ, что она нѣсколько искусственна. Мысль Гизо всегда представляется шире того, чѣмъ онъ позволяетъ ей быть. Всегда представляется, что онъ былъ бы великимъ философомъ, если бы не придавалъ своей философіи прямо практическаго характера,— великимъ историкомъ, еслп бы меньше принуждалъ исторію доказывать необходимость преобладанія среднихъ классовъ,—великимъ политическимъ теоретикомъ, если бы меньше принуждалъ свою теорію поддерживать его партію. Въ Гизо государственный человѣкъ подавляетъ мыслителя.—Онъ оставилъ философскія и религіозныя размышленія, отличающіяся намѣренною робостью благодаря своему благоразумію и не плѣняющія умъ, потому что они обращаются къ доброй волѣ. Онъ оставилъ историческія разсужденія, отличающіяся строгою послѣдовательностью и связью, но они производятъ такое впечатлѣніе, какъ будто слишкомъ связаны съ своей цѣлью, и ихъ единственнымъ основаніемъ является ихъ конечная цѣль.
Онъ оставилъ не столько политическую теорію, сколько теорію. управленія, отличающуюся возвышенностью, широтою и практич
— 218 —
ностью; очень жаль, что человѣкъ, задумавшій ее. какъ это всегда бываетъ, примѣнилъ ее на практикѣ, главнымъ образомъ, съ ея узкой стороны, столько же по своей винѣ, сколько по винѣ своихъ противниковъ, и скорѣе по винѣ противниковъ, нежели по своей.
Это былъ ораторъ, одаренный всѣми ораторскими достоинствами, кромѣ гибкости, все равно какъ его характеръ отличался всѣми достоинствами, кромѣ гибкости. Онъ возвысилъ славу французской трибуны послѣ всѣхъ великихъ ораторовъ революціонной эпохи и реставраціи. Его изложеніе отличалось плодовитостью, а діалектика сжатостью; перерывы вызывали у него великолѣпные скачки. Въ парламентскихъ преніяхъ онъ оказывался могучимъ и грознымъ противникомъ и гораздо болѣе крупнымъ писателемъ, чѣмъ въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ; онъ находилъ на трибунѣ не только полноту, достоинство и возвышенность слога, но и недостававшіе ему въ другихъ случаяхъ рельефность, блескъ и живость. Слѣдовательно его участіе въ активной политикѣ, съ точки зрѣнія литературной критики, не должно вызывать сожалѣнія.
Однако, если оно и возвысило въ одномъ отношеніи его литературную славу, то въ другомъ нанесло ей нѣкоторый вредъ. Эта ужасная парламентская жизнь, по собственному его признанію, черезчуръ поглощала его въ теченіе восемнадцати лѣтъ; онъ слишкомъ издалека и слишкомъ свысока изучалъ столь интересное и захватывающее умственное движеніе этого вѣка, „самаго занимательнаго въ исторіи**, по выраженію одного насмѣшливаго таланта, который въ качествѣ такового можетъ позволить себѣ насмѣшку. Гизо былъ знакомъ съ этимъ умственнымъ движеніемъ, онъ измѣрилъ и опредѣлилъ его грубо, но довольно мѣтко, назвавъ его „умственной анархіей**; но онъ не изслѣдовалъ и не анализировалъ его. Надо сознаться, что чтеніе его „Воспоминаній объ исторіи моею времени* обманываетъ ожиданія. Они оказываются больше воспоминаніями объ исторіи Гизо и его партіи. Они слишкомъ ограничиваются оградою парламентскаго зданія. Какъ Мемуары Сенъ-Симона представляютъ исторію коридоровъ Версаля, такъ Мемуары Гизо являются исторіей коридоровъ парламента. Очень жаль, что Гизо не далъ намъ ожидавшейся, почти обѣщанной Исторіи мысли въ XIX вѣкѣ, написанной историкомъ, философомъ и государственнымъ человѣкомъ. Гизо несомнѣнно не хватало извѣстной широты взгляда на все окружавшее его.
Онъ былъ послѣднимъ министромъ аристократическаго правленія и послѣднимъ вождемъ политической аристократіи во Франціи. Аристократія управляла Франціей только съ 1815 но 1848 годъ. У нея была въ это время аристократія разнородная и нѣсколько неожиданная; она состояла изъ обломковъ старой знати и изъ самой дѣятельной части высшей буржуазіи. Въ теченіе своего короткаго управленія эта аристократія не унизила своего достоин
—-219 —
ства. Она выказала проницательность, благоразуміе, осторожность, большой патріотизмъ, заботливость объ общемъ благѣ, и, по сравненію съ другими аристократіями, о которыхъ говоритъ намъ исторія,—большое безкорыстіе. Она проявила первостепенные административные таланты и можетъ гордиться такими представителями, какъ Луи, Гувіонъ Сенъ-Сиръ, Тьеръ и Гизо. Въ общемъ ея политика носила очень положительный и матеріальный характеръ, относилась очень внимательно къ фактамъ, была отлично освѣдомлена на счетъ силъ человѣка и очень берегла силы страны; наконецъ, она если и позволяла себѣ быть краснорѣчивой, то не имѣла ничего декламаторскаго. Она совсѣмъ не старалась „совершать великія дѣла* и такъ мало гналась за рыцарствомъ, что ей нерѣдко ставили въ упрекъ отсутствіе шарлатанства. Ея либерализмъ отличался нѣкоторою робостью, но и несомнѣнною добросовѣстностью. Она любила свободу совѣсти, свободу мысли, свободу преній и самыя пренія. Несмотря на свои колебанія п антипатіи, она была настолько либеральна, что послѣ нея стало труднымъ спокойное примѣненіе деспотизма.
Но у этой аристократіи были и важные недостатки. По своей молодости она была лишена традицій и опредѣленныхъ общихъ идей. Эти общія идеи ей хотѣли дать Ройе Колларъ и Гизо; первый придалъ имъ характеръ утонченности и отвлеченности, второй старался сдѣлать ихъ простыми и удобопонятными, чтобы онѣ были приложимы на дѣлѣ. — При ея разнородности, ей не хватало сплоченности; но это только отчасти, и въ очень слабой степени, обусловливалось ея разнородностью, а гораздо больше—причинами, связанными съ характеромъ французовъ и съ примѣняемой ею системой управленія. Нужно замѣтить, что если въ ней и проявлялось сильное раздѣленіе въ то время, какъ ей слѣдовало держаться въ крѣпкомъ единеніи, то это не было раздѣленіе по классамъ, при которомъ знать, напримѣръ, борется съ крупной буржуазіей.—а борьба отдѣльныхъ личностей и группъ. На ней не было замѣтно слѣдовъ ея разнородности; но была замѣтна, и дѣйствительно отличала ее, присущая французамъ недисциплинированность; а парламентское правленіе съ его постоянной борьбой въ трехъ шагахъ и лицомъ къ лицу только содѣйствовало развитію этого природнаго недостатка. Эту то не хватавшую дисциплину и старался дать ей Гизо, прилагая къ тому усилія до того энергичныя, что они перешли черезъ край.
Наконецъ, она недостаточно обращала вниманіе, правда, не на нужды, а на чувства толпы. Она не организовала и даже не думала никогда организовать систему совѣщаній съ народомъ,—чтд абсолютно необходимо для всякаго аристократическаго правленія. Она не подумала отыскать способъ—постоянно или періодически точно узнавать, на что надѣется и жалуется, о чемъ думаетъ или мечтаетъ народъ; а это такая вещь, знать которую всегда необхо
— 220 —
димо. Она ограничивалась справедливымъ правда утвержденіемъ, что является самой открытой въ свѣтѣ аристократіей, доступной для всѣхъ при помощи труда. Это было вѣрно; но этого недостаточно: для аристократіи необходимо быть не только открытой, но и освѣдомленной.
Въ общемъ итогѣ, она выполнила свою задачу добросовѣстно, ловко, мужественно и успѣшно. Въ исторіи Франціи она занимаетъ очень важное и почетное мѣсто. Гизо былъ ея послѣднимъ, но не слабѣйшимъ представителемъ. Онъ руководилъ ею, старался ее дисциплинировать, помогалъ ей совершить нѣсколько великихъ дѣлъ, принесъ ей честь. Она пала вмѣстѣ съ нимъ; это значило пасть съ благороднымъ знаменосцемъ. Боги, безъ сомнѣнія, должны были воздать „честь тѣни подобнаго человѣка*; въ своемъ паденіи онъ увлекъ за собой аристократическое правленіе.
Изданія И. А. Баландина:
В. Г. БгЬлинскій ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
4 тома цѣна 2 руб. 50 коп.
Печатаются и въ скоромъ времени выйдутъ въ свѣтъ слѣд. книги: Вейнгартенъ. Исторія Революціонныхъ Сектъ Англіи. Переводъ подъ редакціей Н. Н. Шамонина.
Сизервнъ. Джонъ Рескинъ и Религія Красоты.
Джонъ Рескинъ. Полное собраніе сочиненій. Перев. Л. П. Никифорова.
БИБЛІОТЕКА ДЛЯ САМООБРАЗОВАНІЯ,
ИЗДАВАЕМАЯ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ
А. С. Бѣлкина, проф. II. Г. Виноградова, проф. М. И. Коновалова, П. Н. Милюкова, П. И. Новіородцева, Е. И. Орловой, В. Д. Соколова и проф. А. II. Чупрова.
Изданіе Т-ва И. Д. СЫТИНА.
ВЫШЛИ В Ъ С В т. Т Ь:
I. Проф. В. Минто. Дедуктивная и индуктивная логика. Перев. С. А. Котляревскаго, подъ редакціей В. Н. Ивановскаго. ХХІѴф-542. Ц. 1 р. 75 к. 3-е изданіе.
Книга эта Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія рекомендована для фундаментальныхъ ^^ученическихъ, старшаго возраста, библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, а Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ рекомендована къ употребленію въ Духовныхъ Семинаріяхъ въ качествѣ полезнаго пособія при преподаваніи логики. П. Исторія Греціи со времени Пелопонезской войны. Сборникъ статей, пе рев. подъ редакціей Н. Н. Шамонина и Д. М. Петрушевскаго. Вып. I. XXVII-|—151-|-IV. Вып. II. XX4-502-]-VI. Ц. за оба вып. 3 р. 50 к.
Оба выпуска этой книги Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія одобрены для ученическихъ библіотекъ вслъѵъ среднихъ учебныхъ заведеній (мужскихъ и женскихъ) старгиаго возраста. Учебным >' Комитетомъ по учрежденіямъ Императрицы Маріи одоірены для фундаментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.
Ш. Римская имперія. Сборникъ статей въ переводѣ А. С. Милюковой ХХ-|-667. Ц. 2 руб. 50 коп.
IV. И. Ремсенъ. Введеніе къ изученію органической химіи. Перев. И. С. Дрентельна, съ измѣненіями и дополненіями проф. М. И. Коновалова. ХХѴІІ-ф517. Ц. 1 р. 75 коп. 2-е изданіе.
V. Г. Шенбергъ. Положеніе труда въ промышленности. Перев. М. Соболева, подъ редакціей проф. А. И. Чупрова. ХІІф-ЗЭІф-ѴІ. Ц. 1 р. 60 к.
VI. Кукъ. Новая химія. Перев. А. В. Алехина, подъ редакціей проф. М. И. Коновалова. ХХХІ[-}-4654-Ѵ1П. Ц. 1 р. 75 к.,
VII. Б. Н. Чичеринъ. Политическіе мыслители древняго и новаго міра. Вып. I. XI\-[-469. Вып. II. 433. Ц. за оба вып. 3 руб. 50 коп.
IX. М. Ферворнъ. Общая физіологія. Перев. проф. М. А. Мензбира и пр.-доц. И. А. Иванцова. Вып. I. ХХ4-518; Вып. II. ѴІ4-574. Ц. за оба вы. 4 р.
X. Ф. Регельсбергеръ. Общее ученіе о правѣ. Перев. И. А. Базанова, подъ редакціей проф. 10. С. Гамбарова. ХІѴ4-296. Ц. 1 р. 40 к.
XI. Макъ-Кендрикъ и Снодграсъ. Физіологія органовъ чувствъ. Перев. И. В. Гороховина. ХХ4-413. Ц. 1 р. 75 к.
XIII. Русская исторія съ древнѣйшихъ временъ до Смутнаго времени. Сборникъ статей, изд. подъ редакціей В. И. Сторожева. Вып. I. ХХѴІ4-658. Ц. 2 р. 75 к.