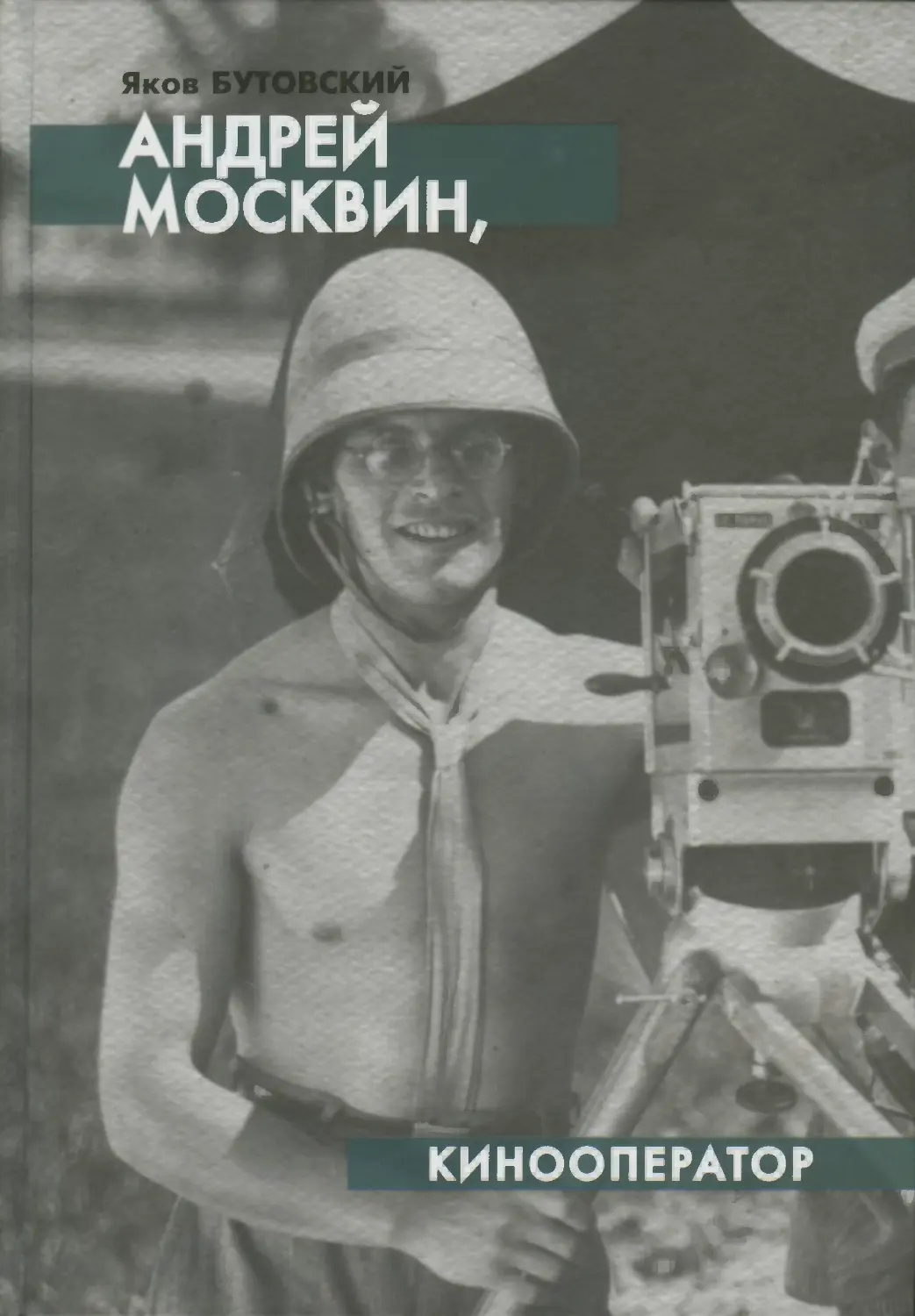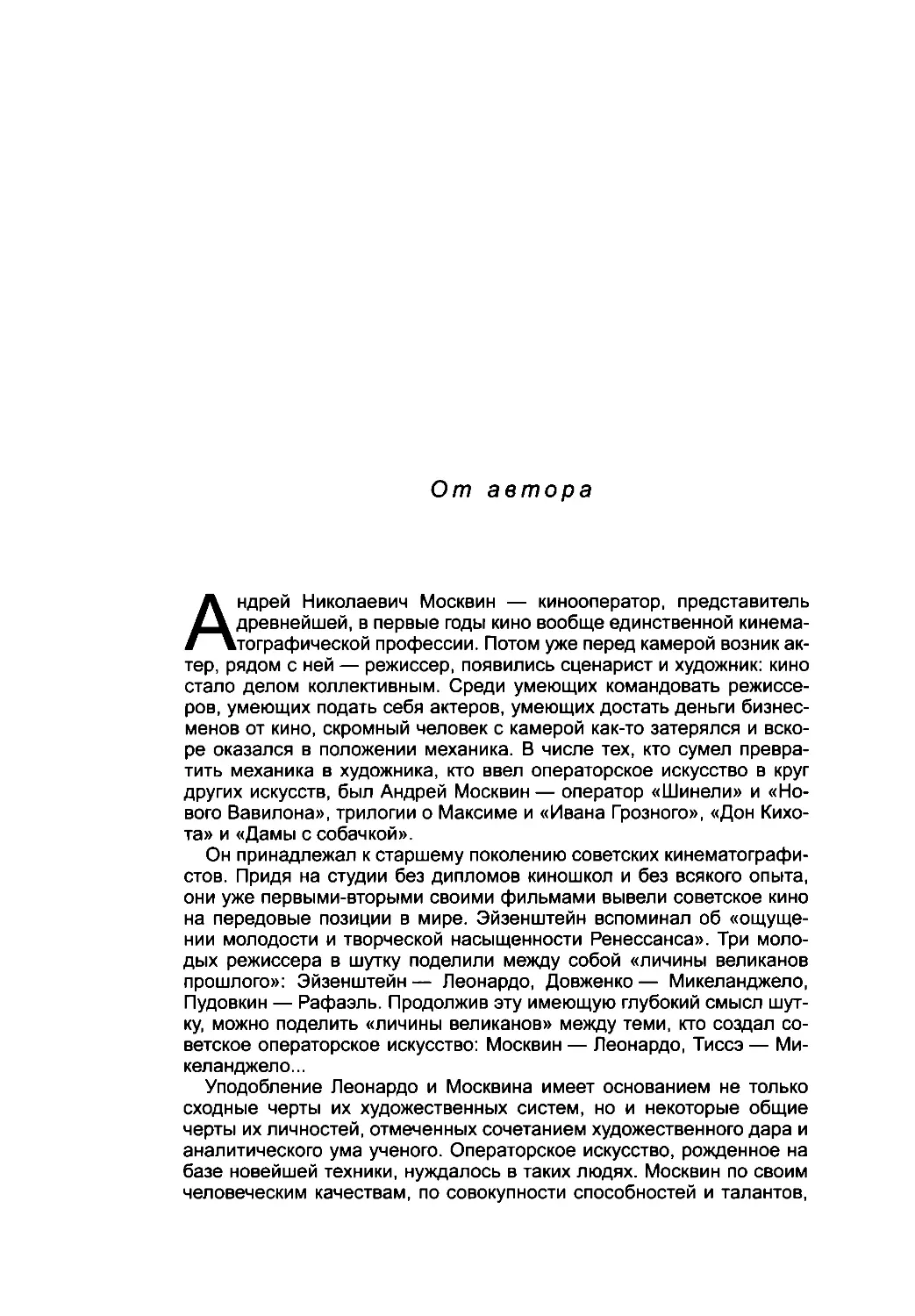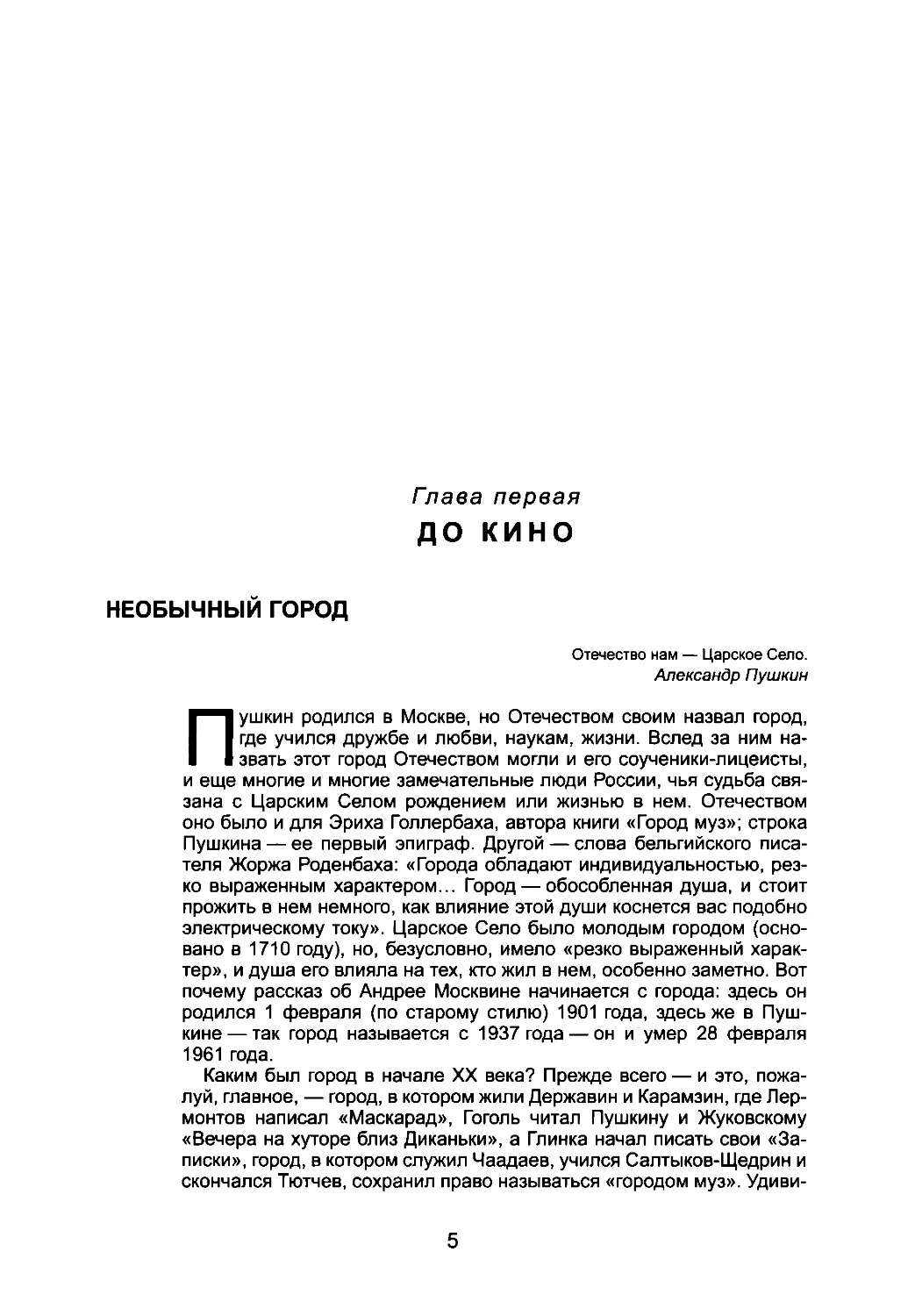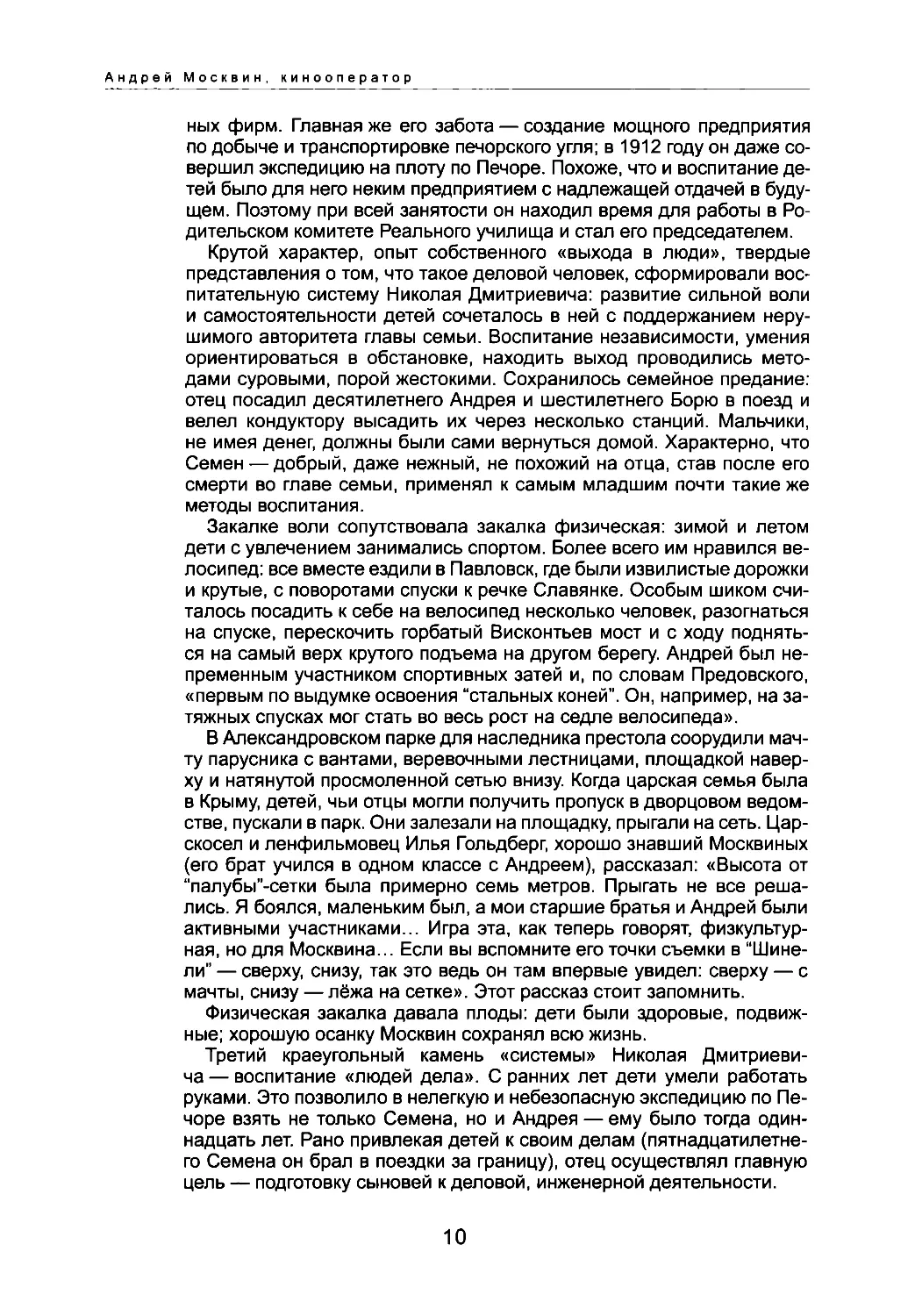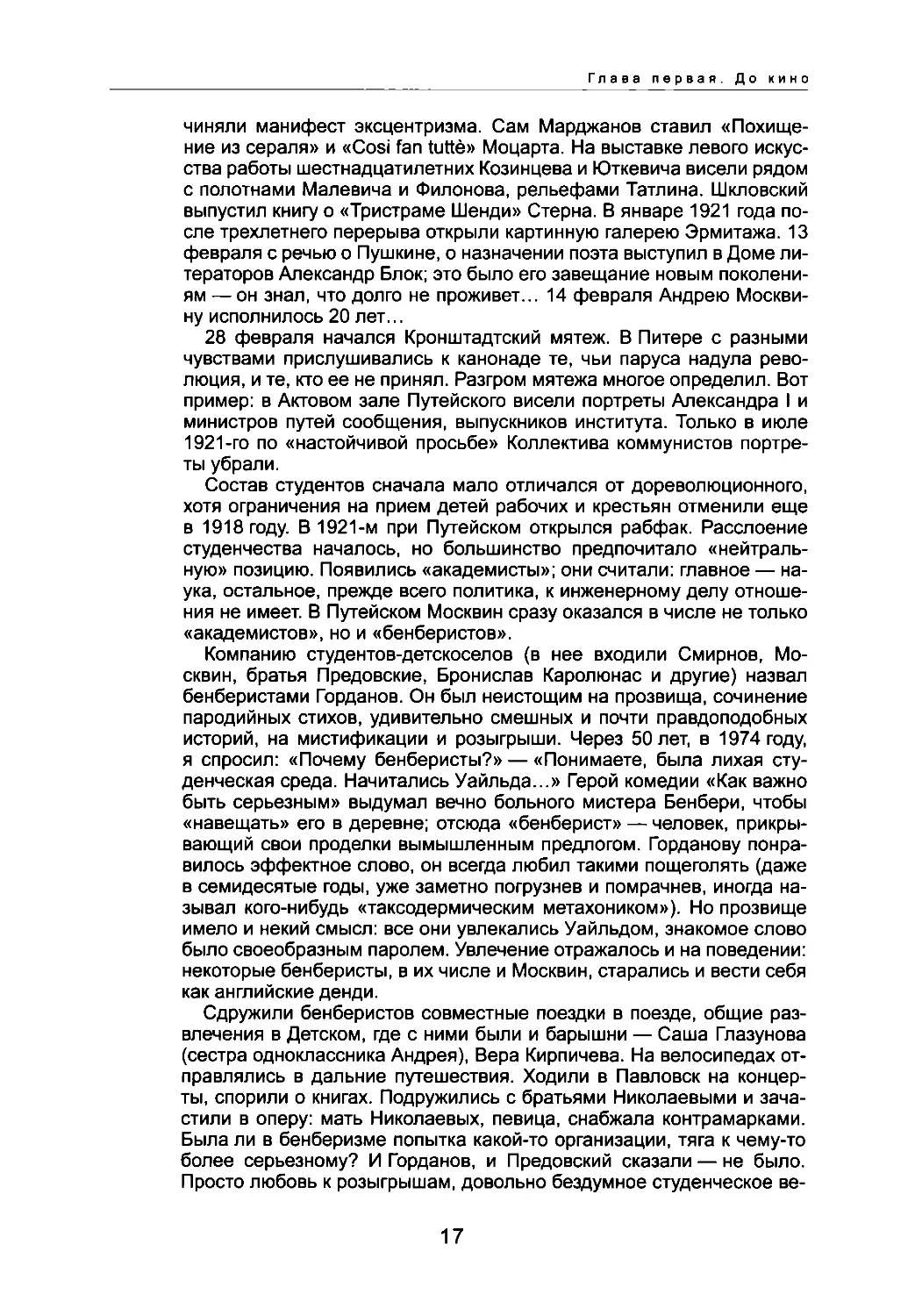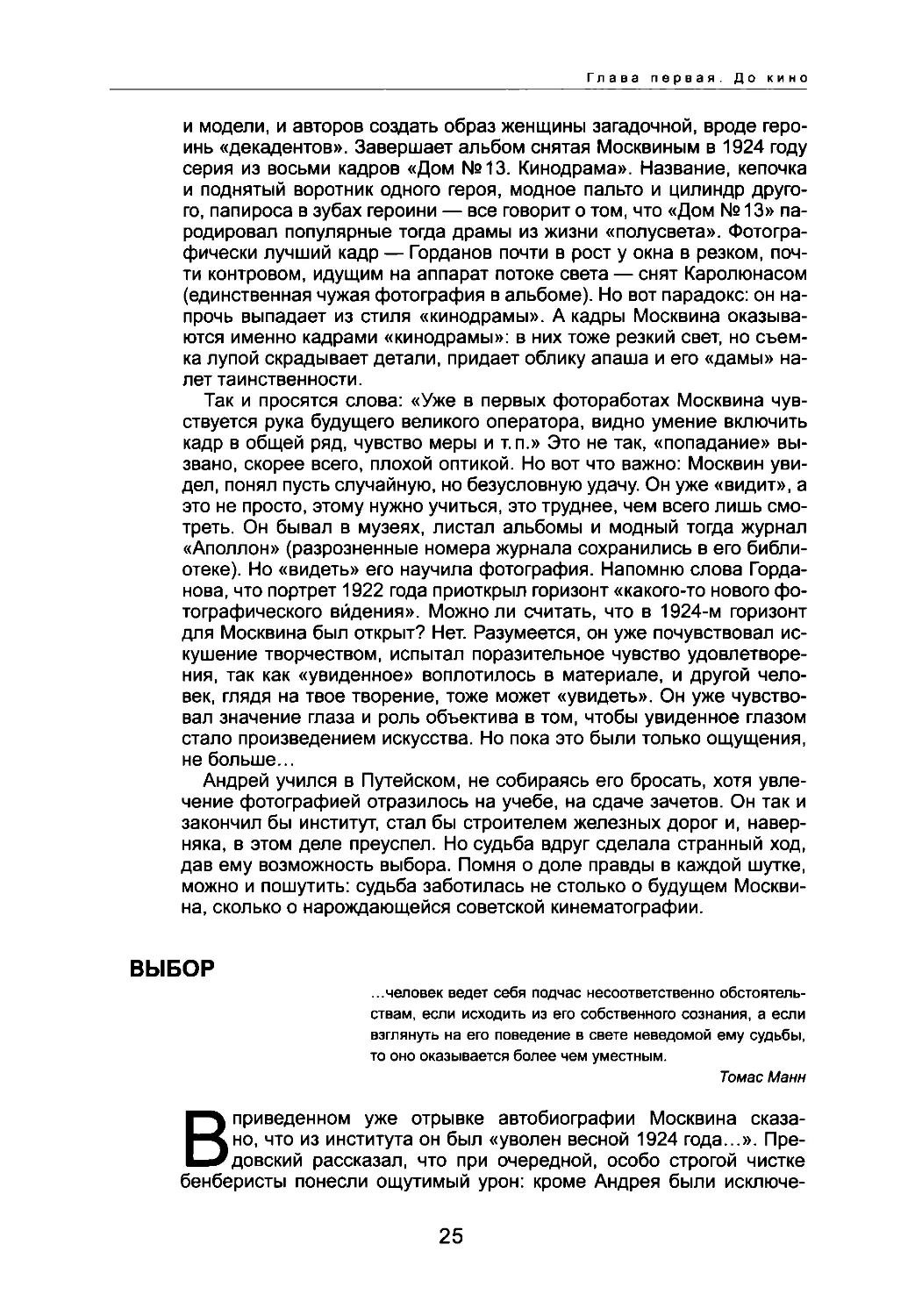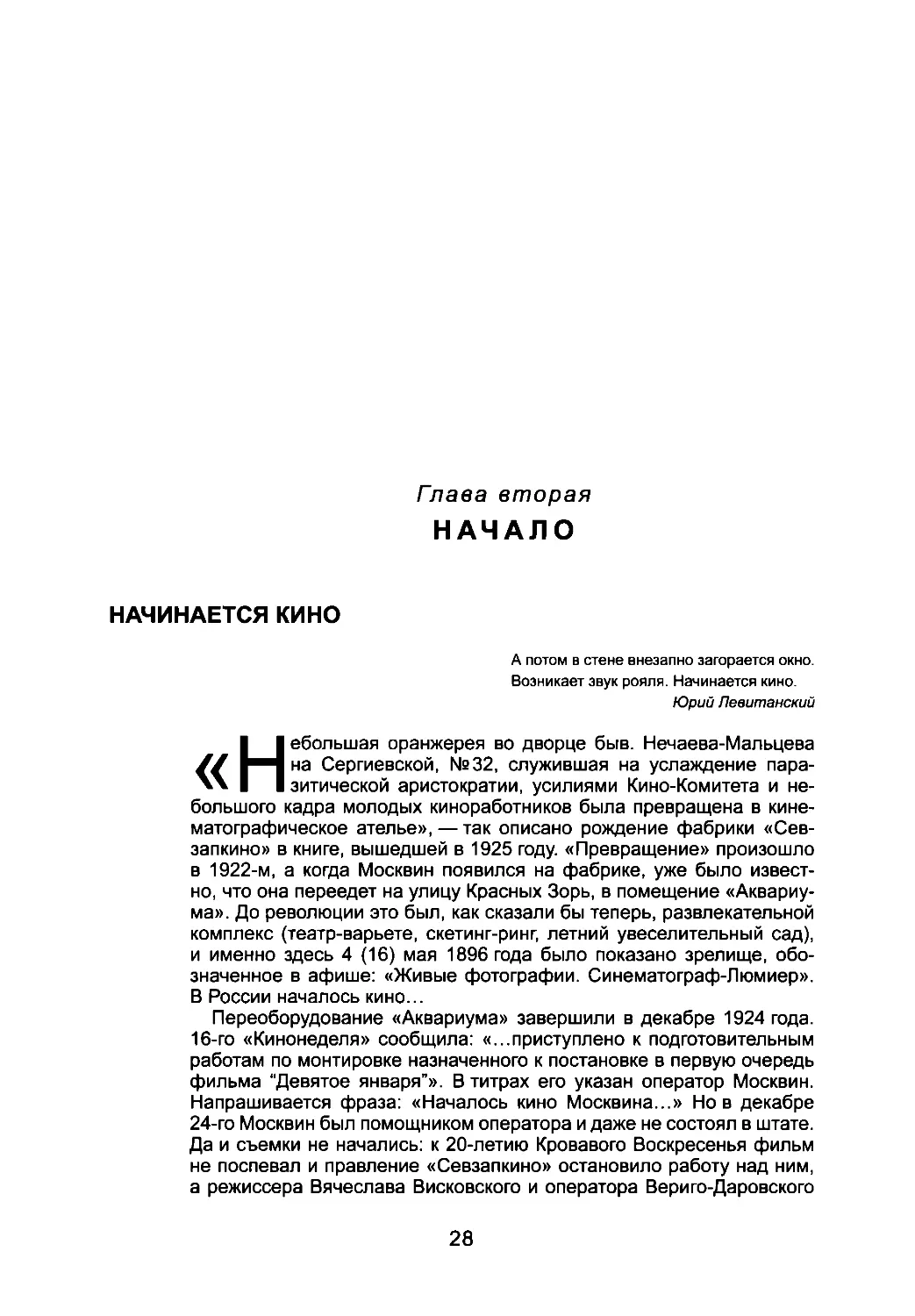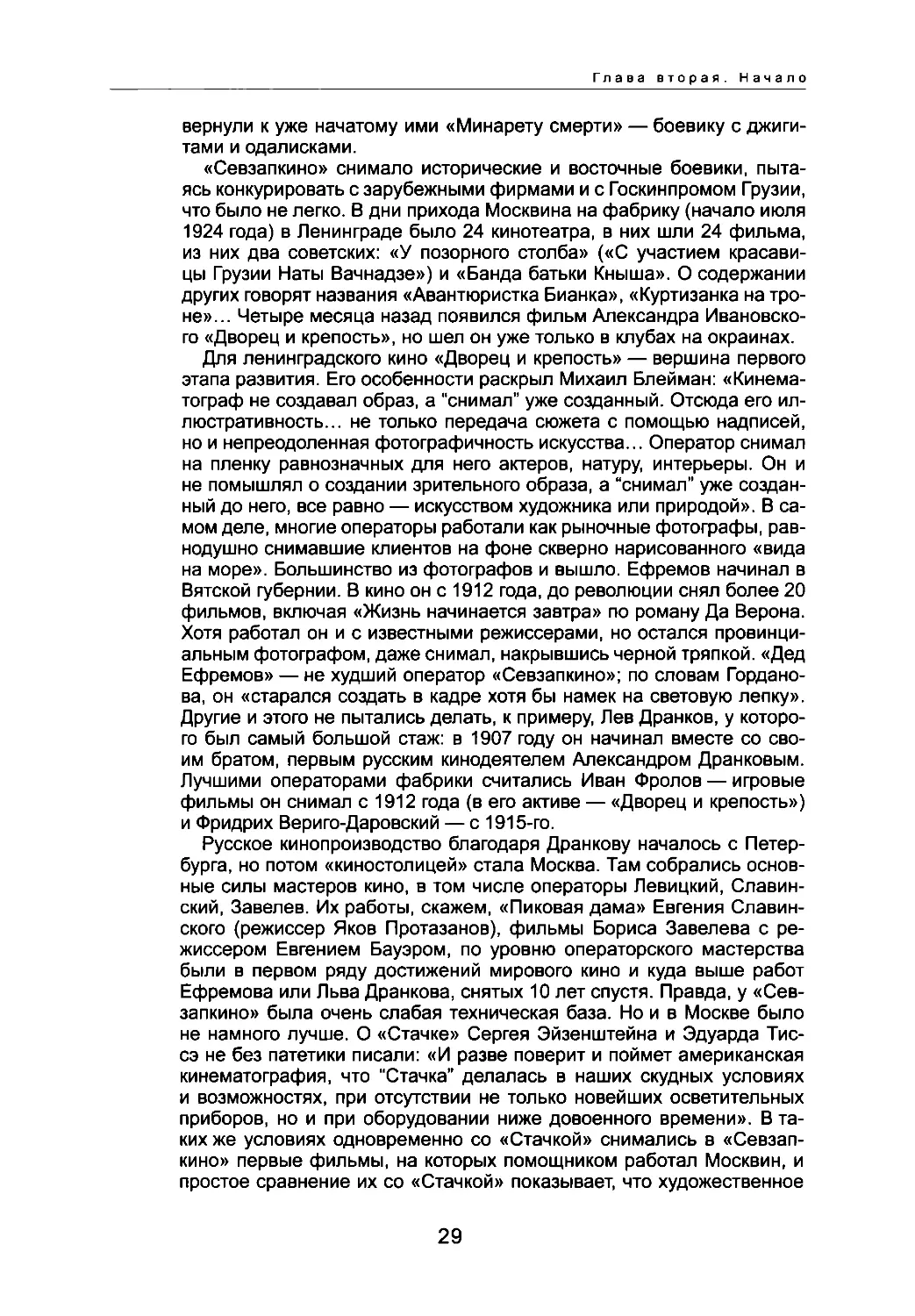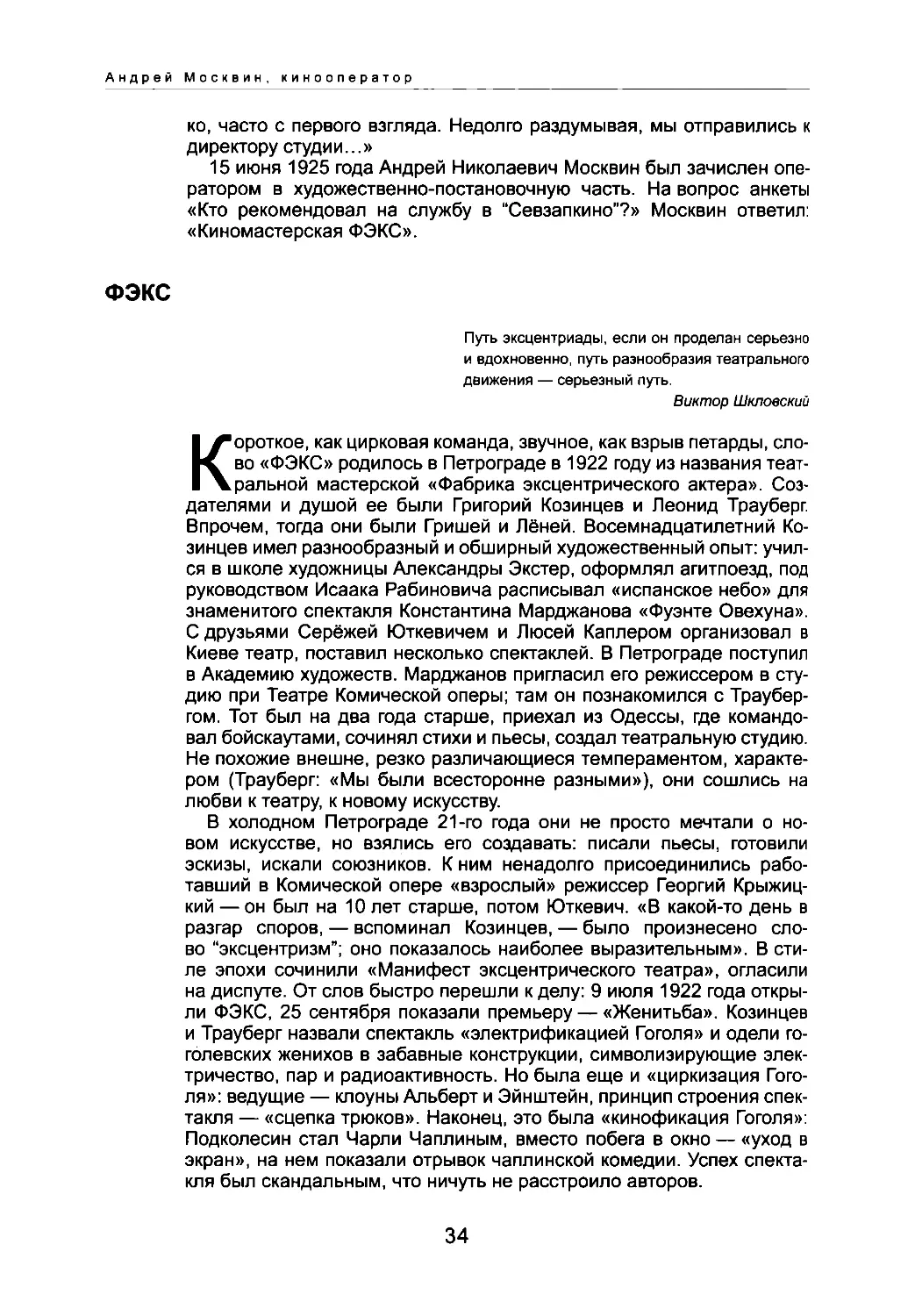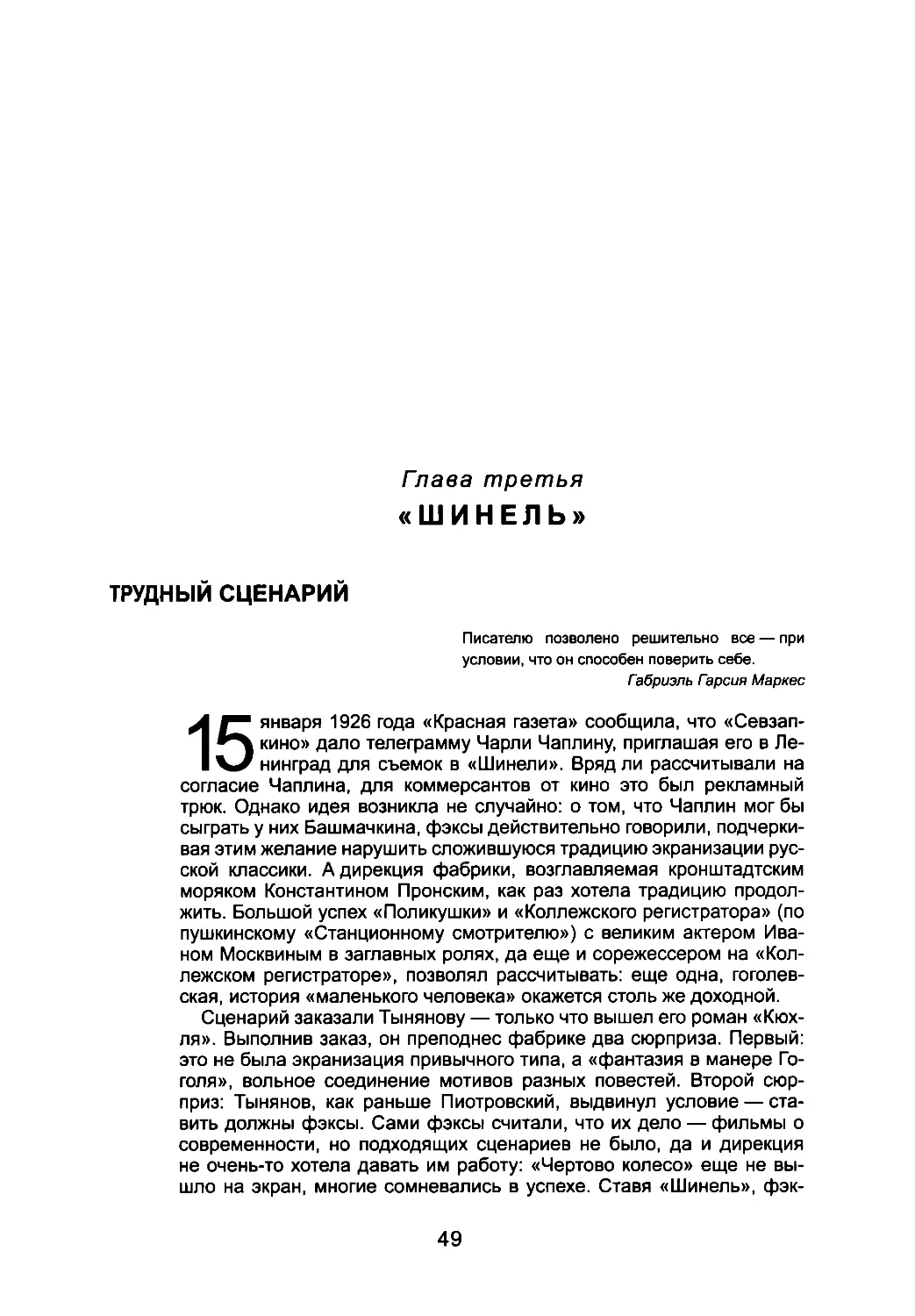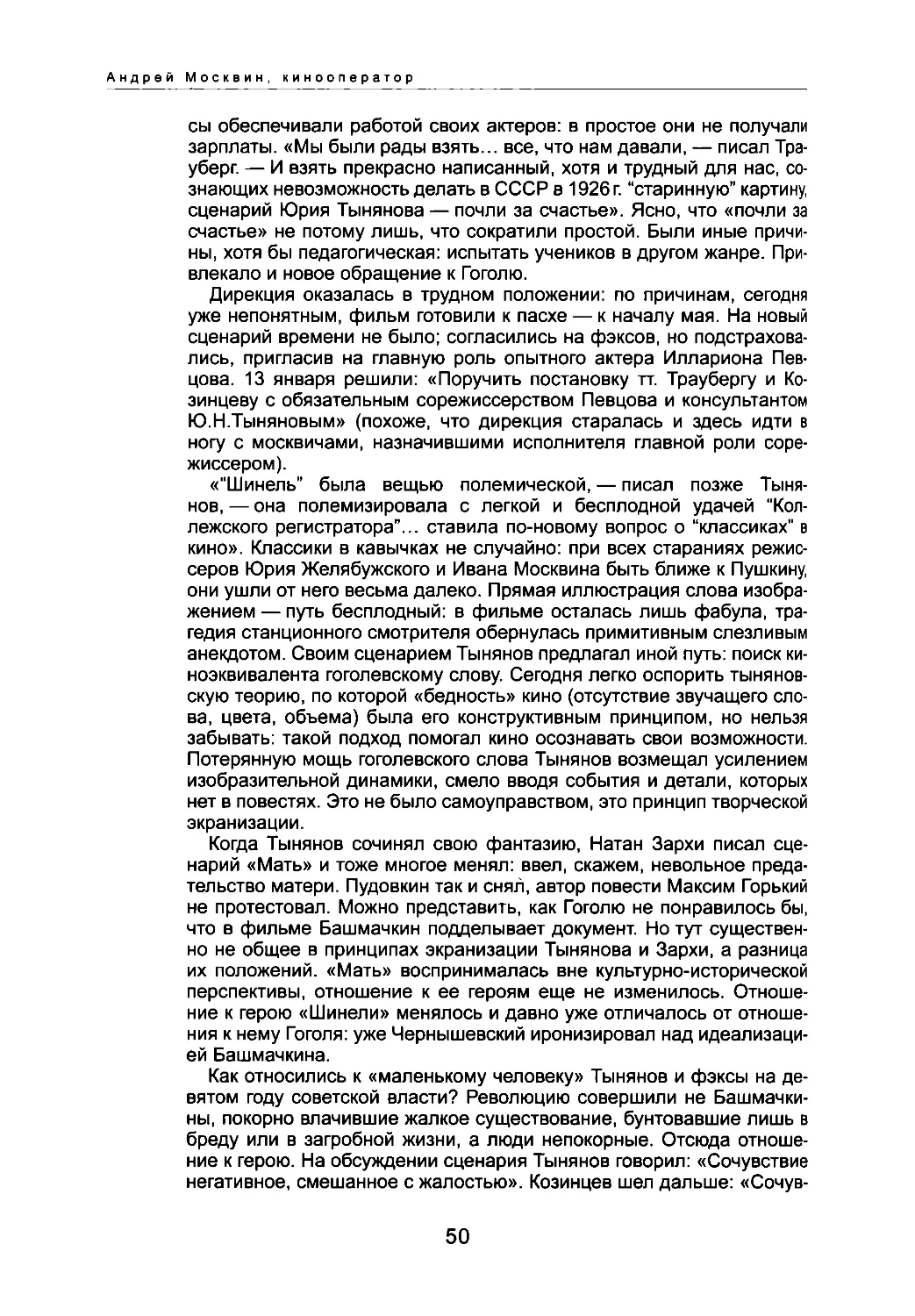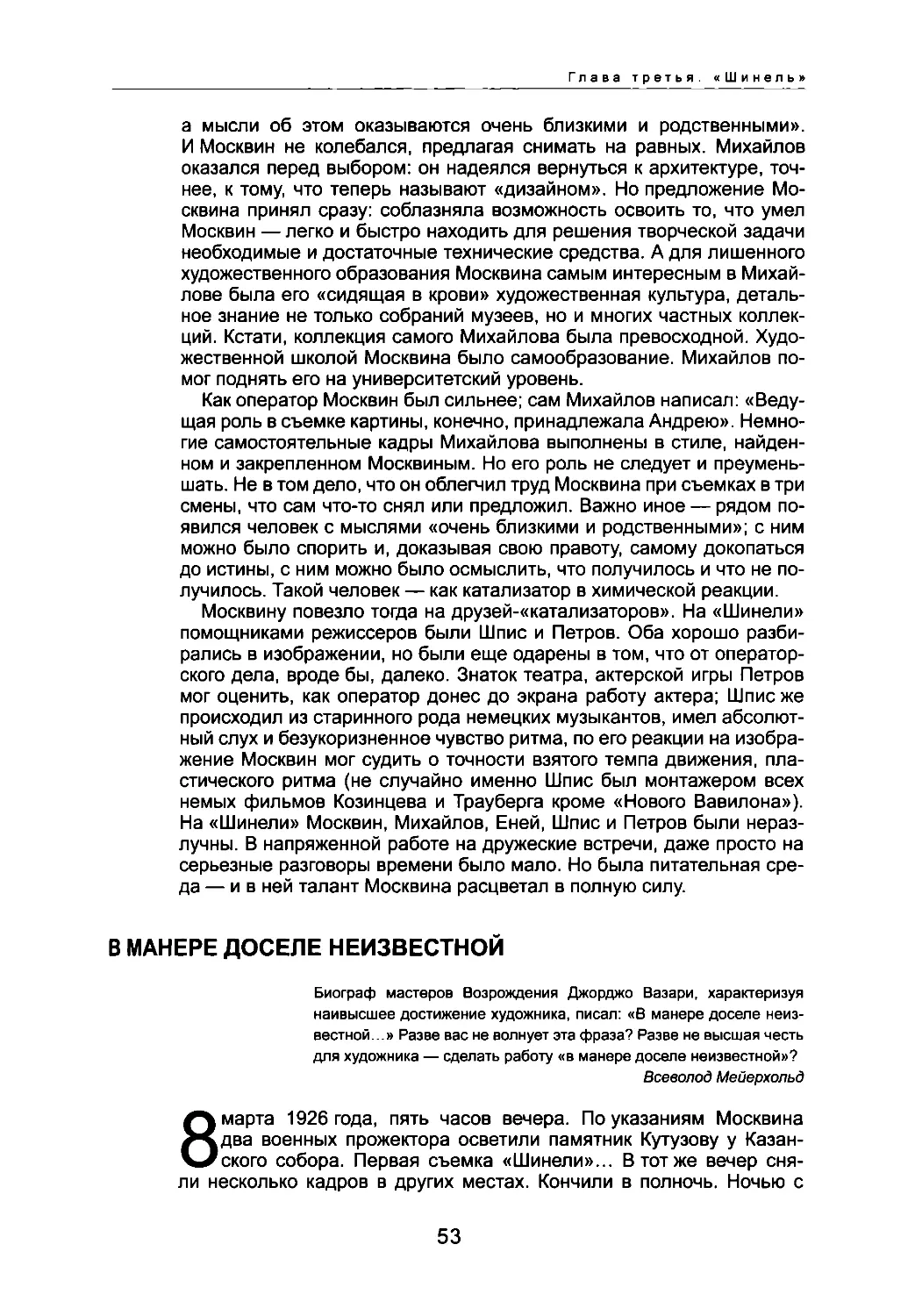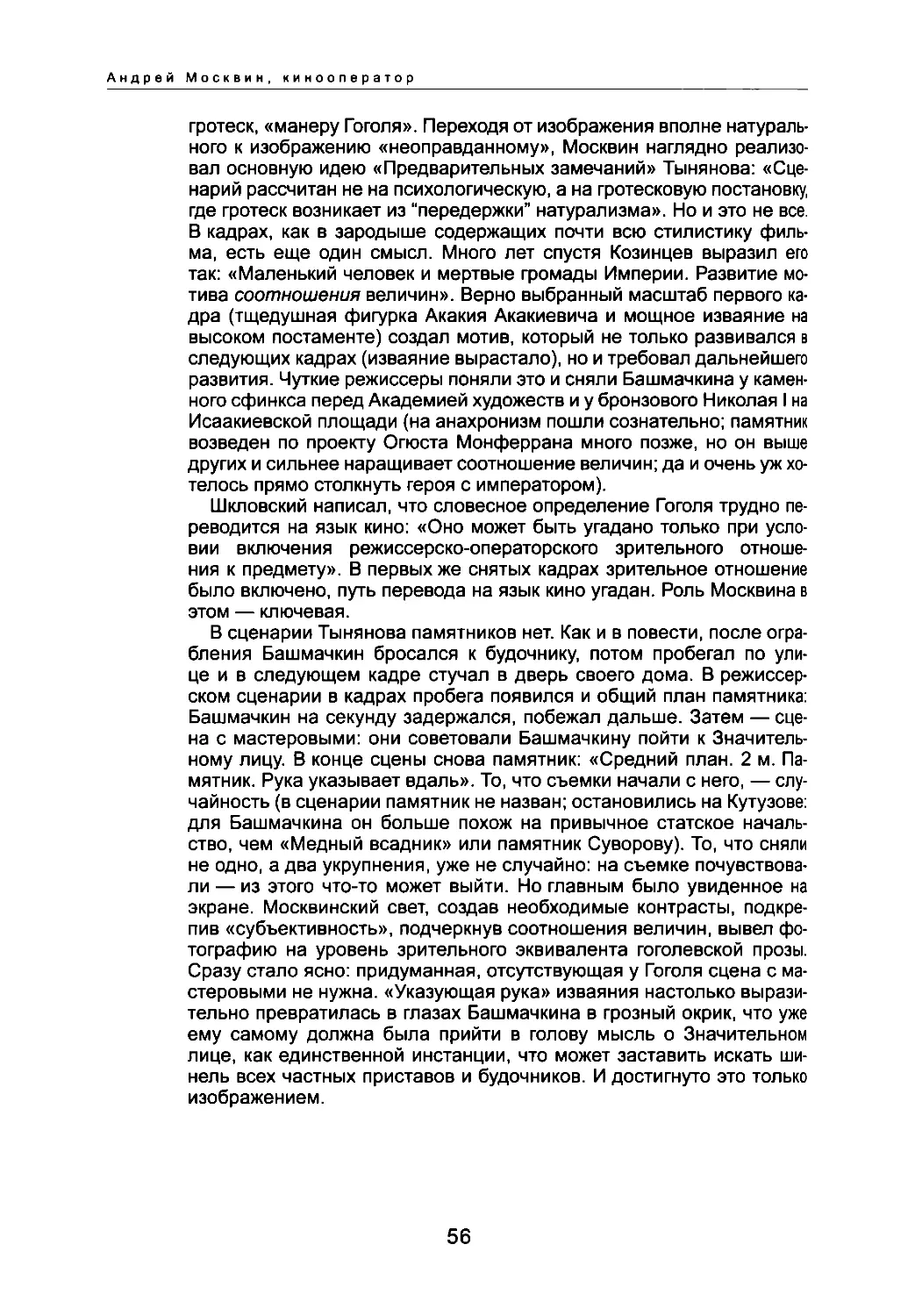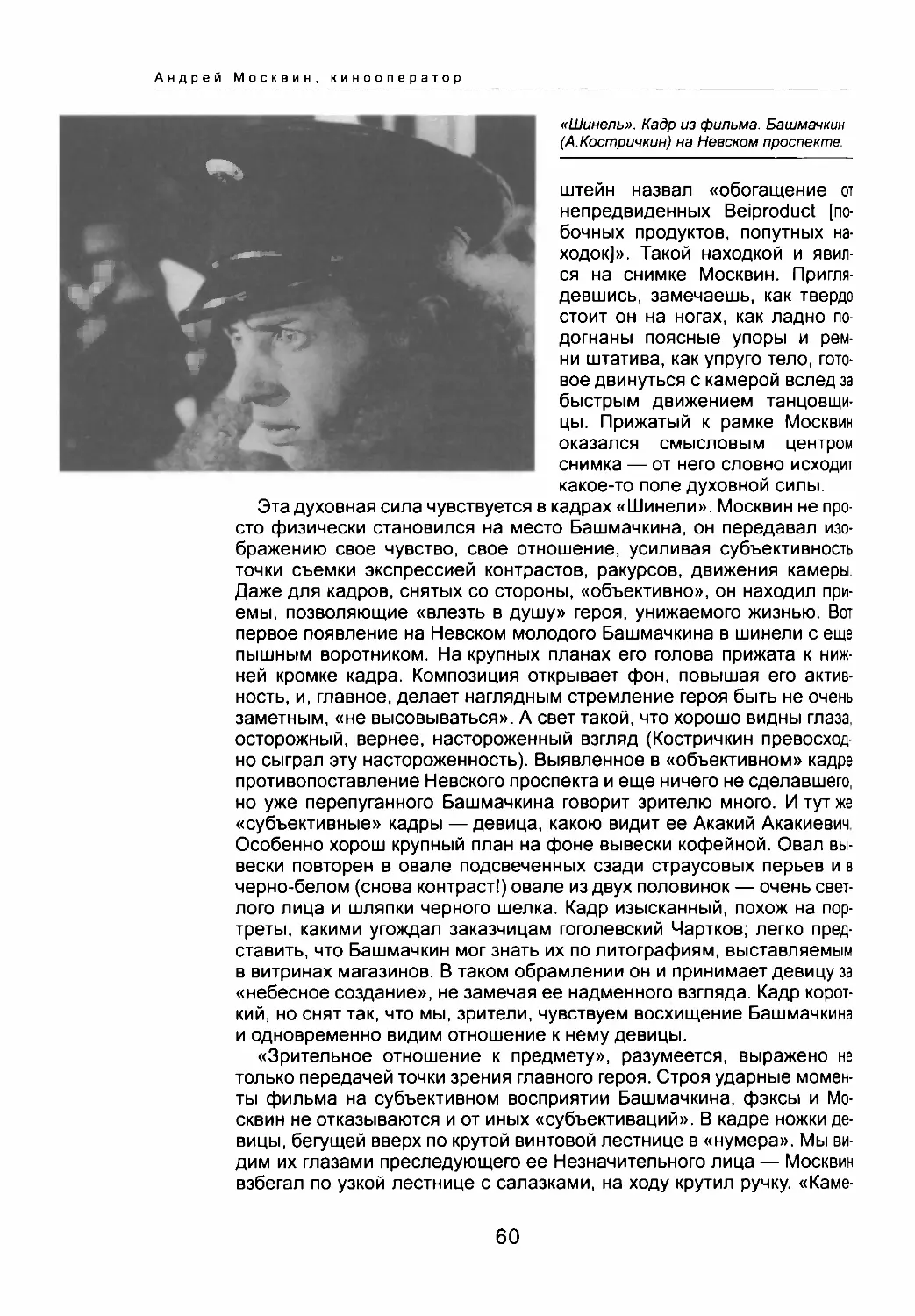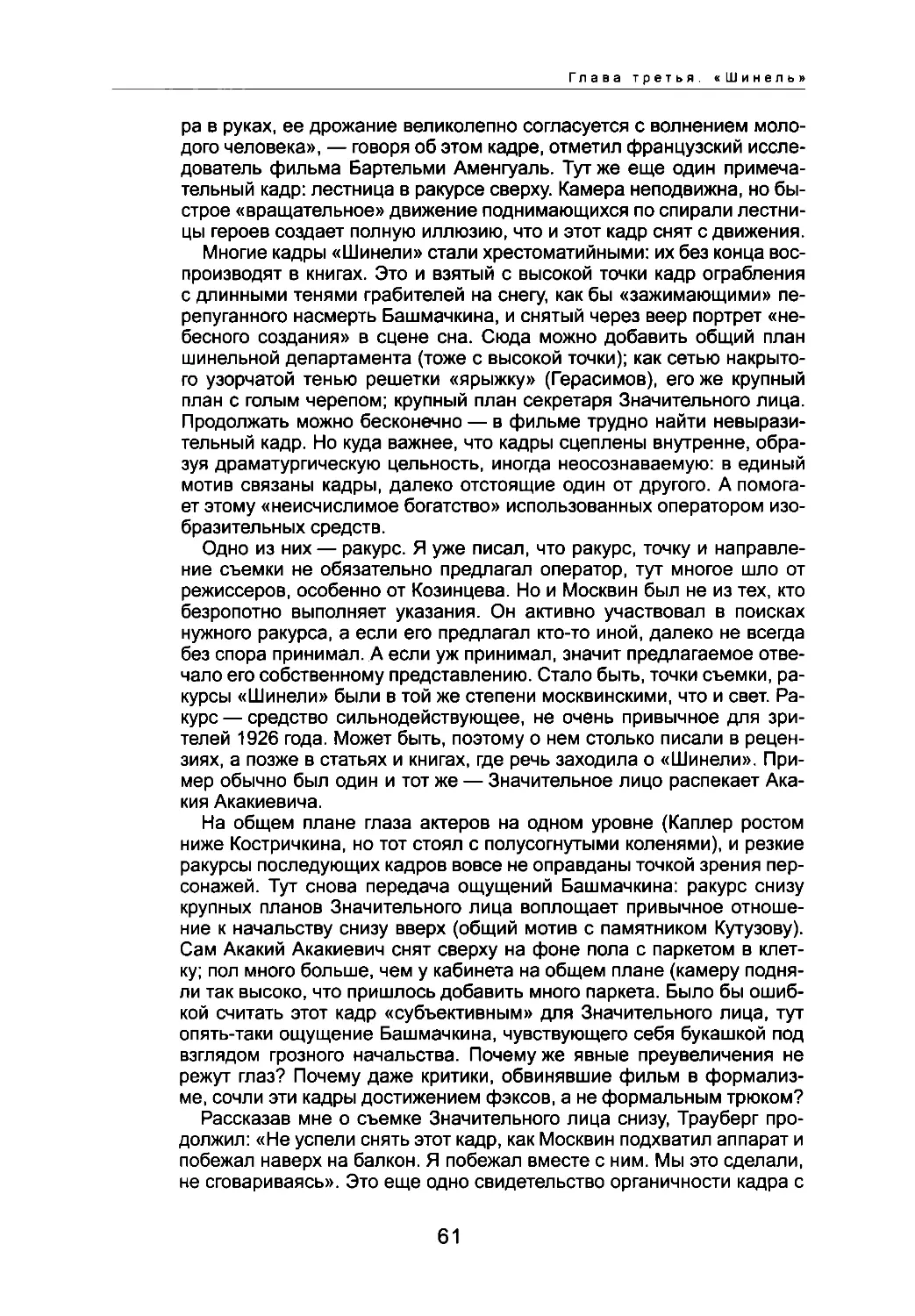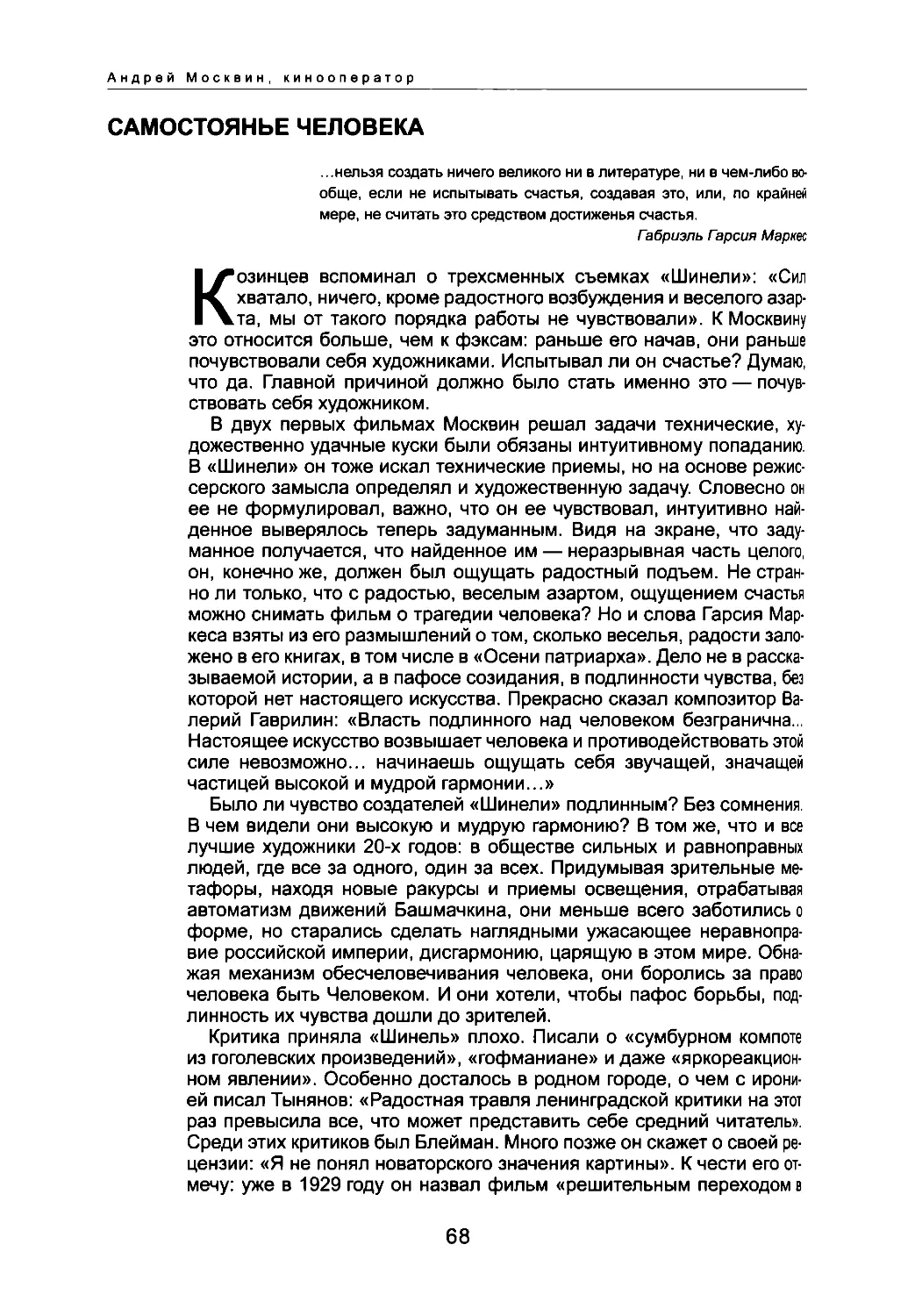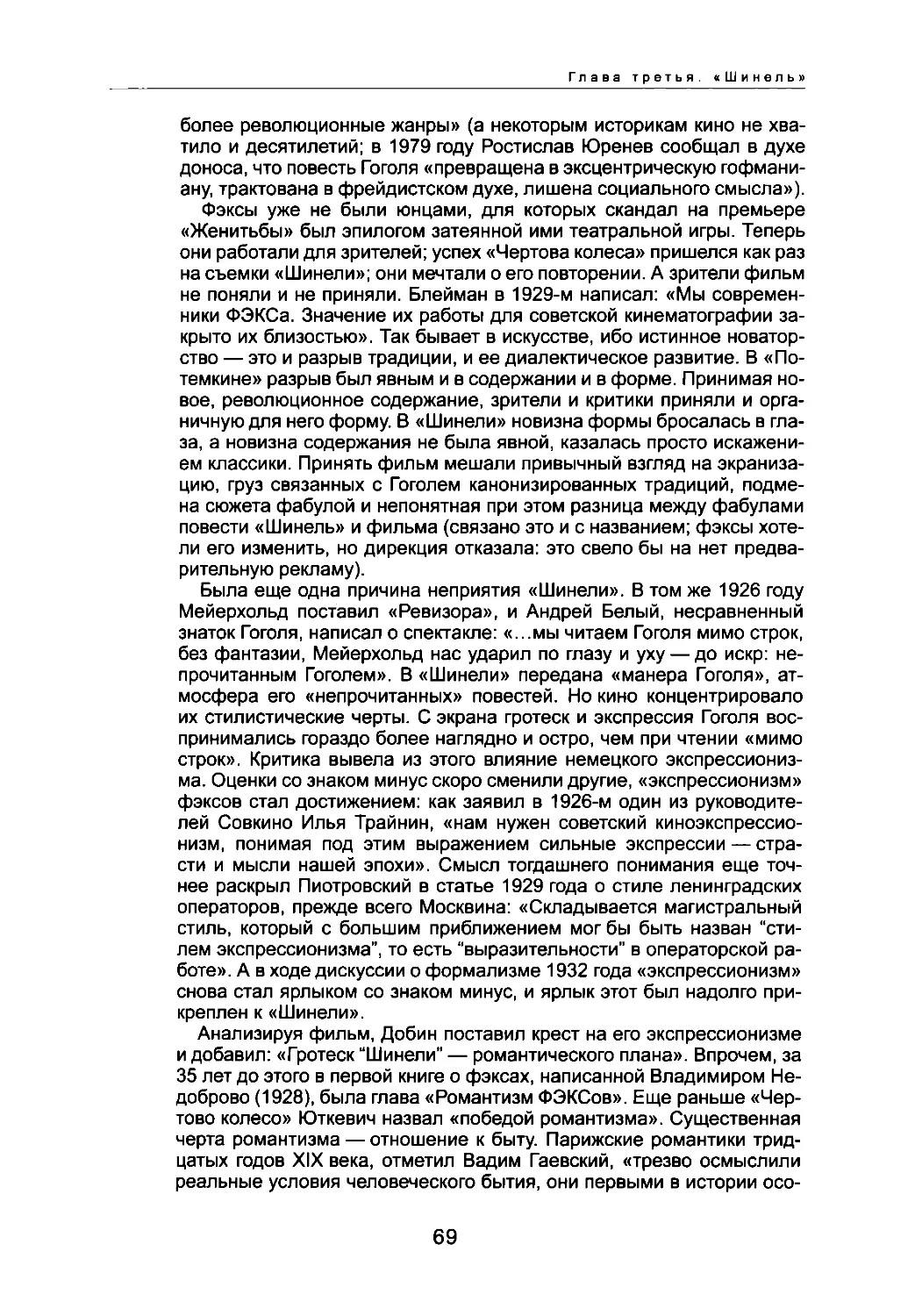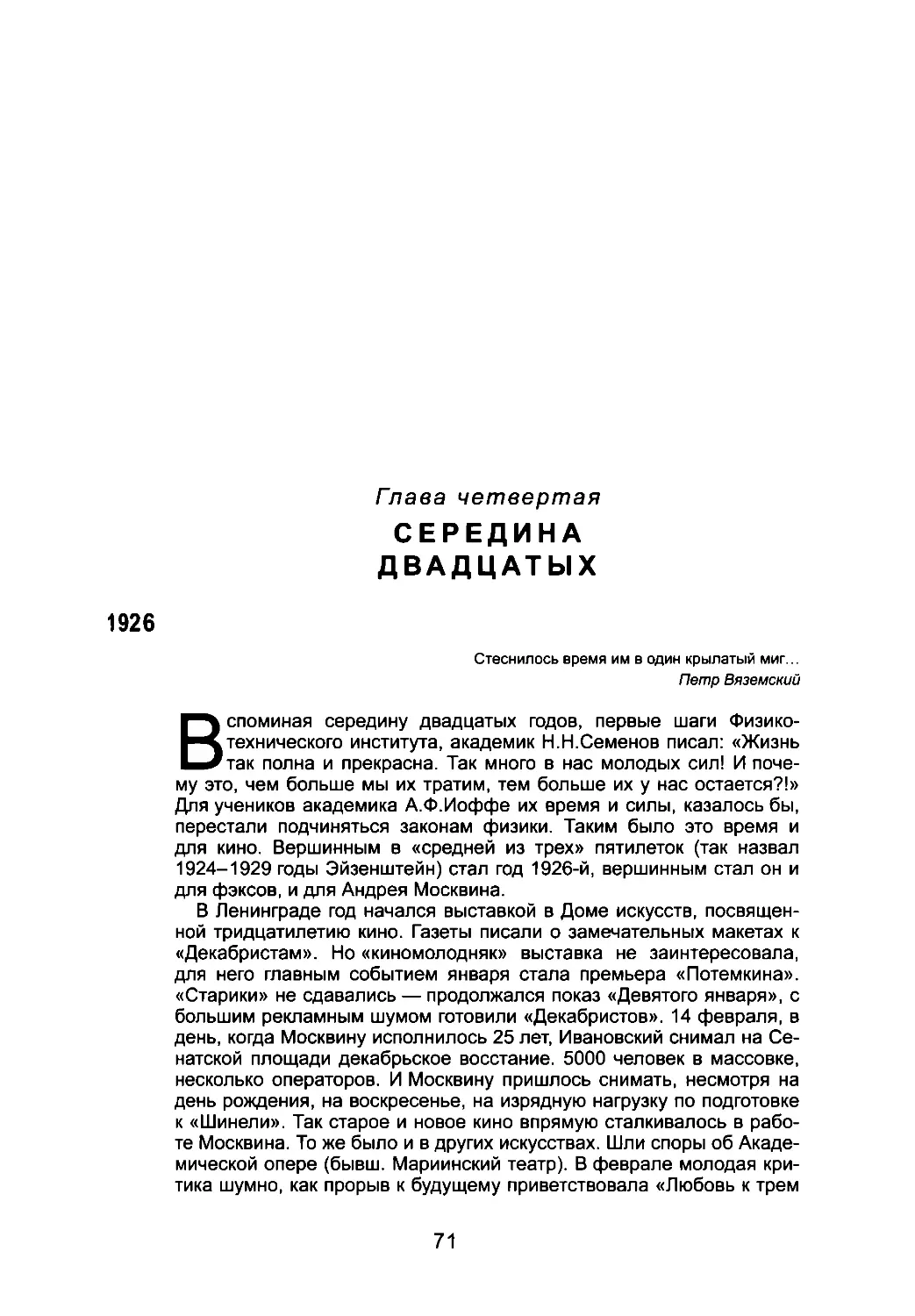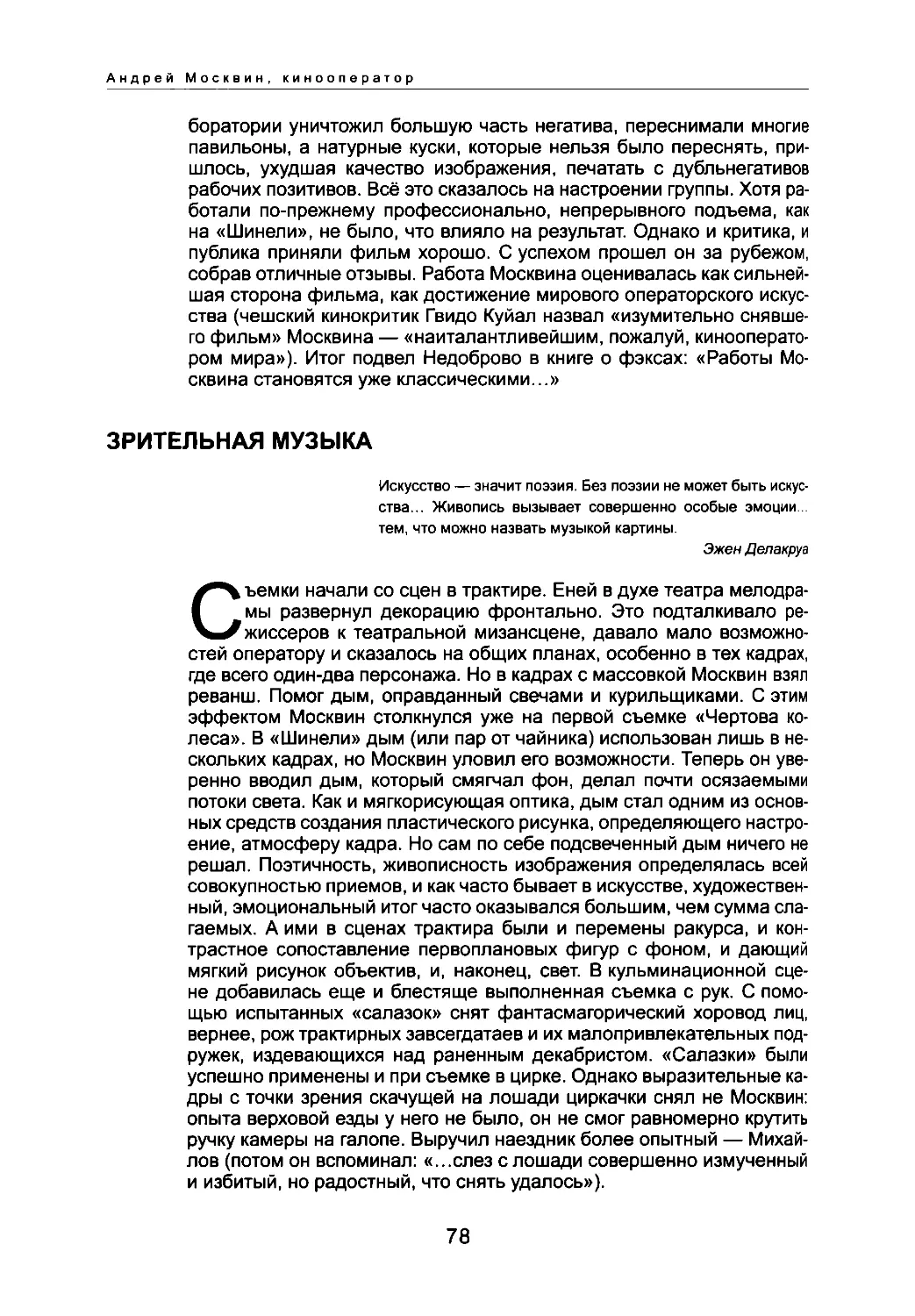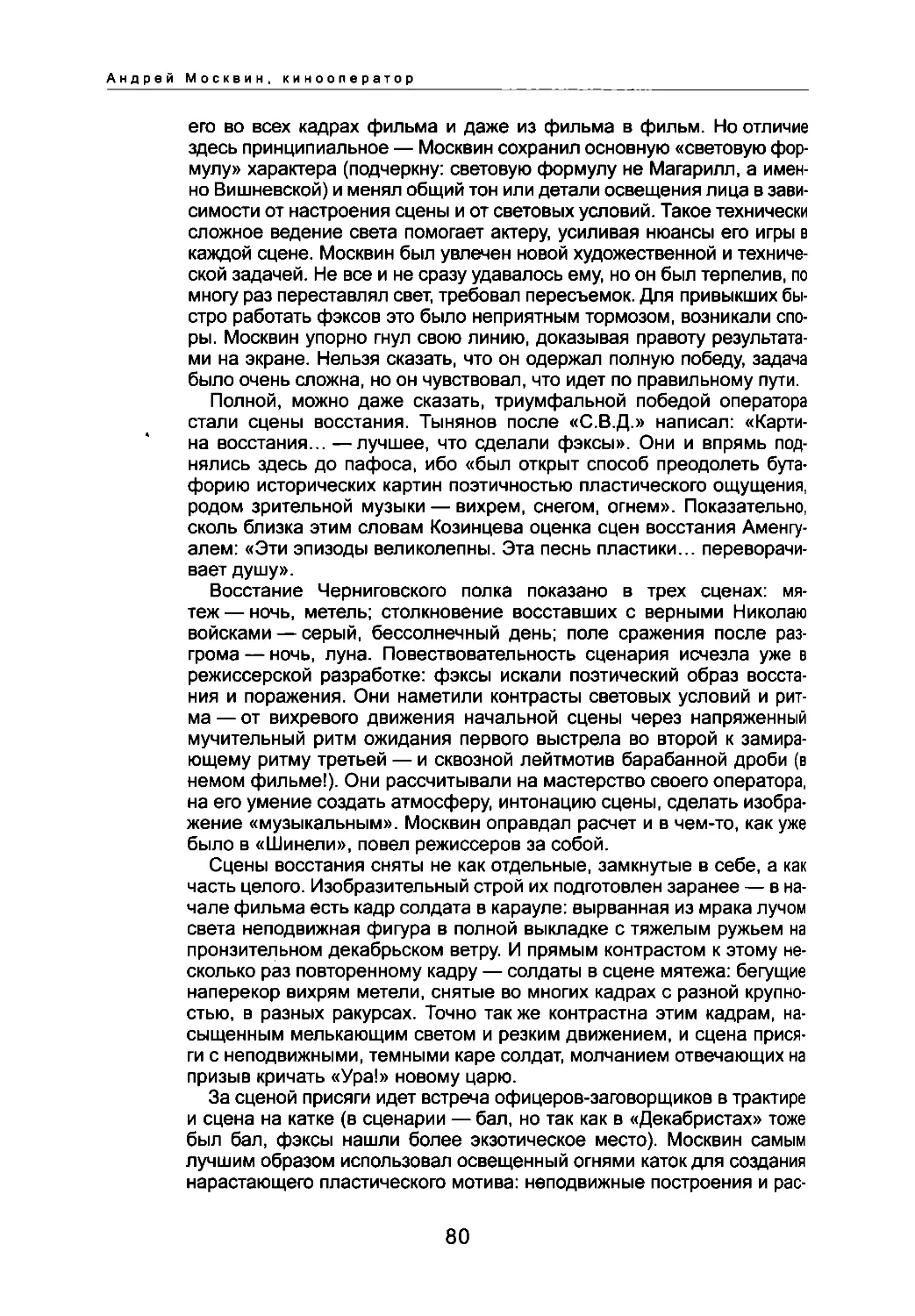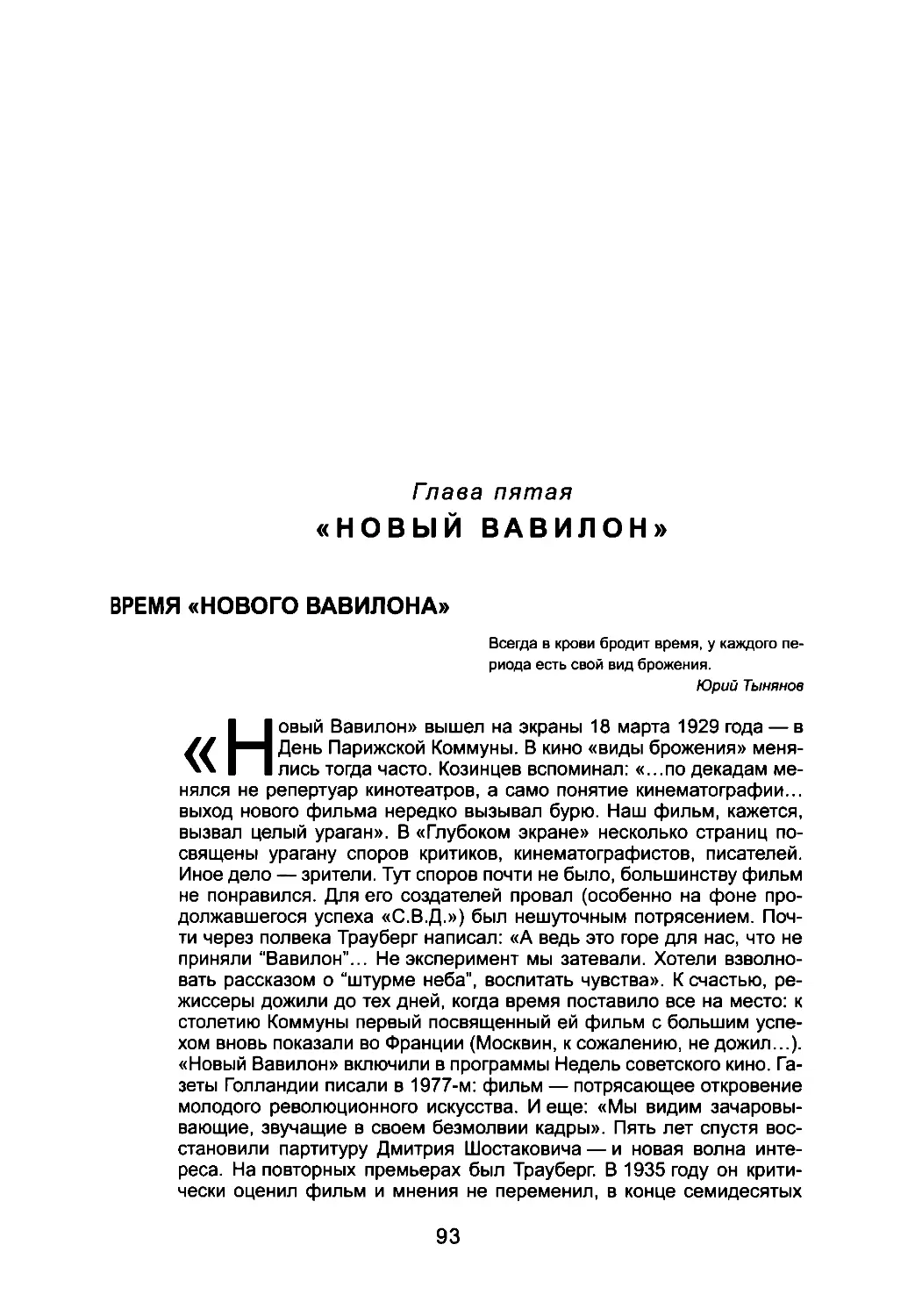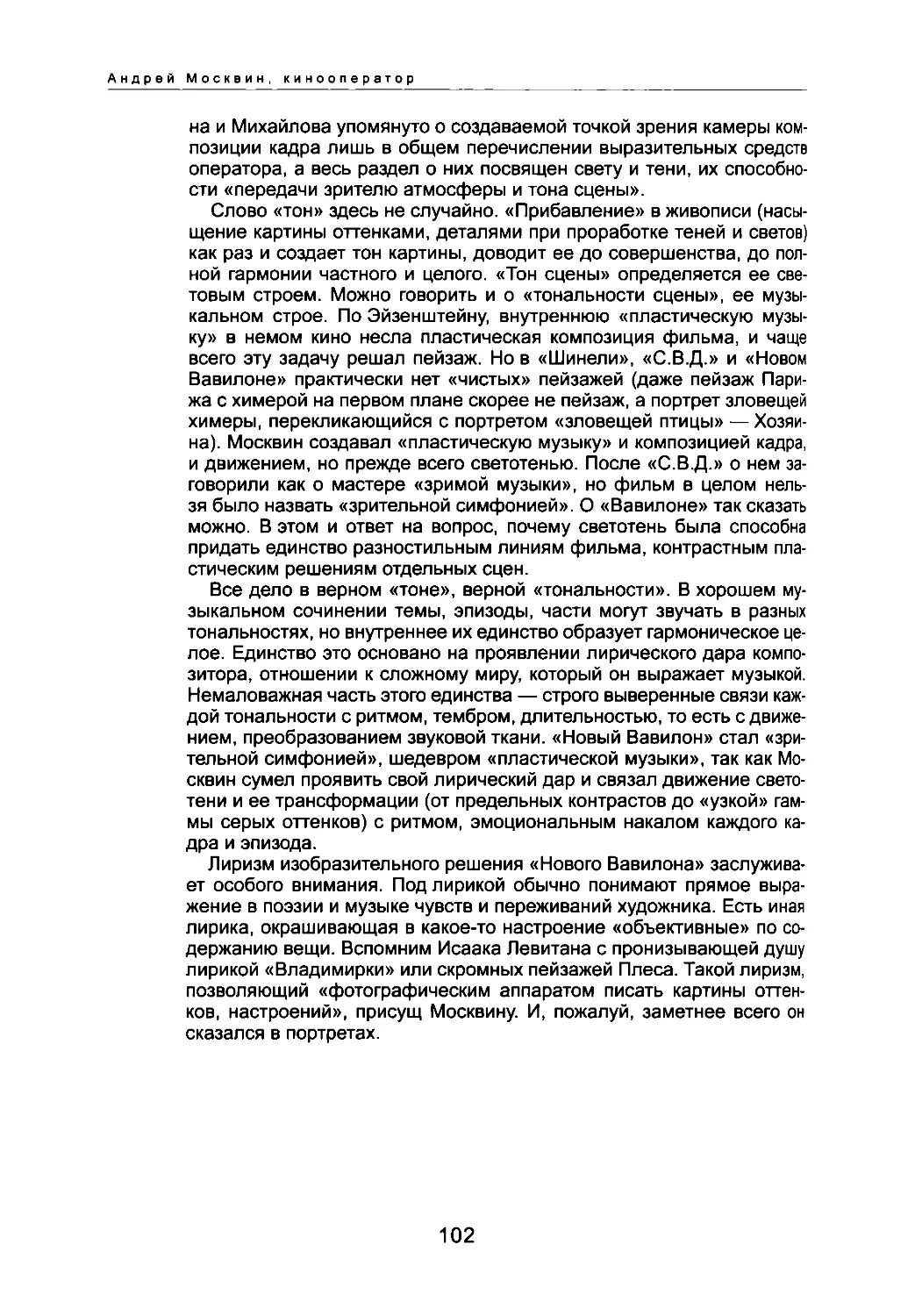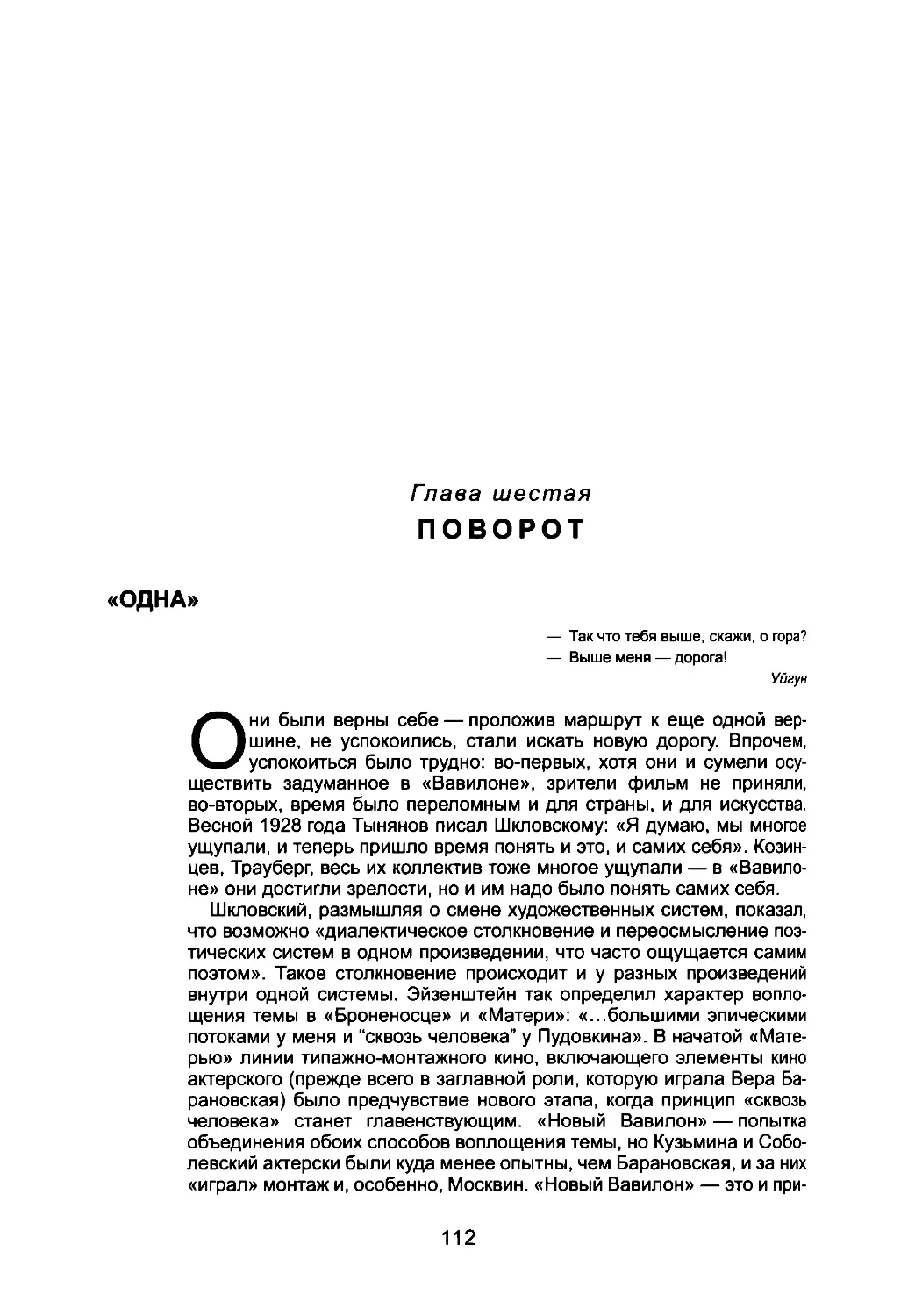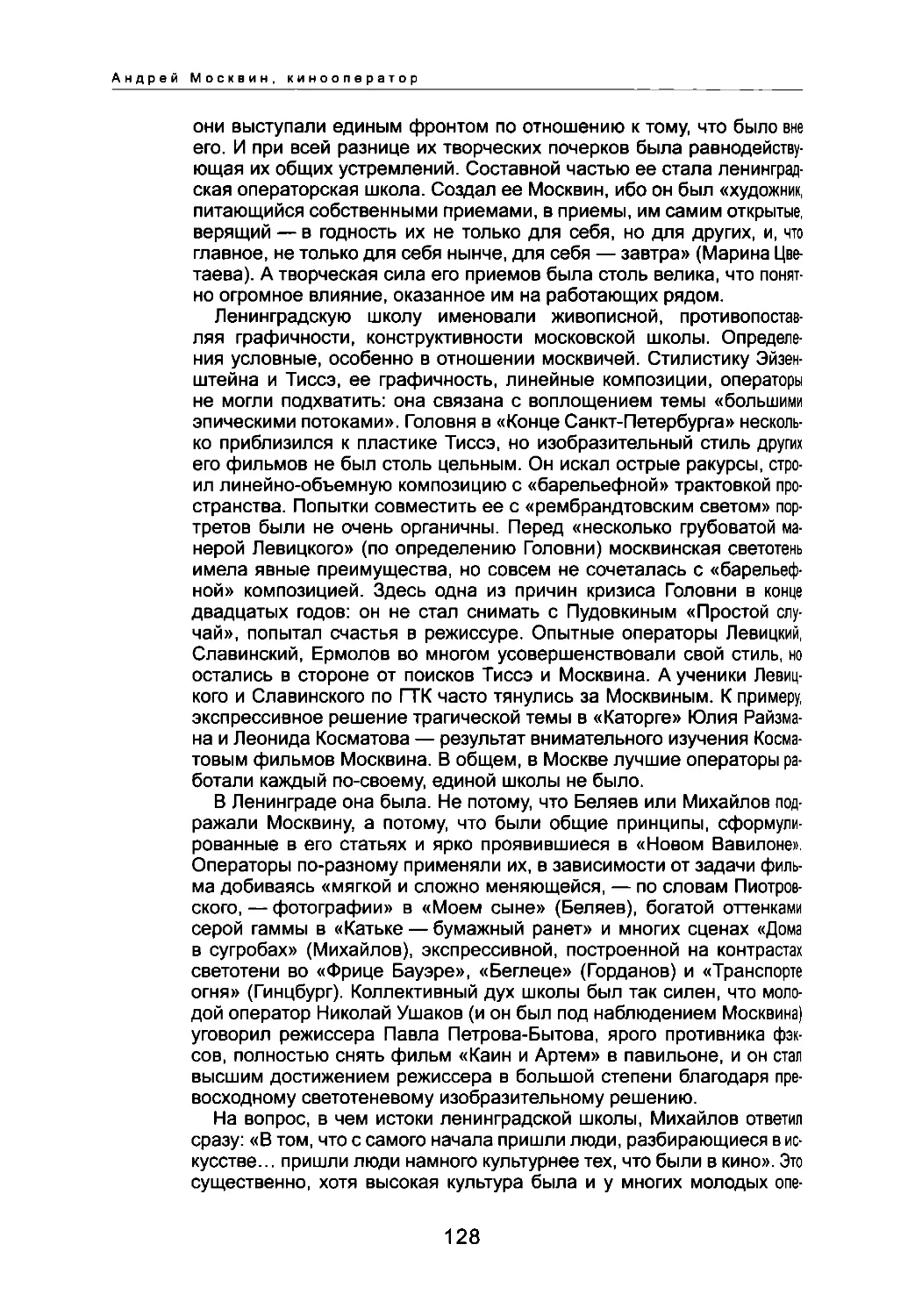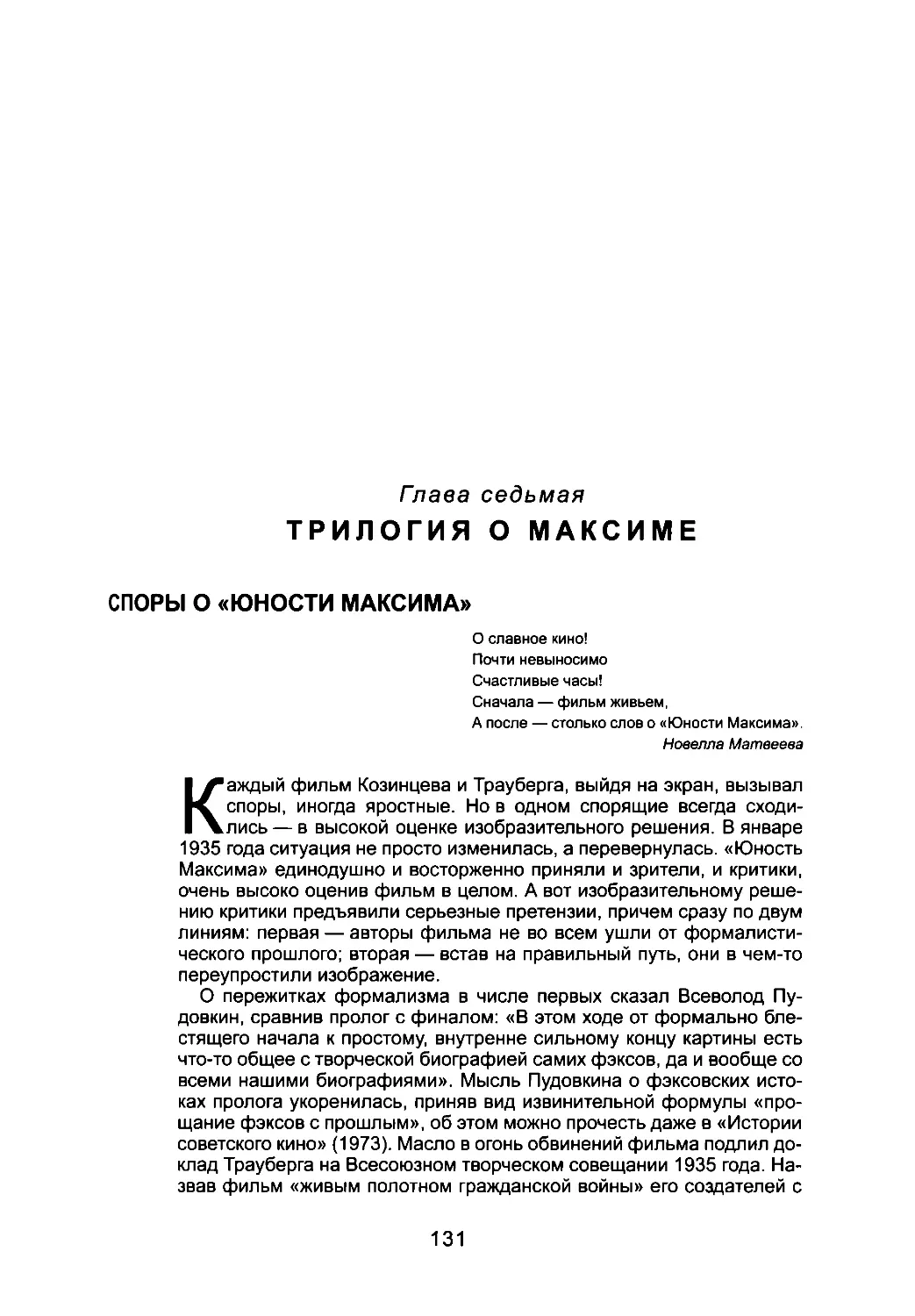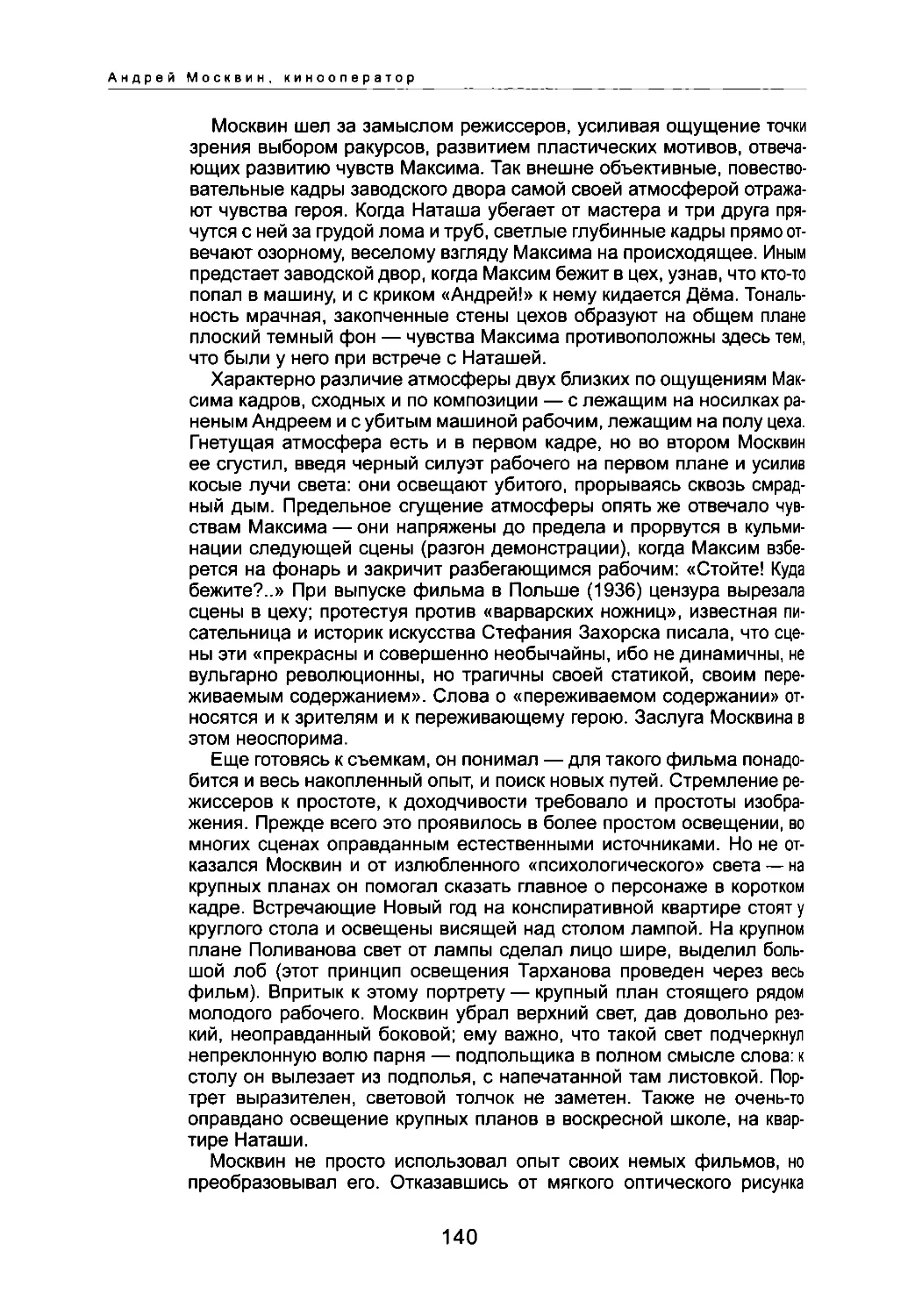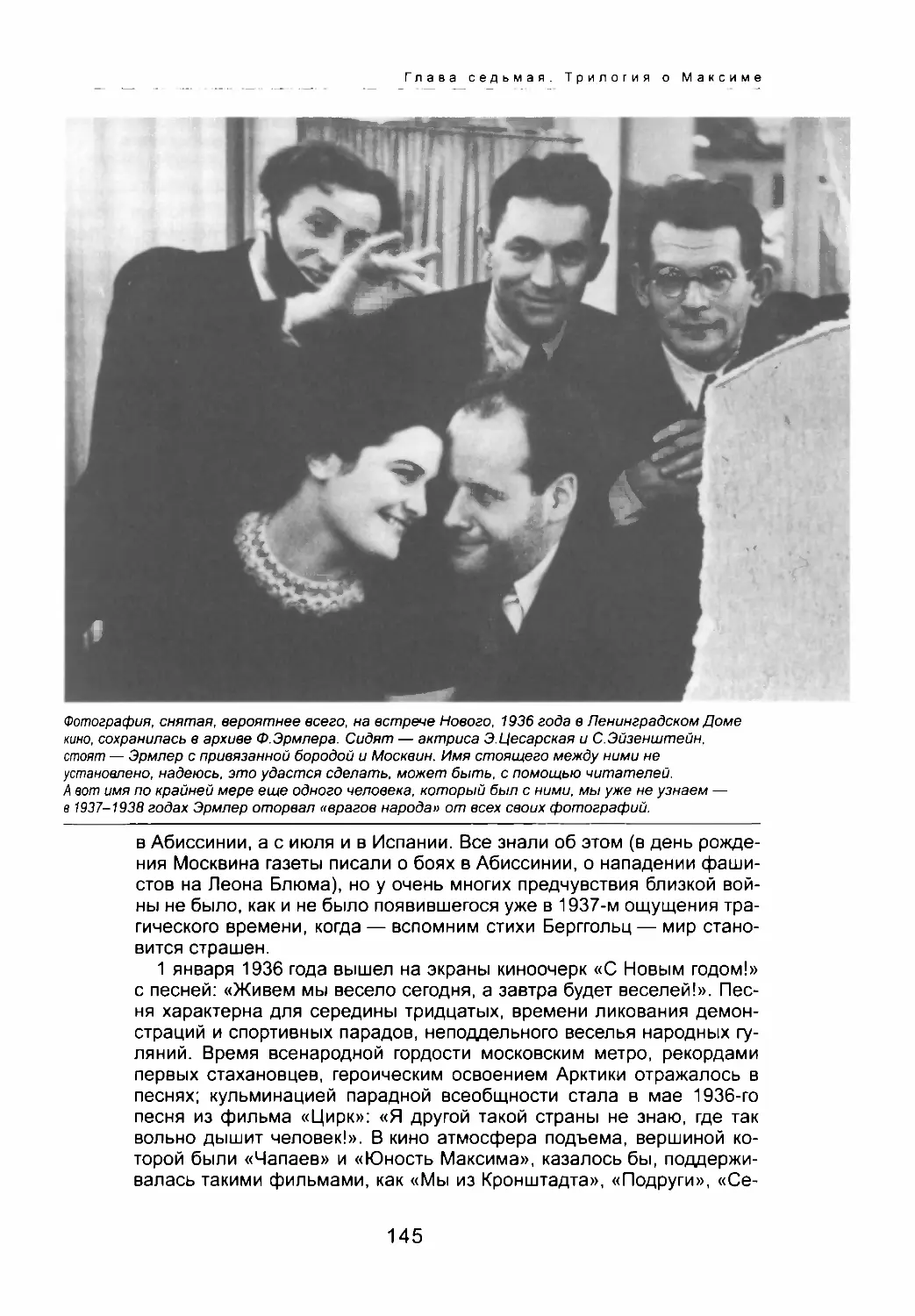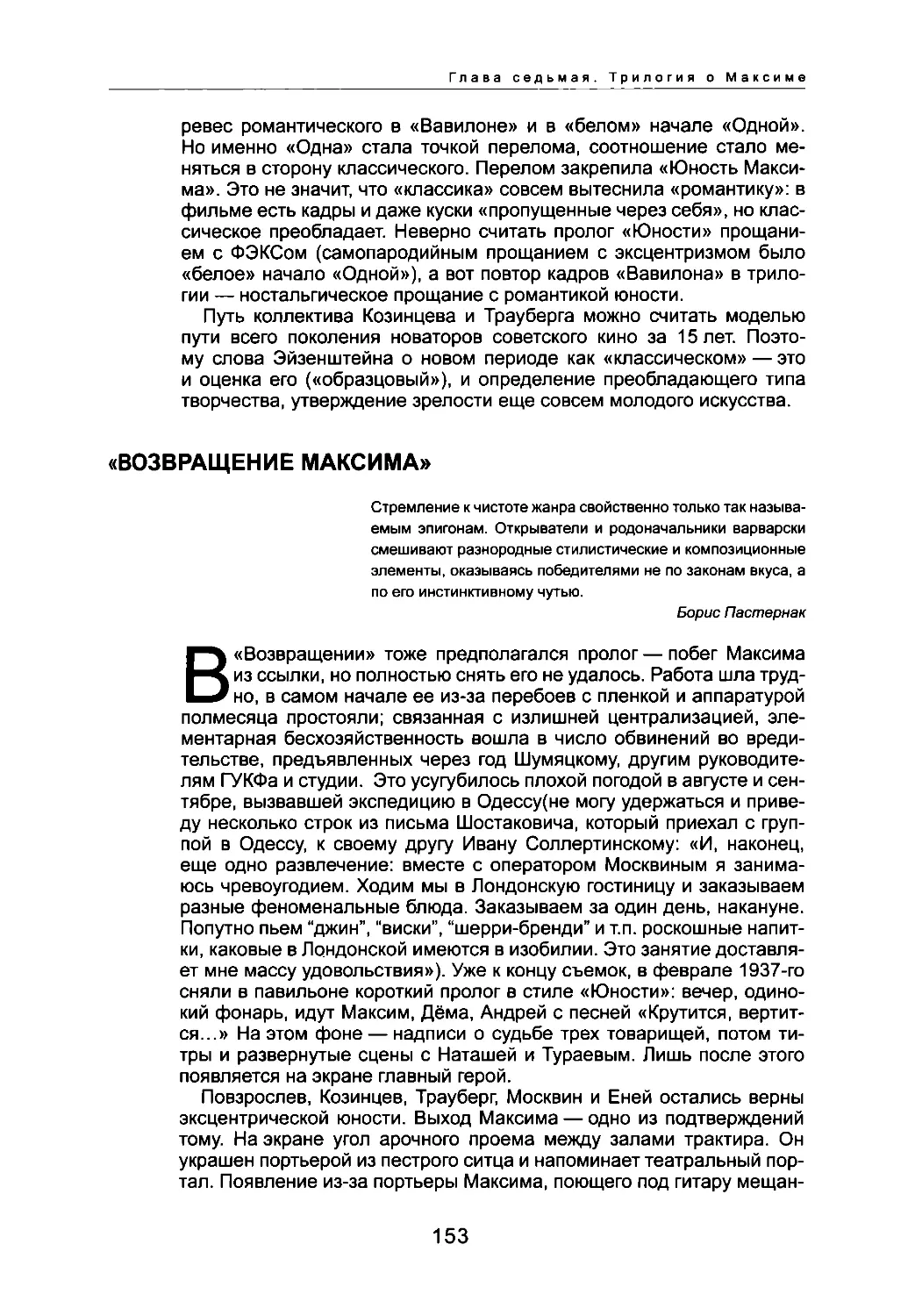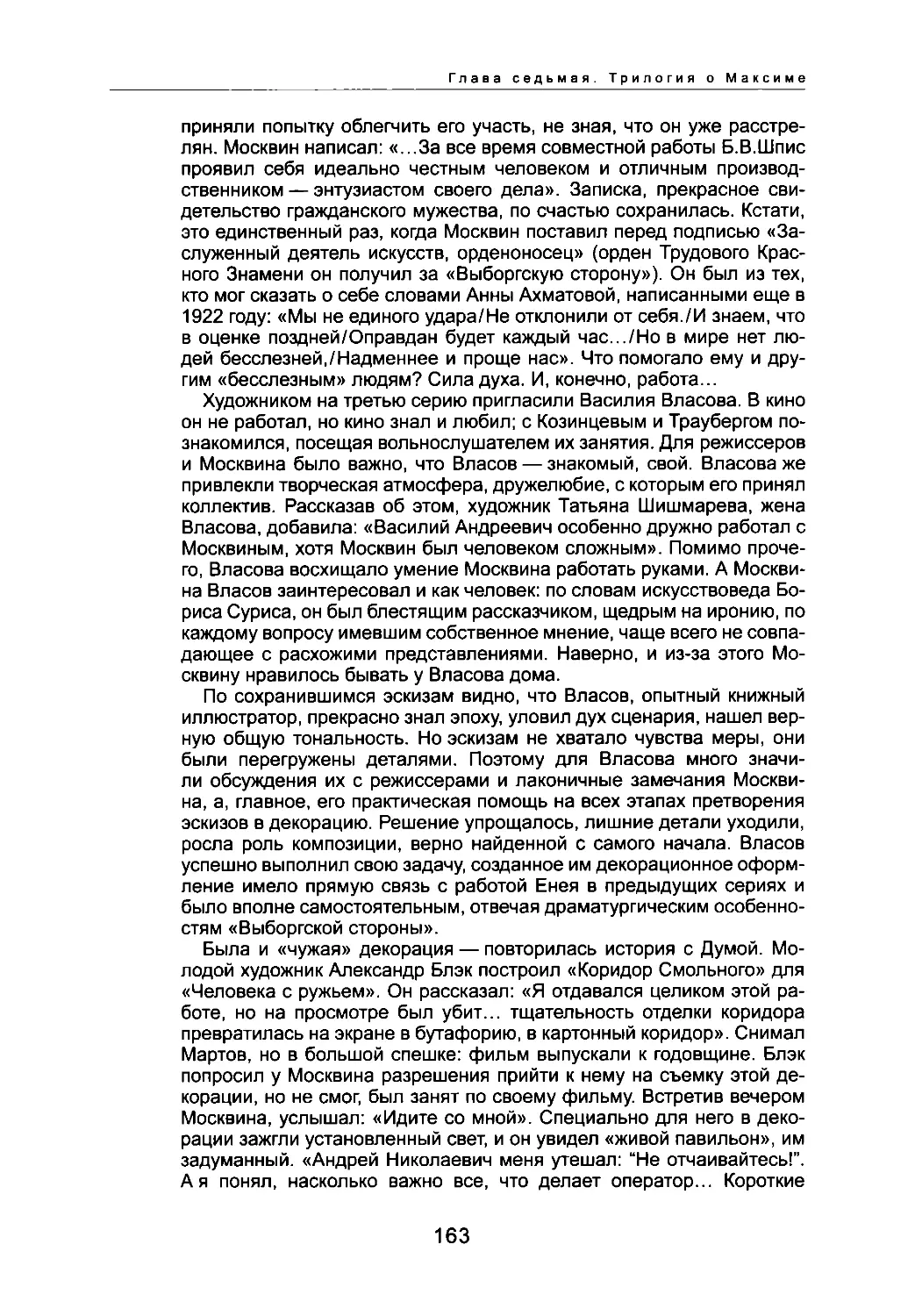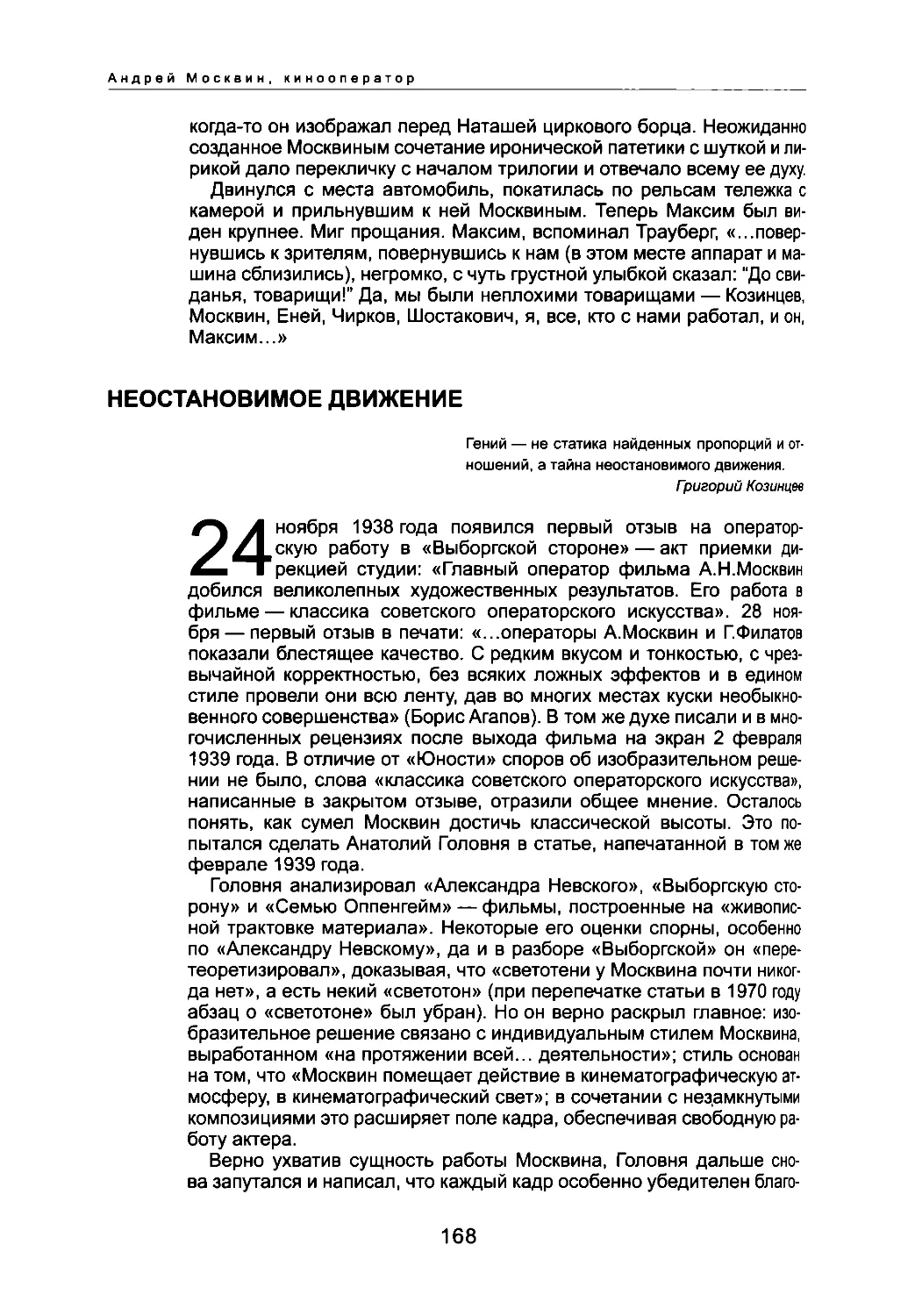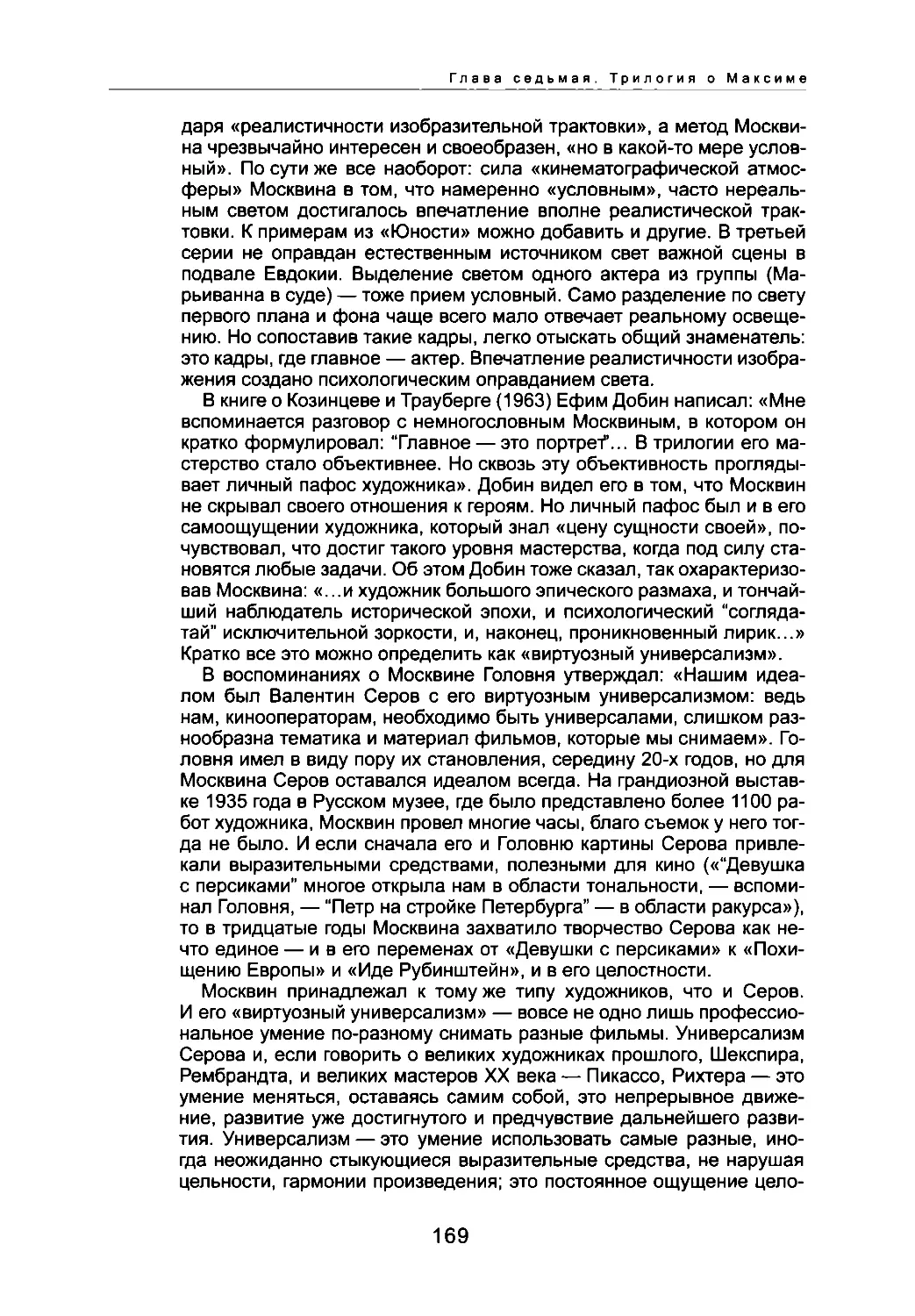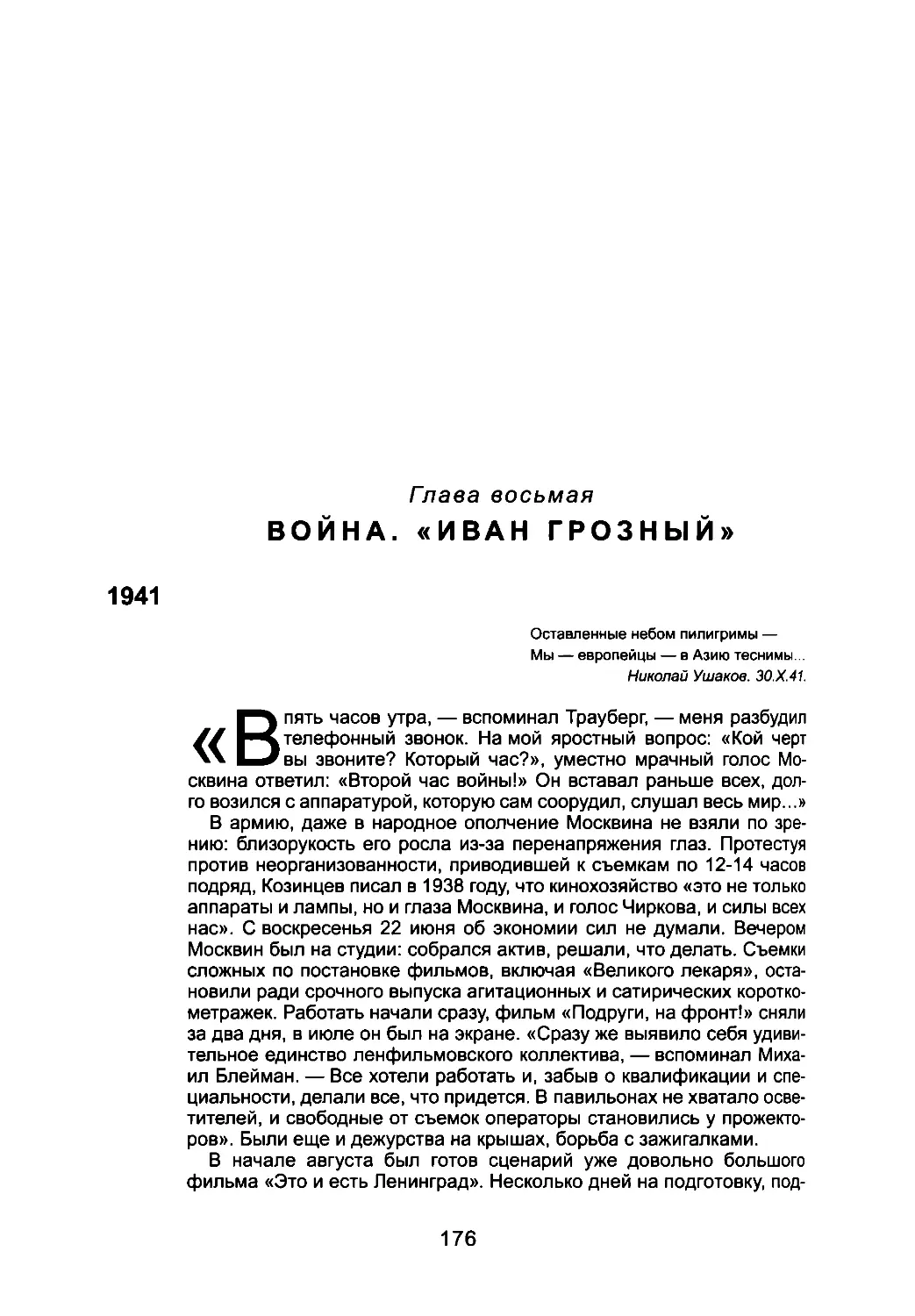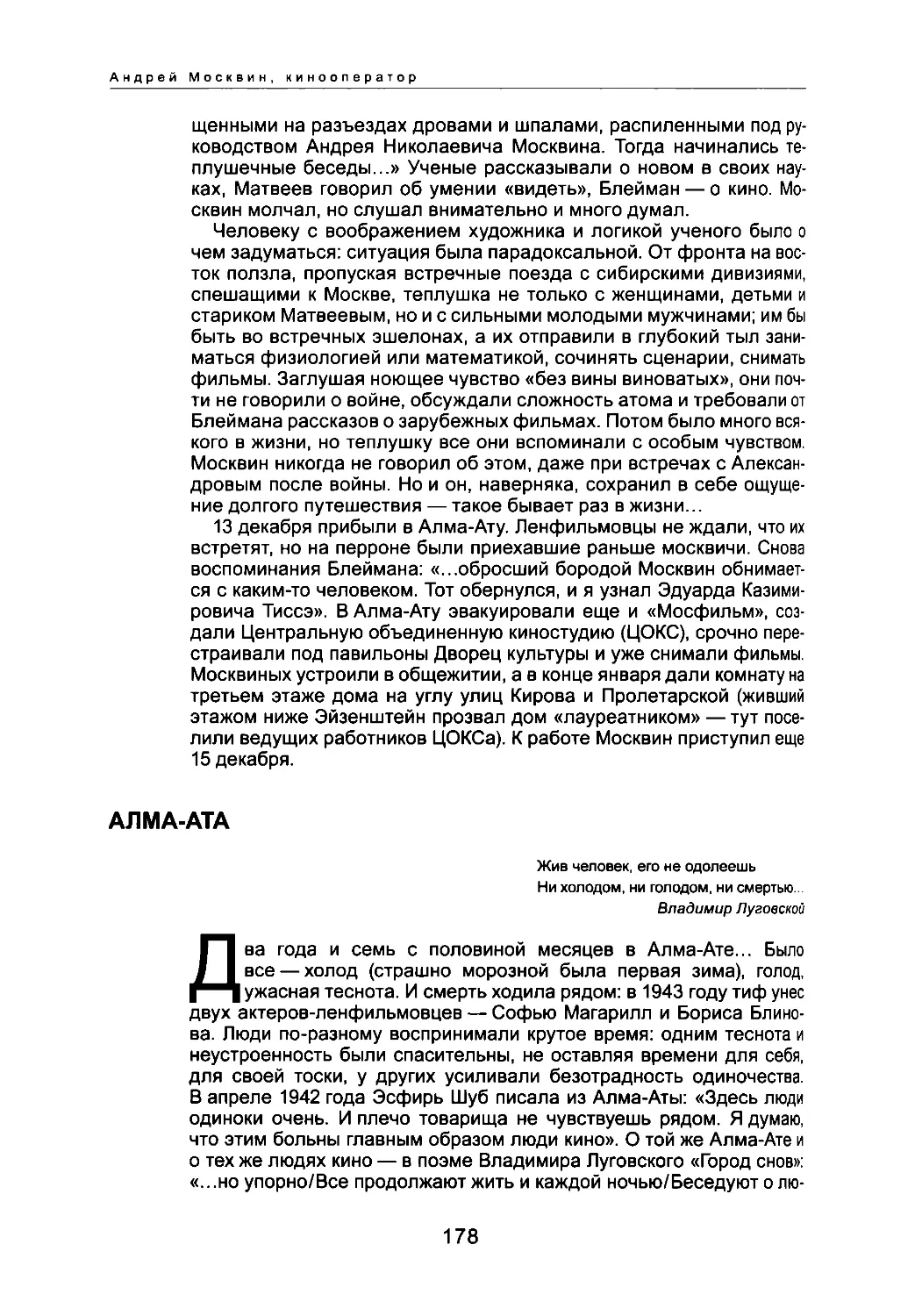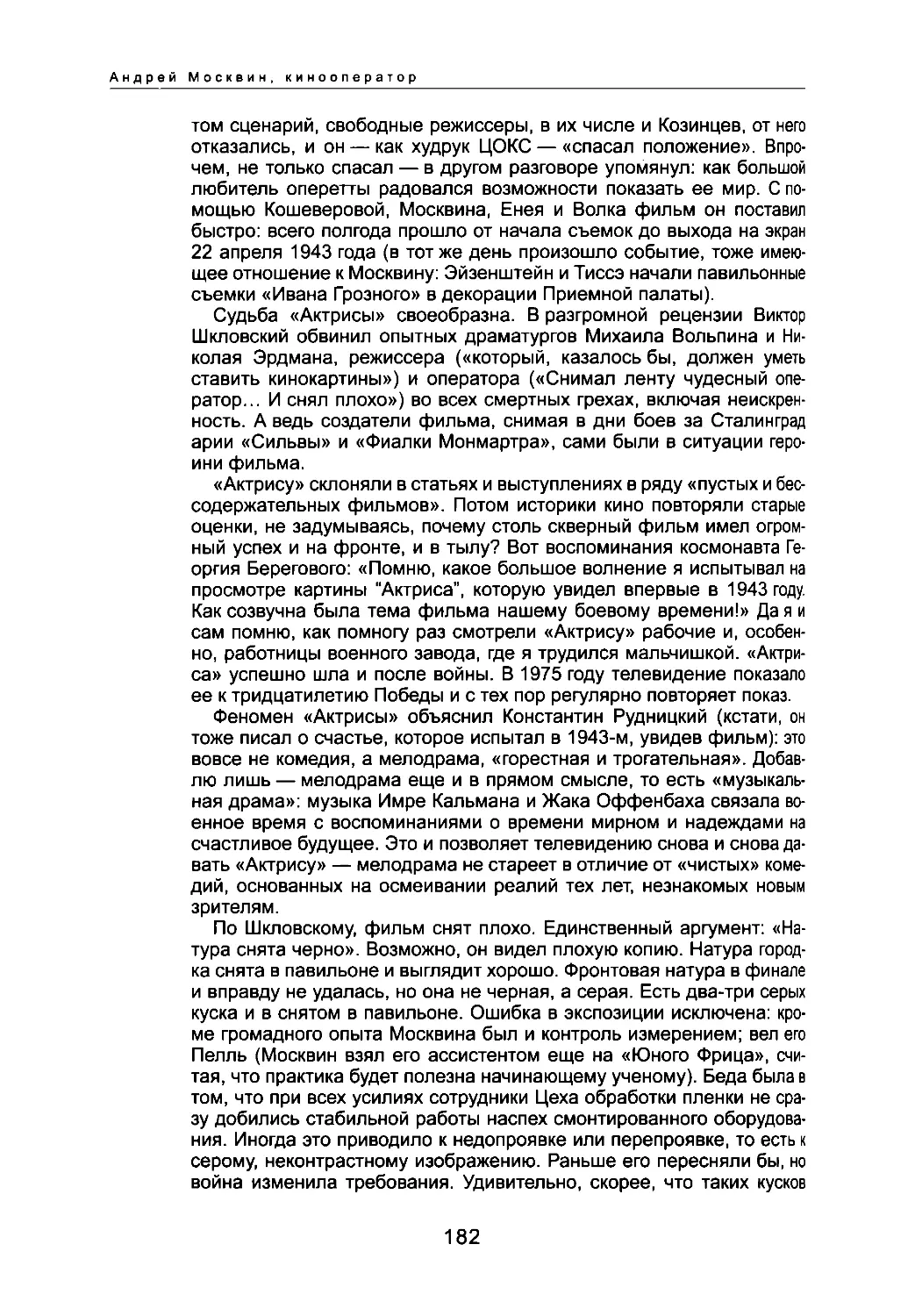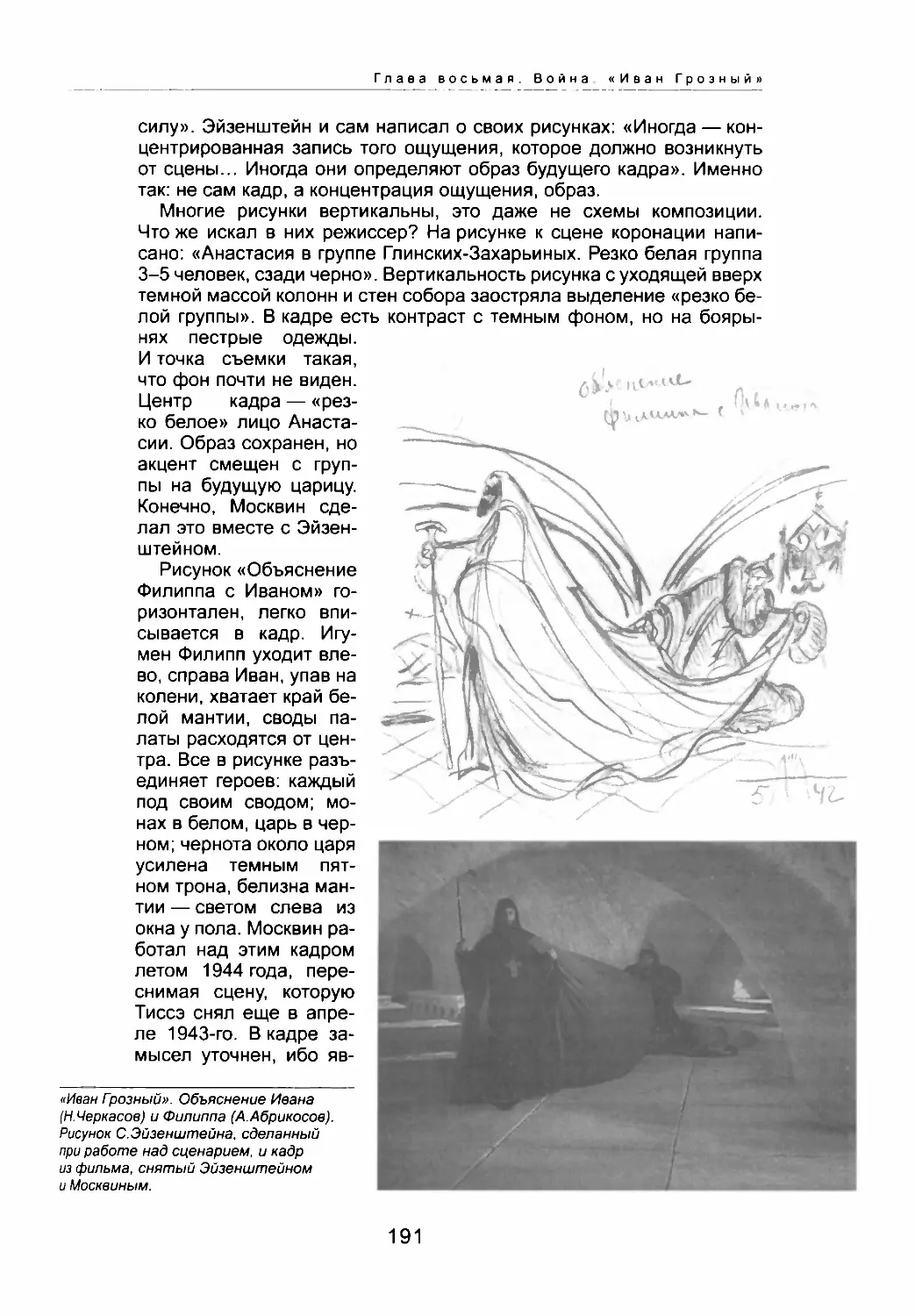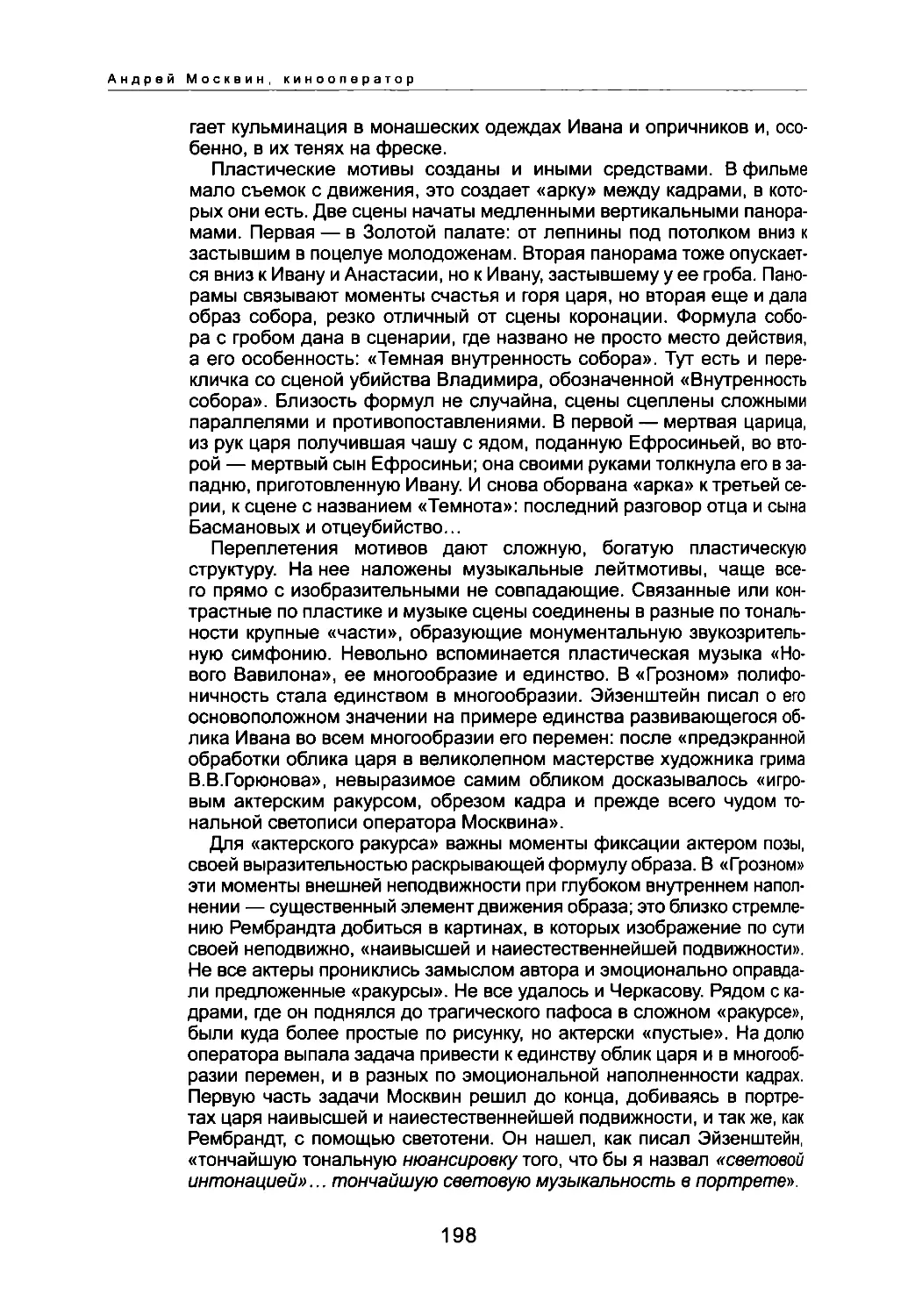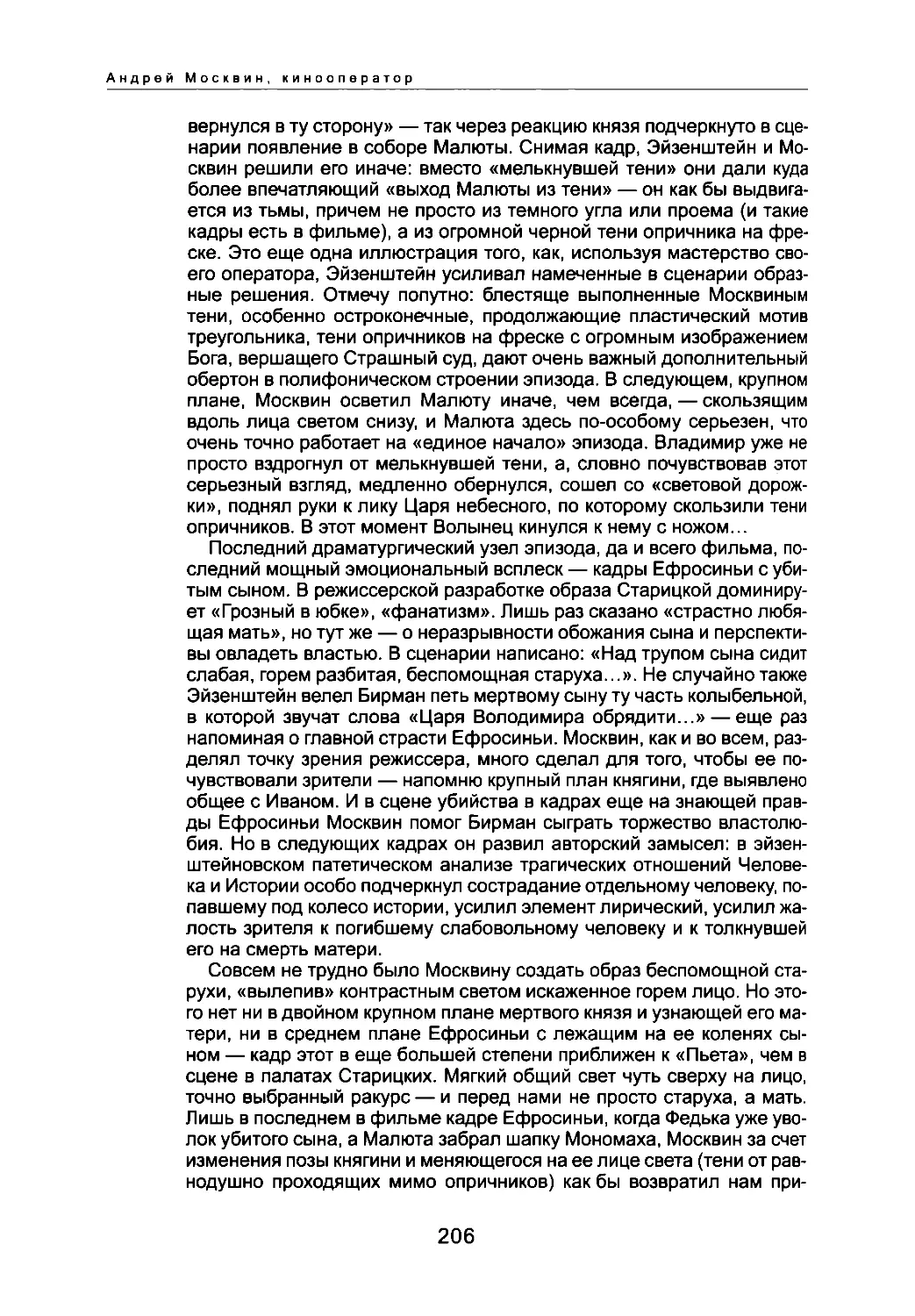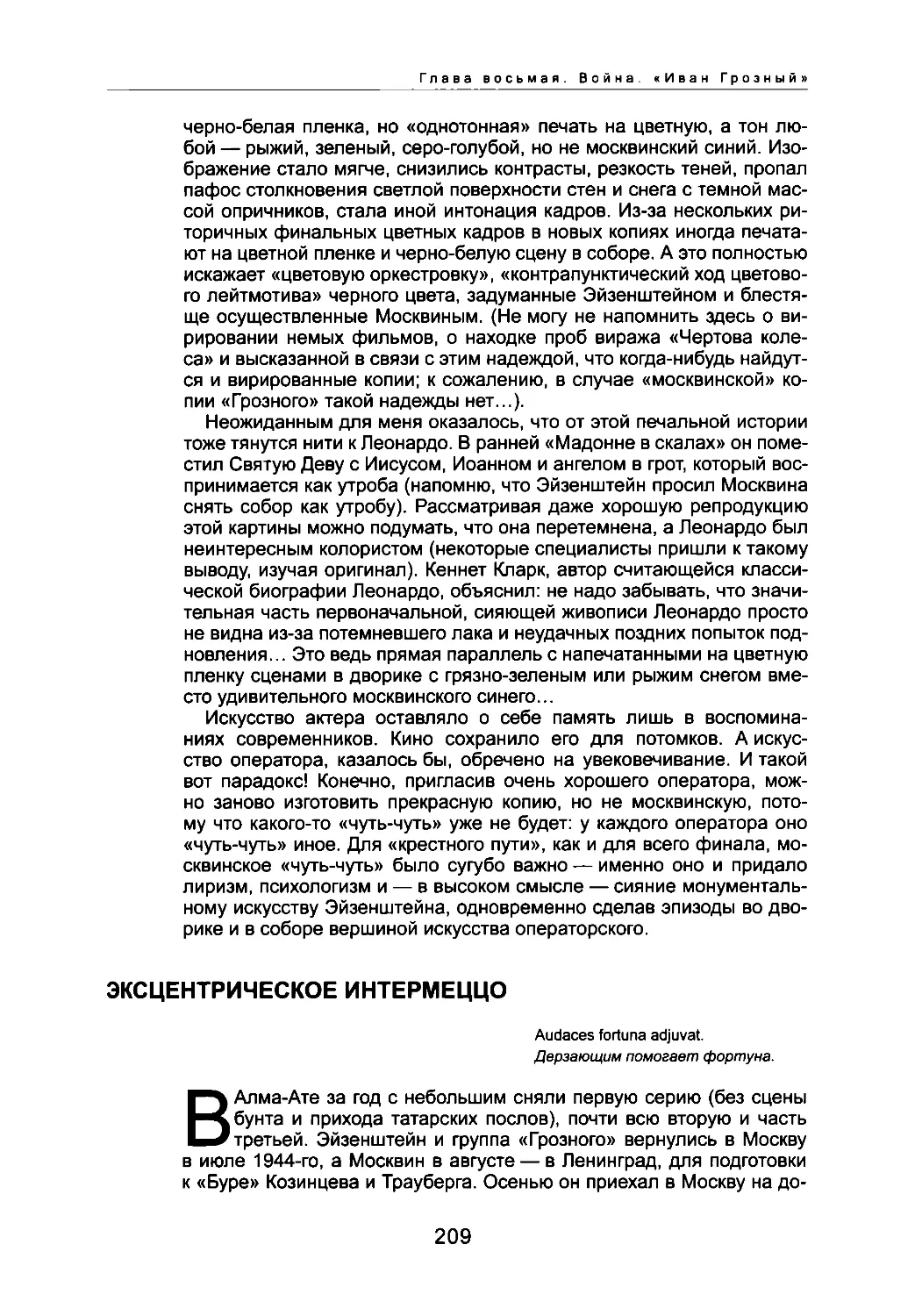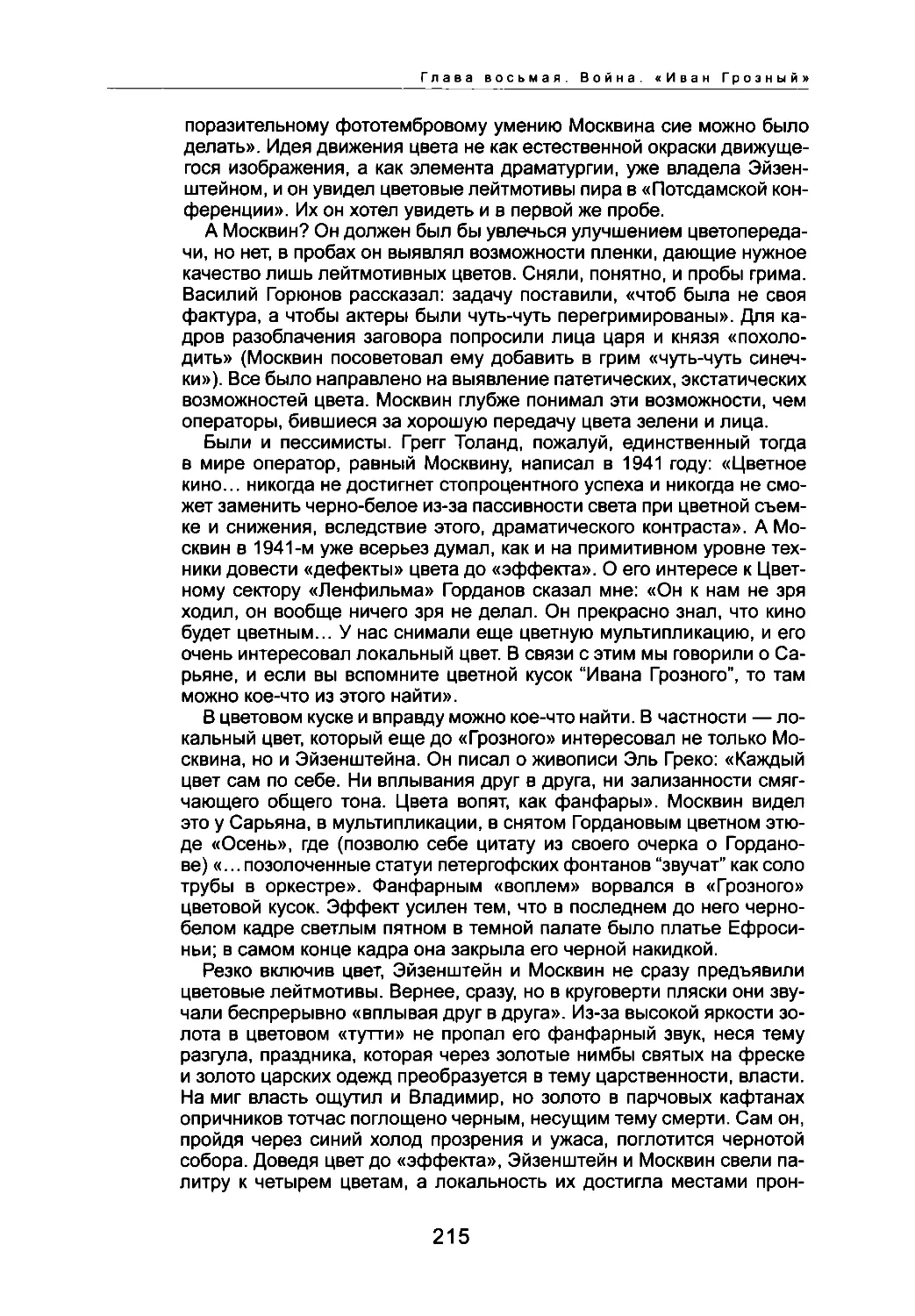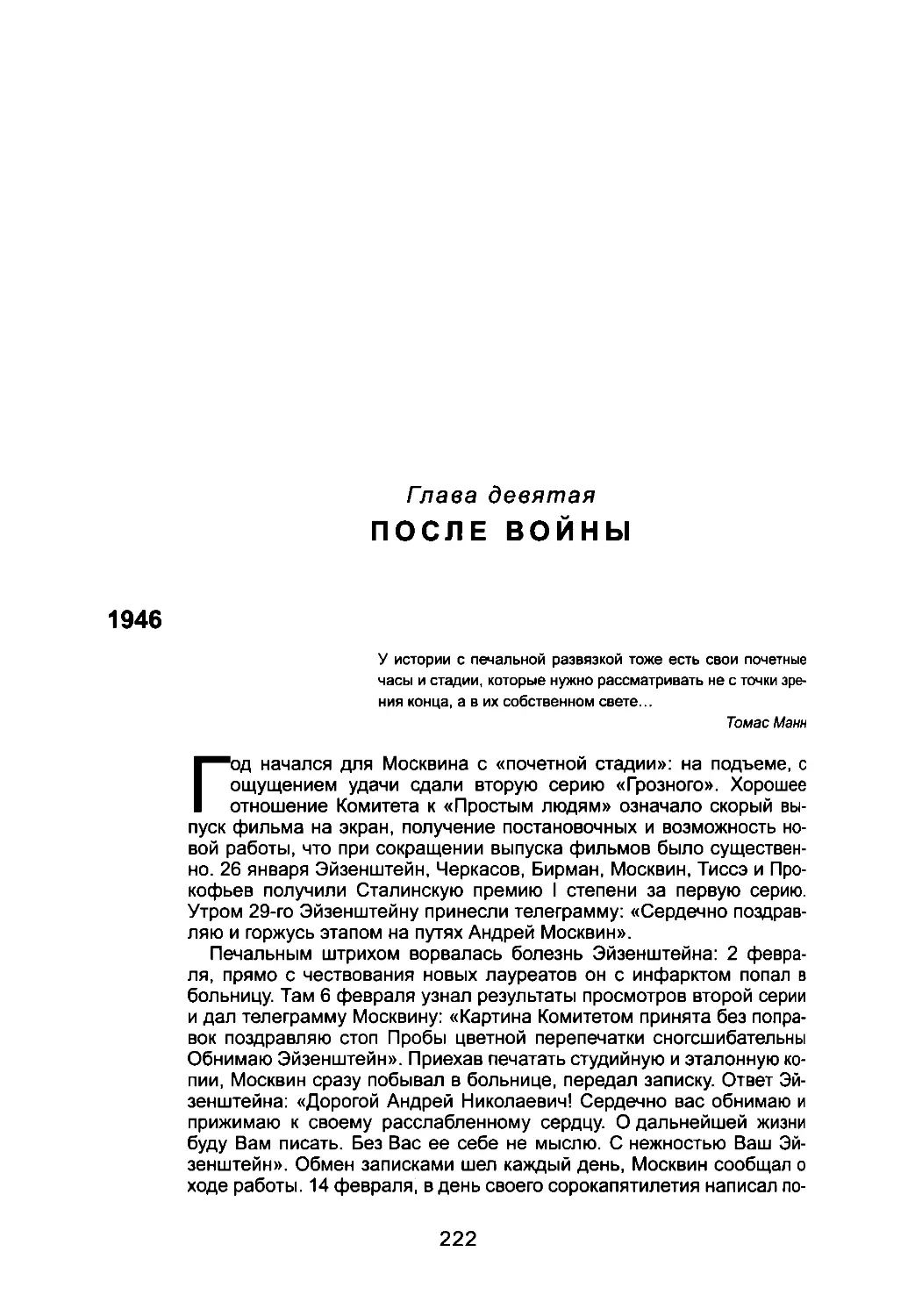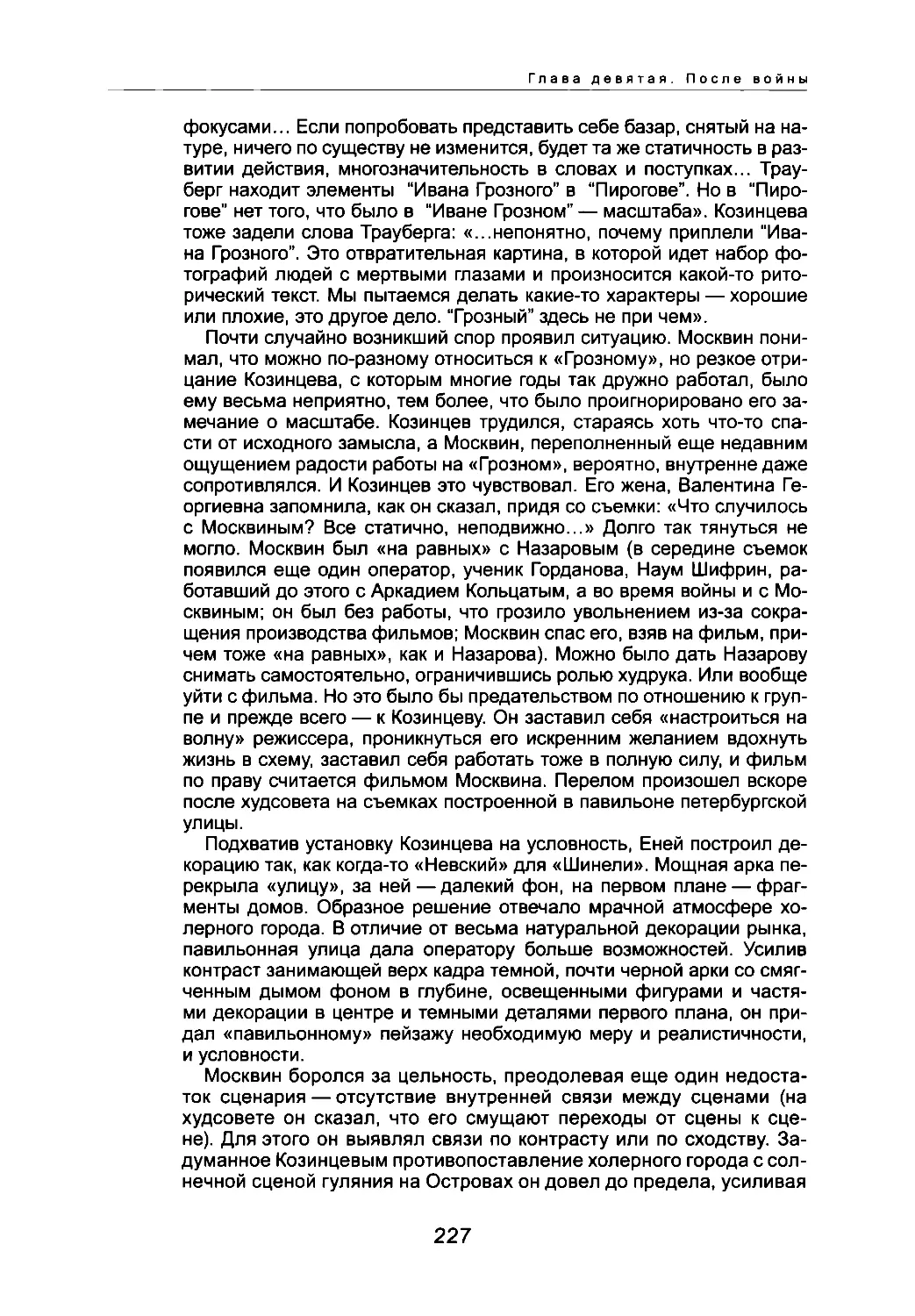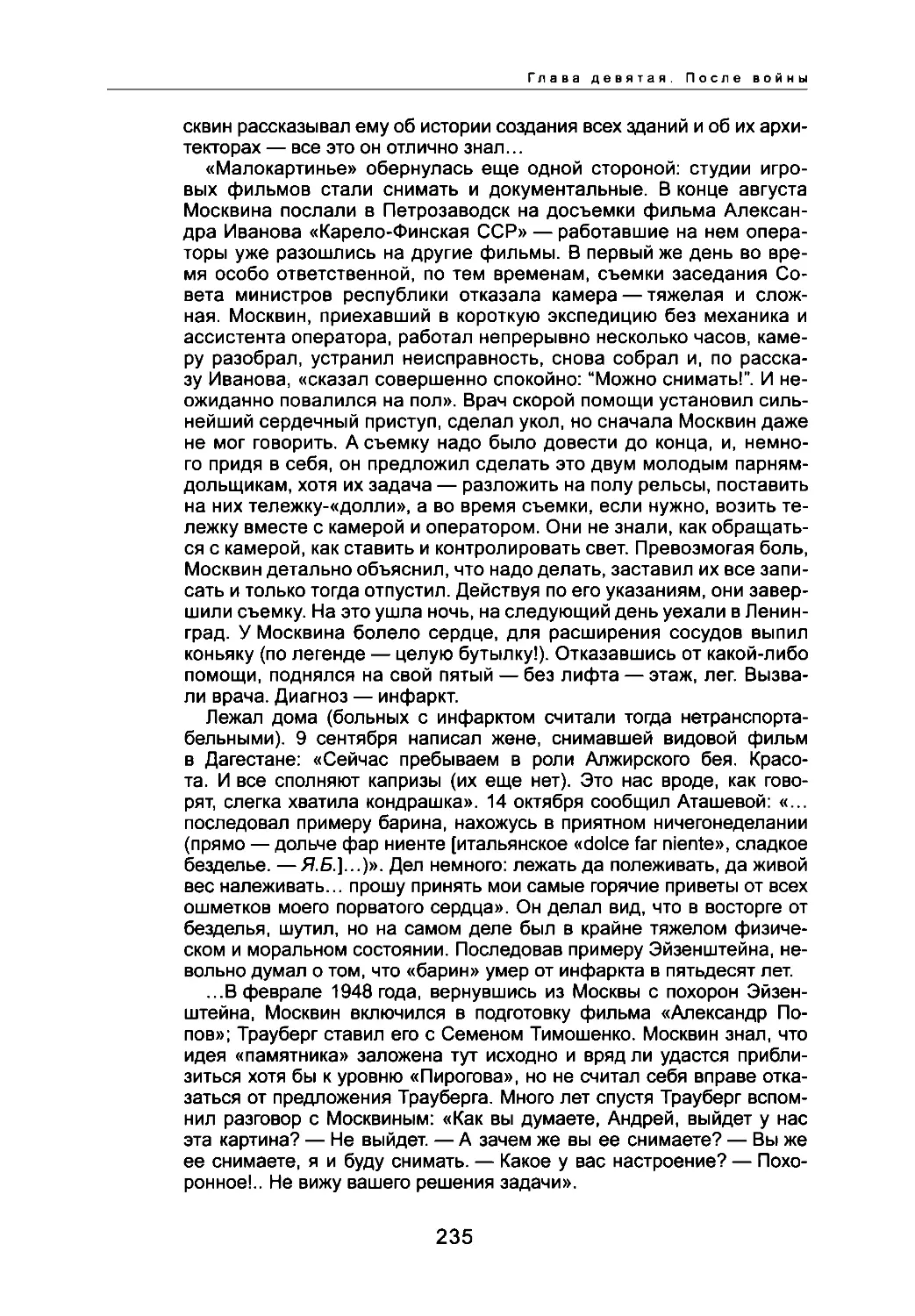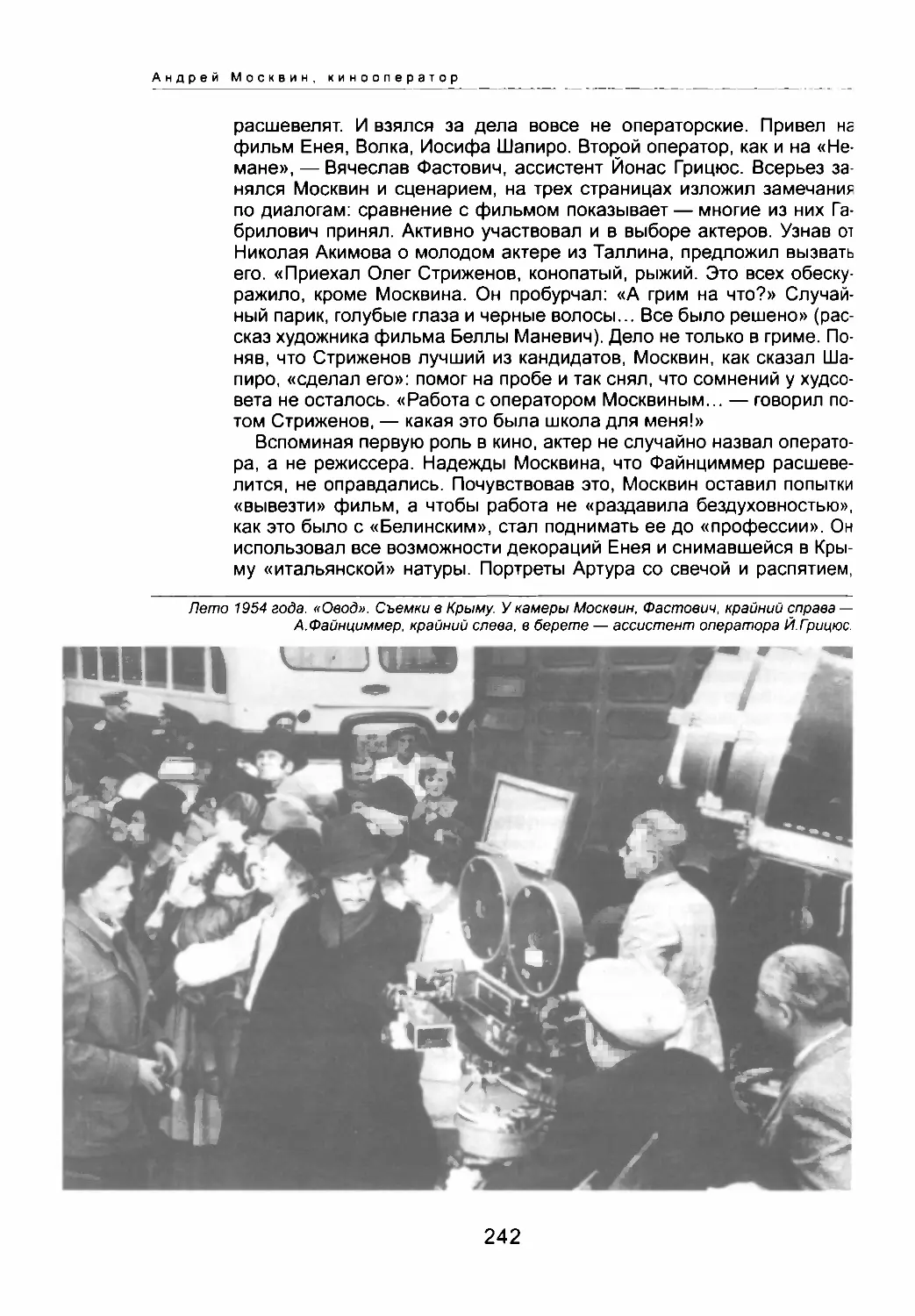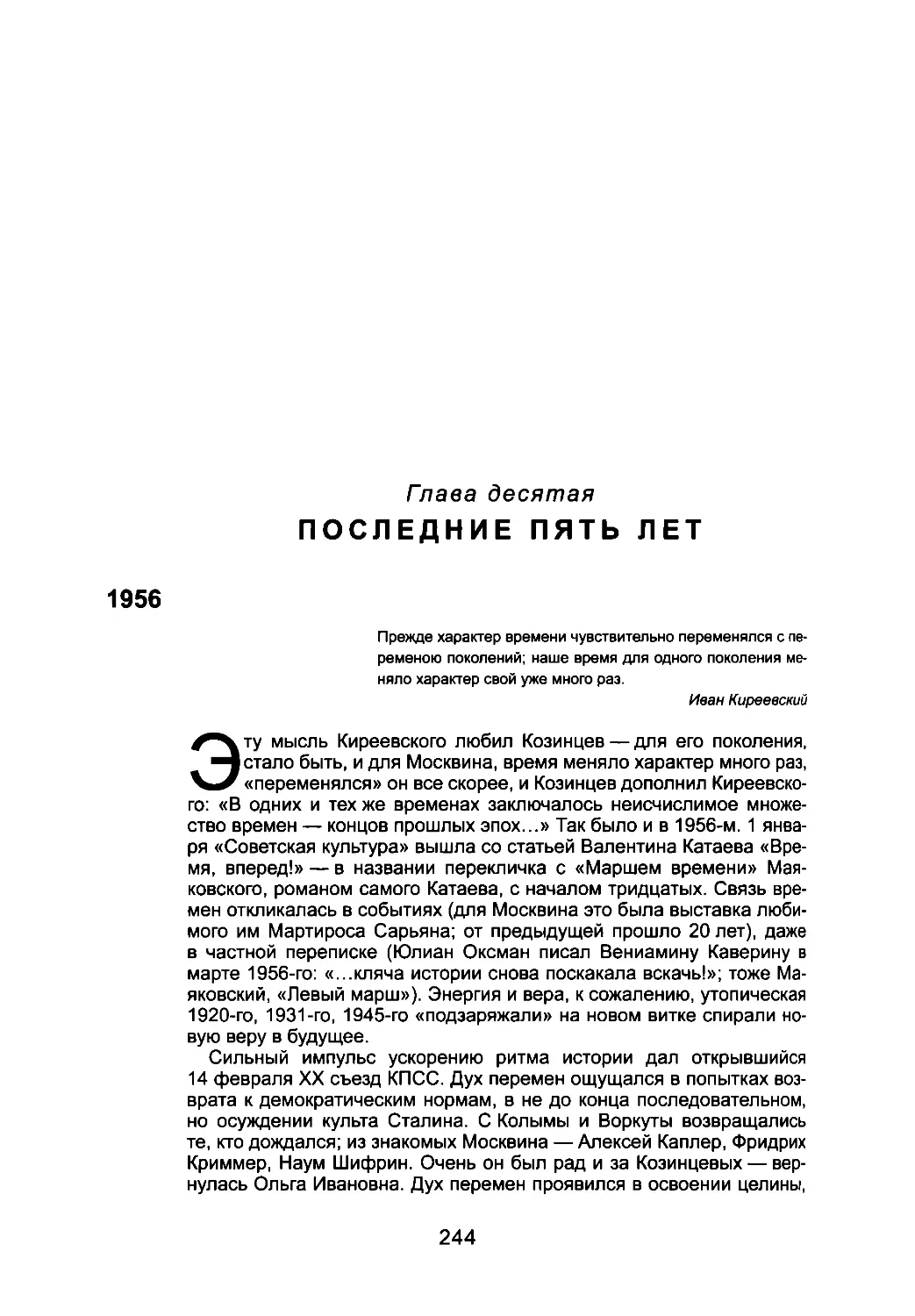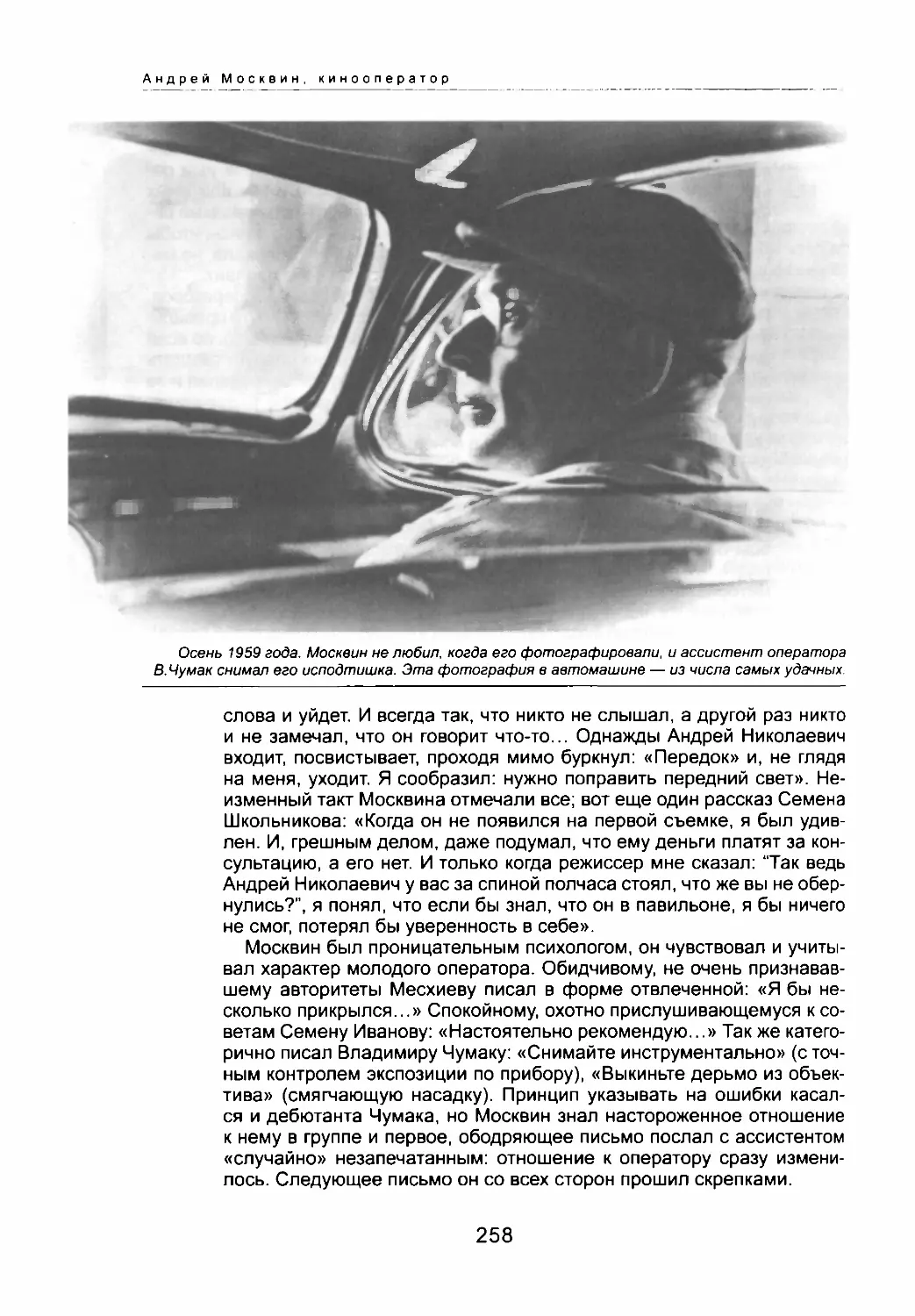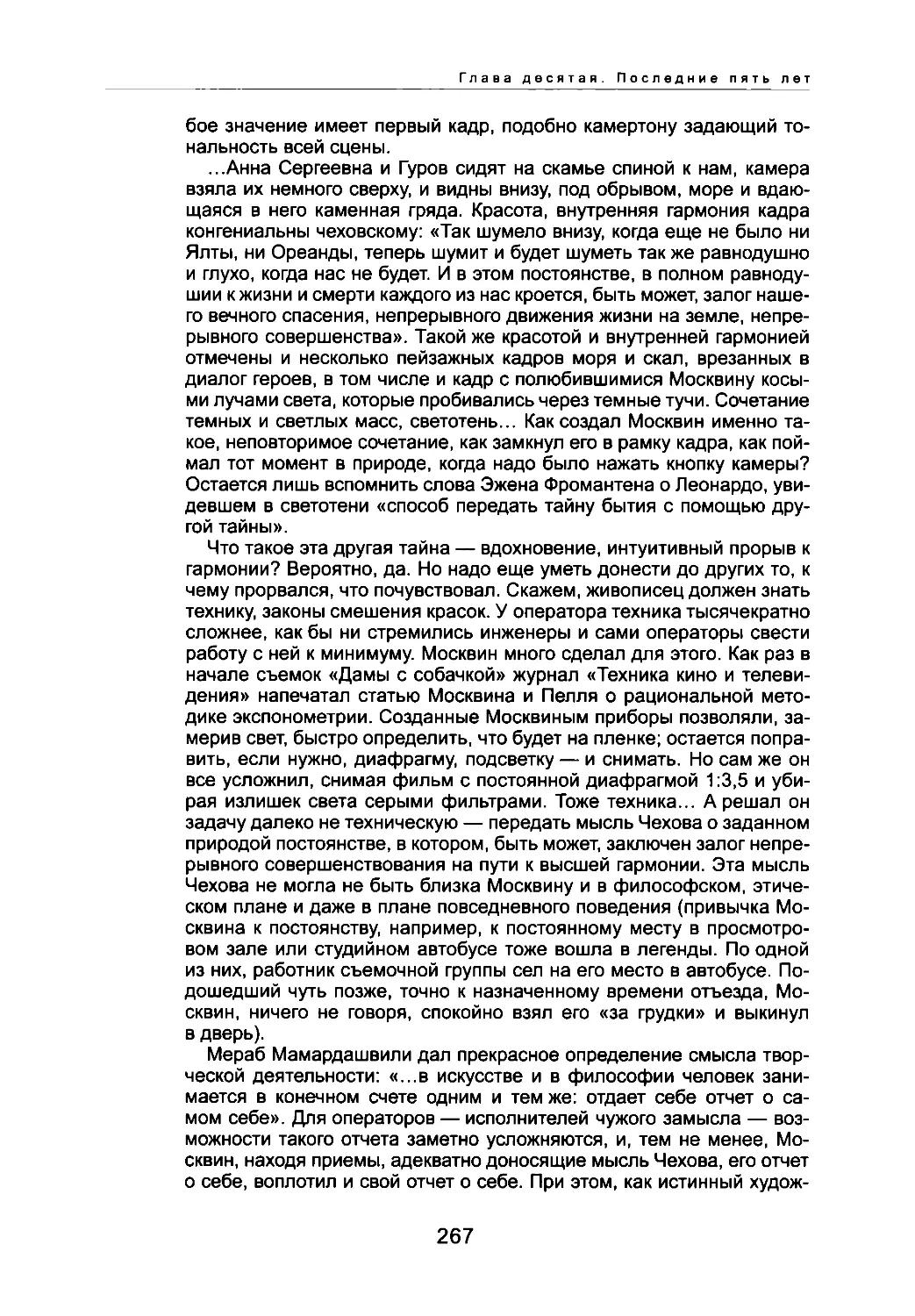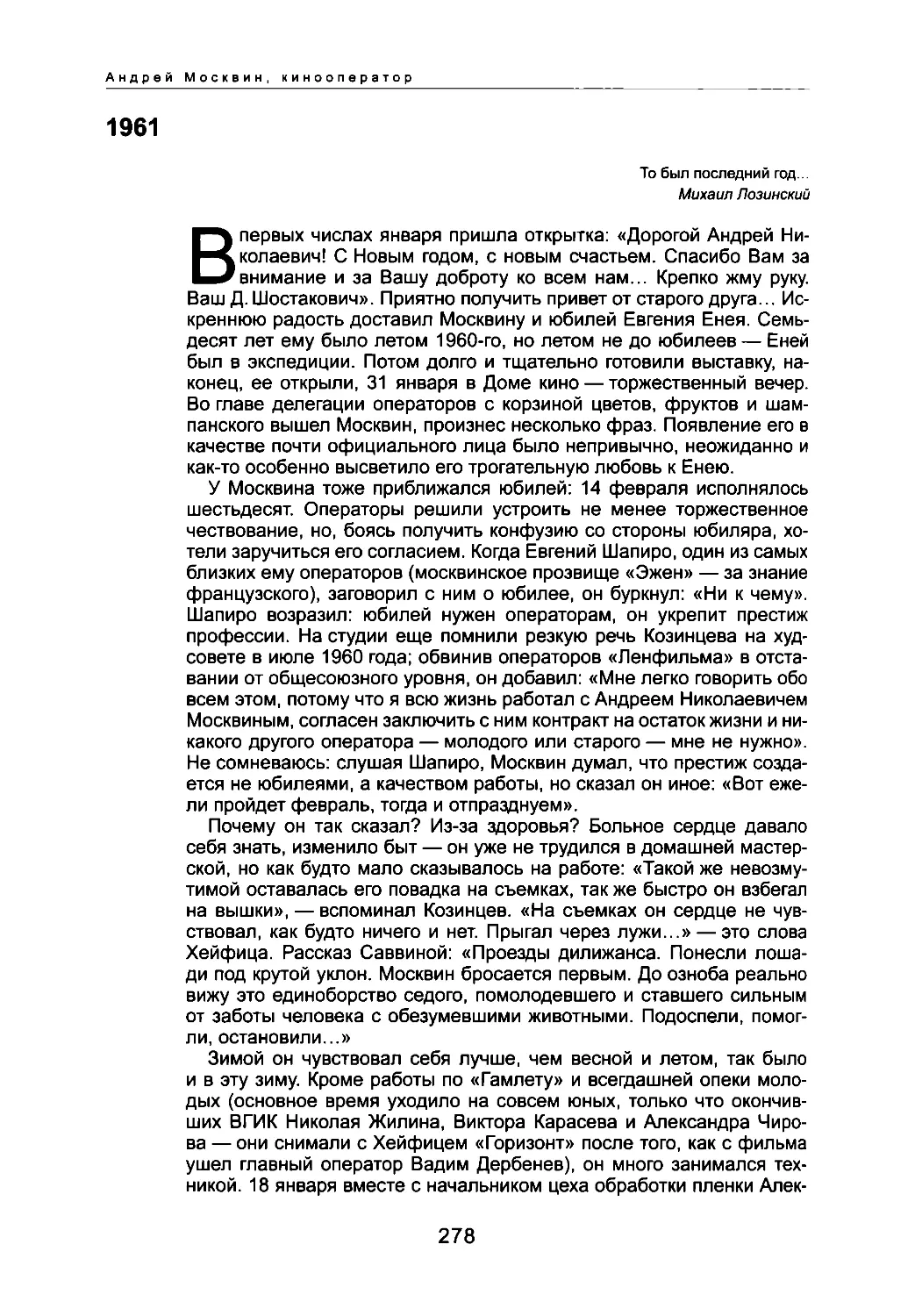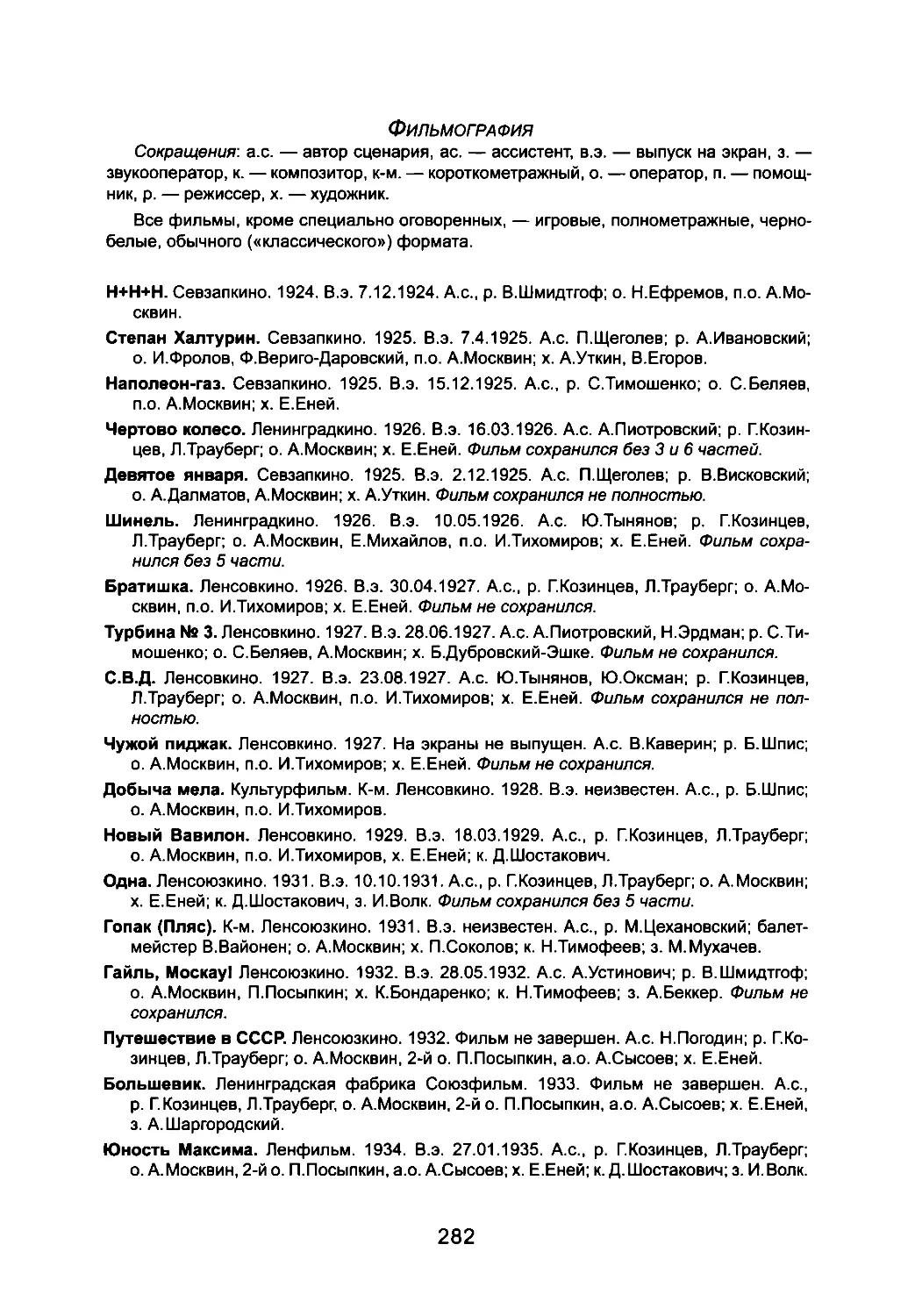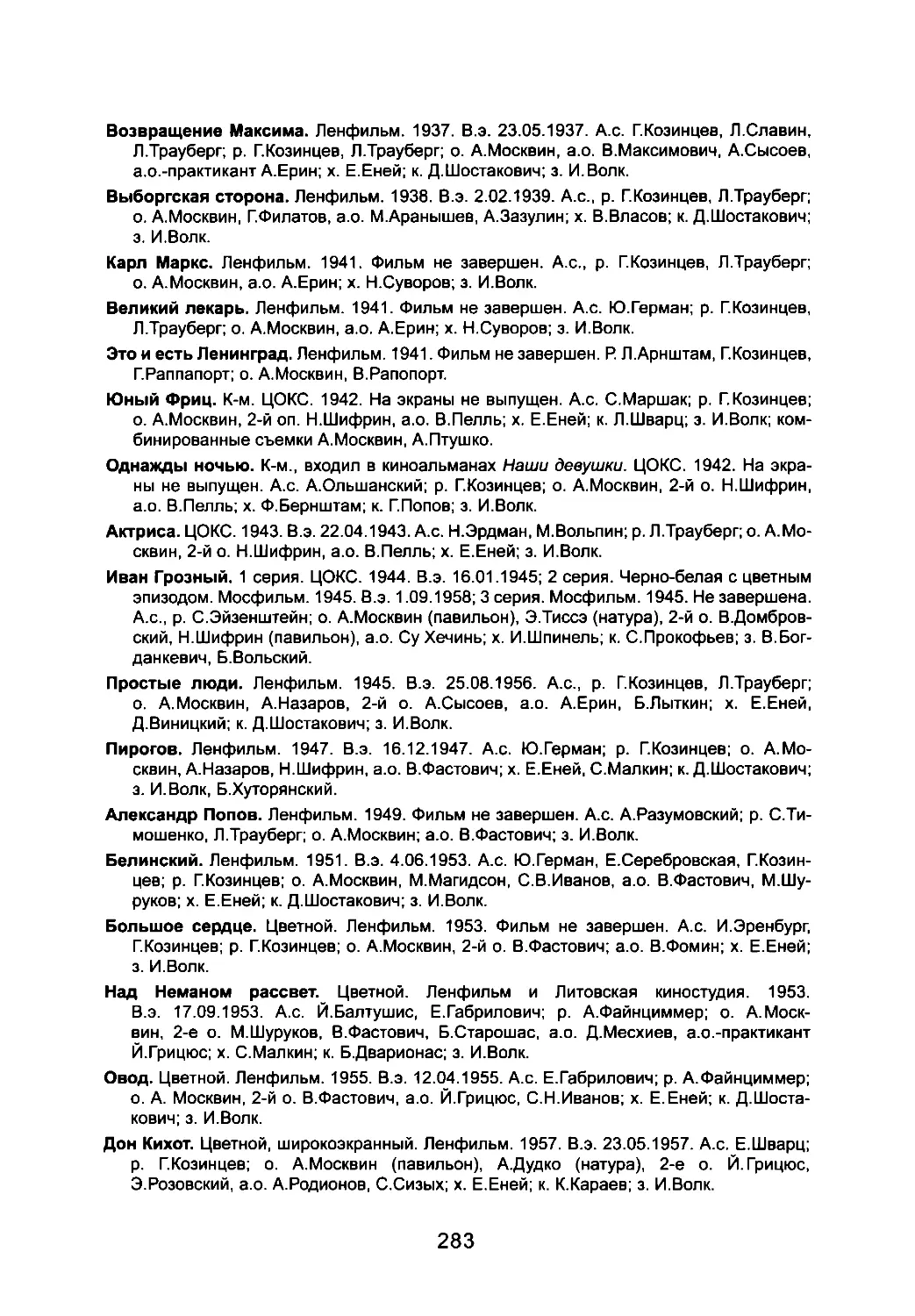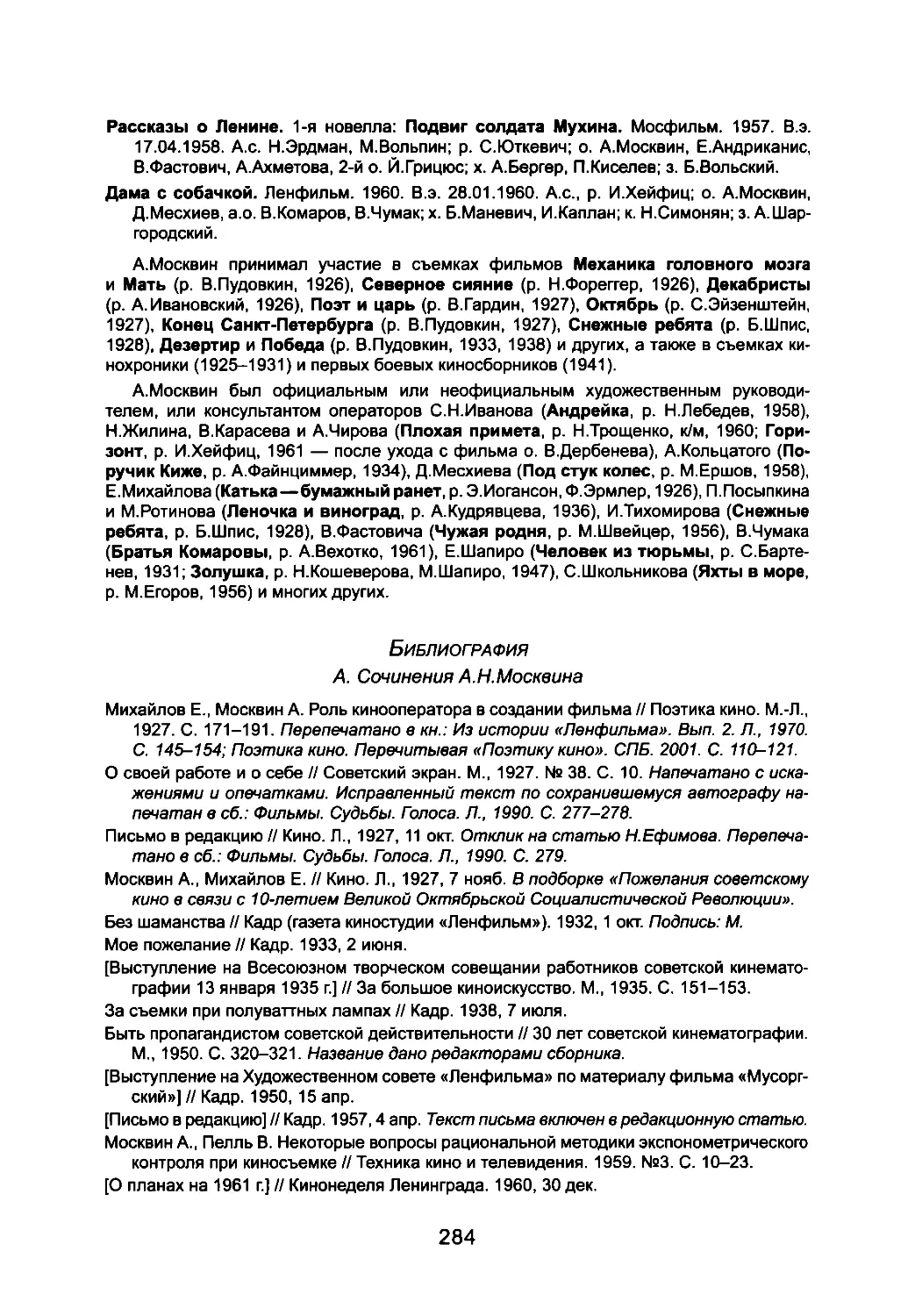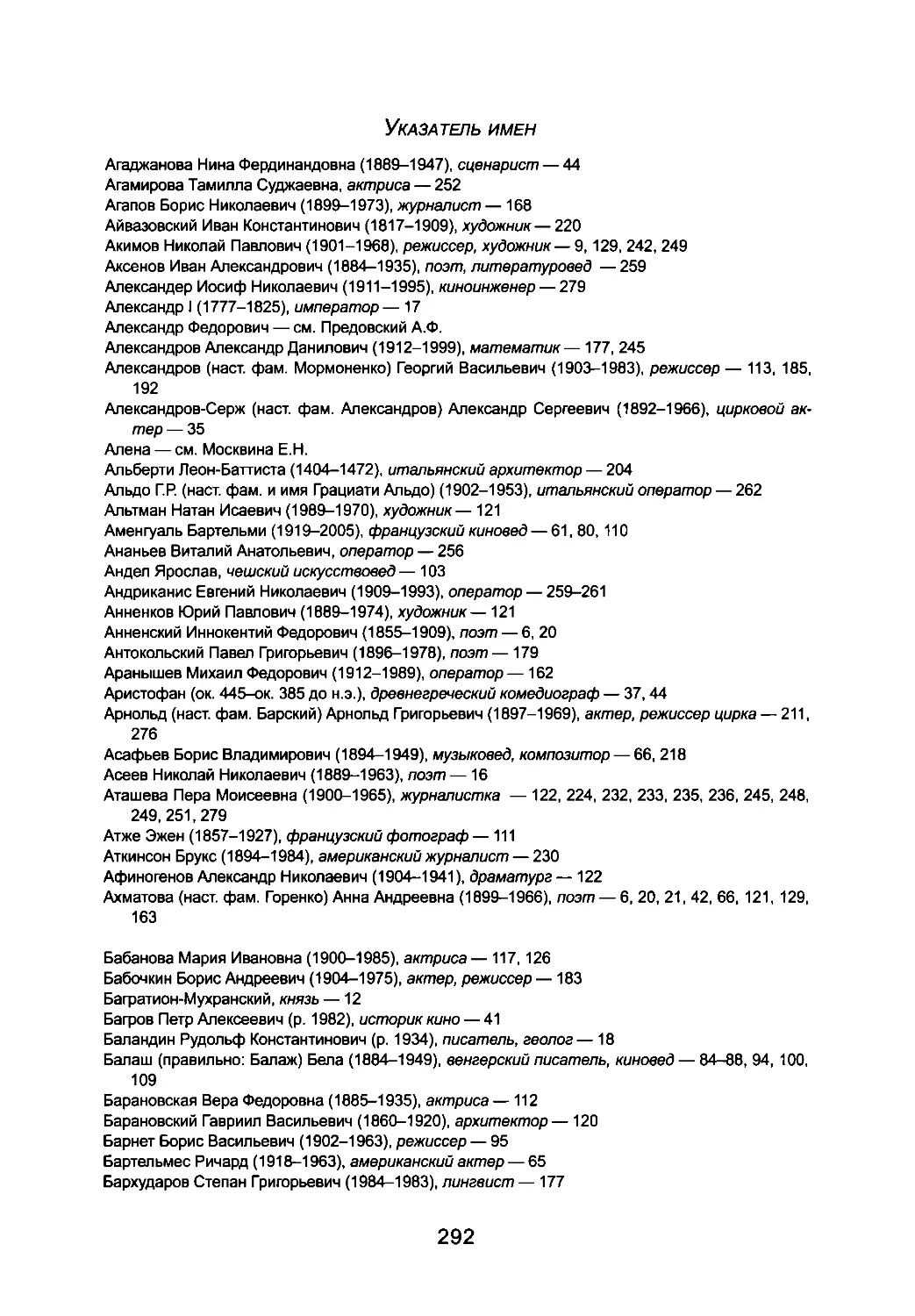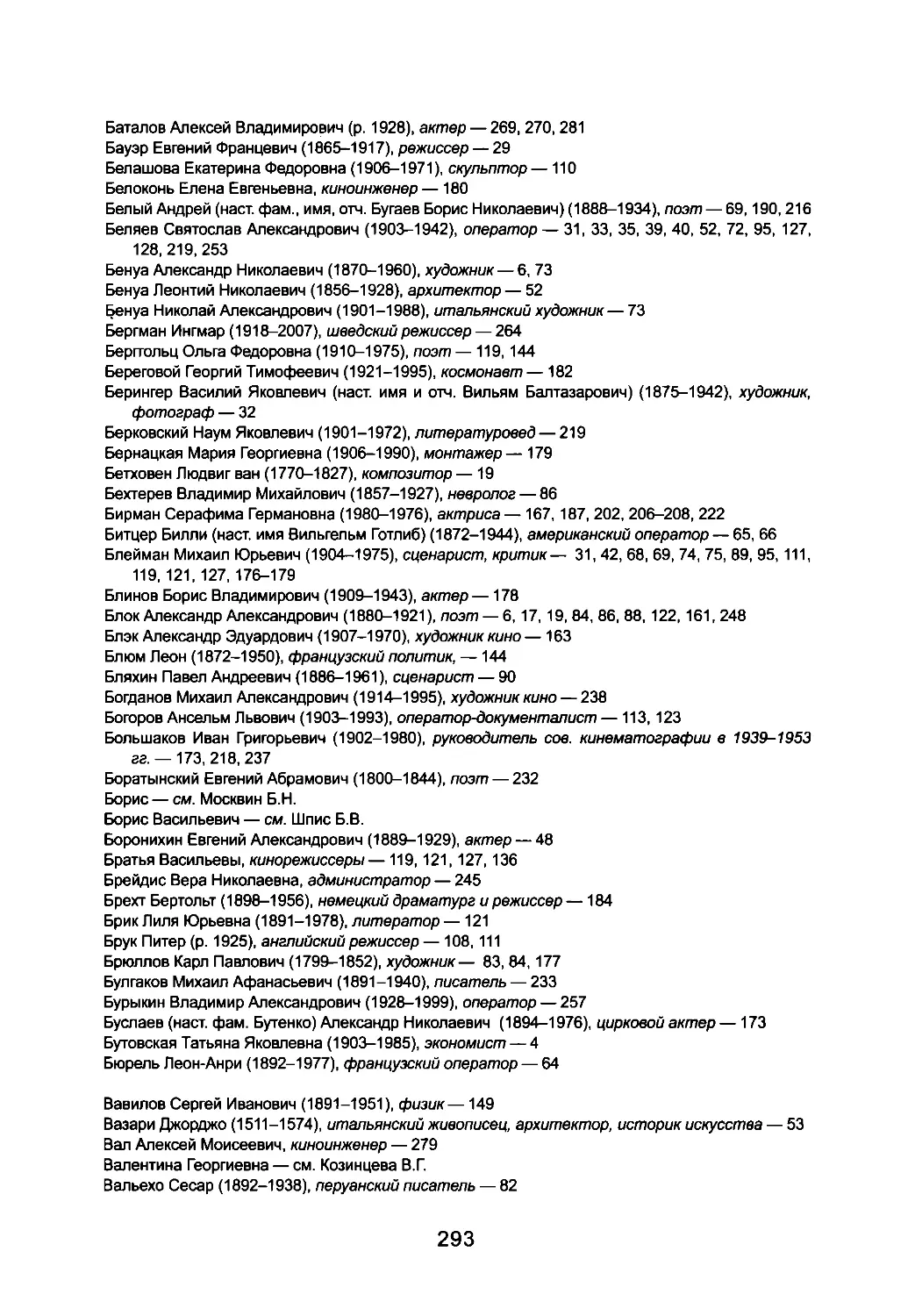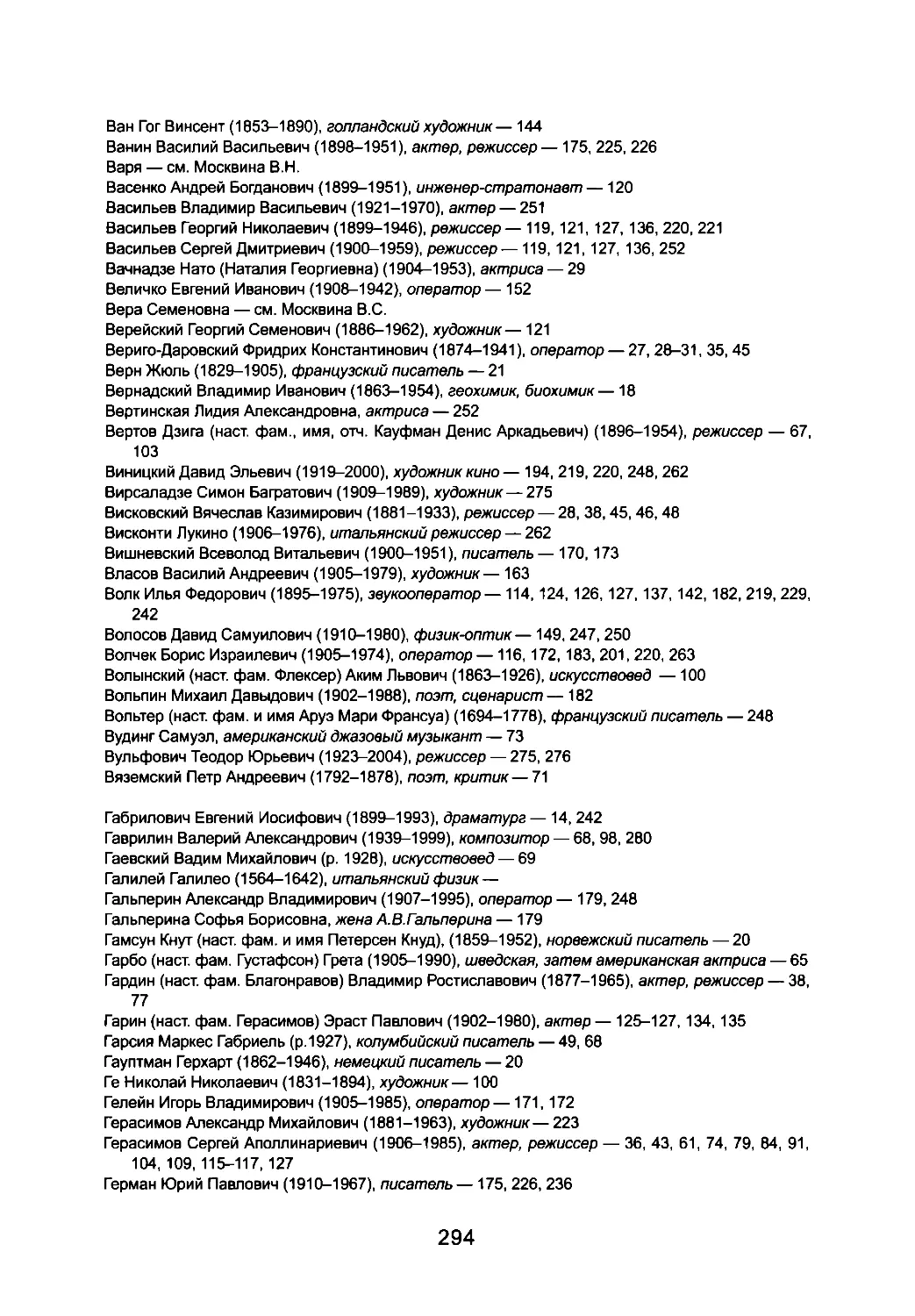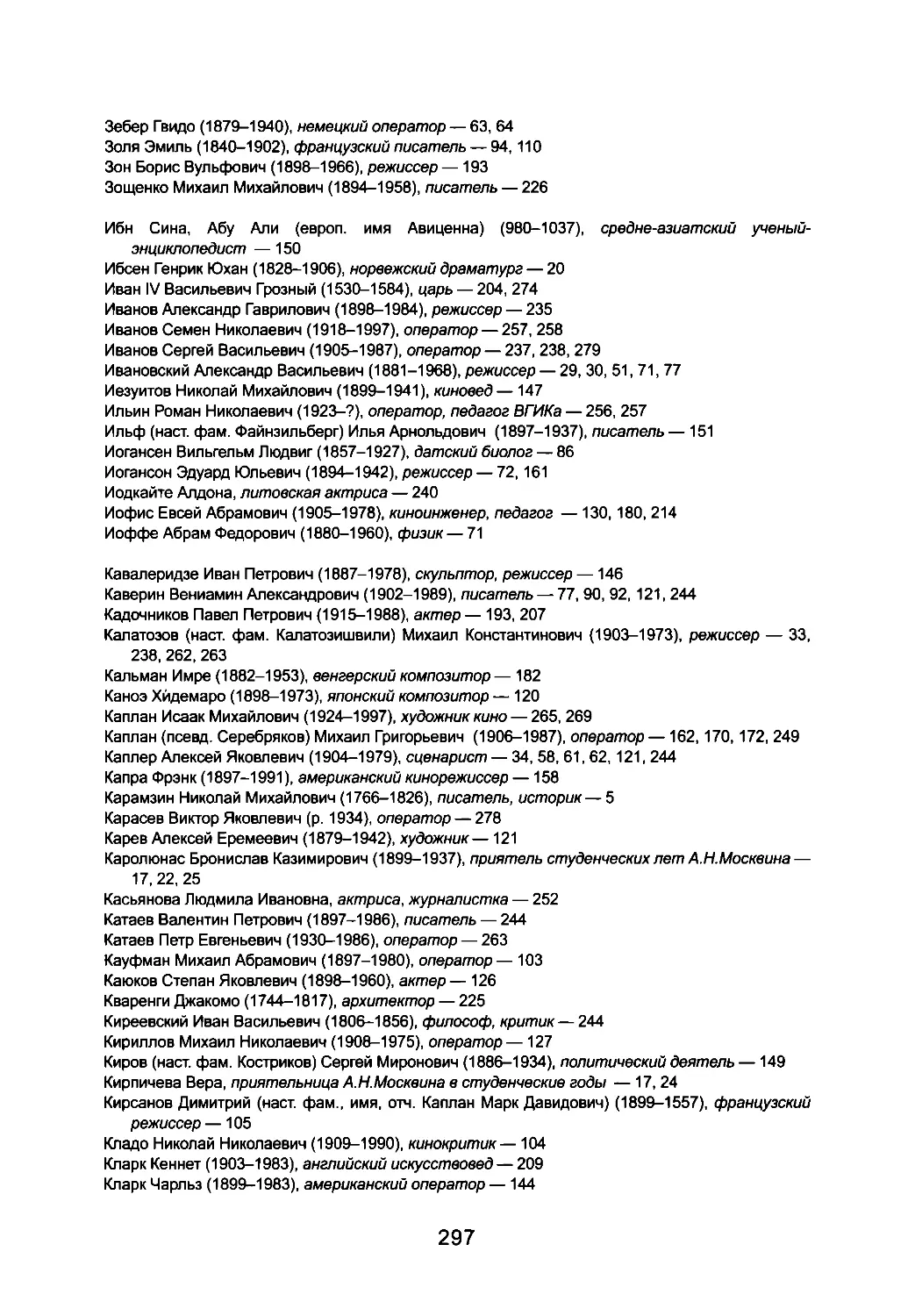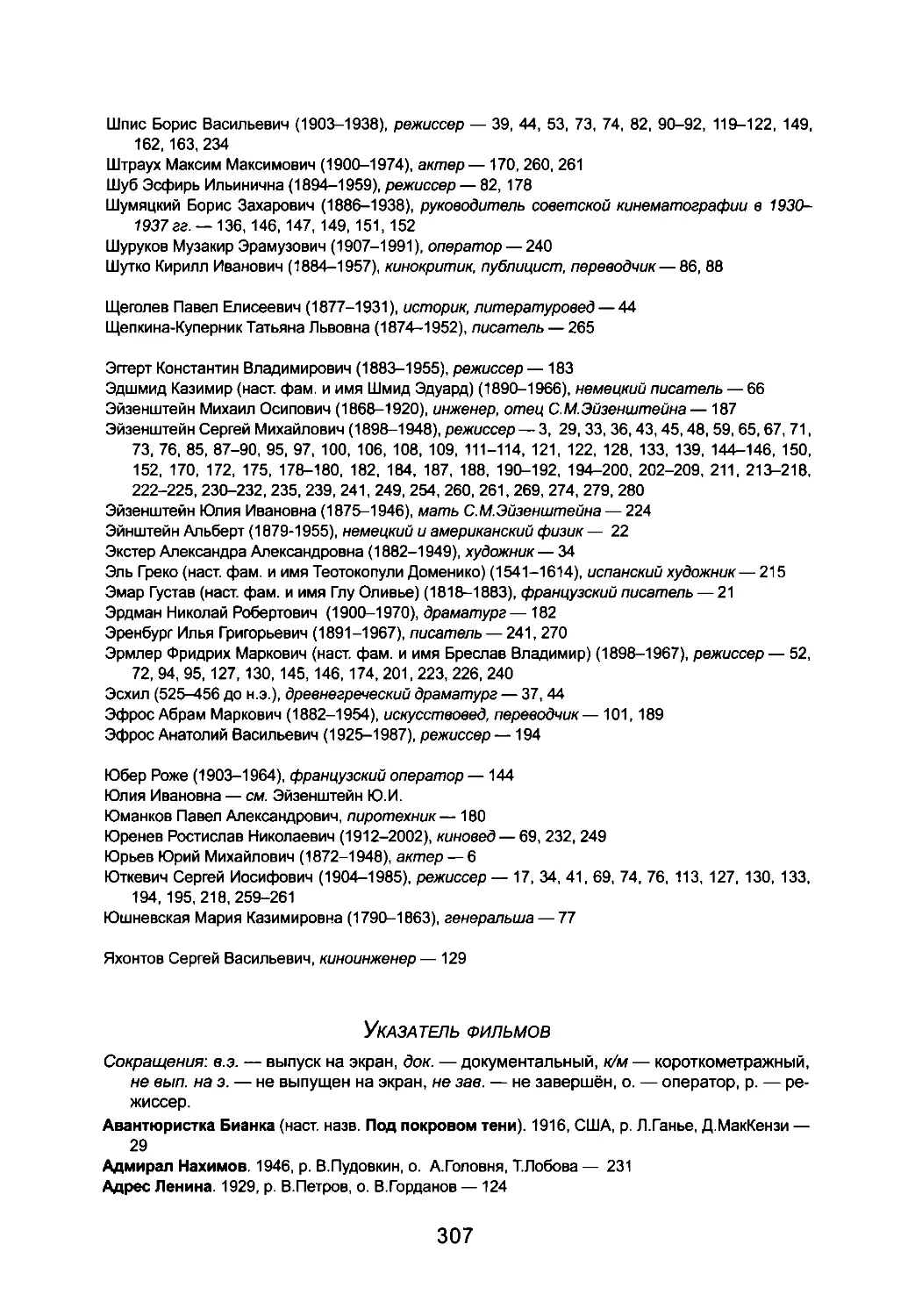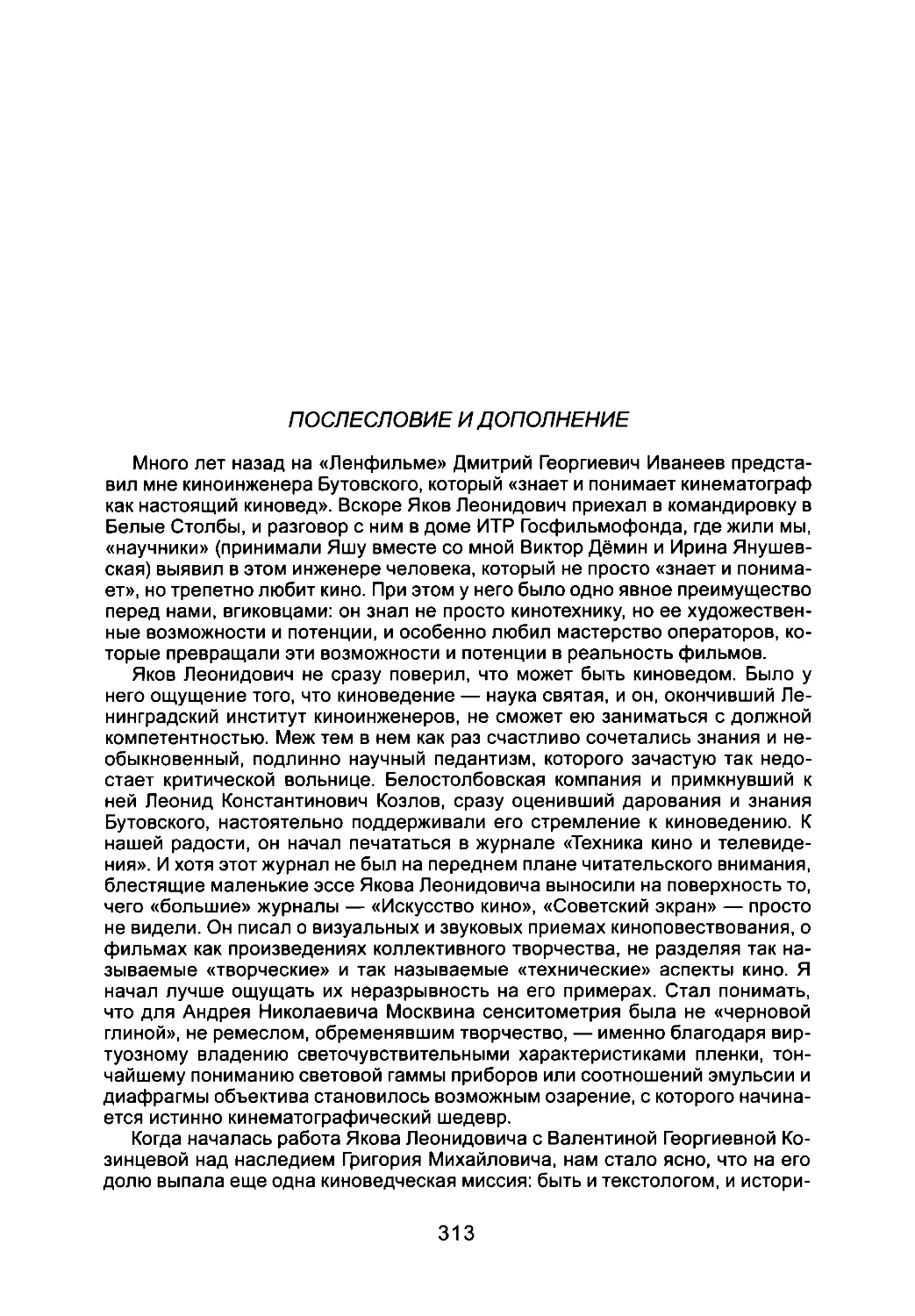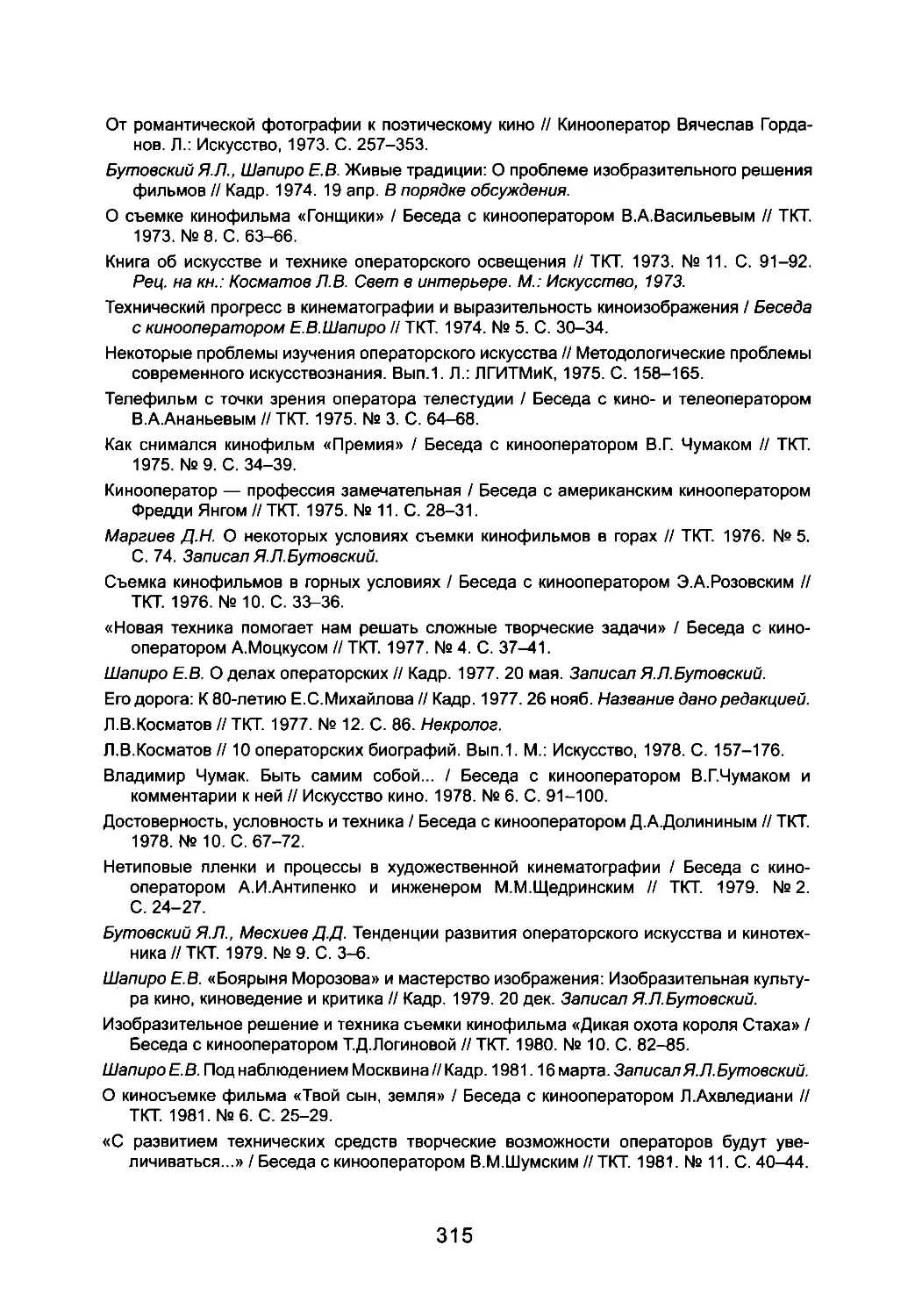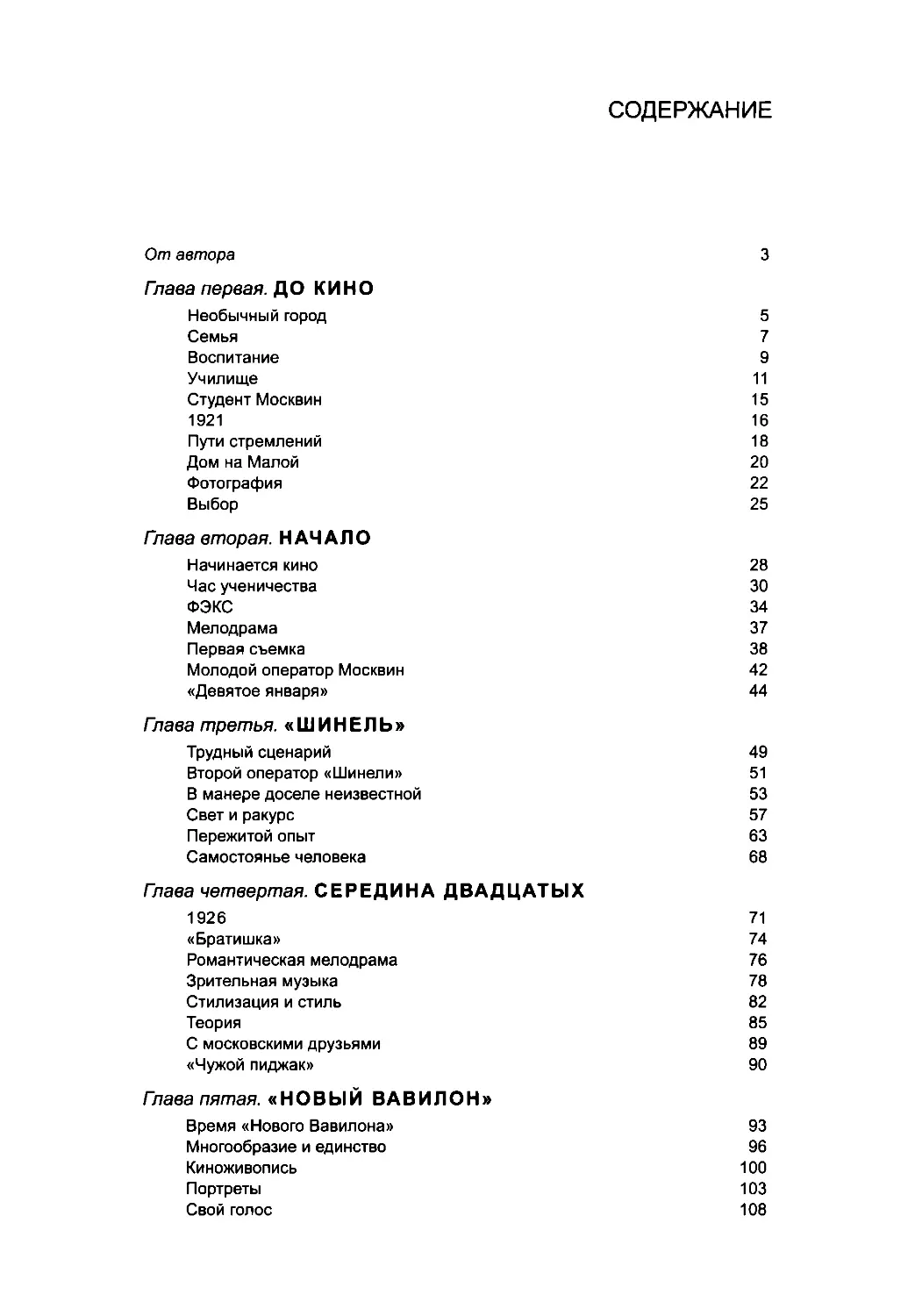Автор: Бутовский Я.
Теги: фотография кино киноискусство кинооператор москвин изображения на киноэкране
ISBN: 978-5-901631-18-8
Год: 2012
Текст
Библиотека журнала \< Киноведческие записки»
Андреи Москвин
Рисунок Николая Акимова. 1948 г.
Яков БУТОВСКИЙ
АНДРЕЙ МОСКВИН, КИНООПЕРАТОР
Издание 2-е, дополненное
Эйзенштейн-центр
Музей кино
«Киноведческие записки»
2012
К читателям
Две просьбы в связи с фотографиями, представленными в этой книге:
• Для того чтобы полнее показать А.Н.Москвина в жизни, в книге использованы не только профессиональные работы фотографов и операторов киностудий, но и любительские фотографии не всегда удовлетворительного качества, а также фотографии, переснятые с несохранившихся или недоступных оригиналов. Просьба учитывать это и не предъявлять слишком больших претензий полиграфистам.
• Произведение операторского искусства — изображение на киноэкране. Никакие фотографии отдельных кадров, даже если они напечатаны непосредственно с негатива фильма, не могут дать представления об искусстве оператора. Отсюда просьба — относится к напечатанным в книге кадрам из фильмов лишь как к напоминанию о великом искусстве А.Н.Москвина. Чтобы оценить его в полной мере, пользуйтесь любой возможностью смотреть его фильмы на большом экране.
ISBN 978-5-901631-18-8
© Эйзенштейн-центр. 2012
© Дашкова М.Б. Оформление. 2012
© Бутовский Я П. 2000, 2012
От автора
Андрей Николаевич Москвин — кинооператор, представитель древнейшей, в первые годы кино вообще единственной кинематографической профессии. Потом уже перед камерой возник актер, рядом с ней — режиссер, появились сценарист и художник: кино стало делом коллективным. Среди умеющих командовать режиссеров, умеющих подать себя актеров, умеющих достать деньги бизнесменов от кино, скромный человек с камерой как-то затерялся и вскоре оказался в положении механика. В числе тех, кто сумел превратить механика в художника, кто ввел операторское искусство в круг других искусств, был Андрей Москвин — оператор «Шинели» и «Нового Вавилона», трилогии о Максиме и «Ивана Грозного», «Дон Кихота» и «Дамы с собачкой».
Он принадлежал к старшему поколению советских кинематографистов. Придя на студии без дипломов киношкол и без всякого опыта, они уже первыми-вторыми своими фильмами вывели советское кино на передовые позиции в мире. Эйзенштейн вспоминал об «ощущении молодости и творческой насыщенности Ренессанса». Три молодых режиссера в шутку поделили между собой «личины великанов прошлого»: Эйзенштейн — Леонардо, Довженко — Микеланджело, Пудовкин — Рафаэль. Продолжив эту имеющую глубокий смысл шутку, можно поделить «личины великанов» между теми, кто создал советское операторское искусство: Москвин — Леонардо, Тиссэ — Микеланджело...
Уподобление Леонардо и Москвина имеет основанием не только сходные черты их художественных систем, но и некоторые общие черты их личностей, отмеченных сочетанием художественного дара и аналитического ума ученого. Операторское искусство, рожденное на базе новейшей техники, нуждалось в таких людях. Москвин по своим человеческим качествам, по совокупности способностей и талантов,
по особой гармонии художника и ученого был ближе к идеалу оператора, чем кто-либо иной из операторов его поколения.
Об этом книга. Но прежде чем начать ее, надо еще сказать, что вряд ли можно назвать кого-нибудь из выдающихся наших кинематографистов, о ком было бы известно столько мифических историй и анекдотов, как о Москвине. Появились они еще при его жизни. Потом к устным легендам добавились письменные: многие из тех, кто писал о Москвине, не избежали искушения поведать о нем еще один анекдот.
К Москвину можно отнести слова, сказанные Александром Лейте-сом о Велимире Хлебникове: «Много всяких анекдотов — преимущественно трогательных — рассказывалось о так называемых чудачествах и странностях Хлебникова. В анекдотах этих большей частью не было неправды. Но не было в них и настоящей большой правды, до которой так хочешь докопаться, когда думаешь о нем». Чтобы хотя бы приблизиться к подлинной правде о Москвине, пришлось проверять и перепроверять факты, сличать свидетельства тех, кто знал его, сверять эти свидетельства с архивными документами.
Сделать это можно было только при благожелательном участии многих людей; они перечислены в конце текста. Всем им, как и тем, кто не упомянут — родным, друзьям, коллегам, ученикам Москвина, сотрудникам «Ленфильма» и «Казахфильма», Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга и других архивов, а также моим дорогим друзьям Науму Клейману и Леониду Козлову, не пожалевшим времени, чтобы прочесть большие фрагменты рукописи первого издания книги и высказать полезные замечания, я бесконечно благодарен.
К великому сожалению, книгу не смогут прочесть те, кто должны были стать первыми ее читателями, — моя мама Татьяна Яковлевна Бутовская, мой старший друг Рашель Марковна Мильман, замечательные кинооператоры Евгений Сергеевич Михайлов и Дмитрий Давыдович Месхиев. Книга посвящена их памяти.
* * ♦
Своим появлением на свет 2-ое, дополненное издание книги об А.Н.Москвине обязано инициативе и бескорыстной помощи «Эйзенштейн-центра» и редакции «Киноведческих записок». Считаю своим долгом сердечно поблагодарить сотрудников Центра и журнала Н.А.Дымшиц, С.М.Ишевскую и М.Б.Дашкову за отличную организацию всей работы по изданию, за неизменно доброжелательные содействие и обсуждения, за прекрасный дизайн книги, а также сотрудников Музея кино во главе с Н.И.Клейманом, предоставившим часть материалов для иллюстраций.
Искренне благодарю всех, кто обсуждал со мной 1-ое издание, и отдельно П.А.Багрова и Д.Г.Иванеева за помощь в подготовке научного аппарата 2-го издания, а также О.В.Домбровскую за материалы, касающиеся Д.Д.Шостаковича, и, конечно, Н.Я. и А.Я.Бутовских — за постоянную и незаменимую поддержку.
Гпава первая
ДО КИНО
НЕОБЫЧНЫЙ ГОРОД
Отечество нам — Царское Село.
Александр Пушкин
Пушкин родился в Москве, но Отечеством своим назвал город, где учился дружбе и любви, наукам, жизни. Вслед за ним назвать этот город Отечеством могли и его соученики-лицеисты, и еще многие и многие замечательные люди России, чья судьба связана с Царским Селом рождением или жизнью в нем. Отечеством оно было и для Эриха Голлербаха, автора книги «Город муз»; строка Пушкина — ее первый эпиграф. Другой — слова бельгийского писателя Жоржа Роденбаха: «Города обладают индивидуальностью, резко выраженным характером... Город — обособленная душа, и стоит прожить в нем немного, как влияние этой души коснется вас подобно электрическому току». Царское Село было молодым городом (основано в 1710 году), но, безусловно, имело «резко выраженный характер», и душа его влияла на тех, кто жил в нем, особенно заметно. Вот почему рассказ об Андрее Москвине начинается с города: здесь он родился 1 февраля (по старому стилю) 1901 года, здесь же в Пушкине— так город называется с 1937 года — он и умер 28 февраля 1961 года.
Каким был город в начале XX века? Прежде всего — и это, пожалуй, главное, — город, в котором жили Державин и Карамзин, где Лермонтов написал «Маскарад», Гоголь читал Пушкину и Жуковскому «Вечера на хуторе близ Диканьки», а Глинка начал писать свои «Записки», город, в котором служил Чаадаев, учился Салтыков-Щедрин и скончался Тютчев, сохранил право называться «городом муз». Удиви
тельная красота парков с неповторимой естественностью перехода от регулярной части к пейзажной; мощное, но не подавляющее величие дворцов и живописное разнообразие парковых павильонов; какая-то особая тишина; наконец, идущая еще от Ломоносова, поддержанная Пушкиным поэтическая традиция (Анна Ахматова: «Здесь столько лир повешено на ветки...») — всё это и в поворотные для русского общества и искусства годы оставалось притягательным для служителей муз. В Царском жили Анненский, Ахматова, Гумилев, на собрания «Цеха поэтов» приезжали из Петербурга Мандельштам и Городецкий. Живой связью с XIX веком были писатель Мамин-Сибиряк и учитель целого поколения художников Чистяков. Живописца и декоратора Головина часто посещали Станиславский, Юрьев, Мейерхольд. Постоянно и подолгу бывали здесь мирискуссники Бенуа, Сомов, Добужин-ский; приезжали к друзьям Блок и Скрябин; Есенин проходил здесь военную службу. Входили в литературу молодые царскоселы — Всеволод Рождественский, Ольга Форш...
«И тут же, рядом с приютом муз — вертоград человеческий», — написал Голлербах. В самом деле, Царское Село — дворцово-парковый ансамбль, царская резиденция. Но это и город, спланированный по линейке и поделенный парками и прудами на две части. Одна — казармы гвардии, другую заселили царскосельские обыватели. В 1910 году из 31 тысячи жителей треть составляли военные, много было отставных генералов и чиновников, а основная часть населения так или иначе была связана с обслуживанием резиденции. «Москвичи любят свой город и зовут его “Сердцем России”, петербуржцы ругают столицу, но признают ее “Мозгом России”, а царскосел квартирует в дворцовом городе и гордится тем, что живет в “Спальне Петербурга”», — так в 1912 году представил размеренную сонную жизнь обывателей журнал «Царскосельская мысль».
Вспоминая девятисотые годы в «Царскосельской оде», Ахматова упомянула о дощатом заборе, извозчичьем дворе, кабаке: «Там солдатская шутка/Льется, желчь не тая.../Полосатая будка/И махорки струя./Драли песнями глотку/И клялись попадьей,/Пили допозна водку,/Заедали кутьей»». Словам Ахматовой вторит из прошлого призыв «Царскосельской жизни» создать в городе Общество трезвости: «Иначе... в соседстве с училищами еще долго будет благоденствовать и пьяным хохотом и отвратительными ругательствами нарушать тишину города наша пресловутая “Мазовка”». Училища упомянуты не случайно. Город гордился гимназией и реальным училищем — они старались продолжить традиции Лицея. Но каждый пятый житель был неграмотен. Город гордился своей историей, был верен и поэтическим традициям — на Юбилейной выставке 1911 года в царскосельском Эрмитаже можно было увидеть автографы Пушкина, картины Лермонтова, реликвии Жуковского и Тютчева. И этот же город был «спальней Петербурга». В благоговейной тишине писали этюды лучшие русские художники, в доме Гумилевой собирался «Цех поэтов». А в нескольких кварталах от него была пьяная «Мазовка».
«У этого необычного города было два облика, две души», — сказал Всеволод Рождественский. В необычном городе прошли детство и юность Андрея Москвина.
СЕМЬЯ
Он нисколько не в отца (лучшее, что может сын)... Мужчина по материнской линии потому так богат (двойное наследство).
Марина Цветаева
Из дома №6 по Новой улице вынесли ковер, расстелили на траве, поставили два стула: надворный советник, инженер Николай Дмитриевич Москвин и его жена Вера Семеновна, дочь орловского личного почетного гражданина Харитонова, фотографировались с детьми. Старшие — Семен, Варя и Андрей встали сзади; средние — Алена и Боря сели на ковер; младшие пристроились к родителям— Миша стоит, а Гриша (ему еще нет четырех лет) сидит на коленях у мамы.
По какому поводу решили сфотографироваться всей семьей? Потому что Семен принес домой прекрасный аттестат об окончании реального училища? Или по случаю перехода Андрея в 3 класс с наградой I степени? Может быть, это было 2 августа — Семену исполнилось 16 лет. Повод не так уж важен. Важно другое — вся семья вместе, все здоровы, благополучны, могут безбоязненно смотреть в будущее. Семен знает, что через год окончит дополнительный класс училища, поступит в Технологический институт и как отец станет инженером. Не один Семен — все мальчики, даже Гриша, знают, что будут инженерами, ибо велик авторитет отца. Сам он на фотографии очень серьезен. У него большие планы, осуществление их
Николай Дмитриевич и Вера Семеновна Москвины. Эти фотографии Андрей Николаевич особенно любил — здесь его родители совсем молодые.
Семья Москвиных.
Фотография лета 1913 года Кто-то из младших мальчиков процарапал на негативе первые буквы имен. Впереди — Алена (Елена) и Боря, в центре — родители, Миша и Гоиша, сзади — Семен, Андрей и Варя.
требует времени, но он уверен в успехе, в будущем детей. Вера Семеновна выглядит усталой, это можно понять: нелегко родить, воспитывать, кормить и одевать такую ораву; хорошо хоть дети здоровые, да и Семен с Верой помогают справиться с младшими; самое трудное позади...
Лето 1913 года, последнего относительно спокойного года Российской империи. Взрослые и дети на фотографии тоже спокойны: они не знают, что через год начнется война и поставит крест на честолюбивых замыслах Николая Дмитриевича; он не переживет этого и в апреле 1915-го, в 53 года, скончается от апоплексического удара. Еще через два года в названии Царскосельского реального училища исчезнет имя Николая II. Октябрь 1917-го превратит империю в Советскую республику, Царское Село — в Детское, реальное училище — в Тру-
довую школу №2, а судьбу юных Москвиных повернет самым неожиданным образом.
Вряд ли в 1913 году Николай Дмитриевич поверил, если бы ему сказали, что ни один из его сыновей не окончит Технологический институт, хотя двое поступят в него; ни один вообще не окончит технический вуз, хотя трое будут успешно трудиться на инженерном поприще. Еще больше он удивился бы, узнав, что двое его детей станут лауреатами высших наград, именуемых «Сталинскими премиями», а Семен — его гордость — «врагом народа». Откуда знать довольной здоровьем детей Вере Семеновне, что из семерых четверо не доживут до 46 лет, которые она сама прожила к этому дню. И уж совсем трудно было бы ей представить, что через пять лет Андрей будет вырезать из толстого ковра, украшающего семейную фотографию, подошвы для самодельных сапог...
Фотография 1913 года случайно избежала участи других фотографий и документов семейного архива, погибшего в многочисленных передрягах, и сохранилась у младшего — Григория Николаевича. В двадцатые годы окончив школу, он не смог поступить в институт, но своего
добился: стал одним из ведущих конструкторов танков Кировского завода, кавалером ордена Ленина, лауреатом Сталинской премии. И все его братья и сестры были столь же способными и целеустремленными, «головастыми», как сказал видный ленинградский инженер Александр Предовский, — он учился с Андреем в одном классе и в одном институте. Еще он сказал: «Род Москвиных — это племя такое... Их бы разводить надо!» И все они — кроме Андрея! — шли по стопам отца и стали «технарями». Вот и Варя — постоянная сестра милосердия в мальчишеских войнах, с детства мечтавшая быть врачом, выбрала самую техничную медицинскую специальность — хирургию.
Андрей — другой. Тогда, в 12 лет, это не было заметно. Разве что более молчалив (по легенде, которую сам Москвин не отрицал и даже поддерживал, он до пяти лет вообще не говорил). Андрей похож на мать: высокий покатый лоб, тонкий прямой нос, энергичная линия скулы, «скульптурные», хорошо вылепленные, слегка оттопыренные уши. В нем чувствуется «порода», то, что Цветаева назвала «сокровеннейшим из сокровищ». Это хорошо видно на фотографии Москвина в профиль и без очков, сделанной в конце 40-х годов. Тогда же его нарисовал Николай Акимов, и тоже в профиль, — видимо, при этом становились особенно заметными и благородство «породы» и вся природа модели. Не нужно думать, что «порода» — привилегия аристократии, старинного дворянства. Ничего дворянского в Москвиных не было: дед по отцу был купцом и почетным гражданином Царского Села, имел лабаз на Малой улице; дед по материнской линии, судя по званию «личного почетного гражданина», — из купцов или мещан. «Порода» Андрея Москвина идет от крестьян из русской глуши, что отмечены врожденным благородством, истинно крестьянской смекалкой и той настоящей интеллигентностью, суть которой не в поверхностной эрудиции, многознании, а в глубоком понимании человека, жизни. Коротко говоря, это та порода, которая была у Антона Чехова.
ВОСПИТАНИЕ
Почти все мы формируемся в детстве. Уже в восемь лет человек становится пессимистом или оптимистом...
Андре Моруа
Тон в семье задавал отец — человек властный, даже деспотичный. Он был из «сам себя создавших»: окончив институт, отделился от семьи, уехал из Царского; работая на железных дорогах, быстро сделал карьеру, в 45 лет стал директором одного из крупнейших заводов России — Сормовского. Это были годы тяжелейшей реакции и промышленной депрессии после Русско-японской войны и Революции 1905 года. В «Истории Красного Сормова» (1969) Николай Москвин назван «достойным представителем дельцов-акционеров» и чем-то вроде символа едва ли не самого мрачного периода истории завода. Но именно в эти годы под наблюдением его директора был создан знаменитый паровоз серии «С» — лучший в России и один из лучших в мире. Вернувшись в Царское Село и на службу в Министерство путей сообщения, Москвин стал еще консультантом русских и зарубеж
ных фирм. Главная же его забота — создание мощного предприятия по добыче и транспортировке печорского угля; в 1912 году он даже совершил экспедицию на плоту по Печоре. Похоже, что и воспитание детей было для него неким предприятием с надлежащей отдачей в будущем. Поэтому при всей занятости он находил время для работы в Родительском комитете Реального училища и стал его председателем.
Крутой характер, опыт собственного «выхода в люди», твердые представления о том, что такое деловой человек, сформировали воспитательную систему Николая Дмитриевича: развитие сильной воли и самостоятельности детей сочеталось в ней с поддержанием нерушимого авторитета главы семьи. Воспитание независимости, умения ориентироваться в обстановке, находить выход проводились методами суровыми, порой жестокими. Сохранилось семейное предание: отец посадил десятилетнего Андрея и шестилетнего Борю в поезд и велел кондуктору высадить их через несколько станций. Мальчики, не имея денег, должны были сами вернуться домой. Характерно, что Семен — добрый, даже нежный, не похожий на отца, став после его смерти во главе семьи, применял к самым младшим почти такие же методы воспитания.
Закалке воли сопутствовала закалка физическая: зимой и летом дети с увлечением занимались спортом. Более всего им нравился велосипед: все вместе ездили в Павловск, где были извилистые дорожки и крутые, с поворотами спуски к речке Славянке. Особым шиком считалось посадить к себе на велосипед несколько человек, разогнаться на спуске, перескочить горбатый Висконтьев мост и с ходу подняться на самый верх крутого подъема на другом берегу. Андрей был непременным участником спортивных затей и, по словам Предовского, «первым по выдумке освоения “стальных коней". Он, например, на затяжных спусках мог стать во весь рост на седле велосипеда».
В Александровском парке для наследника престола соорудили мачту парусника с вантами, веревочными лестницами, площадкой наверху и натянутой просмоленной сетью внизу. Когда царская семья была в Крыму, детей, чьи отцы могли получить пропуск в дворцовом ведомстве, пускали в парк. Они залезали на площадку, прыгали на сеть. Цар-скосел и ленфильмовец Илья Гольдберг, хорошо знавший Москвиных (его брат учился в одном классе с Андреем), рассказал: «Высота от “палубы”-сетки была примерно семь метров. Прыгать не все решались. Я боялся, маленьким был, а мои старшие братья и Андрей были активными участниками... Игра эта, как теперь говорят, физкультурная, но для Москвина... Если вы вспомните его точки съемки в “Шинели” — сверху, снизу, так это ведь он там впервые увидел: сверху — с мачты, снизу — лёжа на сетке». Этот рассказ стоит запомнить.
Физическая закалка давала плоды: дети были здоровые, подвижные; хорошую осанку Москвин сохранял всю жизнь.
Третий краеугольный камень «системы» Николая Дмитриевича — воспитание «людей дела». С ранних лет дети умели работать руками. Это позволило в нелегкую и небезопасную экспедицию по Печоре взять не только Семена, но и Андрея — ему было тогда одиннадцать лет. Рано привлекая детей к своим делам (пятнадцатилетнего Семена он брал в поездки за границу), отец осуществлял главную цель — подготовку сыновей к деловой, инженерной деятельности.
Много лет спустя Андрей Москвин написал: «Я родился в инженерной семье, в крупном промышленном центре, в окружении практической техники, где все прививало привычку к точности, здравому смыслу, учету обстоятельств, вере в возможности техники». Он всегда был точен в выражении мысли, «инженерной» семья названа не случайно. Но инженером в большой семье Москвиных был только Николай Дмитриевич! Дед-купец старался дать детям хорошее образование: один из братьев Николая Дмитриевича стал известным военным врачом, но другие продолжали «дело». И тем не менее для Андрея семья — инженерная, ибо отец, технический интеллигент в первом поколении, сумел вселить в сыновей веру в возможности техники. «На наших глазах менялся мир, — написал дальше Москвин. — Казавшееся невозможным становилось явью. Таким детским совершившимся невозможным было для меня, в частности, и первое знакомство с кинематографом, с фильмом-хроникой о первом полете первого аэроплана... Вскоре мне удалось потрогать настоящий самолет... После этого любое “невозможное” стало вполне достижимым, стоило лишь захотеть...» Москвин назвал это «технической романтикой». Воспитательная система отца сделала свое дело, увлекла детей романтикой техники, но не лишила их здравого смысла с его — по Москвину — «критическим отношением ко всякой работе, к проверке ее результатов».
Техническая культура молодого поколения Москвиных была высокой. А художественная? Судя по рассказам, Николай Дмитриевич мало интересовался искусством. Но дом должен быть «как у всех»! Поэтому выписывали журналы, за две тысячи томов перевалила библиотека (в основном сочинения классиков и приложения к журналам), были абонементы в оперу, всей семьей посещали летом концерты и воскресные спектакли в Павловске. В доме был хороший рояль, но играть учили только девочек. Поощрялось рисование, полезное будущим инженерам. Впрочем, все дети рисовали охотно и хорошо — черта в семье наследственная.
Твердая установка отца на инженерное будущее сыновей определила выбор школы: Семен, а за ним Андрей пошли в реальное училище — оно готовило к поступлению в технические институты.
УЧИЛИЩЕ
И было еще Реальное, совсем молодое, с черными барашками: там царили как Гог и Магог, «Евтушевский» и «Краевич», житья не было от математики, но с интересом добывали сероводород. Здесь дух разночинства презирал перчатки, вихрастые мальчики лупили причесанных...
Эрих Гэллербах
Здание Царскосельского реального училища, отвечающее новейшим требованиям педагогики, заложили в 1902 году; в 1903-м начались занятия. По совету августейшего покровителя Николая II в одном из помещений оборудовали церковь, не предусмотренную проектом. На этом покровительство кончилось, судьба училища зависела уже от педагогов. Были они в основном очень хоро-
Андрей Москвин, кинооператор
Андрей в 12 с половиной лет — после окончания 3 класса.
Укрупнение с семейной фотографии 1913 г.
шие, и слова Голлербаха насчет математики надо понимать как реакцию человека в корне гуманитарного; таких в училище было мало. Но добывание сероводорода захватило и его — практические занятия были поставлены серьезно, кабинеты хорошо оборудованы (этому помогали родители; Педагогический совет вынес благодарность Н.Д.Москвину «за крайне ценный для нужд физического кабинета и лаборатории подарок» — установку «Ромер-газ» на 6 горелок).
Андрей увлекался химией, а в последних классах под влиянием учителя естествознания Д.А.Судовского — биологией. Он устроил дома препараторскую с микроскопом и инструментами для анатомирования и получения микросрезов тканей. При окончании училища его наградили новейшим руководством по гистологии. Учение давалось ему легко, оба аттестата (за 6 классов и за 7-й, дополнительный) — с наградами I степени. Сильных учеников в
классе было много, шло негласное соревнование за право быть первым. Андрей в нем не участвовал, хотя при желании мог бы стать круглым пятерочником. К учению он относился серьезно, но отметки сами по себе его не волновали. Зато он неизменно боролся за первенство
в спорте, в розыгрышах, в возне на переменах и даже, несмотря на
очки, в драках.
Между носившими черные шинели реалистами, «черными барашками», и гимназистами шла война. Бывший гимназист Илья Гольдберг признался: «Реалисты были почему-то сильнее и всегда побеждали». Вероятно, благодаря духу разночинства и опыту войны с собственными «причесанными». Андрей был в компании разночинцев, как и сын актера Митя Смирнов, сын врача Боря Гольдберг, купеческий сын Володя Глазунов. Разночинство вовсе не означало бедность — были они детьми обеспеченных родителей: плата за обучение была не малой. Дух разночинства — от противостояния «третьего сословия» высокомерным аристократам и дворянам. В классе были и такие — князья Голицын и Багратион-Мухранский, внук знаменитого педагога Ушинский.
По инициативе Ушинского в 6 классе выпустили рукописный журнал с претенциозным названием «Всё». В воспоминаниях о Москвине Предовский написал: «Это был типичный банальный журнал того времени. Журнал выпускался в одном экземпляре и его по очереди читали... И вдруг, в один прекрасный день на каждой парте нашего класса оказался другой журнал, напечатанный на гектографе. Он назывался “Ничего”».
12
Журнал «Ничего» № 2. Страница с началом поэмы «Жирафиада».
Передо мной — два номера «Ничего». Даты: 15 октября и 7 ноября 1916 года. Обложка с орнаментом стиля «модерн». Фиолетовые чернила поблекли, но прочесть можно все: призыв редакции в №1 поддержать журнал и просьбу в №2 «читать журнал немного осторожнее, т. к. уже был зарегистрирован случай чтения журнала преподавателем», гимназический фольклор — стихи «О пользе вина»,вполне серьезные «Предсказания погоды по частным признакам», альбомные стишки. В ребусе зашифровано «Долой журнал “Всё”». Центральное место в №2 занимает «Жирафиада»: «Злыми глазами сверкая,/На мальчиков страх наводя,/Не
сется Жирафа, шагая,/Несется, вперед не глядя...» 32 строки «поэмы» повествуют об учителе алгебры А.А.Либерге, прозванным «Жирафой», о двойках и единицах, «влепляемых» им дрожащим от ужаса реалистам. Поэма имела в классе огромный успех. В октябре 1979 года восьмидесятилетний Предовский прочел ее мне наизусть! В воспоминаниях он написал дальше: «Это было сделано мастерски
А.Н.Москвиным — и текст, и техника печатания на самодельном гекто-
графе. Конечно, мы были в восхищении, а учителя — в смятении. Кончилось все это тем, что оба журнала — и “Всё” и “Ничего” — были конфискованы и запрещены. В этом сказался весь Москвин».
Не собиравший архива Москвин сохранил оба номера «Ничего». Нужно было видеть, с каким волнением листали пожелтевшие страницы Александр Федорович и Григорий Николаевич, не видевшие журнал более 60 лет. Мы стали разбираться — кто его делал? Оказалось, не один Андрей. Семилетний Гриша растирал фиолетовую кашицу для гектографа. Занимался журналом и Митя Смирнов. Судя по двойному псевдониму подписи («Coq и VS»), «Жирафиаду» сочиняли вдвоем. Стихотворцами они были слабыми; это видно и по приведенной, еще и не худшей, первой строфе, пародирующей известную песню «Оружьем на солнце сверкая...» Другие тексты писал Митя. Андрей анили
новыми чернилами рисовал оформление и картинки (особенно удачен шарж на «несущегося Либерга») и провел всю техническую работу — переносил страницы на гектограф, делал с него оттиски на листы бумаги. «В этом сказался весь Москвин...» И правда: в этом с размахом задуманном и проведенном деле виден Москвин, его инженерная смекалка, умение работать руками и доводить дело до конца, демократичность («массовый» тираж против одного экземпляра «Всё») и даже превосходство изобразительных способностей над литературными: лучшее, что есть в обоих номерах — рисунки, а не тексты.
О том, как рисовал Андрей, Предовский рассказал: «Он и краски воспринимал по-своему, как-то своеобразно... У нас Шостаченко был, он нас очень дрессировал, чтобы все это было точно. А Андрей все более так расплывчато, в полутонах...» Рисование в училище начиналось с 1 класса и поставлено было отменно Алексеем Шостаченко, учеником Павла Чистякова. Он умер, когда Андрей был во 2 классе, но серьезное отношение к рисованию осталось, даже устраивались выставки. В реальном были еще хор и духовой оркестр, проводились литературно-музыкальные вечера и лекции. Выпускной класс по традиции ставил спектакль. Однако Андрея это мало привлекало, в таких начинаниях он участвовал лишь со стороны технической. Никто из видевших спектакль их класса «Свадьба Кречинского» не мог вспомнить, играл ли он хоть маленькую роль. Зато Предовский помнил, что он строил декорации и принес из дома мамино платье, в котором Саша играл Адуеву.
При всей заботе об эстетическом и общем развитии (были еще и экскурсии на природу, в музеи, на заводы, иногда и дальние: весной 1914 года Андрей был с экскурсией в Вильно и Варшаве), главной установкой училища была подготовка будущих инженеров и ученых-естественников. Умело проводимая в жизнь, она исключала воспитание общественных интересов, чему способствовали особенности города и высокая плата, определявшая состав учащихся. Весной 1917 года любопытство тянуло реалистов на вокзал: здесь проходили митинги, ораторы с красными бантами провозглашали войну до победного конца, солдаты спорили, дело доходило до драк. В дни корниловского наступления бегали смотреть на казаков. Григорий Москвин рассказал, как однажды Андрей и Коля Предовский — младший брат Саши — уехали куда-то на велосипедах, и Андрей вернулся, исполосованный нагайкой. Но пострадал он, видимо, от излишнего любопытства.
После Февраля создали ученические комитеты. Московский гимназист Евгений Габрилович вспоминал, как их комитет «круто поставил вопрос об отстранении некоторых педагогов». Ничего подобного не произошло в Царскосельском реальном. Комитет (Андрей представлял в нем 6 класс) передал Педагогическому совету пожелания старшеклассников: устроить курительную комнату и разрешить посещения кинематографа. Оба пожелания приняли; второе с оговоркой: «с ведома родителей». Где уж тут говорить об «отстранении некоторых педагогов»!
Андрей Москвин кончал основной курс Реального училища достаточно активным в жизни класса, но далеким от настоящей политики, увлеченным не только биологией и химией, но и «технической роман
тикой». Положение семьи было нелегким: Семен бросил институт, пошел работать на железную дорогу, большую квартиру на Новой улице пришлось оставить, переехали в дворовый флигель в доме деда на Малой. Казалось бы, и Андрею надо работать. Но Семен настоял на том, чтобы он пошел в 7 класс. 27 апреля 1918 года Андрей получил свидетельство об окончании 7 класса и стал рабочим на железной дороге: надо было помочь семье. Через месяц, уже десятником Андрей уехал в Петрозаводск на изыскания по достройке Мурманской железной дороги. Семен считал, что Андрей должен учиться дальше. В свои 20 лет старший брат стал главой семьи с авторитетом, пожалуй, не меньшим, чем был у отца. Как раз Андрей мог и не послушаться, но его желание совпало с желанием Семена. В ноябре он подал документы в Технологический институт, который окончил отец и в котором недоучился Семен.
СТУДЕНТ МОСКВИН
Вот история пяти с половиной лет студенческой жизни из автобиографии Москвина: «Поступив осенью 1918 года на химический факультет Ленинградского Технологического института, занимался в нем одновременно с работой по найму по осень 1921 года, когда перешел в Ленинградский институт путей сообщения, откуда был уволен весной 1924 года...» Уточню: институты были еще Петроградскими, работа по найму — в основном летом, на железнодорожных изысканиях; уже в 1920-м Андрей стал техником. Такова внешняя сторона жизни студента Москвина.
Понятно, почему выбран Технологический: сыграли роль интерес к химии и любовь к технике, удачно объединившиеся в химическом факультете этого института. Почему же он ушел и с потерей законченных курсов (слишком разные специальности) поступил на 1 курс Института инженеров путей сообщения, в просторечии — Путейского? На это ответить труднее. Вероятно, по мере перехода от общих дисциплин к специальным ему все меньше нравилась профессия инженера-химика. Еще не зная о своем истинном призвании, призвании художника, он решил, что неточно выбрал специальность. Уверенности же в том, куда поступать, у него теперь не было, и он подал документы в два института: в Путейский и в Высший институт фотографии и фототехники, в просторечии — Фототехнический. Его приняли в оба. За компанию с ним поступал в Фототехнический демобилизованный из Красной Армии Саша Предовский (Москвина призывали в 1920 году и освободили по близорукости). Сашу тоже приняли, но он решил вернуться в Путейский, где проучился год до армии. Вместе с ним пошел и Андрей. Сыграли роль обстоятельства по тем временам важные: стаж работы на железной дороге и членство в профсоюзе, куда он поступил в 1919 году. Профком дал рекомендацию в институт: «исполнительный и аккуратный служащий, честный работник». К тому же в Путейском, кроме Саши, учились Смирнов, другие бывшие реалисты. На одном курсе с Андреем оказался Коля Предовский.
Выбор Технологического, а затем Путейского объясняется и прозаически: институты недалеко от Детскосельского вокзала. В годы раз
рухи поезда и трамваи ходили плохо, детскоселы тратили иногда по два-три часа, чтобы попасть поездом в Питер, и им не хотелось терять еще столько же, добираясь через город, скажем, до Горного или Политехнического. Этим же, а не интересом к фотографии, объясняется и поступление в Фототехнический — он тоже близко к вокзалу. Поездки в еле ползущем поезде сблизили «врагов» — гимназистов и реалистов. Гимназист, потом красноармеец, с 1922-го студент Фототехнического Вячеслав Горданов вспоминал: «Так как в вагонах стоял лютый холод и стены покрывались инеем, мы Москвина, который любил пофорсить и ходил в осеннем пальто, впрочем, другого у него, кажется, и не было, сажали посередине, а сами в полушубках и валенках наваливались на него с боков так, что ему иногда становилось жарко...»
Другого пальто у Андрея не было. Очень трудное время, особенно 18-й и 19-й годы — первые два года его студенческой жизни. Голод, сыпняк, нет дров. В комнатах старого дома — до трех градусов мороза. Не всегда был хлеб, плохо с одеждой. Андрей освоил сапожное дело и шил сапоги: на верх шло сукно училищных шинелей, на подошву — ковер. Об этом рассказал Григорий Николаевич. И добавил, что из того же шинельного сукна Андрей сшил ему брюки: «Почему-то они были таким винтовым швом, но это неважно — я носил их и был очень доволен...»
1921
Необычайными стали тени, Необычайными стали мысли, Необычайностью стало время, Мне отпущенное на жизнь.
Николай Асеев
Григорий Козинцев так описал свое впечатление 1920 года: «Петроград ошеломил меня огромностью и пустотой. После обсаженных каштанами уютных улочек Киева дворцы, проспекты, громады зданий — все казалось нежилым, невозможным для жилья». Может быть, это ощущение субъективно: в пятнадцать лет он оказался здесь впервые. Но вот слова жившего в городе художника Владимира Милашевского: «Петроград в те годы был пустынен... Он напоминал величественный музей Искусства и Истории, временно закрытый для посетителей».
Почему в рассказе о Москвине нужны эти воспоминания о петроградских пейзажах? Без пейзажа трудно понять время, не поняв время, нельзя понять, что произошло с Москвиным в эти годы. А именно тогда окончательно сформировался характер, определились вкусы, пристрастия, отношение к жизни.
«Это было время, — писал Виктор Шкловский в статье «О рождении и жизни факсов», — когда Питер трепетал, как вымпел, между воспоминаниями и надеждой, сей памятью о будущем... Воздух был разряжен революцией. Город плыл весь под Октябрьским вымпелом. Революция надувала паруса даже тех, кто ее не понял». В 1921 году Москвин перешел из Техноложки в Путейский, а будущие факсы — Козинцев и Трауберг, режиссеры студии Константина Марджанова, со
чиняли манифест эксцентризма. Сам Марджанов ставил «Похищение из сераля» и «Cosi fan tutte» Моцарта. На выставке левого искусства работы шестнадцатилетних Козинцева и Юткевича висели рядом с полотнами Малевича и Филонова, рельефами Татлина. Шкловский выпустил книгу о «Тристраме Шенди» Стерна. В январе 1921 года после трехлетнего перерыва открыли картинную галерею Эрмитажа. 13 февраля с речью о Пушкине, о назначении поэта выступил в Доме литераторов Александр Блок; это было его завещание новым поколениям — он знал, что долго не проживет... 14 февраля Андрею Москвину исполнилось 20 лет...
28 февраля начался Кронштадтский мятеж. В Питере с разными чувствами прислушивались к канонаде те, чьи паруса надула революция, и те, кто ее не принял. Разгром мятежа многое определил. Вот пример: в Актовом зале Путейского висели портреты Александра I и министров путей сообщения, выпускников института. Только в июле 1921-го по «настойчивой просьбе» Коллектива коммунистов портреты убрали.
Состав студентов сначала мало отличался от дореволюционного, хотя ограничения на прием детей рабочих и крестьян отменили еще в 1918 году. В 1921-м при Путейском открылся рабфак. Расслоение студенчества началось, но большинство предпочитало «нейтральную» позицию. Появились «академисты»; они считали: главное — наука, остальное, прежде всего политика, к инженерному делу отношения не имеет. В Путейском Москвин сразу оказался в числе не только «академистов», но и «бенберистов».
Компанию студентов-детскоселов (в нее входили Смирнов, Москвин, братья Предовские, Бронислав Каролюнас и другие) назвал бенберистами Горданов. Он был неистощим на прозвища, сочинение пародийных стихов, удивительно смешных и почти правдоподобных историй, на мистификации и розыгрыши. Через 50 лет, в 1974 году, я спросил: «Почему бенберисты?» — «Понимаете, была лихая студенческая среда. Начитались Уайльда...» Герой комедии «Как важно быть серьезным» выдумал вечно больного мистера Бенбери, чтобы «навещать» его в деревне; отсюда «бенберист» — человек, прикрывающий свои проделки вымышленным предлогом. Горданову понравилось эффектное слово, он всегда любил такими пощеголять (даже в семидесятые годы, уже заметно погрузнев и помрачнев, иногда называл кого-нибудь «таксодермическим метахоником»). Но прозвище имело и некий смысл: все они увлекались Уайльдом, знакомое слово было своеобразным паролем. Увлечение отражалось и на поведении: некоторые бенберисты, в их числе и Москвин, старались и вести себя как английские денди.
Сдружили бенберистов совместные поездки в поезде, общие развлечения в Детском, где с ними были и барышни — Саша Глазунова (сестра одноклассника Андрея), Вера Кирпичева. На велосипедах отправлялись в дальние путешествия. Ходили в Павловск на концерты, спорили о книгах. Подружились с братьями Николаевыми и зачастили в оперу: мать Николаевых, певица, снабжала контрамарками. Была ли в бенберизме попытка какой-то организации, тяга к чему-то более серьезному? И Горданов, и Предовский сказали — не было. Просто любовь к розыгрышам, довольно бездумное студенческое ве-
Самые активные бенберисты.
Слева направо: Н.Предовский, В.Горданов, А.Предовский, Москвин (он без очков, поэтому мало похож на другие свои портреты).
Крайний справа — Д. Смирнов.
Имя второго справа установить не удалось (фото Б Каролюнаса, 1924).
селье, общие вкусы в литературе, музыке. Политикой не интересовались.
Во время учения в Нежинской гимназии Гоголь писал матери: «Но неужели мы должны век серьезничать, и отчего же изредка не быть творителями пустяков,
когда ими пестрится жизнь наша?» И бенберисты были творителями пустяков вроде «оборотничества» (их «знаком отличия» были перевернутые кокарды на студенческих фуражках). Это не помешало им — почти всем! — стать очень хорошими специалистами. Блестяще окончивший институт Дмитрий Смирнов работал главным инженером переустройства Мариинской водной системы. В историю российского мостостроения вошла ссора Александра Предовского с учителем, академиком Г. П.Передерием, не верившим в возможность постройки большого сварного моста. Под руководством Предовского разработали технологию сварки и построили такой мост через Неву — новый Мост лейтенанта Шмидта.
В 1921 году, в необычайное время, Андрей Москвин был таким же, как и все бенберисты, творителем пустяков, готовящимся к серьезной инженерной карьере. Но только внешне. Внутри шла сложная, вероятно, и ему самому непонятная борьба интересов, пристрастий, шло то, что можно назвать поиском своего пути.
ПУТИ СТРЕМЛЕНИЙ
Вопрошающий получает тот ответ, который ему нужен, иначе бы люди не шли по путям своих стремлений.
Густав Мейринк
Когда человек выходит на пути своих стремлений? Невольно начинаешь перебирать в памяти биографии великих. Академик Л.Д.Ландау говорил о себе: «Вундеркиндом не был». Но в 13 лет он умел дифференцировать, в 14 стал студентом сразу двух факультетов. Есть иные примеры, когда с детства талант особо не проявлялся, да и судьба вроде бы специально мешала ему. Рудольф Баландин, размышляя о становлении академика В.И.Вернадского и других поздно определившихся мыслителей, творцов науки, заметил: «Пожалуй, именно их и следует считать великими людьми. Такой человек трудится наперекор судьбе...» Я не случайно беру примеры ученых, а
не художников: Москвин и в 13 и в 20 лет не имел стремлений к искусству, искал свой путь в творчестве инженерном.
Труд инженера — конструктора, проектировщика, изыскателя — не менее творческий, чем труд художника. Инженер ищет гармонию, не объяснимую только «здравым смыслом» связь функции и формы, целого и частей. В чем разница с художником? Блок сказал в речи о назначении поэта, что звуки, приведенные поэтом в гармонию, «проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца». Инженер ищет гармонию своего создания с природой. Художник ищет гармонию слов или красок, звуков или объемов, чтобы испытывать человеческие сердца. Для этого его собственное сердце должно откликаться и на гармонию природы и на сердца других людей.
В «Возмездии» Блок написал о своем отце: «Он тоже получил от детства Флобера странное наследство — Education sentimentale». У Андрея «чувствительного воспитания» не было («чувствительный» я беру в том значении, которое Владимир Даль раскрывает в сочетании «чувствительный человек» — «весьма восприимчивый, впечатлительный... нравственное чувство сильно развито»). Судьба изо всех сил старалась сделать его инженером: семья, училище, друзья — все толкало к этому. Был у него безусловно и инженерный талант, не уступающий таланту братьев. Судьба позаботилась также, чтобы не встретился ему человек, который стал бы для него Учителем, увидел бы художника в мальчике, препарирующем лягушек, или в юноше, превосходно оформлявшем сложные строительные чертежи (Григорий Москвин: «Я помню его путейские проекты, отмывки — это было замечательно!»).
В биографиях великих художников часто можно прочесть о влиянии на их становление литературы, искусства. Может быть, и Москвину оно заменило «чувствительное воспитание», помогло найти свой путь? Ответить трудно, ибо даже люди, хорошо его знавшие — брат, друзья, соученики, сказать могли мало: молчаливый Андрей никогда не делился мыслями о прочитанном и увиденном и тем более своими планами, сомнениями, стремлениями. Дома о нем говорили: «В семье не без урода»; среди общительных, разговорчивых Москвиных был он явной «белой вороной». Даже о переменах в его жизни узнавали от его друзей. О поступлении на кинофабрику — от Горданова.
Все-таки какое-то представление о его художественных интересах составить можно. Начну с музыки: он постоянно бывал на концертах в Павловске, где звучала новая музыка — Прокофьев и Стравинский, Дебюсси и Равель. В 1922-1924 годах Андрей, по словам Предовско-го, часто ходил с ним в Филармонию: слушали Скрябина, Малера, бетховенские циклы, Чайковского. Были и домашние концерты Горданова — неплохой пианист-любитель, он играл Бетховена, Шопена, Скрябина. Андрей любил слушать в его исполнении этюды Шопена. Горданов рассказал и о собственном творчестве: «Мы... чего-то такое пытались сами для себя отобразить, в большинстве случаев убедившись, что никого нет дома. Я садился за рояль и импровизировал, а у Москвина были его стихотворения в прозе, которые он очень тщательно переписывал». Свидетельство чрезвычайно важное! Стихотворения не сохранились (Горданов помнил только какие-то «рвущиеся струны души»), но сам факт поэтических опытов Москвина говорит
о многом. В каком духе были эти опыты, можно предположить, если попробовать восстановить круг литературных интересов Москвина.
Появившись в 1922-м в доме Москвиных, Горданов увидел в обширной библиотеке и в «персональном» шкафу Андрея рядом с томами классиков книги Уайльда, Мережковского, де Ренье, Мейрин-ка, Да Верона — писателей разных, но объединенных этикеткой «декаденты». В начале двадцатых уже уходило увлечение Гауптманом, Ибсеном, Гамсуном; «декадентская» литература стала популярной, даже модной у русской интеллигенции, и бенберисты не прошли мимо этой моды. Но в интересе Андрея к этой литературе есть особенности. Так очень привлекли его романы «Воскресшие боги» Дмитрия Мережковского и «Голем» Густава Мейринка. В сборнике «Экспрессионизм» (1922) Москвин прочел о «сверхэмпирическом одиночестве» Мейринка, о разрушении им «высокого колокола мистического неба, стесняющего нам знание и желание». Трудно сказать, как воспринял Москвин, серьезно относившийся к вопросам веры, идею разрушения «мистического неба», но можно представить, что мейринковское чувство одиночества находило у него отклик. А необычные, «экзотические» персонажи и ситуации «Голема» притягивали его именно необычностью, контрастом с рациональным духом инженерного дела, к которому толкала его судьба. То же можно сказать и о куда более слабых романах де Ренье и Да Верона.
В романе Гвидо Да Верона «Жизнь начинается завтра» есть песня юродивого; бенберисты знали ее наизусть: «Я странник, не зная покоя,/Идущий в царство умерших;/Несу свой скелет за спиною...» Москвину песня тоже нравилась, наверно, его стихотворения в прозе были в том же духе. Вот еще стихи, которыми он увлекался в те годы: «Что я? Завитушка на кальяне? Дохлый пони? Крыса на огне?..» Это Николай Тихонов. Оператор Анатолий Головня (он познакомился с Андреем в 1925 году) написал: «Знали мы и “царскосельских поэтов”, и Иннокентия Анненского... Андрей Москвин любил стихи, и сборники поэтов, подаренные им, до сих пор хранятся у меня. Мы любили молодого Тихонова. “Брагу” для меня купил Москвин». «Царскосельскими поэтами» Головня назвал акмеистов во главе с Гумилевым. В историю русской поэзии вошел двухэтажный деревянный дом №63 на Малой улице, где они собирались. По причуде судьбы он вошел и в биографию Москвина, и как раз тогда, когда вопрошая, он далеко не всегда получал ответ, который был ему нужен. Он еще искал пути своих стремлений.
ДОМ НА МАЛОЙ
В том доме было очень страшно жить...
Анна Ахматова
Мать Гумилева Анна Степановна купила этот дом в 1911 году. Гумилев и Ахматова жили в нем до 1916-го. Память об этих годах и отношение Ахматовой к дому окрасились отблесками более поздних событий: «Мой бывший дом еще следил за мною/Прищурен-ным неблагодарным оком...» Или в рассказе о рисунках Модильяни:
«Они погибли в царскосельском доме в первые годы революции». Может быть, потому и появились слова «очень страшно жить».
После революции дом национализировали, разделили на несколько квартир. В 1922 году, когда давно не знавший ремонта дом деда пришел в полную негодность, Москвины получили ордер на квартиру в первом этаже, состоящую как раз из тех комнат, в которых жили Ахматова и Гумилев. Дом деда вскоре снесли, а в пятидесятые годы снесли и дом Гумилевой...
В квартире была гостиная с камином и пять комнат. Характерно, что Андрей получил отдельную, правда, проходную; раньше в ней была библиотека. Комната по площади — вторая после гостиной, но почти треть ее занимал рояль. От Гумилевых остались в ней диван и два мягких кожаных кресла, в которых сразу «утопаешь», — Андрей очень любил эти кресла, и перевозил их во все квартиры, где позже жил. Он поставил еще рабочий стол и книжный шкаф. Свой шкаф, когда рядом, в гостиной была семейная библиотека, тоже говорил о многом. В шкафу — путейские учебники, романы. Почетное место занимала поэзия, прежде всего — Николай Гумилев.
Голлербах написал о Гумилеве: «Многие зачитываются в детстве Майн-Ридом, Жюлем Верном, Эмаром, но кто осуществляет в своей “взрослой жизни” этот героический авантюризм? Он осуществил». Добавлю — и сумел выразить. Гумилев не только подчинил свое поведение созданной себе маске «конквистадора в панцире железном», но и охватил романтическим чувством повседневность: «В каждой луже — запах океана./В каждом камне — веянье пустынь». Для Андрея это не просто слова, написанные у озера Чад или у хорошо знакомого камина. За ними — осуществленный «героический авантюризм», «трудные сны» поэта и географа, в которых «Неведомых ма-териков/Мучительные очертанья». И Андрей тоже стремился «осуществить»: по рассказу Предовского, он пытался устроиться в экспедицию по трассировке телефонной линии Ташкент — Кабул — Дели. Не удалось. Но он был настойчив. В 1923 году выбрал для производственной практики Мургабский оазис Туркмении. В неспокойных тогда местах он пробыл три месяца, привез долго мучившую его малярию, тропический пробковый шлем, немного гашиша — это тоже было нужно, чтобы понять Восток. Интерес к Востоку, увлечение Гумилевым и Тихоновым нельзя, конечно, объяснить тем, что Москвин жил в доме на Малой; Гумилевым он зачитывался и до переезда. Но для человека с натурой чувствительной такое, в общем-то, случайное совпадение не могло не показаться предзнаменованием перемен (напомню еще, что Гумилев был расстрелян ГПУ совсем недавно — в августе 1921-го, менее чем за год до переезда Москвиных в его бывший дом).
Был ли тогда Москвин человеком чувствительным? Внешне — нет. Сдержанный, подтянутый, физически сильный — он выглядел человеком, уверенным в себе, и менее всего мог бы показаться чувствительным. И вряд ли ощущал себя таким в 20 лет. Да и любовь к поэзии Гумилева вовсе не признак чувствительности натуры, скорее наоборот. И все-таки из того, что удалось узнать о Москвине тех лет, возникает образ человека сложного, воспитанного в духе рационализма, «технической романтики», и при том, безусловно, чувствительного, ощущающего желание чего-то иного, тянущегося к таинственному
и непонятному. А ведь ощущение таинственности — «самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека» (Альберт Эйнштейн). Замечательно написал об этом Леонардо — он нашел в скалах вход в пещеру и «когда много раз наклоняясь то туда, то сюда, чтобы разглядеть там, в глубине, но мешала мне в том великая темнота, которая там внутри была, пробыл я некоторое время, внезапно пробудились во мне чувства — страх и желание; страх — перед грозной и темной пещерой, желание — увидеть, не было ли чудесной какой вещи там в глубине».
В поисках «путей своих стремлений» Андрей Москвин стоял как бы перед великой темнотой, пробуждающей страх и желание. Поэтому к нему можно отнести, в переносном, конечно, смысле, слова о доме, в котором страшно жить. Но было еще и страстное желание увидеть в таинственной темноте «чудесную вещь» — свое призвание. Сделать это помогла фотография.
ФОТОГРАФИЯ
...объектив камеры играет меньшую роль, чем глаз позади камеры.
Арнольд Джент
Простой фотоаппарат с пластинками 9x12 см появился у Москвиных еще до войны. После смерти отца им завладел Андрей: аппарат был интересен ему, как и всякая другая техника. Позже он выменял его на маленький катушечный «Кодак» с кадром 4,5x6 см. Увлечение фотографией началось не без влияния друзей — Каро-люнаса (он учился и в Путейском, и в Фототехническом) и особенно Горданова. В августе 1922 года Горданов снял Андрея с книгой в кресле у окна. Условия съемки были очень скверные, но снимок неожиданно получился. По словам Горданова, он «приоткрывал горизонты какого-то нового фотографического видения» и стал звеном в цепи причин, которые привели его осенью 22-го в Фототехнический
институт.
К этому времени заниматься фотографией стало легче: начался НЭП, после большого перерыва в магазинах появились свежие фотоматериалы. Однако «Кодак» (такой же был у Горданова) мало подходил для настоящей работы. Всерьез они взялись за фотографию осенью 23-го — на заработанные в Туркмении деньги Андрей купил хорошую фотокамеру 13x18 см, правда без объектива.
1922. Москвин в гумилевском мягком кресле. Снимок сделан В.Гордановым при свете от окна на пленке с очень низкой чувствительностью.
Портрет В. Гэрданова, снятый Москвиным в 1923 году. При съемке использовалась одна настольная лампа.
В немецких пособиях нашли описание простейшего объектива — монокля; у него одна выпукло-вогнутая линза. У них была лишь обычная двояковыпуклая лупа. Тут в полную силу сказался технический дар Москвина: найдя оптимальное положение лупы относительно пластинки, он изготовил оправу, рассчитал шкалу поправок на резкость. Он и потом с увлечением возился с оптикой, с отдельными линзами и объективами, когда они у него появились. Для съемки портретов приспособил отражатели настольных ламп, а потом сконструировал и сделал специальные рефлекторы из жести.
В начале все-таки была техника... Москвина, человека чрезвычайно любознательного, фототехника притягивала многообразием, сложностью задач, широкими возможностями для эксперимен-
тов; он должен был заняться оптикой, освоить светотехнику, вспомнить свой интерес к химии и углубиться в малоизученную тогда фотохимию. Растворы из химикатов готовили сами, а для экспериментов с проявкой и замены недостающего компонента другим мало знать книжные прописи, надо понимать роль каждого компонента в процессе. Пригодились знания механики, конструкторские способности, умение работать руками. И была в этом бурном, странном для студента-путейца увлечении фототехникой не ощущаемая как главная, неосознанная еще тяга к тому, что стояло за техникой — к возможностям искусства фотографии. Это объясняет его сближение с Гордановым, хотя самым близким другом по-прежнему был Митя Смирнов.
Среди «технарей»-бенберистов Горданов выделялся художественными задатками и не только музыкальными: он брал уроки рисования у детскосельского художника Ивана Стреблова. Техника для Горда-нова была неизбежным злом; ею нужно овладеть, чтобы, не думая о ней, заниматься творчеством. Москвина же интересовала сама техника: для него объектив значил в ту пору больше, чем глаз за камерой. Но очень скоро он почувствовал вкус и к поискам художественным.
Работ 1923-1924 годов осталось мало: несколько увеличенных портретов и альбом с 25-ю фотографиями. На обложке красивая монограмма из букв М и G, нарисованная Андреем. Она же у некоторых снимков: над ними и над теми, где есть надпись Amogor (A.MOskvin-
Белые лилии Андрей снял в 1923 году. К сожалению, репродукция не передает «дивный звон» и чуть ли не запах, которые ощущаешь, глядя на оригинал.
GORdanov), трудились вместе. Отпечатки сделаны тщательно, с любовью, как и все надписи; отношение к делу серьезное. Видимо, это лучшие работы за два года, хотя попадаются и слабые, чисто любительские. Неудачны павловские пейзажи (их всего два). Но в отдельных фотографиях 1923 года есть уже нечто большее, чем обычное любительство. Хороши два москвинских портрета Смирнова. Один — почти полный профиль вправо, другой — в
три четверти влево. Свет поставлен по-разному: на одном снимке глаза в тени, на другом в них точечный блик от прибора (Митя здесь в берете и с трубкой; Андрей снимал его «под Шерлока Холмса», блик нужен для «остроты взгляда»). Техника портретов безукоризненна. Но Москвина явно притягивало иное: снимая модель в разных поворотах, с разным светом и сравнивая результаты, он начал постигать законы фотографической выразительности.
Из его ранних работ выделяются «Белые лилии»; не случайно она оказалась в числе немногих фотографий, которые Москвин напечатал потом в формате 18x24 см (главным образом портреты Веры Кирпи-чевой, и похоже, это было связано не только с фотографией). Ассоциации, вызванные у Андрея лилиями, вошли в плоть изображения, определив контраст темного фона и освещенных сбоку светлых цветов, плавные переходы от белого к серому в лепестках, причудливое движение мягких форм и противостоящую ему прямолинейную вертикальность и статичность чуть видимых стеблей. Созданный художественный образ вызывает ассоциации у зрителя — у каждого свои, но окрашенные эмоциями, волновавшими автора. И, наверно, многие любители поэзии вспомнят «Утешение» Гумилева: «Кто лежит в могиле,/Слышит дивный звон,/Самых белых лилий/Чует запах он». Я вовсе не утверждаю, что, отбирая лилии, освещая их и компонуя в рамке снимка, Москвин иллюстрировал «Утешение», но стихи он прекрасно знал, они постоянно «звучали» в нем. Впрочем, друзья предприняли и попытку иллюстрации, задумав фотосюиту к блоковским «Стихам о Прекрасной Даме». Для начала, вспоминал Горданов, не решились пригласить кого-либо из знакомых девушек, надели на Гришу «невероятную шляпу по моде 1914 года», развели костер и сняли «Даму» через дым. Ничего путного не получилось, но знаменательна сама попытка передать фотографией поэтическое содержание.
Много в альбоме портретов. Большинство моделей — друзья-бенберисты, барышни, чаще иных Вера Кирпичева: у нее выразительное лицо, большие глаза. Интересны ее мягкие по рисунку портреты 1924 года, снятые объективом-лупой: в них чувствуется желание
и модели, и авторов создать образ женщины загадочной, вроде героинь «декадентов». Завершает альбом снятая Москвиным в 1924 году серия из восьми кадров «Дом №13. Кинодрама». Название, кепочка и поднятый воротник одного героя, модное пальто и цилиндр другого, папироса в зубах героини — все говорит о том, что «Дом № 13» пародировал популярные тогда драмы из жизни «полусвета». Фотографически лучший кадр — Горданов почти в рост у окна в резком, почти контровом, идущим на аппарат потоке света — снят Каролюнасом (единственная чужая фотография в альбоме). Но вот парадокс: он напрочь выпадает из стиля «кинодрамы». А кадры Москвина оказываются именно кадрами «кинодрамы»: в них тоже резкий свет, но съемка лупой скрадывает детали, придает облику апаша и его «дамы» налет таинственности.
Так и просятся слова: «Уже в первых фотоработах Москвина чувствуется рука будущего великого оператора, видно умение включить кадр в общей ряд, чувство меры и т. п.» Это не так, «попадание» вызвано, скорее всего, плохой оптикой. Но вот что важно: Москвин увидел, понял пусть случайную, но безусловную удачу. Он уже «видит», а это не просто, этому нужно учиться, это труднее, чем всего лишь смотреть. Он бывал в музеях, листал альбомы и модный тогда журнал «Аполлон» (разрозненные номера журнала сохранились в его библиотеке). Но «видеть» его научила фотография. Напомню слова Горда-нова, что портрет 1922 года приоткрыл горизонт «какого-то нового фотографического видения». Можно ли считать, что в 1924-м горизонт для Москвина был открыт? Нет. Разумеется, он уже почувствовал искушение творчеством, испытал поразительное чувство удовлетворения, так как «увиденное» воплотилось в материале, и другой человек, глядя на твое творение, тоже может «увидеть». Он уже чувствовал значение глаза и роль объектива в том, чтобы увиденное глазом стало произведением искусства. Но пока это были только ощущения, не больше...
Андрей учился в Путейском, не собираясь его бросать, хотя увлечение фотографией отразилось на учебе, на сдаче зачетов. Он так и закончил бы институт, стал бы строителем железных дорог и, наверняка, в этом деле преуспел. Но судьба вдруг сделала странный ход, дав ему возможность выбора. Помня о доле правды в каждой шутке, можно и пошутить: судьба заботилась не столько о будущем Москвина, сколько о нарождающейся советской кинематографии.
ВЫБОР
...человек ведет себя подчас несоответственно обстоятельствам, если исходить из его собственного сознания, а если взглянуть на его поведение в свете неведомой ему судьбы, то оно оказывается более чем уместным.
Томас Манн
В приведенном уже отрывке автобиографии Москвина сказано, что из института он был «уволен весной 1924 года...». Предовский рассказал, что при очередной, особо строгой чистке бенберисты понесли ощутимый урон: кроме Андрея были исключе-
Москвин 24 мая 1924 года —
в день, когда комиссия по чистке исключила его из института. Фото В.Гэрданова.
ны Коля Предовский и братья Николаевы. Причина: неуспеваемость («очень много у них хвостов было») и «академизм», безразличие к общественной жизни. В другой автобиографии Москвина (архив «Казах-фильма») добавлено еще: «В мае-июне был арестован ГПУ за фотографирование в стенах института и после прекращения дела в июле того же года освобожден». Что же произошло?
Реакция Андрея на исключение оказалась бурной. «Первое, что он сделал, когда 24 мая вернулся домой... — вспоминал Горданов, — это потребовал, чтобы я его снял... Пожалуй, на моей памяти это был единственный раз, когда Москвин демонстрировал свои переживания в столь резкой и откровенной форме». Фотография сохранилась. Выглядит Андрей куда старше своих 23-х. Пенсне, прилизанная прическа, аккуратный пробор. Он похож на инженера, исправно служащего в каком-нибудь «Управлении изысканий ж. д. Смоленск-Псков». Но боковой свет резко выделил развернутое на зрителя ухо, подчеркнул скулы, сжатые губы. Прямо в тебя вгляды-
ваются, нет — вбуравливаются глаза. Кажется, он напряженно прислушивается, ждет каверзного вопроса, чтобы разразиться гневной отповедью. А чего стоит подпись! К острым углам быстрого и тонкого росчерка добавились рвущиеся в стороны прямые линии...
Это человек не просто взволнованный — потрясенный. Исключением? Вряд ли. По существу он уже созрел для отказа от инженерной карьеры. Потрясен он, по-моему, другим: необходимостью выбора. А этот студент с внешностью уверенного в себе человека явно получил от предков ту нередкую в русском крестьянине черту, что стала присуща и многим интеллигентам, — нежелание активно вмешиваться в судьбу, неистребимую надежду на то, что все как-то само образуется. Для таких людей ситуация выбора не в мелких житейских делах (тут они как раз тверды), а в делах жизненных — почти трагедия. Поэтому он и переживал «в столь резкой и откровенной форме», и совершил на другой день поступок безрассудный, но характерный: сфотографировал (себе на память!) комиссию по чистке. В помещении было темновато. Андрей установил за дверью аппарат и в момент, когда Митя Смирнов открыл дверь, произвел сильную вспышку магния. Его схватили, вызвали милицию...
Надо было устраиваться на работу. Проще всего пойти на железную дорогу: есть опыт техника-изыскателя, профсоюзный билет. Мож
но неплохо зарабатывать, помочь семье и, переждав год-два, пойти в другой институт — так и сделали исключенные вместе с ним друзья. Он выбрал иной путь. Выбрал сознательно: месяц, проведенный в одиночке, дал время для размышлений.
А судьба тут же приготовила ему еще один «случай». В 1923 году при реформе высшей школы Фототехнический институт стал Фотокинотехникумом с новым, кинотехническим отделением; оно готовило операторов и лаборантов. Горданов перешел на это отделение и как раз тогда, когда Москвин искал работу, был на практике на фабрике «Севзапкино» — помощником оператора у Николая Ефремова, снимавшего с режиссером Владимиром Шмидтгофом комедию «Н+Н+Н» («Нини, налог, неприятность»). Работал Горданов хорошо, в отзыве Ефремов написал: «К возложенным на него обязанностям относился с любовью и аккуратностью, и я надеюсь, что из него в будущем выработается приличный оператор». Горданова пригласили работать на фабрике, но он отказался, хотел окончить техникум, а вместо себя предложил Москвина. Познакомил его с Ефремовым и еще одним оператором — Фридрихом Вериго-Даровским, тут же устроившим первое испытание, которое Андрей выдержал с честью: «Вериго-Даровский стиснул ему руку так, как это умел делать только он, а Москвин даже не поморщился. “Может, будет толк!” — изрек Фридрих Константинович. Ефремов тоже отнесся к Андрею благосклонно: “Ладно, приходи ко мне”». Случай помог, выбор был сделан. Через много лет, составляя «творческую карточку», Андрей Николаевич Москвин начал ее так: «1924. Н+Н+Н. Пом. оператора».
С чем же пришел Андрей Москвин в кинематограф? Был он в 23 года человеком одиноким, несмотря на веселую компанию бенберистов; не случайно, придя на кинофабрику, быстро отдалился от них. Был он раздираем противоречиями. Можно даже сказать, что противоречивостью, дисгармоничностью отмечен весь его путь до июня 1924 года. Впору вспомнить о характере города, в котором он вырос, о противоречиях в интересах: химия и акмеисты, биология и Восток, инженерное дело и собственные стихотворения в прозе, фотография и Уайльд, Шопен и Мейринк... Противоречия и метания в поисках внутренней гармонии не были вовсе бесплодны — они поддерживали широту интересов и помогали развитию истинной любознательности к природе и человеку во всех их проявлениях. Он сохранил на всю жизнь важное для художника «детское» ощущение мира — цельного, таинственного и, несмотря ни на что, прекрасного, которое многие рано специализирующиеся люди начисто теряют. А фотография помогла выявить художественное начало, выбрать путь, соединяющий художественное творчество и «техническую романтику». Трудно сказать, думал ли он тогда о Леонардо да Винчи, как об идеале гармонии художника и техника, но роман Мережковского о Леонардо («Воскресшие боги») оказался в числе немногих книг из персонального шкафа в доме на Малой, которые Москвин сохранил у себя до последних дней...
Гпава вторая
НАЧАЛО
НАЧИНАЕТСЯ КИНО
А потом в стене внезапно загорается окно. Возникает звук рояля. Начинается кино.
Юрий Певитанский
Небольшая оранжерея во дворце быв. Нечаева-Мальцева на Сергиевской, №32, служившая на услаждение паразитической аристократии, усилиями Кино-Комитета и небольшого кадра молодых киноработников была превращена в кинематографическое ателье», — так описано рождение фабрики «Сев-запкино» в книге, вышедшей в 1925 году. «Превращение» произошло в 1922-м, а когда Москвин появился на фабрике, уже было известно, что она переедет на улицу Красных Зорь, в помещение «Аквариума». До революции это был, как сказали бы теперь, развлекательной комплекс (театр-варьете, скетинг-ринг, летний увеселительный сад), и именно здесь 4 (16) мая 1896 года было показано зрелище, обозначенное в афише: «Живые фотографии. Синематограф-Люмиер». В России началось кино...
Переоборудование «Аквариума» завершили в декабре 1924 года. 16-го «Кинонеделя» сообщила: «...приступлено к подготовительным работам по монтировке назначенного к постановке в первую очередь фильма "Девятое января”». В титрах его указан оператор Москвин. Напрашивается фраза: «Началось кино Москвина...» Нов декабре 24-го Москвин был помощником оператора и даже не состоял в штате. Да и съемки не начались: к 20-летию Кровавого Воскресенья фильм не поспевал и правление «Севзапкино» остановило работу над ним, а режиссера Вячеслава Висковского и оператора Вериго-Даровского
вернули к уже начатому ими «Минарету смерти» — боевику с джигитами и одалисками.
«Севзапкино» снимало исторические и восточные боевики, пытаясь конкурировать с зарубежными фирмами и с Госкинпромом Грузии, что было не легко. В дни прихода Москвина на фабрику (начало июля 1924 года) в Ленинграде было 24 кинотеатра, в них шли 24 фильма, из них два советских: «У позорного столба» («С участием красавицы Грузии Наты Вачнадзе») и «Банда батьки Кныша». О содержании других говорят названия «Авантюристка Бианка», «Куртизанка на троне»... Четыре месяца назад появился фильм Александра Ивановского «Дворец и крепость», но шел он уже только в клубах на окраинах.
Для ленинградского кино «Дворец и крепость» — вершина первого этапа развития. Его особенности раскрыл Михаил Блейман: «Кинематограф не создавал образ, а “снимал” уже созданный. Отсюда его иллюстративность... не только передача сюжета с помощью надписей, но и непреодоленная фотографичность искусства... Оператор снимал на пленку равнозначных для него актеров, натуру, интерьеры. Он и не помышлял о создании зрительного образа, а “снимал” уже созданный до него, все равно — искусством художника или природой». В самом деле, многие операторы работали как рыночные фотографы, равнодушно снимавшие клиентов на фоне скверно нарисованного «вида на море». Большинство из фотографов и вышло. Ефремов начинал в Вятской губернии. В кино он с 1912 года, до революции снял более 20 фильмов, включая «Жизнь начинается завтра» по роману Да Верона. Хотя работал он и с известными режиссерами, но остался провинциальным фотографом, даже снимал, накрывшись черной тряпкой. «Дед Ефремов» — не худший оператор «Севзапкино»; по словам Горданова, он «старался создать в кадре хотя бы намек на световую лепку». Другие и этого не пытались делать, к примеру, Лев Дранков, у которого был самый большой стаж: в 1907 году он начинал вместе со своим братом, первым русским кинодеятелем Александром Дранковым. Лучшими операторами фабрики считались Иван Фролов — игровые фильмы он снимал с 1912 года (в его активе — «Дворец и крепость») и Фридрих Вериго-Даровский — с 1915-го.
Русское кинопроизводство благодаря Дранкову началось с Петербурга, но потом «киностолицей» стала Москва. Там собрались основные силы мастеров кино, в том числе операторы Левицкий, Славинский, Завелев. Их работы, скажем, «Пиковая дама» Евгения Славинского (режиссер Яков Протазанов), фильмы Бориса Завелева с режиссером Евгением Бауэром, по уровню операторского мастерства были в первом ряду достижений мирового кино и куда выше работ Ефремова или Льва Дранкова, снятых 10 лет спустя. Правда, у «Севзапкино» была очень слабая техническая база. Но и в Москве было не намного лучше. О «Стачке» Сергея Эйзенштейна и Эдуарда Тис-сэ не без патетики писали: «И разве поверит и поймет американская кинематография, что "Стачка” делалась в наших скудных условиях и возможностях, при отсутствии не только новейших осветительных приборов, но и при оборудовании ниже довоенного времени». В таких же условиях одновременно со «Стачкой» снимались в «Севзапкино» первые фильмы, на которых помощником работал Москвин, и простое сравнение их со «Стачкой» показывает, что художественное
и техническое качество фильма больше зависит от того, кто его делает, чем от того, в каких условиях делают. Чему же мог научиться Москвин на «Севзапкино»? В этом нужно разобраться, дабы понять, как начиналось кино Москвина.
ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА
Есть некий час — как сброшенная клажа: Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества — он в жизни каждой Торжественно-неотвратим.
Марина Цветаева
Твердое решение стать оператором, неотвратимое для этого ученичество потребовали укрощения гордыни и от Андрея Москвина. Не уступая своим учителям по знанию техники, он вынужден был первое время трудиться простым рабочим (главное занятие — перетаскивание штатива), потом помощником оператора, которому уже доверяли носить камеру, но ничего не получал за это. Конечно, что-то ему перепадало от сердобольных администраторов, но это могли быть только гроши. В штат фабрики его зачислили лишь в июне 1925 года.
После «Н+Н+Н» он работал на «Степане Халтурине». Ивановский хотел превзойти успех «Дворца и крепости», но для этого нужно было от элементарных, основанных на противопоставлениях приемов перейти к разработке характеров. Ему это было не под силу, и он ограничился добросовестным внешним изображением людей и событий. Успеха не было. Но задуман был «Халтурин» с размахом и кроме снимавшего «Дворец и крепость» Фролова привлекли еще Вериго-Даровского. А он взял помощником Москвина, знакомого ему по первому приходу на фабрику.
«Фридрих Константинович был плотью от плоти “Электробиографа”, — написал Козинцев, — техническая сноровка сочеталась у него с ухватками балаганщика... Будучи человеком ловким и смелым, он охотно втаскивал камеру на крыши, устраивался в самых неудобных положениях». Это помогло ему найти общий язык с молодыми Козинцевым и Траубергом — он снимал их первые короткометражные фильмы. Но вот художественная сторона дела... Горданов видел, как работал Вериго-Даровский: «Здесь было, конечно, много темперамента, шума, виртуозной ругани... К сожалению, на экране я особых следов этого темперамента не обнаружил». Мало чему мог научиться Москвин у него или у Фролова: как художники они остались на уровне «Электробиографа», это могло сойти в 1923 году, но не после «Стачки» и «Луча смерти» Льва Кулешова и Александра Левицкого. Что и было отмечено в одной из рецензий на «Халтурина» (автор подсластил пилюлю: «Впрочем, некоторые кадры натуры, виды старого Петербурга — очень хороши»).
Еще работал Москвин на фильме «Наполеон-газ» — кинодебюте в полнометражном кино эстрадного режиссера и конферансье Семена Тимошенко, который позже преуспел в комедиях (напомню, к приме-
ру, «Небесный тихоход»), а начал с фантастической истории о разгроме напавшего на Ленинград вражеского десанта, вооруженного смертельным «наполеон-газом». Образной оценкой фильма стала шутка «Парголовские авантюры» (под городом, в Парголове сняли натуру). Дебютантом был и Святослав Беляев — первый в поколении ленинградских операторов, пришедших в кино после революции. На фабрику он попал по случайному знакомству с Вериго-Даровским и работал у него помощником. Снимая «Минарет смерти», Вериго-Даровский доверил ему съемку одной-двух сцен, а в титрах поставил его фамилию рядом со своей. Получив законное право на свой фильм, Беляев сразу попал к Тимошенко: операторов не хватало. Крайне доброжелательный, в любой момент готовый прийти на помощь Славушка — так звали его все и всегда — сделал для Москвина много, но быть учителем не мог. «Техническую сноровку» дала Беляеву школа Вериго-Даровского (из рецензии на «Наполеон-газ»: «...первое технически грамотное слово “Севзапкино”»). Уже в первом фильме проявились и явные художественные потенции Беляева, сразу выдвинувшегося в число ведущих операторов кинофабрики. Но полностью раскрыться его лирическому дару позволила лишь начавшаяся в 1927 году работа с близким ему по духу режиссером Евгением Червяковым.
«Наполеон-газ» стал для Москвина еще и полезной школой съемки трюковых кадров, и подарил ему новых друзей — Беляева, помощника режиссера Владимира Петрова, практикантку из Техникума экранного искусства Рашель Мильман. Познакомился он и с оператором Александром Далматовым, помогавшим Беляеву снимать трюковые кадры (в титрах он не назван).
В творческой карточке Москвин указал три фильма, на которых работал помощником. Надо полагать, их было больше, к тому же он участвовал в съемках хроники: к ним привлекали и операторов, и помощников, хоть на день свободных от съемки фильмов. Это тоже была школа — оперативности, умения снимать в любых условиях. Летом 1925 года он познакомился и подружился с Всеволодом Пудовкиным и Анатолием Головней — они снимали в Ленинграде «Механику головного мозга». На фабрике сочли неприличным дать опытного оператора на «научную фильму» никому неведомых москвичей. Послали помощника; опыты физиологов снимали двумя камерами.
Что же дал Москвину первый, ученический год? Появились новые друзья, столь же неопытные кинематографисты, как он. В разговорах, в спорах за еще небогатым дружеским столом, в неприятии старого кино зарождалось смутное представление о том, каким кино должно быть. Операторы, с которыми он работал, одарены были неодинаково. Наблюдательный помощник видел различие бесстрастной манеры Ефремова и хотя бы желания Вериго-Даровского как-то разнообразить изображение (скажем, в ночных съемках «Мишек против Юденича») или вполнее удавшегося Беляеву в «Наполеон-газе» зрительного противопоставления натуры ленинградской и заграничной. Это тоже было школой, и все же стать настоящими учителями операторы «Севзапкино» не могли. Но «для человека, которому суждено стать художником, почти безразлично, хорошо или плохо учили его спервоначалу» — эти слова Артура Шнабеля привел в своей книге Генрих Ней-гауз, а кто лучше его понимал, что значит для начинающего Учитель!
Ученичеством в высоком смысле стало для Андрея Москвина самообразование. Реальное училище и неоконченные институты помогли ему постигнуть не только основы, но и тонкости инженерного дела и научной работы; в кино он пришел уже фактически готовым инженером; дальше достаточно было следить за новинками в интересующих его областях и за общим развитием науки и техники. При его врожденной любознательности и умении по отдельным замечаниям, таблицам, графикам улавливать главное во всяком сообщении, это не составляло большого труда, шло между делом, незаметно для окружающих, однако научно-технической эрудиции зрелого Москвина могли позавидовать многие ученые.
Не менее эрудированным был он в зрелые годы в литературе, музыке, истории искусств. Тут требовалось самообразование другого рода. Знания, что дали ему семья, училище, студенческая компания, были дилетантскими, порой односторонними, зависящими, к примеру, от моды на «декадентство». Начинать надо было с азов, и он целеустремленно и последовательно взялся за это: читал журналы по искусству, собирал книги, альбомы, зачастил на выставки, в музеи. Воспитанное занятиями наукой умение анализировать, быстрый ум, независимость суждений, отсутствие школярского подхода, наконец, природный вкус — и он довольно скоро составил собственное представление об основах искусства и его истории. С первых же шагов ученичества возник стойкий интерес к живописи. Изучая ее, он понял важность умения «видеть», понял, что год усиленных занятий фотографией был лишь первым шагом в его освоении.
Работа оставляла мало времени, но он пользовался каждым свободным часом, чтобы съездить в Фотокинотехникум. Летом 1924 года оборудовали хороший фотопавильон, Горданов сразу «освоил» его, а за ним и Москвин. Когда удавалось, слушал лекции: хотя институт понизили в ранге, программа была прежней, фототехнические предметы читали знатоки — профессоры В.И.Срезневский, А.И.Прилежаев, курс художественной фотографии — художник и фотограф В.В.Берингер. Преподаватели и студенты считали Андрея вольнослушателем. Несмотря на замкнутость, он быстро стал своим у этих увлеченных фотографией людей, с некоторыми из студентов приятельствовал всю жизнь.
Горданов и Москвин напечатали увеличения лучших «амогорских» фоторафий. Наклеенные на модные паспарту из темного шершавого картона, они побывали на выставке, привлекли внимание Василия Берингера. Его определение — «романтическая фотография» — кажется сегодня преувеличенным, но тенденцию он уловил: сквозь ложноромантическое стремление к загадочности в духе декадентства пробивался истинно романтический интерес к человеку. Определение друзьям понравилось, они задумались: чем достигается «романтичность»? Технически все было ясно: сочетанием скверной оптики, дающей очень мягкий, порой почти нерезкий рисунок, и самодельных светильников с резким светом и малым световым пятном. В павильоне с хорошими объективами и приборами они стали развивать найденный принцип — выделение главного световым пятном и обобщение, «романтизация» мягким оптическим рисунком. Опору поискам они находили в поддержке Берингера, других преподавателей, в изучении фо
тографических журналов и альбомов. Особенно привлекли их работы шотландца Дэвида Хилла, замечательные по выразительности, а по технике похожие на снимки, сделанные лупой. Сходство шло от бедности технических средств, но у двух студентов в 1923 году она была в прямом смысле, а у Хилла в сороковые годы XIX века это бедность только что народившейся фототехники. В числе мастеров, чьи работы им нравились, был и американец Эдвард Стейхен. Развивая опыт Хилла и используя характерную для импрессионизма «размытость» изображения, он создал превосходные портреты, например, Матисса и Родена.
Живопись, фотографии Хилла и Стейхена, собственный опыт — все раскрывало Москвину огромное значение света в изобразительных искусствах. И он все больше понимал, как мало возможности света используются в кино. Он хотел перенести приемы «романтической фотографии» на экран. Но надо было попасть в штат фабрики, провести еще два-три фильма помощником, получить «пробу» в качестве оператора. Это требовало времени и осложнялось его характером: в шумной и суетной среде кинематографистов многое строилось на приятельстве, а он трудно сходился с людьми, не умел заискивать, прикидываться «своим в доску». Немногие новые друзья были тоже помощниками. Лишь Беляев вышел на самостоятельный путь, но что он мог сделать? В лучшем случае взять Андрея помощником на престижный боевик «Поэт и царь». И все же судьба была по-прежнему благосклонна и летом 1925 года появилась перед ним в облике двух молодых людей. Он не был знаком с ними, но, конечно, их знал: режиссеров с общим именем «факсы» знала вся фабрика. Их интересовали его фотографии, он показал. Впечатления они не произвели (Козинцев: «Не думаю, что сами по себе они могли чем-то увлечь»), но Москвин режиссерам понравился.
Встреча режиссера и оператора, повлиявшая на их творческую судьбу, случается не так уж редко. Куда более редки встречи, повлиявшие на судьбу национального кино. И, наверно, по пальцам можно перечесть те, что стали событиями в истории кино мирового: встреча Сергея Эйзенштейна и Эдуарда Тиссэ, Орсона Уэллса и Грегга Толанда, Эмиля Фернандеса и Габриэля Фигероа, Михаила Калатозова и Сергея Урусевского. Конечно, Эйзенштейн без Тиссэ или Уэллс без Толанда стали бы великими режиссерами, а Фигероа без Фернандеса или Урусевский без Калатозова — великими операторами. Но не было бы кинематографа Эйзенштейна-Тиссэ или Фернандеса-Фигероа, был бы какой-то иной кинематограф.
Встреча Григория Козинцева и Леонида Трауберга с Москвиным — из числа тех редких встреч, что стали событиями в мировом кино. И должно быть поэтому, вспоминая ее, Трауберг не удержался от патетического тона: «Не Козинцев и не Трауберг — Наполеон производит капрала в маршалы... “Хотите стать нашим оператором?” — “Можно”». Вряд ли участники события ощущали тогда его историческое значение. Сдержанное описание Козинцева, пожалуй, точнее передает настроение режиссеров: «В самом облике молодого человека, ничем не похожего на профессионалов-кинематографистов, в его негромкой и медлительной речи, в спокойствии тона заключалось что-то внушающее доверие. Да и верили тогда людям лег
ко, часто с первого взгляда. Недолго раздумывая, мы отправились к директору студии...»
15 июня 1925 года Андрей Николаевич Москвин был зачислен оператором в художественно-постановочную часть. На вопрос анкеты «Кто рекомендовал на службу в “Севзапкино"?» Москвин ответил: «Киномастерская ФЭКС».
ФЭКС
Путь эксцентриады, если он проделан серьезно и вдохновенно, путь разнообразия театрального движения — серьезный путь.
Виктор Шкловский
Короткое, как цирковая команда, звучное, как взрыв петарды, слово «ФЭКС» родилось в Петрограде в 1922 году из названия театральной мастерской «Фабрика эксцентрического актера». Создателями и душой ее были Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. Впрочем, тогда они были Гришей и Лёней. Восемнадцатилетний Козинцев имел разнообразный и обширный художественный опыт: учился в школе художницы Александры Экстер, оформлял агитпоезд, под руководством Исаака Рабиновича расписывал «испанское небо» для знаменитого спектакля Константина Марджанова «Фуэнте Овехуна». С друзьями Серёжей Юткевичем и Люсей Каплером организовал в Киеве театр, поставил несколько спектаклей. В Петрограде поступил в Академию художеств. Марджанов пригласил его режиссером в студию при Театре Комической оперы; там он познакомился с Траубергом. Тот был на два года старше, приехал из Одессы, где командовал бойскаутами, сочинял стихи и пьесы, создал театральную студию. Не похожие внешне, резко различающиеся темпераментом, характером (Трауберг: «Мы были всесторонне разными»), они сошлись на любви к театру, к новому искусству.
В холодном Петрограде 21-го года они не просто мечтали о новом искусстве, но взялись его создавать: писали пьесы, готовили эскизы, искали союзников. К ним ненадолго присоединились работавший в Комической опере «взрослый» режиссер Георгий Крыжиц-кий — он был на 10 лет старше, потом Юткевич. «В какой-то день в разгар споров, — вспоминал Козинцев, — было произнесено слово “эксцентризм”; оно показалось наиболее выразительным». В стиле эпохи сочинили «Манифест эксцентрического театра», огласили на диспуте. От слов быстро перешли к делу: 9 июля 1922 года открыли ФЭКС, 25 сентября показали премьеру — «Женитьба». Козинцев и Трауберг назвали спектакль «электрификацией Гоголя» и одели гоголевских женихов в забавные конструкции, символизирующие электричество, пар и радиоактивность. Но была еще и «циркизация Гоголя»: ведущие — клоуны Альберт и Эйнштейн, принцип строения спектакля — «сцепка трюков». Наконец, это была «кинофикация Гоголя»: Подколесин стал Чарли Чаплиным, вместо побега в окно — «уход в экран», на нем показали отрывок чаплинской комедии. Успех спектакля был скандальным, что ничуть не расстроило авторов.
Работали они быстро и много, писали статьи, пьесы, поставили две свои пьесы в Свободном театре, а в июне 1923 года выпустили новый «агитбоевик» ФЭКСа «Внешторг на Эйфелевой башне»: капиталисты, боясь конкуренции, пытались уничтожить открытие американского инженера; с ними боролся Наркомвнешторг, стремясь обратить открытие на благо всему человечеству. Для пущей конспирации Внешторг представляла пионерка, играл ее клоун Серж. Спектакль кончался куплетами: «Рекорды Эдисона в руках рабочих масс!»
Адриан Пиотровский написал в рецензии: «Фэксовцы оказались работящими ребятами. Более того: это серьезные ребята». А факсы, «серьезно и вдохновенно» пройдя путь эксцентриады в театре, думали о кино, написали сценарий «Похождения Октябрины»: комсомолка Октябрина боролась с нэпманом, устроившим в доме гнездо старого быта; явившись как джин из бутылки, ему помогал Кулидж Керзонович Пуанкаре, олицетворение мирового капитала. Режиссер из ветеранов Борис Чайковский поддержал факсов; им дали постановку с условием работы вместе с ним. После первой съемки на стеклянной крыше банка ветеран от рискованного дела отказался. С помощью любителя острых ощущений Вериго-Даровского короткометражку завершили. Играли «чужие» актеры Зинаида Торховская и Сергей Мартинсон, но фэксы уже понимали, что им нужны не гастролеры, а коллектив, спаянный единой задачей и школой. Преобразовав ФЭКС в киномастерскую, объявили набор учеников. Некоторые из них снялись в агитке «Мишки против Юденича», где эксцентрику отчасти оправдали сном героя. Опыт «Мишек» показал: не только актеры, вся группа должна быть «своей». Один уже появился — художник Евгений Еней. Нужен оператор: Вериго-Даровский с его «чего изволите?» уже не устраивал. Они пытались пригласить Беляева, но он был связан обещанием снимать следующий фильм Тимошенко и предложил режиссерам посмотреть фотографии своего друга Андрея. Спектакли факсов Андрей вряд ли видел, но фильмы знал. Они его не испугали.
Эксцентризм фэксов не был, как это из лучших побуждений иногда представляют, «детской болезнью», следов не оставляющей. Следы легко найти в зрелых работах Козинцева и Трауберга, в козинцев-ских «Дон Кихоте» и «Короле Лире», в его неосуществленных замыслах, особенно в «Гоголиаде». А поскольку вся серьезная работа фэксов в кино прошла при прямом участии Москвина, надо кратко охарактеризовать ФЭКС, определить, с чем пришли фэксы ко времени встречи с ним. Они считали, что «патент на эксцентризм» заявлен ими, но монополии у них, понятно, не было. Эксцентрика всегда была в фольклоре, цирке, на эстраде, в карикатуре. Двадцатые годы отмечены заметным проникновением эксцентрики из области «низких жанров» в искусства традиционно солидные — в театр (спектакли Всеволода Мейерхольда, «цирковые комедии» Сергея Радлова), в станковую живопись (некоторые работы художников группы ОСТ). Спектакли ФЭКСа — проявление одной из общих тенденций того времени.
Истоки фэксовского эксцентризма — народное искусство, современное левое искусство, классика. На первый взгляд сочетание парадоксальное. Но за громкими фразами и не всегда четкими мыслями создателей ФЭКСа стояла влюбленность в площадное народное искусство — в балаган, Петрушку, в цирк, влюбленность в Маяковского
и в Мейерхольда и не меньшая влюбленность в классику, прежде всего в Гоголя. Вот свидетельство Сергея Герасимова: «...Я погрешил бы против исторической правды, если бы свел опыт ФЭКСа к пафосу безоглядного разрушения. Напротив, вследствие этого пафоса мы с прилежным тщанием возвращались к канонической литературе, к мировой классике». Они еще не знали путей к сокровищам классики, но уже чувствовали силу реализма и фантастики Гоголя, его иронию и эксцентричность. И, может быть, поэтому, «электрифицируя» пьесу, вывели на сцену ее автора. Поглядев на происходящее, он восклицал: «Чур, меня! Чур-перечур! Бисово наваждение! Щоб мене от сердечного удара помереть, если ж это не совсем необычайное происшествие!», — а потом и вправду помирал от удара. При всей мальчишеской самоуверенности факсам, особенно Козинцеву, была свойственна и самоирония, которая явно звучит в столь авторитетном отрицательном отзыве на их спектакль.
В книге «Я сам» Маяковский написал о 1923 годе: «"ЛЕФ” — это охват большой социальной темы всеми орудиями футуризма... Поэтическое приложение: агитка и агитка хозяйственная — реклама». Факсы не входили в «ЛЕФ», но установки любимого поэта безусловно разделяли. В их статье 1923-го сказано: «Цель эксцентризма — весьма простая: организация нового быта». А в апреле 1924-го Тимошенко сочинил пародийную анкету в стиле факсов и от их имени: «Американизация кино, эсэсэсэризация сюжета». Американизация — перенесение на экран лозунгов нового быта, освоение техники американского кино, возможностей монтажа, актерской игры.
Юрий Тынянов написал о факсах: «...изголодавшиеся по кино режиссеры... учились не на монументальных “эпопеях”, а на элементарной “комической”, где еще есть следы кино как изобретения, элементы кино, позволяющие без излишней робости и уважения наблюдать, пробовать руками брать... самую сущность кино как искусства». Используя опыт театральной агитки для освоения «самой сущности кино», факсы не сразу заметили, что время агитки прошло. Герасимов вспоминал, как весной 1925 года Козинцев, посмотрев «Стачку» Эйзенштейна, собрал учеников и сказал: «...все, что мы с вами делаем здесь, — не более чем детские затеи, которым, в общем-то, грош цена. Есть кое-что посерьезнее...» Самокритичностью факсы обладали не меньше, чем самоиронией. На агитке поставили крест. Но на агитке, а не на эксцентрике. Ибо и для Эйзенштейна уроки ФЭКСа, «Женитьбы», собственного «Мудреца» не прошли даром и были видны в «Стачке». Поняв, что эксцентрика — лишь один из выразительных приемов, факсы отказались от «эксцентризма» как претендующего на самостоятельность направления. К сожалению, они остались верны названию.
Они искали материал для серьезной работы, прочли сценарий «Моряк с “Авроры”» и, не раздумывая, согласились его ставить.
МЕЛОДРАМА
Когда хотят назвать в области патетического нечто столь же относительно низкое, как водевиль, говорят о мелодраме.
Анатолий Луначарский
Только для очень немногих, особенно близких людей Москвин был Андреем (заметьте: Андреем, а не Андрюшей). Для всех и всегда, в глаза и за глаза был он Андреем Николаевичем. И Козинцев с момента организации ФЭКСа — с 18 лет! — всегда и для всех был Григорием Михайловичем. И Еней всегда был Евгением Евгеньевичем. То, как называют человека за глаза — одно из важных свидетельств о нем. Адриана Ивановича Пиотровского за глаза звали Адрианом. Имя это удивительно подходило переводчику Эсхила и Аристофана. Не потому лишь, что Адриан — «сын Адрии» (кстати, «Андрей» по-гречески «мужественный, храбрый»), скорее потому, что было в Пиотровском что-то от людей Возрождения с их многосторонностью интересов и равной талантливостью во всем. Имя «Адриан» для всех, кто знал Пиотровского, звучало почти так же, как «Леонардо» или «Микеланджело».
На кинофабрике он работал с 1928 года начальником сценарного отдела, практически сразу став ее художественным руководителем, но появился здесь в 1925-м со сценарием «Моряк с "Авроры”», который, по его мнению, могли поставить только факсы. История краснофлотца Вани Шорина (из-за недисциплинированности он оказался дезертиром, попал в воровскую «хазу», осознал ошибку и сумел вернуться на «Аврору») была рассказана приемами мелодрамы. Пиотровский много занимался самодеятельностью, знал запросы рабочего зрителя, потому и обратился к мелодраме, жанру общедоступному,
Через год с небольшим после исключения из института. Совсем иной Москвин на фотографии съемочной группы «Чертова колеса». Слева от него — актер Э.Галь, А.Пиотровский, Л. Трауберг; над ними — лицо не установленное.
Справа от Москвина — Е Михайлов, Е.Еней, Г. Козинцев, помощники режиссера Б Шпис (выше) и С.Шкляревский, Л.Семенова, П.Соболевский. Внизу— С.Гэрасимов Фото Е.Михайлова.
с четкой расстановкой сил добра и зла. Во время съемок напоминал режиссерам: «Не забудьте, чтобы было трогательно». Об этом на вечере памяти Пиотровского в 1978 году рассказал Трауберг. И добавил: «А мы снимали черт знает что и совсем не думали о трогательности». Что же привлекло факсов в сценарии? Прежде всего «низкий жанр»: они были стойкими его поклонниками. Второе: патетические возможности мелодрамы. И третье: открывая выход в «область патетического», сценарий позволял использовать опыт эксцентризма на новом этапе, суть которого афористически точно выразил Ефим Добин: «не необыкновенное, а не обыкновенное». Вместо заведомого неправдоподобия эксцентрики «Октябрины» и «Мишек» теперь они делали ставку на правдоподобный показ быта самого по себе эксцентрического, быта городского дна, порожденного противоречиями НЭПа.
«Душераздирающая» мелодрама — один из основных жанров дореволюционного кино. Висковский, Гардин, другие режиссеры-«мэтры» безуспешно пытались наполнить его новым содержанием. Взявшись за мелодраму, фэксы дали им бой на их собственной территории, поэтому не думали о трогательности, традиционный вневременной конфликт героя и злодея усилили социальным контрастом «Авроры» и «хазы», салонной изломанности и театральному переигрышу дореволюционных кинозвезд противопоставили игру эмоционально сдержанную, построенную на экономных, но выразительных движениях. Поэтому Ваню играл не похожий на звезду ученик ФЭКСа Петр Соболевский. Поэтому же они искали новые изобразительные средства, искали оператора и художника, не зараженных проказой салонной мелодрамы. Для факсов «Моряк с “Авроры”» был продолжением борьбы со старым искусством, борьбы за новый быт. А для Москвина?
Проведя год на фабрике, он тоже понимал необходимость обновления кино, понимал, очевидно, что сценарий Пиотровского позволяет искать новые пути. Такого любителя экзотики, как он, сценарий мог привлечь путешествием (пускай на трамвае) в экзотический мир ночлежек и воровских притонов. И все-таки не это определило его решение. В тот момент он принял бы предложение любого режиссера (не случайно, еще не окончив съемки «Моряка», он согласился снимать с Висковским «Девятое января»); главным для него было стать к кинокамере не помощником, а оператором.
ПЕРВАЯ СЪЕМКА
Как известно, первая строчка всегда дается нелегко и значение ее немаловажно. Автор как бы устанавливает интонацию рассказа, способ ведения действия.
Гоигорий Козинцев
Итак, фэксы пошли к директору фабрики. В «Глубоком экране»: Козинцев вспоминал: «Предложение назначить юношу на нашу следующую картину вызвало возмущение. Однако отвязаться от нас было непросто. После долгих споров мы выхлопотали разрешение снять с ним на пробу несколько кадров. Камеру доверили Андрею Николаевичу Москвину под залог нашей зарплаты». В плане книги,
Июль 1925 года.
На память об одной из первых съемок «Чертова колеса» в тележку американских гор забралась почти вся группа: легко узнать Козинцева, Трауберга, Москвина, Шписа, Семенову, Шкляревского. Фото Е.Михайлова.
написанном в начале пятидесятых годов, об этом же сказано так: «Явление Москвина. Каким чудом все мы находили друг друга. Фотографии
Москвина. Устроенная ему проба. Блондинка контражуром (в контровом свете. — Я.Б.), с движения, крупный план». Проба, видимо, удовлетворила и режиссеров, и дирекцию. После нее — первая съемка. Подчеркнув ее важность сравнением с первой строкой, Козинцев назвал съемку танцовщицы на канате в эпизоде ночного гулянья. Об этом же вспоминал и Еней. А Трауберг написал: «Первая съемка... происходила на американских горах в Народном доме». Есть третья версия. Беседуя с Траубергом в 1977 году, я не обошел первую съемку. Он неожиданно подтвердил слова Козинцева. Но за камерой стоял не Москвин, а Беляев: «Конечно, Москвин был на этой съемке, как-то, очевидно, участвовал в решении вопросов света, но снимал Славушка».
Какая версия верна? Документы не сохранились. Горданов не был на съемке, но, зная Беляева, сказал: «Славушка, конечно же, присутствовал на первой съемке Андрея, но стоял не за аппаратом, а рядом» (три года спустя Беляев стоял рядом с Гордановым, снимавшим первый — кстати, тоже ночной — кадр своего первого фильма). Людмила Семенова, игравшая Валю, хорошо помнила Москвина на съемках американских гор (это забыть нельзя!), но на съемке канатоходцев не была. Есть еще легенды. В них первой съемкой Москвина называют ночную, так и именуемую «легендарной». Не менее легендарной можно считать и съемку на американских горах: оператор Леонид Косматое не случайно написал, что она «произвела тогда просто фурор!» Так ли уж важно, какая была первой? Если помнить о «первой строчке» — важно. И возникает другой вопрос: какая из съемок определила «интонацию рассказа»?
Для съемки ночной сцены проволоку натянули над толпой, попросили массовку как можно больше курить. Луч сильного прожектора шел из глубины кадра не на толпу, а выше ее, чуть захватывая людей нижним краем. Медленно двигаясь, луч обрисовывал силуэты голов, и казалось — толпа огромна. Подсвеченный дым, бликующая проволока, освещенная сильным контровым светом фигурка танцовщицы с зон-
«Чертово колесо». Гупяние в саду Народного дома (фото Е.Михайлова; к сожалению, негатив фильма не сохранился, но фотографии Михайлова достаточно хорошо передают стиль изображения).
том создали настроение необычное и романтическое. Возник поэтический образ. Козинцев имел все основания написать: «Первая строчка оказалась важной и для всего фильма и для дальнейших работ. Мы утвердились в мысли, что в свойствах самого изображения, в зрительном качестве кадров заключено в кинематографии нечто схожее с авторской интонацией в литературе...»
Имеет ли значение, был ли на этой съемке Беляев? Имеет, тем более, что как раз для снимавшихся кадров важен был его неданий опыт: в «Наполеон-газе» он успешно снял ночной Ленинград «под заграницу». В такого рода съемках главный не тот, кто крутит ручку камеры, а тот, кто ставит свет. Москвин внимательно следил тогда, как это делал Беляев, хорошо все запомнил и мог использовать, но объекты съемок разные, и это требует поправок, а то и новых решений Беляев мог оценить, как справляется с нелегкой задачей его бывший помощник, неожиданно ставший начинающим оператором, и, если нужно, мог скорректировать его решения.
Вторая съемка — Ваня и Валя на американских горах. Сцена тоже ночная, но обширное пространство не осветить, снимали днем, со светлым небом в многих кадрах. Актеры сидели на скамейке последнего отсека тележки, в первом у камеры на штативе спиной к движению стоял Москвин. Тележка с огромной скоростью неслась вверх и вниз, наклонялась на крутых виражах. Чтобы удержаться на ногах и равномерно крутить ручку камеры нужно было иметь крепкие нервы и недюжинную силу. По рассказу Трауберга, Москвин стукнулся на резком повороте, разбил лицо, но камера не шелохнулась. Потом стал лицом к движению, снял набегающие на камеру рельсы, открывшийся на повороте вид на Петропавловскую крепость. После таких съемок дирекция смело могла дать ему камеру под залог его собственной зарплаты.
Сцена на американских горах и в плане фабулы, и в плане раскрытия характеров не могла претендовать на уровень «первой строчки» — это лишь одно и не главное в цепи событий, что привели к опозданию Вани на крейсер. Еще менее существенны для фабулы кадры с танцовщицей на проволоке, но в них есть зрительный образ стихии ночного гулянья. Несколько кадров Вали и Вани в мчащейся тележке одного из самых популярных аттракционов были бы к месту в общем монтаже эпизода, но фэксы еще не научились ограничивать себя. Жалея виртуозно снятую сцену, они поставили ее в фильм почти целиком, хотя из-за дневного света она явно отличалась от соседних ночных кадров и не отвечала характеру эпизода гулянья.
Здесь нужна важная оговорка. Все, о чем уже шла речь, относится к сохранившимся черно-белым копиям. В прокате двадцатых годов копии фильма выглядели совсем иначе: они были вирированы. Ночные сцены вирировались синим цветом, сцены в помещениях с искусственным светом — желто-коричневым, близким к сепии, сцены пожаров— красным и т.д. Вирирование давало дополнительный эмоциональный эффект, но в зависимости от густоты краски оно влияло и на восприятие мелких деталей, и на общий контраст изображения. Не исключено, что именно с помощью вирирования Москвин попытался выровнять контраст между ночными кадрами гуляния и снятой днем сценой на американских горах.
При вирировании «американских гор», как и других сцен ночного гуляния, в синий, они все равно заметно отличалась бы от соседних из-за меньшего контраста большинства кадров. Как же Москвин мог решить эту задачу? Подсказкой стал недавно обнаруженный историком кино П.Багровым ролик с пробами вирирования кадров «Моряка с “Авроры”». К счастью, среди них оказалось и несколько кадров американских гор. Они окрашены в тон настолько густой сепии, что в глубоких тенях, например, при проезде по тоннелю выглядят практически черными. Конечно, это только пробы, и мы не знаем, как вирирование было выполнено окончательно, но если допустить, что именно этот вариант был принят, то окрашенный таким образом аттракцион «американские горы» стал бы в один ряд с окрашенными в сепию сценами аттракционов в помещениях, прежде всего, со сценой на чертовом колесе, и, главное, не выбивался бы из общего ряда контрастных ночных кадров...
Анатолий Головня отметил в «Чертовом колесе» еще два принципиальных достижения: «Андрей Москвин первым в советской кинематографии ввел в практику кинопроизводства “режимную съемку” и “натурную подсветку”». Поясню: «режимная съемка» — это съемка «под ночь» во время сумерек. Убедившись на примере американских гор, что из снятого днем никакими ухищрениями при проявке и печати эффект ночи «не вытащить», Москвин попробовал снимать ночные кадры в сумерки — так и были сняты многие кадры ночного гуляния. Короткий отрезок съемочного времени от начала до полного захода солнца позже назвали «режимным временем». Подсветку на натуре до Москвина осуществляли зеркалами или другими отражателями, но их можно было применять только в дневное время. А он использовал на вечерних и ночных натурных съемках и военные прожекторы, и обычные ки-ноосветительные приборы. Но для того, чтобы осветить общие планы американских гор, прожекторов не хватало... Не забудем, что все это относится к первому фильму Москвина. Впереди будет еще много того, что именно он первым введет в практику кинопроизводства.
...Чтобы закончить разговор о сцене на американских горах, надо сказать, что были попытки увидеть в ней метафору взлетов и падений Вани. В фильме много зрительных метафор (самая яркая: чертово колесо превращается в циферблат часов, которые Ваня пытается остановить), но американские горы такой метафорой не были. Зато они наталкивали на другое сравнение: «Конечно, в фильме есть ухабы и провалы, напоминающие заснятые в ней американские горы, — написал Юткевич, — быть может, слишком мало “обработан” крейсер — но в целом картина обольстительно свежа. Это ваша победа, эксцентри
ки, победа романтизма...» И еще: «Хороша работа молодого оператора Москвина».
МОЛОДОЙ ОПЕРАТОР МОСКВИН
...будущее, которое, как известно, бросает тень задолго перед тем, как войти...
Анна Ахматова
Диапазон откликов на «Чертово колесо» (так назвали фильм при выпуске на экран) широк необычайно: от разгромных рецензий до полного признания и причисления к победам молодого кино (в начале 1926 года реестр побед включал «Броненосец “Потемкин”», «Чертово колесо», «Бухту смерти»; в конце года два последних фильма вытеснила «Мать»). Москвина хвалили, в журнале «Кинофронт» написали, что «молодой оператор снял лишь одну картину, но его уже можно считать прекрасным оператором». К выпуску фильма в «Советском экране» дали портреты Пиотровского и режиссеров, а после таких рецензий появился и портрет Москвина.
Заслужены ли эти похвалы? Безусловно, ибо, несмотря на все огрехи, его работа имела важное достоинство: вместе с режиссерами и художником он искал и часто находил образное решение. К находкам относятся не только экспрессивные по световым контрастам и движению кадры гулянья, но и выразительные кадры Ленинграда середины двадцатых годов — не парадного, не открыточного, без прославленных памятников и площадей. Это был, если можно так сказать, жилой город со следами недавней разрухи, образно представленными домом-обиталищем «хазы» с пустыми, без рам, проемами окон, и эти следы как бы растворялись в подернутых туманом, лирических кадрах утренних улиц. Заключенная в изображении «авторская интонация» сделала «Чертово колесо» фильмом, для ленинградского кино этапным: «Здесь кинематография становится искусством с собственным образным строем и собственным языком» (Блейман). «Становится»— да, но не «стала»: рядом с развернутыми образами гулянья, «хазы», «пластической студии» (лучшее и по режиссуре, и по операторской работе) есть в фильме и куски «безобразные», просто «снятые». К тому же яркой, эксцентричной по сути, среде «хазы» не противопоставлен выразительный художественный образ нового быта, хотя его символизируют краснофлотцы и «Аврора». И дело тут не в том, что сам крейсер недостаточно «обработан».
Одной из главных, может быть, самой главной идеей искусства двадцатых была идея коллективизма. Пафосом ее был проникнут великий «Броненосец “Потемкин”» с его лозунгом «Один за всех, все за одного!» Пиотровский доказывал эту идею «от противного»: оторвавшись от коллектива, Ваня оказался «на дне». Бандитская шайка — не коллектив, а сборище индивидуалистов, где каждый «за себя». Фэксы, пытаясь усилить контраст коллектива и банды, дали матросов нерасчлененно (все в одной форме, все почти на одно лицо) и предельно индивидуализировали обитателей «дна» с помощью необычного, эксцентрического типажа. Москвин еще более увеличил контраст: используя опыт «роман-
«Чертово колесо». На «чертовом колесе» Валя (Л. Семенова) и Ваня (П. Соболевский).
тической фотографии», он очень сильно снял бандитов. Особенно выразительны ночные портреты на черном фоне с бликующим светом сзади сбоку. Рядом с ними явно проигрывают снятые общим планом шеренги краснофлотцев на борту «Авроры» или их проходы тесной группой на ночном гулянье. Положение не спасает
тоже выразительный, но единственный крупный план одного из матросов на фоне афиш. Отсутствие характерности, нерасчлененность группы краснофлотцев заметна и в сценах заграничного плавания «Авроры», стычек с фашистами, которые используют выкраденные у Вани в «хазе» документы для провокации против советских моряков. Зарубежную жизнь режиссеры знали плохо, да и декорации Енея (в основном очень интересные) не создали образа северного портового города. К этому и Москвин с режиссерами «руку приложили»: почти все сцены сняты общими планами, выдававшими искусственность среды.
Но основной тон фильма задавали не эти кадры, а эпизод народного гулянья. Из тихого окраинного парка, как было в сценарии, фэксы перенесли его в сад Народного дома, в царство «низкого жанра»: цирк, эстрада, аттракционы — от кривых зеркал до американских гор. Здесь выступал таинственный «Человек-вопрос», по совместительству вожак банды (первая большая роль Герасимова). Фэксы с вдохновением работали над эпизодом, и Москвин, чувствуя это, делал почти невозможное: снимал ночью, бесконечно крутился на чертовом колесе, невероятным усилием удерживался на ногах в тележке американских гор. В кадрах ночного гулянья, да и во многих других — портретах Семеновой, Герасимова, бандитов, утренних пейзажах города, общих планах танцев и оркестра в «пластической студии» — Москвин проявил редкий для дебютанта профессионализм, безошибочное понимание режиссерского замысла.
Бесспорно, «Чертово колесо» фильм неровный, об ухабах и провалах писали не зря. Уже шла речь о потере чувства меры при монтаже сцены американских гор. В том же ряду круглое каше — оно появляется в самом первом кадре (надпись «Аврора» на борту крейсера). Этот прием из арсенала кино десятых годов имел право на существование — его применяли и Гриффит в «Нетерпимости», и Эйзенштейн в «Потемкине», да и замысел факсов понятен: мотив круга срабатывал в кульминационной метафоре «чертова колеса». Москвин подчеркивал его не только там, где он естественен (Ваня у иллюминатора в каюте), но и в общих планах крейсера, в некоторых, по сути, служебных кадрах. Так двумя кадрами с круглыми каше — снятые с низких
точек высокая мачта радиоантенны и шпиль Адмиралтейства — показана передача радиограммы из Кронштадта в штаб флота. Педалирование приема было «детской болезнью», на первом же фильме факсов и Москвина изжитой. И когда смотришь «Чертово колесо» сегодня, зная дальнейший путь Москвина, внимание привлекают не детские болезни, ухабы и провалы, а кадры, где виден будущий мастер. В них осмысленно использованы свет и контрасты света и тени, есть попытки создания сложных композиций (крупные первоплановые детали, перекрывающие часть кадра, применение ракурса, пока еще робкое) и стремление сделать активным фон кадра, о чем коротко и точно сказал Козинцев: «на экране не “места действия”, а “действующие места”». Это всего лишь «тени будущего», но оно близко: съемки «Чертова колеса» закончили в октябре, а в марте уже снимали «Шинель».
В работе над первым фильмом проявился и характер Москвина. Главное, пожалуй, не очень оправданная для помощника с небольшим стажем уверенность в себе. Он потребовал, чтобы платиновую блондинку Семенову перекрасили в брюнетку. Протестовала и актриса, гордившаяся необычным цветом волос, и режиссеры — на роль они пробовали только блондинок. Но Москвину нужен был внешний контраст между Валей и русоволосым Ваней, и к пользе для фильма он настоял на своем. Рассказывая об этом, Семенова коснулась отношений оператора с факсами: «Спорил с ними, если что-то не нравилось, доказывал свое. Очень независимый был человек». Режиссеры же были отнюдь не покладисты и с полным основанием считали себя более опытными кинематографистами. «Это не наглость, это была вера в себя... Меня продвинул этот талант, равный вере в себя», — слова Мейерхольда о поступлении — сразу на 2 курс! — в Филармоническое училище очень подходят к оператору «Чертова колеса». Талант, равный вере в себя, у него был, так же, как и талант художественный, технический, человеческий.
В понятие таланта человеческого входит умение выбирать друзей. Назову тех, с кем на «Чертовом колесе» Москвин подружился всерьез и надолго: художник Еней, помощник режиссера Борис Шпис, фотограф Евгений Михайлов (только с ними он перешел на «ты»). Отношения с Козинцевым и Траубергом были по-настоящему дружескими, но с соблюдением некоторой дистанции.
Несмотря на независимый характер Москвина, фэксы уже не представляли себе работу с другим оператором. А сам он, «изголодавшийся» и не насытившийся первым фильмом, еще не досняв последние его кадры, начал работать на втором.
«ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ»
Но не будем пытаться переделывать жизнь великих людей: они имеют право на свое счастье и свое несчастье...
Виктор Шкловский
В июне 1925 года Комиссия ВЦИК по ознаменованию памяти 1905 года рассмотрела сценарии «1905 год» Нины Агаджано-вой и «Девятое января» Павла Щеголева и выбрала первый, по-
Ноябрь или декабрь 1925 года. «Девятое января». Съемка сцены собрания
в павильоне — Розовом зале бывшего «Аквариума». А.Далматов (он ближе и лучше виден) и Москвин снимают двумя камерами. Над ними — В Висковский.
ручив постановку Эйзенштейну. 15 августа москвичи начали работу в Ленинграде: ночью, в свете прожекторов Левицкий снимал кадры «мертвого Петербурга». Можно почти уверенно сказать: Москвин побывал у них на съемочной площадке — ночные съемки были редкостью, ему было полезно понаблюдать за работой столь опытного оператора, как Левицкий. Наконец, его интересовал Эйзенштейн.
Не следует подставлять людям 1925 года наше знание того, что было потом, — никто не мог сказать тогда, что снятые в Ленинграде кадры станут «пробой пера» к лучшему фильму всех времен. Но Москвин уже видел «Стачку» и не мог не заметить, что в изобразительном решении ее при всем мастерстве Тиссэ чувствуется и уверенная рука режиссера-художника. Знал он и об отношении факсов к Эйзенштейну, слышал от них о нем как человеке. При его любопытстве к людям такой человек и художник должен был его заинтересовать. И, видимо, в 1925-м произошло личное знакомство: фэксы представили Эйзенштейну своего молчаливого оператора. Пути Эйзенштейна и Москвина пересекутся еще не раз, тогда это случилось впервые и лично, и творчески: оба они участвовали в создании фильмов к юбилею 1905 года.
Несмотря на отрицательное решение Комиссии ВЦИК, «Севзапки-но» не отступило и торопилось дать в тот же срок свой боевик. Едва Висковский завершил «Минарет смерти», возобновили работы по «Девятому января». Но Вериго-Даровский был занят, вместо него назначи
ли операторов Далматова и Альберта Кюна (он участвовал в съемках недавно вышедшего фильма «Палачи», прологом которого была сцена расстрела на Дворцовой площади 9 января 1905 года). 1 сентября начали съемки. Висковскому работа Кюна не понравилась, его почти сразу отстранили. Далматова надо было подкрепить. В конце сентября подключили Москвина, вероятно, по просьбе самого Далматова, который знал его по «Наполеон-газу», а может быть потому, что других свободных операторов не было. По «Чертову колесу» остались досъемки на «Авроре». Последний раз Москвин ездил в Кронштадт 3 октября; несколько оставшихся кадров снял Фролов.
«Севзапкино» гордилось «Девятым января», напирая в рекламе на «грандиозные массовые сцены» и показ «всех видных фигур отжившего режима». Размах и вправду был большой, массовые сцены снимали все операторы фабрики. Писали и о «рекордной быстроте работы, совершенно немыслимой для Запада» («Госкино» обогнали, фильм вышел на экраны 2 декабря, за три недели до заседания в Большом театре, где показали «Потемкина»; на экранах он был только 18 января). Ни быстрота, ни размах не скомпенсировали творческую убогость фильма. Основную задачу его создателей художник Алексей Уткин (в ту пору весьма известный; в рекламе назван раньше операторов) определил так: «...сохранение исторической правильности, и как формальный метод, принцип натурализма». Уткин понимал под натурализмом реализм, но сегодня его определение — точная оценка результата: фильм остался на уровне примитивного, фотографического натурализма. По тому же принципу в основном работали операторы: и Москвин, явно способный на большее, и Далматов — он был на 30 лет старше, но впервые снимал игровой фильм. Об Александре Дмитриевиче Далматове должно, пожалуй, рассказать: очень уж своеобразная личность (заодно разоблачу легенду, будто он на «Девятом января» — главный, а Москвин лишь помощник).
Далматов был человеком разносторонних интересов и занятий: кавалерийский офицер; магистр ветеринарных наук; литератор; издатель и редактор журнала «Армия и флот». Страстный фотограф, получавший премии на выставках в России и за рубежом, он увлекся кинематографом. В 1909-1910 годах снял 13 документальных фильмов, одним из первых начал снимать фильмы об авиации — о полетах на воздушных шарах и первых полетах аэропланов, и даже пытался создать фабрику по производству военно-спортивных кинолент. В 1917-м гвардии полковник, командир учебного полка перешел на сторону революции, служил в Красной Армии, в 1924-м демобилизовался и пришел в «Севзапкино». Начал оператором документальных фильмов, работал на массовых сценах «Минарета смерти» — их снимали сразу несколькими камерами. Как фотограф он не уступал спецам кинофабрики и вполне устраивал Висковского, ибо давал «четкую фотографию». Единственным его игровым фильмом так и осталось «Девятое января»: в марте 1926 года его назначили на фильм «Поэт и царь», но уже в апреле уволили под надуманным предлогом. Вероятно, дирекция решила, что будет спокойнее без бывшего дворянина и офицера. Далматов перебивался разными работами, стараясь не привлекать к себе внимание, но НКВД все равно им заинтересовалось, он был арестован и в 1938 году расстрелян...
«Девятое января».
Рабочий момент съемки сцены в кабинете Николая I. В глубине стоит режиссер В Висковский, за камерой — Москвин.
Но вернусь к «Девятому января». Уцелело заявление Далмато-ва; о сотрудничестве с Москвиным он написал: «...мы работали на равных началах и получали каждый самостоятельно задания от режиссе-
ра» и указал, что фильм снят им на 60%. Без ложной скромности добавил: «Мои снимки отличаются четкостью, рельефностью, глубиной и нешаблонностью освещения». Что же снимал каждый? Это установить сложнее. Участник массовки Александр Зархи (будущий режиссер) вспоминал: «Москвин разместился на крыше Зимнего дворца, и его позиция казалась мне, страдавшему боязнью высоты, самой трудной и рискованной...» Фильм сохранился не весь, нет и расстрела на Дворцовой, оценить эти кадры нельзя. Но вот документ: фото рабочего момента в кабинете Николая II, за камерой стоит Москвин.
На общем плане царь в профиль и великий князь Владимир Александрович анфас сидят у стола перед камином. Фон для Владимира — белый мрамор камина. Николай на укрупнениях, врезанных в общий план, виден практически на черном фоне неосвещенной стены. Поначалу мне показалось, что разные фоны не случайны, но с появлением новых крупных планов стало ясно: никакого замысла тут нет. Задача режиссера, оператора, гримера — сходство. С Николаем попали в точку: его играл очень похожий на царя заведующий пекарней Александр Евдаков. Забота о сходстве с фотографиями сделала кадры похожими на них; по свету и композиции они отвечали стандартам «визитки» или «кабинетки». Изобразительно эта сцена — торжество «принципа натурализма».
Однако есть в сохранившихся частях кадры с явным стремлением к образному решению. Лучший — редкий в те времена для петербургского кино кадр с глубинным построением (московские операторы, скажем, Борис Завелев, использовали подобный прием еще до революции). Для финального кадра в сцене прихода Гапона в охранку камеру установили перед дверью в кабинет полковника. Правая сторона кадра — неосвещенная стена, перед ней стоящий навытяжку жандарм. В левой стороне открытая дверь, за ней, в глубине кабинета Гапон и полковник на фоне светлой стены, освещенные от невидимого окна справа. Жандарм чуть высвечен отраженным, скользящим светом из кабинета, лицо почти неразличимо, зато хорошо виден ряд бликующих пуговиц на мундире. Жандарм — символ безликой машины притеснения. Он и «охрана охранки», что «возводит в квадрат» ее зловещую функцию. И это не все: его молчаливое присутствие подчеркивает двуличие полковника, якобы заботящегося о бла
ге рабочих. Словом, прекрасный этот кадр мог бы и сегодня украсить фильм о 1905 годе. Неплохо выглядят и портреты Гапона, ему уделено особое внимание. Евгений Воронихин играл Гапона неврастеником, а операторы еще и подкрепили внешнюю экзальтацию контрастным световым решением.
Кто снял кадр в охранке или впечатляющий портрет Гапона на собрании? Хотелось бы думать, что Москвин, тем более, что после «Девятого января» он снял «Шинель», а Далматов не снял ничего. Общий уровень операторской работы определили не несколько хороших кадров, а скорее снятая Москвиным сцена в кабинете царя. Поэтому послушаем Шкловского и не будем переделывать жизнь великого человека: итог «Девятого января» был несчастливым для Москвина. Усталый от напряженного и не очень плодотворного труда, он ушел 16 декабря в свой первый отпуск.
Торопясь с «Девятым января», фабрика задержала выпуск других фильмов, «Чертово колесо» показали только в марте 1926 года. Поэтому часто считают «Девятое января» первой, еще не самостоятельной работой Москвина и выстраивают прямую линию подъема его мастерства. Москвин в этом не нуждается. Позже он сурово оценил «Чертово колесо» как снятое на чистой технике. И верно: о художественных возможностях операторского искусства он еще мало задумывался. Висковский требовал, чтобы Николай II был похож на свои фотографии, Москвин искал для этого технические приемы. Когда фэксы достаточно уверенно, хотя и не до конца последовательно ставили задачу создания не подобия, а образа, он тоже шел от поиска технических средств. Но для образного решения знать технику мало, надо еще передать зрителю свое эмоциональное отношение к снимаемому. Это есть в лучших сценах «Чертова колеса», в кадре с жандармом из «Девятого января» (очень хотелось бы отыскать подтверждение, что его снял Москвин). Образное решение он находил интуитивно и вряд ли сознавал, что работает не только как техник, но и как художник. Думая же о съемках нового фильма, он невольно должен был сравнивать художественные результаты работы с факсами и с Висковским.
В это время Москвин увидел «Потемкина». Близость темы с «Девятым января» невольно заставляла сравнивать и фильмы, и операторскую работу. Гениальность «Потемкина» и «последовательную бездарность», по определению Шкловского, «Девятого января» наглядно показали сцены расстрелов. В «Девятом января» — расстрелы каждой колонны шествия, их четыре, стало быть, и расстрелов четыре, да еще снятых на один лад. В «Потемкине» один — на Одесской лестнице, но он дан так, что стал образным воплощением всей трагедии 1905 года. По операторской работе «Потемкин» — прямое развитие принципов, которые Эйзенштейн и Тиссэ нашли на «Стачке»: «творческая близость», поиск в каждом кадре «предельной выразительности», «обобщенного образа» снимаемого явления. Эйзенштейн сформулировал это в 1939-м, но и в 1926-м понимающему человеку эти принципы были ясны. Москвин был таким человеком и сумел верно оценить и «свое счастье», и «свое несчастье». Возвращаясь в январе из отпуска, он радовался новой работе с факсами.
Гпава третья
«ШИНЕЛЬ»
ТРУДНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Писателю позволено решительно все — при условии, что он способен поверить себе.
Габриэль Гэрсия Маркес
января 1926 года «Красная газета» сообщила, что «Севзап-I кино» дало телеграмму Чарли Чаплину, приглашая его в Ле-I нинград для съемок в «Шинели». Вряд ли рассчитывали на согласие Чаплина, для коммерсантов от кино это был рекламный трюк. Однако идея возникла не случайно: о том, что Чаплин мог бы сыграть у них Башмачкина, фэксы действительно говорили, подчеркивая этим желание нарушить сложившуюся традицию экранизации русской классики. А дирекция фабрики, возглавляемая кронштадтским моряком Константином Пронским, как раз хотела традицию продолжить. Большой успех «Поликушки» и «Коллежского регистратора» (по пушкинскому «Станционному смотрителю») с великим актером Иваном Москвиным в заглавных ролях, да еще и сорежессером на «Коллежском регистраторе», позволял рассчитывать: еще одна, гоголевская, история «маленького человека» окажется столь же доходной.
Сценарий заказали Тынянову — только что вышел его роман «Кюх-ля». Выполнив заказ, он преподнес фабрике два сюрприза. Первый: это не была экранизация привычного типа, а «фантазия в манере Гоголя», вольное соединение мотивов разных повестей. Второй сюрприз: Тынянов, как раньше Пиотровский, выдвинул условие — ставить должны фэксы. Сами фэксы считали, что их дело — фильмы о современности, но подходящих сценариев не было, да и дирекция не очень-то хотела давать им работу: «Чертово колесо» еще не вышло на экран, многие сомневались в успехе. Ставя «Шинель», фэк-
сы обеспечивали работой своих актеров: в простое они не получали зарплаты. «Мы были рады взять... все, что нам давали, — писал Трауберг. — И взять прекрасно написанный, хотя и трудный для нас, сознающих невозможность делать в СССР в 1926 г. “старинную” картину, сценарий Юрия Тынянова — почли за счастье». Ясно, что «почли за счастье» не потому лишь, что сократили простой. Были иные причины, хотя бы педагогическая: испытать учеников в другом жанре. Привлекало и новое обращение к Гоголю.
Дирекция оказалась в трудном положении: по причинам, сегодня уже непонятным, фильм готовили к пасхе — к началу мая. На новый сценарий времени не было; согласились на факсов, но подстраховались, пригласив на главную роль опытного актера Иллариона Певцова. 13 января решили: «Поручить постановку тт. Траубергу и Козинцеву с обязательным сорежиссерством Певцова и консультантом Ю.Н.Тыняновым» (похоже, что дирекция старалась и здесь идти в ногу с москвичами, назначившими исполнителя главной роли сорежиссером).
«“Шинель” была вещью полемической, — писал позже Тынянов, — она полемизировала с легкой и бесплодной удачей “Коллежского регистратора”... ставила по-новому вопрос о “классиках” в кино». Классики в кавычках не случайно: при всех стараниях режиссеров Юрия Желябужского и Ивана Москвина быть ближе к Пушкину, они ушли от него весьма далеко. Прямая иллюстрация слова изображением — путь бесплодный: в фильме осталась лишь фабула, трагедия станционного смотрителя обернулась примитивным слезливым анекдотом. Своим сценарием Тынянов предлагал иной путь: поиск киноэквивалента гоголевскому слову. Сегодня легко оспорить тыняновскую теорию, по которой «бедность» кино (отсутствие звучащего слова, цвета, объема) была его конструктивным принципом, но нельзя забывать: такой подход помогал кино осознавать свои возможности. Потерянную мощь гоголевского слова Тынянов возмещал усилением изобразительной динамики, смело вводя события и детали, которых нет в повестях. Это не было самоуправством, это принцип творческой экранизации.
Когда Тынянов сочинял свою фантазию, Натан Зархи писал сценарий «Мать» и тоже многое менял: ввел, скажем, невольное предательство матери. Пудовкин так и снял, автор повести Максим Горький не протестовал. Можно представить, как Гоголю не понравилось бы, что в фильме Башмачкин подделывает документ. Но тут существенно не общее в принципах экранизации Тынянова и Зархи, а разница их положений. «Мать» воспринималась вне культурно-исторической перспективы, отношение к ее героям еще не изменилось. Отношение к герою «Шинели» менялось и давно уже отличалось от отношения к нему Гоголя: уже Чернышевский иронизировал над идеализацией Башмачкина.
Как относились к «маленькому человеку» Тынянов и фэксы на девятом году советской власти? Революцию совершили не Башмачки-ны, покорно влачившие жалкое существование, бунтовавшие лишь в бреду или в загробной жизни, а люди непокорные. Отсюда отношение к герою. На обсуждении сценария Тынянов говорил: «Сочувствие негативное, смешанное с жалостью». Козинцев шел дальше: «Сочув
ствие к Башмачкину берется под сомнение, а жалость должна перейти в презрение» (кстати, вот пример зависимости отношения к герою от времени — в начале семидесятых годов, готовясь к «Гоголиа-де», Козинцев записал: «Башмачкина — автомата-чиновника я снял в 1926 году. Теперь будет самый человечный из всех людей»). Молодых художников привлекал в повести не столько Башмачкин, сколько потрясающей силы образ крепостнической, чиновничьей империи, превращавшей людей в Башмачкиных. При таком отношении к эпохе и героям Гоголя Тынянов посчитал возможным и нужным представить и подделку документов, и наказание шпицрутенами, и ссору помещиков из-за девки, которую один хотел выменять у другого на бурую свинью. Он верил себе и потому мог позволить решительно все. Кроме одного: при всех отклонениях от Гоголя, диктуемых и требованиями кино, и взглядом на эпоху, он должен был сохранить пафос гоголевского обличения и гоголевскую «манеру». И он их сохранил.
ВТОРОЙ ОПЕРАТОР «ШИНЕЛИ»
У всякого есть что-то, чего нет у другого; у всякого чувствительнее не та нерва, чем у другого, и только дружный размен и взаимная помощь могут дать нам возможность всем увидеть с равной ясностью и со всех сторон предмет.
Николай Гэголь
Зная сценарий и наметки режиссеров, Москвин понимал, что нуж-ны новый подход к изображению и новые способы съемки. «Шинель» запустили в производство 20 января; чтобы сдать фильм в конце апреля, снимать надо с начала марта; времени на подготовку мало. Следовало усилить группу еще одним оператором, сразу начать эксперименты, изготовление приспособлений. В выборе второго оператора Москвин и фэксы не сомневались — их вполне устраивал Михайлов. Уже 25 января Москвин говорил об этом с Пронским и получил отказ: Михайлов работал фотографом на «Декабристах» Ивановского, для директора качество рекламы к очередному боевику важнее рискованных экспериментов молодежи. К фэксам и Тынянову дирекция относилась настороженно, не случайно выдвигая Певцова. И как раз назавтра после разговора с Пронским Москвин снял кинопробы Певцова и Андрея Костричкина на роль Башмачкина. Молодой ученик ФЭКСа, возможно, и не без помощи Москвина, уверенно выиграл соревнование. Дирекция, скрепя сердце, утвердила Костричкина; отношение к группе от этого не улучшилось, Михайлова с «Декабристов» не отпускали.
2 февраля заявление написали Козинцев и Трауберг. Напомнив о борьбе за Москвина на «Чертовом колесе», они требовали Михайлова, «как культурного и однопланового с нами знатока старины и стиля гоголевской эпохи... Мы уверены, что Михайлов сумеет применить свои познания и практически, выработав вместе с Москвиным (который страшно этого желает) совершенно новые приемы стилизационных освещения и съемок». Москвин написал еще одно заявление не только о Михайлове («обладая серьезными, проверенными мной по совмест
ной работе по “Чертову колесу” знаниями киносъемочного дела вообще и света в частности, является незаменимым сотрудником по съемке фильмы “Шинель"»), но и об экспериментах. Для них ему нужен еще один помощник — Илья Тихомиров. Снова отказ. Москвин и фэксы настаивали. Наконец, уже 25 февраля, вышло распоряжение: Михайлову разрешили «производить работы по киносъемкам картины “Шинель” при условии ненарушения основной работы фотографа по картине “Декабристы” и без особой доплаты за операторскую работу».
Говорят, история все расставляет на свои места. В общем виде, в применении к давним временам это, очевидно, так. Но обращаясь к временам не столь далеким, замечаешь: оценка роли художника связана иногда не с лучшим, что он сделал, а с тем, что он сделал последним. Характерен пример с Беляевым. Фильмы конца двадцатых годов, снятые им с Червяковым, много дали операторскому искусству. Но в тридцатые судьба Червякова и Беляева оказалась сложной, больших успехов не было. Тень этой судьбы пала на оценку его места в становлении ленинградского кино. Результат — в I томе «Истории советского кино» Беляев упомянут лишь один раз, в связи с «Поэтом и царем», в контексте отрицательном (представьте оценку работы Москвина в немом кино только по «Девятому января»!). То же и с Михайловым: он ушел из кино в середине тридцатых, чтобы переждать тяжелые времена; тогда это его спасло, но позже его все равно «достали». И никто не пытался осмыслить вклад Михайлова в кино двадцатых, понять, что он сделал для Москвина и, особенно, для Фридриха Эрмлера. А сделал он много.
Михайлов — внук известного искусствоведа, хранителя картинной галереи Эрмитажа А. И. Сомова, племянник К. А. Сомова. «С дядей мы жили в одном доме, — рассказывал мне Евгений Сергеевич, — я с ним ежедневно встречался... И по линии художественной был им воспитан. А так как я еще был знаком со многими художниками “Мира искусства", то это было с детства в крови — отношение к искусству и умение некоторое в нем разбираться». Вынужденный оставить в годы разрухи класс архитектуры Леонтия Бенуа в Академии художеств, он стал работать в Отделе охраны памятников искусства и старины. Его знания, высокий вкус помогли спасти ценные произведения прикладного искусства. Работа была связана с документальной фотосъемкой, от нее он пришел к художественной, достигнув больших успехов; скажем, портрет жены (1922) по выразительности и чувству меры оставляет далеко позади лучшие работы «Амогора». Его интересовало кино: «Я наивно полагал, что студии могут быть нужны люди, имеющие художественные навыки, знакомые со стилем, костюмами и т.п.» Но дело решили показанные фотографии, он стал кинофотографом. Уровень фоторекламы был низок, Михайлов его заметно поднял. Фотографии первого же фильма — «Сердца и доллары» художественно и технически оказались выше работы опытного оператора Николая Козловского. Михайлов снимал не с операторским, а со своим светом, на «Декабристах» даже мизансцены менял для выразительности рекламного снимка.
Он был старше Москвина, резко отличался характером, манерой поведения, но подружились они всерьез. Михайлов объяснил это так: «Оба влюблены в кинематограф. Оба стремимся к работе по-новому,
а мысли об этом оказываются очень близкими и родственными». И Москвин не колебался, предлагая снимать на равных. Михайлов оказался перед выбором: он надеялся вернуться к архитектуре, точнее, к тому, что теперь называют «дизайном». Но предложение Москвина принял сразу: соблазняла возможность освоить то, что умел Москвин — легко и быстро находить для решения творческой задачи необходимые и достаточные технические средства. А для лишенного художественного образования Москвина самым интересным в Михайлове была его «сидящая в крови» художественная культура, детальное знание не только собраний музеев, но и многих частных коллекций. Кстати, коллекция самого Михайлова была превосходной. Художественной школой Москвина было самообразование. Михайлов помог поднять его на университетский уровень.
Как оператор Москвин был сильнее; сам Михайлов написал: «Ведущая роль в съемке картины, конечно, принадлежала Андрею». Немногие самостоятельные кадры Михайлова выполнены в стиле, найденном и закрепленном Москвиным. Но его роль не следует и преуменьшать. Не в том дело, что он облегчил труд Москвина при съемках в три смены, что сам что-то снял или предложил. Важно иное — рядом появился человек с мыслями «очень близкими и родственными»; с ним можно было спорить и, доказывая свою правоту, самому докопаться до истины, с ним можно было осмыслить, что получилось и что не получилось. Такой человек — как катализатор в химической реакции.
Москвину повезло тогда на друзей-«катализаторов». На «Шинели» помощниками режиссеров были Шпис и Петров. Оба хорошо разбирались в изображении, но были еще одарены в том, что от операторского дела, вроде бы, далеко. Знаток театра, актерской игры Петров мог оценить, как оператор донес до экрана работу актера; Шпис же происходил из старинного рода немецких музыкантов, имел абсолютный слух и безукоризненное чувство ритма, по его реакции на изображение Москвин мог судить о точности взятого темпа движения, пластического ритма (не случайно именно Шпис был монтажером всех немых фильмов Козинцева и Трауберга кроме «Нового Вавилона»). На «Шинели» Москвин, Михайлов, Еней, Шпис и Петров были неразлучны. В напряженной работе на дружеские встречи, даже просто на серьезные разговоры времени было мало. Но была питательная среда — ив ней талант Москвина расцветал в полную силу.
В МАНЕРЕ ДОСЕЛЕ НЕИЗВЕСТНОЙ
Биограф мастеров Возрождения Джорджо Вазари, характеризуя наивысшее достижение художника, писал: «В манере доселе неизвестной...» Разве вас не волнует эта фраза? Разве не высшая честь для художника — сделать работу «в манере доселе неизвестной»?
Всеволод Мейерхольд
8 марта 1926 года, пять часов вечера. По указаниям Москвина два военных прожектора осветили памятник Кутузову у Казанского собора. Первая съемка «Шинели»... В тот же вечер сняли несколько кадров в других местах. Кончили в полночь. Ночью с
16 на 17 апреля в павильоне начали съемку сна Башмачкина, в полвосьмого утра завершили все съемки. 20-го закончили монтаж, днем 21-го Художественное бюро фабрики приняло фильм, в протоколе сказано: «Работа оператора достигла высокого совершенства и по технике может соперничать с европейскими картинами». 22 апреля фильм отправили в Москву, в цензуру, 1 мая он вышел на экраны Ленинграда.
Высокое совершенство работы оператора достигнуто в условиях сверхтрудных. По срокам фильм перекрыл рекорд «Девятого января». Уже в середине марта снимали порой до 600 метров, а 6 апреля — 866 метров. 9 апреля снимали на натуре с полдня и до пяти утра, а 10-го днем снова снимали. «Как ни странно, — вспоминал Михайлов, — но взятый темп съемок как-то подстегивал, и работа шла очень бодро, организованно и дружно». За шесть недель было два выходных и два дня простоя: для замены исполнителя роли портного Петровича (Мартинсон не смог приехать, роль сыграл Владимир Лепко) и из-за болезни Костричкина — он снимался почти во всех кадрах, и трудно понять, как вообще выдержал такую нагрузку. Не меньшей была нагрузка у операторов: они и этих свободных дней не имели, проведя их в лаборатории, где обрабатывался негатив и печатался позитив. Снимать по очереди операторы не могли, ибо многое снимались двумя камерами: нужно было получить два негатива фильма — для печати копий и для экспорта. Кроме киносъемок Михайлов вел еще фотосъемки, и фотографии должны были иметь высокое качество: рекламе в «Севзапкино» уделяли серьезное внимание. Может быть, не так и страшно было бы это для рядового фильма: хватило бы технических навыков, уже достаточно «набитой руки», но здесь все усугублялось новизной, сложностью задачи. Физическое и, если можно так сказать, техническое напряжение были велики, но еще больше было напряжение творческое — сценарий Тынянова дал четкую установку на фильм «в манере Гоголя», оператору надо было найти отвечающую ей манеру. Москвин нашел ее. Чтобы наглядно ее представить, пойду снова от первой съемки, «задающей интонацию рассказа».
Три кадра, снятые вечером 8 марта, составили короткую монтажную фразу: в фильме она не выделена, растворена в череде других кадров. Но вообразите состояние всей съемочной группы на просмотре первого рабочего материала. Киномеханик дядя Кузя зарядил в проектор свежую, без единой царапины пленку... Первые кадры: Баш-мачкин и памятник Кутузову... «Еще раз!» Дядя Кузя быстро перезарядил проектор. Снова первые кадры... Они понятия не имели о том, что это и есть интонация рассказа, но почувствовали — не могли не почувствовать! — найдены «новые приемы стилизационных съемок и освещения»! Приглядимся и мы к этим кадрам.
Первый — общий план, взгляд со стороны: памятник целиком в кадре, рядом маленькая, в половину высоты постамента фигура несчастного Акакия Акакиевича — с него только что сняли шинель. Луч прожектора высвечивает Башмачкина, постамент, снег вокруг памятника. Бронзовый Кутузов освещен слабее, фон практически черный, только в одном углу чуть виднеется часть колоннады Казанского собора. Свет оправдан: видимо, где-то спереди слева за пределами кадра стоит фонарь.
«Шинель». Три кадра памятника М.Кутузову, снятые в первый съёмочный день. Напечатано с сохранившихся у Е.Михайлова срезок позитива, вирированных в синий цвет; сейчас они находятся в Музее кино.
Второй кадр — ракурс снизу, с точки зрения Башмачкина. Фигура фельдмаршала, которую видит он теперь не в профиль, а в фас, занимает всю высоту кадра. Придвинув камеру к памятнику, Москвин поднял световой луч с пьедестала на статую. Теперь она освещена снизу и ярче, что делает более густой черноту фона.
Третий кадр — статуя тоже снизу, но со спины и крупнее. Свет, став контровым, подсветил влажный воздух, создал свечение вокруг фигуры. Сильные блики выделяют контур головы, складок плаща. Ярче всего освещена поднятая левая рука с фельдмаршальским жезлом.
Три кадра вместе создают впечатление, что Башмачкин обходит памятник, глядя на Кутузова снизу. Но в третьем кадре точка съемки уже выше, фигура стала
крупнее и рука с жезлом устремилась не вверх, а вдаль.
Ракурсная съемка, совмещение точки зрения камеры, стало быть, и зрителя, с точкой зрения персонажа вообще-то не новость; редко, но они применялись и в дореволюционном кино. Новое в переходе к третьему кадру, где положение камеры не совпадало с положением глаз героя, в переходе к немотивированному свету, да еще от кадра к кадру усиливающемуся. Это противоречило реальности, но убедительно пере-
давало субъективное ощущение, нарастающий ужас Акакия Акакиевича. Разворотом статуи создан повелительный жест руки с жезлом: она растет от кадра к кадру и освещена все ярче. Это как бы усиливает гнев бронзового изваяния и прочитывается грозным окриком (позже этот жест левой руки будет повторен Значительным лицом).
Лишь намеченная в сценарии «субъективация» стала в фильме одним из приемов, позволивших пластикой кадров передать гоголевский
гротеск, «манеру Гоголя». Переходя от изображения вполне натурального к изображению «неоправданному», Москвин наглядно реализовал основную идею «Предварительных замечаний» Тынянова: «Сценарий рассчитан не на психологическую, а на гротесковую постановку, где гротеск возникает из “передержки” натурализма». Но и это не все. В кадрах, как в зародыше содержащих почти всю стилистику фильма, есть еще один смысл. Много лет спустя Козинцев выразил его так: «Маленький человек и мертвые громады Империи. Развитие мотива соотношения величин». Верно выбранный масштаб первого кадра (тщедушная фигурка Акакия Акакиевича и мощное изваяние на высоком постаменте) создал мотив, который не только развивался в следующих кадрах (изваяние вырастало), но и требовал дальнейшего развития. Чуткие режиссеры поняли это и сняли Башмачкина у каменного сфинкса перед Академией художеств и у бронзового Николая I на Исаакиевской площади (на анахронизм пошли сознательно; памятник возведен по проекту Огюста Монферрана много позже, но он выше других и сильнее наращивает соотношение величин; да и очень уж хотелось прямо столкнуть героя с императором).
Шкловский написал, что словесное определение Гоголя трудно переводится на язык кино: «Оно может быть угадано только при условии включения режиссерско-операторского зрительного отношения к предмету». В первых же снятых кадрах зрительное отношение было включено, путь перевода на язык кино угадан. Роль Москвина в этом — ключевая.
В сценарии Тынянова памятников нет. Как и в повести, после ограбления Башмачкин бросался к будочнику, потом пробегал по улице и в следующем кадре стучал в дверь своего дома. В режиссерском сценарии в кадрах пробега появился и общий план памятника: Башмачкин на секунду задержался, побежал дальше. Затем — сцена с мастеровыми: они советовали Башмачкину пойти к Значительному лицу. В конце сцены снова памятник: «Средний план. 2 м. Памятник. Рука указывает вдаль». То, что съемки начали с него, — случайность (в сценарии памятник не назван; остановились на Кутузове: для Башмачкина он больше похож на привычное статское начальство, чем «Медный всадник» или памятник Суворову). То, что сняли не одно, а два укрупнения, уже не случайно: на съемке почувствовали — из этого что-то может выйти. Но главным было увиденное на экране. Москвинский свет, создав необходимые контрасты, подкрепив «субъективность», подчеркнув соотношения величин, вывел фотографию на уровень зрительного эквивалента гоголевской прозы. Сразу стало ясно: придуманная, отсутствующая у Гоголя сцена с мастеровыми не нужна. «Указующая рука» изваяния настолько выразительно превратилась в глазах Башмачкина в грозный окрик, что уже ему самому должна была прийти в голову мысль о Значительном лице, как единственной инстанции, что может заставить искать шинель всех частных приставов и будочников. И достигнуто это только изображением.
СВЕТ И РАКУРС
Изобразительные средства, Неисчислимо их богатство — Внезапное добрососедство, Свобода, равенство и братство.
Леонид Мартынов
Изобразительные средства операторского искусства, конечно же, равноправны. Это хорошо видно в кадрах с памятником: основой образа стало тут именно «внезапное добрососедство» изменений масштаба, ракурса и света. Но равноправие вовсе не есть количественное равновесие всех средств в каждом кадре, эпизоде, наконец, в фильме. Пожалуй, все средства и приемы, известные операторам к тому времени, использованы в «Шинели», придумано и новое. Однако же во всех суждениях о роли Москвина в этом фильме не зря прежде всего упоминали «москвинский свет». Отчасти это связано с тем, что в выборе ракурса, точки съемки режиссеры могли принять активное участие. Указующая рука памятника была в режиссерском сценарии, а идею поднять для этого камеру повыше не обязательно высказал Москвин, ее могли предложить и фэксы, и Михайлов, и кто-то из помощников. Свет был целиком москвинской епархией. И именно свет более всего определял «зрительное отношение к предмету».
Это особенно заметно при сравнении повестей Гоголя, литературного и режиссерского сценариев и фильма. Сценарий — цепь повествовательных эпизодов, довольно «натуральных», но уже содержащих элементы «передержки»; в фильме их нужно было «довести до гротеска». Лишь одним из этих элементов были у Тынянова зрительные метафоры. В режиссерском сценарии фэксы сократили многие повествовательные куски и, на опыте «Чертова колеса», сделали метафоры основным средством выразительности. Вот как задумано у них начало фильма: пустое пространство с фонарем впереди; фонарщик зажигает фонарь; на пустом месте возникают дома, потом мост; будки и вывески пролетают на свои места; появляются люди. В фильме это оказалось ненужным, впечатление того, как «Невский оживает и начинает шевелиться...» и наступает «то таинственное время, когда лампы дают всему заманчивый чудный свет» (Гоголь), — создано светом Москвина. Изображение настолько передавало «манеру Гоголя», что в ходе съемок фэксы отказались от многих метафорических и трюковых эффектов. Фильм стал ближе к сценарию Тынянова, более того — к повестям Гоголя.
«Шинель» построена на контрасте света и тени; во многих случаях, скажем, в первых сценах (Невский, проходы Незначительного лица и девицы из «нумеров») он доведен до предела, до графического силуэта в отдельных кадрах. Москвин и тут шел от Гоголя, сказавшего: «Истинный эффект заключен в резкой противоположности». Заявленная в самом начале резкая противоположность света и тени проходит, то несколько ослабляясь, то усиливаясь, через весь фильм, чтобы в полную мощь прозвучать в финальных кадрах бреда и смерти Акакия Акакиевича. Так образуется особое измерение фильма — драматургия световых контрастов.
«Шинель». Кадр из фильма. По пути в «нумера». «Небесное создание» (А. Еремеева) и Незначительное лицо (А.Каплер).
Чтобы создать ее, Москвин виртуозно работал с искусственным светом в павильоне и на ночной натуре. Но он создал некоторый уровень контраста и в немногих кадрах натуры дневной. В сцене наказания шпицрутенами сложнее всего было с общими планами: затоптанный снег, светло-серые панталоны солдат, светлое здание на фоне, бессолнечный северный день — все неизбежно вело к однообразно-серой тональности. Москвин нашел выход: так построил кадр, что солдаты перекрывали друг друга (особенно группа с барабанщиком на первом плане), и слившиеся в общую массу черные мундиры дали нужный контраст. Он еще больше в кадрах, где первый план занимает решетка, окружающая плац, и фигура Башмачкина в темной шинели.
Для «передержки натурализма» Москвину всего важнее были линия, контур — границы «резкой противоположности». Но взяв за основу всей пластики графичность меняющихся контрастов, он был внимателен и к объему, выразительности пространственных построений, подчеркивая их не только композицией кадра, выбором точки съемки, но и светом, контрастом между первым планом и фоном. Ему помогли в этом декорации Енея с их несколько заостренной (в соответствии с общим стилем фильма) организацией пространства. Лаконичные, с минимально необходимым числом экспрессивных деталей, декорации сами по себе были выразительны, и казалось: снять их с общим, заливающим светом и все будет в порядке. Но еще на «Чертовом колесе» Еней постиг возможности москвинского света и здесь уже прямо на них рассчитывал. Действительно, свет поднял заложенные в декорации образы на уровень обобщения. Во дворе студии Еней построил маленький участок улицы, не повторив ни одного реального здания. На экране декорация стала образом всего Невского проспекта (уровень работы Москвина со светом становится особенно наглядным, если сравнить его с уровнем работы Фролова — он снял ту же декорацию Енея в «Декабристах» с привычным для него «жестким» светом, разоблачив этим ее «фанерность»). Декорации департамента с помощью света и отчасти ракурса стали Департаментом (именно так, с большой буквы) — наглядным воплощением бюрократической основы Империи. Москвинский свет в «Шинели» — общий знаменатель всего пространства Петербурга, охватывающего и огромные пустые площади с монументами, и жалкую комнату Башмачкина, и департамент, и Невский.
Свет, усиливающий контрасты, казалось бы, противопоказан портретам. Но Москвин совместил несовместимое. В большинстве пор-
Глава третья. «Шинель»
третов, даже в некоторых портретах девицы из «нумеров» (Антонина Еремеева), тени не смягчены, направление и сила света выбраны так, что заметные тени лишь подчеркивают характерность лица, не искажая его черты. А в крупных планах чиновников в сцене сна, контрастный свет помогает превратить лица в фантасмагорические маски. Сочетание контрастного, да еще неестественного нижнего света с оптическим искажением крупного плана, а иногда и с ракурсом применено в фильме несколько раз. И всегда оно оправдано восприятием Башмачкина. Для полной «субъективации» камера должна была двинуться с места, но специальных камер для съемки с рук тогда не было.
«Я однажды застал Москвина на заднем дворе студии за странным занятием, — вспоминал Козинцев, — прикрепив к плечам какие-то салазки (собственного изготовления) и устроив на них камеру, он приседал, крутился...» Изготовленный Москвиным нагрудный штатив («салазки») с камерой «Дебри» виден на фотографии рабочего момента съемки танцев в «нумерах». Москвин еще не снимает, примеривается, показывает актрисе, как высоко надо поднять ногу... Он очень не любил фотографироваться, и Михайлов собственно снимал не его — в центре танцовщица, оператор даже подрезан рамкой кадра. Но в искусстве, а в фотографии особенно, подчас происходит то, что Эйзен-
Апрель 1926 года. «Шинель». Съемка сцены «В нумерах». Москвин снимает камерой, установленной на нагрудном штативе. Фото Е.Михайлова.
59
«Шинель». Кадр из фильма. Башмачкин (А.Костричкин) на Невском проспекте.
штейн назвал «обогащение от непредвиденных Beiproduct [побочных продуктов, попутных находок]». Такой находкой и явился на снимке Москвин. Приглядевшись, замечаешь, как твердо стоит он на ногах, как ладно подогнаны поясные упоры и ремни штатива, как упруго тело, готовое двинуться с камерой вслед за быстрым движением танцовщицы. Прижатый к рамке Москвин оказался смысловым центром снимка — от него словно исходит какое-то поле духовной силы.
Эта духовная сила чувствуется в кадрах «Шинели». Москвин не просто физически становился на место Башмачкина, он передавал изображению свое чувство, свое отношение, усиливая субъективность точки съемки экспрессией контрастов, ракурсов, движения камеры. Даже для кадров, снятых со стороны, «объективно», он находил приемы, позволяющие «влезть в душу» героя, унижаемого жизнью. Вот первое появление на Невском молодого Башмачкина в шинели с еще пышным воротником. На крупных планах его голова прижата к нижней кромке кадра. Композиция открывает фон, повышая его активность, и, главное, делает наглядным стремление героя быть не очень заметным, «не высовываться». А свет такой, что хорошо видны глаза, осторожный, вернее, настороженный взгляд (Костричкин превосходно сыграл эту настороженность). Выявленное в «объективном» кадре противопоставление Невского проспекта и еще ничего не сделавшего, но уже перепуганного Башмачкина говорит зрителю много. И тут же «субъективные» кадры — девица, какою видит ее Акакий Акакиевич Особенно хорош крупный план на фоне вывески кофейной. Овал вывески повторен в овале подсвеченных сзади страусовых перьев и в черно-белом (снова контраст!) овале из двух половинок — очень светлого лица и шляпки черного шелка. Кадр изысканный, похож на портреты, какими угождал заказчицам гоголевский Чартков; легко представить, что Башмачкин мог знать их по литографиям, выставляемым в витринах магазинов. В таком обрамлении он и принимает девицу за «небесное создание», не замечая ее надменного взгляда. Кадр короткий, но снят так, что мы, зрители, чувствуем восхищение Башмачкина и одновременно видим отношение к нему девицы.
«Зрительное отношение к предмету», разумеется, выражено не только передачей точки зрения главного героя. Строя ударные моменты фильма на субъективном восприятии Башмачкина, фэксы и Москвин не отказываются и от иных «субъективаций». В кадре ножки девицы, бегущей вверх по крутой винтовой лестнице в «нумера». Мы видим их глазами преследующего ее Незначительного лица — Москвин взбегал по узкой лестнице с салазками, на ходу крутил ручку. «Каме
ра в руках, ее дрожание великолепно согласуется с волнением молодого человека», — говоря об этом кадре, отметил французский исследователь фильма Бартельми Аменгуаль. Тут же еще один примечательный кадр: лестница в ракурсе сверху. Камера неподвижна, но быстрое «вращательное» движение поднимающихся по спирали лестницы героев создает полную иллюзию, что и этот кадр снят с движения.
Многие кадры «Шинели» стали хрестоматийными: их без конца воспроизводят в книгах. Это и взятый с высокой точки кадр ограбления с длинными тенями грабителей на снегу, как бы «зажимающими» перепуганного насмерть Башмачкина, и снятый через веер портрет «небесного создания» в сцене сна. Сюда можно добавить общий план шинельной департамента (тоже с высокой точки); как сетью накрытого узорчатой тенью решетки «ярыжку» (Герасимов), его же крупный план с голым черепом; крупный план секретаря Значительного лица. Продолжать можно бесконечно — в фильме трудно найти невыразительный кадр. Но куда важнее, что кадры сцеплены внутренне, образуя драматургическую цельность, иногда неосознаваемую: в единый мотив связаны кадры, далеко отстоящие один от другого. А помогает этому «неисчислимое богатство» использованных оператором изобразительных средств.
Одно из них — ракурс. Я уже писал, что ракурс, точку и направление съемки не обязательно предлагал оператор, тут многое шло от режиссеров, особенно от Козинцева. Но и Москвин был не из тех, кто безропотно выполняет указания. Он активно участвовал в поисках нужного ракурса, а если его предлагал кто-то иной, далеко не всегда без спора принимал. А если уж принимал, значит предлагаемое отвечало его собственному представлению. Стало быть, точки съемки, ракурсы «Шинели» были в той же степени москвинскими, что и свет. Ракурс — средство сильнодействующее, не очень привычное для зрителей 1926 года. Может быть, поэтому о нем столько писали в рецензиях, а позже в статьях и книгах, где речь заходила о «Шинели». Пример обычно был один и тот же — Значительное лицо распекает Акакия Акакиевича.
На общем плане глаза актеров на одном уровне (Каплер ростом ниже Костричкина, но тот стоял с полусогнутыми коленями), и резкие ракурсы последующих кадров вовсе не оправданы точкой зрения персонажей. Тут снова передача ощущений Башмачкина: ракурс снизу крупных планов Значительного лица воплощает привычное отношение к начальству снизу вверх (общий мотив с памятником Кутузову). Сам Акакий Акакиевич снят сверху на фоне пола с паркетом в клетку; пол много больше, чем у кабинета на общем плане (камеру подняли так высоко, что пришлось добавить много паркета. Было бы ошибкой считать этот кадр «субъективным» для Значительного лица, тут опять-таки ощущение Башмачкина, чувствующего себя букашкой под взглядом грозного начальства. Почему же явные преувеличения не режут глаз? Почему даже критики, обвинявшие фильм в формализме, сочли эти кадры достижением факсов, а не формальным трюком?
Рассказав мне о съемке Значительного лица снизу, Трауберг продолжил: «Не успели снять этот кадр, как Москвин подхватил аппарат и побежал наверх на балкон. Я побежал вместе с ним. Мы это сделали, не сговариваясь». Это еще одно свидетельство органичности кадра с
Андрей Москвин, кинооператор
«Шинель». Кадр из фильма. Распекание Башмачкина Значительным лицом (А.Каплер).
Башмачкиным-«букашкой», естественности его рождения. Но органичность тут вовсе не результат стихийного озарения, она хорошо подготовлена, ибо уже намечены внутренние связи кадров, сцепленных одной мыслью. Кабинет Значительного лица снимали 4 апреля, а еще 9 марта сняли с верхним ракурсом Башмачкина, выходящего из подвала Петровича. Стало быть, уже в первые два дня съемок есть ракурсы на начальство снизу (памятник Кутузову) и на Башмачкина сверху, при-
чем ракурсы оправданные. В какой-то мере оправдан верхний ракурс в проходе скрючившегося от мороза Акакия Акакиевича вдоль решетки Летнего сада (снято с высокого моста через Фонтанку). Но еще раньше верхняя точка будет, например, в кадрах департамента, причем и в видениях Башмачкина она сохранена: даже в предельно возможных для него мечтах — ему дают бумаги на подпись! — он остается Башмачкиным. Сверху снят он в шинельной и в сцене ограбления. От кадра к кадру (разделенных многими иными) высота точки съемки растет, в сцене у Значительного лица камера взмыла уже почти вертикально вверх, кадр стал кульминацией всей линии старого Башмачкина. Убедительной даже для противников фильма! Однако и это не все. Предельным верхним ракурсом человек превращен в букашку, даль-
ше некуда. Но в финале — кадр, где Башмачкин снят снизу: он лезет по лестнице на фонарь, к Значительному лицу. Нарастая, верхний ракурс сорвался в противоположность! Сорвался из реальности в бред. Акакий Акакиевич умер... Фантасмагорический фонарщик задул фонарь...
Так закончилась его история... Так Москвин вслед за Тыняновым и режиссерами с помощью ракурса «в братстве и равенстве» со светом и движением камеры раскрыл и свое к ней отношение.
«Шинель». Кадр из фильма.
Та же сцена.
62
ПЕРЕЖИТОЙ ОПЫТ
Истинно возвышенная душа, то есть творческая, сама себя удовлетворяющая, а потому всегда независимая, даруется свыше благословением. Такая душа превращает и чужое в личное свое достояние: ибо архетип всего прекрасного лежит в ее глубине. Внешняя сила становится для нее одною только случайною причиною. Она везде берет свою собственность. Возвышенный ум за нею следует, но как завоеватель!
Александр Одоевский
Художественные достижения Москвина в «Шинели» были признаны сразу. И поныне «Шинель» — один из немногих фильмов, которые изучают студенты-операторы киношкол всего мира. Чем же объяснить, что Москвин с его «беглым художественным образованием» (слова Шкловского о большинстве кинематографистов начала двадцатых) меньше чем за год стал классиком операторского искусства? Разумеется, художественным даром и острым аналитическим умом, сделавшим верные выводы из собственного опыта «Чертова колеса» и «Девятого января». Но, может быть, влиял на него и чужой опыт? Влиял, как на любого художника.
В школьные и студенческие годы Москвин бывал в кино, которое в его среде воспринимали, скорее, как техническое достижение, — вспомним его слова о первом знакомстве с кино, с хроникой о полете аэроплана. Бенберисты смотрели не только хронику, но и мелодрамы, однако были театралами и меломанами, а не киноманами. В «час ученичества» Москвин смотрел уже все фильмы подряд, сопоставляя лучшие и худшие, сравнивая фильмы разных школ, скажем, немецкие и французские, открывая те первые крупицы операторского искусства, что нет-нет, да и мелькали в общем потоке. Особенно богатым на зарубежные фильмы высокого уровня оказался 1925 год: три фильма Дэвида Гриффита, включая «Сломанные побеги», «Парижанка» Чарльза Чаплина, «Кренкебиль» Жака Фейдера, «Безрадостный переулок» Георга Пабста, «Михаэль» Карла Дрейера.
Он многому научился. Но его и обвиняли — мол, кое-что он просто взял у немцев. В ответ на это Трауберг написал, что немецкие операторы эпохи экспрессионизма «открыли для киноискусства мир светотени, панорамы, сдвинутой оптики. И — подобно Колумбу — так и не вошли в новый мир... Это у них крал Москвин? Чушь». Защищая, Трауберг сильно перегнул палку: вместе с такими режиссерами, как Мурнау, Ланг, Пабст, операторы, конечно, «вошли в новый мир» — назову тот же «Безрадостный переулок» Пабста и Гвидо Зе-бера или «Последний человек» Фридриха Мурнау и Карла Фройнда (Москвин увидел его через год после съемок «Шинели»), Верно, Москвин у них не крал. Но что такое «кража» в искусстве, если исключить прямой плагиат?
«Как только гений накладывает лапу на существующую форму, он сейчас же делает из нее новое средство выражения», — эти слова Ромена Роллана многое объясняют. Леонардо часто называют изобретателем светотени, но как прием моделирования она встречается раньше, например, у Перуджино. Превратив светотень в сильное «новое средство», Леонардо создал новое художественное мышление.
Многое нашли немецкие операторы, но названное Траубергом изобрели другие: эффекты светотени уже были у скандинавских операторов; панораму применили итальянцы еще в «Кабирии» (1914); оптические трюки уже в первые годы кино использовал Жорж Мельес. Заслуга, скажем, Фройнда не в изобретении съемки сдвижения, а в том, что он превратил ее в такое выразительное средство, которое позволило сделать новый шаг в развитии поэтики кино.
Красть у немцев было не нужно, ибо секретов не было. Журналы «Filmtechnik» и «Kinotechnik» (Москвин хорошо знал немецкий и читал их) подробно описывали технические новинки и решение с их помощью художественных задач именно для того, чтобы этим могли воспользоваться другие операторы. В августе 1925 года «Filmtechnik» напечатал статью Зебера о съемках подвижной камерой, в октябре — фотографию камеры на нагрудном штативе (она могла прямо натолкнуть Москвина на идею «салазок»). Операторы, которым, по Траубергу, «все равно было, что снимать», были художниками, но в условиях рассчитанного на прибыль производства действительно вынуждены были снимать все подряд, да еще и отстаивать свое достоинство: их считали техниками, не упоминали в афишах (немецкая прокатная фирма не хотела указать Тиссэ на афише «Потемкина»), Зебер, Фройнд, Гюнтер Риттау выступали с докладами, писали статьи, не одними фильмами утверждая операторское дело как искусство.
И Москвин учился, не просто перенимая приемы, но творчески их развивая. Большие резкие тени героев он увидел в фильмах экспрессионистов (они были у Протазанова и Славинского в «Пиковой даме» 1916 года, но я не уверен, что Москвин видел этот фильм). В «Чертовом колесе» есть кадры с такими тенями; прием использован технически, чтобы отдельный кадр был выразительным. В «Шинели» — блистательный кадр с тенями грабителей. Но Москвин делает здесь шаг вперед, прием становится «новым средством», образная сила теней ведет свою мелодию через весь фильм. Ограбленный Башмачкин бежит к будочнику, а мы видим лишь длинный забор, по которому тень его скользит к тени будочника. Потеряв шинель, чиновник оказывается тенью, но и будочник никакая не защита человеку без шинели, а одна лишь видимость, тень... Проще всего сказать о прямом влиянии экспрессионизма, но Гоголь-то написал «Невский проспект» задолго до «Кабинета доктора Калигари» (напомню: «...длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами Полицейского моста»). Немецкие фильмы дали Москвину много, но, разумеется, не единый экспрессионистический принцип изобразительного решения фильма, а множество профессиональных «секретов» технического и художественного свойства.
К немецким фильмам был близок «Кренкебиль» Фейдера и Леона-Анри Бюреля с контрастами света и тени в ночных сценах и «субъ-ективацией» ощущений героя в сцене суда. А американские фильмы отличались светлой «оптимистической» тональностью, мягкофокусной съемкой портретов, четкими композициями. Это было важно для «подачи» главных героев и связано с системой «звезд», породившей и постоянные союзы «оператор — звезда»: знаменитый Чарльз Рошер снимал фильмы разных режиссеров с Мэри Пик
форд, Уильям Даниэле — с Гретой Гарбо. Оператор создавал стандарт освещения, при котором звезда выглядела «фотогеничнее» (светло-голубые глаза ныне забытой Мэри Минтер выглядели на экране белесыми; помощник оператора Джеймс Уонг Хоу стал оператором, найдя способ их «притемнить», создав ее «стандарт»). Неизменность освещения портретов тянула за собой неизменность и освещения в целом, и композиции.
Вырабатывая свой стиль, американские операторы тоже немало открыли, например, мягкофокусную съемку. И несмотря на нивелирующее действие поточного производства и боязнь продюсеров рисковать, американское кино выдвинуло режиссеров и операторов, преодолевших стандарты. Это Чаплин и Роланд Тотеро, решившие непростую задачу съемки уже не комической, а комедии, и, конечно, Гриффит и Билли Битцер. В числе их шедевров фильм 1919 года «Сломанные побеги», через 6 лет показанный в Ленинграде под названием «Сломанная лилия». Еще через 50 лет на мой вопрос о запомнившихся фильмах Михайлов ответил: «Картина, которая и для меня и для Москвина сыграла большую роль, — это “Сломанная лилия”». Фильм дал «основные мысли о том, как надо работать с искусственным светом и с его помощью создавать необходимые настроение и стиль», — сказав так, Михайлов сказал главное, но не все. Настроение и стиль созданы не одним светом, но и мягкофокусной съемкой (заслуга фотографа Хендрика Сартова, по сути — второго оператора), и безукоризненно воссозданном в павильоне медленным течением мутной, чуть поблескивающей реки, и резким противопоставлением мягких, туманных планов набережной Темзы и китайского квартала жестким, контрастным кадрам в доме злодея-боксера, и вирированием (особенно в прологе). Битцер создал удивительную атмосферу фильма, она подкрепила, даже усилила впечатление от превосходной игры Лилиан Гиш и Ричарда Бартельмеса. В сочетании с точной режиссурой Гриффита и заложенным им монтажным ритмом это сделало фильм вершинным достижением кино. Трауберг верно определил: атмосферу его создает «не живопись, не литература. Кинематограф, как таковой». Москвину полностью снятые в павильоне «Сломанные побеги» многое дали для создания «настроения и стиля» с помощью света.
Надо назвать еще одно имя. «Из снимавших в то время операторов нам очень нравилась работа московского оператора А. Левицкого, мастерски владевшего светом», — написал Михайлов. Из рассказа Козинцева о Москвине: «Я вспоминаю, с каким уважением он говорил в молодости об А. Левицком». Став оператором в 1912 году, Левицкий уже в 1916-м по творческим соображениям отказался снимать с Всеволодом Мейерхольдом фильм «Сильный человек», хотя до этого они успешно сотрудничали на «Портрете Дориана Грея». И пусть Мейерхольд был в своих киноопытах новатором, а вкус Левицкого был скорее академичен (не смог он работать и с Эйзенштейном), важно, что первый в истории русского, а, возможно, и мирового кино операторский «бунт» был результатом осознания себя не «съемщиком», а художником, осознания достоинства профессии, права на собственные взгляды. Левицкий завоевал это право изобразительной культурой лучших своих фильмов. Он прекрасно владел освещением: одним из
первых применил в портретах «рембрандтовский» свет, выразительно использовал свет контровой, что при тогдашнем состоянии техники было совсем не просто. Добавлю, что он был учителем многих операторов во главе с Головней, который начинал у него ассистентом.
Неизвестно, видел ли Москвин «Портрет Дориана Грея», где прежде всего светом создана атмосфера фантастической повести Оскара Уайльда, но «Луч смерти» видел наверняка. Лев Кулешов назвал свой фильм «прейскурантом кинотрюков». Можно сказать, что и Левицкий дал в нем прейскурант приемов освещения. Москвин, надо думать, внимательно его изучил. Как и в случае с Битцером, с немецкими операторами, в «Шинели» он вовсе не повторял увиденное, а как бы заново открывал его в своей работе. Утверждение кажется странным: он видел у Левицкого «рембрандтовский» свет, тени у немцев, подсвеченный дым в павильоне у Битцера и иногда делал фактически то же самое. Но, во-первых, мало увидеть прием, надо еще найти способ его осуществления (немцы раскрывали приемы, но Москвин не всегда имел технику для простого их повторения). Во-вторых, чаще всего он не делал абсолютно то же, чужой прием был толчком для поиска своего. В-третьих, он прямо повторял прием тогда, когда в поисках обобщенного образа приходил к нему как к единственно возможному.
Было бы ошибкой роль чужого опыта сводить к опыту операторов. Много значил для Москвина весь опыт кино: «Потемкин», «Парижанка», «Сломанные побеги» учили постигать значение работы режиссера, единонаправленности съемочного коллектива. И другие искусства, литература могли влиять больше, чем фильмы. Москвин серьезно изучал живопись, это явно сказалось; у него на слуху современная музыка с ее контрастами, «доведением средств музыкальной выразительности до предела их возможностей» (Борис Асафьев), классическая и современная литература. Ему нравились Мейринк, Эд-шмид, другие экспрессионисты. Но ведь и они шли за Гоголем с его экспрессивными средствами, доведенными «до предела их возможностей». И песенка о страннике, что тащит свой скелет за спиною, могла лечь в ряд ассоциаций, определивших пластический образ героя «Шинели» (замечу, что Костричкин очень хорошо дал проекцию «скелета» — старого Башмачкина в молодом). А «царскосельские поэты»? Столь разных Ахматову, Гумилева, Мандельштама сближала предметность, трехразмерность воссоздаваемого мира. И это «подпитывало» тягу Москвина к предметности, фактурности изображения, к созданию образа на основе реальных предметов, а не их символических смыслов. Даже немногие предметы, которые фэксы и Еней дали как символы (маленький, «усохший» чайник у старого Башмачкина), Москвин не выделял, в кадре они наравне с другими. Можно еще вспомнить «неоромантизм» Гумилева и Тихонова, интерес Москвина к Востоку. Китайский театр теней мог дать толчок к силуэтно снятым проходам в первой части. Надеюсь, читатель понимает: речь идет не о сознательной подаче изображения под древний театр теней или под политональность музыки XX века. Все это стало для Москвина «своим достоянием» или — по Андрею Тарковскому — «пережитым опытом» («...каждому человеку необходимо пережить свой собственный опыт, а художнику в особенности: опыт, выработанный кем-то другим,
опыт, внушенный извне, никогда не приводил к высоким художествен-ным достижениям»). Но именно переход от повторения чужого опыта к его «переживанию» в своей художественной системе является лучшим признаком самостоятельности.
Какое место занял Москвин в становлении советского операторского искусства? В книге «Изобразительное построение фильма» (1936) оператор и теоретик Владимир Нильсен противопоставил установки факсов и Москвина принципам Эйзенштейна и Тиссэ, чьим учеником он был. Нильсен не обвинял Москвина в формализме, но мысль эта сквозила в подтексте. Он считал, что в «Шинели» было «проявление того же процесса ломки установившихся натуралистических канонов, который ярко сказывается в работах А. Головни и Э. Тиссэ. Но Москвин на первых порах идет своими путями». Смысл ясен: роль Головни и Тиссэ выделена словом «ярко», а Москвин, идя своими путями, надо полагать, исправится и пойдет по стопам москвичей. В главном Нильсен прав: как и Тиссэ (о Головне разговор особый: «Мать» снималась после «Потемкина» и «Шинели» и не без их прямого влияния), но своими средствами Москвин боролся с натурализмом, с канонами старого кино. А свой путь Москвина хорошо виден в сравнении с Тиссэ. Определяя основные черты стиля «Стачки» и «Потемкина», Нильсен отметил, что выразительность его основана на линейной композиции. А композиции световой Тиссэ стал уделять внимание только в «Старом и новом». Нильсен даже пытался на его опыте обосновать порядок освоения выразительных средств каждым оператором. Москвин в эту закономерность не укладывается. Уже в «Чертовом колесе» многие кадры строились с учетом и линейной, и световой композиции. В «Шинели» это относится почти ко всем кадрам. Развивая робкие, «попутные» находки «Чертова колеса», Москвин от линейного построения переходил уже к пространственному.
В 1926 году, с выходом «Потемкина» и «Шинели», в операторском искусстве советского игрового кино наметились два стилистических направления. Самые яркие их представители, точнее, родоначальники — Тиссэ и Москвин. Истоки первого — в кинохронике гражданской войны, отчасти в первых работах группы Вертова, второго — в художественной фотографии. Это грубая схема: и истоки многообразнее (для Москвина это еще и живопись), и границы направлений несколько расплываются, если рассматривать конкретные решения (в том же «Потемкине» есть вполне «москвинский» эпизод туманов) и учитывать картину дальнейшего развития. Но при всей своей схематичности, это деление на два направления отражает существенные тенденции.
В «Шинели» талант Москвина, его вкус и чувство меры счастливо соединились с пережитым художественным опытом и он смог высказаться до конца, проявить себя самостоятельным художником. Для операторского искусства фильм стал вехой в развитии, ибо, «наложив лапу на существующие формы», Москвин создал систему выразительных средств, образовавших новое стилистическое направление. Невольно хочется сказать вслед за Ролланом — «лапу гения». И в самом деле, почему нужно обходиться словом «талант», когда речь идет о даровании столь огромном?
САМОСТОЯНЬЕ ЧЕЛОВЕКА
...нельзя создать ничего великого ни в литературе, ни в чем-либо вообще, если не испытывать счастья, создавая это, или, по крайней мере, не считать это средством достиженья счастья.
Гэбриэль Гарсия Маркес
Козинцев вспоминал о трехсменных съемках «Шинели»: «Сил хватало, ничего, кроме радостного возбуждения и веселого азарта, мы от такого порядка работы не чувствовали». К Москвину это относится больше, чем к факсам: раньше его начав, они раньше почувствовали себя художниками. Испытывал ли он счастье? Думаю, что да. Главной причиной должно было стать именно это — почувствовать себя художником.
В двух первых фильмах Москвин решал задачи технические, художественно удачные куски были обязаны интуитивному попаданию. В «Шинели» он тоже искал технические приемы, но на основе режиссерского замысла определял и художественную задачу. Словесно он ее не формулировал, важно, что он ее чувствовал, интуитивно найденное выверялось теперь задуманным. Видя на экране, что задуманное получается, что найденное им — неразрывная часть целого, он, конечно же, должен был ощущать радостный подъем. Не странно ли только, что с радостью, веселым азартом, ощущением счастья можно снимать фильм о трагедии человека? Но и слова Гарсия Маркеса взяты из его размышлений о том, сколько веселья, радости заложено в его книгах, в том числе в «Осени патриарха». Дело не в рассказываемой истории, а в пафосе созидания, в подлинности чувства, без которой нет настоящего искусства. Прекрасно сказал композитор Валерий Гаврилин: «Власть подлинного над человеком безгранична... Настоящее искусство возвышает человека и противодействовать этой силе невозможно... начинаешь ощущать себя звучащей, значащей частицей высокой и мудрой гармонии...»
Было ли чувство создателей «Шинели» подлинным? Без сомнения. В чем видели они высокую и мудрую гармонию? В том же, что и все лучшие художники 20-х годов: в обществе сильных и равноправных людей, где все за одного, один за всех. Придумывая зрительные метафоры, находя новые ракурсы и приемы освещения, отрабатывая автоматизм движений Башмачкина, они меньше всего заботились о форме, но старались сделать наглядными ужасающее неравноправие российской империи, дисгармонию, царящую в этом мире. Обнажая механизм обесчеловечивания человека, они боролись за право человека быть Человеком. И они хотели, чтобы пафос борьбы, подлинность их чувства дошли до зрителей.
Критика приняла «Шинель» плохо. Писали о «сумбурном компоте из гоголевских произведений», «гофманиане» и даже «яркореакционном явлении». Особенно досталось в родном городе, о чем с иронией писал Тынянов: «Радостная травля ленинградской критики на этот раз превысила все, что может представить себе средний читатель». Среди этих критиков был Блейман. Много позже он скажет о своей рецензии: «Я не понял новаторского значения картины». К чести его отмечу: уже в 1929 году он назвал фильм «решительным переходом в
более революционные жанры» (а некоторым историкам кино не хватило и десятилетий; в 1979 году Ростислав Юренев сообщал в духе доноса, что повесть Гоголя «превращена в эксцентрическую гофмани-ану, трактована в фрейдистском духе, лишена социального смысла»).
Фэксы уже не были юнцами, для которых скандал на премьере «Женитьбы» был эпилогом затеянной ими театральной игры. Теперь они работали для зрителей; успех «Чертова колеса» пришелся как раз на съемки «Шинели»; они мечтали о его повторении. А зрители фильм не поняли и не приняли. Блейман в 1929-м написал: «Мы современники ФЭКСа. Значение их работы для советской кинематографии закрыто их близостью». Так бывает в искусстве, ибо истинное новаторство — это и разрыв традиции, и ее диалектическое развитие. В «Потемкине» разрыв был явным и в содержании и в форме. Принимая новое, революционное содержание, зрители и критики приняли и органичную для него форму. В «Шинели» новизна формы бросалась в глаза, а новизна содержания не была явной, казалась просто искажением классики. Принять фильм мешали привычный взгляд на экранизацию, груз связанных с Гоголем канонизированных традиций, подмена сюжета фабулой и непонятная при этом разница между фабулами повести «Шинель» и фильма (связано это и с названием; фэксы хотели его изменить, но дирекция отказала: это свело бы на нет предварительную рекламу).
Была еще одна причина неприятия «Шинели». В том же 1926 году Мейерхольд поставил «Ревизора», и Андрей Белый, несравненный знаток Гоголя, написал о спектакле: «...мы читаем Гоголя мимо строк, без фантазии, Мейерхольд нас ударил по глазу и уху — до искр: непрочитанным Гоголем». В «Шинели» передана «манера Гоголя», атмосфера его «непрочитанных» повестей. Но кино концентрировало их стилистические черты. С экрана гротеск и экспрессия Гоголя воспринимались гораздо более наглядно и остро, чем при чтении «мимо строк». Критика вывела из этого влияние немецкого экспрессионизма. Оценки со знаком минус скоро сменили другие, «экспрессионизм» фэксов стал достижением: как заявил в 1926-м один из руководителей Совкино Илья Трайнин, «нам нужен советский киноэкспрессионизм, понимая под этим выражением сильные экспрессии — страсти и мысли нашей эпохи». Смысл тогдашнего понимания еще точнее раскрыл Пиотровский в статье 1929 года о стиле ленинградских операторов, прежде всего Москвина: «Складывается магистральный стиль, который с большим приближением мог бы быть назван “стилем экспрессионизма”, то есть “выразительности” в операторской работе». А в ходе дискуссии о формализме 1932 года «экспрессионизм» снова стал ярлыком со знаком минус, и ярлык этот был надолго прикреплен к «Шинели».
Анализируя фильм, Добин поставил крест на его экспрессионизме и добавил: «Гротеск “Шинели” — романтического плана». Впрочем, за 35 лет до этого в первой книге о факсах, написанной Владимиром Не-доброво (1928), была глава «Романтизм ФЭКСов». Еще раньше «Чертово колесо» Юткевич назвал «победой романтизма». Существенная черта романтизма — отношение к быту. Парижские романтики тридцатых годов XIX века, отметил Вадим Гаевский, «трезво осмыслили реальные условия человеческого бытия, они первыми в истории осо
знали грозную силу неподвижного быта». Но ведь уже первые шаги факсов и были борьбой с неподвижным, старым бытом. Их романтический идеал — Новый быт; по сути, он был выражением будущего общества всеобщей справедливости. В «Шинели» они продолжали борьбу со старым бытом, с несправедливостью.
Что же Москвин? Так ведь и он романтик! «В юности я пережил увлечение экзотикой — желание необыкновенного преследовало меня с детства», — это слова Константина Паустовского, писателя безусловно романтического. То же самое мог сказать и Москвин. Вспомним еще раз его любовь к стихам «неоромантиков», интерес к Востоку. Для его семьи, студенческой компании с их инженерно-практическим духом романтичность была почти постыдной, ее нужно было скрывать (напомню слова Горданова о своих и Москвина робких пробах в музыке и поэзии: «убедившись, что никого нет дома»), исключение — «техническая романтика». И уход Москвина из чистой техники в столь экзотическое тогда искусство, как кино, был шагом в какой-то степени тоже романтическим.
На «Шинели» осуществилась подспудно обитавшая в нем мечта — он почувствовал себя художником. Осуществилось и становление как личности, приход к тому, что Пушкин назвал «самостояньем человека». Счастливое время съемок «Шинели» завершило несколько затянувшийся период самоопределения и формирования характера, даже манеры поведения (она тоже шла от романтических представлений о художнике). Много значило для самоопределения Москвина счастливое совпадение его стремлений с романтизмом факсов. Снова счастливое... Да, он был счастлив, как были счастливы и другие создатели «Шинели». И это было одним из условий появления прекрасного фильма. Закончив его, Москвин мог сказать о себе словами Пушкина: «Простите, хладные науки!/Простите, игры первых лет!/Я изменился, я поэт!»
Глава четвертая
СЕРЕДИНА ДВАДЦАТЫХ
1926
Стеснилось время им в один крылатый миг...
Петр Вяземский
Вспоминая середину двадцатых годов, первые шаги Физико-технического института, академик Н.Н.Семенов писал: «Жизнь так полна и прекрасна. Так много в нас молодых сил! И почему это, чем больше мы их тратим, тем больше их у нас остается?!» Для учеников академика А.Ф.Иоффе их время и силы, казалось бы, перестали подчиняться законам физики. Таким было это время и для кино. Вершинным в «средней из трех» пятилеток (так назвал 1924-1929 годы Эйзенштейн) стал год 1926-й, вершинным стал он и для факсов, и для Андрея Москвина.
В Ленинграде год начался выставкой в Доме искусств, посвященной тридцатилетию кино. Газеты писали о замечательных макетах к «Декабристам». Но «киномолодняк» выставка не заинтересовала, для него главным событием января стала премьера «Потемкина». «Старики» не сдавались — продолжался показ «Девятого января», с большим рекламным шумом готовили «Декабристов». 14 февраля, в день, когда Москвину исполнилось 25 лет, Ивановский снимал на Сенатской площади декабрьское восстание. 5000 человек в массовке, несколько операторов. И Москвину пришлось снимать, несмотря на день рождения, на воскресенье, на изрядную нагрузку по подготовке к «Шинели». Так старое и новое кино впрямую сталкивалось в работе Москвина. То же было и в других искусствах. Шли споры об Академической опере (бывш. Мариинский театр). В феврале молодая критика шумно, как прорыв к будущему приветствовала «Любовь к трем
апельсинам» Сергея Прокофьева, а рядом шли балеты, оставшиеся от Императорской сцены. Но 14 февраля в «Лебедином озере» танцевала восемнадцатилетняя Марина Семенова и в отклике на этот спектакль была отмечена «редкая полнота и радость ее танца». В радостной отдаче молодых сил в классику вливалась свежая кровь. В этом была противоречивость действительности 1926-го, трудно осознаваемая теми, кто ее творил: в январе Маяковский язвительно писал о «Леониде Лоэнгриновиче», рифмовал «Собинов» и «рассоплено»; в январе же фэксы, влюбленные в Маяковского, яростные борцы за новый быт, взялись за постановку Гоголя.
Год был сложным не только для искусства. СССР с трудом прорывал дипломатическую блокаду. 14 февраля газеты печатали подробности убийства дипкурьера Теодора Нетте. Не простой была и внутренняя обстановка. Год начался под знаком XIV съезда ВКП(б). Сокрушив «новую оппозицию», Сталин прочно стал на путь единовластия, но страна еще не поняла, что произошло. Была безработица, промышленность выпускала лишь три четверти продукции дореволюционной России, а молодежь уже подхватила слова-лозунги «индустриализация», «режим экономии». Молодежь задавала тон и в кино: 1926-й это год «Потемкина» и «Шинели», «Матери» и «Бухты смерти», «По закону» и «Катьки — бумажный ранет». Это год рождения белорусского и армянского кино, год шедевров Дзиги Вертова «Шагай, Совет!» и «Шестая часть мира».
По проделанной работе год оказался рекордным для фэксов: едва закончив «Шинель», они сели за сценарий «Ремонт», в июле фабрика приняла его, переименовав в «Братишку», в августе уже снимали, к началу октября основные съемки закончили, параллельно с монтажом и досъемками готовили «С.В.Д.». В декабре, когда сдавали «Братишку», полным ходом снимали павильон и натуру «С.В.Д.». Москвин в 1926-м не только снял целиком «Шинель», «Братишку» и значительную часть «С.В.Д.», но и не менее трети фильма Тимошенко «Турбина №3» — в помощь Беляеву он подключился сразу после сдачи «Шинели». Много времени уделил он первому фильму Михайлова «Катька — бумажный ранет». Привлекали его к съемкам массовок и по другим фильмам: в августе, уже работая над «Братишкой», он с другими операторами снимал в Петергофе «Декабристов», участвовал в съемках бала в «Поэте и царе». Из «нефэксовских» фильмов наиболее серьезной была работа по «Турбине». Беляев и Москвин снимали грандиозное для того времени строительство Волховской ГЭС с увлечением, которое немало подогревал интерес Москвина к технике. В результате натурные кадры стали украшением фильма, оттеснив на второй план разыгранную актерами интригу.
На «Катьке» Москвин, в основном, работал в период подготовки. Для режиссеров Эдуарда Иогансона и Фридриха Эрмлера это был второй фильм, а еще по первому они поняли, что узким местом у них была изобразительная форма. Эрмлер вспоминал, как он внимательно изучал изображение в чужих фильмах, ему нравился стиль фэксов, «Катьку» он представлял похожей на «Чертово колесо». Им повезло: фэксы писали «Ремонт», Москвин и Еней были свободны, и Эрмлер пригласил их. Еней сразу согласился; Москвин поставил условие — на пару с Михайловым.
Вместе с Енеем они подбирали натуру. Москвин помог Михайлову с аппаратурой, обсуждал результаты съемок. Фамилию его дали в титрах: это оправдывало режиссеров перед дирекцией, все еще считавшей Михайлова фотографом. Но магия авторитета велика, «Катьку» стали приписывать Москвину, иногда добавляя «вместе с Михайловым», хотя Москвин не снял ни одного кадра, по-нынешнему он был художественным руководителем. Михайлов, используя опыт «Чертова колеса» в показе среды и в портретах и опыт «Шинели» в съемках ночного города, не только доказал свое право на профессию но и сразу вошел в число ведущих операторов Ленинграда. Следующие его фильмы с Эрмлером — «Дом в сугробах» и «Парижский сапожник» окончательно утвердили его положение.
Огромная работа над фильмами, вроде бы, забирала Москвина без остатка. Но сил у него и его друзей было много, тратили их не задумываясь. Эйзенштейн писал о «великолепной творческой напряженности двадцатых годов» с ее «безумием молодых побегов, сумасшедшей выдумки, бредов, затей, безудержной смелости». Выдумка, затеи были в фильмах молодых и в самой их жизни, заполненной розыгрышами, дружеским застольем, долгими прогулками, ухаживанием за девушками, брызжущими весельем и «безудержно смелыми». Собирались у того, кто имел комнату побольше, чаще всего у Михайлова или у Рашели Мильман. Танцевали, с удовольствием осваивали новые модные танцы — шимми, чарльстон. В вечерах участвовала фэксовская молодежь во главе с режиссерами, столь же молодые кэмовцы из эрмлеровской «Киноэкспериментальной мастерской» и даже москвичи, например, Эйзенштейн. Они любили цирк, не пропускали ни одной премьеры. В мае 1926-го произошло «очное» знакомство с джазом, в Ленинграде гастролировало негритянское джазовое ревю «Шоколадные ребята» с оркестром Самуэла Вудинга. Москвину джаз понравился, хороший джаз он любил и в самые последние годы.
Увлечение «легким жанром» не мешало интересу к вещам серьезным. Они ходили в концерты, в театры, старались не пропустить спектакли Мейерхольда на гастролях в Ленинграде или при поездках в Москву (впервые Москвин попал в Москву в июле 1926-го для съемок «Турбины №3»), посещали выставки. Михайлов водил друзей в мастерские художников, познакомил Москвина, Енея и Шписа с Николаем Бенуа, а потом и с его отцом Александром Николаевичем, завершавшим капитальную перестройку экспозиции Эрмитажа. Они бывали у Бенуа дома, слышали интереснейшие разговоры, немало времени провели в музее (Москвин столь хорошо изучил Эрмитаж, что и тридцать лет спустя изумлял знатоков, называя по памяти место каждой, даже не очень значительной, картины). На все не должно бы хватать времени, а они еще смотрели фильмы, обсуждали их, пытались обобщить свой опыт: осенью 1926 года Москвин и Михайлов написали большую статью. Они много читали и спорили о прочитанном. Москвин покупал книги по искусству и сборники стихов. Уже зимой приехала из Парижа Рашель (она была там с мужем, работавшим во Внешторге), привезла стихи молодых французских поэтов. В 1974 году она рассказала: «Тогда я хорошо знала французский, читала стихи, и это Москвину нравилось — по звучанию... Стихи он любил, мы много говорили о стихах».
Еще в 1925-м Андрей переехал в Ленинград, снял маленькую комнату над аркой на Стремянной улице. «Андрей, гостеприимный хозяин, с видимым удовольствием принимал нас у себя, — вспоминал Михайлов. — Комната к нашему приходу убрана, но всюду следы работы: рабочий столик, инструменты, какие-то малопонятные детали. Андрей всю жизнь любил что-нибудь придумывать и с любовью мастерил. Его комната похожа на уютную мастерскую часовщика. Обычно мы бывали вчетвером и четвертым чаще всего — Борис Васильевич Шпис». Михайлов, Шпис, Москвин... кто же еще? Михайлов продолжал: «Андрей совершенно безразличным голосом так объявил мне о своей женитьбе: “Евгений! Диван можешь мне прислать”». (Москвину нравился его диван, и Михайлов как-то пошутил: «Если женишься, диван твой!»). На Стремянной появилась красивая женщина Катя Федорова. Прожила она там недолго: не смогла приноровиться к москвин-скому характеру, а он менять характер, естественно, не стал. Уход Кати породил слухи и первые легенды о Москвине, трактующие обстоятельства конфликта. К слухам и легендам он отнесся спокойно...
Таким был для него 1926-й, год первого шедевра — «Шинели», год еще почти студенческого веселья и упорного самообразования. Ему уже 25 лет, наступила зрелость. Изменился он и внешне. На фотографии 1926-го: свитер с выглядывающей у воротника белой сорочкой, очки в тонкой металлической оправе, гладкая, но не зализанная прическа. Он похож на молодого ученого, умного, несколько застенчивого. Или на механика, часовщика. «Мастеровщина», как сказал хорошо знавший его Блейман. Заметную на фотографии застенчивость в жизни он старался скрыть, стеснялся ее, как и чувствительности, потому и выработал свой стиль поведения — сдержанный, без лишних слов, даже строгий, иногда до жесткости. Внешнее спокойствие, порой нарочитое, надежно защищало от вторжения в душу чужих взглядов.
«БРАТИШКА»
Шинель» показала, что фэксы прекрасно могут снимать «старинные» фильмы, а сами они по-прежнему считали главной задачей фильмы о дне сегодняшнем. Взялись за сценарий Евгения Замятина «Северная любовь», но скоро поняли, что оторванная от современности драма из жизни поморов — не для них. Иных предложений не было, написали сценарий сами.
Посмотреть «Братишку» нельзя, он погиб в начале войны, когда от немецкой бомбы сгорело фильмохранилище с негативами и копиями почти всех ленинградских фильмов. Факсам еще повезло, у них пропали только первые короткометражки и «Братишка». Если же взять, к примеру, режиссеров, связанных с ними, то с огорчением узнаешь, что погибли все ранние фильмы Петрова, Герасимова, Шписа и Мильман. Историки кино иногда «реконструируют» фильмы по документам, сценарию, фотографиям, отзывам. С «Братишкой» это сделать непросто.
В телефильме «Один час с Козинцевым» (1969), отвечая на вопрос о лучшем фильме Козинцева, Юткевич назвал «Братишку». Шутка любителя парадоксов? Но еще раньше он писал, что «Братишка»
1926. «Братишка». Кадр из фильма
предвосхитил итальянский неореализм и «содержал зерна того, что впоследствии расцвело в знаменитой трилогии о Максиме». А в книге Николая Лебедева (1965) сказано: «Фильм получился надуманным, вымученным, бесцветным и после нескольких дней демонстрации был снят с экрана». На самом деле за два первых месяца показа фильм покрыл 60 % сто-
имости, что было тогда хорошим показателем. Козинцев вспоминал: «Братишку» одобрил Маяковский. Блейман в 1927 году назвал фильм оправданной и серьезной попыткой создания советской комедии, не во всем удачной, в 1929-м писал, что «Братишка» давал ключ к советскому смешному фильму, которым наше кино не воспользовалось, а сорок лет спустя заметил: «Несовпадение темы и образа, найденного художниками, отомстило за себя, фильм был неудачным». Возможно, посмотрев в 1969-м фильм заново, он написал бы иначе. Другие отзывы 1927 года противоречивы, например, «серый фильм» и «фильм, о котором без обиняков можно сказать, что он очень хорош».
Каким же он был? Вряд ли совсем неудачным, но, похоже, в словах Блеймана о несовпадении темы и образа есть доля истины. Тема — режим экономии: грузовик списали в лом, чтобы купить за границей новый; шофер не согласился, взялся за ремонт, его энтузиазм увлек других, грузовик восстановили, посрамив директора — бюрократа и волокитчика. Параллельно «роману» шофера и грузовика развивался роман шофера и кондукторши. Тема и фабула ясны из сценария, но с образом, зрительной атмосферой фильма все обстоит сложнее. Немногие сохранившиеся фотографии подсказать могут мало, разве что одна: шофер стоит в глубине полутемного гаража в свободном пространстве и освещен сильным светом слева из открытых ворот, а справа на первом плане почти силуэтом виден легковой «Форд»; лишь блики на никелированных деталях очерчивают круги фар, бампер, спицы переднего колеса... 1926 год, новая легковая машина— большая редкость! Поданная «намеком», она выглядит особенно эффектно. Вероятно, это сцена, когда шофер приходит в гараж, обнаруживает, что старый грузовик увезли на свалку и, уходя в расстроенных чувствах, оборачивается к заморской красавице...
Кадр, правда, не с грузовиком, а с его «соперницей», показывает принцип изобразительного решения «романа» шофера и грузовика: машина «одушевляется» точкой съемки, светом, композиционным и светотональным противопоставлением темных и светлых объемов. «Фэксы реабилитировали материал колес, гаек, осей, радиаторов
и покрышек, — писал Недоброво. — Большую роль в этом деле сыграл Андрей Москвин с его операторскими приемами... Грусть передавали бесфокусной съемкой» (это означало съемку мягкорисующей оптикой). Но Москвин не только «одушевил» автомобили, он включил в сюжет Ленинград. «Оператор Москвин — жонглер от кинематографии; невозможно учесть всю дерзость, с какой он перекидывает аппарат и выбирает “точки”... — сказано в рецензии. — Улицы “играют” помощью изменения качества снимка, помощью бесфокусной лирики и четкого фокусного пафоса». Изобретательная съемка Ленинграда отмечена во всех рецензиях. Лирические «бесфокусные» кадры машин, поэтические кадры города, показанные глазами влюбленного в него человека, видимо, и создали образ, который в чем-то пришел в противоречие с темой, с сатирическим разоблачением бюрократов.
«Братишка» дал Москвину возможность усовершенствовать методы натурной съемки. Пропагандируя «режим экономии», фэксы вместе с Москвиным и Енеем осуществили его на деле, отказавшись от съемок в павильоне. Единственную декорацию — кабинет директора (две стенки, большие окна) построили на крыше невысокого дома. Сцены в нем шли на фоне реальной, живой жизни города (не отсюда ли слова Юткевича о неореализме?). Москвин экспериментировал с насадками, смягчающими изображение. Теперь он мог точно сформулировать требования к оптике. На их основе были, как он написал, «рассчитаны и изготовлены совместно с оптиком Забабуриным различные виды приспособлений, как добавочные, так и самостоятельные для мягкофокусной съемки, а также другие вполне удовлетворительно работающие оптические приборы». Съемки «Братишки» обогатили Москвина и новым опытом создания атмосферы действия, отличным от опыта «Шинели». Все это пригодилось ему, а пока, приступая к «С.В.Д.», он снова должен был думать о создании на экране пластического образа эпохи давно ушедшей.
РОМАНТИЧЕСКАЯ МЕЛОДРАМА
Усильте мелодраму — вы ее подымете до пафоса...
Сергей Эйзенштейн
бескураженные неуспехом “Шинели" и “Братишки”, Козин-7Z 1цев и Трауберг решают во что бы то ни стало сделать сле-VX дующую картину столь занимательной, чтобы ее приняла самая широкая аудитория», — написал Николай Лебедев в 1947 году. Суждение оказалось стойким: отголоски его есть даже в I томе «Истории советского кино» (1969). А ведь Лебедев, как говорится, кругом неправ: и «Шинель» и «Братишку» фэксы тоже старались сделать занимательными; «Братишку» зрители приняли совсем неплохо; наконец, фэксы начали работать над «С.В.Д.», когда «Братишка» еще снимался! Тынянов написал сценарий вместе с литературоведом Юлианом Оксманом еще в 1925-м. Ставить должен был маститый Чеслав Сабинский, но он предпочел «Катерину Измайлову». Фэксы в середине августа 1926 года начали снимать «Братишку», а уже 31 августа им поручили «С.В.Д.»: видимо, настоял Тынянов, ближе узнавший в
работе режиссеров и их группу. Параллельно со съемками «Братишки» разработали постановочный сценарий, 22 октября его запустили в производство, уже 26-го начали кинопробы. Более того, еще в августе факсам была поручена и постановка «Чужого пиджака» по сценарию Вениамина Каверина, а порядок запуска фильмов определился лишь зимней натурой «С.В.Д.» и летней «Пиджака». Фэксы шли на параллельную работу, чтобы гарантировать занятость коллективу, особенно актерам: по неписанному закону мастерской они не снимались у других режиссеров. В мае и июне Козинцев и Трауберг писали сценарий «Ремонт» и актеры были в простое. На переходе от «Братишки» к «С.В.Д.» избежали даже короткой паузы.
Как и с «Шинелью», фэксы взялись за фильм о далеком прошлом не только для сокращения простоев. Сценарий рассказывал историю декабриста Ивана Сухинова, охватывая большой отрезок времени, — от производства в офицеры до неудавшейся попытки организовать побег с каторги. Перенасыщенный материалом сценарий уложить в фильм было практически невозможно, разве что пойти по пути иллюстрации, как в «Девятом января». И все же он привлек факсов. Тынянов объяснил позже, что факсам понравилась романтика 1820-х годов. Было еще одно соображение, подзадорившее молодых режиссеров: рядом во всю шла работа над историческими боевиками — заканчивал «Декабристов» Ивановский, Гардин снимал «Поэт и царь». Имея в виду экранизацию классики, Шкловский сказал о «Шинели», что она «уничтожала» тыл противника. Постановка «С.В.Д.» могла сделать это с фильмом историческим. О еще одной задаче позже, в «Глубоком экране» написал Козинцев: «Приходила пора, и каждый из нас задумывался над историей революции, воссоздавал так, как это ему представлялось, сцены восстания, реакции, борьбы за свободу. Само время заставляло сдать такой экзамен».
Как же прошла сдача экзамена в «С.В.Д.»? Сначала режиссеры пытались охватить почти все события сценария, но скоро поняли: нужно сжать действие во времени и пространстве, уточнить жанр. Они думали о занимательности и в «соображениях по постановочному плану» определили фильм как «романтическую мелодраму на фоне исторических событий». Из-за спешки в подготовке уже на съемках менялся режиссерский сценарий; от материала Тынянова и Оксмана в фильме мало что осталось: использованы линии Сухинов — Медокс и история генеральши Юшневской, но и здесь переделки велики, пришлось главных героев переименовать в Суханова и Вишневскую. Тынянов работал тогда на фабрике, знал о переделках; потом он написал, что факсам «удалась не хроникальная и не историческая сторона дела, а нечто другое: кинематографический пафос».
Итак, приближая фильм к любимому «низкому жанру», фэксы ставили романтическую мелодраму и, подняв ее до пафоса, добились огромного зрительского успеха. Экзамен же сдали не на «пять», а, пожалуй, на «четыре с плюсом». В фильме рядом с превосходными сценами есть более слабые, чем-то даже напоминающие севзапкинов-ские боевики (сцены Вишневской и Медокса). Как объяснить это? Думаю, виноваты прежде всего переделки сценария на ходу: не все до конца додумывалось, возникли ситуации не очень оправданные, вроде появления Вишневской в цирке. Им еще и не повезло: пожар в ла
боратории уничтожил большую часть негатива, переснимали многие павильоны, а натурные куски, которые нельзя было переснять, пришлось, ухудшая качество изображения, печатать с дубльнегативов рабочих позитивов. Всё это сказалось на настроении группы. Хотя работали по-прежнему профессионально, непрерывного подъема, как на «Шинели», не было, что влияло на результат. Однако и критика, и публика приняли фильм хорошо. С успехом прошел он за рубежом, собрав отличные отзывы. Работа Москвина оценивалась как сильнейшая сторона фильма, как достижение мирового операторского искусства (чешский кинокритик Гвидо Куйал назвал «изумительно снявшего фильм» Москвина — «наиталантливейшим, пожалуй, кинооператором мира»). Итог подвел Недоброво в книге о факсах: «Работы Москвина становятся уже классическими...»
ЗРИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА
Искусство — значит поэзия. Без поэзии не может быть искусства... Живопись вызывает совершенно особые эмоции... тем, что можно назвать музыкой картины.
Эжен Делакруа
Съемки начали со сцен в трактире. Еней в духе театра мелодрамы развернул декорацию фронтально. Это подталкивало режиссеров к театральной мизансцене, давало мало возможностей оператору и сказалось на общих планах, особенно в тех кадрах, где всего один-два персонажа. Но в кадрах с массовкой Москвин взял реванш. Помог дым, оправданный свечами и курильщиками. С этим эффектом Москвин столкнулся уже на первой съемке «Чертова колеса». В «Шинели» дым (или пар от чайника) использован лишь в нескольких кадрах, но Москвин уловил его возможности. Теперь он уверенно вводил дым, который смягчал фон, делал почти осязаемыми потоки света. Как и мягкорисующая оптика, дым стал одним из основных средств создания пластического рисунка, определяющего настроение, атмосферу кадра. Но сам по себе подсвеченный дым ничего не решал. Поэтичность, живописность изображения определялась всей совокупностью приемов, и как часто бывает в искусстве, художественный, эмоциональный итог часто оказывался большим, чем сумма слагаемых. А ими в сценах трактира были и перемены ракурса, и контрастное сопоставление первоплановых фигур с фоном, и дающий мягкий рисунок объектив, и, наконец, свет. В кульминационной сцене добавилась еще и блестяще выполненная съемка с рук. С помощью испытанных «салазок» снят фантасмагорический хоровод лиц, вернее, рож трактирных завсегдатаев и их малопривлекательных подружек, издевающихся над раненным декабристом. «Салазки» были успешно применены и при съемке в цирке. Однако выразительные кадры с точки зрения скачущей на лошади циркачки снял не Москвин: опыта верховой езды у него не было, он не смог равномерно крутить ручку камеры на галопе. Выручил наездник более опытный — Михайлов (потом он вспоминал: «...слез с лошади совершенно измученный и избитый, но радостный, что снять удалось»).
«С В Д » Кадр из фильма Начало.
По-прежнему важнейшим средством создания образа был для Москвина свет. В сочетании с мягкорисующей оптикой, с дымом свет создавал трепетную воздушную атмосферу в помещениях; играя на гранях сооружений изо льда на катке, придал им фантастичность; образуя огромные пляшущие тени, усиливал ужас издевательства над безза-
щитным человеком. Таинственный, мерцающий свет усилил романтичность сцены в костеле: из подземного хода в подвал с арестованными декабристами проникал луч света, становясь лучом надежды. Часто свет не оправдан; в сцене разгрома восстания раненый Суханов освещен откуда-то снизу, но сила кадра и монтажного сцепления таковы, что зритель не замечает нереальности света — едва пробивающий тьму, он и здесь воспринимается как луч надежды.
Много внимания Москвин уделил освещению портретов. Для операторов портрет был «камнем преткновения» в большей степени, чем групповые сцены или пейзажи. В октябре 1926-го, когда Москвин снимал кинопробы «С.В.Д.», Хрисанф Херсонский писал о портретах героини фильма «Намус»: «Жаль, что хороший оператор С.Забозла-ев сумел показать ее лицо как следует только тогда, когда она умерла. Мы еще не умеем освещать лица для съемки и выбирать индивидуальные ракурсы». Москвин показал умение освещать уже на «Чертовом колесе», а на «Шинели» упрочил его, уверенно применив индивидуальный ракурс. Но в «С.В.Д.» он поставил перед собой более сложную задачу: создать световые характеристики героев и провести их через весь фильм. В крупных планах Суханова (Соболевский) свет не убирал, а иногда даже подчеркивал тяжелый подбородок, что стало существенной черточкой портрета офицера, выбившегося из низов. Шулер и провокатор Медокс (Герасимов) постоянно в «маске»; Москвин усилил ее светом, сохранив этот световой рисунок почти во всех портретах Медокса. Впервые играла у факсов Софья Магарилл с трудным для съемки широким лицом. Передним верхним светом Москвин затенил щеки, ввел сильный контровой свет и получил превосходный романтический портрет. Такой портрет красавицы генеральши, вообще говоря, был не очень сложным делом — даже операторы старой закваски снимали порой эффектные крупные планы приемами портретной фотографии. Но в «С.В.Д.» не просто серия статичных «художественных» портретов, а серьезная попытка дать и Вишневской «сквозную» световую характеристику.
На первый взгляд, это не отличалось от метода американских операторов: найти «фотогеничное» освещение для кинозвезды и выдержать
его во всех кадрах фильма и даже из фильма в фильм. Но отличие здесь принципиальное — Москвин сохранил основную «световую формулу» характера (подчеркну: световую формулу не Магарилл, а именно Вишневской) и менял общий тон или детали освещения лица в зависимости от настроения сцены и от световых условий. Такое технически сложное ведение света помогает актеру, усиливая нюансы его игры в каждой сцене. Москвин был увлечен новой художественной и технической задачей. Не все и не сразу удавалось ему, но он был терпелив, по многу раз переставлял свет, требовал пересъемок. Для привыкших быстро работать фэксов это было неприятным тормозом, возникали споры. Москвин упорно гнул свою линию, доказывая правоту результатами на экране. Нельзя сказать, что он одержал полную победу, задача было очень сложна, но он чувствовал, что идет по правильному пути.
Полной, можно даже сказать, триумфальной победой оператора стали сцены восстания. Тынянов после «С.В.Д.» написал: «Картина восстания... —лучшее, что сделали фэксы». Они и впрямь поднялись здесь до пафоса, ибо «был открыт способ преодолеть бутафорию исторических картин поэтичностью пластического ощущения, родом зрительной музыки — вихрем, снегом, огнем». Показательно, сколь близка этим словам Козинцева оценка сцен восстания Аменгу-алем: «Эти эпизоды великолепны. Эта песнь пластики... переворачивает душу».
Восстание Черниговского полка показано в трех сценах: мятеж— ночь, метель; столкновение восставших с верными Николаю войсками — серый, бессолнечный день; поле сражения после разгрома — ночь, луна. Повествовательность сценария исчезла уже в режиссерской разработке: фэксы искали поэтический образ восстания и поражения. Они наметили контрасты световых условий и ритма — от вихревого движения начальной сцены через напряженный мучительный ритм ожидания первого выстрела во второй к замирающему ритму третьей — и сквозной лейтмотив барабанной дроби (в немом фильме!). Они рассчитывали на мастерство своего оператора, на его умение создать атмосферу, интонацию сцены, сделать изображение «музыкальным». Москвин оправдал расчет и в чем-то, как уже было в «Шинели», повел режиссеров за собой.
Сцены восстания сняты не как отдельные, замкнутые в себе, а как часть целого. Изобразительный строй их подготовлен заранее — в начале фильма есть кадр солдата в карауле: вырванная из мрака лучом света неподвижная фигура в полной выкладке с тяжелым ружьем на пронзительном декабрьском ветру. И прямым контрастом к этому несколько раз повторенному кадру — солдаты в сцене мятежа: бегущие наперекор вихрям метели, снятые во многих кадрах с разной крупностью, в разных ракурсах. Точно так же контрастна этим кадрам, насыщенным мелькающим светом и резким движением, и сцена присяги с неподвижными, темными каре солдат, молчанием отвечающих на призыв кричать «Ура!» новому царю.
За сценой присяги идет встреча офицеров-заговорщиков в трактире и сцена на катке (в сценарии — бал, но так как в «Декабристах» тоже был бал, фэксы нашли более экзотическое место). Москвин самым лучшим образом использовал освещенный огнями каток для создания нарастающего пластического мотива: неподвижные построения и рас
сеянный свет сцены присяги сменяется тревожным освещением встречи заговорщиков, а затем плавным движением катающихся и их длинных теней на льду. Противопоставление темных каре солдат и белого снега в сцене присяги здесь, на катке, «рассыпается» в блеске льда, игре света на ледяных сооружениях в скольжении черных теней. Небо и тени здесь густо-черные, контраст предельный. В следующей сцене мятежа он сразу уменьшается: снежная метель смягчает яркость света и черноту ночи, быстрое движение солдат доходит до мелькания, «смазки», тоже снижая контраст; врезанные в пробеги солдат крупные и потому более контрастные планы офицеров и барабана с исступленно бьющими по нему палочками очень коротки. Быстрое, неупорядоченное движение солдат, порывы метели, короткие врезки крупных планов создают пластически-музыкальный образ стихии мятежа.
Движение от эпизода к эпизоду все ускоряется, но контрастность изображения, резко нарастая в кадрах катка, заметно снижается в сцене мятежа. И сразу: неподвижные, в строгом порядке расставленные орудийные расчеты, снятые на полном контрасте — силуэтом на белесом зимнем небе. Резкий толчок ритма и тона изображения прямо воздействует на эмоции зрителей, поднимая на новый, трагический уровень тему неизбежного поражения декабристов. И этот уровень выдерживается, даже достигает еще большей высоты в ночной сцене поля сражения. Начинается она надписью: «И ночью на месте недолгой битвы только дым и кровь». Режиссеры вместе с Енеем создали впечатляющую картину разгрома: раненые люди и лошади, лужи крови на грязном снегу, трупы, хищные птицы... Эмоциональное воздействие усилено несколькими кадрами сдвижением: бьется в конвульсиях и затихает лошадь; приподнимается раненый офицер, из последних сил выпрямляется и падает, чтобы уже никогда не встать (эту крошечную, в один кадр сцену ученик ФЭКС Олег Жаков сыграл так, что запомнился всем, кто видел фильм); мальчик-барабанщик с трудом доползает до барабана, несколько слабых ударов палочек, замер и он... Москвин объединил все это беспокойным холодным светом луны, перекрываемой мрачными тучами. Съемка с низких точек укрупняет первоплановые фигуры, небо с тяжелыми тучами занимает большую часть кадра, становясь пластическим мотивом сцены... Замирают раненые. Неподвижность мертвых подчеркивается медленным движением туч. Зловещий силуэт хищной птицы возникает как последний аккорд трагического реквиема...
Говоря, что сцены восстания — лучшие у фэк-
«С.В.Д.» Кадр из фильма. Разгром восстания. Смерть офицера (О.Жаков).
сов, Тынянов имел в виду «тесную, дисциплинированную и собранную группу». Он прав — при всем объединяющем и ответственном положении режиссеров их замысел не был бы осуществлен без художественного вкуса лаконичного в изобразительных средствах Енея, без абсолютного музыкального слуха монтировавшего фильм Шпи-са. Прекрасный монтажер Эсфирь Шуб сказала, что монтаж — «способ наиболее ярко и эмоционально выявить то, что заложено в снятом материале». Заложено же было не только ритмически организованное режиссерами и оформленное Енеем действие, но и Москвин-ская интерпретация его меняющимся светом, взлетами контрастов. Изображение «зазвучало». Именно «звучащее» изображение, поддержанное динамикой, ритмом монтажа, — основа того, что сделало немое зрелище песней пластики, зримой музыкой. Романтик Делакруа утверждал, что поэтичность живописи создается «музыкой картины». В сценах восстания, да и во многих других, зримая музыка киноизображения создала тот романтический пафос, который сделал их одной из поэтических вершин немого кино.
СТИЛИЗАЦИЯ И СТИЛЬ
Стиль не так легко позаимствовать или подделать, как кажется. И в политике и в искусстве стиль больше программ и манифестов говорит об истинной глубине человеческих чувств
Сесар Вальехо
Реклама кинотеатра «2-й Совкино» в Барнауле гласила: «Исторический авантюрный роман “С.В.Д.”. Показ событий по методу стилизации, в приемах романтики». Похожий на пародию текст (как не вспомнить Тынянова: «...от стилизации к пародии — один шаг») родился не на пустом месте — алтайские кинодеятели шли за рецензиями, в которых было написано: «...бережная стилизация обозначилась гораздо больше, чем углубленная ревизия истории...» или «...упор здесь сделан на мелодраму... на стилизацию под Александра Дюма (отца)».
Причисление к «стилизаторам» фэксы и Москвин восприняли так же спокойно, как раньше к «экспрессионистам». Но уже в 1933 году Козинцев говорил: «Основная наша ошибка заключалась в том, что стиль мы искали внутри живописного материала данной эпохи, а не в результате анализа действительности», а в статье о Москвине (1935) добавил: «Стиль превратился в стилизацию. Ошибка, в которой скорее нужно винить режиссеров, чем оператора». Фразы эти стали основой для обвинений: авторизированная Козинцевым стилизация в «С.В.Д.» считается доказанной. Но оценка ее меняется. В «Истории советского кино» (1969) сказано о стилизации персонажей под портретную живопись, миниатюры, о том, что «картина боя на снегу с его дымками над редутами, шеренгами солдат, уходящими вдаль, была навеяна батальной живописью пушкинских времен». Вывод: «В “С.В.Д." была отличная стилизация, она обогатила палитру молодого советского киноискусства». А вот фраза из книги 1966 года: «Искреннее увлечение подвижничеством декабристов боролось в фильме с самодовлею
щей стилизацией под романтическую мелодраму». Смешно, конечно: «стилизация под мелодраму», если мелодрама и ставится. Можно отшутиться и вопрос закрыть. Но со стилизацией надо разобраться, ибо и «Новый Вавилон» не избежал таких же обвинений, а слова Козинцева, что винить следует режиссеров, «вины» с Москвина не снимает: слишком велик его вклад в созданный коллективом стиль фильма.
Начну с самооценки Козинцева. Историки искусства хорошо знают ее условность. На новом этапе творчества художники часто отрицают сделанное раньше, резкий отказ помогает утвердиться новому. Начало тридцатых было для факсов переходом к новому этапу. Есть и другая причина. Обстановка дискуссии о формализме толкала к тому, чтобы принять на себя не такой уж большой грех стилизации; отвергая столь же необоснованное, но более опасное обвинение в экспрессионизме. В главе «Глубокого экрана» о Москвине использовано многое из статьи 1935 года, но слова о стилизации Козинцев не повторил. Впрочем, тут тоже самооценка...
Стилизация — это намеренное подражание какому-либо художественному стилю, его имитация. Отвечают ли этому кадры с артиллерией? Попробуйте вспомнить хоть одну батальную картину пушкинских времен с резким черным силуэтом артиллерийской батареи на фоне безоблачного неба. А ведь этот кадр — ключевой для образа грозной и неподвижной силы, противостоящей восставшим. К тому же в кадрах «С.В.Д.» нет редута, обязательного в батальных картинах, и это тоже не случайно. Дымки над пушками есть и на картинах и в кадрах, но только ими и можно передать выстрел пушки в «немом» изображении; здесь не намеренная имитация стиля XIX века, а изображение реальности. Стилизация персонажей под портретную живопись и миниатюры? Но сходство причесок и платья — опять-таки изображение действительности: моды того времени мы знаем только по портретам. А простое сравнение москвинских портретных кадров с портретами и миниатюрами двадцатых годов XIX века показывает: Москвин ничему не подражает, а создает свой стиль. Особенно наглядны приемы освещения: в фильме почти всегда направленный свет, заметные перепады яркости лица; в портретах двадцатых годов, особенно в миниатюрах, свет рассеянный, яркость лица на свету и в тени почти одинакова. Даже в романтических портретах Карла Брюллова поэтический пафос создан прежде всего композицией, «постановкой фигуры», как говорят художники, беспокойным фоном и т.д. В поздних, скорее уже реалистических портретах, например Струговщикова, свет у Брюллова выявлен сильнее, но и тут ему далеко до москвинских контрастов.
Создатели «С.В.Д.» не имитировали стиль живописи пушкинских времен, хотя хорошо ее знали, более того, внимательно изучали. Соглашусь даже: в чем-то она и повлияла на изображение. Но только ли она? В 1966 году на вопрос об истоках пластического образа ранних фильмов, в частности, образа снежной метели, Козинцев ответил: «Метель в “С.В.Д.”, наверное, подсказана еще и блоковскими образами, его “Двенадцатью”. Работая над “С.В.Д.”, мы, конечно, испытывали влияние и лермонтовского “Маскарада", и русского романтизма, и живописи Сапунова, художника, которого я люблю». Переходя к Москвину, можно назвать еще посвященные театру мелодрамы картины Домье, иллюстрации Бенуа к «Медному всаднику», мужественно
романтичные баллады Тихонова... Может ли быть стилизация одновременно под батальную живопись и Сапунова, Лермонтова и Блока, Брюллова и Домье?
Недоброво указал на общность приемов фэксов с приемами русского романтизма 20-40-х годов. Но идет она не от стилизации под «Маскарад», а от стиля романтической мелодрамы. Ради нее фэксы и взялись за «С.В.Д.». Эпоху они знали досконально и по искусству и по документам, имея консультантами Тынянова и Оксмана. Знать мало, надо создать образ эпохи, менее всего дававшийся «мэтрам». В лучших сценах «С.В.Д.» романтический образ эпохи создан, причем кинематографически, а не стилизацией. Но не во всех. Начало фильма, сцены восстания, многие кадры в трактире, цирке, костеле в полную силу говорили о глубине чувств их создателей, в других сценах она не ощущалась. О причинах речь шла, скажу еще об одной, прямо связанной со стилем, — об игре актеров.
Киномастерская готовила не вообще актеров, а киноактеров. Фэксы были близки Кулешову, добиваясь от учеников не переживания эмоции, а ее выражения через жест (не случайно основной предмет в Ки-номастреской ФЭКС, который вел Козинцев назывался «Киножест»), через игру с предметами. Это подходило для эксцентрических комедий, детектива, гротескной «Шинели», но не для «С.В.Д.»: условная мелодраматическая интрига требовала высокого градуса актерских эмоций; его не заменишь точным, но внешним жестом, эффектной игрой с вещами (Магарилл с веером, Герасимов с картами). Козинцев, будучи уверенным в Москвине и Енее, больше работал с актерами; на руку оказалась и пересъемка многих сцен. Кое-чего он добился, лучше стала играть наименее опытная из главной тройки Магарилл, но школа сказывалась, игра часто оставалась «внешней». Герасимов в драматических местах пережимал, Магарилл местами ломалась, Соболевский был несколько однообразен. Разностильна работа актеров второго плана: Костричкин (слуга) — эксцентричен, Константин Хохлов (Вишневский) — откровенно театрален, Николай Мичурин (хозяин цирка) — реалистически достоверен.
Уже в первых фильмах Москвин вместе с режиссерами искал приемы, поддерживающие, даже усиливающие изображаемую актером эмоцию (наблюдательный Недоброво написал: у фэксов «эмоция передается не лицом актера, а выбором кадра, освещением, монтажным комбинированием...»). Для «С.В.Д.» этого было мало, понадобились сквозные световые характеристики, сочетание их с эмоциональной атмосферой каждой сцены. Объединив усилия, режиссеры, Москвин, актеры ушли в конечном счете, от поражения, но и полной победы не было — осталась некоторая разностильность актерской игры и фильма в целом. Однако при всех недостатках он стал большим шагом вперед в сравнении с унылым «Девятым января», иллюстративнотеатральными «Декабристами», «Поэтом и царем», претендовавшим на показ драмы Пушкина, а показавшим все те же дворцы и балы, все ту же, по выражению Белы Балаша, «движущуюся картинную галерею» (тут-то и была скверная стилизация под парадную живопись!). Кстати, «С.В.Д.» Балаш еще в 1928 году назвал «оптической балладой», имея в виду балладу как музыкальный жанр. Он был первым, кто заговорил о музыкальности пластики этого фильма.
Фильм до сих пор частый гость в киноклубах и синематеках. Жорж Садуль в шестидесятых годах отметил его влияние на современные фильмы о революции, в частности, на «Вива, Мария!» Луи Маля. Фильм живет... Заканчивая разговор о нем, нельзя не привести еще одно определение, вспоминаемое, пожалуй, чаще других: Шкловский назвал «С.В.Д.» самой нарядной лентой Советского Союза. Определения Шкловского диалектичны, часто они одновременно и похвала, и порицание (напомню слова о «Матери» как «кентавре» поэзии и прозы). Это относится и к «самой нарядной ленте». Но важно, что и здесь выделена роль изображения, роль Москвина, как в «оптической балладе» или «зрительной музыке». Конечно, хотелось бы знать, как сам Москвин понимал роль оператора, принципы операторского искусства. Он помог нам, написав вместе с Михайловым статью «Роль оператора в создании фильма».
ТЕОРИЯ
Оператор должен быть сознательным художником. Бела Балаш
Написал Москвин мало. Только ли он? Читая, скажем, журналы по кино, легко заметить: операторы самые молчаливые и «непишущие» из кинематографистов. Бывают, разумеется, операторы много пишущие или мастера поговорить (таким был Нильсен), но это исключение, подтверждающее правило, или тот печальный случай, когда слово «оператор» означает не призвание, а лишь должность, указанную в анкете. Молчаливость Москвина вошла в легенду при его жизни. Йонас Грицюс еще до знакомства с ним услышал рассказ о его встрече со студентами ВГИКа — на вопрос «Как вы освещали декорацию Государственной думы?» он якобы ответил: «Электрическими лампочками». По легенде он был столь молчалив, что два слова ответа вместо одного кажутся примером говорливости. Легенда не лишена трогательности, и потому хорошо знавший Москвина Грицюс рассказ о «лампочках» закончил так: «Я вполне допускаю подобный случай», а еще лучше знавший Москвина Козинцев написал о его речи на юбилее Енея: «...не торопясь, вышел на сцену, угрюмо посмотрел на юбиляра... сказал “Поздравляю”». На самом деле, чему я свидетель, Москвин произнес несколько коротких фраз, но по контрасту с многословием других ораторов речь запомнилась Козинцеву предельно краткой. Спору нет, Москвин не любил говорить с трибуны, но выступал на заседаниях худсовета, иногда на обсуждении фильмов в Доме кино, делал доклады по технике. И всегда был немногословен. Это «операторская» черта; она прямо связана с особым характером мышления, определяющим пригодность к профессии, мышления не словами, а «картинками», пластическими образами. Наука связывает этот тип мышления с правым полушарием мозга; левополушарное мышление «литературно». Типично правополушарными были великие художники Леонардо да Винчи, Серов, Эйзенштейн. «Пластическое», а не «литературное» мышление Москвина подтверждается лаконичностью его писем, очень малым числом статей. Самая
Портрет Москвина, снятый в 1927 или 1928 году ассистентом оператора Н. Ушаковым.
большая написана вместе с Михайловым в 1926 году для сборника «Поэтика кино».
Почему взялся он за статью для теоретического сборника? Он был силен и в художественном синтезе, и в научном анализе, он был любознателен, отсюда безусловный интерес к корневым, теоретическим основам всего, с чем он имел дело, стало быть, и к теории кино. Первое знакомство с ней для Москвина и его друзей — книга «Видимый человек, или Культура кино» Белы Балаша, появившаяся в Германии в 1924 году. «Мы читали ее в подлиннике, — написал Горданов, — и, возможно, не все должным образом уразумели». В 1925-м она в двух переводах вышла на русском. Михайлов сохранил книгу, принадлежавшую Москвину (перевод Кирилла Шутко). Он «уразумел», следы этого видны на многих страницах. Уже в предисловии отчеркнуты слова о том, что художник не обязательно должен быть «ученым», но и не должен творить только ин-
туитивно, в соответствии с «всеобщим... мнением о ценности “бессознательного творения”». Москвин отчеркнул и раздел «О фотографии», начинающийся словами «Оператор должен быть сознательным художником». Мысль явно нравилась Москвину: в нем парадоксально и при том гармонично соединялись художник-лирик «со всеми бесплановыми чувствами и косматыми страстями» (так сказал о нем Козинцев) и физик-аналитик с острым умом, стремящийся к сознательной организации творчества. Вот почему тезис Балаша о «сознательности» вызвал у него серьезное отношение к книге.
Михайлов написал позже, что Балаш помог им «понять сущность изображения в немом кинематографе и находить в снимаемом его скрытое, внутреннее значение». Балаш — писатель, искусствовед, его читатель Москвин не только художник. Он прекрасно знал физику, химию, всерьез интересовался биологией и психологией и видел за словами Балаша и иной смысл. В начале XX века рывок к постижению сущности вещей сделала физика, Макс Планк заложил основы квантовой механики. В глубь клетки двинулись биологи, Вильгельм Иогансен ввел термин «ген». Пытаясь понять механизм познания, в глубь мозга устремились биологи и психологи, Владимир Бехтерев основал Психоневрологический институт. Двадцатые годы — новый уровень науки: отдельные достижения начинают выстраиваются в единые системы новой физики, биологии, понимания человека в комплексе биологического и психического. Начало века отмечено прорывами к новому искусству Блока, Скрябина, Пикассо, Фокина, других художников, мучительно осознававших растущий разрыв между внешностью лю
дей и вещей и их сущностью. После потрясений мировой войны, революций — расцвет нового искусства... В 1924-1926 годах шло окончательное становление миропонимания Москвина. Стремление в скрытую глубь вещей стало для него проявлением сложного диалектического единства науки и искусства, природы и человека. И он отчеркнул в книге Балаша слова о «скрытой физиономии вещей».
Осенью 1926 года Москвин, вероятно, благодаря Тынянову, получил предложение написать статью и привлек к этому Михайлова. «Ни писать, ни выступать мы с Андреем никогда не умели, но нам показалось интересным как-то подытожить наши мысли о работе...- вспоминал Михайлов. — Помню, как мы мучительно добивались по возможности точных формулировок того или иного положения. На принципах, изложенных в статье, мы строили всю свою работу». Принципы или «условия для получения необходимого общего тона и стиля картины» даны в первых трех абзацах статьи в виде трех ключевых понятий: коллектив, кинематографическая жизненность плоскостного порядка, которая должна действовать впечатляющим зрителя образом. Что стоит за этими, порой не очень внятными формулировками? Прежде всего уверенность в том, что «процесс съемки не есть или, по крайней мере, не должен быть простой фиксацией происходящего действия, а является той призмой, пройдя через которую это действие получает свою кинематографическую сущность и жизненность». Это очень важное положение, ибо именно творческое преображение реальных или специально организованных обстановки и действий в киноизображение позволяет оператору создать пластический образ, который эмоционально, «впечатляющим образом» воздействует на зрителя. Оператор делает это, будучи членом коллектива, он одновременно «сознательный художник» и исполнитель, воплощающий замысел режиссера.
Для творческого преображения используются операторские выразительные средства. Особое место занимают среди них свет и тень: «...главный и единственный (если не считать малоразрабо-танных форм кино — цветного и говорящего) материал выразительных средств...» Дальше авторы говорят и о композиции кадра, и о его оптическом рисунке, но свет и вправду был для них главным. Существенно и сделанное вскользь замечание о цвете и звуке: в нем есть и уверенность, что цветное и звуковое кино обязательно появятся, и проницательное предвидение будущего кино, основой которого станет, по Эйзенштейну, «звукозрительный образ» (отмечу, что взгляды Москвина и Михайлова оказались во многом близки взглядам авторов других статей сборника, прежде всего Тынянова, но в вопросе о будущем кино они резко разошлись, ибо Тынянов, как я уже писал, считал «бедность», плоскостность, бесцветность кино его конструктивной сущностью).
В июне 1926 года Москвин и Михайлов прочли в журнале «Filmtechnik» доклад, сделанный Балашем в Клубе кинооператоров Германии. В газете «Кино» появился его перевод, вызвав бурную отповедь Эйзенштейна. В пылу полемики он несколько перегнул палку, особенно в вопросе о монтаже. Балаш вовсе не пренебрегал монтажом, посвященный ему раздел книги — серьезное для тех лет исследование (Москвин отчеркнул в нем абзацы, касающиеся «непрерывности тона» как «деликатнейшей задачи режиссера», и мысль о «ви
димом лейтмотиве»). Эйзенштейн считал, что «сущность кино надо искать не в кадрах, а во взаимоотношениях кадров». Взгляды Москвина и Михайлова на монтаж иные; в статье, написанной для «Советского экрана» в апреле 1927 года, Москвин дал четкую формулу взаимосвязи кадра, монтажа и всего фильма: «...каждый кадр, по моему глубокому убеждению, должен носить в себе элементы всей фильмы, каждой сцены, каждого эпизода. В идеале каждый отдельный кадр должен давать намек на общее, с одной стороны, и одновременно быть настолько же характерным, как подписная картина большого мастера». В сравнении кадра с «картиной большого мастера» звучит не только гордость своей художественной профессией, но и понимание диалектического единства кадра и монтажа, частного и общего. Для середины двадцатых годов такой подход к монтажу был глубже несколько одностороннего подхода Эйзенштейна, который позже, на опыте работы над «Иваном Грозным» признался в том, что «стык между кусками, то есть элемент, по существу, лежавший вне изображения», он не в меру «эстетизировал».
Диалектическим было и отношение Москвина к проблеме «оператор — коллектив». После «С.В.Д.» появилась статья Николая Ефимова: он противопоставлял манеру съемки фильма манере Тиссэ и Головни, утверждал, что кадр Москвина «равен рисунку карандашом», проводил параллели с рисунками Домье, Гойи, Гросса, с «Двенадцатью» Блока. В статье было и дельное, и такое, что Москвину не понравилось. Он никогда не отвечал на критику, но последние фразы статьи («Несомненно, Москвин один из своеобразнейших операторов современной кинематографии. Но ему не хватает самостоятельности — его манера лишь манера факсов») вызвали его письмо в редакцию. Он написал, что оператор может быть или индивидуалистом, резко отделяющим свою работу от работы режиссера, или «синтетически связывая все элементы постановки в одно, является органически спаянной единицей группы, продукт которой — фильм в лучшем смысле этого слова», и заключил: «Снять же картину, сохраняя свою своеобразность, лишь в манере факсов — лучшая похвала оператору».
Обратите внимание на стиль Москвина, на сложное построение фраз, типичное для людей правополушарных. К сожалению, эта сложность, неточное название статьи в сборнике, не отвечающее его названию, само неумение писать статьи, о котором говорил Михайлов, в какой-то мере помешали теоретикам кино оценить и использовать то плодотворное, что было в идеях Москвина и Михайлова. Но это не отменяет главных достоинств теоретических сочинений Москвина — полноты охвата и серьезного диалектического анализа проблем, точности прогноза. Появившиеся в 1927 году статьи в «Поэтике кино» и в «Советском экране» — не только первая, но и удавшаяся попытка глубокого теоретического исследования основ операторского искусства.
«Оператор должен быть сознательным художником». Эпиграф я взял из книги Балаша в переводе Шутко. В немецком тексте и в другом русском переводе — не вообще «художник», а «живописец». По отношению к Москвину верны оба смысла. Статьи показали: он стал сознательным художником. «Братишка» и «С.В.Д.» — большой шаг к живописности по сравнению с «Шинелью». Торжеством ее стал «Новый Вавилон».
С МОСКОВСКИМИ ДРУЗЬЯМИ
...снимать кадры для «нашей картины» мог только друг Анатолий Головня
В 1957 году Москвин заполнил «творческую карточку»: «1927 — С.В.Д., Турбина №3», а в графе «Принимал участие в съемках» названы «Октябрь», «Конец Санкт-Петербурга».
«Октябрь» ставили московская и ленинградская фабрики «Совки-но». Группа Эйзенштейна прибыла в Ленинград в марте, 12 апреля начали съемки. Москвин был занят на «С.В.Д.», но с москвичами встречался часто. Блейман вспоминал, как, придя к Эйзенштейну в гостиницу, застал Москвина и Тиссэ: «Сидя у маленького столика, они что-то рассматривали и что-то вычисляли. Я хотел поздороваться с ними, но Эйзенштейн меня остановил: “Не мешайте. Они высчитывают, каково фокусное расстояние в глазу комнатной мухи"... Я решил, что меня разыгрывают. Но Москвин и Тиссэ без улыбки кивнули. Они в самом деле вычисляли. И перед ними лежала лупа, которой они исследовали глаз мухи». Блейман не разбирался в технике, но, будучи человеком проницательным, понял: эти расчеты вовсе не пустое времяпровождение. Вспомнив услышанный им разговор Козинцева и Москвина о переделанном объективе, добавил: «Может быть, для этого ему и нужно было знать о фокусном расстоянии в мушином глазу. Для переделки объектива или еще чего-то другого, но делового». К этому стоит добавить и такие слова Блеймана, перекликающиеся со сказанным раньше о молчаливости Москвина: «Он был так молчалив, что когда он заговаривал с вами, возникало ощущение, что он вас за что-то поощряет или награждает. Вместе с тем в его молчаливости не было ни монументальности, ни оскорбительной важности... Он мог рассуждать о фокусном расстоянии в глазу мухи, но никогда об искусстве. Оно было для него делом интимным, таким, о котором не говорят».
«С.В.Д.» еще снимали, а Москвин появился в группе «Октября» и как оператор: с Тиссэ и другими операторами снимал первомайскую демонстрацию и проход «Авроры» к Николаевскому мосту. В конце мая съемки «С.В.Д.» завершили, Москвин больше времени проводил с москвичами и ближе познакомился с Владимиром Нильсеном, ассистентом Тиссэ. Несмотря на заметную еще разницу в возрасте (Москвин на пять лет старше) и полную противоположность характеров (Нильсен был открытым, разговорчивым человеком), они сразу подружились — Москвину импонировал интерес Нильсена к технике, его организованность, страсть к знаниям.
В июне снимали штурм Зимнего дворца. Грандиозные ночные съемки шли с самым активным участием Москвина — он уже был крупнейшим специалистом по натурным съемкам с искусственным светом (его часто привлекали для консультаций, а в октябре 1927-го даже отозвали из отпуска, чтобы он помог начинающим операторам Гинцбургу и Патлису на ночной сцене «Двух броневиков» Тимошенко). Москвин снимал сцены штурма вместе с другими операторами, но, главное, он помог Тиссэ рассчитать операторское освещение огромной площади и дворца. «Октябрь» для Москвина, на первый взгляд, «чужой» фильм, работа «на подхвате», как, скажем, «Два броневи
ка». Но это не так. Не потому, что именно к «Октябрю» он относился серьезно — он все делал серьезно, в полную силу, даже снимая третьей камерой для «Поэта и царя». И не потому, что Эйзенштейн, Тиссэ, Нильсен были друзьями. Суть в том, что «Октябрь» — кино Эйзенштейна. И Москвин не только помогал в расчетах — он учился, постигая художественную систему Эйзенштейна изнутри, в самом рождении образа. Он мог сравнить это со своим опытом, с опытом фэксов.
Судьба дала ему возможность тут же сравнить этот опыт с опытом Пудовкина и Головни: они снимали в Ленинграде одновременно с Эйзенштейном, поделив с ним памятники и площади. Дирекция ленинградской фабрики без энтузиазма относилась к «Октябрю», но все же несла за него ответственность, фильм «Межрабпом-Руси» ее уж совсем не волновал. А Москвин не мог отказать в помощи Головне. «Вот единственная фотография, где мы с Андреем Николаевичем работаем вместе, — написал Головня. — Москвин на верхнем практикабле, мы с Всеволодом Пудовкиным внизу. Снимаем массовку “биржи” для “Конца Санкт-Петербурга”. Весна 1927 года, мы еще молоды, и съемка для нас — тайна и творчество...» Москвин участвовал и в съемках других сцен и в съемках других фильмов Пудовкина, начиная с «Механики головного мозга» и кончая «Победой». Похоже, что Пудовкин и Головня суеверно считали хотя бы один кадр, снятый Москвиным, чем-то вроде талисмана, защищающего фильм.
Москвин был верным другом. Это показали и съемки «Конца Санкт-Петербурга» и история еще одного фильма 1927 года.
«ЧУЖОЙ ПИДЖАК»
Согласившись еще в 1926-м ставить сценарий Каверина, фэксы надеялись развить опыт «Братишки». Но после удачи сцен восстания в «С.В.Д.» решили от «Чужого пиджака» отказаться. Они почувствовали, в чем сильны, мечтали о фильме больше отвечающем стремлению «войти в общий фронт». Хотя тему Парижской Коммуны подсказал один из руководителей «Совкино» Павел Бляхин, на фабрике идею встретили прохладно: о факсах судили по «Шинели» и «Братишке» (успех «С.В.Д.» был впереди). Было ясно, что сценарий потребует много времени; дирекция настаивала на запуске «Чужого пиджака». Скрепя сердце, Козинцев и Трауберг взялись за постановку.
Каверин сочинил историю кассира-растратчика, принятого за ревизора. В середине 1927 года тему растраты сочли неактуальной, сценарий велели поправить. Подготовку к съемкам провели быстро: 7 июня кончили монтаж «С.В.Д.», а 29-го уже выехали в экспедицию по «Пиджаку». В июне же сдавали «С.В.Д.» (режиссеры и Москвин ездили в Москву), а Москвин еще снимал штурм Зимнего для «Октября». Основная работа по подготовке «Пиджака» легла на Шписа и Мильман, появившуюся в группе к концу съемок «С.В.Д.» Шпис писал режиссерский сценарий, вместе с Кавериным на ходу перенося острие сатиры с растраты на протекционизм и усиливая лирическую линию. Мильман подбирала актеров. Встретила на улице Тамару Макарову и пригласила на кинопробы. Через три дня утвержденная на
роль машинистки Макарова уехала в экспедицию в Белгород: «До сих пор считаю этот город лучшим на планете».
Белгород принес ей счастье: она познакомилась с Герасимовым, стала его женой и одной из самых популярных актрис нашего кино. Белгород дал живописную натуру провинциального городка, меловые горы внесли в пейзаж элемент экзотичности. Подчеркивая ее, Москвин щеголял на съемках в тропическом шлеме. Снимали весело. Но Козинцев и Трауберг скоро поняли: повторяется история с «Братишкой», гибрид гротеска и лирики не органичен. Их уже захватила работа над своим сценарием; рядом с восстанием и гибелью коммунаров борьба с кумовством в «Рыбтресте» — буря в стакане воды. Они предложили фильм закрыть, группу привлечь к подготовке «Нового Вавилона». Но всегда исполнительный ассистент Шпис взбунтовался и решил довести съемки натуры до конца. Актеры и Мильман согласились. Москвин понимал, что фэксы во многом правы, а товарищей не бросил: он был надежным другом. Экспедицию требовали свернуть, но съемки пошли еще энергичнее. Стремясь скомпенсировать просчеты драматургии ярким, эффектным изображением, Москвин предельно использовал белгородскую натуру. «Все-таки это меловые горы, — рассказала Мильман. — И там Костричкин в белом костюме ходит одинокой фигурой. Это было очень красиво...»
Июль 1927 года. «Чужой пиджак». Белгород. Два друга, два Андрея — Москвин и Костричкин улыбаются, а режиссеру Шпису и его помощнице Р. Мильман явно не до смеха. Фото И. Тихомирова.
Вернувшись в Ленинград, показали материал. Дирекция постановила фильм завершить, поручив это Шпису. В сентябре закончили съемки в павильоне. Художественное бюро хорошо приняло фильм: «В общем уровне выпускаемых комедий картина все же выделяется некоторой долей сатирической установки и качеством съемки» (о Москвине сказано: «удачная работа... ниже уровня предшествующих»). Фильм начали активно рекламировать; в журнале «Рабочий и театр» написали, что «картина обещает быть одной из интереснейших советских комедий». Шпис повез фильм в Москву; Главрепертком в прокат его не принял. Из остатков натурного материала смонтировали короткометражку «Добыча мела»; в протоколе приемки записано: «Красочность материала и хорошая работа оператора делают картину интересной».
«Чужой пиджак» не сохранился, объективно оценить его нельзя. Мильман считала фильм вполне удавшимся, Трауберг сказал мне: «Мы бросили фильм на полдороге. Шпис и Москвин дела не улучшили, картина получилась путаная...». Каверин на мой вопрос ответил, что фильм «совершенно не удался» и что «виноват, прежде всего, я, затем — Шпис». Это самооценки, им противостоят отзыв в журнале, оценка Художественным бюро (протокол написан Пиотровским). Ясно, что идея «лирико-гротесковой комедии», лирическим героем которой был кассир-растратчик, уже сама по себе сомнительна. При всех стараниях Шписа, Москвина и актеров фильм, вероятно, не очень удался, но причиной его запрещения была та «доля сатирической установки», за которую похвалило его Худбюро. Отношение к сатире, сложное всегда, усугубилось в конце двадцатых; позже это назвали «сатиробоязнью». История «Чужого пиджака» была в числе первых ее проявлений.
Запрет не поставил под сомнение квалификацию Шписа. Он сразу начал съемки комедии «Снежные ребята». Москвин опять помог: под его наблюдением снимал Тихомиров. В марте 1928-го Москвин и завершил фильм, когда Тихомирова арестовали за участие в какой-то религиозной организации.
«Чужой пиджак» — первый фильм Москвина, попавший на «полку». Работа оператора связана с потерями: не удается снять все, что задумал; не все, что снял, даже если хорошо снял, попадает в готовый фильм. Это издержки производства и коллективной работы над фильмом. Операторы стремятся свести их к минимуму, переживают, но понимают их неизбежность. Иное дело — «полка». Для настоящего художника, старающегося что-то сказать зрителям своей работой, относящегося к ней не как к «технике ради техники» (против этого Москвин протестовал в своей статье), такой финал забирающего месяцы, а иногда и годы труда — всегда травма. И кто знает, может быть, первый, особенно памятный рубец на сердце Москвина оставил именно «Чужой пиджак» — фильм, казалось бы, не столь важный для его творческой биографии. И, может быть, поэтому Москвин и не назвал его в своей «творческой карточке».
Гпава пятая
«НОВЫЙ ВАВИЛОН»
ВРЕМЯ «НОВОГО ВАВИЛОНА»
Всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения.
Юрий Тынянов
Новый Вавилон» вышел на экраны 18 марта 1929 года — в День Парижской Коммуны. В кино «виды брожения» менялись тогда часто. Козинцев вспоминал: «...по декадам менялся не репертуар кинотеатров, а само понятие кинематографии... выход нового фильма нередко вызывал бурю. Наш фильм, кажется, вызвал целый ураган». В «Глубоком экране» несколько страниц посвящены урагану споров критиков, кинематографистов, писателей. Иное дело — зрители. Тут споров почти не было, большинству фильм не понравился. Для его создателей провал (особенно на фоне продолжавшегося успеха «С.В.Д.») был нешуточным потрясением. Почти через полвека Трауберг написал: «А ведь это горе для нас, что не приняли "Вавилон”... Не эксперимент мы затевали. Хотели взволновать рассказом о "штурме неба”, воспитать чувства». К счастью, режиссеры дожили до тех дней, когда время поставило все на место: к столетию Коммуны первый посвященный ей фильм с большим успехом вновь показали во Франции (Москвин, к сожалению, не дожил...). «Новый Вавилон» включили в программы Недель советского кино. Газеты Голландии писали в 1977-м: фильм — потрясающее откровение молодого революционного искусства. И еще: «Мы видим зачаровывающие, звучащие в своем безмолвии кадры». Пять лет спустя восстановили партитуру Дмитрия Шостаковича — и новая волна интереса. На повторных премьерах был Трауберг. В 1935 году он критически оценил фильм и мнения не переменил, в конце семидесятых
писал: «Атмосфера в нем — первый сорт, а все-таки...» Он считал, что режиссеры «спасовали перед Коммуной». Большой успех просмотров 1982 года Трауберг объяснил так: «“Новый Вавилон” дал очень многое современному кино. Поэтому язык картины, который оказался сложным для зрителя 1929 года, сегодня хорошо понят».
Как же образовался этот язык? Козинцев и Трауберг хотели развить свой опыт «романтической мелодрамы на фоне исторических событий». Для понимания эпохи углубились в Золя; из «Дамского счастья» взяли в фильм дешевую распродажу в магазине; его название, обобщенное на весь Париж, стало названием фильма. Романтическая интрига шла на фоне войны с Пруссией и Коммуны. Первый вариант написали быстро и тут же отвергли: по мере погружения в материал стало ясно — мелодраматические перипетии несовместимы с историей Коммуны. Понять это помогли воспоминания коммунаров, «Гражданская война во Франции» Карла Маркса, другие книги. Очень помогла поездка в Париж в феврале 1928 года.
Сначала был Берлин, куда 15 января выехала группа ленинградцев: Козинцев, Трауберг, Москвин, Еней, Эрмлер, Михайлов и другие. В Берлине они побывали в самом большом в мире кинопавильоне на студии «УФА» в Штаакене, смотрели фильмы, познакомились с Бала-шем. Москвин и Михайлов изучали новую технику, беседовали с операторами, много времени провели в музеях. По рассказу Михайлова, более всего привлекли Москвина восточные древности в Пергамон-музее. 13 февраля — премьера «С.В.Д.» в «Тауэнциенпаласе». 19-го газета «Берлинер Тагеблатт» назвала Москвина «лучшим оператором мира» (журнал «Фильмтехник», приведя цитату из газеты в редакционной заметке, поставил около этих слов знак вопроса), но уже 18-го Москвин, Эрмлер и другие были дома.
Козинцев, Трауберг и Михайлов поехали в Париж. Илья Эренбург, муж сестры Козинцева, оформил визы режиссерам, а Михайлов ехал к Сомову, мечтал не только о встрече с дядей, но и о музеях и театрах. Программу эту он выполнил не полностью: режиссеры обрадовались, что с ними едет «свой» оператор, и сняли натуру для фильма: химеры Собора Парижской Богоматери, виды города с собора, Вандомскую колонну (резким наклоном камеры сымитировали ее падение), украшенные рекламой улицы. Кадры улиц нужны были для финала как фон проходов Солдата по Парижу 1928 года. Москвин впервые в советском кино применил рирпроекцию, съемку актера на заранее заснятом и проецируемом на экран фоне. В немом кино это было очень сложно, первые пробы не удались. Москвин нашел бы решение, однако режиссеры уже придумали другой финал, куда более сильный.
В фильме использовали несколько кадров химер и падающую Вандомскую колонну. Но из-за сообщения в газетах о снятых Михайловым 1000 метрах, историки «приписали» его к «Вавилону». Тогда за кадр в цирке его можно считать оператором «С.В.Д.» и тем более Москвина — оператором «Октября». Это не значит, что кадры Михайлова ничего не дали фильму; об этом будет речь. Но много больше дала сама поездка режиссеров: «Хорошо думать о работе, находясь в ее реальном мире», — написал об этих днях Козинцев. Они увидели контрасты роскоши и нищеты, суматошную сутолоку и по-
Лето 1928 г. «Новый Вавилон». Трауберг, Москвин, Козинцев и Еней на съемке сцены распродажи.
казной блеск «фантастического Парижа», «позолоченного, тунеядствующего» — определения Маркса как нельзя лучше подходили и к Парижу 1928 года, последнего перед великим кризисом. Домой режиссеры вернулись, твердо убежденные: сценарий
надо менять.
Отказ от романтической интриги, поиск
нового языка определялся еще и временем бурных споров, резких перемен. Фэксы начали создавать в Ленинграде новое кино, а рядом появились другие молодые режиссеры. Уже в 1926-м кроме «Шинели» — «Катька — бумажный ранет». В 1927-м — «С.В.Д.», «Дом в сугробах» и «Парижский сапожник» Эрмлера и Михайлова, «Девушка с далекой реки» Червякова и Беляева. Блейман назвал эти работы 1927 года «фильмами переходного периода» и пояснил: «...в них сказались противоречия традиционализма и новаторства, напряженный поиск образа нового времени и одновременно пристрастие к архаическим мелодраматическим формам». В 1927-м вышли «Октябрь» и «Конец Санкт-Петербурга», «Звенигора» Довженко, «Москва в Октябре» Бориса Барнета, в 1928-м «Элисо» Николая Шенгелая. Генеральная тенденция новаторского кино проявилась и в ленинградских «переходных» фильмах. Поэтические метафоры, обобщенные образы дали блестящий результат в отдельных сценах «С.В.Д.», но общий итог тянула вниз «архаическая мелодраматическая форма». Весной 1928 года Козинцев, Трауберг, Москвин и Еней хорошо понимали, что получилось в «С.В.Д.», а что — нет, и стремились развить в новом фильме то, что получилось. Влиял на них и опыт других новаторов, особенно Эйзенштейна и Пудовкина — его они могли почерпнуть и с экрана и из наблюдения за съемками. Может быть, поэтому они лучше других чувствовали и силу, и слабость типажно-монтажного кино. Во многом следуя за Эйзенштейном, они стремились найти свой язык, который мог бы взволновать рассказом о «штурме неба». Они нашли его, и это был язык своего времени. Времени стремительного развития кино, иногда опережавшего уровень эстетической подготовки зрителей. Но если время одухотворяет настоящих художников, рождаются шедевры. В конце концов они возвращаются к зрителю, становятся шедеврами на все времена. Таким шедевром стал «Новый Вавилон».
МНОГООБРАЗИЕ И ЕДИНСТВО
И замысел еще не точка...
Булат Окуджава
Парижская Коммуна, ее начало, ее победы, ее сражения через жизнь и смерть продавщицы большого магазина» — так Жорж Садуль передал в «Словаре фильмов» содержание и стиль «Нового Вавилона». Насыщенная событиями история Коммуны дана не исторической хроникой, а отражением в судьбе одного человека. Но и судьба героини намечена лишь «пунктиром»: продавщица Луиза Пуарье из сценария стала Продавщицей, от детально разработанной роли осталось несколько кульминационных моментов. Типизированы другие персонажи, ставшие обобщением Хозяина, Солдата, Журналиста, Депутата. Возникла угроза превращения фильма в пособие по политграмоте с картинками «буржуя» и «рабочего». Избежать ее можно, подняв каждый обобщенный образ до пафоса, сделав каждую сцену художественным образом события, придав каждому кадру образную силу. Сделать это нужно было самим качеством изображения.
Найти его было нелегко. И Козинцев, и Трауберг вспоминали съемки в саду, где Еней развесил лампы-шары, гирлянды, построил помост для танцев. Господа в сюртуках, девицы в декольтированных платьях заполнили сад, сели за столики. Людмила Семенова с зажигательным темпераментом задала канкану бешеный темп. «А на экране получалась ненавистная историческая лента... — вспоминал Козинцев. — Мы снимали ночь за ночью. Менялись планировки. Москвин пробовал новые способы освещения. Днем раздавался звонок: “Приходите огорчаться..."»
Москвин во всем любил постоянство. «Приходите огорчаться» — постоянная формула приглашения режиссеров на просмотр любого материала, даже очень хорошего. Для первых съемок бала формула отвечала сути дела: режиссеры приходили убедиться, что исполнение не отвечает замыслу. И вдруг... «Этого просмотра я уже никогда не забуду... — продолжал Козинцев. — Я увидел наяву то, что представлялось мне смутно в самых смелых мечтах: написанные густо-черным и сверкающе-белым, как зловещие птицы, стояли люди во фраках, а позади несся кавардак пятен: месиво юбок, цилиндров, шляп. Призрачный, фантастический, лихорадочный мир был передо мной, он жил, стал реальностью. Несуществующий мир существовал.
Это была реальная жизнь. В ней не было ничего от натурализма фотографической копии.
Был ли это “общий план”?.. Ночная сцена?.. Место действия?.. Нет, я видел иное: “Париж — тревожного моря бред./Невидимых волн басовые ноты” (Маяковский). Черные пятна — басы, смутная, меняющая очертания толпа — волны, и все это — зловещий бред, секунда перед катастрофой».
Цитата большая, но вряд ли можно лучше передать образ этой сцены. Слова Маяковского особенно выделяют поэтическое, музыкальное начало того, что сделал Москвин, сняв общий план объективом, близким к портретному, изменив отношение статичного первого пла
на и фона, подсветив «тьму туманной ночи» (Козинцев). Трауберг сказал мне, что все решила фраза Енея: «Но, но, Андрей, может быть ты подымляешь?» (к сожалению, в книге Трауберга вместо «подым-ляешь» — «подымишь»; пропала бесконечно милая интонация Евгения Евгеньевича: до самых последних лет в русской речи венгра Енея были эти трогательные оговорки). Потом Трауберг добавил: «Конечно, он еще что-то сделал с оптикой». Все решило не какое-то одно средство, но все-таки главное — объектив.
Крупные планы в кино часто снимали длиннофокусными портретными фотообъективами: малая глубина резкости, размытые края кадра смягчали контуры лица, делали фон нерезким, а потрет «живописным». Но Москвин снимал не таким объективом, а тем, который Николай Забабурин рассчитал по его заданию и изготовил с его участием. Оптическим рисунком объектив похож на портретный, а близкое к нормальному фокусное расстояние облегчало съемку общих планов. Применял Москвин и насадочные линзы, смягчающие сеточки, даже допотопный уже тогда прием — тонкий слой вазелина на линзе объектива. Для него не было «модных» и «немодных» средств, важен результат. Предназначены же были оптика, дым, скрадывающий детали второго плана, низкая точка съемки для того, чтобы «подать» сидящего за столом Хозяина — «зловещую птицу». Предельный контраст черноты сюртука и ослепительной белизны манжет, салфетки и чуть пересвеченного лица оттенял смягченный нерезкостью и дымом «кавардак пятен», несущийся на фоне. Этот «вдруг» возникший кадр стал камертоном всех сцен с буржуа.
Совсем иные приемы нашел Москвин для раскрытия мира Коммуны. Здесь камертон — снятые в пасмурную погоду натурные кадры Михайлова. Мягкие, в серой гамме, они выглядели неожиданно после обычно солнечных пейзажей французских фильмов, но в них была атмосфера весеннего Парижа с влажной дымкой от не очень далекой Атлантики. Москвин подхватил возможности бессолнечной, «узкой» серой гаммы, построив на ней сцены в рабочих кварталах, в доме Продавщицы, даже снимавшиеся в Одессе натурные дневные сцены (женщины-пролетарки у пушек, баррикада). Снимал он тем же самым объективом, но свет уже не был контрастен, иначе применялся дым, доминировал серый цвет. Но как богат он был оттенками!
Еще одна группа сцен — патриотический ажиотаж проводов на фронт и наступление немецкой кавалерии. Снова контраст, но уже больших силуэтных масс на первом плане и подсвеченного второго плана. С недюжинной эмоциональной силой снят скок немецкой кавалерии. Я специально беру слово «скок»: Эйзенштейн писал о скоке рыцарской «свиньи» в «Александре Невском». Много раз обращаясь к нему в своих исследованиях, Эйзенштейн ни разу не вспомнил о скоке кавалерии (тоже немецкой!) в «Вавилоне» — для него образ «свиньи» был важнее образа страшного скока. К тому же он редко обращался к опыту кино, широко привлекая музыку, литературу, живопись. И нам лучше обратиться к музыке XX века: для нее «вообще характерен образ надвигающейся силы, принимающей в своем неуклонном, ритмически неизменном движении грозный и зловещий облик». Написавший это музыковед Александр Ступень привел в пример «Болеро» Равеля, 4-ю часть «Пиний Рима» Респиги,
Сентябрь 1928 года. «Новый Вавилон». Одесса. Москвин снимает один из кадров у баррикады своей персональной камерой «Дебри Л». За ним на футляре от камеры сидит помреж Н Кошеверова (другим бы он этого не позволил).
1-ю часть Седьмой симфонии Шостаковича. К этому можно добавить «Государеву машину» из «Скоморохов» Гаврилина и возвращающую нас в кино прокофьевскую токкату «скока свиньи» в «Александре Невском».
В «Вавилоне» тоже нужен был образ тупой, безликой надвигающейся силы, но созданный одним изображением. Снимали ночью. Впереди поставили крупных, широкоплечих кавалеристов на тяжелых конях. Москвин осветил не их, а облако пыли и дыма за ними, расположив прожекторы сбоку в глубине. Скачущие на аппарат всадники первого плана видны силуэтом, у всадников второго плана блики на касках, ореолы от контрового света на фигурах. Лиц их тоже не видно из-за почти контрового света, малой глубины резкости, дыма. Черная масса первого плана перекрыла большую часть кадра и как бы пульсировала в такт скачке, но почти не менялась в размере: съемка шла с движущейся перед всадниками машины. Чтобы сохранить отношение темной и светлой части, снимали короткими кусками (при длинных кавалерия ушла бы из светлого пятна); с безукоризненным чувством ритма режиссеры вмонтировали их в сцену бала. Стык кадров бала с хорошо проработанными первоплановыми портретами и кадров «скока» с темной массой первого плана еще более усиливал
«Новый Вавилон». Кадр из фильма. «Скок» немецкой кавалерии.
эффект приближающейся тупой силы, подчеркивал обреченность «веселого Парижа».
Наконец, заключительный эпизод — суд и расстрел пленных коммунаров. Снова ночь. Дождь. В основном крупные планы. Они освещены боковым светом от одного прибора, а контровой прибор подсветил дождь за персона-
жами и создал эффект блестящего «бисера» от капель на волосах и платье Продавщицы. Казалось бы, этот «бисер» не очень вяжется с трагической обстановкой, однако Москвин достиг поразительного эффекта: в общей тональности кадра с обилием черного и «живыми», трепещущими от струй дождя пятнами белого и серого, яркие точки «бисера» капель и тонкие блики на мокрой одежде «звучат» как высокие ноты флейт в общем тутти оркестра. Они ведут свою мелодию, лейтмотивно перекликающуюся с «бисером» подсвеченной пены в прачечной, когда прачки весело трудятся на себя — на Коммуну, и самое главное, с «бисером» бликов на подсвеченной мокрой земле в сцене прощания. Там, когда Солдат целовал Продавщицу, эти яркие блики превратили грязь в волшебный сверкающий ковер, силуэтом выделяли фигуры. Здесь на кладбище, где Солдат рыл могилу своей возлюбленной, «бисер» бликов напомнил об их любви...
Поражает в «Новом Вавилоне» многообразие операторских приемов, безошибочно работающих на режиссерский замысел. И поражает гармония этого многообразия, единство частей и целого.
В начале 1929 года немецкий оператор Карл Фройнд заявил, что русские умеют создать атмосферу в одном кадре, у немцев же на это уходят десятки метров пленки. «Русские фильмы,—добавил он, — это точки съемки и монтаж. Операторская работа чересчур утилитарна...» Самыми сильными нашими фильмами были тогда для Фройнда «Конец Санкт-Петербурга», «С.В.Д.» и «Октябрь». Не знаю, видел ли он позже «Новый Вавилон», но уверен, если увидел, то изменил свое мнение об утилитарности, а к точке съемки и монтажу добавил свет и тень, вернее светотень. Она объединила все операторские приемы и превратила фотографию в киноживопись.
КИНОЖИВОПИСЬ
...живопись только потому искусство, что она не копирует действительность фотографически. Но у оператора фильма — парадоксальная задача: фотографическим аппаратом писать картины оттенков, настроений.
Бела Балай
Юрий Тынянов показал, как в отличие от средних писателей, занятых «литературной учебой», повышением мастерства, Пушкин вместо «увязывания» фабулы «начинает строить свой эпос вне фабулы». Формула эта прямо относится к Эйзенштейну и Тиссэ, но смысл ее гораздо шире. Советские операторы к середине двадцатых накопили немало приемов решения творческих задач, однако большинство одними и теми же приемами снимали современность и историю, драму и фарс. «Операторская учеба» сводилась к улучшению техники, освоению эффектов освещения (свет камина, свечи, вершина — «рембрандтовский свет» портретов).
Лучшие в начале двадцатых — Левицкий, Славинский, Заве-лев — отличались от средних уровнем работы, более высоким вкусом. Первым начал «строить свой эпос» Тиссэ: на опыте хроники он создал стиль съемки «нефабульных» фильмов Эйзенштейна. Москвин «Шинелью» и «Братишкой» доказал: изобразительное решение должно и может резко меняться в зависимости от режиссерского замысла. Москвин тоже «строил свой эпос» вне сложившейся системы правил. И вне системы Тиссэ. Строил светом и тенью. Это был решительный поворот в операторском искусстве, и, если обратиться к «старшим» искусствам, на память сразу приходит тоже связанный со светотенью поворот в живописи в конце XV века. «И только один живший в то время человек великого ума и великой души, — написал Эжен Фромантен в «Старых мастерах», — увидел в светотени более утонченное средство для выражения своих глубоких и возвышенных чувств, способ передать тайну бытия с помощью другой тайны. Это был Леонардо...»
Москвин хорошо знал Леонардо. И не только по роману Мережковского и монографии Акима Волынского, украшавшей библиотеки очень многих интеллигентных семей России. Он внимательно читал трактат о живописи, досконально изучил эрмитажные «Мадонны». Хотя относятся они к раннему периоду, цепкий глаз Москвина хорошо видел в них прямой путь к шедеврам светотени — «Джоконде» и «Иоанну Крестителю». Светотень для Леонардо — средство выражения чувств и своих, и тех, кого он изображает. Николай Ге прекрасно сказал, что Леонардо «первый ввел драму души, которую никто не касался». Сам Ге успешно использовал светотень для достижения глубин психологизма, но он же сумел раскрыть драму души средствами экспрессивными — напомню его «Голгофу». В «Шинели» Москвин передал драму героя экспрессивной графикой меняющихся контрастов, проникновения же в глубину души не было, да и задачи такой не было. В «Вавилоне» режиссеры поэтически воплощали пафос Коммуны и тоже работали на меняющихся контрастах, неуклонно реализуя их в ритме, стыке разных по атмосфере сцен, в стилистиче
ском решении целых линий (лирическая линия Продавщицы и Солдата; эксцентрическо-гротескная Хозяина, Депутата, Актрисы; бытовая поначалу, поднимающаяся до героики баррикады и расстрела линия коммунаров). В стилевых контрастах была опасность: фильм мог расползтись по швам этих линий, потерять цельность. А Москвин усиливал разностильность, находя для каждой линии и даже сцены пластическое решение, контрастное по отношению к другим. Но чутко следуя режиссерскому замыслу, он объединил все светотенью, прибавив к пафосу экспрессивных построений драму души.
Почему светотень способна на это? Эфрос написал, что Леонардо положил начало психологизму в живописи, открыв роль оттенков, силу малых величин. Думаю, что и Москвин открыл это для себя, всматриваясь в леонардовских мадонн, картины Рембрандта, других художников, анализируя изображение своих и чужих фильмов. Более того, он мог ощущать и прямую связь приема, возведенного Леонардо в основу живописи, с естественно-научным знанием, учением о бесконечно-малых, дифференциальным исчислением. Великий переворот в науке совершил Галилей, когда понял; характер движения определяет не сама скорость, а изменение ее — ускорение или замедление. Москвин осуществил этот великий принцип в операторском освещении; важна не сама яркость какой-то точки снимаемого объекта, а изменение яркости от одной точки к другой. Снова подчеркну: это не был сознательный перенос принципов философии природы на принципы создания художественного образа. Москвин вовсе не размышлял, снимая «Вавилон», о связи светотени и дифференциального исчисления. Но его глубокие знания основ науки, сформировав его мировоззрение, отражались в его художественной деятельности.
Роль оттенков, малых величин особенно наглядна в сопоставлении методов Тиссэ и Москвина. Тиссэ не дал определения своего метода, но в феврале 1929 года это сделал Эйзенштейн, написав об освещении: «Ощущение его как столкновения тока света с преградой, подобно струе брандспойта, ударяющейся по предмету, или ветру, сталкивающемуся с фигурой, должно дать совершенно по-иному осмысливаемое пользование им, нежели игра “дымками” и “пятнами"». Как раз в феврале 1929-го Москвин заканчивал «Новый Вавилон» с его игрой дымами и пятнами. Он тоже не оставил формулы своего метода, но за него это сделал Леонардо: «Наложи сначала общую тень на всю заполненную ею часть... затем клади полутени и главные тени. И таким же образом наложи заполняющий свет... а затем клади средние и главные света, также их сравнивая». В технологическом, на первый взгляд, совете заключен стержневой принцип светотеневой живописи: не только столкновение света и тени, но и проработка светов и теней, основанная на сравнении, то есть на различиях, переходах, изменениях.
Можно еще сказать, что метод Тиссэ скульптурен, а Москвина — живописен. Микеланджело считал, что скульптура строится на «убавлении», а живопись на «прибавлении». Подобный струе брандспойта, свет, убавляя детали, как и ракурс, подчеркивает объемную форму. Ракурс становится при этом самым важным средством выразительности. Поэтому в книге Нильсена, ученика Тиссэ, точке зрения и ракурсу посвящено втрое больше страниц, чем свету. В статье же Москви
на и Михайлова упомянуто о создаваемой точкой зрения камеры композиции кадра лишь в общем перечислении выразительных средств оператора, а весь раздел о них посвящен свету и тени, их способности «передачи зрителю атмосферы и тона сцены».
Слово «тон» здесь не случайно. «Прибавление» в живописи (насыщение картины оттенками, деталями при проработке теней и светов) как раз и создает тон картины, доводит ее до совершенства, до полной гармонии частного и целого. «Тон сцены» определяется ее световым строем. Можно говорить и о «тональности сцены», ее музыкальном строе. По Эйзенштейну, внутреннюю «пластическую музыку» в немом кино несла пластическая композиция фильма, и чаще всего эту задачу решал пейзаж. Но в «Шинели», «С.В.Д.» и «Новом Вавилоне» практически нет «чистых» пейзажей (даже пейзаж Парижа с химерой на первом плане скорее не пейзаж, а портрет зловещей химеры, перекликающийся с портретом «зловещей птицы» — Хозяина). Москвин создавал «пластическую музыку» и композицией кадра, и движением, но прежде всего светотенью. После «С.В.Д.» о нем заговорили как о мастере «зримой музыки», но фильм в целом нельзя было назвать «зрительной симфонией». О «Вавилоне» так сказать можно. В этом и ответ на вопрос, почему светотень была способна придать единство разностильным линиям фильма, контрастным пластическим решениям отдельных сцен.
Все дело в верном «тоне», верной «тональности». В хорошем музыкальном сочинении темы, эпизоды, части могут звучать в разных тональностях, но внутреннее их единство образует гармоническое целое. Единство это основано на проявлении лирического дара композитора, отношении к сложному миру, который он выражает музыкой. Немаловажная часть этого единства — строго выверенные связи каждой тональности с ритмом, тембром, длительностью, то есть с движением, преобразованием звуковой ткани. «Новый Вавилон» стал «зрительной симфонией», шедевром «пластической музыки», так как Москвин сумел проявить свой лирический дар и связал движение светотени и ее трансформации (от предельных контрастов до «узкой» гаммы серых оттенков) с ритмом, эмоциональным накалом каждого кадра и эпизода.
Лиризм изобразительного решения «Нового Вавилона» заслуживает особого внимания. Под лирикой обычно понимают прямое выражение в поэзии и музыке чувств и переживаний художника. Есть иная лирика, окрашивающая в какое-то настроение «объективные» по содержанию вещи. Вспомним Исаака Левитана с пронизывающей душу лирикой «Владимирки» или скромных пейзажей Плеса. Такой лиризм, позволяющий «фотографическим аппаратом писать картины оттенков, настроений», присущ Москвину. И, пожалуй, заметнее всего он сказался в портретах.
ПОРТРЕТЫ
На лице человека «написано все», потому что жизнь и есть борьба за лицо.
Михаил Пришвин
В 1979 году, в год пятидесятилетия «Нового Вавилона», в Праге вышел альбом «Советская кинематография двадцатых годов» с хорошо подобранными кадрами из фильмов Тиссэ, Москвина, Головни, Даниила Демуцкого и Михаила Кауфмана, снимавшего с Дзигой Вертовым. Альбом поучителен: он помогает увидеть и общий уровень работы, и различия художественной манеры лучших операторов того времени. Москвин представлен «Шинелью» и «Вавилоном»; кадров из «Вавилона» больше, чем из «Потемкина», «Матери» или «Земли». Это неожиданно. Вновь полистав страницы, замечаешь: большинство кадров из «Вавилона» — портреты. Видимо, они и привлекли внимание составителя альбома Ярослава Андела.
Первый разворот: два портрета работниц у пушек. Слева крупный план пожилой работницы, справа мать с ребенком на руках, взятая по пояс. Снято на солнце с небольшой подсветкой; по рассказу Жеймо, отражателями служили куски белой жести. Подсветку на натуре первым применил Тиссэ, используя зеркала; яркость подсвеченной части лица получалась такой же, как и яркость освещенной. Москвину же нужны и свет, и тень. Почти не снижая подсветкой естественный контраст, он проработал тени, передал всю гамму оттенков от бликов на лице до черноты волос женщины с ребенком и платка на плечах работницы. Действуют и иные выразительные средства: гордый поворот головы работницы, фактура грубой кожи лица, складки у губ и на лбу в сочетании с подчеркивающим скульптурность лица раскладом световых пятен создают образ волевой коммунарки, резко противостоящей портретам Актрисы с ее почти неестественно гладкой кожей или портретам канканной дивы в сцене бала.
Портрет матери с ребенком, напоминающий мадонн Возрождения, выражает мужество защитниц Коммуны с не меньшей силой. Москвин с тонким чувством гармонического равновесия вписал фигуру в мало подходящий для таких композиций горизонтальный прямоугольник экрана. Женщина смотрит на нас. Расположенное по оси кадра лицо ее, освещенное вечерним светом слева, довольно четко разделено на светлую и темную части. Плотно сжатые губы, тени под глазами (тень хорошо видна и на темной части лица: это леонардовский принцип наложения средних и главных теней на общую тень), блеск белков больших темных глаз — все подчинено главной задаче: передать решимость женщины бороться за Коммуну, за будущее своего ребенка. Но есть в этих портретах и нечто неуловимое, какая-то затаенная печать обреченности. Это идет от авторского знания судьбы героев, это и есть тот лирический нюанс, который трудно вычленить и который создает особую духовную напряженность портретов.
Не менее выразительны другие портреты в альбоме: Продавщица и старый коммунар в сцене расстрела; крупный план хохочущей Семеновой (свет снизу, широко раскрыт рот в черной рамке губной помады: это и оскал хищницы, и оскал разложения, смерти); Хозяин в
резком нижнем ракурсе. Закрывая альбом и вспоминая фильм, можно назвать еще крупные планы защитников баррикады, скажем, два кадра Анны Заржицкой (она смеется, угощая молодого коммунара, в ужасе смотрит на него, убитого версальцами), буржуа, издевающихся над пленными, десятки других портретов.
Характерность «коммунаров», «актеров», «буржуа», «прачек», «проституток», «солдат», набранных помрежами, придирчиво отобранных режиссерами, решала многое, но не все. Николай Кладо, участвовавший в работе над фильмом, рассказал, как снимали одного из буржуа в сцене бала (играл его водопроводчик Лазарев): «...пребывание Лазарева в ресторане сняли подробно, даже наладили взаимоотношения с соседями, ввели в среду — а в фильм попал лишь он сам, произносящий тост». Так снимались многие исполнители микроролей (зачастую опытные актеры, к примеру, Людмила Семенова или Евгений Червяков) — создавая в принципе «типажное» кино и зная, что в фильм войдет один кадр, режиссеры все-таки добивались, чтобы типажи не позировали, а проживали кусочек жизни персонажа. И тогда оказывалось, что в одном кадре на лице «написано все». А оператор так переносил это «все» на экран, что в трехсекундном кадре его мог прочесть и зритель. Порой этого добиваются выразительными деталями в костюме, на фоне. В «Вавилоне», как правило, нейтральный или размытый фон, костюм нередко уведен в тень, главное — лицо. Москвин отчасти шел тут за Делакруа, в романтических портретах которого (Шопен, Жорж Санд) образ поднят до высокого пафоса тем, как написаны сама фигура, лицо, а не соотнесением с фоном.
Казалось бы, в полную силу Москвин-портретист мог развернуться, создавая портреты основных героев фильма, найдя их сквозные световые характеристики. Однако в «Вавилоне» проявились особенности типажно-монтажного кино, иной, чем в «С.В.Д.», подход к тем портретам, где нужна была уже не характерность, а характер. В первых вариантах сценария характеры Актрисы, Хозяина, Журналиста и других были намечены, их разработке посвятили репетиции в киномастерской Козинцева и Трауберга (она уже два года была в составе Техникума сценических искусств; ФЭКС перестал существовать). Вот Журналист. Задуманный, по словам Герасимова, как «натура чрезвычайно мягкая, мечтательная, экзальтированная», в дни Коммуны оказался он «болтуном, оппортунистом, предателем революции... Для такого образа в картине не хватило места, и поэтому роль, в общем, не удалась, вышла куцей и внешней». Верно, в фильме осталось у него четыре коротких сцены. Но дело не в нехватке места. Изменился подход режиссеров: для типизированного Журналиста достаточно было выявления характерного. Огорчение артиста понятно, самооценка же слишком строга: в «куцей» роли осталось многое, найденное на репетициях, подхваченное в москвинских портретах, не случайно Журналист так запоминается. Москвин стремился к созданию психологических портретов с помощью светотени, «малых величин» проникая за внешнее. Тут играли свою роль и профессиональная задача, и неизменный интерес Москвина к человеку, его внутренней сущности.
Два главных героя — Продавщица и Солдат — типизированы в меньшей степени. Изменился и подход к ним Москвина, хотя и здесь он был разным. Солдат представлял в фильме крестьянство. Он не
желает воевать, устал, хочет домой, не понимает, за что борется Коммуна. Смятение, смертельная тоска застыли в его глазах, во многих кадрах обращенных прямо к зрителю. У Соболевского глаза светлые, северорусские. Москвин мог их «притемнить», но он снимал так, что глаза кажутся еще светлее: возникает не замечаемый, подсознательно действующий контраст с темными глазами Продавщицы, Журналиста, исполнителей маленьких ролей, типажно выбранных под французов. Это еще более заостряет одиночество Солдата. Соболевский сыграл не столько сложный, сколько еще не ставший сложным характер человека с непробудившейся душой. Москвин не менял световую и фактурную характеристики Солдата, ибо не меняется его характер — он так ничего и не понял и в финале безропотно копал могилу Продавщице, которую любил.
Солдат с его отчаянием, непониманием происходящего еще не начал «борьбу за лицо». Продавщица начала и довела до конца. Сыгравшей ее Елене Кузьминой не было девятнадцати, когда в киномастерской пошли репетиции. Опыта у нее не было, но за успехи на уроках киноигры (их вел Козинцев) и взрывной темперамент ей дали репетировать главную роль и в ноябре 1927 года сняли кинопробу. Кузьмина вспоминала, как Москвин «очень холодно глядел на меня через толстые, отсвечивающие очки и сказал: “Хм..." Когда мы выходили из комнаты, Москвин крикнул вслед: “Грима не надо!”» По эскизу Енея ее одели в черное, поношенное платье, накинули на плечи старый платок, взбили волосы вверх. Снимали на фоне серой стены. Москвин командовал: «Нос вправо! Нос налево! Посмотрите в аппарат... Покрутитесь... Медленнее, медленнее! Выдайте улыбку... У меня все». Сняли пробы ещё нескольких актрис, но все они режиссерам не подошли: «Нам нужна была француженка, — рассказывал мне Трауберг. — Мы представляли героиню типа Нади Сибирской, с которой познакомились в Париже» (экзотический псевдоним дал своей жене-француженке русский режиссер Димитрий Кирсанов). Искали новую актрису долго, а весной 1928-го, когда надо было уже снимать, остановились на Кузьминой.
12 мая Кузьмину утвердили на роль. Через 50 лет Трауберг заметил: «Конечно, очень многое зависело от Москвина, а он считал, что Кузьмина справится, и постарался». Москвин нашел свет для каждого поворота (Кузьмина, видимо, не сочла важным сказать, что после очередного «Нос налево!», он поправлял свет). Это позволило выявить выразительность лица, доказать, что круглолицая и курносая Кузьмина может выглядеть на экране француженкой. Но этого мало, чтобы показать путь от наивной, ребячливой девушки до коммунарки, идущей на расстрел.
«У нас до сих пор не понимают, что оператор не только фиксирует создаваемый актером образ, но и создает его вместе с ним», — писал в 1935 году Козинцев, утверждая, что при всей замечательной игре Кузьминой роль «никогда бы не удалась такой, какой она вышла, если бы ее снимал не Москвин». По мысли Козинцева, Москвин «с исключительной остротой уловил замысел роли и природные данные актрисы». Думаю, суть дела глубже: «уловив» режиссерский замысел и возможности «природных данных», Москвин еще и сам «вскользнул» в образ Продавщицы, в индивидуальность Кузьминой, чтобы помочь ей «в сложном процессе взаимного проникновения персона-
«Новый Вавилон». Кадры из фильма
Распродажа. Продавщица (Е Кузьмина).
Расстрел коммунаров. Продавщица.
Театр Актриса (С.Магарилл).
жа — исполнителем и исполнителя — персонажем». Это слова Эйзенштейна; он говорил о «вскальзывании» режиссера в образ и актера. Москвин в большой степени оказался режиссером и исполнителем роли, ибо сумел, «вскользнув», проникнуть в психологию героини и своими средствами раскрыл драму ее души.
«Светом он лепил ее лицо как скульптор, — это снова Козинцев. — Он достиг такой экспрессивности размещения фигуры в кадре и освещения ее, что сложную игру удавалось строить на короткометражном куске». Вспомним любую сцену: бал, где крупные планы Продавщицы залиты светом от камеры, а на образ работают мелькающие пятна на фоне; сцену прощания с Солдатом, где все решено сильным контровым светом; финал с резким светом от прибора сбоку и «бисером» подсвеченных капель. Высочайшее мастерство видно даже в проходных, информационных кусках.
«Всеобщая распродажа». Контрастные по свету и композиции, заполненные безумным, судорожным движением сцены проводов на фронт, ресторана, ажиотажа патриотизма и ажиотажа распродажи. Как прямое продолжение этого движения — первое появление Продавщицы. Рассмотреть ее не успеваешь: взмахнув тканью, она перекрывает ею весь экран. Надувшись, ткань медленно, как занавес, опускается, открывая улыбающуюся героиню в левой части кадра. Замедленное движение ткани, резко контрастное пре-полненных бурным движением предыдущим кадрам, подчеркивает значение этого портрета. Лицо освещено мягким светом с небольшим световым акцентом от прибора сверху слева. Новый взмах ткани. Пока она опускается, Продавщица перемещается в центр кадра; освещение совсем мягкое, почти бестеневое. Героиня с гладким, еще немного детским лицом, продолжает движение к правой части кадра, снова растягивает ткань, но так, что лицо уже не перекрыто. Оно выходит из основного переднего света и становится чуть темнее, сразу сильнее блестят глаза и зубы. Ее захватила лихорадка распродажи, и с каждым
подъемом ткани как бы нарастает крик «Дешево продается!» (надпись сменяет кадр). Достигнуто это тремя фазами освещения лица: от небольшой тени в начале к полному высветлению в середине и к ликующему блеску глаз и зубов в конце.
После надписи и портретов Хозяина в ресторане — новый крупный план Продавщицы. Освещение чуть контрастнее. На фоне нерезко, намеком виден обтянутый кружевами проволочный манекен женской фигуры. В кадр врезана надпись: «Продавщица (Е. Кузьмина)». Снова перебивка: ресторан, к Хозяину подошел Приказчик, получил распоряжение о Продавщице (надпись «На десерт...»). Магазин, средний план: Приказчик протянул Продавщице конверт. Ее крупный план, три четверти влево. У Кузьминой своеобразное, скуластое лицо; в фас, при переднем свете оно выглядит круглым, в три четверти — вытянутым, угловатым. Москвин усиливает это светом: вводит новый прибор сверху справа. Лицо «вытянулось», появилась заметная тень: Продавщица испугана, боится неприятностей. Надпись: «Расчет?» и — манекен по пояс очень резко. Затем более общий план, манекен снова во весь рост, в центре маленькая фигурка Продавщицы опять в три четверти. Надпись: (слова Приказчика) «Дирекция дарит Вам билет на вечерний бал». Крупно: Продавщица смотрит на билет, голова наклонена влево. Она начинает улыбаться, поднимает голову и поворачивается на камеру. Лицо попадает в свет прибора спереди и становится светлее, тени сразу смягчаются.
В этой сцене Кузьмина играет короткие куски: ажиотаж распродажи в одном кадре, испуг в другом, быстрый переход от испуга к радости в третьем. Она еще скована, это отвечало режиссерской задаче: за ребячливой внешностью — девушка скромная, не подозревающая о своей силе. Москвин выявил светом, точной фиксацией поворотов внутреннее состояние Продавщицы, дал почувствовать ее темперамент. Он усилил эмоциональный эффект, используя как пластический мотив блестящую находку Енея — манекен. Пустой каркас, обвитый кружевами, увенчанный кукольной головкой, введен почти незаметно. От кадра к кадру он резче, крупнее, после надписи «Расчет?» занял на полсекунды весь экран. Манекен — символ украшенной пустоты Второй империи, и пустоты существования Продавщицы в случае расчета, и душевной пустоты, грозящей ей, если она продастся Хозяину. Символ дешевой распродажи снова явится в сцене баррикады: Продавщица протянет наступающим солдатам ткань, стоя на баррикаде рядом с горящим манекеном, иступлено крича «Дешево продается!» А в кульминационном кадре окажутся рядом мертвое, кукольное лицо манекена и прекрасное, живое лицо Продавщицы. Москвин удивительно смело осветил тут Кузьмину сильным светом снизу, в принципе ей противопоказанным, ибо он подчеркивал ее широкие скулы. Но в этом кадре резкий переход к такому свету работает по эйзенштейновской формуле пафоса как «выхода из себя», доводя до предела экспрессию портрета. И лицо остается прекрасным!
В этом неожиданном по свету крупном плане хорошо видна разница в работе над портретами главных героев: постоянная световая и фактурная характеристика Солдата и непрерывно меняющийся свет для Продавщицы. «От голубой дымки бала-мобиля до черной бронзы расстрела на кладбище Пер-Лашез прошла целая человеческая
жизнь, все элементы которой были найдены и выражены с помощью одного и того же лица, не прибегая ни к одному штриху грима» (Козинцев). Да, Москвин «написал на лице» Елены Кузьминой целую человеческую жизнь.
СВОИ голос
Важно в литературном... да впрочем, я думаю, и во всяком другом таланте, то, что я решился бы назвать своим голосом. Да, важен свой голос\
Иван Тургенев
Из воспоминаний Трауберга: «Еще подле ленинградской студии — большой рынок; мы с Москвиным в перерыве между съемками “Нового Вавилона” бежим вдвоем — по-мальчишески — к ларькам, закупаем традиционный стакан небывалых сливок и какую-то чудесную сдобу, пьем, закусываем, едим, молчим, глядим друг на друга и смеемся — изо дня в день. Непонятно, почему смеемся, чему радуемся. Или понятно — тому, что трудимся, что живем, что вместе...» На «Вавилоне» снова было как на «Шинели»: радость труда, ощущение, что получается задуманное, чувство уверенности, что говоришь своим голосом. Признаки его есть уже в «Чертовом колесе», в «Шинели» он обретен. Опыт первого шедевра развит в контрастных по свету эпизодах «С.В.Д.». В «Братишке», «Чужом пиджаке», в сочетании дыма и мягкорисующей оптики в «С.В.Д.» Москвин проверял принципы светотеневой трактовки пейзажа и портрета. В органично соединившем две линии «Новом Вавилоне» свой голос зазвучал с новой силой.
«Свой голос» в кино — не только свой стиль, но и свой голос в коллективе мастеров. В театре и музыке есть понятие ансамблевого творчества: «...состояние, при котором если один делает что-то непредвиденное, но достоверное, остальные подхватывают его и отвечают на том же уровне» (Питер Брук). Но ансамбль — не единогласие, не унисон, а аккорд, гармония. И не просто коллектив единомышленников. Литовский режиссер и актер Юозас Мильтинис (Москвин будет его снимать, и они подружатся) предложил иную формулу — «коллектив художников с общими идеалами». Каждый — художник и каждый «сохраняет свою своеобразность» (Москвин), тогда будет весом его вклад в движение к общему идеалу, в общий голос коллектива.
При несходстве любого фильма Эйзенштейна или Пудовкина с предыдущим в 1920-е годы они оставались в рамках своего «генерального» направления. Каждым фильмом фэксы стремились выйти на новое направление. Теперь они вели бой тоже на чужой территории, но уже не в тылу врага, а на территории друзей, поэтического, типажно-монтажного кино. «Вавилон» Козинцев назвал «самым эйзенштейновским из всех моих фильмов». Они не подражали чужому стилю, шли своим путем. В «Глубоком экране» приведены слова Эйзенштейна: «1924-1929... — под ведущим знаком монтажных и типажных устремлений». У Эйзенштейна эпитеты стоят наоборот! Описка Козинцева характерна и связана с иным пониманием типажности. У Эйзенштейна это показ людей «в минимально “обработанном” и пе
реработанном виде», и если бы водопроводчик Лазарев снимался в пиджаке рабочего или в сюртуке министра в кадре «Октября», он позировал бы, оставаясь знаком рабочего или министра. В «Вавилоне» режиссеры заставили его прожить кусочек жизни парижского буржуа. Разница в подходе определяла и операторские решения: «скульптурность» Тиссэ подчеркивала «необработанность» типажа, «живопись» Москвина прямо связана с его «обработкой».
Киноживопись позволила активно включить в действие фон. При «скульптурной» съемке человека или других объектов первого плана фон пассивен и, естественно, оператор уделяет ему меньше внимания (в «Потемкине» и «Октябре» легко найти стоящие рядом кадры одной сцены, в которых фон выглядит по-разному; самый яркий пример — знаменитые три кадра поднимающегося каменного льва). Москвин использует фон как значимый элемент кадра, порой даже более значимый, чем первый план. Это придает объемность изображению и позволяет, как в музыкальной полифонии, вести сразу несколько тем. Показательны в этом отношении среднеплановые портреты на фоне бала или появляющийся как фон портретов Продавщицы кружевной манекен.
Ко многим кадрам Москвина можно отнести слова Роберта Фалька: «Фона нет. Все одинаково важно, каждый квадратный сантиметр холста должен быть полноценным, даже драгоценным». Плотность, емкость изображения для Москвина принципиальны, каждый квадратный сантиметр экрана драгоценен, ибо насыщается не любым изображением, лишь бы не быть пустым, а изображением образным, прямо или сложно, контрапунктически связанным с изображением в соседних квадратных сантиметрах. Уже в 1925 году Москвин подчеркнул в книге Балаша слова «образ нельзя сократить» и написал на полях: «О сокращении». Образная емкость кадра, при которой ничего нельзя убрать или добавить, была для Москвина проявлением любимого им диалектического принципа «необходимого и достаточного». Он понимал еще и сложную диалектику частного и целого, чувствовал, что важна связь каждого участка кадра не только с соседним, но и с соответствующим участком следующего кадра. При таком подходе кадр мог занять в монтаже только то место, для которого он снимался. Тут тоже отличие от фильмов Эйзенштейна: кадры «необработанного» материала можно менять в монтаже, переставлять из фильма в фильм (Шкловский писал в связи с работой Тиссэ: «Рассвет у него очень художественен, но он годится и в другие картины»),
Козинцев и Трауберг стремились соединить типажно-монтажный метод с актерским кино, зная, что это не получится, если дать лишь хронику Коммуны. Нужен был эпос, окрашенный лирикой. Козинцев добивался лиризма, работая с актерами, особенно с Кузьминой, но типажные обобщения не давали ему проявиться в полную силу (отсюда недовольство Герасимова). Расчет мог быть на то, что лиризм, поэтичность обобщения принесет подача материала, само изображение. Понимая это, Еней построил декорации лаконичные, но несущие большой образный заряд. Предел лаконичности и образности — декорация кладбища: могильный крест, статуя мадонны, стена. Последнее слово — за Москвиным. Светотенью, активным фоном он придал режиссерским мизансценам, актерской игре, выразительности типа
жа и декораций подлинную полифоничность: добившись полнозвучия главных тем кадров, ввел дополнительные, включая такие, что лейтмотивно прошли через фильм, а главное ввел лирические, авторские темы. Они проявляются по-разному: как предчувствие судьбы в портретах работниц, как разоблачение безразличия Бога, церкви к участи коммунаров (чуть высвеченная Мадонна в кадрах финала), как ироническая стилизация любимого сюжета импрессионистов (расположившись на траве, буржуа наблюдают в бинокль за наступлением вер-сальцев). Примеры можно добавить, но достаточно и этих, чтобы выделить два момента. Москвин работает на грани перехода к символическому значению объектов второго плана (напомню опять-таки кружевной манекен), но не переходит ее, удерживая близкие к символам образы на уровне «побочной темы». Второе: лирические темы Москвина, конечно, авторские, они идут от его личного отношения к происходящему в кадре, но они отвечают и общему идеалу коллектива, «крепко соединенного своим оператором Москвиным», как написал Шкловский еще в 1927 году.
Свой голос Москвина был силен и непривычен, и растерянная критика стала искать источники, параллели, стилизацию. Нашли легко: Франция, 1871 год, Золя, импрессионизм. Журналистский штамп подкрепил Козинцев: на совещании операторов 1933 года он сказал, что Москвин, идя за импрессионистами, внес в фильм воздух, а традиции и знания, полученные от живописи, повисли «тяжелым грузом на шее нашего операторского творчества». Позже «импрессионизмом» этот груз пытались облегчить. В начале «оттепели» Семен Гинзбург писал, что влияние импрессионизма прогрессивнее влияния экспрессионизма в предыдущих работах (вспоминаю обвинения в импрессионизме скульптора Екатерины Белашовой и ее ответ: «Это не так уж и плохо. Главное, натуралистом никогда не считали»). Аменгуаль защищал право фильма на импрессионизм, перефразируя известную поговорку: «История обязывает. Французский импрессионизм это ключ, как материальный, так и духовный, к обществу того времени».
История, конечно, обязывает. И Москвин очень хорошо знал импрессионизм, его идеи, метод, даже технику. «Еще в 1920-е годы, — вспоминал Головня, — мы ходили с Андреем Москвиным в Щукинскую галерею на Воздвиженке. Москвин любил Мане и Ренуара, но не подражал им и тем более не “имитировал” их, ему нравился “Кабачок" Мане, и я помню его реплики о том, что “и живопись не всегда требовала резкости”. Он любил Ренуара за то, что тот умел “поправить натуру”». Полемизируя со словами Николая Лебедева о «подлинном празднике импрессионизма» в «Новом Вавилоне», Головня говорил о гораздо большем влиянии на Москвина русской живописи: «...нам тогда были значительно ближе и понятнее наши мирискуссники... Нашим идеалом был Валентин Серов...». Головня хорошо знал Москвина в те годы, он сам оператор, к его мнению стоит прислушаться. Особенно к такой фразе: «Оптическое видение мира сложилось у Андрея Москвина, ленинградца по рождению и воспитанию, прежде всего под влиянием удивительной ленинградской природы, неповторимых белых ночей».
Собственное оптическое видение мира Москвин неустанно подкреплял изучением мировой культуры, включая и импрессионистов.
В Музее нового западного искусства было много их картин, но если уж говорить о прямых перекличках, то кроме специально задуманной стилизации в кадрах буржуа на траве можно назвать лишь маленькую картину Жана Луи Форена «Мюзик-холл», к ней близок стиль сцены бала. Не менее внимательно Москвин изучал Домье, связь его работ с пролетарскими сценами фильма бесспорна. Изучил он и литографии художников Коммуны, привезенные из Парижа Козинцевым, картины Камиля Коро и барбизонцев в Эрмитаже (скажем, «Отправление на рынок» Констана Труайона с контровым солнечным светом в насыщенном утренним туманом воздухе могло прямо подсказать световой эффект многих кадров), там же Делакруа и темные по колориту полотна академистов Шарля Шаммартена, Октава Тассара (после «Вавилона» заговорили о «темной фотографии» Москвина), «Любительницу абсента» Пабло Пикассо из Щукинской галереи: она ближе кадрам подвыпивших девиц в сцене бала, чем пышнотелые девушки Огюста Ренуара и Эдгара Дега. Это французские художники. Но если подумать, вслед за кем Москвин внес в фильм воздух, то первым окажется Серов, его «Девушка с персиками». Можно и нужно назвать и светотень Леонардо, психологические портреты Рембрандта. Готовясь к фильму, Москвин, как и Еней, смотрел репродукции фотографий Эжена Атже и Надара. Он изучал все, учился у всех. Но у него был свой голос. «Пережитая» им мировая культура (добавлю к живописи поэзию, музыку) была лишь стартовой площадкой для полета собственной фантазии.
В том же 1933 году, когда Козинцев заявил, что Москвин шел за импрессионистами, Блейман написал в связи с «Вавилоном» о «канонах романтической поэтики». Это верно: для коллектива Козинцева и Трауберга фильм стал вершиной романтического этапа его развития (кстати, импрессионизм в принципе искусство антиромантическое). И именно романтический пафос, созданный ансамблем мастеров, в котором каждый, по Бруку, подхватывал начатое другим, определил художественное качество фильма, которое позволило новому члену коллектива Дмитрию Шостаковичу, по его словам, «сохранить непрерывный симфонический тон» в музыке.
Приход Шостаковича — событие для коллектива и лично для Москвина: они скоро почувствовали взаимную приязнь. Шостакович легко вошел в коллектив: он был художником того же направления, что и молодые режиссеры, Москвин, Еней. Имя Шостаковича, как и имена Мейерхольда или Эйзенштейна, было знаменем новаторского искусства двадцатых. «Новый Вавилон» стал одним из последних его взлетов.
Гпава шестая
ПОВОРОТ
«ОДНА»
— Так что тебя выше, скажи, о гора? — Выше меня — дорога!
Уйгун
Они были верны себе — проложив маршрут к еще одной вершине, не успокоились, стали искать новую дорогу. Впрочем, успокоиться было трудно: во-первых, хотя они и сумели осуществить задуманное в «Вавилоне», зрители фильм не приняли, во-вторых, время было переломным и для страны, и для искусства. Весной 1928 года Тынянов писал Шкловскому: «Я думаю, мы многое ущупали, и теперь пришло время понять и это, и самих себя». Козинцев, Трауберг, весь их коллектив тоже многое ущупали — в «Вавилоне» они достигли зрелости, но и им надо было понять самих себя.
Шкловский, размышляя о смене художественных систем, показал, что возможно «диалектическое столкновение и переосмысление поэтических систем в одном произведении, что часто ощущается самим поэтом». Такое столкновение происходит и у разных произведений внутри одной системы. Эйзенштейн так определил характер воплощения темы в «Броненосце» и «Матери»: «...большими эпическими потоками у меня и “сквозь человека” у Пудовкина». В начатой «Матерью» линии типажно-монтажного кино, включающего элементы кино актерского (прежде всего в заглавной роли, которую играла Вера Барановская) было предчувствие нового этапа, когда принцип «сквозь человека» станет главенствующим. «Новый Вавилон» — попытка объединения обоих способов воплощения темы, но Кузьмина и Соболевский актерски были куда менее опытны, чем Барановская, и за них «играл» монтаж и, особенно, Москвин. «Новый Вавилон» — это и при-
мер диалектического столкновения поэтических систем в одном произведении, которое сами авторы не ощущали. И думая о новом фильме, они понимали, что нужны и новая тема, и новая форма.
Обо всем этом легко говорить сейчас, а тогда, в начале 1929-го, «изнутри», так сказать, все было совсем не просто. В марте, когда «Вавилон» еще не вышел на экран, появилась статья Эйзенштейна, в которой была изложена его теория интеллектуального кино. В конце статьи автор «прошелся» по рапповской теории «живого человека». Для Козинцева, Трауберга и их друзей авторитет Эйзенштейна был велик, но они дружили и с одним из руководителей РАППа Александром Фадеевым (Трауберг вспоминал вечер 1929 года у Москвина: «...сидя с Козинцевым, Юткевичем и мною, Фадеев, веселый и несказанно красивый, говорил нам: “Вы, друзья, даже не подозреваете, каким неслыханно богатым будет ваше кино через полсотни лет!”»). Творческая практика Эйзенштейна и Фадеева была гораздо шире их теорий, и создатели «Вавилона», как чуткие художники, если не понимали, то чувствовали это, но силу и обаяния Фадеева, и интеллекта Эйзенштейна тоже нельзя преуменьшать. И это всего лишь один из примеров разнонаправленных тенденций, на перекрещении которых они оказались.
Для кино время было переломным вдвойне, смена поэтических систем совпала с коренным изменением техники. В марте 1929 года Александр Шорин впервые показал в Ленинграде экспериментальные звуковые фильмы. Москвин следил за развитием новой техники по русским и немецким журналам, а когда на фабрике появились инженеры лаборатории Шорина, сразу же познакомился с ними. Козинцев и Трауберг в начале 1929-го взялись за сценарий звукового фильма. О своем подходе к звуку они написали: «Нашу картину мы будем строить не на хаотическом введении ряда звуков, изображающих те или иные чисто натуралистические моменты, а на организованном введении в монтаж звуковых кадров, монтирующихся с кадрами зрелищными, а не сопровождающих их». Этот подход связан с идеями «заявки» Эйзенштейна, Пудовкина и Александрова, появившейся годом раньше. Как и авторы «заявки», Козинцев и Трауберг считали, что звуковое кино должно сохранить достижения немого, хотя и не очень-то представляли, как это осуществить на практике. Зато они хорошо знали: на первом плане в фильме будут не исторические события, а человек. «В слове “Одна” теперь трудно услышать что-то странное... — вспоминал Козинцев, — но по тем временам название было полемическим. Мы вступали в спор». Спор шел с поэтической системой новаторского кино 1924-1929 годов, стало быть, и с собственным «Новым Вавилоном».
Из книг по истории кино можно узнать, что факт, на котором построен сюжет «Одной», Трауберг нашел в газетной заметке. Но мало кто знает, что был еще и сюжет кинохроники, его снял оператор Ленинградской фабрики Ансельм Богоров: в карельский поселок Пудож прилетел самолет, чтобы увезти в Москву обмороженную учительницу. Москвин знал Богорова еще по Кинотехникуму, где он учился вместе с Гордановым. Вероятно, он видел сюжет, снятый Богоровым: он старался смотреть все, что снимали операторы фабрики. В любом случае ему было известно, что такая хроника есть. Это придало его рабо
те новый оттенок, заставляло, может быть и неосознанно, стремиться к объективной подаче материала. Но в сценарии до истории с самолетом была еще развернутая предыстория: наивные мечты будущей учительницы о жизни, как празднике, желание остаться после института в Ленинграде, трудные первые шаги в алтайской школе, столкновение с местным баем и бюрократом — председателем сельсовета, покушение на ее жизнь. Выбор Алтая, а не близкой Карелии —дань экзотике, но была и более серьезная причина. «Бывают периоды, когда необходимо и в жизни и в работе круто “перегнуть палку" в обратную сторону. После командировки в Париж следовало поехать в другом направлении», — написал об этом Козинцев.
Вступив в спор, режиссеры поставили в центр фильма становление характера учительницы Кузьминой (назвав ее по фамилии актрисы). Они еще не до конца доверяли и себе, и актрисе, придумывали эпизоды, изобразительно раскрывающие внутренний мир героини. Таким был и развернутый, эксцентрически решенный эпизод «мечты», требовавший иных операторских средств, чем сцены «объективные». Окончательные решения — и драматургические, и изобразительные — режиссеры и оператор нашли во время первой поездки на Алтай в сентябре-октябре 1929 года. «Мы ожидали экзотического материала, — написал Трауберг, вернувшись домой. — Самое экзотическое было то, что ничего экзотического не было». Зато началась коллективизация, и отправлявшимся в горные деревни кинематографистам выдали оружие.
В конце октября приступили к павильонным съемкам, в феврале снова были на Алтае, потом на Байкале сняли сцены с замерзающей Кузьминой. К лету 1930 года сняли все, кроме синхронных кусков, — звуковая техника не была готова. В поощрение за хорошую работу режиссеров и Москвина послали в творческую командировку в Одессу. Там же у моря Москвин провел отпуск, в конце сентября вернулся в Ленинград и со свежими силами бросился на штурм звукового кино.
Силы и вправду нужны были немалые. Бесшумных камер для синхронных съемок еще не было, оператора с обычной камерой загоняли в тесную звуконепроницаемую будку; съемка велась через застекленное окошко. После каждого дубля Москвин выскакивал из будки мокрый от пота. Отдышавшись, снова залезал внутрь. Съемки шли медленно, у звуковиков часто что-то ломалось, и все время, что Москвин был вне будки, он проводил в комнате, где колдовал у шоринского аппарата звукозаписи Илья Волк: родственную душу Москвин распознал в нем сразу.
Волк был на три года старше, но в Технологический институт попал только в 1921 году, когда Москвин уже был в Путейском. Институт Волк тоже не окончил, помешали увлечения мотоциклом и радио: он был в числе первых советских мотогонщиков и сооружал первые советские радиостанции. Заинтересовался звуковым кино, в начале 1930-го пришел на кинофабрику в звуковой отдел. Москвину импонировали его смелость, скромность, разнообразие интересов, музыкальность. Очень скоро они перешли на «ты», что с Москвиным случалось крайне редко. Волк пришелся ко двору и в коллективе, и так же, как Шостакович, остался в нем навсегда.
«Одна». Кадр из фильма. Собрание, выступает председатель сельсовета (С.Герасимов).
9 марта 1931 года, в разгар дискуссии о формализме, дирекция фабрики приняла фильм. Протокол написан в духе времени: «Картина не затруднена, как это часто бывало у Козинцева и Трауберга, нарочитой сложностью монтажа, композиций кадров, точек съемки и освещения... Большим шагом к
преодолению эстетизма и формализма является работа оператора Москвина, отказавшегося от многих бывших свойственных ему приемов затемненной съемки и давшего фотографию отчетливую и эмоционально доходчивую». На экран фильм вышел 10 октября, вызвав очередную критическую бурю. Писали о мелкобуржуазности мировоззрения авторов, эстетизме формы, обвиняли в прославлении жертвенности. Даже два года спустя Пиотровский говорил про печать трагического жертвенного принятия революции в «С.В.Д.», «Новом Вавилоне» и «Одной». Все это — дань текущему моменту. Ближе других к истине был Михаил Девидов, отметивший, что в «Одной» Козинцев и Трауберг многое преодолели, ни от чего ценного не отказались и многое приобрели.
Это полностью относится и к Москвину. Так, в протоколе приемки сказано об отказе от «затемненной съемки», а он вовсе не отказался от нее, как и от принципа разного решения сцен. Светотональная композиция фильма — кольцевая, подобная музыкальному «рондо»: светлое начало в Ленинграде, серые натурные сцены Алтая (в них врезаны темные сцены в избе и в юрте), светлый финал — замерзающая Кузьмина, спасение. Кольцевая композиция фильма откликается и в композиции отдельных кадров: дети, окружившие учительницу, всадники-алтайцы вокруг председателя.
Сентябрь 1929 года. «Одна». Горный Алтай. Москвин сфотографирован на фоне «тайлги» — шаманского знака.
Что же Москвин приобрел? Сразу надо сказать о более активной роли пейзажа. Плоские, какие-то пустые алтайские долины с горами вдали и белесым небом создавали ощущение беспокойства, даже враждебности, и Москвин передал это ощущение. Но даже в кадрах приезда Кузьминой в село он не педалирует враждебность пейзажа, не обыгрывает и шаманский знак «тайлгу» — наброшенную на жердь шкуру лошади с оскаленным черепом. Почти во всех кадрах на первом плане — люди или предметы быта. Пейзаж обжит, это заставляет проникнуться его своеобразной красотой, и делает понятным, что полюбить этот край помогли учительнице не только тянущиеся к ней дети, но и сама на первый взгляд недружелюбная природа. Иное дело финальные сцены: «белое безмолвие» заснеженной степи было не просто равнодушно к судьбе героини, а прямо враждебно. Чтобы передать это, Москвин часами стоял по пояс в снегу на Байкале, выжидая, когда тучи пройдут мимо низкого солнца и их огромные тени предвестниками недоброго заскользят по бескрайней белой пустыне.
Не менее важными для операторского решения были портреты героини. Москвин, казалось бы, мог снимать Кузьмину «документально», ему уже не надо было делать из нее француженку. Но против него было то, что в «Вавилоне» он использовал с таким успехом — «трудное» лицо, очень разное в разных поворотах. Пришлось повозиться со светом, чтобы во всех кадрах сохранить отвечающую складу юной учительницы милую округлость лица, точно определить повороты головы, при которых нельзя было подправить лицо светом. И Москвину удалось то, чего потом никто так и не смог добиться. В воспоминаниях Кузьмина нашла для Москвина прекрасные слова и совсем иначе отозвалась о других операторах; о замечательном мастере Борисе Волчеке, снимавшем ее во многих фильмах Михаила Ромма, сказано: он лишь «делал попытки сносно снимать меня».
Сдержанно, местами и впрямь документально снял Москвин суровую природу Алтая, учительницу, преодолевшую одиночество любовью учеников, самих учеников с их круглыми личиками и узкими монгольскими глазами, бая, председателя сельсовета — ленивого, довольного собой бюрократа (его в полную силу, как бы беря реванш за «Вавилон», играл Герасимов). Москвин, разумеется, мог эффектно «подать» пейзаж, «тайлгу», довести портреты Кузьминой, маленькой алтайки Тайхан, особенно Герасимова и бая до патетического обобщения, но не делал этого, чувствуя требования новой поэтической системы — обобщение вырастало в ней из реалистического рассказа о судьбе отдельного человека. Снятые в узкой, но богатой оттенками серой гамме сцены вновь показали умение Москвина ограничиваться необходимым и достаточным.
Путем ограничения решалось и начало фильма. Москвин пробовал снимать «белое на белом» еще в период Амогора: так снят портрет Горданова 1924 года. В кино он первым у нас использовал это в «Чужом пиджаке»; в «Одной» уже уверенно работал в узкой гамме, сдвинутой в светлую область. В мечтах Кузьминой она и ее жених, одетые в белое, едут в белом трамвае на фоне выбеленного солнцем города и неба, а ликующий тенор выводит разнообразными руладами фразу «Какая хорошая будет жизнь!» Также сняты кадры утреннего пробуждения (белоснежные белье постели и ночная рубашка, фон — бе-
«Одна». Кадр из фильма. В доме председателя сельсовета. Учительница (Е Кузьмина).
лая стена) и другие кадры этих и впрямь очень светлых сцен. Есть и прием из арсенала ФЭКСа — эксцентрическое обыгрывание вещей. До блеска начищенные кастрюли, никелированная кровать с бликующими шариками на спинках, нелепый трамвай в гирляндах белых цветов стали симво-
лом мещанской мечты.
Технически снимать было очень сложно (малейшая ошибка в экспозиции — а определялась она на глаз! — давала или полное разбелива-ние изображения, когда уже ничего не видно, или изображение тускло серое), но «белое на белом» позволило решить задачу остраненного показа мечты о «хорошей жизни». Было тут пародирование фэксов-ского стиля с его кадрами-обобщениями и вещами-символами. Пожалуй, и трамвай — прямой отыгрыш слов из рецензии Пиотровского на «Октябрину»: «...трамвай катится как иероглиф мещанства». Чтобы усилить эффект прощания с юношеской романтикой, режиссеры и оператор противопоставили этому эпизоду реализм алтайских сцен, и особенно сцену у председателя, создав в ней предельно сгущенный, но тоже реалистический образ домостроевского, закостенелого быта.
Москвин снова снимал в узкой гамме, но теперь сдвинутой в сторону «темного на темном»: прокопченная изба с черными стенами, темная одежда всех персонажей. Изба просторная, света мало, так что стены почти не видны (Еней, вероятно, по просьбе Москвина, сделал декорацию без окон), предметы скудной обстановки, сливаясь со стенами, только угадываются. Портреты жены председателя притемнены, кажется, будто и она готова слиться со стенами, стать незаметной. Мрачная пластика подхвачена звуком: храп спящего на печи председателя наложен на заунывную песнь его жены. Появление в избе Кузьминой (несмотря на протесты жены, она будит председателя и безуспешно требует решительных действий против бая) почти буквально «луч света в темном царстве»: ее лицо заметно освещено неизвестно откуда, что, к сожалению, внесло диссонанс в верно взятый тон мрачного реализма, ибо для психологического оправдания нереального света он все-таки слишком силен.
Мария Бабанова играла малюсенькую роль жены, поддавшись на уговоры Козинцева. Она уже имела опыт съемок в немом кино, но, как и многие артисты, страх перед микрофоном преодолевала с трудом. Страх даже помог ей сыграть запуганную женщину, но не все портреты, снятые Москвиным, были на высоте созданного ею образа. Хорошо сыгранная Бабановой, Кузьминой и Герасимовым сцена — одна из
117
самых сильных по драматическому накалу, но снята неровно. В светлых сценах Москвин был абсолютно точен, а в темных, более привычных, местами «перегнул палку», перетемнил. Однако обе темные сцены (вторая — пляска шамана в юрте) стали на свое место и придали изобразительному стилю фильма окончательную завершенность.
«Одна» — типично переходной фильм: уже не немой, но и не совсем звуковой, уже ушедший от старой поэтической системы, но еще не во всем отвечающий новой, к которой шли его создатели, многое меняя в ходе самой работы. Москвину «Одна» помогла в накоплении технического опыта, главным же для него, как и для всего коллектива, было то, что они вплотную погрузились в реальную жизнь страны с ее сложностями, трагедиями и победами. В этом смысле дорога, пройденная с «Одной», была не менее важна, чем еще одна взятая вершина.
1931
Держу пари, что нынче тридцать первый, Прекрасный год в черемухах цветет...
Осип Мандельштам
Знай человек свою дальнейшую судьбу, отмечал бы он не только дни рождения, но и доли своей жизни. 14 февраля 1931 года, празднуя свое тридцатилетие, Москвин мог бы сказать о себе словами Данте: «Земную жизнь пройдя до половины...». Но как и все мы, срока своего он не знал, и мысль, что позади полжизни, не омрачала его. Был он в расцвете сил физических и духовных и, вернее всего, ощущал этот год, как и впрямь прекрасный и весенний.
Начиная со звучащих гимном строк Маяковского о «весне человечества», образ весны — один из ведущих в те годы. Михаил Пришвин в дневнике 1930 года сравнил революцию с землетрясением, обрушившим берега жизни, и добавил: «А сейчас у нас половодье с переменой русла»; лучше многих понимая смысл «перемены русла», он тоже использовал образ половодья, весны. В 1931 году вышла книга стихов Владимира Луговского «Большевикам пустыни и весны». Превращение пустыни в сад, «поворот русла» шли по хитрому сценарию, глубинный смысл его стал ясным лишь с расстояния, тогда же ход событий казался естественным. В соответствии с «логикой классовой борьбы» было понятно, что именно январь и февраль 1931-го должны стать «боевыми месяцами коллективизации», а сам год — «решающим годом плана великих работ». Газеты печатали рапорты о пуске новых заводов. Весенняя надежда определяла многое. В следующем году Шостакович сочинит на слова Бориса Корнилова «Песню о Встречном», кино же войдет «Встречным» в общий «весенний поток». А пока, в самом начале тридцатых, вслед за вульгаризаторами РАППа руководители кинодела объявили главной агитационно-инструкторскую задачу. В плане на 1931 год предусмотрели «ликвидацию монопольного положения художественно-игровой фильмы» на Ленинградской фабрике. Апрельское постановление 1932 года о перестройке литературнохудожественных организаций подготовило провозглашение социали
стического реализма единым методом советских художников, но для игрового кино оказалось полезным, вернув его на подобающее место.
Для Москвина 1931 год был передышкой: как ведущий оператор, он избежал съемки агитфильмов. Козинцев и Трауберг писали новый сценарий, а он снимал «Гайль, Москау!» с Шмидтгофом, на первом фильме которого он начинал подсобным рабочим. Немой фильм о поддержке нашими моряками бастующих докеров Германии был вполне «средним», труда большого от Москвина не требовал и следа в творчестве не оставил. К тому же, когда он был почти готов, его решили сделать звуковым, и больше половины пришлось переснять. Москвин поручил это своим помощникам. Сам же он из любопытства к новому снял еще короткий фильм «Гопак» Михаила Цехановского, оригинального режиссера-экспериментатора и художника, с успехом дебютировавшего мультипликацией «Почта». Долго считавшийся утерянным «Гопак» в 2009 году найден в Чешской синематеке. К сожалению, пока мне не удалось его посмотреть, но такие находки дают надежду, что когда-нибудь обнаружится и «Гайль, Москау!», и другие не-сохранившиеся фильмы Москвина.
Съемки обоих фильмов шли без особого напряжения, но передышка в киноработе Москвина вовсе не была передышкой в интенсивной духовной жизни. На интеллигенцию, подхваченную в 1920-е годы волной романтического подъема и утопической веры в мировую революцию, время «великого перелома» повлияло по-своему. Поняв нереальность иллюзий двадцатых годов, многие интеллигенты приходили к мысли, высказанной Пастернаком еще в 1925 году: «...социализму возвращается его широчайшее нравственное содержание, заслоненное горячкой основоположничества». Козинцев потом назвал это утопией тридцатых, закончившейся в 1937-м. Но уже в начале тридцатых росла тревога: в конце 1930-го прошел процесс Промпартии, а в январе 1931-го — дискуссия в Академии наук «Классовый враг на историческом фронте»; врагами были объявлены С.Ф.Платонов, Е.В.Тарле и другие видные историки.
«Решающий год» великого перелома, «цветущий в черемухах»... Вот еще из стихов, написанных в те годы, — три начальные строки трех строф «Поруки» Ольги Берггольц: «У нас еще с три короба разлуки... У нас еще — не перемерять — горя... Прекрасна жизнь, и мир ничуть не страшен...» Человек чувствительный, Москвин хорошо ощущал, что год «прекрасен» и что впереди «три короба разлуки» и «не перемерять — горя».
Он не участвовал в горячих спорах, возникавших в дружеских компаниях. Поводов было много: гастроли театра Мейерхольда, создание закрытых рабочих кооперативов, фильм Якова Посельского «13 дней» о процессе Промпартии (по числу зрителей он далеко обогнал игровые фильмы), первые шаги теа-джаза Утесова... Москвин молчал, но внимательно слушал, наблюдая за спорящими, оценивая для себя их правоту, изучая их самих. Расширились его знакомства, к малому кругу близких людей (Михайлов, Шпис, Еней, Мильман) добавился и более широкий круг друзей и знакомых — и из кино (Волк, Шостакович, Блейман, братья Васильевы), и из инженеров и архитекторов. Инженеры — в основном друзья Семена, у которого Андрей не часто, но бывал. Стоит еще назвать очень заинтересовавшего Мо-
Август 1931 года. Москвин, В. Пудовкин (он снимал в Ленинграде «Дезертира»), Хекса.
сквина конструктора стратостатов, царскосёла Андрея Васенко: познакомил их Горданов.
В компанию архитекторов привела новая квартира. В начале 1931 года Москвин переехал в дом на улице Красных Зорь, построенный по проекту Евгения Левинсона — он тоже поселился здесь, познакомился со всеми жильцами и некоторых, включая Москвина, стал приглашать к себе. Из числа его друзей-архитекторов Москвин выделил
Игоря Фомина и близко сошелся с ним. В 1981 году Фомин рассказал мне: «Что сразу бросалось в глаза? Молчаливость, даже замкнутость Если собиралось больше трех человек, он обычно молчал, но, когда мы оказывались вдвоем, говорил много интересного, главным образом на технические темы».
В новой большой и светлой квартире на верхнем этаже Москвин появился с немецкой овчаркой по имени Хекса (завел ее, когда недолго жил на улице Жуковского, оставив комнату на Стремянной Шпису). С балкона, где он устроил цветник, была видна зелень Островов, она напоминала ему царскосельские парки. В большой комнате установил камин, украшавший до этого гостиную в доме Гумилевых. В своей поставил стол с тисками и сверлильным станком (а после войны — хороший и довольно большой для пятого этажа токарный станок). Комнаты украсил цветными ксилографическими монгольскими иконками — Головня купил их для него в Монголии, где снимал «Потомок Чингис-хана», китайскими и японскими гравюрами, бронзовыми, фарфоровыми и деревянными статуэтками Будды, китайских и японских божков — их он старательно выискивал на рынке и в антиквариатах.
Интерес его к Востоку не угасал, заразил он им и друзей. Они ходили в Старую Деревню, где архитектор Гавриил Барановский построил Буддийскую молельню, придав канонам тибетской архитектуры черты северного модерна. Храм тогда еще действовал, они бывали на службах. Обязательно ходили на концерты, имеющие отношение к Востоку; в 1931-м это были концерты японского композитора и дирижера Хидемаро Каноэ и балерины, ученицы Касьяна Голейзовского, китаянки Сильвии Чен. Но наиболее яркими впечатлениями от восточного искусства оставались гастроли театра «Кабуки» в 1928 году.
Не пропускали и другие интересные концерты, спектакли. В конце 1931-го в Ленинград приехал театр Мейерхольда, они заново пересмотрели весь репертуар. Горданов, друживший с Ольгой Мунгало-вой, Петром Гусевым и Федором Лопуховым, водил их в балет. Компанией ходили на выставки, в конце двадцатых — начале тридцатых познакомились с серьезными собраниями коллекционеров, волею судьбы съехавшихся в дом на набережной Жореса (сейчас — набережная
Кутузова). Здесь в большой петербургской квартире с высокими окнами на Неву там, где она широко разлилась, делясь на Большую и Малую Неву, в конце двадцатых поселились Рашель Мильман и ее муж Фридрих Криммер, интереснейший человек, коллекционер и библиофил. Еще до революции он познакомился с Горьким и сохранял в своем доме дух горьковского кружка.
Центром коллекции были очень живой портрет Криммера работы Головина и подаренный Горьким Кустодиев. Вокруг — Сомов, Шагал, Григорьев, Судейкин, Чупятов, Пуни, Карев. Почти со всеми этими художниками и Фридрих, и Рашель были знакомы, а многие бывали в доме. Под превосходным портретом молодого Шкловского работы Юрия Анненкова часто сидел в кресле сам Виктор Борисович, большой друг дома. Бывали здесь Тынянов, Каверин, Михоэлс, Лиля Брик и Эльза Триоле, Валентина Ходасевич, Альтман, Верейский. Хозяйка — умная, веселая, «заводная» женщина — привела свою кинокомпанию: Шписа, Михайлова, Москвина, Енея, а вслед появились Козинцев, Трауберг, братья Васильевы, Блейман, Каплер.
Бывал в доме на набережной Эйзенштейн. После возвращения из-за океана он подарил Рашели и Фридриху большую пачку фотокадров незавершенной мексиканской эпопеи. Москвин внимательно рассматривал их. Трудно сказать, что его больше привлекало — интерес к графичным композициям Тиссэ или к экзотической культуре Мексики: пирамиды, удивительная скульптура ацтеков, чеканные профили их потомков запечатлены на этих фотографиях с большой экспрессией.
В гостеприимной квартире на третьем этаже часто появлялись соседи по дому и их гости. Рашель тоже водила своих друзей к соседям. Так Москвин познакомился с Анной Ахматовой — она бывала у Рыбаковых, живших этажом выше, — и с Константином Фединым, другом писателя Михаила Сергеева, жившего этажом ниже. Москвин с интересом рассматривал этнографические коллекции Сергеева, собранные на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. А колоссальной коллекции Иосифа Рыбакова могли позавидовать многие музеи: живопись и графика русских художников от XVIII до начала XX века, иконы, почти полное собрание русского фарфора. В доме поселились еще и Глазуновы, с которыми Москвин был знаком с детства; у них тоже была первоклассная коллекция.
Что дало ему близкое знакомство с коллекционерами? Возможность понаблюдать за интереснейшими людьми и, главное, изучить плохо представленное тогда в музеях искусство начала XX века. Он и раньше знал отдельные работы Добужинского (они были и у Михайлова), но столь полного собрания, как у Рыбакова, он не увидел бы нигде. Это оставило след в «Юности Максима». У Криммера висели холсты Леонида Чупятова: напоминающий его учителя Петрова-Водкина натюрморт (золотые апельсины на кроваво-красном фоне) и картина с розовым фламинго, парящим над горами, зеленым лугом, морем. Когда я смотрел на эти хорошо знакомые Москвину картины, золото на красном заставляло вспомнить цветовой эпизод «Ивана Грозного», а удивительное сочетание розового, зеленого и сиренево-коричневого — цветовые поиски в «Над Неманом рассвет».
Дом Рашели и Фридриха (так друзья назвали его) дал Москвину новые импульсы в творчестве и глубоко погрузил его в своеобразную
петербургско-ленинградскую культурную среду. Сама природа одного из красивейших мест города была неповторимо петербургской. Начиная с весны, особенно в белые ночи, всякий вечер кончался тем, что все выходили на балкон и долго стояли завороженные красотой реки, зданий, Города. И кто-нибудь читал Блока: «Белой ночью месяц крас-ный/Выплывает в синеве./Бродит призрачно-прекрасный,/Отражается в Неве».
...Москвин прислушивается к стихам, написанным тридцать лет назад, в год его рождения. Он серьезен, молчит. На слова впервые попавшего с ними на балкон гостя: «Как прекрасно, не правда ли?» буркнет мрачно что-нибудь вроде: «Ничего особенного...» А ведь он не хуже, может быть, и лучше других чувствует красоту, и ему любопытен этот человек, художник или актер, писатель или юрист, преданно любящий искусство. Но он уже выработал стиль поведения, свыкся с ним и порой вопреки своим чувствам и желаниям «выдерживал марку» или, точнее, «маску».
С друзьями же он бывал весел, с радостью подхватывал игру, розыгрыш. Рашель Марковна рассказала, что в доме были две пары привезенных из Англии боксерских перчаток, и однажды Москвин и Шпис затеяли бокс: «И они дрались по-настоящему, но самое главное было — встать в таз, чтобы губки на них выжимали и их обтирали. И Андрей орал от радости, что вот я его полотенцем растираю: “А, работайте, работайте!” Борис-то Васильевич немного стеснялся, а этот — ради Бога!.. Очень интересные были люди, и счастье, что я с ними дружила». Судьей импровизированного матча была московская журналистка, маленькая, веселая Пера Аташева. Москвин познакомился с ней на съемках «Вавилона»: она писала репортаж и заодно снялась в сцене распродажи. Именно ей, верному другу и ближайшему помощнику Эйзенштейна, напишет он последнее в своей жизни письмо. Это будет через тридцать лет...
В «Гайль, Москау!» в первый и последний раз выступил как киноактер известный драматург Александр Афиногенов. В 1932-м он записал в дневнике: «Стиль поведения, разговора, взгляда. Оператор Москвин молчит — в день говорит три фразы, — это стиль, и его боятся и уважают». Афиногенов присматривался к Москвину, ему нравилось, что того «боятся и уважают». Но причиной этого была, конечно, не одна лишь молчаливость.
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ МОСКВИНА
Из эпохи Ренессанса мы давно вышли (очень жаль!), и система воспитания молодежи вокруг мастера сейчас уже не практикуется.
Сергей Эйзенштейн
Эйзенштейн написал это в 1946 году, исходя из опыта ВГИКа — именно там он и мечтал осуществить ренессансную систему воспитания режиссеров, но по разным причинам это не удалось. Москвину удалось, отчасти потому, что принцип подготовки операторов во многом иной, и тут еще одна ниточка, связывающая
его с Ренессансом, с Леонардо. Уже в 1920-е годы он стал Учителем, Мастером, хотя официально никогда и нигде не преподавал (если не считать нескольких занятий по устройству кинокамеры в киномастерской ФЭКС). И как раз в 1931 году появился фильм, оператор которого мог назвать его Учителем...
Москвин стал помогать другим, едва начав снимать. Так было с Михайловым. Но он сам многому учился у Михайлова, тут было взаимоо-бучение. Иное дело молодежь, делающая первые шаги на пути к операторской профессии. Москвин присматривался к каждому и, как вспоминал оператор Евгений Шапиро, «если Андрею Николаевичу этот молодой человек представлялся хоть в чем-то интересным, он оказывался под непосредственным, но не дидактическим, не насильственным наблюдением». Особо интересовали Москвина студенты и выпускники ленинградского Кинотехникума и московского Государственного техникума кинематографии (ГТК), уже имевшие хотя бы элементарную подготовку. Он приметил окончившего ГТК Павла Посыпкина, пригласил его вторым оператором на «Гайль, Москау!» — как раз тогда ввели эту должность. Застенчивый человек в очках, похожий на сельского учителя, был прилежен, имел хороший вкус. Москвин доверил ему пересъемки, поставил его фамилию в титрах рядом со своей, открыв путь к самостоятельной работе. Посыпкин предпочел и дальше работать вторым у Москвина. Лишь в 1936-м Москвин уговорил его снять «Леночку и виноград». В 1942 году Посыпкин умер в блокадном Ленинграде. Москвин очень любил этого талантливого, скромного, трудолюбивого человека.
Под наблюдение Москвина попали и два студента Кинотехникума, очень не похожие друг на друга, — неторопливый, сдержанный Анатолий Назаров и темпераментный, импульсивный Евгений Шапиро. С 1927 года параллельно с занятиями они работали на фабрике в лаборатории, участвовали в печати и проявке рабочего материала «Нового Вавилона». Москвин по собственному почину познакомился с фотографиями Шапиро, попросив показать не отпечатки, а негативы, и добился его перевода из проявщиков в помощники оператора. Сделать это было не легко, проявщиков не хватало. К окончанию техникума Шапиро уже работал вторым оператором у Василия Симбирцева. Не выпускал Москвин из поля зрения и Назарова. В 1929-м пригласил его помощником на «Одну». Назаров работал на пробах, потом попал на военные сборы. Когда вернулся, группа была уже на Алтае, и по совету Москвина его взял на свой фильм Беляев.
Каждое утро, если у него не было съемки, Москвин появлялся в зале ОТК (Отдел технического контроля), смотрел материал, обработанный лабораторией за сутки, включая материал хроники. Его короткие замечания много давали операторам, и не только молодым. Позже Отдел хроники стал самостоятельной киностудией, но операторы ее помнили уроки Москвина: как и его фильмы, они оказали прямое влияние на изобразительный стиль документалистов (об этом мне говорили старейшие хроникеры Ансельм Богоров и Сергей Фомин, много лет руководивший кинохроникой Иосиф Хмельницкий). До начала тридцатых годов к ответственным съемкам хроники привлекали и Москвина. Он сразу согласился снимать партконференцию в Таврическом дворце: это была одна из первых выездных звуковых съемок,
и Москвин с интересом следил за работой Волка и его товарищей. Не простой, потому привлекательной была задача освещения огромного зала. Он и не подозревал, что скоро будет снимать этот зал в «Возвращении Максима».
Москвину не поручали заботиться о будущих операторах, наблюдать их в работе, рекомендовать коллегам, ходить по кабинетам дирекции, устраивая их будущее. Это было веление души, долг старшего, хотя Москвин всего на 5 лет старше Назарова и на 6 лет — Шапиро. Постигая возможности кандидатов в операторы, всячески помогая им, Москвин принимал иногда судьбоносные для них решения, даже не спрашивая их мнения. Так, ничего не говоря Горданову, который после техникума почти год жил на случайные заработки, он уговорил Петрова пригласить Горданова на фильм «Адрес Ленина». В июне 1928 года, вспоминал Горданов, поздно вечером перед его домом в Детском Селе появился Москвин, условным свистом вызвал его к окну и «в свойственной ему в то время манере выражаться изрек: “Имеешь быть завтра кинофабрике десять утра снимать картину Петровым”».
При некоторых недостатках, типичных для первой работы, «Адрес Ленина» показал: появился еще один оператор с настоящей изобразительной культурой. Успех закрепил второй фильм Петрова и Горданова «Фриц Бауэр» — Пиотровский назвал его вместе с «Новым Вавилоном» и «Златыми горами» Жозефа Мартова вершиной первого периода развития ленинградской операторской школы. Заслуга Москвина в этом велика: хорошо зная и Петрова, и Горданова, он понял, что они удачно дополнят друг друга. Он помог Горданову, но не был его Учителем.
Первым учеником Москвина, вышедшим на серьезную самостоятельную дорогу, стал Шапиро. И уже на первом его фильме Москвин был настоящим Учителем с собственным педагогическим методом. Началось с нового вмешательства в судьбу Шапиро: Москвин остановил его в коридоре, молча привел к заместителю директора по производству и заявил: «Вот этот гражданин будет снимать “Человека из тюрьмы”». От неожиданности Шапиро отказался, на что Москвин заметил: «Вас не спрашивают». Шапиро сказал, что у него нет камеры Москвин: «Я дам свою. И вообще буду за ним наблюдать». Слова о камере — не просто красивая фраза: камеры закреплялись за операторами, предметом всеобщей зависти была новейшая камера «Дебри Л», присланная фирмой специально для Москвина после показа «С.В.Д.» во Франции.
Молодой оператор уехал в экспедицию в Армавир. Москвин в Ленинграде смотрел материал и писал короткие письма, указывая только на ошибки — это важная черта его педагогики. Потом, по дороге в Одессу, он заехал в Армавир (ради справедливости замечу, что не из-за одного Шапиро: помощником режиссера на «Человеке из тюрьмы» была Надя Кошеверова, будущая жена Москвина), посмотрел вместе с Шапиро весь отснятый материал и снова указал на ошибки. Перед отъездом спросил: «Не затруднит ли вас отвезти в Ленинград объектив и ряд фильтров?» — «Конечно, не затруднит, Андрей Николаевич». — «Спасибо». Качество пленок было таким, что на натуре без светофильтров не обойтись. Москвин имел отличный набор, у начинающего Шапиро их почти не было. «По существу он просто оста
вил мне для работы свои фильтры, — вспоминал Шапиро, — но форма была такая, что вроде не я должен сказать ему спасибо, а он мне». Характер Москвина проявился в этом как нельзя более наглядно.
Работа Шапиро получила хорошие отзывы, причиной успеха был не только талант и подготовка, полученная в техникуме и у Симбирцева, но и «ненасильственное» наблюдение Москвина. А взяв молодого человека под наблюдение, Москвин считал себя ответственным за него. В жизни Шапиро это проявилось не раз. 1931-й год был трудным, фильмов снимали мало из-за сложностей репертуарной политики и проблем с пленкой (импорт сократили, а только что пущенная первая советская пленочная фабрика поставляла ее с перебоями). Шапиро попал под сокращение штатов. Вскоре Москвин пригласил его к себе: «Я вас продал в Тбилиси. Будете снимать с Чиаурели».
Помощь Москвина молодым Шапиро назвал «абсолютно бескорыстной и бесценной». Очень точные слова, тоже объясняющие, почему Москвина «уважали и боялись».
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СССР»
Москвин с удовольствием работал на натуре.
Леонид Трауберг
Еще снимая «Одну», в январе 1930 года Козинцев и Трауберг подали заявку на трехсерийный фильм «Большевик». Подготовка его требовала нескольких лет, и они решили параллельно вести работу над фильмом об одной из строек пятилетки. Это было полезно и для «Большевика»: трилогия должна была кончаться участием героя в индустриализации. Режиссеры поехали на стройки, легко нашли сюжет — превращение крестьянской артели в бригаду строителей. Быстро написали первые части сценария, но, по словам Козинцева, «все получалось слишком трагичным, мрачным» (что легко понять, если вспомнить время —1931 год, и то, что в большинстве своем строителями были вчерашние крестьяне, согнанные из родных мест голодом и начавшейся коллективизацией). Тогда появился «Темп» Николая Погодина; режиссеров поразило, что «характеры, вызванные к жизни строительством, небывалой переменой уклада, заговорили своим языком». По их просьбе Погодин, сохранив предложенную ими фабулу, написал сценарий эксцентрической комедии «Путешествие в СССР» (название породило потом легенду о рекламном фильме по заказу Интуриста). Смысл названия объяснил Эраст Гарин, игравший артельщика: «...как бы психологическое путешествие российских мужицких характеров из дебрей крепостничества через почти первобытную артель к вершинам советского коллективного существования».
Погодин предложил на роль старосты артели мхатовского корифея Ивана Москвина, но он сниматься не мог и рекомендовал своего брата Михаила, игравшего под псевдонимом Тарханов. В группе оказалось двое Москвиных. «До чего же нас всех веселила кажущаяся разница их характеров, — вспоминал Трауберг, — Андрей Москвин был демонстративно неразговорчив, нарочито угрюм, изредка даже грубоват, что почти никого не обманывало, — все знали, что это человек чу
десного сердца, превосходный товарищ, талантом, пожалуй, превосходивший всех нас. Михаил Михайлович сразу покорил нас... своей простотой и веселостью». При всей разности характеров (конечно, не только кажущейся) они стали друзьями. Совпадение фамилий оказалось не случайным, Григорий Москвин рассказал: «Они уселись пить водку, и Тарханов задал вопрос, не родственники ли мы. Они устанавливали это, по-моему, неделю и установили, что какая-то там связь есть, какие-то веточки, ведущие к общему дереву». Позже, когда у Андрея родился сын, Тарханов объявил его своим внучатым племянником. Приезжая в Ленинград, он обязательно появлялся на Кировском проспекте (так в декабре 1934 года переименовали улицу Красных Зорь) у Москвина, иногда и останавливался у него, а не в гостинице.
Фильм обещал быть интересным, гарантией были сценарий Погодина, такие актерские имена, как Тарханов, Бабанова, Гарин, Каюков, Чирков, и тот подъем, с каким взялись за работу режиссеры, решившие на новом уровне, с учетом возможностей звука, создать эксцентрическую комедию. Съемки начали в июле 1932 года в Мариуполе. Южное солнце позволяло работать четко, быстро, весело, а Москвину еще и экспериментировать с разными видами отражателей для подсветки теней. Он применил ткань, покрашенную алюминиевой краской (клал ее у ног актеров, мягким отражением подсвечивая лицо), и небольшие алюминиевые пластины для подсвета глаз на крупных планах. Попробовал еще натягивать тюль на зеркала. Итоги были отличными — это говорили все, кто видел материал фильма. Вот отзыв Гарина: «Первые просмотры материала нас окрылили. Тут я непосредственно познакомился с поэтическим мастерством Андрея Москвина. Он изобрел особую, вовсе не похожую на предыдущие работы, манеру съемки; это была благородная, четкая и лаконичная графичность. Его грациозные кадры были одновременно достоверными и поэтическими».
Москвин с удовольствием работал в Мариуполе и на Днепрострое, слова Трауберга об этом — продолжение полемики с мнением о Москвине, как о «мастере павильона». Его упорно так называли, несмотря на прекрасно снятую натуру в «Братишке», «Одной» и еще раньше в «Чертовом колесе» (потом это стало легендой, подкрепленной «Иваном Грозным», где он снимал только павильоны). А он предпочитал павильон потому лишь, что погода на натуре слишком часто влияет на темп съемки. По своему характеру и по опыту фэксовских времен он любил снимать быстро, хорошая погода позволяла снимать «Путешествие» полным ходом. Но неожиданно возникли перебои, потом съемки и вовсе остановили. Виной был звук.
Тогда еще не умели делать последующее озвучивание, звук записывали синхронно, одновременно со съемкой. В экспедицию должен был поехать Волк с новым аппаратом МВ-2, что означало «Москвин и Волк вдвоем», — интерес Москвина к звуковым делам не был досужим любопытством. Он быстро обнаружил слабые места аппаратов Шорина. «Москвин, — вспоминал Волк, — как очень хороший техник, сказал: первое, что нужно сделать, это хорошую лентопротяж-ку. Мы сели и набросали примерную схему. Братья его нам помогли». Москвин разработал конструкцию механической части, Семен и Григорий по его чертежам изготовили у себя на заводе самые ответственные детали, Волк внес заметные улучшения в электрическую часть.
В начале 1932 года лучший по тем временам звукозаписывающий аппарат был готов.
Группа уехала, а Волка на неделю задержали — помочь «Встречному»: к пятнадцатилетию Октября его снимали в ударном порядке Фридрих Эрмлер и Сергей Юткевич, фабрика и новое руководство кинематографии возлагали на этот фильм все свои надежды. Потом Волка полностью закрепили за «Встречным»; в Мариуполь приехал неопытный звукооператор с аппаратом, который все время ломался, вызывая простои. Режиссеры посылали гневные телеграммы на фабрику, Трауберг ездил ругаться в Москву, но Волка не отпустили, а актерам пора было возвращаться в театры. Не сняв и половину намеченного, вернулись домой. Картину закрыли, но режиссеры не протестовали. Козинцев объяснил это так: «Время переменилось». Та же мысль звучит у Трауберга: «Это было время перелома — и не просто от немого к звуковому. Ссорились, закидывали друг друга доводами — Козинцев, Еней, Тарханов, Гарин, Чирков, я, даже молчаливый Москвин». Даже Москвин... Перелом в кино означал и серьезные перемены в операторском искусстве.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ ШКОЛА
Мощная школа ленинградских операторов, которую по праву можно окрестить «москвинской»...
Сергей Юткевич
Ссорились в группе «Путешествия в СССР», в других группах, в коридорах фабрики, на обсуждениях фильмов. Операторы были особенно активны: в апреле 1933 года прошла конференция операторов в Москве, в июне — в Ленинграде. Газетная информация об итогах московской конференции начиналась вопросом: «Является ли оператор творческим работником?» В Ленинграде тоже говорили о производстве (на вопрос фабричной газеты «Что мы ждем от конференции?» Москвин лаконично ответил: «Разумного отношения производства к операторам и операторов к производству»), но общий тон был иным, спор шел о переменах в искусстве, а в том, что оператор — творческий работник, сомнений не было. Почему же в Москве, где работали Тиссэ и Головня и уже выступили с первыми фильмами Косматое, Фельдман, Кириллов, Магидсон, право оператора на творчество надо было доказывать? По верному замечанию Блеймана, на московских кинофабриках «талантливые люди работали каждый в отдельности, каждый по-своему, не испытывая потребности в общении друг с другом». Оператор при этом был один на один с режиссером, но далеко не каждый режиссер считал его, как Эйзенштейн, «свободным членом союза одинаково творческих индивидуальностей».
В Ленинграде был коллектив фабрики: Козинцев, Трауберг, Эрмлер, Червяков, Пиотровский, Москвин, Беляев, Михайлов, Еней. В конце 1920-х пришло пополнение — режиссеры Петров, Зархи, Хейфиц, Герасимов, операторы Горданов, Ушаков, Гинцбург, художники Суворов и Мейнкин, приехавшие из Москвы Юткевич и братья Васильевы, оператор Мартов. Много и беспощадно споря внутри коллектива,
они выступали единым фронтом по отношению к тому, что было вне его. И при всей разнице их творческих почерков была равнодействующая их общих устремлений. Составной частью ее стала ленинградская операторская школа. Создал ее Москвин, ибо он был «художник, питающийся собственными приемами, в приемы, им самим открытые, верящий — в годность их не только для себя, но для других, и, что главное, не только для себя нынче, для себя — завтра» (Марина Цветаева). А творческая сила его приемов была столь велика, что понятно огромное влияние, оказанное им на работающих рядом.
Ленинградскую школу именовали живописной, противопоставляя графичности, конструктивности московской школы. Определения условные, особенно в отношении москвичей. Стилистику Эйзенштейна и Тиссэ, ее графичность, линейные композиции, операторы не могли подхватить: она связана с воплощением темы «большими эпическими потоками». Головня в «Конце Санкт-Петербурга» несколько приблизился к пластике Тиссэ, но изобразительный стиль других его фильмов не был столь цельным. Он искал острые ракурсы, строил линейно-объемную композицию с «барельефной» трактовкой пространства. Попытки совместить ее с «рембрандтовским светом» портретов были не очень органичны. Перед «несколько грубоватой манерой Левицкого» (по определению Головни) москвинская светотень имела явные преимущества, но совсем не сочеталась с «барельефной» композицией. Здесь одна из причин кризиса Головни в конце двадцатых годов: он не стал снимать с Пудовкиным «Простой случай», попытал счастья в режиссуре. Опытные операторы Левицкий, Славинский, Ермолов во многом усовершенствовали свой стиль, но остались в стороне от поисков Тиссэ и Москвина. А ученики Левицкого и Славинского по ГТК часто тянулись за Москвиным. К примеру, экспрессивное решение трагической темы в «Каторге» Юлия Райзмана и Леонида Косматова — результат внимательного изучения Косма-товым фильмов Москвина. В общем, в Москве лучшие операторы работали каждый по-своему, единой школы не было.
В Ленинграде она была. Не потому, что Беляев или Михайлов подражали Москвину, а потому, что были общие принципы, сформулированные в его статьях и ярко проявившиеся в «Новом Вавилоне». Операторы по-разному применяли их, в зависимости от задачи фильма добиваясь «мягкой и сложно меняющейся, — по словам Пиотровского, — фотографии» в «Моем сыне» (Беляев), богатой оттенками серой гаммы в «Катьке — бумажный ранет» и многих сценах «Дома в сугробах» (Михайлов), экспрессивной, построенной на контрастах светотени во «Фрице Бауэре», «Беглеце» (Горданов) и «Транспорте огня» (Гинцбург). Коллективный дух школы был так силен, что молодой оператор Николай Ушаков (и он был под наблюдением Москвина) уговорил режиссера Павла Петрова-Бытова, ярого противника факсов, полностью снять фильм «Каин и Артем» в павильоне, и он стал высшим достижением режиссера в большой степени благодаря превосходному светотеневому изобразительному решению.
На вопрос, в чем истоки ленинградской школы, Михайлов ответил сразу: «В том, что с самого начала пришли люди, разбирающиеся в искусстве... пришли люди намного культурнее тех, что были в кино». Это существенно, хотя высокая культура была и у многих молодых one-
раторов других городов. Отличие ленинградцев было в том, что они еще и петербуржцы, представители своеобразной ветви русской культуры. Ахматова, Шостакович, Мравинский, Уланова, Тынянов, Козинцев, Акимов... Не все они родились в Петербурге, но стали в нем художниками, их характер совпал с характером города (отмечу, кстати, что очень многие молодые режиссеры были приезжими, а операторы в большинстве были как раз местные, питерские). Особенности петербургского характера коротко и точно раскрыла Галина Уланова, сказав о Евгении Мравинском, что он «сдержан, внутренне наполнен», и что в ее ленинградском окружении «все были со всеми на “вы”» (как не вспомнить ФЭКС, в котором восемнадцатилетний Козинцев легко приучил к этому практически всех; замечу еще, что Трауберг гораздо меньше «совпал» с Ленинградом). А Москвин? Так и он ведь «сдержан, внутренне наполнен», несуетен, как и Мравинский, Шостакович, Козинцев, сама Уланова. Он вырос в Царском, оставившем след в противоречиях характера, но с детства постигал «величественный пафос великолепно организованного пространства» (так сказал о Петербурге Роберт Фальк). Уже с «Чертова колеса» город заставлял его заботиться об организации пространства в кадре, о точности передачи масштаба, ритма, учил стремлению к гармонии, высокому вкусу, сдержанности, учил пониманию светотени, ибо это еще и город «в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно». В гоголевских словах как всегда преувеличение, и как всегда — глубокий смысл.
Величие архитектурных ансамблей Петербурга не подавляло, наоборот, поднимало уровень всего того, что теперь не без пренебрежения называют «рядовой застройкой». Петербургский архитектор, проектируя доходный дом или фабричный корпус, чувствовал себя художником в высоком смысле. В этом тоже урок города, важный для всех искусств. Поэтому для лучших ленинградских кинематографистов было характерно отношение к своему искусству как к ответственной миссии, а не как к «киношке», развлечению. И лучшим ленинградским операторам было присуще высокое представление о своем искусстве. Они не любили громких слов, не говорили об этом, но ощущение своего дела как художественного творчества было у них изначальным. Оно определяло и тон разговора на конференции операторов, и этические принципы школы.
Принципы эти тоже во многом шли от Москвина. Кажется парадоксом, что столь «закрытый» человек мог так влиять на других. А он влиял! В первую очередь крайней требовательностью к самому себе. Пример ее — отношение к браку, который иногда из-за работы на пределе у него бывал. Сергей Яхонтов, проявлявший негативы «С.В.Д.» и «Вавилона», рассказал, что Москвин каждый день приходил в лабораторию и смотрел негатив, оценивая его коротким «Смешно!», будто сам удивлялся, что получилось. Но изредка обращался к себе в третьем лице: «Изволили ошибиться». В отличие от операторов, склонных свой брак свалить на лабораторию и, тем более, всяко преувеличить ее брак, Москвин никогда и никому не приписывал свои ошибки. Если же была виновата лаборатория, он не устраивал скандал, а помогал найти причину, чтобы избежать повторения брака.
До «Изволили ошибиться» доходило крайне редко, благодаря профессионализму Москвина, знанию техники и безукоризненному вла
дению ею. Это вроде бы не связано с этикой, с отношением к другим людям. Но истинный профессионализм непременно включает в себя честность в общем деле. Москвин был нетерпим к лодырям, неумехам. Его индивидуализм исключал участие в общественных мерах воздействия, он не выступал на собраниях, не писал заметок в фабричную газету. Он просто переставал замечать бездельника, как переставал замечать человека подлого. Это действовало сильнее любых общественных порицаний — столь велик был авторитет Москвина уже через несколько лет после прихода на фабрику. И это тоже формировало школу. Начальник цеха обработки пленки «Мосфильма» Евсей Иофис в годы войны работал в Алма-Ате и на мой вопрос, чем ленинградские операторы отличались от московских, ответил: «Отношением к делу. Ленинградцы имели очень высокий класс, и работать с ними было приятно». Отношение к делу в кино это и умение хорошо делать его вместе с другими. Тут этика смыкается с эстетикой: отношение к делу связано со стремлением достигнуть гармонии коллективного и индивидуального. Уважение Москвина к режиссерскому замыслу, умение подхватить его, развить тоже было примером для всех. И в его отношениях с актерами, художником, звукооператором, цветоустановщиком всегда проявлялось чувство целого, восприятие своей работы как неотрывной части целого.
Пример Москвина учил тех, кто был рядом. Тянуться за ним трудно, но они тянулись: лишь равнодушный ремесленник мог продолжать работать по-старому, когда был такой образец. Молодежь, осваивая приемы Москвина, не всегда проявляла чувство меры. В протоколе приемки «Транспорта огня» о работе Александра Гинцбурга сказано, что она «страдает некоторой перегрузкой эффектностью». Такая «перегрузка» не страшна, если она лишь «детская болезнь». Опаснее канонизация приемов, отсутствие чутья на перемены. Москвин в 1926-1929 годах проделал путь от «Шинели» к «Вавилону»; общие принципы школы сложились. Но есть диалектика развития: когда какие-то положения окончательно складываются, созревает и необходимость их изменения. Так появилась «Одна». Процесс перемен был нелегок, мучителен, всего заметнее это во «Встречном». Гинцбург, Мартов и Рапопорт настаивали в своей заявке «на работе с мягкори-сующей оптикой... хотели строить кадры на световых пятнах, а не на жестких линиях...», то есть в духе романтической стилистики ленинградской школы второй половины двадцатых годов. Но в 1932-м эта стилистика пришла в столкновение с замыслом Эрмлера и Юткевича, фильм получился неровным, разностильным. Мартов и Рапопорт откровенно писали потом о «компромиссной» работе и обвинили в этом режиссеров, но дело было в ином: продолжая наработанное школой, операторы не почувствовали необходимости перемен. Да и режиссеры «Встречного», сделав серьезный рывок к новому кино, не до конца справились с разностильностью в драматургии и в актерской игре.
Москвин в том же 1932 году снимал «Путешествие в СССР», продолжая нащупывать новую стилистику. Следующим шагом стала «Юность Максима».
Гпава седьмая
ТРИЛОГИЯ О МАКСИМЕ
СПОРЫ О «ЮНОСТИ МАКСИМА»
О славное кино!
Почти невыносимо
Счастливые часы!
Сначала — фильм живьем,
А после — столько слов о «Юности Максима».
Новелла Матвеева
Каждый фильм Козинцева и Трауберга, выйдя на экран, вызывал споры, иногда яростные. Но в одном спорящие всегда сходились — в высокой оценке изобразительного решения. В январе 1935 года ситуация не просто изменилась, а перевернулась. «Юность Максима» единодушно и восторженно приняли и зрители, и критики, очень высоко оценив фильм в целом. А вот изобразительному решению критики предъявили серьезные претензии, причем сразу по двум линиям: первая — авторы фильма не во всем ушли от формалистического прошлого; вторая — встав на правильный путь, они в чем-то переупростили изображение.
О пережитках формализма в числе первых сказал Всеволод Пудовкин, сравнив пролог с финалом: «В этом ходе от формально блестящего начала к простому, внутренне сильному концу картины есть что-то общее с творческой биографией самих факсов, да и вообще со всеми нашими биографиями». Мысль Пудовкина о фэксовских истоках пролога укоренилась, приняв вид извинительной формулы «прощание факсов с прошлым», об этом можно прочесть даже в «Истории советского кино» (1973). Масло в огонь обвинений фильма подлил доклад Трауберга на Всесоюзном творческом совещании 1935 года. Назвав фильм «живым полотном гражданской войны» его создателей с
самими собой, Трауберг упомянул кадры, от которых он «на протяжении всей картины хотел и не мог отказаться. Не только лихачи, но и другие вещи, особенно в прологе». О крупном плане Максима в карцере он сказал: «“Здорово освещено", — как говорили в старое время. Я этот кадр очень не люблю. Моя предельная мечта, чтобы не было видно, как снято... Это значит, что кое от чего излишне заметного и любимого операторами надо отказываться». Траубергу ответил Александр Довженко — осудил «мрачное самоотречение», назвав его «деланным», сказал под аплодисменты: «...я не снимаю ни роли оператора, ни роли формы, ни роли чеканки технической». Пудовкин, защищая фильм, предложил термин «опрощение»: «Это “опрощение” звучит не только у Трауберга, но и вообще у ленинградских товарищей».
Опасность «опрощения», «операторского разоружения» еще раньше отметил Пиотровский. Тенденция к «опрощению» и впрямь существовала, ибо само изменение художественной системы, «характера воплощения темы» толкало операторов к отказу от экспрессивных выразительных средств, созданных поэтическим, типажно-монтажным кино. На примере своей работы над «Дезертиром» (1933) об этом говорил и Головня: «Надо было находить другие приемы вскрытия материала, другие приемы его живописания. Может быть, в первый момент это выходило не столь эффектно. Но если прежних эффектов нет, это не значит, что и фотографии, и операторов не нужно». Со словами Головни перекликается высказывание Москвина, связанное как раз с «Юностью Максима». Его часто цитируют — многие операторы и сегодня считают его своей первой заповедью: «Гораздо легче снимать картину, наворотив туда всего, что только можно — и облаков с виньетками, и лишних эпизодов, и сцен. Гораздо труднее выбрать необходимое и достаточное, дать в наиболее доходчивой форме то, что нужно».
Сказал это Москвин на Всесоюзном совещании. Выступать не собирался — не любил, не очень-то умел, свою короткую речь начал так: «Мне вообще очень трудно выступать». Но его явно задели слова «чтобы не было видно, как снято». Он понимал: Трауберг полемически «перегнул палку», и счел нужным уточнить позицию группы: «Я не хочу выступать адвокатом Трауберга, но хочу сказать, что под простотой он и мы понимаем не упрощенчество фотографии и других элементов картины, а некоторую более совершенную форму не только фотографии, но и сценария, и режиссерской работы». Сказал и о принципах коллективного труда: «В моей практике — не знаю как у других — не было того, что здесь моя отрасль, здесь начинается отрасль Енея, здесь — граница Козинцева, здесь — Леонида Трауберга... Если мне не нравится актерская игра, если мне не нравится эпизод, я иду вплоть до ругани или драки, и в результате обсуждения у нас получается общая линия в работе». И, наконец, прямо ответил Траубергу: «Перенесение термина незаметности фотографии, вернее извращение этого принципа на практике, приводит и частично привело к принципу незамечаемости оператора» (думаю, Козинцев почувствовал обиду Москвина и сразу после совещания написал о нем большую статью, где и о работе на «Юности Максима» сказано много хорошего; Трауберг вернулся к выступлению Москвина через 35 лет: «В словах его, живых и сегодня, звучала боль за профессию, которая была его жизнью»).
Подводя итоги совещания, Эйзенштейн сказал, что в своих выступлениях Москвин и Головня «сделали... тот добавочный поворот ручки, который, как говорит Козинцев, делает Москвин в отношении режиссерского кадра, после чего становится совсем хорошо. Это вопрос колоссальной ответственности и важности всех тех элементов культуры, из которых складывается синтетическое произведение кино!» О повороте ручки Эйзенштейн узнал из доклада Юткевича, который привел рассказ Козинцева: «Оператор Москвин дорог для меня тем, что если я вместе с ним или один ставлю кадр, Москвин придет, посмотрит, мы еще раз посоветуемся, переменим точку, и когда кадр уже окончательно установлен и я даю сигнал “приготовились”, Москвин вдруг передвинет на одну восьмую оборота штативной ручки аппарат влево или вправо, вверх или вниз, и это будет как раз то, чего не хватало, когда я ставил. Эта чисто операторская поправка придавала кадру законченную выразительность, до которой я додуматься не мог».
Юткевич коснулся и «опрощения», сказав, что оно было бы «чрезвычайно большой ошибкой», и сравнил совершенство формы фильма с обтекаемой формой самолета: «Обтекаемость не есть упрощение, это новый принцип конструкции, наиболее сложный, так как он должен быть наиболее простым». Москвину «инженерное» сравнение понравилось: «Очень хорошо сказал Юткевич о так называемой обтекаемой форме кинопроизведения. Я думаю, что обтекаемая форма не родилась сама, не явилась результатом чей-то фантазии, а является закономерной, точно рассчитанной и, надо сознаться, с трудом создаваемой — наиболее целесообразной формой машин... В кинематографе кроме сценария, кроме режиссера, оператора, актера и всего прочего очень важно гармоническое сочетание всех этих элементов в одном общем усилии для наиболее правильного и полного решения поставленной задачи». Как же была решена поставленная задача в «Юности Максима»?
КОНТРАСТЫ
Контраст — резко выраженная противоположность.
Большой энциклопедический словарь
Пролог снимали, не завершив всей подготовки, весной 1934 года, чтобы не упустить уходящую зимнюю натуру (весна была ранней, снег быстро таял). Это вроде бы подтверждает тезис о «прощании с прошлым» — сняли пролог, в котором «изумительная мо-сквинская фотография, музыка Шостаковича, блестящий монтаж создают образец высокого формального мастерства» (Пудовкин), и, простившись с формализмом, взялись за реалистическую съемку остального. Выходит, принцип «первая строчка определяет интонацию рассказа» на этот раз не сработал. А он сработал и очень четко! Ибо до первой съемки «Юности Максима» была первая съемка «Большевика». Сценарий его первой серии был готов к концу 1932 года; 27 декабря утвердили состав группы («Оператор: Москвин, 2-й оператор: По-сыпкин»); весной 1933-го начали пробы; в июне актеры уже подобра
ны, в главных ролях Гарин и Кузьмина. 14 июля, еще до утверждения сценария в Москве, начали съемки: дирекция понимала, как трудно снять всю летнюю натуру за оставшиеся полтора месяца.
Сняли кладбище, похороны Андрея. Через много лет Козинцев решил дать в книге о режиссуре главу «Кадр №...». Кладбище из «Юности Максима» должно было стать примером «истории обрастания какого-либо кадра». История и впрямь поучительная. В первых же заметках Козинцева еще во время работы над сценарием намечен принцип подачи пейзажа: «Не романтика сентиментальной окраины, а шестиэтажные дома, железнодорожные мосты и реклама "Пе-руина Пето”». Другая запись: «Проход Гарина по улице. С хода. Плывут огромные брандмауэры с косыми лучами света на рекламах. Свет на натуре. Черные силуэты стен (совсем почти черные) и узкая полоса света на мостовой». Наконец, такая запись: «Кладбище. Как разрешить траурность кадра? Очень густой серо-черный тон фотографии...» Легко представить эти кадры в «манере фэксов»: и косые лучи, и силуэты, и серо-черный тон. Но режиссеры все больше приходили к мысли о необходимости «открытия прекрасного во внешне неказистом, героического в обыденном, поэтического в прозаическом» (Козинцев). Долго искали натуру. Позже Козинцев рассказал: «Я понимал, что Андрея похоронили по самому последнему разряду... на окраине кладбища. Но все эти окраины утопают в зелени... А мне нужно было сделать так, чтобы Андрею и после смерти не было покоя. Мне пришла безумная идея — впаять эту сцену в фабричный фон». Такого кладбища в Ленинграде не было, Еней соорудил его на холме недалеко от Путиловского завода.
Первый кадр. Пустая площадка. На правом крае — покосившиеся деревянные кресты, ближе к левому — свежий крест на могиле Андрея. Полукругом обступили площадку рабочие. Вдали дымящие трубы завода. Небо по-питерски серое... Кадр впечатляет безыскусной простотой, но она искусно организована. Из-за подъема холма полукруг массовки не закрывает площадку и пустота между несколькими крестами и одиноким крестом Андрея вызывает ощущение беззащитности рабочего и после смерти. Расположением в кадре линии горизонта Москвин создает как бы уравновешенную композицию, но разная плотность тональных масс в верхней и нижней половинах кадра делает равновесие неустойчивым, как и состояние рабочих, готовое сорваться или в бунт, или в полную подавленность.
Через год, уже для «Юности Максима» Москвин снял кадр, завершивший сцену: все разошлись, Максим сидит на земле у могилы друга. Линия горизонта совсем у нижней кромки, фигура Максима
«Юность Максима». Кадр из фильма. Кладбище.
видна на фоне далеких корпусов с высокими трубами, а большую часть кадра занимает серая плоскость неба. «Фабричный фон» продолжен в звуке: гудки зовут, даже требуют рабочих на завод — пока он сильнее рабочих. Но уже несет Наташа листовки Максиму... Еще одна грань «обрастания кадра»: вместо «очень густого серо-черного тона» —достаточно контрастное, но в целом светлое изображение. Вслед за режиссерами Еней и Москвин уходят от экспрессивности поэтического кино (кладбище в «Вавилоне»!) к прозаичности, к лирической интонации. Обыденность похорон на заводской окраине не менее впечатляюща для зрителя, чем экспрессия «траурности».
Первая съемка «Большевика» для интонации трилогии значила много, ибо в ней найдено главное — сложная простота. Но летом 1933-го съемки остановились: из-за критики старых большевиков сценарий не утвердили. Остановка пошла фильму на пользу, новый вариант сценария — еще один шаг к «открытию прекрасного во внешне неказистом». Изменился состав актеров: занятая в другом фильме Кузьмина не смогла сниматься. Главной же была замена Гарина, чья внешность и стиль игры хорошо отвечали некоторой необычности героя «Большевика». Максиму очень подошли «простецкая» внешность, манеры «первого парня» — Бориса Чиркова; интонация, найденная на первой съемке, стала еще естественнее.
Весной 1934-го снимали пролог, имея «камертоном» общий план кладбища. И что же, забыв о нем, взялись за демонстрацию «формального мастерства»? Нет, конечно. Излишний для сцены похорон «густой серо-черный тон» в прологе необходим для вполне реалистической световой картины петербургской зимней ночи (не столь уж яркие фонари вырывают из темноты круги света на мостовой и фасадах, остальное уходит во тьму). Но он же работает на образ «черной ночи реакции», также, как и погоня за Поливановым и его успешный уход от филеров в ту же «черную ночь», и лаконично, отраженно показанный разгром подпольной типографии, и блестяще снятый Москвиным мчащийся на санях новогодний маскарад, и старичок в кафе, читающий пожелания знаменитостей на Новый, 1910 год. Открывающие пролог кадры со стремительным движением лихачей и мелькающим светом контрастны спокойным по планировке и свету кадрам в кафе, а кадры тихой, вполголоса встречи Нового года на конспиративной квартире — тревожным кадрам уходящего от погони Поливанова. Это заложено в сценарии и передано оператором, так же как и контраст пролога в целом со следующим за ним первым «выходом» Максима.
«Юность Максима». Кадр из фильма Пролог.
В нем есть что-то от циркового «антре» на ярко освещенной арене: сначала слышно «Крутится, вертится...», потом Максим появляется на крыше сарайчика, на фоне светлого утреннего неба, допевает куплет и, изображая петуха, с громким «ку-ка-ре-ку» спрыгивает вниз. (Вообще-то Максим появляется еще до титров и пролога; проход его с гармошкой снят с низкой точки на фоне темного неба и наплывом переходит в белую надпись «Юность Максима» на черном фоне; этот кадр с Максимом тонально близок титрам — зритель воспринимает его примерно так, как афишу с портретом героя на фасаде кинотеатра).
Драматургические и пластические контрасты «С.В.Д.» и «Вавилона» успешно использованы в трилогии. Занятно, что на замысел ее повлияло знакомство режиссеров с новым руководителем кинематографии Борисом Шумяцким — это произошло в 1930 году, вскоре после того, как они подали заявку. Козинцев вспоминал: «Нас страшно взволновал контраст негероической внешности, прозаического вида человека и его легендарной биографии». Развивая идею контраста сниженного тона и легенды, «документальности» и героической комедии, режиссеры уверенно провели ее в драматургии фильма, в контрастах интонации и ритма рядом стоящих сцен, в контрастном использовании повторов («Шапки долой!» — орет мастер Максиму и его друзьям, прибежавшим в цех; «Шапки долой!» — кричит рабочий заведующему и мастерам, пришедшим в цех, где убит машиной рабочий). Москвин, как всегда, не просто шел за режиссерским замыслом, но и заострял его. В том же плане чаще всего шли его споры с режиссерами. Он бился за «доведение до предела» при четком ощущении самого предела, иначе прием действительно мог стать формальным.
Братья Васильевы, работая над «Чапаевым», строили «кривую эмоциональной нагрузки». Козинцев и Трауберг ее не строили, но если вычертить ее по фильму, даже не беря в расчет драматургическое напряжение сцен, их ритм, накал актерской игры, а учитывая лишь пластические, тональные контрасты, созданные Москвиным, кривая окажется весьма выразительной. Она покажет, что в фильме нет плавного движения от темного пролога к светлому финалу: темные эпизоды перемежаются со светлыми и с промежуточными по тону. За темной сценой всегда идет намного более светлая («выход» Максима после пролога; еще один его «выход» — из тюрьмы, и т.д.). Темные и светлые чередуются так, что большая часть темных —в первой половине фильма, но зато кульминация второй — темные, близкие по объему прологу сцены в тюрьме, наиболее экспрессивные по монтажу, по световым и композиционным контрастам. А снятые с контровым светом и на предельном контрасте кадры часового у стены и прохода Дёмы и его товарищей-смертников к карете заставляют вспомнить кадры часового из «С.В.Д.» и прощания Продавщицы и Солдата в «Новом Вавилоне» (странно, что писавшие о «прощании с прошлым» не обратили специального внимания на эти кадры).
Если темные кадры сменяются светлыми, то переход от светлых к темным идет через промежуточные. Хороший пример — антропометрическое бюро, расположенное между светлой сценой разгона демонстрации и темными сценами тюрьмы. Все кадры в бюро
Лето 1934 года. «Юность Максима». Съемочная группа в декорации
«Кофейня Филиппова». Слева направо: Трауберг, ассистент режиссера Кошеверова, ^Тарханов, Козинцев. 2-й оператор П.Посыпкин, Москвин, ассистент режиссера X.Локшина.
Крайний справа — ассистент оператора А. Сысоев.
Сразу после того, как сфотографировали группу, осветители попросили сфотографировать м с Москвиным. На обороте снимка, хранившегося у Москвина, написано: «От ударной 4-ой бригады на память нашему внимательному и хорошему Андрей Николаевичу Москвину. Зригадир Шишлов. Осветители...» (расписалась вся бригада). Вместе с Москвиным j осветителями — звукооператор И. Волк (слева от Москвина), Посыпкин и Сысоев.
«серее» по тональности, да еще и композиционно плоские и статичные — полный контраст к сцене демонстрации с ее энергичным движением и большой глубиной пространства. Для «документальной» съемки бюро Москвин изучал тюремные фотографии. «Серость фактуры и плоскостной идиотизм компоновки, — писал Козинцев, — замечательно передавали превращение человека в номер». Кроме переклички с тюремными фотографиями есть тут и элемент пародирования еще памятного зрителям начала тридцатых годов стиля ранних немых авантюрных фильмов — режиссеры и Москвин изобретательно развили мотив пародийно звучащей цитаты из «Антона Кречета» в сцене у заведующего. Об этой сцене, тоже тональ-но промежуточной, иногда говорили, как об операторской неудаче; в одной из работ о Москвине сказано: «...неоправданный аскетизм... условный невыразительный свет». На самом деле свет здесь совершенно реален, он идет от окна, которого нет в кадре, ибо от него ведется съемка. За окном серый день, в кабинете светлые стены, потому естественен мягкий, рассеянный свет почти от камеры. Оправдан остекленной стеной с дверью в цех и слабый контровой свет, отрывающий фигуры от фона. Нет и никакого аскетизма, изобразительное решение очень точно: приглушенная его яркость позволяет звонче прозвучать актерскому «соло» Чиркова, важному для раскрытия озорного характера Максима; промежуточный контраст, серость фактуры усиливает эмоциональный толчок при переходе на темные, контрастные кадры завода, цеха, лежащего на полу Андрея, покрытого рогожей.
Почему же говорят об аскетизме или о разностильности пролога и фильма? В 34-м противопоставлением «фэксовского» пролога реализму всего остального рецензенты усиливали мотив «прощания с прошлым», подчеркивали решительный переход авторов к социалистическому реализму. В более поздних исследованиях сказывается и инерция искусствоведческой эрудиции, подкрепленная самооценкой Трауберга, и привычка, разложив вещь на куски, изучать каждый отдельно. А Москвин снимал их не отдельно, он отлично чувствовал то, что Тынянов назвал «жанровой ролью фрагмента». Отсюда разные приемы, разный контраст в разных по «жанру» фрагментах. Вот кадры с повтором «Шапки долой!» Первый раз кричащий мастер и заведующий сняты на смягченном дымом сером фоне, кадр по тональности промежуточный. Когда в другой сцене это выкрикивает рабочий, заведующий виден на контрастном фоне с большими не-проработанными черными массами и просветом в глубине. Общая тональность кадра гораздо темнее, от повышенного контраста выдвигается вперед фигура заведующего в светлом пиджаке, четче виден неловкий жест, когда он вынужден снять фуражку.
В «Новом Вавилоне» Москвин решал разными изобразительными средствами отдельные сюжетные линии, а в «Юности Максима» смело пошел на разное решение эпизодов, не боясь «резко выраженной противоположности». Чем же был оправдан такой ход Москвина и как избежал он при этом пестроту, стилевой разнобой?
ВЕЛИЧИЕ ПРОСТОТЫ
Будем верить простому, оно, получив напряжение, становится великим.
Виктор Шкловский
На первый взгляд, «Юность Максима» — фильм крайне простой. Проста его драматическая структура, прост главный герой и по своему социальному статусу и по цельности характера, отсутствию внутреннего конфликта. Песню он пел самую простую, голос его, как написал Козинцев, — совсем простецкий. И принцип серийности шел от простого, даже простодушного «низкого жанра», от лубочных выпусков похождений постоянного героя, от серийных приключенческих фильмов, привлекавших рабочий люд близостью народному роману, фольклору. Отсутствие психологизма, свойственное героям фольклора и принципиальное для «Юности Максима», тоже способствовало восприятию фильма как очень простого. Но авторы прекрасно знали, что «простота в искусстве есть итог огромной сложности» — Козинцев сказал это в 1937 году, еще работая над трилогией.
Режиссеры пошли по совсем не простому пути сочетания двух планов рассказа: с точки зрения автора, повествователя, и с точки зрения героя. Благодаря этому тема — по формуле Эйзенштейна — воплощена сквозь человека, а простая история получила эмоциональное напряжение, захватила зрителя. Две точки зрения иногда присутствуют в одной сцене, даже в одном кадре. Так за надписью «И Максим попал в университет» («сказовость» надписей отвечает авторской точке зрения) идет сцена в антропометрическом бюро. «Плоскостной идиотизм» ее — тоже проявление авторской точки зрения, от нее же — гротескный показ окружения: все тюремные чиновники маленькие, щуплые, надзиратель в сравнении с чиновниками и даже с Максимом — гигант. Но в таком выборе актеров отражена и точка зрения Максима: чиновников он прямо презирает, надзирателя пока побаивается. Отзвук этого будет в кадрах, где Максим откровенно провоцирует огромного надзирателя; Москвин еще и увеличивает его рост нижним ракурсом. А помощник начальника тюрьмы, читающий Максиму перечень губерний, снова маленький, сморщенный старичок. В этой сцене использован и звуковой прием передачи точки зрения героя: Максим за воротами, но все еще слышен голос чиновника «И в западных воспрещается... И в восточных...»
«Юность Максима». Кадр из фильма. Цех
Москвин шел за замыслом режиссеров, усиливая ощущение точки зрения выбором ракурсов, развитием пластических мотивов, отвечающих развитию чувств Максима. Так внешне объективные, повествовательные кадры заводского двора самой своей атмосферой отражают чувства героя. Когда Наташа убегает от мастера и три друга прячутся с ней за грудой лома и труб, светлые глубинные кадры прямо отвечают озорному, веселому взгляду Максима на происходящее. Иным предстает заводской двор, когда Максим бежит в цех, узнав, что кто-то попал в машину, и с криком «Андрей!» к нему кидается Дёма. Тональность мрачная, закопченные стены цехов образуют на общем плане плоский темный фон — чувства Максима противоположны здесь тем, что были у него при встрече с Наташей.
Характерно различие атмосферы двух близких по ощущениям Максима кадров, сходных и по композиции — с лежащим на носилках раненым Андреем и с убитым машиной рабочим, лежащим на полу цеха. Гнетущая атмосфера есть и в первом кадре, но во втором Москвин ее сгустил, введя черный силуэт рабочего на первом плане и усилив косые лучи света: они освещают убитого, прорываясь сквозь смрадный дым. Предельное сгущение атмосферы опять же отвечало чувствам Максима — они напряжены до предела и прорвутся в кульминации следующей сцены (разгон демонстрации), когда Максим взберется на фонарь и закричит разбегающимся рабочим: «Стойте! Куда бежите?..» При выпуске фильма в Польше (1936) цензура вырезала сцены в цеху; протестуя против «варварских ножниц», известная писательница и историк искусства Стефания Захорска писала, что сцены эти «прекрасны и совершенно необычайны, ибо не динамичны, не вульгарно революционны, но трагичны своей статикой, своим переживаемым содержанием». Слова о «переживаемом содержании» относятся и к зрителям и к переживающему герою. Заслуга Москвина в этом неоспорима.
Еще готовясь к съемкам, он понимал — для такого фильма понадобится и весь накопленный опыт, и поиск новых путей. Стремление режиссеров к простоте, к доходчивости требовало и простоты изображения. Прежде всего это проявилось в более простом освещении, во многих сценах оправданным естественными источниками. Но не отказался Москвин и от излюбленного «психологического» света — на крупных планах он помогал сказать главное о персонаже в коротком кадре. Встречающие Новый год на конспиративной квартире стоят у круглого стола и освещены висящей над столом лампой. На крупном плане Поливанова свет от лампы сделал лицо шире, выделил большой лоб (этот принцип освещения Тарханова проведен через весь фильм). Впритык к этому портрету — крупный план стоящего рядом молодого рабочего. Москвин убрал верхний свет, дав довольно резкий, неоправданный боковой; ему важно, что такой свет подчеркнул непреклонную волю парня — подпольщика в полном смысле слова: к столу он вылезает из подполья, с напечатанной там листовкой. Портрет выразителен, световой толчок не заметен. Также не очень-то оправдано освещение крупных планов в воскресной школе, на квартире Наташи.
Москвин не просто использовал опыт своих немых фильмов, но преобразовывал его. Отказавшись от мягкого оптического рисунка
«Юность Максима». Кадр из фильма. Школа. Наташа (В.Кибардина).
(первые шаги к этому были еще в «Одной»), он в большинстве кадров сохранил в общем характере изображения принцип светотени. А используя новые приемы, он привлекал и прежний опыт, чтобы усилить их воздействие. Не характерный для его фильмов почти пустой плоский фон одной из сцен он повторил в других, тематически близких (кабинет заведующего, антропометрическое бюро, кабинет помощника на-
чальника тюрьмы), по-москвински превратив плоский фон в пластический мотив. Вместе с Енеем он отыграл этот мотив в сцене с городовым у Наташи. Здесь плоский фон уже не пустой, а перегруженный: этажерка со слониками, открытки веером по стене, пирамида белоснежных подушек на кровати. По контрасту с нейтральными фонами это мещанское барокко в доме революционерки лучше всяких слов
раскрыло технику конспирации.
Для Москвина фон был важен всегда, и свой метод глубинного освещения, прием сопоставления переднего плана и фона, дающего кадру дополнительный смысл, он с успехом применил и в «Юности», например, в кадрах в цехе. И вдруг — нейтральные фоны (еще черная доска и пустые стены воскресной школы, кадры с низким горизонтом и серым небом). Но это не «опрощение», ибо таким кадрам противостоят кадры глубинные: заводской двор в начале, стереоскопичные кадры маевки и погони за Максимом, Дёма и Максим под фонарем у бесконечного глухого забора, наконец, кадры разгона демонстрации — большинство их снято с низкой точки и фоном оказывается резко, почти по диагонали уходящее вглубь светлое здание многоэтажного доходного дома. Стало быть, и в композиции кадров Москвин ведет ту же линию столкновения противоположностей, прямо связанную с общим
принципом сочетания точек зрения «повествователя» и героя.
И не случайно именно в глубинных кадрах Москвину удалось добиться самого удивительного — совмещения полной объективности с субъективным, лирическим ощущением героя. Финал сцены на заводском дворе снят самым общим, дальним планом. Внизу маленькая фигурка Максима, он стоит на заводской стене и машет уходящей по тропинке к
«Юность Максима». Начало финального кадра.
Максим (Б.Чирков).
насыпи железной дороги Наташе, а ее уже почти не видно, так она далеко. По насыпи идет поезд, дальше, у горизонта — трубы других заводов. Обыденный, без всяких красот пейзаж, никаких композиционных или тональных изысков. Тем более удивительно, что Москвин сумел передать ощущение чего-то очень важного для Максима. Мы, зрители, благодаря непостижимому искусству оператора смотрим на этот предельно объективный пейзаж глазами Максима (присутствующего в кадре!) и понимаем, чувствуем: «растворяющаяся» в пейзаже Наташа становится ему родной.
Нельзя не вспомнить и о пейзаже, завершающем фильм. На первом плане полоска ржаного поля на пригорке, за ним — плоская равнина со светлой линией реки у горизонта; ни тропинки, ни дерева или хотя бы кустика; небо, в треть кадра, серое с чуть заметными облачками. Звучит песня Максима. Перейдя полоску ржи, он спускается вниз и тоже «растворяется» в пейзаже, вроде бы, и «опрощенном», без «облаков с виньетками», без эффектной ветки на первом плане. «Но этот внешне простой кадр, — писал Пудовкин, — глубоко и значительно волнует. В равнине — Россия, в ее открытом просторе — будущее, в простом движении человека вперед — уверенность, сила молодости». Пудовкин объяснил силу этой простоты тем, что авторы первый раз по-настоящему полюбили героев. «Первый раз» — явное преувеличение, но мысль о значении любви к героям, особенно к Максиму, безусловно, верна.
Влюбленность в героя, стремление передать его отношение к жизни не только словами, актерски, но и строением фильма, пластикой, монтажом сочетались с чувством осуществления заветной мечты «войти в общий фронт». В атмосфере подъема начала тридцатых годов это вылилось в органический сплав пафоса и лирики, обеспечило целостность фильма, не имеющего жесткой драматургической конструкции, построенного на сплетении точек зрения, на сочетании сложных по монтажно-пластической структуре сцен с такими, к которым можно отнести слова Пастернака о «бесстрашии в отношении общего места». Простота фильма, «получив напряжение», была направлена на то, чтобы влюбленность в героя передалась зрителю. И в этом Козинцев, Трауберг, Москвин, Еней, Волк вместе с актерами во главе с Чирковым одержали полную победу. Неожиданно, но точно объяснил ее академик В. М. Глушков, сказав, что Максим — «это, если позволено такое определение, наш советский супермен в наилучшем смысле этого слова. Действительно, он все может, все умеет, все делает с чувством, с умом, с блеском, — и в то же время совершенно просто и естественно».
Успех фильма у кинематографистов начался с первых показов в декабре 1934 года и был многократно подтвержден с трибуны Всесоюзного совещания. Оно проходило с 8 по 13 января, а 11-го Постановлением ВЦИК в связи с 15-летием советского кино ведущие кинематографисты получили ордена и звания. Козинцев и Трауберг были награждены орденами Ленина, звания заслуженных деятелей искусств РСФСР присвоили Москвину и Енею, заслуженных артистов РСФСР — Кузьминой, Костричкину, Магарилл и Чиркову. Орденом Ленина наградили «Ленфильм». Список награжденных был велик, и здесь, в связи с Москвиным, следует упомянуть, что звания заслу
женных деятелей искусств получили также Эйзенштейн, Тиссэ, Головня, Пиотровский. Вечером 11 января Москвин был в Большом театре на торжественном заседании; через день его избрали в Центральное бюро секции творческих работников кинематографии.
27 января 1935 года «Юность Максима» вышла на экраны, и сразу же стало ясно — успех всенародный. 21 февраля Москвин снова в Москве, на открытии Первого международного кинофестиваля. 24-го показали «Юность Максима» и газета «Кино» сообщила: «Картина горячо принята всеми присутствующими». 2 марта жюри присудило Первый приз кинофабрике «Ленфильм» за фильмы «Чапаев», «Юность Максима» и «Крестьяне», отличившиеся, как сказано в дипломе, «исключительно высокохудожественным качеством, утверждением реалистического стиля советской кинематографии и сочетающих идейную глубину, жизненную правдивость и простоту с высоким качеством режиссерского мастерства, актерской игры и операторской работы».
Представив достижения мирового кино, фестиваль позволил сравнить советские и зарубежные фильмы по изобразительному решению; обсуждения прошли в Ленинграде (председателем был Москвин, докладчиком Козинцев) и в Москве. Общий итог подвел Нильсен, он сказал, что по мастерству наши операторы стоят выше зарубежных и что операторы Запада наших копируют. Столь категориче-
Друзья — Е.Михайлов и лицо неустановленное у кинокамеры «Эклер», которой снималась «Юность Максима», поздравляют Москвина во вполне «бенберистском» стиле Вероятно, это январь 1935 г. — после возвращения Москвина из Москвы с высоким в те годы званием.
Фото ГАгороняна.
Г.Козинцев, А Москвин, Д.Шостакович, Л.Трауберг. Фотография снята в квартире Трауберга для «Фотохроники ТАСС» весной 1935 г., после победы «Юности Максима» на Московском международном кинофестивале.
ский вывод отразил установку «сверху» во что бы то ни стало утверждать бесспорное превосходство советского кино, хотя высокое изобразительное мастерство показали на фестивале и зарубежные операторы. Можно назвать, скажем, Джеймса Уонг Хоу и Чарльза Кларка в фильме «Да здравствует Вилья!» Джека Конвея — жюри фестиваля отметило «исключительные художественные качества фильма» (но как раз этот фильм был и примером «копирования» — он снят не без влияния работы Эйзенштейна и Тиссэ в незавершенном фильме «Да здравствует Мексика!») или Роже Юбера в «Пансионе “Мимоза"» Жака Фейдера. Головня написал, что «операторское искусство шагнуло далеко вперед», а примером привел работу Москвина в «Юности Максима», Гинцбурга в «Крестьянах», Косматова в «Летчиках».
1936
Наше время кажется мирным, но на самом деле это не так
Винсент Ван Гзг
Слова Ван Гога, написанные в 1884 году, относятся и ко многим другим годам, в том числе и к 1936-му. До Второй мировой войны было три года; фашизм пока проводил кровавые репетиции
Фотография, снятая, вероятнее всего, на встрече Нового, 1936 года в Ленинградском Доме кино, сохранилась в архиве Ф. Эрмлера. Сидят — актриса Э Цесарская и С.Эйзенштейн, стоят — Эрмлер с привязанной бородой и Москвин. Имя стоящего между ними не установлено, надеюсь, это удастся сделать, может быть, с помощью читателей.
Д вот имя по крайней мере еще одного человека, который был с ними, мы уже не узнаем — в 1937-1938 годах Эрмлер оторвал «врагов народа» от всех своих фотографий.
в Абиссинии, а с июля и в Испании. Все знали об этом (в день рождения Москвина газеты писали о боях в Абиссинии, о нападении фашистов на Леона Блюма), но у очень многих предчувствия близкой войны не было, как и не было появившегося уже в 1937-м ощущения трагического времени, когда — вспомним стихи Берггольц — мир становится страшен.
1 января 1936 года вышел на экраны киноочерк «С Новым годом!» с песней: «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей!». Песня характерна для середины тридцатых, времени ликования демонстраций и спортивных парадов, неподдельного веселья народных гуляний. Время всенародной гордости московским метро, рекордами первых стахановцев, героическим освоением Арктики отражалось в песнях; кульминацией парадной всеобщности стала в мае 1936-го песня из фильма «Цирк»: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!». В кино атмосфера подъема, вершиной которой были «Чапаев» и «Юность Максима», казалось бы, поддерживалась такими фильмами, как «Мы из Кронштадта», «Подруги», «Се-
Февраль 1936 года.
Член комиссии по выбору места для «советского Гэлливуда» Москвин за работой.
меро смелых». Но уже появились признаки перемен: 13 февраля статья «Правды» о фильме «Прометей» Ивана Кавалерид-зе — «Грубая схема вместо исторической правды», в июне запретили «Строгого юношу» Абрама Роома. Причиной было заметное отличие фильмов от тех принципов социалистического реализма, которые все упорнее насаждались в кино.
Своей тупой нормативностью соцреализм тормозил развитие кино, порой вызывая и неожиданные последствия. Как раз в 1936-м утвердилась идея «лучше меньше, да лучше», для искусства абсолютно непригодная. Один из руководителей ГУКФ (Главное управление кинофотопромышленности) выразил ее так: «Вместо 120 плохих картин мы должны дать 90, но таких, чтобы их качество было бесспорно». Идея оказалась живучей, и пик периода «малокартинья» придется на 1951 год, год пятидесятилетия Москвина. Другим порождением принципа единой и единственной для всех эстетической системы была идея «киногорода», выдвинутая Шумяцким после поездки с Эрмлером и Нильсеном в США летом 1935 года. Приказом ГУКФа Москвина включили в комиссию по выбору места «советского Голливуда», и он с удовольствием участвовал в морском путешествии вдоль берегов Крыма и Кавказа в феврале 1936-го, отметив в пути день рождения. Отличный производственник, Москвин признавал технические и экономические выгоды стягивания всего кино «в один кулак», но прекрасно понимал, что это стало бы еще одним шагом к стиранию различий художественных школ, направлений, стилей.
Эти тенденции подтвердила ликвидация операторских факультетов Ленинградского, а затем и Киевского институтов киноинженеров, организованных на базе кинотехникумов, давших «Ленфильму» Горда-нова, Гинцбурга, Рапопорта, а «Украинфильму» — Екельчика, Топчия, Панкратьева. В закрытии небольших факультетов была своя логика преимуществом операторского факультета ВГИКа была прямая связь подготовки режиссеров и операторов: составленная Нильсеном программа по операторскому мастерству была увязана с программой курса режиссуры, созданной Эйзенштейном. Но монополия одной школы тоже усиливала нивелировку операторского искусства.
В апреле 1936 года, в разгар очередной дискуссии о формализме и натурализме в кино, прошла вторая ленинградская конференция операторов. В адресованном ей письме Шумяцкого первым назван Москвин — «оператор установившегося реалистического воззрения на кадр, на фактуру», но с «чертами некоторого академизма», с «натуралистическими извращениями», с пренебрежением богатством выразительных средств. Пример — финал «Юности»: «...в кадре "Дорога
в Сормово” изобразительные средства композиции нарочито обеднены сплошным серым массивом унылого поля. В кадре нет ни одной оживляющей его черты». Еще о Москвине: «Это от него идет в наших лентах сквозная линия отказа придавать правильно построенному кадру оживляющие черты отношения художника, непосредственно наблюдающего ростки нового быта и явления и характеры новой эпохи». Для «Дороги в Сормово» сложная формулировка скрывала лишь желание иметь как «оживляющую черту» эффектную ветку впереди или красивое дерево в глубине. Иное дело — «сквозная линия».
«Натуралистические извращения» Москвина, Сигаева и Рапопорта и «формалистические извращения» Горданова, Кольцатого и того же Рапопорта Шумяцкий представил как антиреалистическую линию, связанную с мировоззрением («отношением художника»), что было уже обвинением политическим, особенно если линия «сквозная». Смысл резких нападок даже при оговорках, что они относятся «к ряду кадров», а не к фильмам в целом, — стремление добиться единого для всех стиля. Шумяцкий определил его так: «...фотография каждого из наших фильмов... должна отличаться предельной простотой и необычайной яркостью». Почему «Дорога в Сормово» не отвечала «предельной простоте», а кадры с «резкими ракурсами контрастного освещения» в «Фрице Бауэре» Горданова и «Границе» Рапопорта — «необычайной яркости», понять было трудно.
Пиотровский говорил на конференции о влиянии экспрессионизма и импрессионизма на лучшие работы ленинградской школы, в том числе на «Новый Вавилон», о том, что такая живописность на новом этапе вырождается в формализм. О Москвине он сказал: «Попытка перейти от живописности к большей художественной простоте сделана Москвиным в “Юности Максима”. Однако эту работу нельзя рекомендовать всем операторам как единственно правильный рецепт». Вот рецепт самого Пиотровского: «Надо обратиться к классической живописи, которая в лучших образцах должна стать одним из истоков, питающих творчество советского оператора». Круг лучших образцов к 1936-му предельно сузился, включая в себя главным образом работы передвижников. Сами операторы в обсуждении творческих вопросов особой активности не проявили: трудно было ориентироваться в быстро меняющихся требованиях (всего год назад видный критик Николай Иезуитов хвалил Александра Гинцбурга и художника Николая Суворова за уход от влияния передвижников в «Крестьянах»). Общее мнение выразил Горданов. Он не отрицал, даже подчеркивал достижения «первого периода», согласился, что иронически названный им «экспрессионистический импрессионизм» недопустим, и сказал, что четкой линии дальнейшего творческого пути ленинградских операторов пока нет.
Москвин молчал, хотя ему предъявили обвинения куда серьезнее подтолкнувших его к речи на Всесоюзном совещании. Он лучше других операторов чувствовал направление перемен — и по тому, как трудно шла работа над сценарием второй серии, и по событиям в других искусствах, в музыке — как раз в это время он особенно сблизился с Шостаковичем. Причиной были важные события их личной жизни. В конце 1935 года Москвин оформил свои отношения с Надеждой Николаевной Кошеверовой; в декабре у них родился сын, названный в честь дедов Николаем.
«Славный парень, отличный товарищ», — написал о Кошеверовой Евгений Шварц, близкий друг семьи Москвиных. Но глава семьи, в соответствии со своим характером был с ней, как и с сыном, на «вы». Более того, со стороны казалось, что он «жил, как бы на отшибе в собственной семье. Всеми способами показывал, что они сами по себе, а он сам по себе», — это тоже слова Шварца, человека, если можно так сказать, трезво наблюдательного и точного в оценках. Поэтому я позволю себе привести довольно большую цитату, завершающую его характеристику Москвина: «...множество не менее талантливых и ученых людей никак не могли поставить себя на столь независимый лад. Значит, все же дело в его поведении. Иной раз казалось мне, что по древней традиции, впитанной, вошедшей в плоть и кровь, юродствует он во имя свободы. Вполне бессознательно. Уходит от суеты сует. Отсюда его молчание, плевки, манера говорить “вы” близким, чтобы отгородиться. И полная чистота от фразы и фальши».
...Кошеверова дружила с Ниной Васильевной, женой Шостаковича. Семьи часто бывали друг у друга — Шостаковичи жили недалеко, на том же Кировском, рядом с «Ленфильмом». Кошеверова рассказала мне, как она и Москвин были у них вместе с Мейерхольдом и Зинаидой Райх, угощались пирогами с капустой: «В этот год, во время проработок после “Сумбура вместо музыки", Дмитрий Дмитриевич мало где появлялся, отсиживался дома». Дружба еще более упрочилась, когда в мае 1936-го у Шостаковичей родилась дочь; детей стали вместе вывозить на дачу.
Шостакович — один из тех, кто наверняка не мог назвать 1936 год «мирным». Еще в 1935-м он начал Четвертую симфонию, к январю 1936-го завершил первую часть, работал над второй. 29 января «Правда» напечатала статью «Сумбур вместо музыки» об опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», 6 февраля — «Балетная фальшь» о его же «Светлом ручье» (вслед появились статьи о фильме «Прометей», о «художниках-пачкунах»). Сразу же остановили съемки мультфильма Цехановского «Сказка о попе и работнике его Балде» с музыкой Шостаковича (Москвин хорошо знал режиссера, уже написанную музыку, видел отснятый материал и понимал, что фильм может быть очень интересным). В этих условиях весной 1936 года симфония была закончена, и ее не один раз играли в 4 руки у Шостаковичей. Кошеверова, рассказав мне, как слушали новые вещи в домашнем исполнении автора, не могла уверенно назвать Четвертую — все-таки прошло полвека. Скорее всего Москвин слышал ее: побывав в Москве после путешествия по Черному морю, он вернулся в Ленинград 8 марта и до сентября никуда не выезжал. В любом случае он знал о ее трагическом содержании. «Специфичность Четвертой... — по мнению Марины Сабининой, — в том, что развитие здесь все время прерывается резчайшими образными контрастами, а не останавливается на долгом неуклонном движении мысли-образа. Растревоженный разум и сердце художника словно впервые охватывают противоречия жизни во всей их бескрайности, и он не видит возможностей их примирения». Осенью 1936-го начались репетиции, шли они трудно, снова упоминалась «сумбурная музыка». Шостакович снял симфонию с исполнения.
Непримиримые противоречия жизни Москвин знал не только на примере Шостаковича. Ему было, пожалуй, тяжелее, чем его
столь же замкнутому другу-композитору, который мог разрядить эмо-циональное напряжение в трагической музыке. Москвин переживал все в себе. Никто из его друзей на «Юности Максима» не знал, о чем он думал, снимая последнюю сцену. Поливанов напутствовал Максима: «В Сормово ждут людей. Там трудно...» Это 1910 год, директор Сормовского завода — Николай Дмитриевич Москвин. Напомню, что финальный кадр назывался «Дорога в Сормово» и о нем писал Шумяцкий, обвиняя Москвина в повороте на неверный путь всей ленинградской операторской школы. Москвин промолчал, но ведь следы в душе от таких обвинений и их возможных последствий все равно оставались.
В декабре 1935-го ГУКФ запретил фильм Шписа, Мильман и Михайлова «Инженер Гоф», снятый на «Белгоскино» (до этого они сняли там «Возвращение Нейтана Беккера» — по итогам 1932 года Шумяцкий назвал его в одном ряду со «Встречным» и «Иваном» Довженко). Шписа и Мильман перевели на «Ленфильм» без права ставить фильмы; они занялись монтажом. Михайлов, потеряв коллектив, ставший для него «своим», решил вернуться к фотографии, к дизайну. Москвин не уговаривал его остаться в кино, он, если и не понимал, то чувствовал: пока его друзья отделались легким испугом. Новая волна террора после убийства Кирова, вроде бы, в конце 1935-го — начале 1936-го ослабела, но уже готовился первый из «больших процессов». Он состоится в августе, «большой террор» войдет в кульминационный период. В такой обстановке весь 1935-й и половину 1936-го Москвин ждал «Возвращение Максима».
Без дела он не оставался, по утрам смотрел материал, обработанный в лаборатории за сутки, заглядывал на съемки к молодым операторам. Шпис писал книгу о монтаже и обсуждал с ним связь пластики кадров с монтажом сцены. Охотно помогая ему, Москвин, по рассказу Горданова, стал записывать и свои соображения о делах операторских. Много времени он посвящал технике. На студии создали Цветной сектор, вместе с Государственным оптическим институтом изготовили оборудование, начали съемки. Москвин вникал во все подробности. В ГОИ работал его брат Борис и вообще было много знакомых. Один из них, Давид Волосов, занимался объективами с переменным фокусным расстоянием. «Андрей Николаевич, — написал он, — оказал мне большую помощь, как в выборе оптических параметров, так и в обосновании рациональности создания таких объективов в целях расширения творческих возможностей кинооператора». С середины тридцатых Москвин — постоянный консультант Волосова, ставшего одним из ведущих оптиков страны, лауреатом Ленинской премии. По поручению директора ГОИ, академика С.И.Вавилова поляризационный фильтр, убирающий при съемке чересчур яркие блики, разрабатывал Григорий Фаерман; он вспоминал: «Андрей Николаевич любезно предоставил мне для ознакомления свое приобретение (фильтр привез ему из США Нильсен. — Я.Б.), но без права его разрушения». Фаерман создал отечественный способ изготовления таких фильтров; Москвин испытывал их опытные образцы. Было это в конце 1935 года, тогда же Москвин познакомился с Вавиловым как председателем «общественного суда» над первым советским фотоаппаратом «Фотокор»; Москвин был одним из судей.
Само это приглашение — подтверждение авторитета Москвина и в фототехнике. Он следил за новинками, умел уловить плодотворность новых идей. Когда в начале тридцатых появились малоформатные «Лейки», он разработал подобный аппарат, изготовил его и снова начал много фотографировать. Москвину был интересен сам процесс работы: он почти не печатал больших увеличений, изучал негатив, в лучшем случае печатал маленькие «контрольки». Но не выбрасывал их, вклеивал в большие альбомы. Главные объекты съемки — сын и любимая собака Хекса, их фотографии он печатал в размере 9x12 см.
Из-за интереса Москвина к Мейерхольду возникло увлечение театральной фотографией. По просьбе Москвина Шостакович привел его на репетиции «Пиковой дамы», которую Мейерхольд ставил в Малом оперном театре. Москвин любил его спектакли, теперь был захвачен самим Мастером, его энергией, артистичностью. На репетициях и на спектакле он снял несколько пленок. Контрольки вклеил в новый альбом. Появились в нем и другие театральные серии, снятые из зала и за кулисами — мхатовские «Царь Федор Иоанович» и «Гроза» (здесь его особенно привлекал Тарханов, игравший Дикого, к съемкам из зала добавились и съемки в гримерной), «Король Лир» в Государственном еврейском театре. Отдельный альбом посвятил гастролям знаменитого китайского актера Мэй Ланьфана.
Занятия фотографией, техникой, помощь молодым операторам, встречи с друзьями в Ленинграде и в Москве, где он особенно сблизился с Нильсеном, походы в филармонию, театры, цирк, на выставки — все было Москвину интересно. Не было главного — операторской работы. А была веселая маршевая музыка из репродуктора, первый троллейбус на проспекте 25 Октября, растущее разнообразие продуктов в магазинах... И статьи «Правды», уход Михайлова из кино, Четвертая симфония и столь затянувшийся простой. Два потока жизни определяли настроение Москвина всю первую половину 1936-го. В апреле начался подготовительный период «Возвращения...», но уверенности, что все в порядке, еще не было. Когда в июле стали снимать, Москвин втянулся в привычный ритм работы, стараясь думать только о будущем фильме.
ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ
Кто знает цену сущности своей,
Тот самый предостойный из людей...
Абу Али Ибн Сина
« Большевик» был задуман многосерийным. Козинцев написал: «Эйзенштейн (знаток жанра!) очень радовался, узнав, что вторая серия, согласно всем канонам называется “Возвращение Максима”». И стиль новых серий должен был быть тот же, что и первой: в центре герой, он участвует в каждой сцене, точка зрения повествователя сочетается с лирической точкой зрения героя. Режиссеры взялись за сценарий, еще снимая первую серию, но скоро почувствовали: время меняется, требования меняются. Они представ
ляли основное содержание (1914 год, революционный подъем перед войной; Максим бежит из ссылки и включается в подпольную работу), но были в плену у стиля «Юности», им трудно было перестроиться. Работа затянулась, и они решили снять в 1935 году, между двумя сериями, социально-утопическую комедию. Москвин поддержал эту идею. Переговоры вели с Ильфом и Петровым, Шагинян, Славиным, чья пьеса «Интервенция» всем им очень нравилась, но сценария не получили. Тогда решили поставить «Отец Горио», однако на это не согласился ГУКФ.
Они привлекли к работе над сценарием Льва Славина, с которым уже подружились, и он придумал историю военного заказа, вызвавшего лавинообразно расширяющуюся забастовку. Образ «снежного кома» был интересен, режиссеры подхватили этот замысел, да и Москвина он радовал изобразительными возможностями. Но разработка, сделанная Славиным в духе «крепко сколоченной драмы», их не устроила. Переделав очередной вариант, они попытались в какой-то мере вернуться к принципам «Юности». Поджимали сроки (надо успеть снять летнюю натуру), нажимало руководство, требовавшее как раз «крепко сколоченную драму», что шло от любви Сталина к четким по драматургии американским фильмам, все это отразилось на сценарии. Оценивая его сразу после выхода фильма, Козинцев говорил: «...нам пришлось прибегнуть к помощи старых и уже поржаве-лых традиционно-драматургических пружин, что я считаю нашим горем, нашей бедой...» Но они добились главного: создали образ Максима на новом этапе биографии — многому научившегося, но не потерявшего обаяния.
Наконец сценарий сдан, с 26 апреля — подготовительный период. В апреле же появилась статья оператора Юлия Фогельмана (он снял пока мало фильмов, но в числе их «Гармонь» Игоря Савченко) с таким выводом: «Можно быть уверенным, что в своих ближайших работах передовой отряд заслуженных мастеров советского операторского искусства — Москвин, Тиссэ, Головня — покажет образцы “обтекаемости” формы и простоты, несущие высокие изобразительные качества». Понимание Фогельманом «обтекаемости» видно из сравнения «Подруг» опытного Владимира Рапопорта и «Семеро смелых» дебютанта Евгения Величко, чья работа «лежит ближе стилю социалистического реализма, так как она не претенциозна». В призыве к красоте без претенциозности нет «опрощения», скорее это скрытый протест против «оживляющих черт» Шумяцкого.
В обстановке дискуссии о натурализме и формализме и все большего напора норм соцреализма статья Фогельмана «Право на творчество» была попыткой отказа от монополии одного стиля в операторском искусстве. Симптоматично, что право оператора на творчество Фогельман доказывал на примере Москвина. Козинцев написал, что в «Юности» они с Москвиным заранее решили даже о возвышенном рассказывать прозаическим тоном. Фогельман возразил: «Следует полагать, что не “заранее принятое решение”, а тема, материал “Юности Максима” определили для Москвина прозу как метод изображения». И сделал категорический вывод: наше кино «несомненно, зазвучит и языком прозы, и языком поэзии, и лирикой, и романтикой в зависимости от поставленной перед художником тематической задачи».
Начиная съемки «Возвращения», Москвин хорошо понимал тематическую задачу. Но выбор «метода» зависел не только от темы, его надо было увязать с «Юностью». Москвин вовсе не думал, что шел там на уступки натурализму и формализму: «Я считаю, что “Юность Максима”, несмотря на ряд неудач чисто операторских, имеет правильный замысел, и если бы я мог снять “Юность” еще раз, я снимал бы лучше, но на тех же основаниях». К сожалению, он не назвал свои неудачи Козинцев считал недостатком то, что за стеклянной стеной кабинета заведующего не ощущается жизнь завода. Москвин легко мог дать живой фон, скажем, тенями на окне в цех, но интуитивно знал, что именно пустой, плоский фон тут художественно оправдан. Москвин наверняка был не согласен и с Траубергом, хотя, может быть, и ему не нравился последний крупный план Максима в карцере с некоторым перебором экспрессии. Мог ему быть не по душе и кадр с часовым у стены, почти автоцитата из «С.В.Д.» — не потому, что напоминал о «формалистическом прошлом», а потому, что и в нем был перебор.
Автоцитата есть и в «Возвращении»: в сцене постройки баррикады несколько кадров очень близки по композиции к кадрам «Нового Вавилона». Киновед Семен Фрейлих объяснил это сходными художественными и идейными задачами. Сходство задач было, но Козинцев и Москвин выбором точек съемки легко могли решить кадры иначе. Мотивы тут другие, основной, скорее всего, подсознательный, — закрепить чувства, охватившие их на съемках. Они помнили, как снимали здесь же, в Одессе, «Вавилон», а работая над близкими по содержанию кадрами, ощущали, конечно, их связь в плане историческом — от баррикад Коммуны к баррикадам российских рабочих, но, главное, в плане личном от «Вавилона» к «Возвращению» они чувствовали перемены в себе самих и в уровне своей работы. Это ощущение творческой зрелости, «цены сущности своей» возникло, при всей неудовлетворенности, после «Юности Максима».
На Всесоюзном совещании Эйзенштейн сказал, что «советская кинематография... вступает в свой классический период». Под «классическим» он имел в виду «образцовый», но это определение применяется и в ином смысле — как обозначение одного из двух «вневременных», постоянных типов художественного, научного, вообще любого вида творчества. Роберт Фальк заметил, что «у романтиков ощущения как бы физиологически душевные, духовные». Это верно: «романтик» идет от себя, показывает мир другому, как бы пропустив его через себя; «классик» ощущает гармонию мира, его тайны вне себя, объективно, и рассказывает о мире как бы со стороны. Все определения условны, недиалектичны, ибо не бывает «классики» и «романтики» в чистом виде. В творчестве каждого художника есть черты обоих типов, все дело в их соотношении. А оно еще меняется по мере развития личности. Юношеству свойственна романтика, со зрелостью и мудростью приходит у многих романтиков взгляд на мир со стороны.
Козинцев, Трауберг и Москвин шли этим частым путем развития. С юношеским романтизмом, с мелодрамой в «Чертовом колесе» и «С.В.Д.» все ясно. Но и «Шинель» произведение в большой степени романтическое. Снимая «субъективные» кадры, Москвин не просто ставил себя на место персонажа, он и сам переживал то, что волновало героя, экспрессивно передавал и свое чувство. Несомненен пе
ревес романтического в «Вавилоне» и в «белом» начале «Одной». Но именно «Одна» стала точкой перелома, соотношение стало меняться в сторону классического. Перелом закрепила «Юность Максима». Это не значит, что «классика» совсем вытеснила «романтику»: в фильме есть кадры и даже куски «пропущенные через себя», но классическое преобладает. Неверно считать пролог «КЭности» прощанием с ФЭКСом (самопародийным прощанием с эксцентризмом было «белое» начало «Одной»), а вот повтор кадров «Вавилона» в трилогии — ностальгическое прощание с романтикой юности.
Путь коллектива Козинцева и Трауберга можно считать моделью пути всего поколения новаторов советского кино за 15 лет. Поэтому слова Эйзенштейна о новом периоде как «классическом» — это и оценка его («образцовый»), и определение преобладающего типа творчества, утверждение зрелости еще совсем молодого искусства.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА»
Стремление к чистоте жанра свойственно только так называемым эпигонам. Открыватели и родоначальники варварски смешивают разнородные стилистические и композиционные элементы, оказываясь победителями не по законам вкуса, а по его инстинктивному чутью.
Борис Пастернак
В «Возвращении» тоже предполагался пролог — побег Максима из ссылки, но полностью снять его не удалось. Работа шла трудно, в самом начале ее из-за перебоев с пленкой и аппаратурой полмесяца простояли; связанная с излишней централизацией, элементарная бесхозяйственность вошла в число обвинений во вредительстве, предъявленных через год Шумяцкому, другим руководителям ГУКФа и студии. Это усугубилось плохой погодой в августе и сентябре, вызвавшей экспедицию в Одессу(не могу удержаться и приведу несколько строк из письма Шостаковича, который приехал с группой в Одессу, к своему другу Ивану Соллертинскому: «И, наконец, еще одно развлечение: вместе с оператором Москвиным я занимаюсь чревоугодием. Ходим мы в Лондонскую гостиницу и заказываем разные феноменальные блюда. Заказываем за один день, накануне. Попутно пьем “джин”, “виски”, “шерри-бренди” и т.п. роскошные напитки, каковые в Лондонской имеются в изобилии. Это занятие доставляет мне массу удовольствия»). Уже к концу съемок, в феврале 1937-го сняли в павильоне короткий пролог в стиле «Юности»: вечер, одинокий фонарь, идут Максим, Дёма, Андрей с песней «Крутится, вертится...» На этом фоне — надписи о судьбе трех товарищей, потом титры и развернутые сцены с Наташей и Тураевым. Лишь после этого появляется на экране главный герой.
Повзрослев, Козинцев, Трауберг, Москвин и Еней остались верны эксцентрической юности. Выход Максима — одно из подтверждений тому. На экране угол арочного проема между залами трактира. Он украшен портьерой из пестрого ситца и напоминает театральный портал. Появление из-за портьеры Максима, поющего под гитару мещан-
«Возвращение Максима». Кадр из фильма. Трактир. Выход Максима.
скую песенку «Очаровательные очи», — театральный, эстрадный выход, подобный цирковому ан-тре в «Юности». Москвин с камерой тронулся навстречу до крупного плана, затем чуть отъехал и дальше двигался вместе с Максимом, держа его в одной крупности. Медленное движение, отвечая неторопливому ритму песни, и сделало «выход» почти эстрадным номером, ибо песня длинная, а проем-«портал» все время виден на заднем плане. Но наезд на крупный план Чиркова показал несоответствие бесшабашно исполняемой песни и серьезных глаз Максима, оценивающих обстановку, ищущих связного. А в сцене заседания стачечного комитета Максим на крупном плане серьезен, но в глазах хорошо видны вспыхивающие веселые искорки.
Портреты Максима в первых сценах сняты просто, но в этой простоте есть свой замысел, да к тому же сама она не так уж проста. Москвин наполнил трактир рассеянным мягким светом. Дым сделал свет «живым», колеблющимся, создав особую, «влажную», что ли, атмосферу питейного заведения и смягчив аляповатый ситец и «промышленную» роспись стен, не без юмора выполненную Енеем под примитив. На этом притушенном фоне шел с гитарой Максим, освещенный общим светом спереди сверху. На крупном плане подсветка от камеры смягчила тень и помогла хорошо увидеть глаза.
Сцена игры на бильярде снята в основном средними планами — Максим, конторщик Дымба и болельщики освещены общим светом. Не усложняя свет на средних планах, Москвин дал Козинцеву свободу в работе с массовкой. В тесном пространстве вокруг бильярда режиссер с участием Москвина продуманно распределил болельщиков, одетых по-разному — в темном и светлом. Рядом с темным пиджаком Дымбы все время белая рубашка полового с графином водки на подносе. Это помогло Москвину создать необходимый контраст в кадре. А когда кадры посветлели (сначала Максим, потом Дымба сняли пиджаки), он поднял камеру выше. Этот подъем позволил сохранить контраст, ибо светлые лица стали занимать в кадре большую часть (кстати, подъем психологически оправдан: толпа вокруг бильярда выросла и загородила его от камеры). В крупных планах игроков и полового свет отработан тщательнее, зрители бессознательно переносят это на наполненные движением средние планы с их более простым светом. Бенефисный дуэт Бориса Чиркова и Михаила Жарова не пропал, несмотря на пестрый фон.
Так же тщательно отработаны портреты Максима в начале сцены заседания, когда он сидит на подоконнике, а в окне за его спиной видна бильярдная. Ассистент оператора на двух первых сериях трило
гии Алексей Сысоев рассказал, как Москвин освещал такие портреты: «На крупный план приборов было не очень много. Пятисотка под матовым стеклом на полу. Она работала в сторону, так что чуть боковой свет попадал на лицо. Прибор сверху сбоку. Контровой, чтобы оторвать от фона, — всегда чуть сверху. И подсветка слабая на теневую сторону». Поясню: пятисотка — довольно мощный прибор рассеянного света с лампой 500 ватт; позже появились маленькие приборы, ласково названные «бэби», и для подсветки глаз Москвин применял уже их. Остальные приборы — направленного света (прожекторы); чтобы смягчить свет и уменьшить его силу, на них, особенно на тот, что подсвечивал тень, одевали «сетки» из марли. Такой способ освещения хорошо известен, все дело здесь в москвинском «чуть-чуть». Приборы по его указаниям устанавливали осветители. Поправки приборов, освещающих лицо, делал он сам. Иногда касался прибора рукой, и, казалось, тот даже не шевельнулся, но чуть заметный сдвиг все и решал.
В крупных планах Максима, сидящего на подоконнике, контрового прибора нет, его заменяет свет из окна в бильярдную. Подсветка от прибора слева очень ослаблена для увеличения контраста светлой и темной части лица; это отвечало общему повышенному контрасту изображения всей сцены. Прибор слева дал и точечные блики в глазах, те веселые искорки, что помогли актеру передать саркастическое отношение к меньшевикам и радостный азарт человека, настроенного на жаркий спор (Максим пока не спорит, он лишь с серьезным видом «осаживает» гитарными аккордами громкие восклицания меньшевиков, чтобы их не услышали в соседнем кабинете). Эти портреты, как и крупный план с серьезными глазами на вступительной песенке, дают зрителям почувствовать: Максим такой, каким они знали его по первой серии, но в чем-то и новый. Они же оправдывают и неожиданную для паренька из «Юности» эрудицию в споре по тексту резолюции, и игру под простачка в сцене с бильярдом.
У операторов бытует легенда, что Москвин освещал крупный план чуть не десятком приборов. На самом деле к тем трем-четырем приборам, о которых говорил Сысоев, он изредка, если актер поворачивался в кадре, добавлял один-два прибора для подсветки лица в новом положении. Но легенда существует и закреплена в воспоминаниях Аполлинария Дудко, который пришел как-то на съемку портрета Наташи поучиться ставить свет «по-москвински». Меня смутила фраза Дудко о множестве мелких приборов «вокруг глаз актрисы»; это противоречило другим рассказам, в том числе и Сысоева. Реакция самого Сысоева на прочтенные ему слова Дудко была неожиданной: «Ну, Андрей Николаевич мог для него и спектакль устроить. Он не любил, если смотрят, как он ставит свет, и мог налепить лишнего, а потом, как уйдут, лишнее снимал». Воспитанная бенберизмом любовь Москвина к розыгрышам с годами не проходила, как и стремление поддерживать ходившие о нем легенды. Замечу еще, что он «не любил, если смотрят, как он ставит свет», не потому, что делал из своих приемов тайну, а потому, что был уверен: каждый оператор должен сам прийти к своим приемам освещения.
Вернемся к портретам. В первых сценах Москвин изобразительно связал повзрослевшего Максима с тем, каким он был в «Юности», и
подчеркнул новые черты его характера. Но для создания образа героя он должен был учитывать перемену жанра. Москвин четко разделял характер и образ, в отзыве на рукопись книги Косматова об операторском мастерстве (1960) отметил, что в ней нет акцента на «решение основной задачи — выявление характера и образа человека». Почему же нужно их разделять? При одном и том же характере образ героя разный, скажем, в комедии и трагедии, стало быть, и изобразительно он должен решаться по-разному. К примеру, характеры Дымбы и Малюты Скуратова во многом схожи (сплав агрессивности, нахального напора, наглой победительности с холуйством), но сколь разные образы с помощью режиссеров, художников, гримеров и, конечно, Москвина создал Жаров в трилогии и в «Иване Грозном»! Образ Максима менее заметно, но тоже менялся от серии к серии.
Славин написал: «Конечно, сценарий “Возвращение Максима” — кинодрама». А Козинцев и Трауберг старались продолжить стилистику «Юности» и «по инстинктивному чутью», одержав в конечном счете, может быть, и не такую полную, но внушительную победу, смешивали «разнородные стилистические и композиционные элементы», встык соединяя куски драматические и гротесково-эксцентрические, бытовые и лирические. В «Юности» разнородность прочно скреплялась образом героя «романа похождений». Здесь прочного скрепления не было, в изрядном числе сцен Максим не участвовал. Тем большее значение имел его образ. Москвин внимательно отнесся к первым крупным планам, ключевым для выявления характера и создания образа опытного конспиратора. Дальше шло, по выражению Москвина, «мясо». В 1939-м он руководил работой Дудко, снимавшего первый фильм, и лаконично изложил ему схему «трех приборов», добавив: «Это скелет, а “мясо” к нему сочиняйте сами». Дудко посчитал «мясом» дополнительные мелкие приборы (и, кстати, применял иногда излишне сложные схемы освещения). Москвин имел в виду иное — соотношение портрета с фоном, общую атмосферу эпизода. И как раз по «мясу» видно, как изменилось операторское решение от «Юности» к «Возвращению».
Плоский пустой фон — важный пластический мотив «Юности», выявлявший несколько условный характер отдельных сцен, вполне в стиле «романа похождений». Во второй серии он крайне редок, в чистом виде использован лишь в редакции «Правды», где вполне оправдан: свет от единственной низко висящей лампы с абажуром конусом не достигает стен, подчеркивая необжитость редакции, живущей под угрозой закрытия и конфискации имущества. Интересно использован плоский фон в сцене заседания стачечного комитета. Почти все кадры с меньшевиками идут на фоне темной, едва проработанной стены, в кадрах с Максимом фоном служит окно — светлое пятно, «живое» за счет подсвеченного дыма и движения бильярдистов. А в кадре студента-меньшевика у окна точка съемки такая, что в окно видна тоже темная стена.
Из всех сцен фильма с Максимом лишь несколько «камерных» (с Наташей, с Тураевым), в остальных же — активный, живой фон. Даже во многих средних планах у бильярда Москвин сохранил глубину общего плана трактира с по-своему активной жизнью. Такой фон отвечал режиссерской задаче «поймать образ вулкана, кипящего котла»
и стал «мясом», нарастающим на «скелет» — крупные планы Максима. Это был уже не статический, «выписанный» по законам светотени портрет (хотя Москвин вовсе не отказался от светотеневой проработки), а динамический образ героя в гуще жизни.
На образ Максима работает и такой острый прием, как изменение освещения внутри сцены. Разгон демонстрации, постройка баррикады и начало боя (до смерти Ерофеева) сняты при солнечном свете. Когда Ерофеев произнес последние слова, Максим с гневным лицом выпрямился во весь рост уже на фоне тяжелых туч, усиленных темным дымом, а в музыке возник похоронный марш, в который Шостакович ввел интонации не только печали, но и гнева. Изменение света при изменении настроения, состояния героя не было чем-то новым, но вместе с впечатляющими композициями кадров, изменением темпа монтажа, проникновенной игрой актеров и силой музыки оно поднимало кульминацию сцены и всего фильма на уровень подлинного пафоса.
На ином градусе режиссерского, операторского, актерского мастерства прием был бы формальным. Пудовкин увидел в фильме и другие приемы, «которые были свойственны фэксам», например, проход Максима в темных очках после разгрома баррикады. «И вместе с тем, — сказал он, — ни о каком формализме говорить нельзя. Остается как раз острая форма, в которой содержание собирается и делается для зрителя более доходчивым». Острота формы — в смелой смеси жанров, уводившей от чистой кинодрамы, и в принципе изобразительных контрастов, связывающем вторую серию с первой. И так же, как там, Москвин часто обострял прием до предела. В сцене мнимого убийства Максима изобразительное доведение до предела позволило хоть как-то скрыть «поржавелые традиционно-драматургические пружины».
Особенно характерна манифестация черносотенцев. Для натурной сцены подобрали массовку в сто человек, подходящую улицу. По рассказу Кошеверовой, еще на студии, когда она показывала Енею и Москвину уже одетую массовку, Москвин предложил перенести съемку в павильон. Зная результат, ход его мысли нетрудно восстановить: тональность кадров манифестации должна была резко контрастировать с довольно светлыми кадрами, завершающими сцену на баррикаде. Можно сделать это на натуре, но павильон позволял больше сгустить атмосферу: убрав из кадра реальные дома и небо, предельно сконцентрировать внимание на главном, дать в одном-двух кадрах обобщенный образ, к контрасту светотеневому добавить еще и контраст жанровый, стилевой.
Москвин изложил свою идею Енею, как всегда, чисто производственно: «Нужно сто квадратных метров черного бархата. Найдем?» Енею этого было достаточно, чтобы, не говоря ни слова, нарисовать на обрывке бумаги два фонаря и группу людей в глубине между фонарями. Режиссеры тоже сразу ухватили смысл предложения и тут же изменили текст реплик, вернее, сняли их вовсе, оставив одно «Ура!» Еней затянул стену павильона черным бархатом, установил фонари. Москвин расставил приборы на первый план справа, поглубже слева (свет от фонаря), а перед фоном пустил дым и слегка подсветил его. Зажгли фонари, и всего пятнадцать человек массовки во главе с Дым-
«Возвращение Максима». Кадр из фильма Демонстрация черносотенцев
бой, с портретом царя и флагами пошли от фона на камеру. В механическом темпе Дымба вскидывал руку, хрипло выкрикивая «Ура!», остальные старательно повторяли за ним. Отсутствие музыки подчеркнуло контраст бездушного «Ура!» с человеческим чувством похоронного марша. С экрана повеяло жутью... Неожиданное в сравнении со сценарием решение сцены, предложенное Москвиным, сделало ее предельно точной не только в изображении, но и в разоблачении самой идеи черносотенного «патриотизма», его тупой, разрушительной силы. Не случайна, конечно, и перекличка с близкими по пластике и механическому ритму кадрами скока немецкой кавалерии в «Вавилоне».
В сцене манифестации черносотенная идея разоблачена заостренно публицистически, в сценах Думы — заостренно эксцентрически. Москвин мог усилить эксцентричность Пуришкевича и Маркова 2-го, но сделал это лишь на грани «чуть-чуть», снимая, к примеру, Маркова, подражавшего Петру I, чуть снизу. «Протокольно» представив Думу (так снимал ее думский фотограф в 1914 году), Москвин подчеркнул документальный характер сцены. Все внимание отдано актерам, их портреты похожи на фотографии в журналах того времени. Лишь к концу второй, основной сцены в Думе, когда после речи Тураева началась вакханалия черносотенцев, Москвин обострил ракурсы, вывел наиболее характерные лица на очень крупный план. Сцены в Думе дали наглядный образ «парламентской говорильни». Жорж Садуль отметил в «Истории киноискусства», что они «сделаны с такой тщательностью и знанием дела, что Фрэнк Капра использовал их в своем фильме “Мистер Смит едет в Вашингтон”, где действие тоже происходит в парламенте». Замечание важное, ибо говоря о влиянии американского кино на наше (оно было и даже насаждалось руководством ГУКФ, хорошо знающим кинопристрастия Сталина), часто забывают об обратном влиянии.
Стоит сказать и о производственной стороне съемки Думы. Оснащение «Ленфильма» со времен «Севзапкино» многократно улучшилось, но и американская техника не стояла на месте. В распоряжении Джозефа Уолкера, оператора Капры, был лучший выбор осветительных приборов, более удобные приспособления для установки камеры и съемки с движения. Тем не менее, по качеству изображения кадры Думы ни в чем не уступают кадрам зала Конгресса в «Мистере Смите». А Москвин на съемках Думы установил своеобразный рекорд, достигнув большого художественного эффекта и высокого технического качества минимальными средствами. Построенная для двух фильмов
«Возвращение Максима».
Кадр из фильма. Гэсударственная Дума.
декорация зала Таврического дворца изображала лишь его половину, но занимала всю площадь самого большого павильона студии. По нормам, при такой площади все включаемые приборы должны потреблять около 100 000 ампер. Сначала снимала группа «Депутата Балтики» (сцена заседания Петросове-
та). Достаточно опытный оператор Михаил Каплан в нормы уложиться не смог: на общих планах приборы потребляли около 135000 ампер. Москвину света понадобилось едва раза меньше нормы, почти в три раза меньше, чем на «Депутате Балтики».
Надо отдать должное Каплану — в статье о Москвине (июнь 1937 года) он высоко оценил эпизод Думы по композиции кадров и освещению. Основная же идея статьи Каплана: в «Юности» Москвин еще не до конца ушел от формалистического прошлого, а в «Возвращении» он «победил самого себя», придя к реалистической трактовке, для чего «решительно и бесповоротно порвал с так называемым пятнистым освещением». Каплан писал это из лучших побуждений: считал, что помогает Москвину, отрезая его от прошлого и объявляя стопроцентным реалистом, но был неправ и в целом, и в частностях. Верно, что в «Возвращении» есть сцены, снятые с общим рассеянным светом, но Москвин вовсе не отказался от излюбленного освещения пятнами и других находок фэксовского периода. Что особенно интересно, именно «пятнами» освещены общие планы Думы. Москвин применил свой постоянный принцип «на каждое место работает один прибор» и плотной укладкой пятен, точно выверенной их яркостью создал впечатление общего рассеянного света минимальным числом приборов (невольно вспоминаешь, как Сергей Рахманинов на вопрос о секрете его восхитительной игры на рояле ответил, что секрета нет, просто надо не задевать соседние клавиши).
Но и это не все. Работая на нижнем пределе по свету, то есть на грани риска, Москвин не снимал так называемые страховочные дубли. Вместо 14 смен по плану сняли Думу за 7 смен, сэкономили много пленки. Конечно, блестящие показатели зависели не от одного Москвина, а от профессионализма всей группы, но его вклад, его пример был решающим. «Снимали невиданными темпами, — вспоминал Жаров. — Москвин, мрачный человек в очках, и Козинцев — они руководили съемкой — решили снимать, отказавшись от нескольких дублей». Речь идет о сценах с Жаровым в трактире. Москвин пошел на громадный технический риск, снимая один дубль, но благодаря этому почти целую часть фильма сняли за три смены. Большую эконо-
Лето 1936 г. В гости к Москвину, снимавшему сцену в трактире «Возвращения Максима», пришел из соседнего павильона, где снимался «Петр I», М М Тарханов в костюме Шереметева. Слева направо: Л. Трауберг, А.Москвин, М.Тарханов, Г. Козинцев, над ним — Б. Чирков и М.Жаров в ролях Максима и Дымбы.
мию времени дало совмещение работы Козинцева с актерами и установки камеры и света. Москвин придумал систему бесшумного общения с ассистентами и осветителями с помощью жестов, выразительных и экономных, не требовавших лишних движений. И делал это настолько артистич-
но, что иногда казалось, будто он дирижирует светом: осветители боготворили его, и реакция на каждый жест была мгновенна — зажигался прибор, менялось направление луча, часть луча прикрывала фанерка...
Были многократные задержки не по вине группы и непредусмотренная экспедиция, были пересъемки, но фильм закончили с большой экономией, за что получили благодарности и премии. 27 апреля успешно сдали его в Москве. Пока печатали копии второй серии, ГУКФ решил снова выпустить на экраны «Юность Максима», но оказалось, что почти все 800 копий (огромное по тем временам число) «засмотрены» до полного износа. Впервые и, наверно, единственный раз, через два года после выпуска такого тиража фильм печатали повторно. Авторы могли гордиться этим, а если прибавить еще и большой успех «Возвращения», то и почить на лаврах. Это было не в их правилах. Не тратя ни дня, Козинцев и Трауберг взялись за сценарий третьей серии.
«ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА»
Мне кажется, главное и в жизни, и в искусстве — чувство меры Не люблю ничего чрезмерного.
Галина Уланова
Завершив сценарий, режиссеры написали: «...сейчас мы можем оглянуться назад, критически осмыслить недостатки предыдущих серий». В числе их они отметили «некоторую разницу» в стиле: «Если в первой серии преобладают лирические сцены и образ Максима показан в движении и росте, то во второй серии лирические сцены отошли на задний план, а исторические события несколько отодвинули фигуру Максима». В третьей серии они поставили целью «создание большой исторической драмы». Они шли в ногу с заданной Сталиным общей тенденцией, но это не было простой данью моде:
они были искренни, они верили тогда в правильность именно такого движения от серии к серии. Искренность и вера сделали «Выборгскую сторону» достаточно сильным для своего времени фильмом.
Установка на большую драму определила подход Москвина к изображению, а жанровая однородность вела к единому для всех сцен принципу пластического раскрытия образов героев и среды. Но две сцены требовали изобразительной экспрессии: разгром винных подвалов и пожар складов с продовольствием. Сценарий был готов только к концу декабря 1937 года, а сдачу фильма планировали на ноябрь 1938-го. Чтобы не упустить зиму, в феврале-марте срочно сняли «уходящую натуру» и только 26 марта вступили в нормальный подготовительный период. Так и получилось, что съемки начались с кадров, не задавших «интонацию рассказа» всего фильма, — с разгрома винных погребов (пожар сняли осенью; как и некоторые другие эпизоды, в фильм он не вошел).
Первая съемка пришлась на вечер 14 февраля, день рождения Москвина. Февраль был морозный и бесснежный, пургу создали, подбрасывая лопатами к пропеллерам четырех ветродуев привезенный на машинах снег. Трудно было всем, особенно актерам — их хлестали снеговые вихри. Но Москвин требовал, чтобы даже при двадцатиградусном морозе ассистент Саша Зазулин после каждого дубля чистил рамку съемочной камеры. Покрывшись вместе с камерой ватником, он работал наощупь, замерзающими от мороза пальцами. Настойчивость Москвина все оправдала: не было ни одного метра брака по вине камеры. Не было и брака фотографического, хотя при режимной съемке быстро меняется световой режим и мудрено на глаз определять уровень подсветки, общую экспозицию. Москвин обычным «Приходите огорчаться» позвал режиссеров на просмотр первого материала. Огорчаться не пришлось. Динамика световых бликов, резких порывов метели, лихорадочный темп движения актеров, общий тон, сгущенный местами до черноты и при всех технических сложностях выдержанный во всех кадрах, — все создало интонацию, близкую строкам Блока: «Черный вечер,/Белый снег./Ветер, ветер!/На ногах не стоит человек». Потом сняли пробег Максима и его товарищей, крупные планы Евдокии, погромщиков и смонтировали все под скерцо Шостаковича, в котором разухабистый «Цыпленокжареный...» вытеснялся патетическими аккордами всего оркестра. В общем строе фильма сцена стала ритмическим, экспрессивным взрывом между замедленной по ритму сценой в Совете с больной Наташей и спокойной сценой в банке. Так был создан пик драматического напряжения, подготовивший другой, уже трагический пик фильма в сцене суда.
Первая съемка стала серьезной проверкой новой для Москвина операторской бригады. Вторым оператором был Георгий Филатов; в 1930 году он снял вместе с Гинцбургом «Сын страны» Эдуарда Ио-гансона и уже сам — еще три его фильма. Москвин активно поддержал назначение Филатова на изобразительно сложный фильм «Профессор Мамлок», взял его под наблюдение, и тот успешно справился. Но ему хотелось получить от учителя еще больше, и он попросился вторым на «Выборгскую»: лучшего операторского университета быть не могло. Как обычно, Москвин поставил его в титрах «на равных», облегчая возвращение к самостоятельной работе. По несчастью она
Москвин с орденом Трудового Красного Знамени. Скорее всего, это февраль 1939 года, сразу после вручения ордена, так как в обычной жизни он орден никогда не носил. Фото оператора А.Погорелого.
не состоялась — тяжело заболев, Филатов умер в 1940 году. Он был хорошим помощником, но, как рассказал работавший на трилогии осветителем будущий оператор Вячеслав Фастович, по сравнению с педантичным Посыпкиным его чуть «испортил» опыт собственных фильмов.
Новичками в группе были и оба ассистента — Миша Аранышев и Саша Зазулин (отмечу, что Аранышев только в 1937 году окончил ВГИК и — с легкой руки Москвина — стал потом ведущим оператором «Казахфильма»). А пока Москвин должен был более внимательно, чем с обычной своей бригадой, контролировать все действия подчиненных.
Зима 1937-1938 годов оказалась для Москвина тяжелой. Началось еще осенью: один из ближайших друзей, честнейший Еней, коммунист, с легендарным Мате Залкой спасавший для республики золотой запас России, еще в 1936-м был объявлен троцкистом, а теперь его сослали в Казахстан. В октябре арестовали Нильсена. Москвин не мог не думать о брате: Се-
мен, талантливый инженер, занимал ответственный пост на крупном заводе и, как Нильсен, ездил в командировку в США. Предчувствия оправдались уже в начале ноября. Наконец, февраль, 15-го утром, назавтра после первой съемки «Выборгской стороны», он узнал, что судьбу Нильсена и Семена разделил Шпис.
Семен, Шпис, Нильсен — это самые близкие (о Енее он хотя бы знал, что тот жив), а сколько — начиная с Адриана Пиотровского — попало в застенки просто знакомых! Как же вел себя Москвин9 После ареста брата он ждал обыска и уничтожил почти весь свой архив, не пожалев и записей по операторским делам. Позже он вырвал из альбома почти все фотографии Мейерхольда. Делал он это не из страха за себя, но боясь повредить другим. Он не сжег книги и перепечатанные им самим стихи и пьесу Гумилева — за это он ответил бы сам, но на многих фотографиях рядом с Мейерхольдом были Шостакович, Иван Соллертинский и другие. Соседство в альбоме с «врагом народа» могло оказаться для НКВД уликой.
Еней вспоминал, как в день отъезда пришел прощаться. Москвин завел его в свою комнату, где было много неожиданного, купленного на «барахолке» и в комиссионках: «...он открыл свой “антикварный магазин” и со словами “это тебе пригодится” стал давать мне какие-то вещи...» Москвин, как и Козинцев, не терял связи с Енеем, помогал ему деньгами и посылками. В ноябре 1939 года друзья Шписа пред
приняли попытку облегчить его участь, не зная, что он уже расстрелян. Москвин написал: «...За все время совместной работы Б.В.Шпис проявил себя идеально честным человеком и отличным производственником— энтузиастом своего дела». Записка, прекрасное свидетельство гражданского мужества, по счастью сохранилась. Кстати, это единственный раз, когда Москвин поставил перед подписью «Заслуженный деятель искусств, орденоносец» (орден Трудового Красного Знамени он получил за «Выборгскую сторону»). Он был из тех, кто мог сказать о себе словами Анны Ахматовой, написанными еще в 1922 году: «Мы не единого удара/Не отклонили от себя./И знаем, что в оценке поздней/Оправдан будет каждый час.../Но в мире нет людей бесслезней,/Надменнее и проще нас». Что помогало ему и другим «бесслезным» людям? Сила духа. И, конечно, работа...
Художником на третью серию пригласили Василия Власова. В кино он не работал, но кино знал и любил; с Козинцевым и Траубергом познакомился, посещая вольнослушателем их занятия. Для режиссеров и Москвина было важно, что Власов — знакомый, свой. Власова же привлекли творческая атмосфера, дружелюбие, с которым его принял коллектив. Рассказав об этом, художник Татьяна Шишмарева, жена Власова, добавила: «Василий Андреевич особенно дружно работал с Москвиным, хотя Москвин был человеком сложным». Помимо прочего, Власова восхищало умение Москвина работать руками. А Москвина Власов заинтересовал и как человек: по словам искусствоведа Бориса Суриса, он был блестящим рассказчиком, щедрым на иронию, по каждому вопросу имевшим собственное мнение, чаще всего не совпадающее с расхожими представлениями. Наверно, и из-за этого Москвину нравилось бывать у Власова дома.
По сохранившимся эскизам видно, что Власов, опытный книжный иллюстратор, прекрасно знал эпоху, уловил дух сценария, нашел верную общую тональность. Но эскизам не хватало чувства меры, они были перегружены деталями. Поэтому для Власова много значили обсуждения их с режиссерами и лаконичные замечания Москвина, а, главное, его практическая помощь на всех этапах претворения эскизов в декорацию. Решение упрощалось, лишние детали уходили, росла роль композиции, верно найденной с самого начала. Власов успешно выполнил свою задачу, созданное им декорационное оформление имело прямую связь с работой Енея в предыдущих сериях и было вполне самостоятельным, отвечая драматургическим особенностям «Выборгской стороны».
Была и «чужая» декорация — повторилась история с Думой. Молодой художник Александр Блэк построил «Коридор Смольного» для «Человека с ружьем». Он рассказал: «Я отдавался целиком этой работе, но на просмотре был убит... тщательность отделки коридора превратилась на экране в бутафорию, в картонный коридор». Снимал Мартов, но в большой спешке: фильм выпускали к годовщине. Блэк попросил у Москвина разрешения прийти к нему на съемку этой декорации, но не смог, был занят по своему фильму. Встретив вечером Москвина, услышал: «Идите со мной». Специально для него в декорации зажгли установленный свет, и он увидел «живой павильон», им задуманный. «Андрей Николаевич меня утешал: “Не отчаивайтесь!”. А я понял, насколько важно все, что делает оператор... Короткие
фразы Андрея Николаевича дали мне в жизни очень много». Декорацию «оживила» живописная трактовка пространства. Во второй серии многожанровость вызвала в некоторых сценах (мнимое убийство, например) отход от живописных принципов. В «Выборгской стороне» москвинская киноживопись последовательно осуществлена практически во всех сценах и кадрах.
Основные съемки начали 27 мая со сцен в Выборгском районном совете. В сценарии написано: «Хаос и нагромождение: только что переехали. Смешались мебель, папки с делами, знамена, ящики с патронами». Все это есть на экране, но... почти не видно. Москвин освещал первый план и глубину кадра разным по силе светом, а объектив фокусировал так, что резко видны люди и вещи на первом плане, а фон менее резок. Второй план и фон смягчены еще слабым дымом — в помещении накурено. Но атмосфера неустроенности не пропала благодаря точно найденным деталям первого плана (машинка, на которой одним пальцем печатает Мищенко, стоит на антикварном столике XVIII века) и такому расположению людей и обстановки в глубине, которое уже не деталями, а обобщенными контурами, расположением светлых и темных масс передало дух начального хаоса. Москвин следил и за тем, чтобы не пропали важные детали фона. По его просьбе лозунг «Вся власть Советам!» написали преувеличенно большими буквами: он хорошо читается, будучи и не очень резким.
Так сняты и другие объекты: коридор Смольного, суд, банк, даже натурная сцена очереди за пособием. И здесь у Москвина тот же эффект: на общем плане, не говоря уже о средних и крупных, фон (завод на другом берегу реки) смягчен, нерезок. Внимание зрителя — на первый план. Но в фильме преобладают средние и крупные планы, прием мог стать однообразным. Москвин избежал этого открытой, незамкнутой композицией кадров: она дает почувствовать пространство не только в глубину, но и в стороны, за рамки экрана. Да и глубина кадра, хоть и смягчалась, но в полную силу работала на создание настроения сцены, усиливая этим различие атмосферы соседних сцен. Москвин шел по тонкой грани резкости и размытости, четкости контуров и их мягкости, нигде не впадая в чрезмерность. Чувство меры было безукоризненным.
Драматургия фильма основана на развернутых разговорных сценах с активным участием персонажей второго плана и массовки. Трауберг писал о «фоновых» героях: «В этой картине было “максимовскому" фону полное раздолье». Формула Козинцева для «Выборгской»: «сгущенная, перенасыщенная человеческая среда». Смысл формулы и значение фона понятны по сцене суда. В начале Наташа и заседатели сидят за столом на фоне белой стены. На том же фоне снят адвокат: суд идет по старым нормам судопроизводства. Но с момента вмешательства Максима за спиной судей появились рабочие и красногвардейцы, а когда начали судить Евдокию, за судьями была уже плотная масса людей. Нарушающее нормы отношение людей к пространству раскрывало и новое отношение людей друг к другу. Москвин так строил композиции кадров, что перенасыщенная человеческая среда есть в каждом, даже на крупных планах. Такое раздолье «максимовского фона» означало для Москвина и серьезное отношение к портретам второстепенных персонажей или мелькающих в одном кадре участни-
«Выборгская сторона». Кадр из фильма. Суд. Марьиванна (Л.Емельянцева).
ков массовки, но в отличие от ранних фильмов, скажем, «Вавилона», где кадры-портреты парижских работниц сняты каждый отдельно, в «Выборгской стороне» они даны без отрыва от окружения.
Вот Марьиванна: всего два крупных плана. Красиво снять миловидное личико ученицы созданной Козинцевым ак-
терской школы Ларисы
Емельянцевой было не трудно. Но Москвину важна была не просто Марьиванна, а разная степень ее переживаний, больше того — разная степень ее сознания. Первый кадр, крестины ее первенца в Совете. Портрет классический по композиции — лицо сдвинуто вверх и вправо, так как взгляд направлен по диагонали вниз и влево (за кадром — ребенок). Она одна в кадре, фон заметно смягчен, все внимание лицу: она улыбается ребенку и своему, личному счастью. Второй крупный план — на суде. Неожиданность приговора Евдокии вызвала паузу, и вдруг Марьиванна восхищенно воскликнула: «Ой, как хорошо!» Здесь лицо в фас, почти прижато к нижней кромке кадра, так что хорошо видны стоящий рядом муж и те, кто сразу за ними. Ее лицо высвечено и проработано светом чуть заметнее, чем лица окружающих; кадр читается как ее портрет. И свет здесь иной, причем настолько, что в первый момент, пока на лице ее сосредоточенное внимание, можно и не признать в ней улыбающуюся своему счастью мать, виденную раньше. Но вот до нее дошел смысл приговора, она приподняла голову, улыбнулась — теперь ее уже нельзя не узнать. Москвин понимал, что этот кадр — первый кульминационный пик сцены и, вроде бы, должен был «подать» его. Но он доверял драматургии, доверял актрисе и лишь «чуть-чуть» помог ей, поставив свет так, что, когда она совсем немного подняла голову, заблестели глаза и зубы. И в ответ на ее ослепительную улыбку, на ее вскрик, заулыбались все вокруг. Теперь Марьиванна счастлива за другого человека.
Второй пик сцены — момент прозрения Евдокии — стал кульминацией фильма. Критики писали о перекосе: линия Евдокии вышла вперед, притушив линию Максима. Отчасти это верно. Но образ Максима имел запас прочности в масштабе трилогии, и перекос был ему не страшен, даже притом, что хорошо выписанный в сценарии образ Евдокии режиссеры и артистка немного педалировали. Наталья Ужвий — украинская театральная актриса, игравшая и в кино, запомнила слова Козинцева: «У вас большие выразительные глаза. Вы можете многое сказать без слов». Это суть образа молчаливой женщины, глаза которой выдают внутреннюю муку. «Вместе с Москвиным
«Выборгская сторона». Кадр из фильма Суд Евдокия (Н. Ужвий).
мы долго и тщательно искали портрет Евдокии Козловой... — вспоминала Ужвий. — Остановились на гладкой, открывающей лицо прическе и строгом черном платке, обрамляющем лицо». Москвин следил, как повязан платок в каждом кадре: в сочетании с разным светом (сильный верхний свет в подвале, мягкий свет слева сверху в суде и т.д.) тень от платка на лбу и щеке была разной по размеру и по силе. Платок играл еще одну роль: как и волосы, наискосок прикрывшие часть лба, он суживал лицо, скрывая типично украинскую «скуластость». Главное — глаза. Москвин не высвечивал их дополнительными приборами, но учтя форму глаз и лба актрисы, выбором направления основного света и обычной небольшой подсветки снизу в одних сценах усиливал их выразительность, в других несколько приглушал. И этим помогал актрисе.
Ужвий привыкла в театре к открытому проявлению темперамента, создать трагический образ на внешней сдержанности было ей нелегко. Потому вершиной роли стали мгновения, когда боль и мука солдатки вырывались наружу: крик Наташе «Ненавижу!», восклицание после приговора «Лучше убейте!.. Не обманывайте!..», наконец сам момент прозрения. «Голос ее становится пронзительным, нечеловеческим. Лицо искажается такой яростью, такой мукой, что на него просто невозможно смотреть»- написано в сценарии. Ужвий сыграла это. Но она и в других сценах играла трагедию. А увлеченные актрисой, показавшей свои возможности на съемке разгрома погребов, режиссеры уже в первой сцене в Совете чересчур выделили ее из толпы женщин. Тут был перебор, Москвин принял свои меры. Снимая после суда сцену в подвале, он притушил глаза Евдокии, меньше проработал детали лица, светом и композицией выделил Дымбу и Ропшина. Этим он смягчил налет театральности, появившийся от стремления актрисы быть все время на уровне трагедии.
Ужвий попала в новую для себя атмосферу съемок, на них «не было ни суеты, ни шума, ни внезапных срывов. Все было подчинено творчеству» (срывы, к сожалению, бывали, только актеры не знали о них: к примеру, 7 июля в разгар съемки вышла из строя камера «Эклер»; ею Москвин снимал всю трилогию; в павильон привезли «Митчелл», камеру другого типа, с которой он раньше не работал; нужно было время на ее освоение, но опыт, смекалка, интуиция Москвина позволили продолжать съемки без перерыва). Ужвий хорошо понимала, что сделал для нее Москвин, и, стремясь «выполнить свой долг перед его памятью», рассказала о нем: «Наблюдать, как работает Москвин, было наслаждением. Вот он появляется в павильоне и начинает бро
дить, заложив руки назад и, на взгляд непосвященного, словно бы ничего не делая. Козинцев, сидя за аппаратом... ставит кадр и репетирует с актерами. А Москвин все продолжает ходить, вроде бы и не видя разыгрываемую актерами сцену. Во всем его облике, даже в походке, чувствуется нарочитое спокойствие. Не могу забыть его глаза, светло-голубые, стального оттенка, чуть иронично-насмешливые. Казалось, они говорили о том, что у него, Москвина, есть в жизни что-то очень интересное и сам он делает именно то, что считает важным, нужным и увлекательным... Наконец сцена выстраивается, оживает. Москвин направляется к камере, бросая на ходу: “Мадам, давайте сниматься!” Сейчас я вспоминаю об этом с улыбкой. А тогда, в те дни, эта короткая фраза звучала для меня как сигнал к наступлению. Она подстегивала меня, заставляла быть собранной, вселяла уверенность в себе, рождала спокойствие, настраивала на нужный лад».
Это поразительно верный портрет Москвина. Он любил актеров, помогал им своими операторскими приемами, готовностью к работе, умением делать ее почти незаметно (ведь он не «бродил», а устанавливал свет). Актеры отвечали ему взаимностью. Вообще-то они незаслуженно редко говорят об операторах. Москвин — исключение. В воспоминаниях Кузьминой, Жарова, Бирман, Соболевского, Жеймо оператору и человеку Москвину посвящены многие страницы. Но Ужвий увидела и то, что другие не видели. О моментах, когда роль «не шла», актриса написала: «В сторону Москвина я просто боялась взглянуть. Он не умел скрывать свои чувства, и по его лицу всегда можно было безошибочно определить отношение к происходящему— от смертельной тоски до улыбки одобрения». Замкнутый, прячущий свои переживания, Москвин в момент съемки, когда внимание всех было направлено на актеров, позволял себе не скрывать чувства. Таким он бывал только наедине с самими близкими друзьями. И в момент творческого подъема...
Начало ноября. Последняя, ночная съемка — финал фильма и трилогии. Максим в фуражке и кожанке стоял в открытой машине. Снимая чуть снизу, Москвин так поставил свет, что пока Максим был неподвижен, кожа куртки не бликовала, казалась матовой, лицо выглядело «скульптурно» — появился поколенный «портрет полководца», вроде парадных портретов, столь любимых официальным искусством тридцатых годов. Этого не было в сценарии, об этом не думали ни режиссеры, ни Чирков. По рассказу Трауберга, Москвин проверял рельсы и тележку, второй режиссер Илья Фрэз занимался массовкой, а Козинцев, Чирков и он, переживая прощание с Максимом, «стояли в каком-то тупом, рассеянном ожидании». Москвин же, делая обычную, рутинную работу, может быть, и не думал о прощании с трилогией, о горе и радостях, пережитых за эти годы. Но было у него — не могло не быть! — ощущение трилогии как целого. Вероятно, мысль о «парадном портрете» пришла, когда он ставил свет на ладную фигуру Чиркова, перетянутую ремнем. Чувство меры не подвело: сходство с таким портретом было явным, но не чрезмерным. К тому же «портрет» быстро исчез. Как только Максим сдернул фуражку, улыбнулся, крикнул «До свидания, Наташа!», изменился свет на лице, забегали живые блики на коже куртки. Вся «парадность» оказалась как бы очередной шуткой парня из-за Нарвской заставы, изобразившего полководца, как
когда-то он изображал перед Наташей циркового борца. Неожиданно созданное Москвиным сочетание иронической патетики с шуткой и лирикой дало перекличку с началом трилогии и отвечало всему ее духу.
Двинулся с места автомобиль, покатилась по рельсам тележка с камерой и прильнувшим к ней Москвиным. Теперь Максим был виден крупнее. Миг прощания. Максим, вспоминал Трауберг, «...повернувшись к зрителям, повернувшись к нам (в этом месте аппарат и машина сблизились), негромко, с чуть грустной улыбкой сказал: “До свиданья, товарищи!” Да, мы были неплохими товарищами — Козинцев, Москвин, Еней, Чирков, Шостакович, я, все, кто с нами работал, и он, Максим...»
НЕОСТАНОВИМОЕ ДВИЖЕНИЕ
Гений — не статика найденных пропорций и отношений, а тайна неостановимого движения.
Гэигорий Козинцев
/I ноябРя 1938 года появился первый отзыв на оператор-J скую работу в «Выборгской стороне» — акт приемки ди-
рекцией студии: «Главный оператор фильма А.Н.Москвин добился великолепных художественных результатов. Его работа в фильме — классика советского операторского искусства». 28 ноября— первый отзыв в печати: «...операторы А.Москвин и Г.Филатов показали блестящее качество. С редким вкусом и тонкостью, с чрезвычайной корректностью, без всяких ложных эффектов и в едином стиле провели они всю ленту, дав во многих местах куски необыкновенного совершенства» (Борис Агапов). В том же духе писали и в многочисленных рецензиях после выхода фильма на экран 2 февраля 1939 года. В отличие от «Юности» споров об изобразительном решении не было, слова «классика советского операторского искусства», написанные в закрытом отзыве, отразили общее мнение. Осталось понять, как сумел Москвин достичь классической высоты. Это попытался сделать Анатолий Головня в статье, напечатанной в том же феврале 1939 года.
Головня анализировал «Александра Невского», «Выборгскую сторону» и «Семью Оппенгейм» — фильмы, построенные на «живописной трактовке материала». Некоторые его оценки спорны, особенно по «Александру Невскому», да и в разборе «Выборгской» он «пере-теоретизировал», доказывая, что «светотени у Москвина почти никогда нет», а есть некий «светотон» (при перепечатке статьи в 1970 году абзац о «светотоне» был убран). Но он верно раскрыл главное: изобразительное решение связано с индивидуальным стилем Москвина, выработанном «на протяжении всей... деятельности»; стиль основан на том, что «Москвин помещает действие в кинематографическую атмосферу, в кинематографический свет»; в сочетании с незамкнутыми композициями это расширяет поле кадра, обеспечивая свободную работу актера.
Верно ухватив сущность работы Москвина, Головня дальше снова запутался и написал, что каждый кадр особенно убедителен благо
даря «реалистичности изобразительной трактовки», а метод Москвина чрезвычайно интересен и своеобразен, «но в какой-то мере условный». По сути же все наоборот: сила «кинематографической атмосферы» Москвина в том, что намеренно «условным», часто нереальным светом достигалось впечатление вполне реалистической трактовки. К примерам из «Юности» можно добавить и другие. В третьей серии не оправдан естественным источником свет важной сцены в подвале Евдокии. Выделение светом одного актера из группы (Марьиванна в суде) — тоже прием условный. Само разделение по свету первого плана и фона чаще всего мало отвечает реальному освещению. Но сопоставив такие кадры, легко отыскать общий знаменатель: это кадры, где главное — актер. Впечатление реалистичности изображения создано психологическим оправданием света.
В книге о Козинцеве и Трауберге (1963) Ефим Добин написал: «Мне вспоминается разговор с немногословным Москвиным, в котором он кратко формулировал: “Главное — это портрет1’... В трилогии его мастерство стало объективнее. Но сквозь эту объективность проглядывает личный пафос художника». Добин видел его в том, что Москвин не скрывал своего отношения к героям. Но личный пафос был и в его самоощущении художника, который знал «цену сущности своей», почувствовал, что достиг такого уровня мастерства, когда под силу становятся любые задачи. Об этом Добин тоже сказал, так охарактеризовав Москвина: «...и художник большого эпического размаха, и тончайший наблюдатель исторической эпохи, и психологический “соглядатай” исключительной зоркости, и, наконец, проникновенный лирик...» Кратко все это можно определить как «виртуозный универсализм».
В воспоминаниях о Москвине Головня утверждал: «Нашим идеалом был Валентин Серов с его виртуозным универсализмом: ведь нам, кинооператорам, необходимо быть универсалами, слишком разнообразна тематика и материал фильмов, которые мы снимаем». Головня имел в виду пору их становления, середину 20-х годов, но для Москвина Серов оставался идеалом всегда. На грандиозной выставке 1935 года в Русском музее, где было представлено более 1100 работ художника, Москвин провел многие часы, благо съемок у него тогда не было. И если сначала его и Головню картины Серова привлекали выразительными средствами, полезными для кино («“Девушка с персиками” многое открыла нам в области тональности, — вспоминал Головня, — “Петр на стройке Петербурга” — в области ракурса»), то в тридцатые годы Москвина захватило творчество Серова как нечто единое — ив его переменах от «Девушки с персиками» к «Похищению Европы» и «Иде Рубинштейн», и в его целостности.
Москвин принадлежал к тому же типу художников, что и Серов. И его «виртуозный универсализм» — вовсе не одно лишь профессиональное умение по-разному снимать разные фильмы. Универсализм Серова и, если говорить о великих художниках прошлого, Шекспира, Рембрандта, и великих мастеров XX века — Пикассо, Рихтера — это умение меняться, оставаясь самим собой, это непрерывное движение, развитие уже достигнутого и предчувствие дальнейшего развития. Универсализм — это умение использовать самые разные, иногда неожиданно стыкующиеся выразительные средства, не нарушая цельности, гармонии произведения; это постоянное ощущение цело
го даже в очень сложном по составу произведении. В кино с его работой по кускам, по кадрам чувство целого особенно необходимо. И оно тоже было у Москвина.
Слова Головни о связи изобразительного решения «Выборгской стороны» со всем индивидуальным стилем Москвина означали, что Москвин, меняясь, оставался самим собой. Но Головня не был поддержан. Верх взяла, стала привычной иная точка зрения. Уже через год Каплан снова утверждал: в трилогии Москвин «сумел... переродиться творчески». Даже в 1963 году Горданов писал о коренном пересмотре Москвиным своих позиций в «Одной». Этого, конечно, не было, но не было и плавной эволюции от фильма к фильму. Был куда более сложный процесс, количественные накопления давали переход к новому качеству, новые задачи заставляли искать новые средства или по-новому использовать старые, были и труднопостижимые со стороны процессы внутреннего развития — «тайна неостановимого движения», Наконец, менялось время: «...много/Переменилось в жизни для меня./И сам, покорный общему закону,/менялся я...» Слова Пушкина, человека и художника поистине цельного, можно отнести ко многим великим художникам: они менялись, «покорные общему закону», и оставались, несмотря на все противоречия, цельными, гармоничными людьми (Цветаева: «Гений — равнодействующая противодействий, то есть, в конечном счете, равновесие, гармония...»). Москвин был именно таким художником.
В ЦЕНТРЕ ДИСКУССИИ
Движение шло через противоречия. Трудно сказать, что было «верным», что «ошибочным». Решило время...
Гоигорий Козинцев
мая 1940 года Всеволод Вишневский писал Эйзенштейну: I *^«Кино наше медленно сползает вниз... Я уверен, что филь-I ^✓мовый довоенный (до сентября 1939 года) период бесповоротно кончен... Замысел лета 1940 года может быть опрокинут ко всем чертям уже к исходу лета того же года». Весь 1939 год Козинцев и Трауберг работали над сценарием «Карл Маркс», а с 15 мая 1940 года вместе с Москвиным и художником Николаем Суворовым — над режиссерским сценарием. Еще в апреле съездили в недавно ставший советским Львов и выбрали натуру для съемки сцен революции 1848 года (второй сложный комплекс натурных сцен — Парижскую Коммуну — оставляли на лето 1941 года). В начале июля был готов режиссерский сценарий, на роль Маркса утвердили Максима Штрауха, Энгельса — Николая Черкасова. Москвин и Суворов готовили съемки объекта «Дорога в Трир». Москвин работал с увлечением: наконец настоящее дело после долгого простоя.
Режиссеры трезво оценивали итоги трилогии (Трауберг: «Люблю “Выборгскую сторону", но подлинное построение — в первой серии... все-таки лучшей»). В сценарии о Марксе они в большой степени вернулись к методу «Юности», соединяя патетику и лиризм, сталкива
ли сцены лирические (встреча студента Маркса и Женни), почти мелодраматические (ночь, старый Маркс с больной женой), «документальные» (Энгельс в нищенских кварталах Манчестера); политические споры и баррикадные бои сменялись бытовыми сценами, пронизанными юмором (кредиторы забирают у Марксов последние деньги), и трагическими, со страдающим Марксом. Все было связано единой линией революционного, романтического пафоса, сама смерть Маркса стала одной из ее вершин. Две серии охватили более сорока лет жизни героя, разные страны, десятки исторических деятелей. Авторы писали: «...пусть пейзажи, пусть галерея исторических фигур... Это будет фильм о Марксе, и в этом его задача... — со всей серьезностью показать его жизнь так, чтобы растопился лед памятниковой бронзы, чтобы фотография стала не украшением, а памятью о самом близком, родном человеке».
Режиссеры имели в виду репродукции известной фотографии Маркса, украшавшие стены учреждений, библиотек, квартир. Но в кино слово «фотография» часто применяют в значении «операторская работа», и в желании, «чтобы фотография стала не украшением», появляется второй смысл. Из записей Козинцева в рабочей тетради 1940-1941 года видно, как много думал он об изобразительном стиле, как хотел уйти от «живописности», от «порядком стершихся реминисценций» типа туманов в стиле Уистлера для Лондона. Козинцев обсуждал это с Москвиным и Суворовым. И, конечно, сам Москвин размышлял об итогах трилогии и о том, как снимать «Маркса».
Оператор Игорь Гелейн осенью 1939 года написал о тех, кто по-новому работает с изображением; первыми названы Козинцев, Трауберг и Москвин. Месяц спустя появилась статья Марка Магидсона и Жозефа Мартова: обвинив Гелейна в подмене искусства техникой, они заявили, что рост мастерства операторов замедлился. И сразу пример: «А.Москвин справедливо считается ведущим мастером так называемой ленинградской школы. Однако в последних своих работах он менее требователен к себе как к художнику. Правда, материал трилогии о Максиме требовал иного стилевого решения, чем, например, блестяще снятый Москвиным “Новый Вавилон”. Но с точки зрения новых своих задач Москвин должен был и мог найти для трилогии решение более совершенное». Гелейн ответил, что «Вавилон» — формалистический фильм, забытый «несмотря на свою прекрасную живопись», в трилогии «Москвин достигает редкой красоты прозаического “письма”, необедненного, ясного, достигающей предельной доходчивости и понятности искусства...» В статьях были названы и другие операторы, скажем, Гелейн отметил рост Аркадия Кольцатого от первых работ к «Великому гражданину» и «снижение высоты» у Эдуарда Тиссэ в «Александре Невском» и у Анатолия Головни в «Минине и Пожарском», но главным объектом спора снова был Москвин.
Время решило, сейчас легко оценить вклад каждого в развитие искусства. Но почему тогда в центре дискуссии (она шла и на обсуждении фильмов, и в разговорах операторов) снова оказались работы Москвина? Дело в том, что из трех ведущих операторов первого поколения только Москвин относительно легко преодолел рубеж начала тридцатых. Тиссэ снял «Да здравствует Мексика!», но негатив незавершенного фильма остался в США. Несколько лет Эйзенштейн и
Тиссэ потратили на «Бежин луг». Фильм не дали довести до конца, материал его мало кто видел, судили о нем по разгромным статьям. О кризисе коллектива Пудовкина речь уже шла. В «Победе» и «Минине и Пожарском» Головня блеснул съемками моря, пейзажами; слабой стороной были портреты, образы героев (понятно, не только по вине оператора). Пытаясь утвердиться как продолжатели или ниспровергатели традиций, операторы нового поколения соотносили свои представления прежде всего с работами Москвина. Поэтому, выступая за технические улучшения в рамках «единого стиля» Гелейн, как и Каплан, обвинил раннего Москвина в формализме, а Магидсон и Мартов, стремясь к расширению стилевого многообразия, писали о недостатках трилогии. Причем писали после «Выборгской стороны», которая по драматургии, определившей и операторский стиль, более всего приблизилась к требованиям «единого стиля». Раньше, на дискуссии по «Возвращению Максима» в июне 1937 года, Магидсон говорил, что все работы Москвина «бесконечно хороши», что «каждая его работа — это новая манера... Мы питаемся Москвиным, и, надеюсь, что в следующей работе Москвина мы также получим от него много...»
На отношении к Москвину сказывалась и зависимость от него. Мартов работал раньше в Ленинграде и испытал сильное влияние Москвина; выражение «так называемая ленинградская школа» в его с Магидсоном статье — попытка отмежеваться. А влияние Москвина уже широко распространилось: можно назвать Леонида Косматова, Бориса Волчека, прямо назвавшего Москвина своим учителем. В Киеве Юрий Екельчик, ученик Демуцкого, внимательно изучал фильмы Москвина, это видно и в «Щорсе», и в «Богдане Хмельницком». И Магидсон «питался» Москвиным: ему многим обязаны лирика пейзажей и портреты «Бесприданницы». Желание утвердить свою самостоятельность выявляется по-разному — порой благодарностью тому, у кого учишься, порой отмежеванием. И то, и другое подливало масло в огонь полемики.
Как сам Москвин относился к спорам? Внешне никак. Да и по существу они его мало трогали, выступление на совещании 1935 года осталось исключением из правил. К работе он подходил, учитывая задачи, выдвигаемые самой работой, режиссерским замыслом, не думая о требованиях очередной киномоды. То же было и с «Марксом». Внимательно читая сценарий, он лаконично сообщал режиссерам свое мнение и с операторской точки зрения, и по драматургии, по разработке характеров. Если увлеченные действием или диалогом режиссеры перегружали сцену, говорил «товару много»; в оценке «товара» не ошибался, отчетливо ощущая в какой метраж уложится кадр. Казалось, не так уж и всматривался в литографии и репродукции, собранные в группе, очень уж быстро листал описание Лондона с рисунками Гюстава Доре. Но позже из его замечаний по эскизам Суворова или по ссылке на какую-то литографию становилось ясно, что бегло просмотренное он прекрасно запомнил, уловил детали, которые определяли дух времени и могли помочь его образному воссозданию. Много времени провел он в гримерной, где искали гримы для разного возраста героев, в фотопавильоне, где на съемках фотопроб подбирал «ключ» к освещению портретов. В начале июля подготовку к съемкам закончили.
Они не знали о пророчестве Вишневского («замысел лета 1940 года может быть опрокинут уже к исходу лета»), но оно было верным. Съемки так и не начали — в сентябре Жданов вызвал Козинцева и Трауберга в Москву и потребовал коренной переработки сценария: «Вы хотите показать Маркса-человека, а нам нужен фильм о Марксе-вожде». Москвин еще на полгода оказался в простое.
1941
Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал...
Давид Самойлов
Сорок лет Андрею Николаевичу исполнилось 14 февраля 1941 года. Дни рождения он не отмечал. Надежда Николаевна обычно дарила книгу, этим все и кончалось. Часто он вообще в этот вечер уходил из дома. В 1941-м мог пойти в Филармонию — в тот день дирижировал Натан Рахлин — или в цирк на премьеру «Круга смелости» Александра Буслаева. Москвин старался избегать больших компаний, но шло это не от замкнутости или отсутствия интереса к людям. Наоборот, интерес к близким и дальним людям был у него всегда, потому и предпочитал встречи с друзьями и знакомыми с глазу на глаз: так человек раскрывается полнее, чем в обществе, где он поневоле играет какую-то «роль». Лучший пример — сам Москвин с неизменной на людях мрачной маской.
При всей «мрачности» Москвин любил шутку, розыгрыш, не обижался, когда остроумно шутили над ним. Вот рассказ Алексея Сысоева. Одним из способов бесшумного общения с осветителями был у Москвина плевок на пол — туда, куда нужно ставить прибор. Так же он стал отмечать и место установки камеры. Помощникам его это не понравилось, решили поднять «бунт». Когда Москвин за декорацией показал место для прибора, Посыпкин и Сысоев, будто не поняв, в чем дело, подхватили камеру и бегом понесли ее на это немыслимое место. Москвин не рассердился, улыбнулся, жестом велел вернуть камеру обратно, поводов для бунта больше не давал. А вот рассказ Жарова: «В коридоре меня встретил Андрей Москвин. Не отвечая на “здравствуй, Андрей!”, он молча взял меня за лацкан нового пиджака, ткнул ножом, прорезал большую дырку и, сказав “поздравляю”, пошел дальше. Коридор был пуст, спросить рехнулся Москвин или нет было не у кого...». Придя в комнату группы, Жаров узнал, что награжден орденом. На отношениях с Москвиным дырка в пиджаке не отразилась: «Вечером мы сидели в “Астории” у меня в номере, и Москвин молча, но с большим вкусом, пил за мое здоровье».
15 марта 1941 года Сталинскую премию первой степени за трилогию о Максиме получили Козинцев, Трауберг и Чирков (премии давали первый раз, никому из операторов их не дали). Незадолго до этого Комитет по кинематографии продлил подготовительный период по «Карлу Марксу» до 27 мая — новый вариант сценария так и не утвердили. А еще раньше, в январе на собрании актива студии председатель Комитета Иван Большаков выговаривал режиссерам за медленную переделку сценария при отвлечении на иные дела (Козинцев ста
вил в театре «Короля Лира», Трауберг писал сценарии). Но сценарий «Карла Маркса» задерживали не «отвлечения», а нежелание режиссеров отказаться от принципиальных вещей и вместо «памяти о самом близком человеке» дать «лед памятниковой бронзы».
Из-за перипетий со сценарием Москвин, числясь «прикрепленным» к фильму, был в простое и занимался, как обычно, техникой. Он по-прежнему следил за работами по цвету, вступившими в новый этап — в августе 1940-го Эрмлер и Горданов начали снимать цветной фильм «Бальзак в России» (после первой съемки фильм закрыли по сценарным соображениям). Всерьез интересовался Москвин работой недавно созданной светотехнической лаборатории «Ленфильма». В числе ее сотрудников появился молодой инженер Владимир Пелль. Москвин приглядывался к нему, да и Пелль старался ближе узнать самого знаменитого оператора студии, бывал у него на съемках проб «Карла Маркса», встречался с ним в цехах и мастерских. «Везде он был желанным гостем, — вспоминал Пелль, — его немногословные высказывания ценились инженерами и рабочими на вес золота. Особенно его любили и уважали старые рабочие и мастера студии. Он всех знал по имени и отчеству и с ними был значительно более приветлив, чем с начальниками и инженерами». Однажды Москвин пришел в лабораторию, спросил об одной из ведущихся работ: «Андрей Николаевич кое-что одобрил и дал несколько советов, не сразу для нас ясных. Вообще для Москвина была характерна крайняя лаконичность и отрывочность высказываний. Непривычному человеку многие из редких сентенций Москвина по вопросам техники обычно оставались просто непонятными. Следует сказать, что умение схватить и расшифровать на лету высказывания Москвина было для него критерием оценки собеседника или товарища по работе». Заметив, что Пелль легко «схватывает», убедившись в его знаниях и трудолюбии, Москвин начал помогать ему, порекомендовал заняться экспономе-трией, и на долгие годы она стала основной темой Пелля, выросшего в крупного ученого-светотехника.
Много времени занимали новые увлечения, прежде всего автомобиль, купленный еще в 1938-м. Одна из первых советских легковушек НАМИ, выпуска начала тридцатых годов, изрядно послужила прежнему владельцу, Москвин не без труда привел ее в порядок. Теперь он совершенствовал мотор, управление, кузов. На фоне уже многочисленных «эмок», а также «фордов» и «линкольнов», автомобиль с непропорционально маленькими дверцами, тупым носом и парусиновым верхом выглядел экстравагантно и был прозван на студии «Антилопой-Гну». Не обращая внимания на насмешки, Москвин продолжал возиться с ним, пожалуй, даже не ради поездок (на студию он все равно ходил пешком), а ради самого совершенствования. Второе увлечение — радио. Он купил приемник, вооружился радиолитературой и паяльником, разобрался во всех тонкостях и взялся за улучшение. Приемник работал очень хорошо, и он пристрастился слушать по ночам музыку — и классику, и современную, особенно джаз.
«Он был ненасытен и любознателен, — написал Трауберг,— и предпочитал одиночество. Вероятно, если бы прочел книгу Торо “Вальден", одобрил бы. А может быть, и прочел. Читал он много, но, в отличие от нас, драматургов, режиссеров, не сообщал всем только
Пето 1938 года Москвин в своем автомобиле.
что прочитанное». В марте 1941-го, даже предпочитая одиночество, Москвин с удовольствием включился в коллективный труд — Комитет утвердил, наконец, сценарий. Выбрали в Риге новую натуру для лондонских сцен. Опять готовили съемки, пробовали актеров на эпизоды. Но 14 мая на совещании в ЦК ВКП(б) с кинематографистами (от операторов «Ленфильма» был Горданов) объявили о прекращении работы по ряду фильмов. 17 мая приказом Комитета «Карл Маркс» был закрыт, группу переключили на постановку «Великого лекаря». Козинцев вспоминал: «Мы с Траубергом взялись ставить сценарий Юрия Германа в тяжелое для себя время... работа нескольких лет оказалась бесцельной. Только труд помогает в такие минуты».
Они спасались трудом, работая в невиданном темпе, будто чувствуя, что времени отпущено мало. За месяц написали режиссерский сценарий, провели пробы и утвердили актеров (на роль Пирогова — Василий Ванин). Суворов съездил в Крым и Одессу, нашел места для съемок Севастопольской обороны. 20 июня начали репетиции, в конце июня должны были снимать. Газета киностудии «Кадр» сообщила об этом 21 июня. В тот же день Эйзенштейн как худрук «Мосфильма» написал Козинцеву и Траубергу, предложив им переехать в Москву вместе с «Великим лекарем» (разумеется, и с Москвиным). Письмо должен был передать Михаил Ромм — 22 июня он уезжал в командировку в Ленинград.
Москвину было сорок лет и четыре месяца...
Гпава восьмая
ВОЙНА. «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
1941
Оставленные небом пилигримы — Мы — европейцы — в Азию теснимы...
Николай Ушаков. 30.Х.41.
Впять часов утра, — вспоминал Трауберг, — меня разбудил телефонный звонок. На мой яростный вопрос: «Кой черт вы звоните? Который час?», уместно мрачный голос Москвина ответил: «Второй час войны!» Он вставал раньше всех, долго возился с аппаратурой, которую сам соорудил, слушал весь мир...» В армию, даже в народное ополчение Москвина не взяли по зрению: близорукость его росла из-за перенапряжения глаз. Протестуя против неорганизованности, приводившей к съемкам по 12-14 часов подряд, Козинцев писал в 1938 году, что кинохозяйство «это не только аппараты и лампы, но и глаза Москвина, и голос Чиркова, и силы всех нас». С воскресенья 22 июня об экономии сил не думали. Вечером Москвин был на студии: собрался актив, решали, что делать. Съемки сложных по постановке фильмов, включая «Великого лекаря», остановили ради срочного выпуска агитационных и сатирических короткометражек. Работать начали сразу, фильм «Подруги, на фронт!» сняли за два дня, в июле он был на экране. «Сразу же выявило себя удивительное единство ленфильмовского коллектива, — вспоминал Михаил Блейман. — Все хотели работать и, забыв о квалификации и специальности, делали все, что придется. В павильонах не хватало осветителей, и свободные от съемок операторы становились у прожекторов». Были еще и дежурства на крышах, борьба с зажигалками.
В начале августа был готов сценарий уже довольно большого фильма «Это и есть Ленинград». Несколько дней на подготовку, под
бор актеров — и начали съемки. Три режиссера работали параллельно, Козинцев и Москвин снимали в павильоне. Но недолго — не стало электроэнергии. Пришел приказ об эвакуации в Алма-Ату. Москвин помогал механикам демонтировать и упаковывать проявочные машины. Сделали и это, жизнь замерла. Но каждый день в постоянном, раз и навсегда заведенном темпе Москвин шел на студию. Он был готов выполнить любое задание. В конце сентября сфотографировал не-разорвавшуюся тысячекилограммовую бомбу прямо в котловане, где ее отрыли. Он очень переживал невозможность с оружием защищать свой город, что проявилось в несколько фаталистическом отношении к жизни. Вот история с другой неразорвавшейся бомбой, упавшей на Съездовской линии. В доме рядом жил Игорь Фомин. Район оцепили, из дома всех выселили, но Фомин проникал к себе по проходу с другой улицы. «Я привык там спать, — рассказывал он мне, улыбаясь. — Когда я там был один, туда никто не приходил, а Москвин приходил... на бомбу приходил». И добавил: «Я уже не говорю об его автомобиле... сидеть рядом с ним в автомобиле было боязно, а он... По существу, он был озорной человек».
Пока шла эвакуация студии, немцы перерезали последнюю железную дорогу, соединяющую город с «Большой землей». Готовились к долгой осаде. Москвин соорудил во дворе щель-убежище для семьи — с «комфортом» и светом от аккумулятора. 25 сентября исполнилось 35 лет Шостаковичу. Он трудился над Седьмой симфонией, но прервал работу, узнав о приходе друзей; из немузыкантов были Блейман, художник Владимир Лебедев с женой, скульптором Саррой Лебедевой. Москвин принес припасенную на черный день бутылку джина, Кошеверова — черные сухари, у хозяев было немного картошки. Через шесть дней прощались: Шостаковичи улетали в Москву.
9 ноября вместе с Блейманом и несколькими другими ленфиль-мовцами улетели и Москвины. У лесного аэродрома пересели в вагон-теплушку и месяц ехали в Алма-Ату. В теплушке были еще скульптор Александр Матвеев, математик Александр Александров, лингвист Степан Бархударов, физиолог Григорий Гершуни и другие. Сорок лет спустя академик А.Д.Александров рассказал мне, как в первый же день «совершил нетривиальный поступок, чтобы в теплушке было искусство»: купил на станции и повесил на стену репродукцию «Итальянки» Брюллова: «Может быть, поэтому Андрей Николаевич и Мика Блейман как-то сразу меня выделили... И мне Андрей Николаевич сразу понравился... Потом уже я определил его словами “гладиатор среди евнухов” (так у Джека Лондона охарактеризован главный герой в «Мартине Идене». — Я.Б.). Как я это понимаю? По Толстому. У него в “Набеге” старый капитан говорит, что настоящий мужчина в трудную минуту сделает то, что надо... Андрей Николаевич делал то, что надо». Выдающийся математик, альпинист, интеллектуал с фигурой кузнеца чем-то походил на Москвина; они подружились, хотя Александров был на 12 лет моложе. «И как-то получилось, — продолжал он, — что мы с ним взяли на себя все организационные дела — дрова, мясо... Все это было очень сложно». Блейман тоже вспоминал о жизни в теплушке: «По вечерам все рассаживались вокруг раскаленной печи, которую растапливали похи
щенными на разъездах дровами и шпалами, распиленными под ру-ководством Андрея Николаевича Москвина. Тогда начинались те-плушечные беседы...» Ученые рассказывали о новом в своих науках, Матвеев говорил об умении «видеть», Блейман — о кино. Москвин молчал, но слушал внимательно и много думал.
Человеку с воображением художника и логикой ученого было о чем задуматься: ситуация была парадоксальной. От фронта на восток ползла, пропуская встречные поезда с сибирскими дивизиями, спешащими к Москве, теплушка не только с женщинами, детьми и стариком Матвеевым, но и с сильными молодыми мужчинами; им бы быть во встречных эшелонах, а их отправили в глубокий тыл заниматься физиологией или математикой, сочинять сценарии, снимать фильмы. Заглушая ноющее чувство «без вины виноватых», они почти не говорили о войне, обсуждали сложность атома и требовали от Блеймана рассказов о зарубежных фильмах. Потом было много всякого в жизни, но теплушку все они вспоминали с особым чувством. Москвин никогда не говорил об этом, даже при встречах с Александровым после войны. Но и он, наверняка, сохранил в себе ощущение долгого путешествия — такое бывает раз в жизни...
13 декабря прибыли в Алма-Ату. Ленфильмовцы не ждали, что их встретят, но на перроне были приехавшие раньше москвичи. Снова воспоминания Блеймана: «...обросший бородой Москвин обнимается с каким-то человеком. Тот обернулся, и я узнал Эдуарда Казимировича Тиссэ». В Алма-Ату эвакуировали еще и «Мосфильм», создали Центральную объединенную киностудию (ЦОКС), срочно перестраивали под павильоны Дворец культуры и уже снимали фильмы. Москвиных устроили в общежитии, а в конце января дали комнату на третьем этаже дома на углу улиц Кирова и Пролетарской (живший этажом ниже Эйзенштейн прозвал дом «лауреатником» — тут поселили ведущих работников ЦОКСа). К работе Москвин приступил еще 15 декабря.
АЛМА-АТА
Жив человек, его не одолеешь
Ни холодом, ни голодом, ни смертью...
Владимир Луговской
Два года и семь с половиной месяцев в Алма-Ате... Было все — холод (страшно морозной была первая зима), голод, ужасная теснота. И смерть ходила рядом: в 1943 году тиф унес двух актеров-ленфильмовцев — Софью Магарилл и Бориса Блинова. Люди по-разному воспринимали крутое время: одним теснота и неустроенность были спасительны, не оставляя времени для себя, для своей тоски, у других усиливали безотрадность одиночества. В апреле 1942 года Эсфирь Шуб писала из Алма-Аты: «Здесь люди одиноки очень. И плечо товарища не чувствуешь рядом. Я думаю, что этим больны главным образом люди кино». О той же Алма-Ате и о тех же людях кино — в поэме Владимира Луговского «Город снов»: «...но упорно/Все продолжают жить и каждой ночью/Беседуют о лю
дях Возрожденья...» Другой поэт, Павел Антокольский, сказал о военных годах: «Люди были обращены друг к другу своей лучшей стороной». Москвин, как никогда, раскрылся лучшей стороной, помогая всем, чем только мог.
В 1942-м приехала из Ленинграда монтажер Мария Бернацкая; Москвин знал ее со времен «Чертова колеса». Мария Георгиевна рассказала: «Андрей меня на студию не пустил, — сначала, говорит, умойся» (после блокады, дистрофии, теплушки была она «страшная, тощая, неумытая, вся в копоти»). Вызвал из цеха ее подругу, отправил их в душ. Помог ей устроиться в общежитии, показал койку: «...я легла с сыном. Утром проснулась — рядом на полу лежит Лида Кякшт. Потом уже она мне сказала, что это Андрей попросил ее, чтобы она мне койку на время уступила». Бернацкую надо было выручить и деньгами, но у него их не было. Спросил: «Есть что продать?» Были испорченные часы, он починил их: «Неси скорее на базар и сразу продай. Больше двух часов ходить не будут». Потом починил для продажи ее самовар, помятый в дороге. Москвин сам находил такие работы, стремясь облегчить людям сложности быта. Татьяна Луговская: «Он починил мне будильник, безнадежно испорченный». Блейман: «...ежевечерне выключали свет. Он разыскал на студии старые аккумуляторы и снабдил светом себя и своих соседей». На мосту через Алмаатинку сказал Блейману, что тут можно поставить электростанцию, осветить одну улицу. «За чем же остановка?» — «Столько деталей не наворовать».
В тесной сплоченности эвакуированных Москвин больше стал бывать на людях. Чаще, чем в Ленинграде, приходил на семейные праздники. В апреле 1942-го с Эйзенштейном, Пудовкиным, Тиссэ пришел в гостиницу к Николаю Мордвинову — поздравили его со Сталинской премией за «Богдана Хмельницкого». Бывал на операторских посиделках у Леонида Косматова, молча слушал, приглядывался к тем москвичам, которых мало знал. Однажды сказал оператору Александру Гальперину, давно звавшему к себе: «Завтра буду у вас завтракать». Жена Гальперина Софья Борисовна видела тогда Москвина первый раз, перепугалась: «Что я буду делать с гостем, который сидит и молчит? Утром он пришел к нам, и его нельзя было узнать, такой он был доброжелательный, даже разговорчивый. И с Эйзеном они много гуляли и разговаривали». В Алма-Ате все было на виду, о прогулках этих рассказали Трауберг, Пелль и другие.
Эйзенштейн был очень разборчив в собеседниках; теперь в их круг вошли два ленинградца — Козинцев и Москвин. Беседовали, гуляя подлинным прямым улицам, поднимающимся к горам. Но никогда не ходили втроем: как и Москвин, Эйзенштейн любил беседу вдвоем. Бывал Москвин и у него дома, пользовался книгами уникальной его библиотеки.
Москвин сдружился не только с Эйзенштейном. Неустанный его интерес к человеку и наблюдательность развили в нем дар по первому впечатлению «раскусить» человека, понять его «интересность», возможности. В компании он впервые увидел работавшего до войны на «Белгоскино» режиссера Иосифа Шапиро. Предложил Козинцеву и Траубергу пригласить его вторым режиссером на «Бурю», и не ошибся: Шапиро был трудолюбив, энергичен, пунктуален. Как смог
заметить Москвин все эти качества в шумной застольной беседе?.. Потом Шапиро работал почти на всех фильмах Козинцева.
Участок пиротехники ЦОКСа возглавлял Павел Юманков, военный моряк, сосланный в Казахстан в 1937 году. Москвину этот много переживший и не сломившийся человек сразу понравился. Жена его, Елена Белоконь (тогда тоже пиротехник), рассказала о съемках «Бури» на Фархадстрое: «Жили в вагоне. Он стоял в тупике и за день раскалялся. Вечером придешь — духота, москиты, блохи. А у Андрея Николаевича всегда хорошее настроение... Он любил приходить к нам. Меня он называл “Хозяйка дыма и огня”. Он очень любил простых людей, осветителей особенно. Всегда обо всех все знал, расспрашивал... Его очень любили. И еще он не любил начальство...»
Любил он и еще кое-что... Вот рассказ Иофиса: «Он приходил в лабораторию ко мне, делал вот так (показал, как Москвин, растопыривая большой палец и мизинец, загибал остальные. — Я.Б.) и говорил: “Евсей, на два пальца дай мне спиртику..." Это называется на два пальца! Он вообще это дело любил. И в лабораторию любил ходить, ухаживал за девочками...»
В числе других воспоминаний о том времени — слова архитектора Александры Егоровой: «...он был человеком доброжелательным, глубоко ценившим дружбу». Москвин часто бывал в Архитектурноконструкторском бюро, где несколько молодых женщин под ее руководством разрабатывали чертежи декораций. «Это был в полном смысле слов человек необыкновенный и не обыкновенный, — написала архитектор Нелли Лейбошиц, проектировавшая декорации и мебель для «Ивана Грозного». — Необыкновенность его объяснялась тем ореолом славы известнейшего оператора, которая за ним упрочилась, а то, что он был не обыкновенным, определялось его особой, уникальной манерой поведения и обращения с окружающими. Он мог бы показаться гордецом, если бы не был простым и добрым... Вспоминаю его очень высоким, держащимся очень прямо человеком с весьма медленной, точнее с нарочито замедленной походкой... Руки почти всегда держал в карманах... За внешней суровостью Андрея Николаевича, по-моему, скрывалась очень нежная душа, что определялось из его уважительного отношения к женщинам». Надо признать, что женщины, лучше мужчин чувствовавшие скрытую за суровой внешностью душу, относились к Москвину как-то особенно трепетно, а очень многие были влюблены в него — и издали, платонически (как Нелли Яковлевна), и всерьез. Москвин с готовностью настоящего мужчины, но с очень большим разбором, шел навстречу их чувствам.
«Мы работали на втором этаже, очень хорошо были видны горы Ала-Тау. И вот Андрей Николаевич подходил к окну и долго, долго смотрел на горы. Молчал все время почему-то...» — это тоже из воспоминаний Лейбошиц. А Эйзенштейн написал в октябре 1942-го: «Горы располагают к созерцанию. На наши горные цепи с другой стороны столетиями глядели китайские мудрецы. Горы располагают к размышлению». Москвину было о чем размышлять, работая над «Иваном Грозным». Но до этого он снял две короткометражки и «Актрису».
«АКТРИСА»
Сначала были короткометражки — их ставил Козинцев. Памфлет Самуила Маршака «Юный Фриц» о фашистских головорезах, выраставших из милых деточек, требовал острой формы. Москвин, Еней (к великой радости всей группы ему разрешили работать на студии, и он переехал из аула в Алма-Ату) и мастер комбинированных съемок Александр Птушко придумали способ, меняя от кадра к кадру рост одного актера, не менять рост остальных, и всю историю Фрица — от новорожденного до гориллоподобного верзилы с увлечением играл Жаров. Столь условный прием потребовал условного же операторского решения, и Москвин блестяще с этим справился. Фон из черного бархата, минимум мебели, контрастное освещение в сочетании с подчеркнуто эксцентрической игрой актеров создали своеобразный и выразительный графический гротеск, нечто вроде ожившей карикатуры. Но написанный в начале войны сценарий быстро старел: менялась обстановка на фронте и отношение к немцам. Маршак в Москве переработал сценарий. Из-за бесконечных согласований в Комитете исправленный вариант сценария попал в Алма-Ату, когда фильм был готов. Посмотрев его в августе 1942-го, Маршак писал Козинцеву: «Впечатление сложное. В картине много талантливого...» Он предложил кое-что переснять, Комитет предпочел положить фильм на полку, тем более, что группа Козинцева уже снимала «Однажды ночью», новеллу для киноальманаха «Наши девушки».
...Работница ветеринарного пункта, куда попали два летчика в советской форме, знала: один из них немец. Обстоятельства запутанные, понять, кто враг, трудно. Четкой работой с актерами и точным монтажом Козинцев создал растущее напряжение. Москвин усилил его изобразительно: оба летчика появлялись из мрачного тумана, атмосфера взаимного недоверия усиливалась контрастами освещения. В конце концов девушка разоблачила врага. В момент кульминации Москвин использовал излюбленный прием — неоправданное изменение света: почти все время улыбавшийся немец сидел у стола; чувствуя, что сейчас будет уличен, закрывал лицо рукой; когда все уже было ясно, убирал руку, одновременно меняя выражение лица. Москвин усилил эту перемену, изменив свет так, что получился оскал, как у покойника. Совмещение изменения света с движением руки делало прием незаметным, но оттого еще более действенным.
Комитет, посмотрев фильм, решил: Козинцев преодолел слабости сценария «умелой режиссерской работой», но «допустил явную стилистическую погрешность» и, совместив реалистический и гротескный планы, «испортил картину». Козинцев, действительно, тряхнул эксцентрической стариной и сделал одним из «героев» фильма огромную свинью; она была больна, и девушка все время бегала менять холодную мокрую тряпку у нее на голове. Любитель эксцентрики Москвин, конечно, подхватил идею Козинцева и снимал свинью так, что она казалась еще больше. В 1942-м положили на полку много фильмов; как правило, повод их запрета — сиюминутная ситуация, а не художественный уровень, к примеру, в «Однажды ночью» он был очень высок.
В октябре 1942-го Трауберг взялся за «Актрису». Как он рассказал мне, взялся без энтузиазма: надо было запустить принятый Комите
том сценарий, свободные режиссеры, в их числе и Козинцев, от него отказались, и он — как худрук ЦОКС — «спасал положение». Впрочем, не только спасал — в другом разговоре упомянул: как большой любитель оперетты радовался возможности показать ее мир. С помощью Кошеверовой, Москвина, Енея и Волка фильм он поставил быстро: всего полгода прошло от начала съемок до выхода на экран 22 апреля 1943 года (в тот же день произошло событие, тоже имеющее отношение к Москвину: Эйзенштейн и Тиссэ начали павильонные съемки «Ивана Грозного» в декорации Приемной палаты).
Судьба «Актрисы» своеобразна. В разгромной рецензии Виктор Шкловский обвинил опытных драматургов Михаила Вольпина и Николая Эрдмана, режиссера («который, казалось бы, должен уметь ставить кинокартины») и оператора («Снимал ленту чудесный оператор... И снял плохо») во всех смертных грехах, включая неискренность. А ведь создатели фильма, снимая в дни боев за Сталинград арии «Сильвы» и «Фиалки Монмартра», сами были в ситуации героини фильма.
«Актрису» склоняли в статьях и выступлениях в ряду «пустых и бессодержательных фильмов». Потом историки кино повторяли старые оценки, не задумываясь, почему столь скверный фильм имел огромный успех и на фронте, и в тылу? Вот воспоминания космонавта Георгия Берегового: «Помню, какое большое волнение я испытывал на просмотре картины “Актриса”, которую увидел впервые в 1943 году. Как созвучна была тема фильма нашему боевому времени!» Да я и сам помню, как помногу раз смотрели «Актрису» рабочие и, особенно, работницы военного завода, где я трудился мальчишкой. «Актриса» успешно шла и после войны. В 1975 году телевидение показало ее к тридцатилетию Победы и с тех пор регулярно повторяет показ.
Феномен «Актрисы» объяснил Константин Рудницкий (кстати, он тоже писал о счастье, которое испытал в 1943-м, увидев фильм): это вовсе не комедия, а мелодрама, «горестная и трогательная». Добавлю лишь — мелодрама еще и в прямом смысле, то есть «музыкальная драма»: музыка Имре Кальмана и Жака Оффенбаха связала военное время с воспоминаниями о времени мирном и надеждами на счастливое будущее. Это и позволяет телевидению снова и снова давать «Актрису» — мелодрама не стареет в отличие от «чистых» комедий, основанных на осмеивании реалий тех лет, незнакомых новым зрителям.
По Шкловскому, фильм снят плохо. Единственный аргумент: «Натура снята черно». Возможно, он видел плохую копию. Натура городка снята в павильоне и выглядит хорошо. Фронтовая натура в финале и вправду не удалась, но она не черная, а серая. Есть два-три серых куска и в снятом в павильоне. Ошибка в экспозиции исключена: кроме громадного опыта Москвина был и контроль измерением; вел его Пелль (Москвин взял его ассистентом еще на «Юного Фрица», считая, что практика будет полезна начинающему ученому). Беда была в том, что при всех усилиях сотрудники Цеха обработки пленки не сразу добились стабильной работы наспех смонтированного оборудования. Иногда это приводило к недопроявке или перепроявке, то есть к серому, неконтрастному изображению. Раньше его пересняли бы, но война изменила требования. Удивительно, скорее, что таких кусков
в фильме мало; по техническому качеству он был одним из лучших, снятых в Алма-Ате в 1943 году.
Москвин всегда вел съемку рядом с Козинцевым, почти без слов понимал его предложения и тут же, если нужно, вносил поправки в свои решения. Но вовсе не со всем соглашался. Мог сказать: «Он не туда будет смотреть», и Козинцев менял мизансцену, зная: замечание Москвина — не желание вмешаться в чужую работу, а необходимость, к примеру, уйти от запретного для актера ракурса. Снимая «Актрису», Трауберг и Кошеверова сосредоточились на работе с актерами, предоставив Москвину и Енею полную свободу в делах изобразительных. Но Москвин поневоле больше, чем обычно, «влезал» в режиссуру— в мизансцены, в выстраивание ритма действия. Трауберг принимал его предложения: за ними стояли опыт и безупречный вкус. Работали дружно и своего добились — фильм смотрится и сегодня еще и потому, что сделан профессионально крепко.
Профессионализм группы позволял снимать по одному дублю. Лишь изредка, как вспоминал Пелль, спохватывались и на всякий случай снимали второй дубль. Иногда Москвин так ставил свет, что целую сцену снимали, почти не меняя его от кадра к кадру; так снят большой эпизод концерта в госпитале; это тоже ускоряло работу. Центром внимания, как всегда были портреты главных героев. Трауберг точно выбрал «звезд», исходя из актерских данных и ассоциаций, вызываемых у зрителей.
Галина Сергеева сыграла заглавную роль в «Пышке» Михаила Ромма и белошвейку Фанни в «Гобсеке» Константина Эггерта. Москвин обыграл это: в кадрах с опереточной дивой, поющей «Карамболину», снимал ее чуть сверху — так, как в декольтированных платьях француженок снимали ее Борис Волчек и Луи Форестье. А для сцен с санитаркой «няней Зоей» такой ракурс был «запретным», главное внимание оператора было направлено на то, чтобы мягко выделить вполне русские черты красивого лица Сергеевой. Каждый ряд сцен имел не только свои запретные ракурсы, но и иной, неукоснительно выдерживаемый световой рисунок. Как обычно, Москвин не гнался в портретах за световым правдоподобием. В сцене, когда Зоя пела, имитируя разбитую пластинку, палату заполнял контровой свет от окна с заметными тенями в сторону камеры. А крупные планы освещены «своим» светом и только чуть-чуть больше, чем в других портретах, подчеркнут боковой свет.
В этой сцене есть и выразительный проезд камеры от Зои к Маркову, стоящему в другом конце палаты. Его играл Борис Бабочкин, неразрывно связанный тогда с Чапаевым. Отсвет героического начдива падал на раненного майора, и любовь к оперетте его никак не порочила. Бабочкин почти все время лежал с забинтованной головой и глазами — задача для актера нелегкая, а он ее усложнил, не дав даже намека на мелодраматическую чувствительность, играя человека сухого, да еще огрубевшего на войне. Москвин мог помочь актеру тем, на что он был мастер: мягкой светотенью раскрыв за ершистым поведением героя нежную душу. Но Москвин подхватил замысел актера и снимал его, подчеркивая внешнюю грубоватость. Такой герой в прямом смысле — герой-фронтовик — и должен был, пройдя все трудности и победив, получить любовь прекрасной женщины, ко
торую тайно полюбил еще до войны и с которой будет счастлив после нее. Этим «Актриса», как верно написал Рудницкий, «отвечала потребности тех лет так же метко, как и знаменитое стихотворение Симонова “Жди меня”».
Когда «Актрису» завершили, Москвин оказался не у дел. Козинцев и Трауберг работали над сценарием «Бури». Намечался киноальманах о городах-героях; Москвин ухватился за возможность снимать новеллу о Ленинграде, полагая, что так скорее вернется домой, но дальше предварительных обсуждений дело не пошло. Однако без работы он не остался: в июне 1943 года Эйзенштейн пригласил его снимать вместо Тиссэ павильоны «Ивана Грозного».
ЭЙЗЕНШТЕЙН — ТИССЭ — МОСКВИН
Интересы искусства — выше интересов деятелей искусства.
Бертольт Брехт
Работа на «Грозном» для Пелля, ассистента Москвина, началась неожиданно: «Ко мне в общежитие прибежал мальчишка-осветитель, принес записку — Андрей Николаевич приглашает в такой-то павильон с машинкой, то есть с экспонометром. Бегу, а сам удивляюсь: я знаю, что в этом павильоне декорации “Ивана Грозного”. Вхожу... У задней стены в кресле сидит Тиссэ. Москвин мне: "Ставьте фоновой свет”. — “Что за окнами?” — “Заходящее солнце”. Я быстро поставил свет. Москвин подправил. Снимаем... На съемке я, конечно, ничего не спрашивал. Вечером прибежал к Москвину: “В чем дело?” — “Пробуют”».
Полной неожиданностью оказалась замена Тиссэ и для второго оператора «Грозного» Виктора Домбровского: придя в павильон, он увидел у камеры Москвина. «Я дал свет, как он сказал, — вспоминал Домбровский (он ставил свет на декорацию, Пелль — на фон, сам Москвин — на актеров). — Все проявили в ту же ночь. Я убедился, что можно света немножко прибавить, сказал Москвину. Он кивнул — ладно. Так дальше и работали». На мой вопрос о причине замены Виктор Викторович ответил: «У Тиссэ иногда что-то не получалось, он не мог превзойти какого-то рубежа. А Москвин на первой же съемке произвел великолепное впечатление».
Есть иное мнение: «...дело было не в слабости квалификации Тиссэ, а в новом для Эйзенштейна направлении работ», — написал Козинцев. Действительно, Тиссэ — выдающийся мастер, один из родоначальников операторского искусства. И Эйзенштейн не кривил душой в мае 1939 года, в дни двадцатипятилетия работы Тиссэ в кино, назвав его своим «глазом» и утверждая, что «синхронность» видения и переживания, связывающая их, «вряд ли где-либо и когда-либо встречалась еще». Содружество не всегда было безоблачным: Эйзенштейн стал снимать «Потемкина» с Левицким не потому, что ему не нравилась работа Тиссэ в «Стачке» — ему не нравилось, как после «Стачки» Тиссэ снял «Золотой запас» и прочие фильмы того же уровня. Придя на «Потемкина» в трудную для Эйзенштейна минуту, Тис-
сэ точно воплотил замысел режиссера, понял, «в чем его счастье», работал уже только с Эйзенштейном (исключение — «Аэроград» Довженко). Свой стиль съемки они довели до виртуозного мастерства в мексиканском фильме, построенном как кинофреска. Затем был «Бе-жин луг», судя по сохранившимся срезкам, вершина всего творчества Тиссэ. «Александр Невский» — своеобразное, несколько упрощенное возвращение к стилю кинофрески.
Тиссэ начал снимать «Грозного», это казалось естественным, и его внезапная замена произвела оглушительный эффект, вызвав кривотолки, ставшие потом легендами. Одна из них создана обидевшимися за свою корпорацию операторами «Мосфильма»: Москвин-де вел себя неэтично, не поговорив заранее с Тиссэ. Но Москвин знал, что с Тиссэ говорил Эйзенштейн. Еще работая над сценарием, Эйзенштейн думал о другом операторе, но понимал странное положение Тиссэ в этом случае и рискнул начать с ним павильоны. Сняли две сцены. После просмотра всего материала состоялся разговор, мучительный для обоих. Эйзенштейн был расстроен, даже заболел. И по-настоящему было бы неэтично, если бы Москвин снова заговорил с Тиссэ на болезненную для него тему. К тому же Эйзенштейн договорился с дирекцией и приказом от 22 июня 1943 года Москвину поручили только павильоны, натура осталась за Тиссэ. Именно он снял в феврале 1944-го знаменитый крупный план Ивана на фоне процессии, змеей извивающейся по заснеженному полю.
Легенду создала и английская журналистка Мэри Ситон, написав в 1951 году, что во время съемок 2-й серии Тиссэ нанес Эйзенштейну ужасный удар — ушел к Григорию Александрову. Это не стоило бы упоминания, но книга Ситон (даже деликатный Козинцев назвал ее «гнуснейшей») и сейчас служит за рубежом источником сведений об Эйзенштейне, тем более что в конце семидесятых ее переиздали. Возражая сплетням, Козинцев писал: «Я почти ежедневно встречался в это время с Сергеем Михайловичем, все происходило на моих глазах. Павильонные съемки не удовлетворяли Эйзенштейна. Ему казалось, что Эдуард Казимирович не выражает в этих сценах нужного ему настроения, характера образов. И тогда он предложил снимать Москвину». А нужные Эйзенштейну «настроение, характер образов» как раз и происходили от нового для него «направления работ».
Известно, что постановку предложил Сталин, видевший в Грозном своего великого предшественника. Эйзенштейн принял «заказ», но уже на стадии замысла сценария вместе с требуемой заказчиком темой борьбы за государственную идею, единую Русь, возникла и трагическая тема самодержавной власти, тема расплаты за осуществление великой идеи бесчеловечными средствами. Эта тема, как писал Эйзенштейн, «решена в двух аспектах: Один как единственный и Один как одинокий. Первое дает тему государственной власти... — политическую тему фильма. Второе дает тему личную — психологическую тему фильма». А ведь еще недавно, в 1937-м, он утверждал: «По складу своему я был всегда больше певцом движения, массового, социального, драматического, и мое творческое внимание было всего острее сосредоточено на движении, чем на том, что движется». Теперь самым важным становилось что, то есть отдельный человек, его психология, прежде все
го — сам царь, развитие его характера в конфликте с окружением и во внутреннем конфликте.
Психологическая тема была столь важна для Эйзенштейна, что, проверяя себя на самом трудном, сценарий он начал писать со сцены исповеди Ивана (Москвин снял ее для 3-й серии; по утверждению всех, кто ее видел, это была одна из сильнейших сцен фильма). Ремарки передают состояние царя: «Градом — слезы жгучие из закрытых глаз... И с мольбой глядит... Говорит в тоске... В гневе, с вызовом повторил... И сникает царь... Огонь душу гложет...» Чтобы зритель почувствовал мольбу, тоску, а потом и гнев восстающего на Бога Ивана, нужны были психологически глубокая игра актера и мастерство оператора, умеющего изображением раскрыть душу героя. Тиссэ таким умением не обладал, что для него вовсе не обидно. В любом творчестве «виртуозным универсализмом» обладают единицы. Оператор Дмитрий Долинин справедливо написал: «У операторов, так же, как у актеров, есть свои амплуа». Подтверждение тому — судьба талантливейшего Горданова: то, что он прекрасно делал во «Фрице Бауэре» и «Маскараде», в конце сороковых годов оказалось непригодным, а другого он делать не умел; тут главная причина его раннего отхода от практической работы.
Разрабатывая замысел фильма о Пушкине, Эйзенштейн записал в 1940 году: «Видимо, не реальность, формируемая (деформируемая) кинематографом, а реальность, формируемая перед аппаратом». Тут же говорится и про «художественную организацию события перед аппаратом as leading principle [как ведущий принцип]». Уже в «Стачке» и «Потемкине» Эйзенштейн и Тиссэ умели формировать камерой новую реальность, не вмешиваясь в реальность снимаемую. Хрестоматийный пример — взревевшие львы (напомню о разных фонах в этих кадрах). В «Грозном» нужен был иной принцип — предкамерной обработки. В сочетании с возможностями самой камеры (выбор оптики, точки съемки) она позволяет сделать кадры «многозначными», не фиксировать снимаемое, а раскрыть его суть, создать его «портрет». Для этого нужно владеть не просто светом и тенью, но светотенью как единством противоположностей. И нужно иметь воображение. Оно было у Москвина, у Тиссэ его не было, что опять таки не обидно для него: Эйзенштейн, вслед за Игорем Грабарем писал об отсутствии воображения у великого Ильи Репина.
«Однозначные» кадры Тиссэ (определение Эйзенштейна) давали «слепок» отдельных моментов реальности; как из кусочков смальты, Эйзенштейн собирал из них монументальные мозаики, содержанием которых было движение человеческих масс. Поэтому он и утверждал в 1936 году, что «режиссер должен предвидеть, в отличие от оператора, который должен видеть». На «Грозном» понадобился оператор, умеющий предвидеть, «художественно организовать событие» до съемки.
8 мая 1943 года, в период съемок с Тиссэ, Эйзенштейн написал о «предощущении новой полосы, нового этапа, нового стиля — романтического кино...» и дальше: «манера Грозного окажется вторым креном (оборотом) стилистики, который выпадает на мою долю. В отношении сценария так и вышло». Первый оборот: от условного театра к документальности «Стачки», стало быть, второй: к большей условно
сти, к романтическому стилю. Позволю себе предположить, что приступая в начале 1941 года к сценарию, Эйзенштейн уже думал о Москвине или другом операторе москвинского типа. Есть и подтверждение — косвенное, но достаточно убедительное — рассказ Горданова: «Мы с Эйзенштейном оказались в одной машине, когда ехали из Кинокомитета в ЦК на встречу кинематографистов со Ждановым. Сергей Михайлович спросил, правда ли, что я собираюсь переходить в Москву. Я сказал, что был такой разговор. А он сказал: “Переходите обязательно. Тут может получиться что-то интересное”». Было это 14 мая 1941 года. Узнав через несколько дней о закрытии «Карла Маркса», Эйзенштейн, видимо, и решил предложить группе Козинцева и Трауберга перейти на «Мосфильм». Думаю, он учитывал и интересы студии, и свой интерес: завершив сценарий за год, что ушел бы на съемки «Великого лекаря», он привлек бы к «Грозному» Москвина, пока Козинцев и Трауберг искали и разрабатывали новую тему. Запасной вариант: Горданов, оператор-романтик с живым воображением, большой культурой, сформировавшийся под прямым влиянием Москвина. Судьба распорядилась иначе. В конце 1941-го Эйзенштейн и Москвин оказались на ЦОКСе.
В разговорах во время прогулок по Алма-Ате или встреч в тесной комнате Эйзенштейна они, конечно, касались «Грозного»: в середине 1942-го сценарий был готов, Москвин его прочел. Видимо, тогда же Эйзенштейн пригласил его на фильм. Москвин изъявил готовность, но с условием — согласовать это с Козинцевым, Траубергом, Тиссэ. По рассказу Трауберга, Эйзенштейн хотел, чтобы Москвина прикрепили к фильму уже осенью 1942-го. Помешала «Актриса». Снимая ее, Москвин знал, что делалось по «Грозному» и все больше понимал, чем могла быть для него эта работа.
ЭЙЗЕНШТЕЙН И МОСКВИН
Думается, что предельно серьезно Эйзенштейн говорил с людьми такого высокого творческого роста и значения, как Мейерхольд, Прокофьев, Чаплин. И с Москвиным, может быть?
Серафима Бирман
Москвин был очарован Эйзенштейном», «Москвин был влюблен в него» — звучало в рассказах всех, кто работал или жил рядом с ними в Алма-Ате (даже сдержанный «технарь» Пелль написал, что Москвин был «страшно увлечен работой и Эйзенштейном...»). Известно, что Эйзенштейн привлекал и очаровывал многих людей. Но Москвину он оказался особенно близок — их связывало не только одно поколение, но и сходное воспитание. Архитектор М.О.Эйзенштейн во многом похож на инженера Н.Д.Москвина: тоже отдал сына в реальное (еще одно «совпадение»: в 6 классе Серёжа Эйзенштейн издавал журнал), затем в Институт гражданских инженеров. «Если бы не революция, — написал Эйзенштейн, — я бы никогда не “расколотил” традиции — от отца к сыну — в инженеры». Так же «расколотил» семейную традицию Москвин. Став художни-
С.Эйзенштейн и А.Москвин. Алма-Ата Кадр кинохроники, 1943.
ками, оба не утратили того, что дало им неполное инженерное образование.
Были они близки психологически: замкнутые, одинокие, строго, но по-разному обороняли они свой внутренний мир: Эйзенштейн — иронией, пронизывающей все его общение с людьми, Москвин — молчаливостью, мрачным видом. Впрочем, и Москвину была свойственна ирония, прикрывавшая глубинные, порой трагические переживания. Они легко поняли друг друга, отношения дружеской откровенности установились сразу. Общей была у них и истинная культура с ее идеалом высокой гармонии как цели, на пути к которой тайна, вызывающая, по Леонардо,
«страх и желание»: страх перед ее недостижимостью, желание ее достигнуть. Кстати, читая сценарий «Грозного», Москвин, конечно, заметил, что «змеиные» слова Ефросиньи («государь должен вступать на путь зла, ежели сие необходимо») — почти цитата из «Государя» Никколо Макиавелли. А одна из немногих книг, взятых им в эвакуацию, — роман Мережковского о Леонардо; мессэре Никколо там говорит: «Государь... должен прежде всего научиться искусству казаться добродетельным, но быть или не быть им, смотря по нужде...»
Москвина безусловно привлекал и Эйзенштейн-мыслитель. В 1942 году он работал над главным своим теоретическим трудом — книгой «Метод», посвященной проблеме, которую, по определению Наума Клеймана, «вкратце и упрощенно... можно обозначить как соотношение рационально-логического и чувственного в искусстве: в творческом акте, в структуре произведения, в процессе восприятия». Эйзенштейн любил испытывать свои идеи на ученых — философах, психологах, а не на кинематографистах. У Москвина были, однако, качества, которые могли вызвать желание Эйзенштейна испытать и на нем: он умел слушать; развитое чувство интуитивного постижения помогало ему легко схватить главное при знакомстве с новым и сложным; зная новейшие достижения естественных наук, он мог подсказать аналогии из областей знания, менее известных Эйзенштейну. В Алма-Ате резко сузился круг людей, с кем мог Эйзенштейн обсуждать подобные темы, и вероятность таких бесед весьма велика.
Если Эйзенштейн и не касался «Метода», Москвин все равно ощущал силу, аналитичность, динамизм его мысли. Они могли говорить о «вздоре» (Пушкин: «...много вэдору/Приходит нам на ум, когда бре
дем/Одни или с товарищем вдвоем»), но за словами Эйзенштейна о любой частности всегда было понимание ее как части чего-то большего. И кино он воспринимал как «маленькую экспериментальную вселенную»: по ней «можно изучать законы явлений более интересных и значительных, чем бегающие картинки». Это схоже с миропониманием Москвина, его ощущением искусства и науки, одинаково близких ему как равноценных частей единой целостности природы, жизни, человека.
Москвин тянулся к Эйзенштейну и потому, что видел в нем леонар-довский идеал Мастера, соединяющего в себе художника и исследователя. Он помнил статью Абрама Эфроса «Леонардо-художник» и вполне мог отнести к Эйзенштейну сказанное в ней о Леонардо: «Он был не живописец плюс математик, плюс естественник, плюс инженер и т.д., а именно художник-ученый. Он был неделим». В применении к Эйзенштейну вместо «математик, естественник, инженер» нужно поставить «философ, теоретик и историк искусства», а вместо «живописец» — «режиссер», Эйзенштейн же мог отнести это к Москвину, не меняя ни одного слова! И многое из того, что очаровало Москвина в Эйзенштейне, было и причиной очарования Эйзенштейна Москвиным. А о том, что оно было, говорят и его необычайно трогательные письма к Москвину, и воспоминания; вот слова Шуб: «С ним Эйзенштейн считался как ни с кем, часто подходил, советовался, шутил».
В купленной в 1946 году книге Николая Ульянова «Воспоминания о Серове» Эйзенштейн отчеркнул абзац о замкнутости Валентина Серова, о постоянно «оборонительном положении» его: «...нетрудно было увидеть, как он томится этим положением и хочет выйти из него, так же, как и из своего “взаперти”, если бы нашелся кто-то сходный с ним по сложности пережитых этапов мысли и чувства. Всякая встреча с таким человеком была началом радости — неполного удела его юности — и могла растрогать настолько, что он делал усилия, чтобы не выдать себя, не показаться слишком чувствительным». Почти все пометки в книге касаются художественных принципов Серова, педагогических приемов. Но ведь не случайно Эйзенштейн отчеркнул абзац о характере Серова, столь похожем на его собственный, о радости встречи с человеком, «сходным с ним по сложности...» Для Эйзенштейна такой встречей и была встреча с Москвиным, для Москвина — с Эйзенштейном.
Чтобы вернуться к «Грозному», скажу о еще одной черте Эйзенштейна, привлекавшей Москвина, — упорстве в достижении цели. Парадоксальна сама идея съемки такого фильма в условиях ЦОКСа, но Эйзенштейн осуществил ее и добился того, что работа велась на уровне, им заданном. Примером тому было и появление на фильме Москвина — интересы искусства оказались выше привычного многолетнего сотрудничества с Тиссэ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ-ТВОРЕЦ
Исполнители — те же творцы; и — «ура исполнителю»!
Андрей Белый
Леонардо да Винчи написал: «Жалок тот мастер, произведение которого опережает его суждение...» У Эйзенштейна суждения опережали произведение: все было детально продумано — и зарисовано! — до съемки первого кадра. Рисунки кадров, наброски деталей, актерских поз сопровождали уже работу над сценарием. Первая запись к нему (2 февраля 1941 года, сцена исповеди) — и сразу рисунок: крупно лицо Ивана, перед ним крест. Рядом написано: «Болтается крест духовника сверху в кадре». Рисунком задано и содержание кадра, и композиция, точка съемки — камера на уровне лица Ивана, стоящего на коленях. Не показан свет. Эйзенштейн оставляет его
оператору? Но вот рисунки сцены у гроба Анастасии с тональной проработкой: высвечены места, освещенные свечами, стены собора по-
глощены тенью, из-под купола — косой луч света.
Есть и пояснение: «Лунный луч (глухой, без рефлексов)». Такой же луч света на рисунках Пещного действа и коронации, где освещен им венчанный на царство Иван (задумано это раньше, в 1940 году: в разработке монолога Бориса Годунова для фильма «Любовь поэта» есть рисунок собора с косыми лучами).
Москвин увидел рисунки задолго до того, как появился у Эйзенштейна на съемке, и имел время подумать о том, как должны они соотноситься с кадрами фильма. Для него такой метод работы был внове, но уже по первым снятым им кадрам стало ясно, что он прекрасно уловил саму суть характера и назначения рисунков. Как верно заметил художник Юрий Пименов: «...рисунок перебегает нужную меру образа, а в фильме режиссер снимает этот перебор, и в результате образ приобретает настоящую
Февраль или март 1944 года.
«Иван Грозный». Съемка сцены у гроба Анастасии Поочередно подсаживаясь к установленной на операторском кране камере, Москвин и Эйзенштейн уточняют композицию кадра.
Фото В.Домбровского.
силу». Эйзенштейн и сам написал о своих рисунках: «Иногда — кон-
центрированная запись того ощущения, которое должно возникнуть от сцены... Иногда они определяют образ будущего кадра». Именно так: не сам кадр, а концентрация ощущения, образ.
Многие рисунки вертикальны, это даже не схемы композиции. Что же искал в них режиссер? На рисунке к сцене коронации написано: «Анастасия в группе Глинских-Захарьиных. Резко белая группа 3-5 человек, сзади черно». Вертикальность рисунка с уходящей вверх темной массой колонн и стен собора заостряла выделение «резко белой группы». В кадре есть контраст с темным фоном, но на бояры-
нях пестрые одежды. И точка съемки такая, что фон почти не виден. Центр кадра — «резко белое» лицо Анастасии. Образ сохранен, но акцент смещен с группы на будущую царицу. Конечно, Москвин сделал это вместе с Эйзенштейном.
Рисунок «Объяснение Филиппа с Иваном» горизонтален, легко вписывается в кадр. Игумен Филипп уходит влево, справа Иван, упав на колени, хватает край белой мантии, своды палаты расходятся от центра. Все в рисунке разъединяет героев: каждый под своим сводом; монах в белом, царь в чер-
ном; чернота около царя усилена темным пятном трона, белизна мантии — светом слева из окна у пола. Москвин работал над этим кадром летом 1944 года, переснимая сцену, которую Тиссэ снял еще в апреле 1943-го. В кадре замысел уточнен, ибо яв-
«Иван Грозный». Объяснение Ивана /Н Черкасов) и Филиппа (А Абрикосов). Рисунок С.Эйзенштейна, сделанный при работе над сценарием, и кадр из фильма, снятый Эйзенштейном и Москвиным.
ное противопоставление царя и монаха в рисунке — перебор внешнего. Внутренне они — властные, уверенные в своей силе, — во многом подобны. Снимая царя, молящего бывшего друга о новой дружбе, Эйзенштейн вместе с Москвиным выявлял теперь сходство: оба в темном, почти черном, оба замкнуты в арку одного свода. Кадр, соответствующий рисунку, короткий, но и в других кадрах сцены проведен пластический мотив объединения героев аркой свода.
Потом Иван, пытаясь купить дружбу Филиппа, предложит ему московскую митрополию. Филипп резко повернется... Эйзенштейн ввел эффект, неожиданно и точно раскрывший суть ситуации. При резком повороте шлейф темной мантии развернулся белой подкладкой наружу, а Москвин еще подсветил ее прибором, стоящим на полу (окно у пола на рисунке сделало свое дело). Ворвавшееся в ряд темных кадров белое пятно — подкладка мантии и внутренняя, до времени скрытая «подкладка» Филиппа — больше говорит о невозможности примирения, чем заостренные различия в рисунке (белая подкладка мелькнула в коротком кадре в начале сцены, но не была так «подана», зато смягчила излишнюю эффектность кадра с подсветкой подкладки). Цветовой толчок «включил» ярость Ивана, на просьбу Филиппа о праве заступничества закричавшего: «Нет напрасно осуждаемых!» и, несмотря на внешнее смирение царя, подготовил разговоре Малютой и казнь Колычевых. Мотив белого пятна будет развит в столкновении царя с митрополитом во время Пещного действа, где Филипп в белых одеждах, а Иван в черной рясе. Бывших друзей уже ничто не соединяет...
Примеров совместной работы режиссера и оператора по «преобразованию» рисунков в кадры можно было бы привести много, но и двух достаточно. И в кадре с Анастасией, и в кадре «друзей-врагов» есть «снятие перебора», но в первом смещен акцент, а во втором сместилась суть образа, то, что Эйзенштейн назвал «формулой»: вместо «во всем разные» стало «внешне похожие, но разные». Москвин сумел прочесть в рисунках иногда вовсе и не столь наглядные формулы образов, понял смысл каждого детального досъемочного «суждения» режиссера, и это, безусловно, облегчало его работу. Но и усложняло, ибо ставило в жесткие рамки режиссерского замысла, что — повторю — Москвину было непривычно.
Напомню: «В моей практике... не было того, что здесь моя отрасль, здесь начинается отрасль Енея, здесь граница Козинцева, здесь — Леонида Трауберга». Москвин не преувеличивал, они работали именно так. Режиссеры ждали предложений оператора, художника, актеров, поддерживали импровизацию, даже спор. Был продуманный в деталях замысел, были и формулы, требующие образного воплощения, скажем, мысль Козинцева «впаять кладбище в фабричный фон». Но сам Козинцев написал: «Съемки никогда не являлись лишь реализацией замысла режиссера». Так что справедливы и определение «фильм Козинцева и Трауберга», и определение «фильм коллектива Козинцева и Трауберга». На опыте «Чертова колеса» и «Шинели» Москвин с Михайловым утверждали в своей статье: фильм — «органически крепкий продукт работы по существу одного творца — постановочной группы».
А вот «Потемкин» или «Октябрь» — фильмы Эйзенштейна, хотя есть в них вклад Тиссэ и Александрова. В «Бежином луге» и «Нев
ском» вырос вклад актеров, композитора, художника. Еще большим он стал в «Грозном», где резко возрос и вклад оператора. Но и этот фильм — авторский. В чем особенность работы оператора в таком фильме? Уяснить это поможет аналогия с актером, ибо и оператор, и актер — исполнители, стало быть, находятся в состоянии взаимосвязанных свободы и необходимости. Замечательная черта Козинцева-режиссера — умение не отбрасывать непредвиденную интонацию актера, его импровизацию, даже случайности, ставить их на службу не деталям, но самой сущности своего замысла. А вот мнение об эйзенштейновской режиссуре искушенного актера Александра Мгеброва: «Жест, мимика, интонация, мизансцена у него потому и красивы, что избавлены от случайностей, от суеты, от чужеродных наслоений». Актеры по-разному принимали такой метод. Те, что противились твердой воле режиссера, пустили слух, что Эйзенштейн «гнул актера, как саксаул», был «жестоким». Но и фэксовец Олег Жаков, и ученик школы Бориса Зона, далекой от ФЭКСа, Павел Кадочников вспоминали: при согласии с задачами, которые ставил Эйзенштейн, работать с ним было легко.
Эйзенштейн считал: «...только бездарный коллектив может существовать на подавлении одной творческой индивидуальности другой». Он и не подавлял, более того — вовсе не был рабом замысла и что-то менял в нем, подхватывая и идеи исполнителей. Ему понравилась придуманная Кадочниковым ловля мух — сочный штрих в характеристике «умом прискорбного» Владимира — и он снял такой кадр. Он уточнял, даже менял формулы кадров (объяснение Ивана с Филиппом). Но не случайно, говоря об ансамбле, он вспоминал оркестр. Если авторский замысел, выраженный в сценарии, — партитура, а режиссеры в период постановки — исполнители ее, пускай и самые ответственные, то коллектив Козинцева и Трауберга — секстет из музыкантов яркой индивидуальности, коллектив же «Грозного» — оркестр из таких же музыкантов, но с режиссером в качестве дирижера (на превосходной фотографии Виктора Домбровского — съемка «Пещного действа»: Эйзенштейн со спины, силуэтом; он вскинул руки вверх в стороны и удивительно похож на дирижера, «поднимающего» оркестр к кульминационному «тутти» симфонии). Задача режиссера и его группы, по Эйзенштейну, та же, что дирижера и оркестра: «единство стилистического предвидения и воплощения вещи... Внутри этого единства возможна любая кооперативная творческая зависимость... И, может быть, больше всего в паре оператор — режиссер». Творческая связь Москвина с Эйзенштейном была прочной и взаимной, как и с Козинцевым и Траубергом. Но Эйзенштейна отличало твердое, даже жесткое стремление к соответствию результата «стилистическому предвидению» — замыслу в его конечной фазе.
Виртуозный универсализм Москвина проявился в том, что он смог снимать в иной манере после семнадцати лет работы в манере Козинцева и Трауберга. Правда, их манера менялась от «романтической» стилистики к «классической». И как раз возврат к романтическому кино в «Грозном» был для Москвина притягательным. Важна была и высота задач, поставленных замыслом, ибо для Москвина, чем труднее задача, тем интереснее работа. А задачи были трудны и по сути замысла, и по степени проработки его автором. Эйзенштейн это пони
мал: «Труднее всего “изобретать” образ, когда строго “до формулы” сформулирован непосредственный “спрос" к нему».
Эйзенштейн написал «изобретать», а не «создавать». В этом он шел за Леонардо, понимавшим под «изобретением» творческую способность и ученого, и художника, и за Пушкиным: «Есть высшая смелость, смелость изобретенья, создания, где план обширный объем-лется творческой мыслью». У Москвина была смелость изобретения, но на «Грозном» был и до формулы точный «спрос» к образу (формулы не только в рисунках, и в сценарии: «Снова дверь открылась. Пустотой зияет...», но и в лаконичных, близких Москвину самим стилем высказываниях режиссера — в сцене убийства Владимира он просил снять собор «как утробу»), Москвин сумел более других исполнителей обширный план объять творческой мыслью. Как исполнитель-творец он уже не просто шел за замыслом, но мог «заострить» его, не переступая предела, определенного его сутью. Об этом сказал работавший на «Грозном» художник Давид Виницкий, отвечая на мой вопрос о роли рисунков Эйзенштейна: «Москвин их изучал, воспринимал, запоминал, хотел брать и брал их за основу. И вместе с тем вносил свое. На это и рассчитывал Эйзенштейн. Другим он этого не позволял, настолько придерживался он задания. Такой же, как и у него, художнический уровень Москвина позволил Эйзенштейну идти на это».
Конечно, не только художественный уровень. Здесь было то единство автора и исполнителя, о котором хорошо сказал Евгений Мра-винский: «Шостакович был гениальный композитор. Я только исполнитель его произведений. Но мы — современники, и все, что отражено в музыке, я пережил сам...»
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ БОГАТСТВО
...искусство — не «чуть-чуть», а «чересчур», впрочем, неверно, искусство — это и «чуть-чуть», и «чересчур».
Анатолий Эфрос
Первую серию хорошо приняли «наверху», рецензии были только положительные. Сергей Юткевич, продолжая старый спор, решился на оговорки в «части, которая касается человеческих образов» (впрочем, такие оговорки делал не он один), а о Москвине написал: его и раньше знали «как блестящего мастера светописи, но нигде его талант не раскрывался с такой силой, нигде еще не удавалось ему с такой насыщенностью передать то, что мы называем образной и оптической атмосферой фильма. Точность его композиций удивительна...» На обсуждениях шел спор; в заметке об одной из дискуссий сказано, например, что Игорь Савченко назвал фильм чрезмерно усложненным. И тут же: «И сторонники, и противники новой работы С. Эйзенштейна были единодушны в одном пункте: изобразительное мастерство режиссера и операторов выделяет фильм “Иван Грозный” среди других картин минувшего года».
Первый просмотр второй серии состоялся на студии 6 февраля 1946 года, просмотр в Кремле — спустя четыре недели, а на экраны она вышла только в 1958 году, когда тон в советском кино задавали
«Весна на Заречной улице», «Солдаты», «Дом, в котором я живу». Монументальный стиль ощущался безнадежно устаревшим, и это прямо влияло на восприятие «Грозного» с его барочностью, изощренной пластикой и развитой монтажной структурой. То же было на Западе, где в центре внимания были фильмы, очень далекие от стилистики второй серии — «Ночи Кабирии», «Двенадцать разгневанных мужчин», первенец «новой волны» — «Красавчик Серж». При всем почтении к великому режиссеру (именно в 1958-м «Потемкин» был назван лучшим фильмом всех времен) в зарубежных откликах были и упреки в помпезности, даже оперности.
Через 20 лет, в 1979 году, Юткевич, защищая фильм, написал, что признание его «кинооперой» не уничижительно. Но «Грозный» в защите уже не нуждался, заняв свое место в киноклассике: столкновение с репертуаром 1958-го ушло в прошлое, обе серии воспринимаются в контексте их времени и всего творчества Эйзенштейна. Фильм от этого не изменился, остался монументальным, местами даже «оперным». К нему можно отнести слова Святослава Рихтера о 8-й сонате Сергея Прокофьева: «Соната... тяжела от богатства — как дерево, отягченное плодами». Так же «тяжел от богатства» и «Иван Грозный». Богатство его включает в себя многое, в том числе и пластику — изобразительное богатство. Как оно создано?
Ответ вроде бы прост: чересчур живописными, грандиозными декорациями, обилием дорогого реквизита, роскошью одежд. Но изучая изображение, приходишь к неожиданному выводу — всего этого куда меньше, чем кажется. Очень больших декораций две — Успенский собор и Золотая палата, где играют свадьбу; многие декорации зажаты сводами, похожи скорее на подвалы, чем на палаты; почти у всех неживописные, выбеленные стены; фрески, о которых много пишут, — только в четырех (собор, приемная палата, трапезная, светлица митрополита). Есть роскошные одежды бояр и самого царя, но по большей части Иван в рубашке или в монашеской рясе. В глухие черные кафтаны, в монашеские балахоны одеты опричники. Дорогого реквизита и вовсе мало, разве что в горнице царицы, да на свадьбе. Сделать изображение «богатым» можно и форсированным применением экспрессивных средств — ракурсов, панорам, деталей. И этого нет в «Грозном»! Острых ракурсов мало, почти все оправданы: скажем, в сцене «Иван умоляет бояр» царь на полу снят с точки зрения стоящего рядом боярина. Несколько панорам и наездов не выделяются ни длительностью, ни сложностью. Вынесенных на первый план деталей — три на обе серии (чаша с ядом, голова лебедя с короной, маска на ступенях в сцене пира).
Но впечатление богатства, масштабности — есть! Создано оно прежде всего отсутствием «пустот» — иллюстративных пейзажей, проходов, «связок», действие и диалог предельно сконцентрированы. Создано оно и сложной полифонией всех выразительных средств, в которой главную мелодию часто ведет изображение. В «Грозном» более всего осуществлен идеал Москвина: каждый кадр имеет элементы всего фильма и одновременно характерен во всех элементах, как подписная картина большого мастера. В статье 1927 года, где этот идеал заявлен, сказано еще, что оператору необходимы «общность и знание художественных интересов, как режиссера, так и художника, объ-
«Иван Гоозный». Кадр из фильма Подслушивающий Малюта (М.Жаров).
единяющий их интерес к теме и материалу постановки». Условие это было соблюдено и на «Грозном». Но подход Эйзенштейна к изображению как первому среди равных выразительных средств открыл для оператора и художника особые возможности.
Москвину везло на товарищей по работе, почти все были его друзьями. Близким другом его стал и художник Иосиф Шпинель. Они сразу нашли общий язык: Шпинель был похож на Енея и человечески — добротой, трудолюбием,
и творчески — лаконичностью декораций. Как и Москвин, он стремился работать на уровне замысла Эйзенштейна, хотя в еще большей степени был в его рамках, ибо рисунки давали детальное видение режиссером будущих декораций — вроде бы художник и не нужен. Но, как и Москвин, Шпинель понимал, что рисунки — формулы образов.
Постоянный в рисунках мотив дуги, арки проведен через все декорации, продолжен в натурных кадрах Александровской слободы и даже в одном из кадров у Казани (на куполе холма шатер с навершием в форме шлема). В этом был «перебег», тем не менее Москвин, выбирая с Эйзенштейном точки съемок, строя композиции кадров, включал в них дуги сводов, арочные проемы окон и дверей и впрямую — обрамлением кадра, и в сложных переплетениях. Разнообразие композиций с арками умножено разнообразием схем света. Притеняя арку, выделяя ее светом, сильным лучом образуя на полу световое пятно «обратной арки», с помощью дыма «размывая» своды, Москвин преобразовывал основной мотив «тембрально» и уходил от назойливого «чересчур». Характерный пример: арка, объединявшая Ивана и Филиппа в сцене объяснения, «отыграна» и в сцене их полного разрыва в соборе. Крупно снятые, они с ненавистью глядят друг на друга, а в глубине — подсвеченная, но смягченная дымом арка над иконостасом. Она не охватывает героев, чуть видна и «звучит» как напоминание о том, что их когда-то объединяло. Москвин часто мог совсем притушить арки, а он подчеркивал их, сделал одним из пластических лейтмотивов фильма
Мотив арки, дуги проведен не только в декорационно-пластическом решении, но и в общем строении фильма. Пластические лейтмотивы становятся у Эйзенштейна и Москвина своеобразными «мостиками», «арками», связывающими далеко отстоящие сцены. Так, в обеих сериях они «приберегали» фреску Страшного суда и во всю мощь подали только в сцене убийства, когда обреченный князь, двигаясь по собору, поднял голову к охваченной аркой огромной картине. По ней скользили устрашающие тени, медленно идущих опричников в островерхих балахонах. В следующем кадре Владимир будет убит. В следующей серии у этой фрески с гневным ликом Саваофа Иван испове-
«Иван Гоозный». Кадр из фильма Пимен (А.Мгебров) отпевает Ивана.
довался в грехах, а монах читал синодик его жертв, начинавшийся с раба божьего Владимира... Нонет третьей серии, важнейшая «арка» разрушена, как и многие другие.
Островерхие тени на фреске связаны с еще одним пластическим мотивом, резко противоположным мотиву плавной дуги. Сам Эйзенштейн примером «графическо-
го лейтмотива» назвал форму треугольника, несущего тему смерти в сцене соборования царя. Мотив этот проходит через треугольник черного платка Ефросиньи, светлый треугольник люльки Дмитрия, а апогея достигает в тяжелом Евангелии, могильным камнем ложащемся на живое лицо Ивана... Да еще и в снятом немного сверху кадре прихода бояр к больному Ивану «отыгрывается» треугольником светлого пола, образуемого двумя черными дорожками и направленного от постели Ивана к боярам и к нам, зрителям. Написав дальше: «Другие сцены пронизаны другими мотивами», Эйзенштейн запамятовал, а может быть, не осознал, что мотив «треугольник — смерть» явлен и в других сценах, причем Москвин очень тщательно следил за его «наглядностью».
Первый кадр сцены Ивана и Малюты после объяснения с Филиппом: царь стоит у трона со спинкой в виде вытянутого вверх треугольника. Трон по-театральному освещен ярким кругом света (Москвин еще в 1926-м написал: важна не логика, а выразительность!). В других кадрах сцены голова царя вписана в треугольник спинки. Только там, где Иван ласкает Малюту, он снят чуть сбоку, спинка не видна. Прижавшись к царю, Малюта затенил боковой свет на его лицо, освещение стало зловещим. Согласие на казни вырвано, голова Ивана снова вписана в треугольник, а кадр становится светлее. Финал сцены: Иван стоит, взявшись руками за голову («Каким правом судишь, царь Иван?..»); вновь пятно света на троне и острый угол тени спинки стремится прорвать дугу светового круга.
В столкновении царя и митрополита в соборе контраст цвета (Иван в черной рясе, Филипп в белой, парадной) обострен контрастом формы. Уже на общих планах, когда они стремительно идут навстречу друг другу, мягкому, округлому контуру митрополита противопоставлен черный треугольник снятого со спины Ивана. На крупном плане графический конфликт доведен «до эффекта» в цвете («белый» Филипп с черной бородой и «черный» Иван с белой бородкой — почти негатив и позитив) и в форме (треугольник капюшона Ивана и округлая форма клобука Филиппа). Мотив «треугольник — смерть» дости
гает кульминация в монашеских одеждах Ивана и опричников и, особенно, в их тенях на фреске.
Пластические мотивы созданы и иными средствами. В фильме мало съемок с движения, это создает «арку» между кадрами, в которых они есть. Две сцены начаты медленными вертикальными панорамами. Первая — в Золотой палате: от лепнины под потолком вниз к застывшим в поцелуе молодоженам. Вторая панорама тоже опускается вниз к Ивану и Анастасии, но к Ивану, застывшему у ее гроба. Панорамы связывают моменты счастья и горя царя, но вторая еще и дала образ собора, резко отличный от сцены коронации. Формула собора с гробом дана в сценарии, где названо не просто место действия, а его особенность: «Темная внутренность собора». Тут есть и перекличка со сценой убийства Владимира, обозначенной «Внутренность собора». Близость формул не случайна, сцены сцеплены сложными параллелями и противопоставлениями. В первой — мертвая царица, из рук царя получившая чашу с ядом, поданную Ефросиньей, во второй — мертвый сын Ефросиньи; она своими руками толкнула его в западню, приготовленную Ивану. И снова оборвана «арка» к третьей серии, к сцене с названием «Темнота»: последний разговор отца и сына Басмановых и отцеубийство...
Переплетения мотивов дают сложную, богатую пластическую структуру. На нее наложены музыкальные лейтмотивы, чаще всего прямо с изобразительными не совпадающие. Связанные или контрастные по пластике и музыке сцены соединены в разные по тональности крупные «части», образующие монументальную звукозрительную симфонию. Невольно вспоминается пластическая музыка «Нового Вавилона», ее многообразие и единство. В «Грозном» полифо-ничность стала единством в многообразии. Эйзенштейн писал о его основоположном значении на примере единства развивающегося облика Ивана во всем многообразии его перемен: после «предэкранной обработки облика царя в великолепном мастерстве художника грима В.В.Горюнова», невыразимое самим обликом досказывалось «игровым актерским ракурсом, обрезом кадра и прежде всего чудом тональной светописи оператора Москвина».
Для «актерского ракурса» важны моменты фиксации актером позы, своей выразительностью раскрывающей формулу образа. В «Грозном» эти моменты внешней неподвижности при глубоком внутреннем наполнении — существенный элемент движения образа; это близко стремлению Рембрандта добиться в картинах, в которых изображение по сути своей неподвижно, «наивысшей и наиестественнейшей подвижности». Не все актеры прониклись замыслом автора и эмоционально оправдали предложенные «ракурсы». Не все удалось и Черкасову. Рядом с кадрами, где он поднялся до трагического пафоса в сложном «ракурсе», были куда более простые по рисунку, но актерски «пустые». На долю оператора выпала задача привести к единству облик царя и в многообразии перемен, и в разных по эмоциональной наполненности кадрах. Первую часть задачи Москвин решил до конца, добиваясь в портретах царя наивысшей и наиестественнейшей подвижности, и так же, как Рембрандт, с помощью светотени. Он нашел, как писал Эйзенштейн, «тончайшую тональную нюансировку того, что бы я назвал «световой интонацией»... тончайшую световую музыкальность в портрете».
Еще одна параллель с «Новым Вавилоном»: внешне меняется один персонаж. Нотам время действия коротко. В «Грозном» проходят десятилетия, а меняется только Иван. Странный, сточки зрения логики, и вопреки ей не замечаемый зрителем, прием нужен был Эйзенштейну, чтобы подчеркнуть резкость внутренних перемен главного героя. Другие персонажи внешне не меняются, ибо нет у них внутренних перемен, каждый отмечен какой-то одной, ярко выраженной психологической чертой: Малюта — собачьей преданностью, Ефросинья — властолюбием и т.д. Кузьмину снимали без грима, у Москвина был только свет. В «Грозном» был еще и грим. Но чтобы глубоко проникнуть в психологию героя, нужно было «досказать» невыразимое самим обликом. Дело усложняла заметная «фактура» Черкасова, даже при мастерстве Горюнова, пробивающаяся через грим. Точным выбором допустимых ракурсов, сквозной «световой формулы» (определение Эйзенштейна), на которые накладывалась отвечающая атмосфере сцены «тональная нюансировка», Москвину удалось практически во всех портретах царя уйти от «черкасовского», от ассоциаций с другими ролями. В числе редких исключений некоторые кадры в Золотой палате; тут пафос Черкасова плакатен, а лицо для «омоложения» чуть «залеплено» светом (удивительно, но это не так заметно в сцене коронации, где Иван моложе). Мелькнувшее здесь отдаленное сходство с Александром Невским усугубилось тем, что в следующих сценах под Казанью в ключевых кадрах у шатра и над подкопом Тиссэ очень «подал» царя. Сухая графичность этих композиционно ярких кадров шла от стилистики «Невского» и создала диссонанс в общем светотеневом решении фильма.
«Грозный» — шедевр портретного мастерства Москвина. Вспомним портрет Ефросиньи в профиль в сцене Пещного действа (контровой свет бликующей полоской подчеркнул форму носа, выявляя сходство с царем) или «око государево» — Малюту, пальцем приподнимающего тяжелую бровь. Неожиданно для Москвина в сцене бунта Малюта освещен двумя почти равными по силе приборами слева и справа. Вероятно, Москвин применил этот любимый прием Тиссэ потому, что сразу за бунтом шла Казань, уже им снятая. Но взяв «чужой» прием, Москвин органично включил его в общую тревожную световую атмосферу сцены; более того — использовал его и в других портретах Ма-люты, например, в сцене, где он уговаривает царя казнить Колычевых.
И, конечно, блестяще, истинно по-москвински сняты портреты-характеристики персонажей, появляющихся в одном-двух кадрах — бояр, опричников, иностранцев. Много значила тут виртуозная передача фактуры кожи, «волосатости» бояр, блеска парчи, матовой «глубины» меха. Эйзенштейн писал в связи с этим о «поразительном фототембровом умении Москвина». И верно, уже в сцене коронации, где один из иностранцев показывает другому героев будущей трагедии, Москвин добился совершенно разных «тембровых» оттенков каждого портрета и этим смягчил искусственность сценарного хода. К сожалению, искусственность, чаще всего связанная с желанием режиссера довести все до «выхода из себя», до «чересчур», в некоторых сценах осталась. Можно назвать излишнюю симметричность композиций в сцене свадьбы, элементы оперности в сцене у Сигизмунда... Вспоминаются слова Пастернака о «Ревизоре» Мейерхольда: «Были места неравного значения... но так именно и дышит всякая
«Иван Грозный». Кадр из фильма. Иван Гоозный (Н. Черкасов) в Приемной палате.
творческая ткань: тут ядро, там протоплазма».
В насыщенном растворе «Грозного» протоплазмы почти нет, а ядро создано всей съемочной группой на пределе творческой отдачи. И увлеченный замыслом режиссера Москвин, как ни в одном другом фильме, пользовался и своим знаменитым «чуть-чуть», и смело, даже дерзко — пафосным «чересчур», скажем, преувеличенными тенями. У них свой пластический мотив от
Золотой палаты, где в сцене бунта мечутся по стенам огромные тени, до финала с «треугольными» тенями опричников. Есть запоминающийся кадр и в сцене с послом Непеей: маленькая фигурка царя за столом на первом плане, а на выбеленной стене вдали — гигантская тень его головы. В сценарии и в рисунках Эйзенштейна теней в этой сцене не было и можно предположить, что думая о съемке царя в пустых хоромах, Москвин вспомнил, как в романе Мережковского Леонардо наблюдает за работающим Макиавелли: «Пламя огарка бросало на голую белую стену огромную тень от головы его с угловатыми резкими очертаниями...». Эйзенштейну такое решение должно было понравиться; он развил его и довел до предела в кадре, где есть только тени. Эйзенштейн написал, что гигантская тень астролябии прочитывается «подобием кардиограммы, составленной из хода мысли задумавшегося политика», но зрителям она скорее напоминает схемы строения атома, Земли, планетных систем. Кадр с огромными тенями царя слева, астролябии в центре и небольшой тенью Непеи справа — символ государственной мудрости и воли царя, охватывающего ими весь мир, и одновременно гордыни человека, поставившего себя над миром и людьми.
ПРОСТРАНСТВО ТРАГЕДИИ
Вся культура может быть истолкована как деятельность организации пространства
Павел Флоренский
Палата, где снята сцена с Непеей, невелика. Монументальность ей придали громадные тени и короткофокусный объектив. Раньше Москвин применял его крайне редко: он широко охватывает пространство, но резкое изображение на большую глубину подчеркивает фон и «съедает» воздушную перспективу. Эйзенштейн и Тиссэ, напротив, предпочитали короткофокусную оптику за ее более графич
ное изображение и найденную еще на «Стачке» возможность дать с ее помощью смысловой контраст первого плана и фона. С такой оптикой Тиссэ начал павильоны «Грозного» и снимал натуру. Москвин расширил набор, применив и нормальный объектив (50 мм) и портретный (75 мм), но большинство кадров сняты более короткофокусными (35 и 28 мм), а некоторые, скажем, кадр с тенью головы царя — сверхкороткофокусным по тем временам объективом 25 мм. Нетипичное для Москвина предпочтение короткого фокуса вызвано отнюдь не продолжением начатого Тиссэ, но самой задачей создания монументального стиля, близкого «большому стилю» барокко. Отсюда шел иной, чем в других фильмах Москвина, подход к пространству.
Москвин, благодаря своей основательной общей культуре, успешно решал задачи организации пространства уже в ранних фильмах. Вспоминая «Шинель», Козинцев записал в 1969 году: «...мы пробовали (ощупью) вписать повесть в пространство трагедии». Слова этой записи стали названием книги, а путь к пространству трагедии козин-цевского «Короля Лира» прошел через «Шинель», «С.В.Д.» (солдат у шлагбаума, вихревое движение «пространства бунта»), «Вавилон» (перекошенное пространство в сцене проводов на фронт, уплощенные размытым фоном кадры бала), «Одну» (гладкие предгорные равнины, снежная пустыня), трилогию (стык подчеркнутой перспективы сцены разгона демонстрации с плоским фоном антропологического бюро, вообще мотив плоских фонов «Юности», мягкие фоны первопланового действия в «Выборгской»), Число примеров легко умножить. «Грозный» дал Москвину возможность соединить свой огромный опыт с новой для него эйзенштейновской концепцией пространства.
Уже в «Стачке» Эйзенштейн и Тиссэ применили глубинные построения кадров, есть они во всех их фильмах, лучший пример — крупный план Ивана на фоне процессии. Поиски новой организации кадра вели в тридцатых — начале сороковых годов многие операторы: для съемки протяженных разговорных сцен Волчек в «Ленине в 1918 году» вместе с Роммом разработал «глубинную мизансцену», Кольцатый и Эрмлер в «Великом гражданине» решали ту же задачу сложным движением камеры в замкнутом пространстве, Екельчик и Савченко широко распахнули пространство натурных кадров в «Богдане Хмельницком». Много нового внес в глубинные построения Грегг Толанд в фильмах, снятых с Уильямом Уайлером, и особенно в «Гражданине Кейне» Орсона Уэллса. Преодолев проникший в кино вместе со звуком театральный метод организации пространства, операторы достигли таких успехов, что новый шаг сделать было трудно. Москвин сделал его с помощью своего излюбленного оружия — света.
Сложная, местами даже причудливая организация пространства «Грозного» определялась задачей раскрыть трагедию и в ее крайностях, и в ее психологических нюансах, передать ее огромное «внутри-пластовое давление». Москвин создал для этого органичный сплав глубинных построений со светотеневыми. Яркий пример, почти «формула» сплава: кадр, в котором Иван берет чашу с ядом, подставленную Ефросиньей. Белый каменный парапет рассекает кадр наискосок. Пространство нижней части уплощено; если бы не голова боярыни, казалось бы, что глухая темная стена выдвинута из экрана на нас. Пространство верхней части, где в поисках питья для больной царицы
мечется Иван, кажется глубоким, хотя в других кадрах видно — горница вовсе не велика. Глубину создал короткофокусный объектив. Он укрупнил Ефросинью, усилил динамику движений царя, но резко передав всю глубину горницы, снизил бы воздействие кадра дробностью деталей фона. Москвин «подменил» линейную перспективу воздушной: дымом заметно смягчил задний план. Подсветив «воздух», он еще и «углубил» светотенью пространственный конфликт: вибрирующий свет сделал глубину живой, и это доводило до предела контраст с первым планом, с мертвым камнем парапета.
Органичный сплав пространственных и светотеневых построений проще достигался в больших декорациях; в тесных, сводчатых палатах сделать это было много труднее. Кадр в горнице царицы показал, что Москвин справился и с этим. Первый помощник — подсвеченный дым, но открыто применять его можно было не всегда. Так, в большой сцене у Старицких дым есть во многих кадрах, но уж совсем «чуть-чуть»: здесь не нужна живая атмосфера. Главная тема тут — тема смерти: решают убить царя, обрекают на смерть Филиппа («Мученик Филипп — делу нашему нужнее...») и Петра Волынца, в конце сцены грозным предзнаменованием явится чаша, из которой царица пила яд. Зловещее настроение поддержано светом — тревожным, сумеречным, меняющимся. Почти весь свет не оправдан реальными источниками, но в переменах его от кадра к кадру есть логика, связанная с логикой пространственных решений.
Первый кадр сцены: Ефросинья вбежала из двери в глубине справа с криком «Филиппа взяли!» и пересекла кадр по диагонали до крупного плана. Короткофокусный объектив углубил пространство, ускорил пробег, исказил лицо на крупном плане, что усилено резким светом от одного прибора сверху слева. Стремительность пробега грузной старухи в тяжелых одеждах, меняющийся свет, искаженное лицо в заключающем кадр «игровом ракурсе» выразили охвативший ее ужас (по словам Серафимы Бирман, Москвин принял ее не сразу. Играла она неровно, и так же, как с Черкасовым, Москвин в некоторых кадрах «играл» за актрису своими средствами).
Ужас Ефросиньи передался боярам: «Выхода нет!». Но тетка царя взяла себя в руки: «Выход есть!., царя убить». Сразу вступила новая тема — страх Владимира перед убийством и будущим царствованием; она введена глубинным кадром, снятым чуть сверху. На первом плане лицо Волынца, он должен будет убить царя, в глубине — фигурка растерянного князя (перспективное уменьшение фигуры Владимира усугублено оптикой), а из-за кадра звучат слова его матери: «...либо самим на плаху ложиться». Другой кадр развил тему убийства «своими руками»: Пимен в глубине рукополагает «на подвиг» стоящего на коленях Петра, на первом плане стол, на нем хлебы и нож. Ефросинья, опираясь на стол, кладет руку на нож, потом берет его, поворачивается и идет вглубь, перекрыв черным силуэтом освещенную группу.
Пимен с Петром ушли; боярыня вслед: «Бел клобук, но черна душа». Эйзенштейн дал цветовой комментарий: Ефросинья сняла черную накидку, на ней белый платок, светлое парчовое платье. Раскрыв сходство черных душ Пимена и боярыни, цветовое преображение изменило и атмосферу сцены. Убийство решено, надо снять страх с души сына. Но тема смерти не исчезла. На крупном плане Владимир ска
зал: «Пошто на закланье отдаешь?», и лицо его накрыла тень. Потом уже видно, что это тень наклонившейся к нему матери. Через два кадра — средний план, мать запела колыбельную. Композицией кадр похож на классические «Пьета»: сын положил голову на колени сидящей матери, их общий силуэт — остроугольный треугольник...
В монтажной фразе матери, поющей над сыном, Эйзенштейн и Москвин создали в крупных и поясных планах меняющееся «микропространство». Первый кадр («Пьета») взят чуть сверху, в каждом следующем точка съемки приблизившейся к героям камеры немного иная: на боярыню — чуть снизу, на сына — чуть сверху. В некоторых кадрах, даже соседних, положение его головы на коленях матери тоже иное. Кажется, что пространство между матерью и сыном медленно растет, их разъединяет жажда власти, вытесняя материнскую любовь. Кадры колыбельной светлые — лица и одежда заняли почти весь экран. Но слова «Царю Володимиру подарити...» звучат уже на общем плане, и за счет фона кадр сразу потемнел. Вслед опять пошли глубинные кадры со Старицкими и вернувшимся Петром.
Мрачность атмосферы снова растет от кадра к кадру, доводя напряжение до предела... Медленно открывается дверь, за ней темная пустота. Снова страх на лицах матери и сына. «Пауза наполняется музыкой: на редкость двусмысленной эмоционально, холодной по звучанию деревянных духовых, как будто отмеривающей стремительный ритм некоего скрытого передвижения. Это, так сказать, “скрытый Иван”, невесть что сулящий: ведь страх, которым охвачены оба персонажа, связан, в конечном счете, с Иваном» — этими словами Леонид Козлов показал, как музыка Прокофьева эмоционально раскрыла невыразимое другими средствами. И ту же роль играет москвинское искусство светотени, поднятое на новый уровень сплавом ее со сложной организацией пространства.
«Двусмысленность» начавшейся на кадре двери музыки в том, что явится Малюта с подарком Ивана тетке и приглашением на пир брату. Другой смысл царской «милости» боярыня уловит не сразу. Эйзенштейн и Москвин разворачивают эту тему столкновением встречных точек съемки, а Москвин еще и «проводит» ее в «фототембровом» звучании светотени, то чуть смягчая фон, то раскрывая его.
Старицкие отступают от двери — от крупного плана до среднего; растет темный фон, кадр помрачнел. Следует обратная точка, взятая с большей высоты. Через их спины — черный провал двери в глубине, в нем появился Малюта с чашей, пошел на камеру; мать и сын раздвинулись в стороны, Малюта дошел до крупного плана, почти закрыв кадр чашей, покрытой расшитым платком. Опять обратная и высокая точка — мать и сын в глубине прижались к стене. Они в светлом, да еще подсвечены. Снизу кадра двинулась нерезким силуэтом голова Малюты. Идя к Старицким, он постепенно полностью их перекрыл; световое пятно на стене превратило темную фигуру в силуэт. Малюта поклонился, открыв освещенные лица. Сразу их крупный план, ужас в глазах...
Так, по кадрам, можно разобрать всю сцену. Но и сказанное позволяет сделать выводы. Первый: абсолютно условный свет, разный даже в соседних кадрах. Внутренняя динамика освещения создает напряжение в статичных планах. Особо значима перемена тональности
в кадре: силуэт Ефросиньи перекрыл светлую фигуру Пимена, тень накрыла лицо Владимира, силуэт Малюты закрыл весь кадр. Свет работает на тему кадра, перемены тональности вторят состоянию Ефросиньи: от смертного ужаса к материнской любви и надежде, снова к страху при появлении Малюты и опять к надежде — сын приглашен на пир. В конце сцены недоумение (чаша — пуста), прозрение и ужас. Последний кадр — Ефросинья снова надевает черную накидку...
Второй вывод: пространство столь же условно, как и свет. Короткофокусный объектив охватывает почти всю декорацию, но реальное ее пространство непредставимо: непонятно, сколько дверей в палате, как по отношению к ним расположен столб, поддерживающий свод. Это не волновало режиссера и оператора, они стремились лишь к образному раскрытию темы, причем глубинное построение многих кадров позволило полифонически провести и основную, и побочные темы.
Третий вывод: условный свет и условное пространство создают ту новую реальность, о которой мечтал Эйзенштейн и для которой ему нужен был Москвин, реальность, основанную на принципе «художественной организации события перед аппаратом». Приближаясь к идеалу выразительности кадра и его связи с целым, Москвин организовал композицией и светом пространство заговора, пространство-западню; оно стало важной частью пространства фильма — пространства трагедии.
МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ЛИРИЗМ
...красота есть строгая соразмерная гармония всех частей, объединяемых тем чему они принадлежат, — такая, что ни прибавить, ни убавить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже.
Леон-Баттиста Альберти
Организация пространства в «Грозном» — звено сложного полифонического строения, в котором одни элементы досказывают недоговоренное другими; это требует, по Эйзенштейну, «чтобы единое композиционное начало пронизывало бы построения всех отдельных элементов». Москвин был исключительно чуток к единому началу и обладал чувством меры, потому и мог строить условное пространство с условным светом, а зритель условности не замечал. Условность пространства придала ему монументальность, необходимую для патетического стиля, для передачи самого духа Руси.
Москвин был воспитан на старой и новейшей европейской культуре. Тяга к экзотике открыла ему Восток. «Грозный» ввел его в древнюю и средневековую Русь. Как всегда, ему было мало поверхностного знания, он проникал в суть, постигая и общечеловеческое в русской культуре, и отличие ее от культуры Запада и Востока. Москвин понимал: пластика фильма непременно должна передать дух Руси, так явно проявившийся в переломе русской истории, который определила мощная и противоречивая личность Ивана IV. Владимир Фаворский на примере Андрея Рублева назвал особой чертой русского искусства монументальный лиризм. Такой лиризм был близок Москви
ну, его он и воплощал в фильме. Лиризм не был чужд и Эйзенштейну — напомню сюиту туманов в «Потемкине». В «Александре Невском» была не очень удавшаяся попытка дать траурно-лирическую сцену на Чудском озере. В замысле «Грозного» единое композиционное начало всех сцен основано на сочетании мощной драматической, трагедийной патетики с менее выраженными, лишь намеченными мотивами лирическими, даже мелодраматическими. В этом тоже был «перебег», и Москвин по возможности смягчал его, стремясь сочетать монументальность и патетику с лиризмом. Более всего это удалось ему в эпизоде убийства Владимира.
Эпизод, объединяющий три сцены (шествие Владимира и опричников через дворик, шествие в соборе и убийство, сцена Ивана и Ефросиньи), Эйзенштейн считал ключевым, особенно тщательно к нему готовился. Он даже заранее добился разрешения на перерасход пленки (в военное время случай беспрецедентный). Имея большую свободу в съемке и монтаже, он мог до конца выявить противоречивое единство политической и психологической тем фильма: с одной стороны, неизбежность кары за сопротивление ходу истории, с другой — еще не до конца осознанная Иваном (впереди — третья серия!) цена этой кары для него, человека карающего, человека, готового на все ради своей цели и потому не признающего какой-либо ценности другого человека.
Эпизод кульминационный, и Эйзенштейн строил его на пределе патетики. С помощью Москвина, актеров, Прокофьева он создал единый поток образов, захватывающий зрителей, заставляющий в такт биться их сердца, почти чувствуя перебои в момент смены ритма. Москвин прекрасно понимал значение эпизода, как и все, работал с огромным увлечением (тут стоит вспомнить о предложенном Пастернаком «законе отдачи художественного впечатления, равной квадрату силы увлечения») и так подал каждый персонаж, элемент декорации, что все перешло в новое качество.
Сложным по распределению освещенных и затемненных плоскостей, меняющимся от кадра к кадру сильным условным светом Москвин передал глубину пространства собора, помог зрителю хорошо увидеть важные для смысла сцены фрески. Но при этом непостижимым образом сохранил эффект «темной внутренности собора» — можно уверенно сказать, что его «фототембровое искусство» достигло здесь одной из своих вершин. В сочетании с длинными тенями, с постоянно ощущаемой высотой, даже если в кадре только плиты пола, такой свет «преувеличивал» пространство, делал его еще более монументальным и даже гулким — за счет не столько звука, сколько изображения. Ничем не оправданная «световая дорожка» на полу «захватила» Владимира, до этого двигавшегося по кривой, прячась за колоннами, и он уже подобен зайцу, попавшему в луч света, — теперь невозможен шаг вправо или влево, а лишь навстречу убийце... Каждый кадр эпизода потрясает и поразительной глубиной режиссерского и операторского решения, и точным соответствием своего места во всей образной системе, построенной на неуклонном нарастании внутреннего напряжения.
И в персонажах открывается новое. Вот пример: «За одним из столбов мелькнула тень Малюты. Владимир Андреевич вздрогнул и по
вернулся в ту сторону» — так через реакцию князя подчеркнуто в сценарии появление в соборе Малюты. Снимая кадр, Эйзенштейн и Москвин решили его иначе: вместо «мелькнувшей тени» они дали куда более впечатляющий «выход Малюты из тени» — он как бы выдвигается из тьмы, причем не просто из темного угла или проема (и такие кадры есть в фильме), а из огромной черной тени опричника на фреске. Это еще одна иллюстрация того, как, используя мастерство своего оператора, Эйзенштейн усиливал намеченные в сценарии образные решения. Отмечу попутно: блестяще выполненные Москвиным тени, особенно остроконечные, продолжающие пластический мотив треугольника, тени опричников на фреске с огромным изображением Бога, вершащего Страшный суд, дают очень важный дополнительный обертон в полифоническом строении эпизода. В следующем, крупном плане, Москвин осветил Малюту иначе, чем всегда, — скользящим вдоль лица светом снизу, и Малюта здесь по-особому серьезен, что очень точно работает на «единое начало» эпизода. Владимир уже не просто вздрогнул от мелькнувшей тени, а, словно почувствовав этот серьезный взгляд, медленно обернулся, сошел со «световой дорожки», поднял руки к лику Царя небесного, по которому скользили тени опричников. В этот момент Волынец кинулся к нему с ножом...
Последний драматургический узел эпизода, да и всего фильма, последний мощный эмоциональный всплеск — кадры Ефросиньи с убитым сыном. В режиссерской разработке образа Старицкой доминирует «Грозный в юбке», «фанатизм». Лишь раз сказано «страстно любящая мать», но тут же — о неразрывности обожания сына и перспективы овладеть властью. В сценарии написано: «Над трупом сына сидит слабая, горем разбитая, беспомощная старуха...». Не случайно также Эйзенштейн велел Бирман петь мертвому сыну ту часть колыбельной, в которой звучат слова «Царя Володимира обрядити...» — еще раз напоминая о главной страсти Ефросиньи. Москвин, как и во всем, разделял точку зрения режиссера, много сделал для того, чтобы ее почувствовали зрители — напомню крупный план княгини, где выявлено общее с Иваном. И в сцене убийства в кадрах еще на знающей правды Ефросиньи Москвин помог Бирман сыграть торжество властолюбия. Но в следующих кадрах он развил авторский замысел: в эйзенштейновском патетическом анализе трагических отношений Человека и Истории особо подчеркнул сострадание отдельному человеку, попавшему под колесо истории, усилил элемент лирический, усилил жалость зрителя к погибшему слабовольному человеку и к толкнувшей его на смерть матери.
Совсем не трудно было Москвину создать образ беспомощной старухи, «вылепив» контрастным светом искаженное горем лицо. Но этого нет ни в двойном крупном плане мертвого князя и узнающей его матери, ни в среднем плане Ефросиньи с лежащим на ее коленях сыном — кадр этот в еще большей степени приближен к «Пьета», чем в сцене в палатах Старицких. Мягкий общий свет чуть сверху на лицо, точно выбранный ракурс — и перед нами не просто старуха, а мать. Лишь в последнем в фильме кадре Ефросиньи, когда Федька уже уволок убитого сына, а Малюта забрал шапку Мономаха, Москвин за счет изменения позы княгини и меняющегося на ее лице света (тени от равнодушно проходящих мимо опричников) как бы возвратил нам при
вычное представление о ней. Образное решение сцены стало объемнее, эмоциональное решение — сильнее.
Эйзенштейн принял такую трактовку кадров матери и сына, иначе заставил бы переснять. С учетом этого снимали потом и палату Ста-рицких (Москвин не поддался естественному желанию дать здесь колыбельную лирически: материнская любовь неразрывна с борьбой за власть; он чуть смягчил светом лицо Бирман, но не убрал хищные зубы, волевой подбородок, недобрый блеск глаз). Эйзенштейн учитывал сцену в соборе, и снимая пир. Намеченный в замысле образ князя сохранен, но в последних планах пира убрано его недомыслие. Это уже не просто трезвеющий от страха человек (как в сценарии), а человек, прозревающий свою судьбу. Прозрение, преобразив князя, изменило и наше отношение к нему. Он стал достоин сострадания, тем более, что не способен на отпор: опричники уже увлекают его в дверь. И здесь произошел «нежданный стык» (выражение Эйзенштейна, сказанное, правда, по другому поводу): очень важная для всего эпизода сцена перехода из трапезной в собор, снятая раньше и собора, и трапезной, точно легла в линию москвинского монументального лиризма.
Эйзенштейн еще до съемок в деталях разработал «крестный путь» Владимира на рисунках, изобразив грандиозную декорацию в несколько этажей с обычными и винтовыми лестницами и галереей. Он хотел дать переход одним кадром с очень сложным движением камеры — это был бы блестящий пример головоломного сочетания непрерывно меняющихся глубинной мизансцены, освещения, ракурса. Декорацию не построили. Ведущие российские эйзенштейноведы Клейман и Козлов объяснили это условиями работы в Алма-Ате. Но Эйзенштейн с его требовательностью добился бы постройки если не на ЦОКСе, то позже в Москве. Основная причина, по-моему, в другом. Эйзенштейн понял, что с Москвиным можно создать образ «крестного пути» простыми средствами, добившись динамики контрастом самих пространств: большого, но зажатого сводами — в трапезной, открытого вверх, но тесно замкнутого стенами — в переходе, огромного — в соборе. В декорации дворика снимали идущую соборовать царя процессию священников и монахов. Потом, присыпав дворик «снегом», сняли казнь Колычевых (Москвин подал обреченных бояр безжалостно — тоже «арка» к убийству в соборе, но по закону противоположности). Решили снять тут и проход Владимира: риск невелик, при неудаче можно переснять, построив задуманную режиссером декорацию.
Первый кадр в дворике, средний план. Слева идет Владимир, он освещен со спины, впереди его на снегу резкая тень. Напуганный, одинокий человек идет, словно влекомый собственной тенью (Кадочников хорошо передал страх перед каждым шагом). Он достиг правого края, а слева показались черные балахоны. Второй кадр снят в том же направлении, но более общим планом. Справа видна низкая арка входа в собор, Владимир медленно движется в центре кадра, слева в том же темпе — опричники. Появление входа отмеряет оставшиеся Владимиру пространство и время, а центром внимания становится напирающая на князя безликая черная масса опричников. Эйзенштейн писал о преследующем его всю жизнь «остром обобщенном ощущении слепой неумолимости чего-то страшного наступающего», которое «беспрерывно выныривает» в его фильмах. «Вынырну-
по» оно и здесь, и помог этому Москвин; он и сам уже снимал подобное — издевательство над раненным декабристом в «С.В.Д.», когда лица глумящихся искажены и смазаны до символа безликости зла; скок немецкой кавалерии в «Новом Вавилоне»; шествие черносотенцев в «Возвращении Максима».
Третий кадр, средний план: Владимир почти силуэтом на фоне светлой стены приближается к входу, но, подойдя, оказывается в сильном луче света. Снова резкая тень, парча заблестела, напоминая нам: человека в этой одежде ждет за дверью убийца. Князь оборачивается в надежде, что идущие следом остановились, лицо его хорошо освещено. И общий план с более высокой точки. Снизу в кадр вливается, заполняя его, черная масса опричников, в глубине князь, обернувшись, стоит у входа. Он сначала шагнет от входа, перейдет по другую сторону. Это любимый прием Эйзенштейна — отказное движение. Оно есть и в снятом позже последнем кадре пира: увлекаемый опричниками Владимир перед тем, как выйти из трапезной, делал движение назад, к царю. Москвин тоже нашел «арку», связавшую с царем момент входа князя в собор, — он дал на дверь яркий «театральный» круг света: такой свет был на троне с треугольной спинкой в первом и последнем кадрах сцены царя с Малютой. И еще одна «арка»: так же со свечами, но в обратном направлении, двигалась через дворик процессия соборовать царя. Иван тогда остался жив, останется жить и теперь... Пригнувшись к низкой двери, князь вошел в собор. Черные балахоны приблизились, закрыв световое пятно. Все сильнее звучит тема клятвы опричников — музыкальное воплощение безликой силы.
Четыре кадра, около 30 метров пленки, примерно минута экранного действия... Вечером 14 февраля 1944 года (вдень рождения Москвина!), после просмотра этих кадров Бирман написала письмо Эйзенштейну. Потрясенная «чудом искусства», тем, что «кусок горит», она продолжала спор с режиссером, художником иного плана, чем она сама: «Так вот, Сергей Михайлович, не ушли Вы от души, — именно от души, а не мастерского расчета-учета... Самые большие мастера тогда поистине большие, когда их произведение — не их “мануфактура”, а новорожденное их творческой природой». В том, что проход стал «чудом искусства», огромна заслуга Москвина, чья творческая природа внесла в эти кадры лирическую интонацию, «душу».
...В наши дни такое потрясение может не повториться. Переход от цветовой сцены пира к черно-белому собору Москвин решил однотонным синим вирированием черно-белого позитива кадров дворика, подобранным с такой густотой тона, при которой полностью сохранились все световое решение и очень важный для этих кадров уровень контраста. Более того, он вирировал тем же цветом и начало эпизода в соборе; синий цвет исчезал при появлении черных островерхих теней опричников на фреске Страшного суда. Вирированные при участии Москвина кадры вклеили в первые студийные копии 1946 года. Мне посчастливилось видеть одну из них, могу заверить, что выглядели они именно так, как здесь описаны, и впечатление производили неотразимое. Но последнюю такую копию смыли в Госфильмофон-де — она была на горючей пленке...
Культуре нанесен непоправимый урон! В сделанных бездушными руками новых фильмокопиях и копиях на DVD уже не вирированная
черно-белая пленка, но «однотонная» печать на цветную, а тон любой — рыжий, зеленый, серо-голубой, но не москвинский синий. Изображение стало мягче, снизились контрасты, резкость теней, пропал пафос столкновения светлой поверхности стен и снега с темной массой опричников, стала иной интонация кадров. Из-за нескольких риторичных финальных цветных кадров в новых копиях иногда печатают на цветной пленке и черно-белую сцену в соборе. А это полностью искажает «цветовую оркестровку», «контрапунктический ход цветового лейтмотива» черного цвета, задуманные Эйзенштейном и блестяще осуществленные Москвиным. (Не могу не напомнить здесь о вирировании немых фильмов, о находке проб виража «Чертова колеса» и высказанной в связи с этим надеждой, что когда-нибудь найдутся и вирированные копии; к сожалению, в случае «москвинской» копии «Грозного» такой надежды нет...).
Неожиданным для меня оказалось, что от этой печальной истории тоже тянутся нити к Леонардо. В ранней «Мадонне в скалах» он поместил Святую Деву с Иисусом, Иоанном и ангелом в грот, который воспринимается как утроба (напомню, что Эйзенштейн просил Москвина снять собор как утробу). Рассматривая даже хорошую репродукцию этой картины можно подумать, что она перетемнена, а Леонардо был неинтересным колористом (некоторые специалисты пришли к такому выводу, изучая оригинал). Кеннет Кларк, автор считающейся классической биографии Леонардо, объяснил: не надо забывать, что значительная часть первоначальной, сияющей живописи Леонардо просто не видна из-за потемневшего лака и неудачных поздних попыток подновления... Это ведь прямая параллель с напечатанными на цветную пленку сценами в дворике с грязно-зеленым или рыжим снегом вместо удивительного москвинского синего...
Искусство актера оставляло о себе память лишь в воспоминаниях современников. Кино сохранило его для потомков. А искусство оператора, казалось бы, обречено на увековечивание. И такой вот парадокс! Конечно, пригласив очень хорошего оператора, можно заново изготовить прекрасную копию, но не москвинскую, потому что какого-то «чуть-чуть» уже не будет: у каждого оператора оно «чуть-чуть» иное. Для «крестного пути», как и для всего финала, мо-сквинское «чуть-чуть» было сугубо важно — именно оно и придало лиризм, психологизм и — в высоком смысле — сияние монументальному искусству Эйзенштейна, одновременно сделав эпизоды во дворике и в соборе вершиной искусства операторского.
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО
Audaces fortune adjuvat.
Дерзающим помогает фортуна.
В Алма-Ате за год с небольшим сняли первую серию (без сцены бунта и прихода татарских послов), почти всю вторую и часть третьей. Эйзенштейн и группа «Грозного» вернулись в Москву в июле 1944-го, а Москвин в августе — в Ленинград, для подготовки к «Буре» Козинцева и Трауберга. Осенью он приехал в Москву на до-
съемки первой серии; сдали ее в декабре без него — он был в экспедиции в Ташкенте. Съемку оставшихся эпизодов второй серии («Пир» и «Дворец Сигизмунда») запланировали на май — июль 1945 года. Но только в конце июня Москвин смог воспользоваться коротким перерывом на «Буре» и появиться на несколько дней в Москве для до-съемок по снятым сценам.
Позже Эйзенштейн написал: «Не знаю, можно ли назвать счастьем все то, что привело меня к первой работе по цвету. Но цепь случайностей несомненна». Назвав такой случайностью задержку съемок из-за болезни Прокофьева, он почему-то не вспомнил о задержке из-за Москвина. А вот заместитель директора «Мосфильма» доложил начальству, что простои из-за отсутствия музыки составили 7 дней, из-за отсутствия Москвина — 53 дня, и добавил: «...в то время как мог быть назначен другой оператор, если действительно была необходимость замены ранее работавшего на этой картине оператора Тиссэ». Эйзенштейну приходилось отбиваться от дирекции, платившей по фильму зарплату Тиссэ, но он упорно ждал. Козинцев и Трауберг отпустили Москвина лишь в начале августа, отсняв все сложные объекты «Бури».
Москвин сразу приехал в Москву, но Прокофьев еще болел, без музыки снимать «Пир» было нельзя. И тогда Эйзенштейн, по-видимому, для того, чтобы прервать затянувшийся простой и хоть что-то делать, решил снять сцену издевательского допроса царем нанимавшегося к нему на службу немецкого рыцаря Штадена. Давно написанная, она не вошла в первоначальный двухсерийный сценарий, наверно, просто не влезла; вернуться к ней позволило решение делать фильм в трех сериях. Для развития действия и раскрытия основных тем третьей серии сцена со Штаденом была не так уж нужна, разве что, благодаря пускай «черному», но все-таки юмору, могла быть использована как интермеццо — для разрядки в череде очень уж мрачных сцен. И как раз ее «необязательность» (не получится — легко выбросить) давала Эйзенштейну абсолютную свободу в выборе средств, желанную возможность столь любимого им «выхода за пределы». И он не преминул этим воспользоваться!
К великому счастью для всех, кто любит кино, сто с небольшим метров пленки — смонтированная Эйзенштейном «Сцена со Штаденом» — сохранились. К великому горю — это все, что осталось от третьей серии...
Жаков, игравший Штадена, вспоминал, что Эйзенштейн «вообще работал весело, бодро и быстро», а здесь самим содержанием сцены был «розыгрыш», причем не комикотрагический — начинающийся смехом и кончающийся трагедией, — но трагикомический, кончающийся смехом, даже хохотом — это наверняка подогрело желание Эйзенштейна «тряхнуть стариной», вспомнить об эксцентрической молодости.
Декорация, хоть и небольшая, допускала активное движение по горизонтали, но оно почти не использовано. Эйзенштейн построил сцену прежде всего на движениях вертикальных, прижав актеров к стенам палаты и усадив царя-режиссера «эксцентрично» — в углу, на возвышении, под самым сводом: на первом общем плане маленькая фигурка Ивана буквально вжата в левый верхний угол кадра. Го
лова стоящего на приступке Федьки Басманова оказалась при этом на уровне ног царя. Дьяки же посажены низко, почти на поп, поэтому передача грамоты с записью допроса Штадена на границе — от дьяка вверх Федьке, от Федьки вверх царю — наглядно выражает крутой подъем по «бюрократической лестнице». Не менее выразителен и наклон Ивана вниз, чтобы показать Штадену сразу две грамоты с якобы разными показаниями (Черкасову тоже пришлось вспомнить эксцентрическую молодость, чтобы так «переломить» тело и шею). Есть тут и стремление преодолеть омертвевшую горизонтальность рамки кадра — Эйзенштейн еще в конце двадцатых думал о «динамической», меняющейся рамке. Было и еще многое, скажем, дерзкое желание выявить своеобразные черты характера самодержца, напрашивающиеся на параллели с реальным кремлевским «хозяином». Но по линии композиционной в основу, безусловно, была положена «вертикаль», что заставляет вспомнить построенные на игре по вертикали цирковые аттракционы эйзенштейновского «Мудреца» 1923 года.
Москвин подхватил замысел режиссера: главный свет в сцене направлен вертикально. И тоже — снизу вверх! Разумеется, он не оправдан реальными источниками, более того — он противопоказан, ибо в сцене очень много крупных планов. Освещение портрета непривычным, искажающим лицо сильным светом снизу иногда применяют для достижения особого эффекта, и Москвин этим тоже пользовался, а в «Грозном» даже активно, но снимать так целую сцену — явный «выход за предел». Светом снизу Москвин по-своему включился в «эксцентриаду» Эйзенштейна.
Цирковой режиссер А.Г.Арнольд, снимавшийся у факсов и друживший с ними, говорил, что цирк, стало быть, и эксцентриада — «сознательное преодоление тобой же придуманных трудностей». Придумав себе «трудности», Москвин блестяще их преодолел, ибо не просто светил снизу, но, сохраняя общее направление света, находил для каждого портрета чуть иное направление сильного основного прибора и разную меру слабой подсветки. Даже в столь экстремальных условиях, при, казалось бы, пересвеченных лицах, он умудрился дать еще и индивидуальные светотеневые решения. Особенно хорошо это видно
в кадрах, в которых сразу три лица опричников и все три освещены разными приборами.
Свет снизу позволял выразительно использовать тени, и они стали очень значимым элементом кадра. В первом же общем плане — огромная тень рыцаря на своде палаты; чем-то она напоминает тени на куполе цирка от
«Иван Грозный».
Кадр из эпизода «Допрос Штадена» незавершенной 3 серии Дьяк.
гимнастов, оказавшихся выше светящих на них прожекторов. Тени на лице Федьки от разворачиваемой грамоты и, особенно, от руки, когда он, чуть двинув ею, дает знак опричникам поднять крышку погреба, усиливают атмосферу страха. Но в полную силу тени от нижнего света «работают» при открытом погребе — в нем совершенно ужасные останки какого-то чужеземца, которыми царь запугивает Штадена; мы их не видим — ужас «отыгрывают» актеры. Из погреба, перекрытого решеткой, бьет световой «залп» мощного осветительного прибора (по рассказу Пелля — открытая электрическая дуга). На огромную тень решетки на стене накладываются тени наклоняющихся к погребу Федьки и Штадена... Короткие общие планы, вполне достойные включения в самый мрачный современный фильм ужасов, сменяются длинными крупными планами смотрящих в погреб Федьки, Штадена и старого дьяка, зажмуривающегося от страха, — для усиления эффекта Москвин не побоялся даже чуть вывести его лицо из резкости (так же как не побоялся нерезко снять лица опричников, бросающихся к Штадену по приказу «Взять!»).
Во всей сцене, а в кадрах у погреба в особенности, Москвин даже несколько подчеркнуто (играть, так играть!) нарушал правила хорошего операторского тона, да еще и работал на грани брака — некоторые кадры технический контроль мог бы и забраковать. Прямое, эксцентрически «нахальное» нарушение реалистичности (абсолютно невозможно представить происхождение света из погреба — по логике там, наоборот, тьма, и чтобы Штаден что-то увидел, Федька должен был бы посветить сверху) тут же переходит в еще одно отклонение от правил: Москвин вроде бы и не думает о том, что составляет заботу каждого оператора и что он сам всегда прекрасно делал — об увязке общего и крупного плана. Главным на крупных планах становится игра глаз: Федьке важно уловить реакцию наемника на увиденное, Штадену — реакцию скрыть, да еще понять, как это воспринимает Федька. Зритель должен все это увидеть. Москвин, конечно, оставил свет снизу, но силу его заметно уменьшил и тонкой светотеневой обработкой лиц создал психологические портреты. В этих кадрах серьезны и рыцарь (ему не до шуток в продолжение всей сцены), и опричник. Но надо было сохранить связь с общей атмосферой игры, «розыгрыша»; Москвин сделал и это. Федька чуть-чуть сдвинул голову, вертикальная тень от прута решетки перекрыла скошенный глаз, убрала нижний свет, который подавлял более слабый свет от стоящих сбоку маленьких приборов, и в зрачке зажглись яркие, веселые световые точки.
«Иван Гэозный». Кадр из эпизода «Допрос Штадена» незавершенной 3 серии. Алексей Басманов (М.Кузнецов).
Резкие перемены освещения есть и в кадрах с царем — его лицо при движении в кадре попадало в свет заранее установленных небольших приборов; почти везде это связано с лицедейской, резкой переменой интонации. Характерный пример — кадр, в котором Иван в позе боярыни Морозовой из картины Василия Сурикова кричит: «Взять его!», а потом, рывком наклонясь вперед почти до крупного плана, добавляет: «...в опричники» (Эйзенштейн никогда не повторял в своих фильмах композиции картин; здесь он делает это даже нарочито, как бы подмигивая зрителю: «Это игра!»).
Сильный нижний свет не только увеличивает условность изображения, он ощутимо влияет на передачу фактур, убирая тонкие москвин-ские «фототембральные» оттенки, нивелируя разницу между сукном кафтанов опричников и полотном ряс дьяков. А Москвин, опять-таки вопреки уже наработанному на «Грозном», вовсе и не старается фактуры передать. Он в согласии со своей теорией «доводит дефект до эффекта», противопоставив общей матовой фактуре черных одежд рыцарский наряд Штадена: подсвечивает декоративные детали блестящих лат, вводит кое-где особо яркие блики, контровым светом заставляет сверкать плюмаж на шлеме и ставит рыцаря на первом поясном плане так, чтобы заметно было сходство затейливых форм узора на верхнем крае металлического «наплечника» и «узора» белого испанского воротника. «Представительский» кадр Штадена отделан до мельчайших подробностей — подчеркнутый рыцарский антураж сам по себе выглядит блестящим аттракционом на скромном чернобелом фоне совсем светлых стен и однотонно темных одежд...
По-существу, все кадры сцены со Штаденом сняты с куда более полной свободой, чем в других фильмах Москвина и даже в других сценах «Грозного». Впечатление свободного, не сдерживаемого никакими канонами, как будто чисто интуитивного операторского творчества не оставляет все 4 минуты, что длится сцена (не забудем и о вещах технических: для того, чтобы столь свободно создать такое киноизображение, сама техника должна стать частью духовного опыта оператора — тогда легко и тоже интуитивно решаются задачи, выходящие за рамки привычного). Благодаря полной художественной и технической свободе и без того очень высокий уровень операторского мастерства, достигнутый Москвиным, поднялся в сцене со Штаденом на новый уровень, обрел новое качество и, конечно, позволил бы оставшиеся сцены третьей серии решать в новом ключе. Это вовсе не значит, что пластика их повторяла бы пластику этой сцены — здесь она отвечает прежде всего своеобразной эксцентрической установке режиссера, но новый уровень изобразительного решения был бы обязательно. И если не бояться пафоса, можно сказать, что «Сцена со Штаденом» — еще одна из вершин операторского искусства за всю историю мирового кино.
Игровой дух придуманного Эйзенштейном интермеццо захватил всю группу и работали не только «весело, бодро и быстро», но и с особым подъемом. Для Москвина это было коротким счастливым возвращением в атмосферу работы над «Шинелью», «Новым Вавилоном», возвращением в молодость... Фортуна, включив простои в «цепь случайностей», помогла провести дерзкий эксперимент, но на этом не успокоилась...
ПИР
До чего же он жуток Смех с рыданьем вослед!
Мигель де Унамуно
Сняли «розыгрыш» Штадена, и снова простой — по второй серии оставался противоположный по настроению «розыгрыш» Владимира на пиру: от плясок и смеха — к гибели князя, но музыки по-прежнему не было. Москвин уехал в Ленинград, где шли завершающие работы по «Буре». 25 августа Эйзенштейн послал ему вслед подарок — альбом фотографий Домбровского по «Грозному» с надписью: «Дорогому Андрею Николаевичу с нежностью, любовью и восхищением, на память о совместных блужданиях на путях зла» (приписка Домбровского: «Андрею Николаевичу с глубокой благодарностью за трудную и большую операторскую школу»),
Ав «цепи случайностей» возникло еще одно звено: 18 сентября в Москве открылась конференция по цветному кино, и в первый же день показали не выпущенную на экраны цветную хронику Потсдамской конференции. Снимали ее наши операторы на пленке «Агфа», проявили в Германии под руководством Евсея Иофиса. Эйзенштейн увидел искаженный цвет лиц, плохо переданный зеленый, но понял: «Красное есть. Золотое получится. Черное получится, конечно. Если еще допустить, что получиться голубое... Можно, пожалуй, рискнуть попробовать». 23 сентября приехал Москвин (заодно привез Эйзенштейну ответный подарок — очень дорогой ему самому альбом своих фотографий спектакля Мэй Ланьфана; надпись: «Вам от меня во времена “ИГ’»), Эйзенштейн изложил ему свою идею. Москвин обрадовался, но, верный себе, вида не подал, пробурчал «Надо разобраться». Только посмотрев материалы, проявленные уже на «Мосфильме», сказал «Да». Москвин стал часто бывать в цехе у Иофиса, внимательно смотрел все, что снимали на цвет.
Вскоре сняли первую техническую пробу. Увидев ее на экране, Ио-фис очень удивился: Москвин снял куски парчи, атласа и бархата разного цвета. Другие операторы, скажем, начинавший «Каменный цветок» Федор Проворов, снимали на пробах лицо. «Но Эйзенштейну нужен был не цвет, а цветовая драматургия, — вспоминал Иофис. — Сергей Михайлович все время говорил: “Меня совершенно не интересуют лица, мне нужны огонь и тьма!"» Да, Эйзенштейн думал о цветовой драматургии. Еще в 1940 году он написал статью «Не цветное, а цветовое», речь в ней шла и о готовности к приходу цвета операторов, ибо лучшие их работы «настолько композиционно цветомощные, что кажутся умышленным самоограничением таких мастеров, как Тиссэ, Москвин, Косматое, словно нарочно пожелавших говорить только тремя цветами: белым, серым и черным, а не всей возможной палитрой». Тогда же Эйзенштейн начал теоретическую работу по цвету, связанную с задуманным фильмом о Пушкине. В Алма-Ате записал: «Мой очередной фильм тоже делается цветовым — черно-белым — “Иван Грозный”». Позже он объяснил, почему легко было перейти на цвет: фильм задуман «цветово, но в ключе “черный монах (царь в клобуке) на фоне белой стены"», с упором на фактурную гамму — «благодаря
поразительному фототембровому умению Москвина сие можно было делать». Идея движения цвета не как естественной окраски движущегося изображения, а как элемента драматургии, уже владела Эйзенштейном, и он увидел цветовые лейтмотивы пира в «Потсдамской конференции». Их он хотел увидеть и в первой же пробе.
А Москвин? Он должен был бы увлечься улучшением цветопередачи, но нет, в пробах он выявлял возможности пленки, дающие нужное качество лишь лейтмотивных цветов. Сняли, понятно, и пробы грима. Василий Горюнов рассказал: задачу поставили, «чтоб была не своя фактура, а чтобы актеры были чуть-чуть перегримированы». Для кадров разоблачения заговора попросили лица царя и князя «похоло-дить» (Москвин посоветовал ему добавить в грим «чуть-чуть синеч-ки»). Все было направлено на выявление патетических, экстатических возможностей цвета. Москвин глубже понимал эти возможности, чем операторы, бившиеся за хорошую передачу цвета зелени и лица.
Были и пессимисты. Грегг Толанд, пожалуй, единственный тогда в мире оператор, равный Москвину, написал в 1941 году: «Цветное кино... никогда не достигнет стопроцентного успеха и никогда не сможет заменить черно-белое из-за пассивности света при цветной съемке и снижения, вследствие этого, драматического контраста». А Москвин в 1941-м уже всерьез думал, как и на примитивном уровне техники довести «дефекты» цвета до «эффекта». О его интересе к Цветному сектору «Ленфильма» Горданов сказал мне: «Он к нам не зря ходил, он вообще ничего зря не делал. Он прекрасно знал, что кино будет цветным... У нас снимали еще цветную мультипликацию, и его очень интересовал локальный цвет. В связи с этим мы говорили о Са-рьяне, и если вы вспомните цветной кусок “Ивана Грозного”, то там можно кое-что из этого найти».
В цветовом куске и вправду можно кое-что найти. В частности — локальный цвет, который еще до «Грозного» интересовал не только Москвина, но и Эйзенштейна. Он писал о живописи Эль Греко: «Каждый цвет сам по себе. Ни вплывания друг в друга, ни эализанности смягчающего общего тона. Цвета вопят, как фанфары». Москвин видел это у Сарьяна, в мультипликации, в снятом Гордановым цветном этюде «Осень», где (позволю себе цитату из своего очерка о Гордано-ве) «... позолоченные статуи петергофских фонтанов “звучат” как соло трубы в оркестре». Фанфарным «воплем» ворвался в «Грозного» цветовой кусок. Эффект усилен тем, что в последнем до него чернобелом кадре светлым пятном в темной палате было платье Ефросиньи; в самом конце кадра она закрыла его черной накидкой.
Резко включив цвет, Эйзенштейн и Москвин не сразу предъявили цветовые лейтмотивы. Вернее, сразу, но в круговерти пляски они звучали беспрерывно «вплывая друг в друга». Из-за высокой яркости золота в цветовом «тутти» не пропал его фанфарный звук, неся тему разгула, праздника, которая через золотые нимбы святых на фреске и золото царских одежд преобразуется в тему царственности, власти. На миг власть ощутил и Владимир, но золото в парчовых кафтанах опричников тотчас поглощено черным, несущим тему смерти. Сам он, пройдя через синий холод прозрения и ужаса, поглотится чернотой собора. Доведя цвет до «эффекта», Эйзенштейн и Москвин свели палитру к четырем цветам, а локальность их достигла местами прон
зительной глубины и яркости. Характерна записка Эйзенштейна Москвину из больницы: «Меня очень волнуют вопросы печати цвета. У Фирсовой (цветоустановщица. —Я.Б.) есть тенденция слегка недо-печатывать во имя «человечности» цвета лица. Плохо пропечатывают они общие планы (обход Иваном трона, когда он становится на колени, и плясы на припеве). Надо это вырвать до абсолютной сочности и цветности. Одевание Владимира начинать с крупного плана надо тоже сочно. Дальше — особенно красный фон».
Андрей Белый назвал стремление к чистым цветам болезнью XX века. У Эйзенштейна и Москвина это не симптом болезни и не уступка недостаткам цветного кино, а естественное следствие общего замысла. Во-первых, как писал Эйзенштейн, «красно-золотая гамма из элементов, в соответствующие моменты “начинающих чернеть”, интуитивно следует даже исторически складывающейся в иконописи времен Грозного доминирующей цветовой гамме». Во-вторых, чистые цвета-темы взяты не в статике; каждый цвет движется элементами предметной среды — раскатали красный ковер, одели князя в парчовые бармы — и стыками кадров с разными цветовыми акцентами — в ряд красно-золотых кадров врезан кадр Волынца в черной рубахе на фоне синей стены; так введена тема смерти. В-третьих, активным условным светом Москвин помог каждому цвету прозвучать в полную мощь. Активность доведена до предела в двух кадрах с меняющейся цветовой подсветкой. Первый раз кадр заливается красным на словах Алексея Басманова о «кровной» (через пролитую кровь) связи с царем, второй — сине-голубым на портрете Владимира в момент прозрения. Крайне условный прием не раздражает, он хорошо подготовлен общей условностью света и пространства и меняющимся светом в черно-белых кадрах, оправданным внешним движением (в сцене у Старицких) или сменой чувств героя (резкое изменение света на крупном плане царя в момент перехода от свадьбы к бунту).
Цвета-темы претерпевали и смысловые превращения. Возникнув на фреске темой небосвода, рая, синий как фон кадров чередовался с красным (тема крови, неминуемой расплаты). В конце сцены, у двери, Владимир оказался на сине-голубом фоне; лишь в углу кадра его крупного плана видна часть фрески — красная птица Сирин, тоже символ погибели. Рефлекс от фона на теневой стороне лица усилен отдельным прибором с синим фильтром, освещенная свечой сторона подсвечена красным. Когда лицо князя «синело» (прикрыли «красный» прибор, открыв стоящий рядом «синий»), птица на фоне осталась красной, коричневый мех шапки Мономаха при синей подсветке стал черным, напоминая черный нимб (контраст с золотыми нимбами святых на «райском» синем фоне). Сочетание красной темы крови и черной темы смерти перевело синюю тему в тему холода, ощущения скорой гибели. «Посинение» лица оправдано и образным развитием темы, и психологически («посинел от ужаса»). Мощным финальным развитием темы стал начинающийся сразу после крупного плана Владимира синий «космический» холод прохода его и опричников в собор (потому и недопустима его печать в другом цвете)...
В марте 47-го Эйзенштейн записал, что Серов в «Похищении Европы» передал «космическое ощущение» сочетанием дополнительных цветов. Москвин очень любил эту картину, прекрасно понимал ее
смысл. Вместе с Эйзенштейном он тоже использовал дополнительные цвета (сине-голубой и красный), добиваясь ощущения «доисторической «первичности»». Оно подсознательно действует на зрителя, переводя протрезвление пьяного князя в прозрение неминуемости возврата в дочеловеческое состояние, в космический хаос. Существенно и постепенное исчезновение красного и желтого (цветовое глиссандо, обратное нарастанию красной темы в начале).
«Сине-красный» ключевой кадр связан еще с Делакруа; и Москвин, и Эйзенштейн хорошо знали его картину «После кораблекрушения» (Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина) с ее «космическим» столкновением сине-зеленых волн и красно-коричневой лодки. Эйзенштейн вспомнил Делакруа и по иному поводу (запись 1946 года): «Разговор о рефлексе с Москвиным... Заметки Делакруа у нас на съемке (случайно). “Все дело в рефлексе”» (речь идет о книге Рене Пио «Палитра Делакруа»; по словам Пелля, Москвин брал ее у Эйзенштейна еще до съемок «Грозного»). Представление о рефлексе в черно-белом кино у них было разным: для Эйзенштейна это выявление конфликта, «противоречия внутри светофеномена освещения» (отсюда и «скульптурный» свет Тиссэ), для Москвина рефлекс— лишь часть светотеневого построения: подсветка теней смягчает их, делает портрет выразительнее. А вот в цветовом кино восклицание Делакруа «Все дело в рефлексе» было к месту и для Москвина. Впрочем, начать нужно было бы с Леонардо: «Все освещенные предметы причастны цвету своего осветителя. Затемненные предметы удерживают цвет того предмета, который его затемняет». Москвин отлично помнил эти слова (Пелль: «Он часто цитировал “Трактат о живописи” Леонардо да Винчи, который, вероятно, был близок его “инженерной” душе») и понимал: цветовой рефлекс, окраску теней отраженным цветным светом нужно передать, а в соответствии с его принципами выразительного освещения еще и усугубить. Наглядно это видно на портрете Владимира, где сине-голубой рефлекс от стены усилен подсветкой, да еще и освещением светлой стороны лица дополнительным, красным светом.
Активное использование цветного света — одно из главных открытий Москвина в цветовом куске. Но не единственное. Он не изменил излюбленному светотеневому решению, включая и подсветку «воздуха». Из-за недостатков пленки цвет часто воспринимался как жесткий, «химический», а не как цвет предмета. Чтобы вернуть предметам материальность, цвет надо было чуть смягчить; лучшее средство— дым, но операторы боялись его: он снижал и без того низкую резкость цветной пленки. В «Грозном» цветовые куски перемежались с черно-белыми, резкость пленки надо было использовать до предела, но Москвин применял дым достаточно энергично. Каким-то сверхчутьем уловив момент, когда дым, редея, еще смягчал фон, но уже не снижал резкость, он знаком показывал Эйзенштейну: «Можно снимать». Уже это создало неповторимый эффект, но Москвин пошел дальше: подсветил дым красным светом в кадрах застолья, когда не виден голубой фон (красный дым «съел» бы его), а тени лиц имели красный рефлекс от рубахи царя и от фрески на фоне. Эйзенштейн записал: «Вопрос окрашенной воздушной среды (у нас красный glow [жар, накал] самого воздуха, а не только красная подсветка
и окрашенность цветным красным лучом)». Дальше он хотел «...прочертить проблему и здесь, использовав характеристику черно-белой работы Москвина вдоцветовом кинематографе». К великому сожалению, сделать это он уже не успел...
Открытия Москвина не пропали: многие операторы видели 2-ю серию, поняли значение цветового куска. Головня в книге 1952 года дал примеры цветного света, цветовой драматургии в «Мичурине» (1949) Леонида Косматова, смягченной дымом воздушной среды в «Кавалере Золотой Звезды» (1951) Сергея Урусевского, а должен был бы начать с Москвина. Но фильм, попавший в Постановление ЦК ВКП(б), даже упоминать было нельзя.
Работа над цветом при печати эталонной копии омрачилась болезнью Эйзенштейна. Не было его рядом с Москвиным и на триумфальных просмотрах на студии. Конечно, Москвин видел недостатки, другими не замеченные. Вот его последняя записка в больницу: «Мои cher maitre [Мой дорогой мэтр]. Завтра отрясаю мосфильмовский прах и выдворяюсь восвояси. С цветными ковыряться кончили. Стенка с Во-лынцом теперь почти сине-красная (стена за Волынцом — синяя; кадр врезан в «красное» застолье и поэтому ее кое-где подсветили красным; при печати «красноту» надо было вытянуть. —Я.Б.). В остальном подравнялось, но г-но местами осталось. Поправитесь — увидите — захотите ругаться — к Вам приеду с удовольствием. Заодно включу телефон. С нежностью и любовью. А. Москвин. 14/11-46».
Москвин не знал, что «выдворяется» насовсем (с «Грозного», но не с «Мосфильма», куда его пригласят еще раз, и, в соответствии с афоризмом Маркса, после трагедии с фильмом Эйзенштейна будет почти фарсовая — с точки зрения Москвина — история с фильмом Юткевича). Не знал, что полуделовая-полуличная записка практически венчает его работу на «Грозном». Не знал, что следующая встреча с Эйзенштейном произойдет только в ноябре, когда ругаться из-за того, что не все еще подравнялось в цветовом куске не было смысла, потому что финальная точка в их работе над «Иваном Грозным» была поставлена сентябрьским Постановлением...
«ПРОСТЫЕ ЛЮДИ»
Победы... не даются без глубоких страданий и за тяжелозвонкой поступью войны слышатся естественнейшие отзвуки биений миллионов человеческих сердец.
Борис Асафьев
В феврале 1946 года Москвин возвратился в Ленинград, чтобы взяться с Козинцевым за «Великого лекаря», переименованного в «Пирогова». Но до этого, параллельно с «Грозным», была еще «Буря».
История последнего общего фильма Козинцева и Трауберга началась в 1943 году: они предложили Комитету несколько тем для постановки, а недовольный короткометражками и «Актрисой» Большаков им отказал, настояв на теме, стоявшей в плане Комитета, — авиазавод в тылу. Вынужденные согласиться, они по опыту трилогии и
«Маркса» начали с серьезного изучения материала на заводах. Материал их захватил, и Козинцев писал потом про «двинувшие нас элементы рассказов самолетостроителей». И еще: «Не производственная картина, а эпос.... процессы, происходящие с индустриальным гигантом. Величие масштаба. Где учиться ему? Библия — и тогда появился исход...» Образ исхода на Восток, «тяжелозвонкой поступи войны», был важен, но авторы хотели еще, чтобы в исходе слышалось и «биение миллионов человеческих сердец».
Сценарий «Буря» написали быстро и были им довольны. Но пошли поправки, из-за переезда «Ленфильма» домой задержали запуск. Едва начав снимать, Москвин уехал на досъемки первой серии. К камере стал Анатолий Назаров: он прошел школу Беляева, с согласия Москвина его пригласил Козинцев. В ноябре 1944-го приехали в Ташкент снимать летнюю натуру и — редчайший случай! — пошел снег. Еней и Москвин еще были заняты, съемки начали с Назаровым и Давидом Виницким, которого, зная по «Грозному», рекомендовал Москвин. Заболела Е.П.Корчагина-Александровская; по словам Трауберга, ее роль «состряпали из кусочков», которые успели снять. Повредило фильму и название «Простые люди». Появившись по указанию «сверху» как отклик на речь Сталина о «винтиках», оно настраивало зрителя на иное восприятие событий, чем задумали создатели «Бури». В годы войны Наум Берковский писал: «Особенность русской литературы в том, что она могла предложить “малым сим” нечто более высокое и более важное для них, чем сострадание... в том, что наши художники открыли в безличии личность». Козинцев и Трауберг, работая над сценарием, думали о личностях, а не о требующих сострадания «малых сих».
Конечно, уже в сценарии было противоречие между замыслом и выполнением. Мотив исхода, несущего людей по земле, определял композицию, близкую к «Карлу Марксу», с почти непересекающимся развитием отдельных линий. Но как раз тяжелый опыт «Маркса» толкал режиссеров к сведению концов с концами, весьма условному объединению героев в одном месте и времени. К тому же в ходе съемок они должны были учитывать, что задуманный в тяжелом 1943-м году фильм выйдет на экраны после победы. Так и получилось — День Победы Москвин отмечал в экспедиции, в Ташкенте, в тесной комнате Дома Колхозника, вместе с Енеем, Волком, Назаровым, Виницким, вторым режиссером Шапиро, вторым оператором Сысоевым.
Прозорливый Виктор Шкловский сказал во время войны: надо научиться «говорить под салют»; чаще всего все и сводилось к победному салюту в финале. В «Простых людях» салюта нет, но финал вполне «салютный». Директор завода уснул в кресле в полутемном кабинете — закрыты жалюзи на больших окнах. Их открывают, и вместе с солнечным светом является жена директора; она была в плену, потеряла память, а теперь, выздоровев, пришла к мужу, и увидев его спящим, опустилась около него на колени. Его пробудил телефон: звонил Сталин, поздравил с пуском завода (в 1956 году фильм вышел на экран с переозвученным финалом: звонило некое московское начальство).
А рядом с подобным «апофеозом» была превосходная работа Татьяны Пельтцер в роли домохозяйки из Одессы — воистину реальный характер вовсе не «винтика», а сострадающей бедам других людей
личности, выразительные персонажи второго плана, хорошо сыгранная Ольгой Лебзак роль жены директора. Была попытка показать личность в каждом персонаже, но актерски фильм неровный, что даже странно для такого мастера, как Козинцев. Неровный он и изобразительно. Конечно, есть сильные сцены, снятые с настроением, с мо-сквинской интонацией. Больше сцен, можно сказать, благополучных. Откровенно плохих нет. Значительную часть фильма Назаров снял самостоятельно, причем, как это было на ответственных съемках в Ташкенте, а потом в Казани, Москвин даже не мог «задать тон».
Достаточно опытный оператор со сдержанной и четкой манерой, Назаров тянул фильм к «благополучному», несколько парадному изображению, как бы предвосхищая стилистику второй половины 1940-х годов. Наглядный пример привел сам Назаров: приехав в Ташкент, Москвин увидел материал первых съемок в пустыне и сказал: «Все красиво. Но не в ту картину» (Назаров пояснил: «А там, действительно, подвезло — облачка хорошие гуляют...»).
Для Москвина из-за работы на двух фильмах ситуация была сложной: Назаров готовил объект, начинал съемку, потом Москвин должен был что-то менять. Первые кадры финала — появление в кабинете жены директора, когда нарастал свет от окон, снял Назаров. Режиссеры были довольны материалом; приехал Москвин, посмотрел, сказал: «Достойно». Вечером — очередная съемка. Рассказ Назарова: «Желая продолжать в том же духе, я стал устанавливать свет, но Андрей Николаевич остановил: “Этого хватит!" — “Как же, ведь продолжать нужно?..” — “Светлейший (он меня так называл), чтобы было понятно, что это хорошо, довольно одного раза”». Камеру развернули на стену, дав на ней световые блики для связи с предыдущим кадром.
Виницкий подтвердил: «Москвин отвернулся от этого безумного свечения и сделал благое дело. Есть в этом и другое: невероятная тактичность Москвина. Приезжал Москвин и был не согласен с решениями Толи. Что делать? Он делал два хода. Об одном сейчас шел разговор. Второй — обыграть то неправильное, что устроил Толя». Иными словами, применял свое правило «доводить дефект до эффекта». До конца все выровнять Москвин все-таки не мог. В январе 1946 года фильм обсуждали московские операторы, и Марк Магидсон сравнил его с картиной «Пушкин на берегу моря» Ильи Репина и Ивана Айвазовского: в ней не узнать ни того, ни другого. Тут было преувеличение, «почерк» Москвина хорошо виден во многих кадрах, но и основания для сравнения были (москвичи все еще обижались за Эдуарда Тиссэ и дружно ругали фильм; защищал Москвина только Борис Волчек, но не преминул заметить: Москвин и Эйзенштейн «несоединимы»).
В «Простых людях» было «всего понемногу»: куски реалистические и поэтические, слащавые и парадные. На худсовете Комитета 9 ноября 1945 года Константин Симонов заметил: «Это удивительно хорошая картина с целым рядом удивительно плохих мест!». Несмотря на все плохие места, Комитет, как и худсовет студии, высоко оценил фильм. Решение было связано с переходным периодом: фильм в чем-то отвечал эстетическим нормам, сложившимся в военное время, а в чем-то — уже новым веяниям.
На худсовете студии Георгий Васильев сказал: «Прекрасно выполнена операторская работа, причем не только в сценах, выигрышных
по материалу», но Москвин не испытывал радости, зная истинное качество работы операторов и фильма в целом. Зато он оценил профессионализм и исполнительность Назарова. Когда в конце 1945-го Георгий Васильев пригласил Москвина на цветную кинооперу «Пиковая дама», он предложил Назарову снова работать вместе. Но Сергей Васильев, столкнувшийся как худрук ЦОКСа со спорами двух групп из-за Москвина, решил не рисковать: летом 1946-го должны были возобновиться работы по третьей серии «Грозного». Васильевы провели цветные пробы с Гордановым, но до съемок дело не дошло — фильм был закрыт.
Рассказывая о «Простых людях», нельзя обойти сторону, далеко не парадную для «простых людей», делавших фильм. Тяжелые съемки при неналаженном быте длительных экспедиций, карточках на продукты и чудовищных ценах на базарах, со снегом в Ташкенте зимой и жарой на Фархадстрое летом очень изматывали. Москвин был примером выдержки. В Доме колхозника организовал «коммуну», взяв на себя обязанности повара. Готовил виртуозно. Назаров вспоминал (он жил с Москвиным в одной комнате и в Ташкенте, и в Казани): «Почему-то больше всего было супа, хотя и второе иногда тоже было... Ложимся спать: «Когда завтра завтракаем?». Я говорю: «Съемки нет, поспим. Давайте часов в девять». В полдевятого стук: “Пора”. В девять суп налит, он сидит, ест: “Опаздываете, будете холодный есть”. Всё. Точность».
В Казани снимали бурю; она заливала недостроенный, но работающий завод; создали ее четыре пожарных машины и два сильных ветродуя. Назаров стоял за камерой и, хотя над ним держали лист фанеры, совершенно промок. Москвин бегал от прибора к прибору. Назаров: «Приборы мокрые, его два раза током хватило, а он этого не любил, и все равно сам их поправлял... За час до конца съемки сказал: “Светлейший, я нужен вам? Уезжаю ужин готовить”. Когда я приехал, он сразу: “Раздевайтесь. Быстро. Догола!” У него уже стоял спирт, и он начал меня растирать... И уже суп готов... Это все очень характерно для Андрея Николаевича, причем он это не афишировал. Я знаю, как он многим людям помогал — втихомолку, без шума...»
Гпава девятая
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
1946
У истории с печальной развязкой тоже есть свои почетные часы и стадии, которые нужно рассматривать не с точки зрения конца, а в их собственном свете...
Томас Манн
Год начался для Москвина с «почетной стадии»: на подъеме, с ощущением удачи сдали вторую серию «Грозного». Хорошее отношение Комитета к «Простым людям» означало скорый выпуск фильма на экран, получение постановочных и возможность новой работы, что при сокращении выпуска фильмов было существенно. 26 января Эйзенштейн, Черкасов, Бирман, Москвин, Тиссэ и Прокофьев получили Сталинскую премию I степени за первую серию. Утром 29-го Эйзенштейну принесли телеграмму: «Сердечно поздравляю и горжусь этапом на путях Андрей Москвин».
Печальным штрихом ворвалась болезнь Эйзенштейна: 2 февраля, прямо с чествования новых лауреатов он с инфарктом попал в больницу. Там 6 февраля узнал результаты просмотров второй серии и дал телеграмму Москвину: «Картина Комитетом принята без поправок поздравляю стоп Пробы цветной перепечатки сногсшибательны Обнимаю Эйзенштейн». Приехав печатать студийную и эталонную копии, Москвин сразу побывал в больнице, передал записку. Ответ Эйзенштейна: «Дорогой Андрей Николаевич! Сердечно вас обнимаю и прижимаю к своему расслабленному сердцу. О дальнейшей жизни буду Вам писать. Без Вас ее себе не мыслю. С нежностью Ваш Эйзенштейн». Обмен записками шел каждый день, Москвин сообщал о ходе работы. 14 февраля, в день своего сорокапятилетия написал по-
следнюю записку (приведена в рассказе о «Грозном») и 15-го уехал домой, зная, что со второй серией все в порядке, Эйзенштейну стало немного лучше, вскоре начнется работа с Козинцевым по «Великому лекарю». Было холодно, а настроение — весеннее.
Весной по просьбе жены он снял несколько проб к «Золушке» — заболел оператор фильма Евгений Шапиро. Янина Жеймо рассказала мне, что Кошеверова настороженно относилась к Шапиро: «Надежда Николаевна позвала Москвина. Может быть, она даже специально так сделала, чтобы проверить Женю. И Москвин снял очень плохо. Просто ужасно! Гораздо хуже Жени». Когда я прочел запись разговора с Жеймо Кошеверовой, она сказала, что так и было, только, конечно, не ужасно, а чуть похуже Жени...
Весеннее настроение было не только у Москвина. Весна Победы еще царила в сердцах выстоявших, победивших людей. В 1943-м Борис Пастернак написал: «А горизонты с перспективами! А новизна народной роли!»; стихи, скажем прямо, для такого поэта слабые, но здесь важно не поэтическое качество, а твердая вера в то, что Победа откроет новые горизонты, жизнь станет лучше, новая роль народа и подъем искусства, возникшие в военные годы, продлятся и наберут силу. Еще не понимая, что эта вера тоже утопична, люди старались поддержать ее в себе, хотя признаки перемен уже появились. В 1945-м казалось — прочный мир обеспечен, а в первом номере газеты «Советское искусство» за 1946 год говорилось о «брожении темных сил, которые хотят помешать нашей радостной созидательной работе». В марте Уинстон Черчилль произнес речь в Фултоне; «холодная война» началась. Сталин получил формальное оправдание и ядерной гонке, и продолжению ограбления народа ради «укрепления обороноспособности», и новой волне репрессий под предлогом борьбы с пособниками «поджигателей войны».
Признаки «похолодания» в области искусства Москвин мог обнаружить на Всесоюзной художественной выставке, открывшейся еще в январе. Картины Пластова, Сарьяна, Чуйкова, Корина свидетельствовали о подъеме. Но тон задавали парадные портреты генералиссимуса, «Тегеранская конференция» Александра Герасимова: их стиль в «Советском искусстве» назван «значительным, высоким». В кино этот стиль заявил о себе «Великим переломом» Фридриха Эрмлера и полностью сформировался в «Клятве» Михаила Чиаурели (премьера 29 июля). В августе вышли постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» и о репертуаре драматических театров — закручивание идеологических гаек резко ускорилось. Люди кино прямо почувствовали это еще в июне, когда появилась статья «Фальшивый фильм» — о «Простых людях». Стало ясно, почему задерживают выпуск второй серии «Грозного».
Больной Эйзенштейн тоже хорошо чувствовал перемены. В письме от 28 июля из Кратово, где была его дача, он жаловался Москвину на неважное самочувствие, на то, что не может заняться начатыми теоретическими трудами. Даже на письмо не сразу ответил, «так как доля общения с м-ром Бринком все еще налицо (персонаж американского фильма «Время, взятое взаймы» мистер Бринк — Смерть в облике респектабельного господина; brink — край обрыва, пропасти. —Я.Б.). С горя засел за “мемуары": это в высшей степени развлекательное, но
вовсе непроизводительное занятие, поскольку печатать их, вероятно, придется уже после того, как м-р Бринк из садика соблаговолит подняться ко мне во второй этаж».
9 августа в Кратово умерла Юлия Ивановна, мать Эйзенштейна. 1 сентября жюри Международного кинофестиваля в Локарно признало 1-ю серию «Грозного» лучшим фильмом по операторской работе. Но Эйзенштейн, Москвин и Тиссэ даже не смогли порадоваться, ибо узнали об этом уже после того, как 4 сентября было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) о фильме «Большая жизнь»; из четырех названных в нем фильмов, Москвин был причастен к двум. Вскоре пришло письмо: «Насчет м-ра Бринка я был прав. Прав даже в том отношении, что он ходит по саду и нижнему этажу. Он приходил не за мною... О прочих, постигших нас (с Вами!) прелестях Вы достаточно знаете по газетам... Иногда рука м-ра Бринка протягивается и на экранные произведения... Будущее пока невразумительно и тревожно... В остальном же сердечно Вас обнимаю и люблю еще более нежно “ежели сие возможно” (как говорится в одной безграмотной картине)... Всегда Ваш Эйзенштейн». Непривычно длинный ответ Москвин тоже начал в стиле «Грозного» и газет: «“Сие кажется возможным”, мой дорогой, нежно любимый “идеалист и невежда”». Он не писал слов утешения, они сами собой разумелись. Он даже пробовал шутить: письмо Эйзенштейна пришло без марки, а у него не было рубля на доплату и «пришлось пуститься в самые изощренные маневры, чтобы выманить его у непреклонной представительницы почтамта... Так что хотя бы по этому можете судить о моих возможностях... окончательно надорванных производством, закончившимся, капитального ремонта собственных крыш, потолков и проч. По округленным подсчетам за прошлый месяц лично мной поднято на себе на 5 этаж и спущено обратно вниз вагона два всякого рода сыпучих грузов типа песка, цемента, мусора, воды и прочее...» Дальше он писал, что льстит себя надеждой повидать друга в Кратово в первой половине ноября — позже начнутся «бессмысленные и малоуважительные труды по очередному опусу».
Эйзенштейн устроил Москвину командировку через Министерство (Комитет преобразовали в Министерство кинематографии), 6 ноября Москвин прибыл в столицу и сразу отправился в Кратово, где провел несколько дней. Приехавшая туда Пера Аташева застала в жарко натопленной даче такую картину: «Старик (так звали Эйзенштейна близкие. — Я.Б.) сидел в пижаме, а Андрей снял брюки, остался в трусах, брал полотенце, и они пили чай и беседовали... не говоря ни слова» (параллель к рассказу Аташевой: в письме Эйзенштейну в Голливуд его французский друг Леон Муссинак писал: «...какое изысканное удовольствие должны Вы получать от встреч с Чарли Чаплиным!., какое большое и глубокое счастье помолчать с таким человеком»). Конечно, друзья не только молчали, о многом поговорили. Эйзенштейн задумал большой труд о цвете. 16 ноября, когда Москвин уже был в Ленинграде, он начал его с раздела «Цветовая разработка пира в Александровой слободе». И очень вероятно, что непосредственным толчком к ней послужили разговоры с Москвиным.
Были и другие темы. Эйзенштейн расспрашивал о ленинградцах, работавших на «Грозном», — Горюнове, Черкасове, ассистенте ре
жиссера Ольге Шепелевой и других. Москвин знал все и обо всех. Через четыре месяца Эйзенштейн составил план очерков «Люди одного фильма». В числе других: «Бурса» — о Москвине и очень любивших его осветителях, в основном подростках («бурсой» их назвал Москвин). В наброске плана есть такие строки: «Москвин и “ребятишки"... Островок общей героики “мальчуганов” во время войны. Ритм Москвина среди них. Плевки, расцветающие семисотками. Всех знает. Всегда поспевает. Кто с кем, кто кого у Москвина всегда можно узнать». Эйзенштейн не завершил очерки, можно лишь гадать, что написал бы он, развивая свой план. Люди, хорошо знавшие Москвина, прочтя эту запись, не удивлялись — да, он знал все, даже сплетни. А на мой вопрос, зачем ему это было нужно, неизменно отвечали: чтобы знать, кому надо и как можно помочь. Собственно, и в Кратово он ехал, чтобы как-то, хотя бы молчанием, помочь другу.
Эйзенштейн еще до приезда Москвина совершил, как он сам написал, «подвиг самоуничижения» — послал в газету письмо с признанием ошибок второй серии. Но исправлять их вряд ли собирался. К концу 1946 года относится мемуарная запись о самоубийствах, где речь и о себе: «Я решил загнать себя насмерть работой... Запал моего намерения заложен осенью сорок третьего года. Начало сорок шестого снимает плоды». Осенью 1946-го Москвин был одним из самых близких ему людей...
А сам Москвин? В начале 1946-го, в ощущении общего весеннего подъема, в расцвете физических и творческих сил он думал о завершении «Грозного», мечтал, что снимет с Эйзенштейном еще не один цветовой фильм. Он был на пороге чего-то нового, возможно, связанного с радикальными переменами в его жизни. Вместо этого — страшная осень, оставившая рубцы и на его сердце. 20 ноября он был на заседании худсовета «Ленфильма» с повесткой дня «Постановление ЦК ВКП(б) о фильме “Большая жизнь” и задачи киностудии», но не выступал. «Подвиги самоуничижения» были не в его характере.
Год, начавшийся «почетными часами и стадиями», кончался печальной нотой...
«ПИРОГОВ»
Из противоположностей создана моя натура.
Николай Пирогов
Режиссерский сценарий был готов в апреле 1946 года. Козинцев задумал народную драму с «крайней степенью характера и экспрессивности в игре актеров», что шло от самой натуры Пирогова. Экспрессия противоположностей была и в замысле изобразительного решения: «Вместо величавых академических декораций, вместо Росси, Кваренги, Растрелли — “петербургские трущобы” и “доходные дома”». И снова более всего Козинцев боялся «поставить памятник великому человеку». Съемки с Василием Ваниным в роли Пирогова планировались на июнь, но сценарий не утвердили. Новый срок — 15 ноября и имел в виду Москвин, когда писал Эйзенштейну о предстоящих «бессмысленных и малоуважительных трудах». Слова
эти, дань маске этакого лентяя-скептика, уверенного в бесплодности любых усилий, отражали и беспокойство Москвина. Он понимал, что «провинившиеся» Юрий Герман и Козинцев (первый — хвалебной рецензией на книгу Михаила Зощенко, второй — «Простыми людьми») вряд ли смогут сопротивляться все более настойчивым требованиям создать «памятник».
Только 1 марта 1947 года вошли в подготовительный период. Ванин не устроил начальство (острохарактерный актер подходил к образу, задуманному Козинцевым, но мало отвечал идее «памятника»); пригласили Константина Скоробогатова, сдержанного, типичного ленинградца. Из-за смены актера съемки начали лишь 4 мая. Первый месяц лихорадил группу брак пленки. И снова проявился профессионализм коллектива. Еней сократил число декораций; с небольшими достройками в одной декорации снимали до семи объектов. Перенесли в павильон ряд натурных сцен, и Москвин, любивший говорить «натура— дура», еще раз доказал: в павильоне можно снять так, что никто не заметит подмены, а работа, не завися от погоды, заметно ускоряется. Отменили экспедицию в Крым, сняв севастопольскую оборону на земляном валу строящегося на Крестовском острове стадиона. Вместо 20 декабря по плану фильм сдали в Москве 26 ноября; приняли его хорошо; уже 16 декабря он был на экранах. 2 апреля 1948 года Козинцев, Герман, Скоробогатов, Москвин и Еней удостоены Сталинской премии II степени, а в августе на Международном кинофестивале в Марианске Лазни Москвина наградили за операторскую работу в «Пирогове» Почетным дипломом жюри.
Позже Козинцев записал: «“Пирогов" был первым фильмом, который я взялся снимать без внутренней необходимости». Но взявшись, работал в полную силу. Он объяснил это аналогией с актером, назначенным на не радующую его роль: авторитет художественного руководителя незыблем, нужно вжиться в предлагаемые обстоятельства, сделать своими чужие слова. Разумеется, Козинцев и его коллектив не так уж слепо шли за «художественным руководителем», то есть Большим (как называли его кинематографисты) Художественным советом при Министерстве кинематографии: понимая, что совсем от памятника не уйти, они старались его «оживить». Козинцев нашел верное решение: учел навязанный фильму условный, риторический характер речей Пирогова и сделал упор не на реализме трущоб, а на довольно условной, в чем-то театральной атмосфере действия, и тем приблизил фильм к цельности. Отсюда и выбор актеров, особенно на отрицательные роли (маленькую роль аптекаря сыграл фэксовец Костричкин), и аттракционность некоторых сцен (отчаянный разгул откупщика Лядова в исполнении Черкасова), и стиль изображения. Это сделало «Пирогова», при всех недостатках, одним из лучших биографических фильмов второй половины сороковых годов.
Однако прийти к этому было не просто. Обсуждая материал первых съемок, худсовет студии в целом высоко его оценил, Эрмлер хвалил операторскую работу. Но говорили и об излишней статичности, Трауберг вспомнил в связи с ней «Ивана Грозного». Москвин начал с возражения Эрмлеру: «Картина снята плохо. Плохо она снята по причине недостатков, которые имеются в сценарии. Я говорю о статичности, которая есть в сценарии и которая замаскировывается всякими
фокусами... Если попробовать представить себе базар, снятый на натуре, ничего по существу не изменится, будет та же статичность в развитии действия, многозначительность в словах и поступках... Трауберг находит элементы “Ивана Грозного” в “Пирогове”. Но в “Пирогове" нет того, что было в “Иване Грозном" — масштаба». Козинцева тоже задели слова Трауберга: «...непонятно, почему приплели “Ивана Грозного”. Это отвратительная картина, в которой идет набор фотографий людей с мертвыми глазами и произносится какой-то риторический текст. Мы пытаемся делать какие-то характеры — хорошие или плохие, это другое дело. “Грозный” здесь не при чем».
Почти случайно возникший спор проявил ситуацию. Москвин понимал, что можно по-разному относиться к «Грозному», но резкое отрицание Козинцева, с которым многие годы так дружно работал, было ему весьма неприятно, тем более, что было проигнорировано его замечание о масштабе. Козинцев трудился, стараясь хоть что-то спасти от исходного замысла, а Москвин, переполненный еще недавним ощущением радости работы на «Грозном», вероятно, внутренне даже сопротивлялся. И Козинцев это чувствовал. Его жена, Валентина Георгиевна запомнила, как он сказал, придя со съемки: «Что случилось с Москвиным? Все статично, неподвижно...» Долго так тянуться не могло. Москвин был «на равных» с Назаровым (в середине съемок появился еще один оператор, ученик Горданова, Наум Шифрин, работавший до этого с Аркадием Кольцатым, а во время войны и с Москвиным; он был без работы, что грозило увольнением из-за сокращения производства фильмов; Москвин спас его, взяв на фильм, причем тоже «на равных», как и Назарова). Можно было дать Назарову снимать самостоятельно, ограничившись ролью худрука. Или вообще уйти с фильма. Но это было бы предательством по отношению к группе и прежде всего — к Козинцеву. Он заставил себя «настроиться на волну» режиссера, проникнуться его искренним желанием вдохнуть жизнь в схему, заставил себя работать тоже в полную силу, и фильм по праву считается фильмом Москвина. Перелом произошел вскоре после худсовета на съемках построенной в павильоне петербургской улицы.
Подхватив установку Козинцева на условность, Еней построил декорацию так, как когда-то «Невский» для «Шинели». Мощная арка перекрыла «улицу», за ней — далекий фон, на первом плане — фрагменты домов. Образное решение отвечало мрачной атмосфере холерного города. В отличие от весьма натуральной декорации рынка, павильонная улица дала оператору больше возможностей. Усилив контраст занимающей верх кадра темной, почти черной арки со смягченным дымом фоном в глубине, освещенными фигурами и частями декорации в центре и темными деталями первого плана, он придал «павильонному» пейзажу необходимую меру и реалистичности, и условности.
Москвин боролся за цельность, преодолевая еще один недостаток сценария — отсутствие внутренней связи между сценами (на худсовете он сказал, что его смущают переходы от сцены к сцене). Для этого он выявлял связи по контрасту или по сходству. Задуманное Козинцевым противопоставление холерного города с солнечной сценой гуляния на Островах он довел до предела, усиливая
1947 год. «Пирогов». Москвин ставит дополнительную «сеточку» на маленький прибор, подсвечивающий лицо О.Лебзак, исполнявшей роль первой русской сестры милосердия.
Фото В. Фастовича.
контраст нарядных костюмов гуляющей публики с темными одеяниями первой сцены, изысканных чистопородных лошадей с клячами, тянущими возы с трупами, светлого здания театра с темной, нависающей аркой. Москвин поднял общую мажорную тональность сцены на Островах дополнительной подсветкой, глубинными композициями с большим простором светлого неба. Заключительный аккорд в контрастную сшибку двух сцен внесла музыка Шостаковича.
Тонально, пространственно, музыкально сталкивались и другие сцены, но до уровня пластических контрастов, к примеру, «Нового Вавилона», дойти не смогли: сказывался искусственный драматизм сценария. Москвин преодолевал статичность внутренним динамизмом изображения, в частности экспрессивным, нереальным светом. В сцене Пирогова и лейб-медика Мандта у госпиталя они стоят лицом друг к другу, но в монтируемых впритык укрупненных кадрах оба освещены основным светом слева. Такой свет — элементарная ошибка даже для молодых операторов. У Москвина же этого просто не замечают, ибо портреты исключительно выразительны, а полная условность света притушена нюансами композиции, фона, москвинским «чуть-чуть»: Пирогов снят слегка снизу, Мандт чуть сверху; Пирогов на сером фоне, но слева — масляный светильник, за Мандтом темная арка справа и более светлый фон слева.
Выбор Скробогатова был очень удачен. Хорошо чувствуя «глубину» персонажа, актер вместе с Козинцевым попытался «цитатность» речи обратить в прием, делающий героя реальнее. Он сыграл человека полного «противоположностями», чем-то похожего на Москвина, флегматичного, но внутренне темпераментного. А «книжность» речи — как бы черта сложного характера. Сладить со всеми недостатками сценария он не мог, но достиг многого.
Кульминацией роли и фильма стала сцена без трескучих фраз, без намека на памятник. Пирогов сидел у постели солдата, чуть не умершего на операции (злокозненные чиновники от медицины подсунули «гадкий эфир»). Солдат сказал тихо: «Вы уж простите, что сердце у меня остановилось... Что вы? Никак плачете?» Пирогов ответил: «Что ты, друг мой Тарасов! Слеза от мороза...» Портрет Пирогова со слезами на глазах — шедевр и актерского, и операторского мастерства. Как и Скоробогатов, Москвин применил скупые средства. В ка
дре — одно лицо. Фон серый, чуть заметна арка окна. Справа в глубине колеблется огонек свечи. Голова Пирогова освещена слабым контровым светом, как бы от свечи, и нереальным, да еще и сильным светом снизу слева. Абсолютно точно поставленный прибор дал не только рельефную лепку лица, выделил тенями тонкую линию губ, морщины, слегка впалые щеки, но и иные, чем в других кадрах, блики в умных глазах и слабый блик на слезе — она не блестит, еле видна. Пирогов, печальный и радостный, стеснялся ее.
В фильме много крупных планов Пирогова: Козинцев и Москвин старались до предела использовать возможности Скоробогатова. Найденный еще на пробах свет слева и чуть снизу, Москвин сделал основным для портретов, дополняя его в зависимости от задачи каждого кадра. Но стремясь к максимальной выразительности, Москвин не забывал о всей сцене, о фильме в целом. Рассказ Ильи Волка: «Снимали крупный план. Я ставлю микрофон. Он посмотрел, говорит: “Что так далеко ставишь?” Подошел к пульту, послушал: “Ставь ближе, к самому краю кадра”. Я понял: он хочет, чтоб монолог звучал как мысли вслух. Стали снимать. Скоробогатов говорит тихо, усиление большое и чуточку слышна камера. Я Москвину сказал. Он послушал на пульте с включенной камерой, сказал — отодвинет. “Так ведь уже снято?!” — “Ничего, снимем еще”. Вот его отношение к звуку». Поясню: чтобы камеру не было слышно, Москвин, не трогая актера и микрофон, отодвинул ее и поставил более длиннофокусный объектив, изменив этим оптический рисунок, соотношение актера и фона. Стало быть, Москвин сознательно, хоть и не на много, но ухудшал изображение ради сохранения важной для образа речевой характеристики (замечу попутно, что Москвин по-прежнему серьезно интересовался звуком; для работников звукоцеха его мнение о качестве работы аппаратуры было не менее авторитетно, чем мнение звукооператоров. Именно в это время он подружился с молодым инженером Валентином Раковским — под его руководством был модернизирован тракт звукозаписи, на котором записывали «Пирогова»).
Уделяя много внимания портретам Пирогова, Москвин не забывал и о других персонажах. Как всегда примечательны «однокадровые» портреты. Крупные планы провинциального врача (Николай Мичурин, снимавшийся в маленьких ролях во многих фильмах Козинцева и Трауберга), сановников и студентов, даже короткий план трубача на севастопольском валу приближались к кадрам-характеристикам «Вавилона» и «Грозного». А портрет Тарасова в госпитале, пожалуй, не уступал и крупному плану Пирогова. Была в фильме еще одна сцена с двумя персонажами, перекликающаяся со сценой Пирогова и Тарасова. Это финал фильма — адмирал Павел Нахимов у постели Пирогова. Там был вечер, здесь солнечный день, иная общая атмосфера. Особенно значимо различие фонов: почти нейтральный, мягкий — в госпитале и светлый, резкий — в финале. На белой стене хорошо видна подсвеченная сбоку лепка: военные атрибуты, символы доблести. Удивительно, но в этой «приподнятой» атмосфере Константин Скоробогатов и Алексей Дикий сумели сыграть трогательное участие друг в друге не великих хирурга и флотоводца, а двух усталых пожилых людей, близких по духу, по характеру даже. Очень человечное режиссерское, актерское, операторское решение сцены противоречило идее
«памятника» и поставило группу в сложное положение: с таким финалом фильм наверняка не приняли бы. Нужно было что-то делать хотя бы с последним крупным планом Пирогова.
Второй режиссер Иосиф Шапиро вспоминал: «Москвин сказал: “Перерыв на час”. Все это время он работал с осветителями, поставил около двадцати приборов, перекрыл их фанерками (экспансивный Шапиро явно преувеличил число приборов.—Я.Б.). Снимаем крупный план. Когда кусок кончался, он превращал лицо Пирогова в бронзовый бюст. Убирал фанерки, одну за другой, на одних приборах и вводил на других. Я вам скажу — это надо было видеть! Он как дирижер стоял в центре и командовал осветителями: показывал одному локтем, другому пальцем, третьему головой. Заранее все отрепетировал. И все получилось!» Принцип превращения прост: во всех кадрах Москвин освещал лицо Скоробогатова слева, а здесь постепенно перешел на основной свет снизу справа. Это делало лицо чуть странным, точнее — непривычным, потому менее «живым». Принцип прост, но выполнение требовало ювелирной точности установки приборов, степени их перекрытия в каждый момент, очень точного ритма.
Разумеется, и Козинцев, и Москвин прекрасно понимали, что это прямая уступка цензуре. И когда вспоминаешь фильм, не этот кадр стоит перед глазами, а портрет Пирогова у постели солдата, да еще пронзительный, очень русский пейзаж, начинающий фильм: бескрайняя равнина с проселочной дорогой; медленно катится коляска; совсем низкий горизонт и безоблачное небо, притемненное к верху кадра. Тут и размах, и необъятность простора, и тоска, и предчувствие чего-то тяжелого. Два превосходнейших кадра и довольно большое число очень хороших кадров на фильм. Много это или мало? Если сравнивать с «Шинелью», «Вавилоном», «Грозным» — мало. Но даже ради этих кадров фильм стоит посмотреть. Ибо в целом работа Козинцева, Москвина и Скоробогатова в условиях, в какие они были поставлены, очень достойна. «Пирогов» — фильм с натурой, созданной из противоположностей, отмечен 1947 годом. Может быть, его стоит посмотреть и поэтому.
ПОРТРЕТ НА СТЕНЕ
Все думаю об Эйзенштейне. Его судьба трагична. О нем мог бы написать Томас Манн.
Александр Гпадкое
Пока нет хорошей книги о трагической судьбе Эйзенштейна-художника и, что было бы особенно интересно, человека (Гладков не зря назвал Томаса Манна). Биографы Эйзенштейна еще только приближаются к раскрытию его внутренней жизни после февраля 1946-го. Но эти два года самые сложные из шести, в которые судьба Москвина так тесно переплелась с судьбой Эйзенштейна. И чтобы понять, что в эти два года пережил Москвин, нужно напомнить, что происходило с Эйзенштейном.
В марте 1946-го в больнице он шутил с американским журналистом Бруксом Аткинсоном: «Итак, это для меня постскриптум, и это
чудесно. Теперь я могу делать все, что мне нравится». А другу своему Сергею Прокофьеву сказал так: «Жизнь кончена. Остался лишь постскриптум». В больнице же или сразу после нее он читал воспоминания Николая Ульянова о Валентине Серове и жирно пометил на полях такие строки: «Случайно в его присутствии кто-то, говоря о себе, произносит: “Я не жилец на этом свете!” Серов вздрагивает, настораживается, как будто услышал то самое, что сейчас и есть для него самое важное, о чем другие не догадываются».
Все-таки он хотел вернуться к «Грозному». В ноябре вместе с Черкасовым написал письмо Сталину с просьбой разрешить продолжение работы. 24 февраля 1947 года Сталин принял их в присутствии Жданова и Молотова. Главная его претензия к фильму: «Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно. Но нужно показать, почему нужно быть жестоким». В сделанной ночью, сразу после беседы, записи Эйзенштейн и Черкасов выделили слова «нужно быть». Интонационное выделение объясняет, для чего Сталину нужны были фильмы, спектакли, романы о царе Иване. Впрочем, и к самому Ивану имелась претензия, ибо он «кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал. Нужно было быть решительнее».
Черкасов, активнее Эйзенштейна участвовавший в беседе, попросил разрешения переделать вторую серию, сославшись на успех переделки после Постановления фильма Пудовкина «Адмирал Нахимов». Эйзенштейн все же спросил: «Не будет ли каких-либо специальных указаний?» Вот запись ответа: «т. ЖДАНОВ говорит, что Эйзенштейн увлекся тенями, он отвлекает зрителя от действия и бородой Грозного...» Легко представить, что высочайшее разрешение переделывать фильм с учетом замечаний, то есть оправдывая жестокость и не увлекаясь тенями, мало вдохновляло Эйзенштейна. И потому не кажется неожиданной его просьба: «...было бы хорошо, чтобы с постановкой этой картины не торопили» (за этими словами слышится насреддиновское — или эмир умрет, или ишак умрет, или я умру). Получили милостивое согласие: «Ни в коем случае не торопитесь... если нужно полтора-два года, даже три года...» Сталин был уверен в своем бессмертии. У Эйзенштейна в запасе был всего один год...
Москвин узнал подробности беседы от Черкасова, вернувшегося в Ленинград 27 февраля. Он понял, что Эйзенштейна раздирают противоречия: очень хотелось завершить фильм, но сделать это можно только за счет слишком уж большого компромисса с замыслом. 14 апреля Эйзенштейн через океан говорил по телефону с учеником и другом Джеем Лейдой (разговор организовали по случаю премьеры в США первой серии); Лейда вспоминал: «Когда я спросил о второй серии, он довольно бесцеремонно прервал мои расспросы и переменил тему». 6 июля письмо Москвину: «Сижу в Кратово, подыхаю от жары и от сожаления не видеть Вас здесь. Набираю сил на сердечную поправку и жду не дождусь, когда возобновится тернистый наш общий путь». Письмо имело постскриптум: «Прилагаю образец терния (фрагмент из моего венца)»; в конверт вложена сухая веточка розы с шипами; на конверте: «Андрею Николаевичу Москвину. Открывать очень осторожно». Настраиваясь на общий путь с Москвиным, Эйзенштейн разрабатывал замысел цветового фильма «Москва 800». Помнил он
о Москвине и занимаясь теоретическими проблемами цвета. В конце 1946 года сделаны записи на тему «цвет и рефлекс», прямо связанные с Москвиным, 19 марта 1947-го он прочел во ВГИКе лекцию о цвете и музыке в «Грозном», в свою последнюю ночь работал над статьей о цвете; последняя написанная в ней фраза: «Поэтому я вкратце изложу тот процесс, которым, в частности, строился цветовой эпизод в картине “Иван Грозный"»...
У Боратынского есть строки: «Душа певца, согласно излитая, / Разрешена от всех своих скорбей...» Разрешения, освобождения от скорбей «излитием» их в фильме у Эйзенштейна не было. В сентябре 1947-го записано: «...самоуничтожение через гибнущего сына (Исаака) — от Степка в “Бежином луге” до Владимира Андреевича в “Грозном” — оба трагичны по судьбам картин as well [также]». 23 января 1948 года ему исполнилось пятьдесят. 28-го пришла телеграмма от Москвина: «Сожалению не мог своевременно вспомнить тчк Нежностью поздравляю прошедшим двадцать третьим Сергием». Пунктуальность Москвина в таких вещах была хорошо известна Эйзенштейну; при его суеверии он мог посчитать «поздравляю прошедшим» за дурное предзнаменование. В конце января Ростислав Юренев рассказал Эйзенштейну, как чуть не подрались студенты-операторы ВГИКа, решая, кому идти на практику к Москвину — на пересъемки «Грозного». Вот реакция Эйзенштейна: «Какие пересъемки? Неужели вы все не понимаете, что я умру на первой же съемке? Я и думать о “Грозном” без боли в сердце не могу!» В начале февраля приехал в Ленинград Станислав Ростоцкий, ученик Козинцева и Эйзенштейна, передал Москвину привет от учителя. Последний... В ночь с 10 на 11 февраля — новый инфаркт, Эйзенштейн умер.
Москвин узнал об этом от Козинцева, которому позвонил Тиссэ. Утром 12-го он был в Москве. В квартире на Потылихе долго стоял у широкой тахты, на которой лежал как будто уснувший Эйзенштейн. Попросил у Перы Аташевой на память его старую меховую шапку (есть легенда, что шапку он украл; выглядит это романтичнее, но было иначе). 13 февраля в 13 часов — гражданская панихида. «В первый раз, — вспоминал Ростоцкий, — я увидел Москвина, который не смог скрыть своих чувств, свое потрясение.... он стоял в стороне от других, в стороне от официальной скорби, от слез и соболезнований.... в его глазах за толстыми стеклами очков жила какая-то почти детская обида за страшную нецелесообразность, проявившуюся в этой смерти».
14-е — день рождения Москвина. Вечером он пришел на Гоголевский бульвар к Аташевой, не застав ее, написал записку:
Милая Пера
Спасибо за все
Для меня все кончилось вчера
Это очень страшно
Постараюсь уехать сейчас
Если не удастся, зайду завтра после 12
А. Москвин 14/11 48
Он был невероятно сдержан в проявлении чувств, записка — свидетельство его потрясения. Он потерял друга, цену которому знал лучше, чем кто-либо иной... В марте Аташева попросила его по свежим впечатлениям написать об Эйзенштейне, о работе с ним. Он от
ветил: «О писании статьи — не думаю. Ведь то, что напишется, никому не следует, собственно говоря, читать, а писать другое ни к чему и не умею».
Михаил Булгаков сказал, что духовное общение с близким человеком после его смерти не проходит, напротив, может обостриться. Духовное общение Москвина с Эйзенштейном не прервалось, все получило теперь новый масштаб для сравнения. В день пятилетия со дня смерти Эйзенштейна он написал Аташевой: «...сидел дома в довольно мрачном настроении. Не помогла даже четвертинка отборного коньяка. Уж больно противно сравнивать существующих с Ним...» Москвин делал все, что мог для памяти об Эйзенштейне. В 1955 году истратив до последнего рубля постановочные за «Овода», заказал литую бронзовую доску с именем Эйзенштейна и датами его жизни и установил на временном памятнике. Много позже, когда Москвина уже не было, на могиле поставили новый, мраморный памятник. Старую, уже и не нужную, доску вмонтировали в мраморную плиту как знак памяти о дружбе двух великих художников.
В феврале 1948-го, вернувшись из Москвы, он сам с любовью напечатал большой фотопортрет Эйзенштейна и повесил над тахтой, на которой спал. Это был единственный портрет на стенах его комнаты...
1951
Понятие «дурные времена» реально. Дурные времена повторяются не в своем прямом историческом содержании, но в настойчивости, с какой вновь и вновь возникает проблема — как прожить их достойно, есть ли вообще такая возможность...
Инна Соловьева
Начало второй половины XX века. В мире неспокойно: война в Корее, атомная гонка, ускоренно разрабатывают водородную бомбу. Москвин лучше многих понимал силу атомного оружия, но тогда, в 1951-м, его, как и других чутких к жизни людей, больше беспокоило другое — реальность «дурных времен».
В стране, не восстановившей еще разрушенного войной, начали с помощью подневольного труда заключенных «великое преобразование природы», дорого обошедшееся потомкам. Возводили помпезный фасад новой империи. Высотные здания Москвы в стиле сталинского неоампира символизировали государственную мощь, но плохо решали проблемы расселения переполненных коммуналок. Нелюбимый Сталиным Ленинград меньше подвергся напору престижного монументализма, зато досталось городу, к которому Москвин относился особенно ревниво. Новый ансамбль привокзальной площади в Пушкине, построенный как бы в уцененном варианте неоампира, ему решительно не нравился. Несколько лучше смотрелось само здание вокзала, но и оно не отвечало духу Царского Села. Тем не менее, его создателей удостоили Сталинской премии, и в марте 1951 года Москвин поздравил одного из них — Евгения Левинсона.
14 февраля Москвину исполнилось пятьдесят. Был он в простое, как и почти весь год, — идея повышения качества фильмов за счет снижения количества достигла в том году апогея (девять фильмов на всю страну). 14 февраля в лучших кинотеатрах Ленинграда шла повторно выпущенная американская музыкальная комедия «Три мушкетера», а в маленькой «Искре» на Суворовском проспекте — «Выборгская сторона». День рождения, особенно круглая дата, располагает к воспоминаниям; можно предположить, что Москвин вспомнил и 14 февраля 1938 года, первый день съемок «Выборгской стороны», арест Шписа. Дурные времена повторялись, шла «новая волна», и хотя после войны Москвин реже бывал в доме Рашели и Фридриха, он знал, что Фридрих Эдуардович, чудом «проскочивший» 1937 год, на этот раз не избежал своей участи. И не он один... Арестовали Наума Шифрина — любителя розыгрышей и анекдотов; в присутствии нескольких коллег он сказал «лишнее», один из них «стукнул»... Беда пришла и в дом Козинцева: снова была арестована недавно вернувшаяся из лагеря Ольга Ивановна, мать Валентины Георгиевны; Москвин хорошо ее знал.
Во времена простоев Москвин любил длительные прогулки, чаще в одиночестве, иногда с кем-то из друзей. Среди них был Валентин Раковский. Он написал, как они ходили по разработанному Москвиным сложному маршруту, охватившему практически все замечательные ансамбли центра Петербурга-Ленинграда, — Мо-
Два портрета Москвина, снятые в трудные для него годы — в период «Пирогова» и «Белинского».
сквин рассказывал ему об истории создания всех зданий и об их архитекторах — все это он отлично знал...
«Малокартинье» обернулась еще одной стороной: студии игровых фильмов стали снимать и документальные. В конце августа Москвина послали в Петрозаводск на досъемки фильма Александра Иванова «Карело-Финская ССР» — работавшие на нем операторы уже разошлись на другие фильмы. В первый же день во время особо ответственной, по тем временам, съемки заседания Совета министров республики отказала камера — тяжелая и сложная. Москвин, приехавший в короткую экспедицию без механика и ассистента оператора, работал непрерывно несколько часов, камеру разобрал, устранил неисправность, снова собрал и, по рассказу Иванова, «сказал совершенно спокойно: “Можно снимать!”. И неожиданно повалился на пол». Врач скорой помощи установил сильнейший сердечный приступ, сделал укол, но сначала Москвин даже не мог говорить. А съемку надо было довести до конца, и, немного придя в себя, он предложил сделать это двум молодым парням-дольщикам, хотя их задача — разложить на полу рельсы, поставить на них тележку-«долли», а во время съемки, если нужно, возить тележку вместе с камерой и оператором. Они не знали, как обращаться с камерой, как ставить и контролировать свет. Превозмогая боль, Москвин детально объяснил, что надо делать, заставил их все записать и только тогда отпустил. Действуя по его указаниям, они завершили съемку. На это ушла ночь, на следующий день уехали в Ленинград. У Москвина болело сердце, для расширения сосудов выпил коньяку (по легенде — целую бутылку!). Отказавшись от какой-либо помощи, поднялся на свой пятый — без лифта — этаж, лег. Вызвали врача. Диагноз — инфаркт.
Лежал дома (больных с инфарктом считали тогда нетранспортабельными). 9 сентября написал жене, снимавшей видовой фильм в Дагестане: «Сейчас пребываем в роли Алжирского бея. Красота. И все сполняют капризы (их еще нет). Это нас вроде, как говорят, слегка хватила кондрашка». 14 октября сообщил Аташевой: «... последовал примеру барина, нахожусь в приятном ничегонеделании (прямо — дольче фар ниенте [итальянское «dolce far niente», сладкое безделье. —Я.Б.]...)». Дел немного: лежать да полеживать, да живой вес належивать... прошу принять мои самые горячие приветы от всех ошметков моего порватого сердца». Он делал вид, что в восторге от безделья, шутил, но на самом деле был в крайне тяжелом физическом и моральном состоянии. Последовав примеру Эйзенштейна, невольно думал о том, что «барин» умер от инфаркта в пятьдесят лет.
...В феврале 1948 года, вернувшись из Москвы с похорон Эйзенштейна, Москвин включился в подготовку фильма «Александр Попов»; Трауберг ставил его с Семеном Тимошенко. Москвин знал, что идея «памятника» заложена тут исходно и вряд ли удастся приблизиться хотя бы к уровню «Пирогова», но не считал себя вправе отказаться от предложения Трауберга. Много лет спустя Трауберг вспомнил разговор с Москвиным: «Как вы думаете, Андрей, выйдет у нас эта картина? — Не выйдет. — А зачем же вы ее снимаете? — Вы же ее снимаете, я и буду снимать. — Какое у вас настроение? — Похоронное!.. Не вижу вашего решения задачи».
Съемки начали в ноябре. Москвин писал Аташевой: «Удовольствия никакого и результатов тоже». 28 января 1949 года «Правда» напечатала статью о группе «космополитов» среди театральных критиков. Вскоре их выявили и в литературе. В кино вдохновителем и организатором группы «кинокосмополитов» был объявлен Трауберг. «Попова» отдали другим режиссерам, Москвин ушел с фильма. В мае Трауберга уволили, он остался без работы. Москвин — один из немногих, кто в это время помогал ему. А ведь проблема прожить достойно была тогда реальной, и далеко не все оказались на высоте человеческого достоинства. Видные режиссеры и писатели (не хочется называть имена, их легко найти в газетах 1949 года) громили «безродных космополитов» по разным мотивам: кто-то верил в «заговор», кто-то не верил, но тоже «клеймил», то ли просто боясь за себя, то ли будучи не в силах противостоять давлению.
Руководители «кампании» из Министерства и студии давили и на Москвина. Он не выступал (да и не очень приставали, зная его молчаливость), а вот уклониться от участия в сборнике статей к 30-летию советского кино не смог. Направление сборника было заранее известно, как и то, что лучшим советским фильмом в нем будет названа «Клятва» Михаила Чиаурели. Статья Москвина в полторы страницы — самая короткая в толстой книге. Первая часть ее — рассказ о его приходе в кино через технику. Вторая развивала положения статей 1920-х годов (он и тут был постоянен) и заканчивалась с точным чувством «жанра» сборника: «Искусство оператора в том, чтобы быть пропагандистом нашей действительности, действительности первого в мире свободного общества, подчинить технику и свой творческий темперамент единственной задаче борьбы за новый мир, за нового человека. Так снималась трилогия о Максиме, так снимались “Пирогов” и “Иван Грозный” (первая серия), так будет сниматься “Белинский”».
Сохранился беловой текст Москвина без названия, с датой «29 IX 49». Редакторы сборника сами дали название («Быть пропагандистом советской действительности», вместо «нашей»), приписали к «Грозному» естественно отсутствующую у Москвина «первую серию» и выбросили, чтобы не заехать на следующую страницу, очень важный абзац: «Понять, осмыслить, найти пропорцию необходимого и достаточного, выбрать существенное и нужное в необходимом, гармонично сочетать все элементы работы в одно целостное, законченное, сохранив свое личное, индивидуальное — в этом искусство оператора».
«Так будет сниматься “Белинский"» — риторическое восклицание; Москвин знал — снимать «Белинского» как трилогию или «Грозного» нельзя. В худшем виде повторялась история «Пирогова»: интересный по замыслу сценарий Козинцева и Германа после бесконечных поправок принимал все более плачевный вид. Да еще заставили объединить его с другим, «правильным». Последний вариант почти не оставлял надежды. А тут еще неудача с актером: Сергей Курилов был хорош на пробах, но уже первые съемки выявили — роль не идет, актер не может придать речам-«цитатам» хотя бы видимость жизни. Но он утвержден Большим худсоветом, заменить нельзя...
Съемки шли тяжело, энтузиазма, подъема, спасавшего группу Козинцева во многих сложных ситуациях, не было. «Я стою в ателье с непрекращающейся головной болью. Что-то давит на мозг, на глаза,
на барабанные перепонки. Я ничего не знаю и ничего не умею. Сейчас я должен снять кадр. Куда поставить артиста, как он должен произнести эти слова? На меня смотрит тяжелым взглядом Москвин: он тоже ничего не умеет». Эти слова Козинцева — художественная гипербола (профессионализм его и Москвина никуда не делся), но они передают атмосферу съемок.
Когда нет серьезных художественных задач, много места занимает ремесло. Снимая «Белинского», Москвин с увлечением проверял свой метод определения реальной чувствительности пленки (лабораторные испытания давали приблизительные данные). С куда меньшим увлечением он занимался главным делом. Из писем: «Снимки идут плохо и с малым интересом...», «На днях отправляемся под Лугу... на снимки, к чему отношусь, как к барщине...», «...думаю в конце сентября (1950 года. —Я.Б.) появиться в столице с посредственным опусом...» При таком отношении «ремесло» все больше выходило на первый план. Кадры, как будто назло кому-то, «обсасывались» до полной завершенности, появилось совсем не свойственное Москвину украшательство, вроде облаков, снятых по принципу «сделайте нам красиво». Но и этого начальству казалось мало — снятые под Лугой пейзажи были «северными», и 20 августа Москвин написал письмо работавшему на «Мосфильме» Виктору Домбровскому: «Не найдете ли Вы возможность слегка потрудиться и немного поснимать для нашей картинки красивых подмосковных пейзажей. Требуют широких русских (очевидно, знакомых) и красивых с красивым небом (обязательно)». Домбровский сделать ничего не успел — дирекция торопила сдать фильм...
В конце сентября Большой худсовет посмотрел этот фильм, созданный без увлечения, не принял его и велел сделать Белинского еще больше трибуном, вставить еще пуще заполненные ходячими памятниками сцены. Жертвой же стали как раз удавшиеся куски, скажем, сцена, в которой крепостная актриса пела романс «Ива»; видевшие ее говорили, что портреты Лилии Гриценко были в ряду лучших женских портретов Москвина, да и очень хорош был сам романс, который Шостакович написал на текст вольного перевода песни Дездемоны из «Отелло», сделанного Иваном Козловым в 1830 году. Переделки сценария заняли еще полгода. Лишь в августе 1951-го работы возобновили. Козинцев писал режиссерский сценарий новых сцен, Москвина на это время отправили в Петрозаводск...
Теперь он лежал, оберегаемый домашними от резких движений и волнений, и сердился, что на досъемки «Белинского» назначили Сергея Иванова, который не нравился ему и как оператор, и как человек. Скоро стало ясно, сколь не просто попасть в стиль даже не лучшей работы Москвина. Уже по его совету пригласили виртуозного мастера — москвича Марка Магидсона. Когда-то он выступил против Москвина, но они не поссорились, а подружились, и он согласился снимать, так как это была просьба друга. Внимательно посмотрев фильм, Магидсон очень близко воспроизвел «почерк» Москвина, и почти невозможно отличить снятое им от москвинского. Но и новый вариант фильма оказался недостаточно патетичным, Большаков не решился показать его Сталину и, стало быть, выпустить на экран. Это сделали лишь в июне 1953 года. Славы своим создателям «Белинский» не принес.
ДВА ЦВЕТНЫХ ФИЛЬМА
Жить без профессии нельзя... Работа должна быть поднята если не до пафоса, то хоть до профессии, иначе она раздавит бездушностью.
Лидия Гинзбург
ильм “Над Неманом рассвет” рассказывает о жизни и труде литовского крестьянства, о его борьбе с агентами иностранных разведок за новую, счастливую колхозную жизнь» — эта аннотация из рекламы 1953 года дает представление о сценарии. Чтобы представить стиль, скажу, что Александр Файнцим-мер, режиссер весьма профессиональный, но не более того, попытался объединить производственный стиль «Кавалера Золотой Звезды», сверхпраздничность «Кубанских казаков» и «роскошную» подачу католического антуража «Заговора обреченных». Однако не было у него ни психологизма Юлия Райзмана (он прорывался даже в «Кавалере»), ни темперамента Ивана Пырьева, ни размаха Михаила Калатозова. «Фильм показывает, что мы располагаем кадрами замечательных киноактеров, что есть у нас операторы, которых можно назвать художниками своего дела. Но для того, чтобы эти силы и таланты дали все, что они могут дать, наши сценаристы и режиссеры должны проявить в своих замыслах настоящую смелость и широту» (из рецензии Владимира Дудинцева).
Москвин прекрасно знал, что в замысле фильма не было ни смелости, ни широты. И настроен был скептически. Да и не могло быть иначе, если в финальной сцене свадьбы он должен был снимать старого Габриса, говорящего о «великой силе простых людей», когда «Простые люди» лежали на полке. Но и в годы малокартинья надо было кормить семью (Кошеверова, уже прославившись «Золушкой», работала вторым режиссером, Москвин не мог оплатить путевку в санаторий, пришлось просить пособие у Министерства). Ему хотелось снова увидеть Вильнюс, который помнил с детства, побывать в сельской Литве — он был любопытен к новым местам и людям. Главный же мотив решения — цвет. Когда в марте 1952 года, после санатория он уже мог работать, из начинавшихся фильмов лишь «Неман» был цветным.
На «Ленфильме» Михаил Магид и Лев Сокольский уже сняли в цвете «Мусоргского» Григория Рошаля и Сергей Иванов — «Свет в Коор-ди» Герберта Раппапорта. О «Мусоргском» Москвин сказал: «К цветной пленке применены все пункты технологической инструкции, однако Магид и Сокольский в плену этой инструкции. Большего они не добивались и не добились». У Иванова с цветом было еще хуже. На других студиях — тот же уровень, хотя были интересные находки у Сергея Урусевского в «Кавалере Золотой Звезды», у Магидсона в «Заговоре обреченных». Художники Михаил Богданов и Геннадий Мясников в марте 1951 года написали, что операторы подчас неверно используют цвет, а цветовое решение снятого Анатолием Головней «Жуковского» подвергли полному разгрому. Они не во всем были правы, но поводов для беспокойства, конечно, было достаточно. К проблемам творческим добавлялись технические: советская цветная пленка плохо передавала зеленый цвет.
Сентябрь 1952 года. «Над Неманом рассвет». Натурная съемка в Литве. У камеры Москвин, 2-й оператор В.Фастович, ассистент оператора Д. Месхиев (в глубине).
Москвин хотел бы снимать фильм цветовым — по Эйзенштейну, но об этом не могло быть и речи, ибо не было ни цветовой драматургии, ни режиссуры цвета. Он поставил иную цель: снять фильм с хорошей цветопередачей. Уже на пробы, вопреки инструкции, взял приборы с лампами накаливания и установил синий фильтр на камере. На натуре экспериментировал с отражателями, затенителями, светофильтрами. Дмитрий Месхиев, ассистент оператора на «Немане», рассказал, что одних только затенителей, которые снижали яркость лица на крупном плане от основного, солнечного света, было чуть ли не десяток — разные сорта тюля, бязь, только что появившийся капрон, а отражатели из фольги, подсвечивающие
тени, Москвин опрыскивал голубой краской. Опыты вел по строгой методике, с точными измерениями. Это сопровождалось теоретическими проработками и анализом изображения, снятого другими опера-
торами.
Как художник он понимал: нужна не физическая, а психологическая верность цвета на экране цвету снимаемого объекта; он подходил к цвету, как и к свету в черно-белом кино. Как ученый знал: надо решать не частную задачу зеленого цвета, а общую задачу цветовоспроизведения, и потому взял предельно сложный для тогдашних пленок случай — лицо на фоне зелени и неба. Правильная постановка задачи — путь к простому решению. Москвин предложил всего лишь добавить немного синей краски в грим, сам на стеклышке, как он говорил, «разводил на слюнях» берлинскую лазурь до нужной густоты и отдавал гримеру. При печати позитива, убирая синеву лица, убирали и излишнюю голубизну неба, излишек синего в зелени, «ожелтили» ее, сделали естественней. Прием, вроде бы, элементарный, но за ним — превосходное знание новейших трудов по цветоведению, в частности работ по цвету в полиграфии, всех тонкостей фотографического процесса.
Отчет Москвина о разработке метода улучшения цветопередачи лица на фоне зелени и неба занимает десять страниц. В 1977 году Владимир Пелль сказал мне, что они стоят диссертации, поразили его в 1953-м, поражают и теперь изящным решением проблемы, четкостью изложения, включающего лишь необходимое и достаточное: «Если бы Москвин занимался только наукой, мы имели бы еще одно
го великого ученого». Я вспомнил слова Горданова: «Если бы Андрея не выгнали из Путейского, был бы академиком по железнодорожной части». Владимир Георгиевич улыбнулся: «Хорошо, что выгнали. Иначе мы потеряли бы великого оператора».
Москвин снимал «Неман» в обстановке, не вдохновляющей на художественные поиски (из письма жене, работавшей вторым режиссером у Эрмлера: «Как идут снимочки? Очевидно, по бестолочи можем дать сто очков фору»; по письмам кажется, что его волнует только банка клубничного варенья, которую Евгений Шварц обещал «лично нам» — о себе Москвин писал в 3-м лице). Техническую задачу он успешно решил. На худсовете сказал: «Несмотря на то, что у нас много говорят об освоении цветной пленки, она не вполне освоена. Очень рад, что она несколько больше освоена мной... Не будучи сторонником индивидуальной работы, я считаю, что художественный совет кроме результатов должен интересоваться и стоящими за ними людьми. Своевременно отметить, что в картине ряд кадров отснят оператором Шуруковым самостоятельно... кроме того, из двух молодых товарищей, которые были прикреплены ко мне, один работал очень хорошо — ассистент Грицюс».
Студенту ВГИКа Йонасу Грицюсу повезло — он приехал в 1952 году в родной Вильнюс на практику, когда начались съемки натуры. Четверть века спустя он писал: «Мне лично Андрей Николаевич и как художник, и как человек (пожалуй, следовало переставить эти понятия местами) дал так много, что порою кажется — все». Но и для Москвина встреча с молодым литовским интеллигентом была интересна, как и с крестьянами из массовки, как и с актерами. Из них он сразу выделил и полюбил игравшую главную женскую роль Алдону Иодкайте. По легенде — весьма достоверной — в разгар пира, устроенного съемочной группой в связи с окончанием съемок свадьбы под открытым небом, Москвин, год назад перенесший инфаркт, поднял ее на руки и унес в лес... Еще один новый друг — Юозас Мильтинис. Бывая в Ленинграде, он обязательно заходил к Москвину. Кошеверова рассказала: «Он тогда плохо говорил по-русски, но тем не менее с Москвиным они как-то очень хорошо объяснялись».
Особенно симпатичен Москвину был консультант фильма по церковным вопросам — ксендз Паулюс Кучинскас. Ученый богослов, эрудит, знаток древних языков, терпимый и добрый Пал Палыч, как звали его русские друзья, был абсолютно не похож на ксендзов — агентов Ватикана, что действовали в фильме. В каждый приезд в Вильнюс Москвин обязательно виделся с ним; к праздникам писал короткие письма: «Прошу мано брангусис [мой дорогой] Кучинскас, принять мои поздравления к наступающему Празднику Рождества и Нового Года». Следует отметить, что для конца пятидесятых годов, когда Хрущев повел новое наступление на церковь, поздравление с Рождеством или с Пасхой было явлением весьма неординарным.
Любознательному интересен каждый город, Москвин был любознателен, он помнил Вильнюс еще по школьной экскурсии. Но полюбить город по-настоящему можно, лишь полюбив его людей. Большая любовь Москвина к Вильнюсу родилась из знакомства и дружбы с Миль-тинисом, Кучинскасом, Иодкайте, Грицюсом. Конечно, и сам город, выросший на перекрестке литовской, польской и еврейской культур,
привлекал Москвина своеобразием и особенно памятниками барокко, среди которых — костел Петра и Павла, одна из вершин «большого стиля» барокко XVII века. Пафос, мятежность, контрасты барокко были близки Москвину, как и Эйзенштейну, как и Валентину Серову, который очень любил Тинторетто. Образы вильнюсского барокко повлияли на костёльные и ватиканские сцены «Немана» — изобразительно они в числе сильнейших.
Снимая фильм, Москвин много занимался техникой, но пытался решать и частные художественные задачи. Хороши портреты, сильно снята прекрасно сыгранная Мильтинисом сцена в костеле, где он на коленях полз к алтарю, в натурных сценах есть настроение литовского пейзажа. Наконец, кадр с девушкой, взбегающей на холм. Низко и симметрично размещенный горб холма силуэтом виден на фоне светлого еще вечернего неба, сверху клубятся темные облака, и маленькая фигурка, бегущая по самой кромке, противостоит почти космическому хаосу. «Этюды, обыкновенные этюды... вот что значат для Сезанна его полотна: он смотрит на них, как на упражнения, необходимые для будущей работы, о которой он мечтает», — эти слова Анри Перрюшо можно отнести ко многим кадрам «Немана». Хорошо, когда есть возможность заниматься этюдами, но Москвин мечтал о серьезной работе.
Ею, в какой-то степени, мог бы стать фильм «Большое сердце». Сценарий Козинцев написал с Ильей Эренбургом в 1952 году по мотивам его романа «Девятый вал». Содержание — борьба СССР за мир,
что не очень вдохновляло и самого Козинцева, и его коллектив. Но действие — в США, Корее, Париже и Москве, а снимать надо было у себя. Это было трудно и, как уже не один раз было сказано, именно потому привлекательно для Москвина. Еней сделал интересные по цвету эскизы, и Москвин всерьез думал о цветовой драматургии. В феврале 1953-го сняли пробы актеров, в начале марта умер Сталин и... фильм закрыли. Козинцев был этому рад, но другой работы не было и он «спасался» Шекспиром — ставил «Гамлета» в Пушкинском театре. Москвин принял предложение Файнциммера снимать «Овод».
Он знал возможности Файнциммера, но надеялся, что романтическая тема, неплохой сценарий Евгения Габриловича его
Москвин на съемках натуры «Овода». Любимая женщина в шутку сказала, что ему идет борода. Уехав в экспедицию, он перестал бриться. Когда борода подросла, он сфотографировался, послал ей фотографию, а бороду сразу сбрил.
расшевелят. И взялся за дела вовсе не операторские. Привел на фильм Енея, Волка, Иосифа Шапиро. Второй оператор, как и на «Немане»,— Вячеслав Фастович, ассистент Йонас Грицюс. Всерьез занялся Москвин и сценарием, на трех страницах изложил замечания по диалогам: сравнение с фильмом показывает — многие из них Габрилович принял. Активно участвовал и в выборе актеров. Узнав от Николая Акимова о молодом актере из Таллина, предложил вызвать его. «Приехал Олег Стриженов, конопатый, рыжий. Это всех обескуражило, кроме Москвина. Он пробурчал: «А грим на что?» Случайный парик, голубые глаза и черные волосы... Все было решено» (рассказ художника фильма Беллы Маневич). Дело не только в гриме. Поняв, что Стриженов лучший из кандидатов, Москвин, как сказал Шапиро, «сделал его»: помог на пробе и так снял, что сомнений у худсовета не осталось. «Работа с оператором Москвиным... — говорил потом Стриженов, — какая это была школа для меня!»
Вспоминая первую роль в кино, актер не случайно назвал оператора, а не режиссера. Надежды Москвина, что Файнциммер расшевелится, не оправдались. Почувствовав это, Москвин оставил попытки «вывезти» фильм, а чтобы работа не «раздавила бездуховностью», как это было с «Белинским», стал поднимать ее до «профессии». Он использовал все возможности декораций Енея и снимавшейся в Крыму «итальянской» натуры. Портреты Артура со свечой и распятием,
Лето 1954 года. «Овод». Съемки в Крыму. У камеры Москвин, Фастович, крайний справа — А.Файнциммер. крайний слева, в берете — ассистент оператора Й. Грицюс.
«Овод». Кадр из фильма Тюрьма. Артур (О.Стриженов) и Монтанелли (Н.Симонов).
проход кардинала в белой мантии по белой галерее (пожалуй, первый и сразу удачный пример «белого на белом» в советском цветном кино), экспрессивные кадры барочных скульптур в соборе, вертикальная панорама, когда Монтанелли по коридору тюрьмы уходит от Овода, сцена отца и сына в карцере, где с нараста-
нием драматизма дерзко менялся свет на крупных планах. Можно назвать и другие кадры — слабых в фильме нет. Художник Евгений Куманьков написал: «...цвет в фильме, не ставшем победой кинематографии, был его “оболочкой”. Но эта “оболочка” отличалась вкусом и облагораживала фильм. Полезность этой работы для общего развития культуры цвета в кино несомненна». Эти точные слова могли бы завершить рассказ об «Оводе», но надо еще сказать о музыке.
«Бескровная» режиссура сделала фильм сентиментальным, лишила эмоционального подъема. Москвин предпринял еще одну попытку улучшить его, предложив пригласить Шостаковича. Было это в начале января 1955 года, месяц назад умерла Нина Васильевна («Шоста-ковичиха», как шутливо звал ее Москвин). Потрясенный горем, композитор долго не мог сочинять, даже год спустя отказался от работы на «Дон Кихоте». Единственное, что он написал в это время — по просьбе Москвина — музыка к «Оводу». Переживания окрасили ее личной интонацией, с особой силой прорвавшейся в теме отца и сына, почти идиллической при появлении в начале и трагической, когда в карцере Монтанелли окончательно теряет Артура (ставшая популярной как «Романс» в исполнении темброво обедненного ансамбля скрипачей, она, к сожалению, звучит совсем не трагично). «Отсутствие целостного режиссерского замысла заставило композитора искать частные решения практически для каждого эпизода... Музыка вступила в борьбу с фальшью и сентиментальностью», — написала специалист по киномузыке Ирина Шилова, заметив еще, что «недостатки фильма несколько сглаживает интересное операторское прочтение... Ряд сцен в цветовом отношении чрезвычайно интересен, и хочется отметить, что музыка находила опору и поддержку именно в цветовом решении».
Гпава десятая
ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
1956
Прежде характер времени чувствительно переменялся с переменою поколений; наше время для одного поколения меняло характер свой уже много раз.
Иван Киреевский
Эту мысль Киреевского любил Козинцев — для его поколения, стало быть, и для Москвина, время меняло характер много раз, «переменялся» он все скорее, и Козинцев дополнил Киреевского: «В одних и тех же временах заключалось неисчислимое множество времен — концов прошлых эпох...» Так было и в 1956-м. 1 января «Советская культура» вышла со статьей Валентина Катаева «Время, вперед!» — в названии перекличка с «Маршем времени» Маяковского, романом самого Катаева, с началом тридцатых. Связь времен откликалась в событиях (для Москвина это была выставка любимого им Мартироса Сарьяна; от предыдущей прошло 20 лет), даже в частной переписке (Юлиан Оксман писал Вениамину Каверину в марте 1956-го: «...кляча истории снова поскакала вскачь!»; тоже Маяковский, «Левый марш»). Энергия и вера, к сожалению, утопическая 1920-го, 1931-го, 1945-го «подзаряжали» на новом витке спирали новую веру в будущее.
Сильный импульс ускорению ритма истории дал открывшийся 14 февраля XX съезд КПСС. Дух перемен ощущался в попытках возврата к демократическим нормам, в не до конца последовательном, но осуждении культа Сталина. С Колымы и Воркуты возвращались те, кто дождался; из знакомых Москвина — Алексей Каплер, Фридрих Криммер, Наум Шифрин. Очень он был рад и за Козинцевых — вернулась Ольга Ивановна. Дух перемен проявился в освоении целины,
в массовом строительстве жилья. В кино его красноречиво выразила цифра 120 — столько фильмов планировалось по директивам съезда на 1960 год. Уже в 1956-м их было почти сто. К камерам встали молодые режиссеры и операторы, они несли с собой новую киноэстетику. В ноябре Иосиф Хейфиц написал: «Свершилось как бы новое рождение советского киноискусства».
Кино менялось и технически, осваивая «широкий экран». Москвин внимательно следил за работами, начатыми на «Ленфильме» при активном участии Раковского, возглавившего исследовательскую Лабораторию широкого экрана, и чем мог, помогал и ему, и оператору Александру Ксенофонтову, который снимал экспериментальную короткометражку «Пять дней»; премьера ее состоялась 3 марта — в честь XX съезда срочно переоборудовали кинотеатр «Великан». Вплотную широкоэкранной техникой для предстоящего «Дон Кихота» Москвин занялся еще в конце 1955 года, а 14 февраля 1956-го — в свое пятидесятипятилетие и в день открытия XX съезда — снимал техническую пробу, проверял камеру и оптику. 16-го сняли на широкий экран первую актерскую пробу — крупный план Черкасова, а 15 марта со сцены в чулане постоялого двора начали съемки. Работали в хорошем темпе, торопясь до середины апреля отснять «Постоялый двор» и уехать в Крым. Но в начале апреля Москвин снова почувствовал сердце. Сначала не подавал вида, но вскоре слег. Оказалось — второй инфаркт.
«Козинцев в отчаянии», — записал в дневнике Евгений Шварц, но отменить экспедицию было уже нельзя. Выбрать оператора теперь попросили Москвина. Из числа свободных он назвал Аполлинария Дудко, детально обсудил с ним все, дал точную инструкцию, в какое время дня и в каком направлении снимать каждый кадр (вместе с Ене-ем он рассчитал положение относительно солнца основной декорации — «Деревня Дон Кихота»; место для нее они выбрали в Коктебеле еще летом 1955 года).
Москвин лежал, к нему заходили Шварц, Фомин, Александров, другие друзья, знакомые, ученики. Попросил Александрова (как ректор Университета он занимался восстановлением зарубежных связей) заказать для него вышедшую в США книгу «Принципы цветной фотографии», о том же просил в письме и Перу Аташеву. Обязательно бывали у него приезжавшие по делам работники группы «Дон Кихота». Администратор Вера Брейдис рассказала: «Он интересовался всей жизнью экспедиции; все знал... И что меня поразило? Некрашеный пол, возле дивана некрашеная табуретка, нагромождено всякого железа, деталей и т.п. (замечу: тут же была и старинная, даже антикварная мебель. — Я.Б.), а на этой табуретке стоят горшочки маленькие, покрытые стеклами. Он выращивал фасоль что ли... Я как-то по-новому стала к нему относиться, поняла сущность этого человека... Хотя вместе на картинах мы потом не работали, не было случая, чтобы он не остановил меня в коридоре и не спросил, как я живу. Мы нашли общий язык, хотя и были разные люди» (сам Москвин не любил, когда его, остановив в коридоре, спрашивали о жизни, о здоровье; он отделывался постоянным: «Вскрытие покажет» — и шел дальше).
Да, этот молчаливый человек легко находил общий язык с людьми. К нему прекрасно относились все, с кем он сталкивался даже на ходу — соседи по дому, продавщицы магазина напротив, подсобные
рабочие, нанятые на одну съемку. Его любили все, кто хоть немного его знал, «он был совестью людей, любящих его» (Ия Саввина). И это при его мрачности, маске человека равнодушного, ленивого! Интерес, уважение, любовь к людям пробивались сквозь маску. Работавший с ним механик съемочной техники Леонид Шалаев заметил: «Он очень быстро и точно умел оценить человека».
Он очень многим помогал. Никогда не был членом фабкома, но всегда знал, кто туда обратился с просьбой. Встретив председателя фабкома, бурчал: «Тете Шуре надо помочь». И ей помогали, ибо авторитет его был огромен, все были уверены: Москвин зря не скажет. А просивший чаще всего не знал об участии Москвина в его деле: он всячески избегал благодарности. Чтобы помочь материально одному из осветителей, наградил его часами за хорошую работу, якобы «официально», на самом же деле — за свой счет. Если благодарности было не избежать, совсем по-детски пытался ее отодвинуть. Вячеслав Фастович после армии ходил в единственной гимнастерке. Москвин дал ему номер камеры хранения: «Там пакет для вас...» В пакете был не новый, но хороший костюм. На все это уходило немало денег... А были еще и расходы на «железки и стекляшки». В 1956-м о «стекляшках» для «Дон Кихота» он писал Владимиру Пеллю: «А осуществление немного довольно заметно опустошило мои скудные финансы. Это так — попутно. Не сочтите за скулеж».
Он был добрым советчиком, ему можно было поплакаться: с людьми замкнутыми, вроде бы и не любопытными легче отводить душу. Как и в операторском деле, он и тут умел найти неожиданные решения. Елена Кузьмина, по ее рассказу, со слезами поведала ему о своих семейных неприятностях, и Москвин предложил сжечь шаманский бубен, память об «Одной». Она спросила: «Вы верите, что он приносит мне несчастье? — Надо, чтобы Вы верили». Бубен сожгли. «Уходя Андрей сказал: "Ну, теперь все будет хорошо”. И мне стало легче на душе».
Москвин умел помочь человеку даже вопреки ему самому. Узнав, что осветитель Яша Донской, прозванный им «Дмитрием», ради киноромантики бросил школу, тут же переименовал его в «Лжедмитрия». Однажды, на съемках «Пирогова» отчитал его в присутствии Скоробогатова коротко, но язвительно. «Тот разговор, его каждодневная, не оскорбительная, но всегда осуждающая усмешка, не могли не задеть мое самолюбие», — написал Донской. В 1956 году уже инженером вернувшись на студию, он был уверен, что Москвин его не узнает: «Он прошел мимо и вдруг обернулся. И сказал всего лишь два слова: "Дмитрий... Ну-ну!” У нас не было больше никаких разговоров, но каждый раз, встречая его, я видел неизменно добродушный прищур глаз. Таким и остался в памяти мой, может быть, самый главный учитель в жизни».
Москвин для многих был если не главным учителем, то примером принципиальности, верности, умения вести себя достойно. Он ненавидел подлость. Мог, «не заметив» оператора, известного доносительством (в числе его жертв был Наум Шифрин), идти «сквозь» него, как сквозь пустое место, так что тот вынужден был отскакивать в сторону. Если человек хорошо работал, Москвин мог многое простить — болтливость, скверный характер, даже любовь приврать. Не прощал лень,
расхлябанность, разгильдяйство в работе. Мне рассказали о случае весьма жесткого, если не сказать — жестокого, его обращения с ассистентом, который должен был измерить освещенность вдоль фона большой декорации. Москвин протянул ему свой экспонометр, ассистент, взяв его, накинул шелковый шнурок за шею и, явно радуясь поручению, — Москвин мало кому доверял прибор, собственноручно им изготовленный, — побежал к фону. Очень скоро он вернулся, улыбаясь, но, вероятно, «схалтурил», измерил не все нужные точки. Не дав ему рта открыть, Москвин схватил экспонометр и дернул его так, что прочный шнурок лопнул, оставив на шее ассистента ярко-красный след. Потом неторопливой походкой пошел к фону и стал сам измерять освещенность... И тогда, и позже Москвин не сделал никакого замечания, ассистент продолжал работать с ним, но ничего подобного уже никогда не случалось.
Иначе Москвин относился к ошибкам помощников — как никто имея право быть требовательным к другим, он за ошибки не наказывал, винил себя. «Если создавалась аварийная ситуация, Андрей Николаевич включался тут же, первым... — вспоминал Шалаев. — И никогда не повысит голоса, не сделает никаких упреков виновнику аварии. Но вот если брак в работе или поломки у кого-то начинали повторяться, этот человек с Москвиным больше не работал. Никаких выговоров, нотаций, ничего. Оскорбительного от него никогда никто не слышал».
Требовательными без оскорбительности были и его редкие выступления на худсовете (хотя в те времена за каждое выступление платили, Москвин никогда не выступал ради пополнения «скудного бюджета»), Резкую критику им фильма Николая Лебедева «Первый гудок» назвали формальной, без «горячего подхода к нашей жизни» — он не списал недостатки за счет важности темы. Москвин ответил: «Требовать от каждого работника захваливания того, что выпускается студией, я бы не советовал. Я этого не делал никогда, делать не буду и, если это вас не устраивает, прошу меня уволить».
Уважая людей, он требовал того же и от других. Ленфильмовская газета в отчете о худсовете по «Дон Кихоту» много раз упомянула прекрасную работу Москвина, его вклад в освоение широкого экрана. Он тут же послал протест в редакцию — отметил помощь, оказанную ему профессором Волосовым, Шалаевым и другими, подчеркнул, что редакция забыла Дудко, «вынесшего всю тяжесть работы в экспедиции...» И дальше: «Не пора ли нам все же начать серьезно относиться к живым людям, к их работе? К их профессии, какой бы она ни была?». Сам он относился к живым людям серьезно и независимо от профессии. Перед каждым праздником доставал список, где были операторы, осветители, механики, профессора, актеры, сестры из санатория, композитор, ксендз и академик... На красивой бумаге с тиснением писал более сотни поздравлений. Живший с ним в одном доме Шалаев неизменно получал по почте: «Поздравляю мадам, дщерь и Вас». Сдержанный в проявлении чувств, Москвин умел подчеркнуть отношение к адресату: в письмах в Вильнюс появлялись в обращении литовские слова, к Дмитрию Месхиеву — грузинские; ответ на письмо Шпинеля Москвин начал так: «Спасибо большое за внимание, дорогой раби Иосиф бен Аронович. Шолом алейхем» (раби — Учитель, шолом алейхем — мир вам).
Шпинель был одним из самых близких друзей (Белла Маневич вспоминала: «Шпинель пришел к нам от Москвина и сказал: “Как хорошо мы помолчали!”») и входил в «малый круг» москвичей, которых Москвин обязательно навещал, приезжая в столицу ненадолго: Пера Ата-шева, из операторов — Юрий Екельчик, в последние годы — Сергей Урусевский. Если времени было достаточно, шел по «большому кругу». Он всячески скрывал нежное отношение к ближайшим друзьям, считая это сугубо интимным. Со стороны могло показаться, что ему ближе входивший в «большой круг» Головня, чем Екельчик. Не было у него друга ближе Енея, но он вечно ворчал на своего «Еугена» (Евгений Евгеньевич только вздыхал «Ах, Андрэ, Андрэ...») — внешне он относился к нему хуже, чем к Виницкому, на съемке он был почтительнее к Файнциммеру, чем к Козинцеву. Тут тоже маска...
Спасая внутренний мир от окружающих, маска порой осложняла отношения с ними. В апреле 1956 года с фильмом «Бессмертный гарнизон» в Ленинград приехал Эдуард Тиссэ. Хороший знакомый и его, и Москвина, оператор Александр Гальперин уговорил Тиссэ пригласить Москвина на премьеру, сделать первый шаг к восстановлению дружеских отношений, испорченных обидой Тиссэ из-за «Ивана Грозного». Тиссэ позвонил, пригласил, в ответ услышал только короткое «Не приду!», очень расстроился. Вечером пожаловался Евгению Шапиро. Тот поразился, как мог Москвин, только что слегший с инфарктом, подойти к телефону... Маска определяла стиль москвинских разговоров, его охарактеризовал Евгений Шварц в письме Козинцеву в Ялту (июль 1956 года): «Тон обычный. Не то фельдфебель, не то Вольтер». Еще из того же письма: «Москвин ходит. Решительно отказывается ехать в санаторию в Мельничные Ручьи, а ищет комнату с пансионом, которых в окрестностях Ленинграда не существует». Москвин, человек упорный, комнату нашел. И там, где искал, в родном Пушкине, в мезонине одного из последних деревянных домов на Бульварной улице (помог живший в Пушкине его друг со времен Путейского института Аркадий Павлов). Москвин думал пробыть здесь до октября — до начала павильонных съемок «Дон Кихота», но остался на зиму, перебравшись вниз. Так, летом в мезонине, зимой внизу, он в основном и прожил оставшиеся ему годы.
Всем складом характера он был обречен стать человеком, «сознавшим одиночество или придумавшим его себе» (Блок). У «сознавшего одиночество» особенно часто возникает желание побыть одному, комната в Пушкине оказалась для этого очень удобна: только два-три человека из «совсем малого круга» знали адрес. Здесь он расслаблялся, от маски не было и следа. Самая близкая ему в это время женщина, умевшая не нарушать его одиночество, находясь рядом все его свободное время, рассказала: когда они ехали на его «Москвиче» из Пушкина в Ленинград, было заметно, как где-то на полпути он уходил в себя, становился замкнутым, холодным.
Комнату в Пушкине он украсил портретом Эйзенштейна, большим, чуть не на всю стену, распятием из «Овода» и тибетскими иконками. Хозяин выделил ему грядку, и каждое лето он с удовольствием возился в огороде, в соответствии с характером сажая рядом картошку и красную гвоздику, свой любимый цветок. По воскресеньям бывали у Аркадия Павлова. Друг Москвина с детства, Александр Предо-
вский несколько ревниво говорил мне, как подружившись в Путейском с Павловым, он начал отходить от своей студенческой компании, а так как Павлов был большим снобом, то «снобизм овладел и Андреем».
Это совпадает с мнением наблюдательного, несколько язвительного в своих характеристиках Евгения Шварца — в 1953 году он написал в дневнике об «уходящем в двадцатые годы» снобизме Козинцева, Николая Акимова, а «самым крайним из них» назвал Москвина, «который покраснел, как девушка, когда за столом в присутствии семьи выяснилось, что он недавно выступал с докладом в одной из секций Академии наук и имел успех. Здесь уже и речи не может быть о скрытности в каких бы то ни было целях. Москвин бескорыстно служит великому закону замкнутости»... И еще пример из дневника Шварца: «Когда поздравил я его с тем, что Коля поступил в Университет, он ответил: “Это их дело". И только. А сам звонил, как всем это было известно, после каждого Колиного экзамена из Ялты (из экспедиции «Овода». — Я.Б.), спрашивал: “Чем дело кончилось у этого субъекта?”»...
По вечерам Москвин много читал, слушал радио. Из журналов предпочитал «Иностранную литературу», пожалуй, из-за публикаций, связанных с Востоком. Просматривал и «Искусство кино», и у него, конечно, хватило юмора не обидеться на Михаила Каплана, написавшего, что в «Оводе» он развил «живописные достижения С.Урусевского». 2-я серия «Грозного» с ее живописными достижениями лежала на полке, хотя уже в 1955 году друзья Эйзенштейна добивались ее выпуска; а «Простые люди» в августе 1956-го вышли на экран. Праздником стал для Москвина присланный в июле Аташевой только что вышедший том статей Эйзенштейна. Читая впервые опубликованные очерки о Прокофьеве и «людях одного фильма», он вспоминал счастливое время работы на «Грозном», но было в книге и другое. Во вступительной статье Ростислава Юренева сказано: «Великая сила цветного кино, с таким огромным формальным мастерством использованная Эйзенштейном, усугубила ошибочность общей концепции фильма». Так в 1956-м под одной обложкой встретились разные эпохи, вплоть до двадцатых годов — они представлены в списке не включенного составителем в сборник: Юренев посчитал статьи тех лет сплошь ошибочными.
Вынужденный отпуск из-за инфаркта дал Москвину возможность подумать. Он читал газеты, слушал по зарубежному радио не только свой любимый джаз. Он был диалектиком и знал: не бывает абстрактно хорошего или плохого времени, оно всегда переходно. Сразу после XX съезда трудно было представить впереди «волюнтаризм» и застой. Но Москвин с его сильной интуицией чувствовал «скрытую сущность вещей». В тяжелые времена конца сороковых он давал друзьям читать запрещенного, перепечатанного им самим «Дракона» Евгения Шварца (Раковский написал мне, как дав ему машинопись пьесы, Москвин сказал: «Отменная пьеса отменного драматурга»). И в 1956-м понимал, что история пойдет так, как предвидел еще в 1943-м его друг, сказочник-философ: после драконов остаются их «победители»-бургомистры. У пьесы, на первый взгляд, хороший конец, возвращается истинный победитель Ланцелот и наводит порядок... Эйзенштейн любил говорить: «В нашей жизни правда всегда торжествует, но жизни часто не хватает». Москвин хорошо знал эти слова. Позади было пятьдесят пять лет жизни и два инфаркта...
«ДОН КИХОТ»
Это чувство громадности, которую надо одолеть, — страшно, я люблю, тут есть вызов на бой!
Михаил Нестеров
О «чувстве громадности» Нестеров писал по поводу заказа на фреску длиною более десяти метров при малой высоте. Оно было и у создателей «Дон Кихота», впервые снимавших на широкий экран; в своей обычной манере Москвин окрестил его «двуспальным». Вопреки вертикальности главного героя Козинцев «хотел подчеркнуть пустоту, одиночество мудрого безумца». У «пустоты» — два полюса: «степи и холмы, выжженные солнцем, безлюдье Ламанчи» и «холодная злая пустота герцогского двора». Широкий экран будто специально для них создан, но были иные сцены: на постоялом дворе, в доме Дон Кихота. Освоение изменившегося пространства кадра привлекало Москвина, ибо требовало решения замысловатых композиционных проблем. Он делал это уже на стадии эскизов — по ним видно, что Еней, которому он помог освоить особенности и возможности нового формата, прекрасно во всем разобрался.
На первой же съемке «Постоялого двора», в первом же кадре часть его перекрыла висящая на веревке тряпка. Многие операторы одолевали «двуспальность» с трудом, было даже ехидное выражение «торшерная композиция»: в фильмах современных «дыру» в кадре часто прикрывал торшер. Тряпка на веревке в чулане, в принципе, — тот же «торшер», но она с таким композиционным равновесием вписана в кадр, так увязана по цвету с колоритом сцены, да еще так освещена, что не раздражала, не замечалась отдельно. Иной рамки, кроме как широкоэкранной, для этого кадра вроде и быть не может. То же было достигнуто и в других кадрах.
Москвин был готов к этой работе и как инженер и ученый. Он отказался от импортной оптики: профессору Волосову удалось найти решения, устраняющие некоторые недостатки первых образцов отечественной оптики, но, по его словам, «нужен был оператор, который "уверовал" бы» в нее. Москвин уверовал, да еще и улучшил. «Кое-что удалось, — писал он Пеллю. — Во всяком случае, избавился сегодня от анаморфотных искажений на любых дистанциях, а попутно довольно заметно улучшил резкость изображения на экране как по полю, так и по передаче пространства, перейдя с круглых диафрагм на диафрагмы “Кошкин глаз”». Поясню: Москвин предложил поставить в объективы эллиптические диафрагмы; это было серьезным достижением, и его пригласили сделать доклад на собрании Комиссии по научной фотографии Академии наук СССР. Определил он и допустимые пределы искажений; это помогло рассчитать исправляющие изображение дополнительные линзы. «По выполненным нами расчетам, — вспоминал Волосов, — Андрей Николаевич заказал их (как я позднее выяснил, из своих личных средств) и применил в практике съемок». То, что он до болезни успел сделать в павильоне, показало: композиционно и технически он одолел громадность широкого экрана, принял вызов на бой — и победил. Но перед ним, как и перед всем
коллективом, стояла еще одна, куда более сложная задача: одолеть громадность великого романа.
Идею постановки «Дон Кихота» предложил Сергей Васильев, тогда директор «Ленфильма»; Козинцеву она пришлась по душе. Вместе со Шварцем он взялся за сценарий. Обращение к Сервантесу должно было стать знамением «оттепели». Козинцев хотел соединить традиции народного искусства и опыт ФЭКСа с пафосом высокой гуманности. Он не вел с Москвиным бесед на эти темы, но как раз тогда исполнилось тридцать лет, как они встали рядом у камеры — все было ясно без слов. И Москвин не сомневался, что для Козинцева «Дон Кихот» не «экранизация», а шаг по пути, начатому театральным «Гамлетом». Работая с ним после долгого перерыва, Москвин был полон надежд на возврат к счастливым временам, когда в атмосфере радостного подъема всего коллектива они снимали «Шинель», «Новый Вавилон», «Юность Максима».
Козинцев любил своего «Дон Кихота», но позже, приступая к «Королю Лиру», хотел «сделать то, что не вышло в “Дон Кихоте”». Что же вышло и что не вышло? Задуманный как высокая народная комедия, фильм поднялся до ее уровня в сценах «Баратарии» (губернаторство Санчо Пансы). И сцены с герцогом, во всем противоположные, удались. Сложнее оказалось соединить комический рисунок игры с трагической темой гибели иллюзий в образе самого Дон Кихота. Шло это прежде всего от Черкасова. В ходе репетиций нужное Козинцеву стало получаться, но на съемках прорвались театральные штампы, сказалась привычка актера, игравшего многих «царей», к внешней патетичности, к «высокому штилю». Зная его эксцентрическое прошлое, надеясь, что он разыграется, Козинцев продолжал работать с ним, все смелее вводя на общие, да и на средние планы дублера — циркового комика Владимира Васильева. Черкасов же «разыгрался» только в самые последние дни, на пересъемке монолога, обращенного к Дульсинее. Он сам написал о том, что Козинцев сказал ему после этой съемки: «Когда я работал над сценарием, я себе и представлял именно такого, доброго, с удивленной улыбкой Дон Кихота». На это актер воскликнул: «Так вот теперь давайте начнем все с начала!» Начинать с начала было поздно...
Москвин видел, что у Черкасова получается далеко не все, в письме Пере Аташевой иронически назвал черкасовского Дон Кихота «Дон Белинским» (вспомнил неудачу с выбором исполнителя главной роли для самого злосчастного козинцевского фильма). Была в этом обычная для Москвина маска старого ворчуна, но и большая доля правды. Он делал все, что мог, сразу подхватил идею Козинцева подменить фигуру Черкасова — чтобы убрать неуместную высокопарность актерской пластики хотя бы на общих планах. Тут нужна была изобретательность, Москвин с удовольствием этим занимался и, с благословения Козинцева, снимал Васильева даже лицом к камере (иначе было с Дудко: если режиссер вводил Васильева на средний план, он бледнел: «Картина погибнет, обнаружится подмена»). Васильев с его худобой и клоунским умением придать движениям «графичность» бесспорно мог подменить и даже «улучшить» фигуру, но для Дон Кихота важны были лицо, глаза, выразительность взгляда. «Москвин иногда просто до нетерпимости доходил, когда не мог найти в актере то, что
«Дон Кихот». Кадр из фильма. Замок герцога. «Похороны Альтисидоры».
В центре — Гэрцогиня (Л.Вертинская) и Гэрцог (Б.Фрейндлих).
он считал нужным... — вспоминал Еней. — Работая с Николаем Константиновичем Черкасовым, он не видел глаза актера, которые были ему нужны...»
Насколько важны были для него глаза персонажа, глаза актера, — видно по многим кадрам фильма. В сцене на кухне, рассказывая о великой любви Дон Кихота к Дульсинее, Альдонса шла на камеру до крупного плана, и Москвин постарался сосредоточить внимание зрителей на больших красивых глазах юной Людмилы Касьяновой. Выразительность портрета отвечала мысли Шварца и Козинцева: за грубыми одеждами и словами таится добрая, поэтическая душа. Герцог — высокомерный, скучающий человек с пустой душой и пустыми глазами. Москвин высветил светлые глаза Бруно Фрейндлиха, они стали совсем белесыми. У Лидии Вертинской (герцогиня) глаза темнее, но тоже высвечены, их «белесоватость» заметнее в контрасте с угольно-черными глазами Тамиллы Агамировой (Альтисидо-ра). Свет на лице Вертинской — почти плоский, ее своеобразно выразительное лицо, потеряв объемность, стало странным, кукольным, то есть опять-таки обездушенным.
«Холодная злая пустота герцогского двора» выявлена и в цветовой композиции. Приглушенные тона стен, холодный по колориту гобелен (на его фоне сняты портреты герцогской четы) создают общее настроение; его мрачность в сцене первого появления Дон Кихота и Санчо Пансы перед герцогом усилена черными одеждами герцога и придворных. И рядом — коричнево-рыжие костюмы «рыцаря» и «оруженосца», ярко-красное пятно наряда карлика-шута, единственного из всей камарильи человека с живой, хотя и злой душой. Да еще в прорезях черного платья Альтисидоры видна желтая подкладка — намек на подлинную роль внешне благопристойной дамы. Цветовое решение сцены — часть общего замысла Козинцева. Для его первого цветного фильма важен был опыт Москвина и Енея, а они поддержали замысел режиссера, включая и решение Ламанчи в рыжих тонах, с полным исключением зеленого — цвета
«Дон Кихот». Кадр из фильма. Спальня. У постели больного Дон Кихота (Н Черкасов). Пример построения Москвиным многофигурной композиции на широком экране.
жизни, обновления (он появляется лишь у самого естественного героя — Санчо, облаченного в зеленый кафтан).
Работая в Крыму, Дудко стремился воплотить в кадрах согласованный с Москвиным колорит эскизов Енея. Но Козинцев писал Шварцу, друзьям (кроме Москвина, чтобы его не волновать): «Трудно снимать без Москвина...», «Худо. Сияет зеленый анилин цветного кино...». Москвин знал материал лишь по телефонным разговорам с Отделом технического контроля и по срезкам негатива, которые ему приносили, но уловил главное: голубое, «открыточное» крымское небо плохо вязалось с пейзажем выжженной солнцем Ламанчи («Мы вырубали кустарник, выжигали траву... красили поля в нужные оттенки» — вспоминал Козинцев). Москвин предложил поставить на объектив поляризационный фильтр, и натура стала выглядеть заметно лучше, а кое-что пересняли в павильоне. С технической стороной дела Дудко в конце концов справился, да во многом и с художественной: впечатляют проезды на общих планах, ярко выглядит «Баратория», тут пестрота цвета пошла на пользу. В целом же натура не имеет неповторимого москвинского «чуть-чуть», придававшего поэтичность даже проходным кадрам. Но вряд ли кто из ленинградских операторов снял бы лучше («Ленфильм» еще до войны лишился Михайлова, Мартова, подававшего большие надежды Филатова; в войну — Беляева; после войны ушли на другие студии Гинцбург, Кольцатый, Рапопорт, перестал снимать Горданов).
В октябре 1956-го возобновились съемки на студии, Москвин снова появился в павильоне. После короткого разгона — сцен в спальне Дон Кихота — приступили к сложному объекту «Покои герцога». Побывав на съемках, Евгений Шварц записал 26 октября в дневнике: «И горят рефлекторы. И дым валит из какого-то цилиндрического прибора, тоже извергающего световой столб прямо и бесповоротно в лицо актеру. И едет по рельсам аппарат, на котором, припав глазами к окошечку, стоит на четвереньках свирепый и определенный Москвин». Простим неискушенному в технике Шварцу «реф
лектор» вместо «прожектора» и едущий по рельсам «аппарат» (по рельсам едет тележка со штативом и уже на нем — киноаппарат; на этой съемке нужна была низкая точка, штатив был невысокий, поэтому Москвин стоял на тележке на четвереньках). Но вот сам Москвин описан — всего двумя словами — очень точно. Именно определенность была его особой чертой, ну, а суровость, даже «свирепость» были чисто внешними.
При съемках «Покоев герцога» на первый план вышли задачи колористические. Если сцены «Постоялого двора» выдержаны в узкой красно-коричневой гамме, натура (по крайней мере, в замысле) — серо-рыжая с неярким небом, то сцены в большом зале дворца, с учетом стоящей между ними «Баратарии», имели более сложное движение цвета. В козинцевском замысле «похорон» Альтисидо-ры возникла перекличка (может быть, и полемика) с «Иваном Грозным», ибо и тут был розыгрыш, но обратный розыгрышу Владимира в «Пире». В начале светлые одежды герцогской четы и придворных были скрыты черными балахонами. «Покойница», завершая «шутку», жестоко отчитала Дон Кихота, — и траурные балахоны сбросили. У Эйзенштейна в финале пира золотые кафтаны опричников «поглощались» черными рясами. Для Москвина было тут нечто «ностальгическое», и он даже подчеркнул перекличку фильмов, обыграв в одном кадре большие тени канделябров и процессии придворных: явная параллель движению теней опричников в соборе. Правда, это были тихие радости «для внутреннего потребления»: вторая серия «Грозного» все еще лежала на полке. Но для тех немногих, что видели ее, перекличка не вызывала сомнений.
Общими усилиями режиссера, оператора и художника был создан впечатляющий образ искусственного мира, где под черными покровами скрываются все те же пустые души. Развиты и мотивы первой сцены: теперь герцог облачен в белый с серебром костюм — «белесость», бесцветность пустоты как бы охватила его целиком. Светлые костюмы придворных — голубые, розовые, палевые — в широкоэкранном кадре занимали много места. Москвин внимательно следил за расположением массовки, создавая из одежд разных оттенков «перламутровый» спектр, объединяющий участников мистификации в единую массу, которой противостоят опять-таки коричнево-рыжая одежда Дон Кихота и красная — шута. Применив для подсветки теней изобретенные им «грязные» фильтры, Москвин сделал тени более «теплыми» и добился строго уравновешенного цветотонального решения кадра и всего эпизода. Цветовая гармония вещественного мира еще сильнее подчеркнула дисгармоничность, бездуховность мира человеческого, где правят такие «шутники». К сожалению, в варианте для обычного экрана общие планы придворных сцен выглядят много хуже. Тогда была уверенность, что обычный экран скоро исчезнет, и снимали сначала дубли широкоэкранные, тщательно отделывая актерскую игру, пластику кадра, потом, часто наспех, один-два дубля «обычных». Поэтому обычный вариант заметно слабее по актерской работе, по изображению, даже по ритму. В кадрах дворца с массовкой в этом варианте появилась театральная «кулисность», нарушился цветовой строй.
Массовку расставляли ассистенты режиссера, Москвин как бы не вмешивался. Йонас Грицюс рассказал: «Он не вмешивался, он об-
разовывал (слово было выделено интонацией. —Я.Б.). Но настолько незаметно... Мешковатой походкой шел мимо... [Йонас показал, как Москвин, идя мимо придворных дам и почти не глядя на них, бросал на ходу: “Мадам, чуть подвиньтесь”, или: “Мадам, вот сюда”]... И все! Не заглядывая в камеру... Какой видел, что видит камера, это даже представить трудно!»
Еще один рассказ Грицюса: «Со стороны могло создаться впечатление, что снимаем фильм мы с Эдуардом Розовским — вторые операторы. Москвин был словно “человек-невидимка”. Тихо, но не на цыпочках, ходил по декорации, пока Григорий Михайлович работал с актерами, жестами приказывал включить, направить, поправить то один, то другой светильник, изредка*заглядывал в видоискатель камеры. Когда режиссер, закончив репетицию, оборачивался в поисках “невидимки”. Москвин не очень мелодично, пронзительно свистел, зажигался установленный свет, камера стояла на месте; казалось, командуй “мотор” и — вперед! Конечно, я несколько утрирую: после мо-сквинского свистка еще долго и кропотливо Григорий Михайлович и Андрей Николаевич уточняли, дорабатывали, порою вообще переделывали. Я хотел только проиллюстрировать характер сотрудничества этих великих мастеров экрана».
Так дружно шла последняя завершенная совместная работа Козинцева и Москвина. «Дон Кихот» по разным причинам (одной из них была болезнь Москвина) не стал шедевром, но он подготовил всемирно признанные шедеврами шекспировские фильмы Козинцева.
Москвин был доволен результатами — и не только тем, что достиг высокого технического качества (этим «Дон Кихот» заметно выделялся среди первых широкоэкранных фильмов), но и тем, что ему удалось раскрыть секреты изобразительной поэтики широкого экрана. Во время его вынужденного болезнью простоя, пришло письмо от Иосифа Шпинеля. Он работал на фильме Григория Рошаля «Сестры» и жаловался на огорчения, доставляемые ему широким экраном. Москвин ответил: «Кое-что там... есть, но, по-моему, как раз обратное тому, что обычно представляют. По-моему, получается, если имеется движение, если имеется глубинное построение кадра, наплевав на недостающую резкость, если налицо использование первого плана и еще куча «если», боязливо обходимая моими коллегами». Как всегда у Москвина, упор сделан на вещи, казалось бы, чисто технические, да он еще и недоговаривает, однако простое сравнение с мнением «боязливых коллег» — того времени, и даже более позднего — показывает глубину и точность мысли Москвина. Снимавший «Сестёр» Леонид Косматое писал в 1958 году о недостающей высоте кадра, об ограничениях глубины мизансцены и видел выход в отказе от анаморфотной системы и переходе к широкоформатному кино. Москвин же всегда считал, что как раз в процессе преодоления ограничений, в работе на грани риска («наплевав на недостающую резкость») оператор, вообще художник, может найти новые выразительные средства для раскрытия своего замысла. Новые выразительные средства он извлек и из изменившегося пространства кадра.
УЧИТЕЛЬ
...лучший способ передачи опыта — ненавяэывание его.
Давид Самойлов
Молодой оператор Виталий Ананьев снял на телевидении короткометражку и попросил Москвина ее посмотреть: «На пожелание услышать что-либо о работе Андрей Николаевич ответил очень просто, всего две фразы: “Каждый сам себе судья...", и через паузу: “Подсвечивайте глаза”, показав рукой, что он имел в виду. Хотя глаза актеров в фильме и были подсвечены, рукой он показал нечто другое, определяющее отношение к действующим лицам, к актерам, ко всем людям... С Андреем Николаевичем я разговаривал всего один раз, но с этого момента считаю его своим учителем».
Учителем его считали многие — он был учителем всех, желающих у него учиться. Не каждому это было под силу. Надо было понимать его своеобразные замечания (не все ухватывали их сразу, как Ананьев). Надо было привыкнуть к тому, что он никогда не хвалит. На «Немане» Москвин вверил Грицюсу контроль экспозиции и первые две недели загонял проверками и перепроверками; Йонас решил уйти с фильма, сказал — больше не могу. Москвин спокойно ответил: «А вы меня устраиваете». Грицюс считает: то был единственный раз, когда Москвин его похвалил, — по-своему, конечно. Верно, Москвин говорил ему только об ошибках. Но на худсовете, оценивая труд своих помощников, не забыл сказать о нем — всего лишь практиканте; после фильмов писал хорошие характеристики с просьбой перевести Гри-цюса в следующую категорию.
Замечательный педагог Генрих Нейгауз написал: «Когда человек учится на собственных ошибках и преодолевает их, он достигает несравненно большего, чем тогда, когда просто следует чьим-нибудь советам». В 1955 году опытный документалист Семен Школьников снимал свой первый игровой фильм «Яхты в море»; Москвин был консультантом. «Снял я первую декорацию, посмотрели с ним. Спрашивает: “Ну, как? — По-моему, прилично. — Значит, Сесе (прозвище дал Москвин.—Я.Б.), не будем огорчаться”. Снимаю вторую. Смотрим. Опять спрашивает: “Ну, как? — По-моему, хорошо”, — отвечаю, но вижу: вторая снята лучше первой. "Андрей Николаевич, только сравнив декорации, я вижу недостатки первой. Вы ведь их видели, почему не сказали? — В этом школа сравнения. Но и первая декорация прилично снята”». Учить на ошибках — педагогический принцип Москвина, выработанный им еще в 20-е годы.
Москвин взял ассистентом на фильм «Над Неманом рассвет» Дмитрия Месхиева (москвинское прозвище — Дэдэ) и после короткого разговора поручил ему рассчитать минимальное, но достаточное число приборов для каждой декорации. Месхиев оказался в группе, сделав это без ошибок. «По существу, Москвина художнические вопросы гораздо больше интересовали, он на них тратил больше времени, чем на технические вопросы исполнения. Это странная история...» — сказал мне Месхиев. Странным он считал, что операторов, попавших в его «академию», Москвин «натаскивал» только на технику. Но и это педагогический принцип. В рецензии на рукопись книги Романа Ильи
на (1960) Москвин отметил: у начинающих операторов «наибольшие затруднения вызывает отсутствие методологии, позволяющей связать воедино и применять на практике знания, полученные ими ранее, количественно оценить не только потребности в тех или иных средствах, но и пытаться предугадать могущие быть полученными результаты...» Он и учил их расчетам, гонял нещадно, добиваясь, чтобы расчеты делались автоматически, чтобы техника не отвлекала, не мешала раскрыться таланту. А если талант есть, он себя проявит.
Москвин внимательно следил за работой опекаемых операторов. Письмо в экспедицию Месхиеву: «1. Общая экспозиция почти правильная. Я бы несколько прикрылся <...> 2. Что касается морд, то, по всей видимости, при выбранной Вами манере освещения следует ожидать значительных искажений в позитиве за счет недоэкспонирования и за счет избытка синего от неба <...>» Всего 6 пунктов, все технические. Письмо Семену Иванову: «Настоятельно рекомендую употребление слабого желтого фильтра... Дым в основном идет в меру. Хуже, когда в соседних кусках его нет». Так в каждом письме: все о технике, ни слова о композиции кадра или выразительности света. Конечно, и художественные вопросы волновали Москвина, но тоже по-своему: в рецензии на рукопись другой книги Ильина Москвин, упрекнув автора в слабом отражении «задачи получения художественного произведения», подчеркнул: «Существенен собственный взгляд, собственное видение материала, наличие его отбора...» Право молодого художника на собственный взгляд — третий педагогический принцип Москвина.
На худсовете по материалу фильма «Раздумья» (январь 1961 года), Москвин критически отнесся к попыткам Олега Куховаренко «блеснуть» свободной камерой, которая «стала прямо-таки модной в последние полтора года», и счел нужным оговориться: «Несмотря на то, что мы продолжаем спорить с Куховаренко, работа его правомерна, если, конечно, Олег примет соответствующие меры. Выбор приемов несколько ограничен возможностями кинематографа, в одной картине всего не объять, поэтому приходится выбирать. Еще раз подчеркиваю — у Куховаренко должно быть чувство меры». Слова весьма примечательны: во-первых, Москвин признает правомерным прием, ему самому не близкий; во-вторых, призывает к чувству меры; в-третьих, на равных спорит с оператором, снимающим второй фильм. Добавлю лишь: Москвин признавал любые стилевые решения, но вовсе не был ко всем одинаково безразличен; он считал полнее всего отвечающим сущности кино тот операторский стиль, который выработал сам. Но не пропагандировал его на собраниях или в печати, фильмами доказывал его органичность. И не навязывал свой художественный опыт — еще один педагогический принцип, отвечающий и этической стороне его учительства.
Он уважал ассистентов и тогда, когда «гонял» Грицюса или заставлял Месхиева делать иногда и ненужные расчеты. А уж начинающий первую работу вчерашний ассистент для Москвина — равноправный коллега. Принцип «учить на ошибках» оставался, но он делал это, не подрывая авторитета молодого оператора у его помощников и группы. На фильме «Мистер Икс» Москвин был художественным руководителем Владимира Бурыкина, но, по его рассказу, «почти не появлялся на площадке. Зайдет в павильон иногда, отзовет в сторону, скажет два
Осень 1959 года. Москвин не любил, когда его фотографировали, и ассистент оператора В. Чумак снимал его исподтишка. Эта фотография в автомашине — из числа самых удачных.
слова и уйдет. И всегда так, что никто не слышал, а другой раз никто и не замечал, что он говорит что-то... Однажды Андрей Николаевич входит, посвистывает, проходя мимо буркнул: «Передок» и, не глядя на меня, уходит. Я сообразил: нужно поправить передний свет». Неизменный такт Москвина отмечали все; вот еще один рассказ Семена Школьникова: «Когда он не появился на первой съемке, я был удивлен. И, грешным делом, даже подумал, что ему деньги платят за консультацию, а его нет. И только когда режиссер мне сказал: “Так ведь Андрей Николаевич у вас за спиной полчаса стоял, что же вы не обернулись?’’, я понял, что если бы знал, что он в павильоне, я бы ничего не смог, потерял бы уверенность в себе».
Москвин был проницательным психологом, он чувствовал и учитывал характер молодого оператора. Обидчивому, не очень признававшему авторитеты Месхиеву писал в форме отвлеченной: «Я бы несколько прикрылся...» Спокойному, охотно прислушивающемуся к советам Семену Иванову: «Настоятельно рекомендую...» Так же категорично писал Владимиру Чумаку: «Снимайте инструментально» (с точным контролем экспозиции по прибору), «Выкиньте дерьмо из объектива» (смягчающую насадку). Принцип указывать на ошибки касался и дебютанта Чумака, но Москвин знал настороженное отношение к нему в группе и первое, ободряющее письмо послал с ассистентом «случайно» незапечатанным: отношение к оператору сразу изменилось. Следующее письмо он со всех сторон прошил скрепками.
Москвин всячески помогал подопечным выйти на самостоятельный путь. Не всегда это было просто. У Вячеслава Фастовича не было диплома ВГИКа (он вырос на студии — от осветителя до второго оператора), лишь под настойчивым нажимом Москвина ему дали снимать «Чужую родню». Иначе было с Чумаком, имеющим диплом с отличием. По складу характера он не умел подчиняться, на первом же фильме, где был ассистентом, поссорился с оператором. Москвин — неожиданно для всех и для самого Чумака — взял его ассистентом на «Даму с собачкой» уже в конце съемок. Не могло быть и речи, чтоб он сразу получил фильм, но Москвин добился: в приказе о запуске «Братьев Комаровых» указали: «операторы А.Москвин и В.Чумак»; с самого начала Чумак снимал самостоятельно; Москвин даже не указан в титрах.
В последние годы к двоим из своих подопечных Москвин относился с особой любовью — к Дмитрию Месхиеву и Йонасу Грицюсу. Темпераментного южанина и сдержанного северянина объединяло то, что оба были талантливы. Но и по-человечески они привлекали Москвина. Дэдэ — страстный охотник, вообще человек страстный, решительный, независимый. В нем было сильно мужское начало, Москвин это высоко ценил (на обсуждении «Возвращения Василия Бортникова» в марте 1953 г. он произнес неслучайные слова: в работе Пудовкина и Урусевского видны ум и сердце и, «простите меня за довольно нескромное сравнение, явно видны признаки мужского достоинства, то есть та страсть, без которой никакого художественного произведения быть не может»). Иначе с Грицюсом. Точно заметила Белла Маневич: «К Йонасу Москвин относился как к любимому младшему брату. Он был такой тоненький, маленький бемби, это было очень трогательно».. Наблюдение относится к временам «Овода», с годами и Гри-цюс обрел солидность, а трогательное отношение к нему осталось. Взявшись на «Мосфильме» за «Рассказы о Ленине» Сергея Юткевича, Москвин поставил условием, что снимать будет «на равных» с Фа-стовичем, а вторым оператором будет Грицюс.
ДИАЛЕКТИКА УРОКА
Острота восприятия — вещь неоценимая. Острота приема — увы, ценность преходящая.
Иван Аксенов
Юткевич пригласил Москвина, так как был занят обычно снимавший с ним Евгений Андриканис (Москвин высоко оценил его работу с цветом в фильме «Великий воин Албании Скан-дербег»). Юткевич прошел ту же школу левого, авангардного искусства, что и Козинцев, почти десять лет проработал на «Ленфильме», стал одним из ведущих режиссеров «ленинградской школы» тридцатых годов. Москвин его хорошо знал — и понимал, что по художественным принципам, да и по-человечески, они совсем не близки. Однако принял приглашение, надеясь, что какие-то точки соприкосновения все-таки найдутся. Да и другой работы у него просто не было: «Дон Кихот» сдали в марте 1957 года; Козинцев писал сценарий «Гам
лета» и работал над книгой о Шекспире. Съемки начали в конце июня и вскоре выехали на полтора месяца в Ленинград и Сестрорецк на натуру первой новеллы (в сценарии их было три). Фастович с параллельной группой снимал в городе сцены без Ленина.
Главную роль играл Максим Штраух, он знал, что мало похож на Ленина и к работе операторов был особенно придирчив. В июле он писал Юткевичу: «Операторы тоже великолепнейшие и наисимпатичнейшие. Но им надо запомнить некоторые особенности моей головы... дуют бликами по черепу, как хотят. Кошмар! Москвин—душка и чародей, но черт его знает, на каком воляпюке с ним объясняться». На солнечной натуре Москвин и должен был «дуть бликами», чтобы скомпенсировать сильный прямой свет (раньше Штраух снимался в основном в павильонах, там сходство достигалось иными приемами). И «дул бликами» Москвин не зря — портреты Ленина в Сестрорецке и Разливе очень выразительны.
В письме Штрауха поднята еще одну тема: «...умоляю сделать сцену “Ленин думав/. Проходы на фоне грозовых туч. Ленин и природа!». «Душка и чародей» сделал и это. Общие планы на фоне леса, на берегу озера точно отвечали мысли Штрауха, особенно сильный кадр в конце сцен в Разливе — осенний, с темной фигурой Ленина на фоне серой поверхности озера и неба с облаками.
Потом Штраух написал Юткевичу: «Ленин и природа. Получилось!! Слава богу!». Но получалось не все. Москвину резко не нравился сценарий второй новеллы, разногласия с режиссером сразу сказались. Он говорил помощникам: «Господин режиссер желают... Будем выполнять», — и выполнял без подъема, без «чуть-чуть». Беря слово «прием» не в значении «художественный прием», можно сказать, что ситуация осложнялась «остротой приема» Москвина мосфильмовскими операторами. Не всеми, разумеется, но многими, в частности теми, с кем Юткевич вел раньше переговоры о работе на сулящем блага «особо ответственном» фильме. Они болезненно приняли второе явление Москвина на студию, тем более, что в первый раз, на «Иване Грозном» Эйзенштейн не дал его «съесть», а блестящая операторская работа, особенно вторая серия с цветным эпизодом, показала, что Эйзенштейн был прав. Теперь выпуск на экран второй серии стал возможным — правда, произошло это лишь через год, — и «операторская общественность» боялась нового успеха «варяга» (отмечу попутно, что в самом факте приглашения Москвина проявились особенности характера и судьбы Сергея Юткевича, который всю жизнь тянулся за Эйзенштейном и Козинцевым, но всегда хоть на полшага от них отставал. Характерно, что и последовавшая замена Москвина Андриканисом как бы пародировала драматический и смелый поступок Эйзенштейна, сменившего Тиссэ на Москвина).
Особенно обрадовались «коллеги», увидев первую техническую пробу, снятую в Горках для третьей, цветной, новеллы. В день съемки был яркий солнечный свет, окна большие, приборов, привезенных для подсветки интерьера, оказалось мало. Фастович предложил отменить съемку, но Москвин любил испытать пленку на пределе и пробу снял, разумно считая, что на выезд в Горки потрачены деньги и время, а необходимые поправки он сможет сделать, посмотрев неудачный негатив. На «Ленфильме» никто бы и внимания не обратил
на подобный «брак». А операторы «Мосфильма» уцепились за «неудачу», дабы посрамить «варяга»: он-де ничего не видит, передоверил все Фастовичу... Москвин, и правда, у камеры не сидел, но прекрасно видел все.
Дело было вовсе не в зрении Москвина, а в перемене стиля, идущей от Юткевича. С начала работы он держался направления, о котором уже после размолвки с Москвиным, писал Штрауху: «...в наших кусках нет никакой внешне броской формы, заостренных ракурсов и вообще всех тех режиссерских “излишеств”, в которых меня так часто упрекали... Ленинская тема диктует совсем другой строй выразительных средств, гораздо более строгих, лаконичных, лишенных всякой “барочности”...» Москвина такой подход устраивал, он тоже считал: фильму необходима и достаточна строгая и лаконичная форма, — так и снимал. Но для надуманной второй новеллы это стало разоблачительным, и Юткевич начал искать «остроту приема», чтобы как-то спасти положение.
Майя Туровская и Юрий Ханютин написали о Юткевиче: «Его искусство — всегда лаборатория. Оно, как стрелка компаса, повернуто в сторону нового. Не будем говорить модного — скажем современного». По рассказу Грицюса, подтвержденному Фастовичем, был прямой толчок к резкому повороту: утром смотрели не очень удачный материал второй новеллы, днем был худсовет по фильму «Летят журавли» и разговор Юткевича и Москвина с глазу на глаз, потом Москвин сказал: «Уезжаем домой. У вас есть дела в Москве? — Нет. — Уезжаем сегодня». Это было 29 августа 1957 года.
Из снятого Москвиным в фильме остались сцены в Сестрорецке и на Разливе. Вторую новеллу выбросили, Андриканис снял третью и переснял почти все павильоны первой. Строго, без «барочности» поданы им сцены в Горках, в других поворот режиссера к новому сказался, а у оператора не везде хватило чувства меры. Павильоны первой новеллы — скажем, квартиру, где скрывался Ленин,—для большей экспрессивности он снял короткофокусным объективом, и комнаты стали огромными; кабинет Половцева из-за низкой точки съемки при коротком фокусе оказался преувеличенно высоким и узким. В эпизоде митинга на заводе (цветная новелла) оратор-оппозиционер с вытянутыми к камере руками превратился в карикатуру. «Барочность» подобных кадров — прямая дань... не буду говорить современному, скажу модному стилю.
Сдавая фильм худсовету, Юткевич говорил: «...наше содружество с Андриканисом показало правомерность, а с Москвиным, прекрасным оператором, нам трудно было найти общий язык». Слова «общий язык» могут означать здесь и общий «художественный язык», и необходимое для коллективной работы взаимопонимание: несмотря на жаркие иногда споры, оно было у Москвина с Козинцевым и Траубергом, а с Эйзенштейном — в такой мере, что и до споров дело не доходило. Но если отсутствие взаимопонимания при общении может и не стать препятствием для работы (скажем, с Хейфицем у Москвина полного взаимопонимания не было, но «Даму с собачкой» они сняли), то серьезные расхождения в «киноязыке» безусловно оказываются камнем преткновения. Для Москвина особенно нетерпимыми были «повороты» Юткевича, связанные с желани
ем не отстать от всего нового. Конечно, было бы преувеличением сказать, что просмотр «Журавлей» вдруг заставил Юткевича отказаться от такого оператора, как Москвин, — в памяти Грицюса закрепился лишь внешний ход событий, наверняка это решение вызревало, — но вполне понятно, что фильм Михаила Калатозова и Сергея Урусевского мог стать толчком к последнему шагу.
Фильм «Летят журавли» вышел на экран в октябре 1957 года. Современность его была прежде всего в содержании, что не все и не сразу поняли. Сила фильма о судьбах людей, через жизнь которых прошла война, поставив их перед нравственным выбором, состояла в том, что в ситуации выбора, осознания своего отношения к героям оказывались и зрители. Немаловажным для этого было органичное включение персонажей в среду, в народный фон, и, вдохновившись режиссерским замыслом Калатозова — в прошлом превосходного оператора-романтика, Урусевский добился успеха, виртуозно использовав сверхкороткофокусную оптику и съемку с рук. Все это в значительной мере шло от 1920-х годов — и «субъективная камера» («Шинель», «Последний человек»), и сверхкороткофокусная по меркам того времени оптика («Стачка», другие фильмы Эдуарда Тиссэ). А объектив 18 мм Урусевский получил как эстафету от Юрия Екельчика на съемках калатозовского «Первого эшелона» (от Москвина, лежавшего с инфарктом, скрывали, что Екельчик тяжело заболел, но как рассказала Кошеверова, Москвин почувствовал смерть друга).
Сила Урусевского была не в объективе 18 мм и не в съемке с рук. Он никогда не стеснялся учиться. Его первый фильм «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» отмечен явным влиянием немых фильмов факсов, в зрелом творчестве учеба у Москвина (и не только у него) видна в «субъективной камере», в приемах освещения, в цветовых решениях «Возвращения Василия Бортникова». Сила Урусевского была в том, что, как и Москвин, он умел сделать чужой опыт своим, пережитым, соединить его с собственными находками. Сила Урусевского была в виртуозном мастерстве, в романтическом пафосе, в бьющей через край страсти. А особая удача именно этой его работы — в полном слиянии его творческой страсти с замыслом режиссера (в истории кино не так уж много примеров столь глубокого самораскрытия оператора в полном согласии с режиссером: «Иван Грозный», «Новый Вавилон», «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса и Грегга Толанда, «Рио Эскондидо» Эмилио Фернандеса и Габриеля Фигероа, «Земля дрожит» Лукино Висконти и Г. Р. Альдо, «Страсти Жанны дАрк» Карла Теодора Дрейера и Рудольфа Матэ...). Именно эта слиянность дала в лучших сценах «Журавлей», особенно в сцене проводов на фронт, потрясающую картину народной жизни, подняла камерную историю до эпопеи.
Романтизмом проникнуто и «Неотправленное письмо». «Летят журавли» ошеломили остротой приемов, местами доходящей до избыточности, здесь же блестящая, но уже не столь неожиданная форма была к месту в поэтически приподнятых сценах борьбы людей с природой, а в сценах бытовых «выдавала» себя. Однако фильм был более цельным. Москвин с интересом следил за работой Урусевского. Интерес был взаимным: как сказал художник Давид Виницкий, дру
живший с Урусевским, «...для него Москвин — один из немногих, на ком держится кинематограф». Познакомил их Пудовкин, и Москвин довольно скоро ввел Урусевского в «малый круг». С Калатозовым он дружил уже давно; после ленинградской премьеры «Неотправленного письма» Калатозов и Урусевский из Дома кино поехали к Москвину, хотя друзей у обоих было здесь много.
По точному замечанию Лидии Гинзбург, интерес к новаторству, как таковому, особенно силен в «моменты культурного разброда». Это прямо относится к операторскому искусству второй половины пятидесятых. Стиль изобразительного «монументализма» был скомпрометирован, но в числе его создателей Косматое, Волчек, Магидсон— учителя операторов, начавших снимать в 1954-1955 годах. В первых фильмах, отмеченных новым отношением к человеку, были поиски в драматургии, в актерской игре, а изобразительное решение часто тяготело к старому. В обстановке «культурного разброда» яркий стиль Урусевского сразу стал модным у молодежи: позаимствовав приемы, начали «бегать» с ручной камерой, забывая о чувстве меры, о чем и говорил Москвин в споре с Олегом Кухо-варенко. Но так же, как культурная ситуация не исчерпывалась разбродом, значение «Журавлей» не исчерпывалось «беготней», и Козинцев, правда позже, в 1964 году, дал краткую формулу: «Диалектика урока у “Летят журавли”».
Диалектика урока помогла, очень скоро, уже в конце пятидесятых, советское операторское искусство вышло на новый уровень, вобрав в себя и пафос достоверности, и опыт «Журавлей», а через него и романтического кино двадцатых годов, и опыт «польской школы», немало взявшей у Москвина, и опыт итальянского неореализма. Это не значит, что выработался единый стиль, наоборот, разнообразие «почерков» было велико, но выработалось вполне определенное представление о современной стилистике. Типична для нее «Судьба человека», где Владимиру Монахову удалось органично сплавить пробеги с ручной камерой, экспрессивные кадры концлагеря и мягкую тональность обрамляющих сцен при опоре на актера. И когда рядом с такими фильмами появилась в начале 1960 года москвин-ская «Дама с собачкой» — с отточенной композицией кадров, выразительным, часто условным светом и совсем без съемок ручной камерой, — она могла показаться примером ретроградства.
Кое-кто из операторов и воспринял фильм чуть ли не как «музейный». Уважение к Москвину было велико, и об этом не писали, не говорили открыто, пока он был жив. Но уже в 1962 году молодой оператор Петр Катаев заявил: «В фильмах Москвина кадр академически точно выполнен по композиции и световому решению... академическая живописность бывает приятна сама по себе, но она не всегда способствует художественному качеству кинокартины в целом». Катаев, таким образом, зачислил Москвина в академисты. По его логике, Москвин не сумел дать чеховскому сюжету современную, острую форму. Что же было на самом деле?
«ДАМА С СОБАЧКОЙ»
Страдания выражать надо так, как они выражаются в жизни, то есть не ногами и не руками, а тоном, взглядом; не жестикуляцией, а грацией
Антон Чехов
Из моей беседы с Иосифом Хейфицем: «Почему вы работали с Москвиным? До этого два ваших фильма снимали Магид и Сокольский... — Мне показалось, что они с Чеховым не справятся... в силу их, ну, скажем, “палитры”. Я подумал, что ближе всего к Чехову это сделает Москвин. Посоветовался с Григорием Михайловичем (Козинцевым.—Я.Б.), он тоже сказал — конечно, Москвин. — А как Москвин принял ваше предложение? — Его реакция была мгновенной. Я сказал: “Не возьметесь ли вы, Андрей Николаевич, снимать «Даму с собачкой»?. И он сразу же: “Возьмусь”».
Из рецензии Михаила Кузнецова: «...первое, что хочется отметить, это работа операторов А.Москвина и Д.Месхиева. Ибо их Ялта, вся в полутонах, без южных красот, равно как и очень сдержанная свето
пись фильма в целом — во всем этом видишь не только отличное операторское мастерство, а стремление снять фильм именно по-чеховски» (сразу же скажу, что Москвин пригласил Дмитрия Месхиева снимать «на равных», но Месхиев не считал фильм своим — главную задачу он видел в практической помощи Москвину при воплощении его операторского замысла; Москвин же повсюду подчеркивал роль Месхиева, называя его «равноправным и полноправным»), Из интервью Ингмара Бергмана: «Каждый целеустремленный фильм для меня бесконечно важнее тех фильмов, которые ничего не могут, ничего не хотят и ничего не означают. Какую ценность, в самом деле, могут они иметь с их формальной изощренностью и их тематической пустотой в сравнении с “Дамой с собачкой”, которая, хотя и использует условные средства,
Март 1959 года. «Дама с собачкой». Съемки чеховской Москвы в Ленинграде на улице братьев Васильевых (теперь — Малая Посадская). Москвин, которому до всего было дело, прогуливает лошадей, только что тащивших тяжелую конку.
является глубоко оригинальным и благородным произведением?» Итак, Москвин без колебаний взялся за фильм по Чехову, а его вклад в создание оригинального и благородного кинопроиэведения столь велик, что операторская работа оказалась первым, что захотел отметить внимательный рецензент...
Конечно, Москвин не был бы Москвиным, если бы его вклад в фильм ограничивался узкоспециальной, операторской сферой. Ему до всего было дело: он обязательно приходил в павильон, когда «офактуривалась» декорация, и, бывало, отбирал у маляра инструмент, показывал, как получить нужную фактуру; кучер не распряг сразу после съемки лошадей — он делал это сам; заметив, что актеры устали, вдруг давал команду: «Осведве!» — это означало, что он отпускает осветителей на две минуты покурить; съемка останавливалась, актеры получали передышку. Вроде бы мелочи, но они многое определяют в общем результате. Конечно, Москвин следил не только за мелочами, он был прекрасным производственником в самом широком смысле слова. Так, он предложил отказаться от экспедиции в Москву и снимать московские улицы в Ленинграде, более того — рядом со студией (а расположена она в типично петербургской части города, застроенной в конце XIX-начале XX века). И доказал свою правоту — поддержавшие его талантливые художники Белла Маневич и Исаак Каплан слегка «подгримировали» мелкими достройками и вывесками небольшую площадь почти напротив студии, на другой стороне Кировского проспекта, и именно на ней начались 18 марта 1959 года съемки фильма, ставшего для Москвина последним...
В «Даме с собачкой» многое определено временем ее создания, но и сегодня поражает изобразительное решение большинства сцен — и своей близостью к Чехову, и тем, что ничуть не устарело. Добиваясь, как верно написал Кузнецов, «сдержанной светописи фильма в цепом», некоторые приемы «светописи» Москвин довел до предела. Месхиев отметил в связи с этим его «пристрастие к мягкой тональной раскладке» и пояснил: «Ему нравилось сделанное то-нально лицо на фоне тонально сделанной стены, то есть он создавал эту самую кинематографическую живопись, не пользуясь грубыми средствами».
Удивительная сила москвинской предельно мягкой раскладки света — в богатстве переходов, в их особенности, которую, мне кажется, можно назвать неотвратимостью (нечто похожее выразила Татьяна Щепкина-Куперник, заметив, что пение Надежды Обуховой отличалось «незаметными и как бы неизбежными переходами»). И это видно в первой же сцене фильма, в первом общем плане набережной. Леонид Козлов написал о нем: «Что может быть элементарнее кадра прохода Анны Сергеевны со шпицем вдоль балюстрады набережной? Ведь такое было миллион раз! Но откуда эта магия, почему этот кадр, оказывается, сидит в памяти так, как если бы его, между делом, снял сам Антон Павлович Чехов!?!» Можно объяснить магию кадра узкой тональной гаммой, в которой, тем не менее, сохранено богатство переходов, — это дало белесоватое, как бы чуть выгоревшее на солнце изображение, создающее ощущение жары, легкого томления, курортной скуки. Все так, но есть в кадре еще какое-то логически не объяснимое «чуть-чуть», и, скорее всего, это как раз «чуть-чуть»
«Дама с собачкой». Досъемки в павильоне сцены Анны Сергеевны (И. Саввина) и Гурова (А. Баталов) в Ореанде.
от того предела, за которым изображение сразу стало бы серым, невыразительным.
«Мягкая раскладка света», «сдержанная светопись», «узкая тональная гамма»... Это вроде бы отвечает представлению о мягком, «импрессионистическом» Чехове. Оно имеет некоторые основания, но совсем неполно для чеховской прозы и для «Дамы с собачкой» особенно. Москвин знал и чувствовал Че-
хова — и его тонкость, и его умение, если надо, применить «грубые средства» (вроде: «кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую»). Совсем не сложно подчеркнуть «грубость» — ввести повышенный контраст, глубокие тени, заметные ракурсы, активное движение камеры, сделав это с предельно возможной формальной изощренностью. А Москвин пошел по пути «сдержанной светописи». Надо полагать, он помнил слова Чехова: «Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать». Изощренность могла работать на фабулу, делать ее более захватывающей, но сюжетом «Дамы с собачкой» была драма души. И раскрыть ее позволяло тональное решение с помощью оттенков, «малых величин».
Среди кадров, в которых с особой силой проявилось виртуозное владение Москвиным силой «малых величин» — крупные планы Анны Сергеевны в ночной сцене в Ореанде. Удивительная световая лепка лица актрисы не соответствует здесь эффекту лунного света, но это абсолютно не замечается — настолько необходима она для проникновения в тончайшие подробности душевной жизни героини. Тут стоит отметить, что отказ Москвина от «грубых средств» диктовался не только безошибочным ощущением стиля, отвечающего чеховскому сюжету, но и совершенным чувством кино, предостерегавшим от буквальной «экранизации» любых чисто литературных подробностей. Лев Толстой сказал о Чехове: «У него каждая подробность или прекрасна, или нужна». Эти слова можно прямо отнести и к кинематографическим «подробностям» Москвина, вспомнив очень чеховские кадры первого прохода Анны Сергеевны по набережной, кадры в дилижансе (притом, что у Чехова этой сцены нет), и многие другие. Но, пожалуй, именно сцену в Ореанде по изобразительному решению можно было бы считать идеально сообразной Чехову, если бы само понятие идеала не означало недостижимого предела. В этой сцене замечательна не только работа над психологическими портретами, совершенно отвечающая сдержанности чеховского письма, но и редкостное совпадение пластической композиции с образным смыслом прямого лирического высказывания автора. Осо
бое значение имеет первый кадр, подобно камертону задающий тональность всей сцены.
...Анна Сергеевна и Гуров сидят на скамье спиной к нам, камера взяла их немного сверху, и видны внизу, под обрывом, море и вдающаяся в него каменная гряда. Красота, внутренняя гармония кадра конгениальны чеховскому: «Так шумело внизу, когда еще не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства». Такой же красотой и внутренней гармонией отмечены и несколько пейзажных кадров моря и скал, врезанных в диалог героев, в том числе и кадр с полюбившимися Москвину косыми лучами света, которые пробивались через темные тучи. Сочетание темных и светлых масс, светотень... Как создал Москвин именно такое, неповторимое сочетание, как замкнул его в рамку кадра, как поймал тот момент в природе, когда надо было нажать кнопку камеры? Остается лишь вспомнить слова Эжена Фромантена о Леонардо, увидевшем в светотени «способ передать тайну бытия с помощью другой тайны».
Что такое эта другая тайна — вдохновение, интуитивный прорыв к гармонии? Вероятно, да. Но надо еще уметь донести до других то, к чему прорвался, что почувствовал. Скажем, живописец должен знать технику, законы смешения красок. У оператора техника тысячекратно сложнее, как бы ни стремились инженеры и сами операторы свести работу с ней к минимуму. Москвин много сделал для этого. Как раз в начале съемок «Дамы с собачкой» журнал «Техника кино и телевидения» напечатал статью Москвина и Пелля о рациональной методике экспонометрии. Созданные Москвиным приборы позволяли, замерив свет, быстро определить, что будет на пленке; остается поправить, если нужно, диафрагму, подсветку — и снимать. Но сам же он все усложнил, снимая фильм с постоянной диафрагмой 1:3,5 и убирая излишек света серыми фильтрами. Тоже техника... А решал он задачу далеко не техническую — передать мысль Чехова о заданном природой постоянстве, в котором, быть может, заключен залог непрерывного совершенствования на пути к высшей гармонии. Эта мысль Чехова не могла не быть близка Москвину и в философском, этическом плане и даже в плане повседневного поведения (привычка Москвина к постоянству, например, к постоянному месту в просмотровом зале или студийном автобусе тоже вошла в легенды. По одной из них, работник съемочной группы сел на его место в автобусе. Подошедший чуть позже, точно к назначенному времени отъезда, Москвин, ничего не говоря, спокойно взял его «за грудки» и выкинул в дверь).
Мераб Мамардашвили дал прекрасное определение смысла творческой деятельности: «...в искусстве и в философии человек занимается в конечном счете одним и тем же: отдает себе отчет о самом себе». Для операторов — исполнителей чужого замысла — возможности такого отчета заметно усложняются, и, тем не менее, Москвин, находя приемы, адекватно доносящие мысль Чехова, его отчет о себе, воплотил и свой отчет о себе. При этом, как истинный худож
ник, он не выстраивал логическую цепь от мысли к художественной форме и от нее к техническому решению. Все шло интуитивно, а технически свелось к постоянству степени проработки фона (что и обеспечивает постоянная диафрагма), постоянству ключевого тона, постоянству выбора точки съемки.
Съемок с движения в фильме мало; не с рук, а с крана сняты и пробеги Анны Сергеевны и Гурова по лестницам и фойе театра. Хейфиц во многих удачных фильмах выработал свой стиль, уверенно им пользовался и редко следовал моде, но здесь задумал резкое движение, фантасмагорическое мелькание лиц, для чего и нужна была съемка с рук. Москвин настоял на своем, надеясь, что результат переубедит режиссера. И все-таки, беседуя со мной в 1987 году, Хейфиц назвал эти кадры «единственным операторски слабым местом фильма». Он считал, что активному движению помешала система освещения. Догматиком Москвин не был, мог светить иначе, но стоял на том, что стиль Чехова не требует чересчур резкого движения, открытой страсти, внешней изощренности. (На съемках кадра, не вошедшего в фильм — Анна Сергеевна, возвращаясь в зал, пробегала под слабо освещенной аркой почти в полной темноте — Месхиев предложил Москвину дать активный контровой свет: «Я себе представил, что в переходах лампочка где-то далеко может дать тот странный лучик, который образует некоторую закулисную загадочность. Москвин воспротивился, потому что это эффект ради контражура»).
Хейфиц, много внимания уделявший именно фабуле, считал главным в фильме столкновение любви Гурова и Анны Сергеевны с миром пошлости, что отвечало романтическим умонастроениям конца пятидесятых годов. Однако суть чеховского рассказа, от которой шел Москвин, много шире. Отсюда и конфликты с режиссером. Еще один произошел из-за портрета Анны Сергеевны сразу после грехопадения — с распущенными волосами; он вызвал дружные нападки даже благосклонных к фильму критиков. Буквальная иллюстрация нарушила стиль Чехова и его мысль, ибо исчез сложный контекст, в котором стоят в рассказе слова «точно грешница на старинной картине». На этот раз взял верх Хейфиц, и Москвин вынужден был сказать: «Господин режиссер желают...». Не к лучшим по изображению относятся и сцены, взятые из других рассказов (например, певичка в ресторане), разрывающие лаконичность и гармоническую завершенность чеховского шедевра. Но и в этих сценах сохранено общее для фильма постоянство тона, рисунка, фактуры. (Не могу не сказать здесь о том, что позже Хейфиц дал гораздо более точное и целостное, на мой взгляд, прочтение чеховский прозы в фильме «Плохой хороший человек»; он прекрасно снят Генрихом Маранджяном, одним из тех, кто был под наблюдением Москвина.)
«Скромность, покой формы — самое трудное» (Козинцев). Это и искал Москвин, создавая строгое, можно сказать, музыкальное, единство пластического стиля, добиваясь показа душевных страданий «не руками и ногами», а «тоном, взглядом... грацией». Он оберегал покой формы, часами выжидая нужную погоду для съемки дома Анны Сергеевны, точно подгоняя тональность натурных и павильонных кадров, входя в конфликт с режиссером из-за съемок с движения, избегая эффектов. Покой формы был связан и с чеховской идеей постоян
ства, и с тем, что Эйзенштейн определил как «традиция ответственной точности в русской литературе».
«Ответственная точность» — лучшая, пожалуй, характеристика изображения почти всех кадров «Дамы с собачкой». Одним из способов ее достижения стала замена дублей вариантами. Рассказ ассистента оператора Владимира Чумака: «Помню свое потрясение, когда впервые увидел руку Москвина, сбивающую поставленный свет после каждого дубля. То, что я видел, было соверешенно. Но он считал возможным искать иной вариант: все заново». На первый взгляд, это кажется чуть ли не сумасбродством, тем более, что умение снимать кадры сложных сцен всего одним дублем Москвин не раз про-демонстирировал и в немом кино, и в трилогии о Максиме, и в «Актрисе». На «Даме с собачкой» было иначе: тон, взгляд, грация, о которых писал Чехов, — «материя» не только тонкая, но и чрезвычайно переменчивая, в каждом следующем дубле они у актера чуть-чуть иные. И стало быть, требуют чуть-чуть иной раскладки света, плотности теней. Для этого Москвин и ставил свет заново. Позволю себе высказать и еще одно предположение: Москвин втайне надеялся и на то, что актер, может быть, даже случайно, выразит страдание в новом дубле не просто «чуть-чуть» иначе, а как-то по-другому и именно так, как нужно для этого кадра, для Чехова. Москвин хорошо помнил пушкинскую мысль о том, что чудные открытия готовят нам не только дух просвещенья, опыт, гений, но «и случай, бог изобретатель...»
«Ответственная точность» Москвина особенно хорошо видна при досъемках в павильоне натурных кадров, разных по свету и времени суток, — это трудная задача, одно из самых очевидных испытаний мастерства оператора. В павильоне снят и один из знаменитых кадров фильма — двойной портрет Анны Сергеевны и Гурова на скамейке в Ореанде. Москвин с точностью, которая кажется невероятной, «состыковал» световой режим, общую тональность, саму атмосферу, определяемую прикосновением к вечности, с пластикой предыдущего натурного кадра — общего плана со спины, о котором уже шла речь. Можно привести еще примеры, скажем, отличные павильонные кадры главных героев на пристани, среди тюков (натурные кадры на пристани, где нет Баталова — из-за его болезни и перенесли в павильон некоторые крымские сцены — снял Месхиев: Москвин тогда тоже заболел, но отменить связанную с пароходом съемку было нельзя. Из снятого Месхиевым выделяется превосходный медленный наезд на крупный план Анны Сергеевны; разумеется, условия съемки были детально оговорены с Москвиным).
Мне повезло: я видел, как Москвин снимал «под натуру». Маневич и Каплан построили в павильоне часть ялтинской набережной с уголком летнего ресторана. Крашенное синькой «небо» освещал добрый десяток приборов. По бесшумным сигналам Андрея Николаевича они зажигались по очереди, создавая странную пятнистость. Полосатый тент ресторана казался слишком праздничным. На экране небо стало гладким, белесо-серым, ресторан скучным. Кадр снят абсолютно в том же ключе, что и ялтинский кадр на набережной. У Москвина была формула: «Если в павильоне посадишь брюкву, не жди, что на экране вырастет банан». Но тут был банан, выросший из брюквы!..
Не заглядывая в визир камеры, Москвин указывал точку съемки, направление рельс для тележки, и когда к камере садился Месхиев, почти не делали поправок. А Москвин, у которого и глаза уже быстро уставали (хорошо помню, как, поработав со светом, он отвернулся к стене, снял очки и ненадолго прикрыл рукой глаза), который в видоискатель камеры смотрел всего один-два раза при установке света, умудрялся увидеть будущее изображение в любом объекте съемки. Опыт? Конечно. Интуиция? Разумеется. А быть может, надо просто называть это абсолютным вйдением — в точной аналогии с абсолютным слухом, которым не всегда одарены даже великие музыканты?
Поразила меня и манера поведения Москвина: странные жесты, оказавшиеся командами для осветителей, плевок на пол — на место, куда надо ставить прибор. Месхиев вспоминал: «Многим казалось, что этот плевок, растертый ногой, — “показуха" Москвина, но это просто нежелание шуметь, мешать другим. У него сама этика процесса была высоко поставлена».
Принцип «не мешать другим», постоянный в этике Москвина, прямо связан с главным — помогать. Марлен Дитрих сказала об Орсоне Уэллсе: «У него была удивительная особенность заряжать наши порядком подсевшие батареи»; то же могла сказать о Москвине Ия Саввина, игравшая сложнейшую роль, не имея актерского образования или опыта. И делал он это очень по-москвински. Саввина вспоминала, как не заладилось у нее однажды на съемке: «Уже заканчивался рабочий день, я злилась, Баталов очаровательно улыбался, я еще больше злилась. И.Е.Хейфиц огорчался, я еще больше злилась на себя, что огорчаю его; все не так, все плохо, еще секунда и зареву, а сделать ничего не могу. Москвин выключил свет и сказал: “Идемте. — Куда, Андрей Николаевич? — Идемте, говорю”. Я послушно пошла за ним. Никто не проронил ни слова, хотя оператор прекратил съемку. Молча привел меня Москвин в операторскую кабину, молча заварил чай, молча протянул мне огромную чашку, налил себе, мы сидели и десять минут молча пили чай. “Прошло?” Сцену мы сняли очень быстро». Одним этим случаем не обошлось — Москвин интуитивно, даже раньше, чем чуткий к актерам Хейфиц, улавливал перемену в состоянии актрисы. Для полноты картины представлю эту «подзарядку» и с другой точки: по рассказу Владимира Чумака, Москвин заранее отправлял в свою кабину ассистента; он ставил кипятить воду для чая и наливал в предназначенную для Саввиной чашку «необходимую и достаточную» дозу спирта; кстати, свой знаменитый чай Москвин заваривал из сложной смеси разных сортов; экзотические по тем временам сорта привозили знакомые, бывавшие за границей, в частности, по просьбе Козинцева — Илья Эренбург.
Стиль работы Москвина создавал актерам «режим наибольшего благоприятствования». Важны были даже вскользь брошенные Москвиным замечания. Прекрасный пример подсказки Москвина, правда не по «Даме с собачкой», а по «Кроткой», следующему ее фильму, привела та же Саввина: «Однажды, посмотрев материал, коротко обронил: “Злитесь, мадам. Не надо. Лучше гневайтесь”». Но еще важнее была помощь Москвина актерам, которую несло изображение. И совсем неопытная Саввина и имеющий несколько односторонний опыт Баталов (до этого он играл в основном рабочих) справились
со своими ролями благодаря не только Хейфицу, но и Москвину — он «сыграл» обе роли вместе с ними, а порой и за них. Так, первые кадры сцены в Ореанде завораживающей красотой и точной передачей чеховской атмосферы настолько «заражали» зрителя, что уже не замечалось некоторое однообразие интонации Саввиной и чуть излишняя безучастность Баталова в следующих парных портретных кадрах.
В «Даме с собачкой», как всегда у Москвина, существенна динамика портретов. Первый крупный план Гурова на натуре в Ялте — скучающий, довольный собой московский барин (мягкий свет; съемка чуть снизу), один из последних — у зеркала в номере «Славянского базара», когда «ему показалось, что он так постарел за последние годы, так подурнел» (свет в основе тот же, но контрастней; съемка чуть сверху). Особенно важны два портрета дома, у печек (очень хорошая находка Хейфица). В сцене с женой Гуров стоит, прислонившись к печке спиной и затылком, подбородок приподнялся — жест для него неестественный. Москвин усилил это светом, отличным от других портретов, — в мыслях Гуров далеко, у Анны Сергеевны, он уже иной, чем был раньше, портрет выявляет это: Гуров здесь красивее, чище. Но повернувшись на голос жены, он попадает в другой, обычный для него свет с заметными тенями на лице. Второй крупный план — в шубе, с поникшей головой, спутанными волосами, увлажненным лицом. Месхиев в беседе со мной назвал этот крупный план ключевым для Гурова, подчеркнув, что свет тут «классический в смысле схемы», но с небольшими дополнениями, сделавшими лицо «матово-объемным» с несколькими «самосветящимися бличками». Простыми средствами создан портрет человека, который понял, что впервые по-настоящему полюбил, и нет никакой надежды что-то изменить в жизни.
К портрету Анны Сергеевны подойду издалека — от костюма. Москвин был очень внимателен к ее костюмам, сам их «режиссировал». Маневич вспоминала: «Он мне сказал на ходу: “Поинтересуйтесь дес-су вашей бабушки”». Я поняла, что нужно одеть Ию с ног до головы во все, что было тогда. Все — настоящее, сшито из старых спорков. Москвин дал свою белошвейку (она шила ему рубашки), и все шилось руками...» Москвину понравилась идея Маневич надеть Анне Сергеевне черный берет. Это странно для жаркого дня на курорте, но как раз черный берет был ему нужен для ключевого портрета Анны Сергеевны. О нем он думал заранее, потому и на пробах снял Саввину не в декорации, а на фоне белой ткани, имитирующей светлое небо. На фоне неба снят и крупный план на набережной. Сначала Анна Сергеевна видна почти в затылок, потом, словно почувствовав на себе чей-то «раздевающий» взгляд, она настороженно обернулась. Тень от берета накрыла лоб и глаза, но сами глаза, чуть подсвеченные, слегка мерцали, передавая ее напряженное состояние.
Этот замечательный кадр — ключ всех ялтинских сцен, да и всего фильма. Острота восприятия, умение с помощью света, светотени, «малых величин», самим расположением лица в кадре проникнуть за внешнее, заглянуть в душу — то мастерство психологического портрета, которое Москвин показал в крупных планах Елены Кузьминой в «Новом Вавилоне» и не раз подтвердил (напомню, к примеру, портреты Натальи Ужвий в «Выборгской стороне»), не только не поблек
ло, но выросло. Самое точное определение этого портрета Анны Сергеевны — классический. И именно поэтому неосновательны разговоры об «академизме» Москвина: нельзя путать классичность с академизмом, как и с классицизмом. И нет сомнений, что по характеру своего восприятия и по типу творчества Москвин с годами все более проявлял себя как художник-классик.
Волею судеб динамический портрет Анны Сергеевны стал последним в галерее москвинских женских портретов. Во времена Леонардо считали, что жизненная сила мастера уходит в последнее произведение, и оно остается как бы надгробием своего создателя. Если бы это было так, то крупный план на набережной стал бы лучшим украшением москвинского надгробия и как одно из его вершинных достижений, и как «отчет о себе» Москвина-человека — искушенного знатока человеческих лиц и глубокого ценителя женской красоты...
Научившийся от Москвина точности в определениях Месхиев назвал этот портрет «иероглифом фильма». На вопрос, откуда такой термин, он ответил: «Этого слова я от него не слышал, оно мне потом пришло в голову. Иероглифом фильма может быть кадр. Москвин мне говорил, что предпочитает двигаться от частного к общему. Ему нужно было увидеть один кадр для себя, один крупный план и дальше уже отталкиваться от него». Ясно, что дал Москвину в «кадре-иероглифе» черный берет, — тень, контраст света на лице; светлый берет рефлексом высветлил бы тень. Но в других портретах Саввиной Москвин уже подсвечивал тени, делая их иногда совсем светлыми.
Если сравнивать крупные планы Анны Сергеевны, легко увидеть динамику образа, но особое внимание привлекут ее глаза, то, как по особому загораются, вспыхивают они в моменты кульминаций, становясь окнами в душу. Снимая крупные планы, Москвин ставил перед актрисой «собеседничка» — прибор «бэби», прикрытый плотным цветным фильтром, чтобы не подсветить лицо. На нем она фиксировала взгляд в тот момент, когда Москвин хотел, чтобы глаза «загорелись». Нужный ему блик, в разных кадрах разный, создавал другой прибор — низко стоящий «бэби», или прибор побольше, расположенный чуть в стороне, или даже мощный прибор, размещенный метрах в десяти от актрисы. Тоже техника... А вот оценка результата: «На премьере в Москве, в Доме кино Москвина не было, он болел, кажется, — рассказал Хейфиц. — Ко мне подбежал Урусевский и воскликнул — я запомнил слово в слово — “Так снять глаза Саввиной мог только один человек в мире — Москвин!”».
Владимир Чумак написал о портретах Саввиной: «Я увидел, что теневой контур Леонардо возможен, реален, создается на моих глазах». О Леонардо заговорил и Месхиев, показав мне книгу Дмитрия Мережковского — ту, что сопровождала Москвина с юности, ездила с ним в Алма-Ату! (Дэдэ сказал, что, прочтя ее, почувствовал: Москвин для него «с Леонардо не только что соприкасался, а даже как-то сливался»). После «Дамы с собачкой» Москвин «буквально запихал» Месхиеву книгу «в связи с разговорами о темном свете и светлой тени». Эти странные термины — из Мережковского, из рассказа о работе Леонардо над портретом Моны Лизы, основанного на описании «двора для портретов» в «Трактате о живописи». Дэдэ вспомнил еще о больших затенителях из белой бязи на съемках фильма «Над Нема
ном рассвет» в начале пятидесятых: в рефлексах белого света Москвин искал «светлую тень». А черный берет нужен был ему для создания на лице Анны Сергеевны «темного света». Но дело не в терминах — суть в том, что москвинская светотень раскрыла душу чеховской героини, нашедшей свою любовь и понимающей, «что самое сложное и трудное только еще начинается».
Это последние слова рассказа Чехова. И я вспоминаю финал фильма. После классически простого, очень чеховского кадра — разделенные переплетом окна Анна Сергеевна и Гуров говорят, мы их не слышим, но понимаем, что говорят они о сложном и трудном — еще один кадр с окном, в котором Анна Сергеевна уже одна. И затем кадр с ее точки зрения: Гуров внизу во дворе, длинная его тень пересекает темную полоску протоптанной в снегу тропинки. Невольно приходит на память «Шинель»: пересекающиеся длинные тени в сцене ограбления... Кадр с точки зрения Гурова: громада дома, тускло поблескивают темные окна. Светится лишь окно Анны Сергеевны наверху, и косой луч света идет от него вниз... как в соборе в «Грозном», как в одном из пейзажных кадров-врезок сцены в Ореанде. Свет гаснет... «Шинель» — «Иван Грозный» — «Дама с собачкой»... Длинная тень на снегу, гаснущий луч: последние кадры последнего фильма Москвина. Понимаю, снимал их Москвин вовсе не последними, да и не мог считать последними, собирался снимать «Гамлета» и другие фильмы. И все-таки эти кадры — последние. И сердце почему-то сжимается всякий раз, когда они проходят на экране...
«ГАМЛЕТ»
...в каждом цельном объективном произведении мир не есть грубая масса бессвязных частностей, но каждая деталь, каждое явление обусловлено великой связью, великим соответствием.
Велимир Хлебников
Перед новым, 1961-м, годом в «Кинонеделе Ленинграда» — интервью с Москвиным: «Скажу коротко: в 1960 году снял “Даму с собачкой”, много занимался с молодыми операторами.
В 1961 году буду снимать “Гамлет”». Стиль не москвинский, вряд ли он сказал «занимался», скорее «возился», но факты точны. Борьбе Козинцева за «Гамлета» помог приближающийся юбилей Шекспира. 27 сентября 1960 года худсовет студии одобрил давно готовый сценарий.
У Давида Самойлова есть строки, которые можно прямо отнести к Козинцеву: «Что за странные заботы —/Судьбы мира,/Где невзгоды Дон Кихота/Или Лира?» И правда — почему Козинцев так бился за фильм о невзгодах Гамлета, откуда эта одержимость заботой о судьбах мира, которой проникнуты его последние фильмы? Яснее всего ответил он сам: «“Гамлет” — агитка за человечность». Одним из первых в советском искусстве пятидесятых годов, Козинцев еще в 1953-м, при жизни Сталина, взялся за постановку этой трагедии на театре, подняв голос за «огромность понятия справедливости, правды, милосердия». Он гордился тем, что «главным в спектакле, как мне
этого хотелось, стал монолог о флейте». Он считал «Гамлета» трагедией совести, а к началу шестидесятых особенно остро стала осознаваться проблема ответственности каждого человека за все, что происходит в мире.
Москвин думал так же. И еще, он надеялся, что в «Гамлете» удастся довести до завершения то, что осталось недоделанным в «Иване Грозном». Шекспировская трагедия давала для этого все возможности. С незавершенным фильмом Эйзенштейна «Гамлет» связывало не только то, что Шекспир и Иван IV — современники («Гамлет» написан всего через 16 лет после смерти Грозного), и не только обвинение Сталиным эйзенштейновского Ивана в «гамлетизме». Главным был сам принцип обращения к прошлому для проникновения в проблемы современные. Эйзенштейн шел в «Грозном» за Пушкиным, который призывал взглянуть на трагедию своего времени взглядом Шекспира. «Гамлет» позволял Козинцеву и Москвину посмотреть взглядом Шекспира на свое время.
Общим в их стремлении снимать «Гамлета» кроме, «заботы о судьбах мира», было и «разрешение от скорбей», которое так и не получил Эйзенштейн. Все они — с первых же фильмов — считали главным способом противостояния злу создание пластического его образа такой силы, чтоб раскрывал он людям глаза на суть зла. У Москви-
Осень, вероятнее всего, ноябрь 1960 года. Эстония. Москвин и Еней на выборе натуры для «Гамлета». Одна из самых последних, если не самая последняя фотография Москвина. Жить ему оставалось немногим больше трех месяцев...
на были и личные счеты к правителям мира сего — Клавдиям и по-лониям, не давшим завершить «Ивана Грозного». Он чувствовал открывшееся у Козинцева второе дыхание, и мог надеяться, что они сумеют этого добиться. Он был уверен: группа будет работать с полным увлечением, и хорошо знал связь такой увлеченности с отдачей, с результатом. Он хотел снять «Гамлета», даже сказал об этом, что на него не похоже, в интервью, и уже сговорился об участии в работе Грицюса или Месхиева в зависимости от того, кто из них будет свободен.
Каким представлял Москвин изобразительный стиль фильма? Выступление его на Художественном совете студии, обсуждавшем сценарий, целиком посвящено драматургии. Обычно он говорил «товару много», а тут жалел о сокращениях («К Шекспиру приложены ножницы— разумно, толково... И вот это и вызывает досадное ощущение, так как в одном месте хотелось бы продолжения, в другом — развития...»). Смущали его две серии: «Фильм должен быть в одной серии, независимо от метража». Вопросы изображения слегка затронуты только в замечании о «переборах» — ему пришлось не по вкусу чересчур прямое истолкование одной из метафор Шекспира. Не понравились ему в сценарии и излишне явные переклички с современностью, например, «стаскивание статуи Клавдия» (ленфильмовцам это замечание было особенно понятным — прошло всего четыре с половиной года после того, как в марте 1956-го на партийном собрании студии читали «закрытое» письмо ЦК КПСС о преодолении культа личности, а в коридоре за стеной зала рабочие «стаскивали» с пьедестала большую, в рост, гипсовую статую Сталина и уронили — она разбилась вдребезги со страшным грохотом). Но и делая эти замечания, он говорил не столько о пластическом построении будущего фильма, сколько об общем режиссерском замысле. Он знал, конечно, об естественных на этой стадии «перегибах палки», но считал нужным предупредить (Козинцев и в самом деле решительно избавлялся от них в фильме). Других выступлений Москвина на эту тему нет. Зато есть еще одна москвинская легенда — Козинцев, якобы, обнаружил в лесу недалеко от Комарово очень выразительный бурелом, привез туда Москвина и Енея, сказал: «Здесь мы будем снимать!». Москвин мрачно произнес: «Здесь мы будем проявлять» — и пошел к машине...
Все же надо попытаться понять, каким представлял себе Москвин столь важный для него фильм.
На обсуждении «Гамлета» Козинцев сказал об изобразительном решении: «Замысел был довольно сложный, но хотелось, чтобы он не “пер в кадре", как говорил Андрей Николаевич Москвин, чтобы “картинка была спокойной”». Значит, уже в первых прикидках возникла тема сдержанности, покоя формы. С этим же, видимо, связан и выбор Москвиным в конце 1957 года «Дамы с собачкой», а не цветного фильма дебютирующих в игровом кино Теодора Вульфовича и Никиты Курихина «Последний дюйм», где требовалась более экспрессивная пластика. Москвину нравился сценарий, сами молодые режиссеры, с ними можно было надеяться на «цветовой фильм», и он дал согласие снимать. Предложение Хейфица сразу все изменило. «Дама с собачкой» была полезна для будущего «Гамлета» прежде всего
тем, что литературная основа позволяла дать развернутое, цельное и «спокойное» светотеневое построение в черно-белом фильме, а Козинцев и Москвин с самого начала договорились, что «Гамлет» будет черно-белым (отмечу, что Москвин не бросил дебютантов: он рекомендовал им московского оператора Самуила Рубашкина, смотрел вместе с ними текущий материал фильма. Рубашкин не подвел — он превосходно снял «Последний дюйм», был отмечен за него как лучший оператор Всесоюзного кинофестиваля, и работал потом на всех фильмах Курихина и Вульфовича).
Дмитрий Месхиев сказал мне, что «Дама с собачкой» для Москвина — проба пера, и добавил, что проба робкая, «потому что в будущем, — а “Гамлетом" он хотел заниматься всерьез, — его интересовали тональные массы. Его, например, интересовало, как облака дыма вместе с облаками небесными укладываются на сером небе — вот такие космические вещи. Это я знаю из случайных разговоров». Он вспомнил еще, что «темный свет» и «светлые тени» тоже имели отношение к замыслу (здесь нельзя не отметить, что термины эти имели для Москвина, как и для Мережковского, не только технологический, но и философский, диалектический смысл).
В творчестве Москвина, по мнению Месхиева, должен был начаться новый период: «Мне кажется, он представлял себе “Гамлета" решенным в крупных тональных массах и вовсе лишенным всяких навязчивых эффектов, первого, что приходит в голову...». Я спросил, могли быть «иероглифом» москвинского «Гамлета» космический образ клубящегося черного дыма на фоне светлых облаков и серого неба, Дима ответил: «Не знаю... Об этом можно думать, но утверждать?..» Осторожность понятна: он хорошо знал Москвина и, как человек эмоциональный, хорошо его чувствовал, и потому не сомневался, что правильно понял «случайные разговоры». Но и утверждать не хотел, ибо вряд ли Москвин ограничился бы обобщенной игрой тональных масс, хотя это не так уж далеко от многого в «Грозном», от лучших кадров «Пирогова» и, особенно, «Дамы с собачкой» от «космического» кадра с куполом холма и взбегающей на него фигуркой девушки в «Над Неманом рассвет». Месхиев был настоящим художником и понимал: заранее намеченные решения неизбежно уточняются в работе.
На «Даме с собачкой» Москвин учитывал задачи «Гамлета», хотя прежде всего решал задачи, поставленные Чеховым, связанные с раскрытием драмы души. Однако и «Гамлет», при всей монументальности, требовал «обратить глаза зрачками в душу», и кроме тональных масс нужны были, особенно для портретов, тончайшие переходы тонов. На «Даме с собачкой» проверялись технические приемы, которые могли пригодиться «Гамлету», вроде работы на постоянной диафрагме или на пределе возможностей пленки, на «тонком негативе». Было это нужно и для фильма Хейфица, но, может быть, не в таких крайних пределах. Чумак сохранил срезки; когда я посмотрел негатив крупного плана Ии Саввиной, первой мыслью было: негатив необычайно красив; второй: это же явно на грани «срыва», настолько мала оптическая плотность... (снова вспоминаются слова Арнольда о «сознательном преодолении тобой же придуманных трудностей»),
Москвину, конечно, должно было понравится противопоставление в замысле Козинцева «огромного мира, где пашут землю и рожают
детей» и «проклятого пространства, окруженного стенами». Но исходя из этого, Козинцев задумал фильм широкоэкранным. Москвин резко возражал, он был за обычный экран, а по легенде — даже за «вертикальный» (и готов был его изобрести). Похоже на парадокс: без колебаний поддержав широкий экран для «Дон Кихота» с его «вертикальным» героем, Москвин решительно отказывал в нем «Гамлету». На самом деле все логично: объективы широкоэкранного кино давали тогда неустранимые геометрические искажения, особенно заметные при съемках в помещениях с ярко выраженными вертикалями; в «Гамлете» таких кадров было куда больше, чем в «Дон Кихоте». Впрочем, с этим Москвин справился бы, важнее были резоны художественные. Их легко понять, если вернуться к «Даме с собачкой»: она сначала предполагалась широкоэкранной, и Москвин был именно за такой вариант. Вспомним кульминационные сцены «Дамы с собачкой» и «Гамлета» и отношение Москвина к ширине экрана сразу станет ясным: в чеховском фильме это парные сцены, композиционно лучше «укладывающиеся» в широкий экран, в шекспировском фильме— монологи Гамлета, для которых и впрямь хотелось бы иметь экран «вертикальный».
Было еще одно соображение, высказанное Москвиным в шутливой форме, но, как всегда у него, имеющее глубокий смысл. Саввина спросила его, каким будет «Гамлет» — цветным или черно-белым? Москвин ответил: «Если у вас плохой сценарий, снимайте цветной, широкий экран. Если средний — снимайте черно-белый, широкий экран. Если хороший — снимайте черно-белый, узкий экран. Отклонения незначительны». Сценарий «Гамлета» при всех козинцевских переборах был безусловно хорошим...
Итак, можно достаточно уверенно предположить, что в «Гамлете» Москвин хотел, сохраняя строгую, уравновешенную выразительность кадра («спокойная картинка»), прийти, говоря словами Хлебникова, — к «великой связи, великому соответствию» космоса, вечности, большого Времени, выявленных в движении крупных тональных масс, и человеческих состояний, раскрываемых в динамике светотеневых переходов. Точно организованным распределением богатства черного, серого и белого, «фототембровым умением», неотвратимостью переходов света и тени Москвин хотел создать пластический облик целостного и закономерного мира великой трагедии.
Посвятил ли он в свой операторский замысел Козинцева и Енея? Специально, прямо — вряд ли. Были разговоры и споры, случайные и не случайные. Москвин, к примеру, довольно резко возражал против козинцевского безальтернативного выбора на главную роль Иннокентия Смоктуновского; Москвина поддержал в этом замечательный художник Симон Вирсаладзе, работавший над костюмами. Козинцев-ские «перегибы» палки оставили след в первых эскизах Енея, к примеру, в «Маскараде», где экспрессия почти фантасмагорическая. Москвину это не могло понравиться, ибо требовало как раз «неспокойной картинки». Споры на раннем этапе работы естественны, всегда у них были и всегда кончались общим решением. Нашли бы его и на «Гамлете»...
1961
То был последний год...
Михаил Лозинский
В первых числах января пришла открытка: «Дорогой Андрей Николаевич! С Новым годом, с новым счастьем. Спасибо Вам за внимание и за Вашу доброту ко всем нам... Крепко жму руку. Ваш Д. Шостакович». Приятно получить привет от старого друга... Искреннюю радость доставил Москвину и юбилей Евгения Енея. Семьдесят лет ему было летом 1960-го, но летом не до юбилеев — Еней был в экспедиции. Потом долго и тщательно готовили выставку, наконец, ее открыли, 31 января в Доме кино — торжественный вечер. Во главе делегации операторов с корзиной цветов, фруктов и шампанского вышел Москвин, произнес несколько фраз. Появление его в качестве почти официального лица было непривычно, неожиданно и как-то особенно высветило его трогательную любовь к Енею.
У Москвина тоже приближался юбилей: 14 февраля исполнялось шестьдесят. Операторы решили устроить не менее торжественное чествование, но, боясь получить конфузию со стороны юбиляра, хотели заручиться его согласием. Когда Евгений Шапиро, один из самых близких ему операторов (москвинское прозвище «Эжен» — за знание французского), заговорил с ним о юбилее, он буркнул: «Ни к чему». Шапиро возразил: юбилей нужен операторам, он укрепит престиж профессии. На студии еще помнили резкую речь Козинцева на худсовете в июле 1960 года; обвинив операторов «Ленфильма» в отставании от общесоюзного уровня, он добавил: «Мне легко говорить обо всем этом, потому что я всю жизнь работал с Андреем Николаевичем Москвиным, согласен заключить с ним контракт на остаток жизни и никакого другого оператора — молодого или старого — мне не нужно». Не сомневаюсь: слушая Шапиро, Москвин думал, что престиж создается не юбилеями, а качеством работы, но сказал он иное: «Вот ежели пройдет февраль, тогда и отпразднуем».
Почему он так сказал? Из-за здоровья? Больное сердце давало себя знать, изменило быт — он уже не трудился в домашней мастерской, но как будто мало сказывалось на работе: «Такой же невозмутимой оставалась его повадка на съемках, так же быстро он взбегал на вышки», — вспоминал Козинцев. «На съемках он сердце не чувствовал, как будто ничего и нет. Прыгал через лужи...» — это слова Хейфица. Рассказ Саввиной: «Проезды дилижанса. Понесли лошади под крутой уклон. Москвин бросается первым. До озноба реально вижу это единоборство седого, помолодевшего и ставшего сильным от заботы человека с обезумевшими животными. Подоспели, помогли, остановили...»
Зимой он чувствовал себя лучше, чем весной и летом, так было и в эту зиму. Кроме работы по «Гамлету» и всегдашней опеки молодых (основное время уходило на совсем юных, только что окончивших ВГИК Николая Жилина, Виктора Карасева и Александра Чиро-ва — они снимали с Хейфицем «Горизонт» после того, как с фильма ушел главный оператор Вадим Дербенев), он много занимался техникой. 18 января вместе с начальником цеха обработки пленки Алек
сеем Валом сделал для операторов доклад о новой цветной пленке. Ее осваивали Шапиро на «Пиковой даме» и Месхиев на «Полосатом рейсе»; не без влияния Москвина они использовали разные методы освещения и печати, что дало ему обильный материал для сравнения. 23 января — породившее легенду заседание технической комиссии по фильму «Осторожно, бабушка!». Комиссия оценивала работу оператора, это влияло на размер вознаграждения за постановку. Операторы составляли в комиссии большинство и по принципу «ты мне, я тебе» всегда голосовали за «пять», при явных недостатках изобретая «объективные» причины, снижавшие качество, но не оценку. Москвин был членом комиссии, но играть в эти странные игры не хотел, на заседания ходил только по фильмам своим или своих подопечных. Так как завышенные оценки вели к снижению качества, председатель комиссии, главный инженер студии Иосиф Александер решил положить этому конец на примере фильма, снятого опытным Сергеем Ивановым не лучшим образом, и попросил Москвина прийти на заседание. По легенде Москвин, к огорчению Александера, не пришел, операторы уже предлагали поставить «пять», когда в дверь просунулась голова Москвина. Он обвел всех взглядом и исчез. Кто-то сразу сказал «четыре», все дружно за это проголосовали. На самом деле, — чему я свидетель, — Москвин пришел на заседание, сидел в углу с обычным мрачным видом и все заседание молчал. Тон обсуждению задало само его присутствие, говорили по существу, не обходя недостатков, и большинством голосов поставили «четыре»...
Ленфильмовские операторы не оставили надежды широко отметить юбилей Москвина и выступили с инициативой о присвоении ему — первым из операторов — звания Народный артист РСФСР. Дирекция и Профсоюзный комитет «Ленфильма» подготовили необходимые ходатайства руководству, и... не успели не только отправить, но даже подписать... (Думаю, стоит отметить, что первым из советских операторов, получивших звание Народного артиста республики, оказался один из любимых учеников Москвина, оператор «Гамлета» и «Короля Лира» Йонас Грицюс).
Почему Москвин все-таки хотел переждать февраль? Теперь уже ответ не найти, сказать можно лишь, что он, хоть и родился в феврале, не любил этот месяц — с ним было связано много печального. «Вот и еще один февраль наступил, — писал он Пере Аташевой в 1959-ом. — В общем, противно и мрачно». 13 февраля 1961 года, за день до шестидесятилетия Москвина исполнилось 13 лет со дня похорон Эйзенштейна, и Москвин хорошо помнил это. Знал от Станислава Ростоцкого, как Эйзенштейн откладывал празднование пятидесятилетия и даже сказал ему, собиравшемуся выступить от имени студентов ВГИКа, что будет это не на юбилее, а на похоронах (так и произошло). Эйзенштейн был суеверен, верил в предсказание, что проживет пятьдесят лет. Москвин вряд ли был суеверным, но можно понять, что все это стечение февралей, юбилеев, цифры 13 могло смутить кого угодно. Говоря о желании Москвина переждать февраль, Шапиро привел еще слова заведующего кладбищем — за несколько дней до смерти Москвин приходил на могилы родных. Твердо заявив: «Я не хочу впадать в мистику», Шапиро высказал предположение: Москвин знал, что февраль будет роковым.
Я тоже не хочу впадать в мистику, но, думаю, что Москвин понимал свое состояние и заблаговременно начал готовиться. Не случайно подарил он Месхиеву в эту зиму книгу Мережковского о Леонардо — как учитель он передал ученику важное, может быть, главное знание. Похоже, в последние время он сделал много таких подарков: в сохранившейся его библиотеке нет «Дневников» Делакруа, других книг, которые Кошеверова хорошо помнила. Он всегда с удовольствием делал книжные «презенты»; а теперь дарил книги, особенно близкие ему самому. Так он подарил Раковскому перепечатанные им самим еще в тридцатые годы рубаи Омара Хайама в переводе Ивана Тхоржевско-го, который он считал лучшим из всех. Подарок этот — знак внимания к другу и, пожалуй, знак для себя, знак прощания с грешной жизнью, воспетой любимым им Хайамом. Теперь его настроение было, наверно, ближе к таким строкам: «Будь искренним./А смерти жди спокой-но./Там или бездна,/Или жалость к нам». Он отдал своего Хайама, но хорошо помнил его рубаи, в их числе и этот.
Видимо, с мыслями о скором конце, появившимися после второго инфаркта, связано и то, что с 1956 года он практически постоянно жил в Пушкине, на «малой родине». Валерий Гаврилин прекрасно сказал, что малая родина — это место, где человек проводит годы, когда он безгрешен и у него формируются стыд и совесть. Потому и тянет к малой родине — чтобы очиститься. Москвина тянуло в родной город, там он отдыхал душой, думал о «Гамлете», волновался за его судьбу. Поводы были: в январе московское начальство решило сделать фильм более «экспортным» — цветным, широкоформатным. Это был способ закрыть постановку: ясно, что Козинцев, Москвин и Еней на цвет не согласятся. С начальством спорили, потом все вернулось на круги своя... но волнения продолжались, ибо «Гамлет» оставался главной заботой.
Рассказ Козинцева: «Утром 27 февраля 1961 года Москвин, Еней и я, как обычно, спорили в маленькой комнатке на киностудии. Хотя мысль о постановке “Гамлета" казалась еще многим нелепой... мы работали. Еней показывал наброски, Москвин опять уговаривал меня отказаться от широкого экрана, картине необходимы, так ему представлялось, обычный формат, широкоугольная оптика. Мы вышли из комнаты. В шумном ленфильмовском коридоре Москвина подстерегали молодые люди: они снимали свой первый самостоятельный фильм, Андрей Николаевич опекал их. Операторы — седой шестидесятилетний человек, один из создателей школы советского операторского искусства, и двое юношей, только что окончивших ВГИК, — отправились вместе в павильон. Андрей Николаевич обернулся, помахал рукой: до завтра».
На завтра был назначен худсовет по сценарию «Черная чайка», снимать фильм должен был Месхиев. В Пушкине, в постели перед сном Москвин читал сценарий. Под утро, в последний день февраля он умер.
В Пушкине его и похоронили — у самой церкви Казанского кладбища, на «москвинской площадке», рядом с могилами родителей, сестры, брата. В гроб положили меховую шапку Эйзенштейна. По эскизу Енея поставили памятник: скромная плоская плита из шведского черного гранита и гранитное обрамление двух небольших цветников
по бокам образуют крест; в голове плиты положена черная гранитная глыба; одна сторона ее стесана, отполирована и пропорциями своими напоминает экран; на ней надпись:
Андрей Николаевич Москвин кинооператор 1901-1961
* * *
Он был человеком своего времени и человеком всех времен.
Завершенный его портрет дать трудно. Ибо был он «закрыт», как закрыта для физиков частица, о свойствах которой судят по следам, по косвенным признакам. «Раскрывался» он редко: наедине с собой, с другом, с любимой женщиной, наедине с природой.
В одно из таких мгновений его застал Месхиев: «Мы снимали проходы Баталова у серого забора, там должно быть пасмурно, серое небо. А светило апрельское активное солнце, текли ручьи. Мы сидели, ждали погоду. Москвин взял лопату, ушел куда-то... Потом я пошел его искать. Там за нашим забором речка была, Охтенка, бугор над ней, на нем наледи, снег слежавшийся. А подтаявший снег образовал запрудки, хочет вода в речку и не может... И вот он занимался абсолютно полезным трудом — пускал ручьи, прокапывал аккуратно руслица... Я подошел снизу, от речки, и когда он разогнулся, поднялся с лопатой на фоне неба красивого... Такой вот бог Саваоф, который и землю, и воды приводит в движение...»
Запомним его таким.
Фильмография
Сокращения', а.с. — автор сценария, ас. — ассистент, в.э. — выпуск на экран, з. — звукооператор, к. — композитор, к-м. — короткометражный, о. — оператор, п. — помощник, р. — режиссер, х. — художник.
Все фильмы, кроме специально оговоренных, — игровые, полнометражные, чернобелые, обычного («классического») формата.
Н+Н+Н. Севзапкино. 1924. В.э. 7.12.1924. А.с., р. В.Шмидтгоф; о. Н.Ефремов, п.о. А.Мо-сквин.
Степан Халтурин. Севзапкино. 1925. В.э. 7.4.1925. А.с. П.Щеголев; р. А.Ивановский; о. И.Фролов, Ф.Вериго-Даровский, п.о. А.Москвин; х. А.Уткин, В.Егоров.
Наполеон-газ. Севзапкино. 1925. В.э. 15.12.1925. А.с., р. С.Тимошенко; о. С. Беляев, п.о. А.Москвин; х. Е.Еней.
Чертово колесо. Ленинградкино. 1926. В.э. 16.03.1926. А.с. А.Пиотровский; р. Г.Козин-цев, Л.Трауберг; о. А.Москвин; х. Е.Еней. Фильм сохранился без 3 и 6 частей.
Девятое января. Севзапкино. 1925. В.э. 2.12.1925. А.с. П.Щеголев; р. В.Висковский; о. А.Далматов, А.Москвин; х. А.Уткин. Фильм сохранился не полностью.
Шинель. Ленинградкино. 1926. В.э. 10.05.1926. А.с. Ю.Тынянов; р. Г.Козинцев, Л.Трауберг; о. А.Москвин, Е.Михайлов, п.о. И.Тихомиров; х. Е.Еней. Фильм сохранился без 5 части.
Братишка. Ленсовкино. 1926. В.э. 30.04.1927. А.с., р. Г.Козинцев, Л.Трауберг; о. А.Москвин, п.о. И.Тихомиров; х. Е.Еней. Фильм не сохранился.
Турбина № 3. Ленсовкино. 1927. В.э. 28.06.1927. А.с. А.Пиотровский, Н.Эрдман; р. С.Тимошенко; о. С.Беляев, А.Москвин; х. Б.Дубровский-Эшке. Фильм не сохранился.
С.В.Д. Ленсовкино. 1927. В.э. 23.08.1927. А.с. Ю.Тынянов, Ю.Оксман; р. Г.Козинцев, Л.Трауберг; о. А.Москвин, п.о. И.Тихомиров; х. Е.Еней. Фильм сохранился не полностью.
Чужой пиджак. Ленсовкино. 1927. На экраны не выпущен. А.с. В.Каверин; р. Б. Шпис;
о. А.Москвин, п.о. И.Тихомиров; х. Е.Еней. Фильм не сохранился.
Добыча мела. Культурфильм. К-м. Ленсовкино. 1928. В.э. неизвестен. А.с., р. Б.Шпис; о. А.Москвин, п.о. И.Тихомиров.
Новый Вавилон. Ленсовкино. 1929. В.э. 18.03.1929. А.с., р. Г.Козинцев, Л.Трауберг; о. А.Москвин, п.о. И.Тихомиров, х. Е.Еней; к. Д.Шостакович.
Одна. Ленсоюзкино. 1931. В.э. 10.10.1931. А.с., р. Г.Козинцев, Л.Трауберг; о. А.Москвин;
х. Е.Еней; к. Д.Шостакович, з. И.Волк. Фильм сохранился без 5 части.
Гопак (Пляс). К-м. Ленсоюзкино. 1931. В.э. неизвестен. А.с., р. М.Цехановский; балетмейстер В.Вайонен; о. А.Москвин; х. П.Соколов; к. Н.Тимофеев; з. М. Мухачев.
Гайль, Москау! Ленсоюзкино. 1932. В.э. 28.05.1932. А.с. А.Устинович; р. В.Шмидтгоф;
о. А.Москвин, П.Посыпкин; х. К.Бондаренко; к. Н.Тимофеев; з. А.Беккер. Фильм не сохранился.
Путешествие в СССР. Ленсоюзкино. 1932. Фильм не завершен. А.с. Н.Погодин; р. Г.Козинцев, Л.Трауберг; о. А.Москвин, 2-й о. П.Посыпкин, а.о. А.Сысоев; х. Е.Еней.
Большевик. Ленинградская фабрика Союзфильм. 1933. Фильм не завершен. А.с., р. Г.Козинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин, 2-й о. П.Посыпкин, а.о. А.Сысоев; х. Е.Еней, з. А.Шаргородский.
Юность Максима. Ленфильм. 1934. В.э. 27.01.1935. А.с., р. Г.Козинцев, Л.Трауберг;
о. А.Москвин, 2-й о. П.Посыпкин, а.о. А.Сысоев; х. Е.Еней; к. Д.Шостакович; з. И.Волк.
Возвращение Максима. Ленфильм. 1937. В.э. 23.05.1937. А.с. Г.Коэинцев, Л.Славин, Л.Трауберг; р. Г.Коэинцев, Л.Трауберг; о. А.Москвин, а.о. В.Максимович, А.Сысоев, а.о.-практикант А.Ерин; х. Е.Еней; к. Д.Шостакович; з. И. Волк.
Выборгская сторона. Ленфильм. 1938. В.э. 2.02.1939. А.с., р. Г.Коэинцев, Л.Трауберг; о. А.Москвин, Г.Филатов, а.о. М.Аранышев, А.Заэулин; х. В.Власов; к. Д.Шостакович; э. И.Волк.
Карл Маркс. Ленфильм. 1941. Фильм не завершен. А.с., р. Г.Коэинцев, Л.Трауберг; о. А.Москвин, а.о. А.Ерин; х. Н.Суворов; з. И.Волк.
Великий лекарь. Ленфильм. 1941. Фильм не завершен. А.с. Ю.Герман; р. Г.Коэинцев, Л.Трауберг; о. А.Москвин, а.о. А.Ерин; х. Н.Суворов; з. И.Волк.
Это и есть Ленинград. Ленфильм. 1941. Фильм незавершен. Р. Л.Арнштам, Г.Коэинцев, Г.Раппапорт; о. А.Москвин, В.Рапопорт.
Юный Фриц. К-м. ЦОКС. 1942. На экраны не выпущен. А.с. С.Маршак; р. Г.Коэинцев; о. А.Москвин, 2-й on. Н.Шифрин, а.о. В.Пелль; х. Е.Еней; к. Л.Шварц; з. И.Волк; комбинированные съемки А.Москвин, А.Птушко.
Однажды ночью. К-м., входил в киноальманах Наши девушки. ЦОКС. 1942. На экраны не выпущен. А.с. А.Ольшанский; р. Г.Коэинцев; о. А.Москвин, 2-й о. Н.Шифрин, а.о. В.Пелль; х. Ф.Бернштам; к. ГПопов; з. И.Волк.
Актриса. ЦОКС. 1943. В.э. 22.04.1943. А.с. Н.Эрдман, М.Вольпин; р. Л.Трауберг; о. А.Москвин, 2-й о. Н.Шифрин, а.о. В.Пелль; х. Е.Еней; з. И.Волк.
Иван Грозный. 1 серия. ЦОКС. 1944. В.э. 16.01.1945; 2 серия. Черно-белая с цветным эпизодом. Мосфильм. 1945. В.э. 1.09.1958; 3 серия. Мосфильм. 1945. Не завершена. А.с., р. С.Эйзенштейн; о. А.Москвин (павильон), Э.Тиссэ (натура), 2-й о. В.Домбров-ский, Н.Шифрин (павильон), а.о. Су Хечинь; х. И.Шпинель; к. С.Прокофьев; з. В.Бог-данкевич, Б.Вольский.
Простые люди. Ленфильм. 1945. В.э. 25.08.1956. А.с., р. Г.Коэинцев, Л.Трауберг; о. А.Москвин, А.Назаров, 2-й о. А.Сысоев, а.о. А.Ерин, Б.Лыткин; х. Е.Еней, Д.Виницкий; к. Д.Шостакович; з. И.Волк.
Пирогов. Ленфильм. 1947. В.э. 16.12.1947. А.с. Ю.Герман; р. Г.Коэинцев; о. А.Москвин, А.Назаров, Н.Шифрин, а.о. В.Фастович; х. Е.Еней, С.Малкин; к. Д.Шостакович; э. И.Волк, Б.Хуторянский.
Александр Попов. Ленфильм. 1949. Фильм не завершен. А.с. А.Разумовский; р. С.Тимошенко, Л.Трауберг; о. А.Москвин; а.о. В.Фастович; з. И.Волк.
Белинский. Ленфильм. 1951. В.э. 4.06.1953. А.с. Ю.Герман, Е.Серебровская, Г.Козин-цев; р. Г.Коэинцев; о. А.Москвин, М.Магидсон, С.В.Иванов, а.о. В.Фастович, М.Шу-руков; х. Е.Еней; к. Д.Шостакович; з. И.Волк.
Большое сердце. Цветной. Ленфильм. 1953. Фильм не завершен. А.с. И.Эренбург, Г.Коэинцев; р. Г.Коэинцев; о. А.Москвин, 2-й о. В.Фастович; а.о. В.Фомин; х. Е.Еней; з. И.Волк.
Над Неманом рассвет. Цветной. Ленфильм и Литовская киностудия. 1953. В.э. 17.09.1953. А.с. Й.Балтушис, Е.Габрилович; р. А.Файнциммер; о. А.Москвин, 2-е о. М.Шуруков, В.Фастович, Б.Старошас, а.о. Д.Месхиев, а.о.-практикант Й.Грицюс; х. С.Малкин; к. Б.Дварионас; э. И.Волк.
Овод. Цветной. Ленфильм. 1955. В.э. 12.04.1955. А.с. Е.Габрилович; р. А.Файнциммер; о. А. Москвин, 2-й о. В.Фастович, а.о. Й.Грицюс, С.Н.Иванов; х. Е.Еней; к. Д.Шостакович; з. И.Волк.
Дон Кихот. Цветной, широкоэкранный. Ленфильм. 1957. В.э. 23.05.1957. А.с. Е.Шварц; р. Г.Коэинцев; о. А.Москвин (павильон), А.Дудко (натура), 2-е о. Й.Грицюс, Э.Розовский, а.о. А.Родионов, С.Сизых; х. Е.Еней; к. К.Караев; з. И.Волк.
Рассказы о Ленине. 1-я новелла: Подвиг солдата Мухина. Мосфильм. 1957. В.э. 17.04.1958. А.с. Н.Эрдман, М.Вольпин; р. С.Юткевич; о. А.Москвин, Е.Андриканис, В.Фастович, А.Ахметова, 2-й о. Й.Грицюс; х. А.Бергер, П.Киселев; з. Б.Вольский.
Дама с собачкой. Ленфильм. 1960. В.э. 28.01.1960. А.с., р. И.Хейфиц; о. А.Москвин, Д.Месхиев, а.о. В.Комаров, В.Чумак; х. Б.Маневич, И.Каплан; к. Н.Симонян; з. А.Шар-городский.
А.Москвин принимал участие в съемках фильмов Механика головного мозга и Мать (р. В.Пудовкин, 1926), Северное сияние (р. Н.Фореггер, 1926), Декабристы (р. А.Ивановский, 1926), Поэт и царь (р. В.Гардин, 1927), Октябрь (р. С.Эйзенштейн, 1927), Конец Санкт-Петербурга (р. В.Пудовкин, 1927), Снежные ребята (р. Б.Шпис, 1928), Дезертир и Победа (р. В.Пудовкин, 1933, 1938) и других, а также в съемках кинохроники (1925-1931) и первых боевых киносборников (1941).
А.Москвин был официальным или неофициальным художественным руководителем, или консультантом операторов С.Н.Иванова (Андрейка, р. Н. Лебедев, 1958), Н.Жилина, В.Карасева и А.Чирова (Плохая примета, р. Н.Трощенко, к/м, 1960; Горизонт, р. И.Хейфиц, 1961 — после ухода с фильма о. В.Дербенева), А.Кольцатого (Поручик Киже, р. А.Файнциммер, 1934), Д.Месхиева (Под стук колес, р. М.Ершов, 1958), Е.Михайлова (Катька—бумажный ранет, р. Э.Иогансон, Ф.Эрмлер, 1926), П.Посыпкина и М.Ротинова (Леночка и виноград, р. А.Кудрявцева, 1936), И.Тихомирова (Снежные ребята, р. Б.Шпис, 1928), В.Фастовича (Чужая родня, р. М.Швейцер, 1956), В.Чумака (Братья Комаровы, р. А.Вехотко, 1961), Е.Шапиро (Человек из тюрьмы, р. С.Бартенев, 1931; Золушка, р. Н.Кошеверова, М.Шапиро, 1947), С.Школьникова (Яхты в море, р. М.Егоров, 1956) и многих других.
Библиография
А. Сочинения А.Н.Москвина
Михайлов Е., Москвин А. Роль кинооператора в создании фильма // Поэтика кино. М.-Л., 1927. С. 171-191. Перепечатано в кн.: Из истории «Ленфильма». Вып. 2. Л., 1970. С. 145-154; Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». СПБ. 2001. С. 110-121.
О своей работе и о себе // Советский экран. М., 1927. № 38. С. 10. Напечатано с искажениями и опечатками. Исправленный текст по сохранившемуся автографу напечатан в сб.: Фильмы. Судьбы. Голоса. Л., 1990. С. 277-278.
Письмо в редакцию И Кино. Л., 1927, 11 окт. Отклик на статью Н.Ефимова. Перепечатано в сб.: Фильмы. Судьбы. Голоса. Л., 1990. С. 279.
Москвин А., Михайлов Е. // Кино. Л., 1927, 7 нояб. В подборке «Пожелания советскому кино в связи с 10-летием Великой Октябрьской Социалистической Революции».
Без шаманства // Кадр (газета киностудии «Ленфильм»). 1932,1 окт. Подпись: М.
Мое пожелание // Кадр. 1933, 2 июня.
[Выступление на Всесоюзном творческом совещании работников советской кинематографии 13 января 1935 г.] // За большое киноискусство. М., 1935. С. 151-153.
За съемки при полуваттных лампах // Кадр. 1938, 7 июля.
Быть пропагандистом советской действительности // 30 лет советской кинематографии. М., 1950. С. 320-321. Название дано редакторами сборника.
[Выступление на Художественном совете «Ленфильма» по материалу фильма «Мусоргский»] // Кадр. 1950, 15 апр.
[Письмо в редакцию] И Кадр. 1957,4 апр. Текст письма включен в редакционную статью. Москвин А., Пелль В. Некоторые вопросы рациональной методики экспонометрического контроля при киносъемке // Техника кино и телевидения. 1959. №3. С. 10-23.
[О планах на 1961 г.] // Кинонеделя Ленинграда. 1960, 30 дек.
Москвин А., Вал А. Некоторые особенности съемки на цветной негативной пленке ДС-5 и ее фотографической обработки // Техника кино и телевидения. 1962. № 6. С. 13-17.
Страница истории: говорит и пишет Андрей Николаевич Москвин // Фильмы. Судьбы. Голоса. Л., 1990. С. 277-286. Содержание: О своей работе и о себе. Письмо в редакцию. Стенограммы обсуждений фильмов на Художественном совете «Ленфильма» и в Ленинградском Доме кино.
Переписка А.Н.Москвина и С.М.Эйзенштейна // Киноведческие записки. 1998. № 38. С. 296-313.
Б. Литература об А.Н.Москвине
Книги и статьи, полностью или частично посвященные А.Н.Москвину
Ефимов Н. О манере оператора Москвина И Кино. Л., 1927. 4 окт.
Нильсен В. Три мастера // Кино. М. 1934. 22 дек.; 1935. 22 янв.
Козинцев Г. Андрей Москвин // Советское кино. 1935. № 11. С. 35-43.
Нильсен В.Изобразительное построение фильма. М., 1936. С. 205-206, 221.
Каплан М. Оператор Москвин // Кино. М., 1937. 4 июня.
Каплан М. Андрей Москвин // Рабочий и театр. Л., 1937. № 10. С. 42-43.
Гарин В. Андрей Москвин. М., 1939.
Каплан М. Андрей Москвин // Искусство кино. 1940. № 6. С. 47-53.
Головня А. Свет в искусстве оператора. М., 1945. С. 101,103-106,110.
Каплан М. Мастер операторского искусства // Кадр. 1946. 8 февр. В связи с присуждением Сталинской премии за фильм «Иван Гоозный» (1 сер.).
Головня А. О друзьях-ровесниках // 30 лет советской кинематографии. М., 1950. С. 309-310.
Мандель И. Цветное воспроизведение лица на фоне зелени и неба: Предложение оператора А.Москвина // Кадр. 1953. 6 июля.
А.Н.Москвин // Веч. Ленинград. 1961. 2 марта. Некролог, подписанный Г.Козинцввым, Е.Енеем, И.Волком, /-/.Черкасовым, Ю.Толубеевым, Н.Суворовым, В.Гордановым, С.Ивановым, АДудко, Е.Шапиро и другими работниками «Ленфильма».
А.Н.Москвин // Советская культура. 1961.4 марта. Некролог, подписанный Министерством культуры СССР, Министерством культуры РСФСР и Оргкомитетом Союза работников кинематографии СССР.
У камеры — Андрей Москвин. Вспоминают товарищи по студии // Искусство кино. 1962. № 10. С. 116-122. «Обобщенное», неперсонифицированное изложение воспоминаний о Москвине, с которыми выступили в Ленинградском Доме кино в разговоре за «круглым столом», посвященном памяти Москвина, операторы В. Горданов, АДудко, А.Ерин, М.Магид, Д.Месхиев, А.Назаров, Л.Сокольский, Е.Шапиро, режиссер Н.Кошеверова, художник Н. Суворов, звукооператор И. Вол к, художник-гример В.Горюнов, инженеры «Ленфильма» А.Вал, В.Раковский; завершает материал статья не участвовавшего в разговоре М. Каплана.
Иванеев Д. Памяти А.Н.Москвина // Кадр. 1962. 25 окт. Об открытии памятника на могиле А.Москвина на Казанском кладбище г. Пушкина.
Горданов В. Рядом с Андреем Москвиным // Искусство кино. 1963. № 7. С. 105-109.
Грицюс Й. Несколько встреч на пути к сегодня. М., 1966. С. [11-19].
Козинцев Г. Андрей Москвин // Искусство кино. 1966. №4. С. 81-92. Первоначальный, более полный вариант главы «Свой человек у киноаппарата» из книги «Гпубокий экран» (М., 1971. С. 94-101); перепечатан в сб. «Кинооператор Андрей Москвин».
Жаров М. Жизнь. Театр. Кино. М., 1967. С. 337-338.
Соболевский П. Из жизни киноактера. М., 1967. С. 76-84. В сокращ. виде: Соболевский П. //Из истории «Ленфильма». Вып. 2. Л., 1970. С. 67-69.
Саввина И. Золотые руки // Советский экран. 1968. № 10. С. 12-14. Первоначальный вариант статьи, опубликованной позже в сб. «Кинооператор Андрей Москвин» и в кн.: Саввина И. Статьи разных лет. М., 1996. С. 197-206.
Головня А. О моем молчаливом друге // Головня А. О кинооператорском мастерстве. М., 1970. С. 147-152. Первоначальный вариант статьи, опубликованной позже в сборнике «Кинооператор Андрей Москвин».
Кузьмина Е. Удивительный человек // Советский экран. 1970, № 11. С. 18. Первоначальный вариант главы из кн.: Кузьмина Е. О том, что помню. М., 1976. С. 75-78.
Кинооператор Андрей Москвин: Очерк жизни и творчества. Воспоминания товарищей. Л., 1971. Содержание: Ф.Гукасян. Андрей Москвин; воспоминания ГКозинцева, Л.Трауберга, В.Горданова, Е.Михайлова, А.Головни, М.Блеймана, Й.Грицюса, И.Саввиной, А.Дудко, В.Пелля, Л.Косматова, С.Ростоцкого.
Блейман М. Мастеровой // Блейман М. О кино — свидетельские показания. М., 1973. С. 431-440. Перепечатка с небольшим дополнением статьи из сборника «Кинооператор Андрей Москвин». Под названием «Андрей Москвин» напечатано в журнале: Кино. Вильнюс, 1973. № 8. С. 16-18.
Горданов В.В. Записки кинооператора // Кинооператор Вячеслав Горданов. Л. 1973.
Гукасян Ф. В поисках поэтики Чехова на экране // Вопросы истории и теории кино. Л.: 1973. С. 57-79.
Гукасян Ф. Кинооператор Андрей Москвин: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Л., 1974.
Трауберг Л. Оператор Андрей Москвин // Советский фильм. 1976. № 2. С. 25-27.
Человек, художник, кинооператор... // Кадр. 1976. 11 февраля. Анкета к 75-летию А.Москвина. На вопросы ответили операторы В.Горданов, Й.Грицюс, Р.Ильин, Ю.Сокол, А.Чечулин, Е.Шапиро, профессор Д.Волосов, киновед Л.Козлов, инженер ЯДонской.
Бутовский Я. Художественное и техническое творчество оператора // Техника кино и телевидения. 1976. № 3. С. 60-62. К 75-летию со дня рождения А.Москвина.
Трауберг Л. Фильм начинается... М., 1977. С. 283-290. Перепеч.: Трауберг Л. Избр. про-изв. Т. 1. М., 1988. С. 303-309.
Ильин Р. А.Н.Москвин // Десять операторских биографий. Вып. 1. М., 1978. С. 68-85. Биографический очерк с фактическими неточностями.
Чумак В. Уроки Москвина // Кадр. 1981.16 февр. Перепеч.: Путь к экрану (газета ВГИКа). 1986. 10 нояб.; Искусство кино. 1999. № 8. С. 81-87.
Трауберг Л. «Приходите огорчаться!..» // Советский экран. 1981. № 3. С. 17.
Шапиро Е. Под наблюдением Москвина // Кадр. 1981. 16 марта.
Иванова В. Операторы советского художественного кино. М., 1982. С. 19-23.
Иванова О. Кинооператор А.Н.Москвин // Вперед. Пушкин, 1985. 27 авг.
Школьников С. Я сотворил себе кумира. Таллин, 1986. С. 144-149
Иванеев Д. Оператор Андрей Москвин И Кадр. 1988. 28 апр. В связи с учреждением именных премий «Ленфильма», в т.ч. премии им. А.Москвина за лучшую операторскую работу года.
Бутовский Я. // Фильмы. Судьбы. Голоса. Л., 1990. С. 270-277. Вст. ст. к публикации: «Страница истории: говорит и пишет Андрей Николаевич Москвин».
Бутовский Я. Фэксы и Москвин // Киноведческие записки. 1990. № 7. С. 122-131.
Гукасян Ф. Он был Мастером... // Кадр. 1991. № 2. С. 3.
Ковалов О. В сторону тени // Сеанс. 1991. № 3. С. 2-5.
Бутовский Я. С Эйзенштейном на «Иване Грозном» // Киноведческие записки. 1998. № 38. С. 262-295. Глава из кн. «Андрей Москвин, кинооператор». Журнальный вариант.
Бутовский Я. «Попытка разобраться в сущности операторской работы...» // Киноведческие записки. 1999. № 43, С. 189-198. О ст. Е.Михайлова и А.Москвина «Роль кинооператора в создании фильма». Перепеч. в кн.: Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». СПб. 2001. С. 250-262.
Бутовский Я. Андрей Москвин, кинооператор. СПб., 2000.
Розовский Э. Мой Учитель Андрей Николаевич Москвин // Техника кино и телевидения. М„ 2001. №2. С. 78-79.
Бутовский Я. «Вот это был оператор!» // Экран и сцена. 2001. № 8 (февр.-март). С. 8-9. Подглавки «Эксцентрическое интермеццо», «Пир»; перепеч. из кн.: «Андрей Москвин, кинооператор». Название дано редакцией.
Раковский В. Прогулки с Москвиным // Веч. Петербург. 2001. 28 февр.
Памяти Андрея Москвина // Санкт-Петербургские ведомости. 2001. 21 июня. Об установке на фасаде главного здания киностудии «Ленфильм» мемориальной доски, посвященной А.Н.Москвину.
Иванов А. На экране и за экраном // Киноведческие записки. 2002. № 60. С. 284-290.
Маневич Б. О Москвине // Белла Маневич. СПб., 2003. С. 68-71.
Закревский Ю. Наше родное кино. М., 2004. С. 51-53.
Dreyer R. [Об А.Н.Москвине] // Ekran. W. 1961. № 33. С. 10.
Kozincev G. Za kamerq stanql cztowiek // Ekran. W. 1961. № 33-35. Во всех №№ — S. 11.
В. Использованная литература (кроме указанной в предыдущих разделах Библиографии) I. Книги
Асафьев Б. Путеводитель по концертам. М., 1978.
Афиногенов А. Избранное. Т. 2. М., 1977.
Ахматова А. Стихи и проза. Л., 1977.
Баландин Р. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. М., 1979.
Балаш Б. Видимый человек. М., 1925.
Белый А. Мастерство Гоголя. М.-Л., 1934.
Белый А. Армения. Ереван, 1985.
Берковский Н. О мировом значении русской литературы. М., 1975.
Блок А. Собр. соч. в 8 тт. Т. 3. Л., 1960; Т. 6. Л., 1962.
Брук П. Пустое пространство. М., 1976.
Вайсфельд И. Г.Коэинцев и Л.Трауберг. М„ 1940.
Вильчковский С. Царское Село. СПб, 1911.
Вишневский Вс. Статьи, дневники, письма. М., 1961.
Вопросы истории и теории кино. Л., 1973.
Воспоминания о Ю.Тынянове. М., 1983.
«Встречный». Как создавался фильм. М., 1935.
Габрилович Е. Четыре четверти. М., 1975.
Гаевский В. Дивертисмент. М., 1981.
Гарин Э. С Мейерхольдом. М„ 1974.
Герасимов С. [Рассказ о творческом пути]. М., 1965.
Гинзбург Л. О старом и новом. Л., 1982.
Гладков А. Годы учения Всеволода Мейерхольда. Саратов, 1979.
Гоголь Н. Поли. собр. соч. Т. 3. М.-Л., 1949; Т. 8. М.-Л., 1952.
Голлербах Э. Город муз. Л., 1930.
Головня А. Съемка цветного кинофильма. М., 1952.
Головня А. Мастерство кинооператора. М., 1965.
Головня А. О кинооператорском мастерстве. М„ 1970.
Гумилев Н. Костер. СПб., 1918.
Дитрих М. Размышления. М., 1985.
Добин Е. Козинцев и Трауберг. Л.-М., 1963.
Золотусский И. Гоголь. М„ 1979.
Зубов В. Леонардо да Винчи. М.-Л., 1961.
Из истории «Ленфильма». Выл. 1-4. Л., 1968-1975.
Исаева К. Советская операторская школа (1930-1941): Ленинградская операторская школа. М„ 1987.
История советского кино. Т. 1-4. М., 1969-1978.
История Красного Сормово. М., 1969.
Козинцев Г. [Рассказ о творческом пути]. М., 1967.
Козинцев Г. Собр. соч. в 5 тт. Л., 1982-1986.
Козлов Л. Изображение и образ. М., 1980.
Кузнецова В. Евгений Еней. Л.-М., 1966.
Лебедев Н. Очерк истории кино СССР. Ч. 1. Немое кино. М., 1947.
Леонардо да Винчи. Избр. произведения. Т. 2. М„ 1935.
Ливанова А. Ландау. М., 1978.
Луговской В. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1966.
Макарова Т. [Рассказ о творческом пути]. М., 1964.
Мартыненко Ю. Мастерство советских кинооператоров. М., 1963.
Маршан R, Вайнштейн П. Пять лет советской кинематографии. Л.-М., 1925.
Маяковский В. Полн. собр. соч. в 12 тт. Т. 12. М., 1949.
Мейерхольд В. Переписка. М., 1976.
Мейлах М. Изобразительная стилистика поздних фильмов Эйзенштейна. Л., 1971.
Мережковский Д. Полн. собр. соч. Т. 3 («Воскресшие боги»), СПб.-М., 1911.
Меркель М. Включить полный свет! М., 1962.
Милашевский В. Вчера, позавчера. Л., 1962.
Мордвинов Н. Дневники. М., 1976.
МуссинакЛ. Избранное. М., 1981.
Недоброво В. ФЭКС: Григорий Козинцов, Леонид Трауберг. М.-Л., 1928.
Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Изд. 2-е. М., 1961.
Николай Николаевич Ге. М., 1978.
Очерки истории советского кино. Т. 1-3. М., 1956-1961.
От балагана до Шекспира: хроника театральной деятельности Г.М.Козинцева. СПб., 2002.
Паустовский К. Собр. соч. в 6 тт. Т. 1. 1958.
Переписка Г.М.Козинцева. М., 1998.
Перрюшо А. Сезанн. М., 1966.
Пио Р. Палитра Делакруа. М.-Л., 1932.
Поэтика кино. М.-Л., 1927.
Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». СПб., 2001.
Роллан Р. Собрание литературно-музыкальных соч. в 9 тт. Т. 7. М., 1938.
СадульЖ. История киноискусства. М., 1957.
Сабинина М. Шостакович — симфонист. М., 1976.
Советские ученые. Очерки и воспоминания. М., 1982.
Ступень А. Морис Равель. Л., 1968.
Технологический институт им. Ленсовета. Сто лет. Т. 1. Л., 1928.
Трауберг Л. Когда звезды были молодыми. М., 1976.
Трауберг Л. Восемь и один групповой портрет. М., 1985.
Трауберг Л. Избр. произведения в 2 тт. М., 1988.
Трауберг Л. Свежесть бытия. М., 1988.
Трилогия о Максиме. М., 1981.
Тынянов Ю. Пушкин и его современники. М., 1968.
Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
Ульянов Н. Воспоминания о Серове. М.-Л., 1945.
Фальк Р. Беседы об искусстве. Письма. Воспоминания о художнике. М., 1981.
Фромантен Э. Старые мастера. М., 1966.
Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1967.
Черкасов Н. Четвертый Дон Кихот. Л., 1958.
Чехов А. Дама с собачкой. М., 1961.
Шварц Е. Телефонная книжка. М., 1996.
Шилова И. Фильм и его музыка. М., 1973.
Шкловский В. Жили-были... М., 1966.
Шкловский В. Эйзенштейн. М., 1973.
Шкловский В. Энергия заблуждения. М., 1981.
Шкловский В. За 60 лет. М., 1985.
Шостакович Д.Д. Письма И.И.Соллертинскому. СПб., 2006.
Штраух М. Главная роль. М., 1977.
Шуб Э. Жизнь моя — кинематограф. М., 1972.
Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М., 1974.
Эйзенштейн С. Избр. соч. в 6 тт. М., 1964-1971.
Эйзенштейн С. Неравнодушная природа. Т. 1. М., 2004.
Юренев Р. Сергей Эйзенштейн. Ч. 2. М., 1988.
Юренев Р. Советская кинокомедия. М., 1964.
Юткевич С. Кино — это правда 24 кадра в искусстве. М., 1974.
Юткевич С., Туровская М., Ханютин Ю. Сергей Юткевич. М., 1974.
Димитров Д. Някои насоки в работата на съвременните съветски оператори върху екранния актьорски образ в игралния филм. София, 1982.
Кларк К. Леонардо да Винчи: Разказ за художника. София, 1980.
Халачев Л. Драматургия на цвета в киното. София, 1987.
And6l J. SovStska filmova fotografie dvacatych let. Praha, 1979.
Baran L. Zazraky filmovaho obrazu. Praha, 1989.
Der Filmpionier Guido Seeber. Berlin (West), 1979.
Eisenstein S. Esquisses et dessins. Paris, 1978.
Jewsiewicki W. Z dziejow polsko-radzieckiej wspotpracy filmowej. Warszawa, 1979.
Leyda J. Kino. A History of the Russian and Soviet Film. N.Y., 1960.
Maltin L. Introduction // Maltin L. Behind the Camera. N.Y., 1971.
Sadoul G. Dictionnaire des films. Paris, 1965.
Seton M. Eisenstein. London, 1951.
Verdone M., Amenguel B. La Feks. Paris, 1970.
II. Статьи
Антокольский П. Проза о войне // Вопросы литературы. 1985. № 5. С. 154.
Блейман М. ...И началась война // Искусство кино. 1977, № 5. С. 76, 100-113.
Герасимов С. Актуальность истории // Искусство кино. 1980. № 9. С. 76.
Головня А. Статика и динамика в композиции кадра И Искусство кино. 1939. №8.
С. 41-43.
Грицюс Й. Навстречу «Гамлету» / Беседу вела М.Меркель // Сов. экран. 1964. № 15.
С. 8-9.
Каплан М. Культура оператора // Искусство кино. 1940. № 1-2. С. 63-67.
Каплан М. Канон отчетливости // Искусство кино. 1956. № 4. С. 27.
Катаев П. Кратчайший путь И Искусство кино. 1962. № 4. С. 97.
Козлов Л. Эйзенштейн о цвете в кино // Вопросы киноискусства. Вып. 4. М., 1960. С.176-217.
Козлов Л. «Иван Грозный». Музыкально-тематическое строение // Вопросы киноискусства. Вып. 10. М„ 1967. С. 242-257.
Козлов Л. К истории одной идеи // Искусство кино. 1968. № 1. С. 81-84.
Куманьков Е. И Ваше слово, товарищ автор. М., 1965. С. 199.
Лейтес А. Хлебников — каким он был // Новый мир. 1973. № 1. С. 225.
Пастернак Б. Письмо В.Познеру//Литературное наследство. Т. 93. М., 1983. С. 721.
Соколова Н. Живопись фильма // Искусство кино. 19,58. № 12. С. 90-96.
Сурис Б. [Вст. заметка к публикации записей художника В.Власова] // Панорама искусств. М., 1983. С. 233.
Фаерман Г. О Сергее Ивановиче Вавилове // Сергей Иванович Вавилов. Очерки и воспоминания. М., 1981. С. 217.
Фогельман Ю. Право на творчество // Искусство кино. 1936. № 4. С. 31.
Фрейлих С. Принципы историзма и партийности в киноведении // Вопросы киноискусства. М., 1958. С. 46.
Хлебников В. Наш пролог// Маковец. 1922. № 1.
Цветаева М. Искусство при свете совести //Литературное обозрение. 1982. № 10. С. 102.
Чудакова М., Тоддес Е. Тынянов в воспоминаниях современников И Тыняновский сборник. Рига, 1985.
Шкловский В. «Дон Кихот» продолжает путь // Культура и жизнь. 1957. № 12. С. 45-48.
Щекин-Кротова А. Становление художника: Воспоминания о Р.Р.Фальке // Новый мир. 1983. №10. С. 213.
Эйзенштейн С. Сценарные разработки. Из дневников. Неоконченные теоретические статьи // Вопросы кинодраматургии. Вып. 4. М., 1962. С. 344, 364, 376.
Эйзенштейн С. Из неосуществленных замыслов. Из рабочих тетрадей // Искусство кино. 1973. № 1. С. 61.
Юренев Р. Сергей Михайлович Эйзенштейн // Эйзенштейн С. Избр. статьи. М., 1956.
Юткевич С. Присмотреться пристальней // Искусство кино. 1968. № 3. С. 58.
Халачев Л. Три поколения съветски оператори // Киноизкуство. София. 1972. №12.
С. 14-25.
Kujal Q. Novy rusky film pfich^zi... // Cesky filmovy zpravodaj. 1928. 0. 30. S. 2.
Toland G. The Motion Picture Cameraman // Theatre Arts. N.Y., XXV, 1941. # 9. P. 653.
Использованы материалы журналов:
Жизнь искусства. Л. 1923-1930.
Зрелища. М. 1922.
Кино-неделя. Л. 1924.
Рабочий и театр. Л. 1925-1930.
Советский экран. М. 1925-1987.
American Cinematographer. Hollywood, СА. 1925-1987.
Close up. L. 1927-1933 Filmtechnik. B. 1925-1930.
Использованы материалы газет:
Кадр (газета киностудии «Ленфильм»). 1930-1991.
Кино. Л. 1925-1928.
Кино. М. 1925-1941.
Использованы также отдельные материалы, опубликованные в газетах «Вечерний Ленинград», «Вечерняя Москва», «Известия», «Комсомольская правда», «Красная газета» (Л.), «Ленинградская правда», «Литература и искусство», «Литературная газета», «Московские новости», «Правда», «Советское искусство», «Советская культура» и др.
III. Архивные фонды
Архив Госфильмофонда Российской Федерации. Фонд 2.
Архив киностудии «Казахфильм». Личные дела.
Архив киностудии «Ленфильм». Личные дела.
Государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 844.
Российский государственный архив литературы и искусства. Москва. Фонды 966, 1923, 2081, 2450, 2453.
Собрание стенограмм Информационно-архивного отдела киностудии «Ленфильм». Собрание стенограмм библиотеки Санкт-Петербургского Дома кинематографистов. Центральный государственный архив Казахстана. Фонд 1708.
Центральный государственный архив литературы и искусства. Санкт-Петербург. Фонды 83, 166, 168, 257.
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Фонды 2881, 3025.
В книге использованы записанные автором в 1975-1983 гг. беседы с кинооператорами В.Ананьевым, В.Бурыкиным, А.Гальпериным, И.Гольдбергом, В.Гордановым, Й.Грицюсом, В.Домбровским, М.Капланом, ГМаранджяном, Д.Месхиевым, Е.Михайловым, А.Наза-ровым, А.Сысоевым, В.Фастовичем, В.Чумаком, Е.Шапиро, Сокольниковым, режиссерами Н.Кошеверовой, Р.Мильман, Л.Траубергом, И.Хейфицем, И.Шапиро, художниками кино Б.Маневич, Д.Виницким, И.Капланом, звукооператором И.Волком, актрисами Я.Жеймо, Л.Семеновой, сотрудниками «Ленфильма», «Мосфильма» и ЦОКС Е.Белоконь, М.Бернацкой, И.Емельяновой, Е.Иофисом, Н.Лейбошиц, В.Пеллем, М.Рафалович, И.Хмельницким, Л.Шалаевым, С.Яхонтовым, инженерами Г.Москвиным, А.Предовским, математиком Александровым, архитектором И.Фоминым, художниками Т.Луговской, Т.Шишмаревой, вдовой Г.Козинцева — В.Козинцевой и неопубликованные воспоминания о Москвине А.Егоровой, В.Горданова, Н.Лейбошиц, А.Предовского, В.Санбоян (хранятся в архиве автора). Рассказ П.Аташевой о встрече Эйзенштейна и Москвина в 1946 г. записан Л.Козловым. Специальная благодарность киноведам В.Евсевицкому (Польша) и Л.Линхарту (Чехия) за предоставленные материалы о Москвине.
Указатель имен
Агаджанова Нина Фердинандовна (1889-1947), сценарист — 44
Агамирова Тамилла Суджаевна, актриса — 252
Агапов Борис Николаевич (1899-1973), журналист— 168
Айвазовский Иван Константинович (1817-1909), художник— 220
Акимов Николай Павлович (1901-1968), режиссер, художник— 9,129, 242, 249
Аксенов Иван Александрович (1884-1935), поэт, литературовед —259
Александер Иосиф Николаевич (1911-1995), киноинженер — 279
Александр I (1777-1825), император— 17
Александр Федорович — см. Предовский А.Ф.
Александров Александр Данилович (1912-1999), математик— 177, 245
Александров (наст. фам. Мормоненко) Георгий Васильевич (1903-1983), режиссер — 113, 185, 192
Александров-Серж (наст. фам. Александров) Александр Сергеевич (1892-1966), цирковой актер — 35
Алена — см. Москвина Е.Н.
Альберти Леон-Баттиста (1404-1472), итальянский архитектор — 204
Альдо Г.Р. (наст. фам. и имя Грациати Альдо) (1902-1953), итальянский оператор — 262
Альтман Натан Исаевич (1989-1970), художник— 121
Аменгуаль Бартельми (1919-2005), французский киновед — 61, 80,110
Ананьев Виталий Анатольевич, оператор — 256
Андел Ярослав, чешский искусствовед— 103
Андриканис Евгений Николаевич (1909-1993), оператор — 259-261
Анненков Юрий Павлович (1889-1974), художник—121
Анненский Иннокентий Федорович (1855-1909), поэт — 6, 20
Антокольский Павел Григорьевич (1896-1978), поэт— 179
Аранышев Михаил Федорович (1912-1989), оператор— 162
Аристофан (ок. 445-ок. 385 до н.э.), древнегреческий комедиограф — 37,44
Арнольд (наст. фам. Барский) Арнольд Григорьевич (1897-1969), актер, режиссер цирка — 211,
276
Асафьев Борис Владимирович (1894-1949), музыковед, композитор — 66, 218
Асеев Николай Николаевич (1889-1963), поэт — 16
Аташева Пера Моисеевна (1900-1965), журналистка — 122, 224, 232, 233, 235, 236, 245, 248,
249, 251,279
Атже Эжен (1857-1927), французский фотограф — 111
Аткинсон Брукс (1894-1984), американский журналист — 230
Афиногенов Александр Николаевич (1904-1941), драматург—122
Ахматова (наст. фам. Горенко) Анна Андреевна (1899-1966), поэт — 6, 20, 21, 42, 66, 121, 129,
163
Бабанова Мария Ивановна (1900-1985), актриса— 117,126
Бабочкин Борис Андреевич (1904-1975), актер, режиссер —183
Багратион-Мухранский, князь —12
Багров Петр Алексеевич (р. 1982), историк кино — 41
Баландин Рудольф Константинович (р. 1934), писатель, геолог— 18
Балаш (правильно: Балаж) Бела (1884-1949), венгерский писатель, киновед — 84-88, 94, 100,
109
Барановская Вера Федоровна (1885-1935), актриса —112
Барановский Гавриил Васильевич (1860-1920), архитектор—120
Барнет Борис Васильевич (1902-1963), режиссер — 95
Бартельмес Ричард (1918-1963), американский актер — 65
Бархударов Степан Григорьевич (1984-1983), лингвист— 177
Баталов Алексей Владимирович (р. 1928), актер — 269,270,281
Бауэр Евгений Францевич (1865-1917), режиссер — 29
Белашова Екатерина Федоровна (1906-1971), скульптор— 110
Белоконь Елена Евгеньевна, киноинженер —180
Белый Андрей (наст, фам., имя, отч. Бугаев Борис Николаевич) (1888-1934), поэт — 69,190,216
Беляев Святослав Александрович (1903-1942), оператор — 31, 33, 35, 39, 40, 52, 72, 95, 127, 128, 219, 253
Бенуа Александр Николаевич (1870-1960), художник — 6, 73
Бенуа Леонтий Николаевич (1856-1928), архитектор — 52
Бенуа Николай Александрович (1901-1988), итальянский художник— 73
Бергман Ингмар (1918-2007), шведский режиссер — 264
Берггольц Ольга Федоровна (1910-1975), поэт — 119,144
Береговой Георгий Тимофеевич (1921-1995), космонавт— 182
Берингер Василий Яковлевич (наст, имя и отч. Вильям Балтазарович) (1875-1942), художник, фотограф — 32
Берковский Наум Яковлевич (1901-1972), литературовед — 219
Бернацкая Мария Георгиевна (1906-1990), монтажер— 179
Бетховен Людвиг ван (1770-1827), композитор — 19
Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927), невролог — 86
Бирман Серафима Германовна (1980-1976), актриса — 167,187, 202, 206-208, 222
Битцер Билли (наст, имя Вильгельм Готлиб) (1872-1944), американский оператор — 65, 66
Блейман Михаил Юрьевич (1904-1975), сценарист, критик— 31,42, 68, 69, 74, 75, 89, 95,111, 119, 121, 127, 176-179
Блинов Борис Владимирович (1909-1943), актер— 178
Блок Александр Александрович (1880-1921), поэт — 6,17,19, 84, 86,88,122,161,248
Блэк Александр Эдуардович (1907-1970), художник кино— 163
Блюм Леон (1872-1950), французский политик, — 144
Бляхин Павел Андреевич (1886-1961), сценарист — 90
Богданов Михаил Александрович (1914-1995), художник кино — 238
Богоров Ансельм Львович (1903-1993), оператор-документалист — 113,123
Большаков Иван Григорьевич (1902-1980), руководитель сов. кинематографии в 1939-1953 гг,— 173, 218, 237
Боратынский Евгений Абрамович (1800-1844), поэт — 232
Борис — см. Москвин Б.Н.
Борис Васильевич — см. Шпис Б.В.
Воронихин Евгений Александрович (1889-1929), актер — 48
Братья Васильевы, кинорежиссеры—119,121,127,136
Брейдис Вера Николаевна, администратор — 245
Брехт Бертольт (1898-1956), немецкий драматург и режиссер —184
Брик Лиля Юрьевна (1891-1978), литератор — 121
Брук Питер (р. 1925), английский режиссер — 108,111
Брюллов Карл Павлович (1799-1852), художник— 83, 84,177
Булгаков Михаил Афанасьевич (1891-1940), писатель — 233
Бурыкин Владимир Александрович (1928-1999), оператор — 257
Буслаев (наст. фам. Бутенко) Александр Николаевич (1894-1976), цирковой актер — 173
Бутовская Татьяна Яковлевна (1903-1985), экономист — 4
Бюрель Леон-Анри (1892-1977), французский оператор — 64
Вавилов Сергей Иванович (1891-1951), физик— 149
Вазари Джорджо (1511-1574), итальянский живописец, архитектор, историк искусства — 53
Вал Алексей Моисеевич, киноинженер — 279
Валентина Георгиевна — см. Козинцева В.Г.
Вальехо Сесар (1892-1938), перуанский писатель — 82
Ван Гог Винсент (1853-1890), голландский художник— 144
Ванин Василий Васильевич (1898-1951), актер, режиссер— 175, 225, 226
Варя — см. Москвина В.Н.
Васенко Андрей Богданович (1899-1951), инженер-стратонавт— 120
Васильев Владимир Васильевич (1921-1970), актер — 251
Васильев Георгий Николаевич (1899-1946), режиссер— 119,121, 127,136, 220, 221
Васильев Сергей Дмитриевич (1900-1959), режиссер— 119,121,127, 136, 252
Вачнадзе Нато (Наталия Георгиевна) (1904—1953), актриса — 29
Величко Евгений Иванович (1908-1942), оператор — 152
Вера Семеновна — см. Москвина В.С.
Верейский Георгий Семенович (1886-1962), художник— 121
Вериго-Даровский Фридрих Константинович (1874—1941), оператор — 27, 28-31, 35, 45
Верн Жюль (1829-1905), французский писатель — 21
Вернадский Владимир Иванович (1863-1954), геохимик, биохимик— 18
Вертинская Лидия Александровна, актриса — 252
Вертов Дзига (наст, фам., имя, отч. Кауфман Денис Аркадьевич) (1896-1954), режиссер — 67,
103
Виницкий Давид Эльевич (1919-2000), художник кино— 194, 219, 220, 248, 262
Вирсаладзе Симон Багратович (1909-1989), художник — 275
Висковский Вячеслав Казимирович (1881-1933), режиссер — 28, 38,45, 46,48
Висконти Лукино (1906-1976), итальянский режиссер — 262
Вишневский Всеволод Витальевич (1900-1951), писатель — 170,173
Власов Василий Андреевич (1905-1979), художник— 163
Волк Илья Федорович (1895-1975), звукооператор— 114,124,126,127,137,142,182, 219, 229,
242
Волосов Давид Самуилович (1910-1980), физик-оптик— 149, 247, 250
Волчек Борис Израилевич (1905-1974), оператор— 116,172,183, 201,220, 263
Волынский (наст. фам. Флексер) Аким Львович (1863-1926), искусствовед — 100
Вольпин Михаил Давыдович (1902-1988), поэт, сценарист— 182
Вольтер (наст. фам. и имя Аруэ Мари Франсуа) (1694-1778), французский писатель — 248
Вудинг Самуэл, американский джазовый музыкант — 73
Вульфович Теодор Юрьевич (1923-2004), режиссер — 275, 276
Вяземский Петр Андреевич (1792-1878), поэт, критик— 71
Габрилович Евгений Иосифович (1899-1993), драматург — 14, 242
Гаврилин Валерий Александрович (1939-1999), композитор — 68, 98, 280
Гаевский Вадим Михайлович (р. 1928), искусствовед — 69
Галилей Галилео (1564-1642), итальянский физик —
Гальперин Александр Владимирович (1907-1995), оператор — 179, 248
Гальперина Софья Борисовна, жена А.В.Гальперина — 179
Гамсун Кнут (наст. фам. и имя Петерсен Кнуд), (1859-1952), норвежский писатель — 20
Гарбо (наст. фам. Густафсон) Грета (1905-1990), шведская, затем американская актриса — 65
Гардин (наст. фам. Благонравов) Владимир Ростиславович (1877-1965), актер, режиссер — 38, 77
Гарин (наст. фам. Герасимов) Эраст Павлович (1902-1980), актер — 125-127,134,135
Гарсия Маркес Габриель (р.1927), колумбийский писатель — 49, 68
Гауптман Герхарт (1862-1946), немецкий писатель — 20
Ге Николай Николаевич (1831-1894), художник— 100
Гелейн Игорь Владимирович (1905-1985), оператор— 171,172
Герасимов Александр Михайлович (1881-1963), художник— 223
Герасимов Сергей Аполлинариевич (1906-1985), актер, режиссер — 36, 43, 61, 74, 79, 84, 91,
104, 109,115-117,127
Герман Юрий Павлович (1910-1967), писатель— 175, 226, 236
Гершуни Григорий Викторович (1905-1992), физиолог— 177
Гинзбург Лидия Яковлевна (1902-1990), литературовед — 238, 263
Гинзбург Семен Сергеевич (1907-1974), киновед— 110
Гинцбург Александр Ильич (1907-1972), оператор — 89, 127,128,130, 144,146, 145,161,253
Гиш Лилиан (1896-1993), американская актриса — 65
Гладков Александр Константинович (1912-1976), писатель — 230
Глазунов Владимир Федорович, соученик А.Н.Москвина в Реальном училище— 12
Глазунова Александра Федоровна, сестра В.Ф.Глазунова — 17
Глазуновы —121
Глинка Михаил Иванович (1804-1857), композитор — 5
Глушков Виктор Михайлович (1923-1982), математик— 142
Гоголь (наст. фам. Гоголь-Яновский) Николай Васильевич (1809-1852), писатель — 5,18, 36, 50, 51,56, 57, 64,66, 69, 72
Гойа Франсиско Хосе (1746-1828), испанский художник— 88
Голейзовский Касьян Ярославович (1892-1970), балетмейстер— 120
Голицин, князь —12
Голлербах Эрих Федорович (1895-1942), искусствовед, литературовед— 5, 6,11,12, 21
Головин Александр Яковлевич (1863-1930), художник — 6
Головня Анатолий Дмитриевич (1900-1982), оператор — 20, 31,41, 66, 67, 88, 90, 103,110,120, 127, 128, 132, 133, 144, 151, 168-172, 218, 238, 248
Гольдберг Борис Абрамович, соученик А.Н.Москвина в Реальном училище — 12
Гольдберг Илья Абрамович (1904-1986), оператор— 10,12
Горданов (в титрах фильмов: Гарданов) Вячеслав Вячеславович (1902-1983), оператор — 16,17, 19, 20, 22-24, 26, 27, 29, 30, 32, 39, 70, 86, 113, 116, 120, 123, 127, 128, 146, 147, 149, 170, 174, 175, 186, 187, 215, 221,227, 239, 253
Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967), поэт — 6
Горький Максим (наст, фам., имя, отч. Пешков Алексей Максимович) (1868-1936), писатель — 50,121
Горюнов Василий Васильевич (1908-1982), гример— 198,199, 215, 224
Грабарь Игорь Эммануилович (1871-1960), художник, искусствовед— 186
Гребнер Ольга Ивановна (1895-1974), мать В.Г.Козинцевой — 234, 244
Григорий Михайлович — см. Козинцев ГМ.
Григорий Николаевич — см. Москвин ГН.
Григорьев Борис Дмитриевич (1886-1939), художник— 121
Гриффит Дэвид Уорк (1875-1948), американский режиссер — 43, 63, 65
Гриценко Лилия Олимпиевна (1917-1989), актриса — 237
Грицюс Йонас (р. 1928), оператор — 85, 240, 242, 254-257, 259, 261, 262, 275, 279
Гриша — см. Москвин ГН.
Гросс (наст. фам. Эренфрид Гросс) Георг (1893-1959), немецкий художник— 88
Гумилев Николай Степанович (1886-1921), поэт — 6, 20, 21,24, 66
Гумилева Анна Ивановна (1854-1922), мать Н.С.Гумилева — 6, 20, 21
Гусев Петр Андреевич (1904-1987), балетмейстер — 120
Да Верона, Гвидо (1881-1930), итальянский писатель — 20, 29
Далматов Александр Дмитриевич (1873-1938), оператор — 31,45,46,48
Даль Владимир Иванович (1801-1872), писатель, лексикограф— 19
Даниэле Уильям (1895-1970), американский оператор — 66
Данте (1265-1321), итальянский поэт— 118
Дебюсси Клод (1862-1918), французский композитор — 19
Дега Эдгар (наст. фам. и имя де Га Эдгар-Жермен-Илер) (1834-1917), французский художник — 111
Делакруа Эжен (1798-1863), французский художник—78, 82,104,111, 217, 280
Демуцкий Даниил Порфирьевич (1893-1954), оператор — 103,172
Дербенев Вадим Клавдиевич (р. 1934), оператор, режиссер — 278
Державин Гаврила Романович (1743-1816), поэт — 5
Джент Арнольд (1869-1942), американский фотограф — 22
Дикий Алексей Денисович (1889-1955), актер, режиссер — 229
Дитрих Марлен (1901-1992), немецкая, затем американская актриса — 270
Добин Ефим Семенович (1901-1977), литературовед, киновед— 38, 69,169
Добужинский Мстислав Валерианович (1875-1957), художник — 6,121
Довженко Александр Петрович (1894-1956), режиссер — 3, 95,149,185
Долинин Дмитрий Алексеевич (р. 1938), оператор, режиссер— 186
Домбровский Виктор Викторович (1906-1995), оператор — 184,193, 214, 237
Домье Оноре (1808-1879), французский художник — 83, 84, 88,111
Донской Яков Григорьевич, инженер — 246
Доре Поль Гюстав (1832-1883), французский художник— 172
Дранков Александр Осипович (1886-1948), фотограф, оператор — 29
Дранков Лев Осипович (1888-1942), оператор — 29
Дрейер Карл Теодор (1889-1968), датский режиссер — 63,262
Дудинцев Владимир Дмитриевич (1918-1998), писатель — 238
Дудко Аполлинарий Иванович (1909-1971), оператор— 155,156, 245, 247, 251,253
Дэдэ — см. Месхиев Д.Д.
Дюма Александр (1802-1870), французский писатель — 82
Евдаков Александр Васильевич, заведующий пекарней — 47
Евтушевский Василий Адрианович (1836-1888), педагог, автор учебника по арифметике — 11
Егорова Александра Романовна, архитектор — 180
Екельчик Юрий Израилевич (1907-1956), оператор— 146,172, 201,248, 262
Емельянцева Лариса Семеновна (1916-1993), актриса — 165
Еней Евгений Евгеньевич (1890-1971), художник кино — 35, 37, 41,43, 44, 58, 66, 72, 73, 76, 78, 82, 84, 94, 95-97, 105, 107, 109, 111, 117, 121, 127, 132, 135, 141, 142, 153, 157, 162, 163, 168, 181, 182,183,192,196, 219, 226, 227, 241,242, 245, 248, 250, 252, 253, 275, 277, 278, 280
Еремеева Антонина Николаевна (1908-199?), певица — 58, 59
Ермолов Петр Васильевич (1887-1953), оператор— 128
Есенин Сергей Александрович (1895-1925), поэт — 6
Ефимов Николай Николаевич (1905-1975), киновед — 88
Ефремов Николай Васильевич (1873-1937), оператор — 27, 29
Жаков Олег Петрович (1905-1988), актер — 81,193, 210
Жаров Михаил Иванович (1899-1981), актер—154,156,159,167,173,181
Жданов Андрей Александрович (1896-1948), советский партийный деятель — 173,187, 231
Жеймо Янина Болеславовна (1909-1987), актриса — 103,167, 223
Желябужский Юрий Андреевич (1888-1955), режиссер, оператор — 50
Жилин Николай Николаевич (р. 1932), оператор — 278
Жуковский Василий Андреевич (1783-1852), поэт — 5, 6
Забабурин Николай Яковлевич, инженер-оптик— 76, 97
Забозлаев Сергей Петрович (1884-?), оператор — 79
Завелев Борис Исаакович (1876-1938), оператор — 29,47,100
Зазулин Александр Александрович (1909-1984), оператор — 161,162
Залка Мате (наст. фам. и имя Франкль Бела) (1896-1937), венгерский писатель — 162
Замятин Евгений Иванович (1884-1937), писатель — 74
Заржицкая Анна Яковлевна (1907-1994), актриса —104
Зархи Александр Григорьевич (1908-1997), режиссер — 47,127
Зархи Натан Абрамович (1900-1935), сценарист — 50
Захорска Стефания (1889-1961), польская писательница и искусствовед— 140
Зебер Гвидо (1879-1940), немецкий оператор — 63, 64
Золя Эмиль (1840-1902), французский писатель — 94,110
Зон Борис Вульфович (1898-1966), режиссер— 193
Зощенко Михаил Михайлович (1894-1958), писатель — 226
Ибн Сина, Абу Али (европ. имя Авиценна) (980-1037), средне-азиатский ученый-энциклопедист —150
Ибсен Генрик Юхан (1828-1906), норвежский драматург — 20
Иван IV Васильевич Грозный (1530-1584), царь — 204, 274
Иванов Александр Гаврилович (1898-1984), режиссер — 235
Иванов Семен Николаевич (1918-1997), оператор — 257, 258
Иванов Сергей Васильевич (1905-1987), оператор — 237,238,279
Ивановский Александр Васильевич (1881-1968), режиссер — 29, 30, 51,71, 77
Иезуитов Николай Михайлович (1899-1941), киновед— 147
Ильин Роман Николаевич (1923-?), оператор, педагог ВГИКа — 256, 257
Ильф (наст. фам. Файнзильберг) Илья Арнольдович (1897-1937), писатель — 151
Иогансен Вильгельм Людвиг (1857-1927), датский биолог — 86
Иогансон Эдуард Юльевич (1894-1942), режиссер — 72,161
Иодкайте Алдона, литовская актриса — 240
Иофис Евсей Абрамович (1905-1978), киноинженер, педагог —130,180, 214
Иоффе Абрам Федорович (1880-1960), физик — 71
Кавалеридзе Иван Петрович (1887-1978), скульптор, режиссер — 146
Каверин Вениамин Александрович (1902-1989), писатель — 77, 90, 92, 121,244
Кадочников Павел Петрович (1915-1988), актер—193, 207
Калатозов (наст. фам. Калатозишвили) Михаил Константинович (1903-1973), режиссер — 33,
238, 262, 263
Кальман Имре (1882-1953), венгерский композитор — 182
Каноэ Хйдемаро (1898-1973), японский композитор — 120
Каплан Исаак Михайлович (1924—1997), художник кино — 265, 269
Каплан (псевд. Серебряков) Михаил Григорьевич (1906-1987), оператор— 162,170,172, 249
Каплер Алексей Яковлевич (1904—1979), сценарист — 34, 58, 61,62,121,244
Капра Фрэнк (1897-1991), американский кинорежиссер —158
Карамзин Николай Михайлович (1766-1826), писатель, историк— 5
Карасев Виктор Яковлевич (р. 1934), оператор — 278
Карев Алексей Еремеевич (1879-1942), художник— 121
Каролюнас Бронислав Казимирович (1899-1937), приятель студенческих лет А.Н.Москвина —
17, 22, 25
Касьянова Людмила Ивановна, актриса, журналистка — 252
Катаев Валентин Петрович (1897-1986), писатель — 244
Катаев Петр Евгеньевич (1930-1986), оператор — 263
Кауфман Михаил Абрамович (1897-1980), оператор — 103
Каюков Степан Яковлевич (1898-1960), актер — 126
Кваренги Джакомо (1744—1817), архитектор — 225
Киреевский Иван Васильевич (1806-1856), философ, критик— 244
Кириллов Михаил Николаевич (1908-1975), оператор— 127
Киров (наст. фам. Костриков) Сергей Миронович (1886-1934), политический деятель— 149
Кирпичева Вера, приятельница А.Н.Москвина в студенческие годы — 17, 24
Кирсанов Димитрий (наст, фам., имя, отч. Каплан Марк Давидович) (1899-1557), французский режиссер—105
Кладо Николай Николаевич (1909-1990), кинокритик—104
Кларк Кеннет (1903-1983), английский искусствовед — 209
Кларк Чарльз (1899-1983), американский оператор — 144
Клейман Наум Ихильевич (р. 1937), киновед — 4,188, 207
Козинцев Григорий Михайлович (1905-1973), режиссер —16,17, 30, 33-40,42,44, 50, 51,53, 56, 59, 62, 65, 74, 76, 77, 80, 82-86, 89, 91, 93-97, 105, 106, 108, 109, 111, 112-115, 119, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 136, 137, 139, 142, 143, 151-154, 156, 159, 163-165, 167-169, 171, 173-177,179,181,182-185,187,192,193, 201,209, 210, 229, 232, 234, 236, 237, 241,244, 248, 249, 251-253, 255, 259, 261, 264, 268, 270, 273-276, 278, 280
Козинцева Валентина Георгиевна (1914-2009), актриса, жена ГМ.Козинцева — 227, 234
Козинцева-Эренбург Любовь Михайловна (1900-1970), художник— 94
Козлов Иван Иванович (1779-1840), поэт — 237
Козлов Леонид Константинович (1933-2006), киновед — 4, 203, 207, 265
Козловский Николай Феофанович (1887-1939), оператор — 52
Колумб Христофор (1451-1506), мореплаватель — 63
Кольцатый Аркадий Николаевич (1905-1995), оператор — 147,171, 201,227, 253
Коля — см. Н.А.Москвин
Конвей Джек (1887-1952), американский режиссер — 144
Корин Павел Дмитриевич (1892-1967), художник — 223
Корнилов Борис Петрович (1907-1938), поэт — 118
Коро Камиль (1796-1875), французский художник— 111
Корчагина-Александровская Екатерина Павловна (1874-1951), актриса — 209
Косматое Леонид Васильевич (1901-1977), оператор — 39, 127, 128, 144, 156, 172, 179, 214, 218, 255, 263
Костричкин Андрей Александрович (1901-1973), актер — 51,60, 66, 84, 91,142, 226
Кошеверова Надежда Николаевна (1902-1989), режиссер — 98,124,137,147,148,157,173,177, 182,183, 223, 235, 238, 240, 262, 280
Краевич Константин Дмитриевич (1833-1892), педагог, автор учебников по физике и алгебре—11
Криммер Фридрих Эдуардович (1888-1963), финансист, ученый— 73,121, 234, 244
Крыжицкий Георгий Константинович (1895-1976), режиссер — 34
Ксенофонтов Александр Сергеевич (1911-1968), оператор — 245
Кузнецов Михаил Матвеевич (1914-1980), критик— 264, 265
Кузьмина Елена Александровна (1909-1979), актриса — 105-108,112, 114,115
Кулешов Лев Владимирович (1899-1970), режиссер — 30, 66, 84
Куманьков Евгений Иванович (р.1920), художник кино — 243
Курилов Сергей Иванович (1914-1987), актер — 236
Курихин Никита Федорович (1922-1968), режиссер — 275, 276
Кустодиев Борис Михайлович (1878-1927), художник— 121
Кутузов Михаил Иванович (1745-1813), полководец — 56, 61
Куховаренко Олег Федорович (1925-2004), оператор — 257, 263
Кучинскас Паулюс, ксендз — 240
Куйал Гвидо (1898-1970), чешский сценарист и критик— 78
Кюн Альберт Карлович (1888-?), оператор — 46
Кякшт Лидия Евгеньевна (1905-1976), монтажер —179
Лазарев, водопроводчик— 104,109
Ланг Фриц (наст, имя Фридрих) (1890-1976), немецкий режиссер — 63
Ландау Лев Давыдович (1908-1968), физик— 18
Лебедев Владимир Васильевич (1891-1967), художник—177
Лебедев Николай Алексеевич (1897-1978), киновед— 74, 76,110
Лебедев Николай Иванович (1897-1989), режиссер — 247
Лебедева Сарра Дмитриевна (1892-1967), скульптор— 177
Лебэак Ольга Яковлевна (1914-1983), актриса — 220
Левидов (наст. фам. Левит) Михаил Юльевич (1891-1942), писатель, критик—115
Левинсон Евгений Адольфович (1894-1968), архитектор— 120, 233
Левитан Исаак Ильич (1860-1900), художник — 102
Левитанский Юрий Давыдович (1922-1996), поэт — 28
Левицкий Александр Андреевич (1885-1965), оператор — 29, 30, 45, 65, 66,100,128
Лейбошиц Нелли Яковлевна (1918-?), архитектор—180
Лейда Джей (1910-1988), американский киновед — 231
Лейтес Александр Михайлович (1899-1976), литературный критик — 4
Лепко Владимир Алексеевич (1898-1963), актер — 54
Леонардо да Винчи (1452-1519) — итальянский художник и ученый — 3, 22, 27, 63, 85,100,101,
111, 123, 188, 190, 209, 217, 267, 272, 280
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841), поэт — 5, 6, 84
Либерг Александр Александрович, учитель Царскосельского реального училища — 13,14
Лозинский Михаил Леонидович (1886-1955), поэт, переводчик — 278
Лондон Джек (наст. фам. и имя Гриффит Джон) (1876-1916), американский писатель — 177
Лопухов Федор Васильевич (1886-1973), балетмейстер, танцовщик— 120
Луговская Татьяна Александровна (1909-1994), художник — 179
Луговской Владимир Александрович (1901-1957), поэт — 118,178
Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933), писатель, критик, сов. государственный де-
ятель — 37
Магарилл Софья Зиновьевна (1900-1943), актриса — 79, 80, 84,106,142,178
Магид Михаил Соломонович (наст, имя и отч. Моисей Шоломович) (1910-1965), оператор —
238, 264
Магидсон Марк Павлович (1901-1954), оператор— 127,172, 220, 237, 238, 263
Макарова Тамара Федоровна (1907-1997), актриса — 90, 91
Макиавелли Николо ди Бернардо (1469-1527), итальянский политический мыслитель, писатель —188
Малевич Казимир Северинович (1878-1935), художник— 17
Малер Густав (1860-1911), австрийский композитор— 19
Маль Луи (1932-1995), французский режиссер — 85
Мамардашвили Мераб (1930-1990), философ — 267
Мамин-Сибиряк (наст. фам. Мамин) Дмитрий Наркисович (1852-1912), писатель — 6,118
Мандельштам Осип Эмильевич (1891-1938), поэт — 6, 66
Мане Эдуар (1832-1883), французский художник— 110
Маневич Белла (наст. фам. и имя Маневич-Каплан Берта) Семеновна (1922-2002), художник кино — 242, 248, 259, 265, 269, 271
Манн Томас (1875-1955), немецкий писатель — 25, 222, 230
Маранджян Генрих Саакович (1926-2011), оператор — 268
Марджанов Константин Александрович (наст. фам. и имя Марджанишвили Котэ) (1872-1933), режиссер— 16,17, 34
Маркс Карл (1818-1883), немецкий философ, политический деятель — 94, 95, 218
Мартинсон Сергей Александрович (1899-1984), актер — 37, 56
Мартов Жозеф Климентьевич (1900-1972), оператор— 124, 127,130,163, 171,172, 253
Мартынов Леонид Николаевич (1905-1980), поэт — 57
Маршак Самуил Яковлевич (1887-1964), поэт — 181
Матвеев Александр Терентьевич (1878-1960), скульптор — 177,178
Матвеева Новелла Николаевна, поэт— 131
Матэ Рудольф (1898-1964), французский, затем американский оператор, режиссер — 262
Матисс Анри (1869-1954), французский художник— 33
Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930), поэт — 35, 36, 72, 74, 96, 244
Мгебров Александр Авельевич (1884-1966), актер —193
Медокс Роман Михайлович (1795-1859), авантюрист, провокатор — 77
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (наст. фам. и имя Майергольд Карл Казимир Теодор) (1874-1940), режиссер —6, 35,36,44, 53, 65, 69,111,119,120,148,150,162,199
Мейнкин Семен Львович (1892-1942), художник кино —18, 20,27,66
Мейринк (наст. фам. Майринк) Густав (1868-1932) — австрийский писатель -18,20,66,104
Мельес Жорж (1861-1938), французский режиссер — 64
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866-1941), писатель — 22, 29,102,190, 202, 274, 278, 282
Месхиев Дмитрий Давыдович (1925-1983), оператор — 4, 239, 247,256-259, 264, 265, 268-272, 275, 276, 279-281
Микеланджело (наст. фам. и имя Буонаротти Микеланджело) (1475-1564), итальянский скульптор, художник, поэт — 3,101
Милашевский Владимир Алексеевич (1893-1976), художник—16
Мильман (по мужу Мильман-Криммер) Рашель Марковна (1897-1976), режиссер — 4, 31,73, 74, 90-92, 119, 121, 122, 149, 234
Мильтинис Юозас (1907-1994), литовский режиссер и актер — 108, 240
Минтер Мэри Майлс (наст. фам. и имя Райли Жюльет) (1902-1984), американская актриса — 65
Михайлов Евгений Сергеевич (1897-1975), оператор — 4,39,40,44, 51,53-55,57, 59,65, 72-74, 78, 85-88, 94, 95, 97,102,119,121,123,127,128,143,149,150,192, 253
Михоэлс (наст. фам. Вовси) Соломон Михайлович (1890-1948), актер, режиссер — 121
Мичурин Николай Иванович (1873-1964), актер — 84,229
Миша — см. Москвин М.Н.
Модильяни Амадео (1884-1920), французский художник — 20
Молотов (наст. фам. Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-1986), советский политический деятель — 231
Монахов Владимир Васильевич (1922-1983), оператор — 263
Монферран Огюст (1786-1858), архитектор — 56
Мордвинов Николай Дмитриевич (1901-1966), актер — 179
Моруа Андре (наст. фам. и имя Эрзог Эмиль) (1885-1967), французский писатель — 9
Москвин Борис Николаевич, (1905-?) оптик, брат А.Н.Москвина — 7-9, 149
Москвин Григорий Николаевич (1909-1986), инженер-конструктор, брат А.Н.Москвина — 7-9, 13, 14,16, 19,126
Москвин Иван Михайлович (1874—1946), актер — 50,125
Москвин Михаил Николаевич (1907-?), химик, брат А.Н.Москвина — 7-9
Москвин Николай Андреевич (1935-1996), физик, сын А.Н.Москвина— 148, 249
Москвин Николай Дмитриевич (1862-1915), инженер, отец А.Н.Москвина — 7-12,149,187
Москвин Семен Николаевич (1897-1938), инженер-конструктор, брат А.Н.Москвина — 8-10, 15,119,126,162
Москвина Варвара Николаевна (1899-1930), врач, сестра А.Н.Москвина — 7-9
Москвина Вера Семеновна (1869-1927), мать А.Н.Москвина — 7-9
Москвина Елена Николаевна (1903-?), сестра А.Н. Москвина — 7-9
Моцарт Вольфганг Амадей (1756-1791), австрийский композитор— 17
Мравинский Евгений Александрович (1903-1988), дирижер — 129,194
Мунгалова Ольга Петровна (1905-1942), балерина— 120
Мурнау (наст. фам. Плумпе) Фридрих Вильгельм (1888-1931), немецкий, затем американский режиссер — 63
Муссинак Леон (1890-1964), французский писатель, киновед — 224
Мэй Ланьфан (1894-1961), китайский актер— 150, 214
Мясников Геннадий Алексеевич (1919-1989), художник кино — 238
Надар (наст. фам. и имя Турнашон Гаспар Феликс) (1820-1910), французский фотограф — 111
Надежда Николаевна — см. Кошеверова Н.Н.
Назаров Анатолий Михайлович (1906-1987), оператор— 123,124, 220, 221, 227
Наполеон I Бонапарт (1769-1821), французский император — 33
Недоброво Владимир Владимирович (1905-1951), критик, сценарист — 69, 76, 78, 84
Нейгауз Генрих Густавович (1888-1964), пианист — 31, 256
Нестеров Михаил Васильевич (1862-1942), художник— 250
Нетте Теодор Иванович (1895 или 1896-1926), дипломатический курьер — 72
Нечаев-Мальцев Юрий Степанович (1834-1913), промышленник, меценат — 28
Николаевы, братья, приятели А.М.Москвина в студенческие годы—17, 26
Николай II (1868-1818), император — 8,11
Нильсен Владимир Семенович (наст, фам., имя, отч. Альпер Владимир Соломонович) (1906-1938), оператор —67, 85, 89, 90,101,143,146,149,150,162
Обухова Надежда Андреевна (1886-1961), певица — 265
Одоевский Александр Иванович (1803-1839), поэт — 63
Оксман Юлиан Григорьевич (1895-1970), литературовед — 76, 77, 84, 244
Окуджава Булат Шалвович (1924-1997), поэт — 96
Ольга Ивановна — см. Гребнер О.И.
Омар Хайам (1048-после 1122), персидский поэт, философ, математик и астроном — 280
Оффенбах Жак (1819-1880), французский композитор —182
Пабст Георг Вильгельм (1885-1967), немецкий и австрийский режиссер — 63
Павлов Аркадий Петрович, соученик А.М.Москвина по Институту инженеров путей сообщения, позже профессор этого института — 249
Панкратьев Алексей Алексеевич (1903-1983), оператор —146
Пастернак Борис Леонидович (1890-1960), поэт — 119,142,153,199, 205, 223
Патлис Леонид Петрович (1873-1941 или 1942), оператор— 89
Паустовский Константин Георгиевич (1892-1968), писатель — 70
Певцов Илларион Николаевич (1879-1934), актер — 50, 51
Пелль Владимир Георгиевич (1912-1979), инженер-светотехник—174,179,182-184,187,212, 239, 246, 250, 267
Пельтцер Татьяна Ивановна (1904-1992), актриса —219
Передерий Григорий Петрович (1871-1953), инженер—18
Перрюшо Анри (1917-1967), французский писатель, искусствовед —241
Перуджино Пьетро (ок. 1446-1523), итальянский художник — 63
Петров Владимир Михайлович (1896-1966), режиссер — 31,52,74,124,127
Петров (наст. фам. Катаев) Евгений Петрович (1903-1942), писатель — 151
Петров-Бытов Павел Петрович (1895-1960), режиссер—128
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878-1939), художник— 121
Пикассо Пабло (1881-1973), французский художник— 86,111,169
Пикфорд Мэри (наст. фам. и имя Смит Глэдис) (1893-1979), американская актриса — 64
Пименов Юрий Иванович (1903-1977), художник— 190
Пио Рене (1866-1934), французский художник, искусствовед — 217
Пиотровский Адриан Иванович (1898-1938), театровед, киновед, переводчик— 35, 37, 38, 42, 49, 69, 92, 115, 117, 124, 127, 128, 136, 143, 147,162
Пирогов Николай Иванович (1810-1881), хирург — 225
Планк Макс (1858-1947), немецкий физик — 86
Пластов Аркадий Александрович (1893-1972), художник — 223
Платонов Сергей Федорович (1860-1933), историк— 119
Погодин (наст. фам. Стукалов) Николай Федорович (1900-1962), драматург— 125
Посельский Яков Михайлович (1892-1951), режиссер— 119
Посыпкин Павел Семенович (1901-1942), оператор — 123,133,137,173
Предовский Александр Федорович (1899-?), инженер, соученик А.Н.Москвина по Реальному училищу и Институту инженеров путей сообщения— 9, 10, 12-15, 17-19,21,25,248
Предовский Николай Федорович, инженер, соученик А.Н.Москвина по Институту инженеров путей сообщения— 14,15,17,18, 26
Прилежаев Александр Иванович (1876-1935), профессор Высшего института фотографии и фототехники— 32
Пришвин Михаил Михайлович (1873-1954), писатель— 103,118
Проворов Федор Федорович (1905-1975), оператор — 214
Прокофьев Сергей Сергеевич (1891-1953), композитор— 19, 72,195, 205, 210, 222, 231,249
Пронский Константин Иванович (1887-1949), директор Ленинградской фабрики Совкино во 2-ой половине 20-х годов — 49, 51
Протазанов Яков Александрович (1881-1945), режиссер — 29, 64
Птушко Александр Лукич (1900-1973), режиссер — 181
Пудовкин Всеволод Илларионович, (1893-1953) режиссер — 3, 31, 50, 90, 95,108, 112,113,120, 131-133, 142, 157, 172, 179, 231, 263
Пуни Иван Альбертович (1894-1956), художник— 121
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837), поэт — 5, 6, 17, 50, 70, 84, 100, 170, 186, 188, 194, 214, 274
Пырьев Иван Александрович (1901-1968), режиссер — 238
Рабинович Исаак Моисеевич (1894-1961), художник— 34
Равель Морис (1875-1937), французский композитор — 19, 97
Радлов Сергей Эрнестович (1892-1958), режиссер — 35
Райзман Юлий Яковлевич (1903-1994), режиссер— 128, 238
Райх Зинаида Николаевна (1894-1939), актриса — 148
Раковский Валентин Викторович (1921-2010), киноинженер — 229, 234, 245, 249, 280
Рапопорт Владимир Абрамович (1907-1975), оператор — 130,146,147,151, 253
Раппапорт Герберт Морицович (1908-1983), режиссер — 238
Растрелли Варфоломей (наст, имя Бартоломео Франческо) Варфоломеевич (1700-1771), архитектор — 275
Рафаэль Санти (1483-1520), итальянский художник— 3
Рахлин Натан Григорьевич (1906-1979), дирижер — 173
Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943), композитор— 159
Рашель — см. Мильман Р.М.
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669), голландский художник — 101,111,169,198
Ренуар Огюст (1841-1919), французский художник— 110,111
Ренье Анри Франсуа Жозеф де (1864-1936), французский писатель — 20
Репин Илья Ефимович (1844-1930), художник— 186, 220
Респиги Отторино (1879-1936), итальянский композитор — 97
Рид Томас Майн (1818-1883), английский писатель — 21
Риттау Гюнтер (1893-1971), немецкий оператор — 64
Рихтер Святослав Теофилович (1915-1997), пианист— 169,195
Роден Огюст (1870-1917), французский скульптор — 33
Роденбах Жорж (1855-1898), бельгийский писатель — 5
Рождественский Всеволод Александрович (1895-1977), поэт — 6
Розовский Эдуард Александрович (р. 1926), оператор — 255
Роллан Ромен (1866-1944), французский писатель — 63, 67
Ромм Михаил Ильич (1901-1971), режиссер— 116,175,183, 201
Роом Абрам Матвеевич (1894-1976), режиссер— 146
Росси Карл Иванович (1775-1849), архитектор — 225
Ростоцкий Станислав Иосифович (1922-2001), режиссер — 232, 279
Рошаль Григорий Львович (1899-1983), режиссер — 238, 255
Рошер Чарльз (1885-1974), американский оператор — 64
Рубашкин Самуил Яковлевич (1906-1975), оператор — 276
Рублев Андрей (ок. 1360/1370-1428), художник— 204
Рудницкий Константин Лазаревич (1920-1988), театровед— 182,184
Рыбаков Иосиф Израилевич (1880-1938), юрист — 121
Сабинина Марина Дмитриевна (1917-2000), музыковед— 148
Сабинский Чеслав Генрихович (1885-1941), режиссер — 76
Саввина Ия Сергеевна (1936-2011), актриса — 246, 270, 272, 276-278
Савченко Игорь Андреевич (1906-1950), режиссер — 151,194, 201
Садуль Жорж (1904-1967), французский киновед — 85, 96,158
Салтыков-Щедрин (наст. фам. Салтыков) Михаил Евграфович (1826-1889), писатель — 5
Самойлов (наст. фам. Кауфман) Давид Самойлович (1920-1990), поэт— 173, 256, 273
Санд Жорж (наст. фам. и имя Дюпен Аврора) (1804-1976), французская писательница — 104
Сапунов Николай Николаевич (1880-1912), художник— 83, 84
Сартов Хендрик (1885-1970), американский оператор — 65
Сарьян Мартирос (1880-1972), армянский художник— 215, 223, 244
Сезанн Поль (1839-1906), французский художник—241 Семен — см. Москвин С.Н.
Семенов Николай Николаевич (1896-1986), физикохимик— 71
Семенова Людмила Николаевна (1899-1990), актриса — 39,42,43,44, 96,103
Семенова Марина Тимофеевна, балерина — 72
Сервантес Сааведра Мигель де (1547-1616), писатель — 251
Сергеев Михаил Алексеевич (1888-1965), этнограф, писатель — 121
Сергеева Галина Ермолаевна (1914—2000), актриса — 183
Серж — см. Александров-Серж А.С.
Серов Валентин Александрович (1865-1911), художник— 85,110,111,169,189, 216,231,241
Сибирская Надя (наст. фам. и имя Лёба Жанна Мари Жозеф) (1901-1986), французская актриса— 105
Сигаев Александр Иванович (1893-1971), оператор — 147
Симбирцев Василий Иванович (1895-2-я пол. 1970-х), оператор— 123,125
Симонов Константин (наст, имя Кирилл) Михайлович (1915-1979), писатель —183, 220
Ситон Мэри (1910-1985), британская журналистка— 185
Скоробогатов Константин Васильевич (1887-1969), актер — 226, 228-230, 246
Скрябин Александр Николаевич (1872-1915), композитор — 6, 19, 86
Славин Лев Исаевич (1896-1984), писатель — 151,156
Славинский Евгений Иосифович (1877-1950), оператор— 29, 64,100,128
Смирнов Дмитрий, соученик А.Н.Москвина по Реальному училищу и Институту инженеров путей сообщения— 12, 13, 15, 17, 18, 23, 24, 26
Смоктуновский (наст. фам. Смоктунович) Иннокентий Михайлович (1925-1994), актер — 277
Собинов Леонид Витальевич (1872-1934), певец — 72
Соболевский Петр Станиславович (1904-1977), актер — 38, 42, 43, 79, 84,105,112,167
Сокольский Лев Евгеньевич (1910-1970), оператор — 238, 264
Соллертинский Иван Иванович (1902-1944), музыковед, театровед— 153,162
Соловьева (наст. фам. Базилевская) Инна Натановна, театровед, киновед — 233
Сомов Андрей Иванович (1830-1909), искусствовед — 6, 52
Сомов Константин Андреевич (1869-1939), художник— 52, 94, 121
Срезневский Вячеслав Измаилович (1849-1937), профессор Высшего института фотографии и фототехники — 32
Сталин Иосиф Виссарионович (1879-1953) — 151, 158, 160, 185, 219, 223, 231, 233, 237, 241, 273-275
Станиславский (наст. фам. Алексеев) Константин Сергеевич (1863-1938), режиссер — 6
Стейхен (наст. фам. Штайхен) Эдвард (1879-1973), немецкий, затем американский фотограф — 33
Стерн Лоренс (1713-1768), английский писатель — 17
Стравинский Игорь Федорович (1882-1971), композитор — 19
Стреблов Иван Богданович (1875-1951), художник— 23
Стриженов Олег Александрович (р. 1929), актер — 242
Струговщиков Александр Николаевич (1808-1878), поэт, переводчик — 83
Ступень Александр Моисеевич (1898-1985), музыковед — 97
Суворов Николай Георгиевич (1889-1972), художник кино — 56,127,147,170,171
Судейкин Сергей Юрьевич (1882-1946), художник— 121
Судовский Дмитрий Аркадьевич (1873-1942), учитель Царскосельского реального училища —
12
Суриков Василий Иванович (1848-1916), художник— 213
Сурис Борис Давыдович (1923-1991), искусствовед—163
Сухинов Иван Иванович (1795-1828), офицер-декабрист — 77
Сысоев Алексей Георгиевич (1905-кон. 80-х-нач. 90-х), оператор— 137,155,173, 219
Тайхан (детское имя Эльяны Саймуловны Павловой), школьница-алтайка, снимавшаяся в «Одной» —116
Тарковский Андрей Арсеньевич (1932-1986), режиссер — 66
Тарле Евгений Викторович (1874—1955), историк— 119
Тарханов (наст. фам. Москвин) Михаил Михайлович (1877-1948), актер— 125-127, 137, 140, 150,159
Тассар Октав (1800-1874), французский художник— 111
Татлин Владимир Евграфович (1885-1953), художник— 17
Тетя Шура, маляр Цеха декоративных сооружений «Ленфильма» — 246
Тимошенко Семен Алексеевич (1899-1958), режиссер — 30, 31, 35, 36, 72, 89, 235
Тинторетто (наст. фам. и имя Робусти Якопо) (1518-1594), итальянский художник — 241
Тиссэ Эдуард Казимирович (1897-1961), оператор — 3, 29, 33, 45, 48, 67, 88-90, 100, 101, 103, 109,127,128,144,151,171,178,179,182,184,186,187,189,191,192,119-201,210,214,217, 220, 222, 224, 248, 260, 262
Тихомиров Илья Александрович (1894-?), оператор — 92
Тихонов Николай Семенович (1896-1979), поэт — 20, 21,66, 84
Толанд Грегг (1904-1948), американский оператор — 201, 215, 262
Толстой Лев Николаевич (1828-1910), писатель — 177, 266
Торо Генри Дейвид (1817-1862), американский писатель — 174
Торховская Зинаида Ивановна (1902-1970-е гг.), актриса — 35
Тотеро Роланд (1890-1967), американский оператор — 65
Трайнин Илья Павлович (1887-1949), председатель Главреперткома, член правления «Совки-но» в 1923-1931 гг. — 69
Трауберг Леонид Захарович (1902-1990), режиссер— 16, 30, 33-36, 38, 39,40,42,44, 50, 51, 53, 61,63,64,66, 76,91-96,105,108,109,111,112,115,119,121,125,127,129,131,132,137,142, 152,153,156,159,160,163,164,167,169-171,173,174,176,179,181,183,184,187,192,197, 209, 210, 218, 219, 226, 227, 229, 230, 235, 236, 261
Триоле Эльза (1896-1970), французский писатель — 121
Труайон Констан (1810-1865), французский художник— 111
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883), писатель — 108
Туровская Майя Иосифовна, киновед, театровед, сценарист — 261
Тхоржевский Иван Иванович (1878-1951), историк, переводчик — 280
Тынянов Юрий Николаевич (1894-1943), литературовед, писатель — 36, 49-51,54, 56, 57, 62, 68, 76, 77, 80, 82, 84, 87, 93, 100, 112,113, 121, 129
Тютчев Федор Иванович (1803-1873), поэт — 5
Уайлер Уильям (1902-1981), американский режиссер — 201
Уайльд Оскар (1854-1900), английский писатель — 17, 20, 27, 66
Ужвий Наталья Михайловна (1898-1986), украинская актриса — 165,166, 271
Уистлер Джеймс (1834-1903), американский художник— 171
Уйгун (наст. фам. и имя Атакузиев Рахматулла) (1905-1990), узбекский поэт —112
Уланова Галина Сергеевна (1910-1998), балерина — 129,160
Ульянов Николай Павлович (1875-1949), художник—189, 231
Унамуно, Мигель де (1864-1936), испанский писатель — 214
Уолкер Джозеф (1892-1985), американский оператор — 158
Уонг Хоу Джеймс (1899-1976), американский оператор — 65,144
Урусевский Сергей Павлович (1908-1974), оператор — 33, 218, 239, 248, 249, 259, 262, 263, 272
Утесов (наст. фам. Вайсбейн) Леонид Осипович (1895-1982), актер эстрады и кино, певец — 119
Уткин Алексей Александрович (1891-1965), художник кино — 46
Ушаков Николай Николаевич (1897-1990), оператор — 86,127,128
Ушаков Николай Николаевич (1899-1973), поэт — 176
Ушинский Константин Дмитриевич (1824-1870), педагог -12
Ушинский, соученик А.Н.Москвина по Царскосельскому реальному училищу— 12
Уэллс Орсон (1915-1985), американский режиссер — 33, 201, 262, 270
Фаворский Владимир Андреевич (1886-1964), художник — 204
Фадеев Александр Александрович (1901-1956), писатель — 113
Фаерман Григорий Павлович (1904-?), химик—149
Файнциммер Александр Михайлович (1906-1982), режиссер — 238, 241,242,248
Фальк Роберт Рафаилович (1886-1958), художник— 109,129,152
Фастович Вячеслав Ксаверьевич (1911-2001), оператор — 242,246, 259-261
Федин Константин Александрович (1892-1977), писатель — 121
Федорова Екатерина, первая жена А.Н.Москвина — 74
Фейдер (наст. фам. Фредерикс) Жак (1888-1948), французский режиссер — 63 64,144
Фельдман Дмитрий Моисеевич (1902-1963), оператор — 127
Фернандес Эмилио (1904-1986), мексиканский режиссер — 33, 262
Фигероа Габриэль (1907-1997), мексиканский оператор — 33, 262
Филатов Георгий Николаевич (1909-1940), оператор— 161,162,168, 253
Филонов Павел Николаевич (1883-1941), художник— 17
Фирсова (в замуж. Беляева) Лидия, цветоустановщица — 216
Флобер Гюстав (1821-1880), французский писатель -19
Флоренский Павел Александрович (1882-1937), философ — 200
Фогельман Юлий Моисеевич (1905-1970), оператор— 151
Фокин Михаил Михайлович (1880-1942), танцовщик, балетмейстер — 86
Фомин Игорь Иванович (1904-1989), архитектор— 120,177, 245
Фомин Сергей Николаевич (1908-1967), оператор кинохроники— 123
Форен Жан Луи (1852-1931), французский художник— 111
Форестье Луи (1882-1954), оператор — 183
Форш Ольга Дмитриевна (1873-1961), писатель — 6
Фрейлих Семен Израилевич (1920-2005), киновед, сценарист— 152
Фрейндлих Бруно Артурович (1909-2002), актер — 252
Фридрих, Фридрих Эдуардович — см. Криммер Ф.Э.
Фройнд Карл (1890-1969), немецкий, затем американский оператор — 63, 64, 99
Фролов Иван Сергеевич (1890-1960), оператор — 29, 30, 46, 58
Фромантен Эжен (1820-1876), французский художник, писатель, историк искусства — 100, 267
Фрэз Илья Абрамович (1909-1994), режиссер — 167
Фэксы, общее прозвище Г.М.Козинцева иЛ.З.Трауберга в 1920-е гг. — 77, 78, 80-82, 84, 90, 91,
104,138
Ханютин Юрий Миронович (1929-1978), киновед, сценарист — 261
Харитонов Семен, отец Москвиной В.С. — 7
Хейфиц Иосиф Ефимович (1905-1995), режиссер— 127, 245, 261, 264, 268, 270-272, 275, 278
Херсонский Хрисанф Николаевич (1897-1968), кинокритик— 79
Хилл Дэвид Октавиан (1802-1870), фотограф — 33
Хлебников Велимир (наст, имя и отч. Виктор Владимирович) (1885-1922), поэт —4, 273,277
Хмельницкий Иосиф Вениаминович (1903-1979), организатор кинопроизводства —123
Ходасевич Валентина Михайловна (1894-1970), художник — 121
Хохлов Константин Павлович (1885-1956), актер, режиссер — 84
Хрущев Никита Сергеевич (1894-1971), советский политический деятель — 240
Цветаева Марина Ивановна (1892-1941), поэт — 7, 9, 30,128,170
Цехановский Михаил Михайлович (1889-1965), режиссер, художник— 119,148
Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856), философ, публицист — 5
Чайковский Борис Витальевич (1888-1924), режиссер— 19, 35
Чаплин Чарльз Спенсер (1889-1977), американский режиссер, сценарист, актер, композитор — 34, 49, 63, 65, 224
Чен Сильвия (наст, имя Силан) (1905-1996), балерина — 120
Червяков Евгений Вениаминович (1899-1942), режиссер — 31, 52, 95,104,127
Черкасов Николай Константинович (1903-1966), актер — 170,198,199, 202, 211, 222, 224, 226,
231,251,252
Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889), публицист, писатель — 50
Черчилль Уинстон (1874-1965), английский политический деятель — 223
Чехов Антон Павлович (1860-1904), писатель — 9, 264-267, 269, 273
Чиаурели Михаил Эдишерович (1894-1974), режиссер — 223, 236
Чирков Борис Петрович (1901-1982), актер— 126, 127, 135, 138, 141, 142, 154, 159, 167, 168,
176
Чиров Александр Викторович (р. 1933), оператор — 278
Чистяков Павел Петрович (1832-1919), художник— 6,14
Чуйков Семен Афанасьевич (1902-1980), художник — 223
Чумак Владимир Гаврилович (1935-1998), оператор — 258, 259, 269, 270, 272
Чупятов Леонид Терентьевич (1890-1941), художник—121
Шагал Марк Захарович (1889-1985), российский и французский художник— 121
Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888-1982), писатель — 151
Шалаев Леонид Иванович, механик киносъемочной аппаратуры — 246, 247
Шаммартен Шарль Эмиль Калланд де, (1797-1883) французский художник— 111
Шапиро Евгений Вениаминович (1907-1999), оператор— 123-125,179,180, 223, 242, 248, 278,
279
Шапиро Иосиф Соломонович (1907-1989), режиссер — 219, 230, 242
Шварц Евгений Львович (1896-1958), драматург — 148, 240, 245, 248, 249, 251-253
Шекспир Уильям (1564-1616), английский драматург— 169, 241,273-275
Шенгелая Николай Михайлович (1903-1943), режиссер — 95, 260
Шепелева Ольга Михайловна (1913-199?), ассистент режиссера — 225
Шилова Ирина Михайловна (1937-2011), киновед — 243
Шифрин Наум Григорьевич (1906-1961), оператор — 227, 234, 244
Шишмарева Татьяна Владимировна (1905-1994), художник— 163
Шкловский Виктор Борисович (1893-1984), писатель, литературовед, кинокритик—16,17,34,
44, 48, 56, 63, 77, 85, 109, 110, 112, 121, 139, 182, 219
Школьников Семен Семенович (р. 1918), оператор — 256,258
Шмитдгоф (наст. фам. Лебедев) Владимир Георгиевич (1899-1944), режиссер — 27,119
Шнабель Артур (1882-1951), австрийский пианист — 31
Шопен Фредерик (1810-1849), польский композитор — 19, 27,104
Шорин Александр Федорович (1890-1941), инженер, изобретатель — 113,126
Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906-1975), композитор — 93,98,111,114,118,119,129,133,
147, 148, 150, 152, 157, 161, 168, 177, 194, 228, 237, 243, 278
Шостакович Нина Васильевна (1906-1954), физик, жена Д.Д.Шостаковича—148,243
Шостаченко Алексей Андреевич (1862-1912 или 1913), художник— 14
Шпинель Иосиф Аронович (1892-1980), художник кино— 196, 247, 248, 255
Шпис Борис Васильевич (1903-1938), режиссер — 39, 44, 53, 73, 74, 82, 90-92, 119-122, 149, 162, 163, 234
Штраух Максим Максимович (1900-1974), актер — 170, 260, 261
Шуб Эсфирь Ильинична (1894-1959), режиссер — 82, 178
Шумяцкий Борис Захарович (1886-1938), руководитель советской кинематографии в 1930-1937 гг. —136,146,147, 149,151,152
Шуруков Музакир Эрамузович (1907-1991), оператор — 240
Шутко Кирилл Иванович (1884-1957), кинокритик, публицист, переводчик— 86, 88
Щеголев Павел Елисеевич (1877-1931), историк, литературовед — 44
Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874-1952), писатель — 265
Эггерт Константин Владимирович (1883-1955), режиссер—183
Эдшмид Казимир (наст. фам. и имя Шмид Эдуард) (1890-1966), немецкий писатель — 66
Эйзенштейн Михаил Осипович (1868-1920), инженер, отец С.М.Эйзенштейна— 187
Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898-1948), режиссер — 3, 29, 33, 36,43,45,48, 59, 65,67, 71, 73, 76, 85, 87-90, 95, 97, 100, 106, 108, 109, 111-114, 121, 122, 128, 133, 139, 144-146, 150, 152, 170, 172, 175, 178-180, 182, 184, 187, 188, 190-192, 194-200, 202-209, 211, 213-218, 222-225, 230-232, 235, 239, 241, 249, 254, 260, 261,269, 274, 279, 280
Эйзенштейн Юлия Ивановна (1875-1946), мать С.М.Эйзенштейна — 224
Эйнштейн Альберт (1879-1955), немецкий и американский физик — 22
Экстер Александра Александровна (1882-1949), художник— 34
Эль Греко (наст. фам. и имя Теотокопули Доменико) (1541-1614), испанский художник— 215
Эмар Густав (наст. фам. и имя Глу Оливье) (1818-1883), французский писатель — 21
Эрдман Николай Робертович (1900-1970), драматург— 182
Эренбург Илья Григорьевич (1891-1967), писатель — 241,270
Эрмлер Фридрих Маркович (наст. фам. и имя Бреслав Владимир) (1898-1967), режиссер — 52, 72, 94, 95,127,130,145,146,174, 201,223, 226, 240
Эсхил (525-456 до н.э.), древнегреческий драматург — 37,44
Эфрос Абрам Маркович (1882-1954), искусствовед, переводчик— 101,189
Эфрос Анатолий Васильевич (1925-1987), режиссер — 194
Юбер Роже (1903-1964), французский оператор — 144
Юлия Ивановна — см. Эйзенштейн Ю.И.
Юманков Павел Александрович, пиротехник— 180
Юренев Ростислав Николаевич (1912-2002), киновед — 69, 232, 249
Юрьев Юрий Михайлович (1872-1948), актер — 6
Юткевич Сергей Иосифович (1904-1985), режиссер — 17, 34, 41, 69, 74, 76, 113, 127, 130, 133, 194, 195,218, 259-261
Юшневская Мария Казимировна (1790-1863), генеральша — 77
Яхонтов Сергей Васильевич, киноинженер — 129
Указатель фильмов
Сокращения: в.э. — выпуск на экран, док. — документальный, к/м — короткометражный, не вып. на э. — не выпущен на экран, не зав. — не завершён, о. — оператор, р. — режиссер.
Авантюристка Бианка (наст. назв. Под покровом тени). 1916, США, р. Л.Ганье, Д.МакКензи —
29
Адмирал Нахимов. 1946, р. В.Пудовкин, о. А.Головня, Т.Лобова— 231
Адрес Ленина. 1929, р. В.Петров, о. В.Горданов — 124
Актриса. 1943, р. Л.Трауберг, о. А.Москвин — 180-184,187, 218, 269
Александр Невский. 1938, р. С.Эйзенштейн, Д.Васильев, о. Э.Тиссэ — 97,168,171,185, 205
Александр Попов (не зав.). 1949, р. С.Тимошенко, Л.Трауберг, о. А.Москвин — 235, 236
Александр Попов. 1949, р. ГРаппапорт, В.Эйсымонт, о. А.Назаров, Е.Шапиро — 236
Аэроград. 1935, о. А.Довженко, о. М.Гиндин, Н.Смирнов, Э.Тиссэ — 185
Бальзак в России (не зав.) 1941, р. Ф.Эрмлер, о. В.Горданов —174
Банда батьки Кныша. 1924, р., о. А.Разумный — 29
Беглец. 1932, р. в.Петров, о. В.Горданов — 128
Бежин Луг (не зав.). 1937, р. С.Эйзенштейн, о. Э.Тиссэ — 172,185,192, 232
Безрадостный переулок. 1925, р. Г.В.Пабст, о. Р.Лач, К.Эртел, Г.Зебер — 63
Белинский. 1951, в.э. 1953, р. Г.Коэинцев, о. А.Москвин, М.Магидсон, С.Иванов — 236, 237, 242
Бесприданница. 1936, р. Я.Протозанов, о. М.Магидсон — 172
Богдан Хмельницкий. 1941, р. И.Савченко, о. Ю.Екельмик— 172,179, 201
Большая жизнь. 2 серия. 1946, в.э. 1958, р. Л.Луков, о. М.Кириллов — 224, 225
Большое сердце (не зав.). 1953, р. Г.Коэинцев, о. А.Москвин — 241
Братишка. 1926, р. Г.Коэинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин — 72, ТЬ-П, 88, 90, 91,100,108,112
Братья Комаровы. 1961, р. А.Вехотко, о. В.Чумак — 261
Броненосец «Потемкин». 1925, р. С.Эйзенштейн, о. Э.Тиссэ —42,43, 46, 48, 66, 67, 70, 71,72,
103,109,184,186,192, 205
Буря — см.: Простые люди
Бухта смерти. 1926, р. А.Роом, о. Е.Славинский —42, 72
Великий воин Албании Скандербег. 1953, р. С.Юткевич, о. Е.Андриканис — 259
Великий гражданин. 2 серии. 1937,1939, р. Ф.Эрмлер, о. А.Кольцатый — 171,201
Великий лекарь (не зав.). 1941, р. Г.Коэинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин —175,176,187,218,223
Великий перелом. 1945, р. Ф.Эрмлер, о. А.Кольцатый — 223
Весна на Заречной улице. 1956, р. Ф.Миронер, М.Хуциев, о. Р.Василевский, П.Тодоровский — 195
Вива, Мария! Франция-Италия. 1965. р. Л.Малль, о. А.Декэ — 195
Возвращение Василия Бортникова. 1952, р. В.Пудовкин, о. С. Урусевский — 259, 262
Возвращение Максима. 1937, р. Г.Коэинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин — 124,149,150,152-160, 172, 208
Возвращение Нейтана Беккера. 1932, р. Р.Мильман, Б.Шпис, о. Е.Михайлов— 149
Время, взятое взаймы. США. 1939, р. Х.С. Букэ, о. Дж.Руттенберг — 223
Встречный. 1932, р. Ф.Эрмлер, С. Юткевич, о. А.Гинцбург, Ж.Мартов, В. Рапопорт — 118, 127, 130,149
Выборгская сторона. 1938, р. Г.Коэинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин, Г.Филатов — 160-170,172, 201,234, 271
Гайль, Москау! 1932, р. В.Шмидтгоф, о. А.Москвин, П.Посыпкин — 119,123,123
Гамлет. 1964, р. Г.Коэинцев, о. Й.Грицюс — 273-277, 279, 280
Гармонь. 1934, р. И.Савченко, о. Ю.Фогельман, Е.Шнейдер— 151
Гобсек. 1936, р. К.Эггерт, о. Л.Форестье — 183
Гопак (к/м). 1931, р. М.Цехановский, о. А.Москвин — 119
Гражданин Кейн. 1941, р. О.Уэллс, о. ГТоланд — 201, 262
Граница. 1935, р. М.Дубсон, о. В.Рапопорт— 147
Да здравствует Вилья! США, 1934, р. Дж.Конвей, о. Дж. Уонг Хоу, Ч. Кларк — 144
Да здравствует Мексика! (не зав.). 1932, р. С.Эйзенштейн, о. Э.Тиссэ — 144,171
Дама с собачкой. 1960, р. И. Хейфиц, о. А.Москвин, Д. Месхиев — 259, 261, 263-273, 275-277
Два броневика. 1928, р. С.Тимошенко, о. Л.Патлис, А.Гинцбург — 89
Двенадцать разгневанных мужчин. США. 1957, р. С.Люмет, о. Б.Кауфман — 195
Дворец и крепость. 1923, р. А.Ивановский, о. И.Фролов, В.Гласс —29, 30
Девушка с далекой реки. 1927, р. Е.Червяков, о. С.Беляев — 95
Девятое января. 1925, р. В.Висковский, о. А.Далматов, А.Москвин — 28, 44—48, 52, 52, 63, 71, 77,84
Декабристы. 1926, р. А.Ивановский, о. И.Фролов — 80, 84
Депутат Балтики. 1936, р. А.Зархи, И.Хейфиц, о. М.Каплан —159
Добыча мела (док., к/м).1928, р. Б.Шпис, о. А.Москвин — 92
Дом, в котором я живу. 1957, р. Л.Кулиджанов, Я.Сегель, о. В.Шумский — 195
Дом в сугробах. 1926, р. Ф.Эрмлер, о. Е.Михайлов — 73, 95,128
Дон Кихот. 1957, р. Г.Козинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин, А.Дудко (натура) — 3, 35,243,245-248, 250-255, 277
Жизнь начинается завтра. 1916, р. М.Гарри, о. Н.Ефремов —29
Жуковский. 1950, р. В.Пудовкин, Д.Васильев, о. А.Головня, Т.Лобова — 238
Заговор обреченных. 1950, р. М.Калатозов, о. М.Магидсон — 238
Звенигора. 1928, р. А.Довженко, о. Б. Завел ев — 95
Земля. 1930, р. А.Довженко, о. Д.Демуцкий — 103
Земля дрожит. Италия. 1948, р. Л.Висконти, о. Г.Р.Альдо — 262
Златые горы. 1931, р. С.Юткевич, о. Ж.Мартов — 124
Золотой запас. 1925, р. В.Гардин, о. Э.Тиссэ— 184
Золушка. 1947, р. Н.Кошеверова, М.Шапиро, о. Е.Шапиро — 223, 238
Иван. 1932, р. А.Довженко, о. Д.Демуцкий, Ю.Екельчик, М.Глидер — 149
Иван Грозный. 1944. 1 сер. 1944; 2 сер. 1945, в.э. 1958; 3 сер. (не зав.) 1945, р. С.Эйзенштейн, о. А.Москвин (павильон), Э.Тиссэ (натура) — 3,88,121,126,156,180,184-227,230-232,236, 249, 254, 260, 262, 273-276
Инженер Гоф. 1935 (не вып. на экр.). р. Р.Мильман, Б.Шпис, о. Е.Михайлов — 149
Кабинет доктора Калигари. Германия. 1920, р. Р.Вине, о. В.Хамайстер — 64
Кабирия. Италия. 1914, р. Д.Пастроне, о. С.де Шомон, Э.Бава, К.Францери и др. — 64
Кавалер Золотой Звезды. 1951, р. Ю.Райзман, о. С.Урусевский — 218, 238
Каин и Артем. 1929, р. П. Петров-Бытов, о. Н.Ушаков, М. Каплан — 128
Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. 1941, р. А.Кустов, А.Мазур, о. С.Урусевский — 262
Каменный цветок. 1946, р. А.Птушко, о. Ф.Проворов — 214
Карело-Финская ССР (док.). 1951, р. А.Иванов, о. В.Чулков, А.Ксенофонтов, В.Горданов, В.Максимович — 235
Карл Маркс (не зав.). 1941, р. Г.Козинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин — 171-175,187, 218, 219
Катерина Измайлова. 1926, р. Ч.Сабинский, о. Н.Аптекман — 76
Каторга. 1928, р. Ю.Райзман, о. Л.Косматое —128
Катька — бумажный ранет. 1926, р. Ф.Эрмлер, о. Е.Михайлов — 72, 73, 95,128
Клятва. 1946, р. М.Чиаурели, о. Л. Косматое — 223, 236
Коллежский регистратор. 1925, р. И.Москвин, Ю.Желябужский, о. Ю.Желябужский, Е.Алексе-ев — 49, 50
Конец Санкт-Петербурга. 1927, р. В.Пудовкин, о. А. Головня — 89, 90, 95, 99,128
Король Лир. 1970, р. Г.Козинцев, о. Й.Грицюс — 33, 251, 279
Красавчик Серж. Франция. 1958, р. К.Шаброль, о. А.Декэ, Ж.Рабье —195
Кренкебиль. Франция-Бепьгия. 1922, р. Ж.Фейдер, о. Л.А.Бюрель, М.Форстер — 63, 64
Крестьяне. 1934. р. Ф.Эрмлер, о. А.Гинцбург — 143, 144, 147
Кубанские казаки. 1949, р. И.Пырьев, о. В.Павлов — 238
Куртизанка на троне (наст. назв. Феодора). 1921, Италия, р. Л.Карлуччи — 29
Ленин в 1918 году. 1939, р. М.Ромм, о. Б.Волчек — 201
Леночка и виноград. 1936, р. А.Кудрявцева, о. П.Посыпкин, М.Ротинов— 123
Летчики. 1935, р. Ю.Райзман, о. Л.Косматое — 144
Летят журавли. 1957, р. М.Калатозов, о. С.Урусевский — 262, 263
Луч смерти. 1925, р. Л.Кулешов, о. А.Левицкий — 30, 66
Маскарад. 1941, р. С.Герасимов, о. В.Горданов — 186
Мать. 1926, р. В.Пудовкин, о. А.Головня — 42, 50, 67, 72, 85,103,112
Механика головного мозга. 1926, р. В.Пудовкин, А.Головня — 31,90
Минарет смерти. 1925, р. В.Висковский, о. Ф.Вериго-Даровский, С.Беляев — 29, 31,45,46
Минин и Пожарский. 1939, р. В.Пудовкин, о. А.Головня — 171,172
Мистер Смит едет в Вашингтон. 1939, р. Ф.Капра, о. Дж.Уолкер — 158
Михаэль. Германия, 1924, р. К.Т.Дрейер, о. К.Фройнд, Р.Матэ — 63
Мичурин. 1949, р. А.Довженко, о. Л.Косматое, Ю.Кун — 218
Мистер Икс. 1958, р. Ю.Хмельницкий, о. В.Бурыкин — 257
Мишки против Юденича (к/м). 1925, р. Г.Козинцев, Л.Трауберг, о. Ф.Вериго-Даровский,
И.Фролов — 35, 38
Мой сын. 1928, р. Е.Червяков, о. С.Беляев — 128
Моряк с «Авроры» — см:. Чертово колесо
Москва в Октябре. 1927, р. Б.Барнет, о. Б.Франциссон, К.Куэнецов, Я.Толчан — 95
Мусоргский. 1950, р. Г.Рошаль, о. М.Магид, Л.Сокольский — 238
Мы из Кронштадта. 1936, р. Е.Дзиган, о. Н.Наумов-Страж — 145
Навстречу жизни. 1953. р. Н. Лебедев, о. В.Левитин — 247
Над Неманом рассвет. 1953, р. А.Файнциммер, о. А.Москвин — 121,238, 241,242, 256,272, 276
Намус. 1926, р. А.Бек-Назаров, о. С.Забозпаев — 79
Наполеон-газ. 1925, р. С.Тимошенко, о. С.Беляев — 30, 31,40, 46
Наши девушки (киноальманах, не вып. на экр.). 1942. 1-я новелла: Тоня, р. А.Роом, о. Л.Косматое; 2-я новелла — см. Однажды ночью
Небесный тихоход. 1946, р. С.Тимошенко, о. А.Сигаев — 31
Неотправленное письмо. 1959, р. М.Калатозов, о. С.Урусевский — 262, 263
Нетерпимость. США. 1916, р. Д.У.Гриффит, о. Г.В.Битцер — 43
Н+Н+Н. 1924, р. В.Шмидтгоф, о. Н.Ефимов — 27, 30
Новый Вавилон. 1929, р. Г.Козинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин — 3, 53, 83, 88, 91, 93-113, 115, 116,123,124,128, 129,135,136,138,147,153,158,165,171,198, 299, 201,208,213,228,230, 251,262, 271
Ночи Кабирии. Франция-Италия. 1957, р. Ф.Феллини, о. А.Тонто, О.Мартелли — 195
Овод. 1955, р. А.Файнциммер, о. А.Москвин — 233, 241-243, 248, 249, 259
Один час с Козинцевым (ТВ, док.). 1970, р. А.Стефанович, о. ГКоновалов - 74
Одна. 1931, р. Г.Козинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин — 112-118,123,126,130,153, 201,246
Однажды ночью (к/м). 2-я новелла киноальманаха Наши девушки (не вып. на экр.). 1942, р. Г.
Козинцев, о. А.Москвин — 181
Октябрь. 1928, р. С.Эйзенштейн, Г.Александров, о. Э.Тиссэ — 90, 94, 95, 99,109,192
Осень (к/м). 1940, р. Ф.Эрмлер, И.Менакер, о. В.Горданов, М.Магид — 215
Осторожно, бабушка! 1960, р. Н.Кошеверова, о. С.Иванов — 279
Палачи 1925, р. А.Пантелеев, о. Н.Козловский, А. Кюн —46
Пансион «Мимоза». Франция. 1935. р. Ж.Фейдер, о. Р.Юбер — 144
Парижанка. США. 1923, р. Ч.Чаплин, о. Р.Тотеро — 63, 66
Парижский сапожник. 1927, р. Ф.Эрмлер, о. Е.Михайлов, Г.Буштуев — 73
Первый гудок — рабочее название фильма Навстречу жизни
Первый эшелон. 1955, р. М.Калатозов, о. Ю.Екельчик, С.Урусевский — 262
Пиковая дама. 1916, р. Я.Протазанов, о. Е.Славинский — 29, 64
Пиковая дама. 1960, р. Р.Тихомиров, о. Е.Шапиро — 279
Пирогов. 1947, р. Г.Коэинцев, о. А.Москвин, А.Назаров, Н.Шифрин — 218,225-230, 235,246, 276
Плохой хороший человек. 1973, р. И.Хейфиц, о. ГМаранджян — 268
По закону. 1926, р. Л.Кулешов, о. К.Кузнецов — 72
Победа. 1938, р. В.Пудовкин, М.Доллер, о. А.Головня — 90,172
Подруги. 1935, р. Л.Арнштам, о. В.Рапопорт, А.Шафран — 145, 151
Подруги, на фронт (к/м). 1941, р. В.Эйсымонт, о. В.Рапопорт, С.Иванов — 176
Поликушка. 1922, р. А.Санин, о. Ю.Желябужский — 49
Полосатый рейс. 1961, р. В.Фетин, о. Д.Месхиев — 279
Портрет Дориана Грея. 1915, р. В.Мейерхольд, о. А.Левицкий — 65, 66
Последний дюйм. 1958, р. Т.Вульфович, Н.Курихин, о. С.Рубашкин — 275, 276
Последний человек. Германия. 1924, р. Ф.В.Мурнау, о. К.Фройнд — 63, 262
Потомок Чингис-хана. 1928, р. В.Пудовкин, о. А.Головня — 120
Потсдамская конференция (док., не вып. на экр.). 1945, р. С.Герасимов — 215
Похождения Октябрины (к/м). 1924. р. Г.Коэинцев, Л.Трауберг, о. Ф.Вериго-Даровский, И.Фролов — 35, 38,117
Почта (мультфильм, к/м). 1929. р. М.Цехановский, о. К.Кириллов —119
Поэт и царь. 1927, р. В.Гардин, о. С.Беляев (натура), Н.Аптекман (павильоны) — 33, 46, 52, 72,
77, 84, 90
Прометей. 1935, р. И.Кавалеридзе, о. Н.Топчий — 146
Простой случай. 1930, р. В.Пудовкин, о. Г.Бобров, Г.Кабалов — 128
Простые люди. 1945, р. Г.Козинцев, Л.Трауберг, о. А. Москвин, А.Назаров — 179,180,184, 209, 210, 218-221, 223, 226, 238, 249
Профессор Мамлок. 1938, р. ГРаппапорт, А. Минкин, о. Г. Филатов — 161
Путешествие в СССР (не зав.). 1932, р. Г.Козинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин — 125-127,130
Пышка. 1934, р. М.Ромм, о. Б.Волчек— 183
Пять дней (экспериментальный, к/м). 1956, р. И.Шапиро, о. А.Ксенофонтов — 245
Раздумья. 1961, р. Т.Родионова, о. О.Куховаренко — 257
Рассказы о Ленине. 1957, р. С.Юткевич, о. А.Москвин, Е.Андриканис, В.Фастович, А.Ахметова — 259, 261
Рио Эскондидо. Мексика. 1948, р. Э.Фернандес, о. Г.Фигероа — 262
С.В.Д. 1927, р. Г.Козинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин — 72, 76, 77, 79,80,81-86,88-90, 93, 95, 99,
102, 108, 115, 124, 129, 136, 201, 208
Свет в Коорди. 1951, р. ГРаппапорт, о. С.В.Иванов — 238
Семеро смелых. 1936, р. С.Герасимов, о. Е.Величко — 145,151
Семья Оппенгейм. 1939, р. Г.Рошаль, о. Л.Косматое — 169
Сердца и доллары. 1925, р. Н.Петров, о. Н.Козловский — 52
Сестры. 1958, р. Г.Рошаль, о. Л.Косматое — 255
Сильный человек. 1917, р. В.Мейерхольд, о. С.Бендерский — 65
Сказка о попе и работнике его Балде (мультфильм, не вып. на экр.). 1936. р. М.Цехановский — 150
Сломанная лилия — см.: Сломанные побеги.
Сломанные побеги. США. 1919, р. Д.У.Гриффит, о. Г.В.Битцер — 63,65, 66
Снежные ребята. 1928, р. Б.Шпис, о. И.Тихомиров — 92
Солдаты. 1956, р. А.Иванов, о. В.Фастович — 195
Старое и новое. 1929, р. С.Эйзенштейн, ГАлександров, о. Э.Тиссэ, В.Попов — 67
Стачка. 1925, р. С.Эйзенштейн, о. Э.Тиссэ — 29, 30, 36, 45, 48, 67,184, 186, 201,262
Степан Халтурин. 1925, р. А.Ивановский, о. И.Фролов, Ф.Вериго-Даровский — 30
Страсти Жанны Д'Арк. Франция. 1928, р. К.Т.Дрейер, о. Р.Матэ — 262
Строгий юноша. 1936, р. А.Роом, о. Ю.Екельчик— 144
Судьба человека. 1959, р. С.Бондарчук, о. В.Монахов — 263
Сын страны. 1930, р. Э.Иогансон, о. А.Гинцбург, Г.Филатов — 161
13 дней (Процесс Промпартии) {док.). 1930, р. Я.Посельский — 119
Транспорт огня. 1929. р. А.Иванов, о. А.Гинцбург— 128,130
Три мушкетера. США. 1939, р. А.Дуон, о. П.Марли — 234
Турбина № 3. 1926, р. С.Тимошенко, о. С.Беляев, А.Москвин — 72, 73, 89
У позорного столба. 1923, р. А.Бек-Назаров, о. С.Забозлаев — 29
Фриц Бауэр. 1930, р. В.Петров, о. В.Горданов — 124,128,147,186
Чапаев. 1934, р. Г. и С.Васильевы, о. А.Сигаев, А.Ксенофонтов — 136, 143,145
Человек из тюрьмы. 1931, р. С. Бартенев, о. Е.Шапиро—124
Человек с ружьем. 1939, р.С.Юткевич, о. Ж. Мартов — 163
Чертово колесо. 1926, р. Г.Козинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин — 37-44,46,48,49, 51,52, 57,63,
64, 67, 69, 78, 79, 109, 126, 129, 179, 192, 209
Чужая родня. 1955, р. М.Швейцер, о. В.Фастович — 259
Чужой пиджак (не вып. на экр.). 1927, р. Б.Шпис, о. А.Москвин — 77, 90-92,108,116
Шагай, Совет! (док.). 1926, р. Д.Вертов, о. И.Беляков — 72
Шестая часть мира (док.). 1926, р. Д.Вертов, о. И.Беляков, С.Бендерский, М.Кауфман и др. — 72
Шинель. 1926, р. Г.Козинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин — 3, 44, 48, 49-72, 74, 76-80, 84, 88, 90, 100,102,103,108,130,152,192, 201,213, 227, 230, 251,262, 273
Цирк. 1936, р. Г.Александров, о. В.Нильсен, Б.Петров — 145
Щорс. 1939, р. А.Довженко, о. Ю.Екельчик— 172
Элисо. 1928, р. Н.Шенгелая, о. В.Кереселидзе — 95
Это и есть Ленинград (не зав.). 1941, р. Л.Арнштам, Г.Козинцев, Г.Раппапорт; о. А.Москвин, В.Рапопорт—176
Юность Максима. 1934, р. Г.Козинцев, Л.Трауберг, о. А.Москвин — 121, 130-145, 149, 151-153, 155, 156, 159, 160, 168, 170, 201,251
Юный Фриц (к/м, не вып. на экр.). 1942, р. Г.Козинцев, о. А.Москвин — 181,182
Яхты в море. 1956, р. М.Егоров, о. Сокольников— 258
ПОСЛЕСЛОВИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ
Много лет назад на «Ленфильме» Дмитрий Георгиевич Иванеев представил мне киноинженера Бутовского, который «знает и понимает кинематограф как настоящий киновед». Вскоре Яков Леонидович приехал в командировку в Белые Столбы, и разговор с ним в доме ИТР Госфильмофонда, где жили мы, «научники» (принимали Яшу вместе со мной Виктор Дёмин и Ирина Янушев-ская) выявил в этом инженере человека, который не просто «знает и понимает», но трепетно любит кино. При этом у него было одно явное преимущество перед нами, вгиковцами: он знал не просто кинотехнику, но ее художественные возможности и потенции, и особенно любил мастерство операторов, которые превращали эти возможности и потенции в реальность фильмов.
Яков Леонидович не сразу поверил, что может быть киноведом. Было у него ощущение того, что киноведение — наука святая, и он, окончивший Ленинградский институт киноинженеров, не сможет ею заниматься с должной компетентностью. Меж тем в нем как раз счастливо сочетались знания и необыкновенный, подлинно научный педантизм, которого зачастую так недостает критической вольнице. Белостолбовская компания и примкнувший к ней Леонид Константинович Козлов, сразу оценивший дарования и знания Бутовского, настоятельно поддерживали его стремление к киноведению. К нашей радости, он начал печататься в журнале «Техника кино и телевидения». И хотя этот журнал не был на переднем плане читательского внимания, блестящие маленькие эссе Якова Леонидовича выносили на поверхность то, чего «большие» журналы — «Искусство кино», «Советский экран» — просто не видели. Он писал о визуальных и звуковых приемах киноповествования, о фильмах как произведениях коллективного творчества, не разделяя так называемые «творческие» и так называемые «технические» аспекты кино. Я начал лучше ощущать их неразрывность на его примерах. Стал понимать, что для Андрея Николаевича Москвина сенситометрия была не «черновой глиной», не ремеслом, обременявшим творчество, — именно благодаря виртуозному владению светочувствительными характеристиками пленки, тончайшему пониманию световой гаммы приборов или соотношений эмульсии и диафрагмы объектива становилось возможным озарение, с которого начинается истинно кинематографический шедевр.
Когда началась работа Якова Леонидовича с Валентиной Георгиевной Козинцевой над наследием Григория Михайловича, нам стало ясно, что на его долю выпала еще одна киноведческая миссия: быть и текстологом, и истори
ком, и комментатором трудов выдающегося режиссера и теоретика... Более тридцати лет Бутовский честно трудится на этой ниве. Но ни он, ни мы, его друзья и коллеги, не забывали, что эта миссия не отменила, а, скорее, подчеркнула необходимость и неизбежность задачи, им самим перед собою поставленной: выявить эстетическое своеобразие «ленинградской операторской школы». Первый шаг был сделан монографическим очерком, который сопровождал издание «Записок кинооператора» Вячеслава Горданова (1973).
Книгой о Москвине Яков Леонидович совершил подлинный прорыв к решению этой задачи, столь важной и исторически, и методологически. Я знаю, какой труд вложен в каждую ее главу, знаю, как автор заставлял себя писать, боясь впасть в краснобайство, в модный «легкий стиль» писаний про кино. И некоторая затрудненность письма тут — прежде всего, ответственность Якова Леонидовича перед словом, которое ложатся на бумагу. Она с лихвой окупается основательностью его работы.
Обращенная к «широкому кругу» интеллигентного читателя, книга интересна и для профессионалов. Сами операторы не часто балуют нас исповедями о находках, тайнах, закономерностях своего творчества. Вообще анализ операторского мастерства — проблема не только для отечественного, но и для зарубежного киноведения. Автор монографии о Москвине (список других его публикаций, как может убедиться читатель, обширен и способен служить источником или «компасом» для других исследователей) много лет старается восполнить эту лакуну в теории и истории кино, тщательно изучая и анализируя искусство операторов: их индивидуального дара, их таланта сотворчества и их причастности к определенной школе кино — в данном случае «питерской школе», к которой по праву принадлежит и сам Яков Леонидович Бутовский.
Наум Клейман
Библиография работ Я.Л. Бутовского по операторскому искусству
Сокращения: Кадр — газета киностудии «Ленфильм»; КЗ — журнал «Киноведческие записки; ТКТ — журнал «Техника кино и телевидения»
О съемке широкоформатных фильмов / Беседа с кинооператором Е.В.Шапиро // ТКТ. 1968. № 1. С. 38-39.
Маранджян Г.С. Объектив с переменным фокусным расстоянием в широкоэкранном кино (из опыта работы кинооператора) // ТКТ. 1968. № 1. С. 40—42. Записал Я.Л. Бутовский.
Рассказывает оператор кинофильма «Салют, Мария!» / Беседа с оператором Г.С.Маранджяном I/ ТКТ. 1971. № 9. С. 11-14.
Изобразительное решение и техника съемки кинофильма «Белая птица с черной отметиной» / Беседа с режиссером Ю.Г.Ильенко и оператором В.А.Калютой // ТКТ. 1971. № 10. С. 5-8.
Месхиев Д.Д., Щедринский М.М. Художественные и технические аспекты цветового решения кинофильма «Драма из старинной жизни» // ТКТ. 1972. № 1. С. 29-31. Записал Я.Л. Бутовский.
От романтической фотографии к поэтическому кино // Кинооператор Вячеслав Горда-нов. Л.: Искусство, 1973. С. 257-353.
Бутовский Я.Л., Шапиро Е.В. Живые традиции: О проблеме изобразительного решения фильмов // Кадр. 1974. 19 апр. В порядке обсуждения.
О съемке кинофильма «Гонщики» / Беседа с кинооператором В.А.Васильевым // ТКТ. 1973. №8. С. 63-66.
Книга об искусстве и технике операторского освещения // ТКТ. 1973. № 11. С. 91-92. Рец. на кн.: Косматое Л.В. Свет в интерьере. М.: Искусство, 1973.
Технический прогресс в кинематографии и выразительность киноизображения / Беседа с кинооператором Е.В.Шапиро И ТКТ. 1974. Ns 5. С. 30-34.
Некоторые проблемы изучения операторского искусства // Методологические проблемы современного искусствознания. Вып.1. Л.: ЛГИТМиК, 1975. С. 158-165.
Телефильм с точки зрения оператора телестудии / Беседа с кино- и телеоператором В.А.Ананьевым // ТКТ. 1975. № 3. С. 64-68.
Как снимался кинофильм «Премия» / Беседа с кинооператором В.Г. Чумаком // ТКТ. 1975. № 9. С. 34-39.
Кинооператор — профессия замечательная / Беседа с американским кинооператором Фредди Янгом//ТКТ. 1975. № 11. С. 28-31.
Маргиев Д.Н. О некоторых условиях съемки кинофильмов в горах // ТКТ. 1976. №5. С. 74. Записал Я.Л.Бутовский.
Съемка кинофильмов в горных условиях / Беседа с кинооператором Э.А.Розовским // ТКТ. 1976. № 10. С. 33-36.
«Новая техника помогает нам решать сложные творческие задачи» / Беседа с кинооператором А.Моцкусом // ТКТ. 1977. № 4. С. 37-41.
Шапиро Е.В. О делах операторских // Кадр. 1977. 20 мая. Записал Я.Л.Бутовский.
Его дорога: К 80-летию Е.С.Михайлова // Кадр. 1977. 26 нояб. Название дано редакцией.
Л.В.Косматое // ТКТ. 1977. № 12. С. 86. Некролог.
Л.В.Косматое //10 операторских биографий. Вып.1. М.: Искусство, 1978. С. 157-176.
Владимир Чумак. Быть самим собой... / Беседа с кинооператором В.Г.Чумаком и комментарии к ней И Искусство кино. 1978. № 6. С. 91-100.
Достоверность, условность и техника / Беседа с кинооператором Д.А.Долининым // ТКТ. 1978. № 10. С. 67-72.
Нетиповые пленки и процессы в художественной кинематографии / Беседа с кинооператором А.И.Антипенко и инженером М.М.Щедринским // ТКТ. 1979. №2. С. 24-27.
Бутовский Я.Л., Месхиев Д.Д. Тенденции развития операторского искусства и кинотехника // ТКТ. 1979. № 9. С. 3-6.
Шапиро Е.В. «Боярыня Морозова» и мастерство изображения: Изобразительная культура кино, киноведение и критика // Кадр. 1979. 20 дек. Записал Я.Л.Бутовский.
Изобразительное решение и техника съемки кинофильма «Дикая охота короля Стаха» / Беседа с кинооператором Т.Д.Логиновой // ТКТ. 1980. № 10. С. 82-85.
Шапиро Е.В. Под наблюдением Москвина // Кадр. 1981.16 марта. ЗаписалЯ.Л.Бутовский.
О киносъемке фильма «Твой сын, земля» / Беседа с кинооператором Л.Ахвледиани // ТКТ. 1981. №6. С. 25-29.
«С развитием технических средств творческие возможности операторов будут увеличиваться...» / Беседа с кинооператором В.М.Шумским//ТКТ. 1981. № 11. С. 40-44.
О съемке телевизионного фильма «Американская трагедия» / Беседа с кинооператором А.Моцкусом // ТКТ. 1982. № 3. С. 31-34.
Операторский приз XV Всесоюзного кинофестиваля / Беседа с кинооператором К.И.Рыжовым // ТКТ. 1982. № 7. С. 26-27..
[«Мне интересно, чтобы каждый фильм не был похож на предыдущий»] / Беседа с кинооператором А.Ихо // ТКТ. 1982. № 9. С. 29-33. В журнале название опущено.
Кинооператор Радослав Спасов рассказывает о своей работе И ТКТ. 1982. №11. С. 41-45. Вот. заметка и перевод Я.Л.Бутовского.
Операторская работа в фильмах 1982 года (Итоги XVI Всесоюзного кинофестиваля) / Беседа с членами жюри — кинооператорами С. Х.Исраеляном и О.К.Арцеуловым // ТКТ. 1983. № 8. С. 29-31.
Ильин В.В. Операторская работа в фильме «Торпедоносцы» // ТКТ. 1984. № 1. С. 47-49. Записал Я.Л.Бутовский.
Кино «говорит» изображением / Беседа с кинооператором Ф. Ульдрихом // ТКТ. 1984. № 8. С. 53-57. Вст. заметка и перевод Я.Л.Бутовского.
Стораро В. Мы говорим на языке кино... // ТКТ. 1985. № 9. С. 43-48. Материал подготовили Я.Л.Бутовский и Е.Ю.Ермакова. С В.Стораро беседовал Я.Л.Бутовский.
Две книги об операторском мастерстве // ТКТ. 1986. № 4. С. 76-77. Вст. заметка и рец. на кн.: Черный М. Черты операторского мастерства. Киев: Мистецтво, 1985.
Мы работаем для зрителя... / Беседа с оператором С.В.Астаховым // ТКТ. 1986. № 11. С. 38-41.
Задача кино — рассказать правду о жизни / Беседа с кинооператором В.В.Ильиным // ТКТ. 1988. №6. С. 35-38.
Бутовский Я.Л., Николенко Г.В. Операторские «Оскары» в «год крупных планов» // ТКТ. 1990. № 10. С. 3-6.
Говорит и пишет Андрей Николаевич Москвин / Вст. ст. и публикация Я.Л.Бутовского // Фильмы, судьбы, голоса. Л.: Искусство, 1991. С. 270-287.
Бутовский Я.Л., Николенко Г.В. Операторы награждают себя сами // ТКТ. 1991. №5. С. 3-8.
С двух точек зрения / Беседа с кинорежиссером и кинооператором Д.А.Долининым // ТКТ. 1991. №7. С. 3-8.
Сохраним национальные сокровища // ТКТ. 1991. № 9. С. 14-17.
«Я имел счастье работать с Сергеем Параджановым...» / Беседа с кинооператором А.Явуряном //ТКТ. 1991. № 12. С. 9-14.
Еще раз с двух точек зрения / Беседа с кинорежиссером и кинооператором А.Ихо // ТКТ. 1992. № 1. С. 3-7; № 2. С. 5-9.
Профессионализм и «чувство жанра» // ТКТ. 1992. № 5. С. 3-7. Об операторских премиях США за 1990 год.
«Компонуем кадр» — книга для читателей «Техники кино и телевидения» // ТКТ. 1992. Na 9. С. 8, 27. Рец. на кн.: Медынский С.Е. Компонуем кадр. М.: Искусство, 1992.
«Каждый раз хочется идти немного дальше...» / Беседа с кинооператором Д.В.Массом // ТКТ. 1992. № 11. С. 3-8..
Юбилей нестареющего старейшины // ТКТ. 1993. № 4. С. 77-78. К 85-летию кинооператора Е.В.Шапиро.
Как становятся телеоператорами / Беседа с телеоператором Е.В.Уткиным // ТКТ. 1993. № 7. С. 8-14.
«Шинель» // КЗ. 1993. № 19. С. 156-170. Журнальный вариант главы из кн. «Андрей Москвин, кинооператор».
«Я влюблен в свою профессию!» / Беседа с кинооператором С.В.Астаховым // ТКТ. 1994. № 10. С. 6-13.
Последние годы // КЗ. 1995. № 27. С. 92-117. Журнальный вариант главы из кн. «Андрей Москвин, кинооператор».
Андрей Николаевич Москвин: Биофильмобиблиография // КЗ. 1995. № 27. С. 118-141.
С Эйзенштейном на «Иване Грозном» // КЗ. 1998. № 38. С. 262-295. Журнальный вариант главы из кн. «Андрей Москвин, кинооператор».
Переписка А.Н. Москвина и С.М. Эйзенштейна / Вст. заметка, публикация и примем. Я.Л.Бутовского // КЗ. 1998. № 38. С. 296-313.
Киноизображение — это просто? // ТКТ. 1998. № 10. С. 66-67. Рец. на книгу: Долинин Д.А. Киноизображение для «чайников» (на основе опыта работы режиссера-постановщика и оператора игрового кино). СПб.: СПИКиТ, 1997.
«Попытка разобраться в сущности операторской работы...» И КЗ. 1999. №43. С. 189-198. О ст. А.Н.Москвина и Е.С.Михайлова «Роль кинооператора в создании фильма» (Поэтика кино. Л., 1927). Напечатано также: Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». СПб.: РИИИ, 2001. С. 250-262.
Андрей Москвин, кинооператор. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000. 299 с. Рец.: Гукасян Ф.Г. Классик — объективно // Веч. Петербург, 2001, 31 янв.; Розовский Э.А. Мой Учитель Андрей Николаевич Москвин//ТКТ. 2001. Ns 2. С. 79; Караваев Д. Властелин света // Premiere. М. 2001. № 3. С. 96; Ермакова Е.Ю. Чужой судьбы Зазеркалье // ТКТ, 2002. № 1. С. 91-92.
«Хрусталев, машину!» — проблемы операторские и не только / Беседа с призером «Ники» кинооператором В.В.Ильиным //ТКТ. 2000. № 11. С. 66-70.
Юрий Екельчик // КЗ. 2002. № 56. С. 193-207.
Нестор Альмендрос: человек с кинокамерой И КЗ. 2003. № 64. С. 109-113.
Альмендрос Н. Несколько общих наблюдений: Глава из книги «Человек с кинокамерой» / Перевод А.И.Умиковой; публикация и примем. Я.Л.Бутовского // КЗ. 2003. №64. С. 114-124.
Юрий Векслер / Составл. и предисл. Я.Л.Бутовского // КЗ. 2003. № 63. С. 290-302.
Альмендрос Н. Человек с кинокамерой / Перевод А.И.Умиковой; публикация и примем. Я.Л.Бутовского // КЗ. 2004. № 67. С. 354-388. Продолжение публикации фрагментов из кн. «Человек с кинокамерой».
Бутовский Я.Л. О кинооператоре Святославе Беляеве // КЗ. 2008. № 87. С. 163-178.
«Червяков, Славушка Беляев и Мейнкин — это коллектив» / Беседа с актрисой Р.М.Свердловой // Там же. С. 179-185.
«Лирика... растяжимое и неопределенное понятие»: Стенограмма обсуждения ленинградскими операторами фильма «Балтийцы» 26 декабря 1937 г. // Там же. С. 186-203. Публикации и комментарии Я.Л.Бутовского.
СОДЕРЖАНИЕ
От автора 3
Глава первая. ДО КИНО Необычный город 5
Семья 7
Воспитание 9
Училище 11
Студент Москвин 15
1921 16
Пути стремлений 18
Дом на Малой 20
Фотография 22
Выбор 25
Глава вторая. НАЧАЛО Начинается кино 28
Час ученичества 30
ФЭКС 34
Мелодрама 37
Первая съемка 38
Молодой оператор Москвин 42
«Девятое января» 44
Глава третья. «ШИНЕЛЬ» Трудный сценарий 49
Второй оператор «Шинели» 51
В манере доселе неизвестной 53
Свет и ракурс 57
Пережитой опыт 63
Самостоянье человека 68
Глава четвертая. СЕРЕДИНА ДВАДЦАТЫХ 1926 71
«Братишка» 74
Романтическая мелодрама 76
Зрительная музыка 78
Стилизация и стиль 82
Теория 85
С московскими друзьями 89
«Чужой пиджак» 90
Глава пятая. «НОВЫЙ ВАВИЛОН» Время «Нового Вавилона» 93
Многообразие и единство 96
Киноживопись 100
Портреты 103
Свой голос 108
Гпава шестая. ПОВОРОТ
«Одна» 112
1931 118
Под наблюдением Москвина 122
«Путешествие в СССР» 123
Ленинградская операторская школа 127
Глава седьмая. ТРИЛОГИЯ О МАКСИМЕ
Споры о «Юности Максима» 131
Контрасты 133
Величие простоты 139
1936 144
Прощание с юностью 150
«Возвращение Максима» 153
«Выборгская сторона» 160
Неостановимое движение 168
В центре дискуссии 170
1941 173
Глава восьмая. ВОЙНА. «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
1941 176
Алма-Ата 178
«Актриса» 181
Эйзенштейн — Тиссэ — Москвин 184
Эйзенштейн и Москвин 187
Исполнитель-творец 190
Изобразительное богатство 194
Пространство трагедии 200
Монументальный лиризм 204
Эксцентрическое интермеццо 209
Пир 214
«Простые люди» 218
Глава девятая. ПОСЛЕ ВОЙНЫ
1946 222
«Пирогов» 225
Портрет на стене 230
1951 233
Два цветных фильма 238
Глава десятая. ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
1956 244
«Дон Кихот» 250
Учитель 256
Диалектика урока 259
«Дама с собачкой» 264
«Гамлет» 273
1961 278
Фильмография А.Н. Москвина 282
Библиография А.Н.Москвина 284
Указатель имен 292
Указатель фильмов 307
Послесловие и дополнение 313
Научное издание
Яков Леонидович Бутовский АНДРЕЙ МОСКВИН, КИНООПЕРАТОР
В оформлении книги использованы фотографии В.Домбровского, И. Тихомирова.
На форзацах: в начале книги — установка света в эпизоде «Иван и боярин Непея», в кадре тень А.Москвина; в конце книги — кадр из фильма с тенью Ивана Гоозного (фотографии В.Домбровского)
Составление фильмографии, библиографий и указателей (основной корпус и сведения): Я.Л.Бутовский
Оригинал-макет и компьютерная верстка: М.Б.Дашкова
Редактор: С.М.Ишевская
Руководители проекта: К.К.Огнев, С.М.Ишевская
Региональный общественный фонд «Эйзенштейн-центр»
121034, Москва, Гагаринский пер, 23, стр. 2
ISBN 978-5-901631-18-8
9 785901 631188
Сдано в набор 23.05.2010. Подписано в печать 19.10.2011 Гарнитура Arial. Формат 70x100 1/16 20 печ. л. Тираж 1200 экз.
Налоговая льгота: издание соответствует коду 952000 ОК-005-93 (ОКП) Электронный вывод и печать в ППП «Типография “Наука”»
121099, Москва, Шубинский пер., 6 Заказ Ns 170