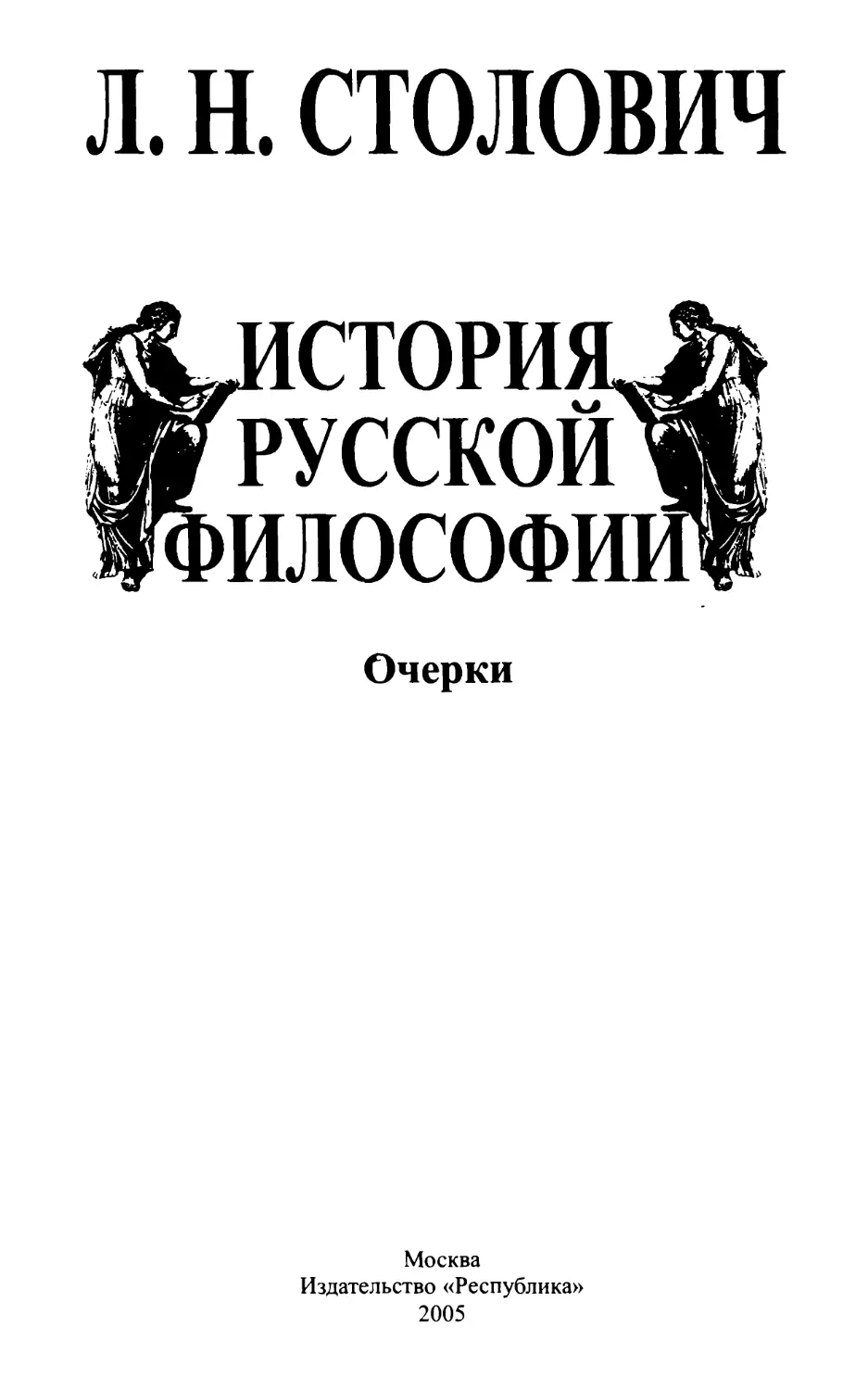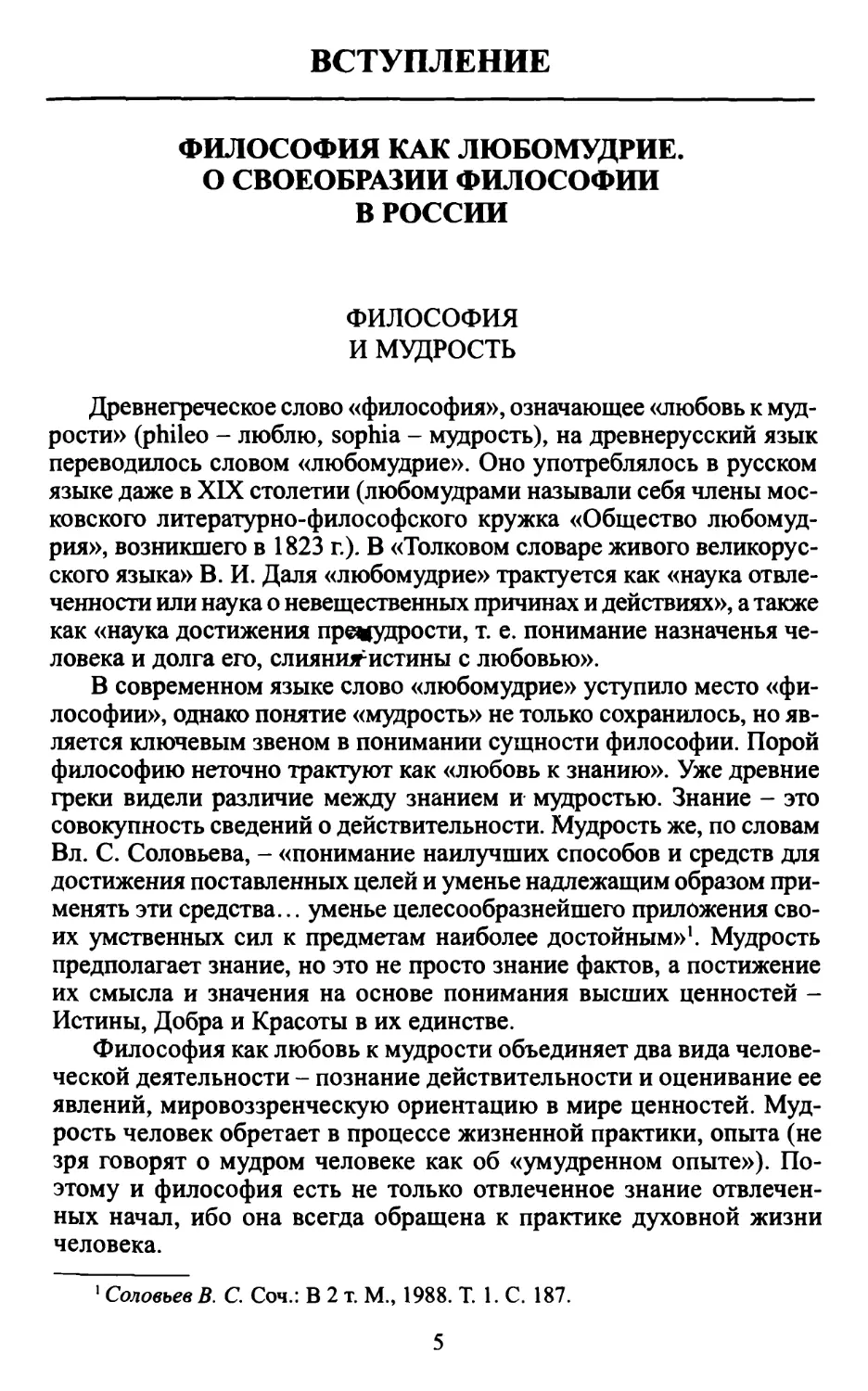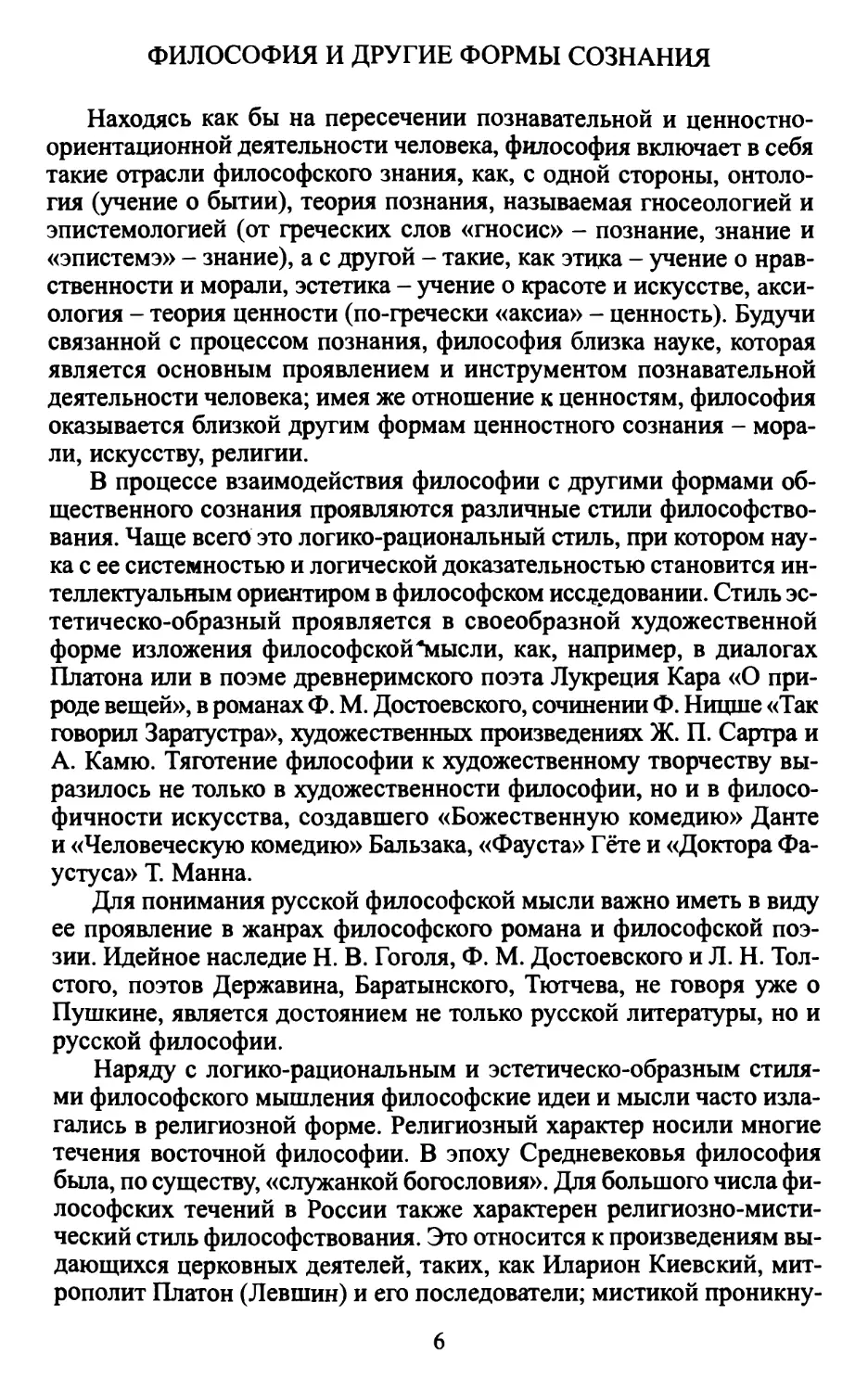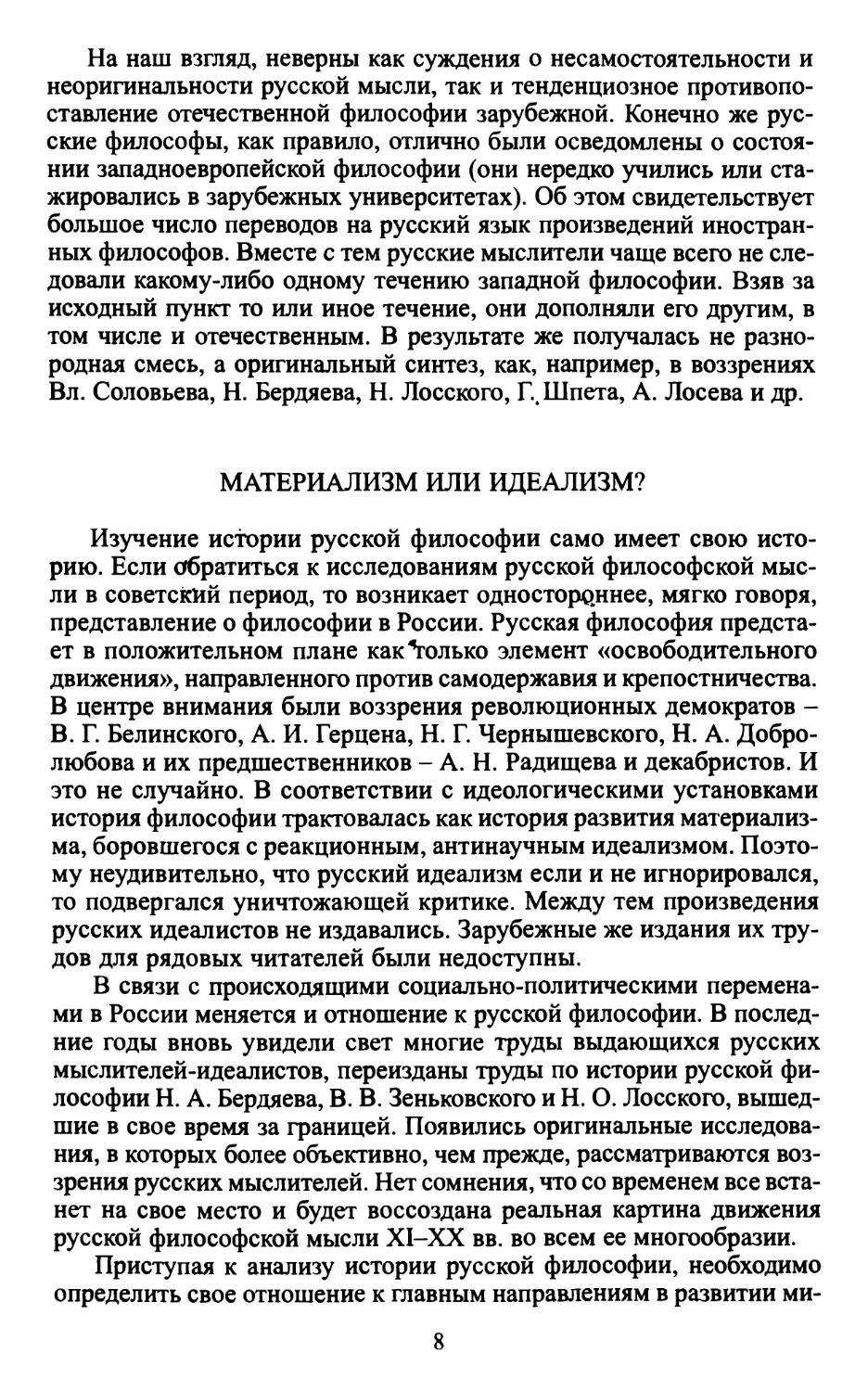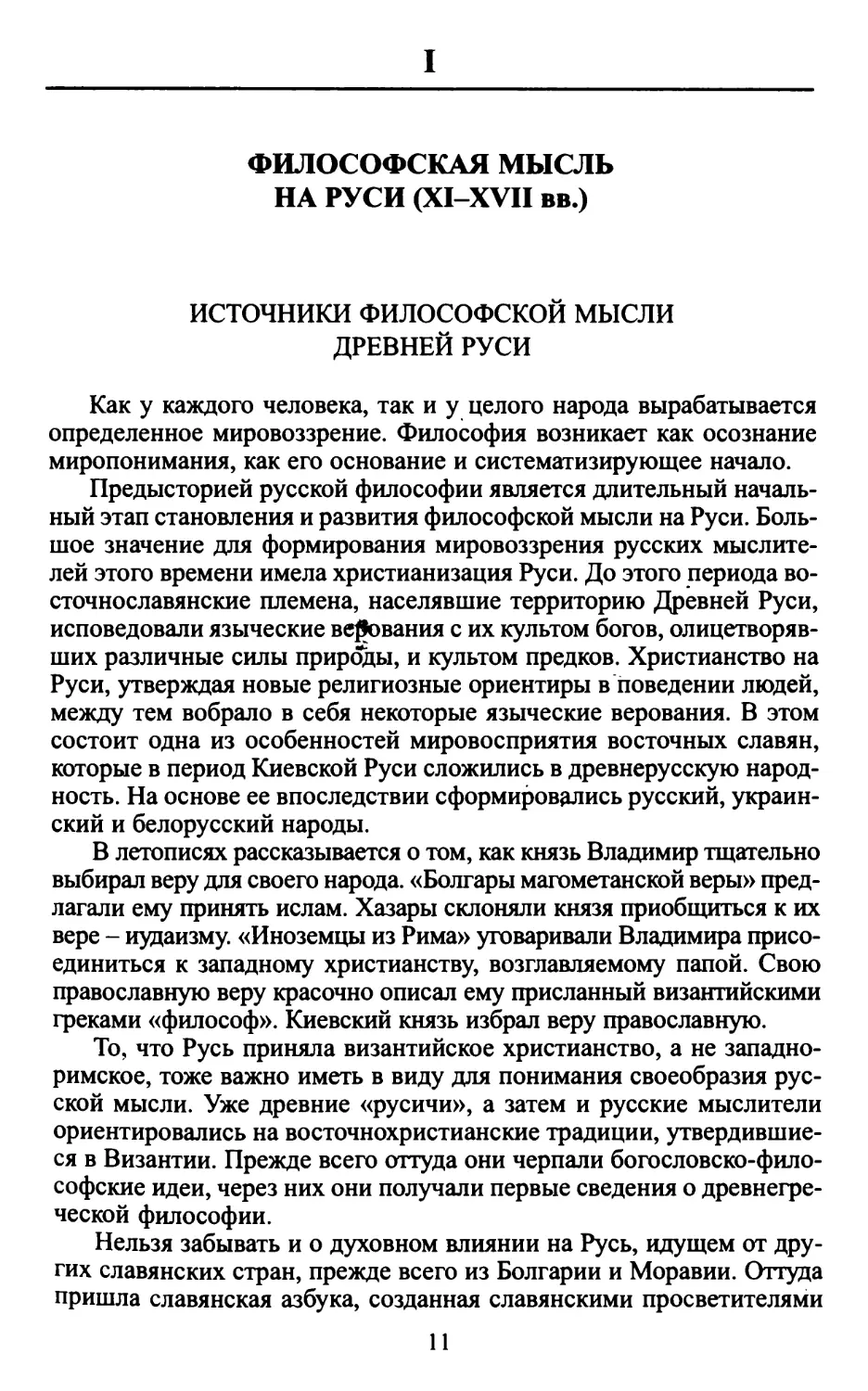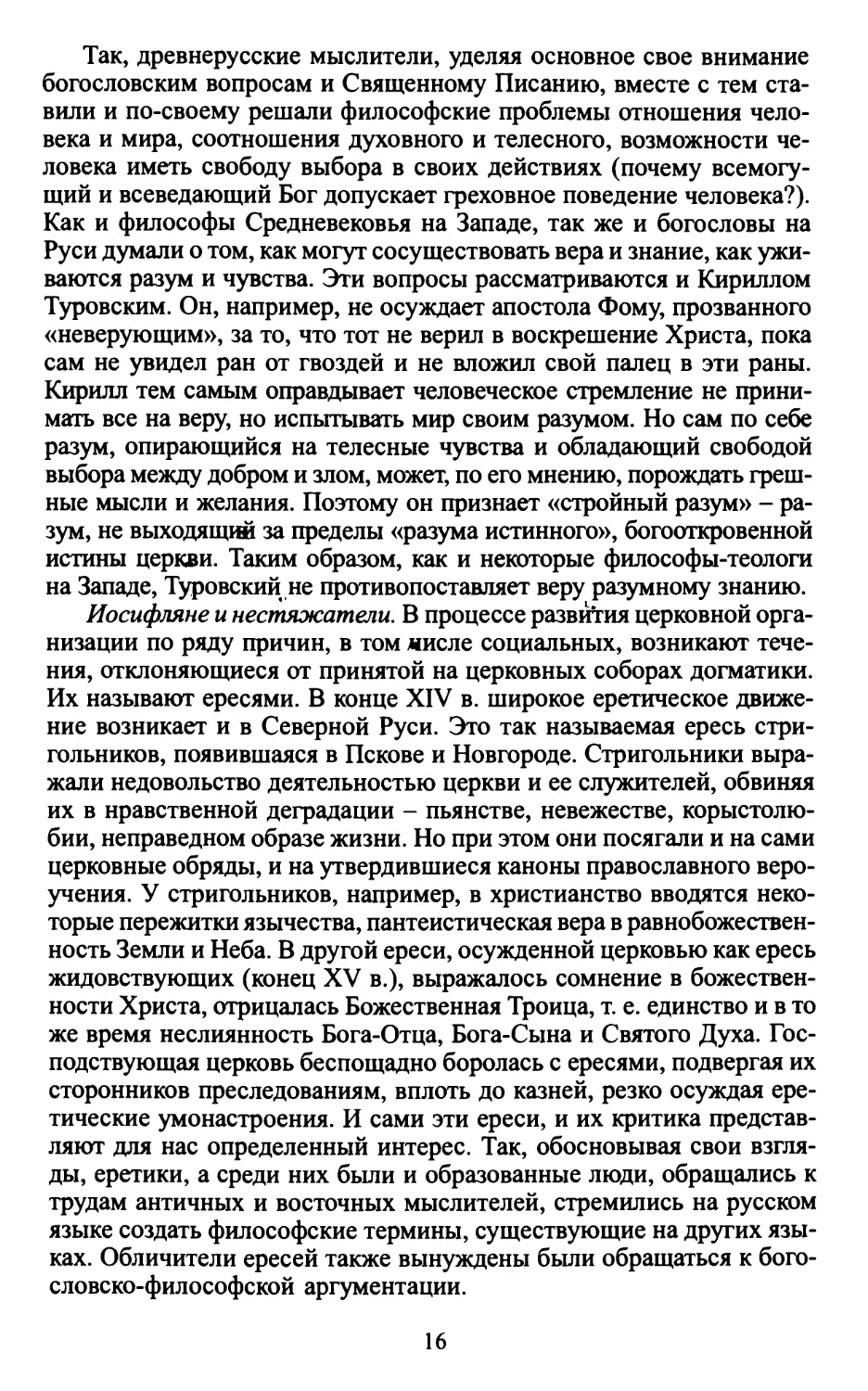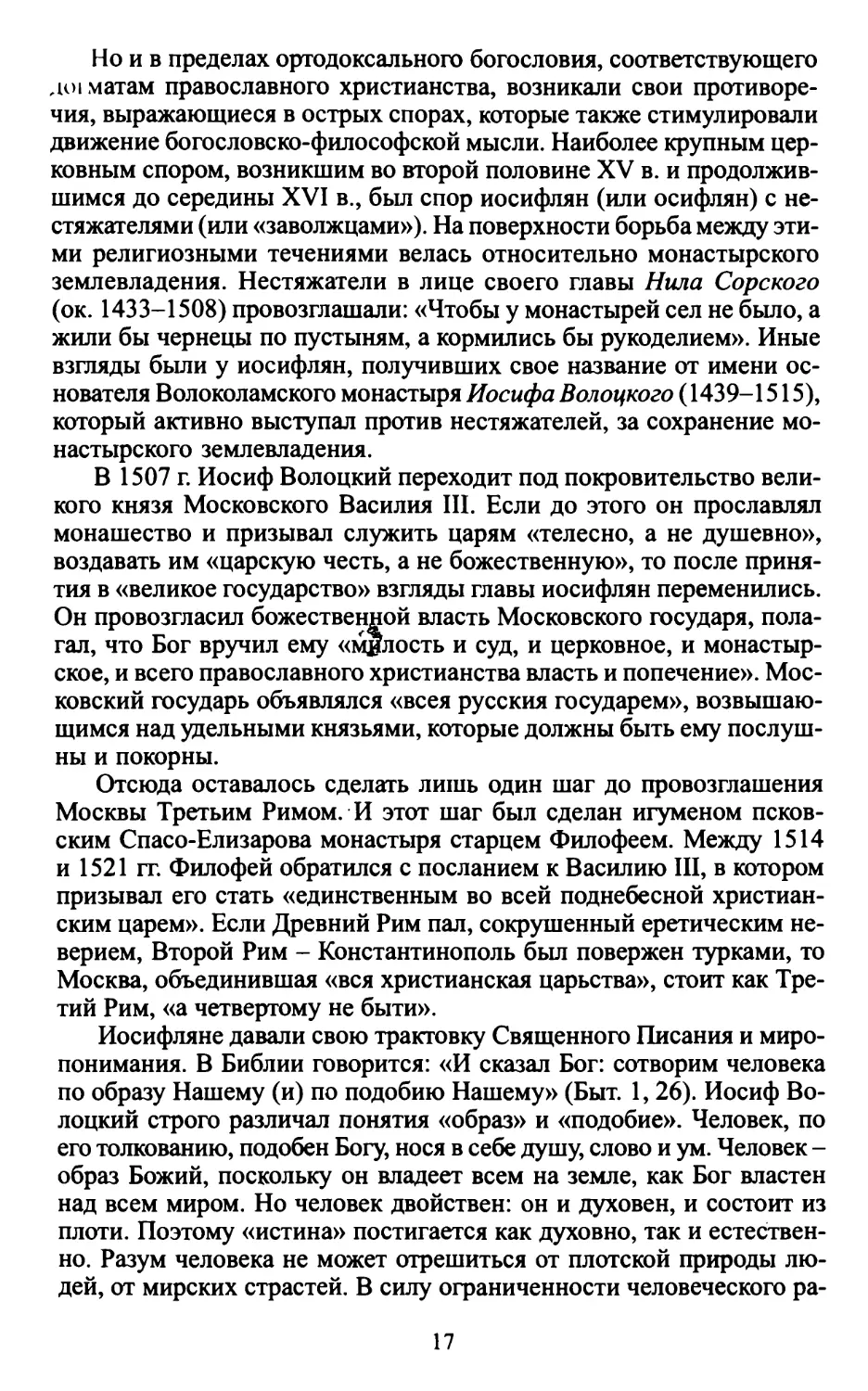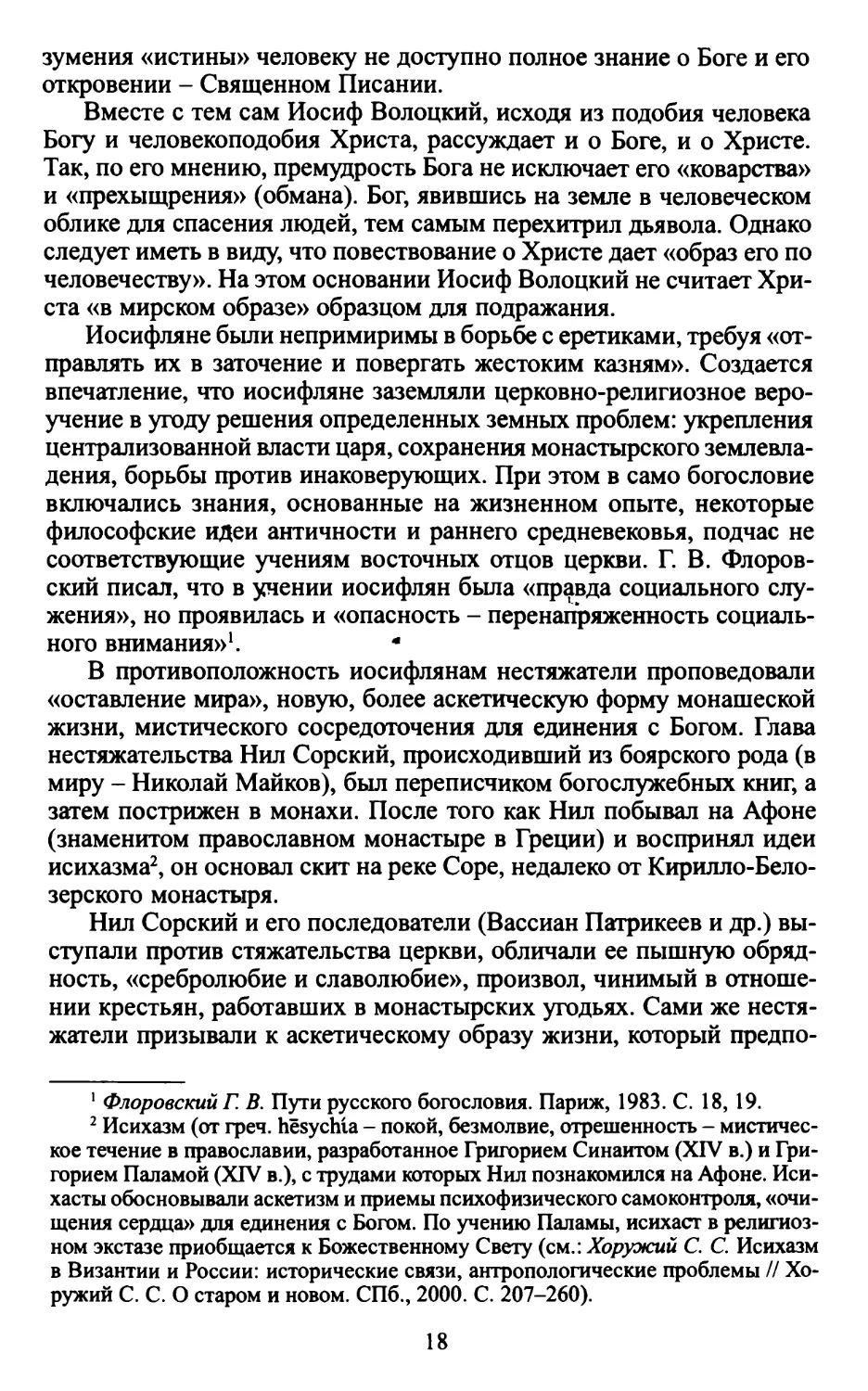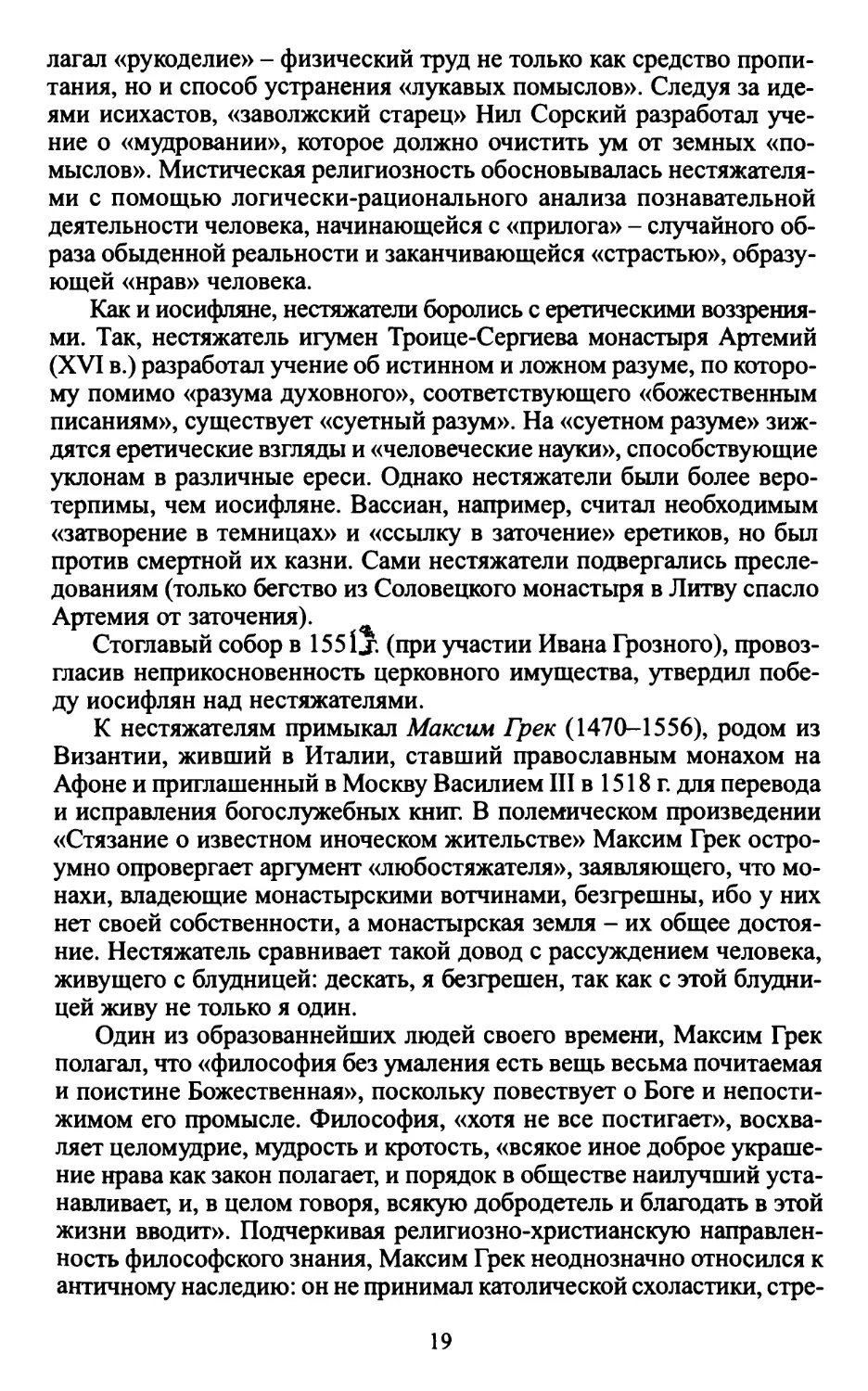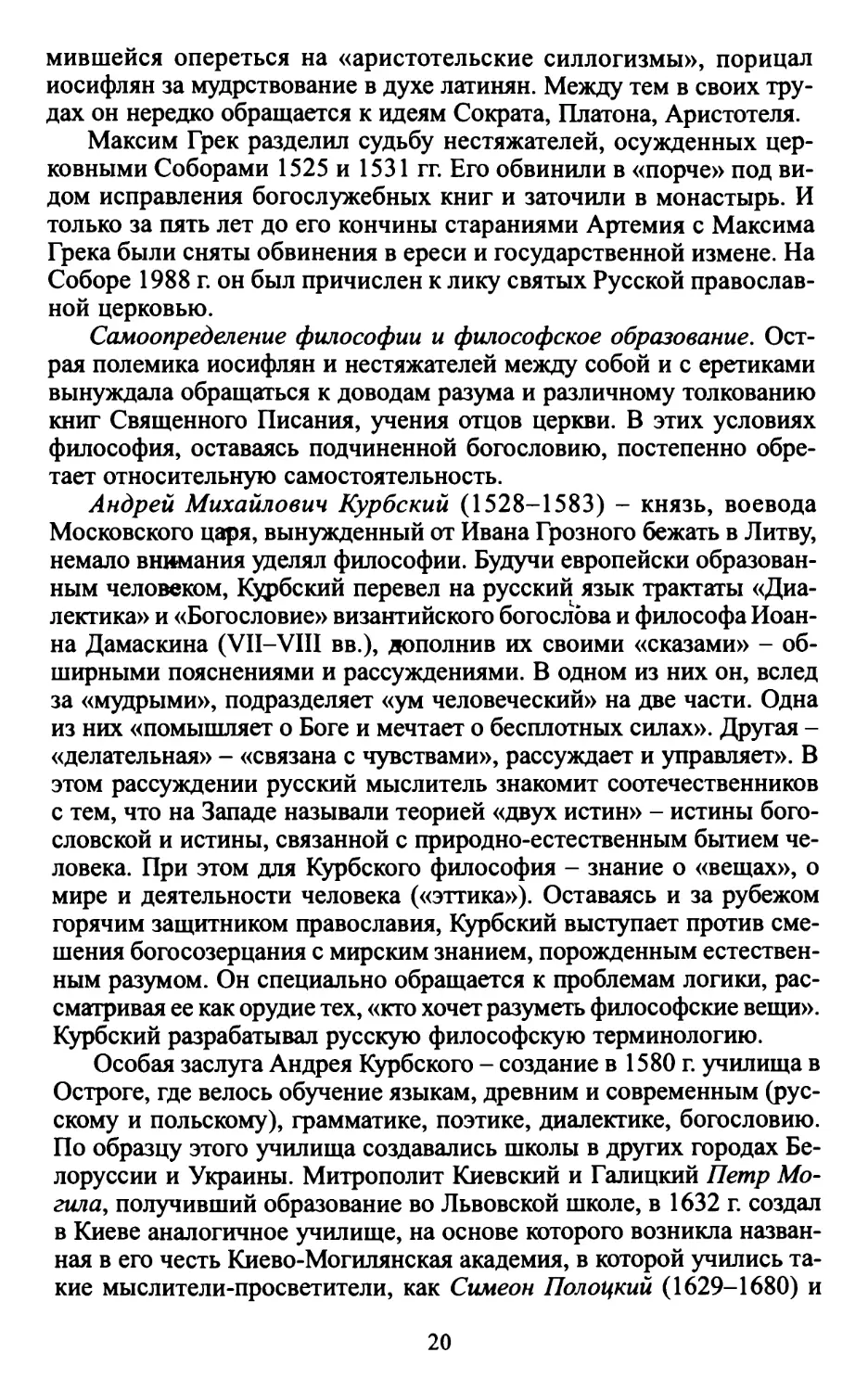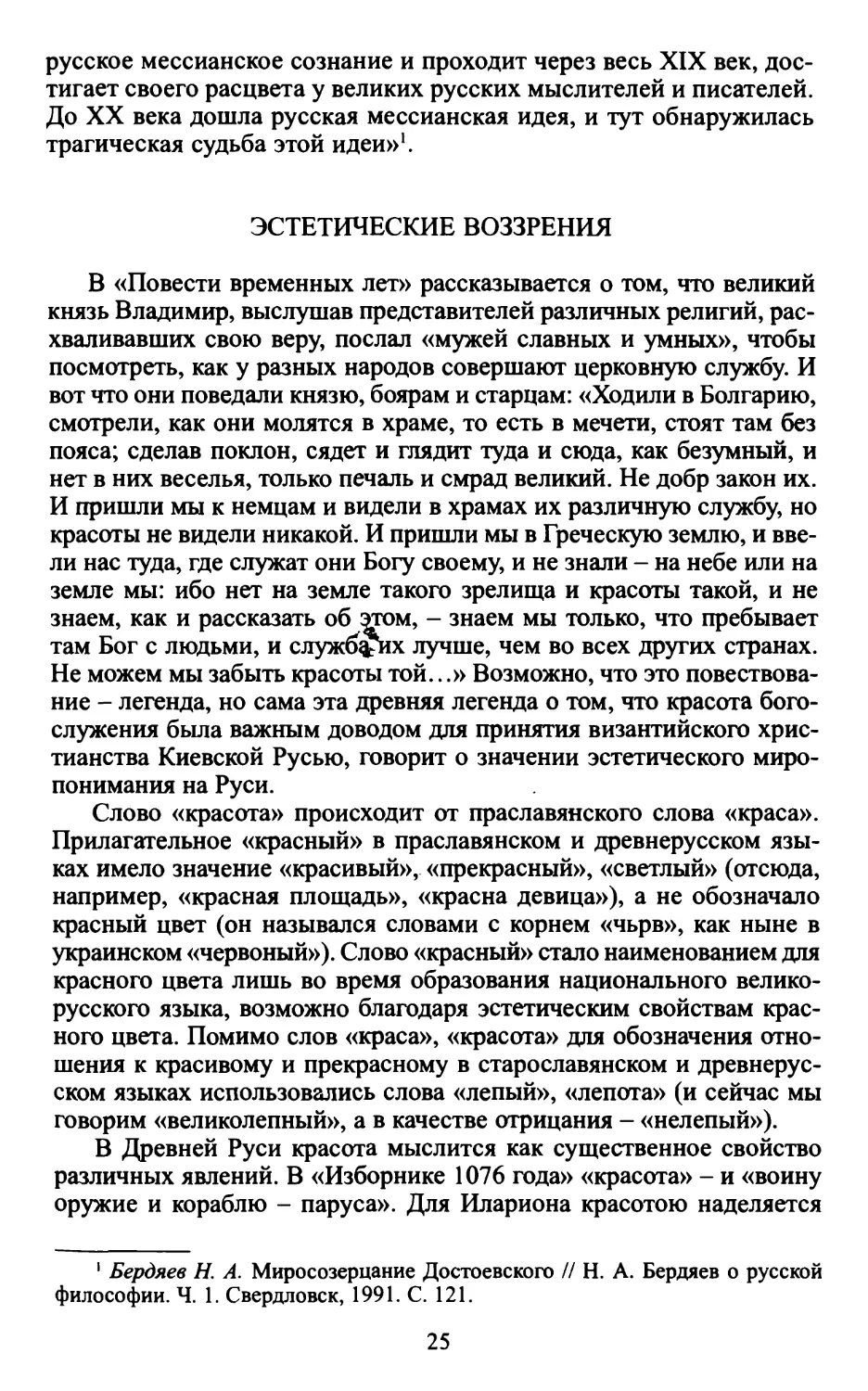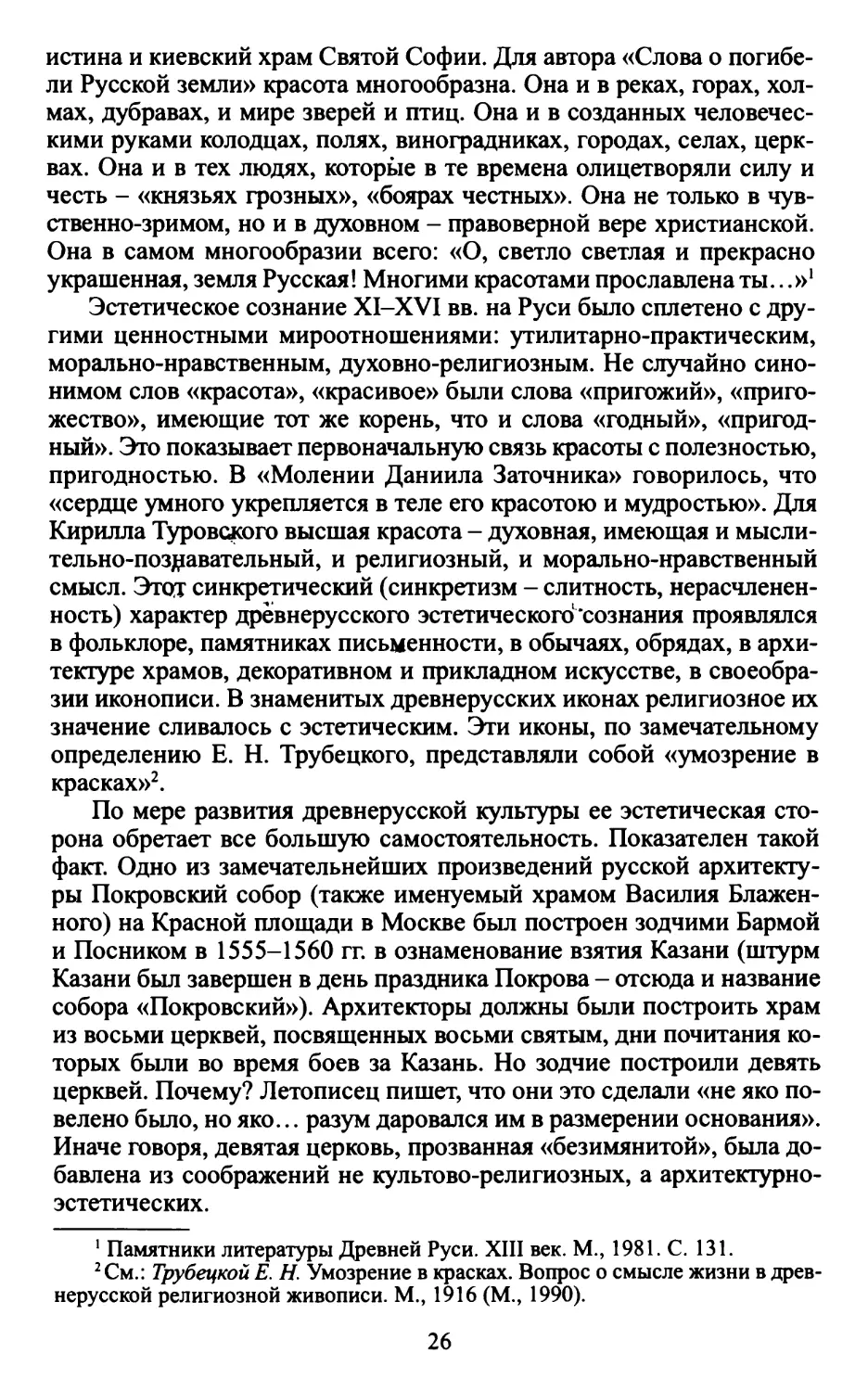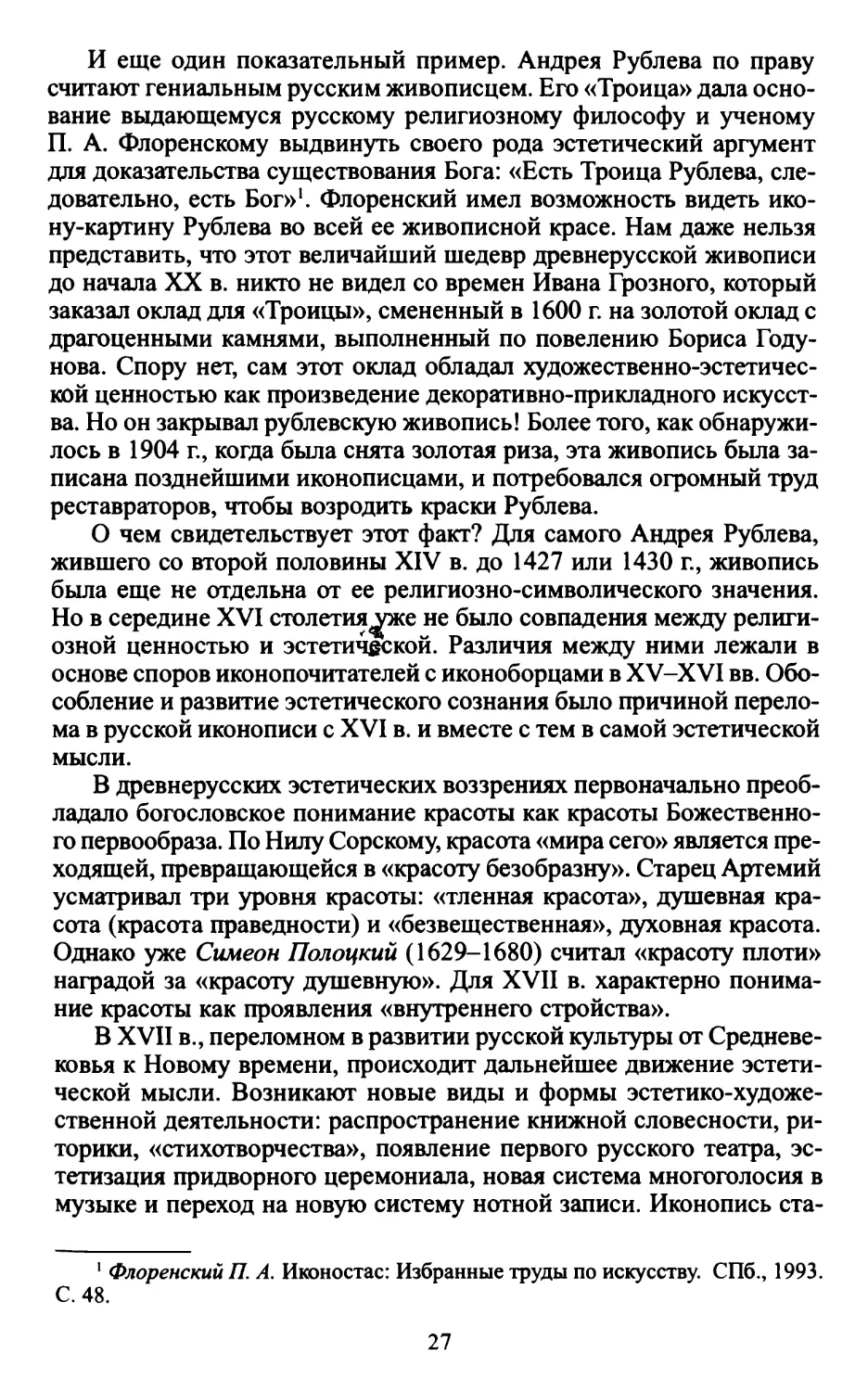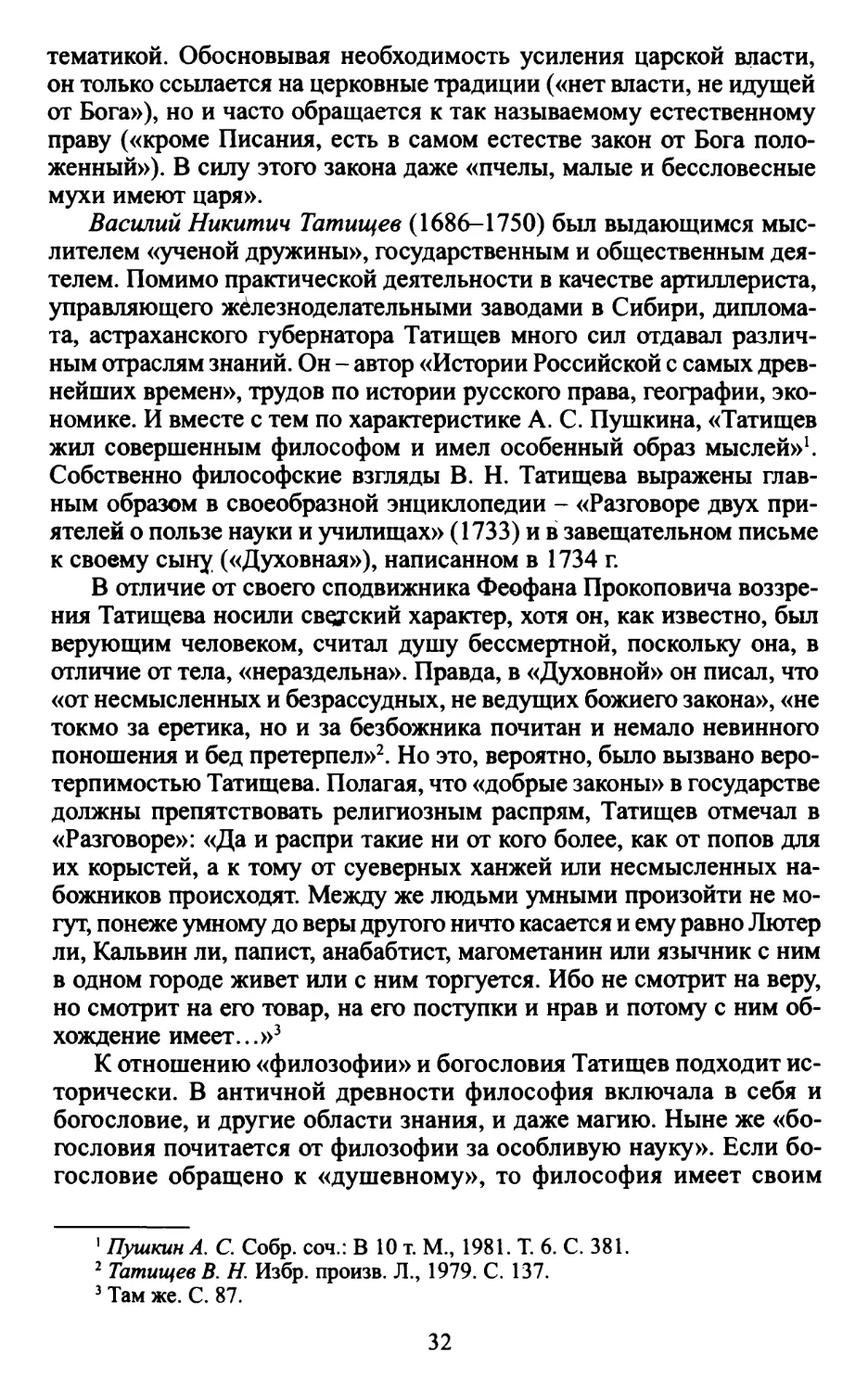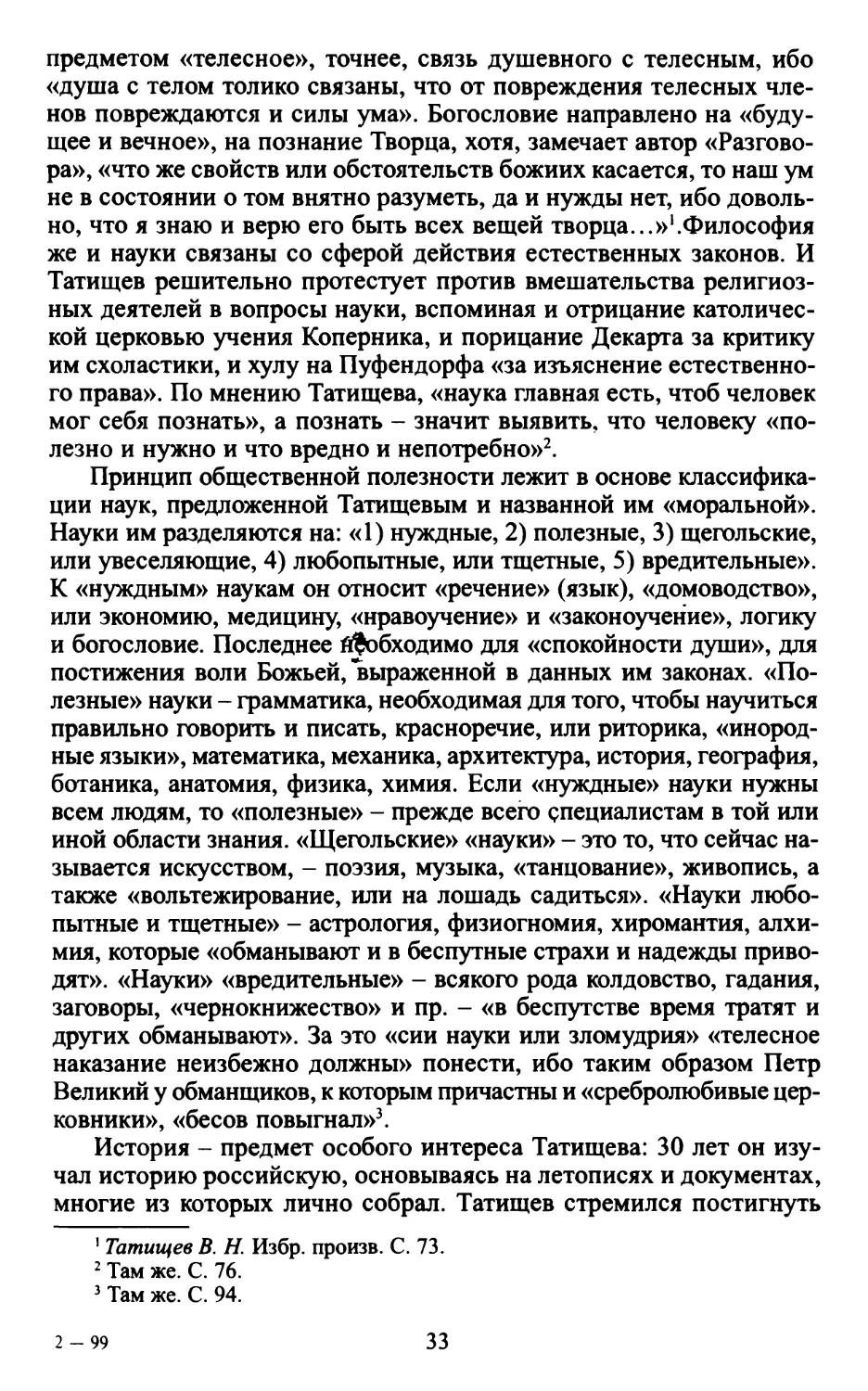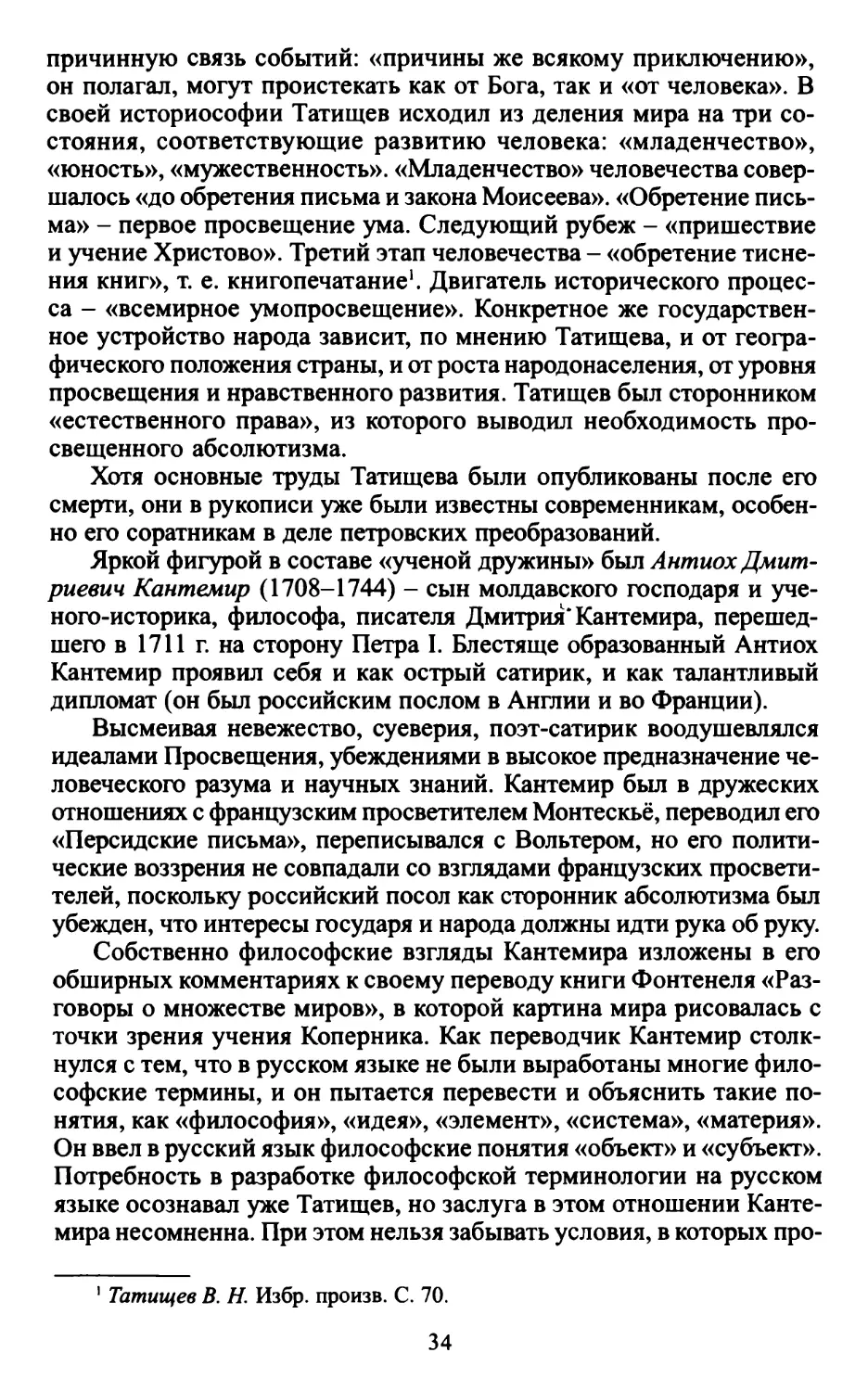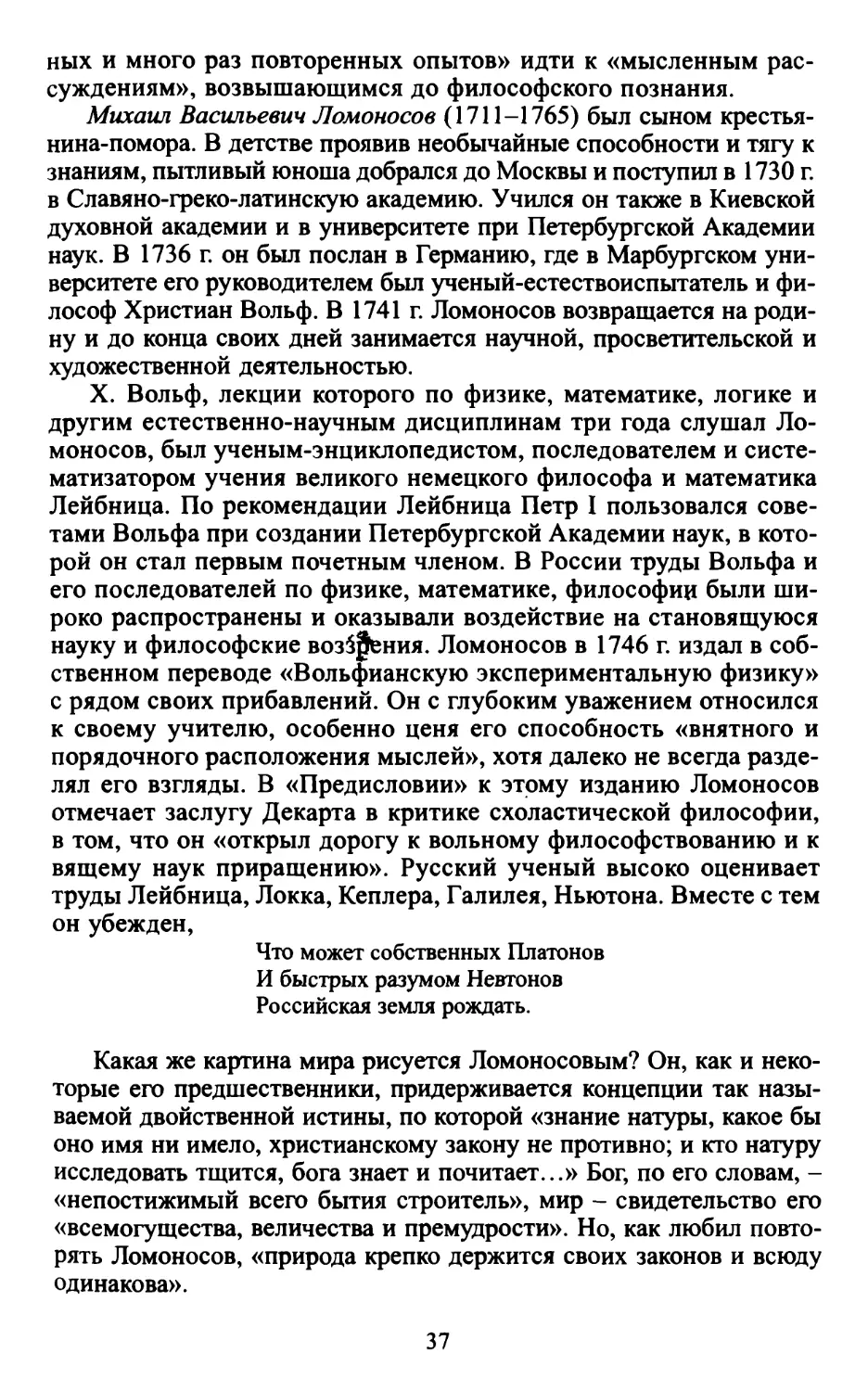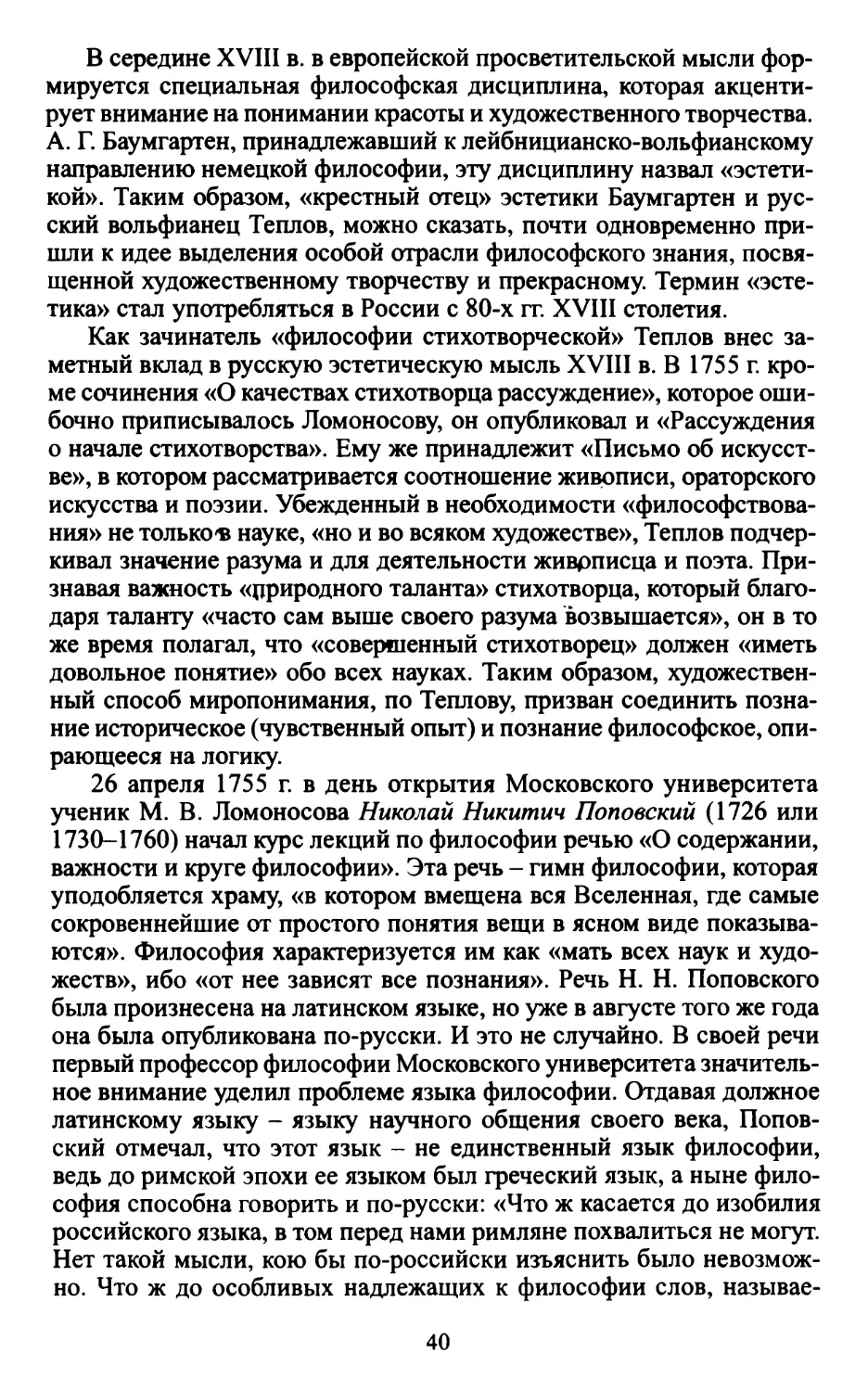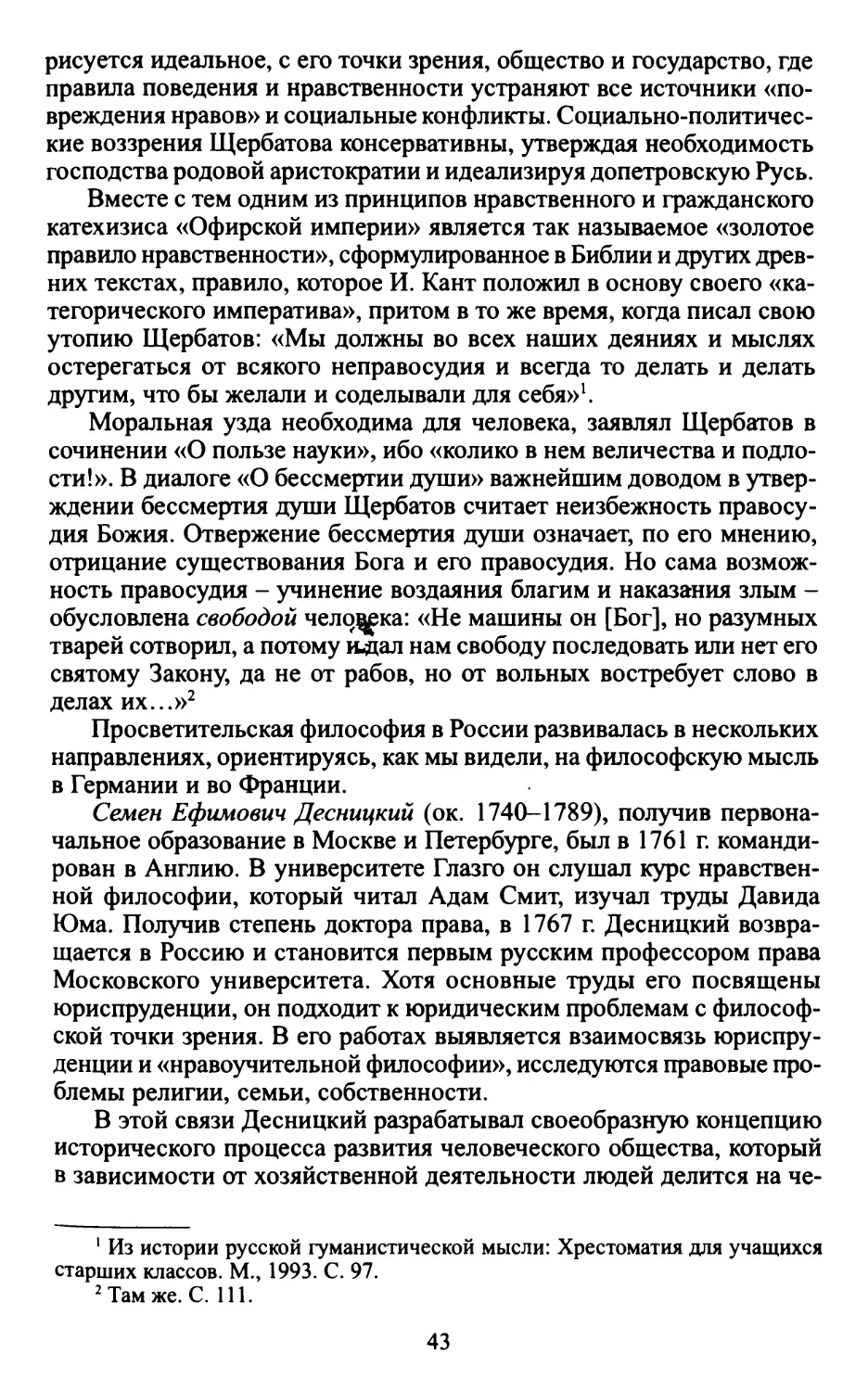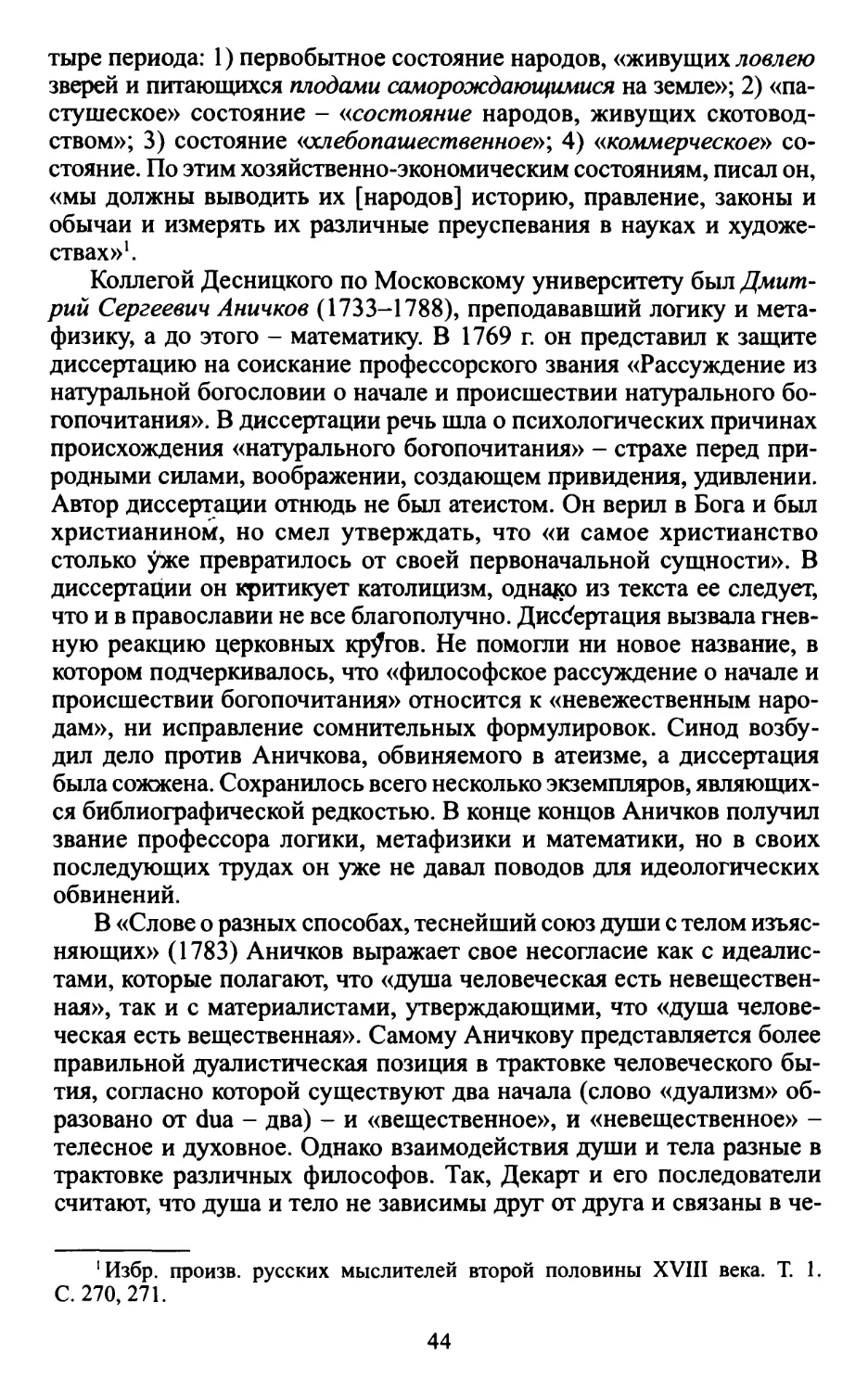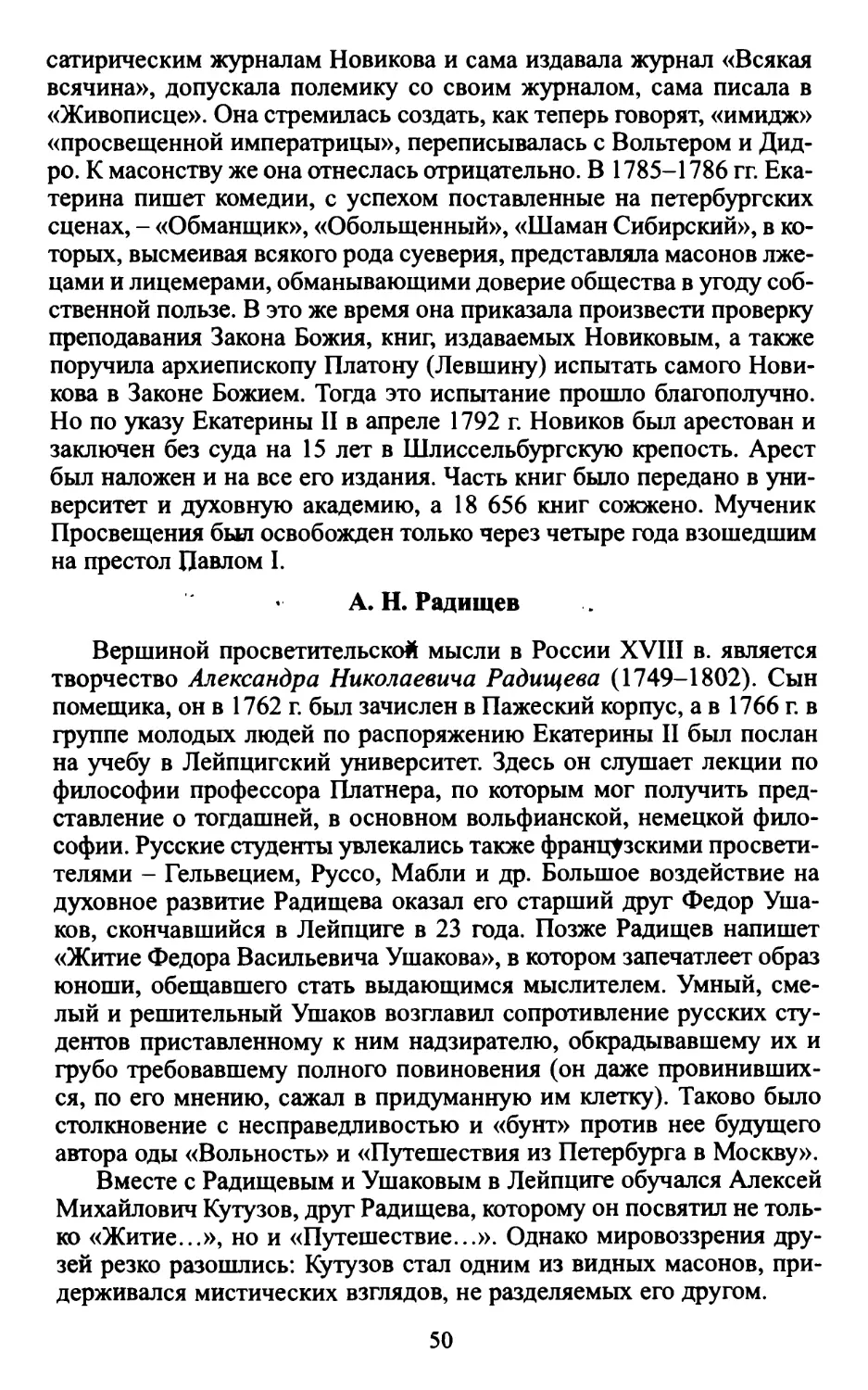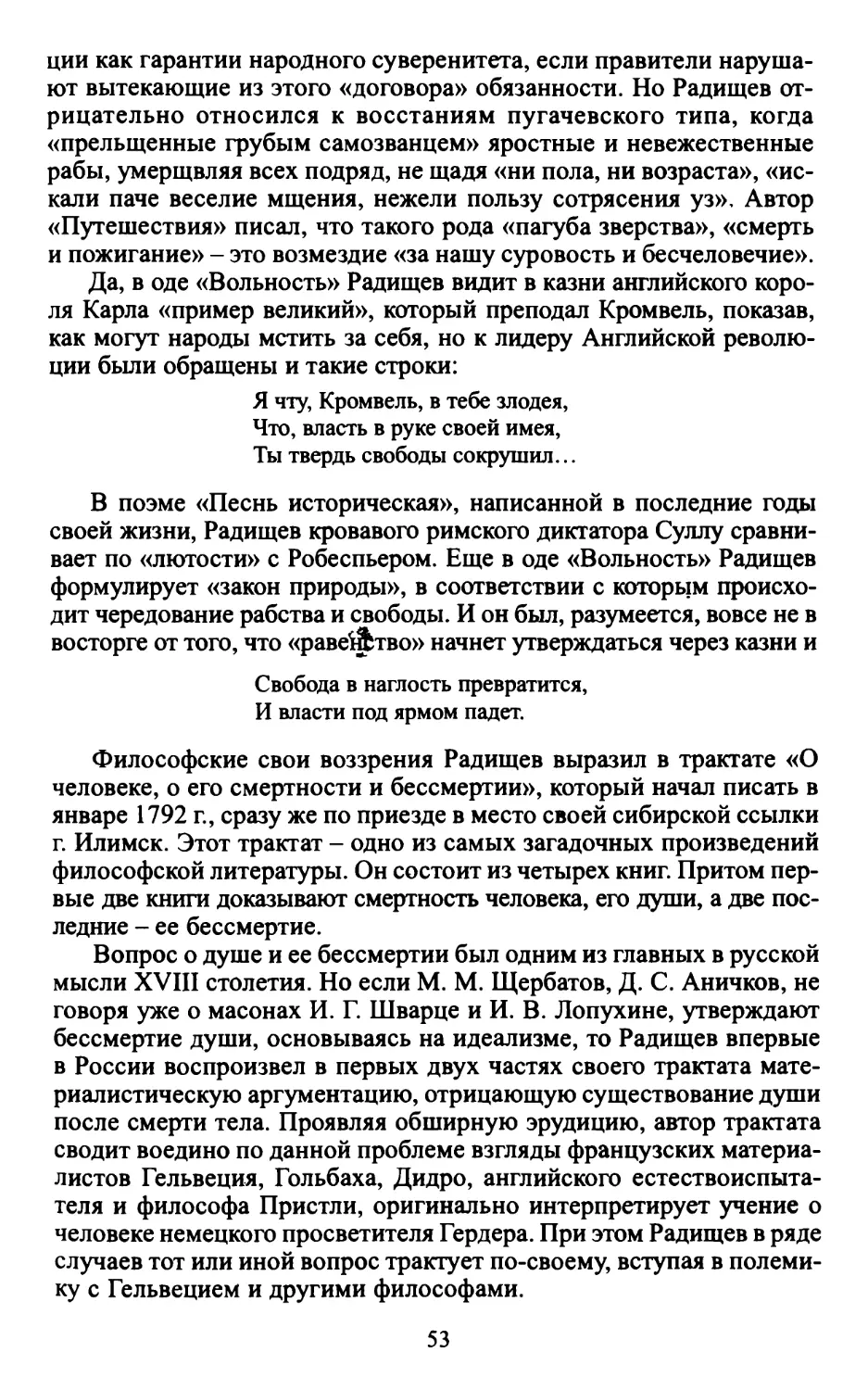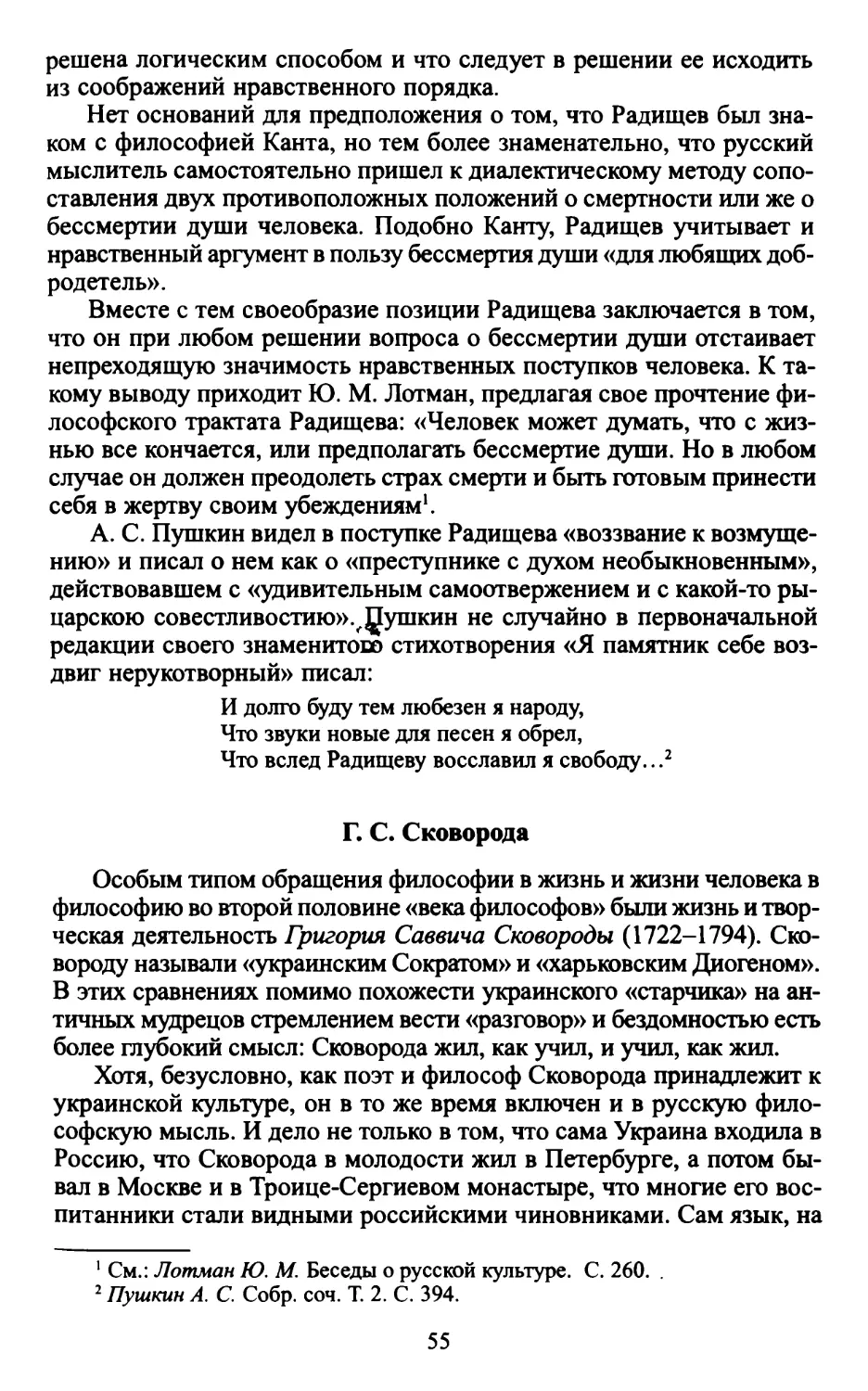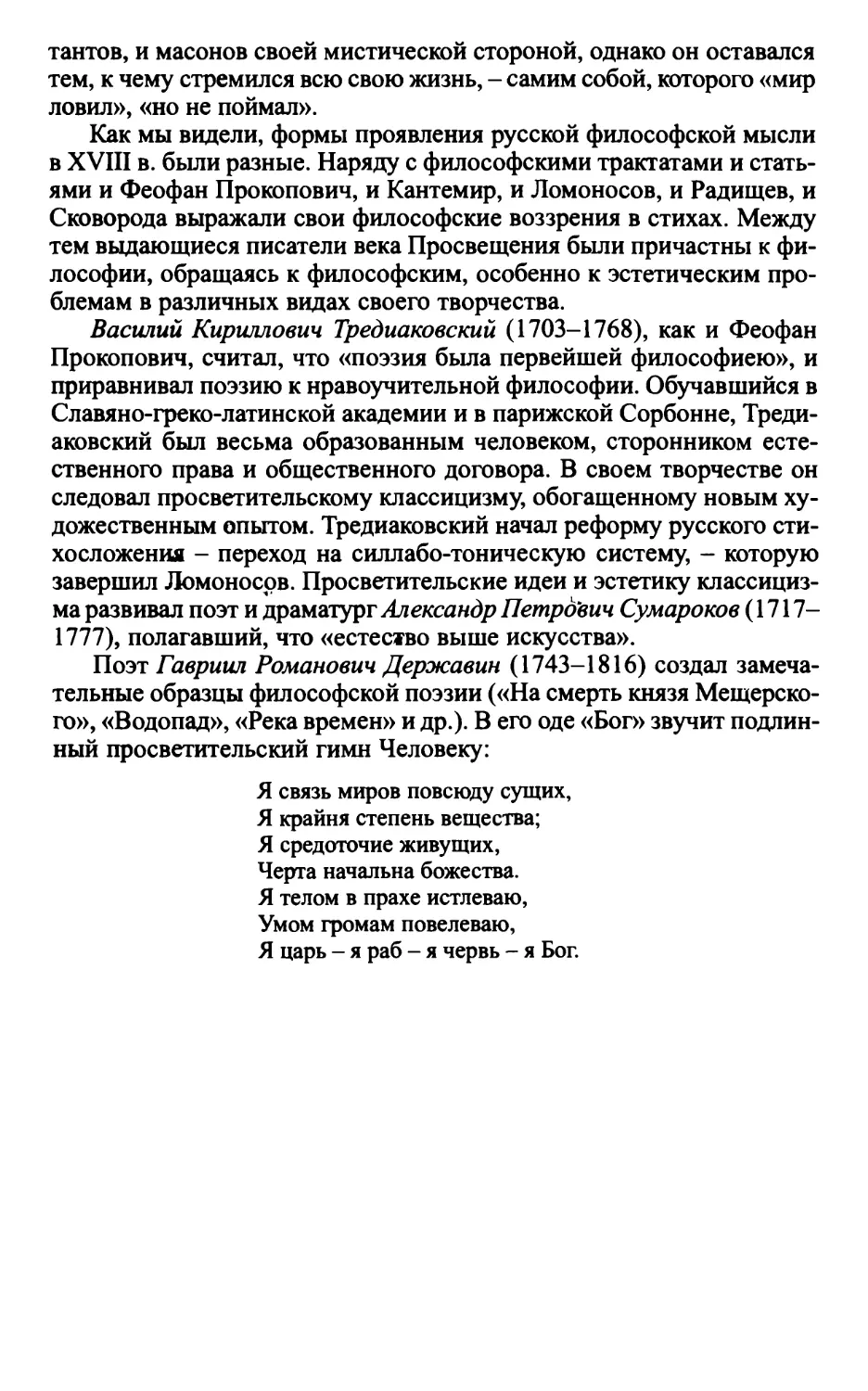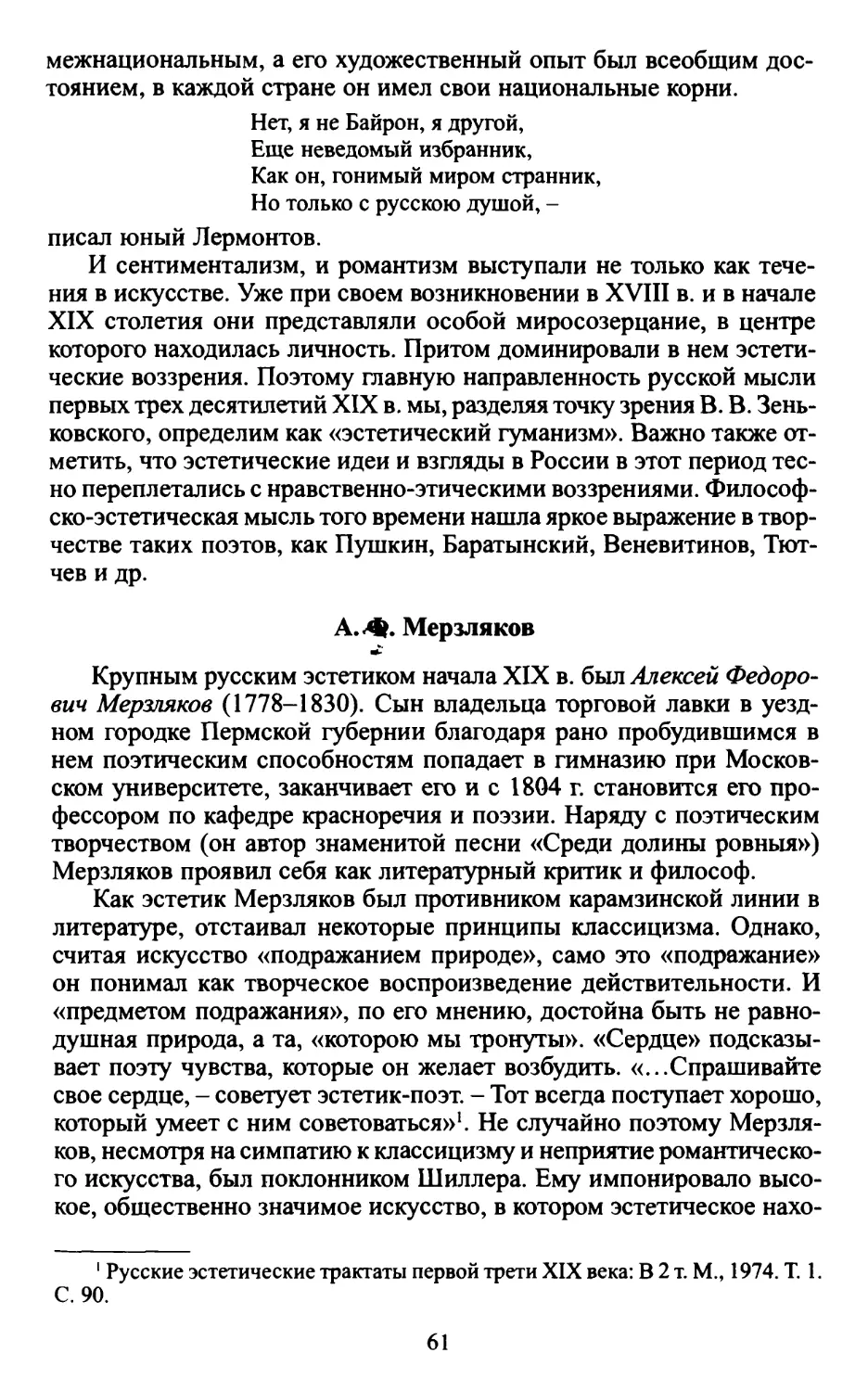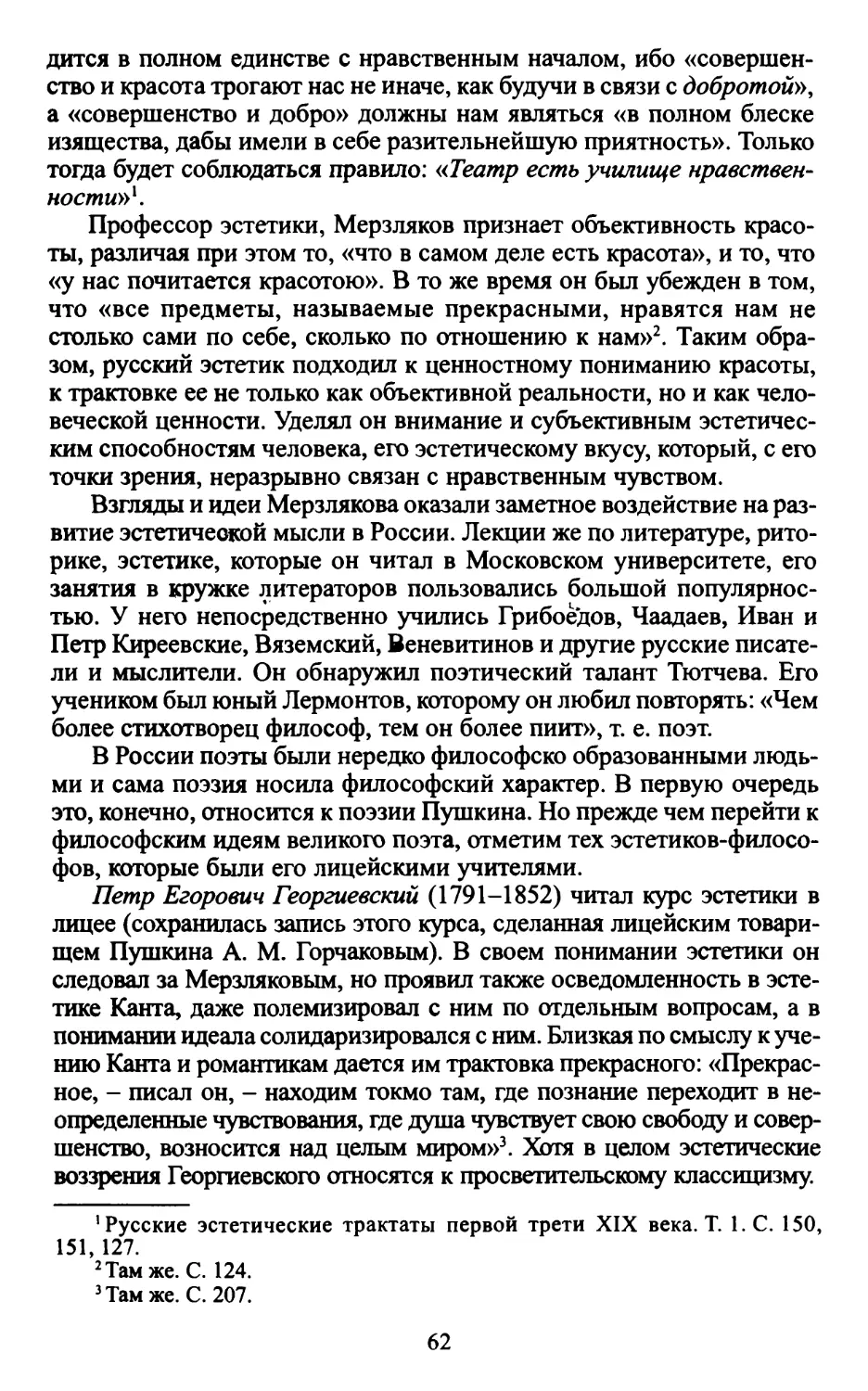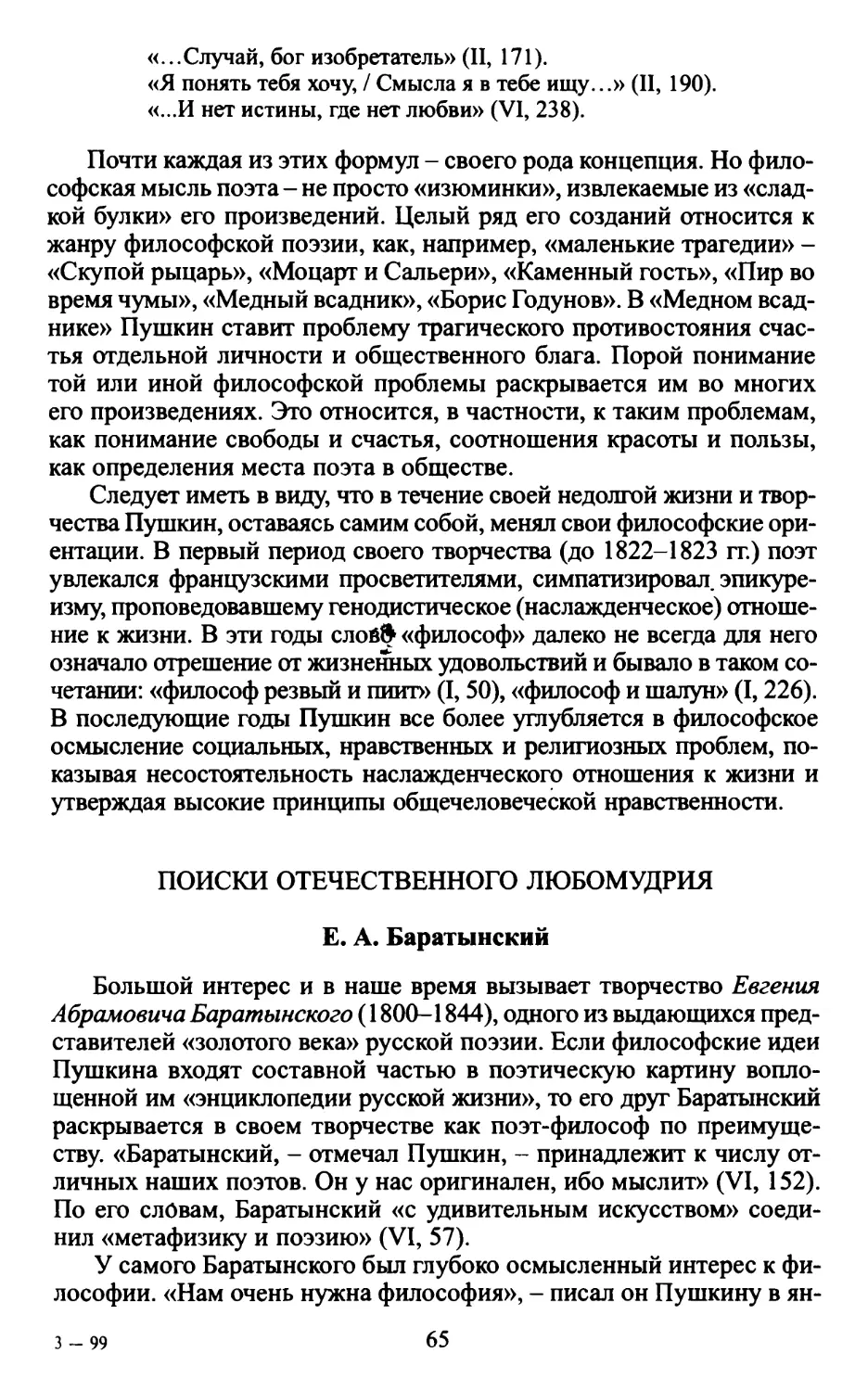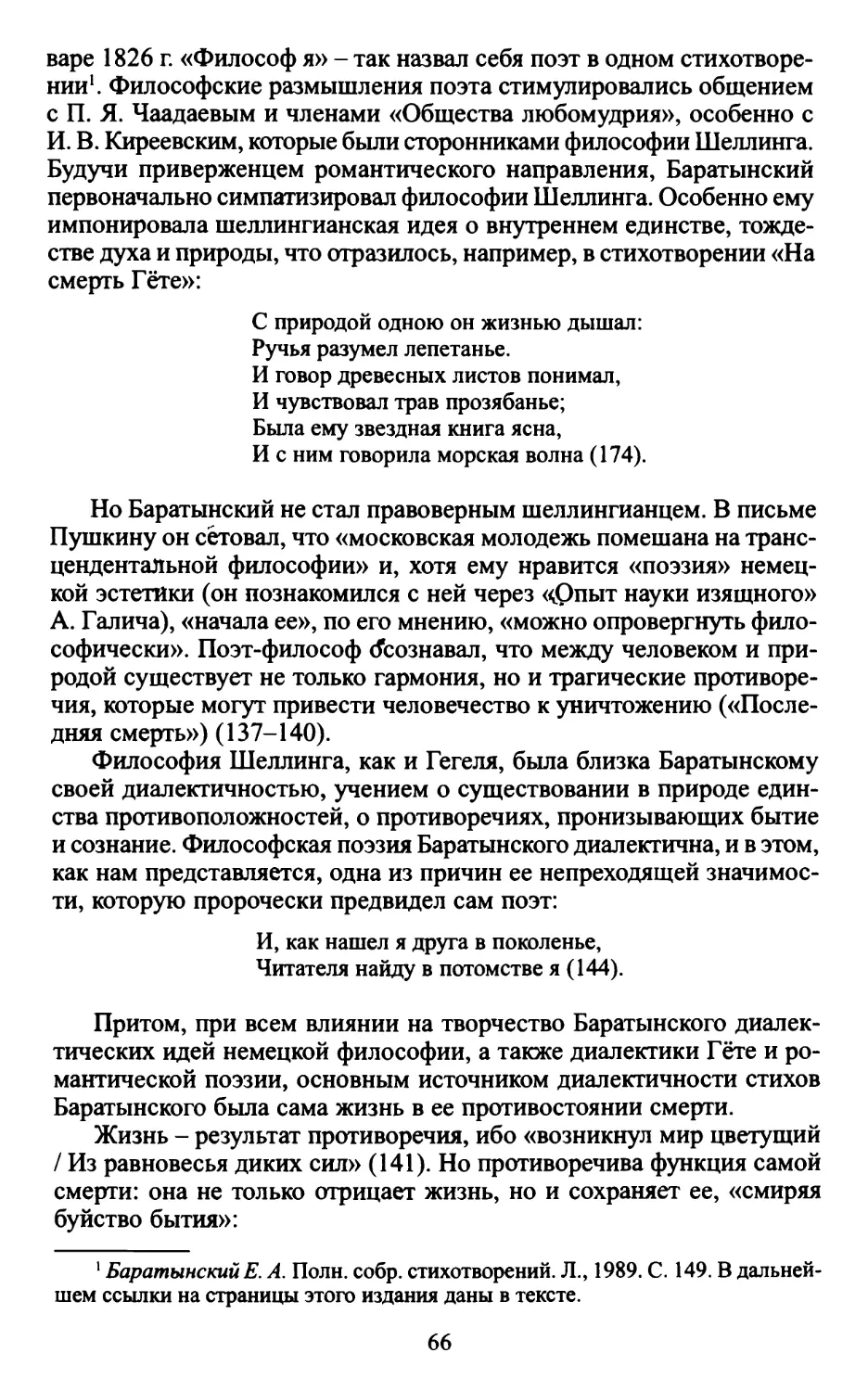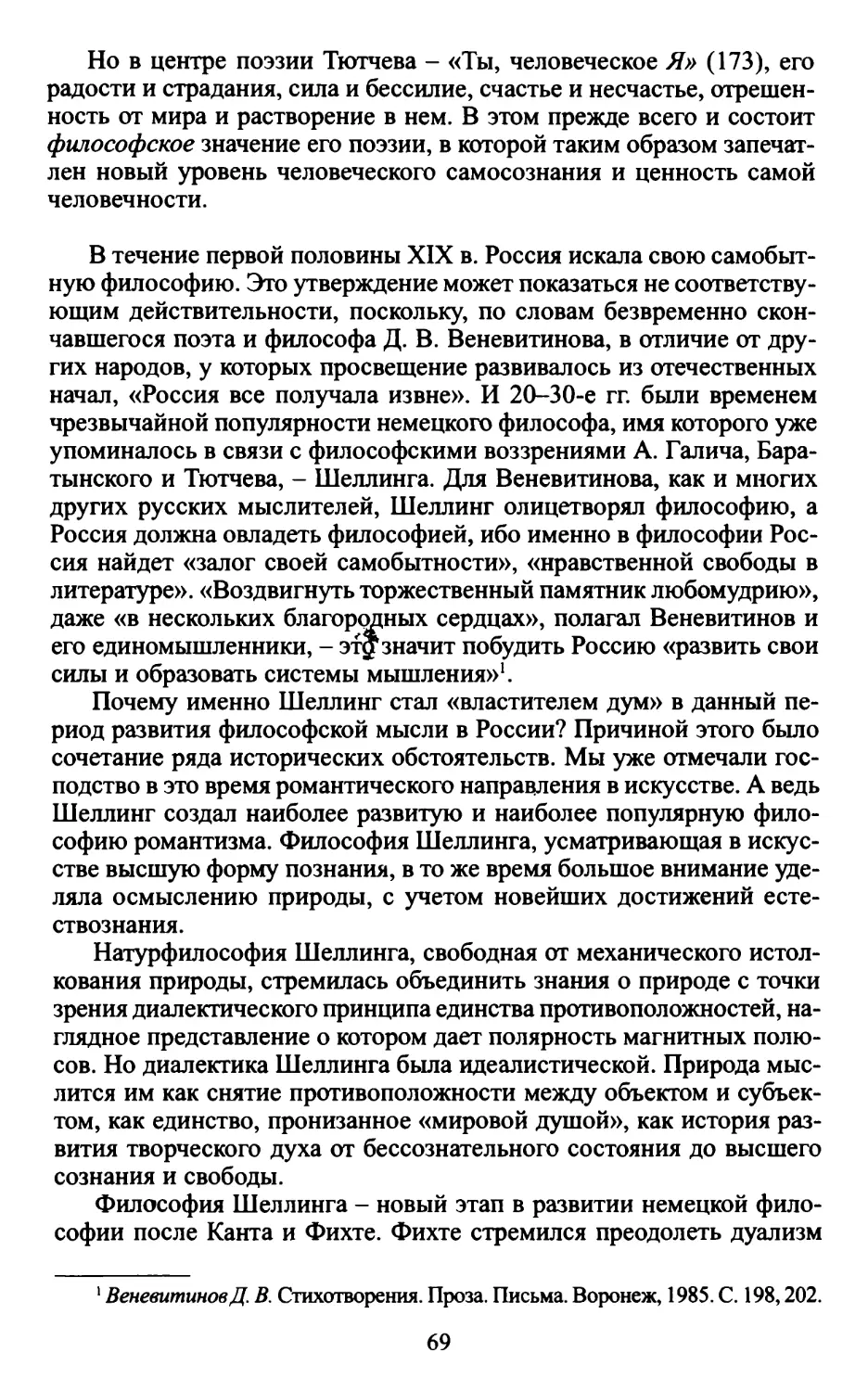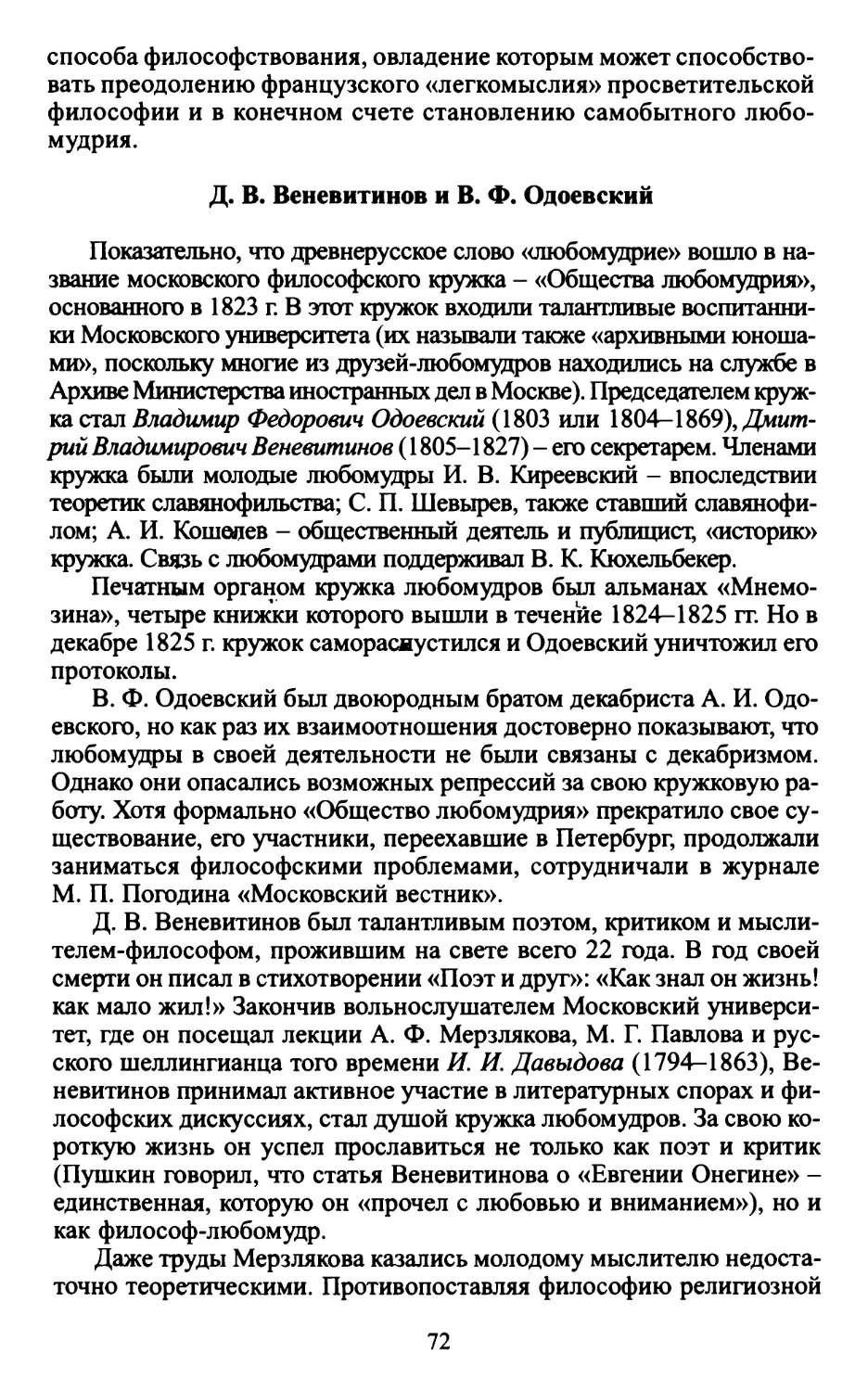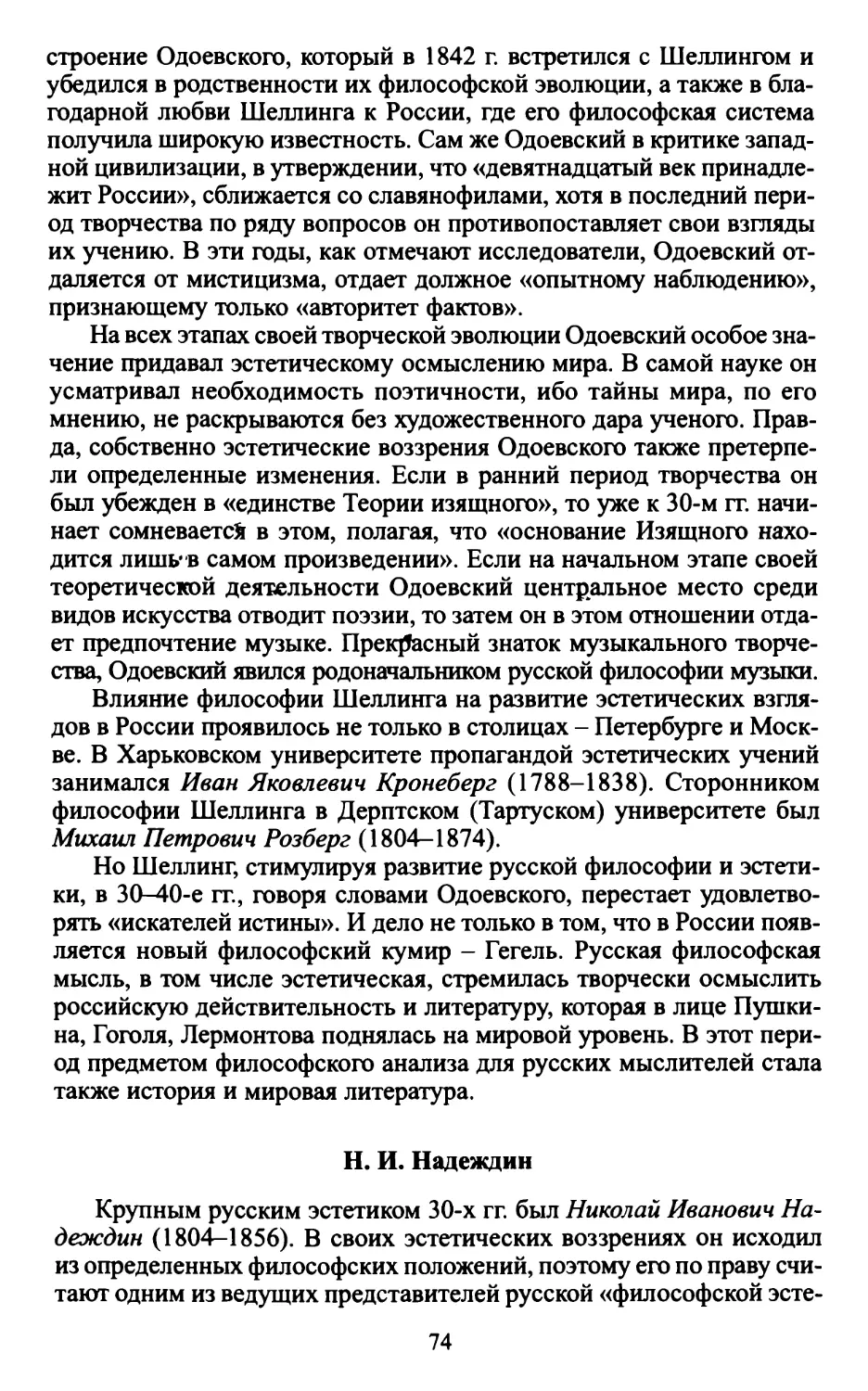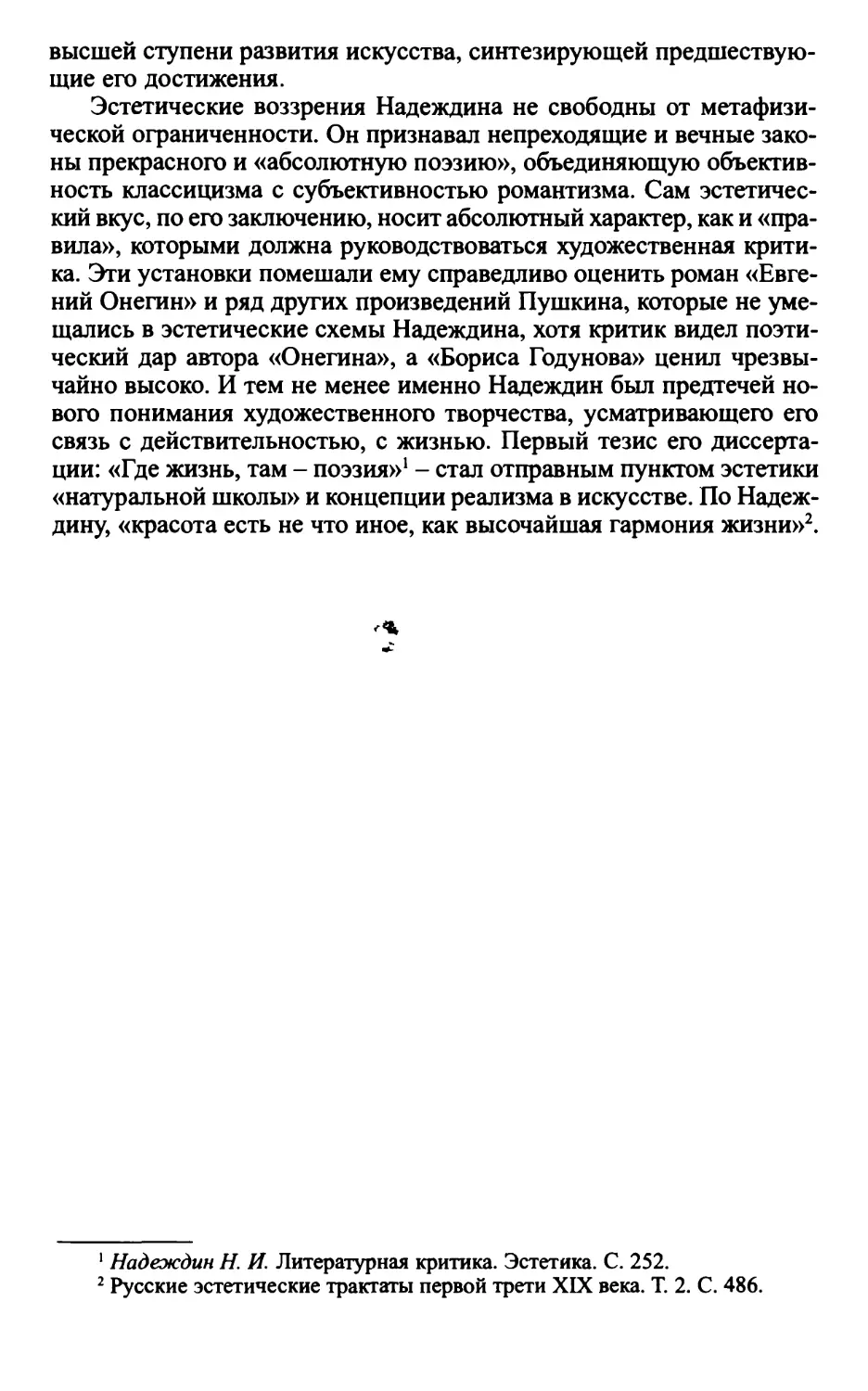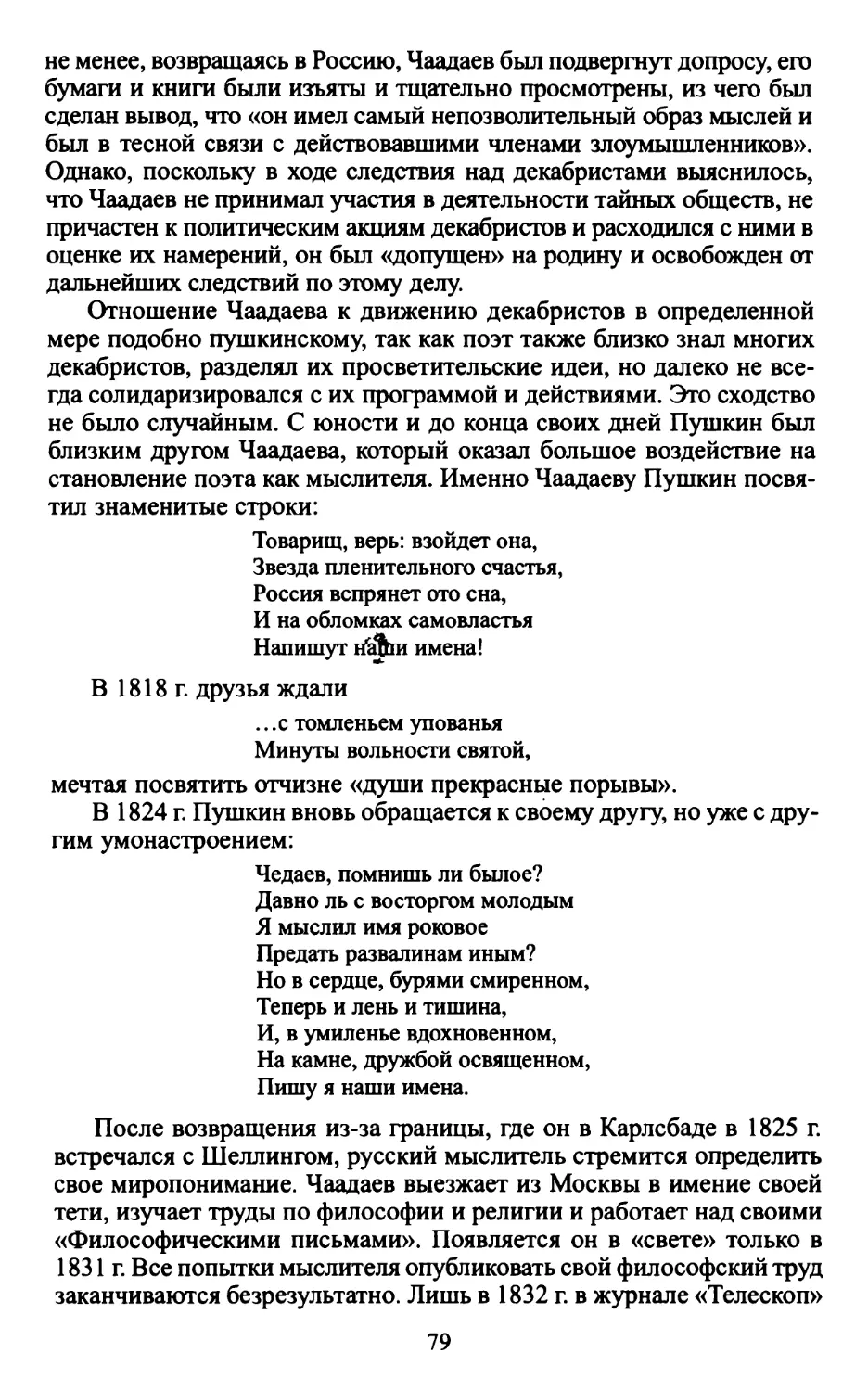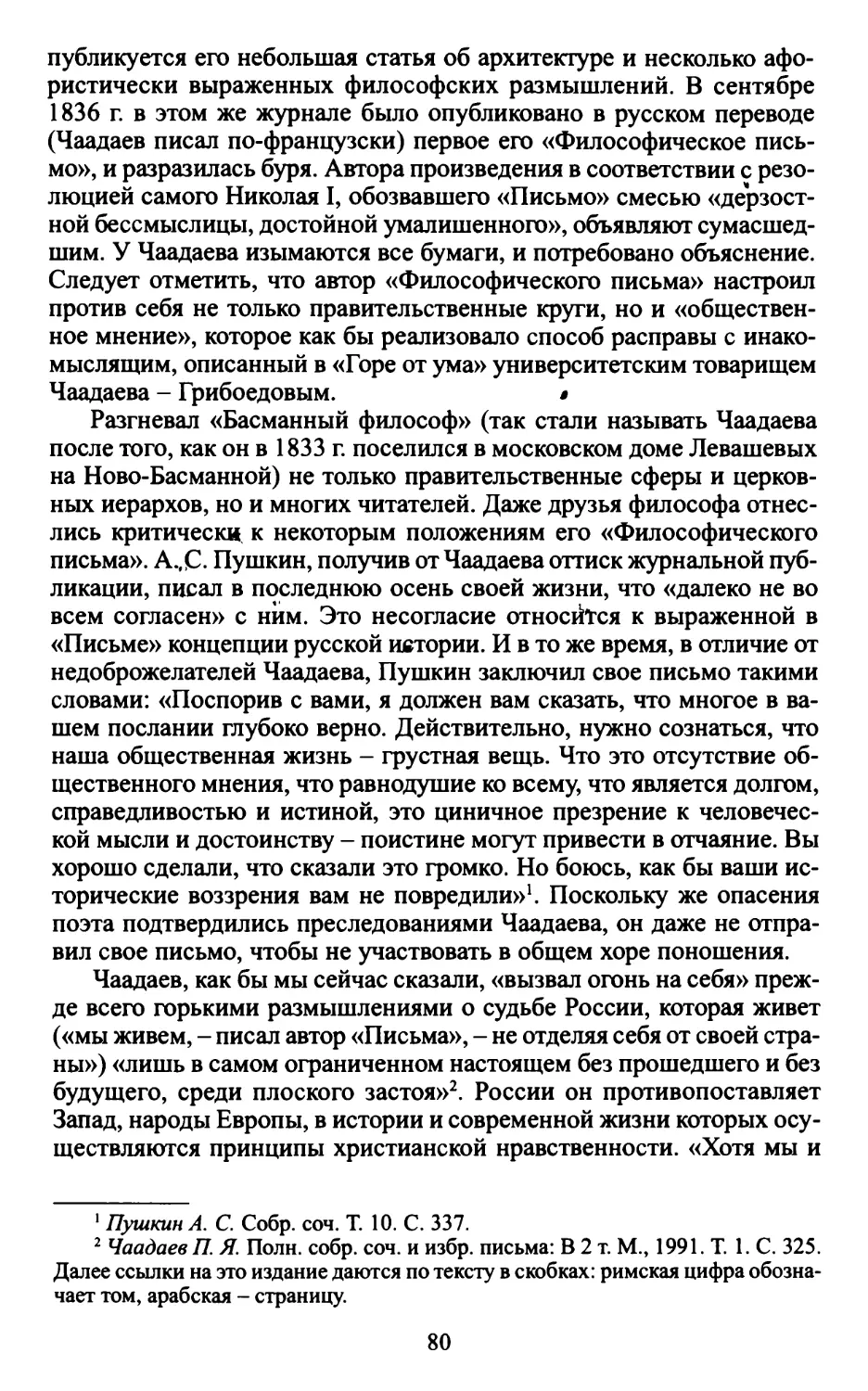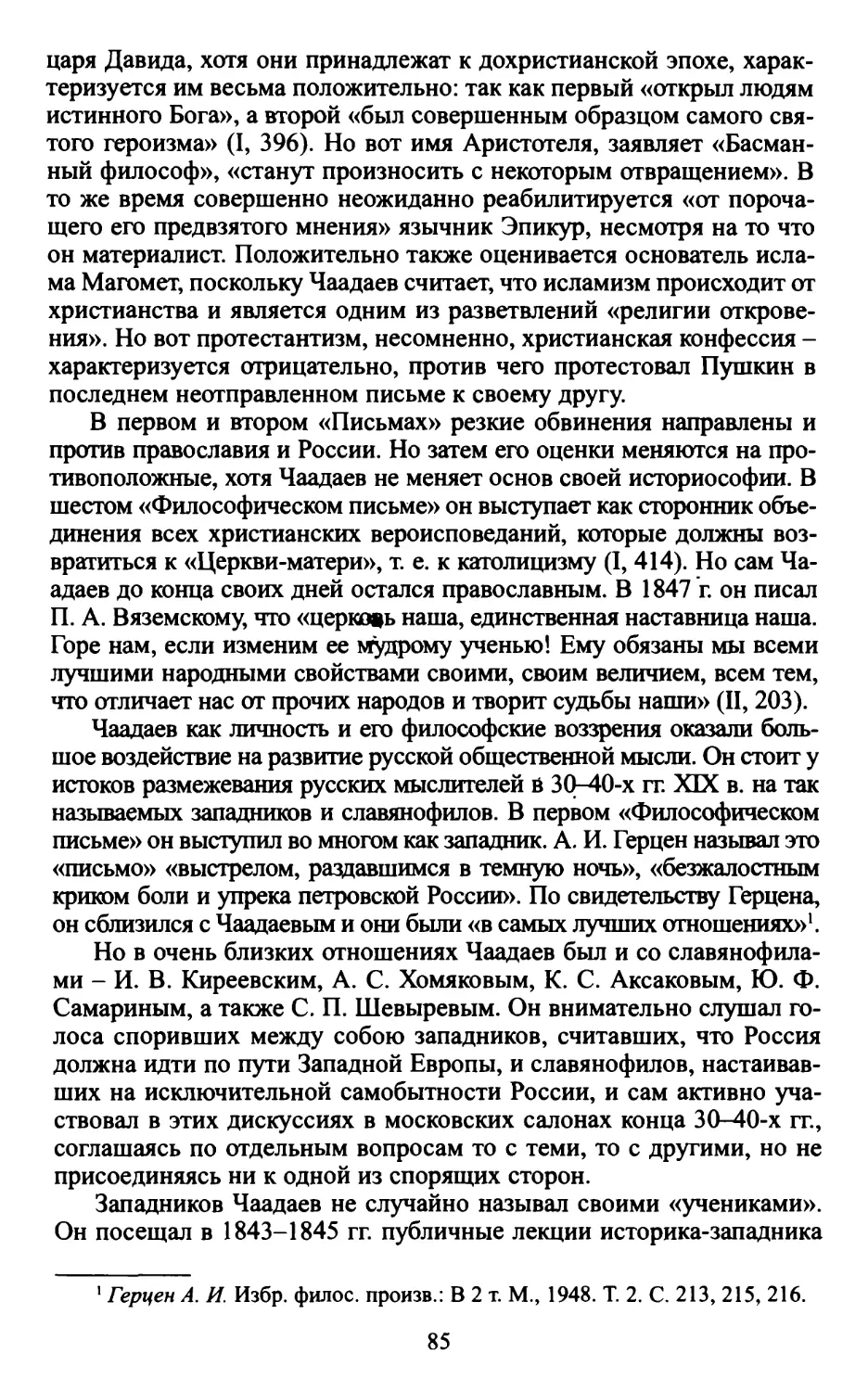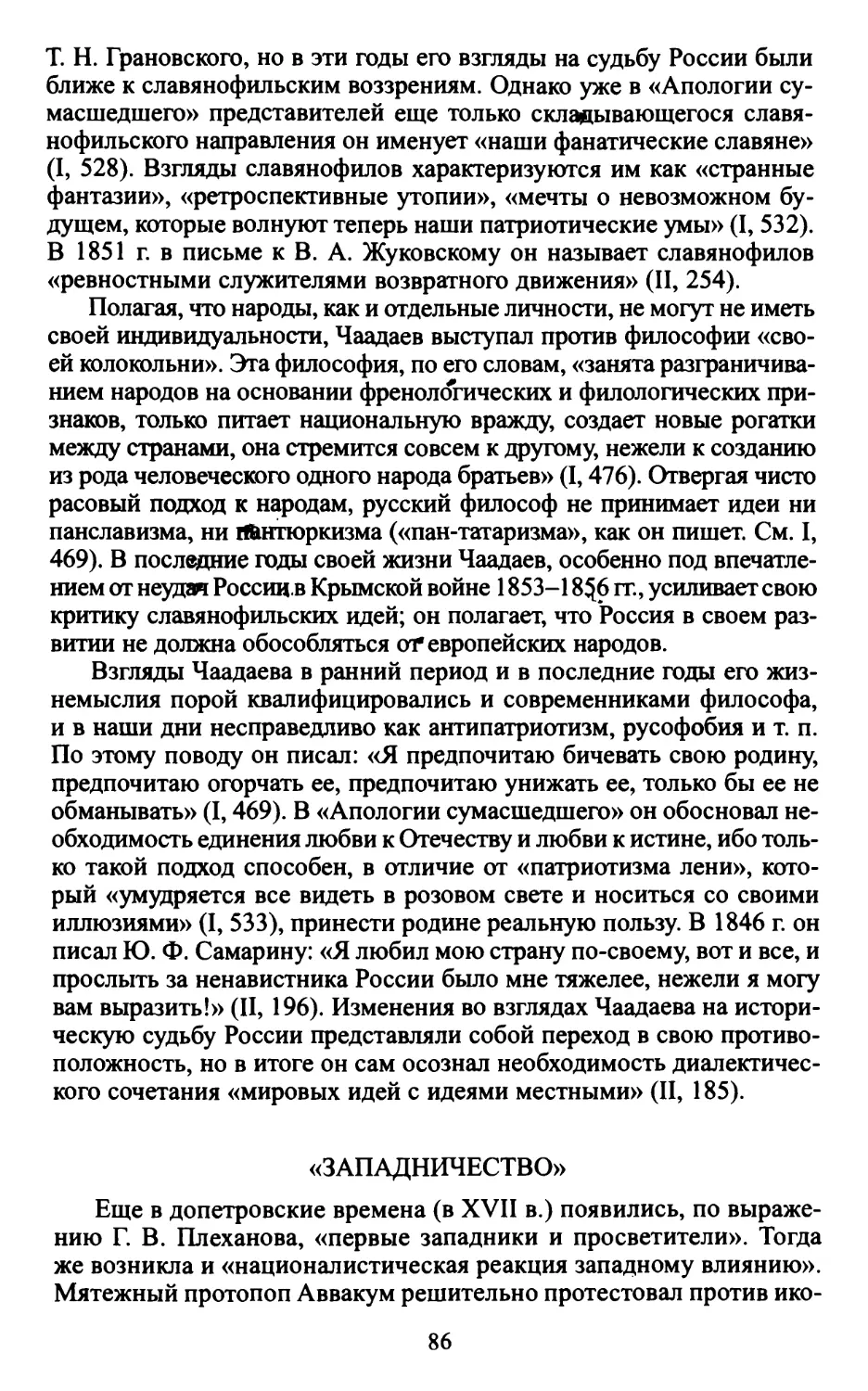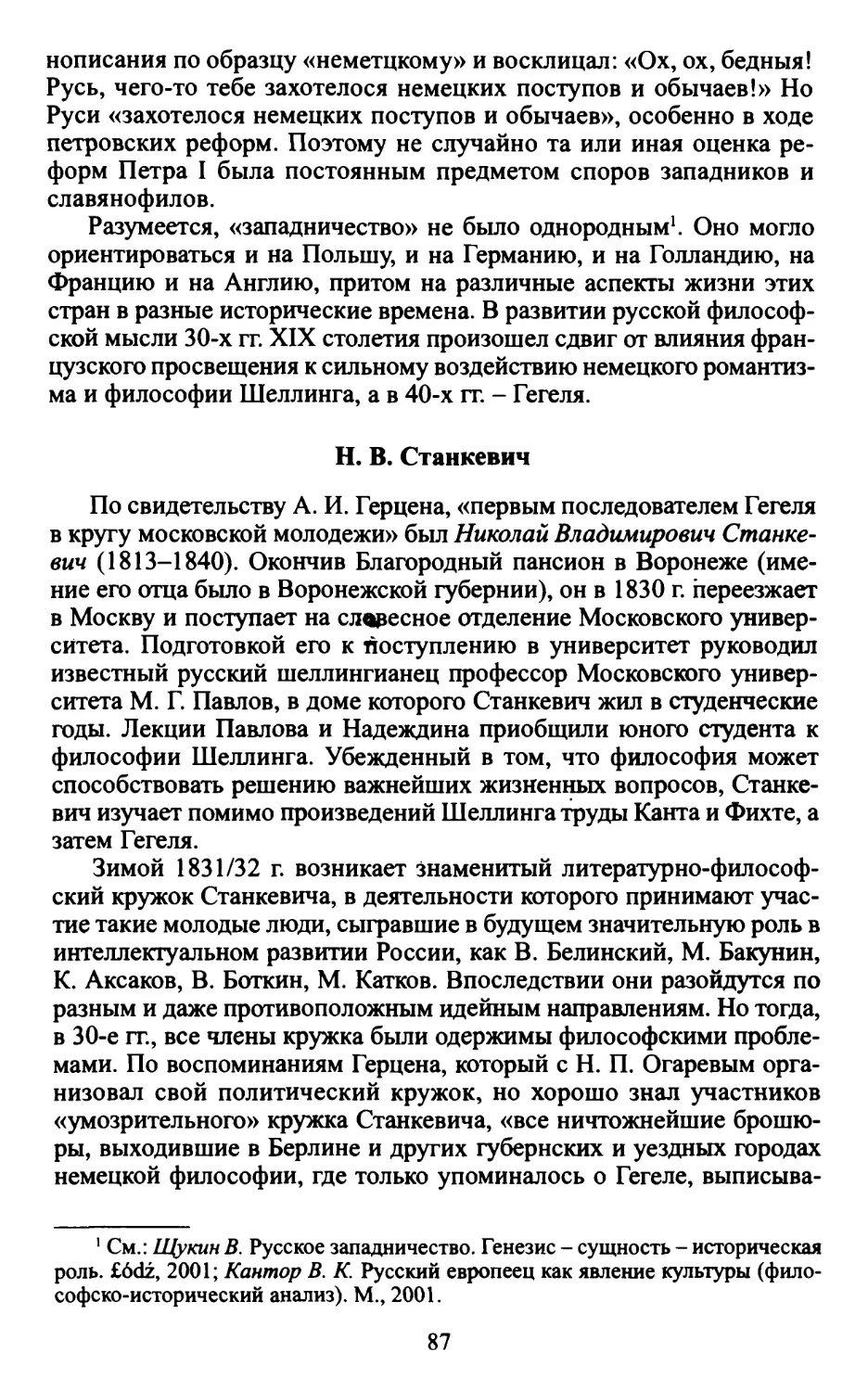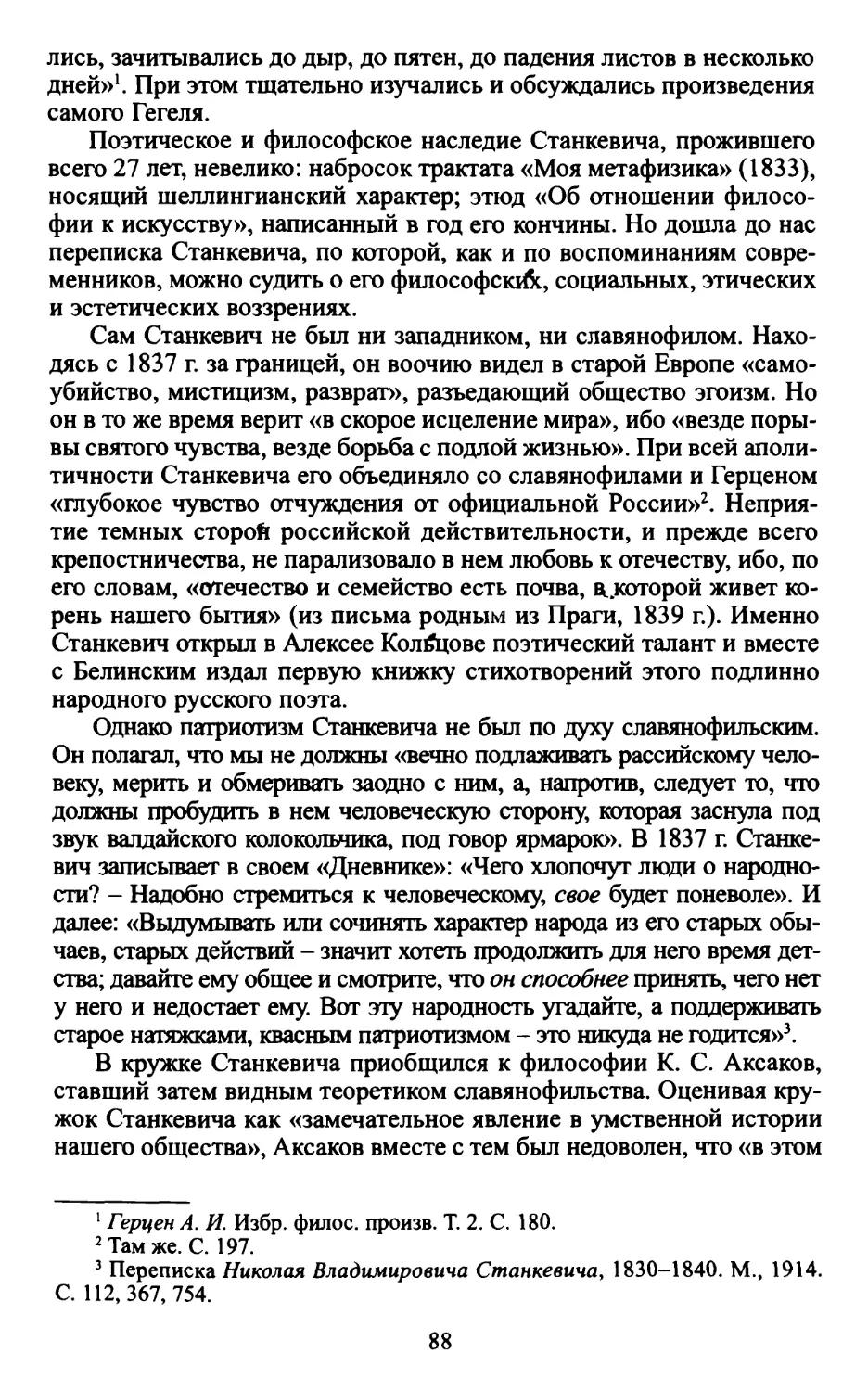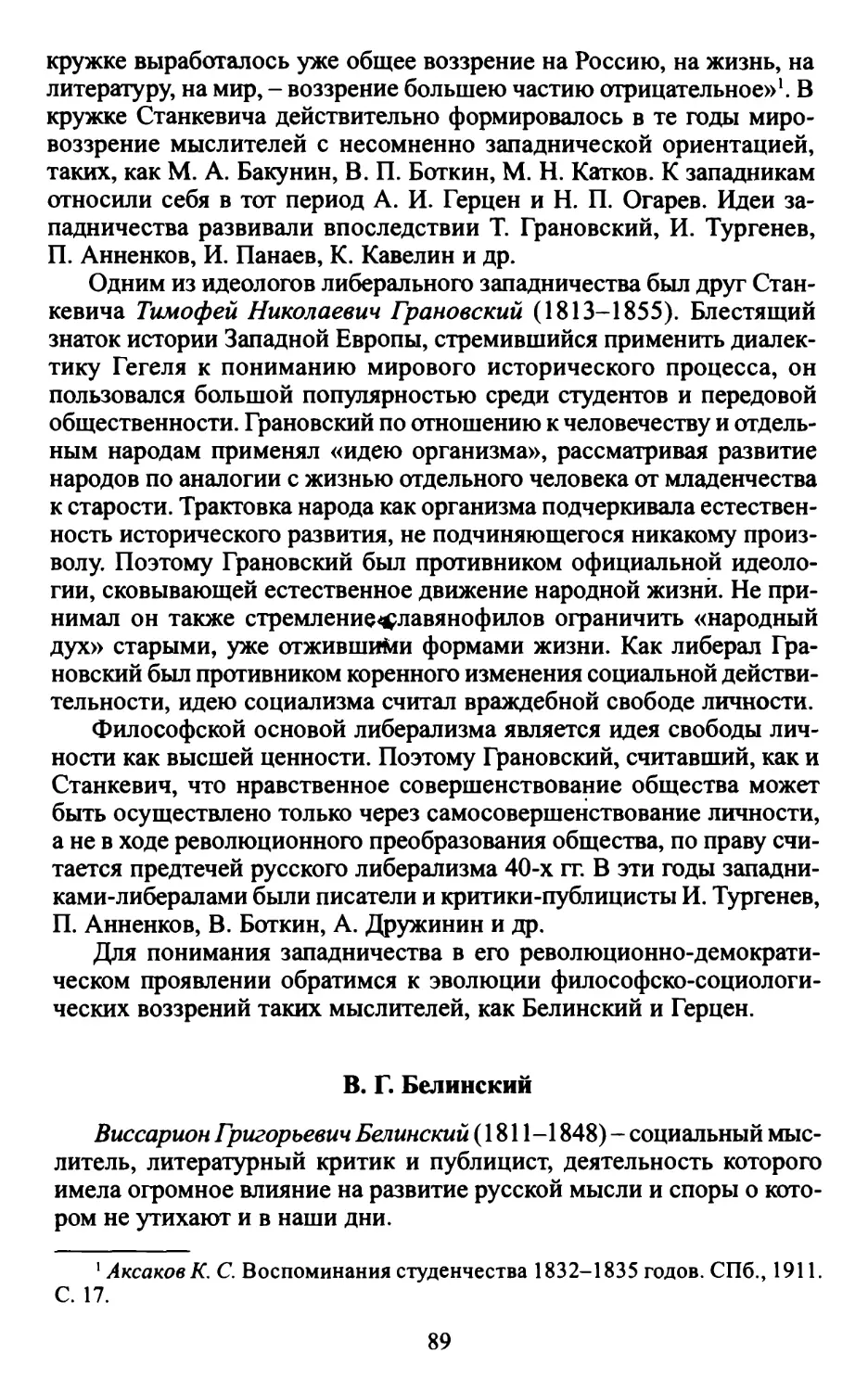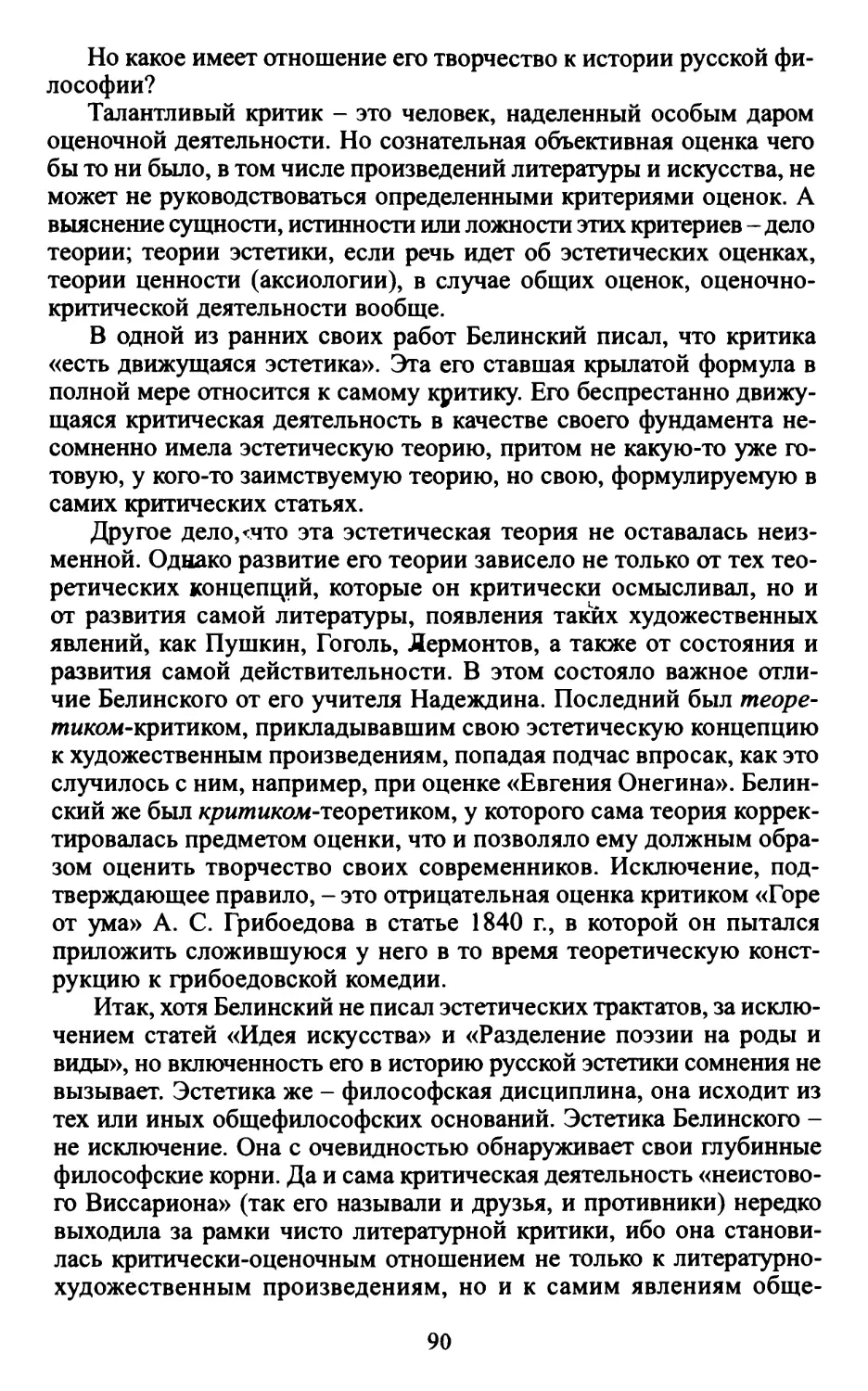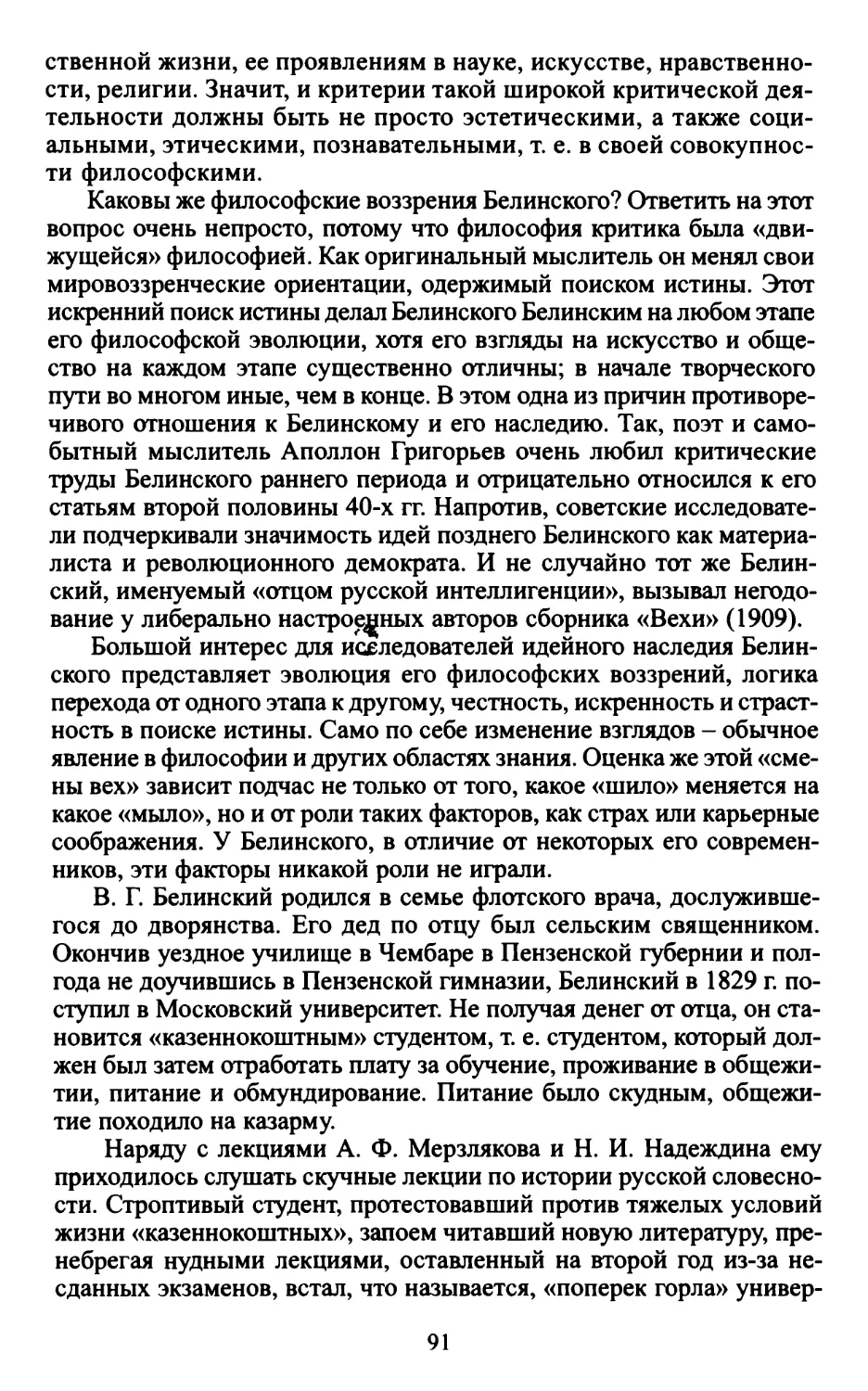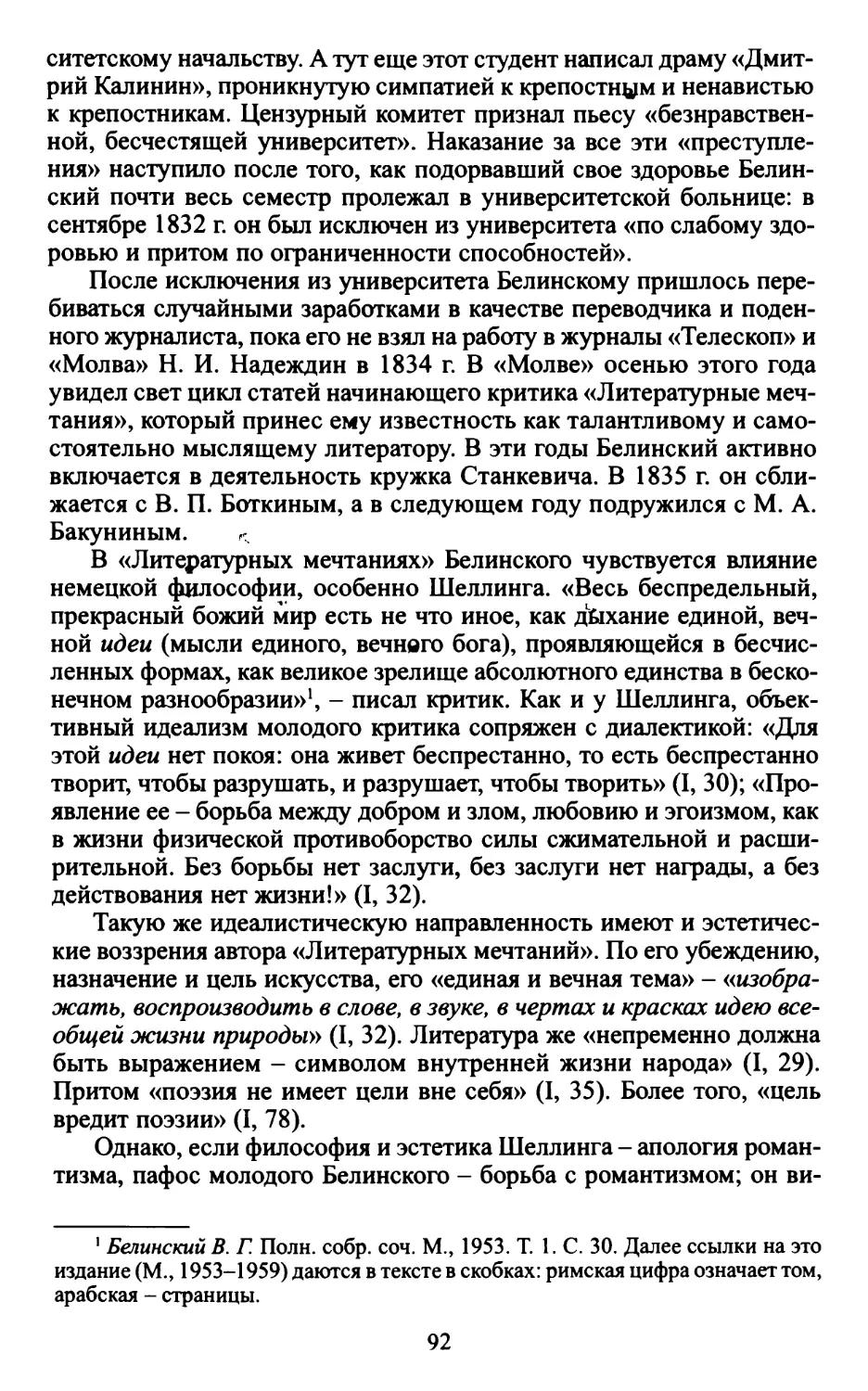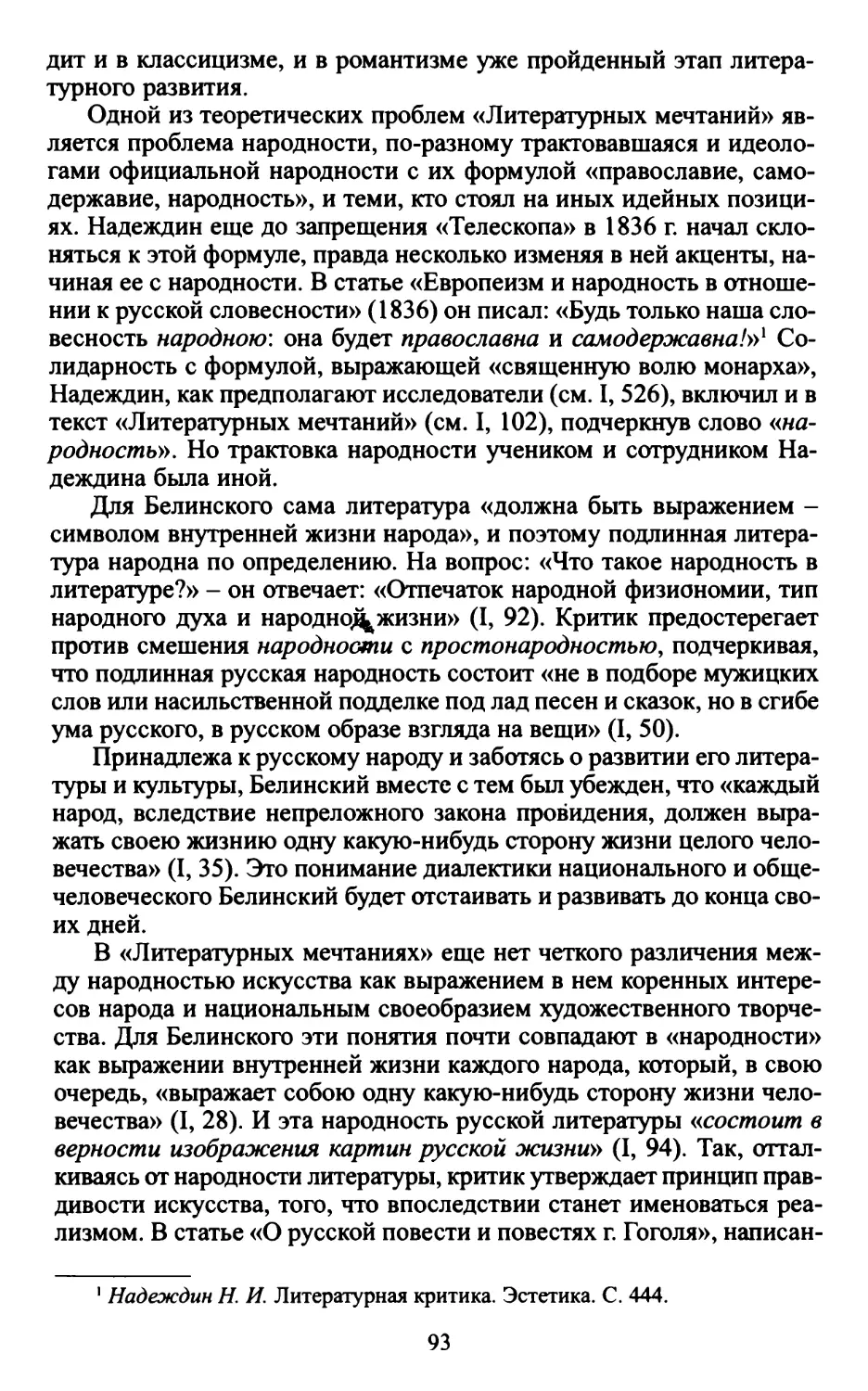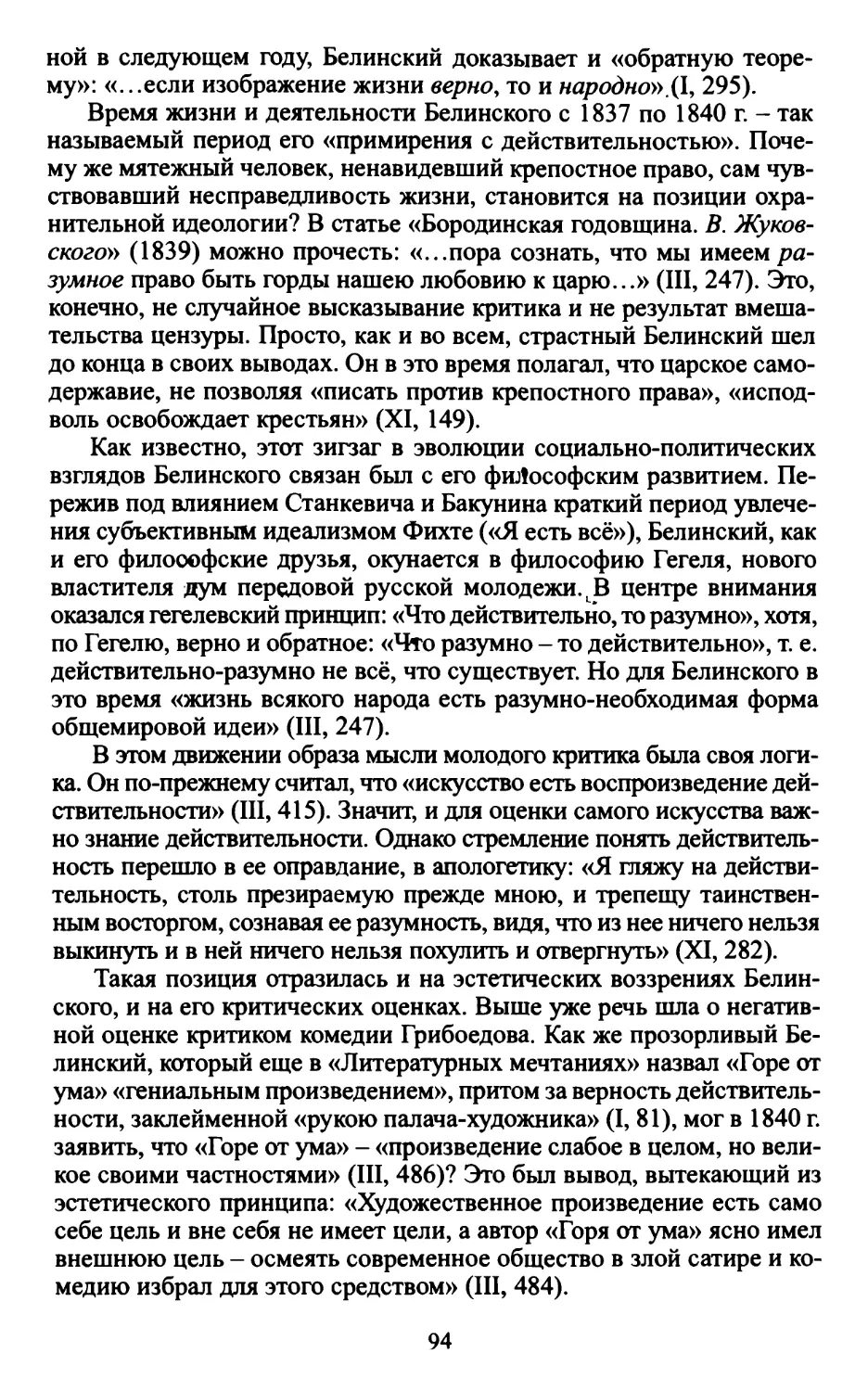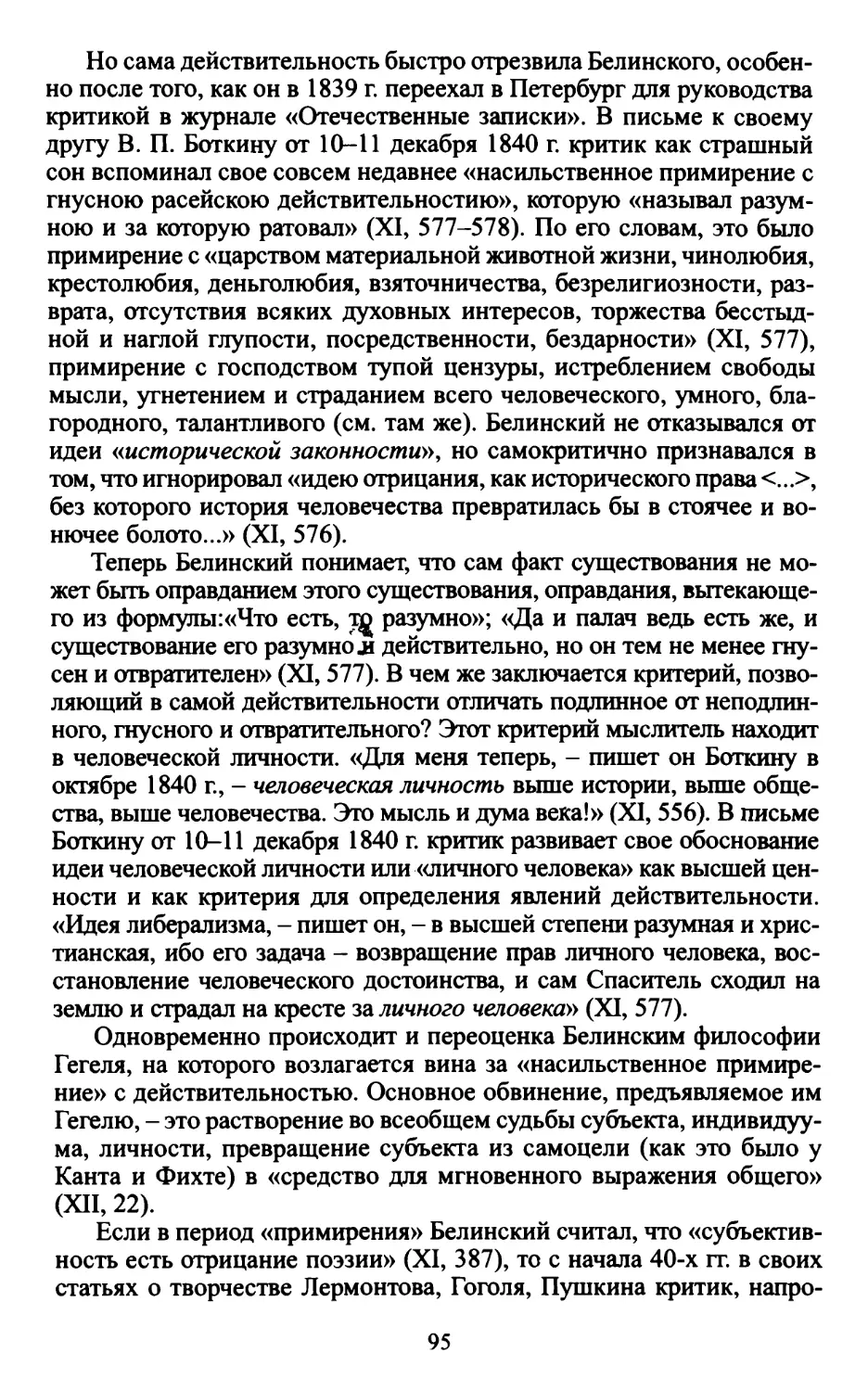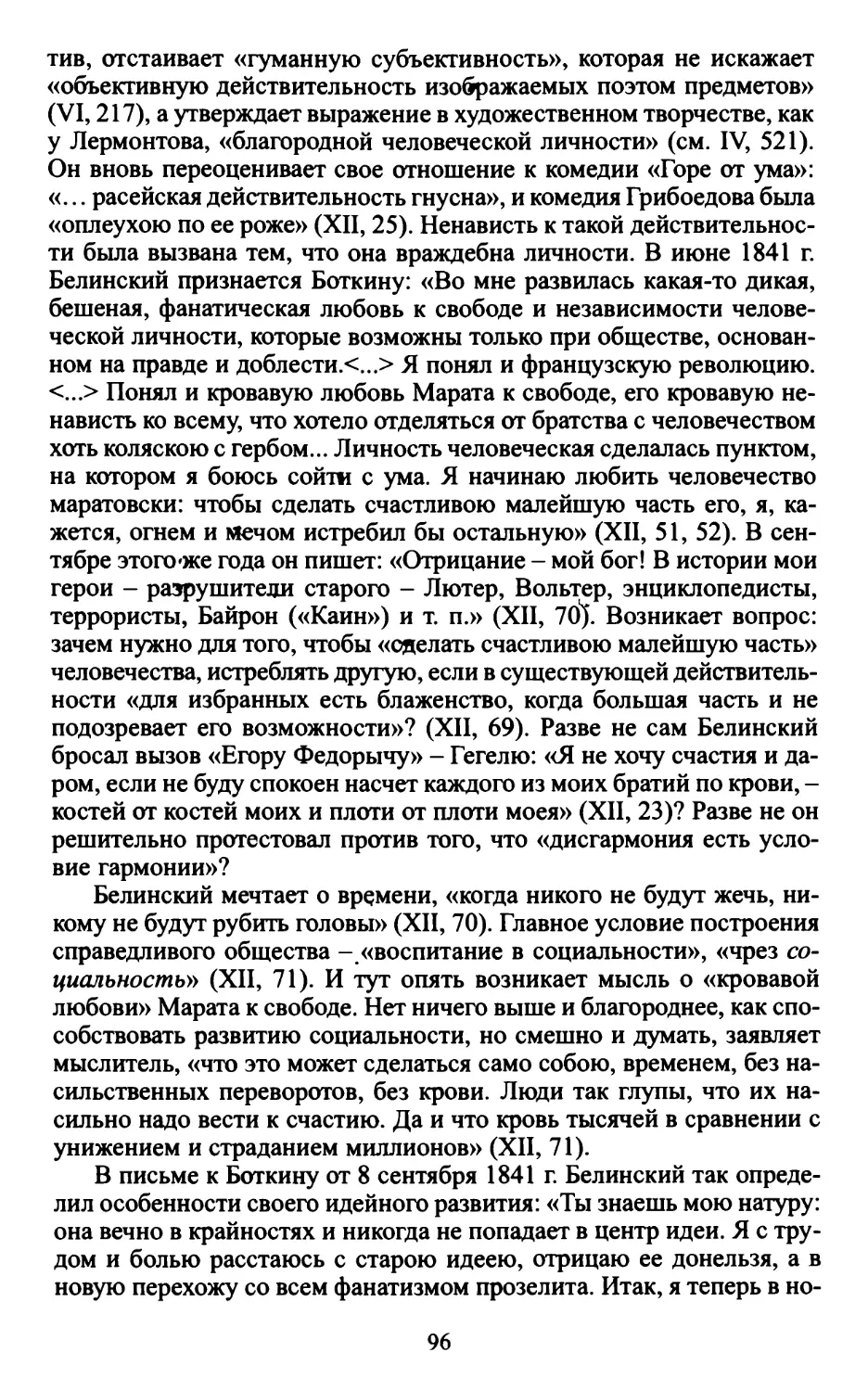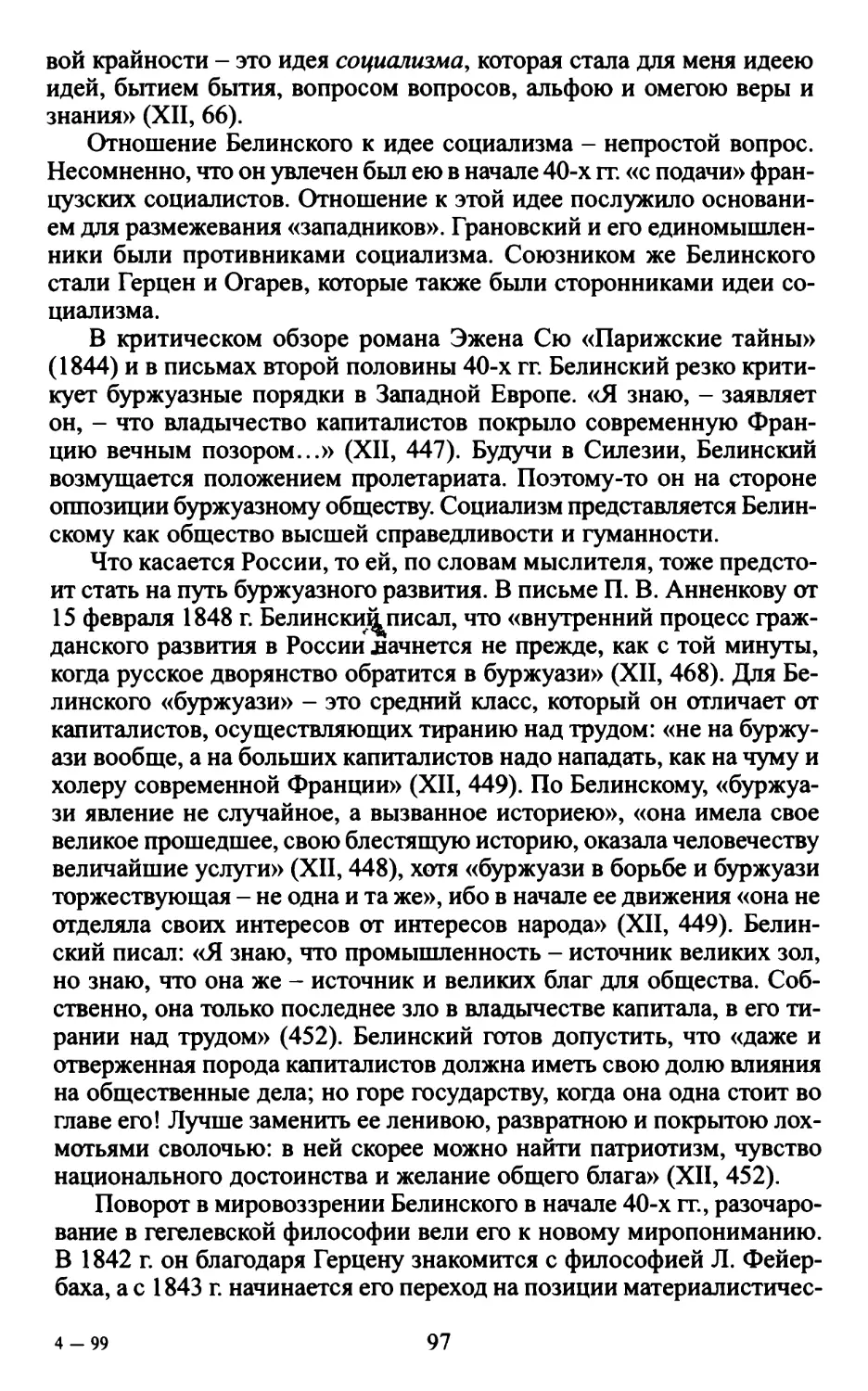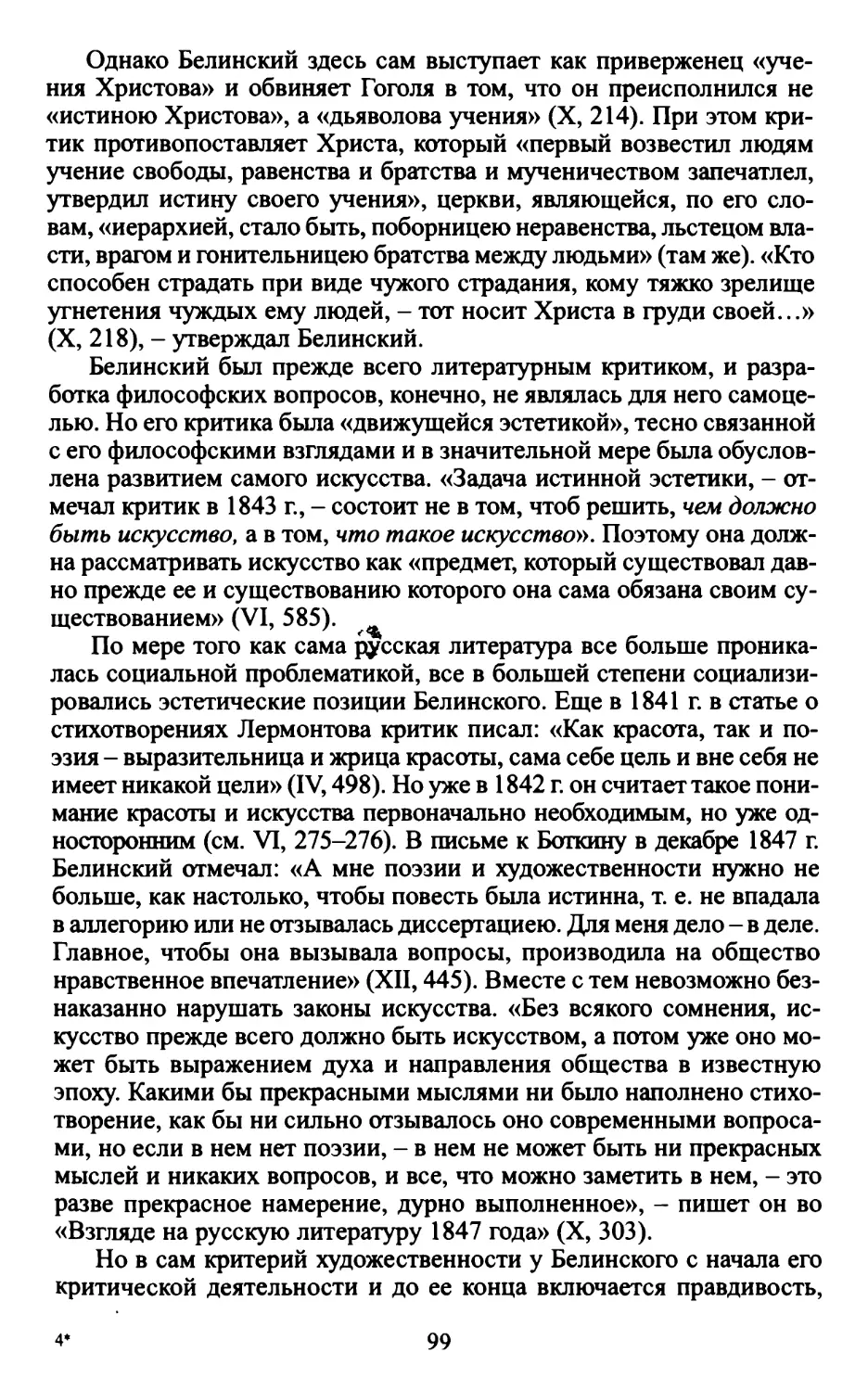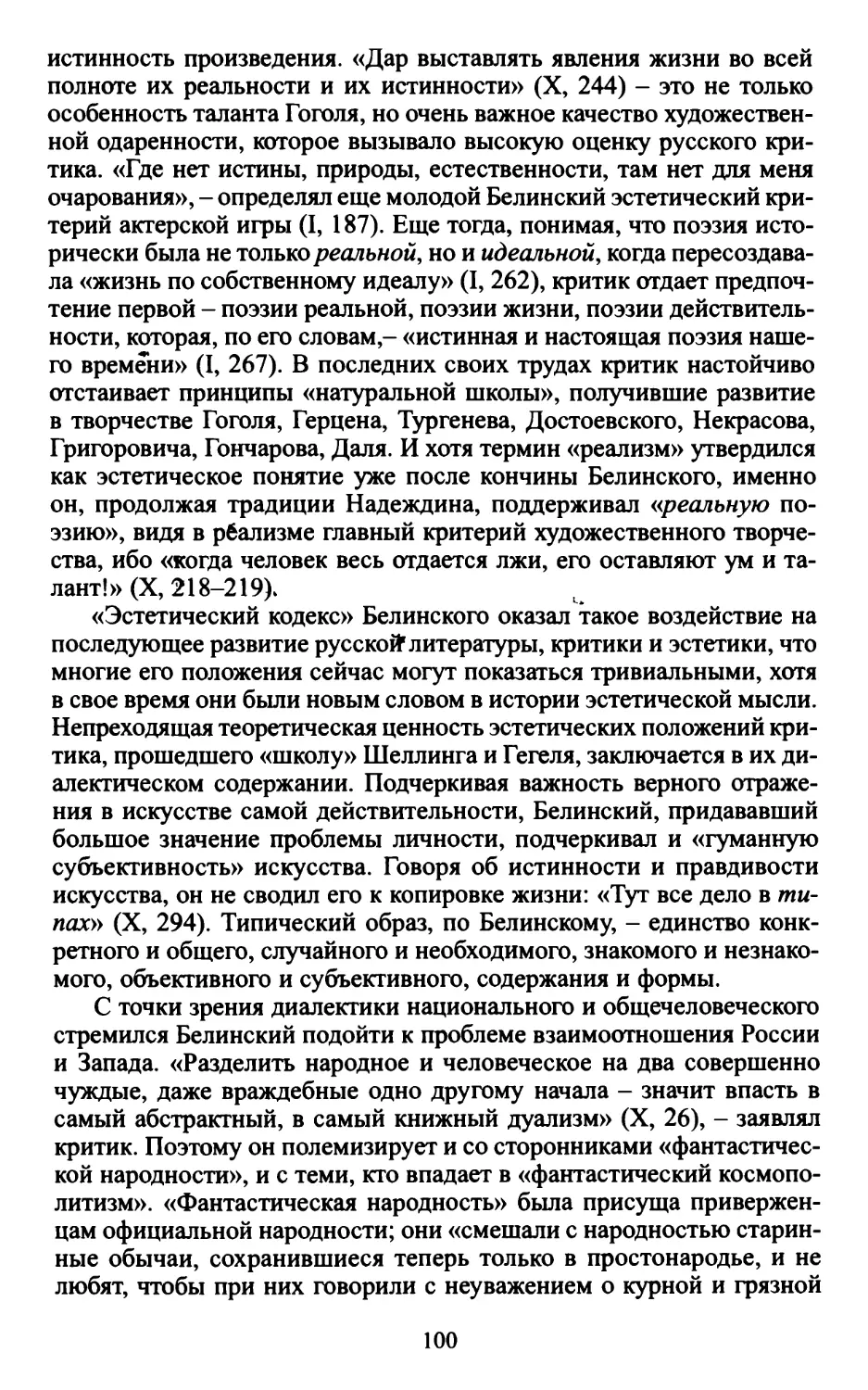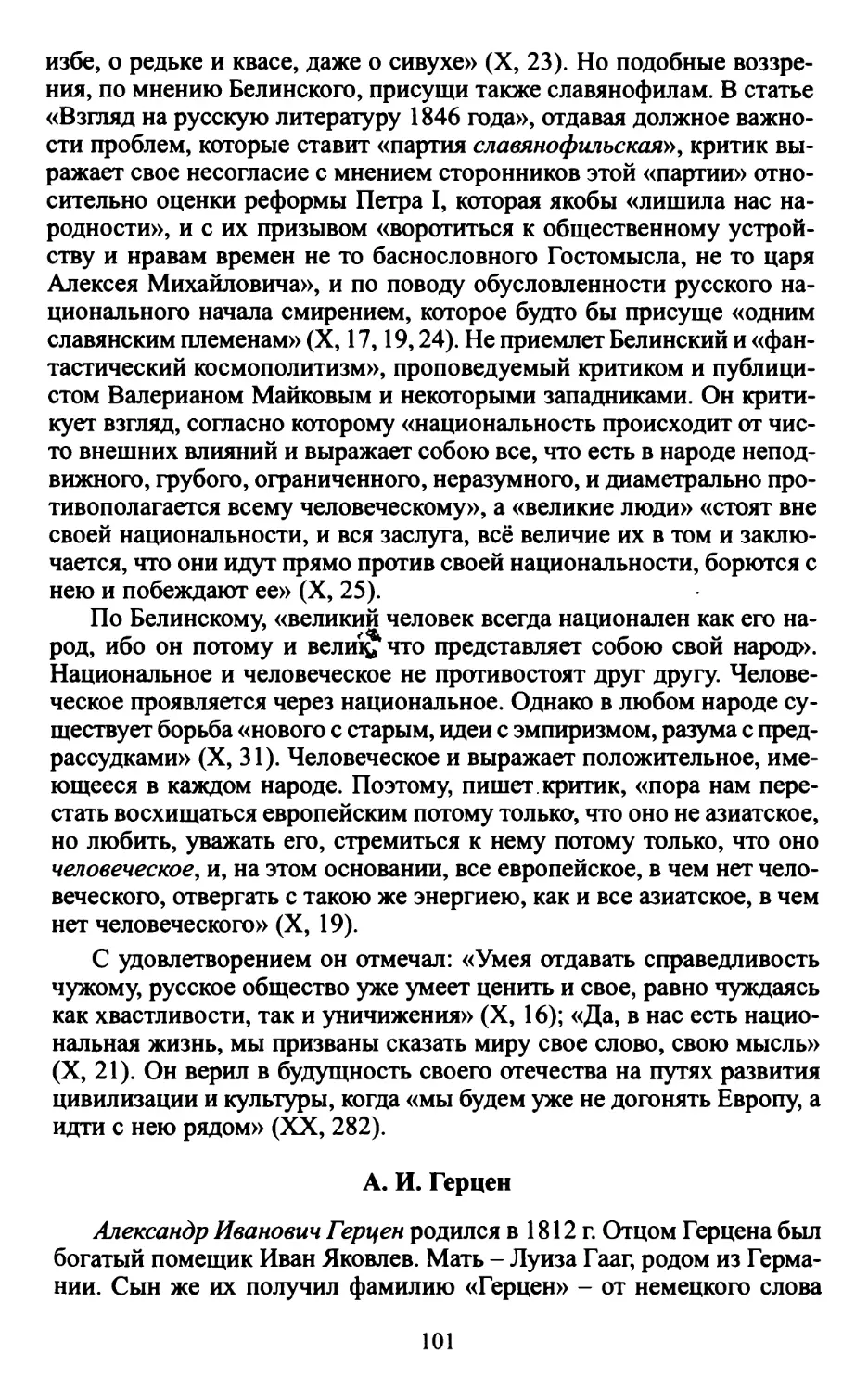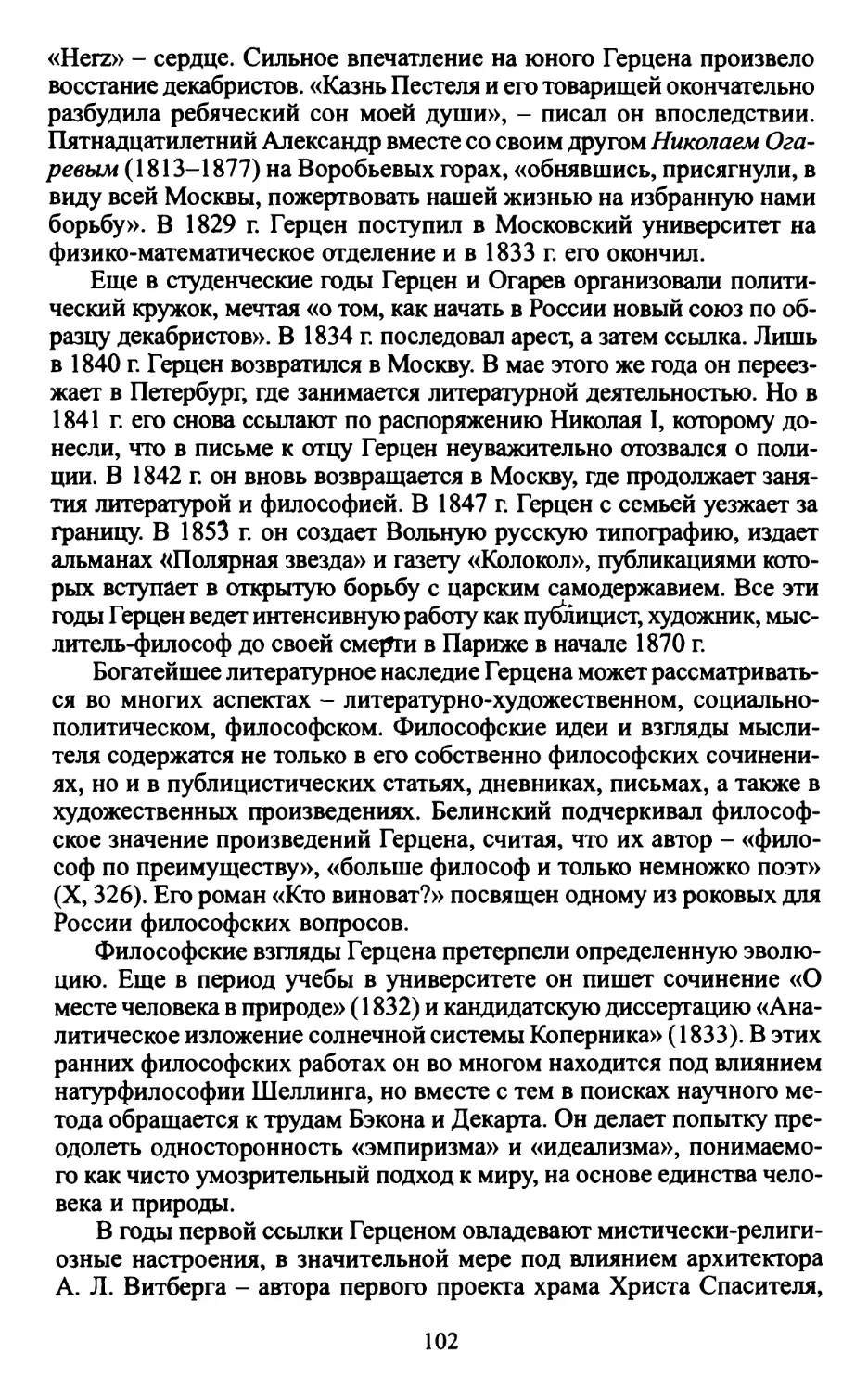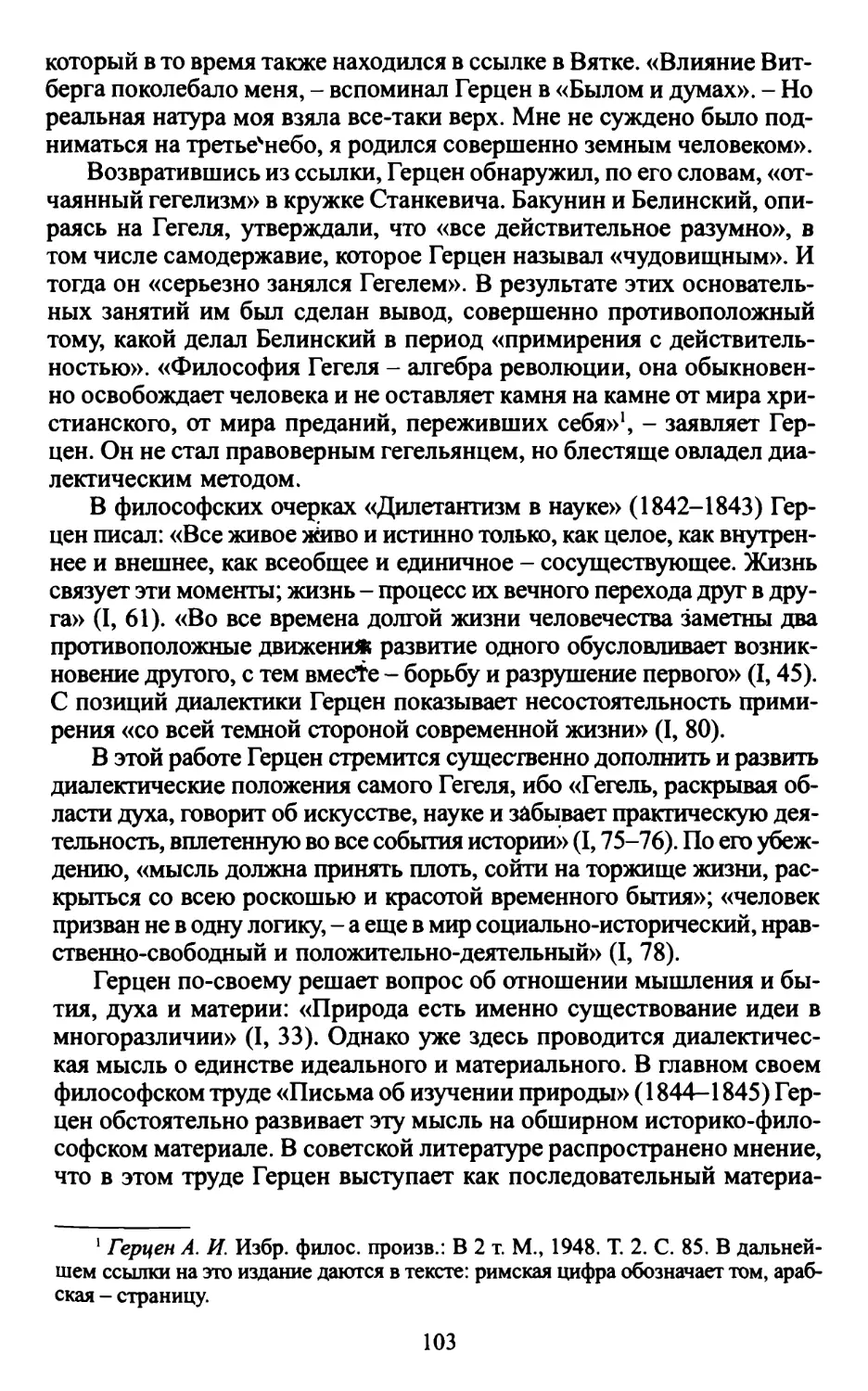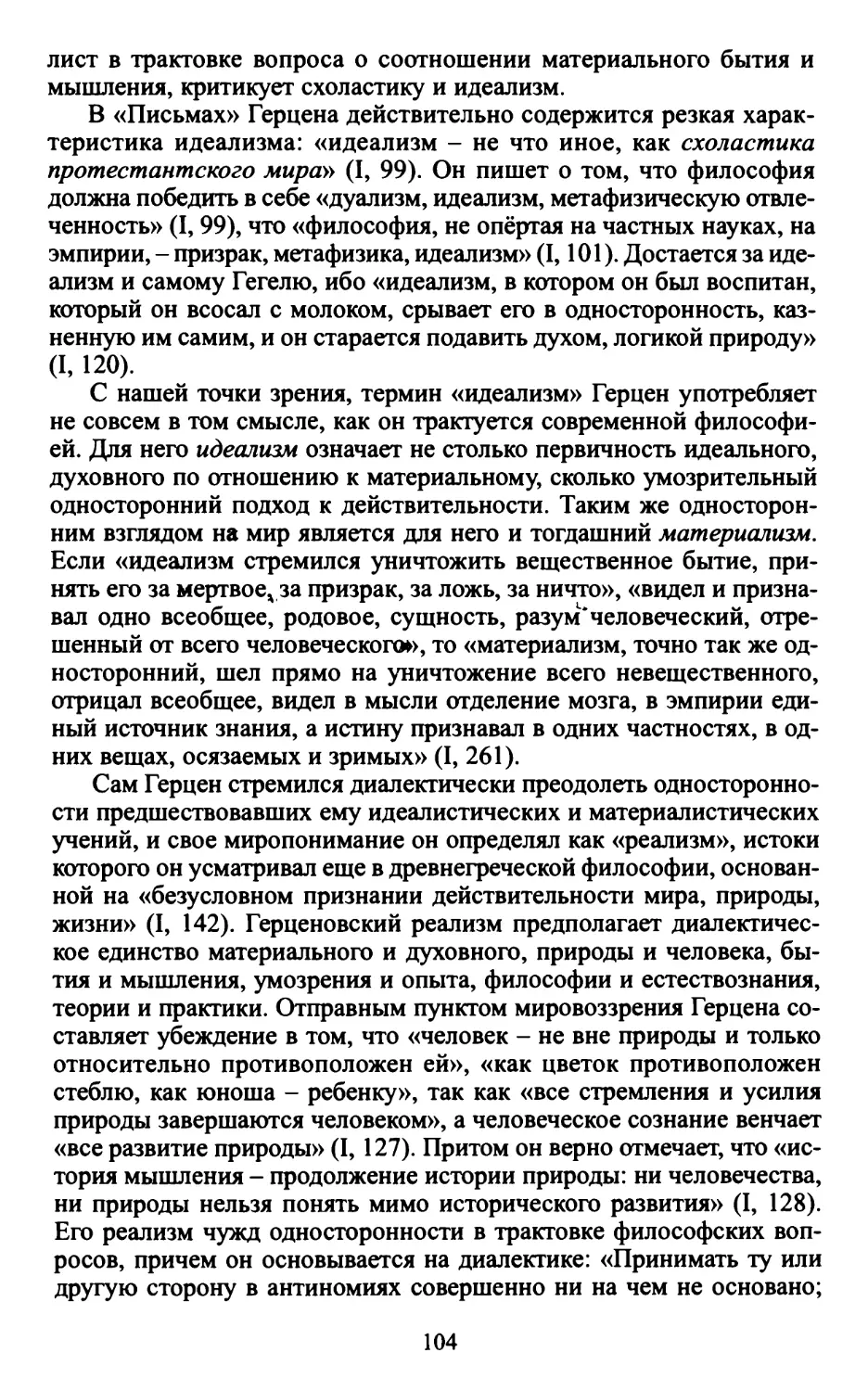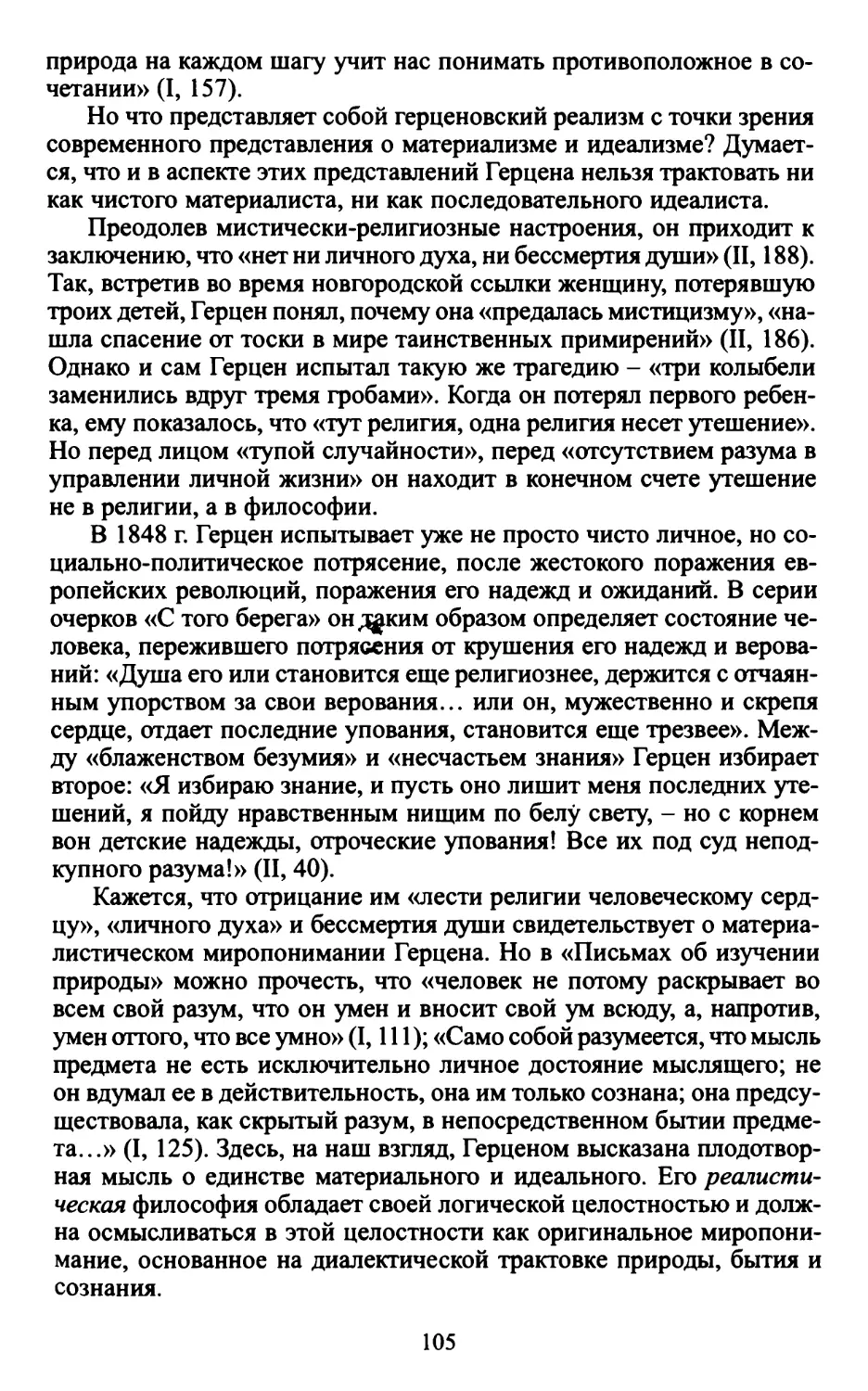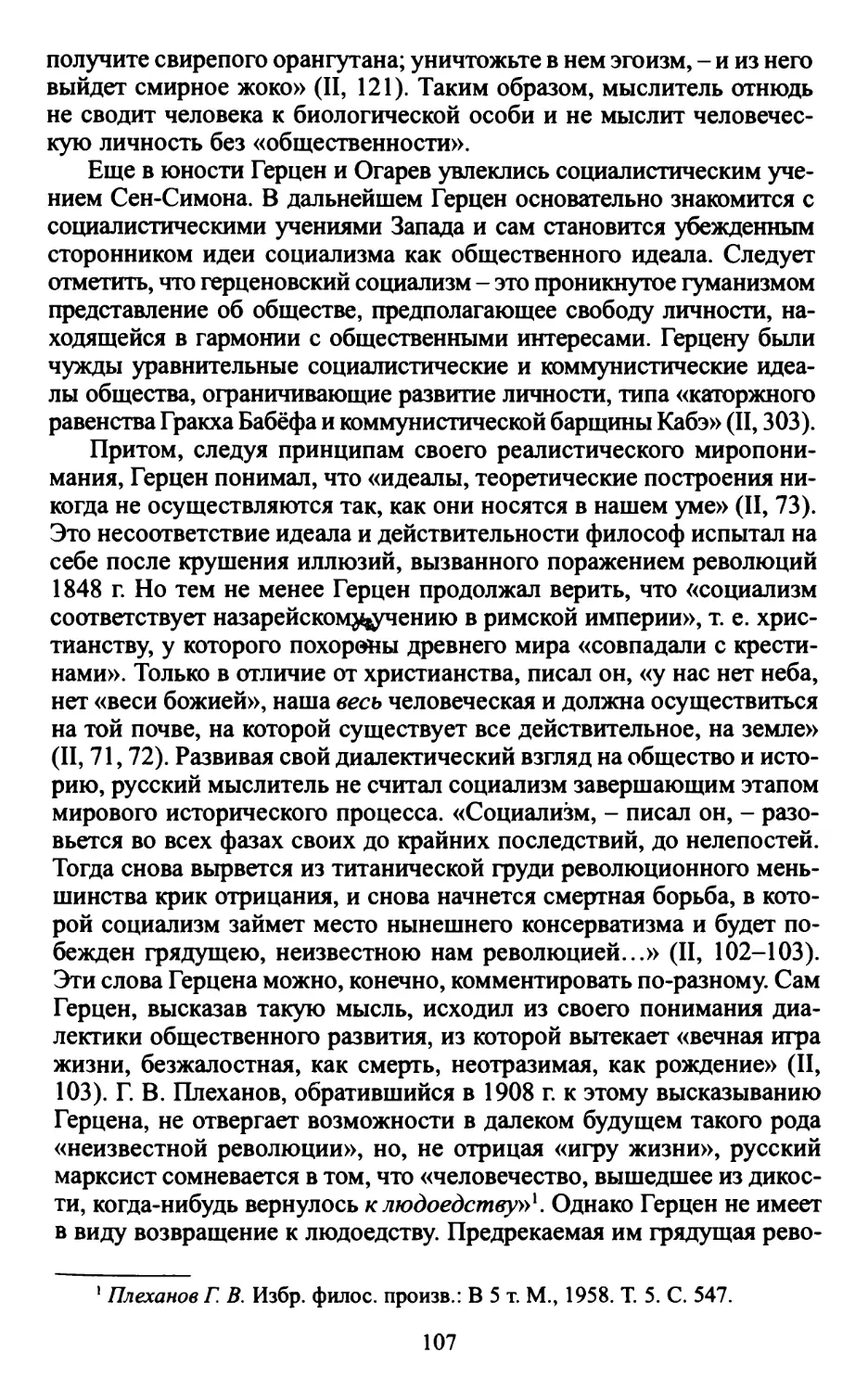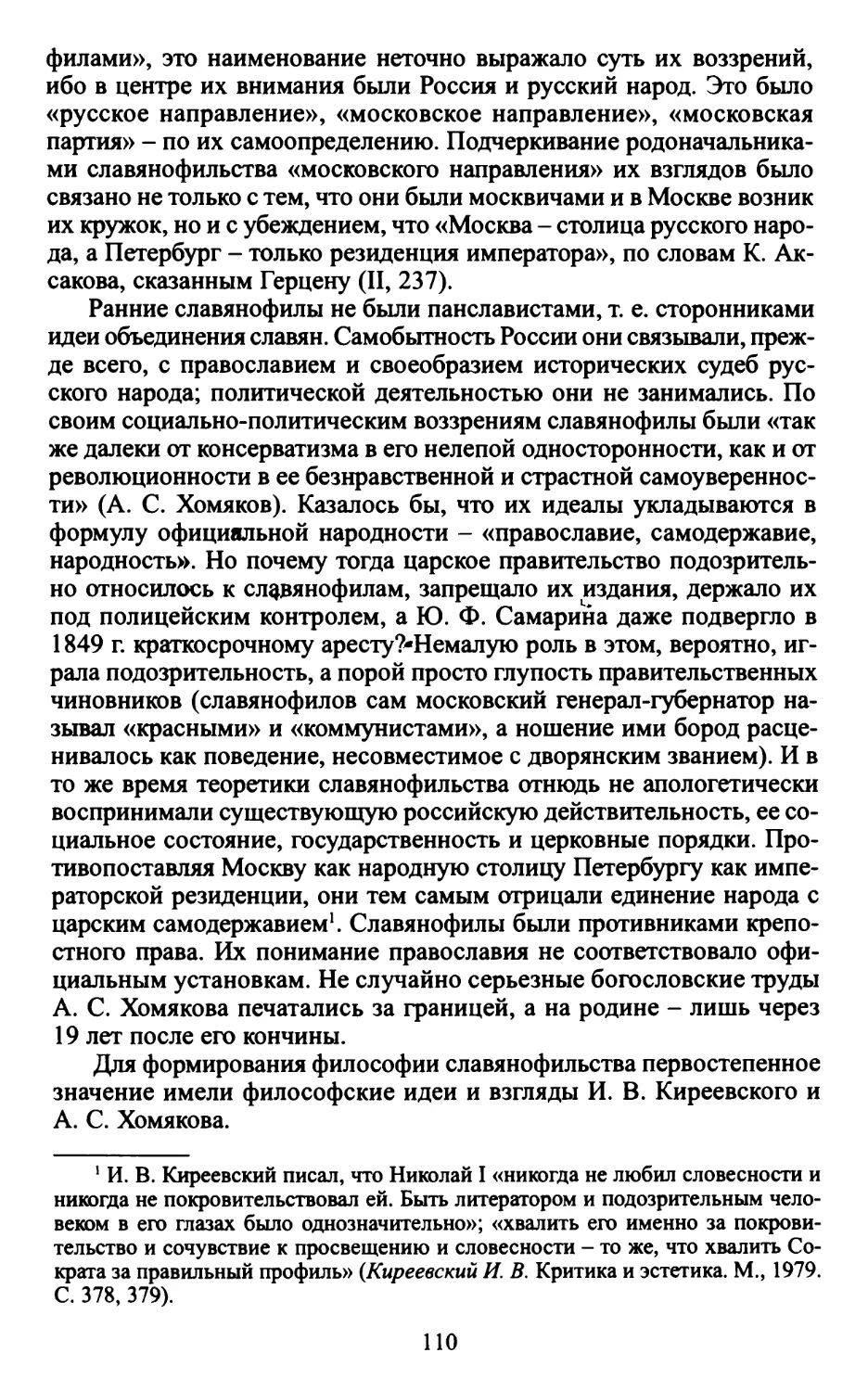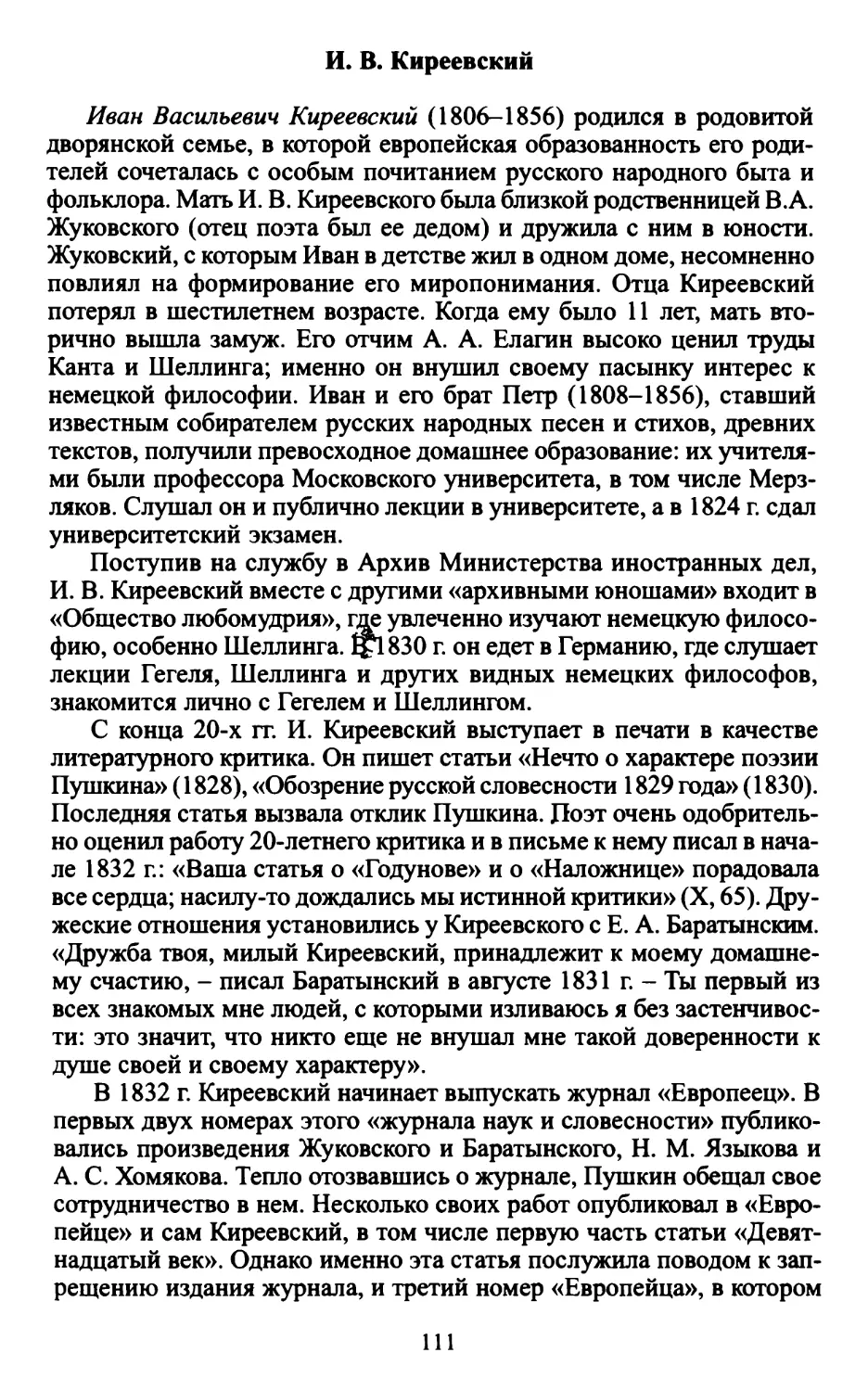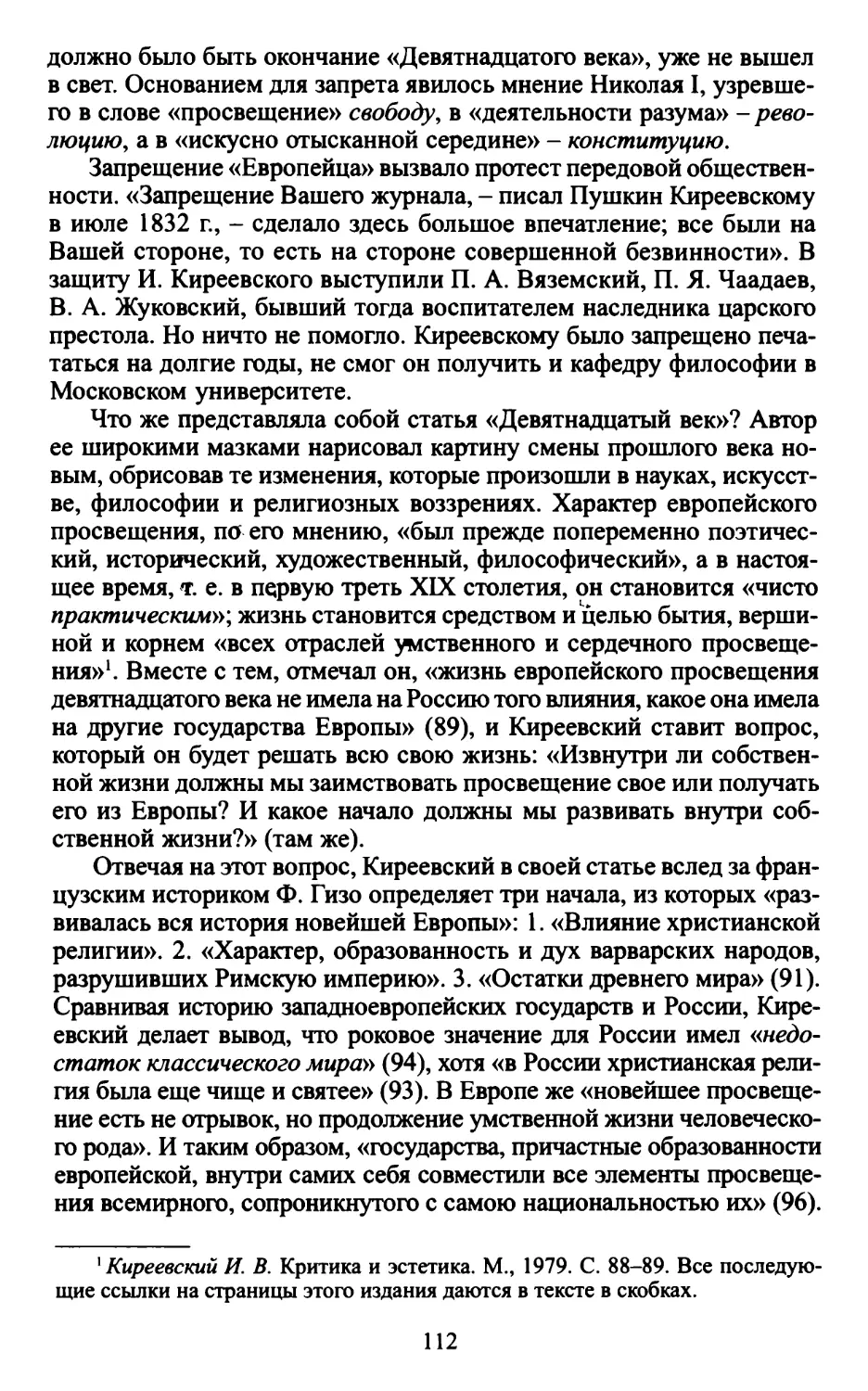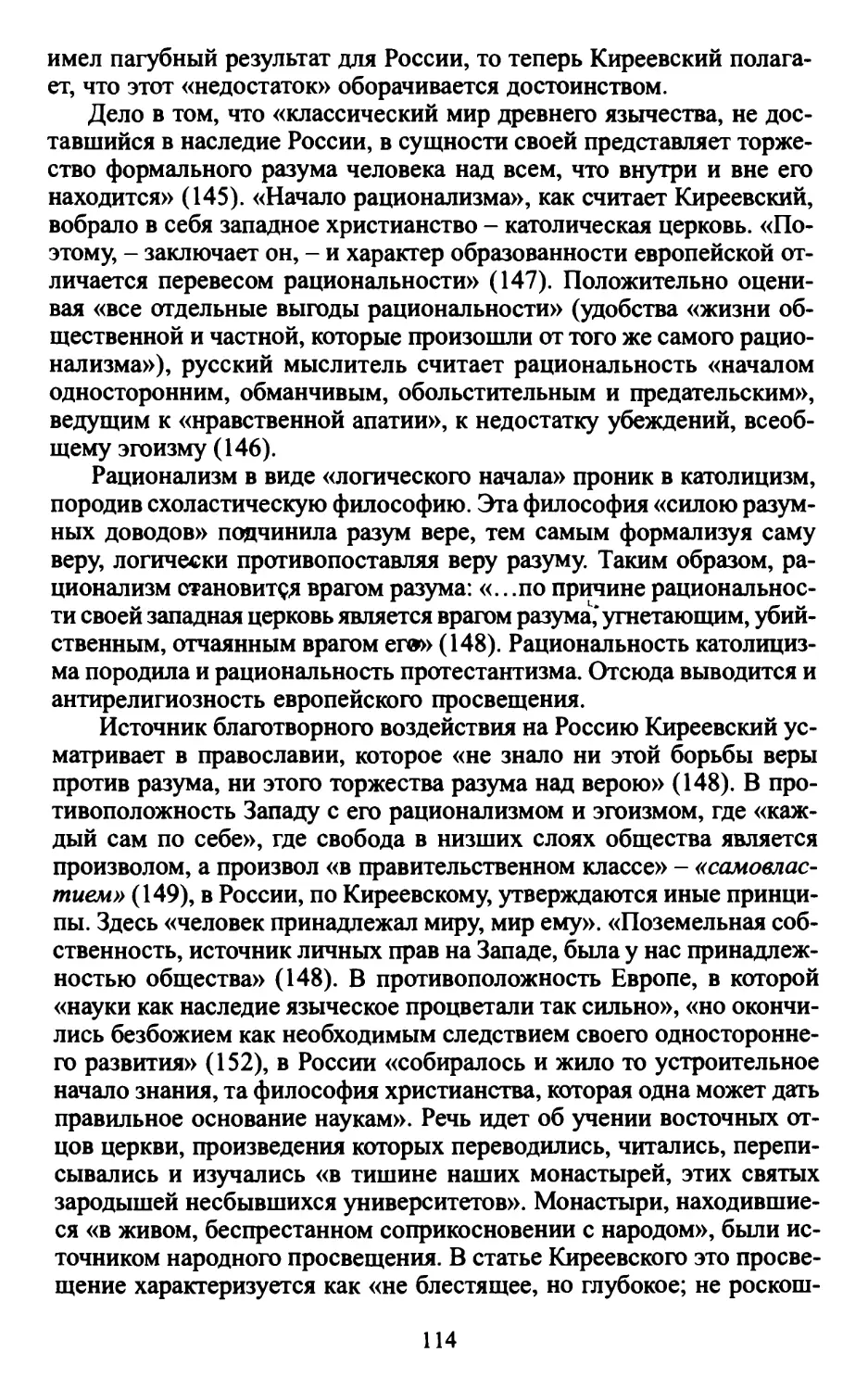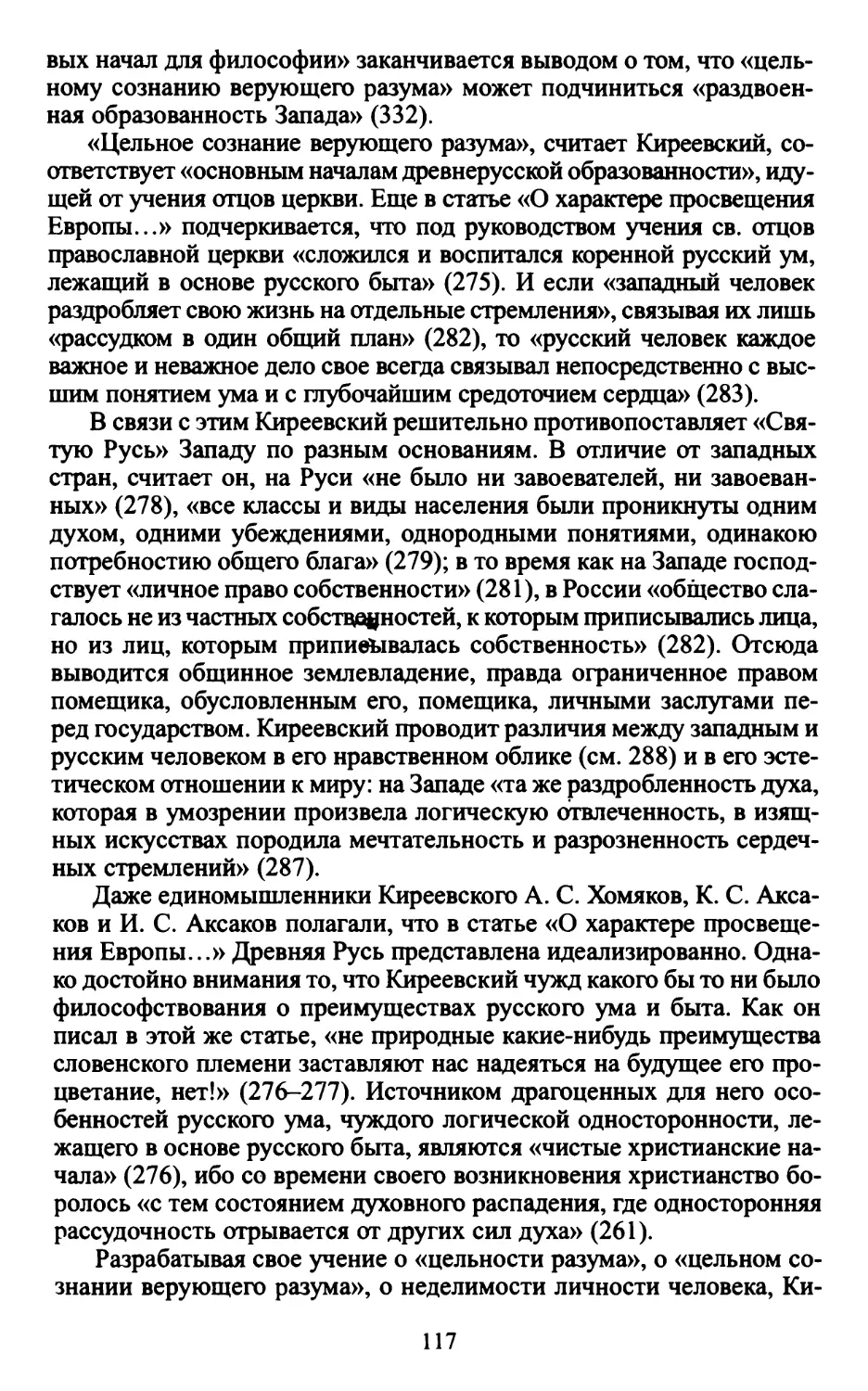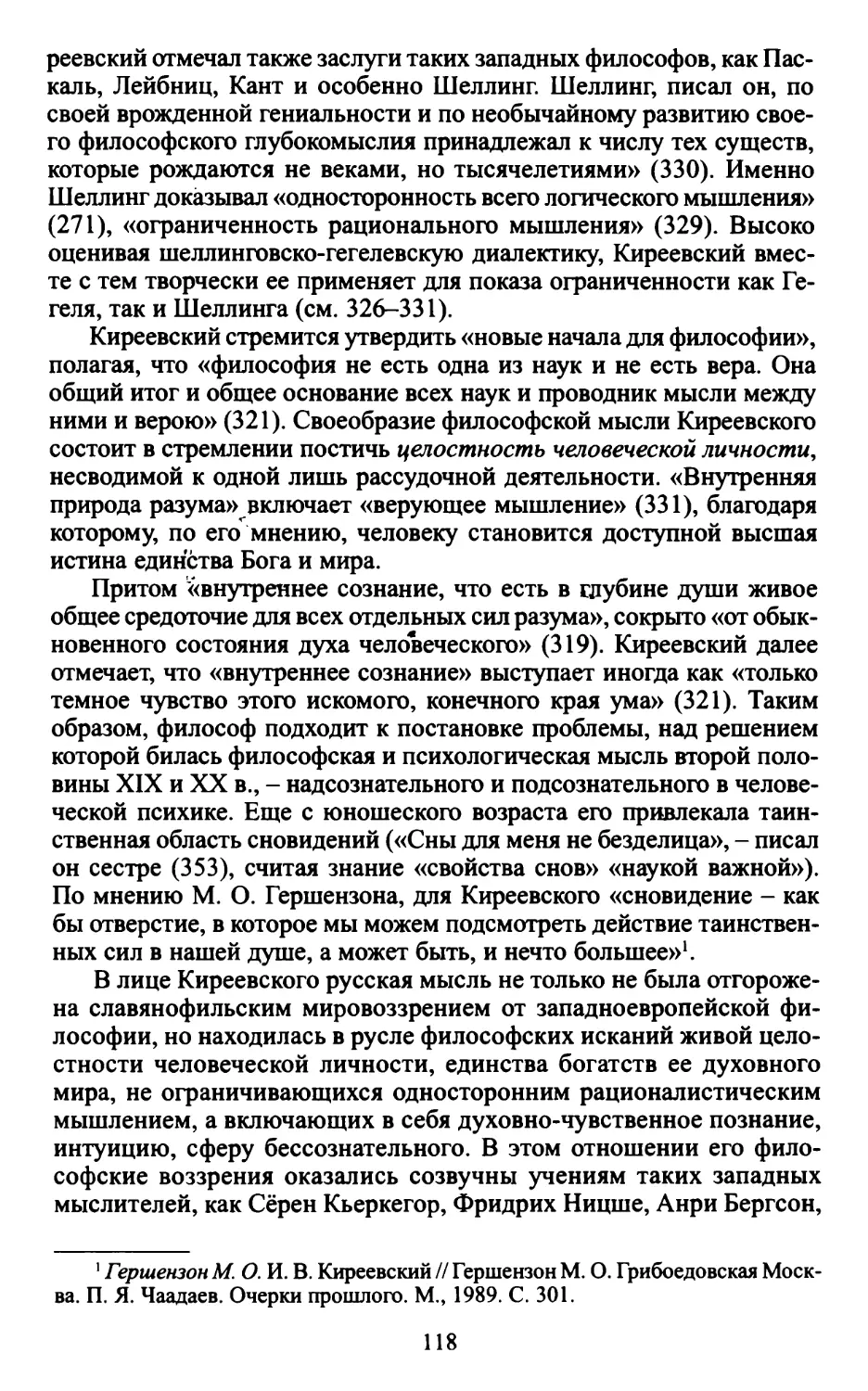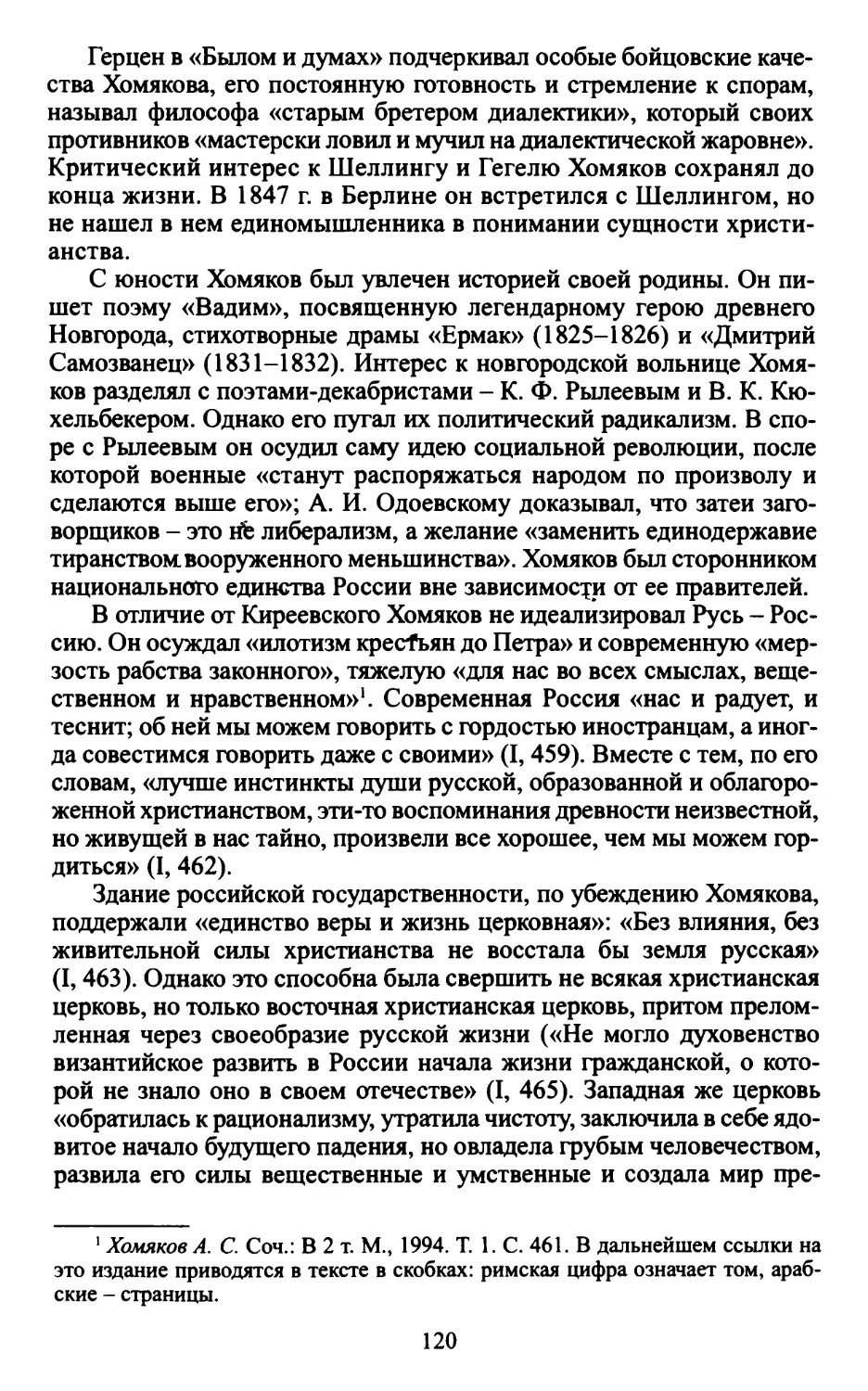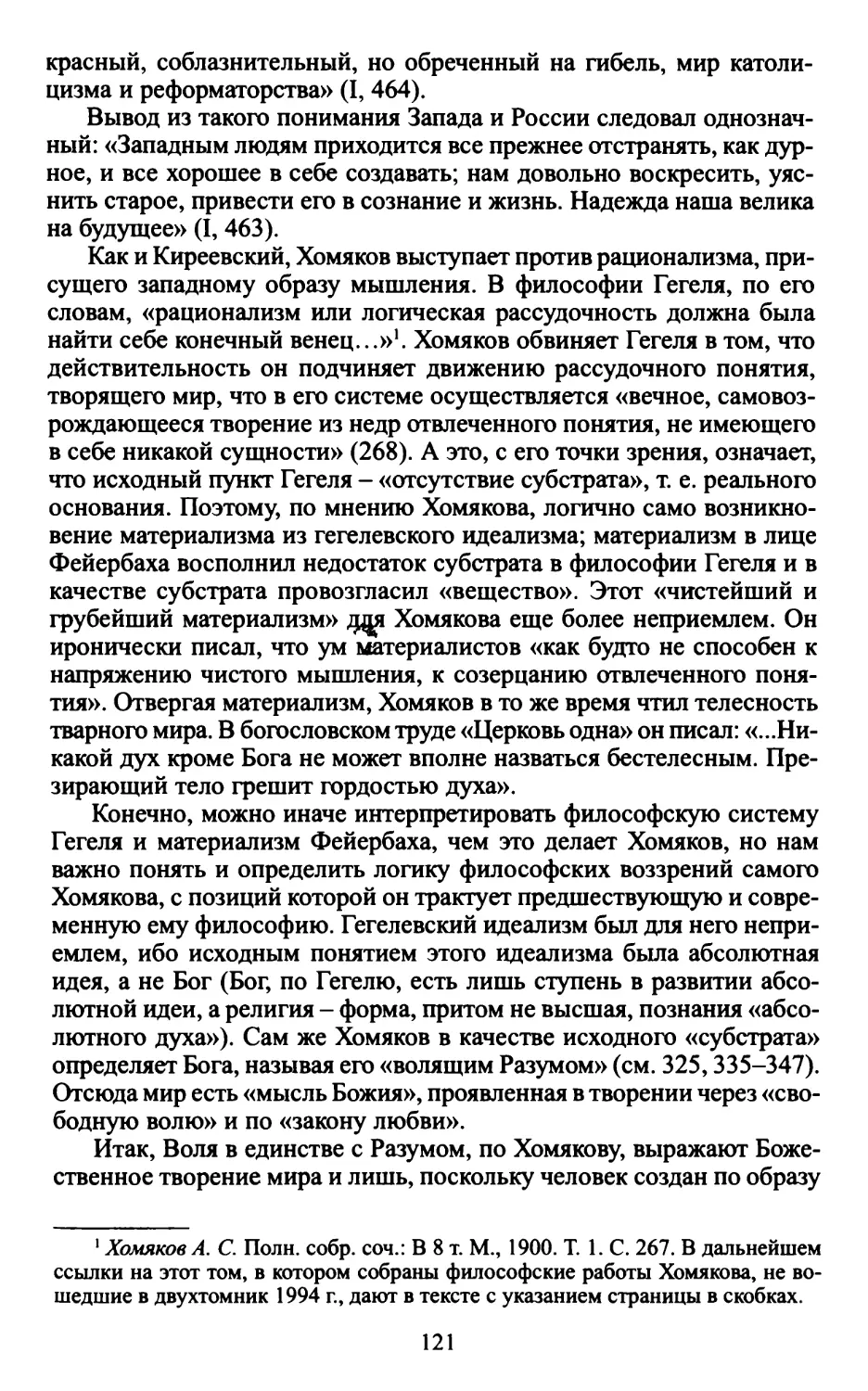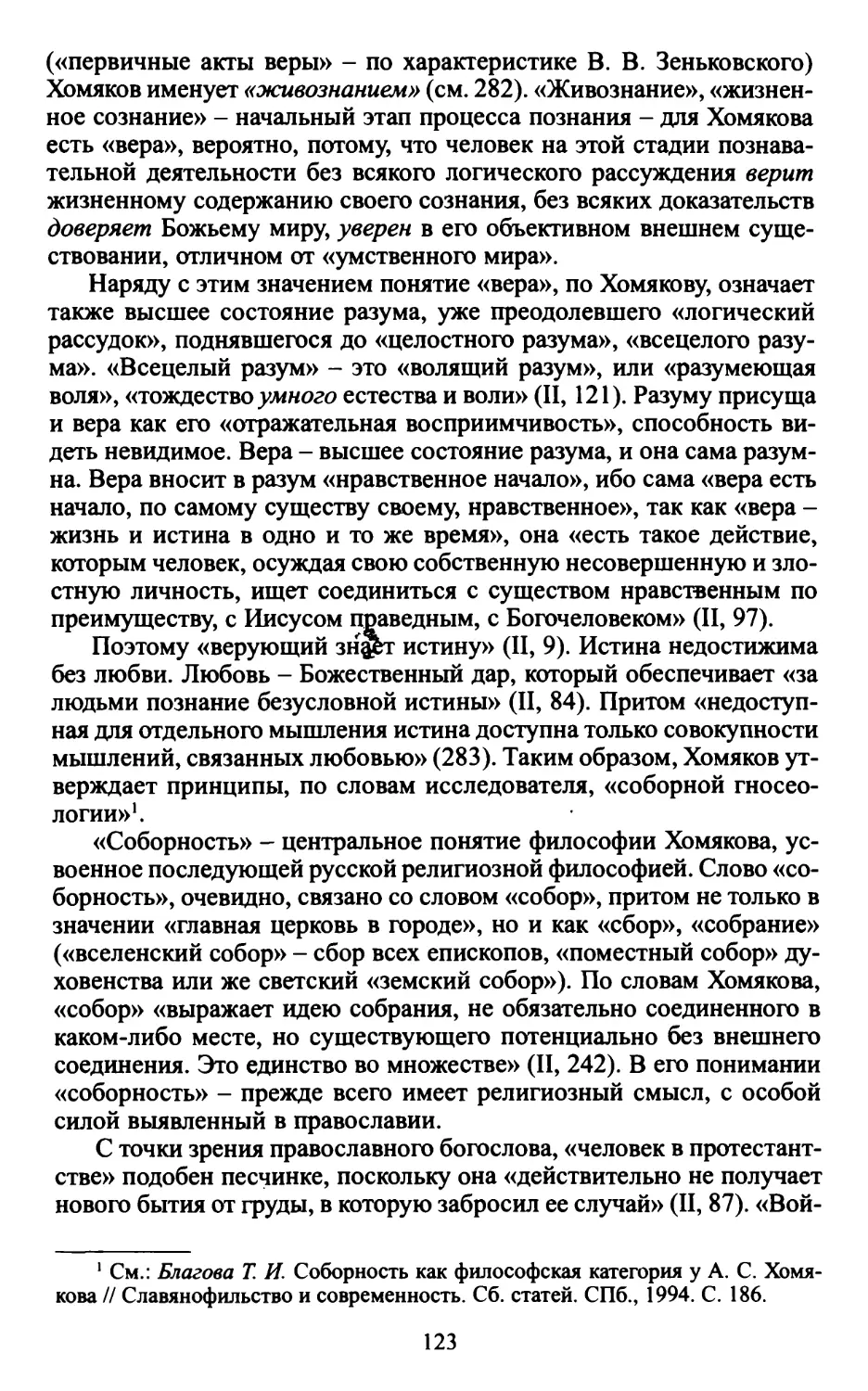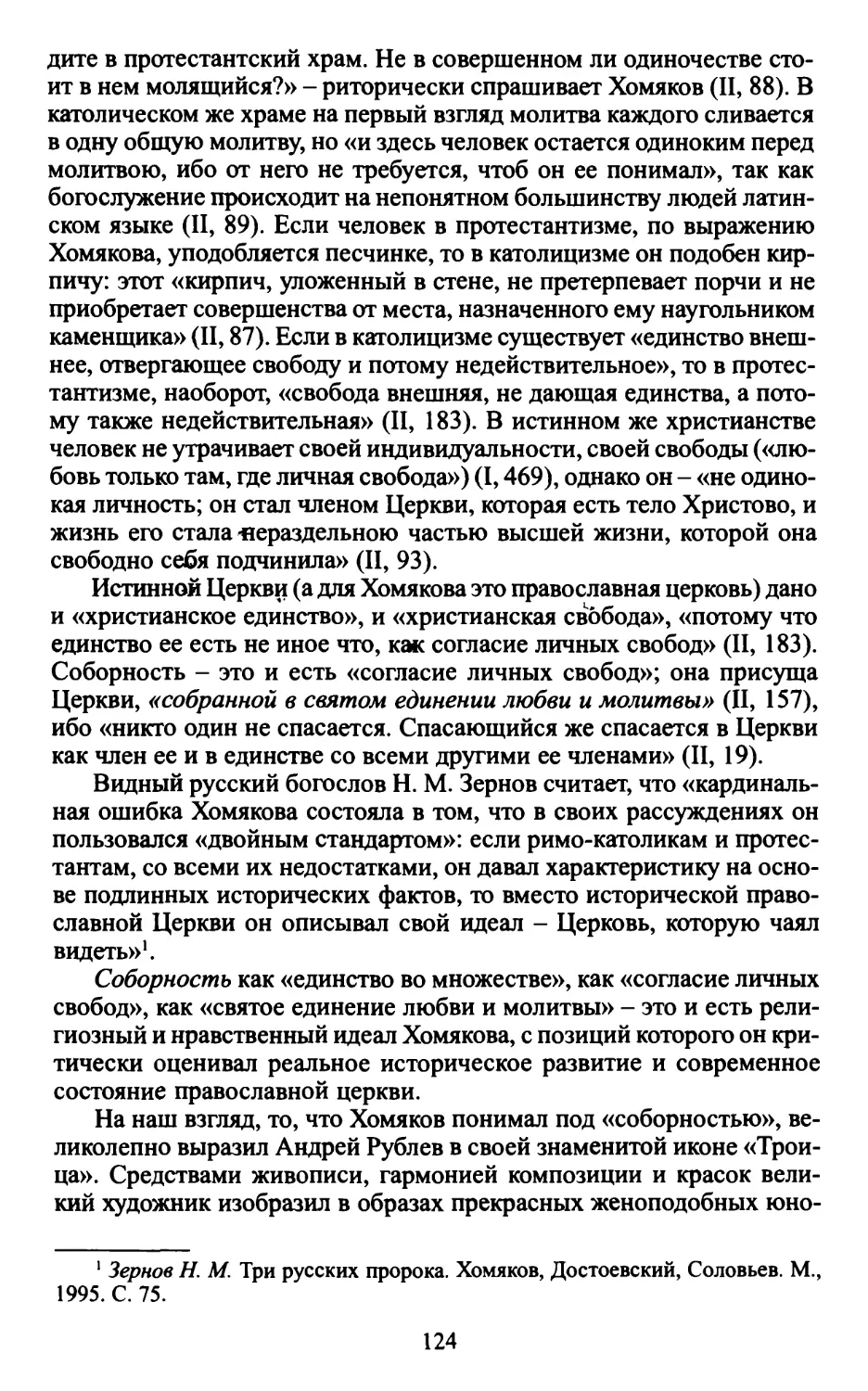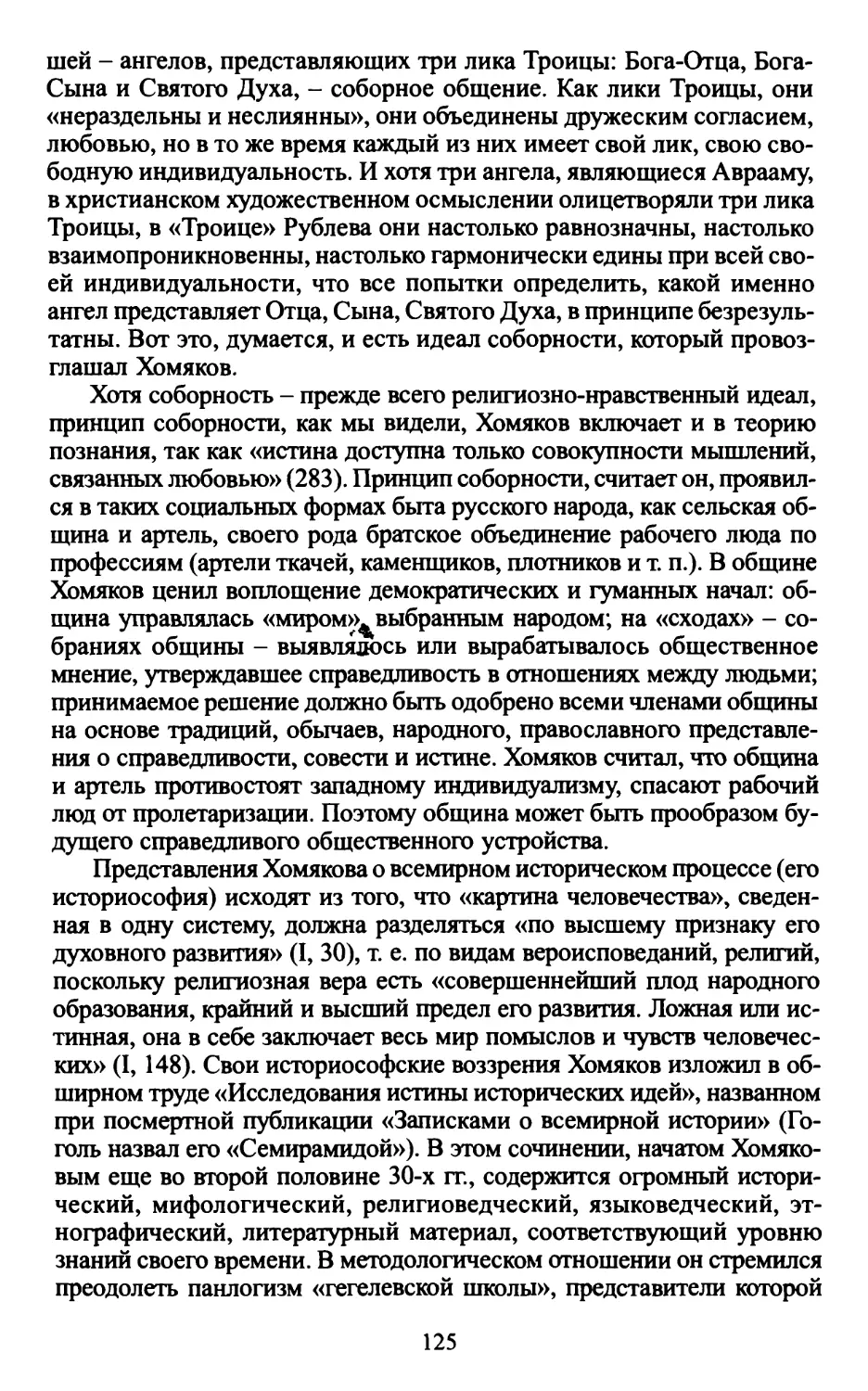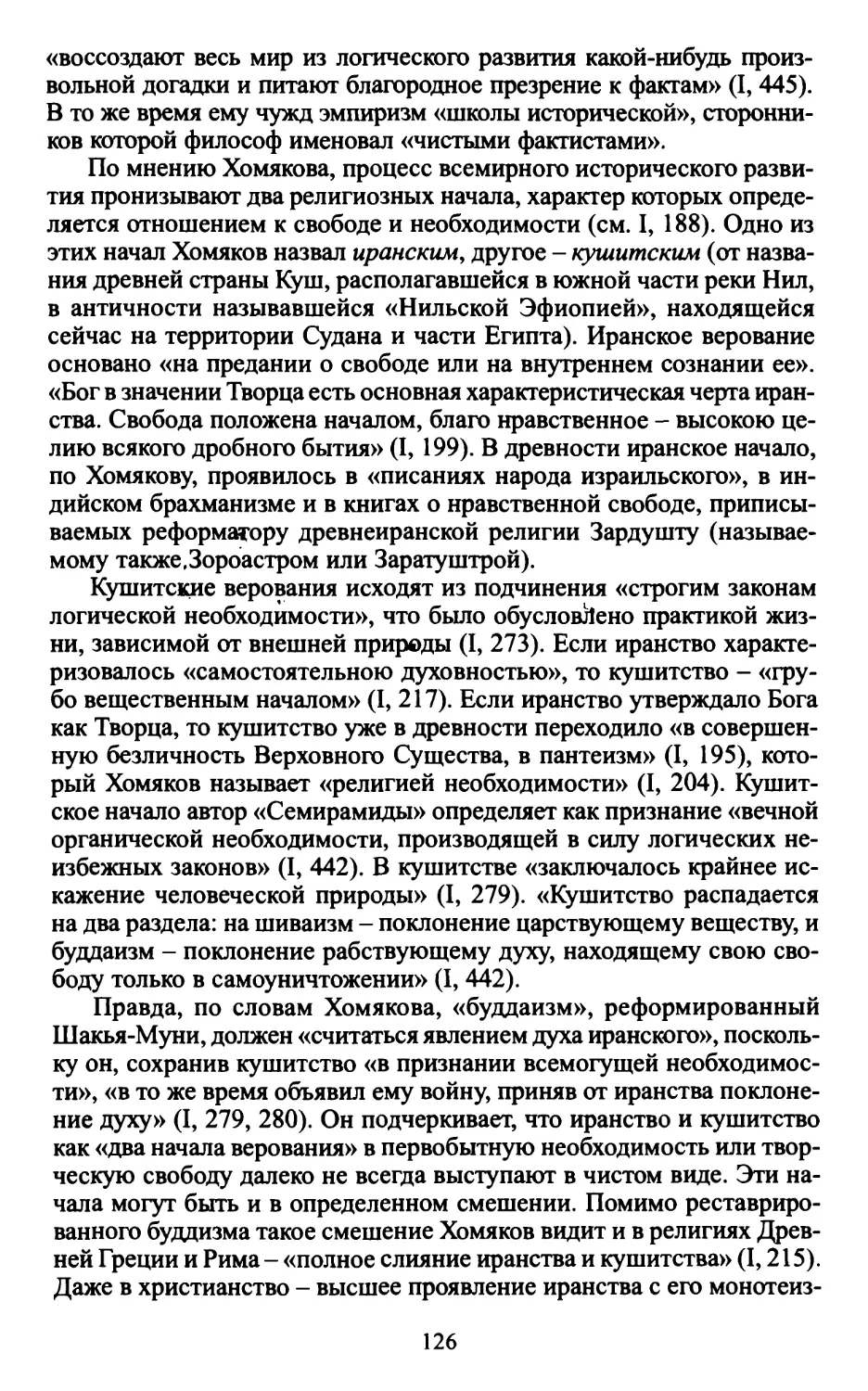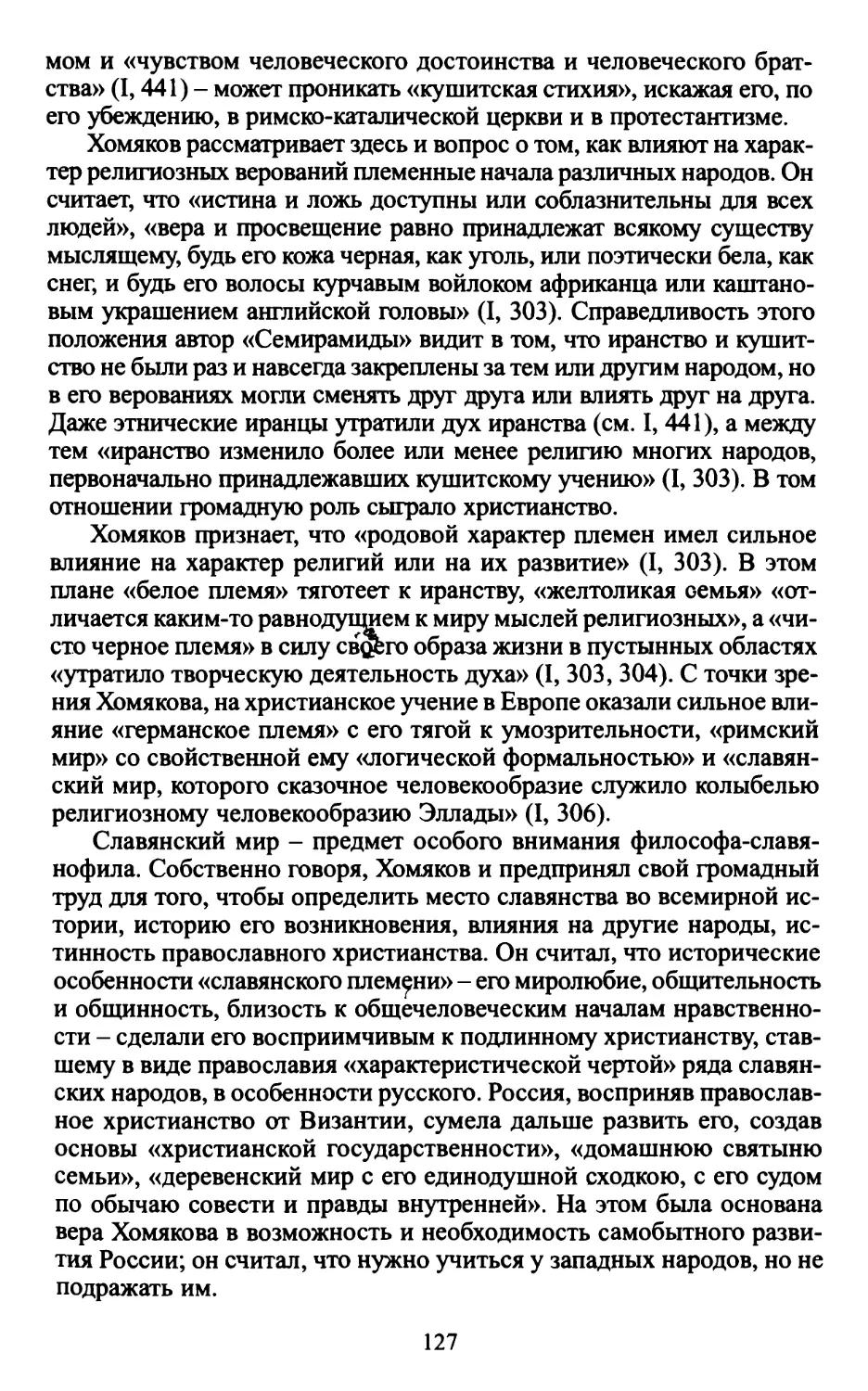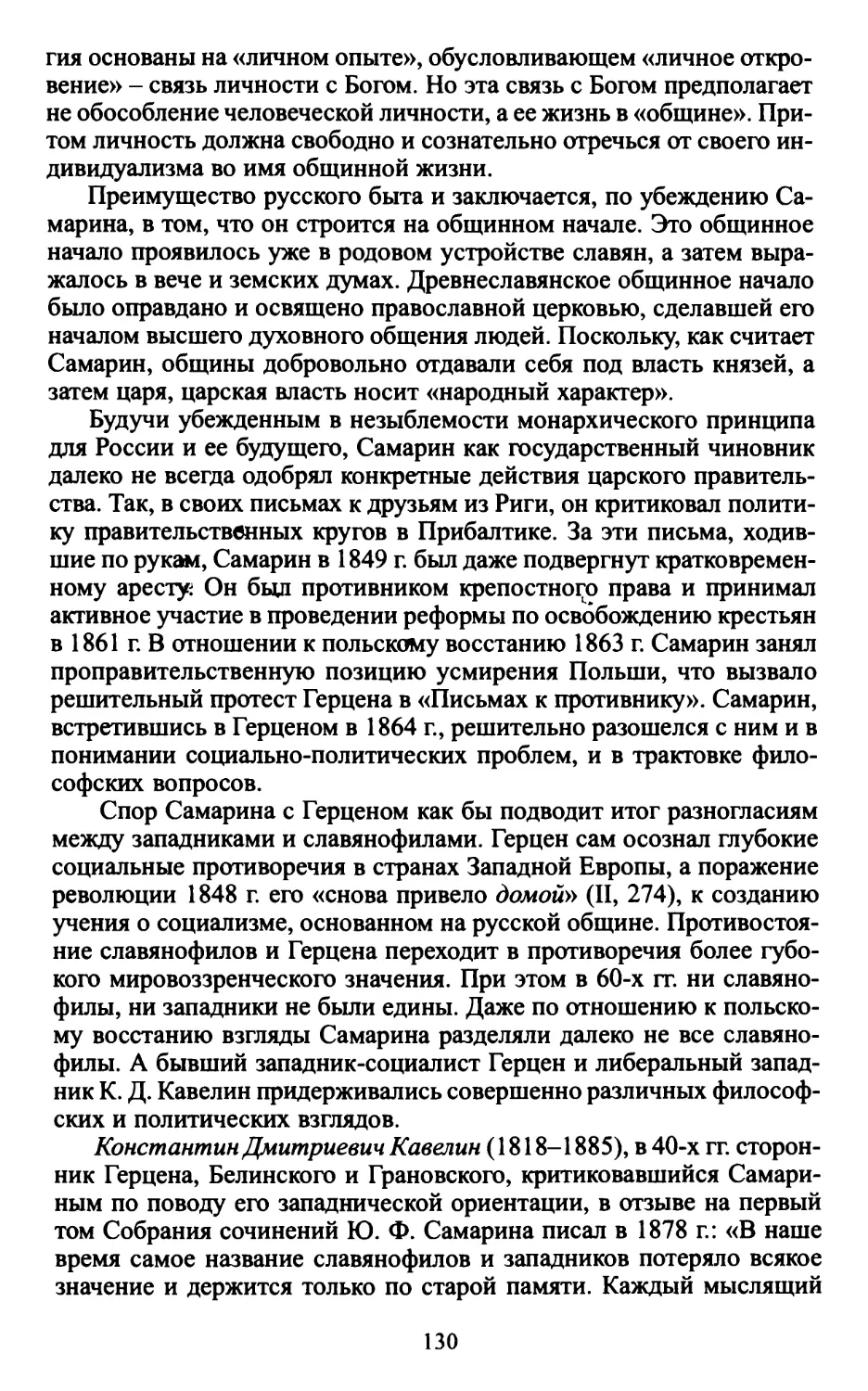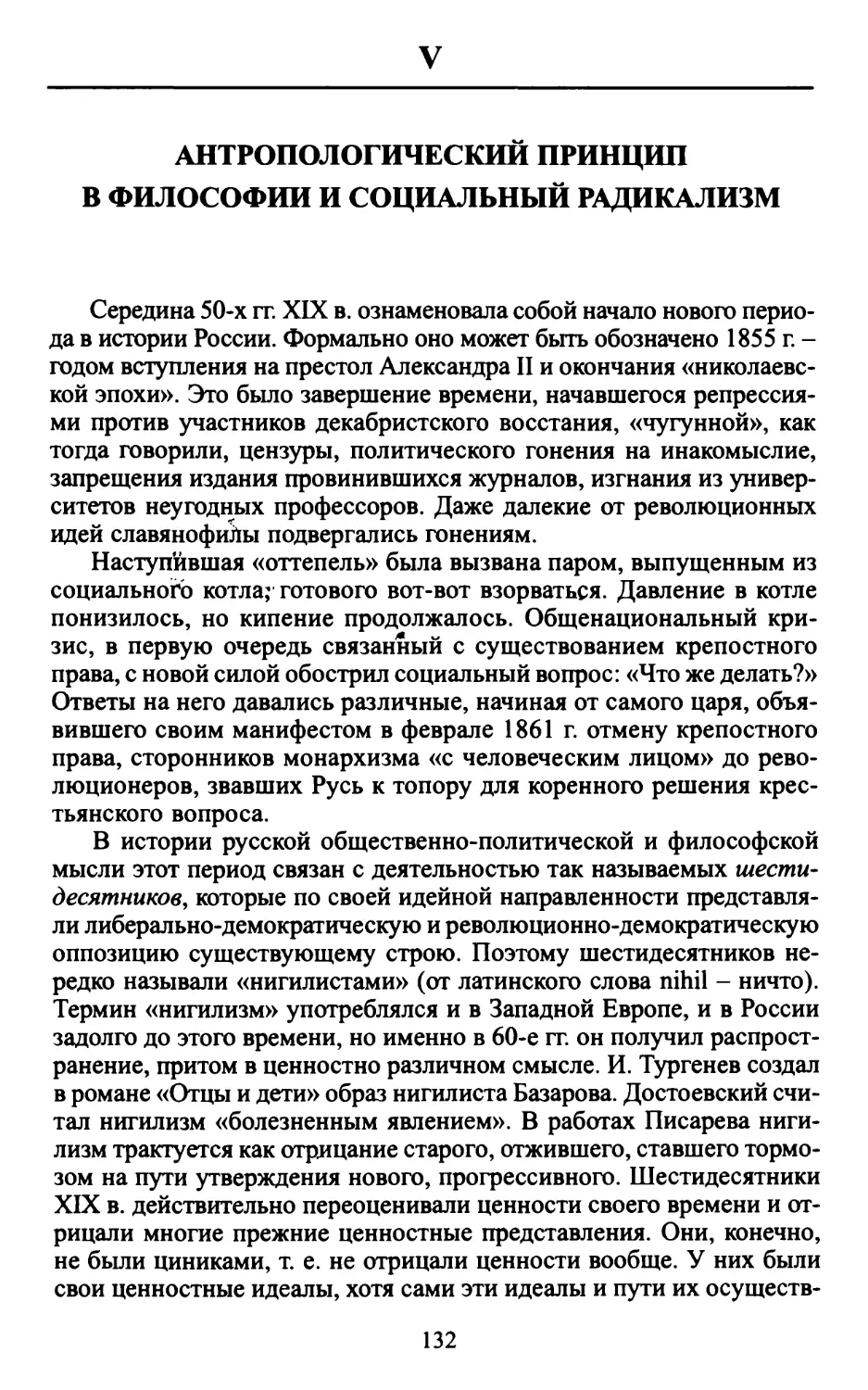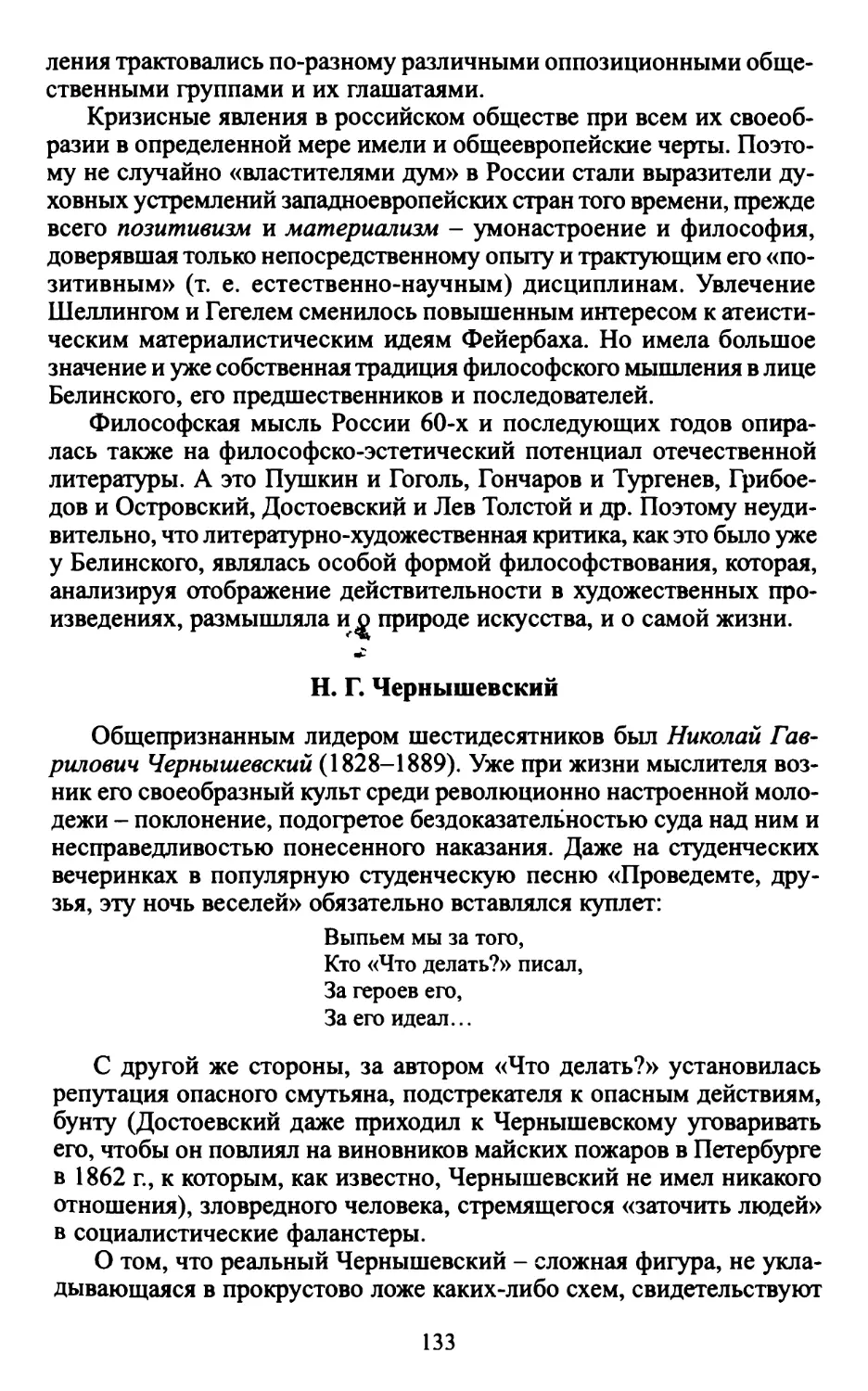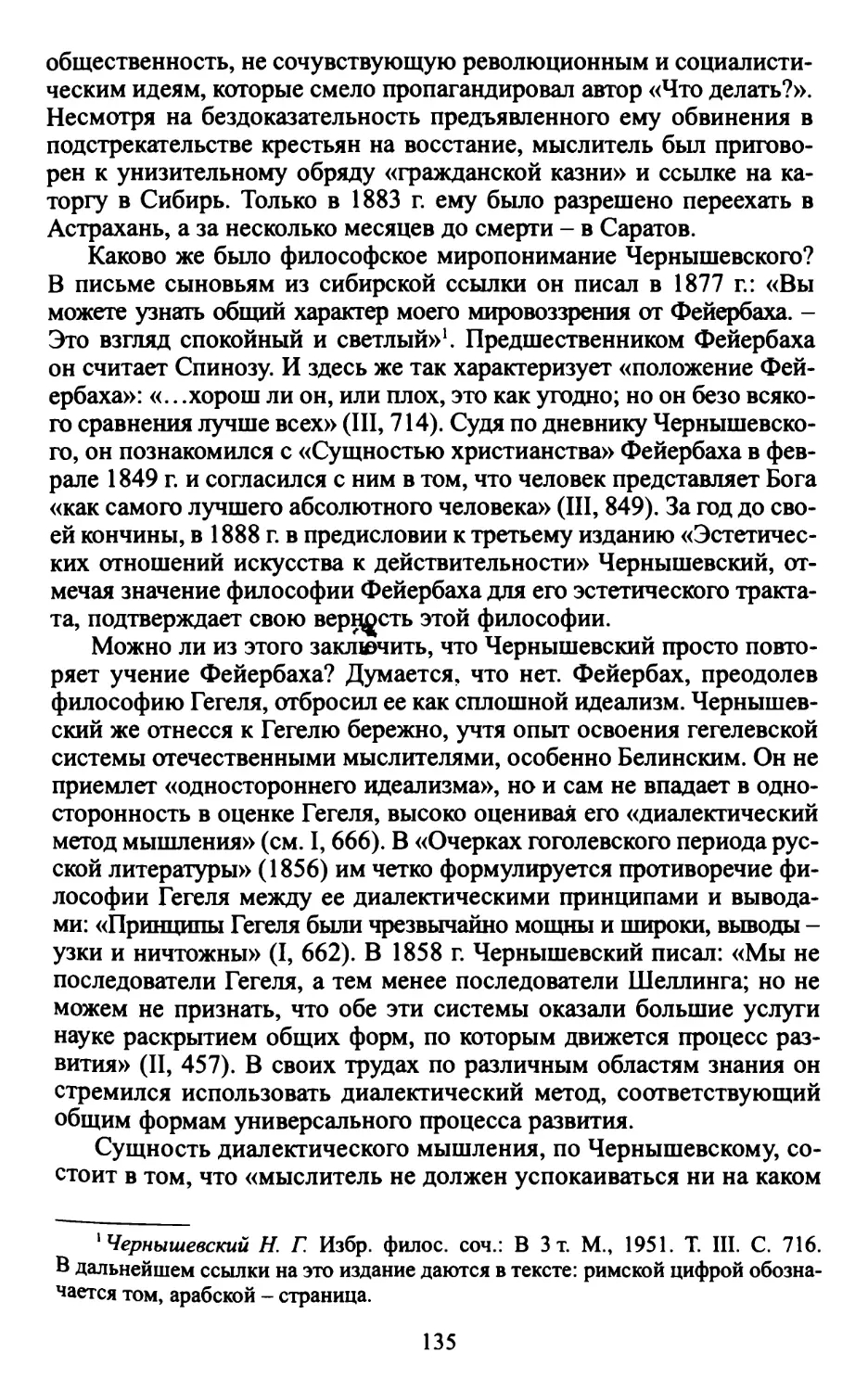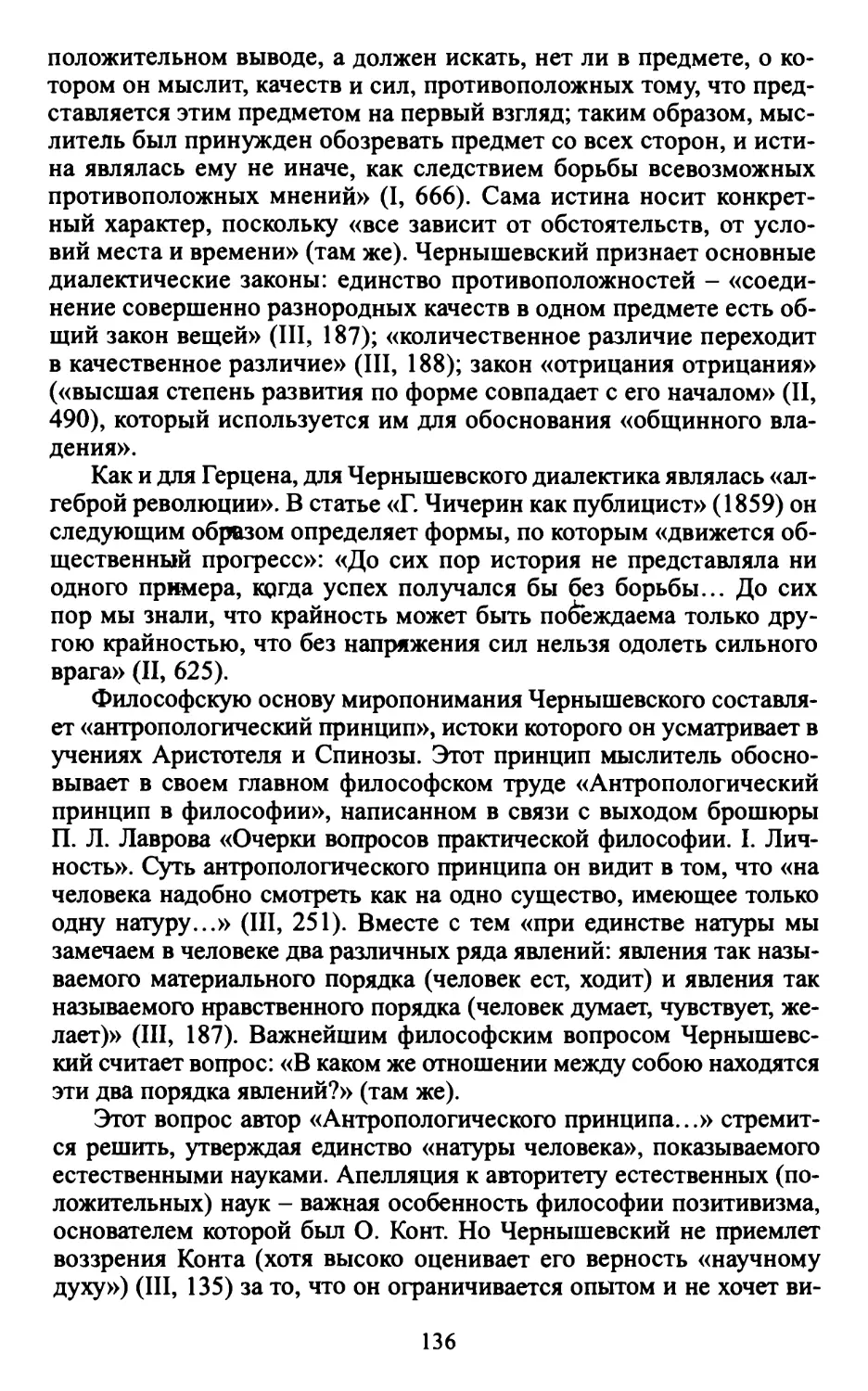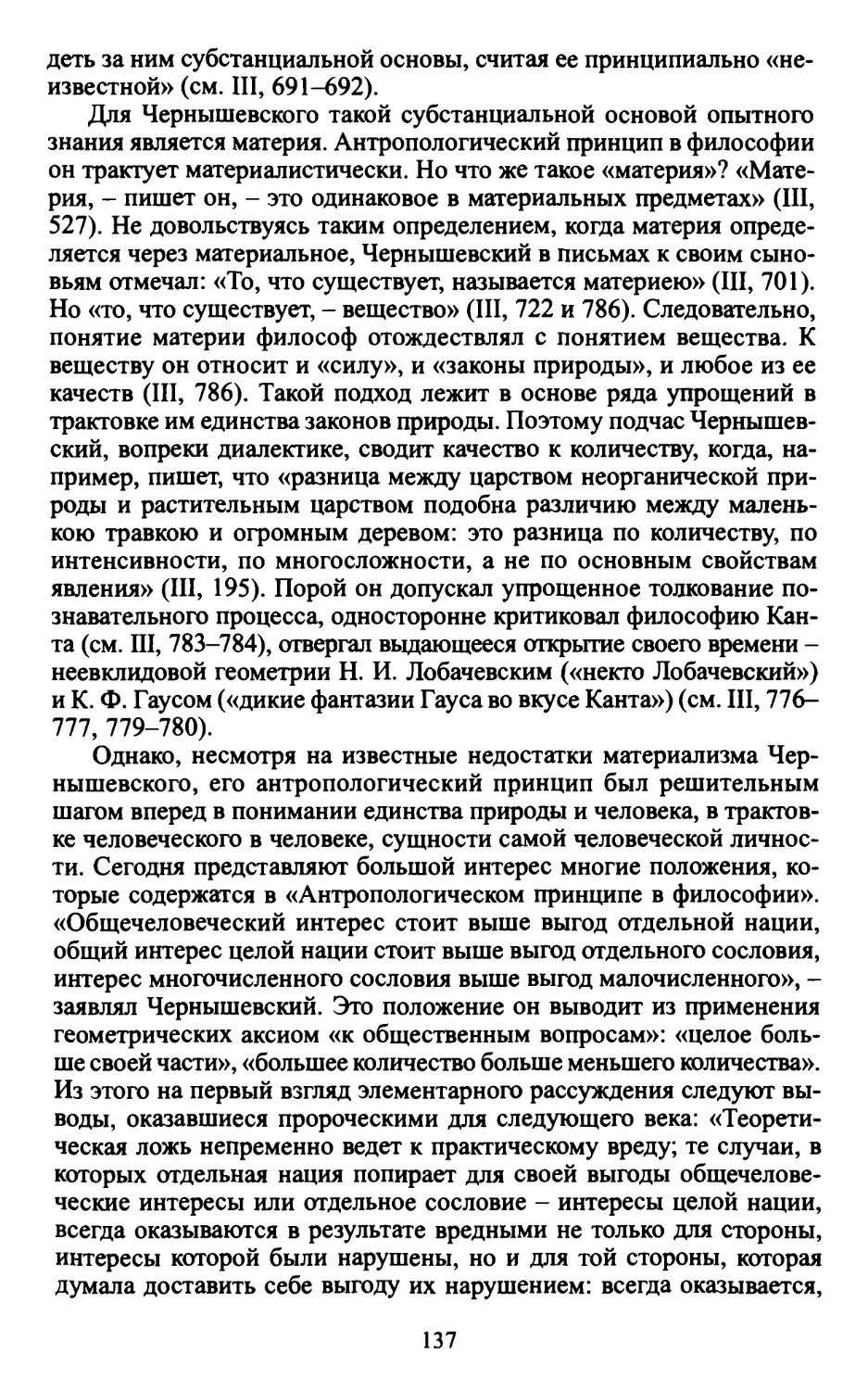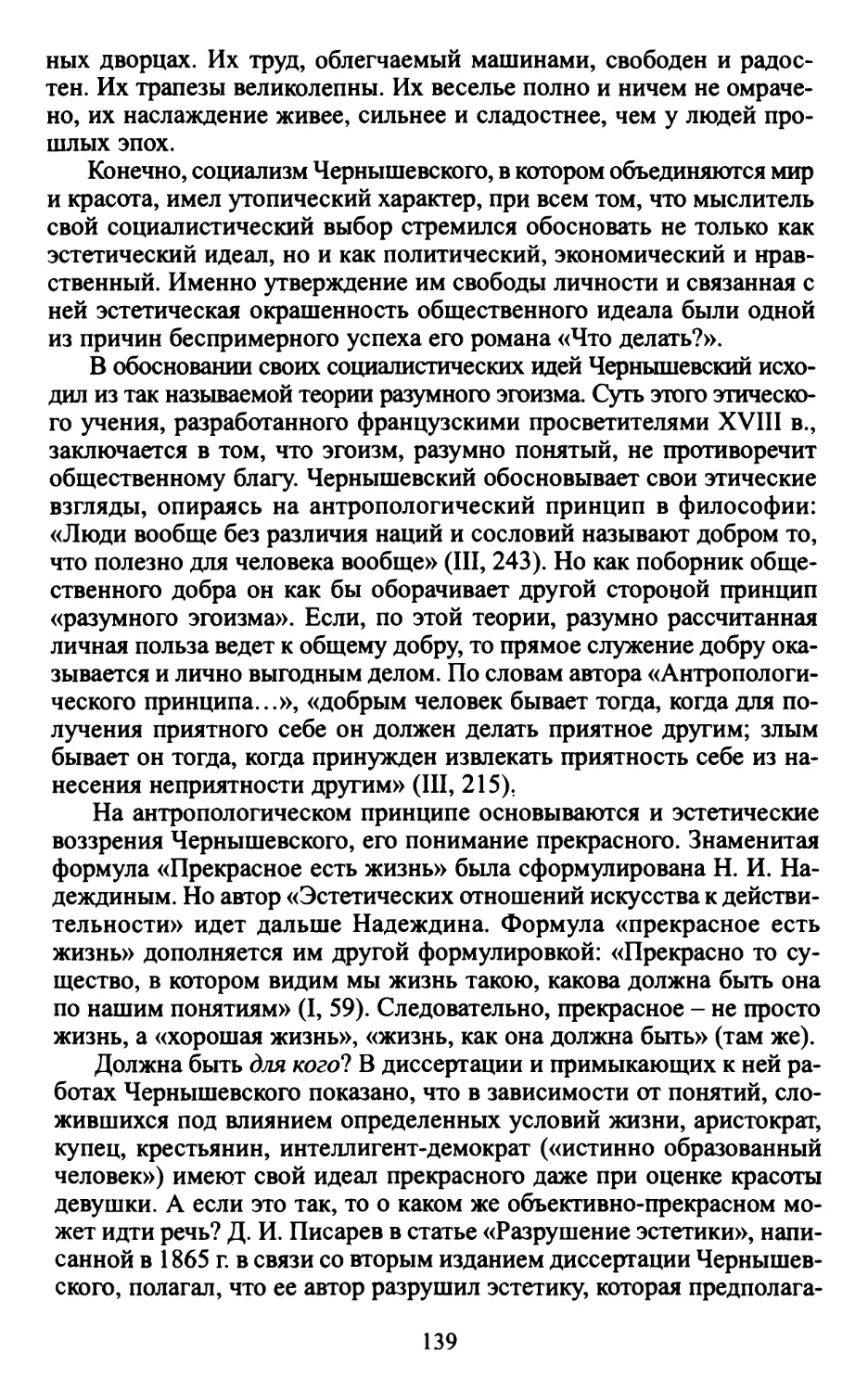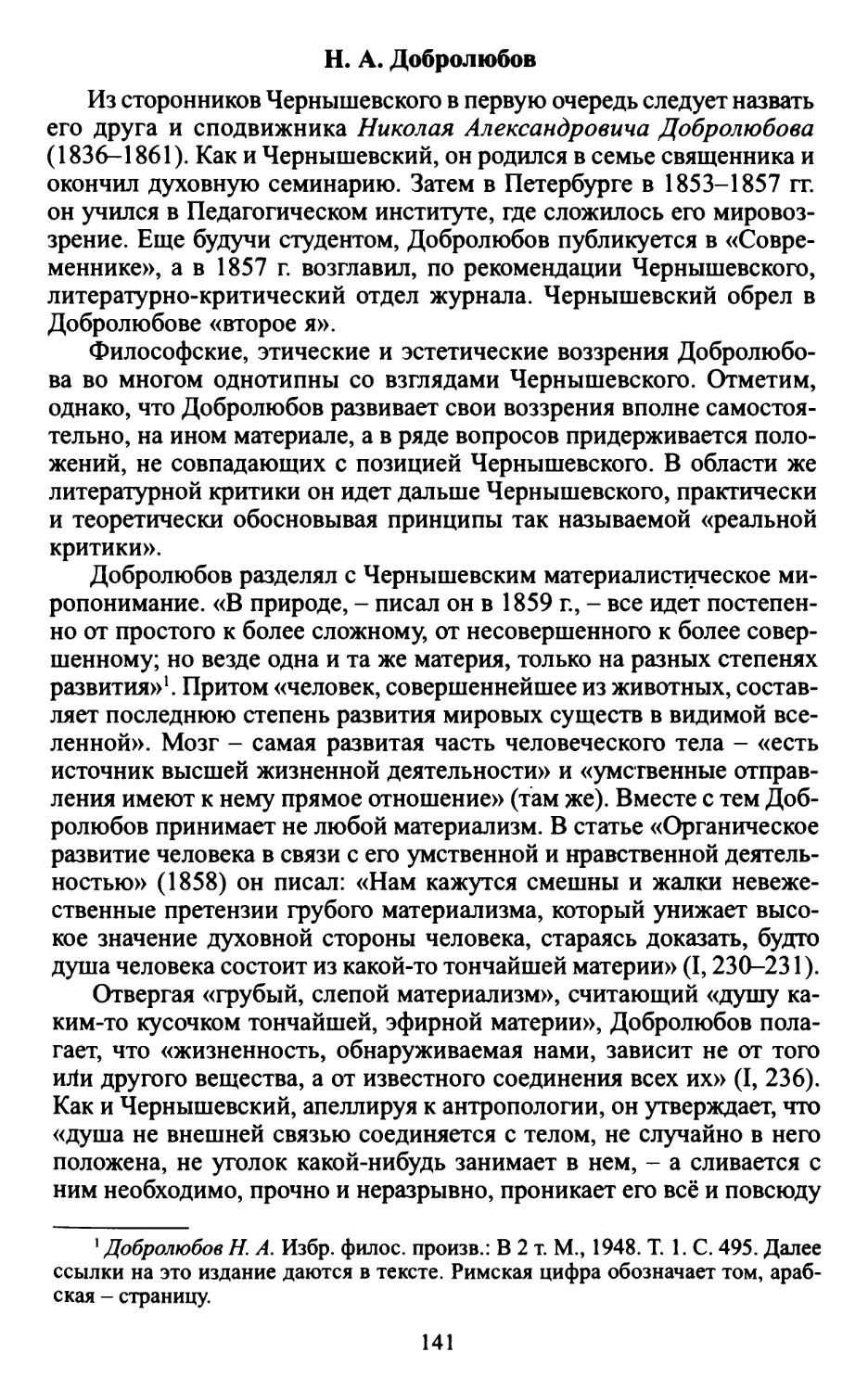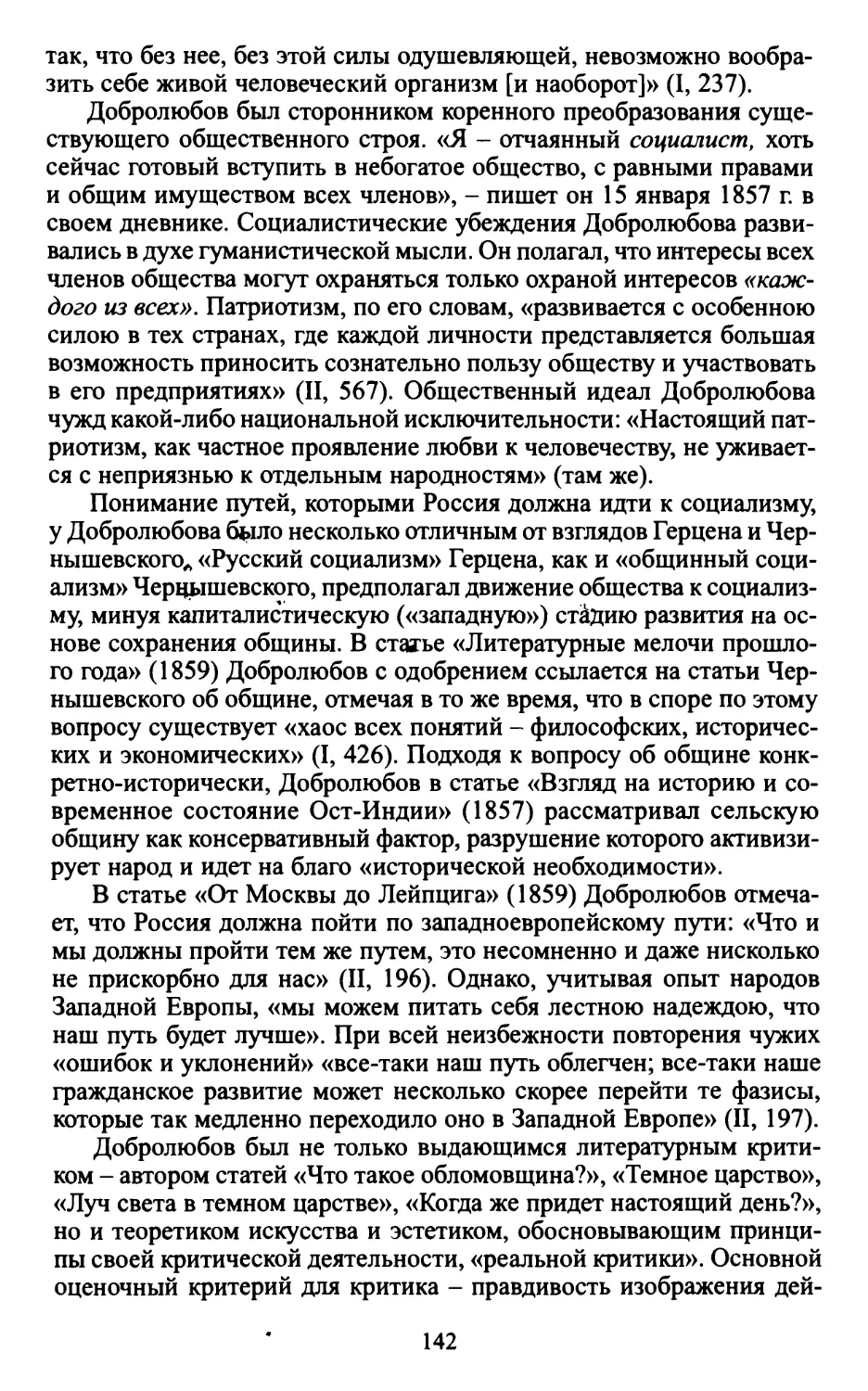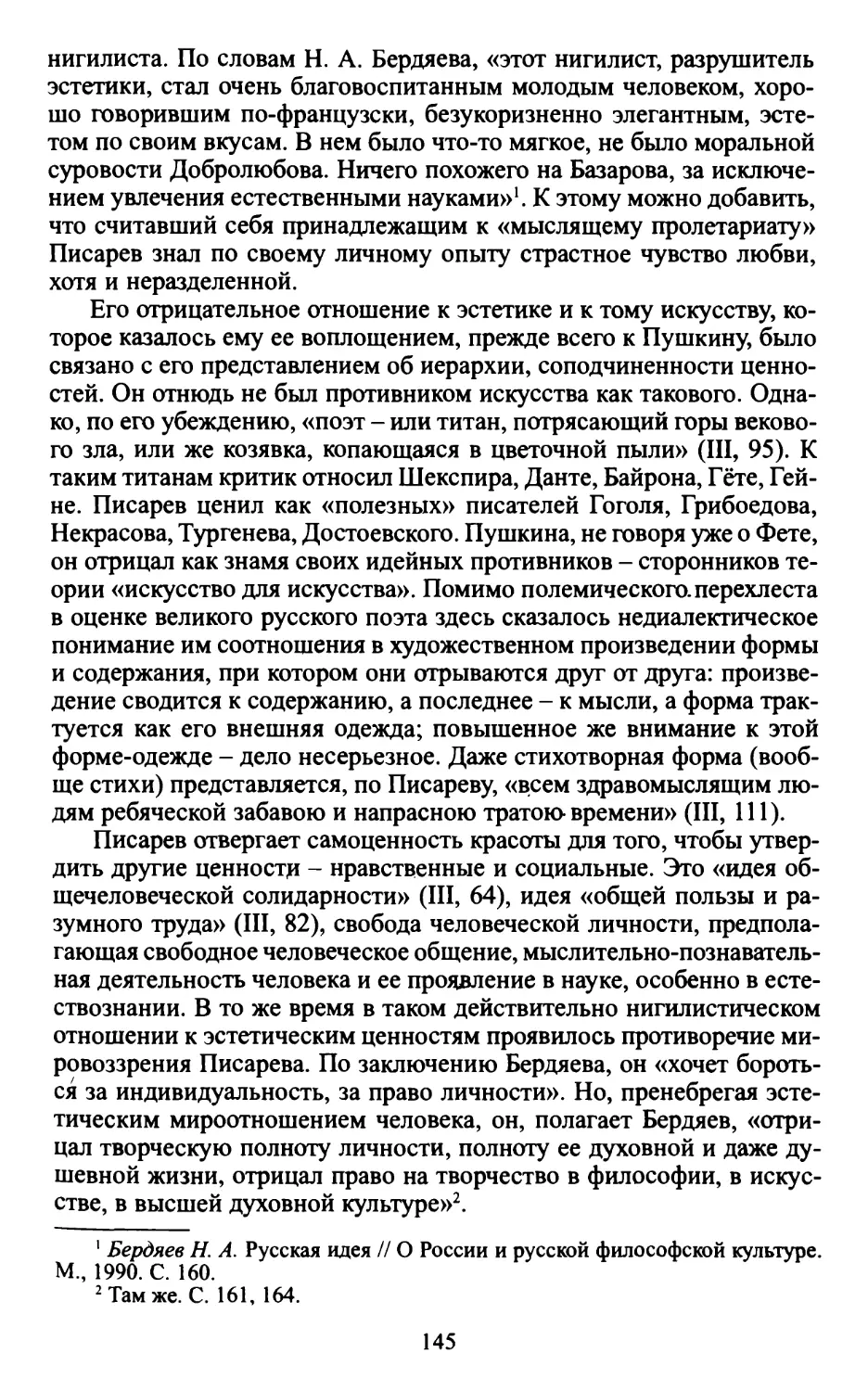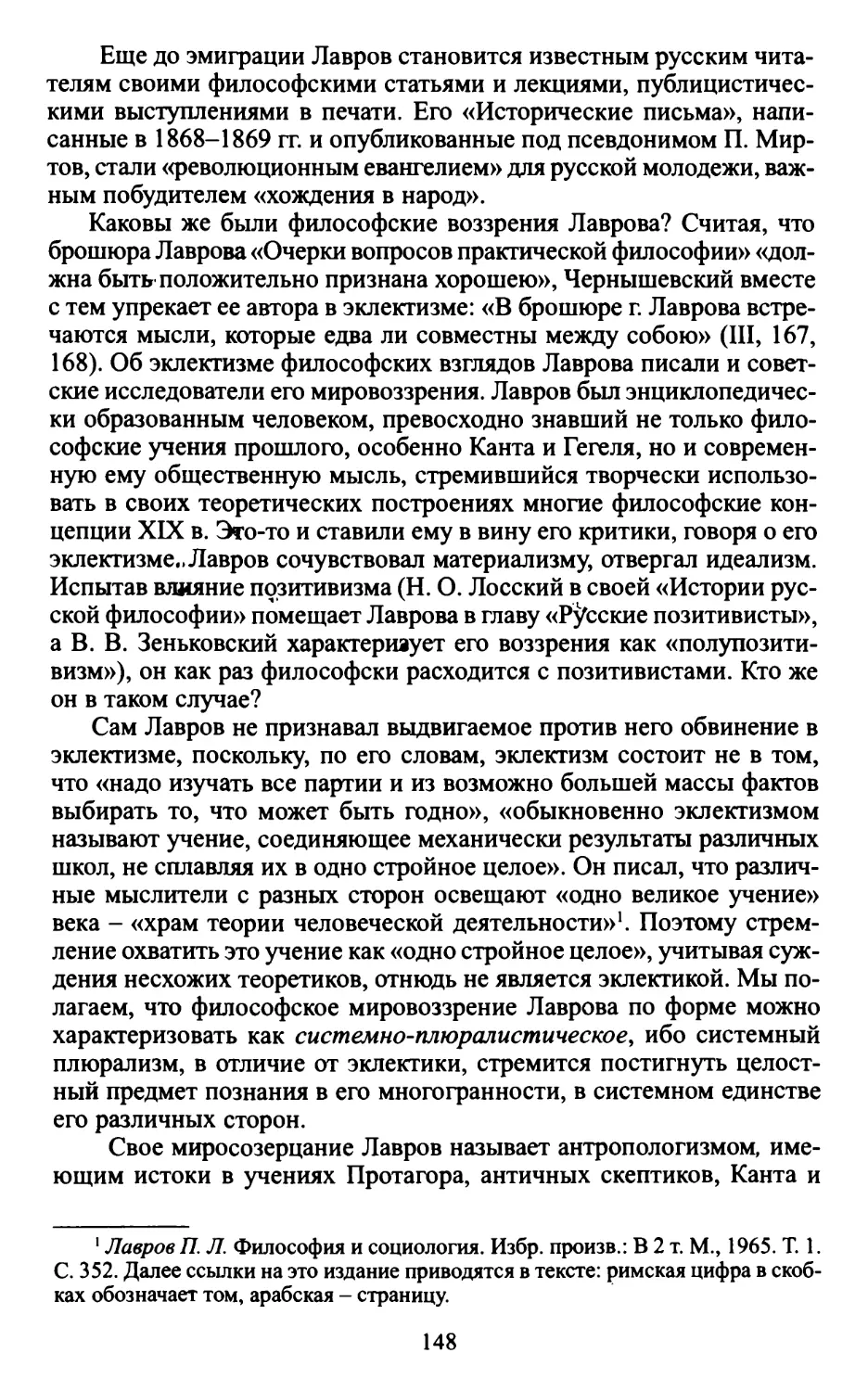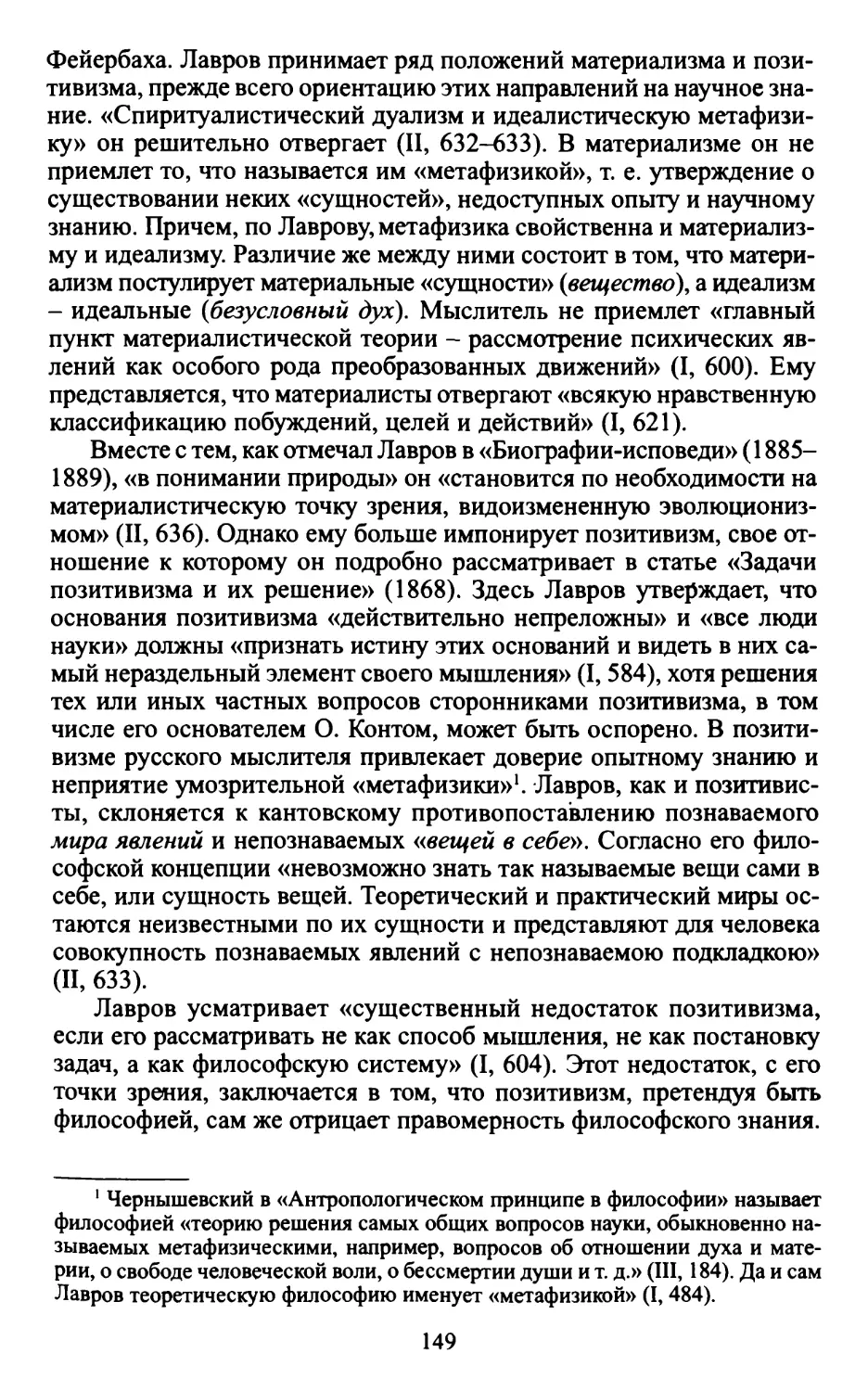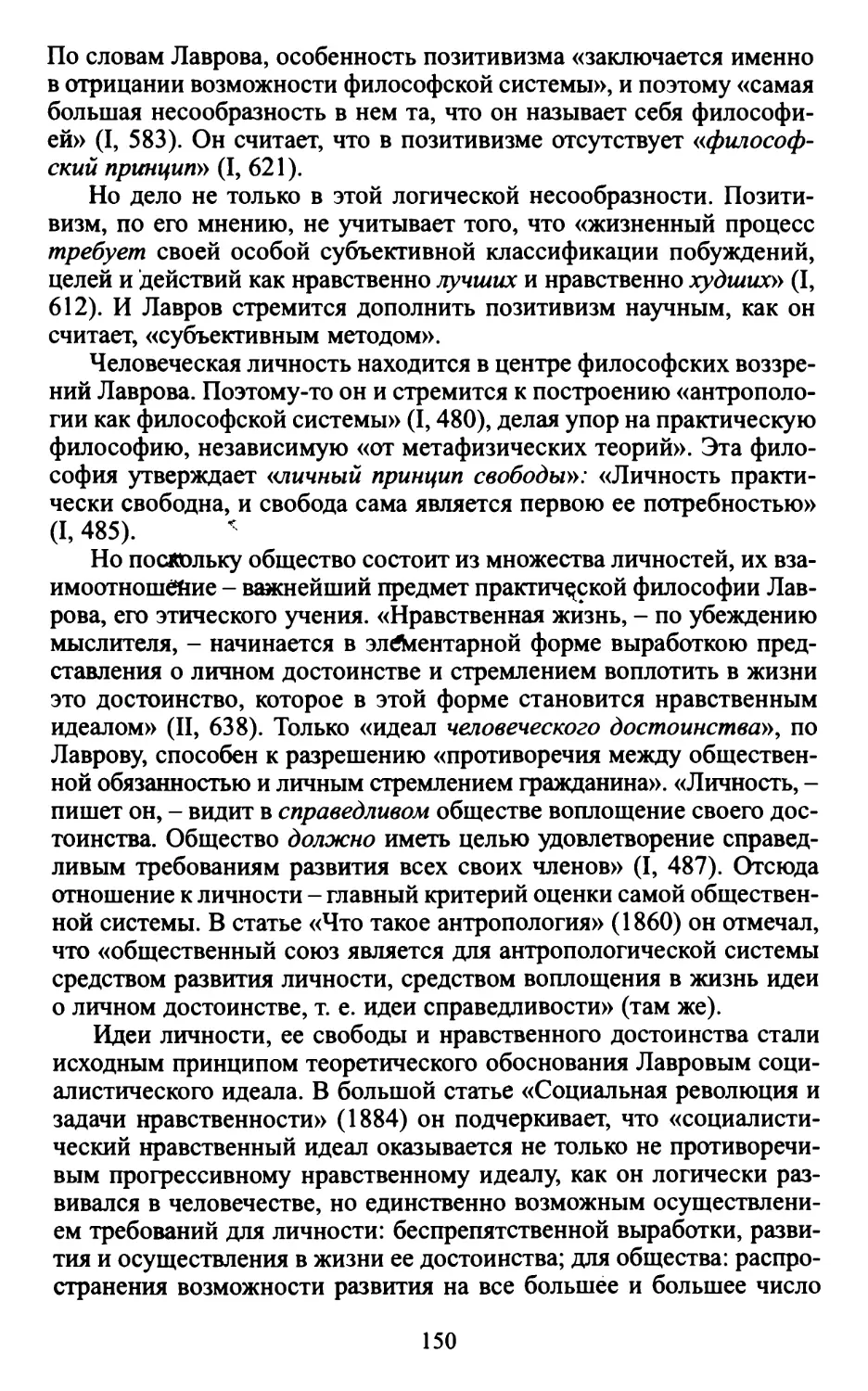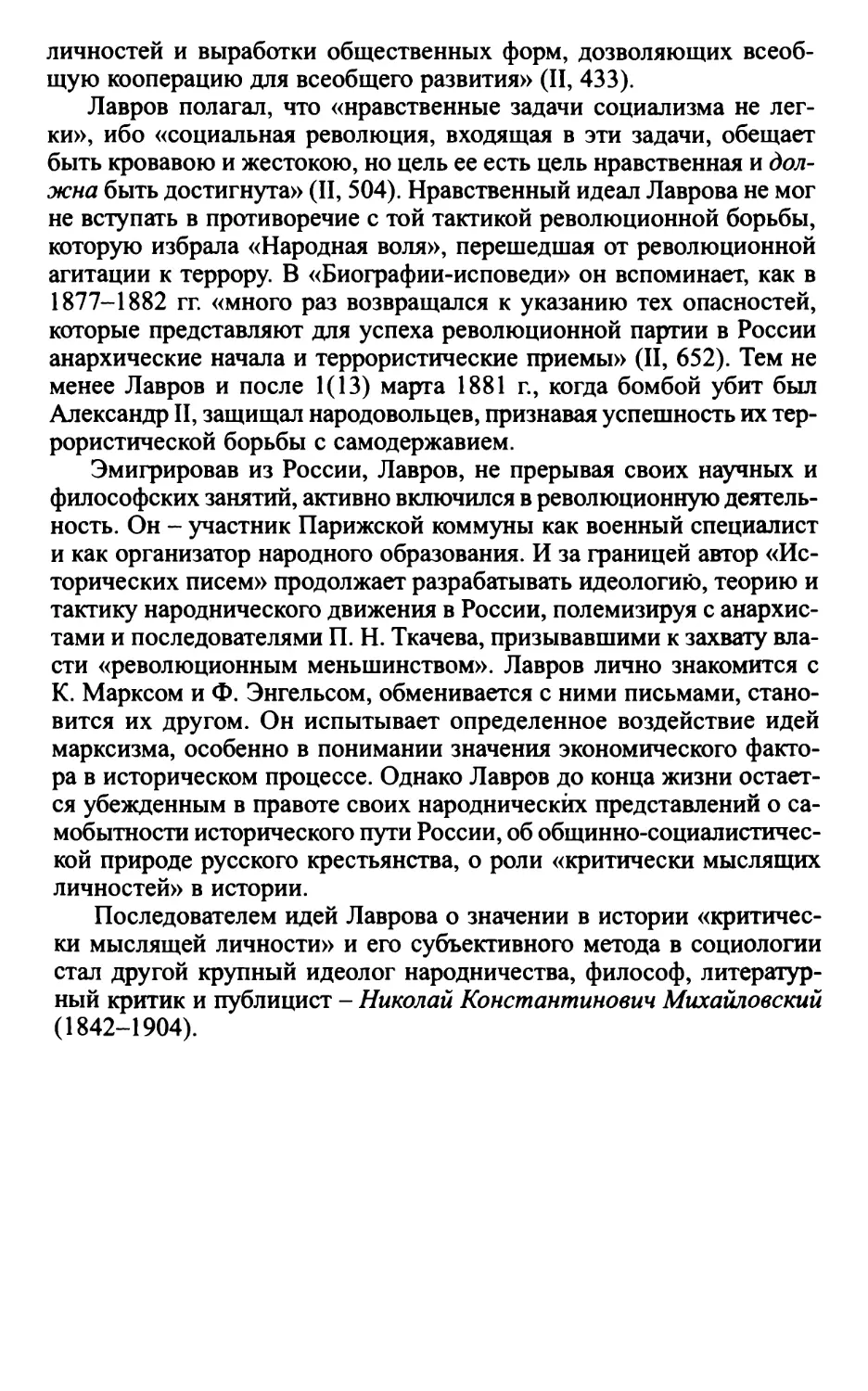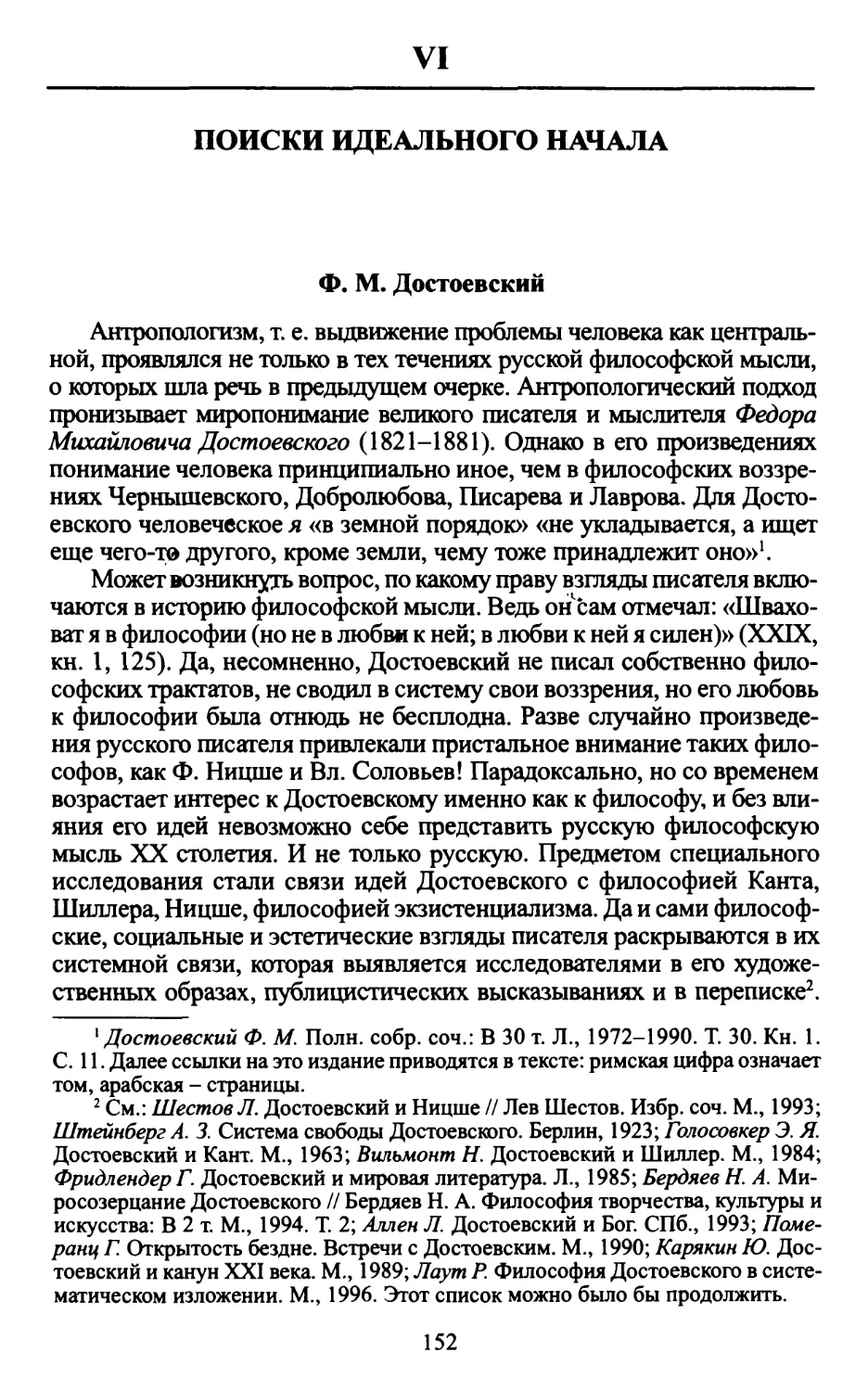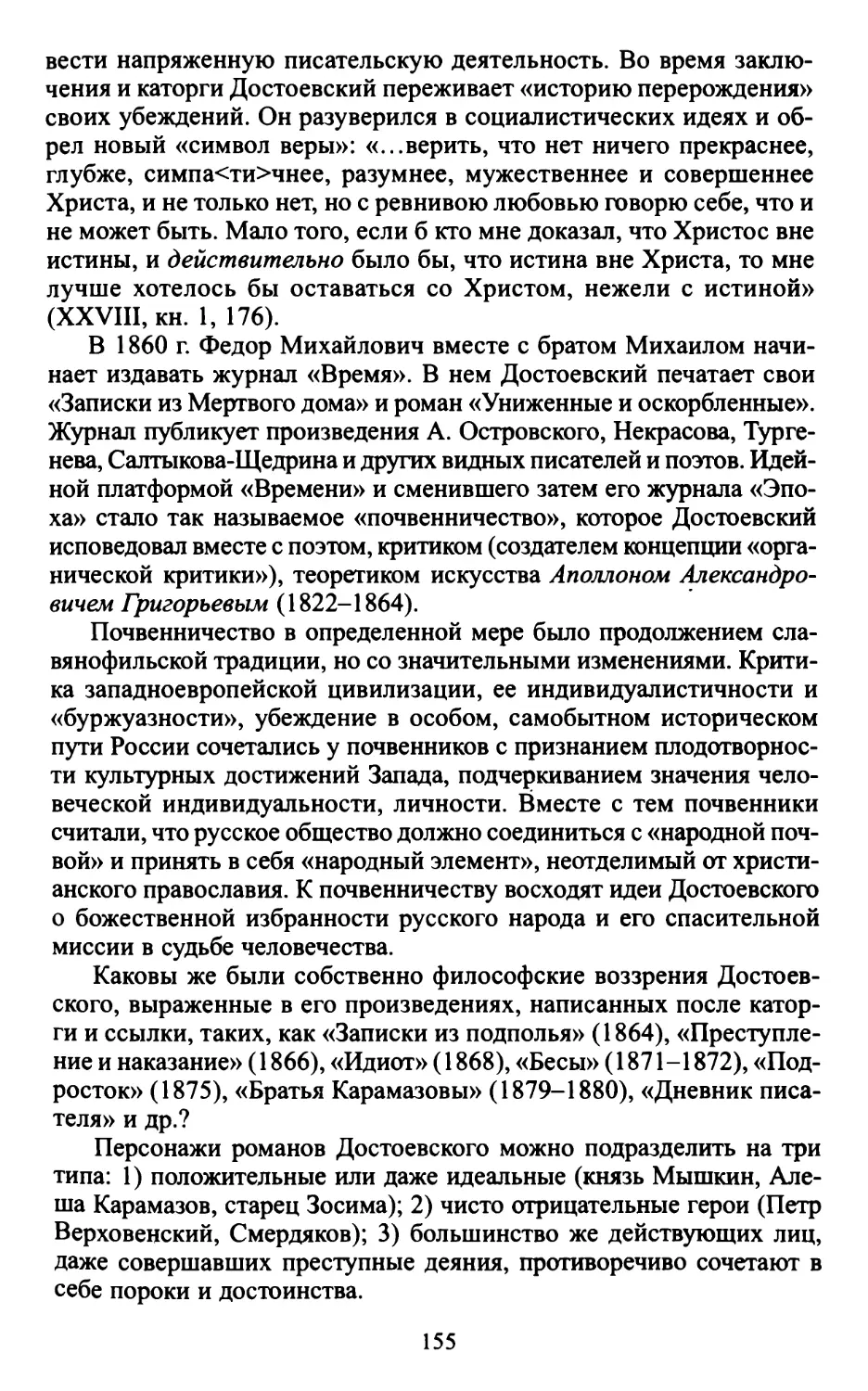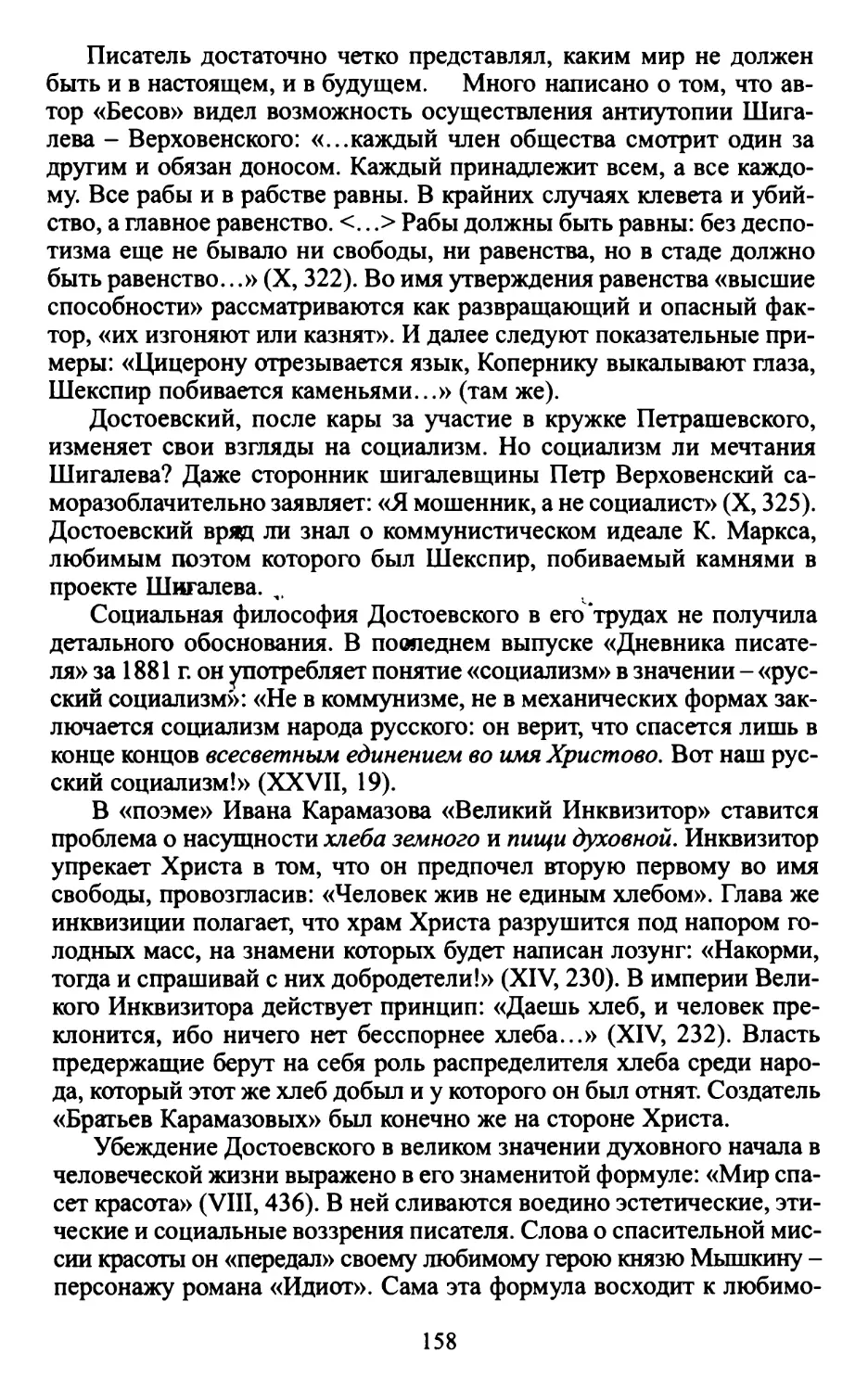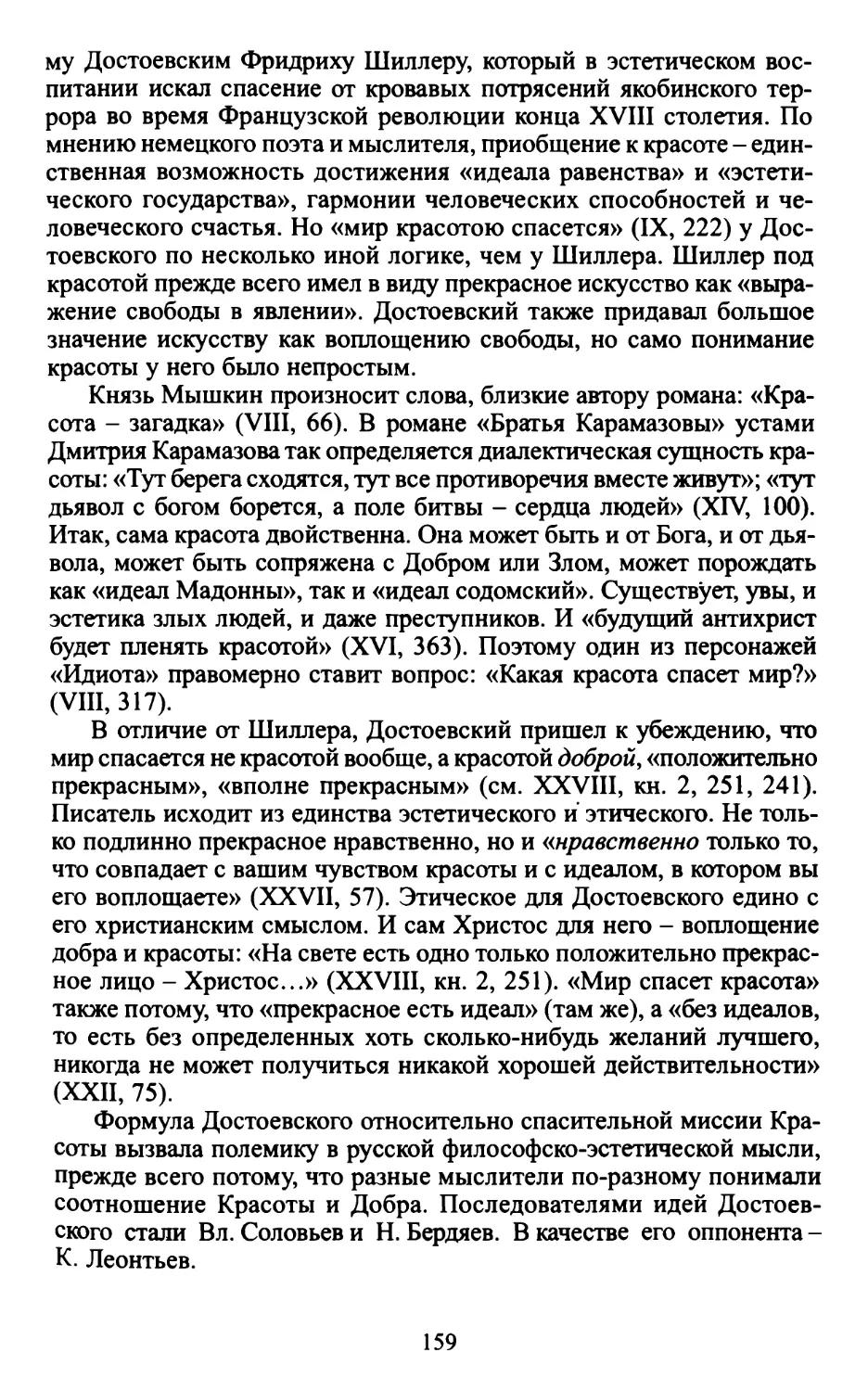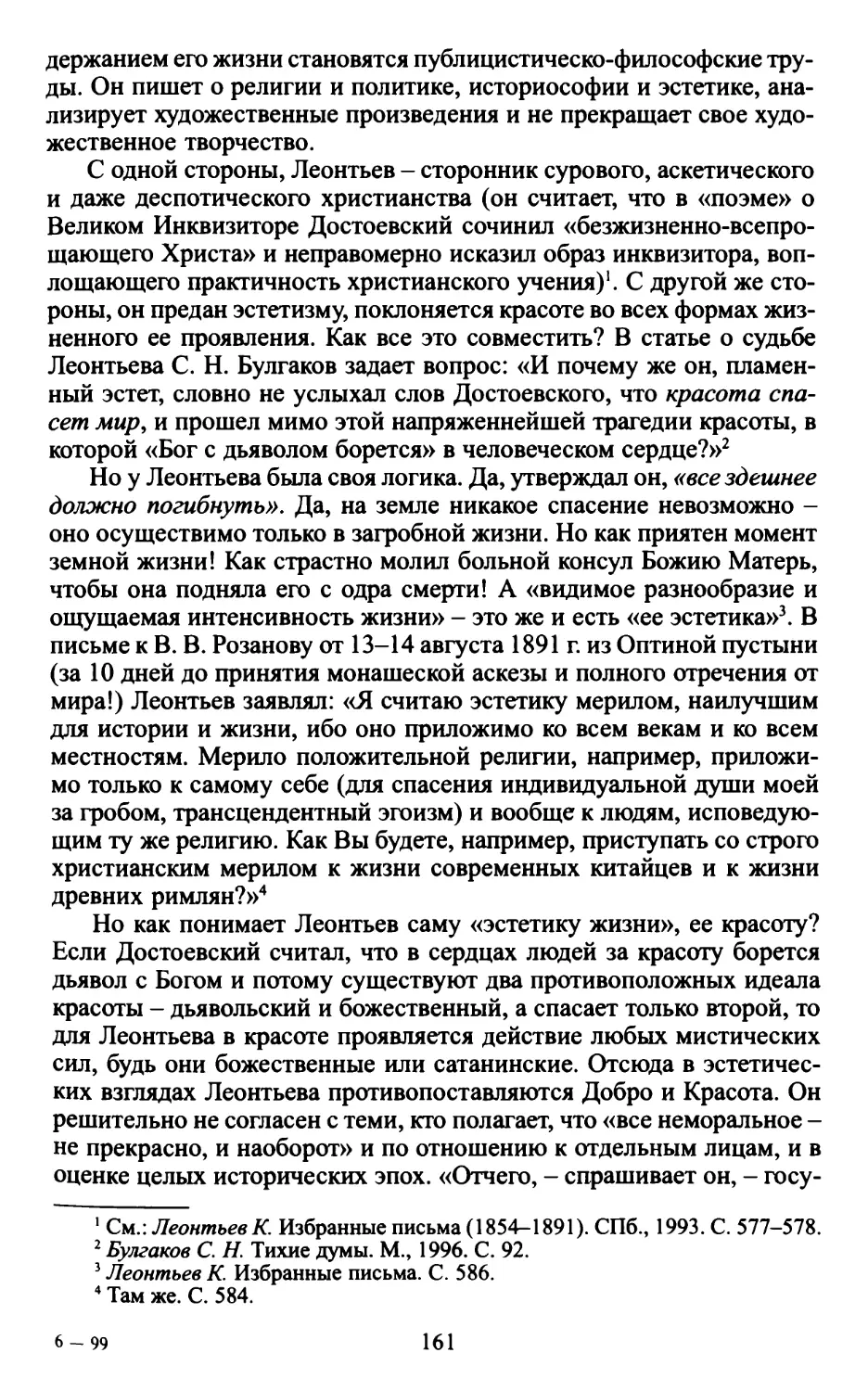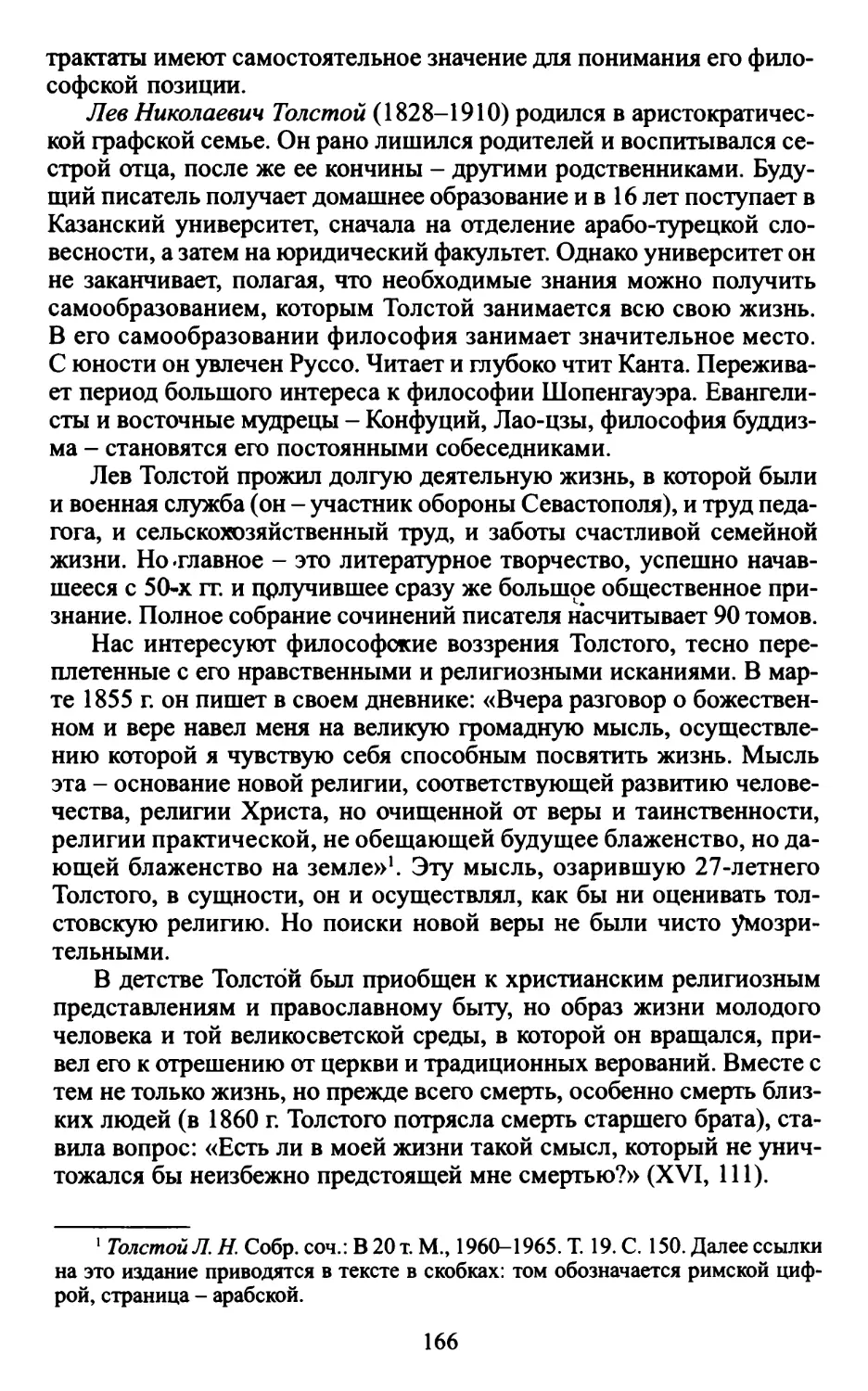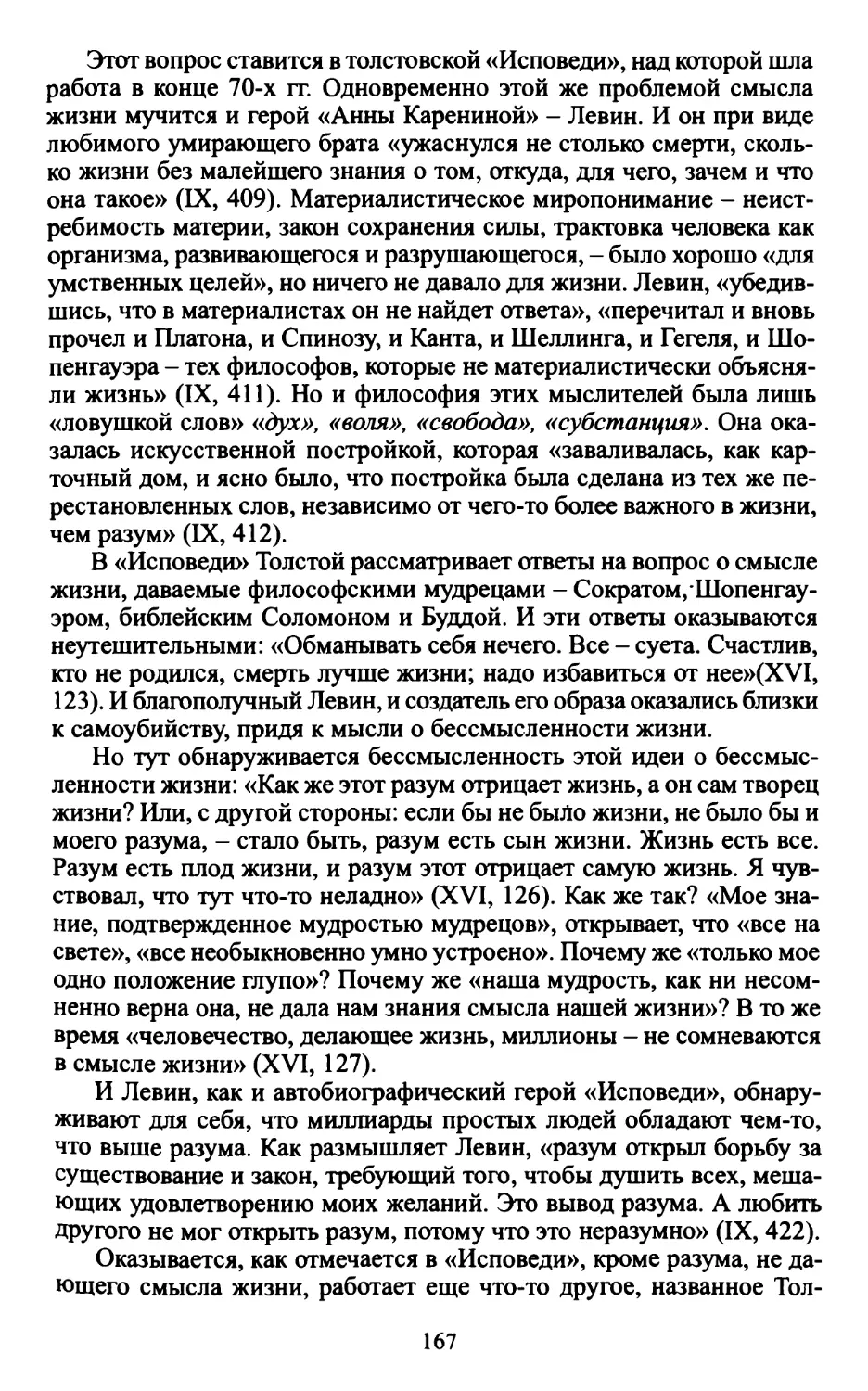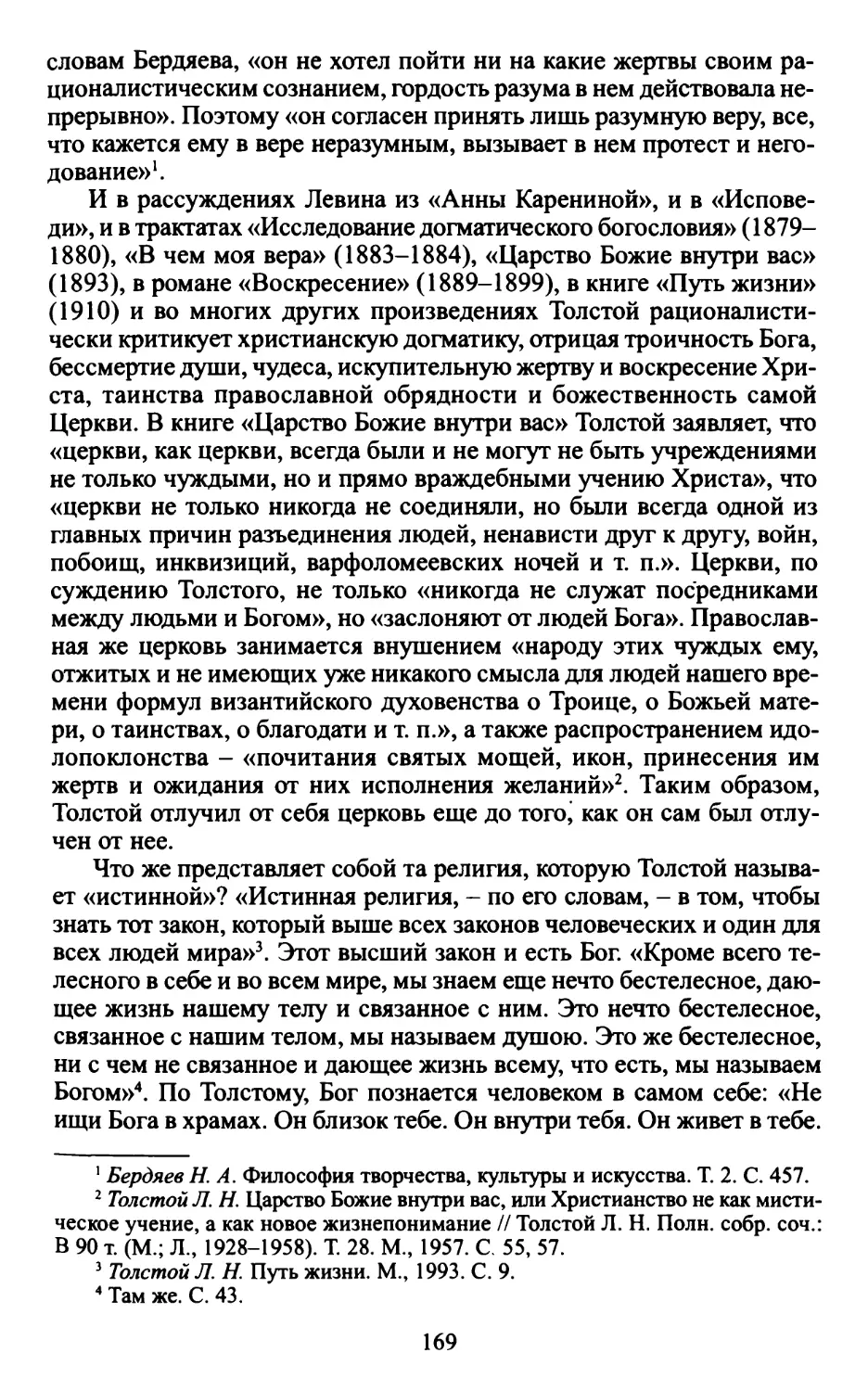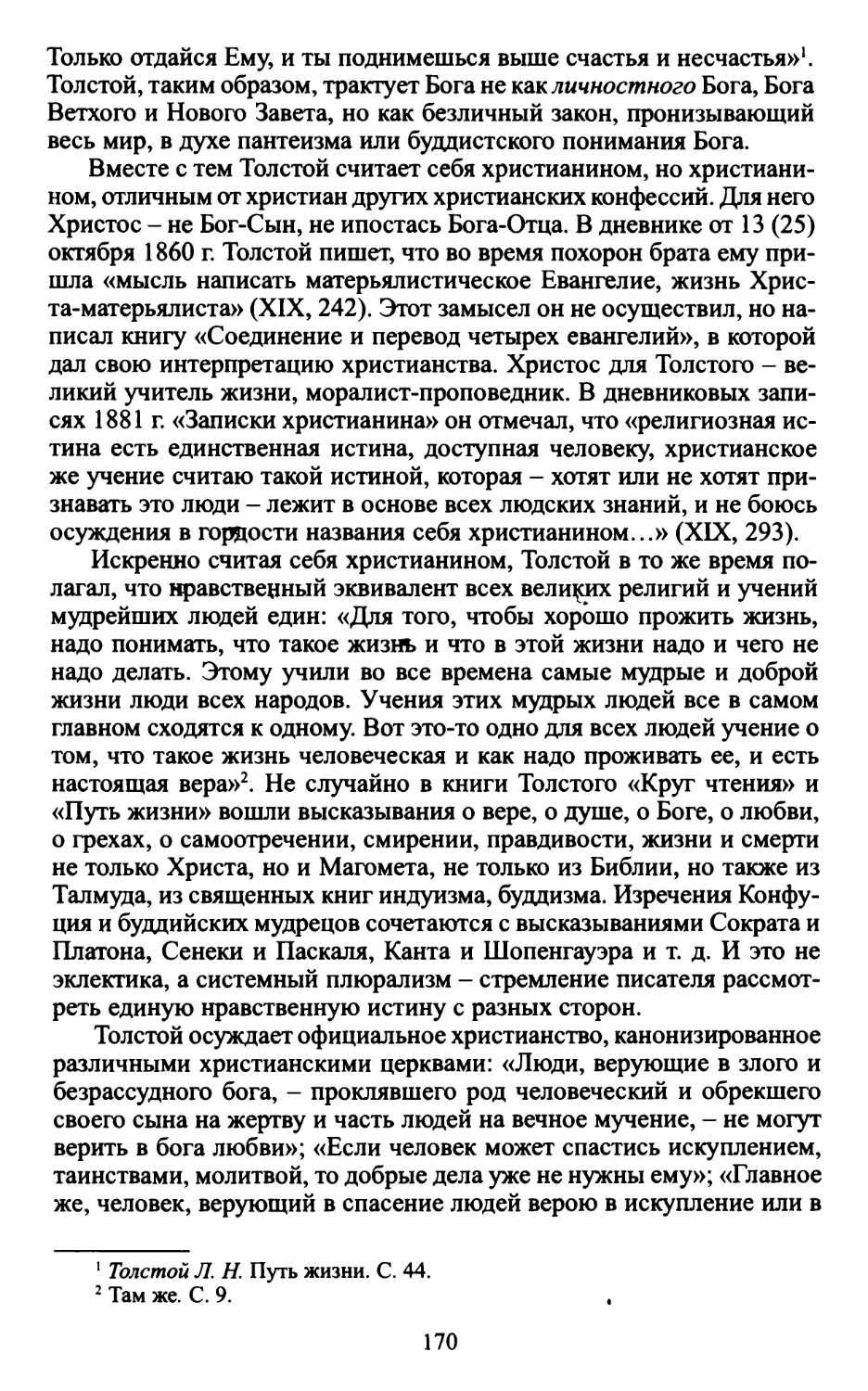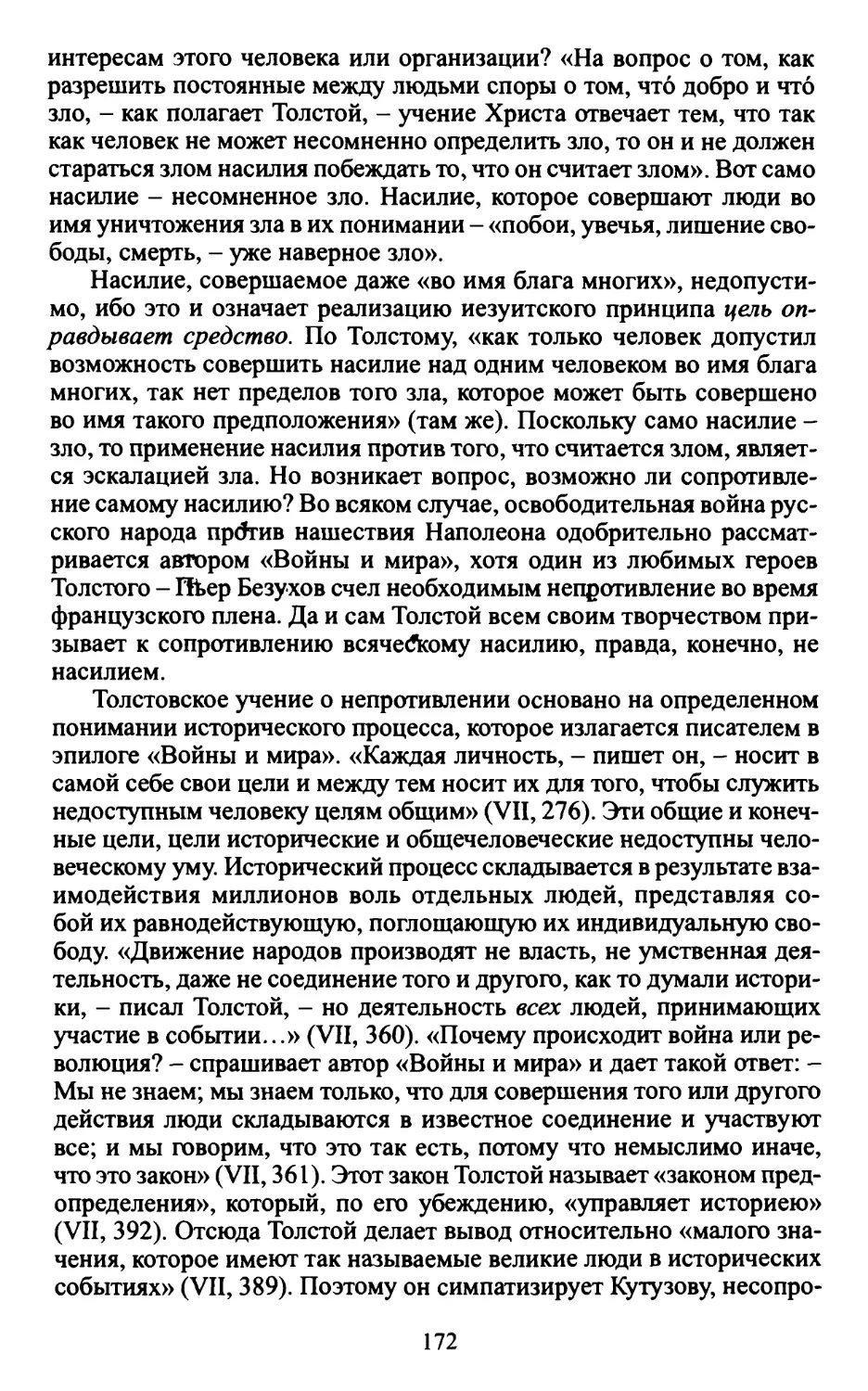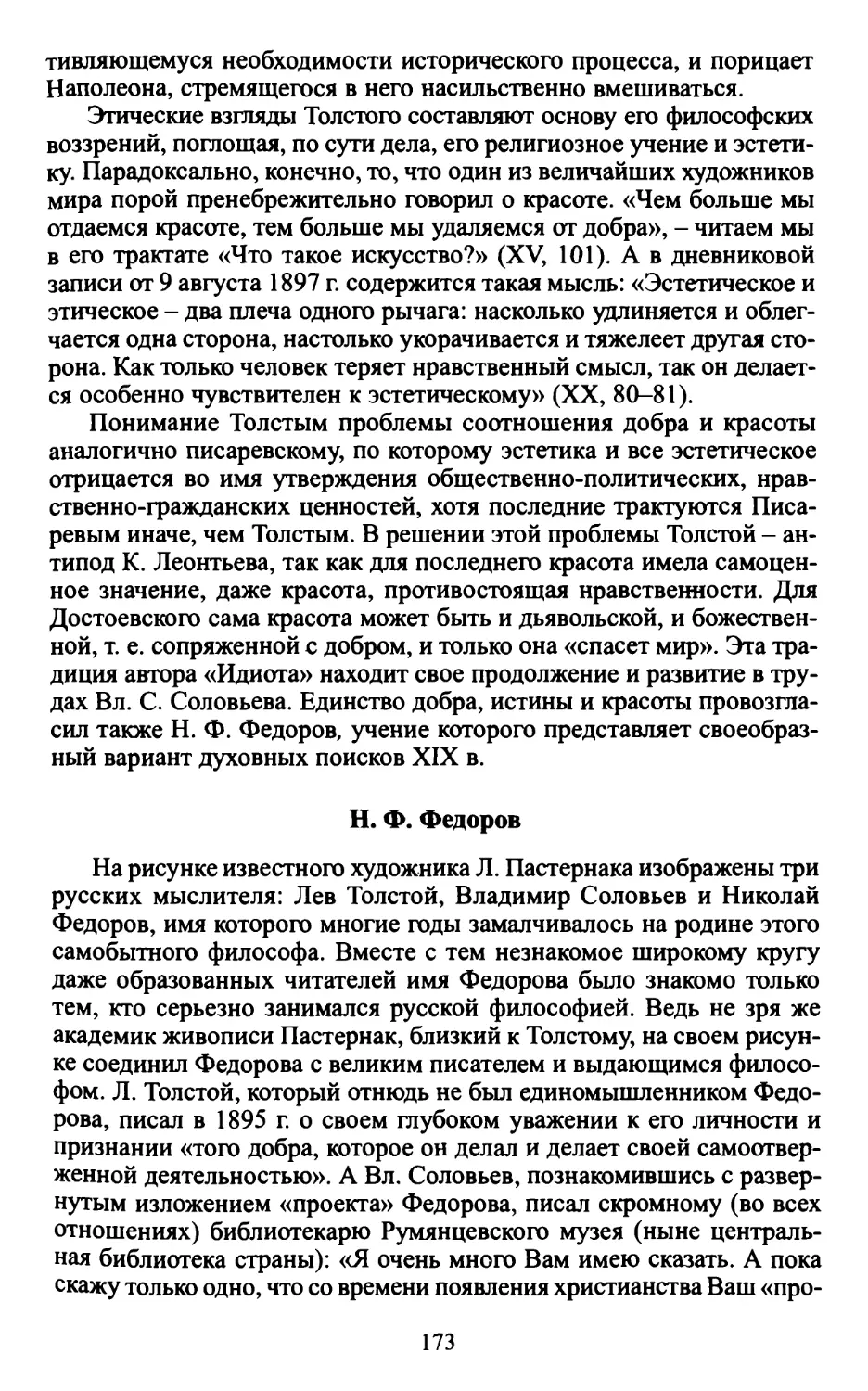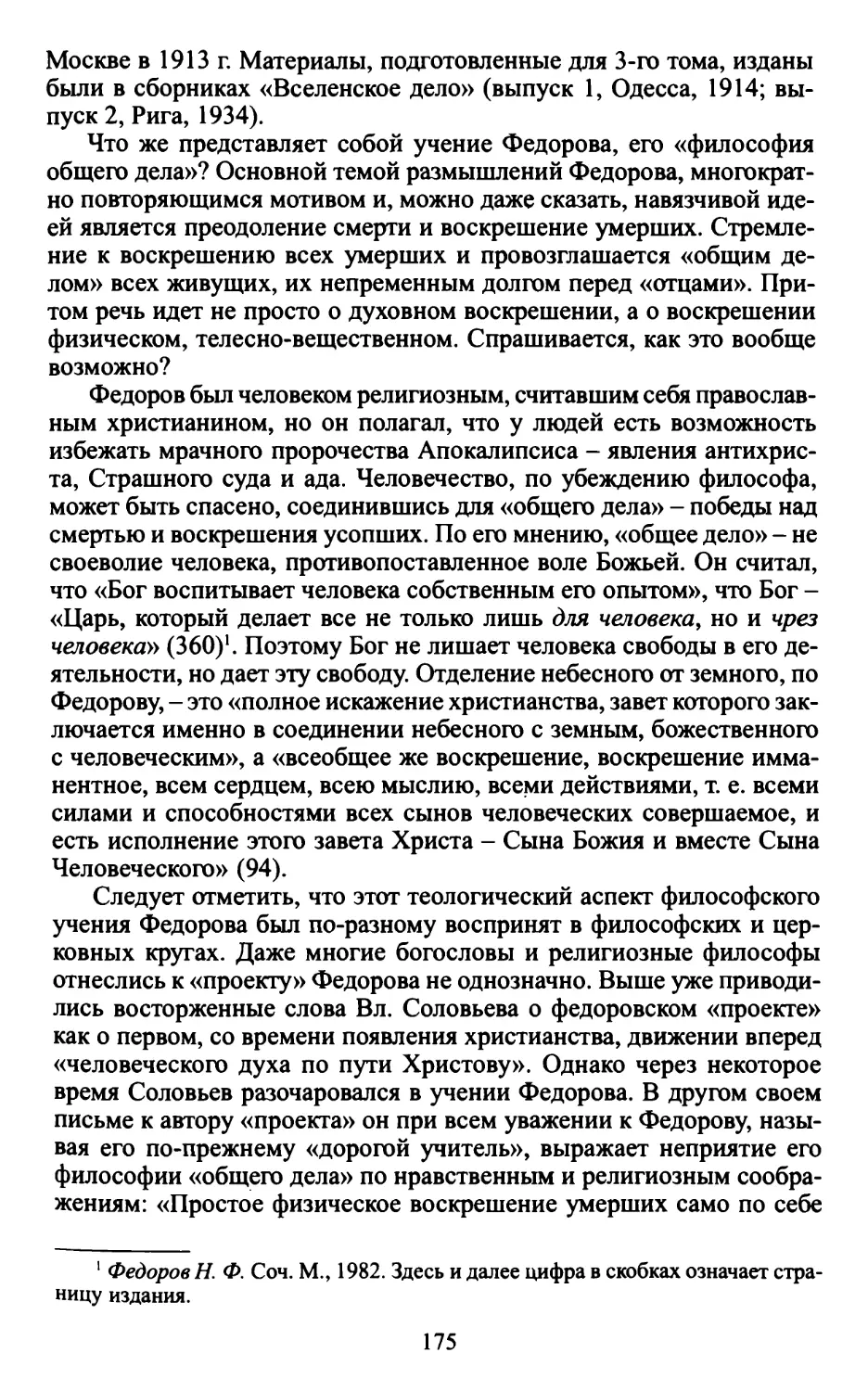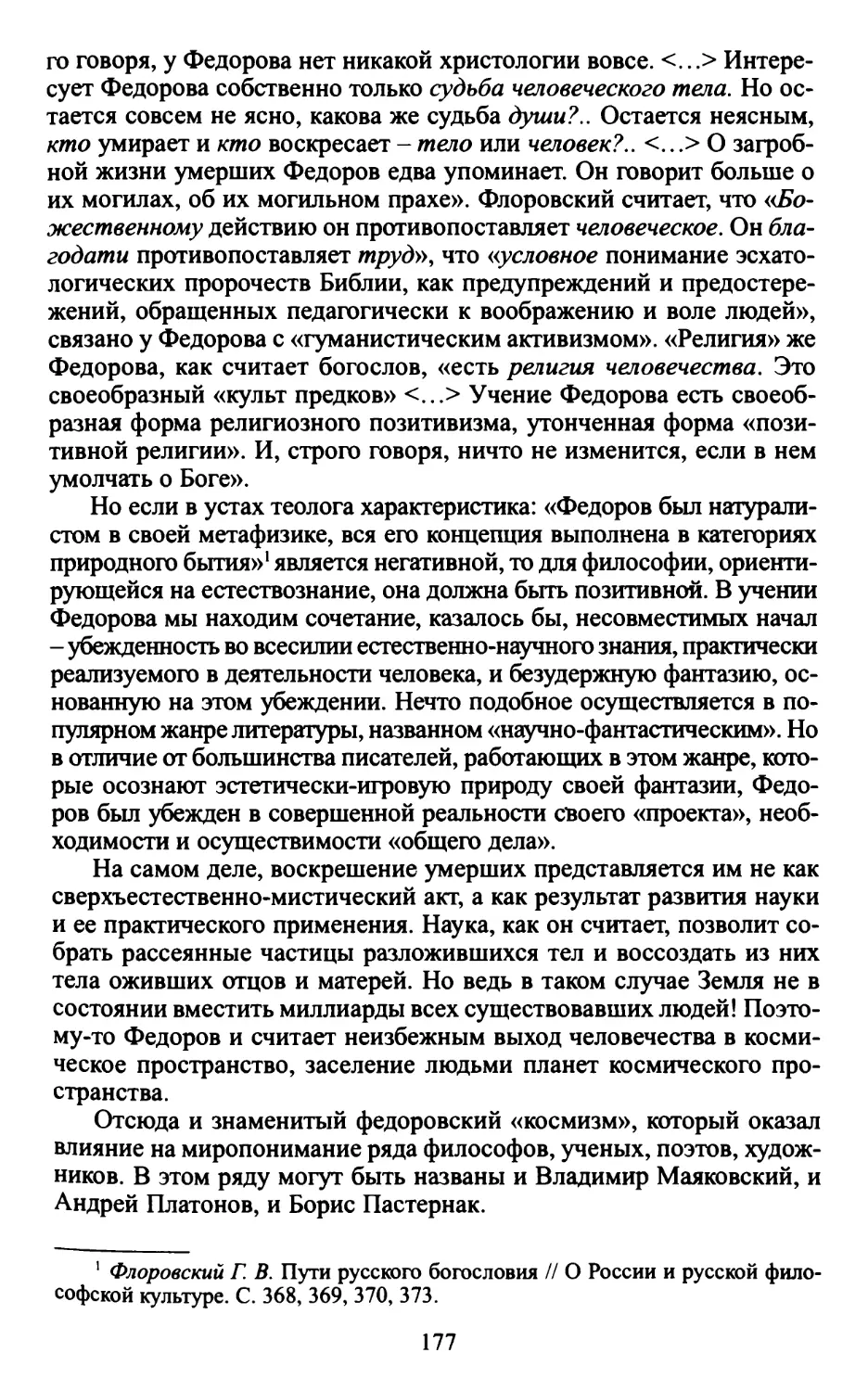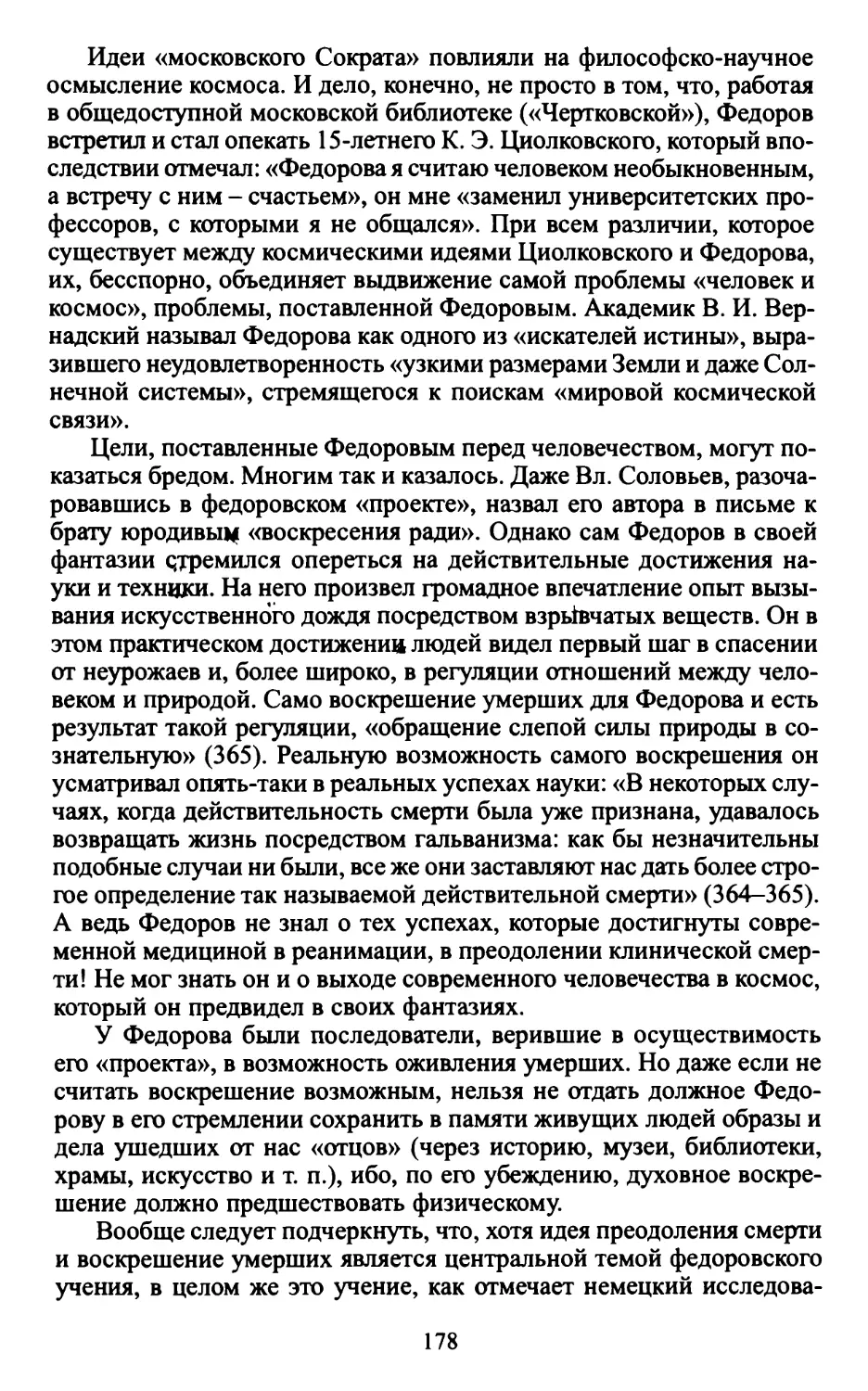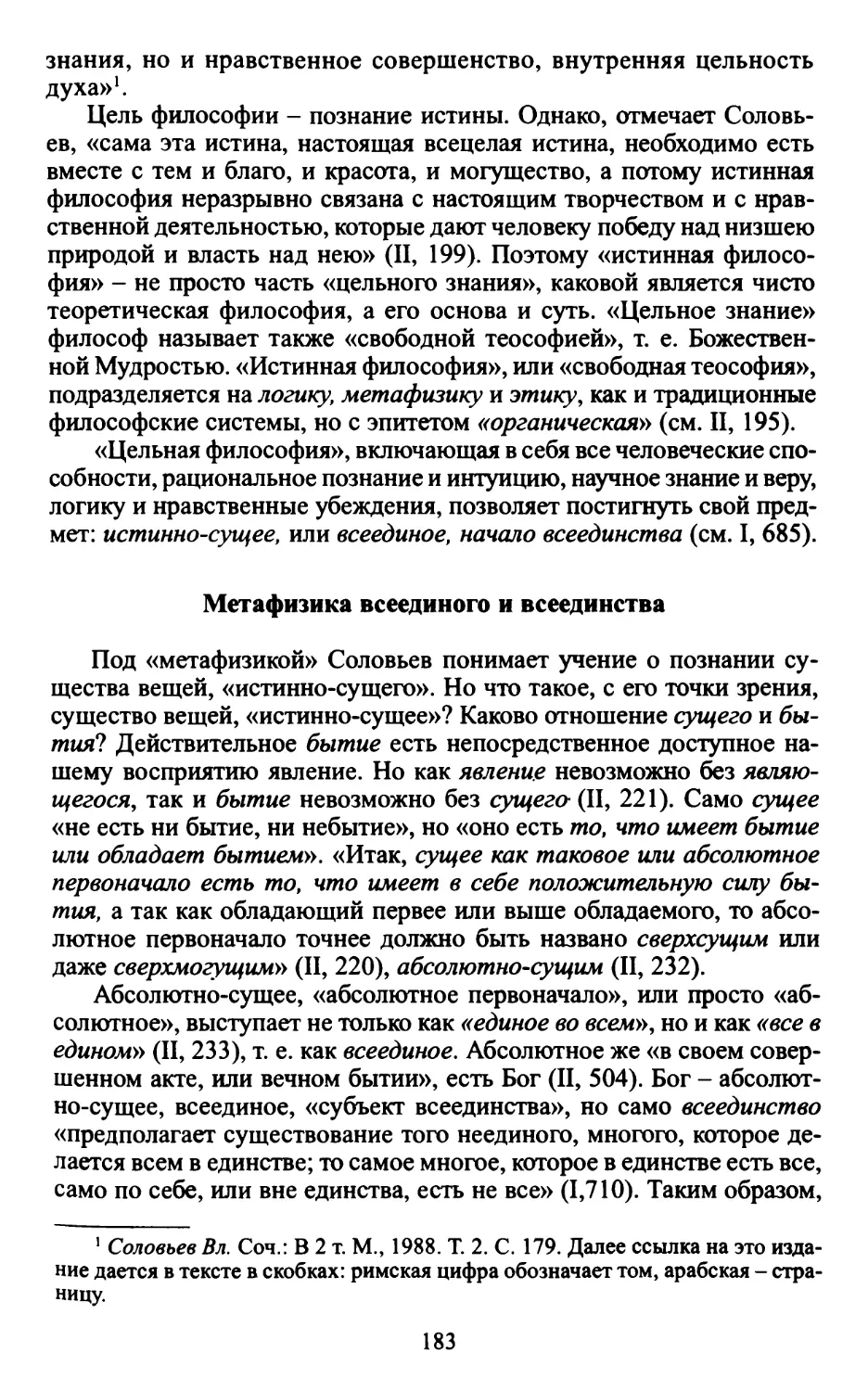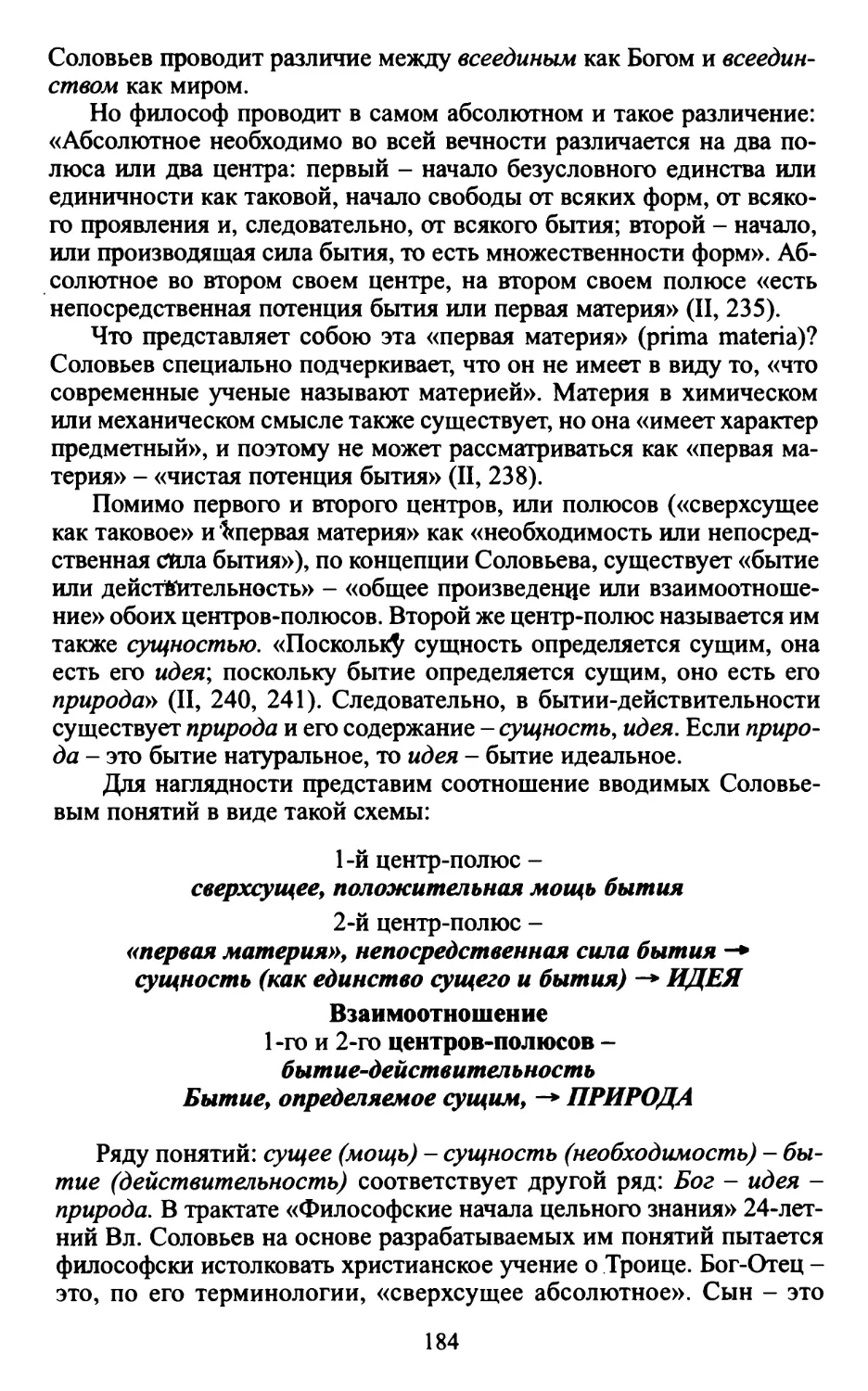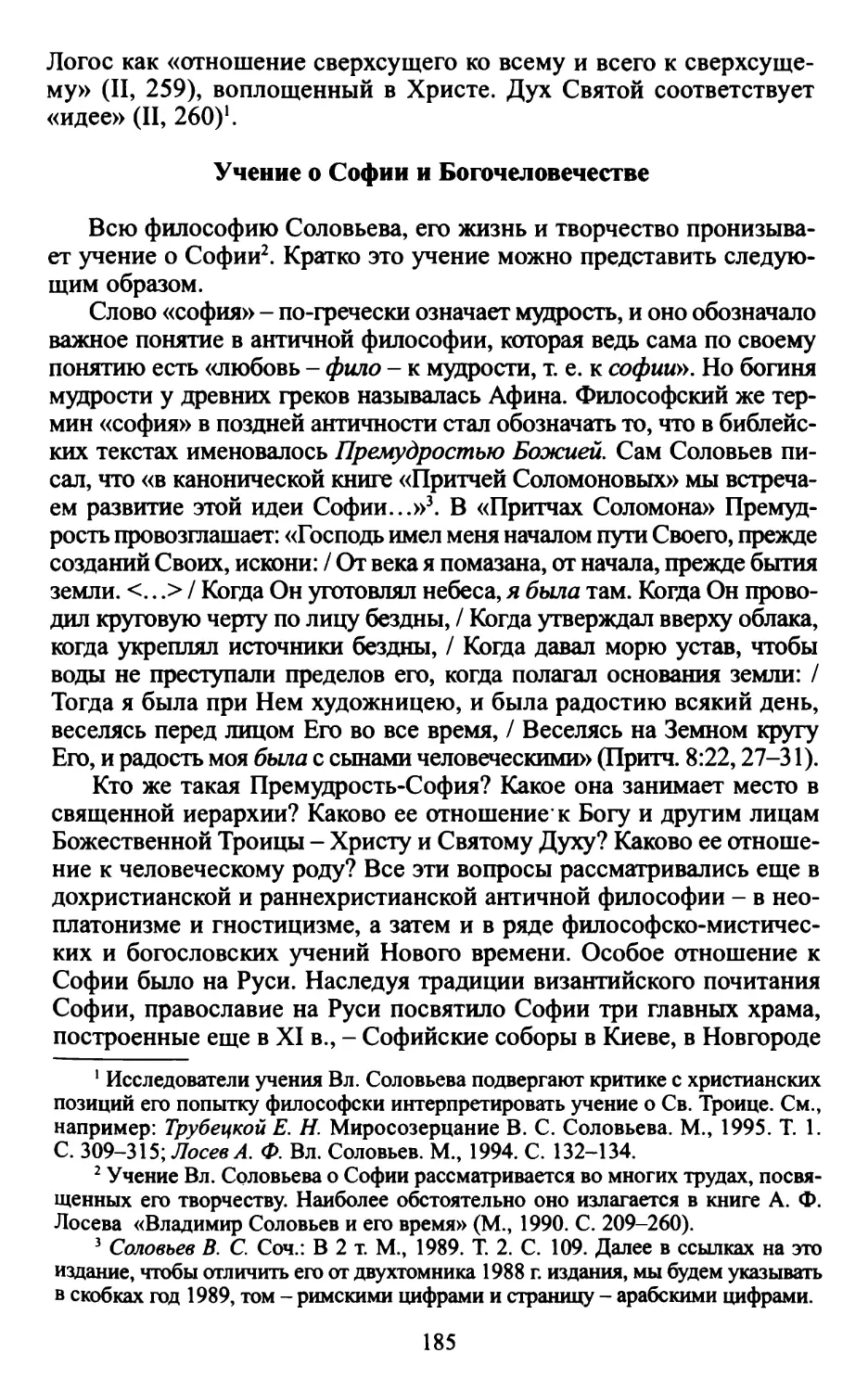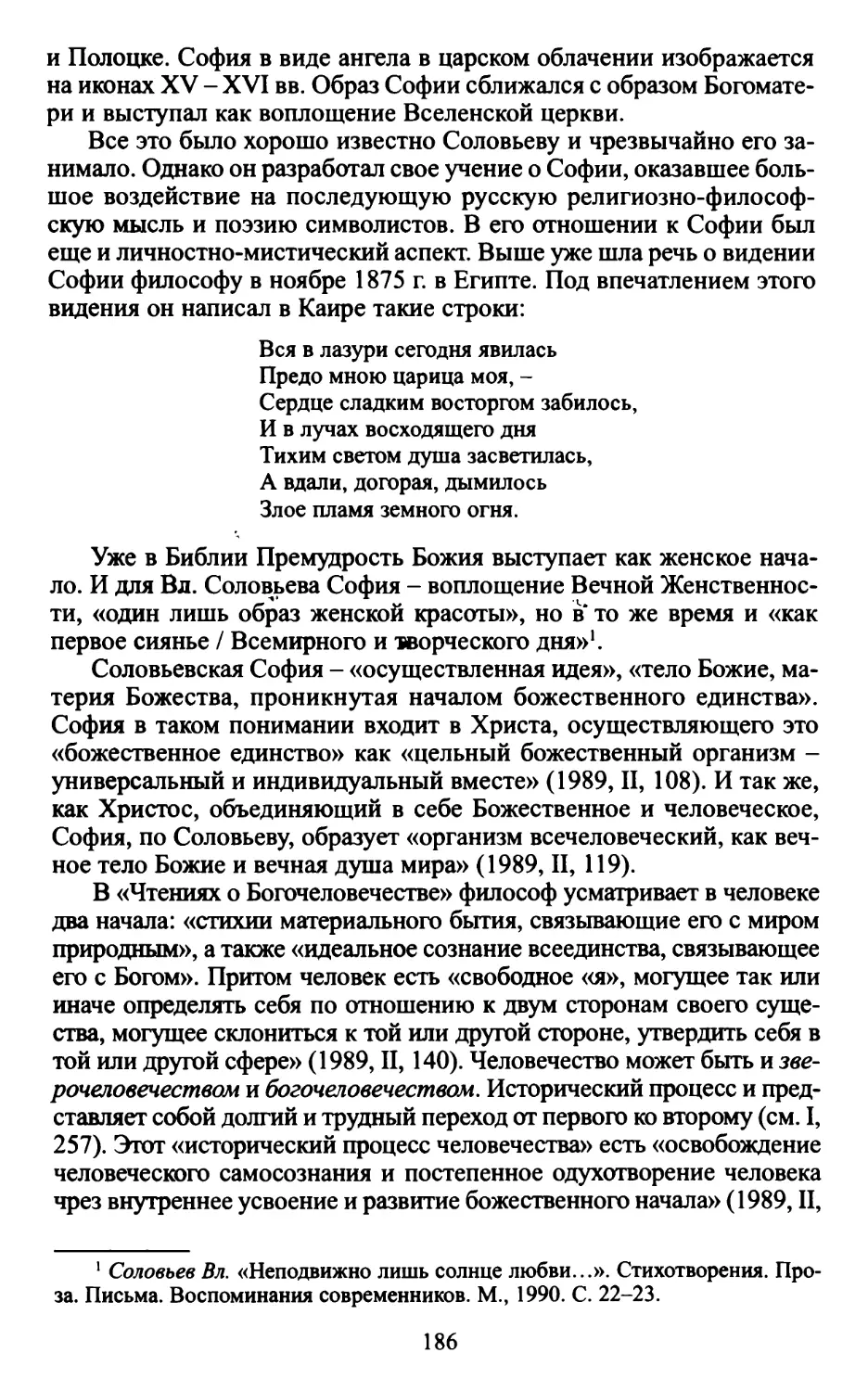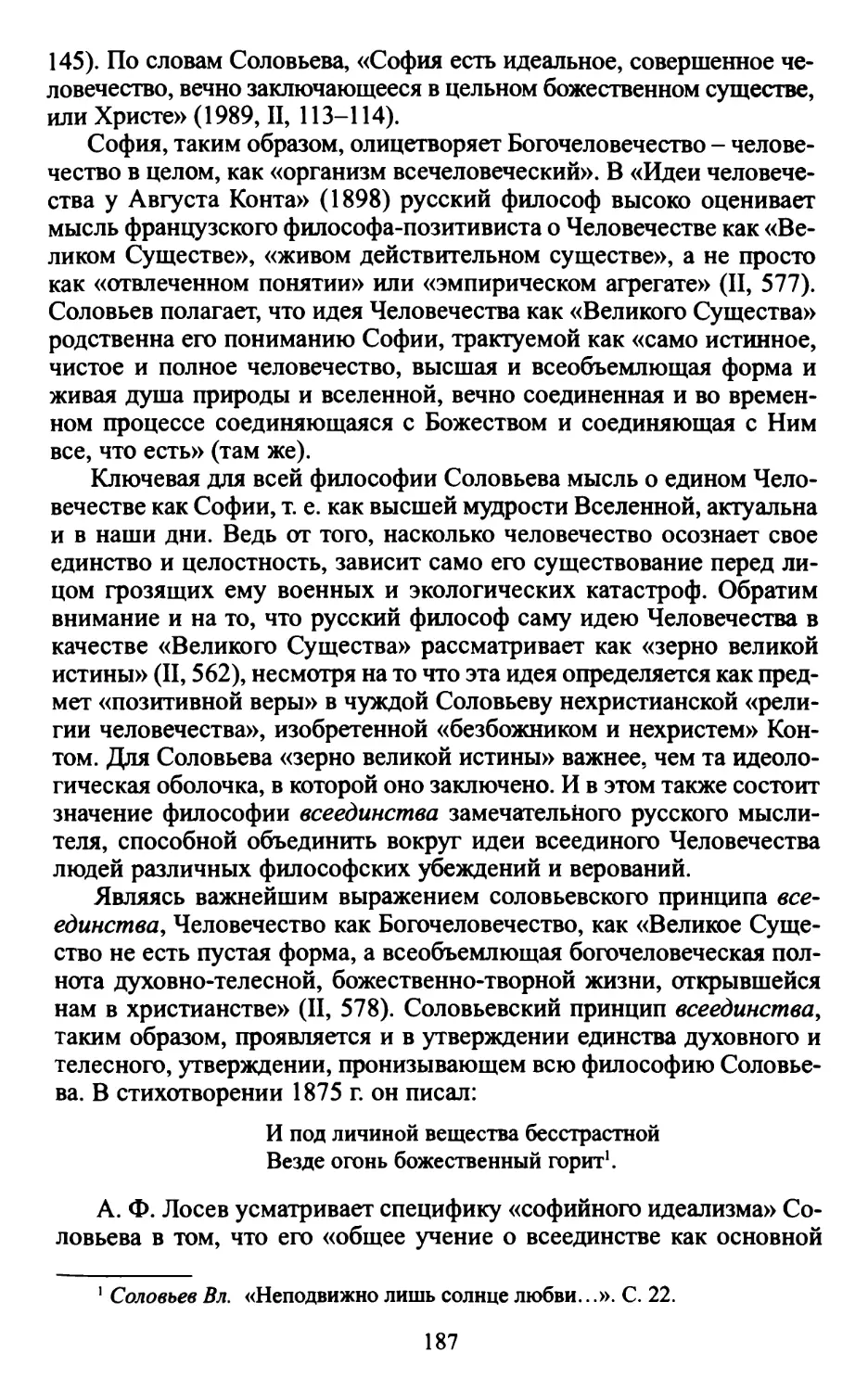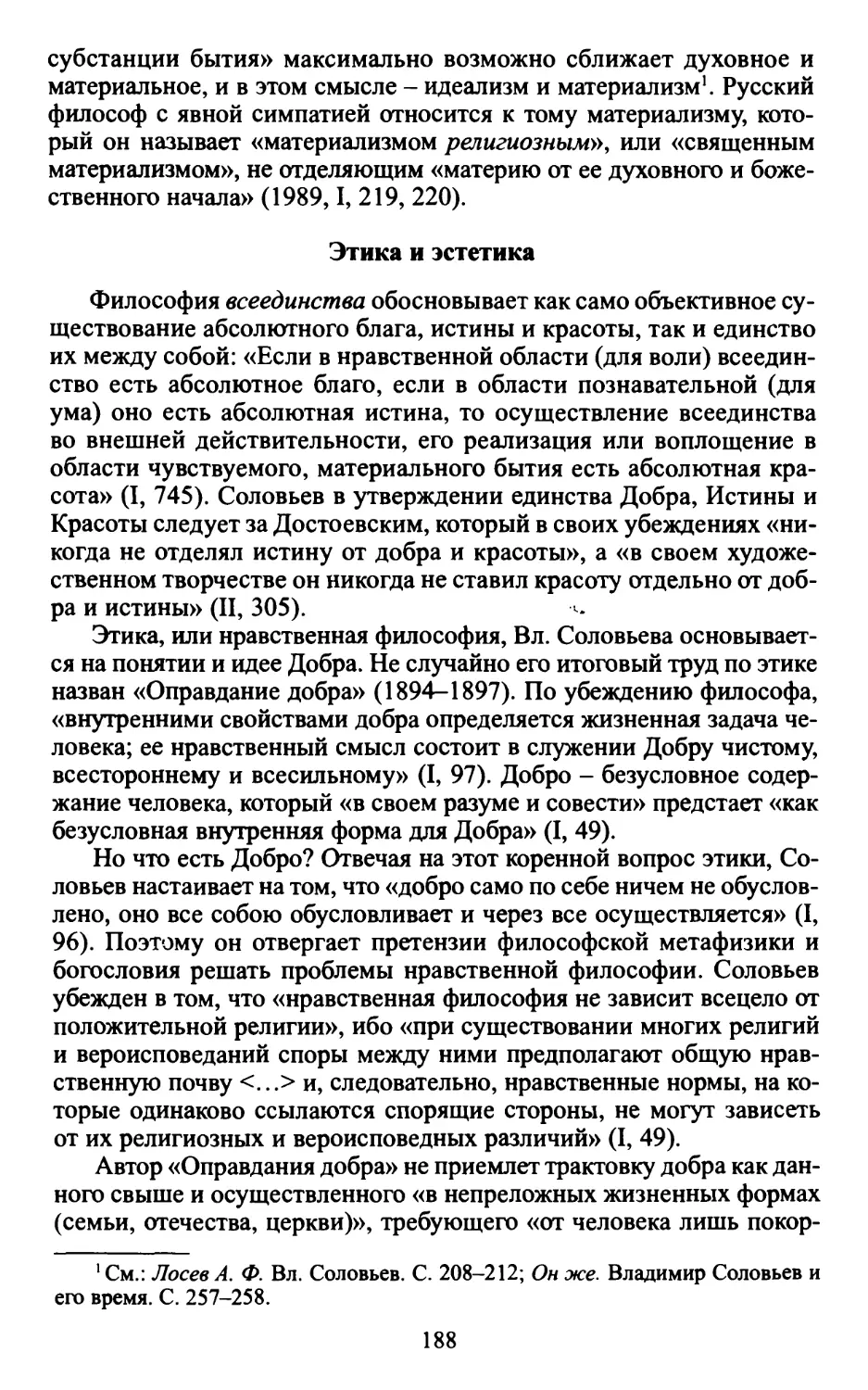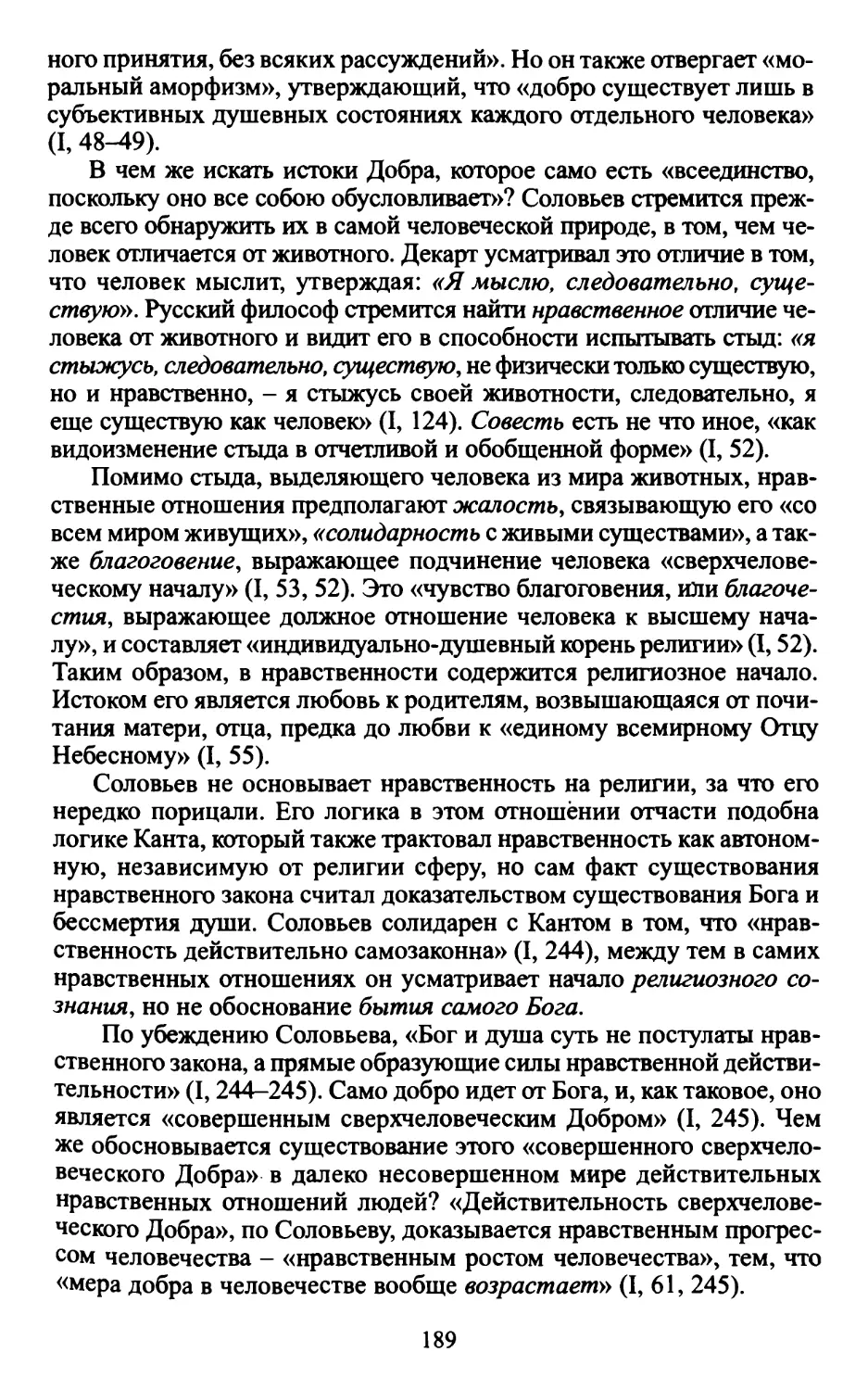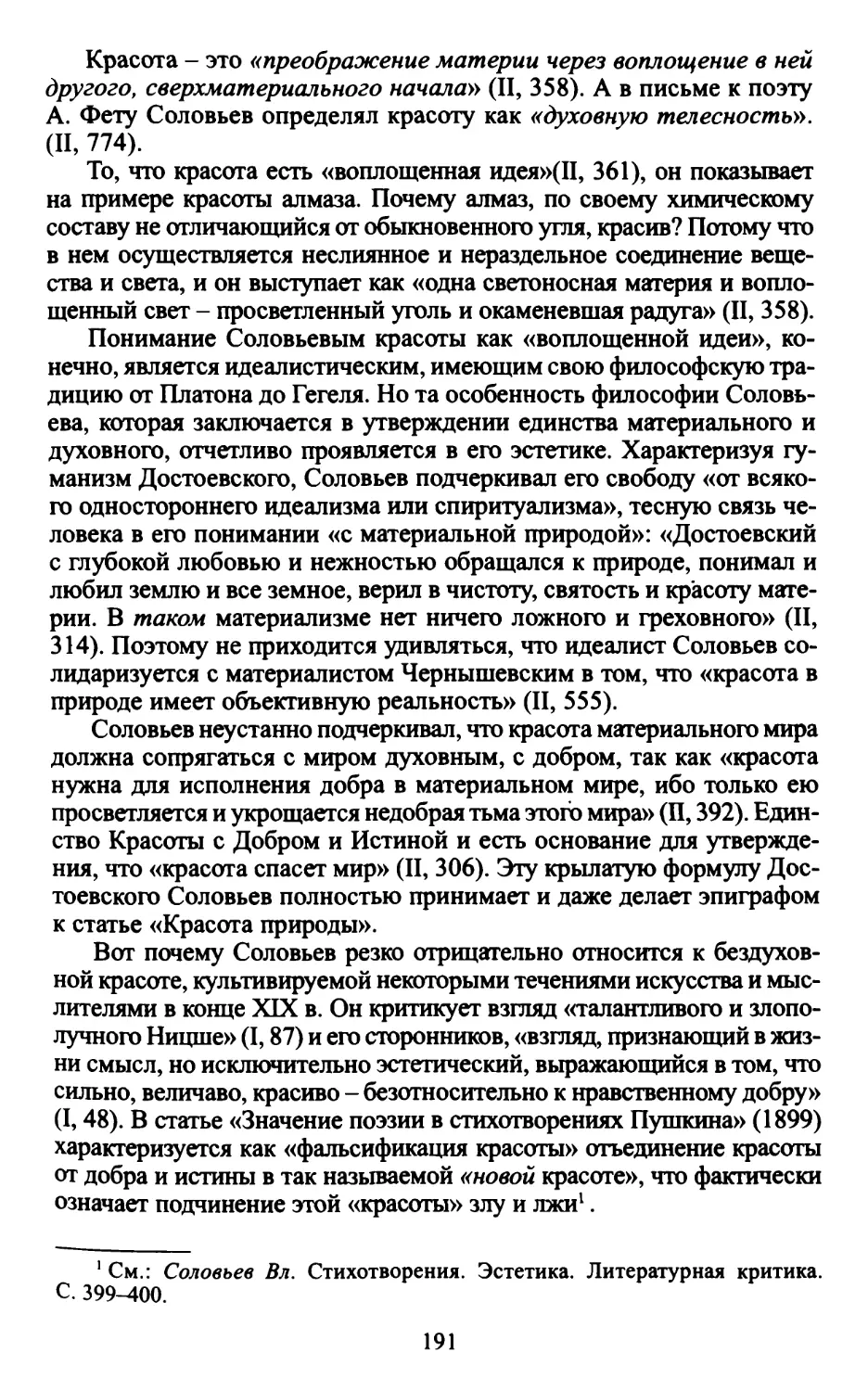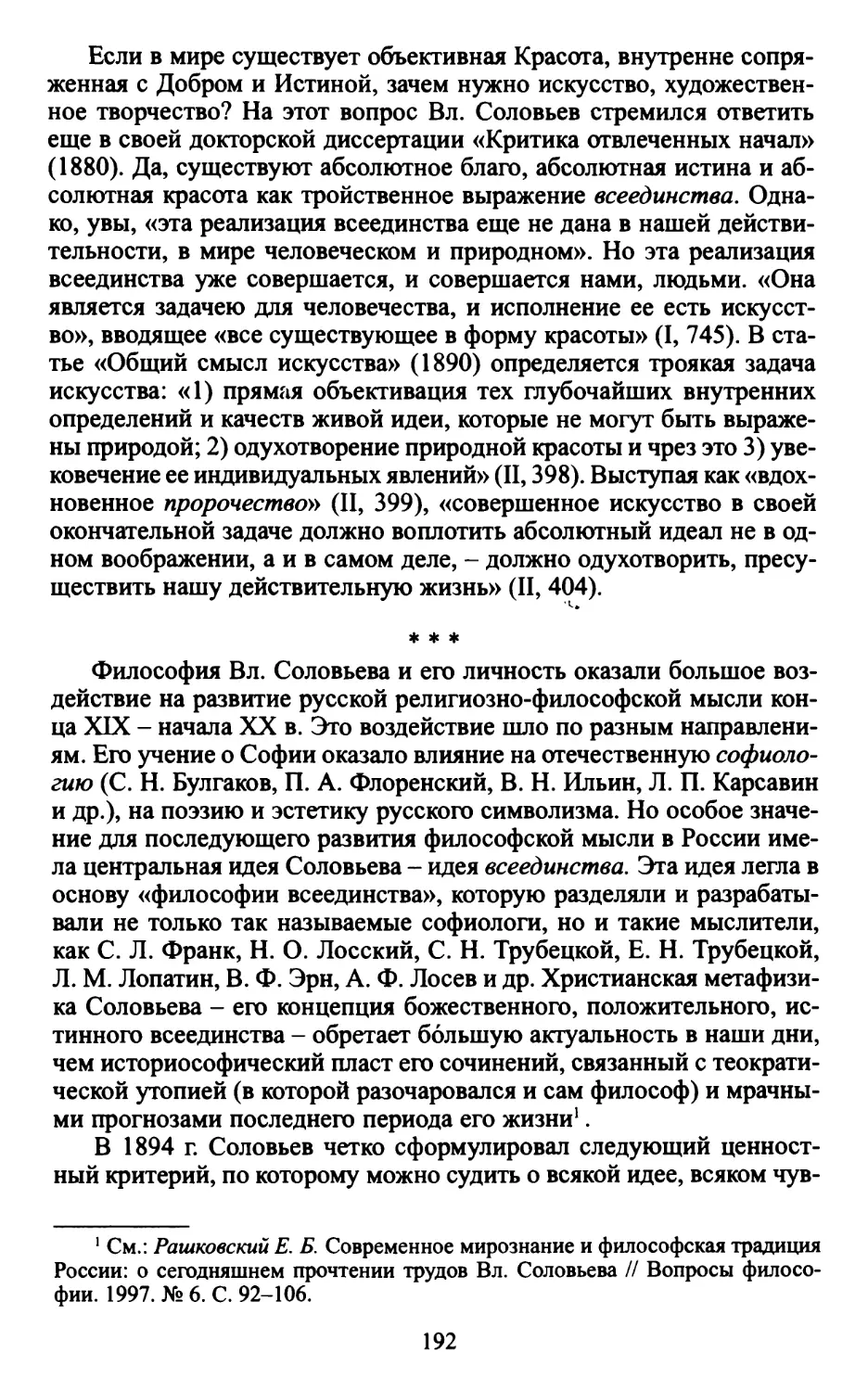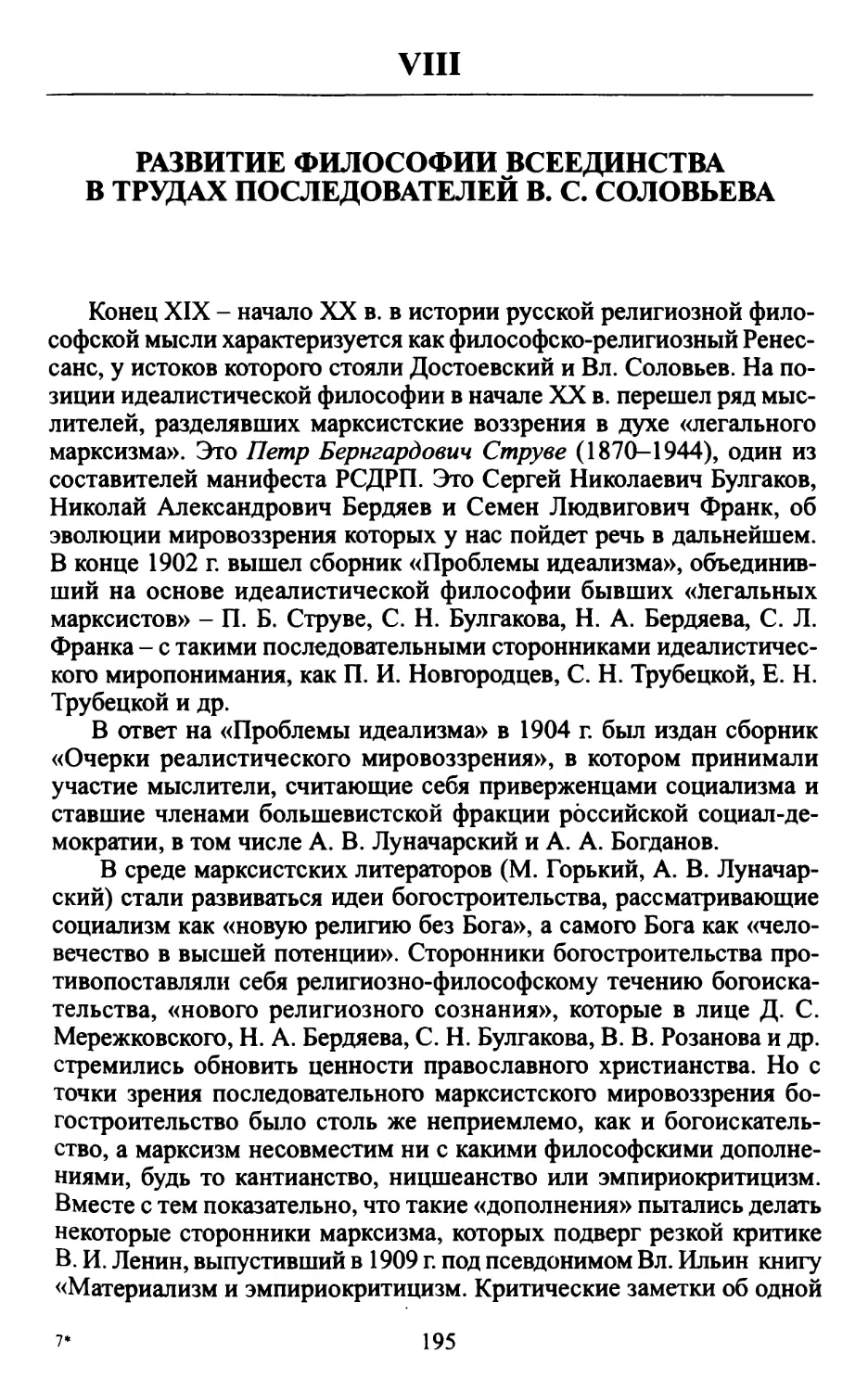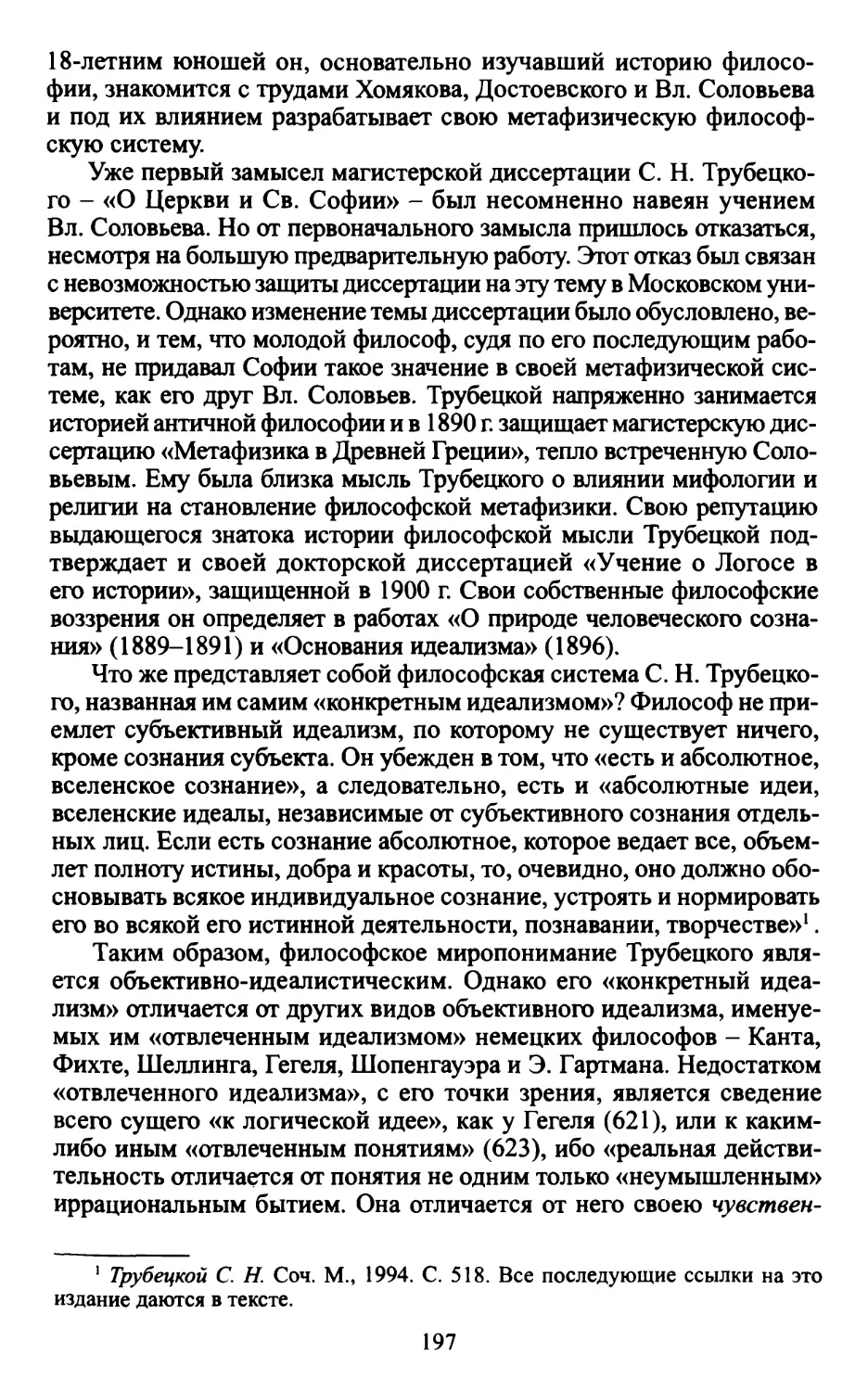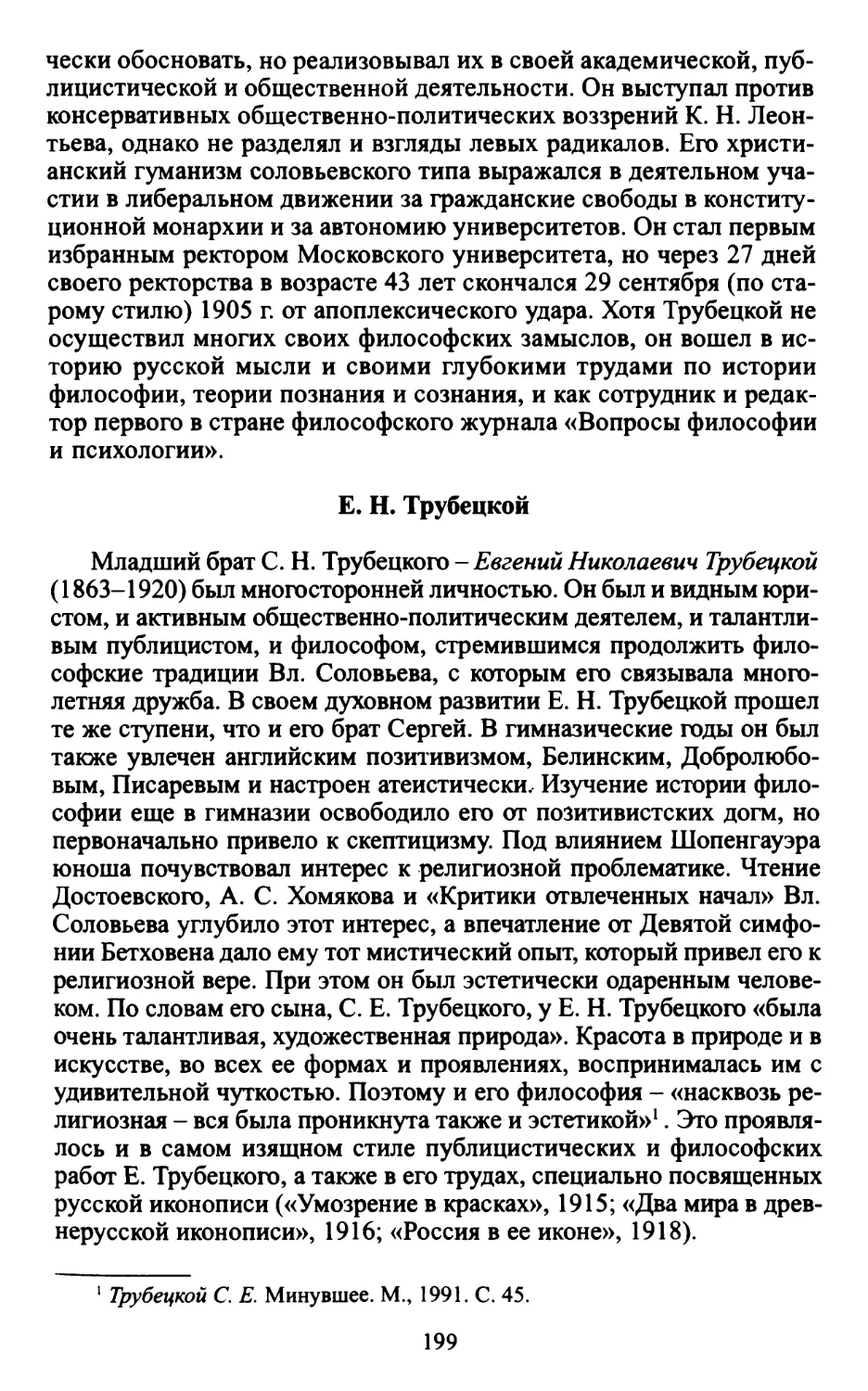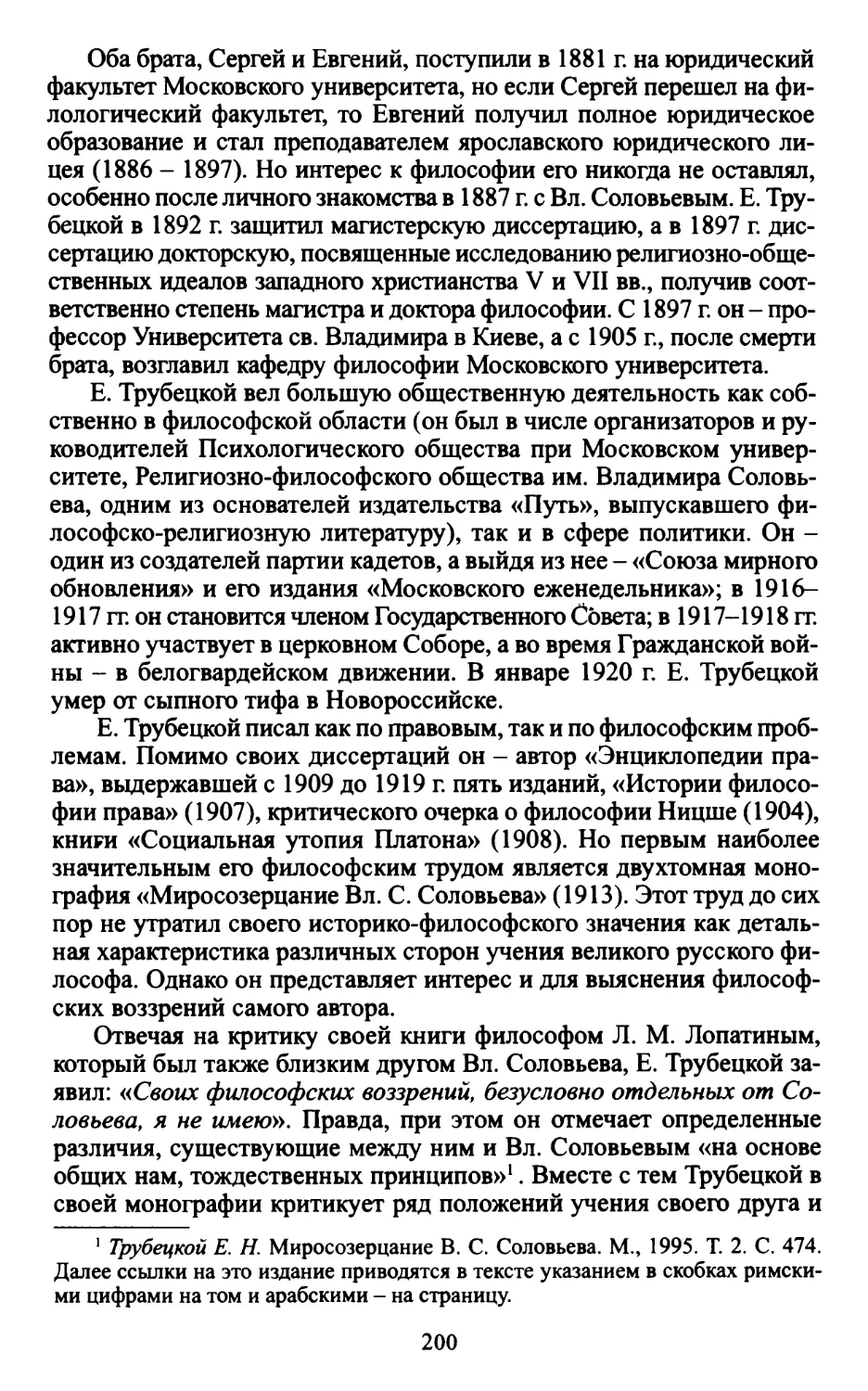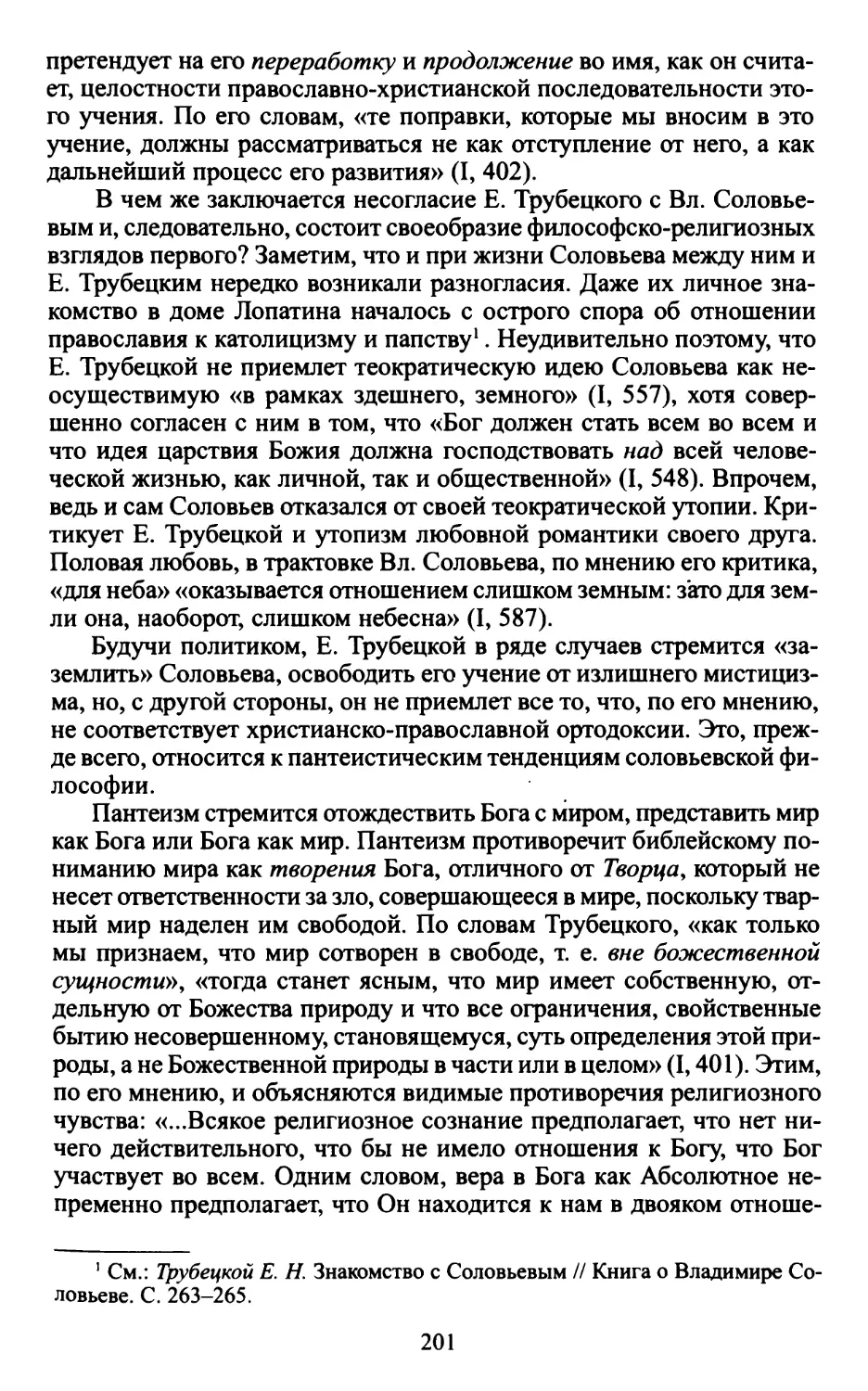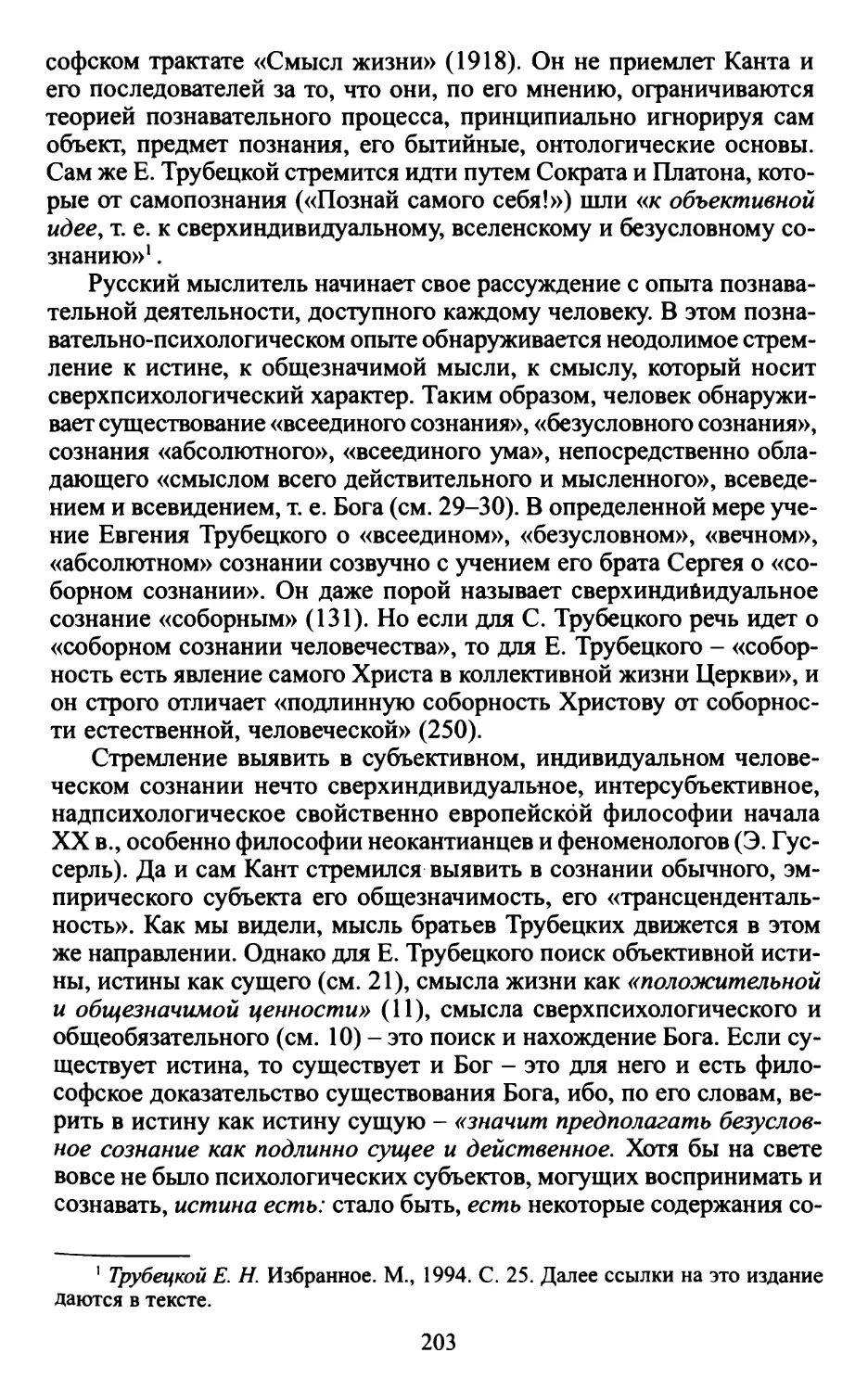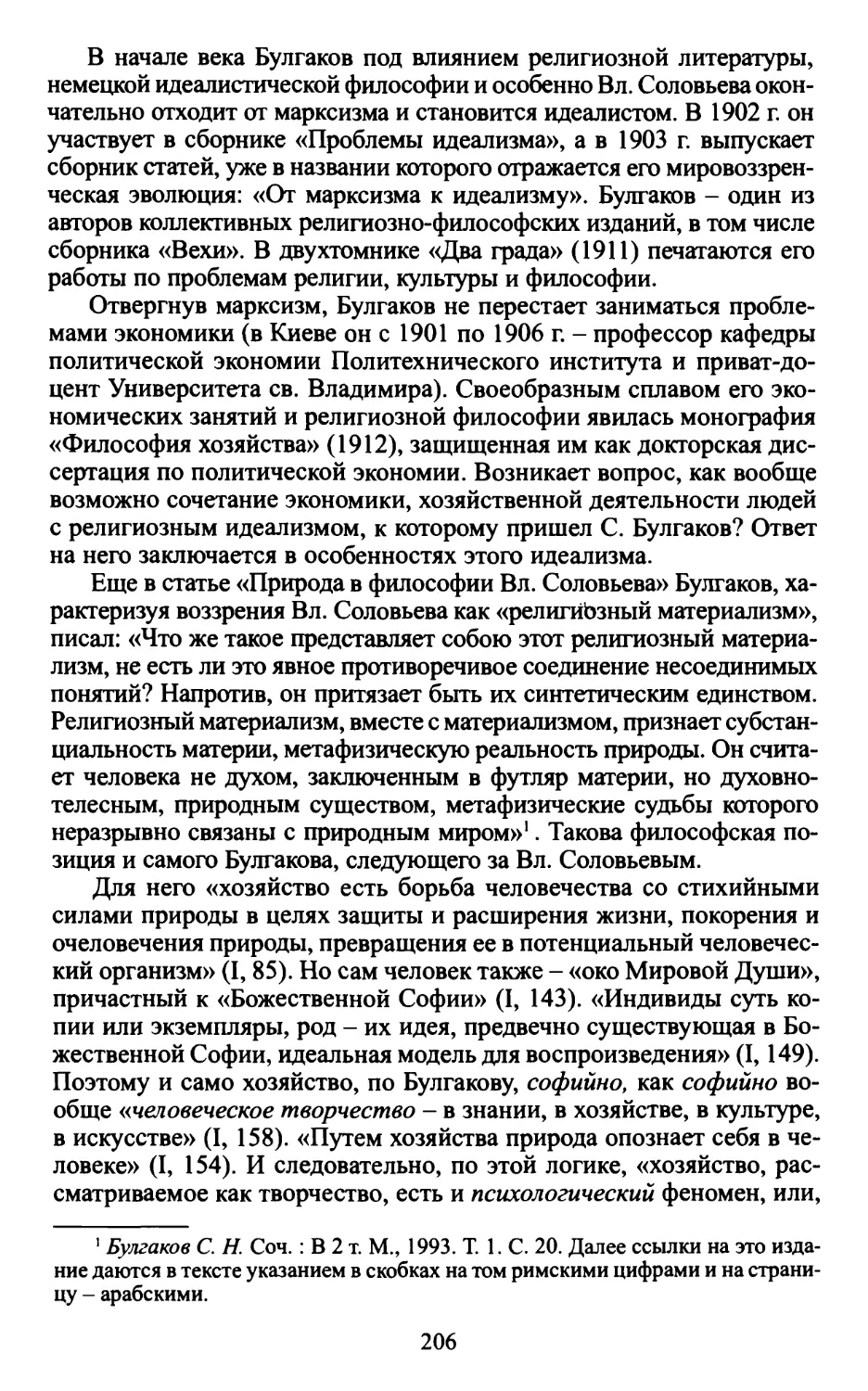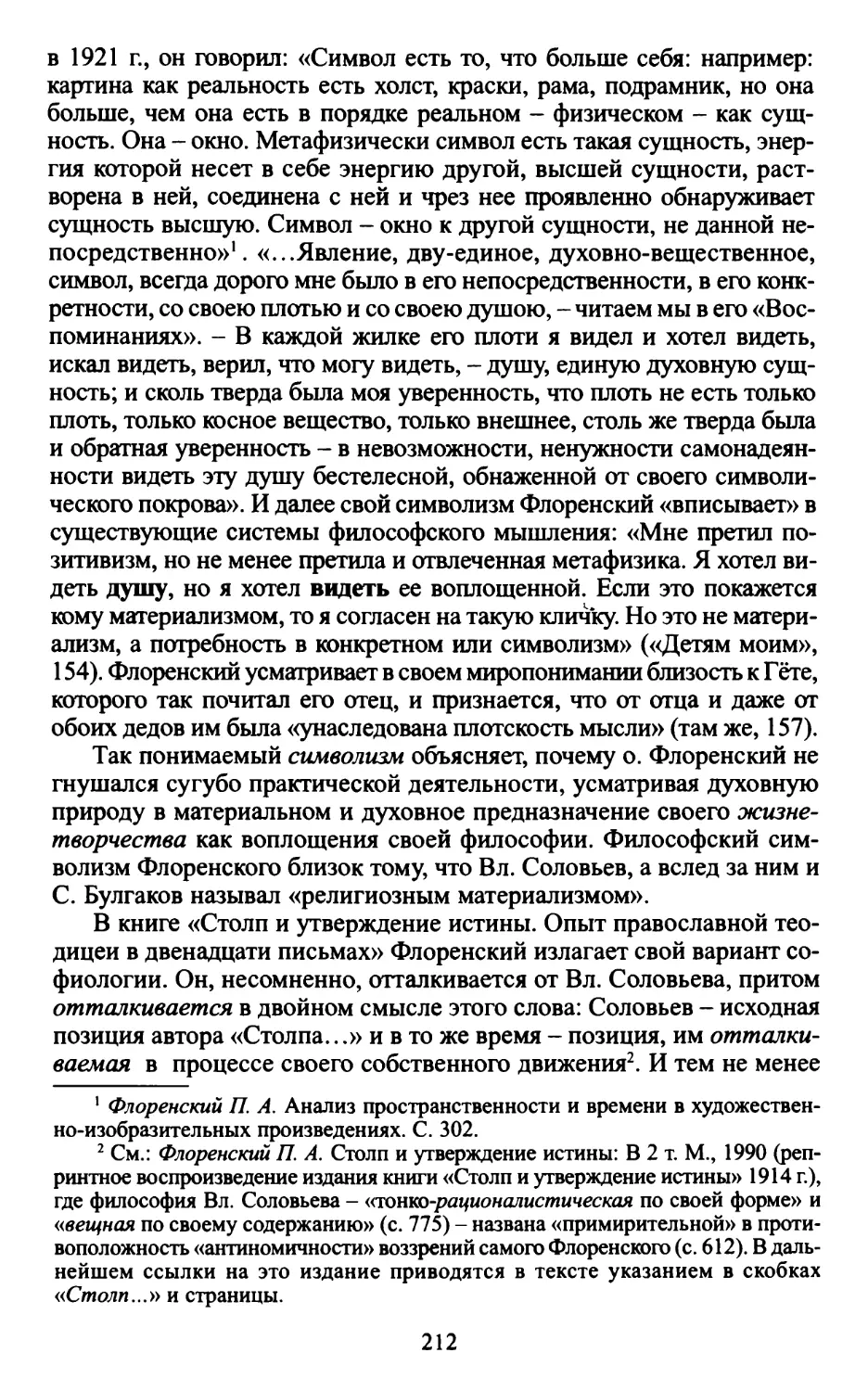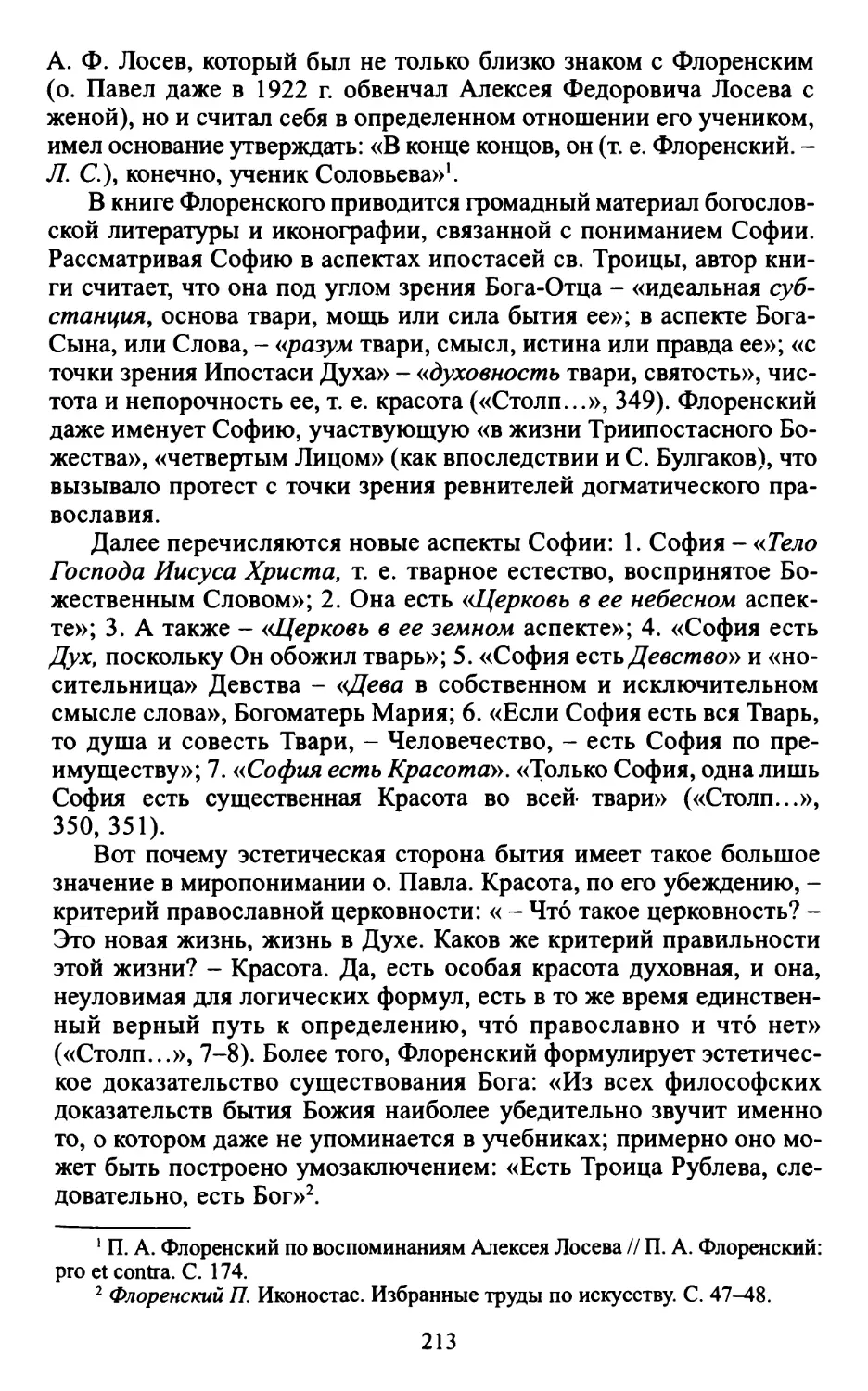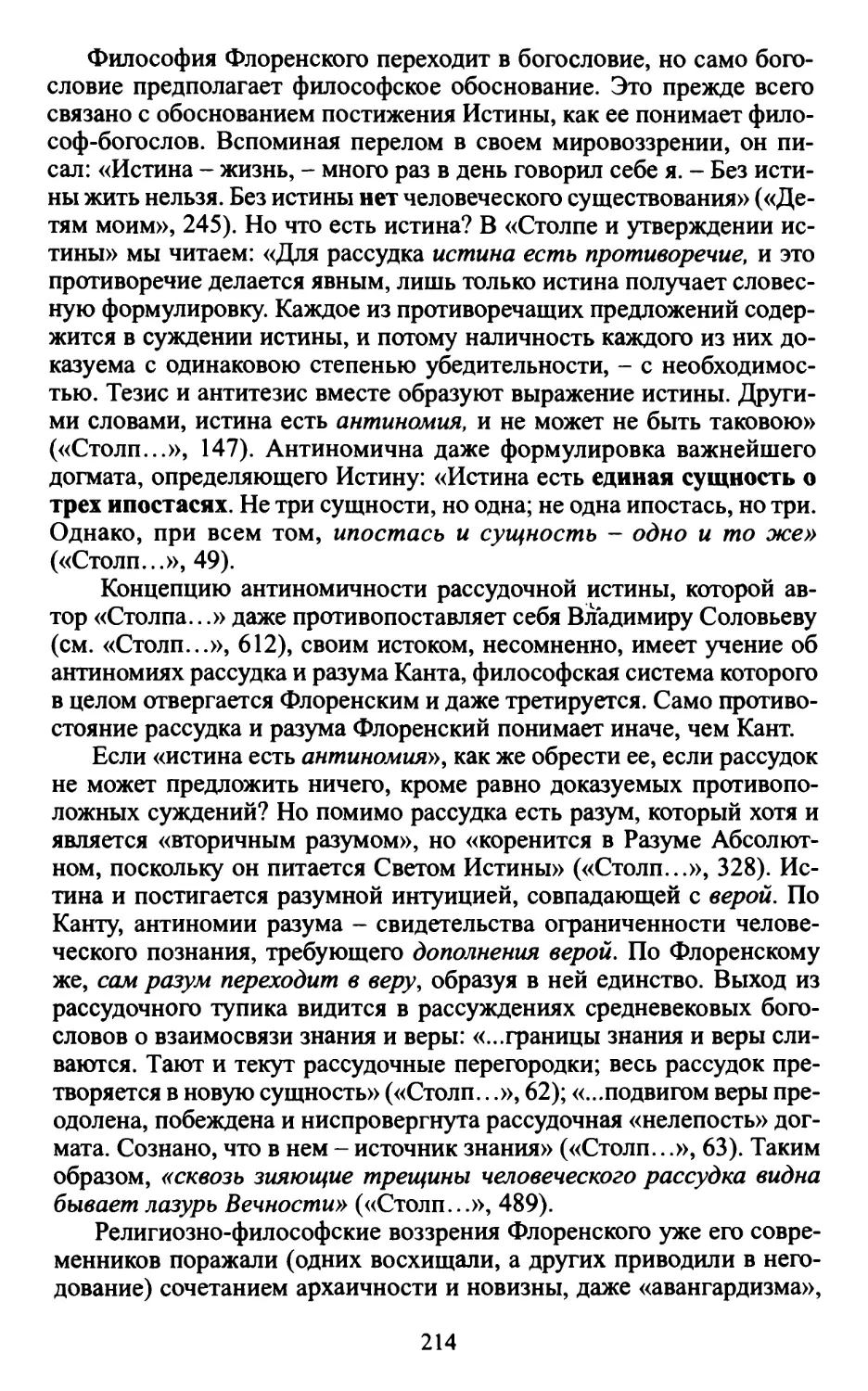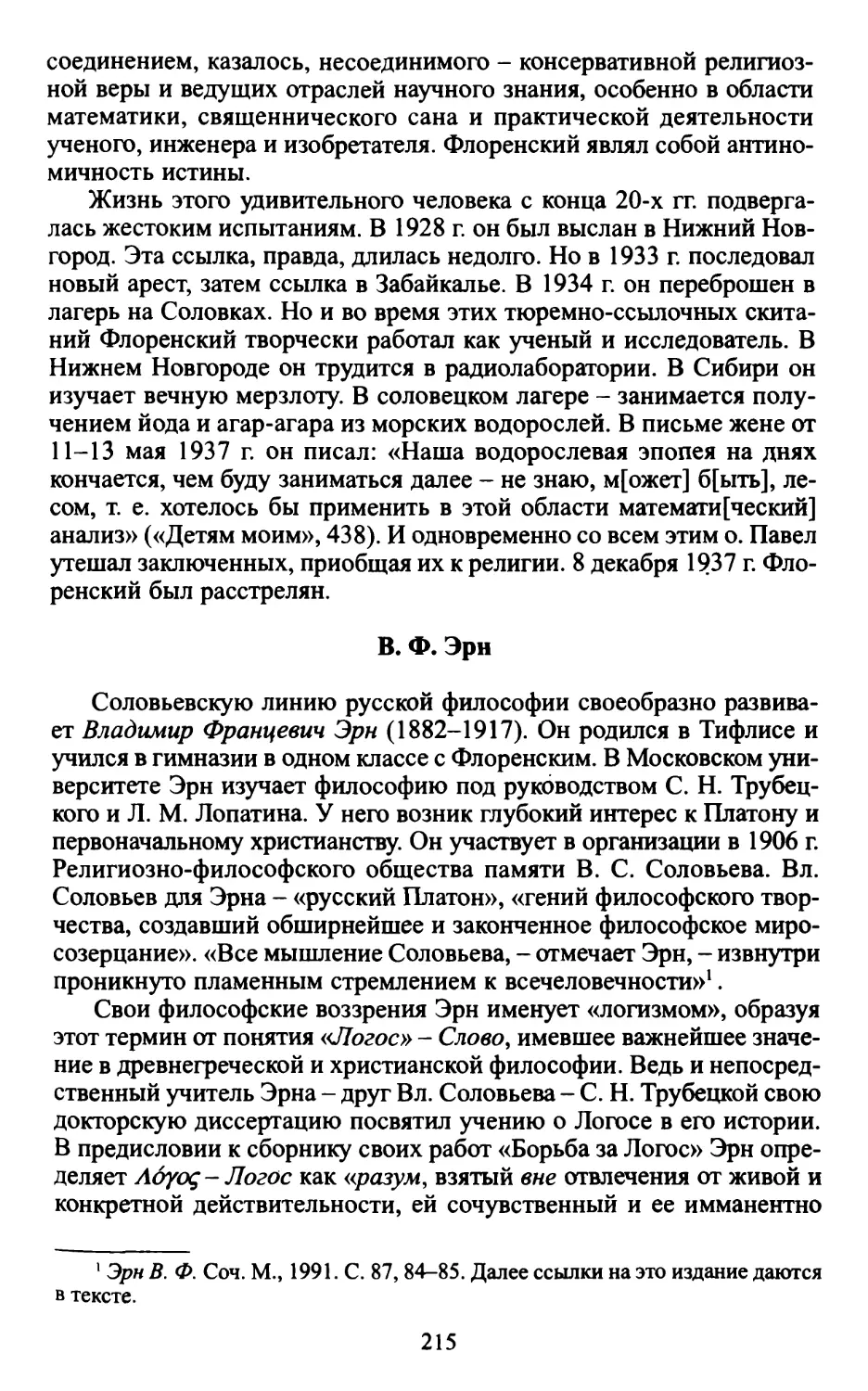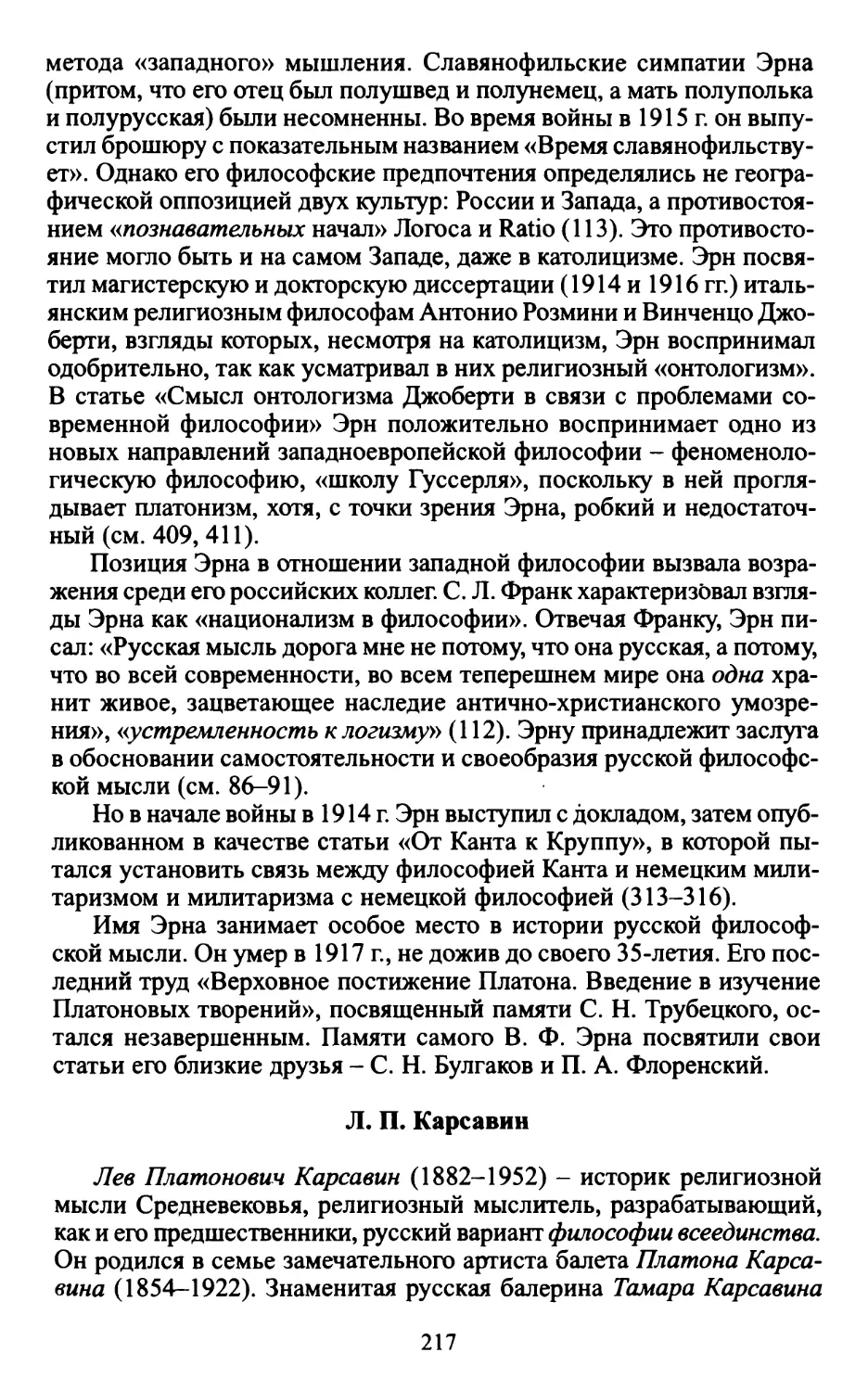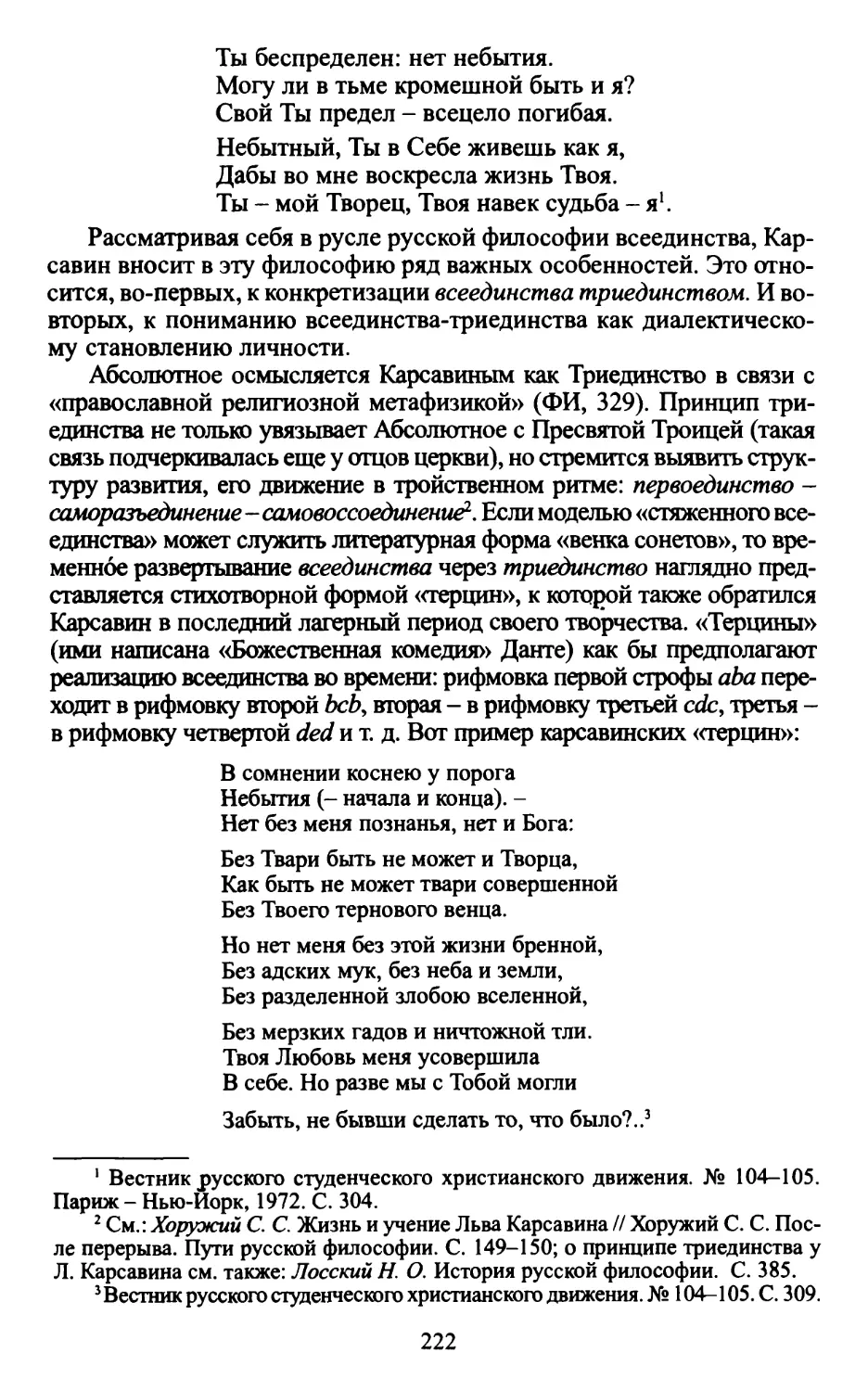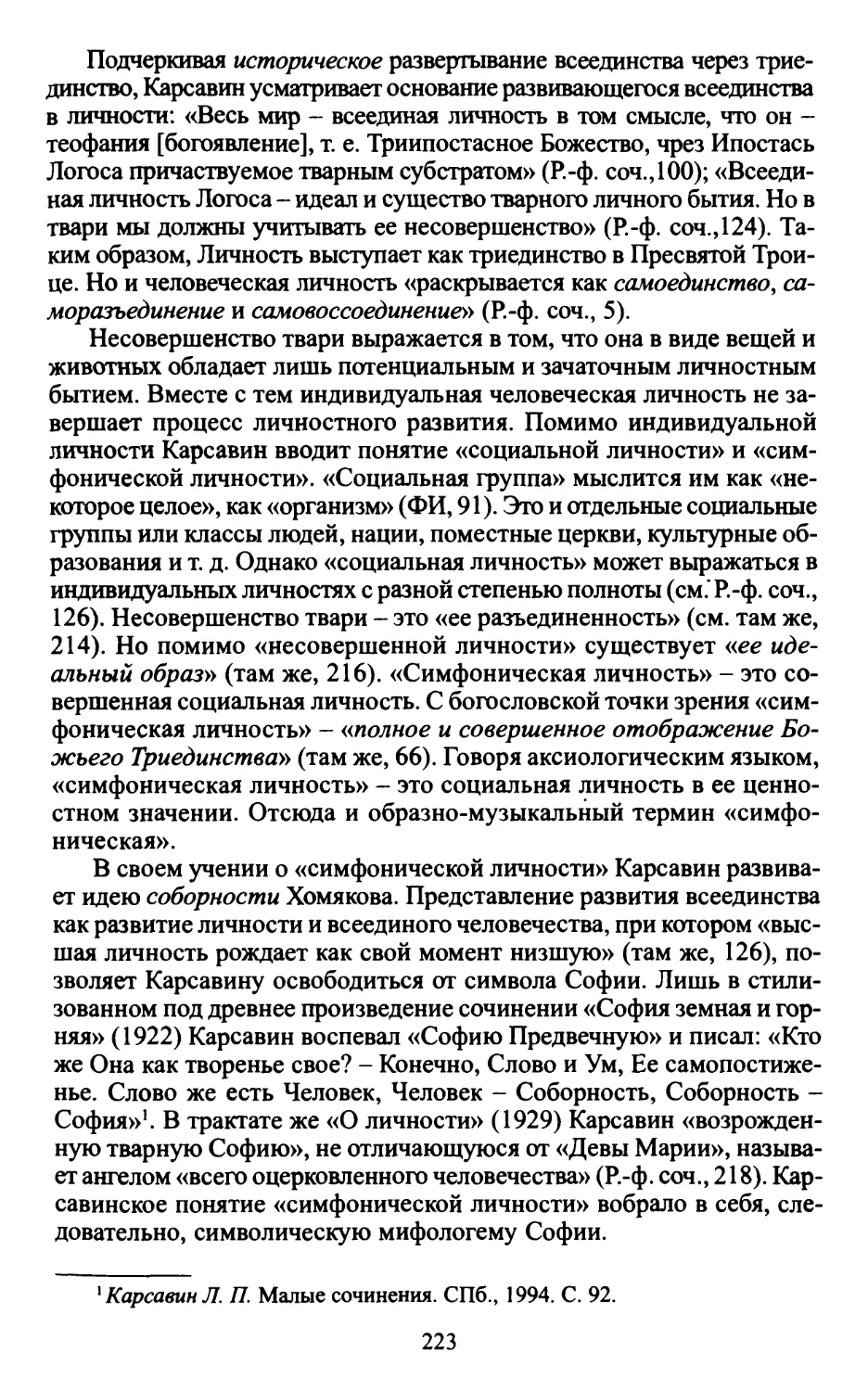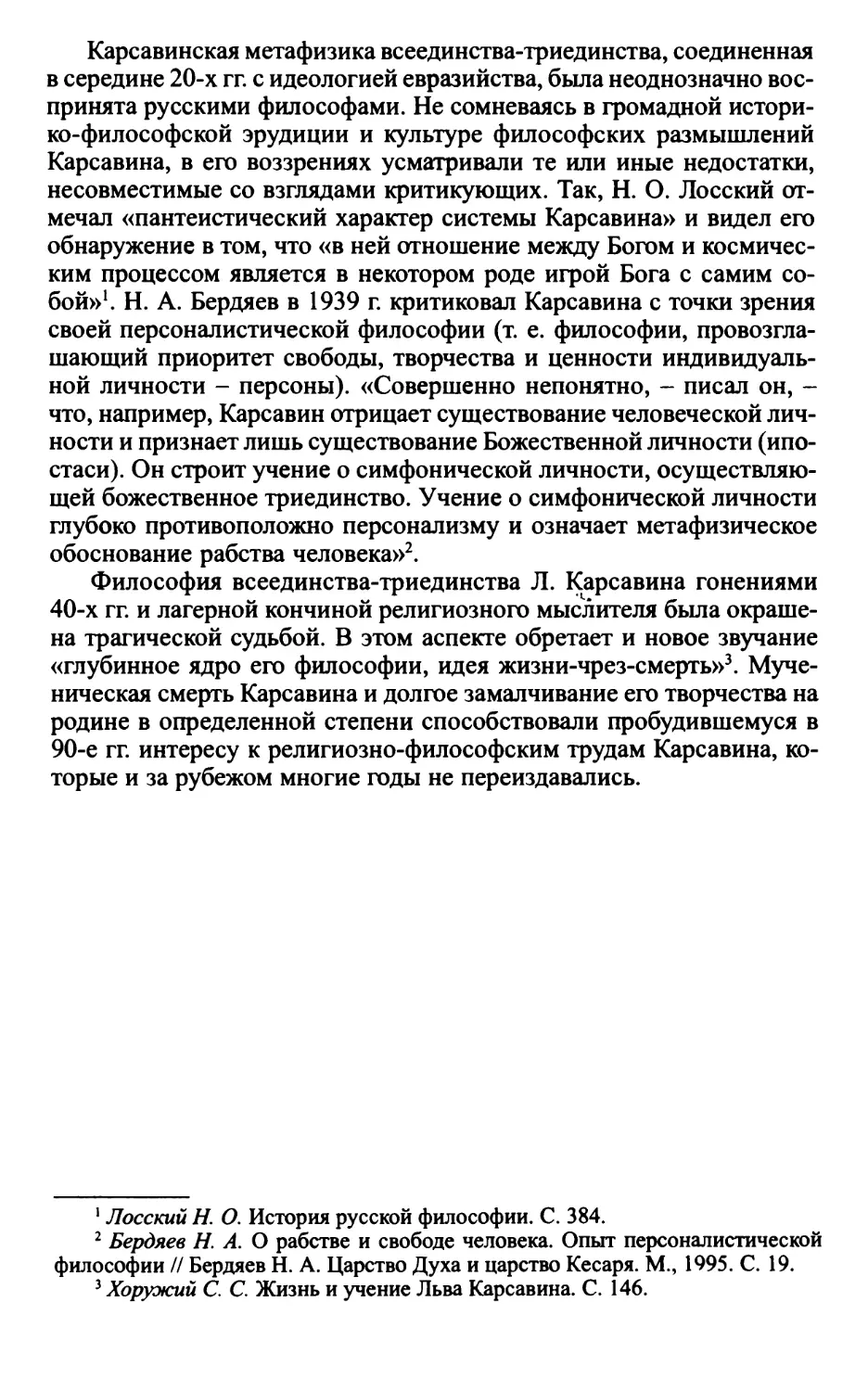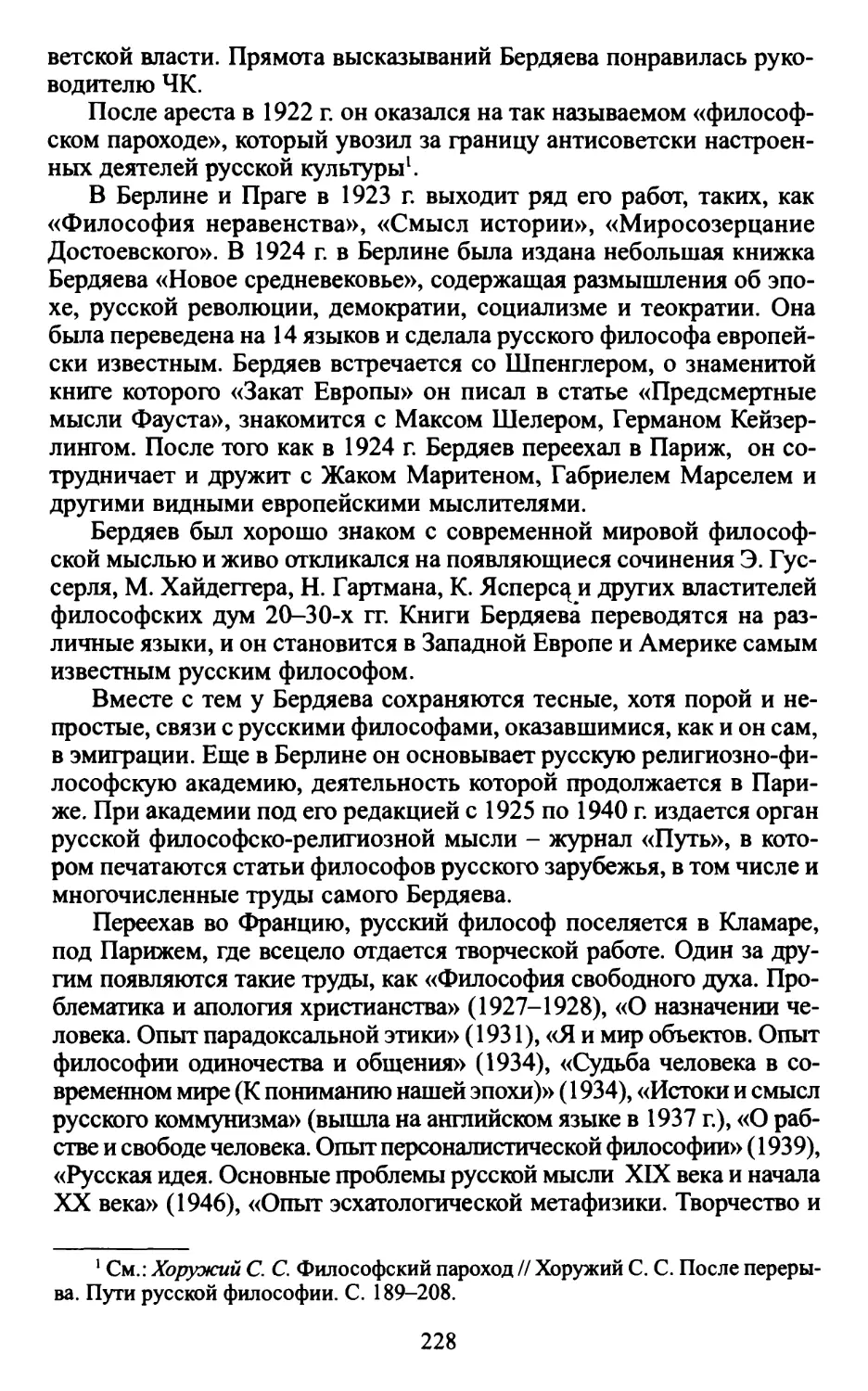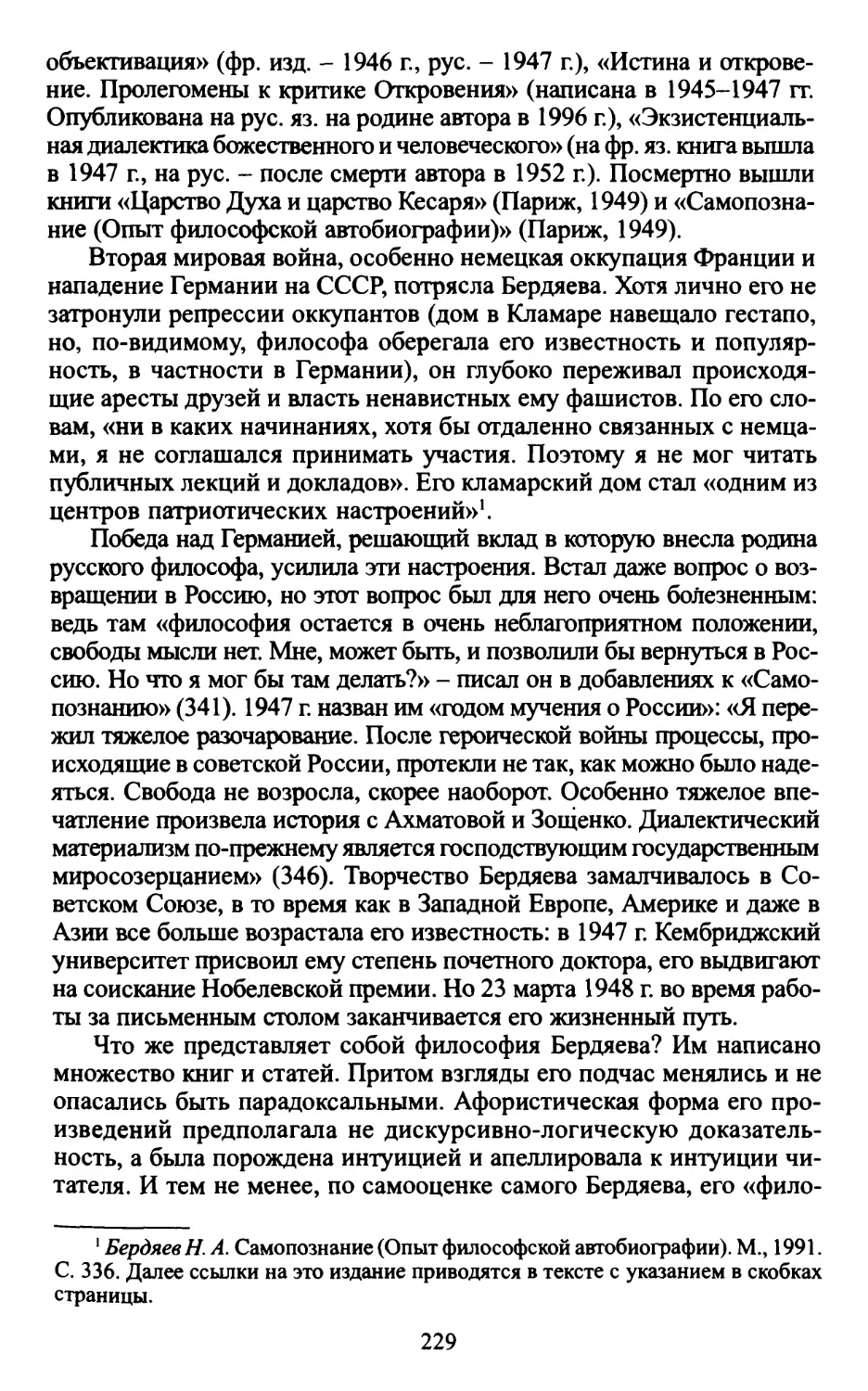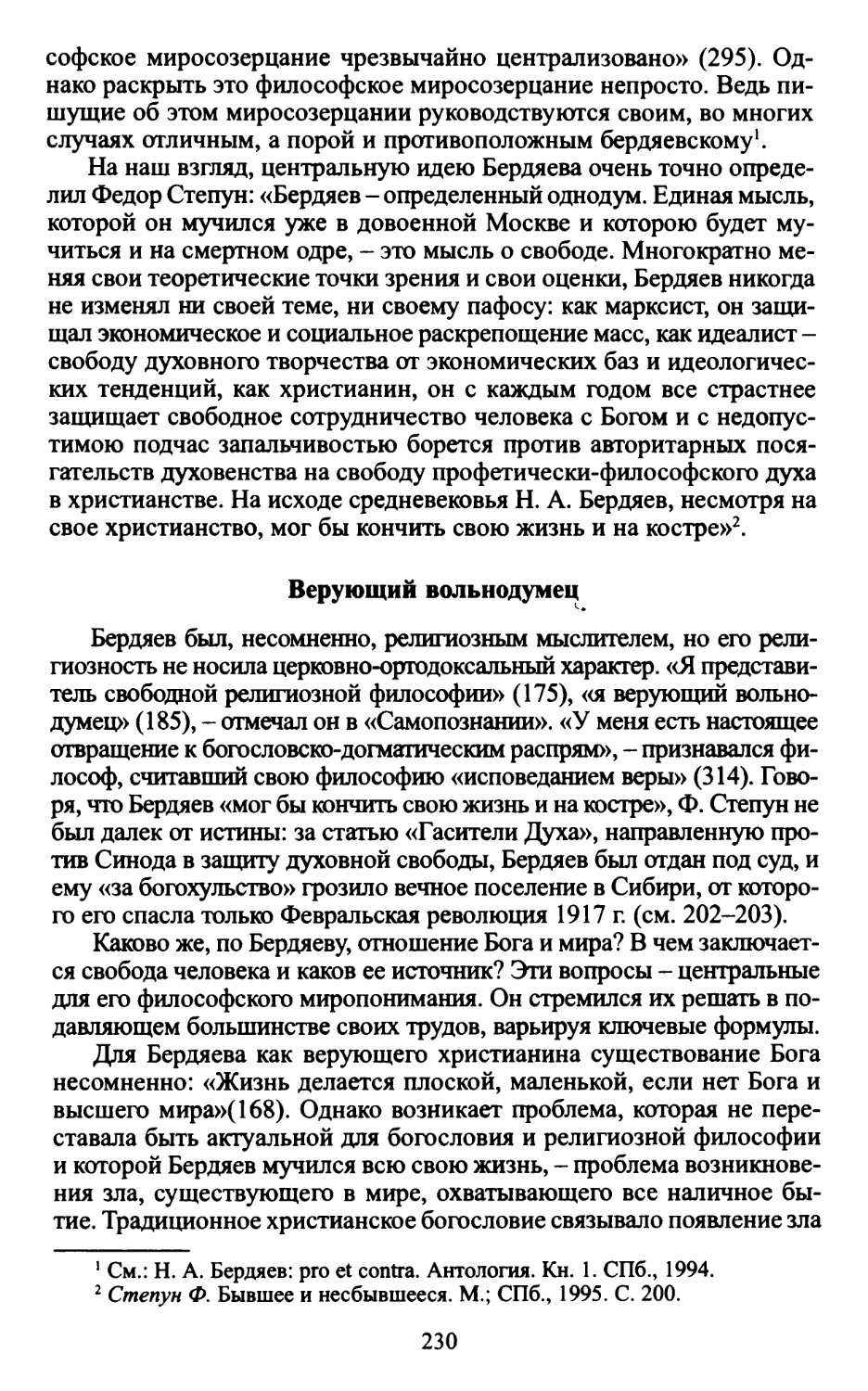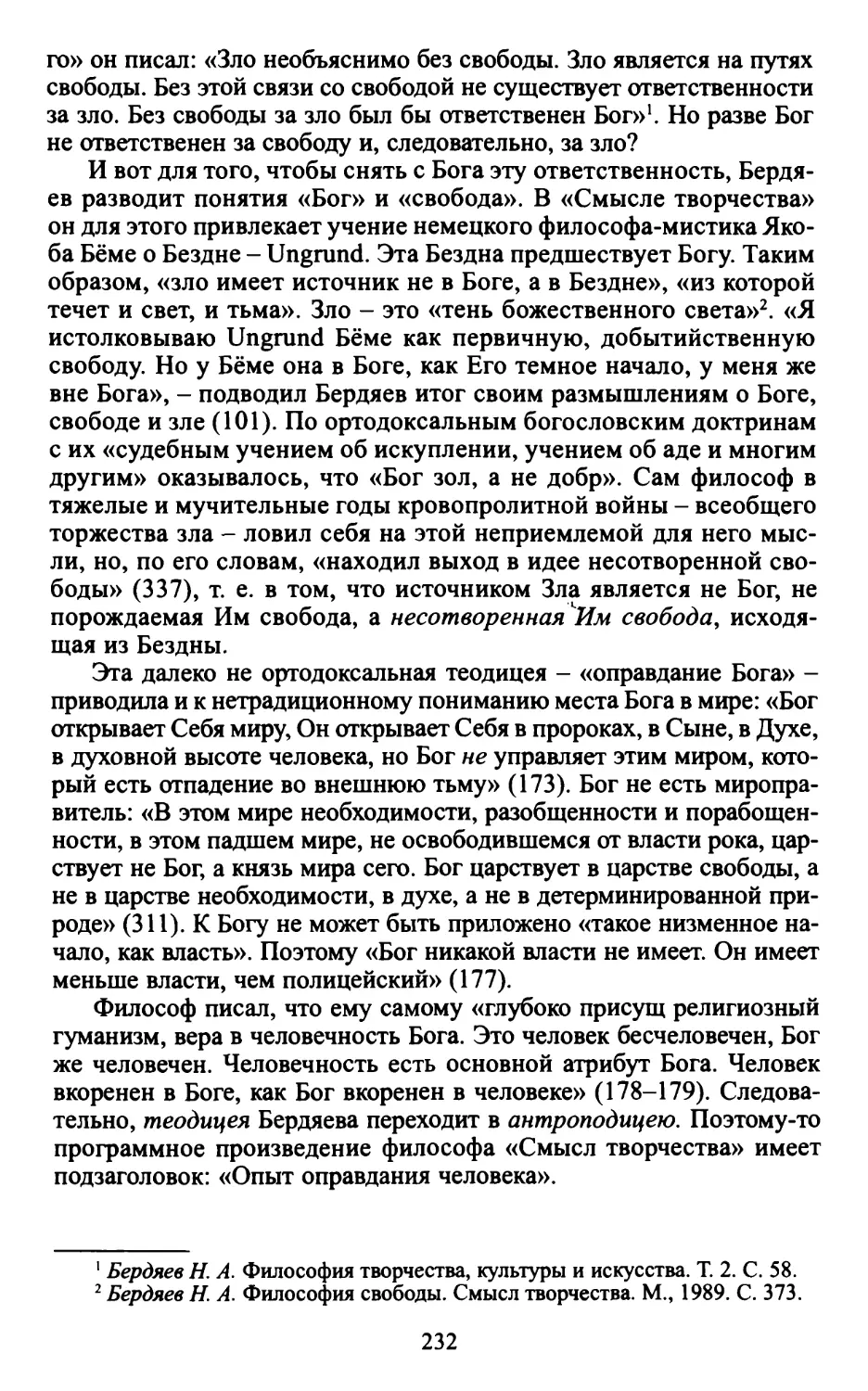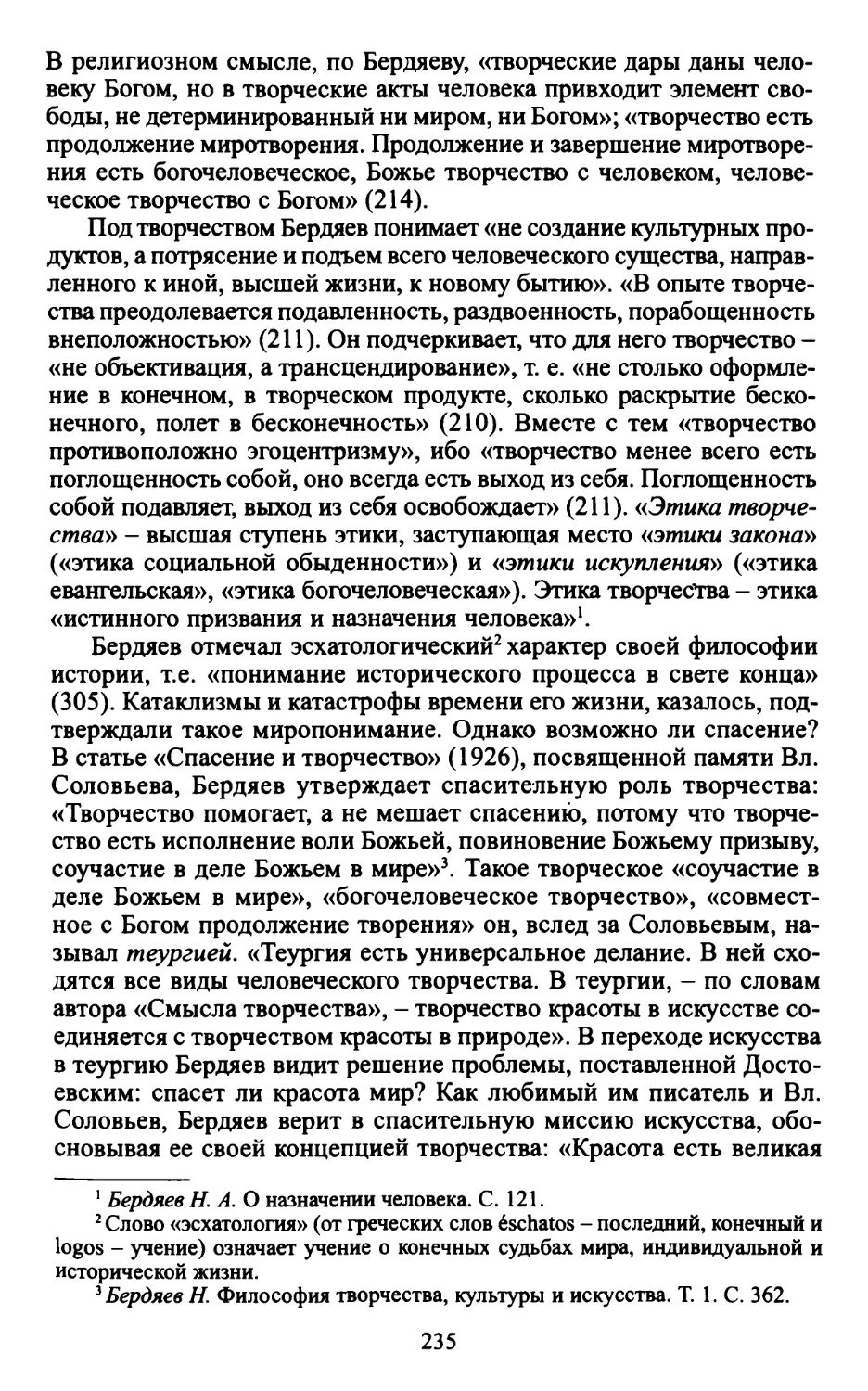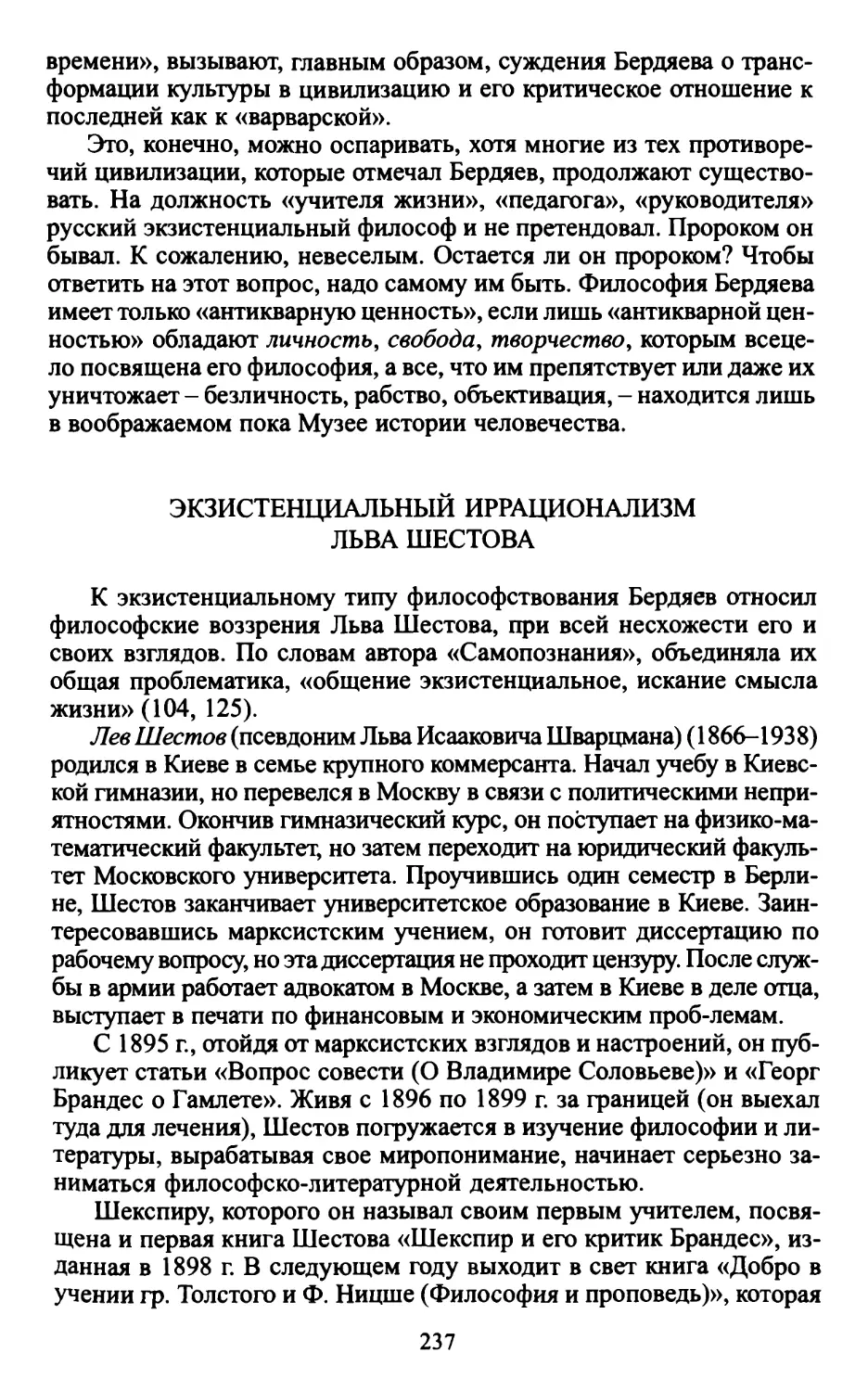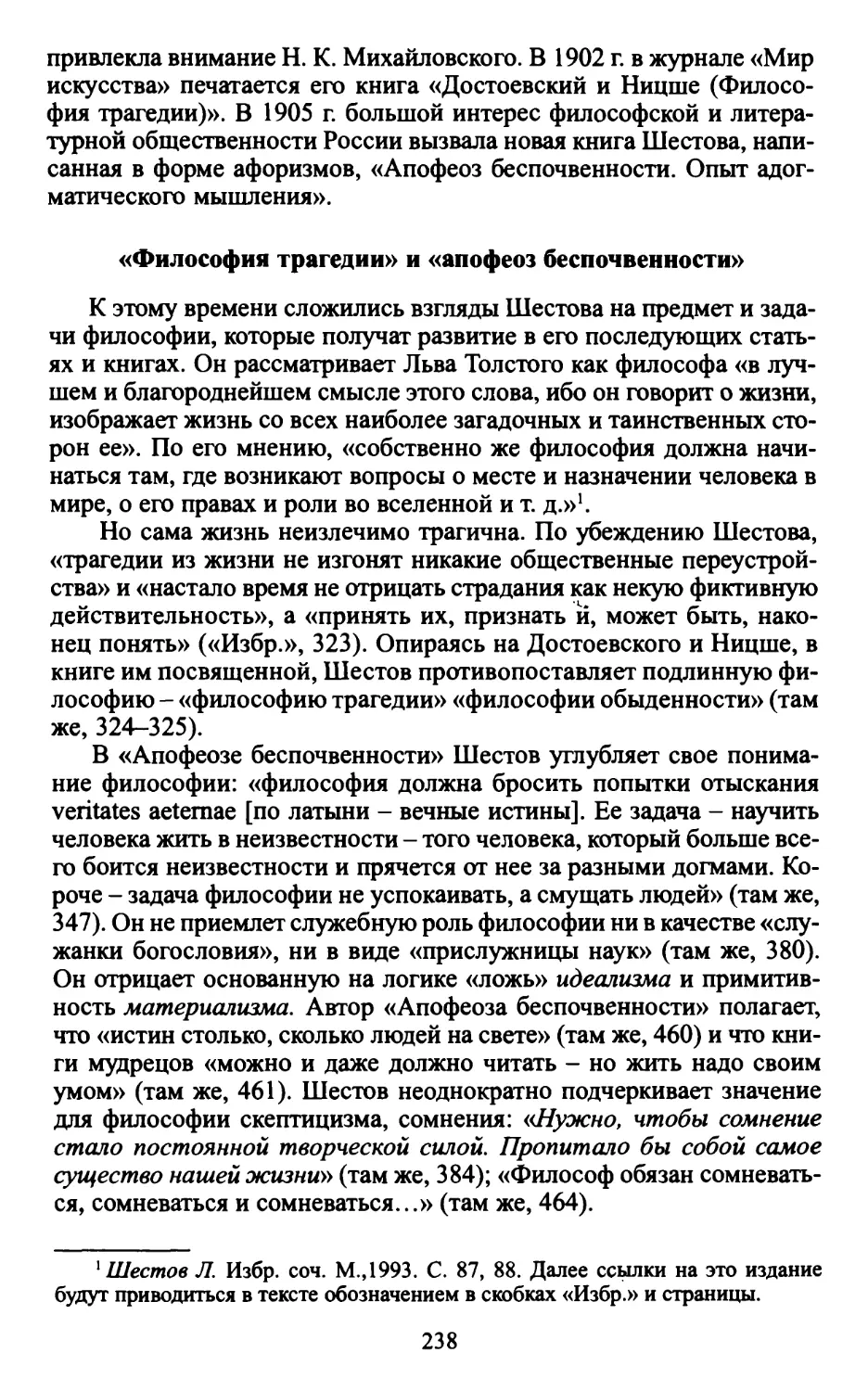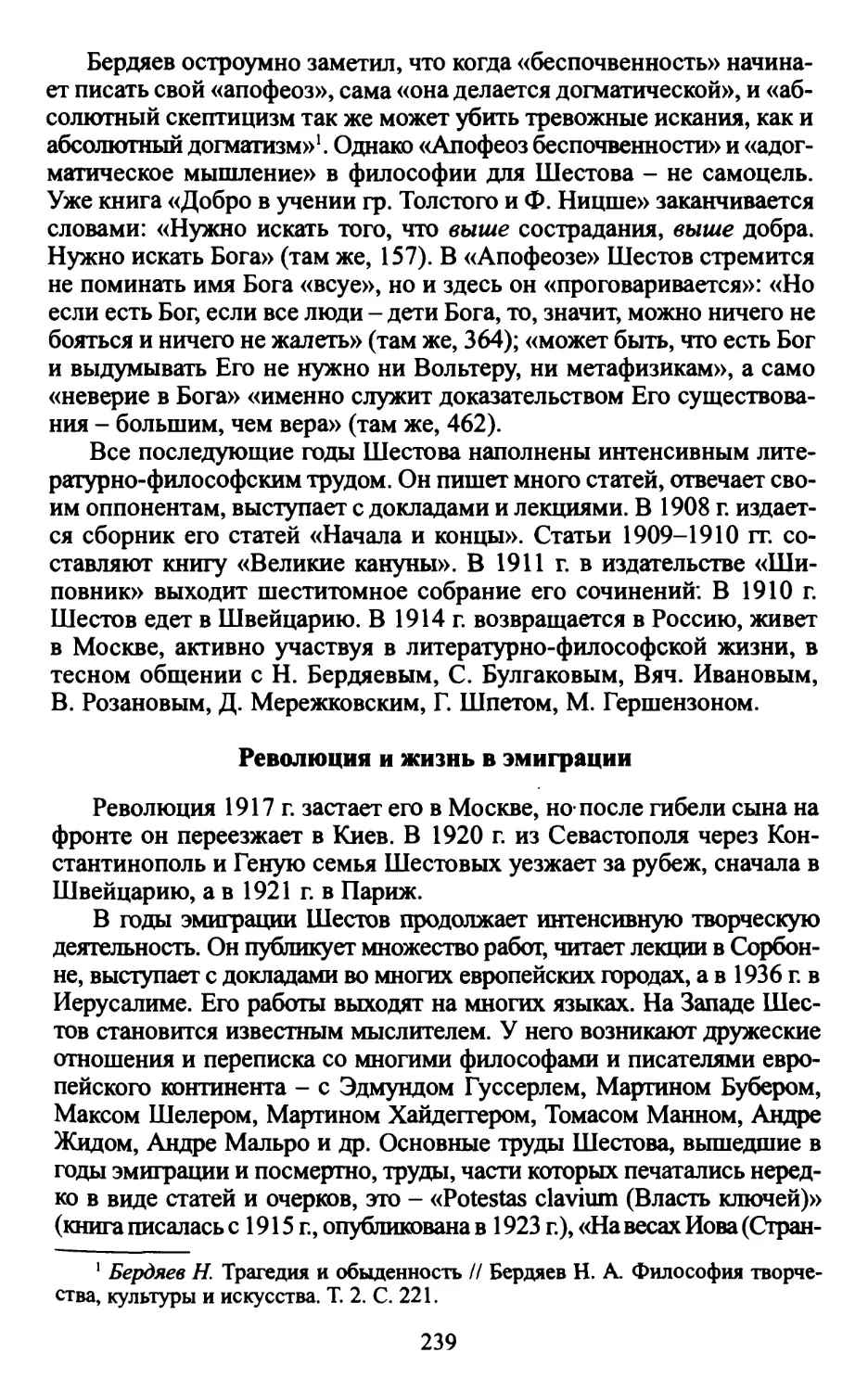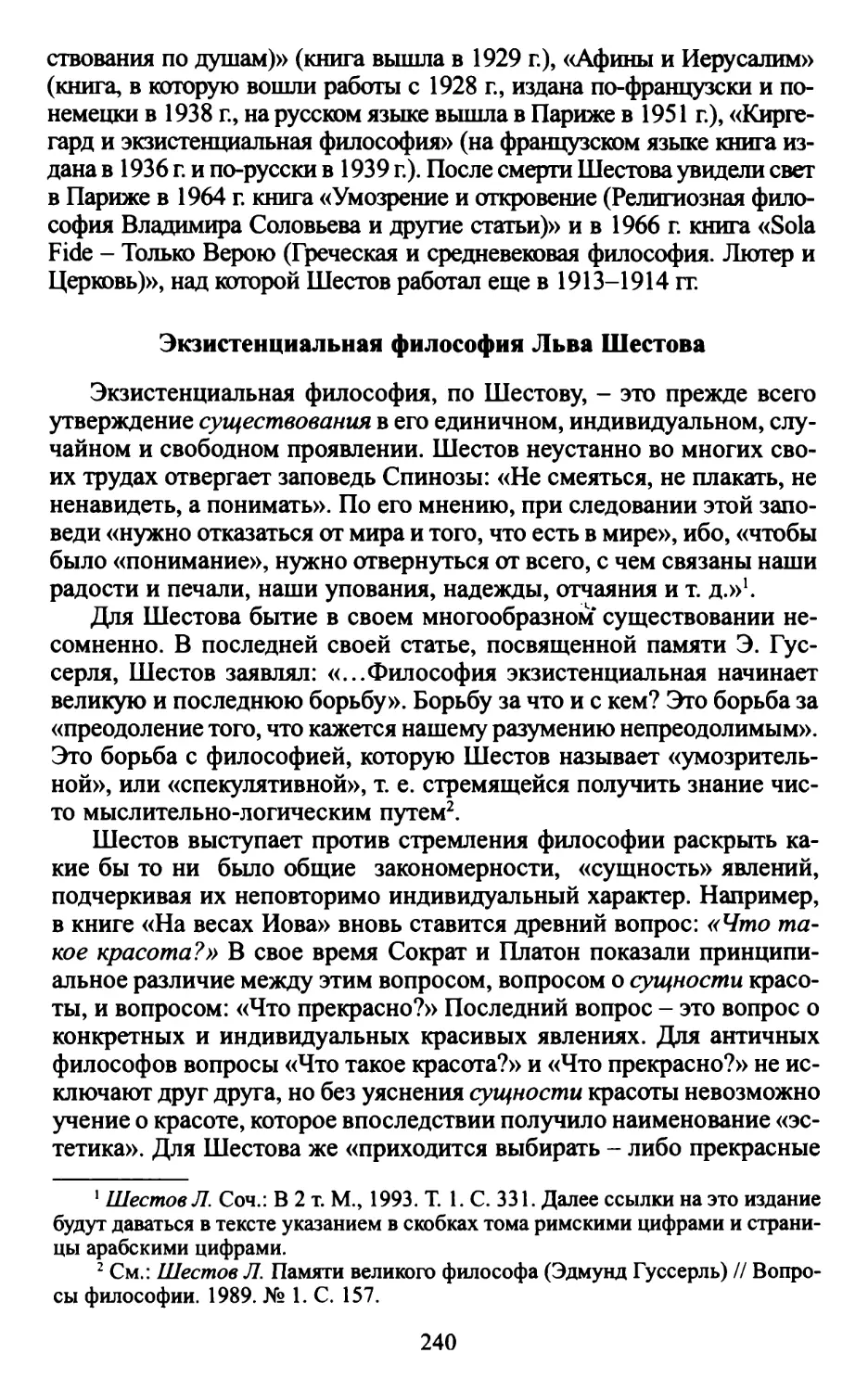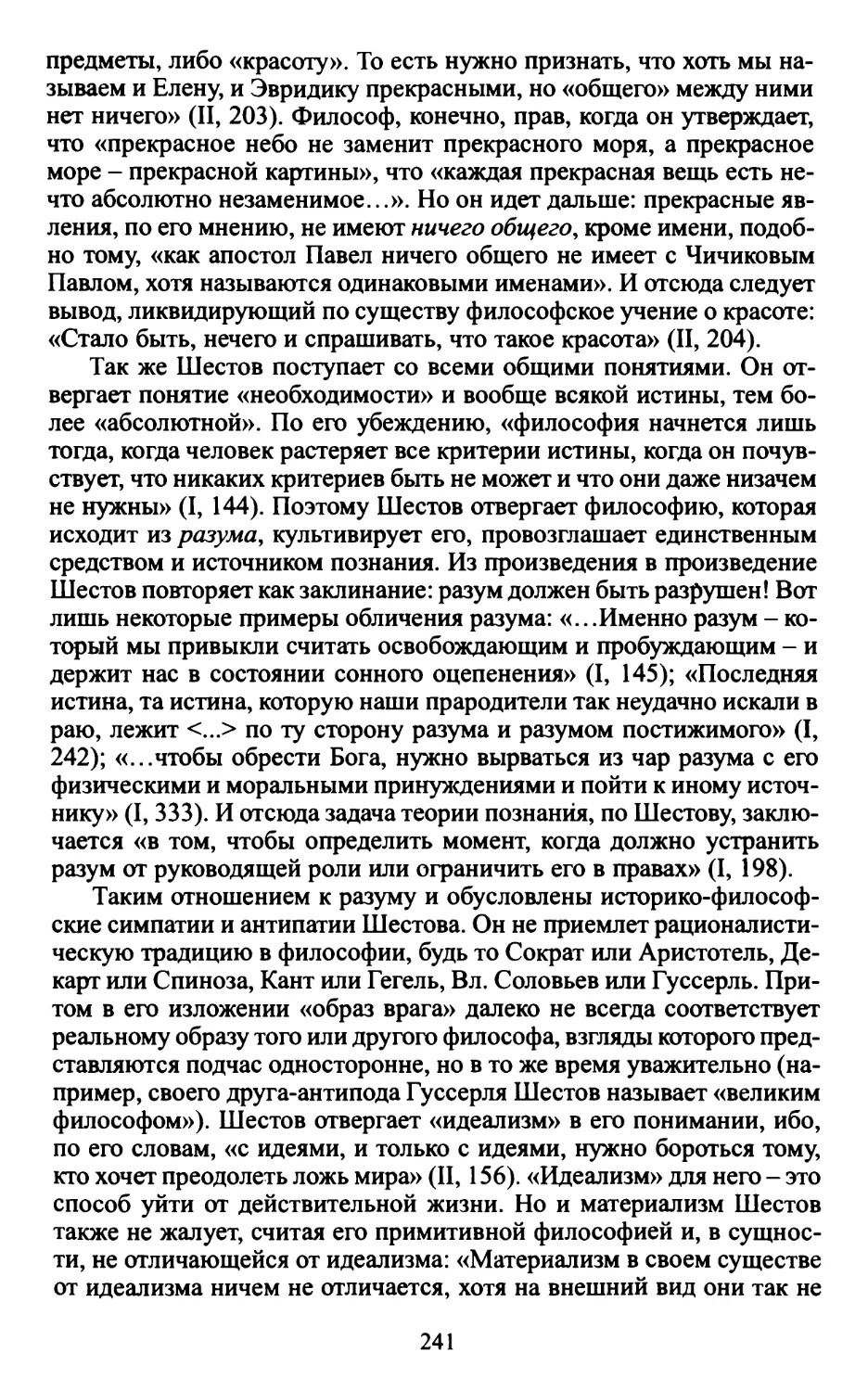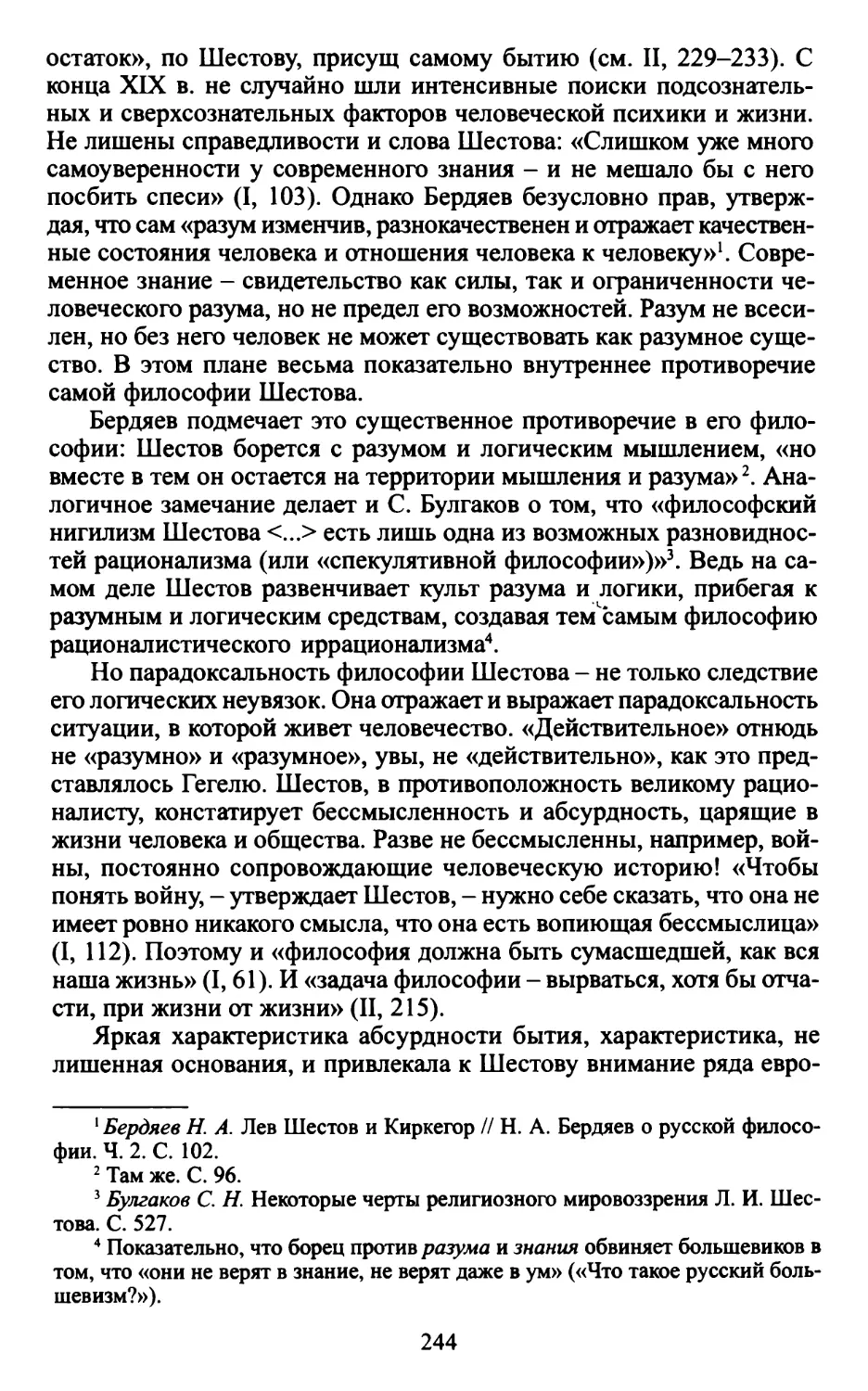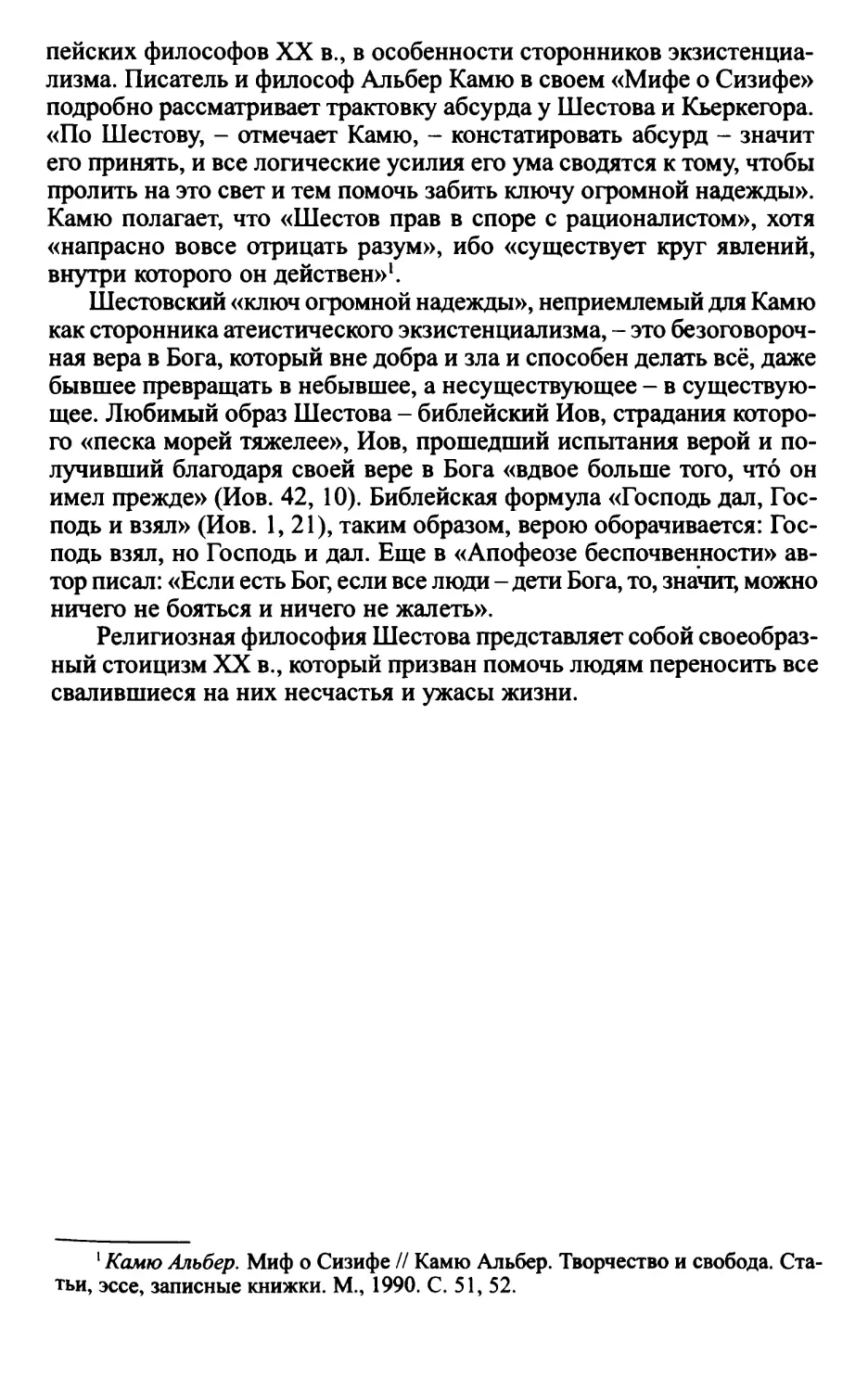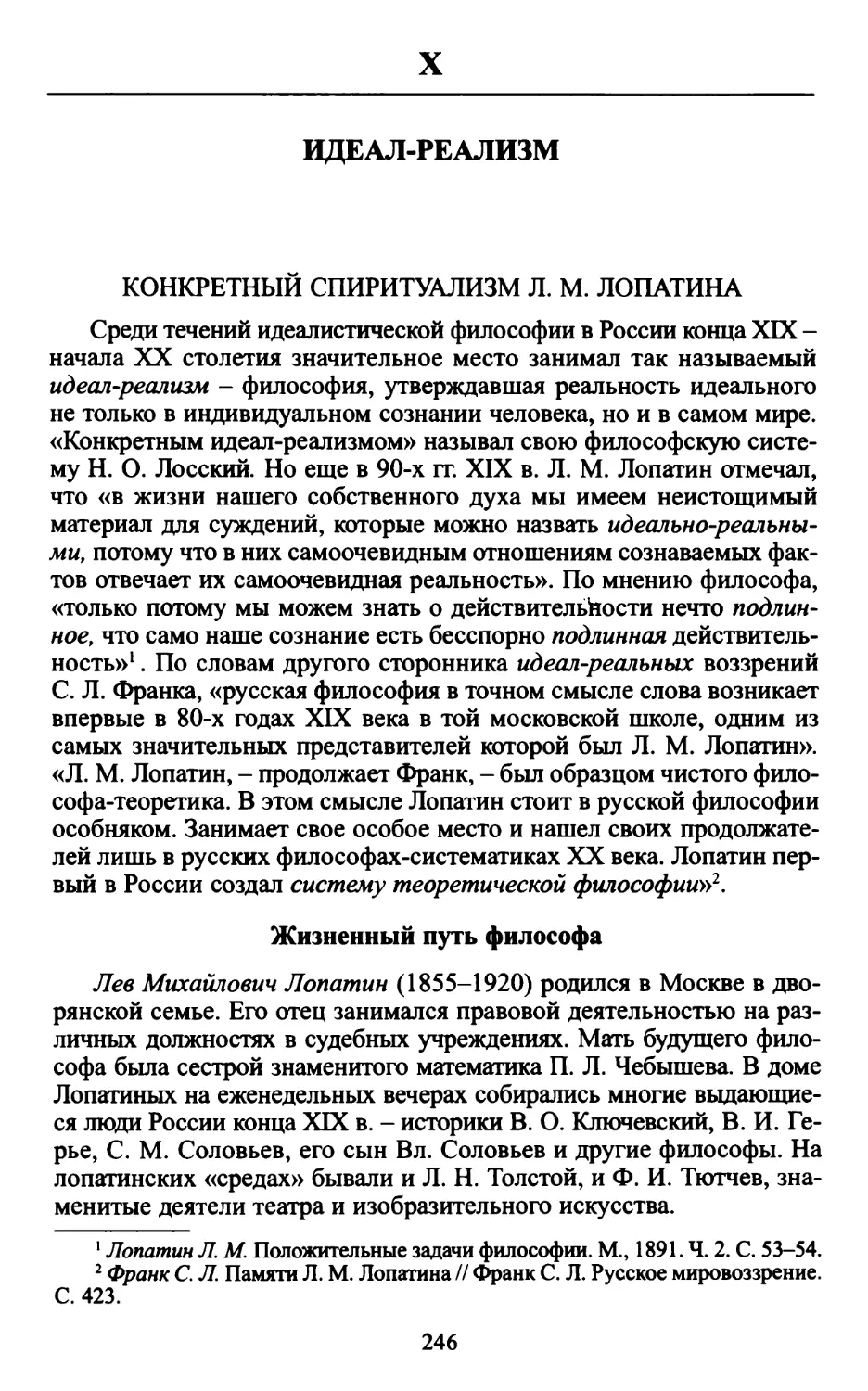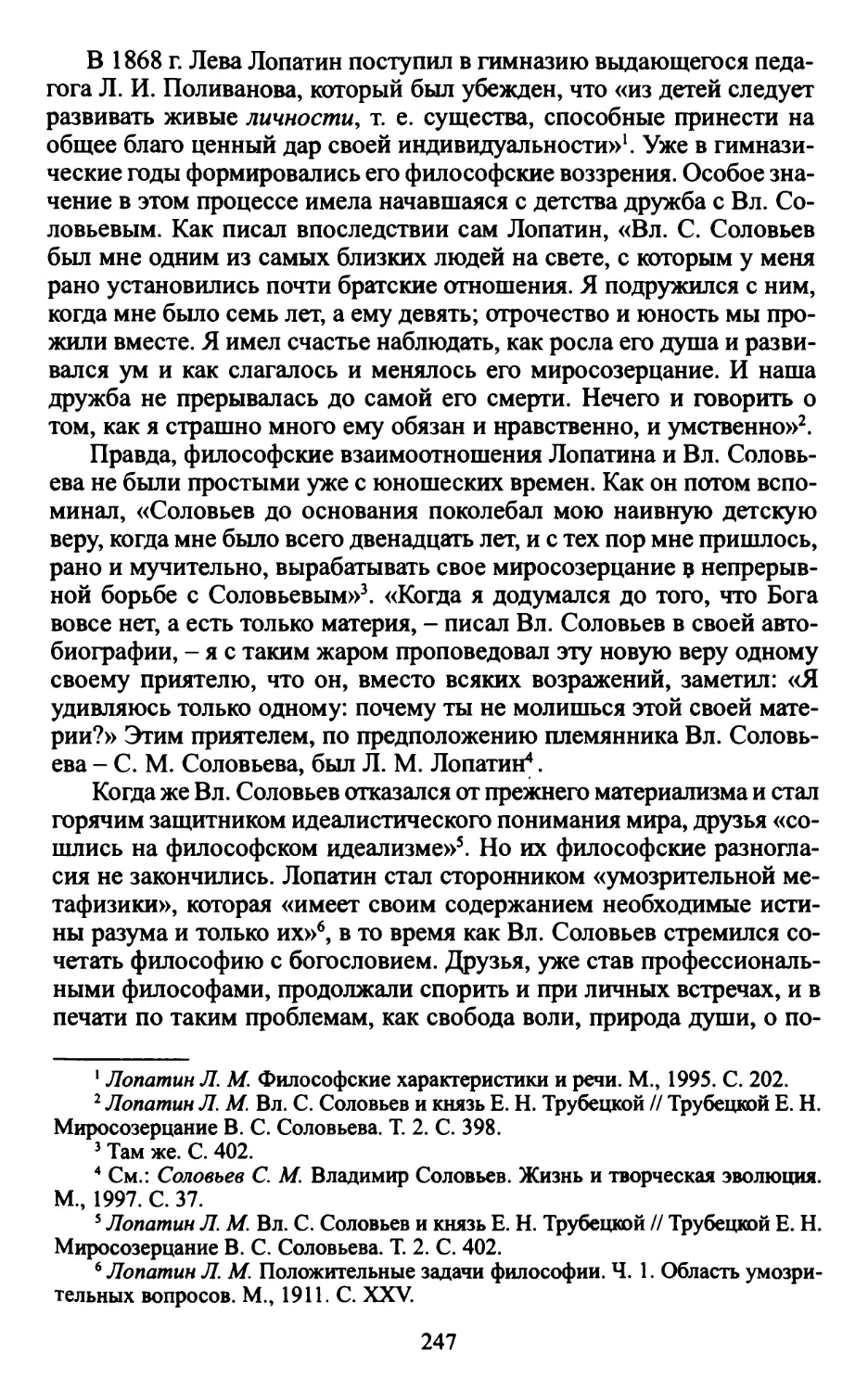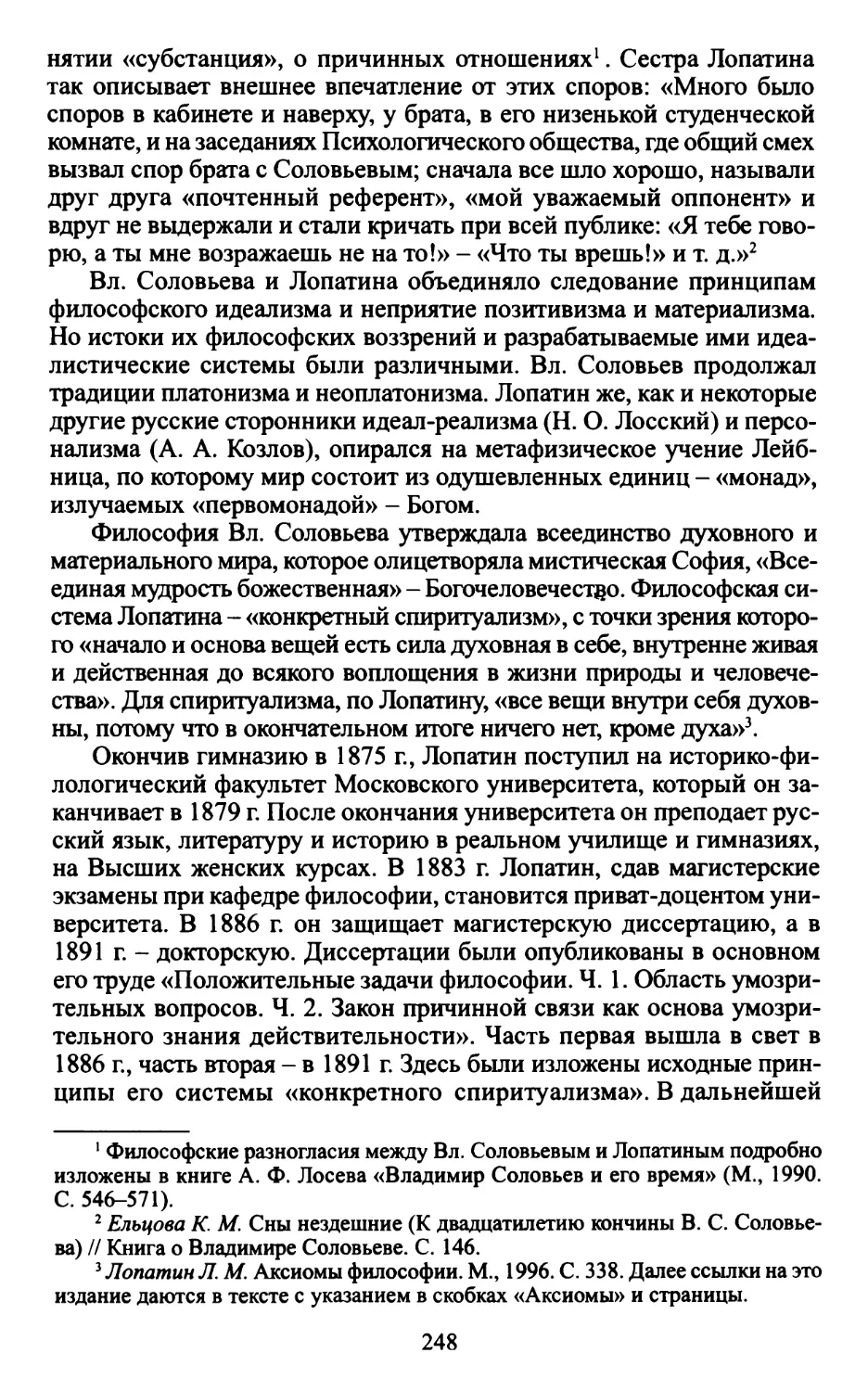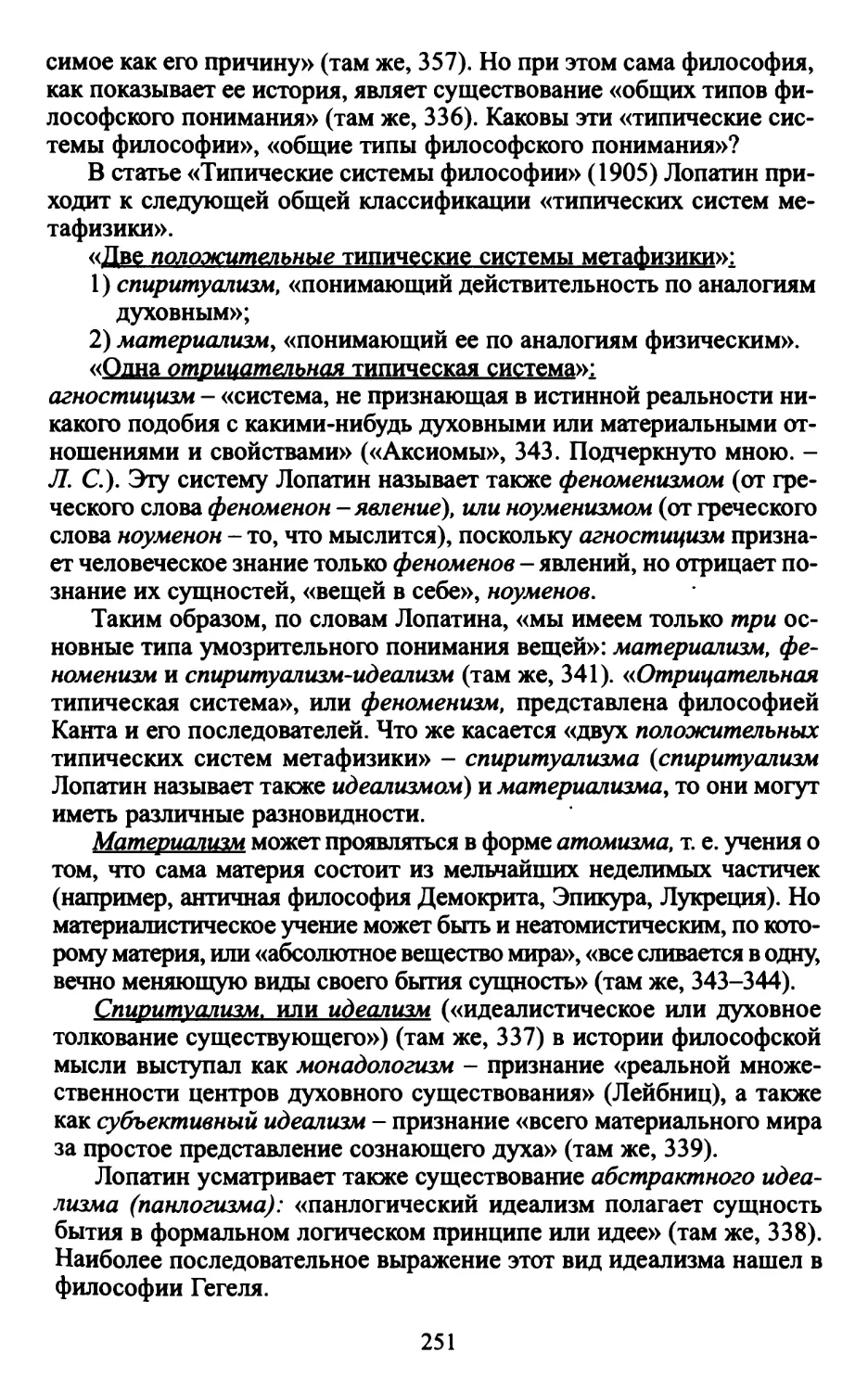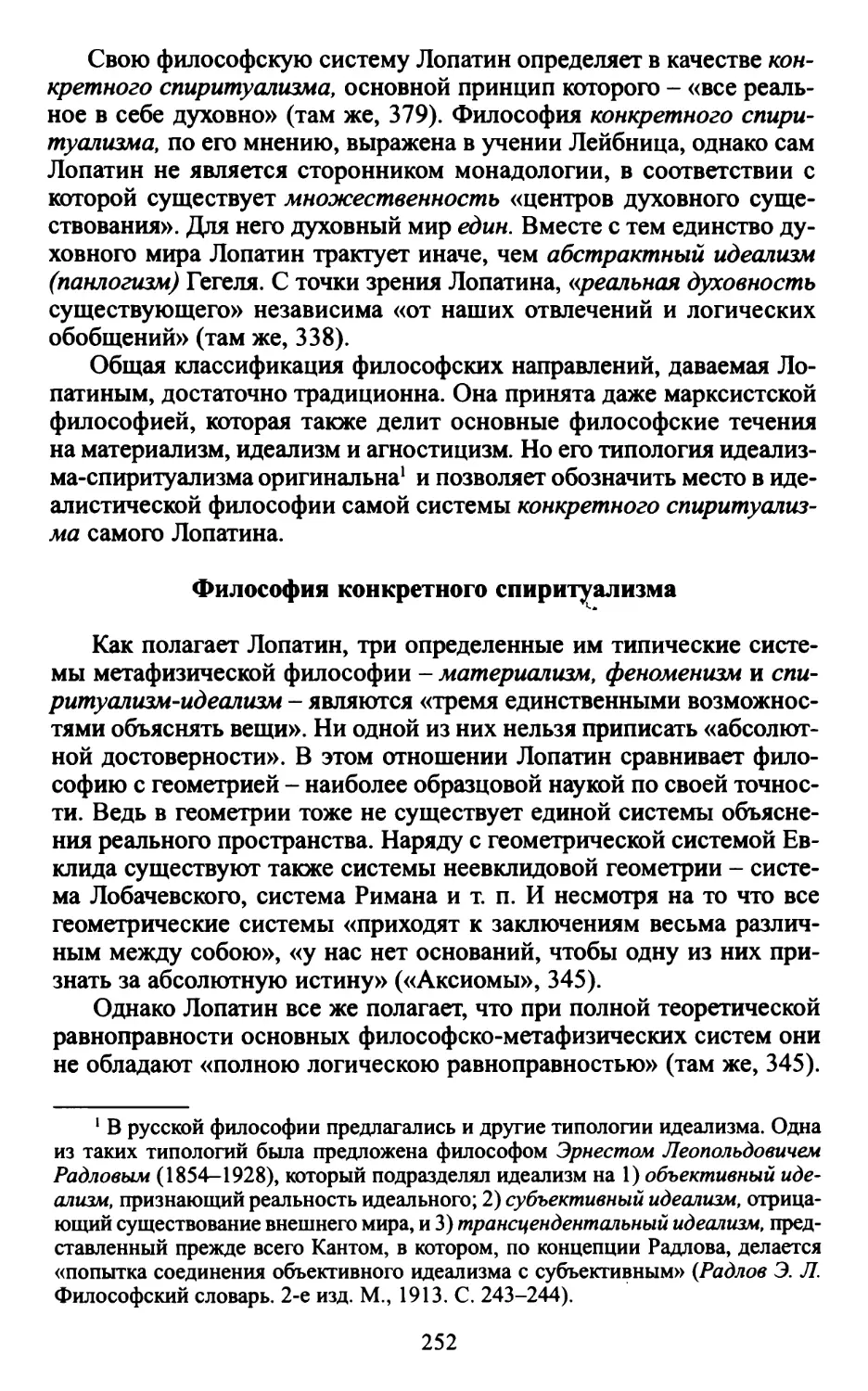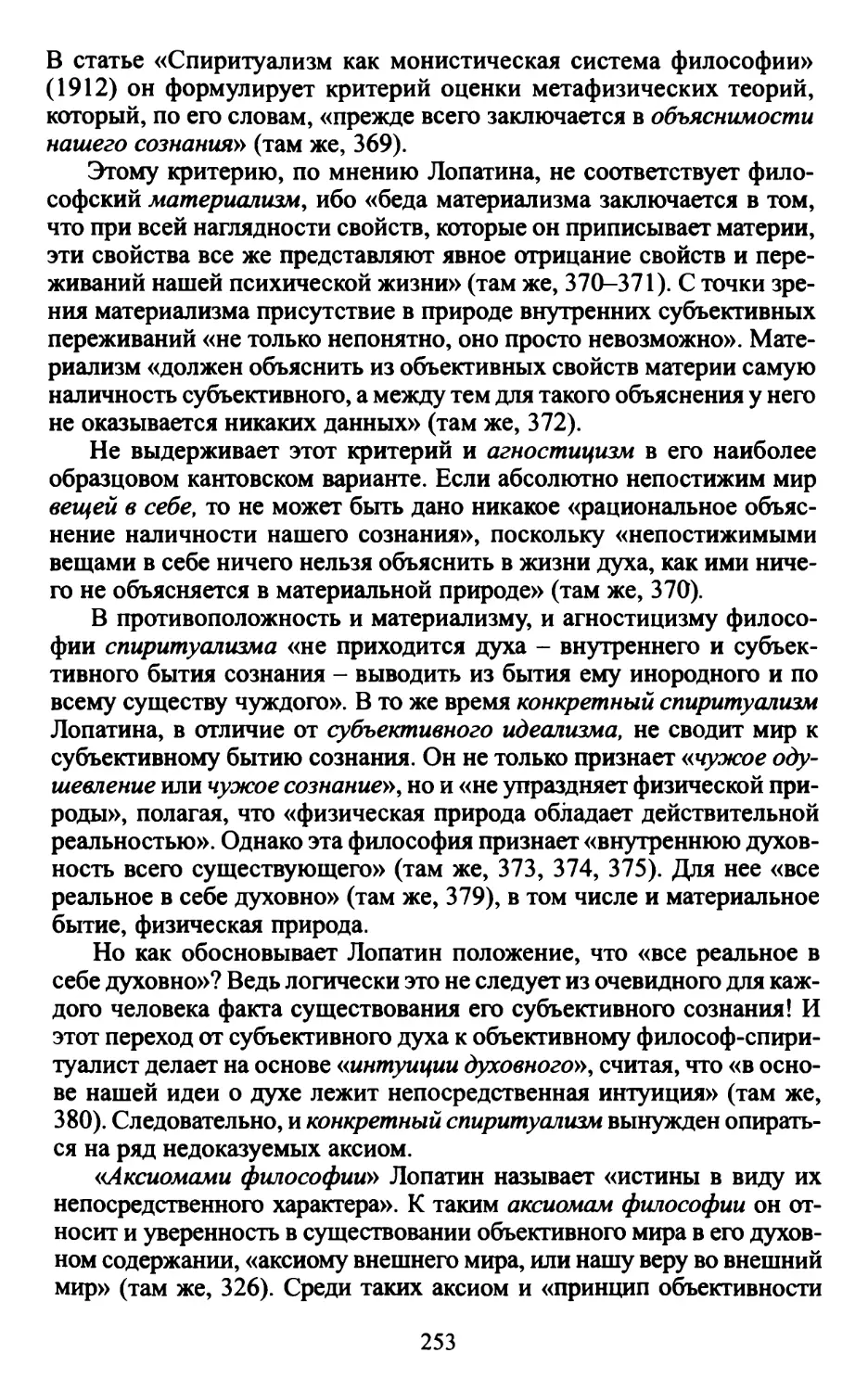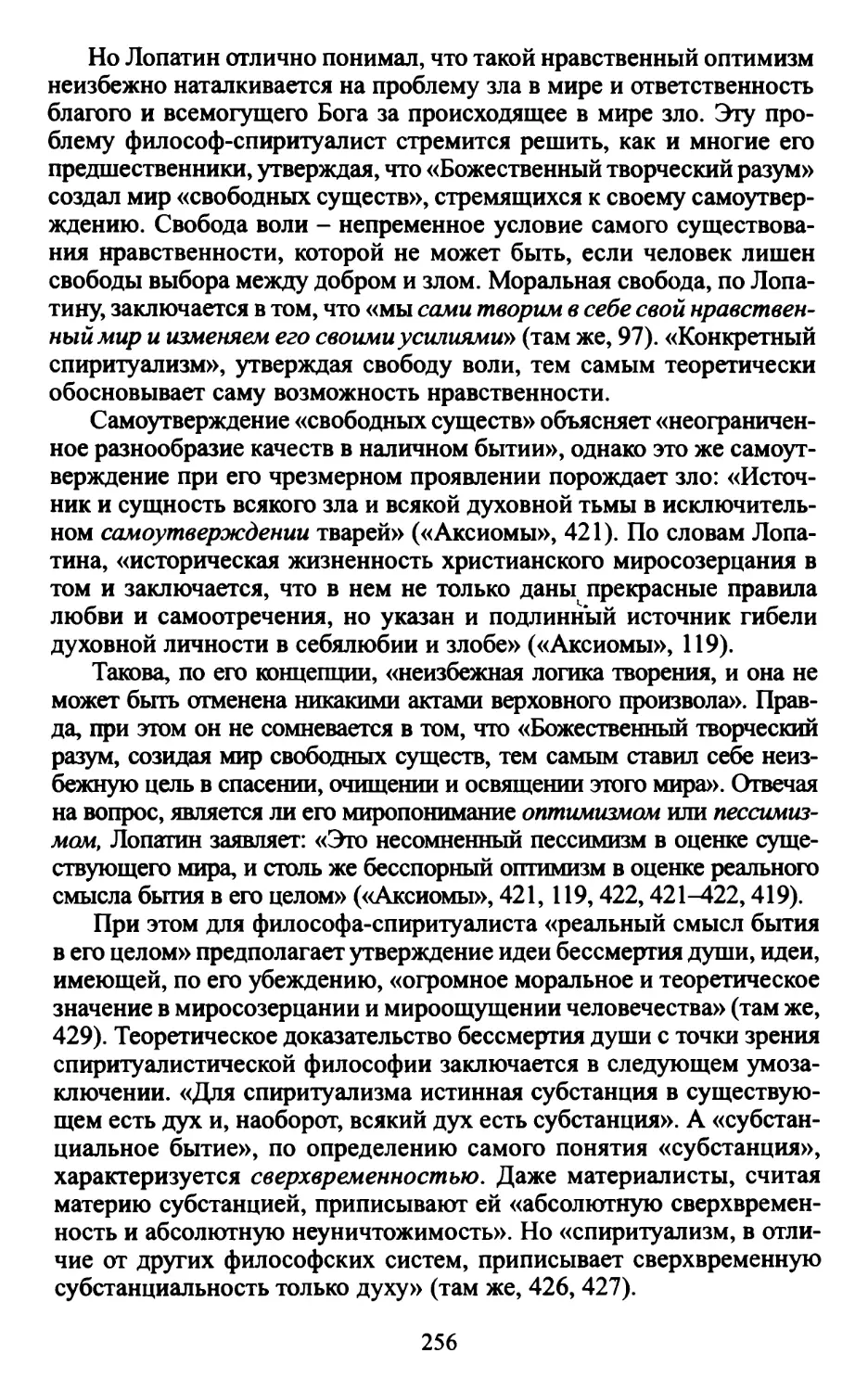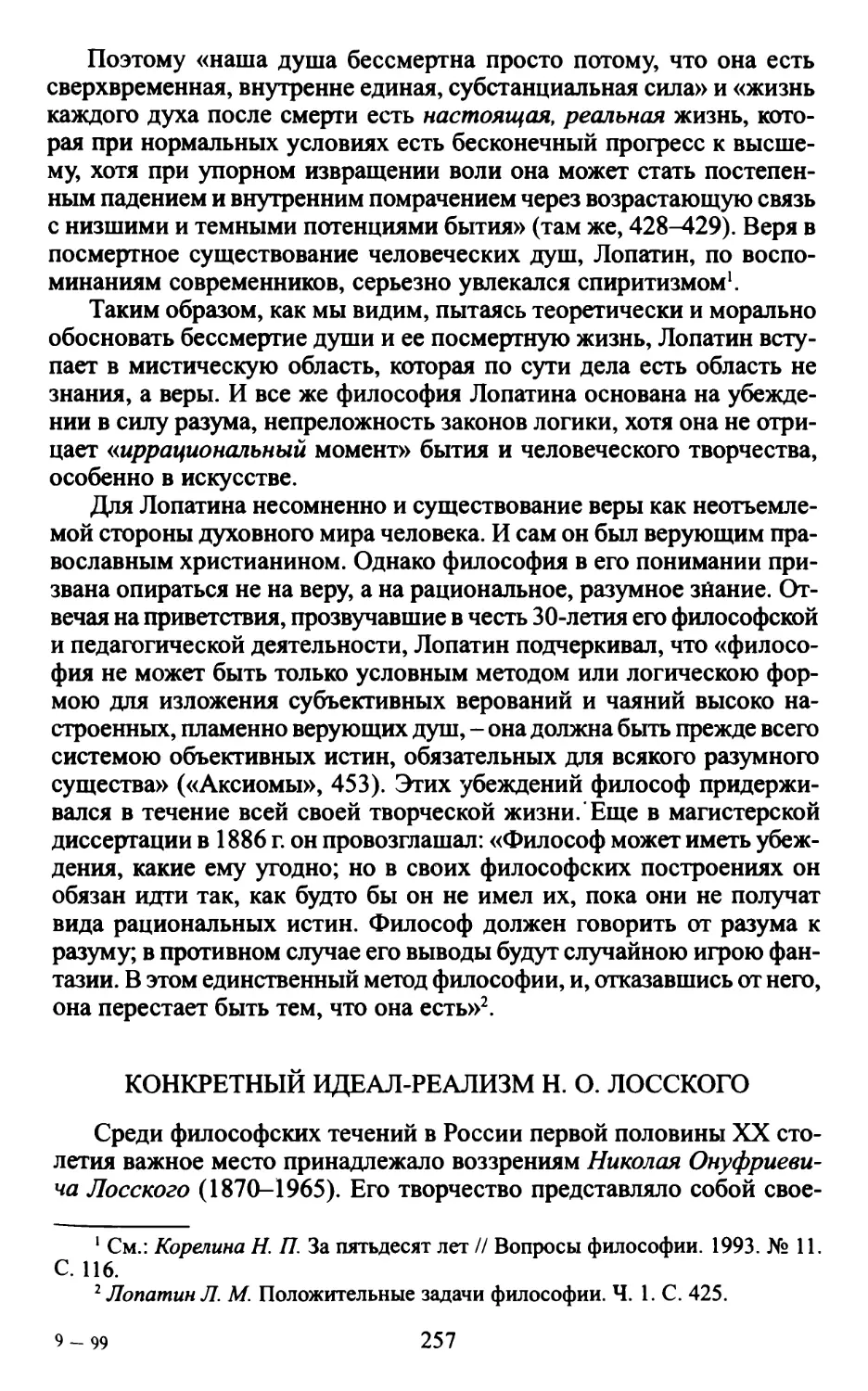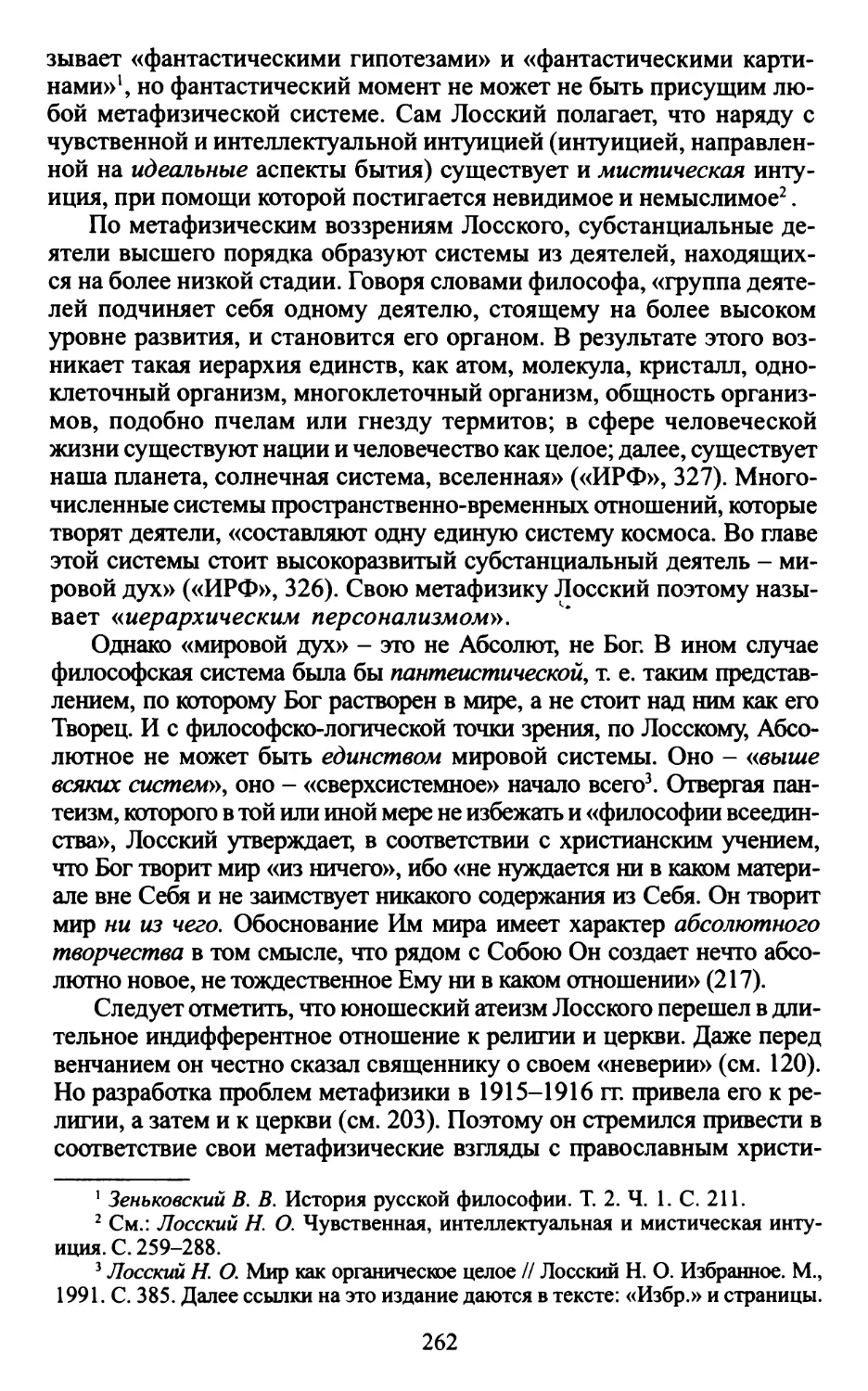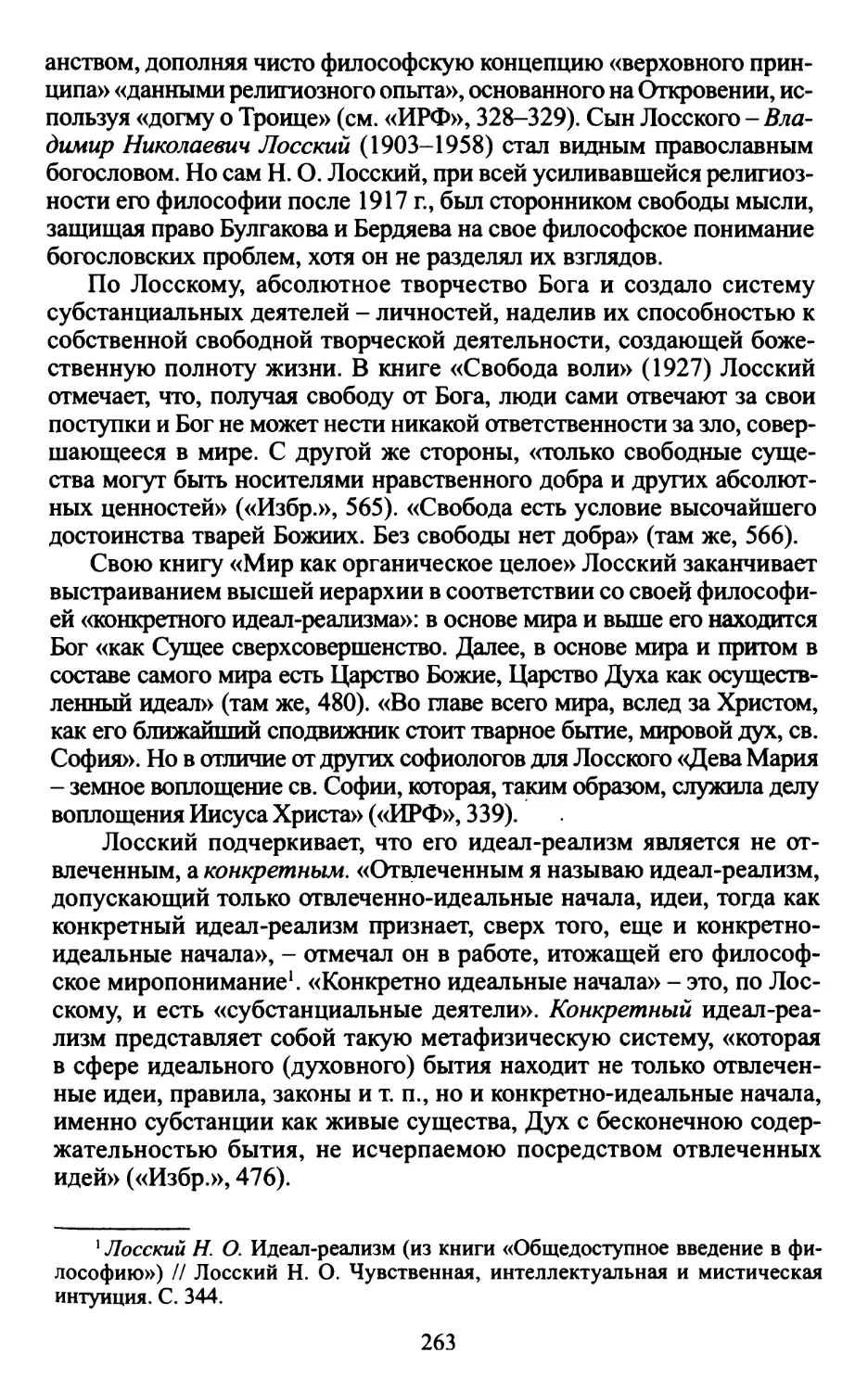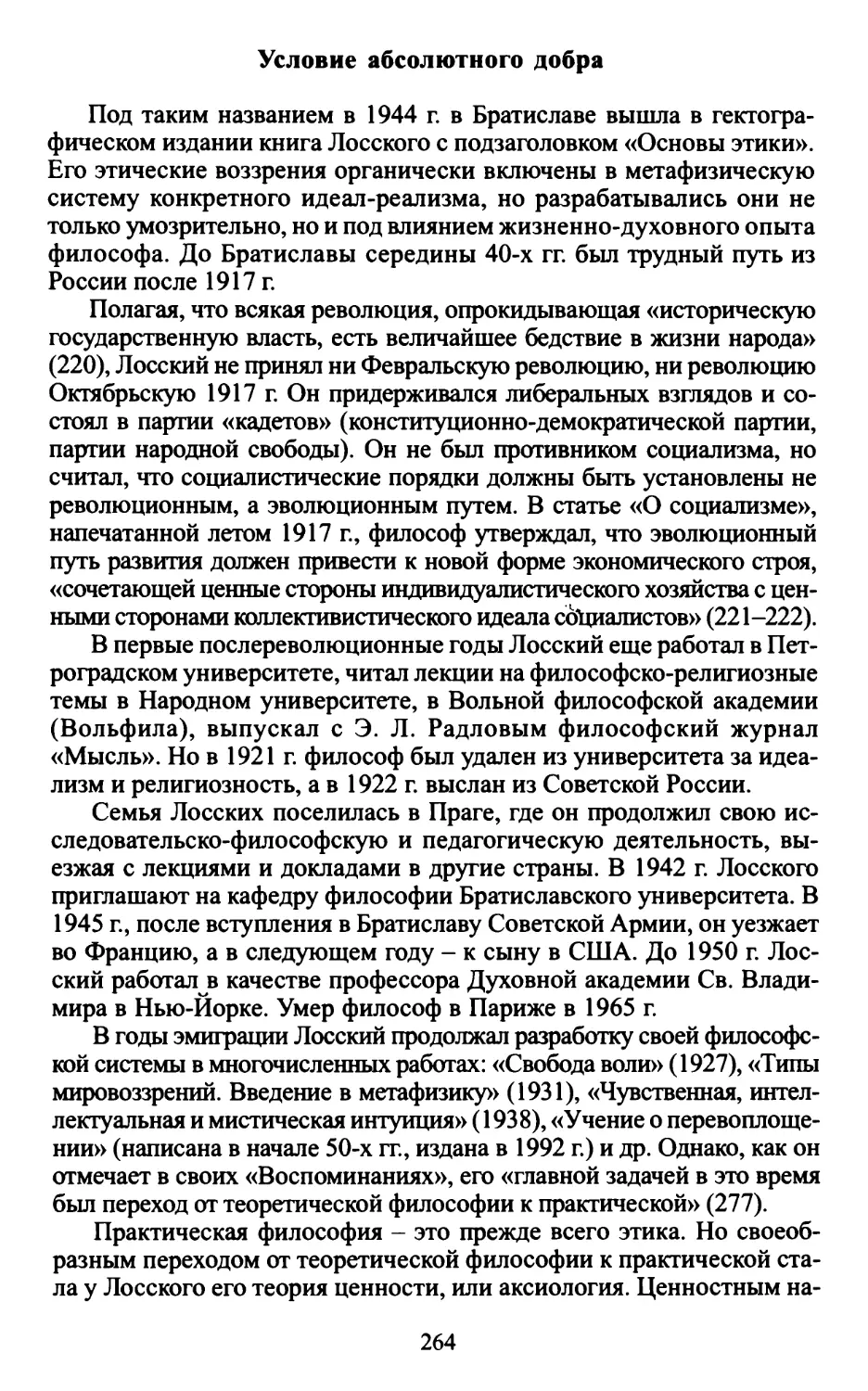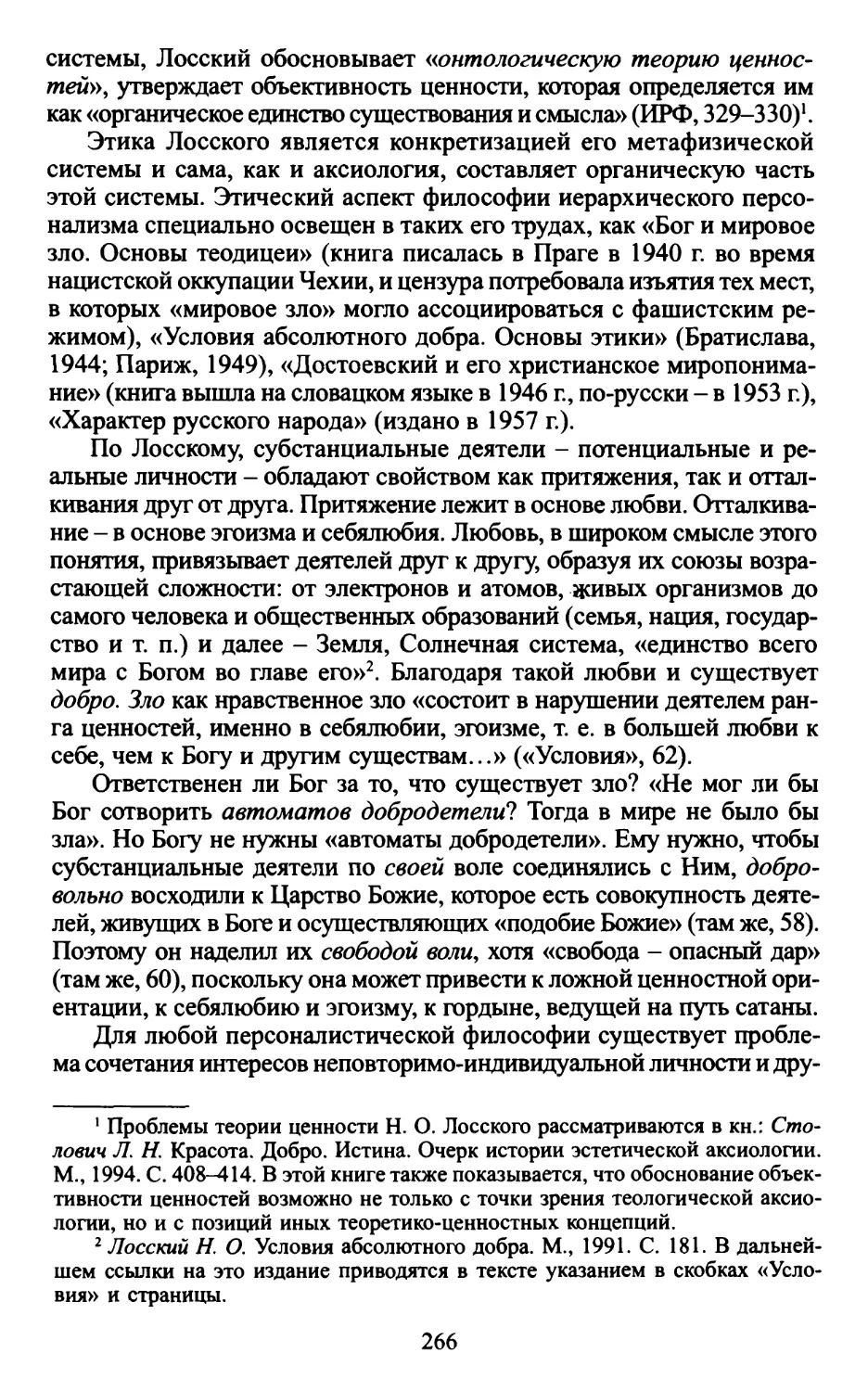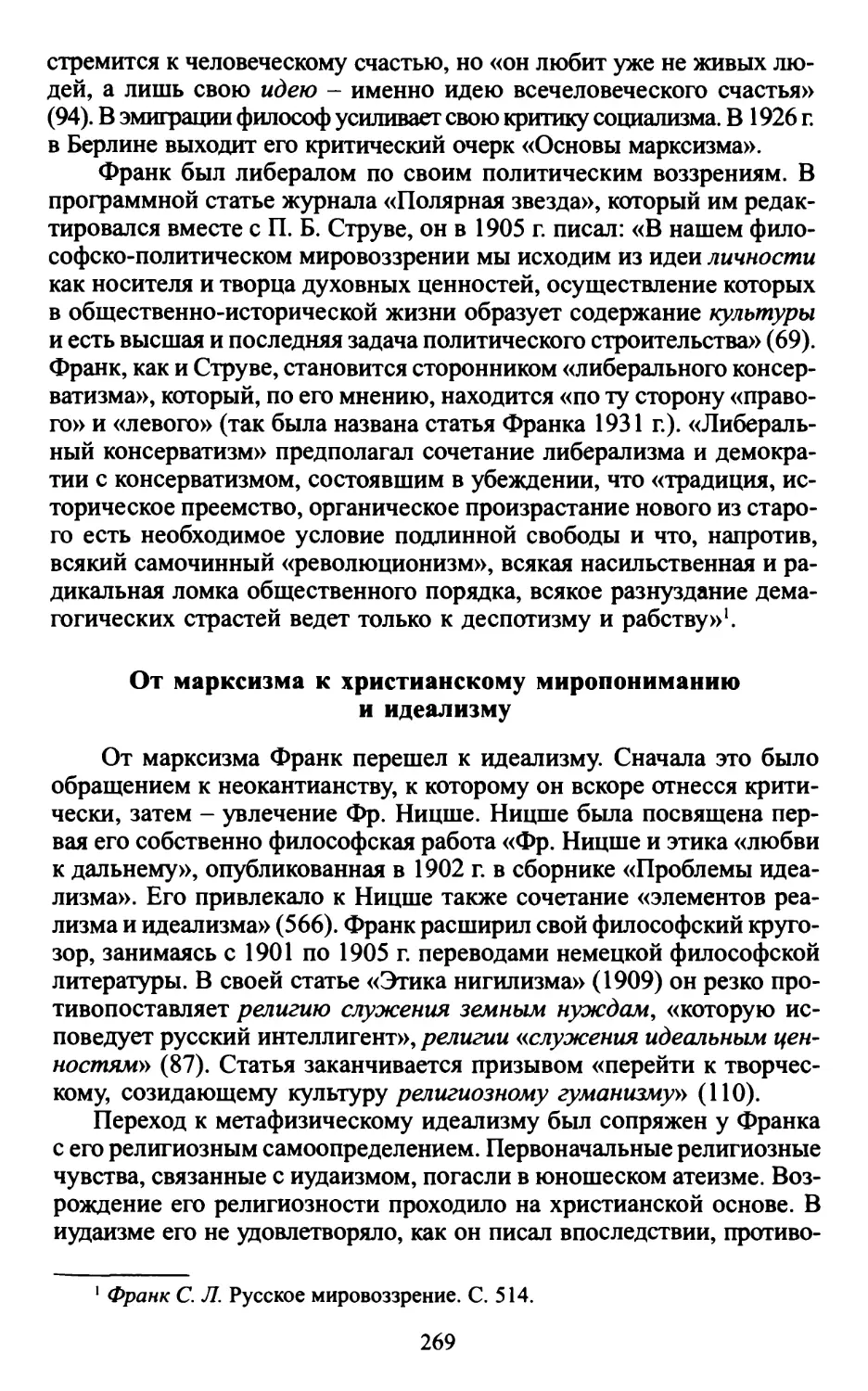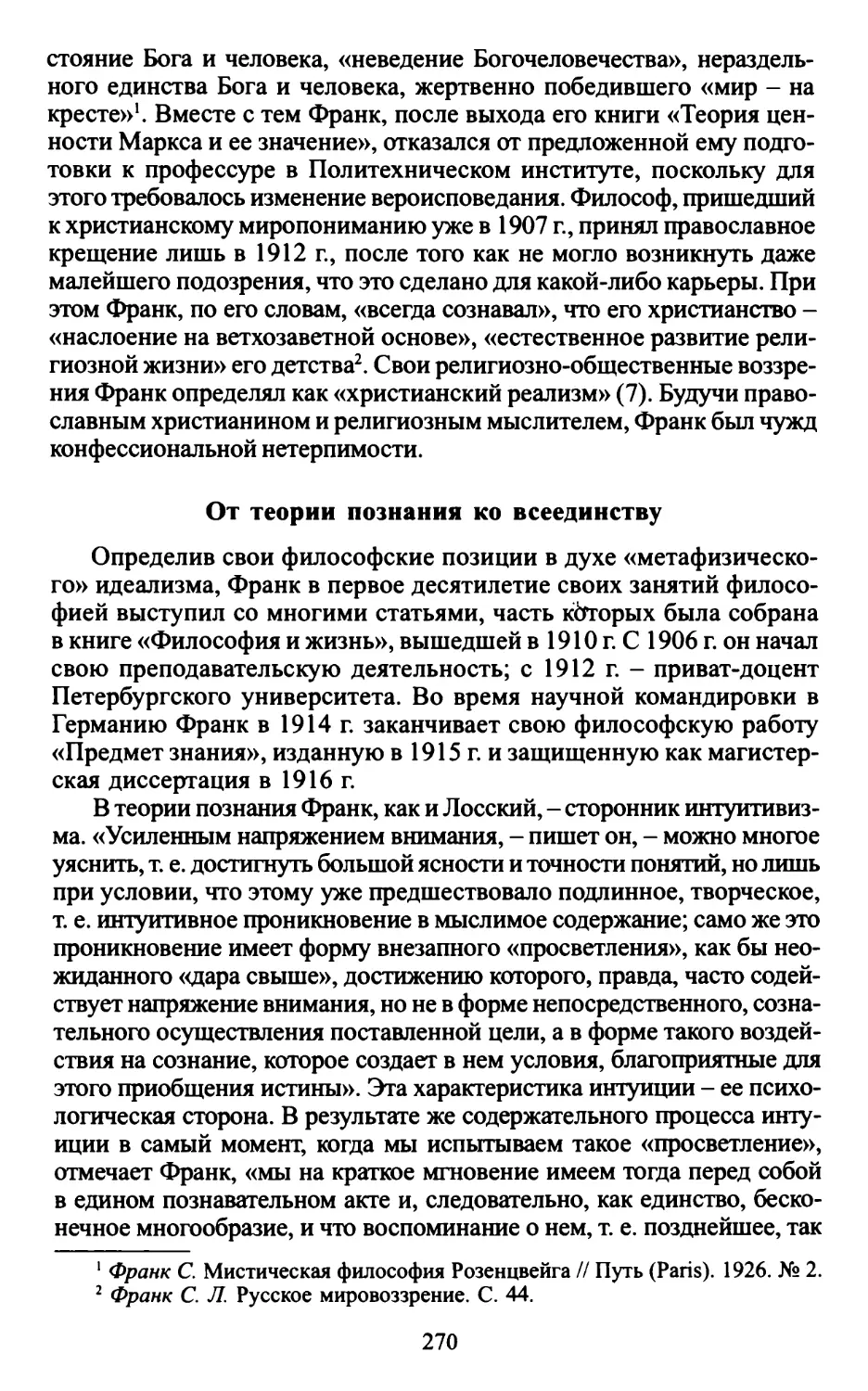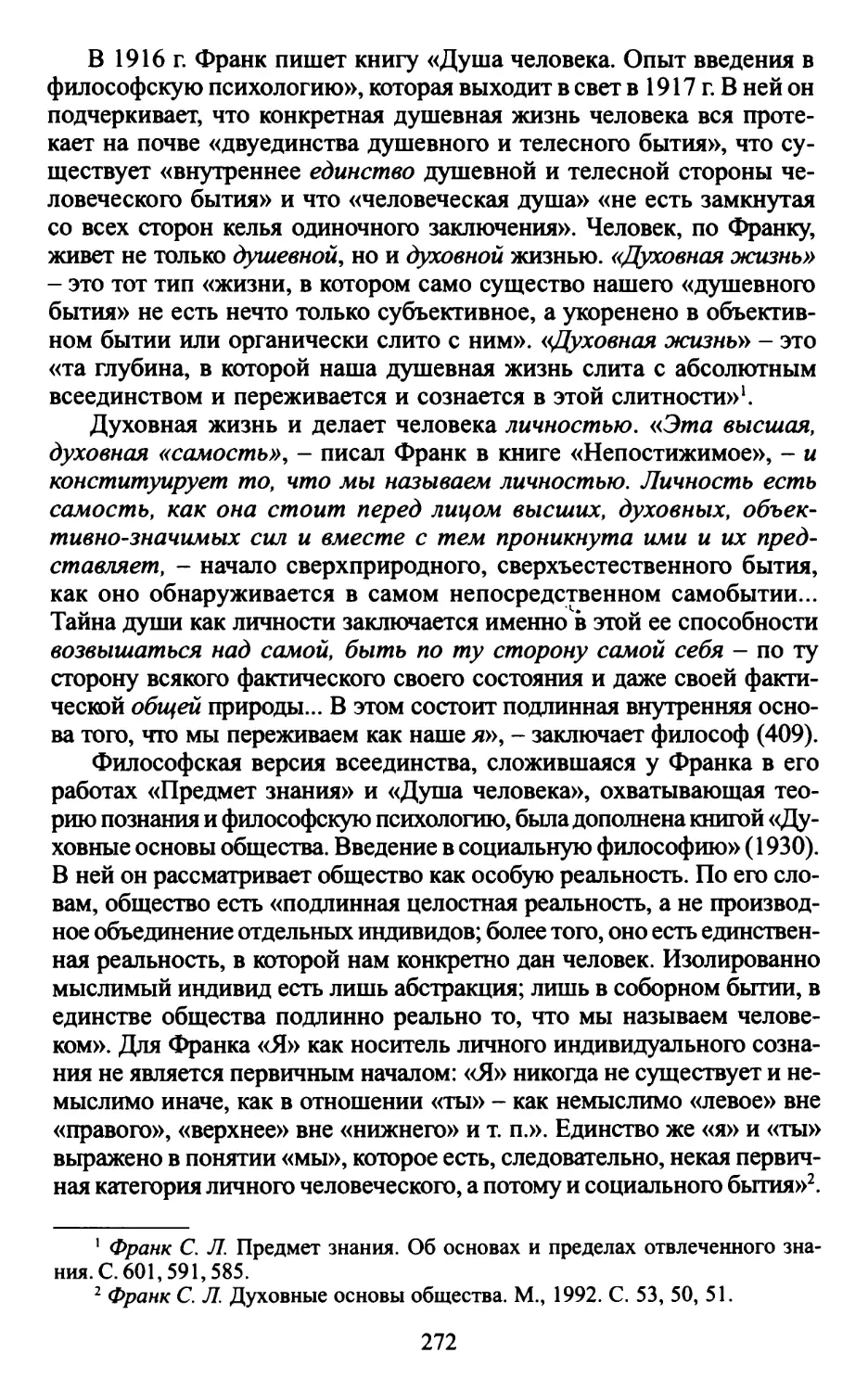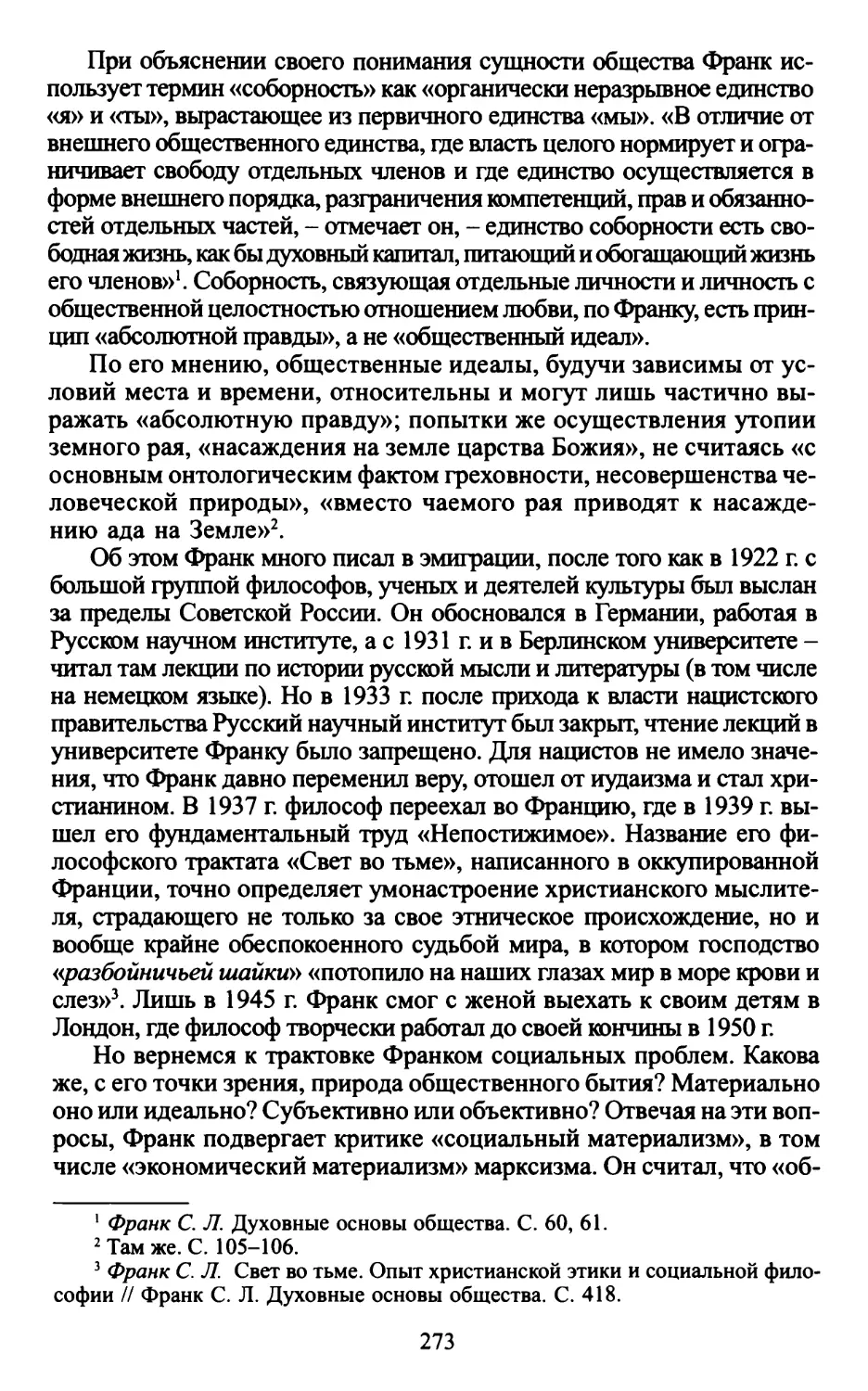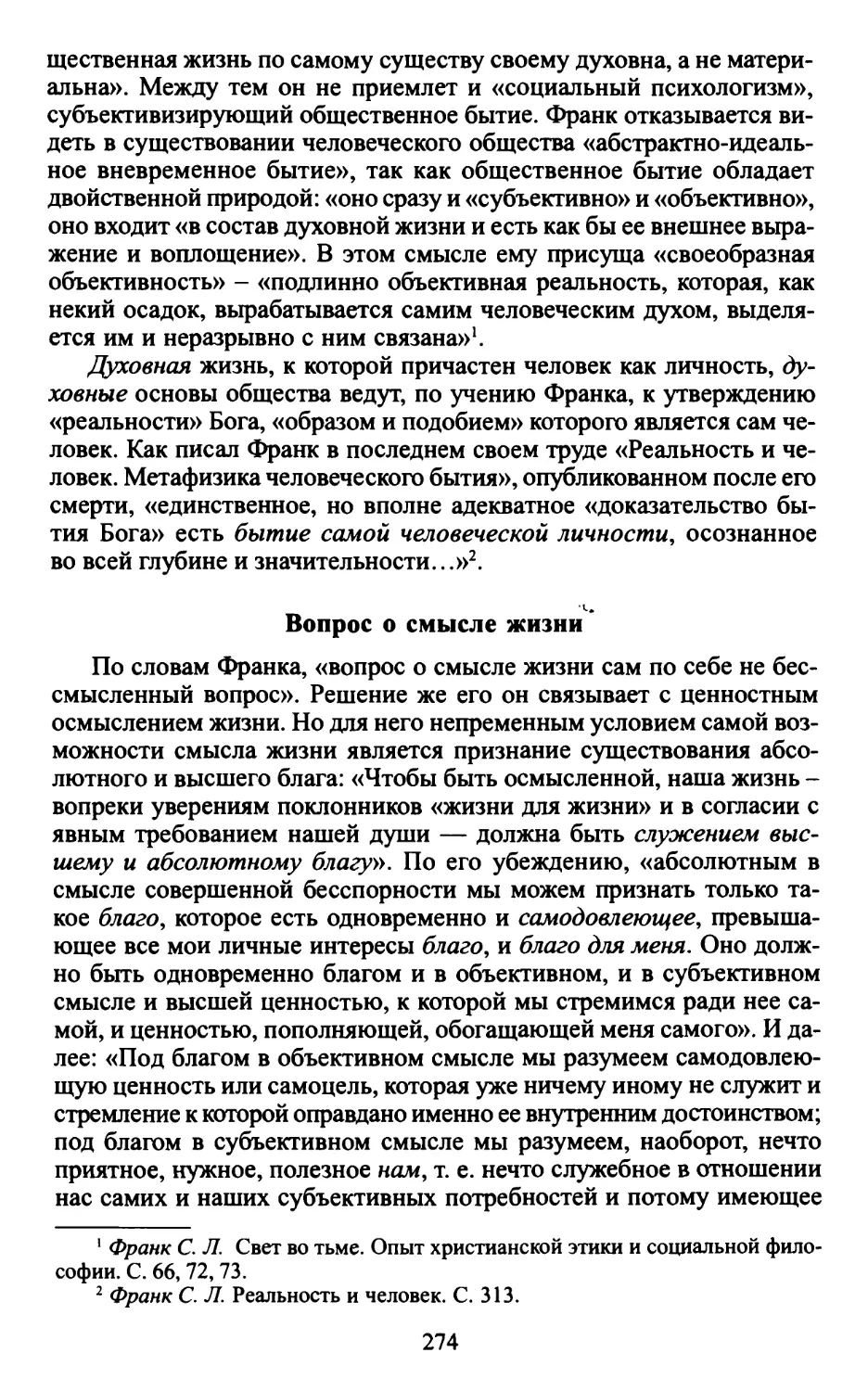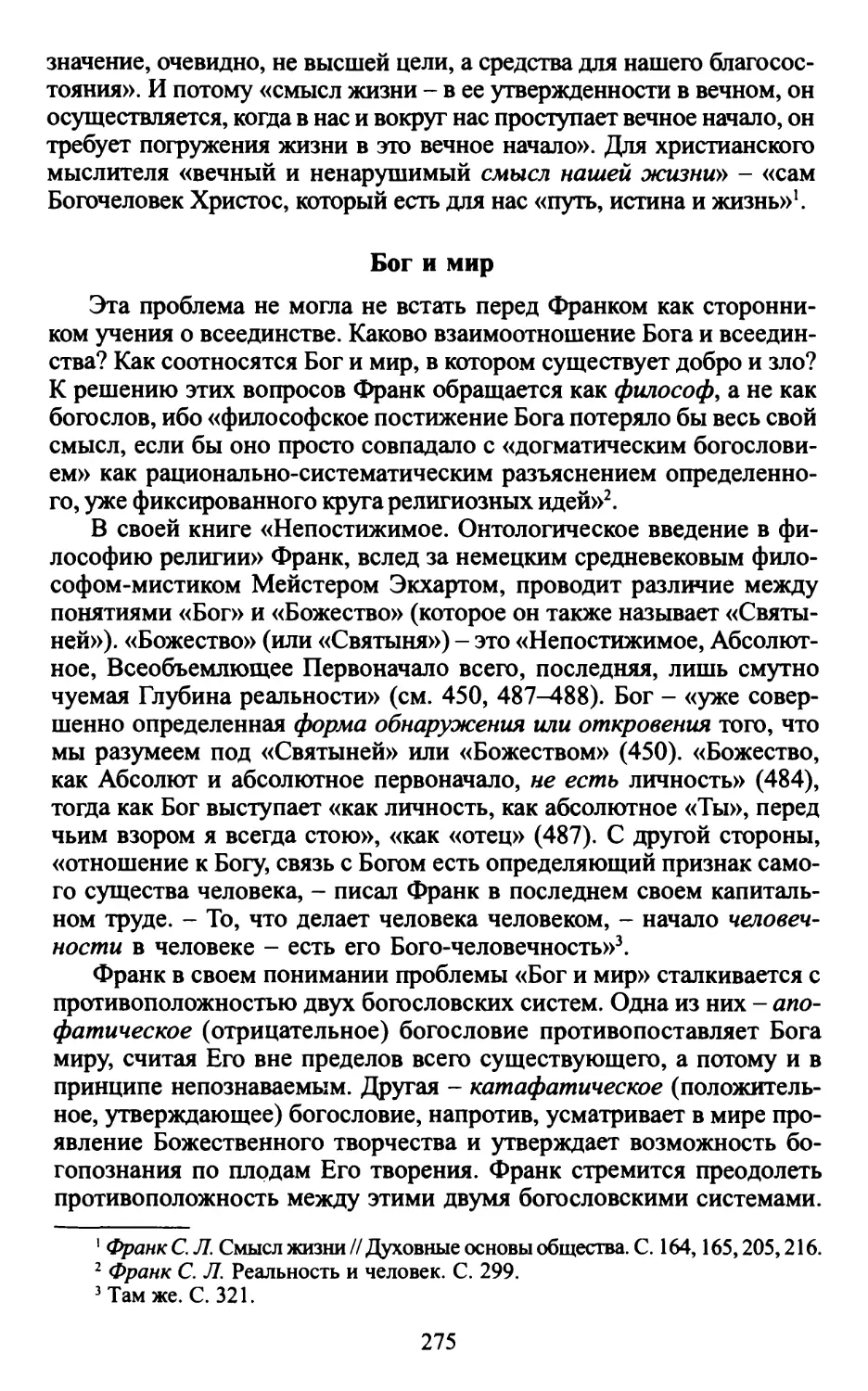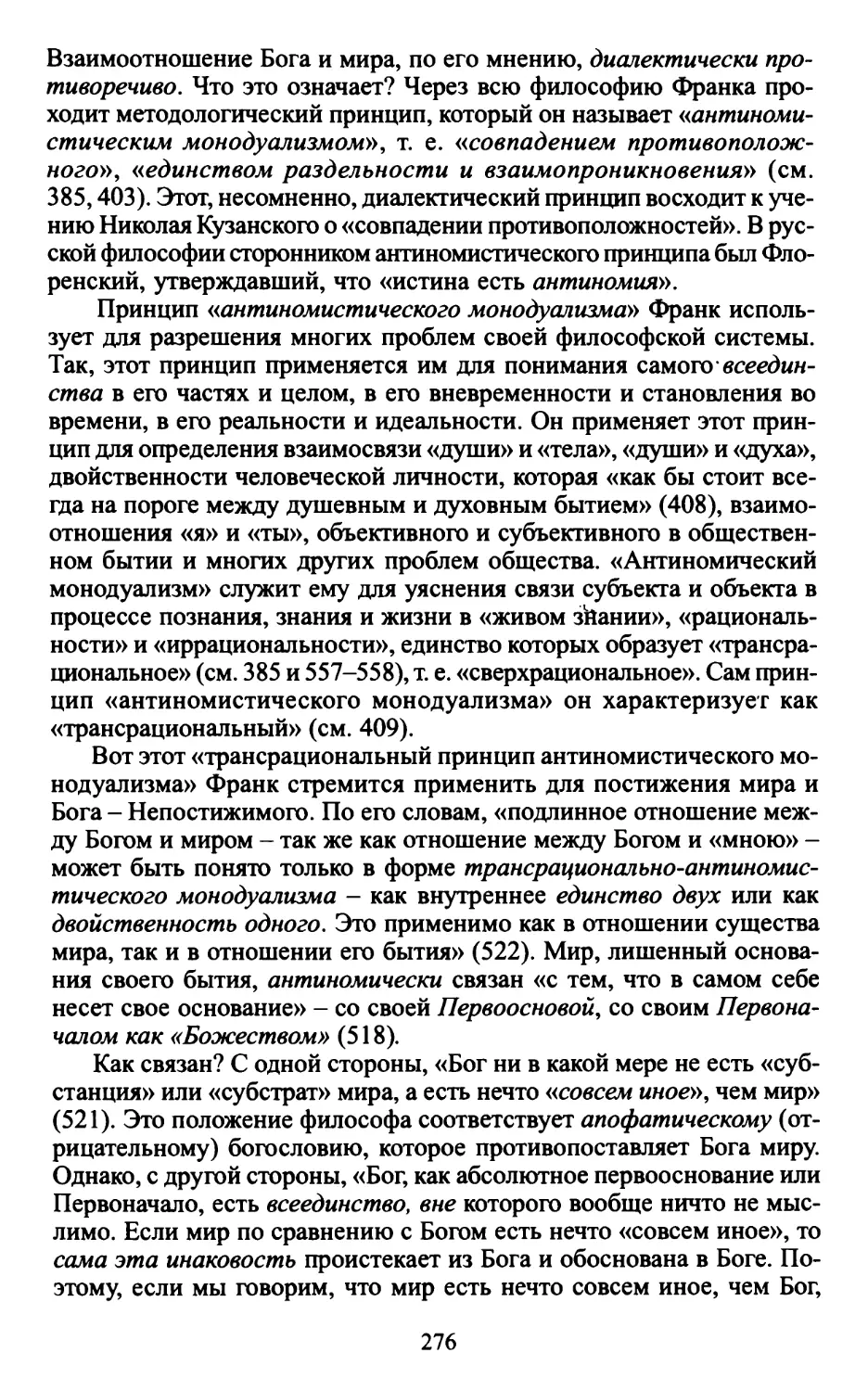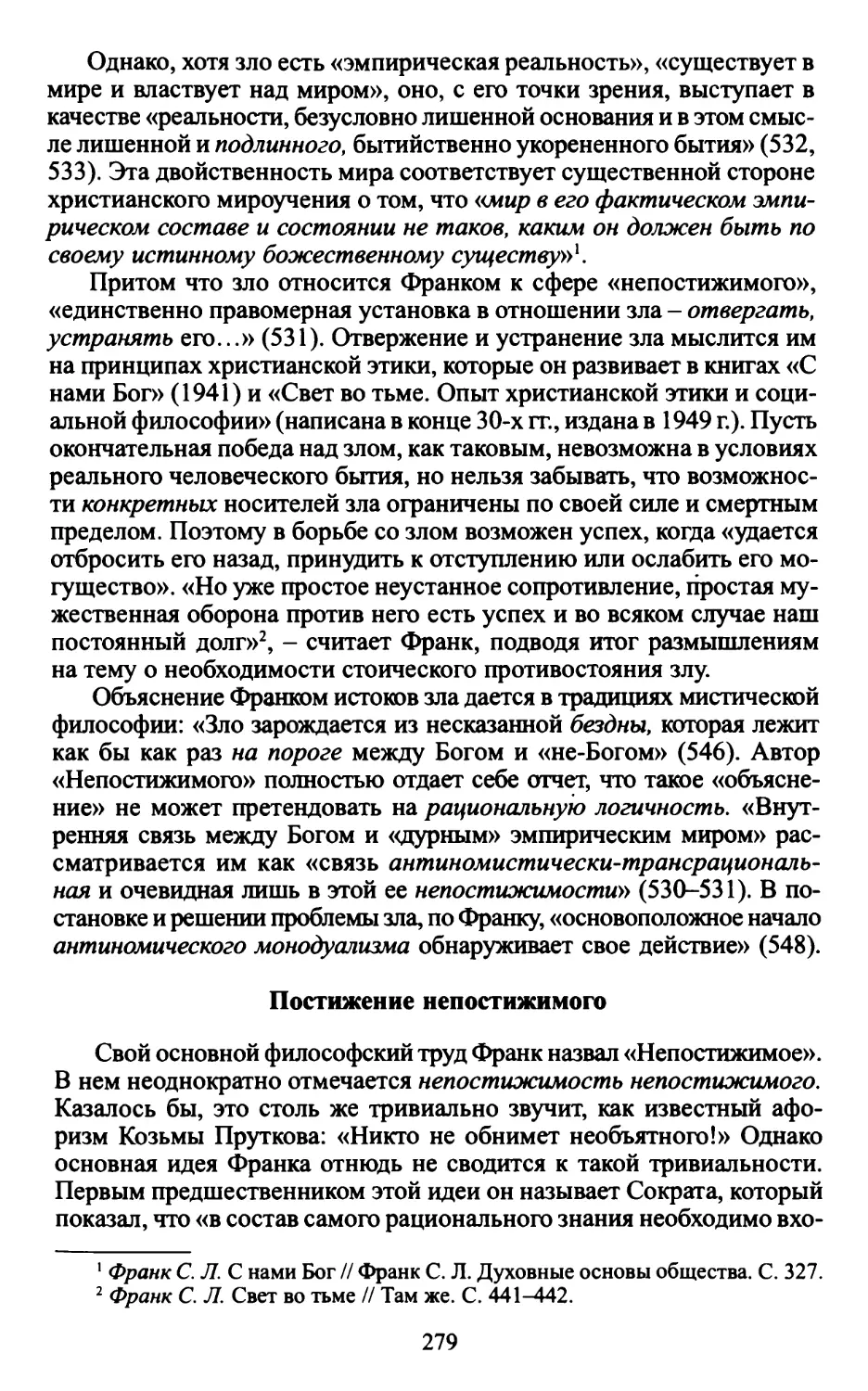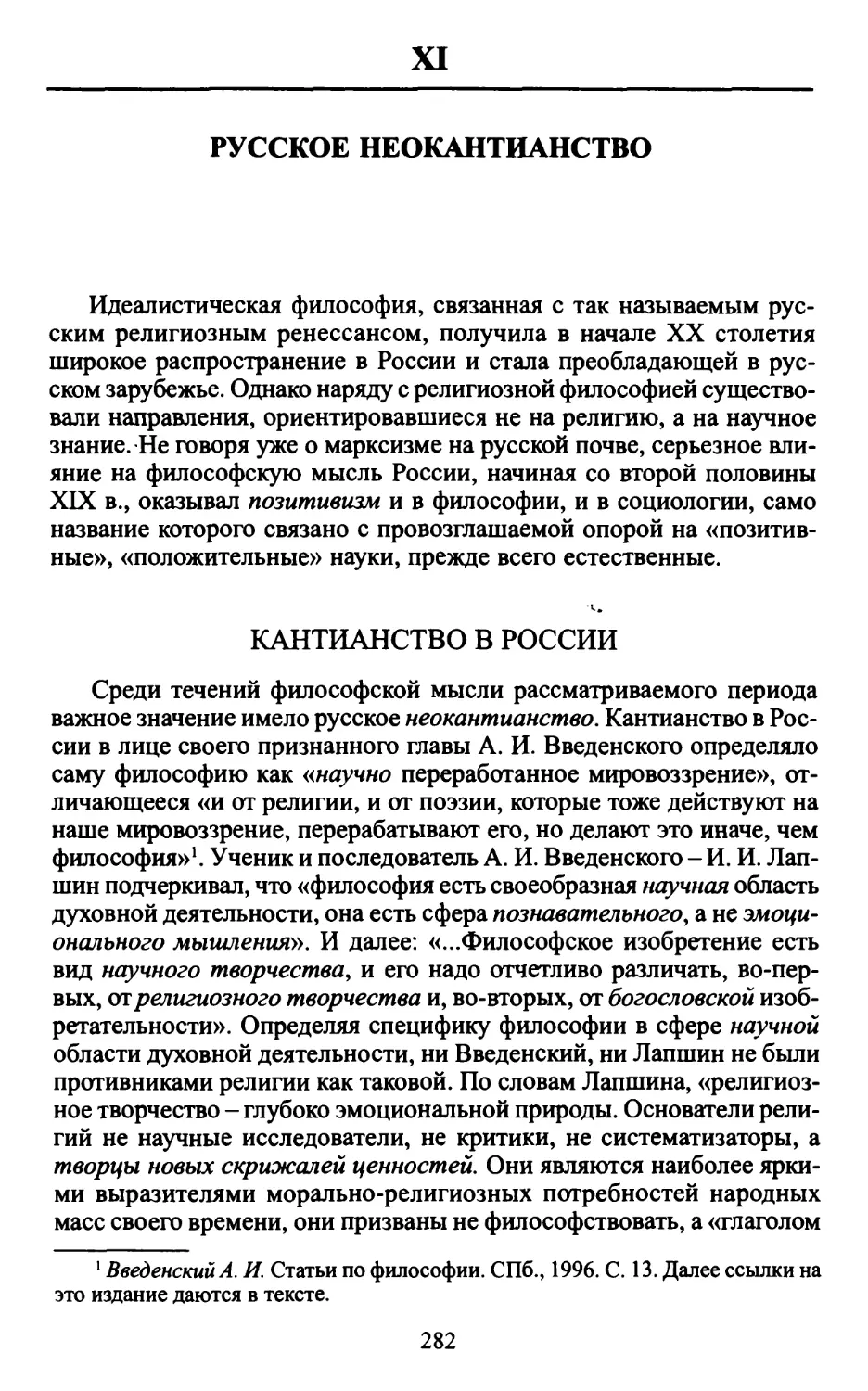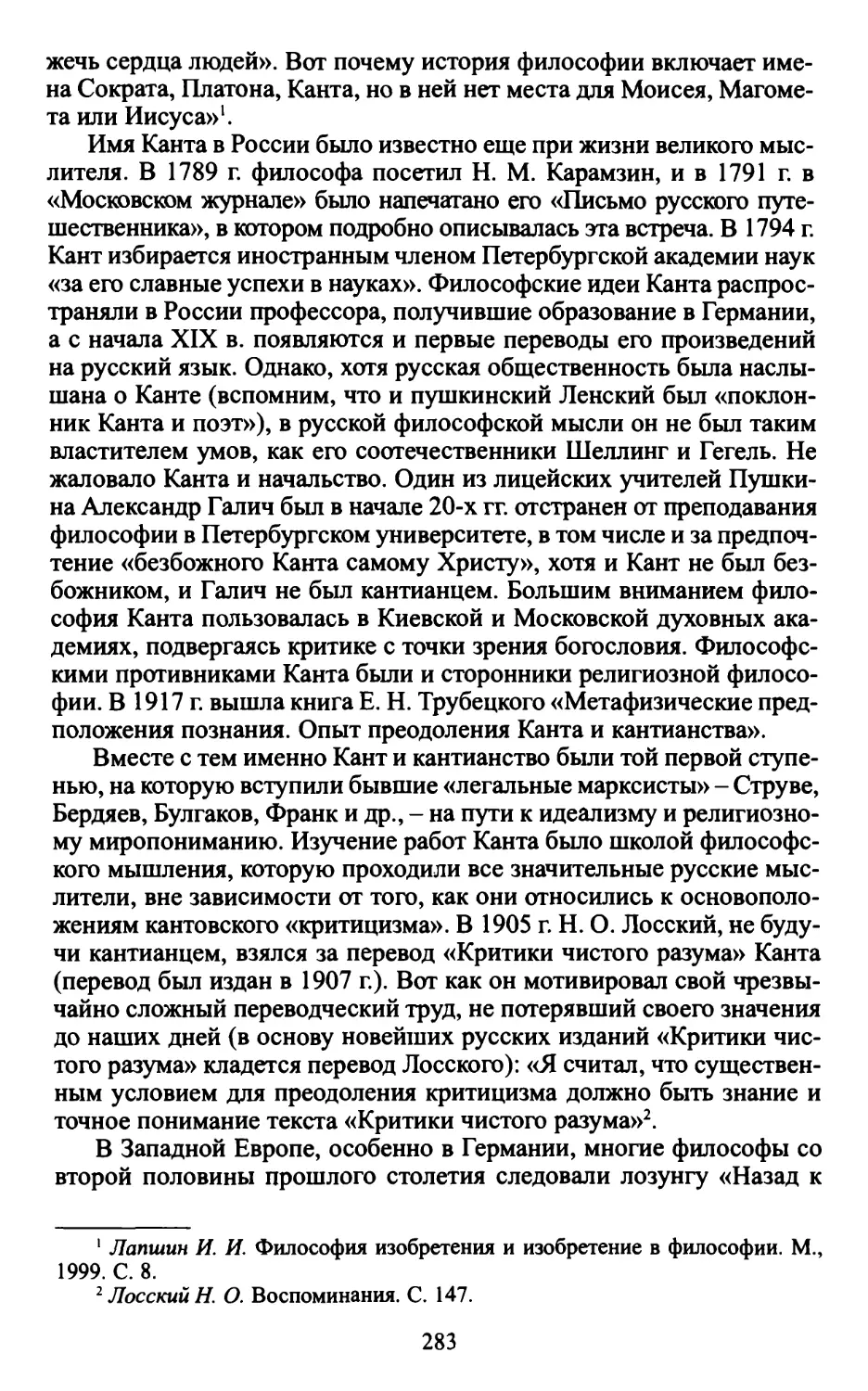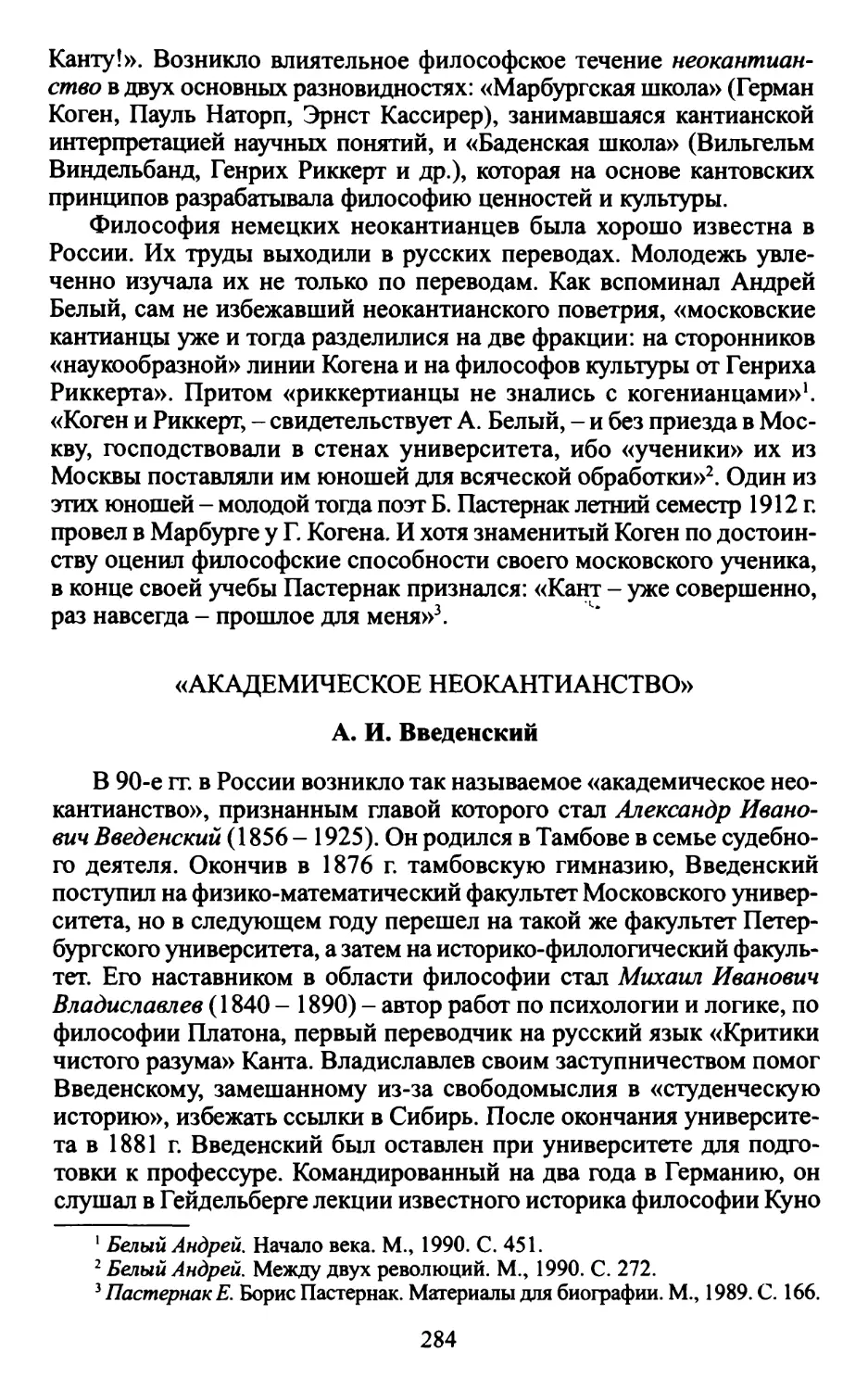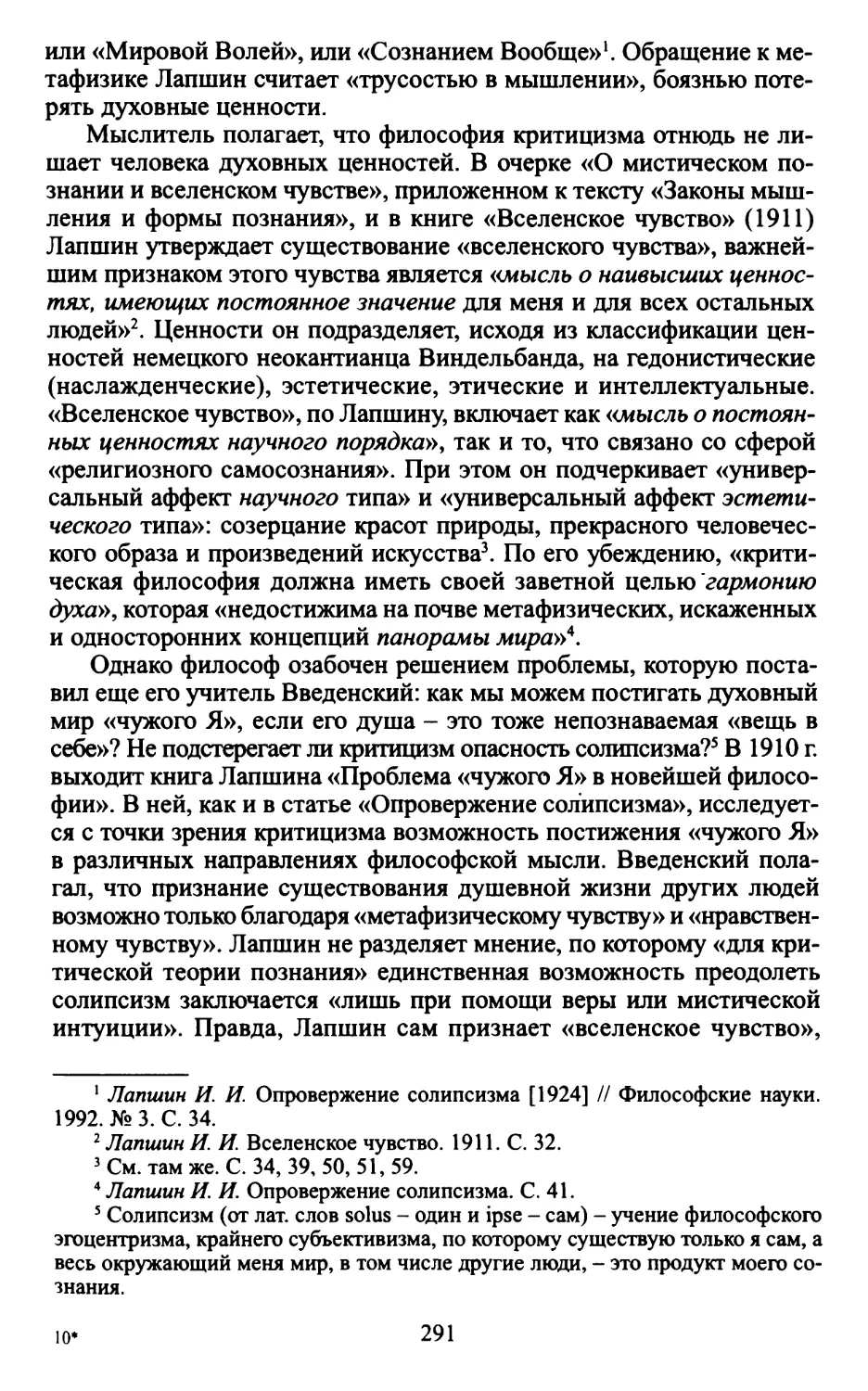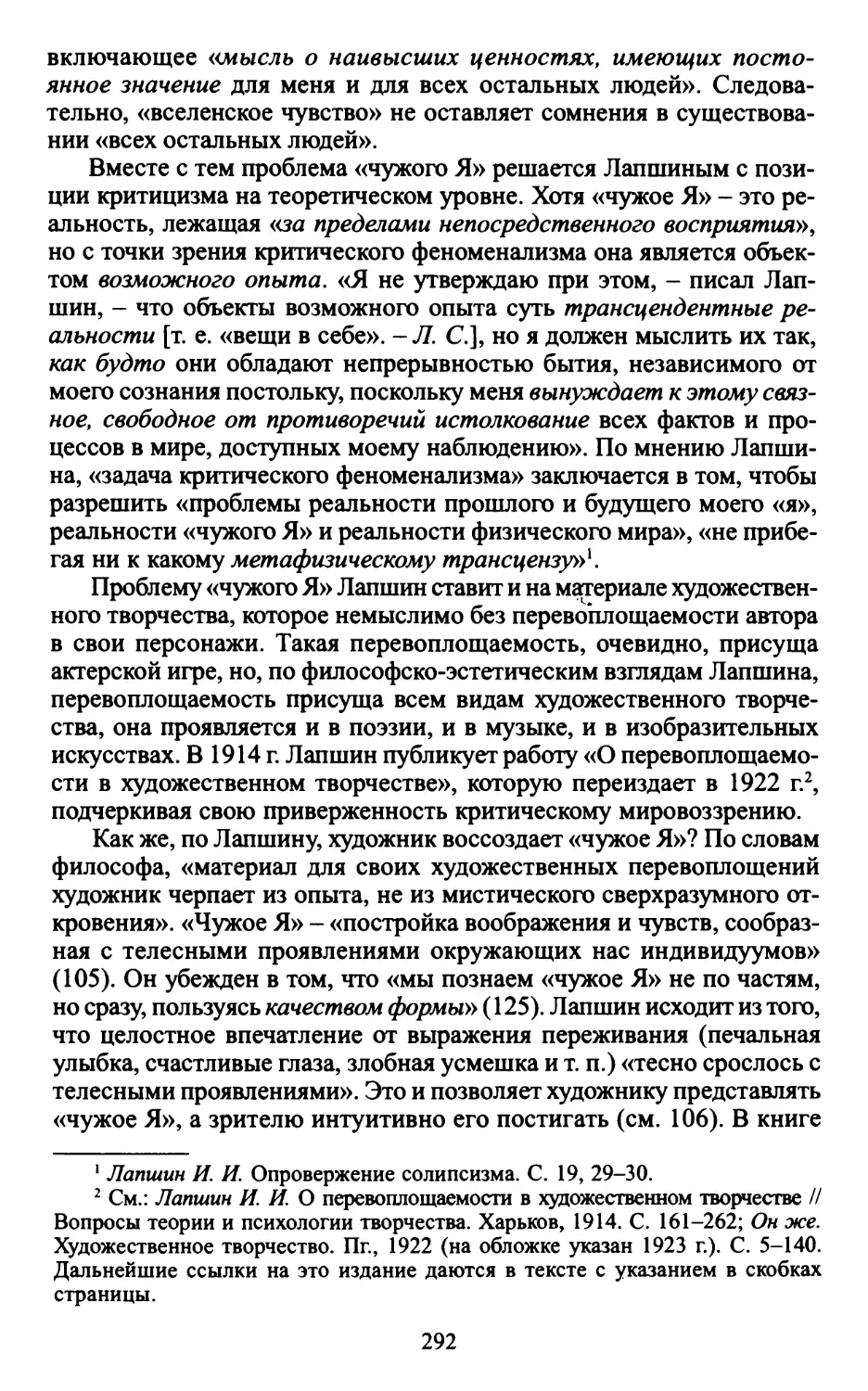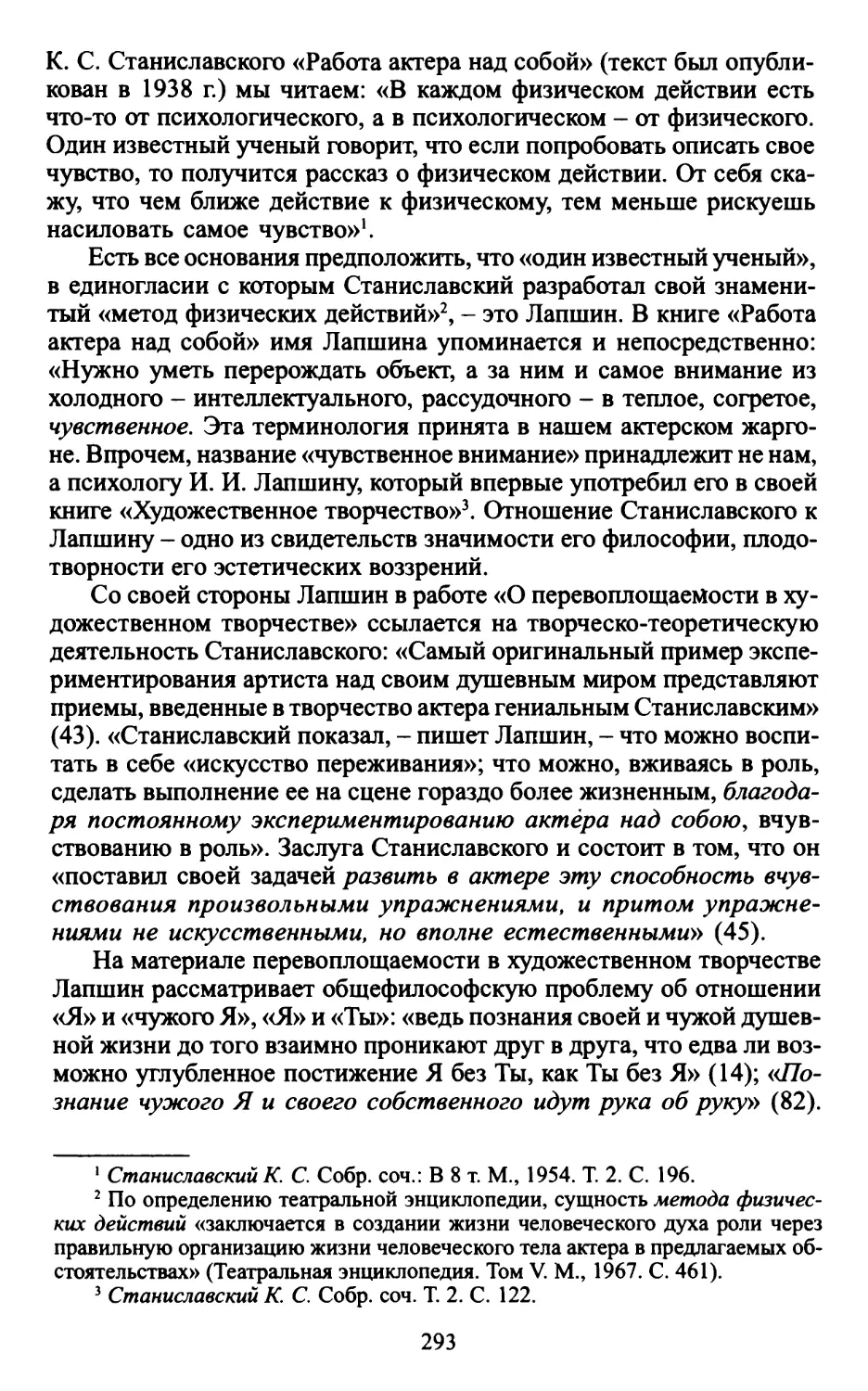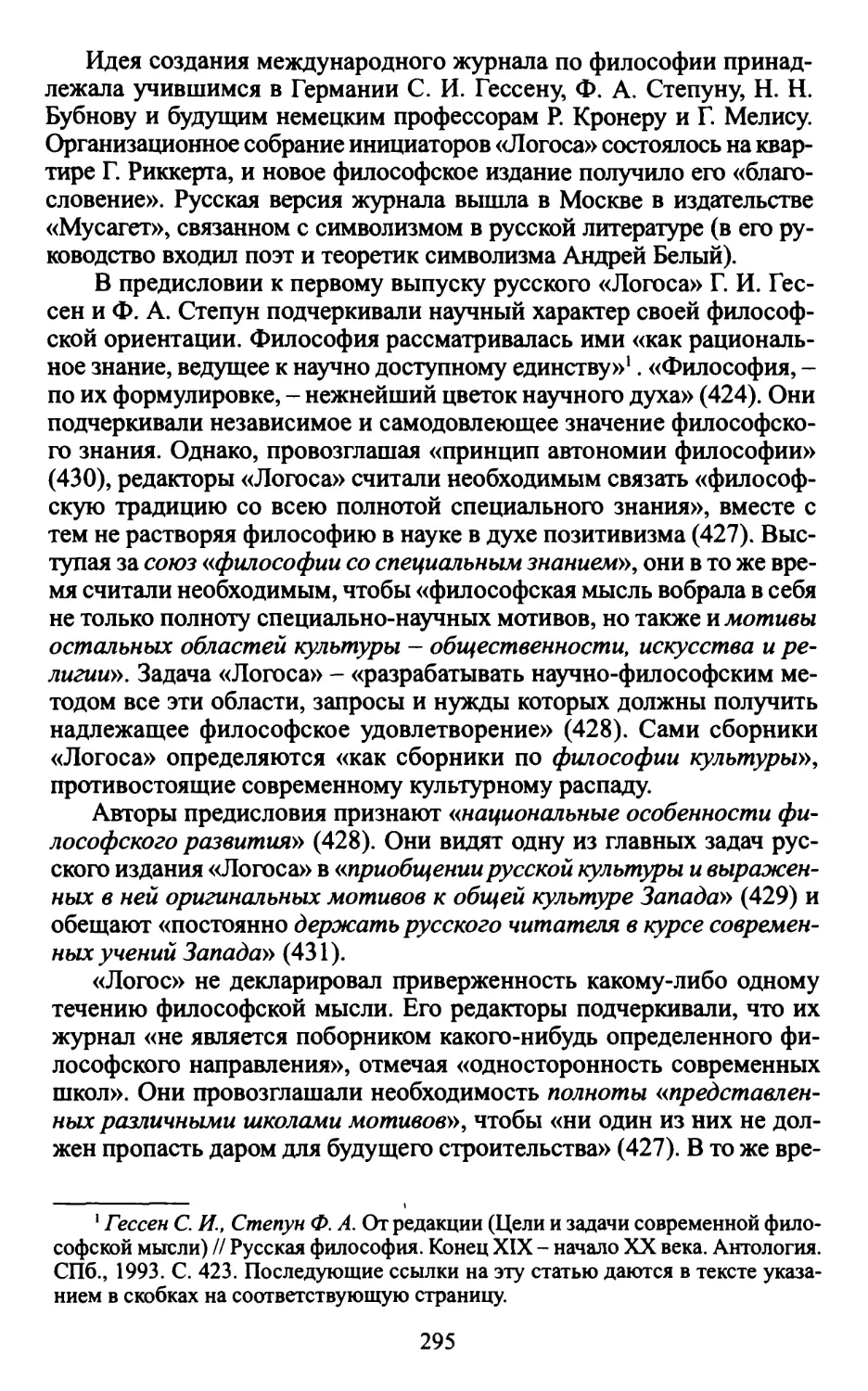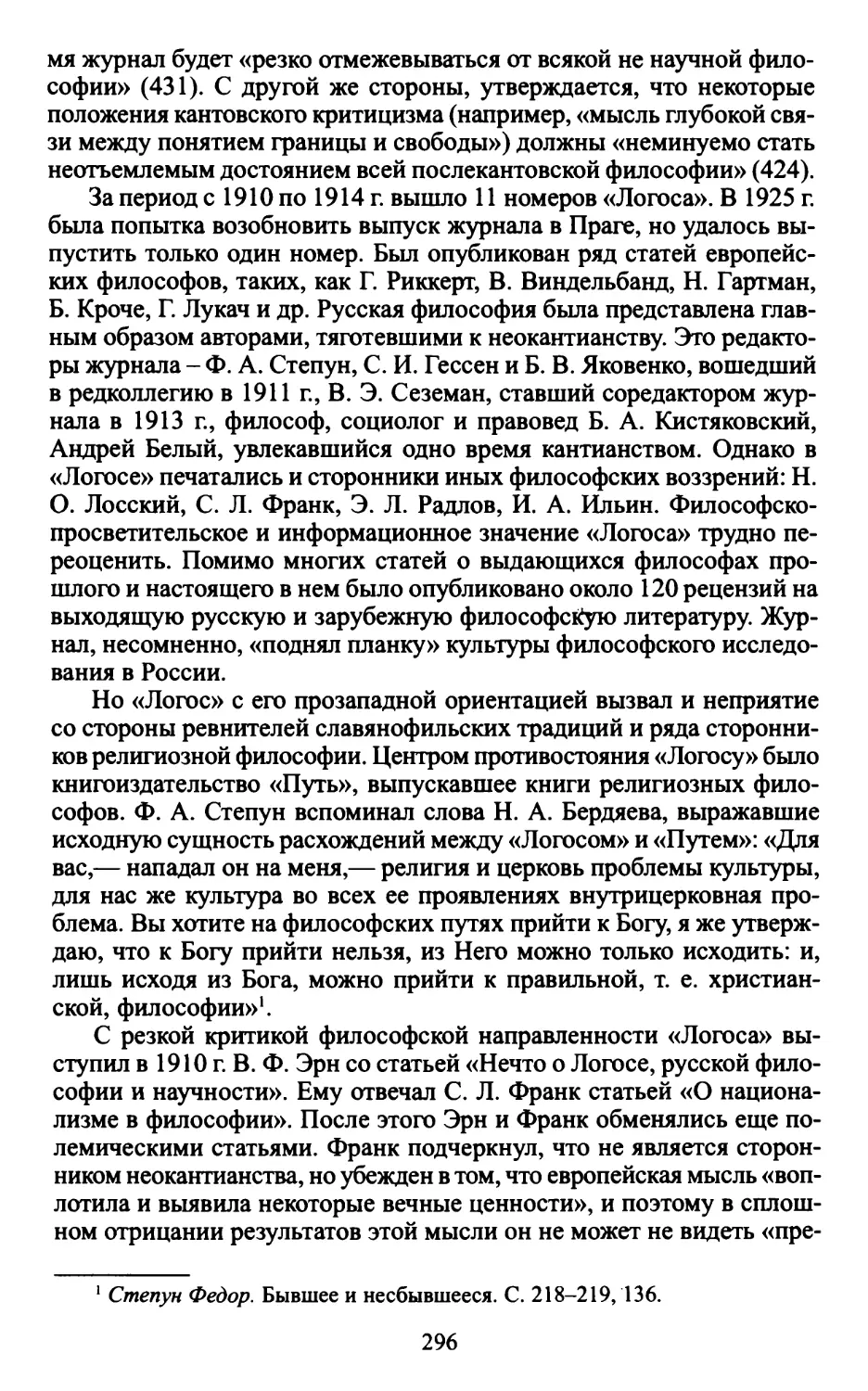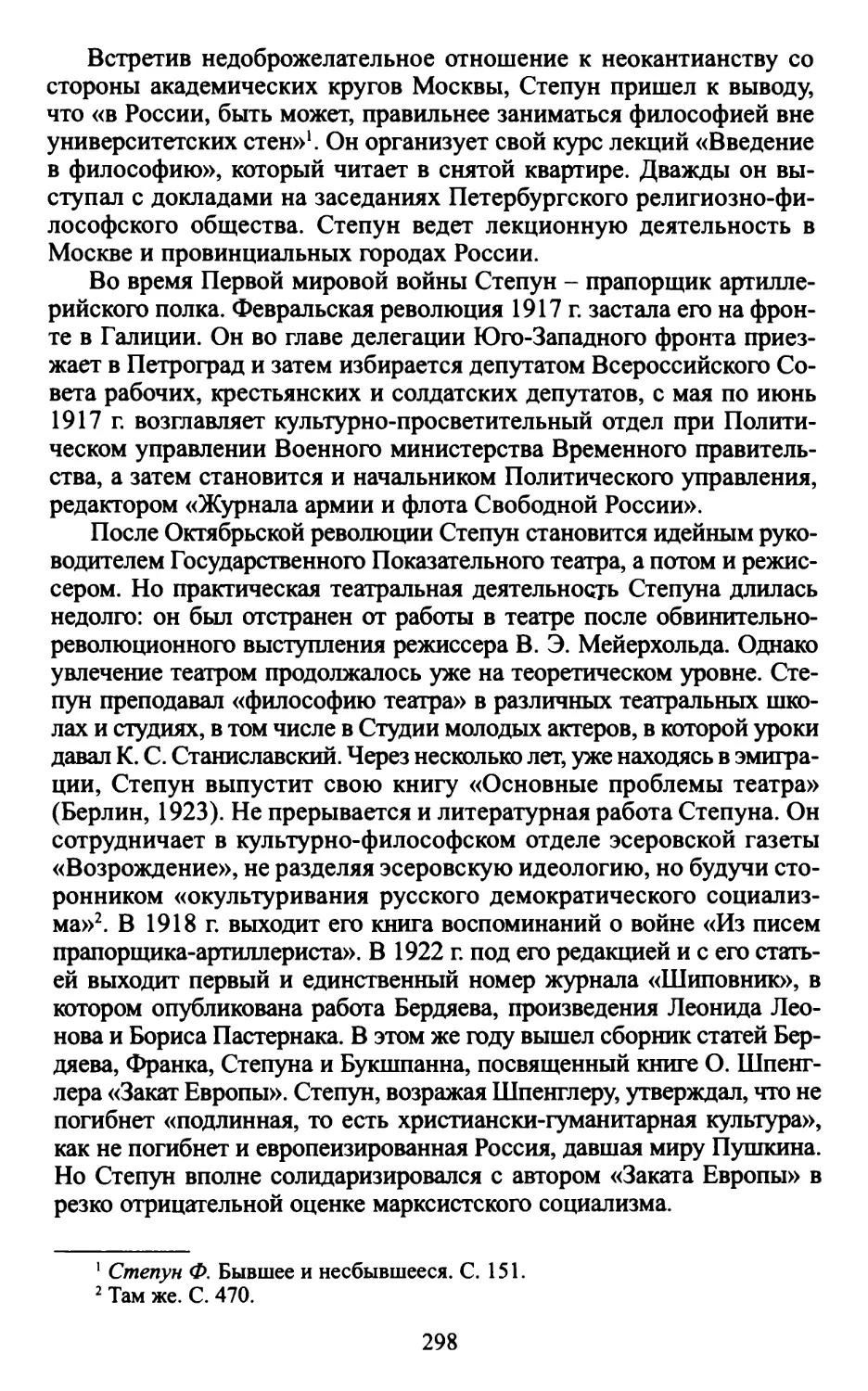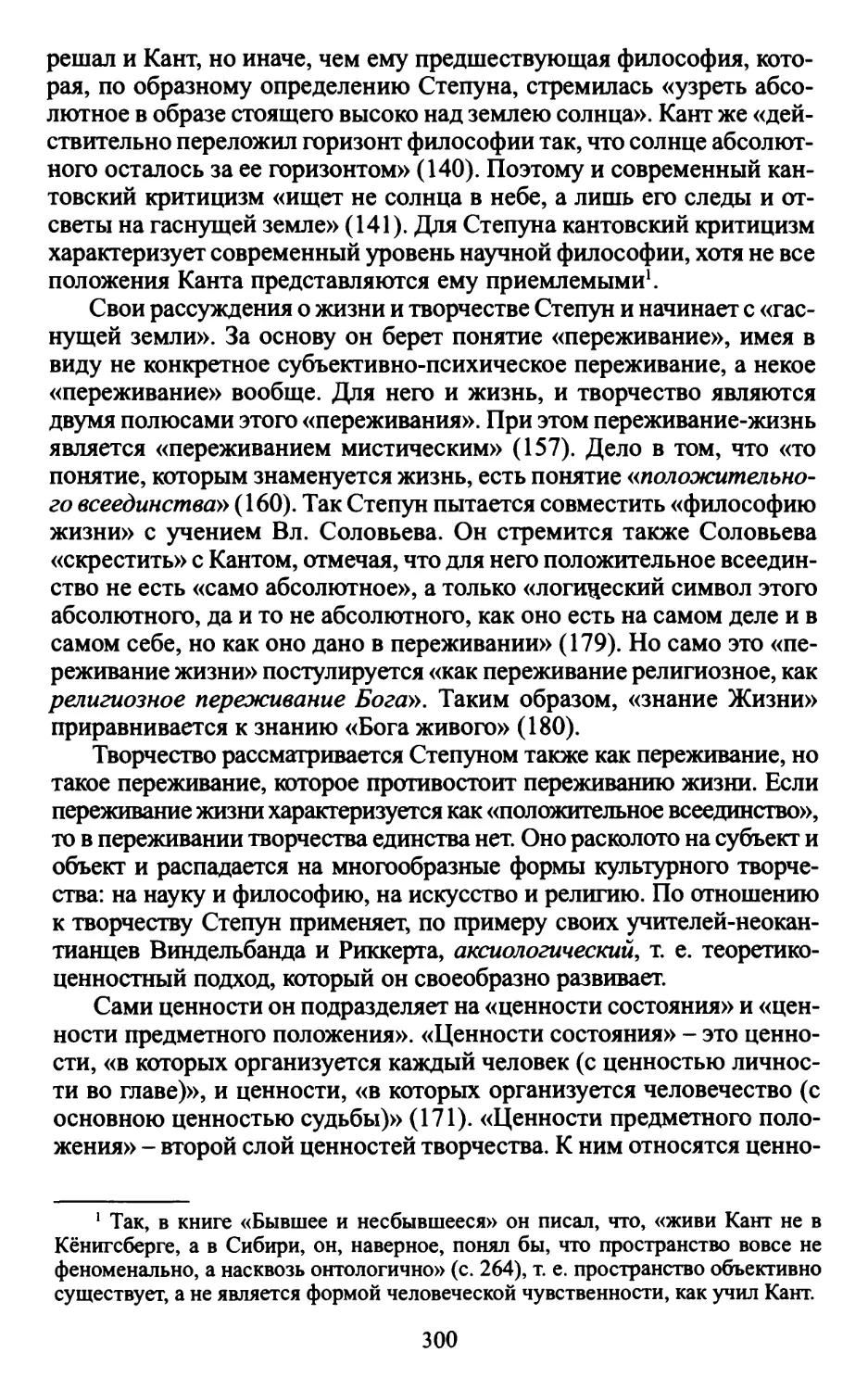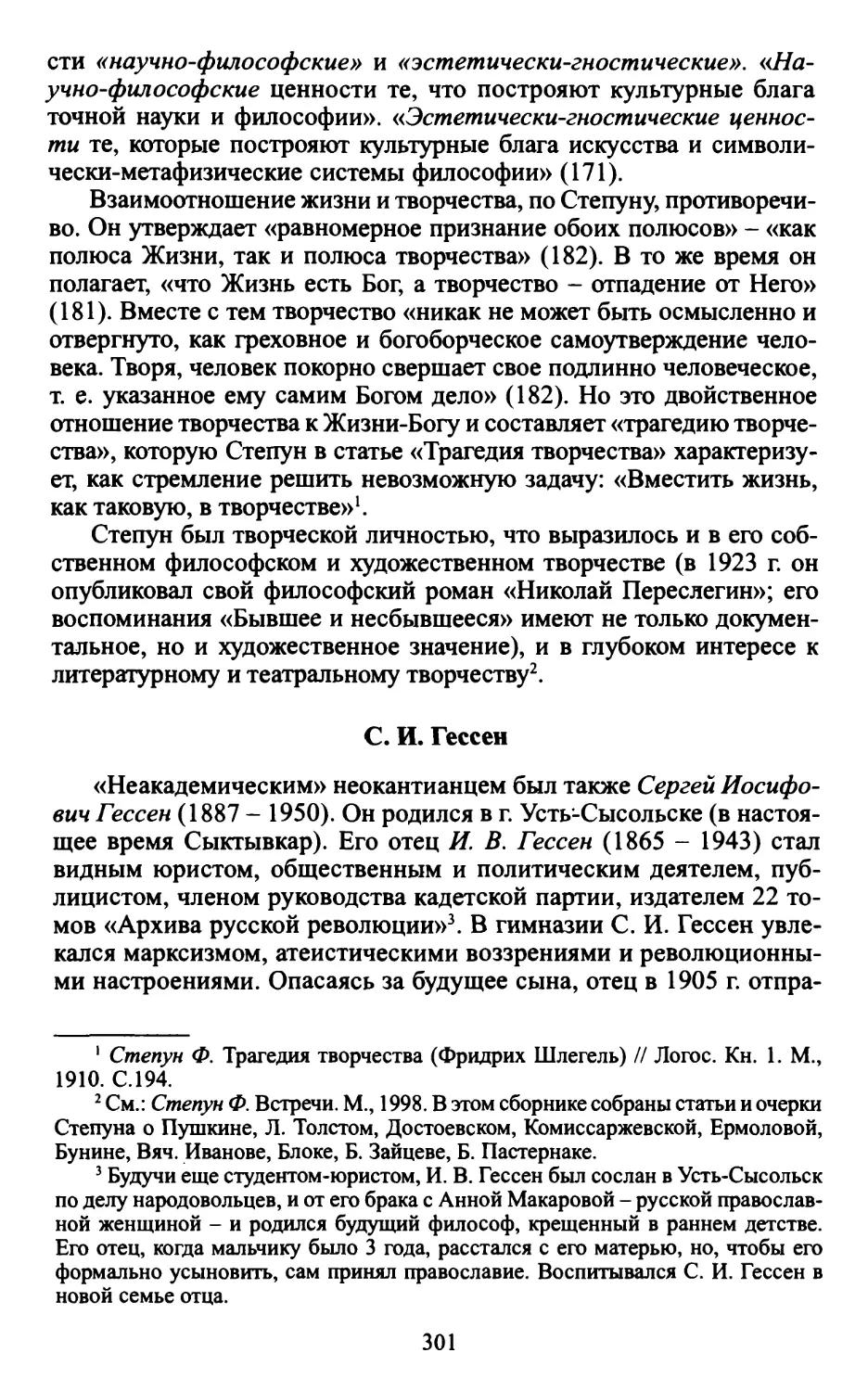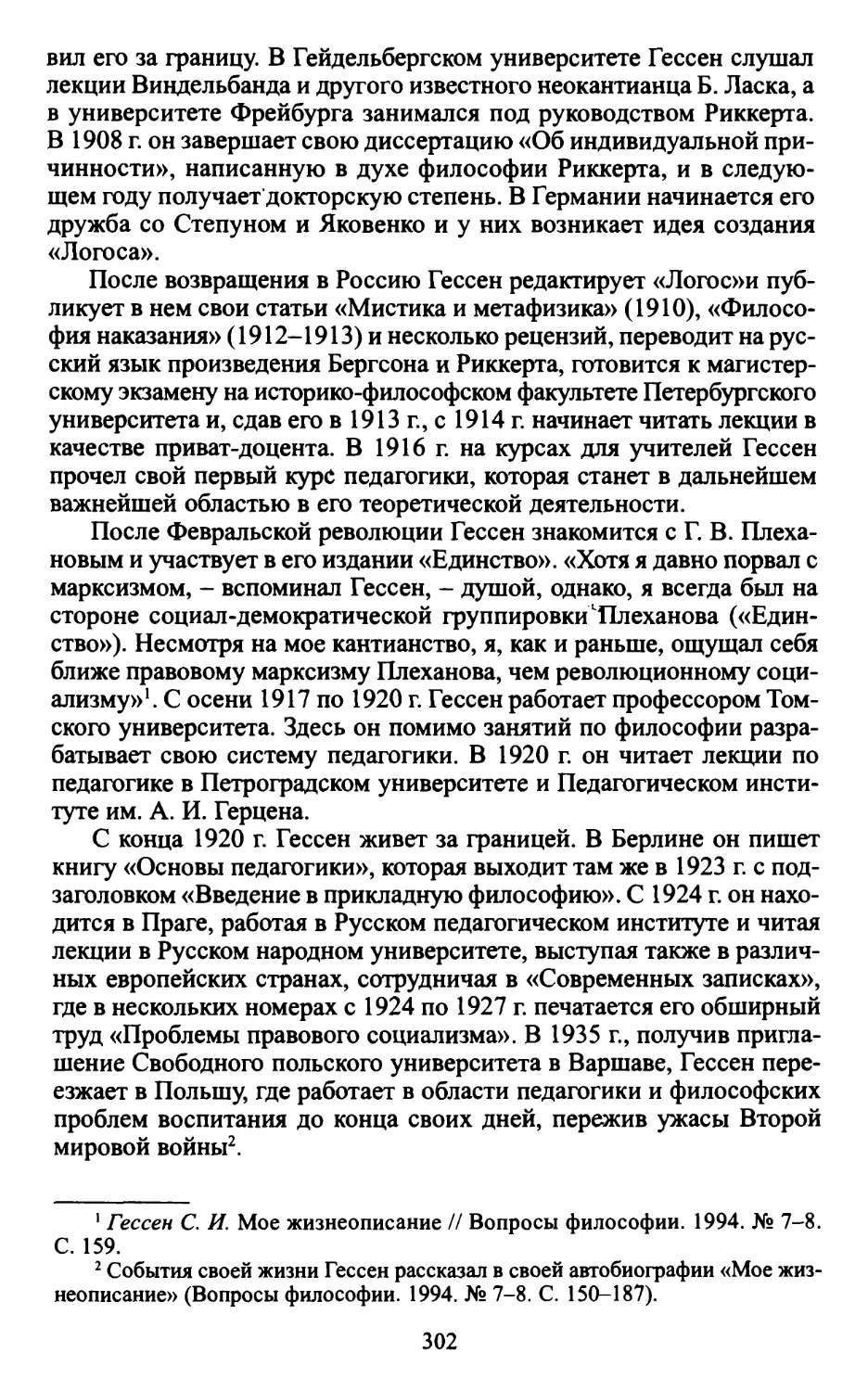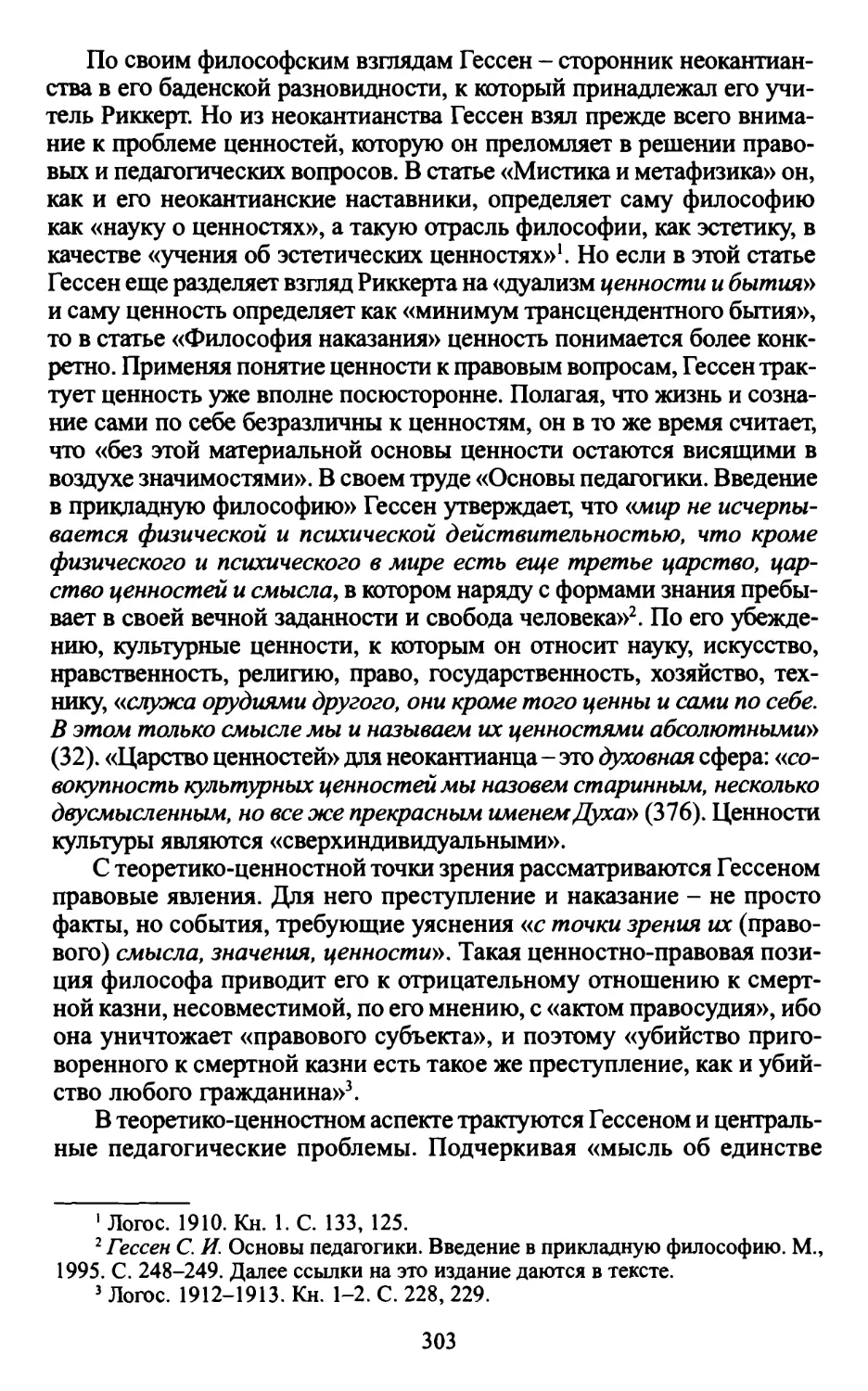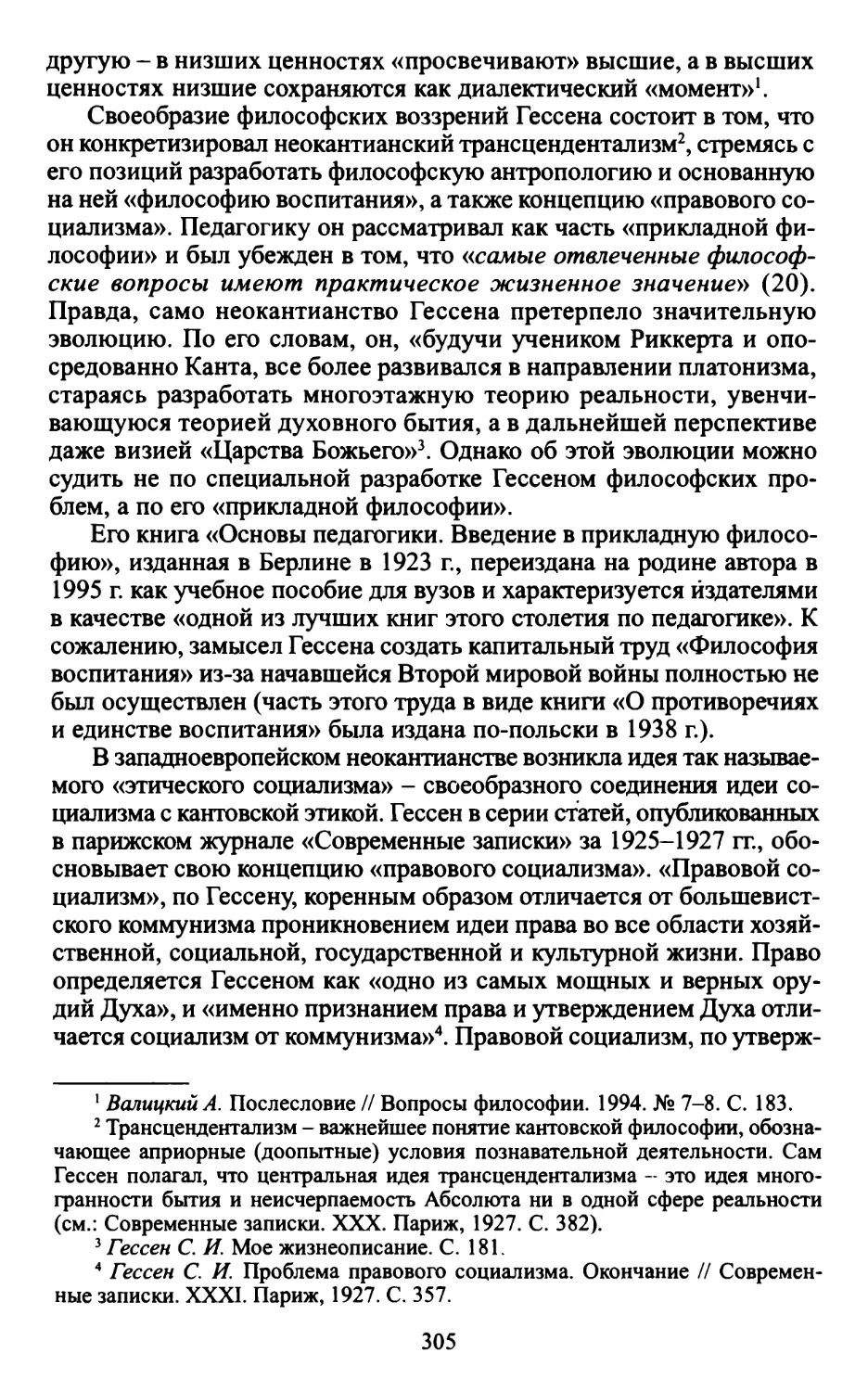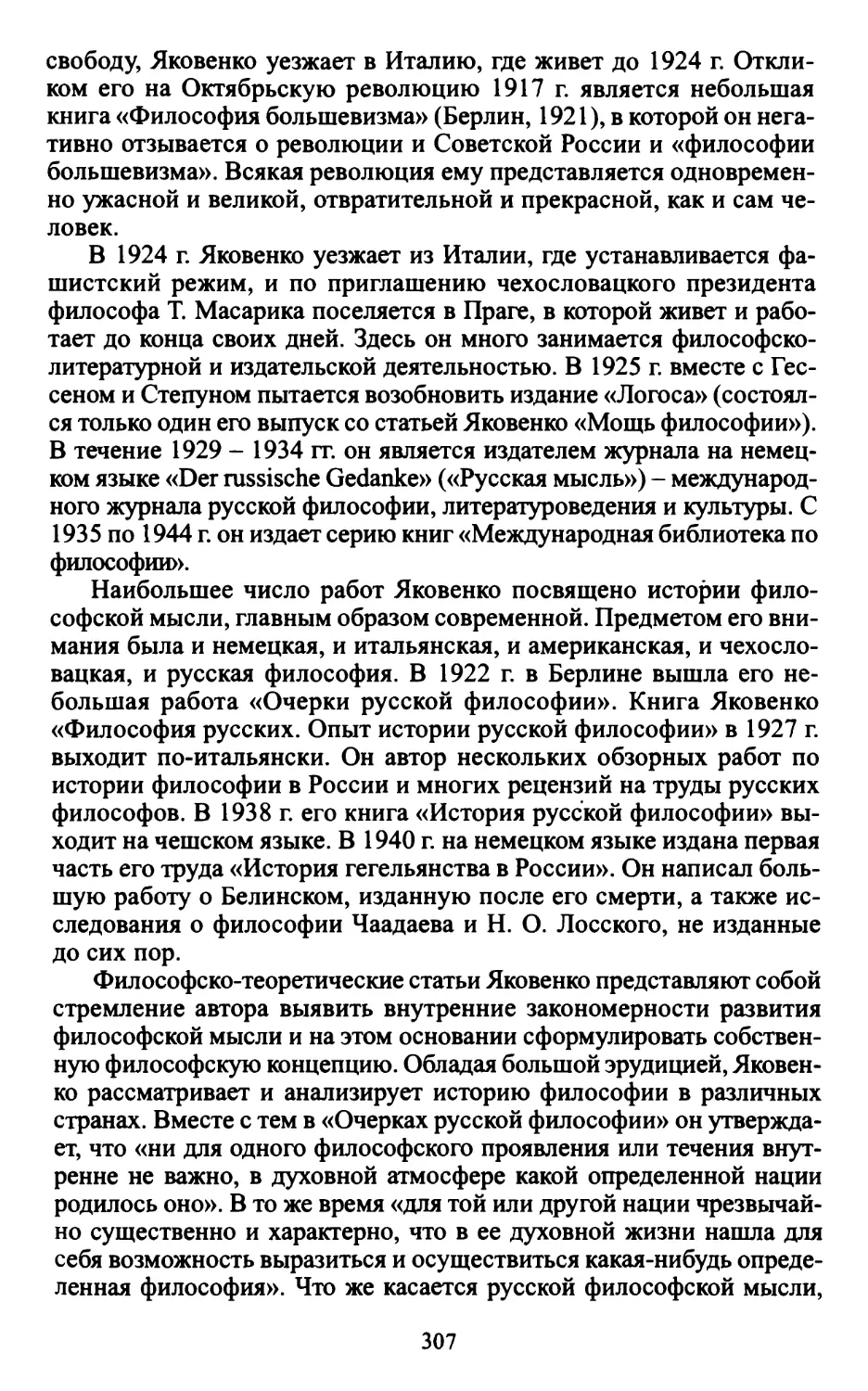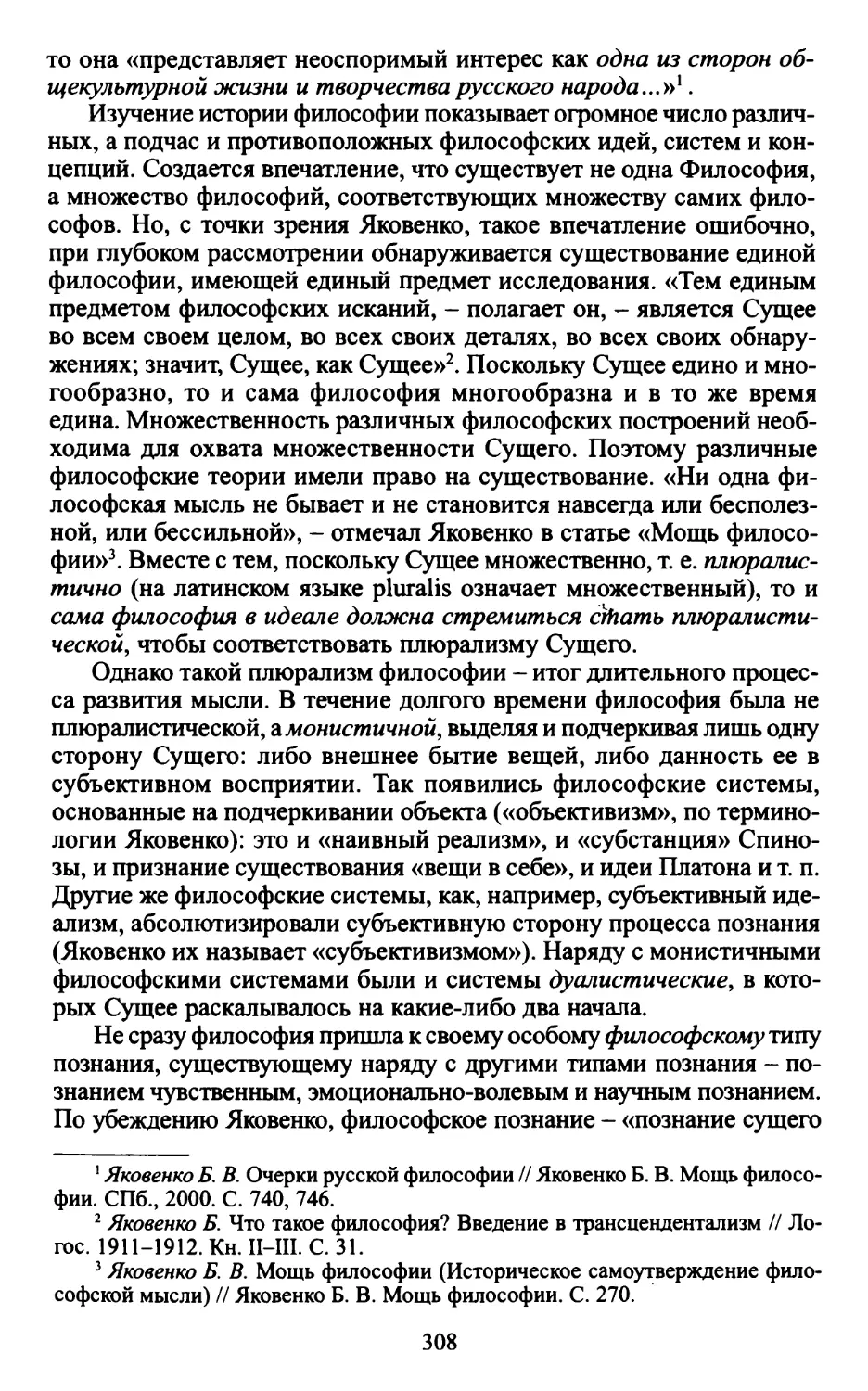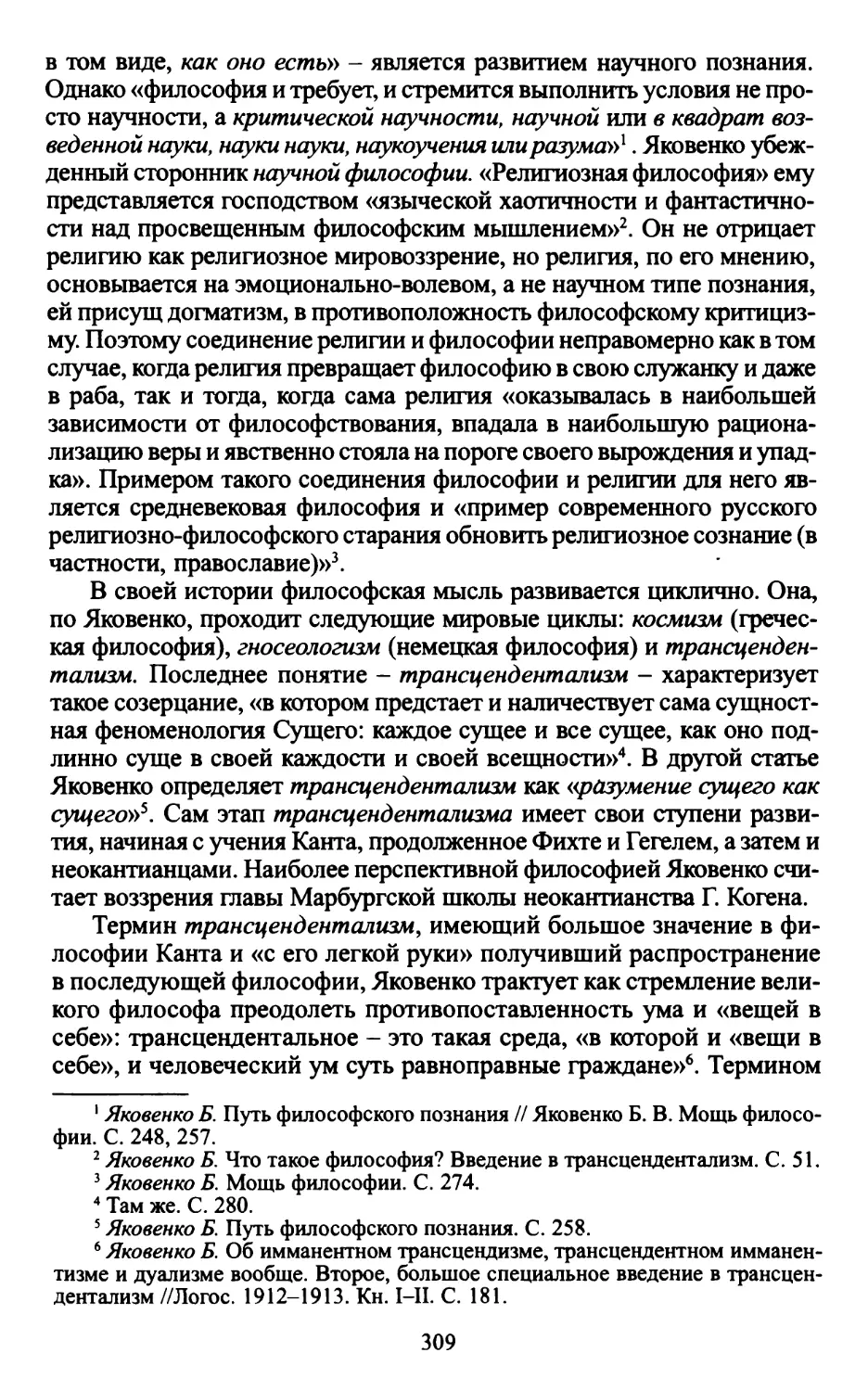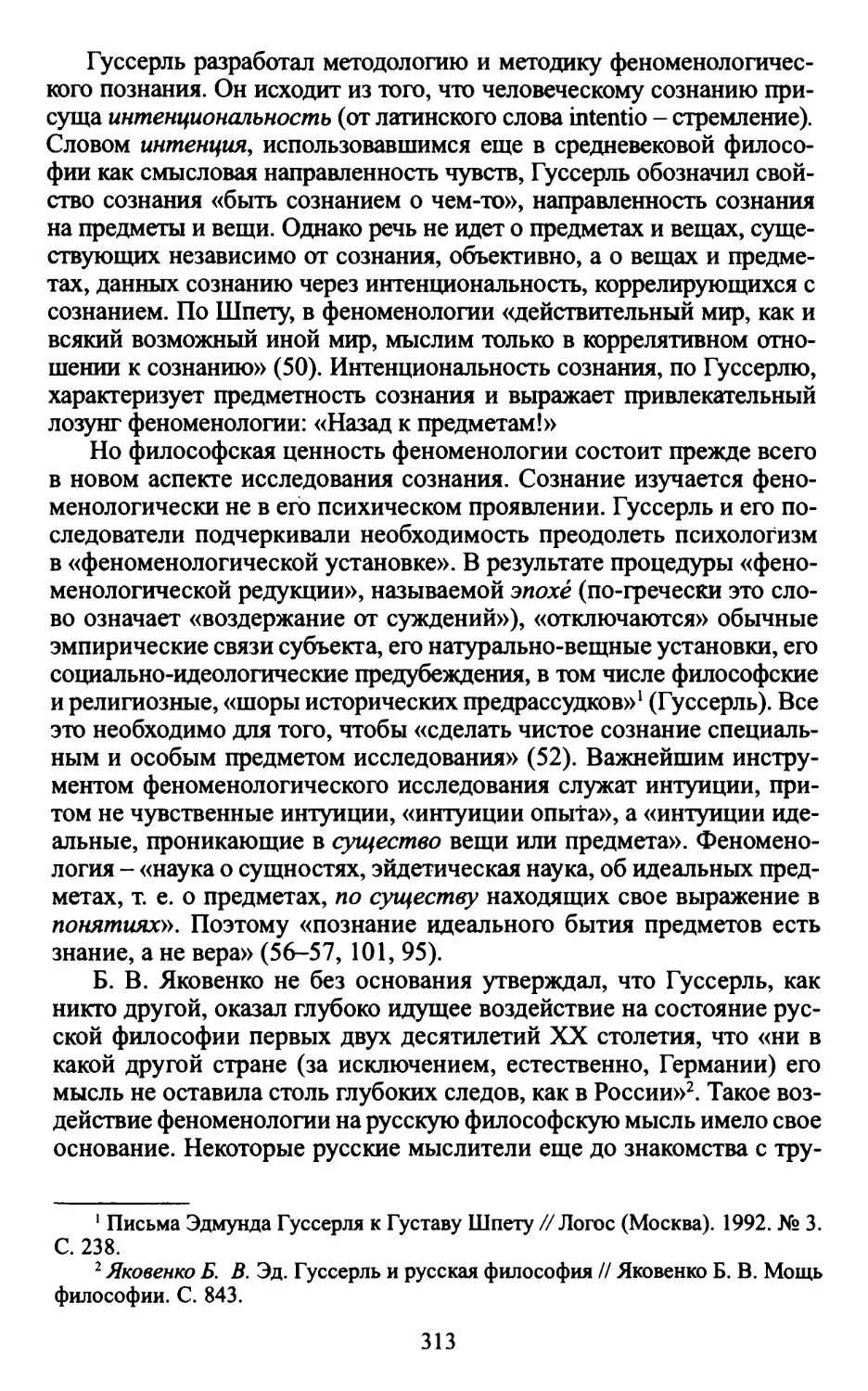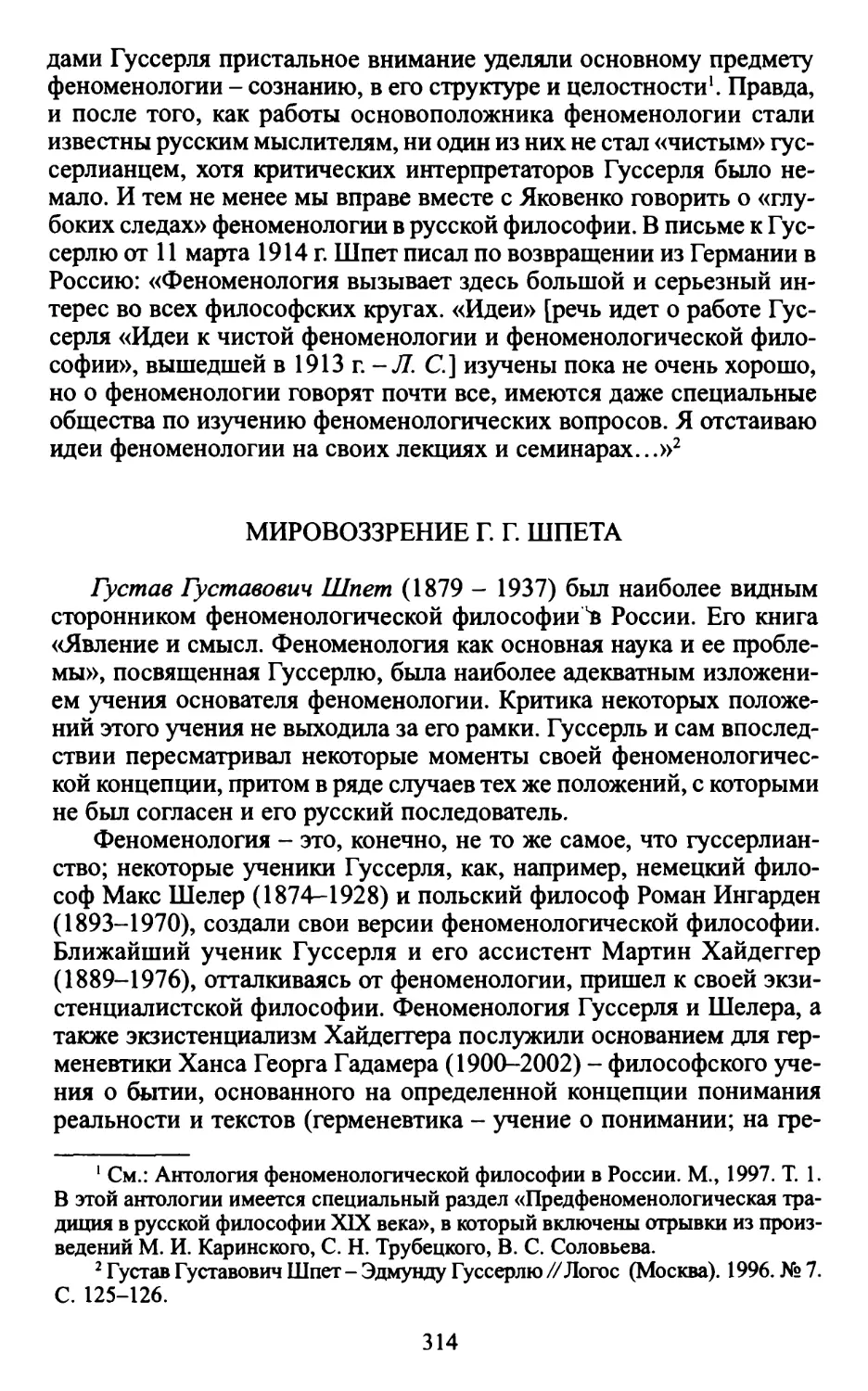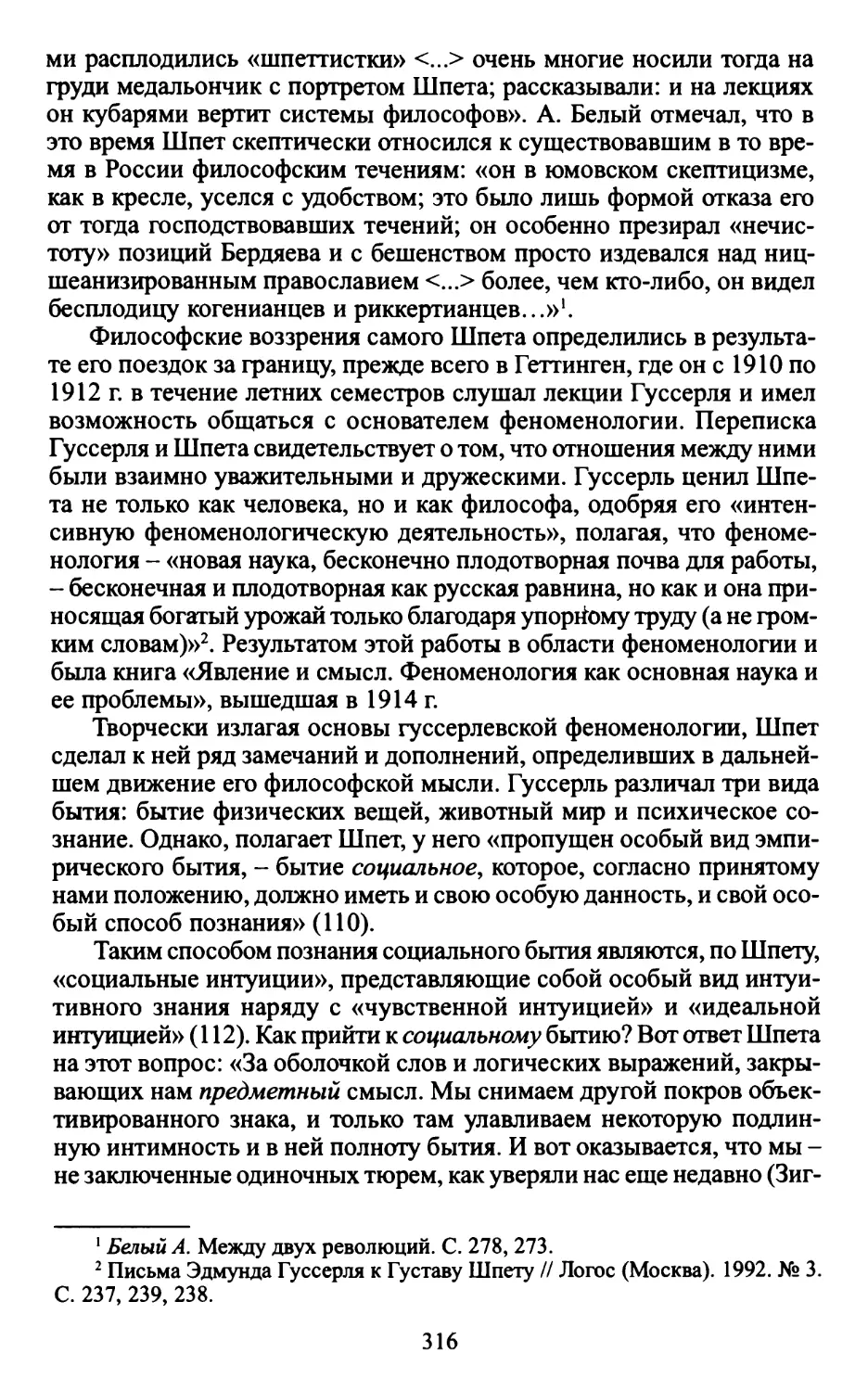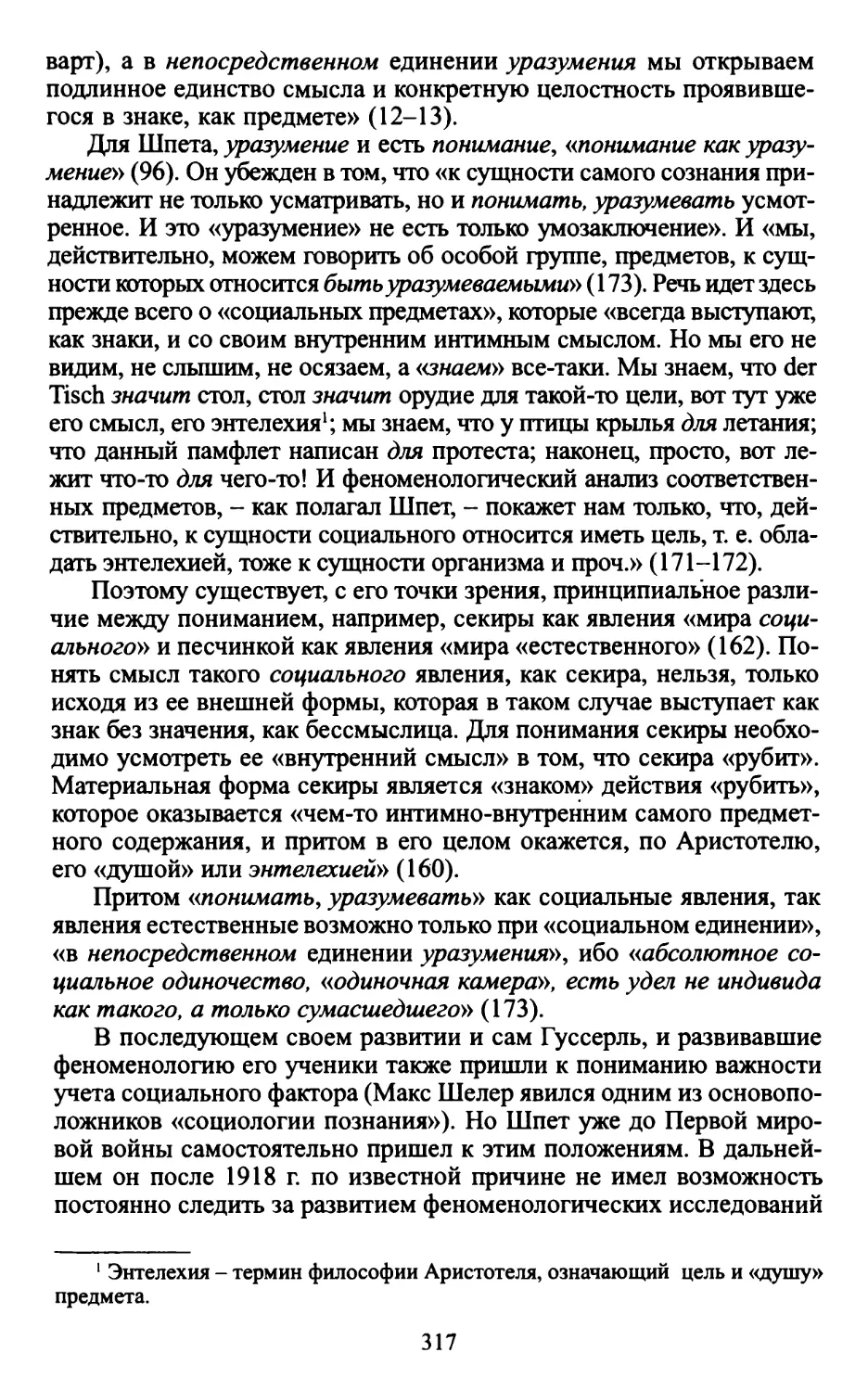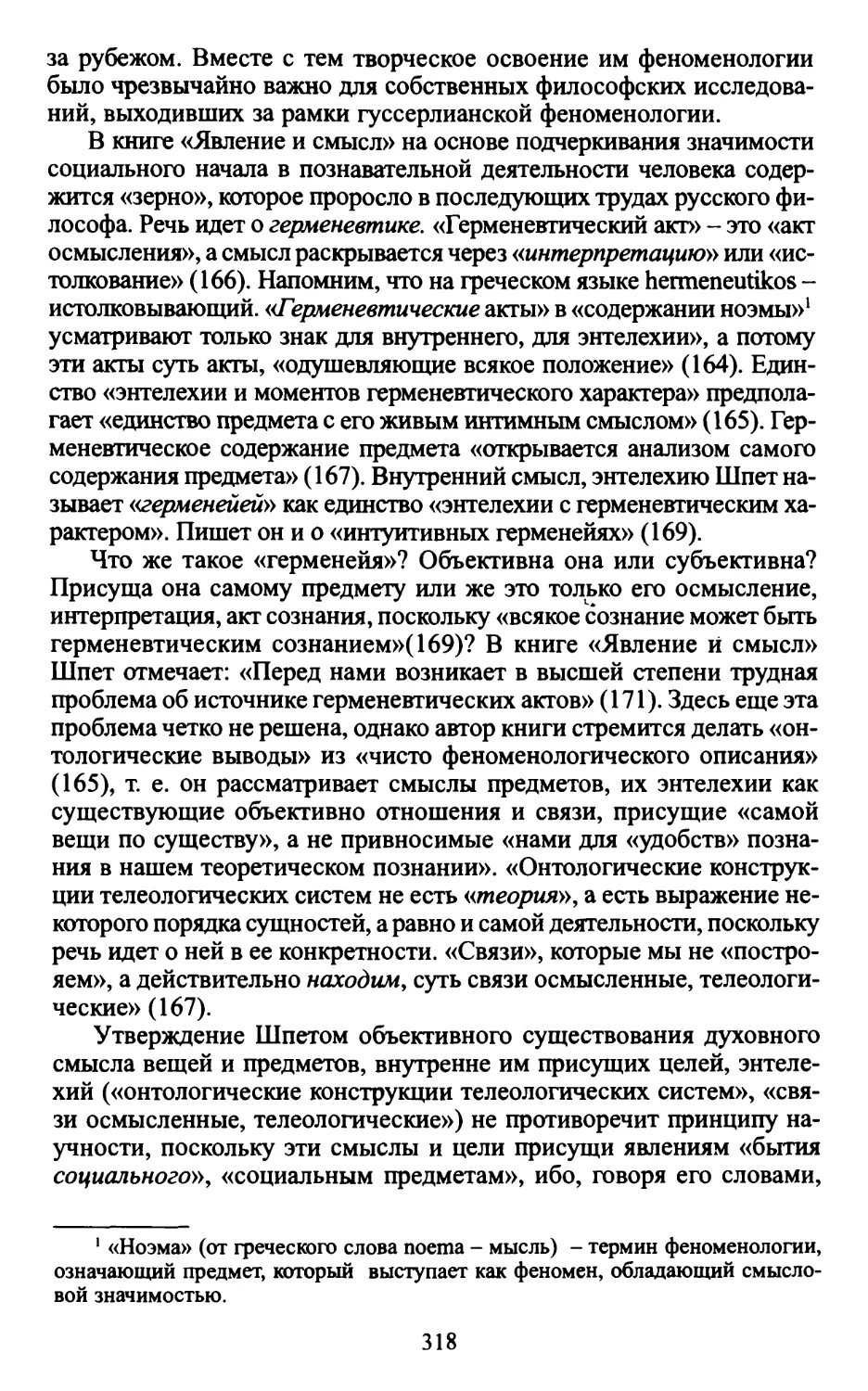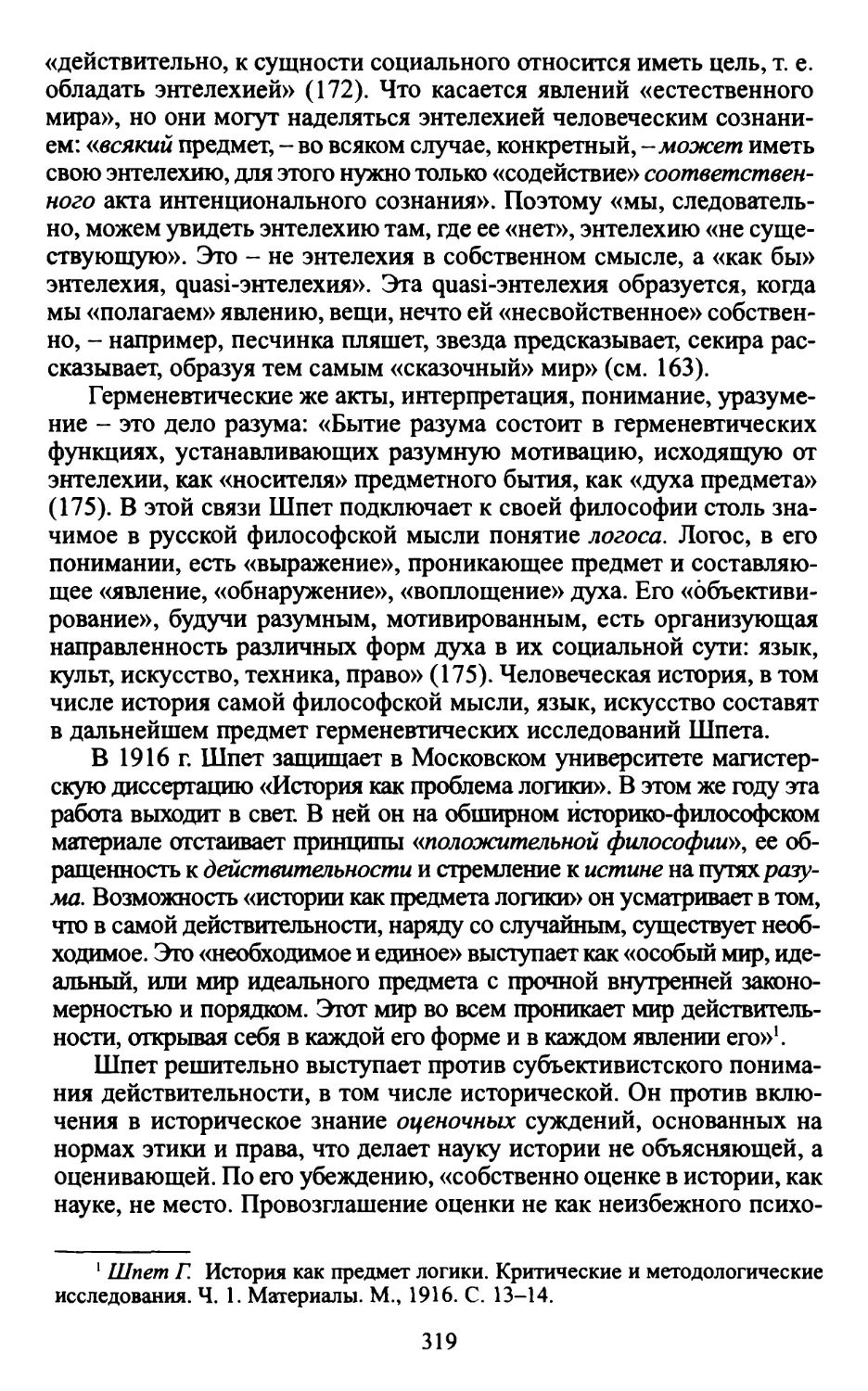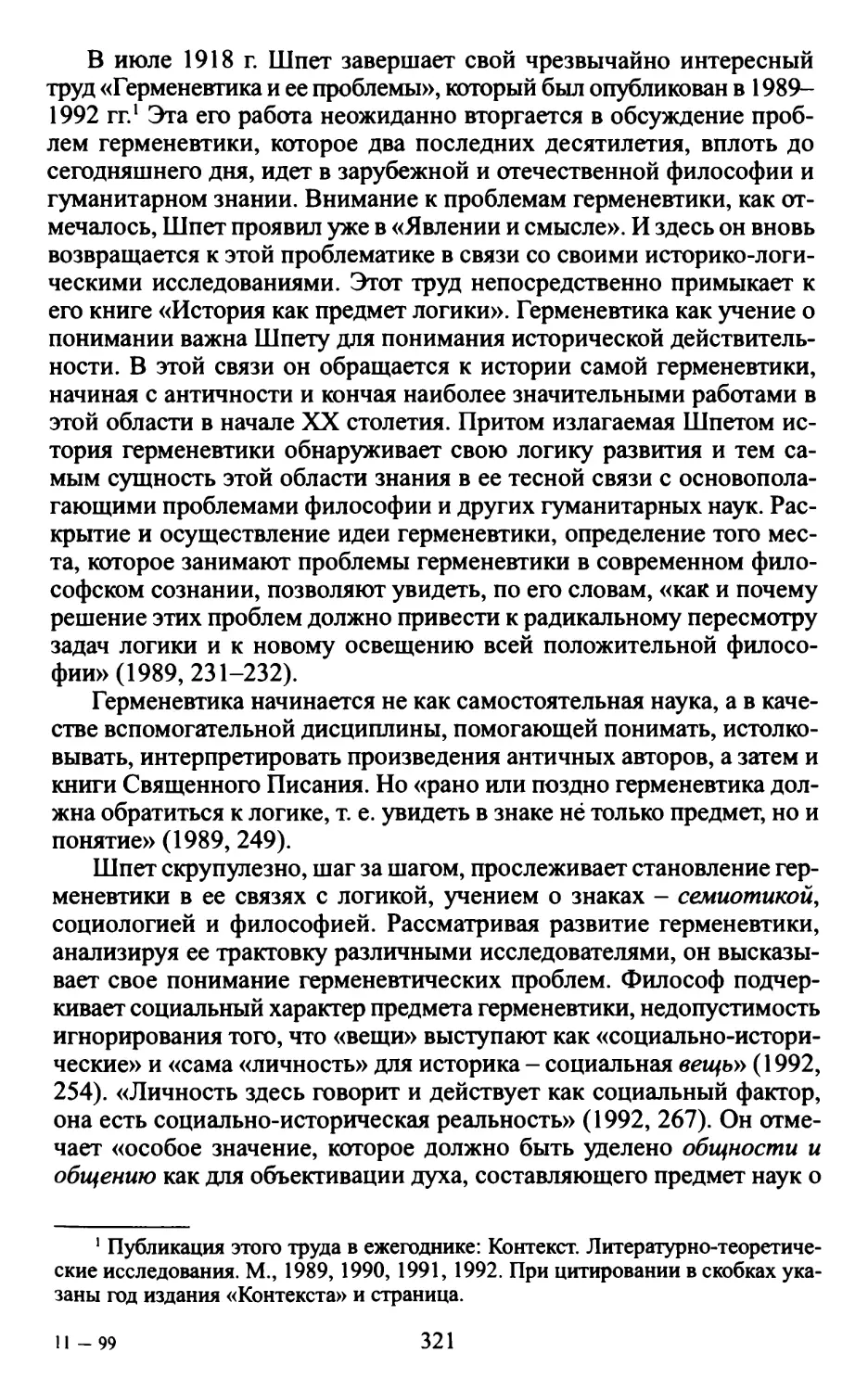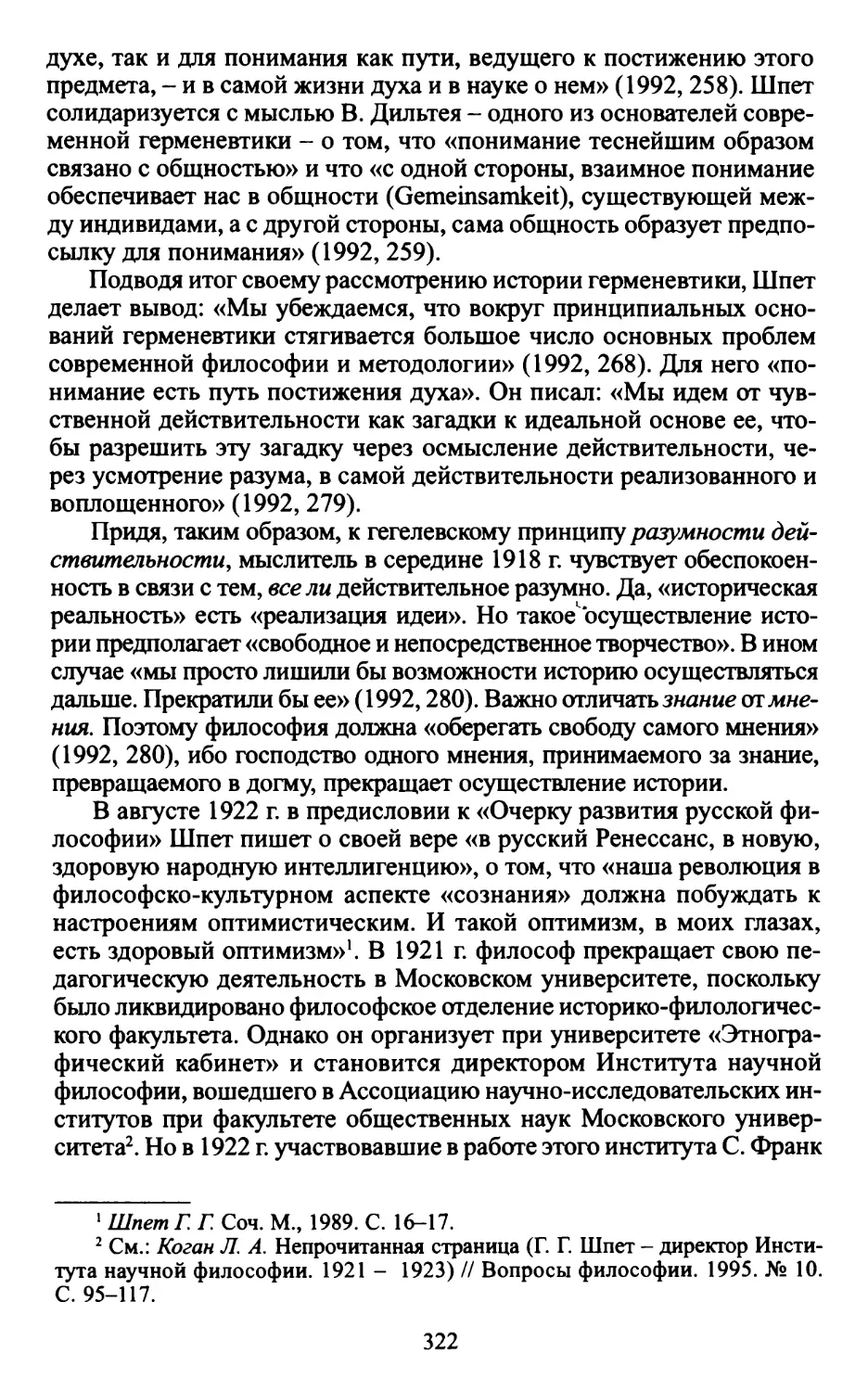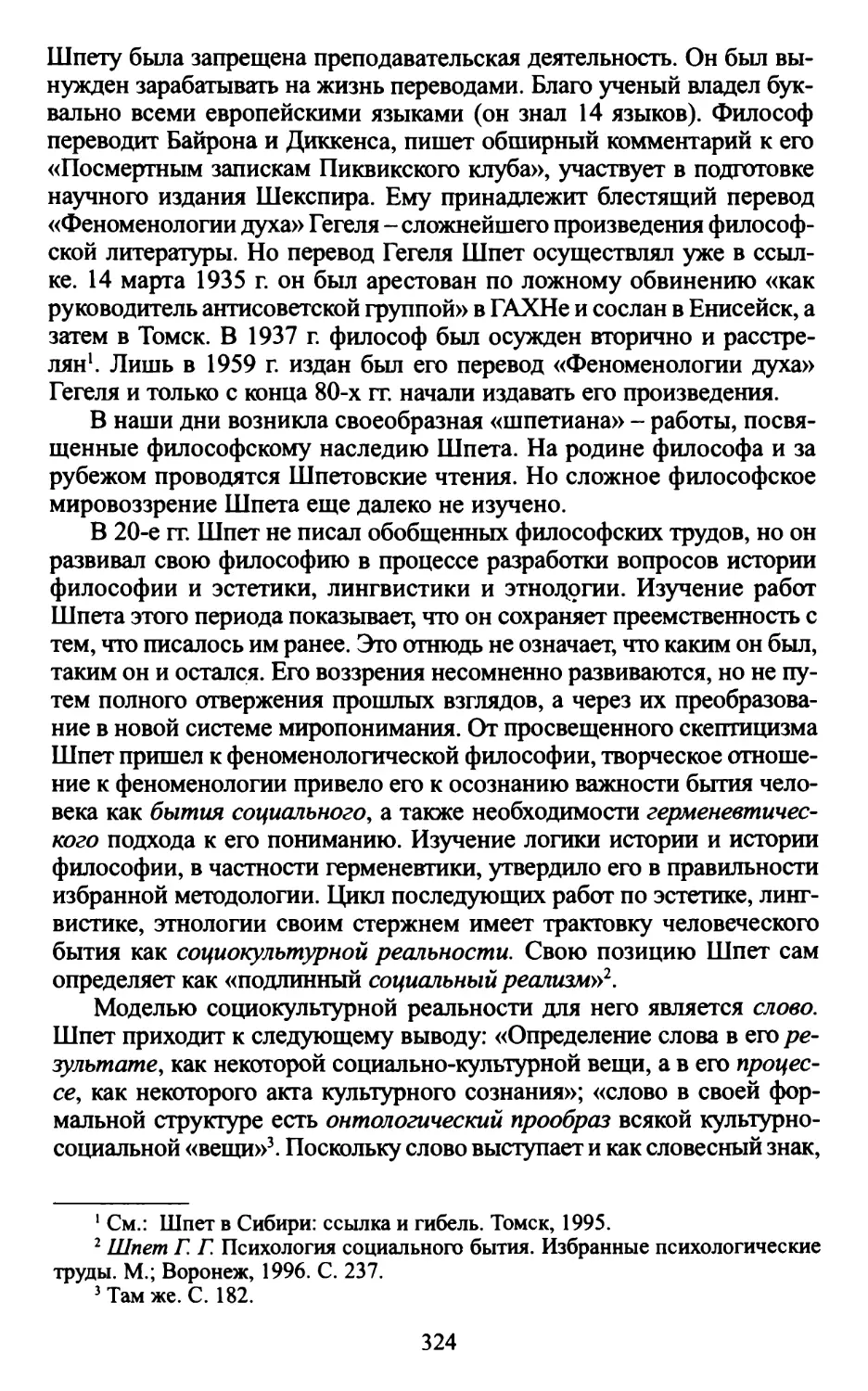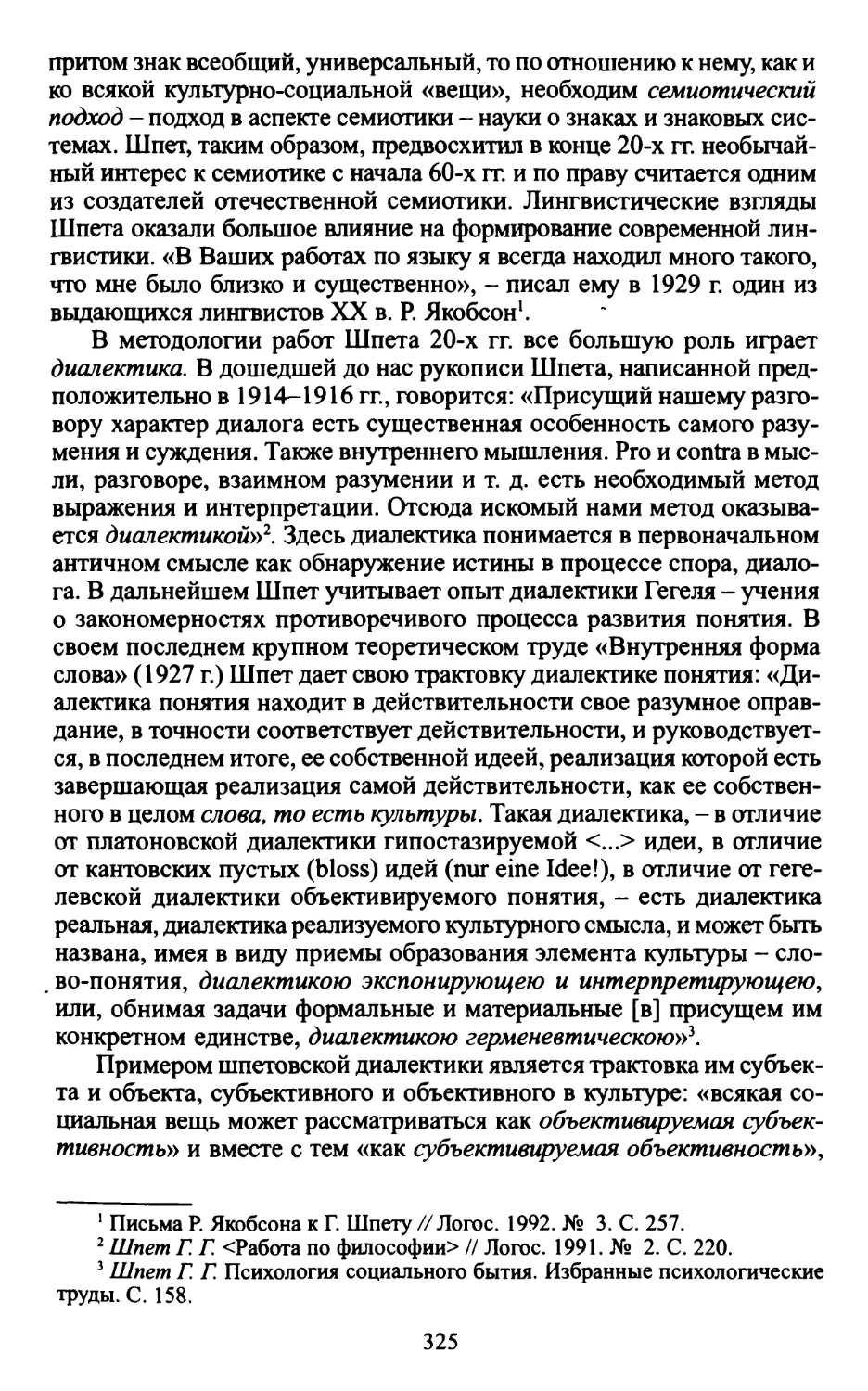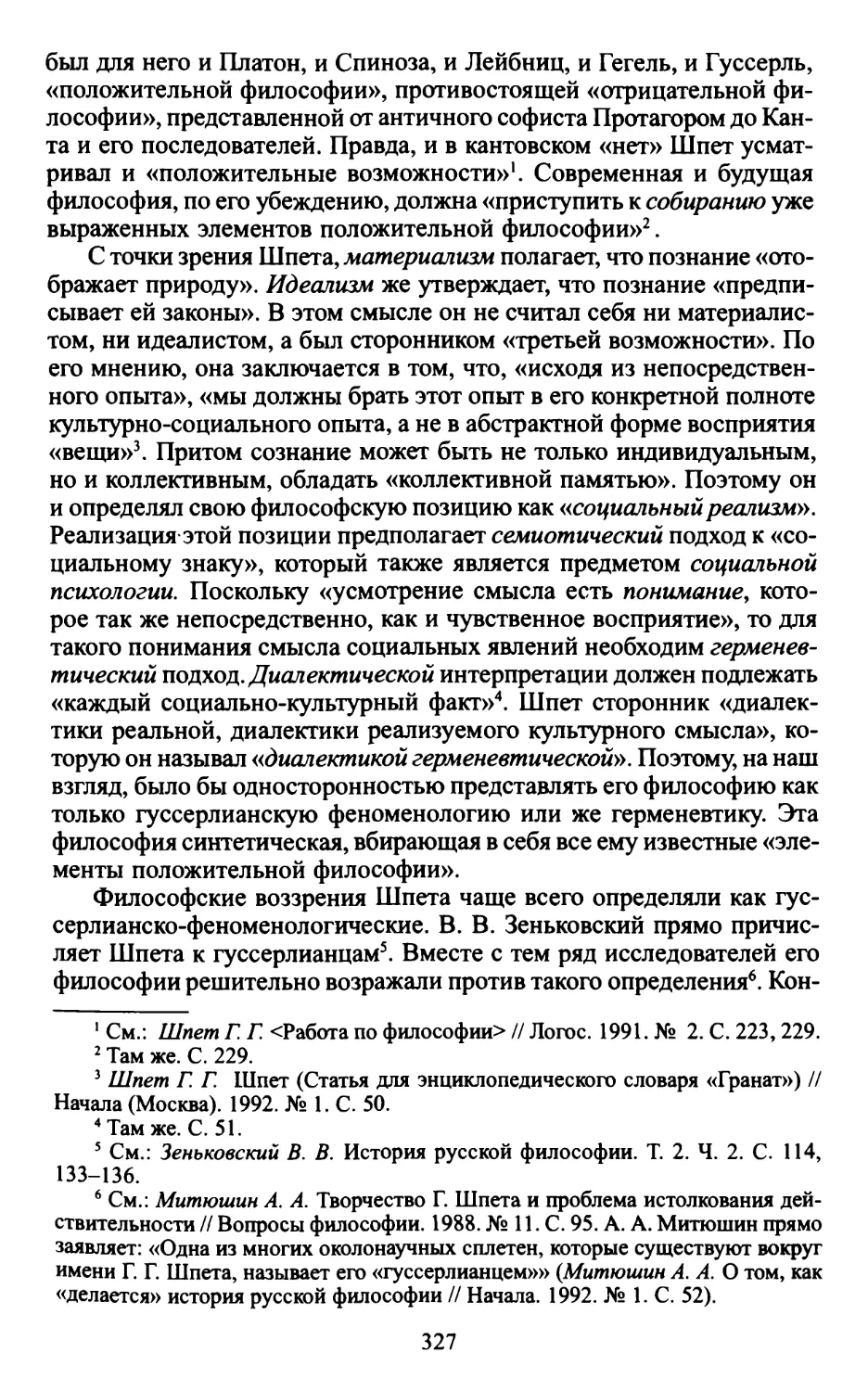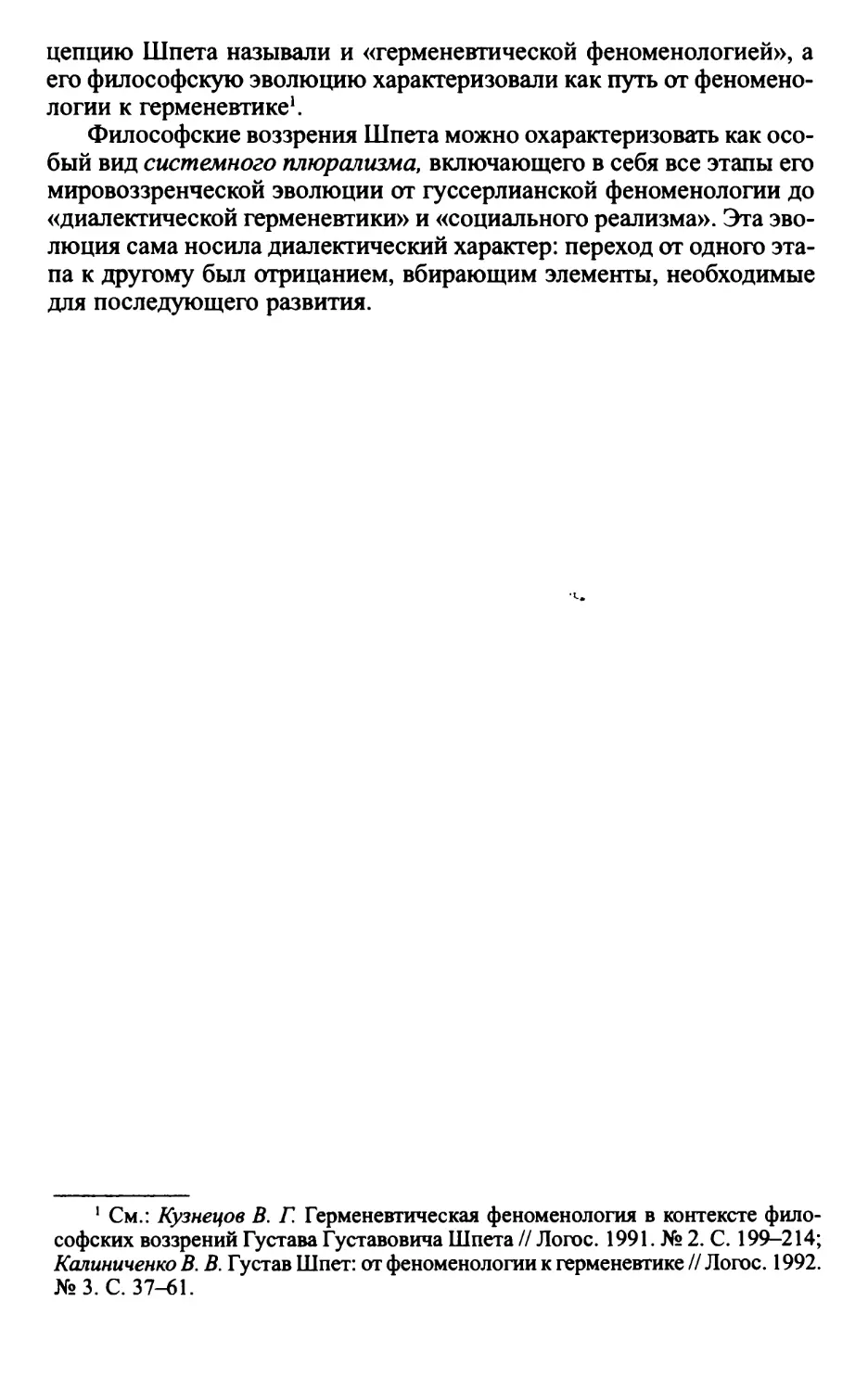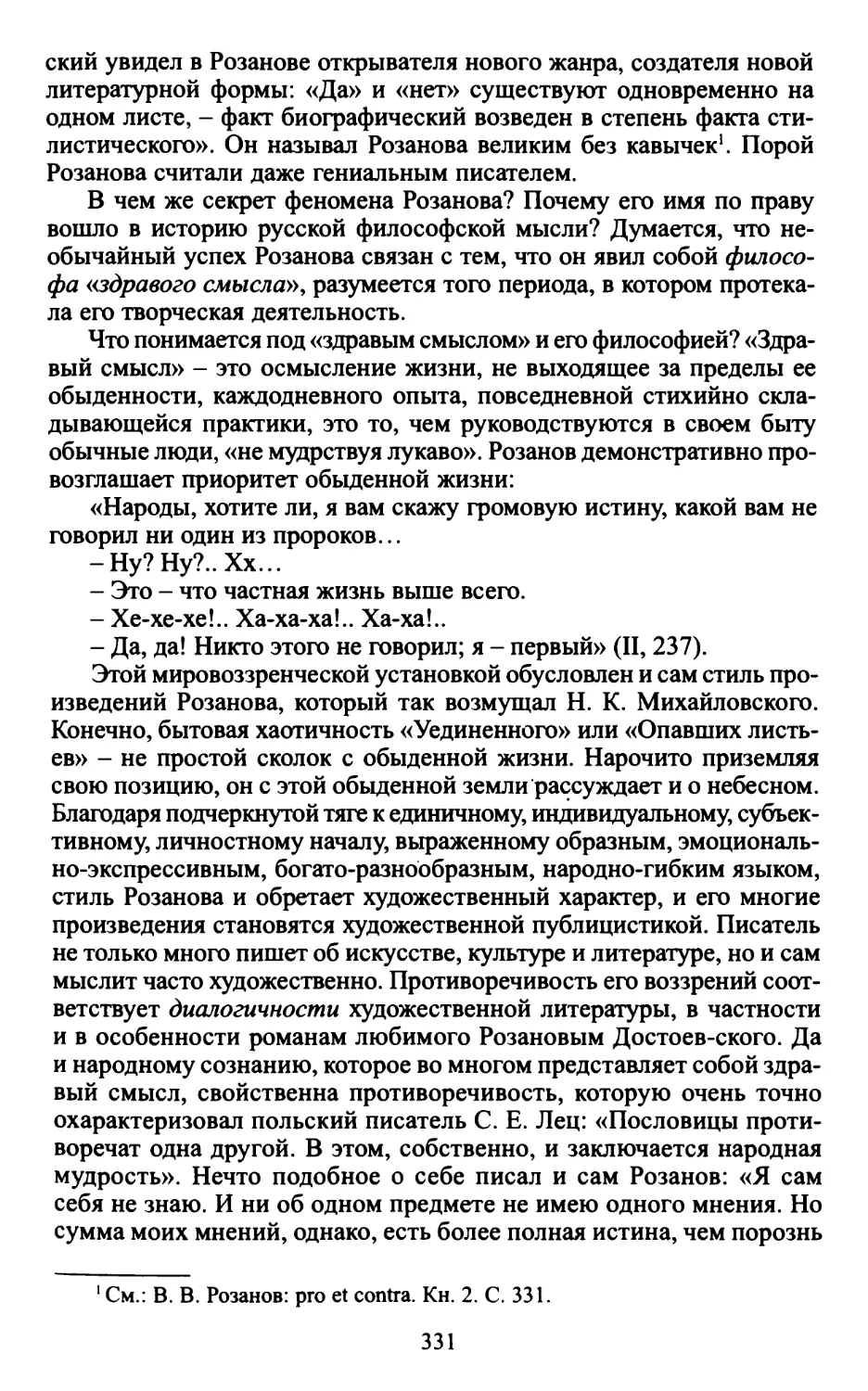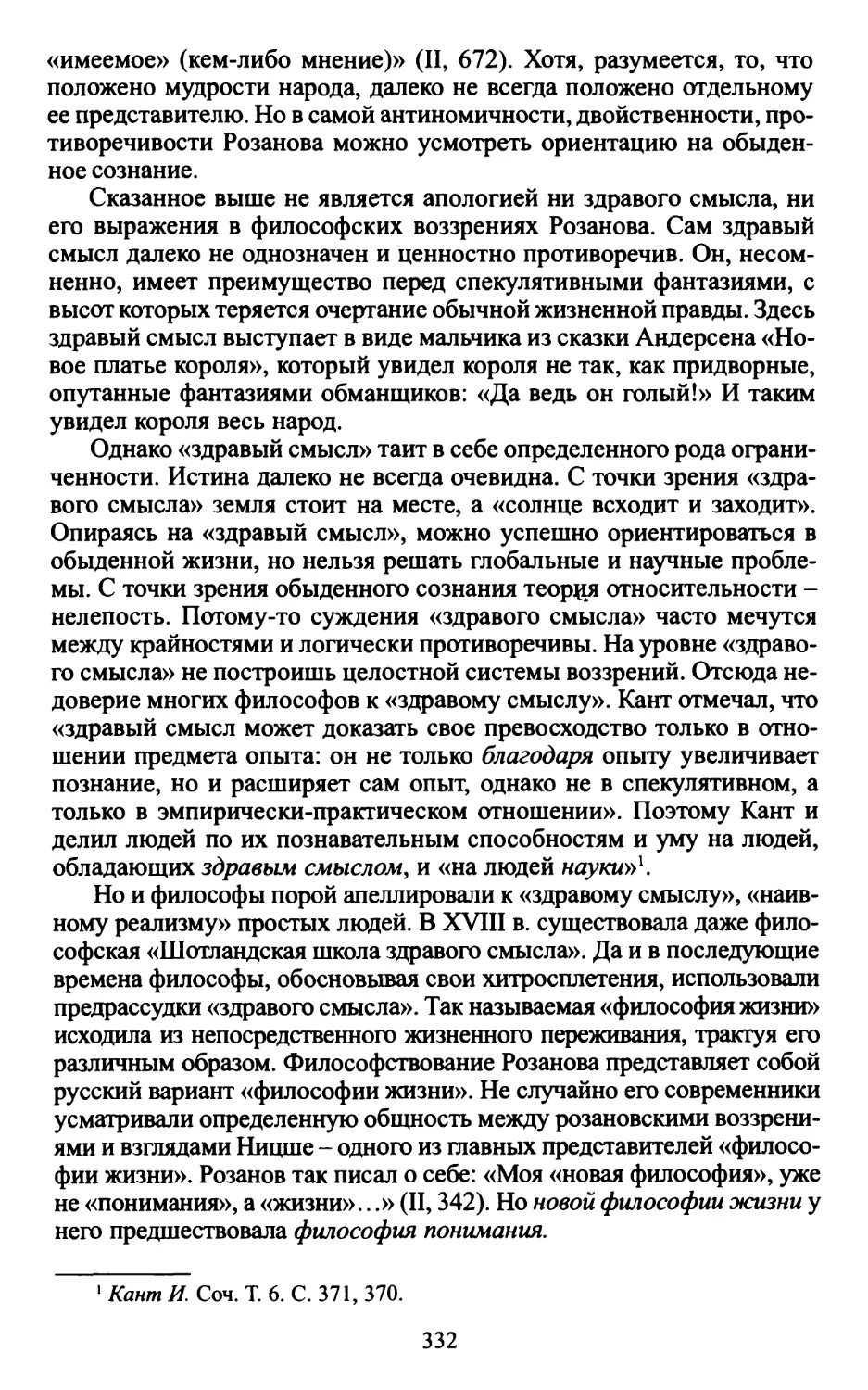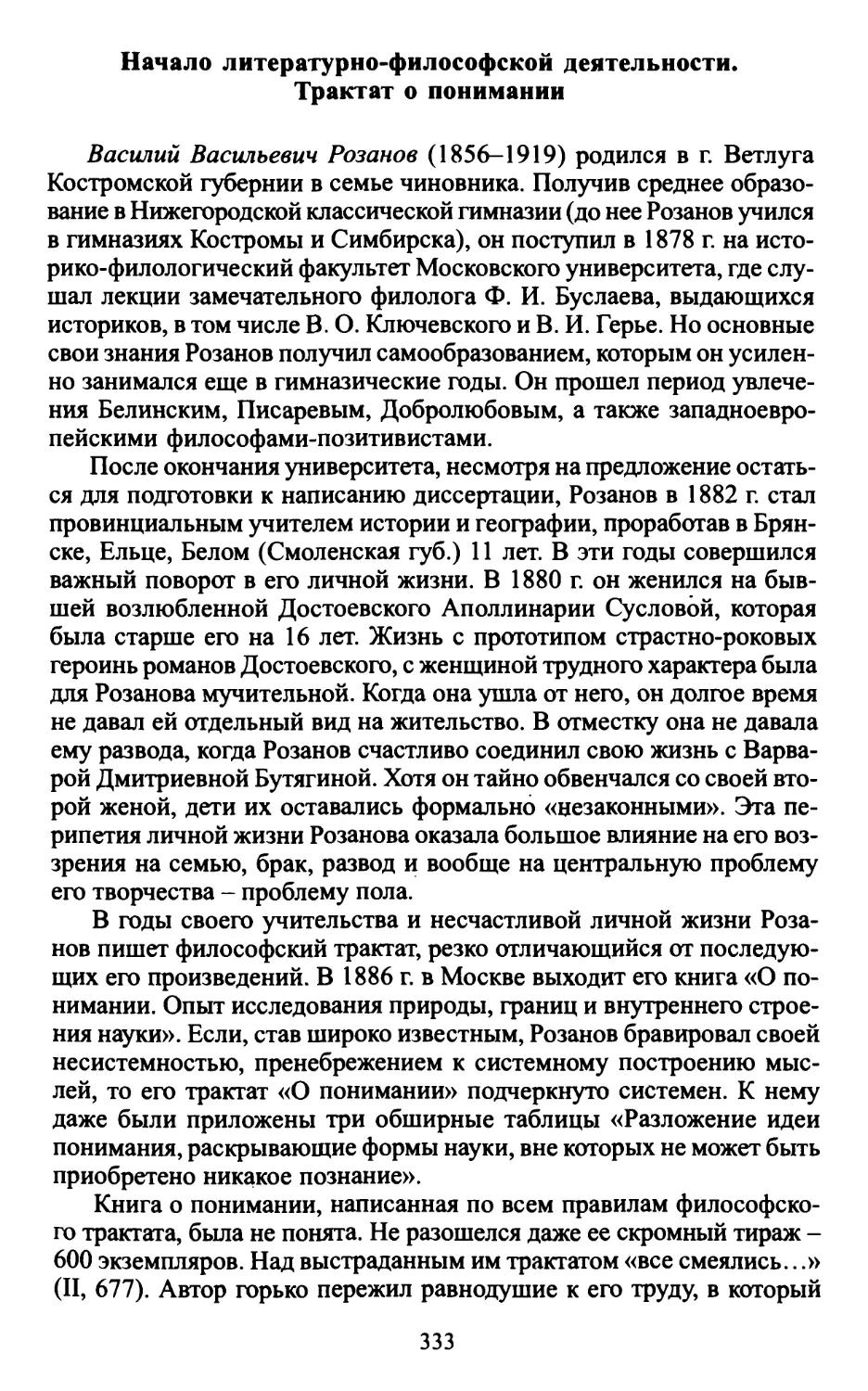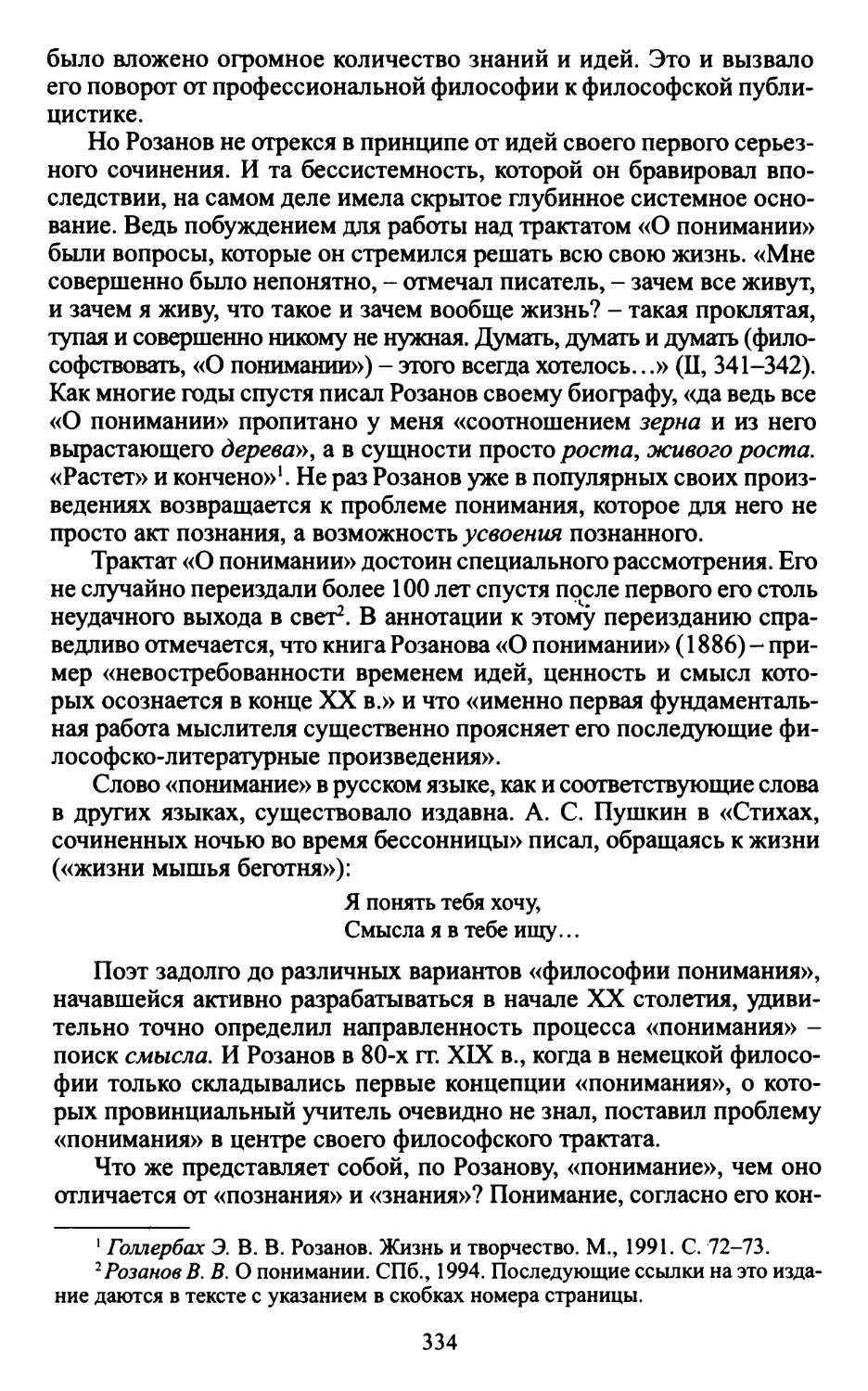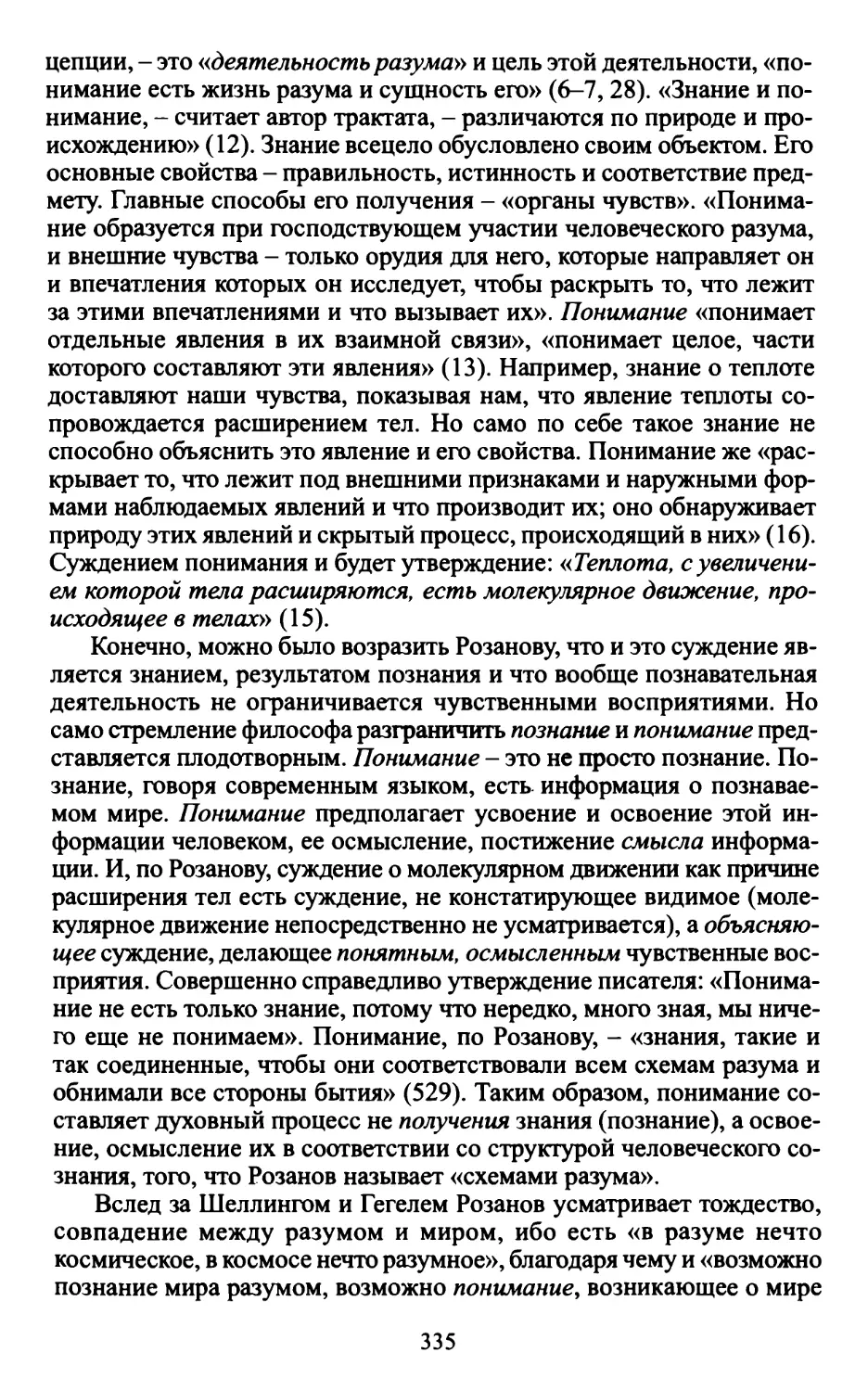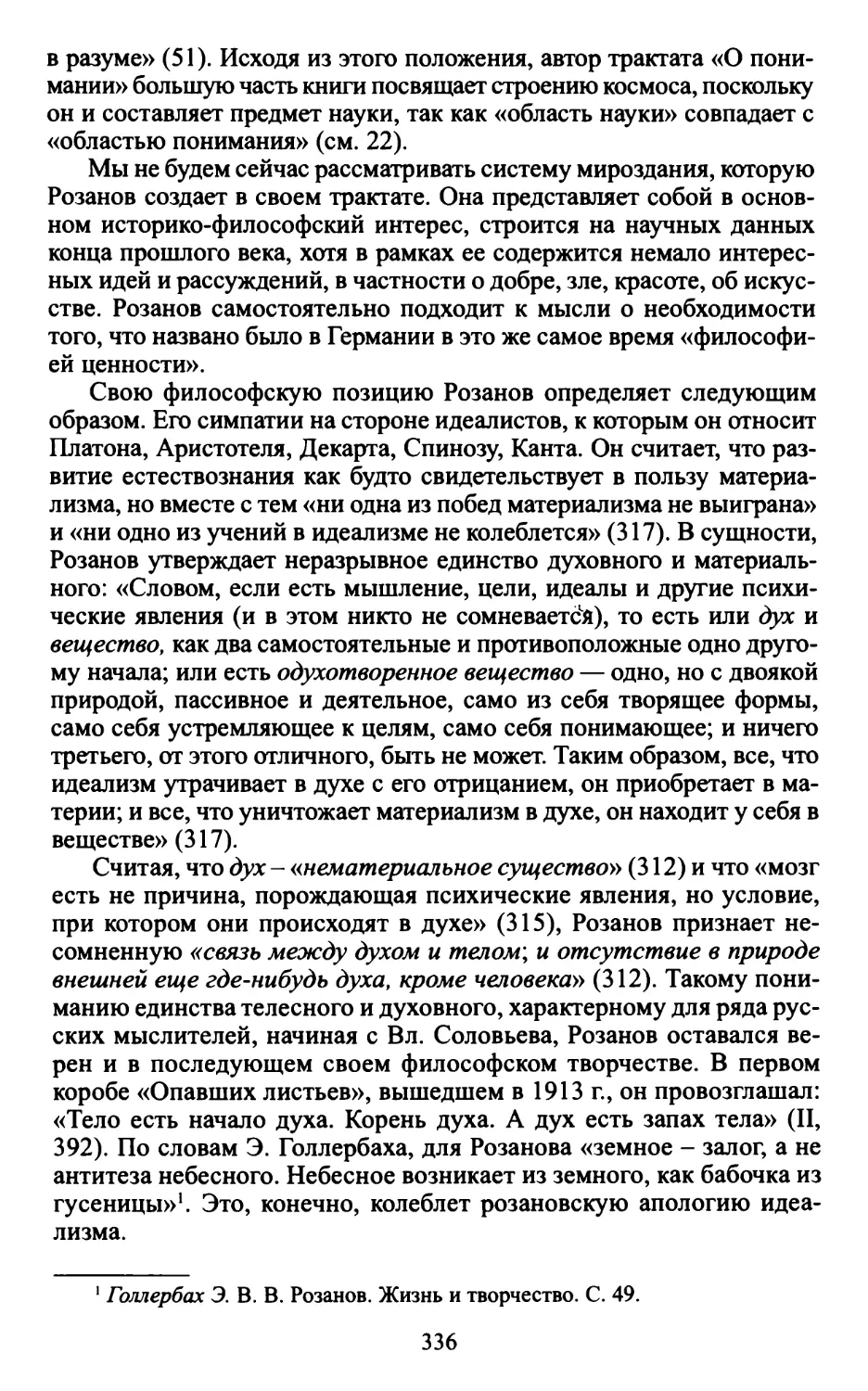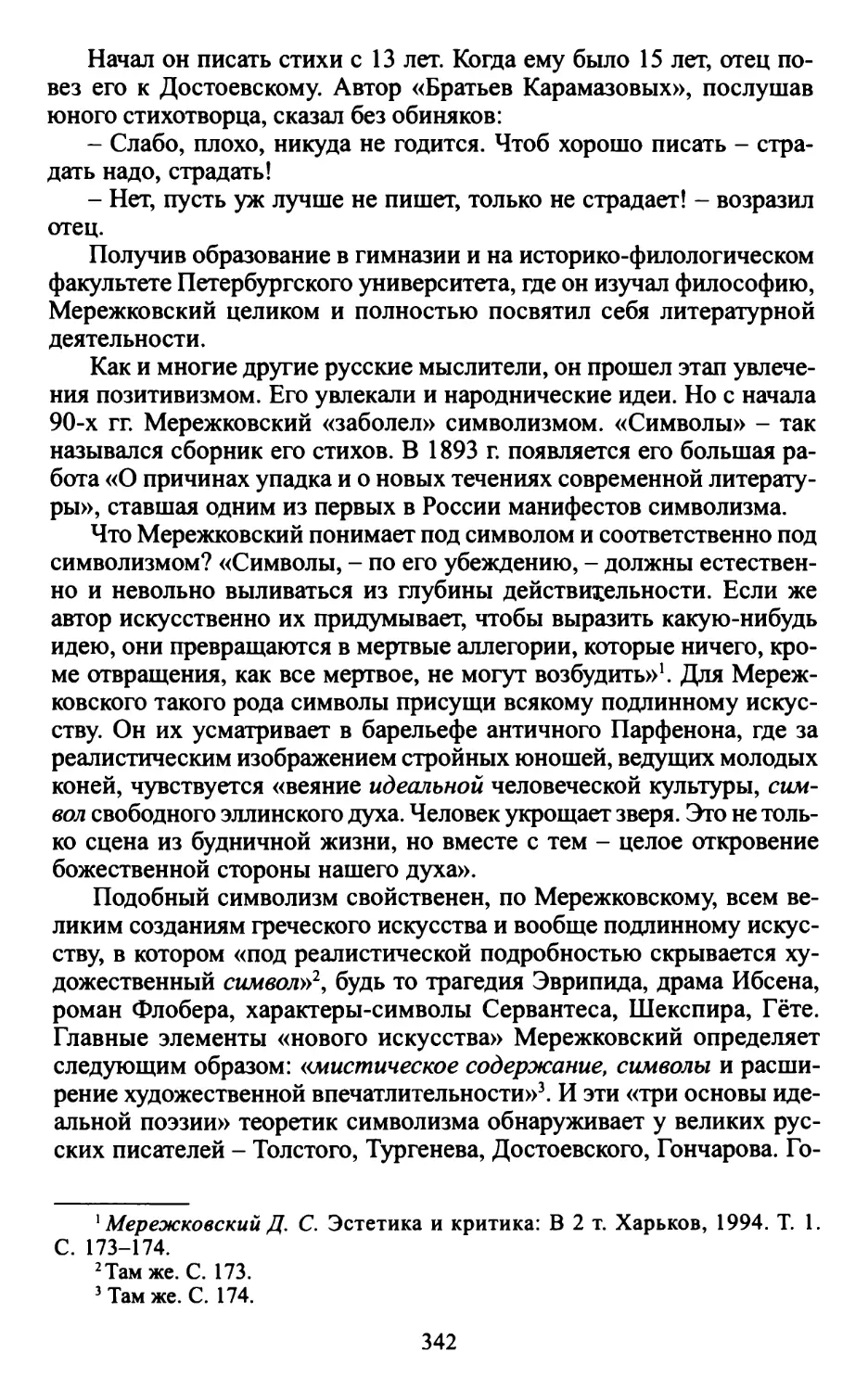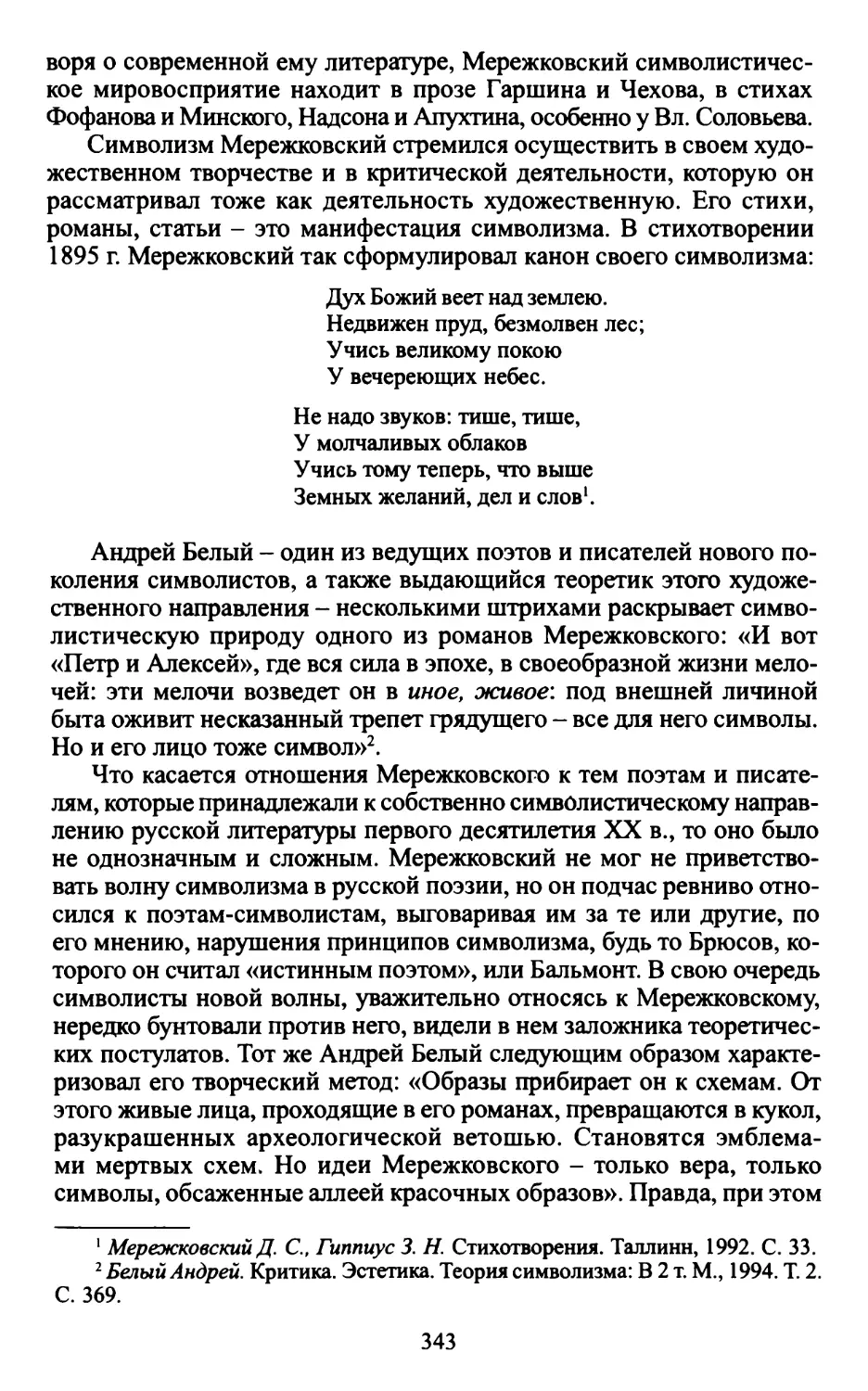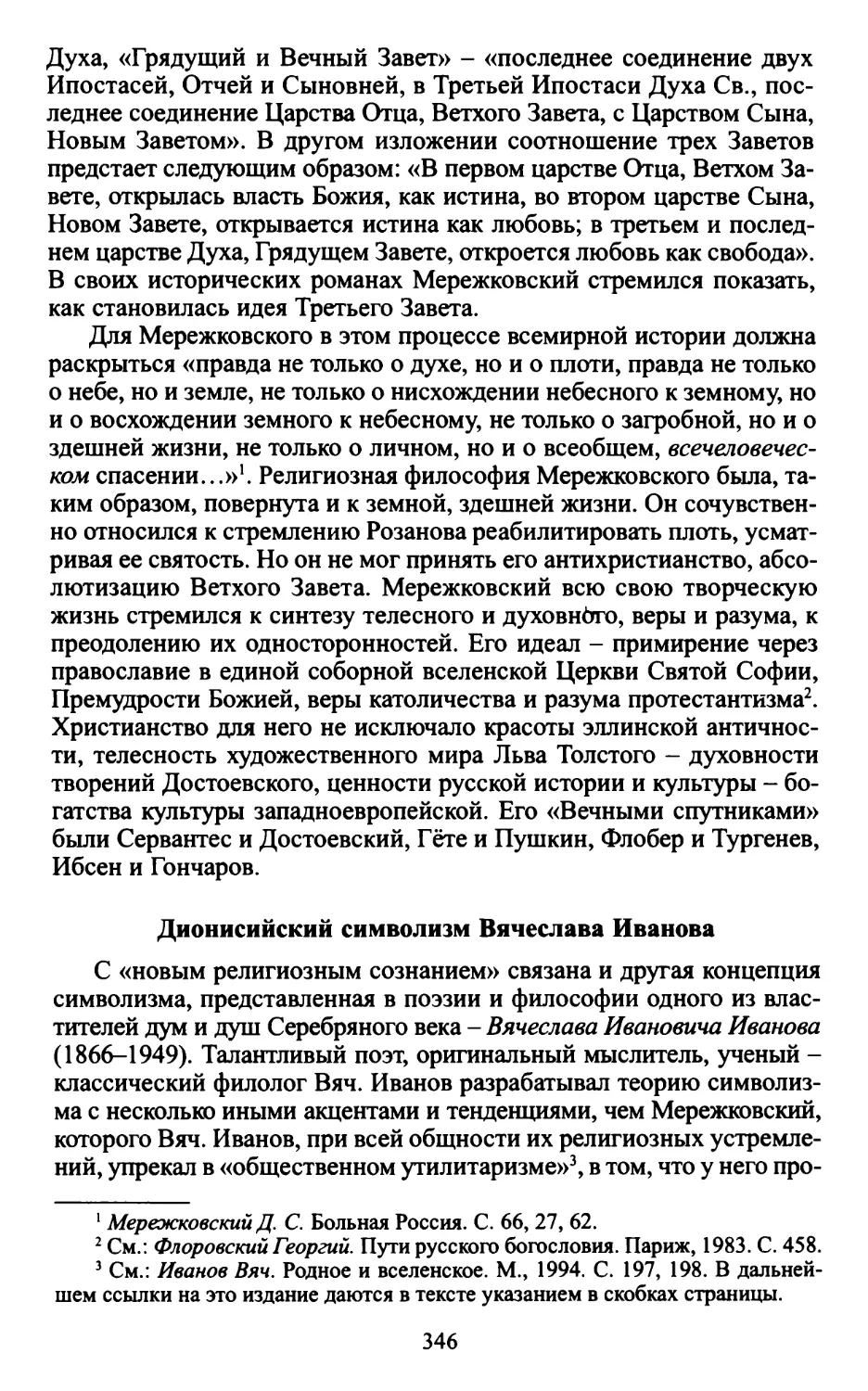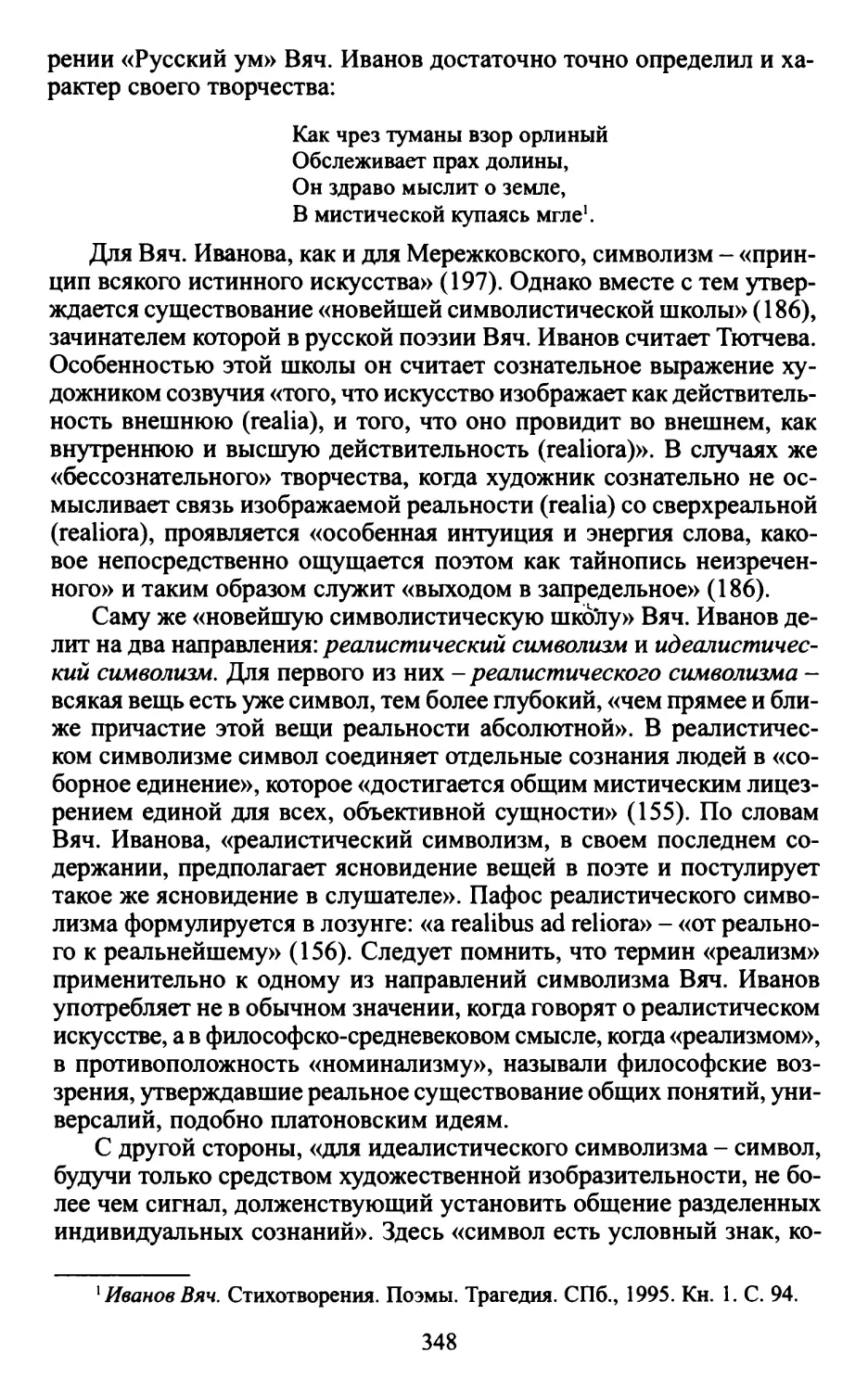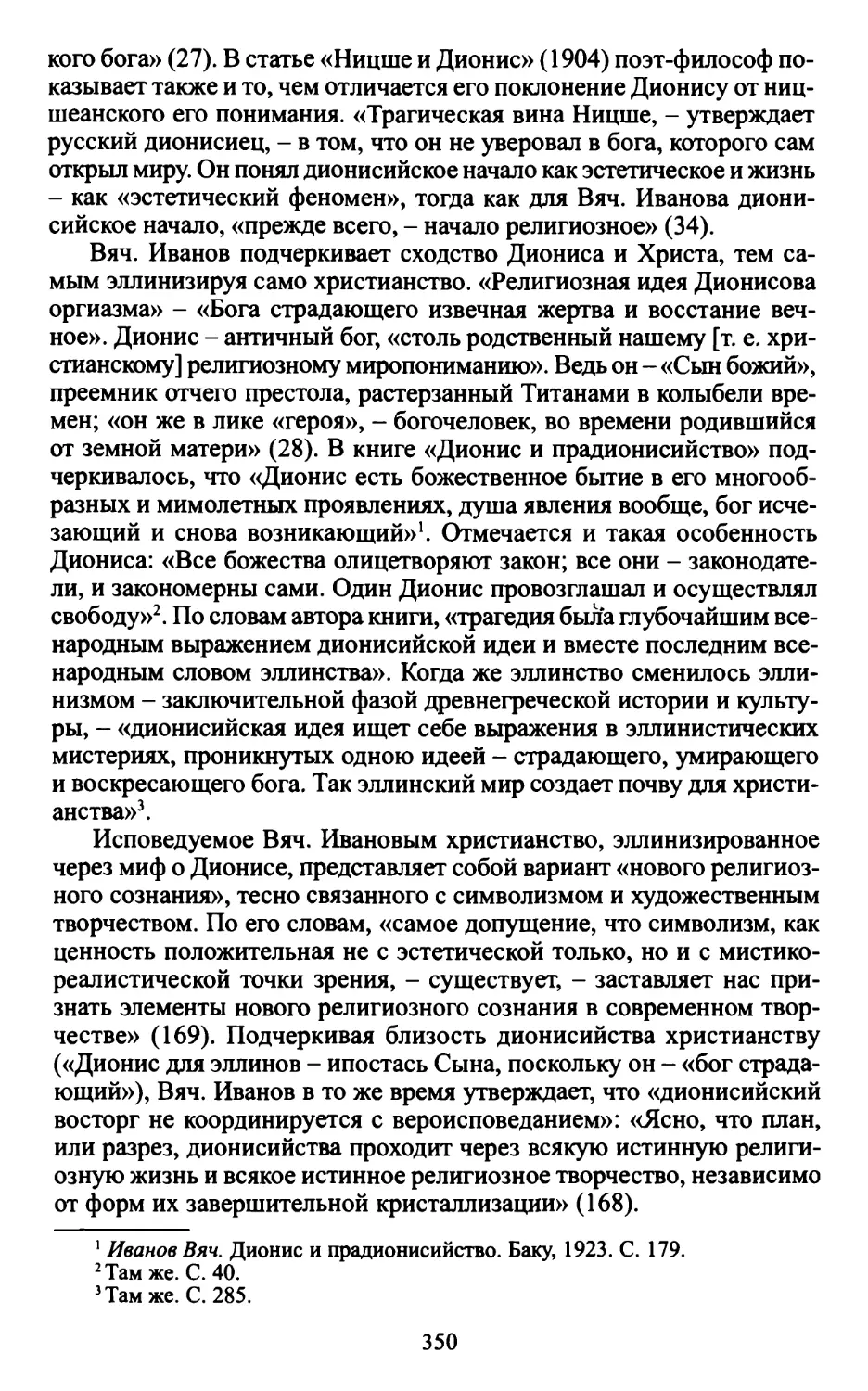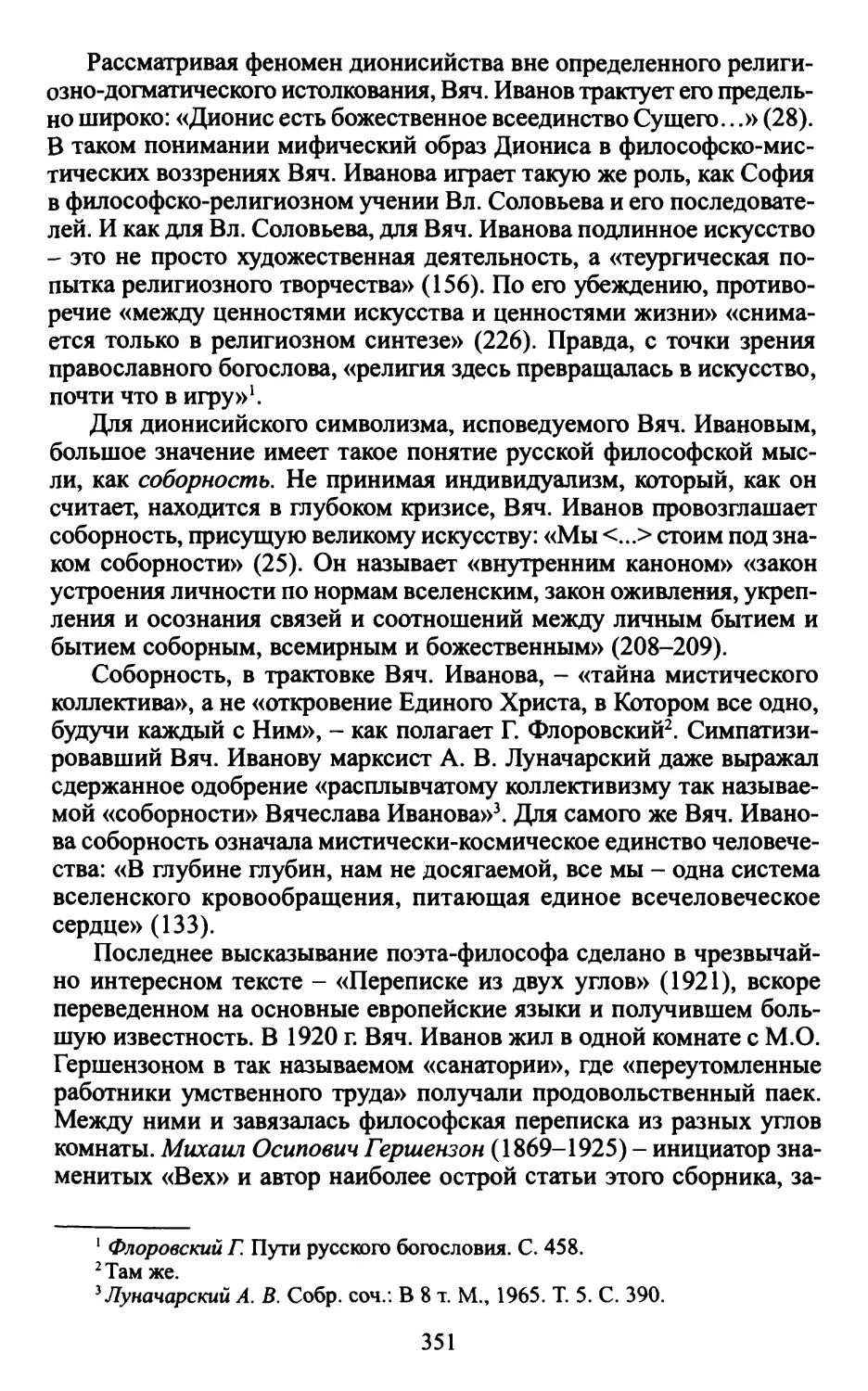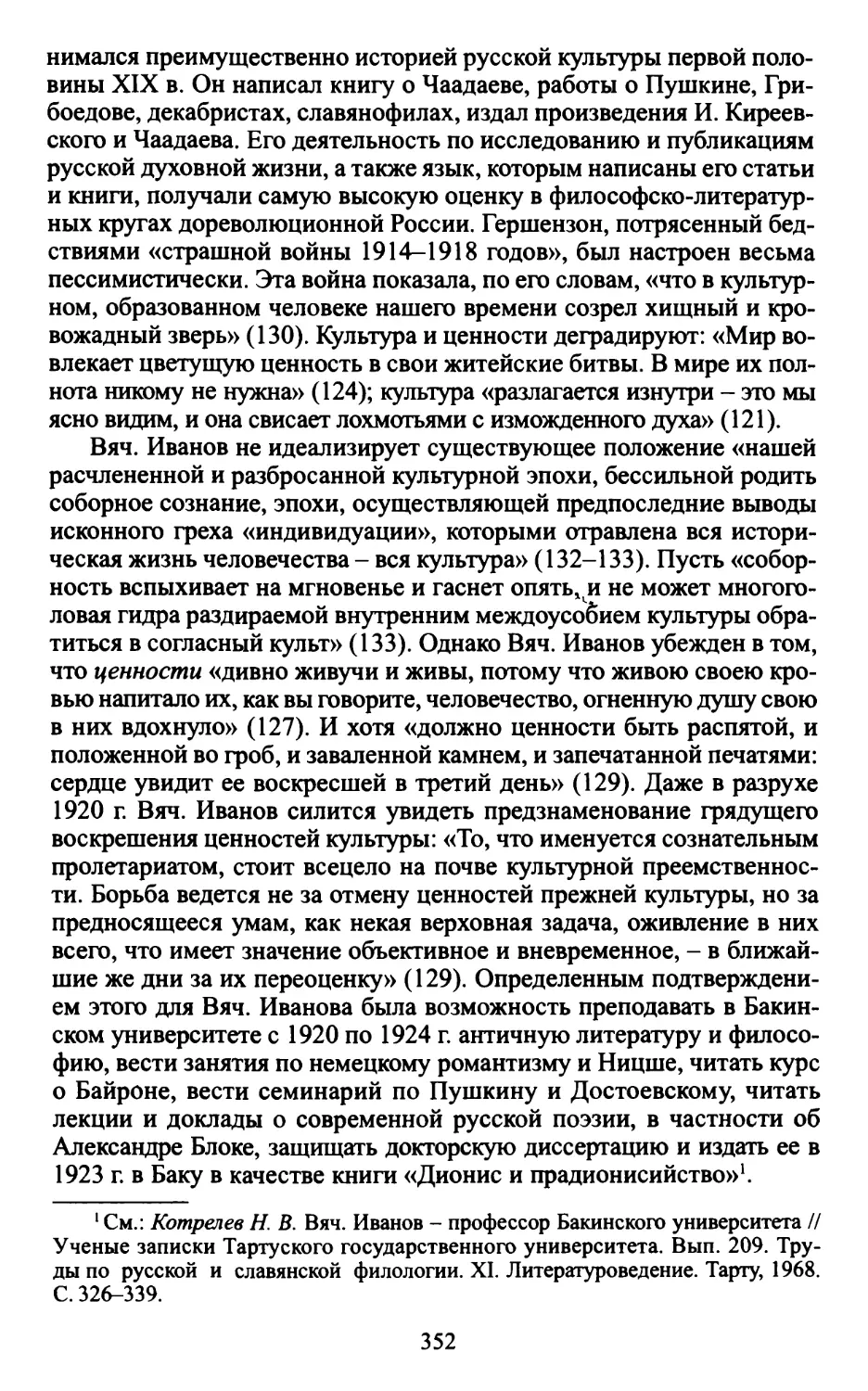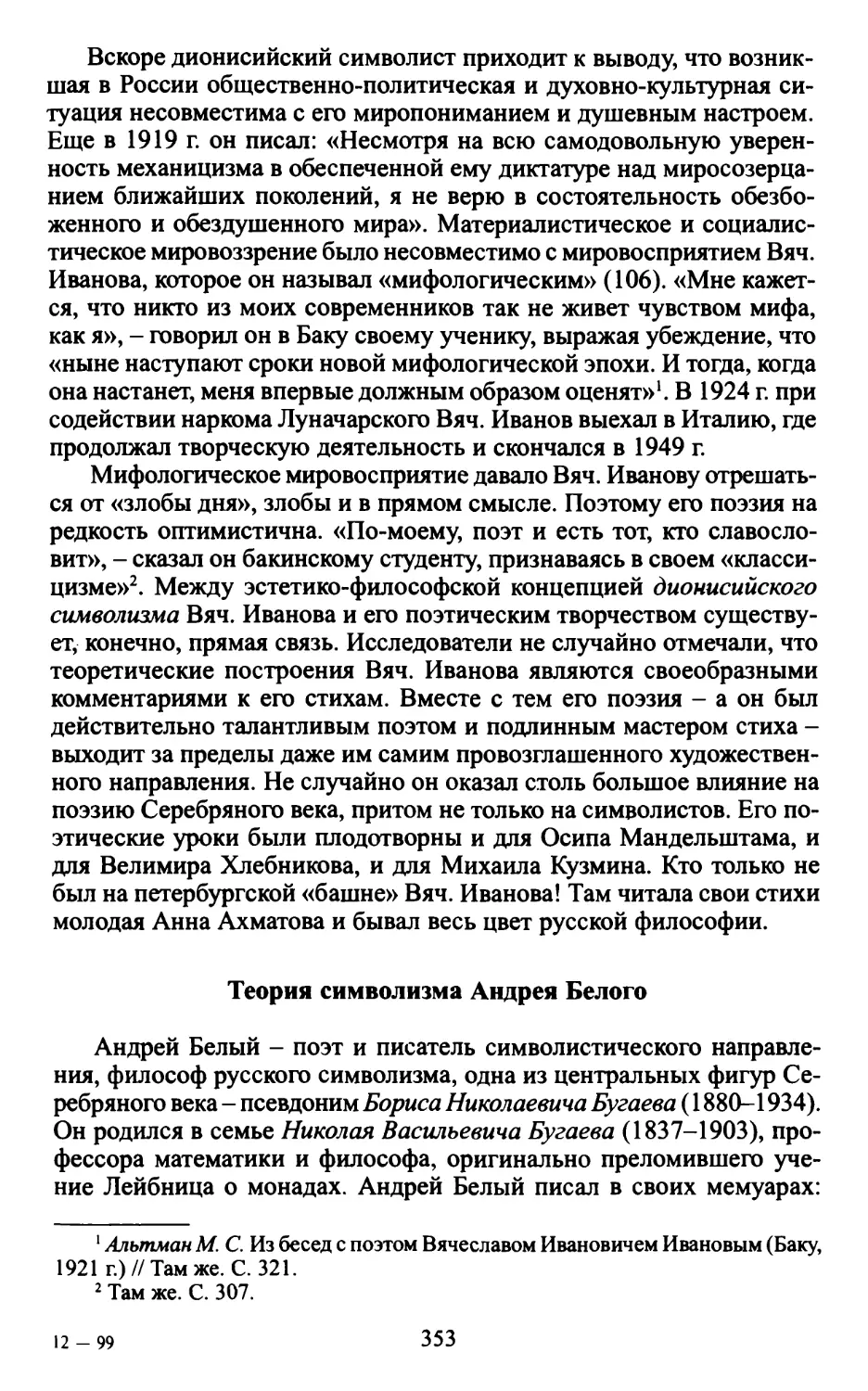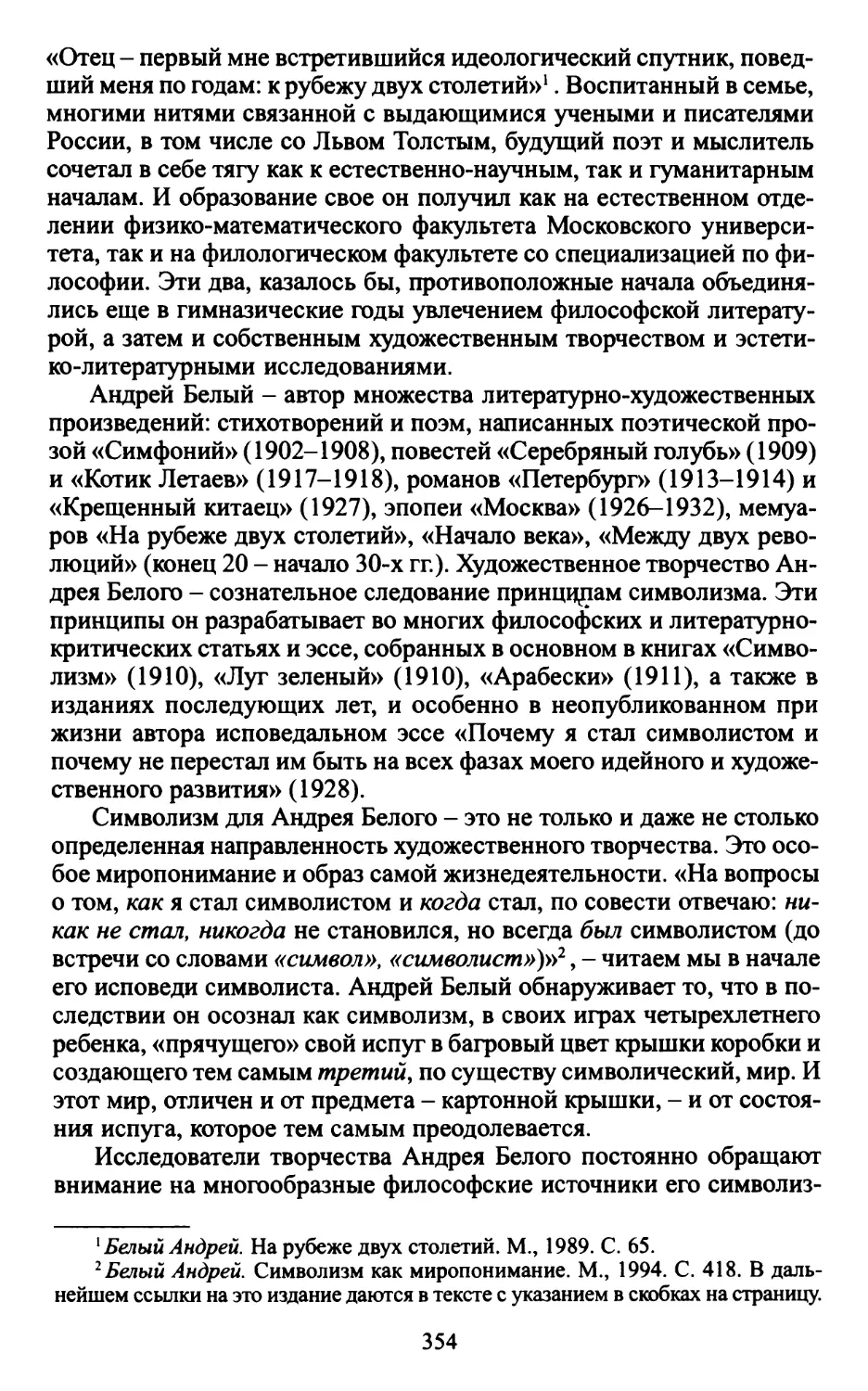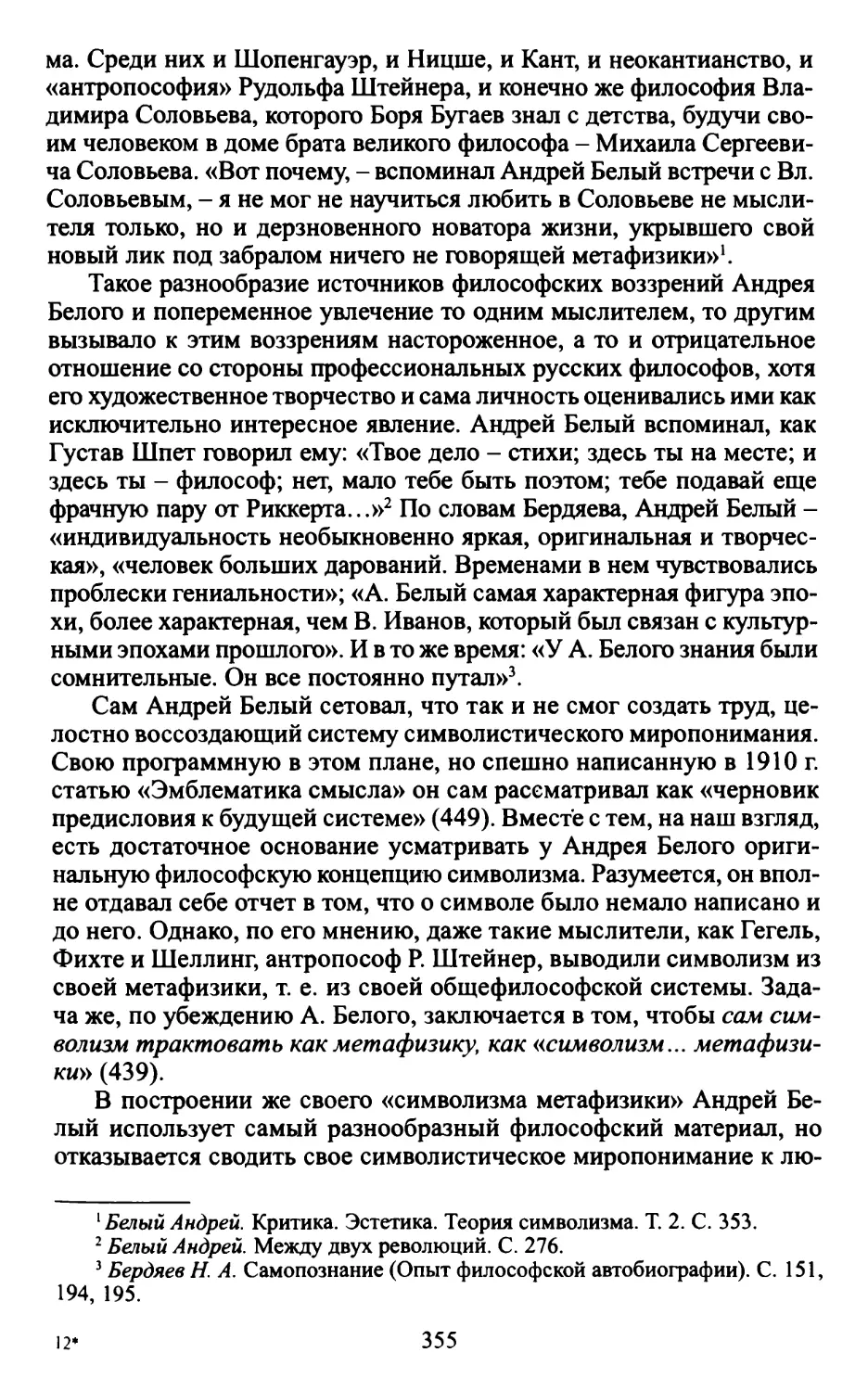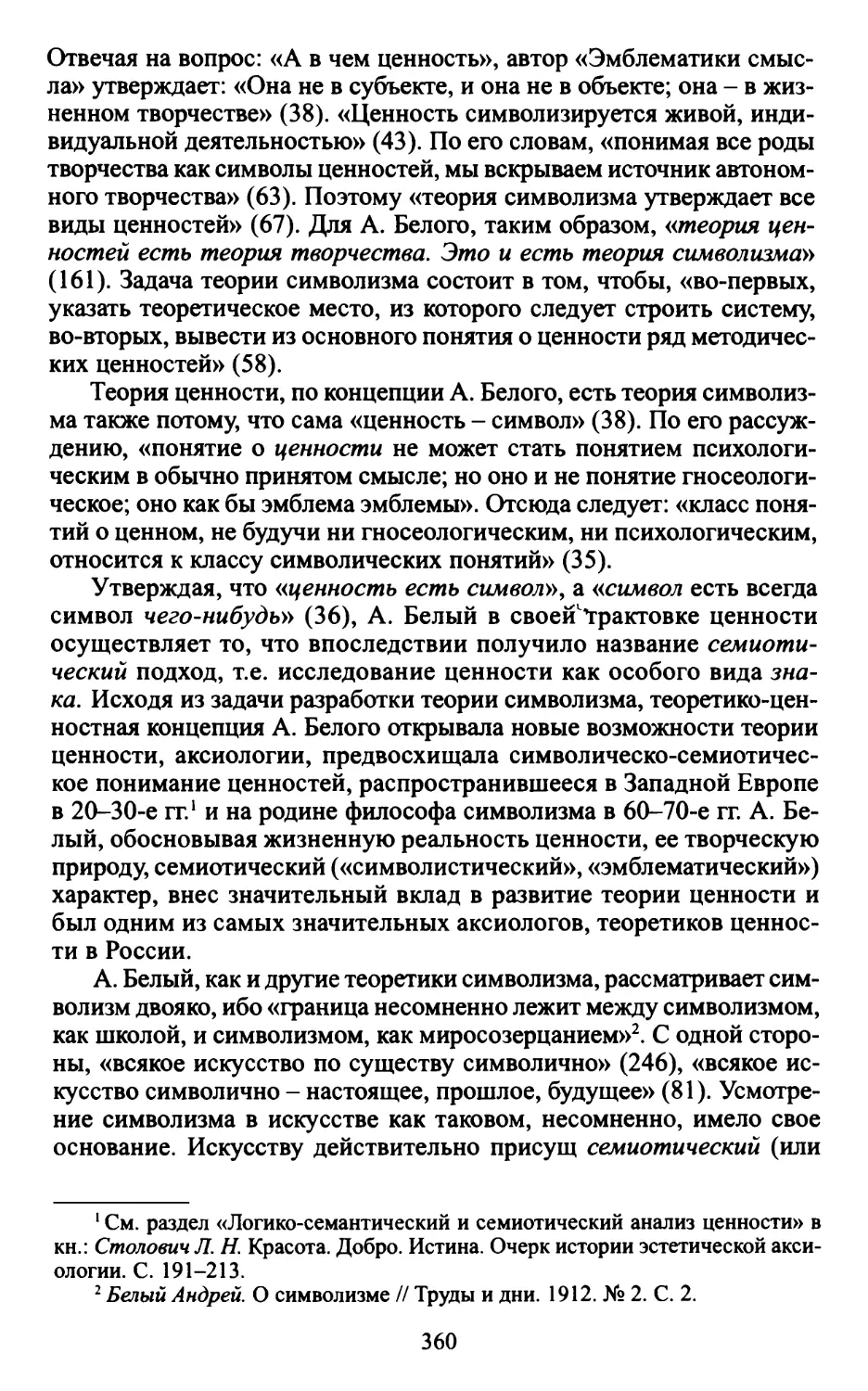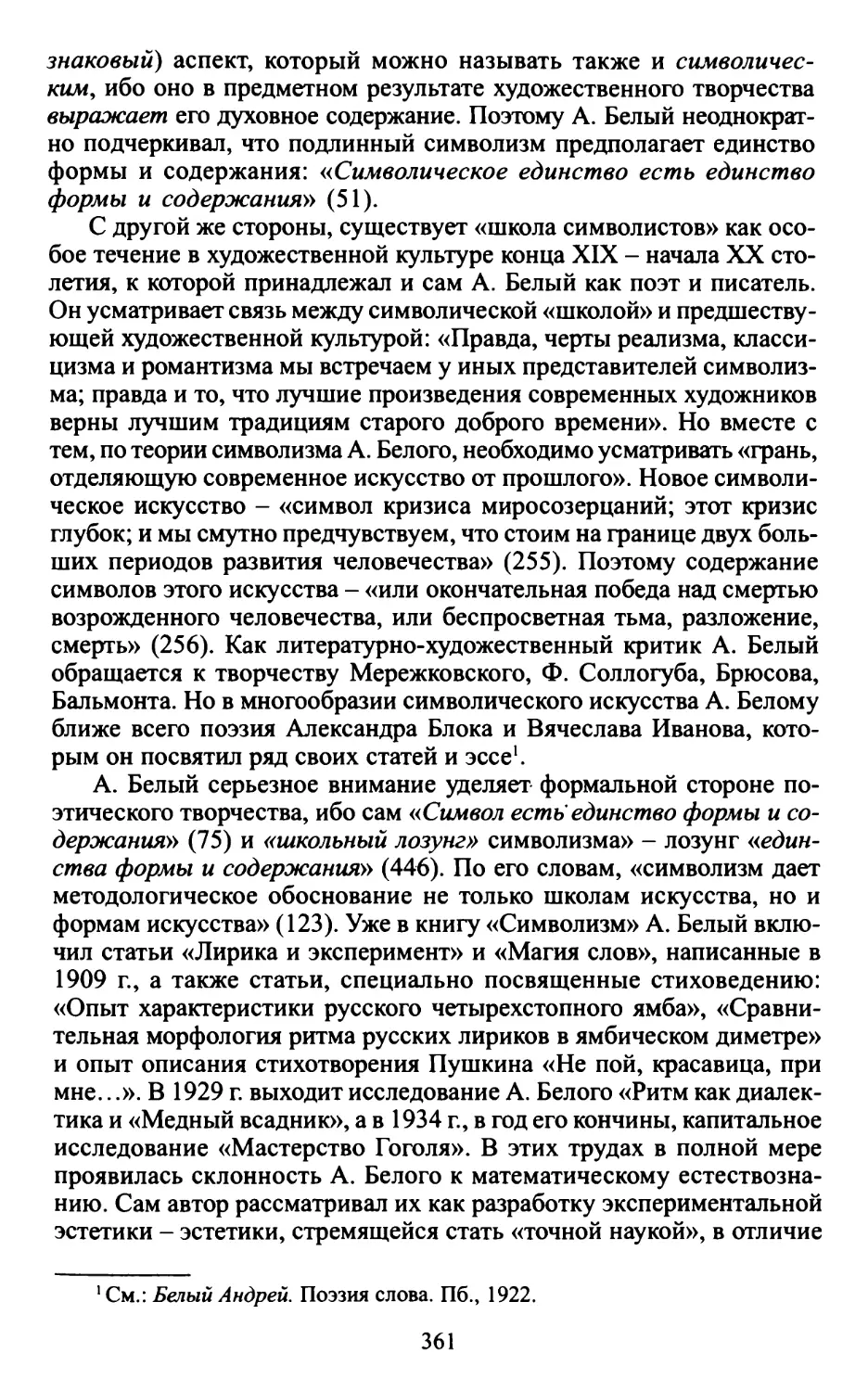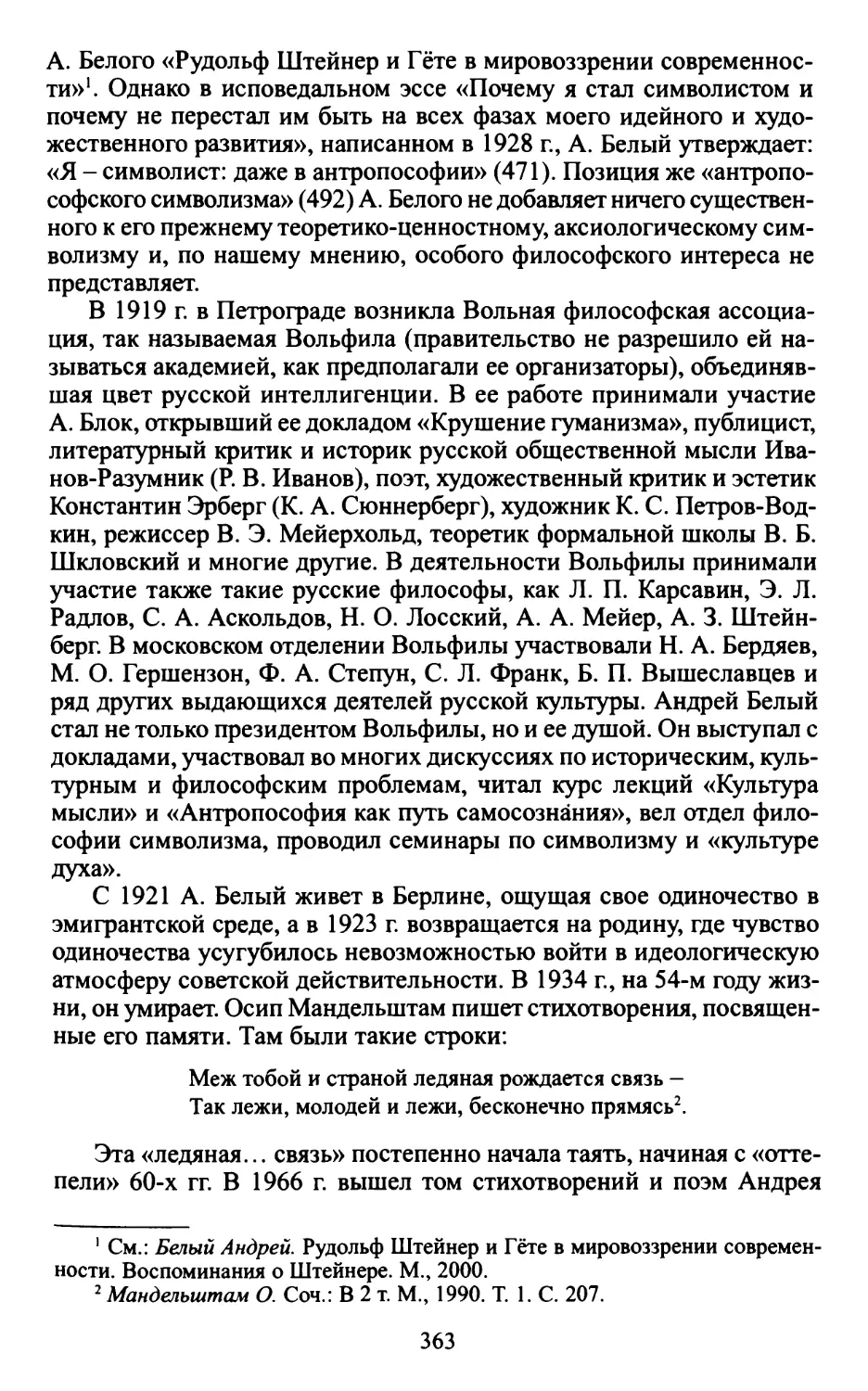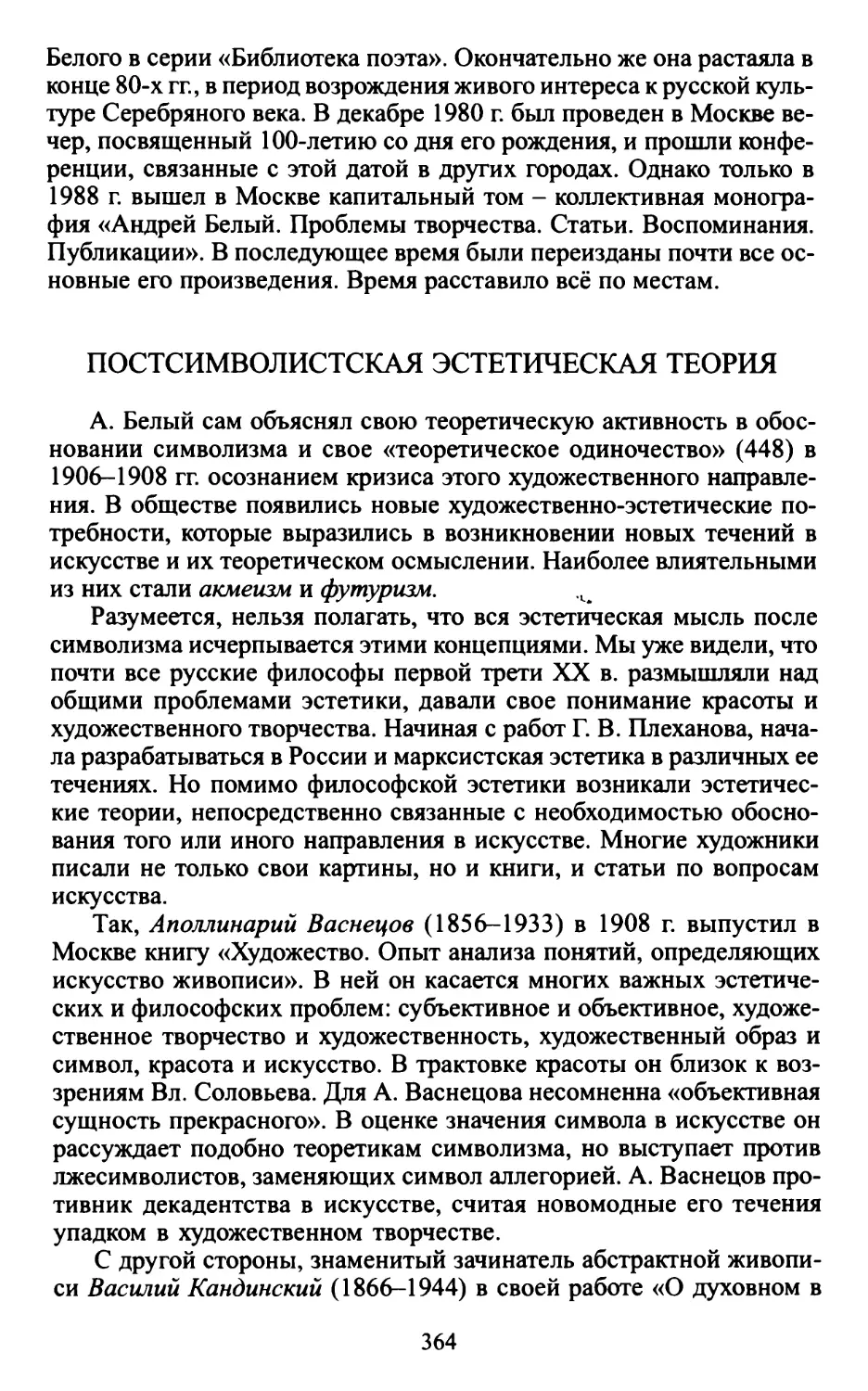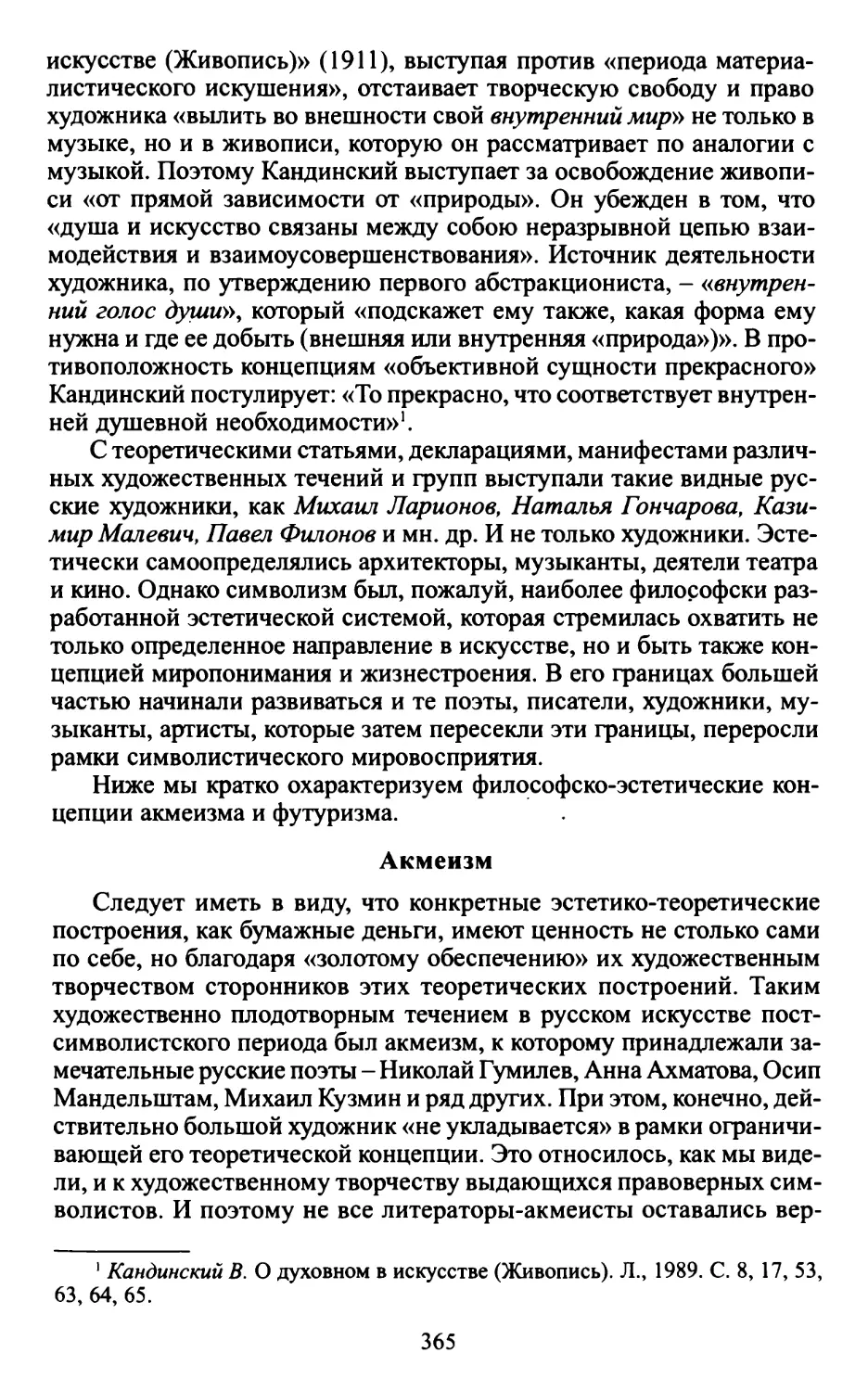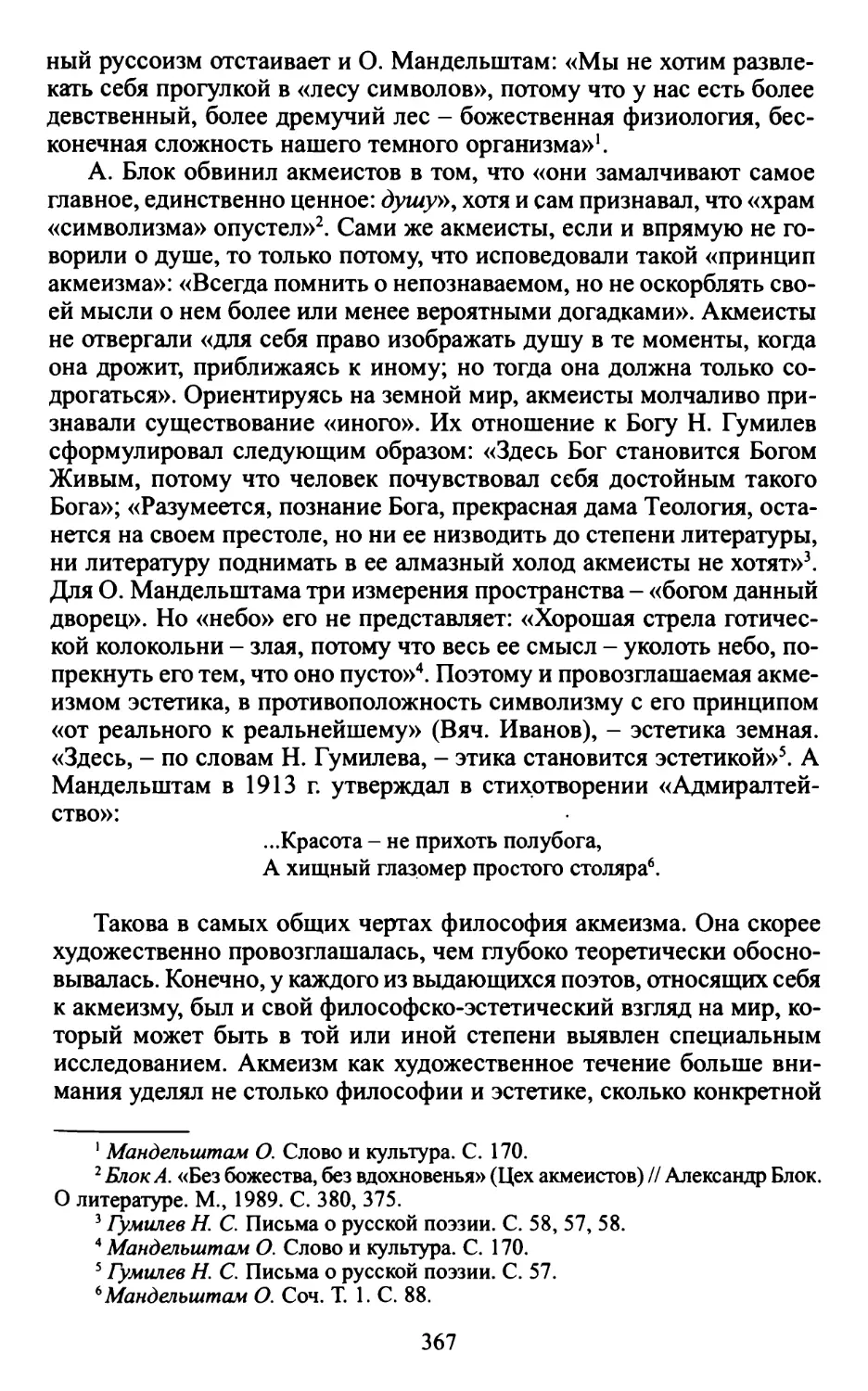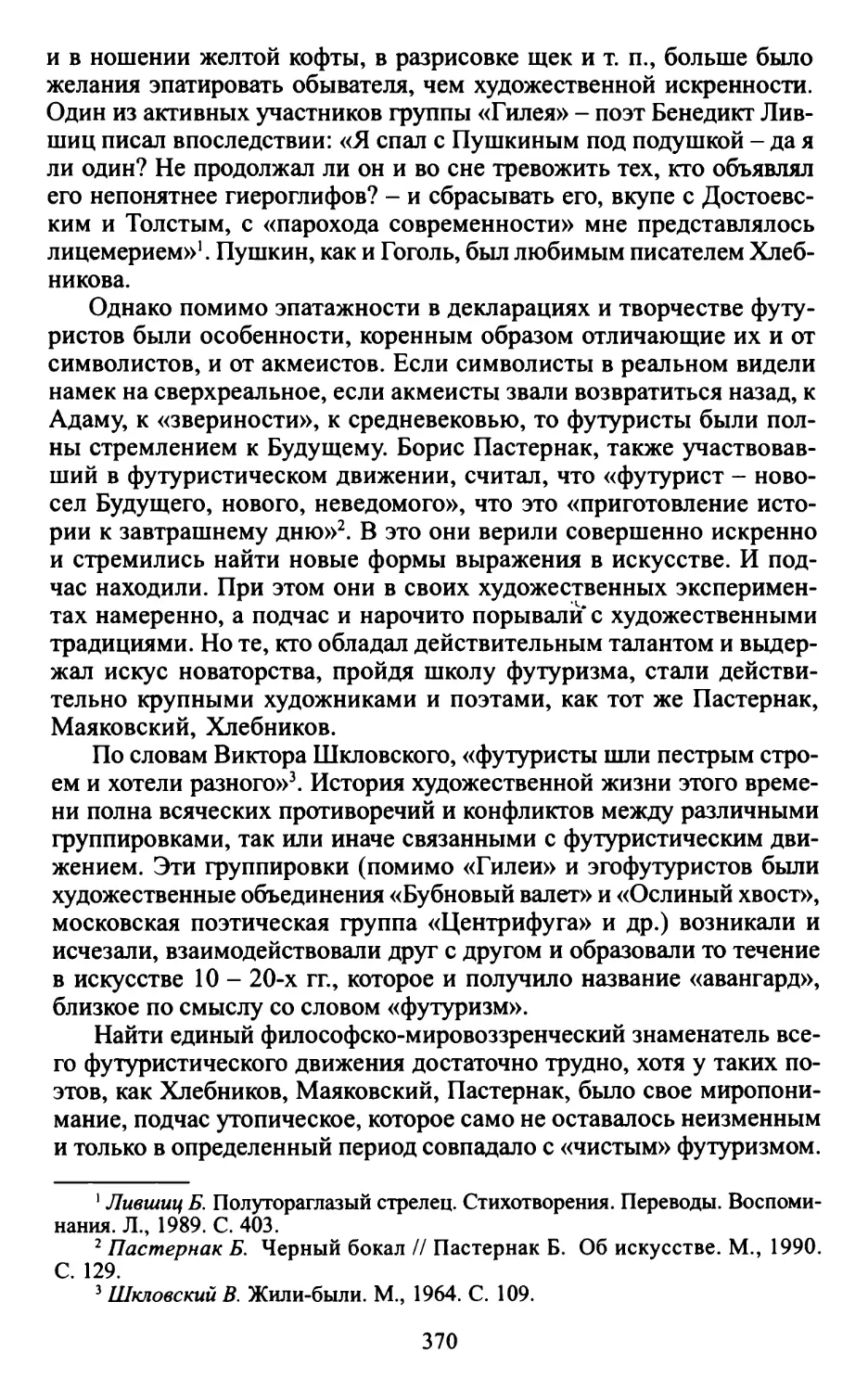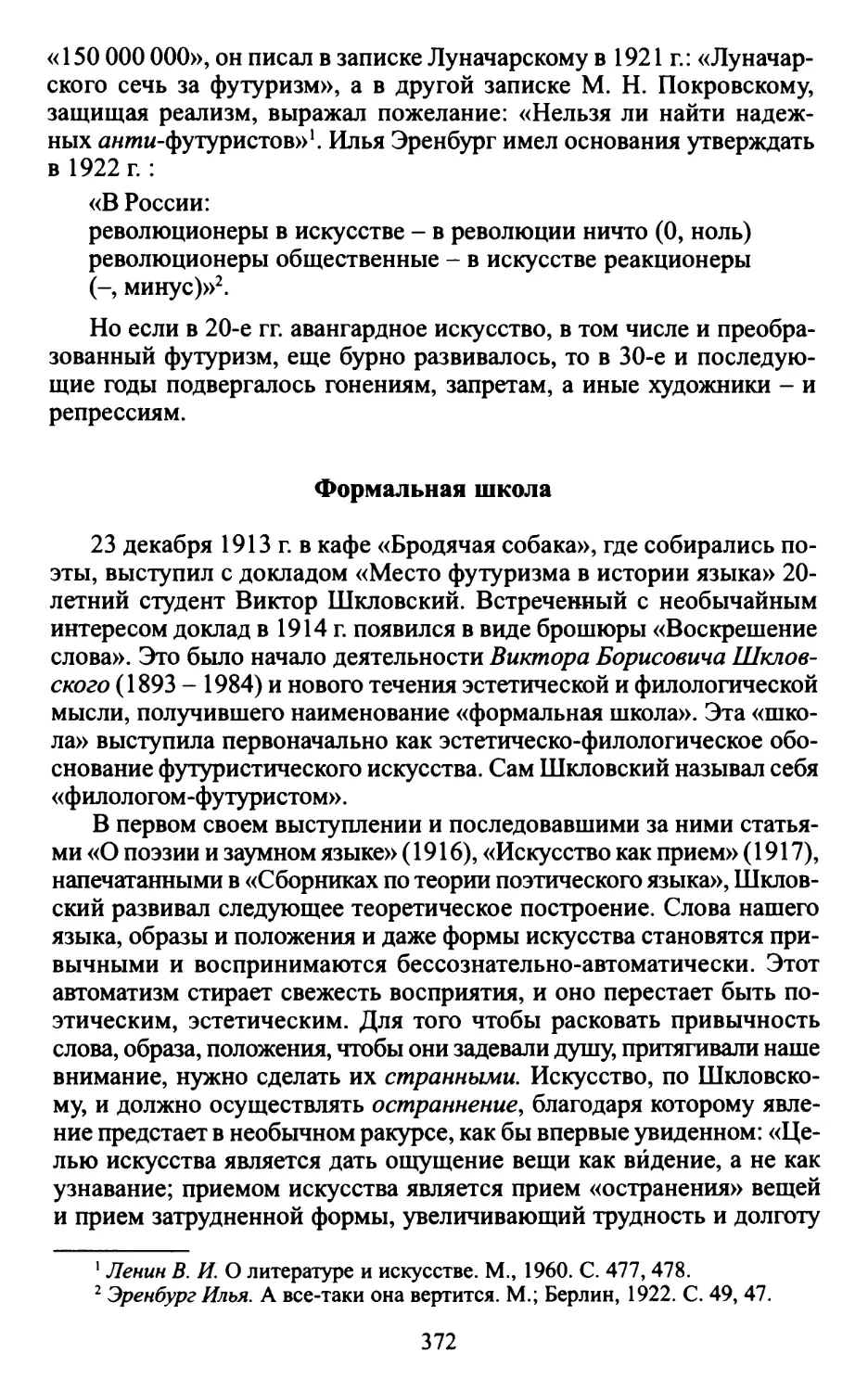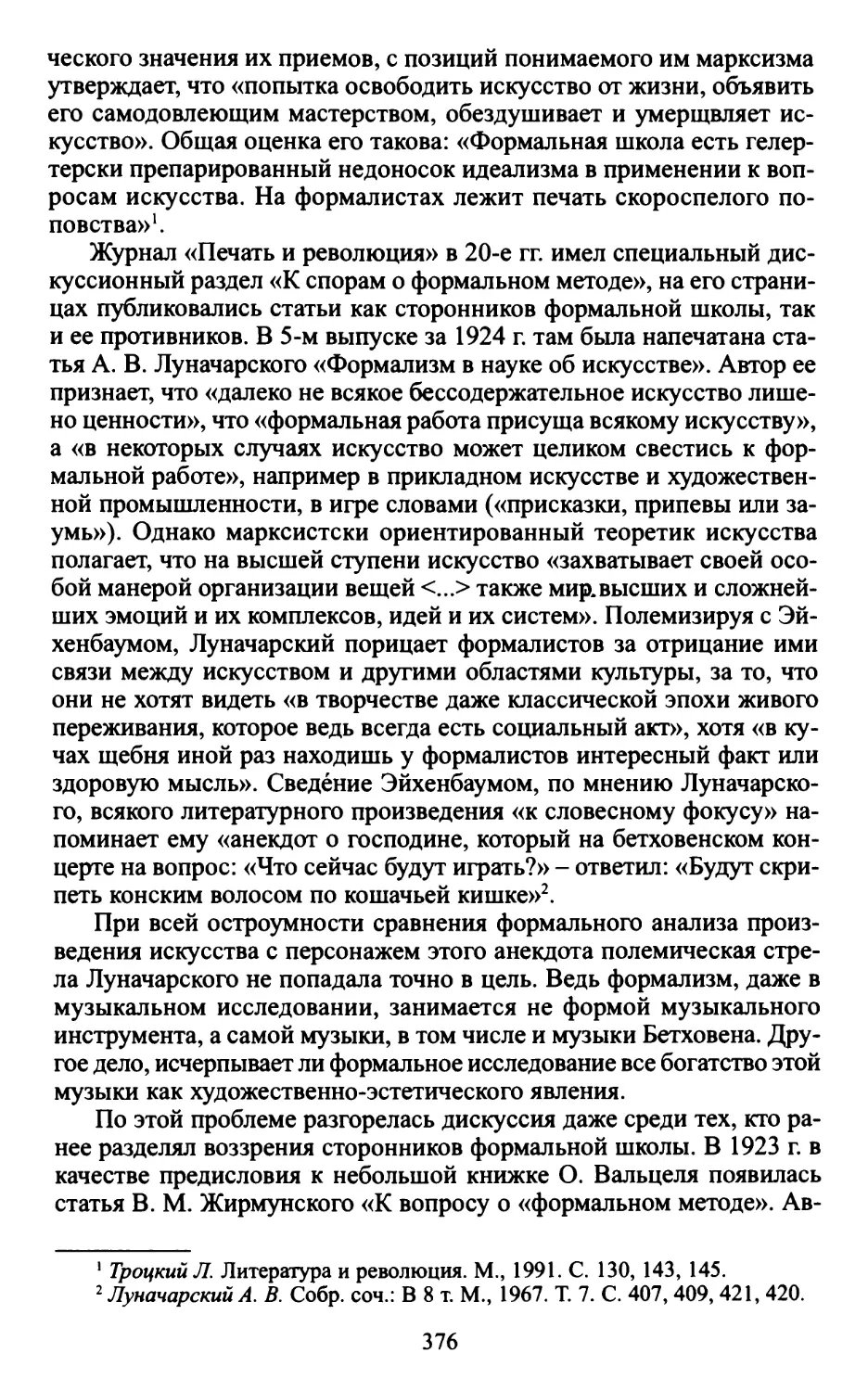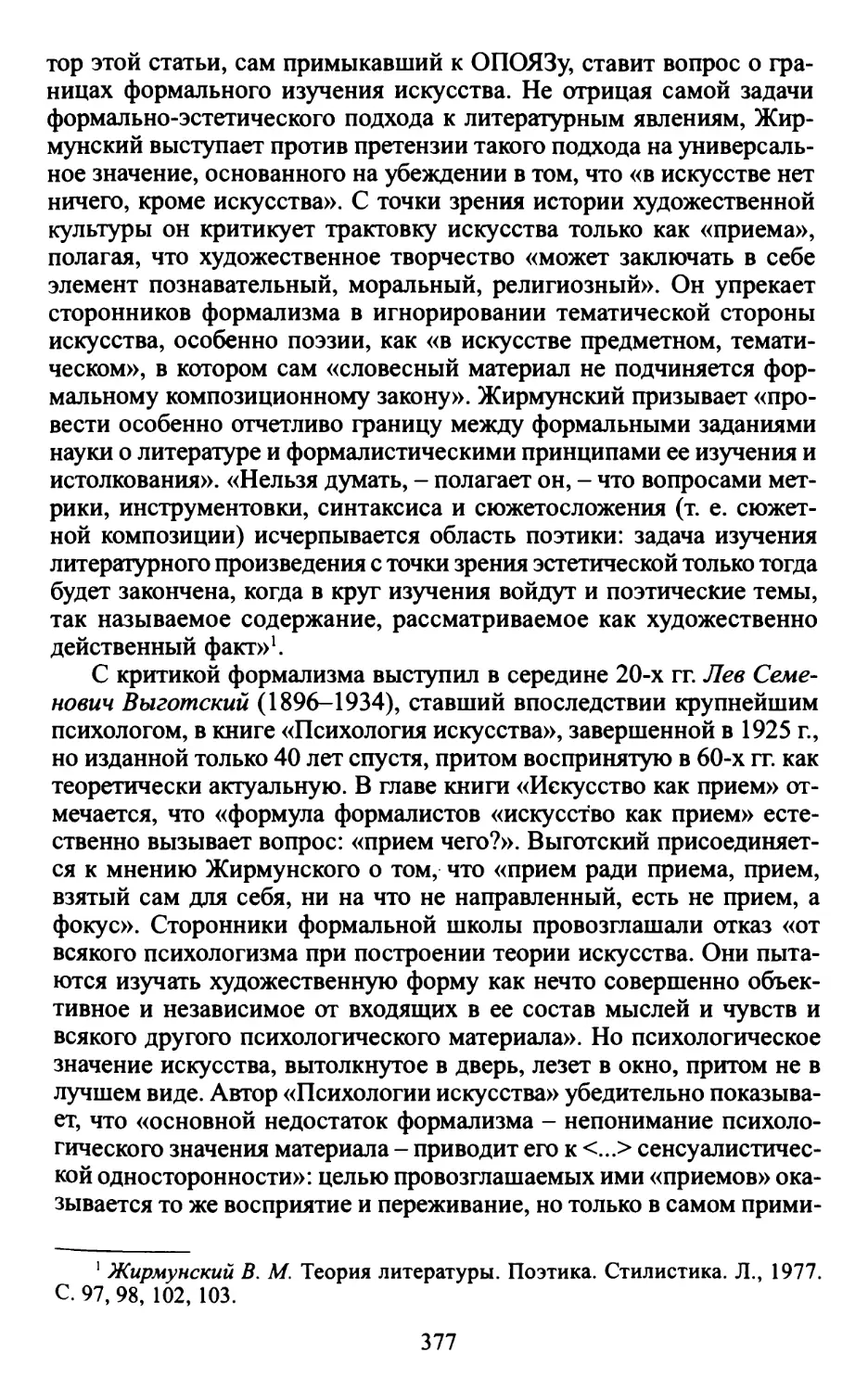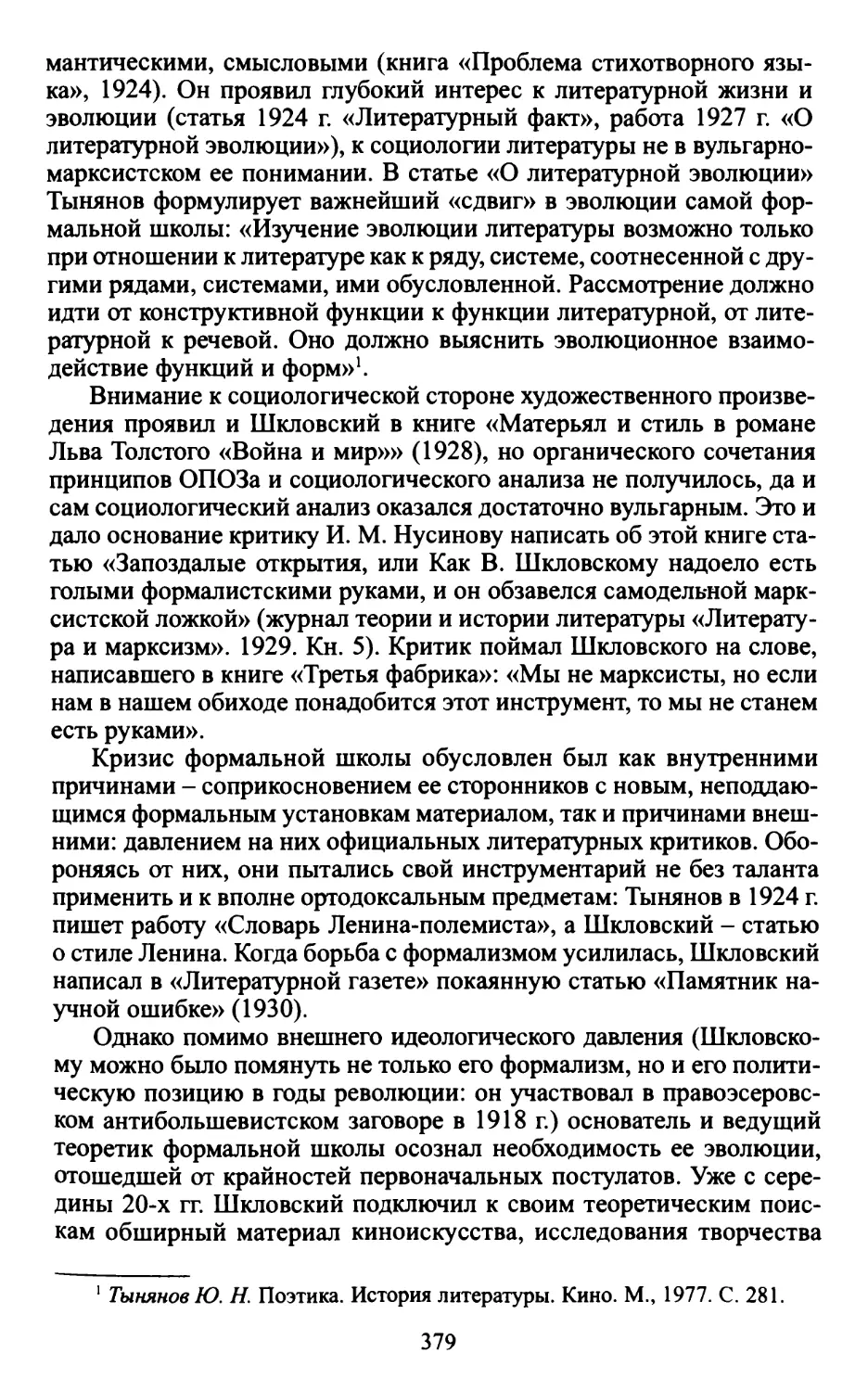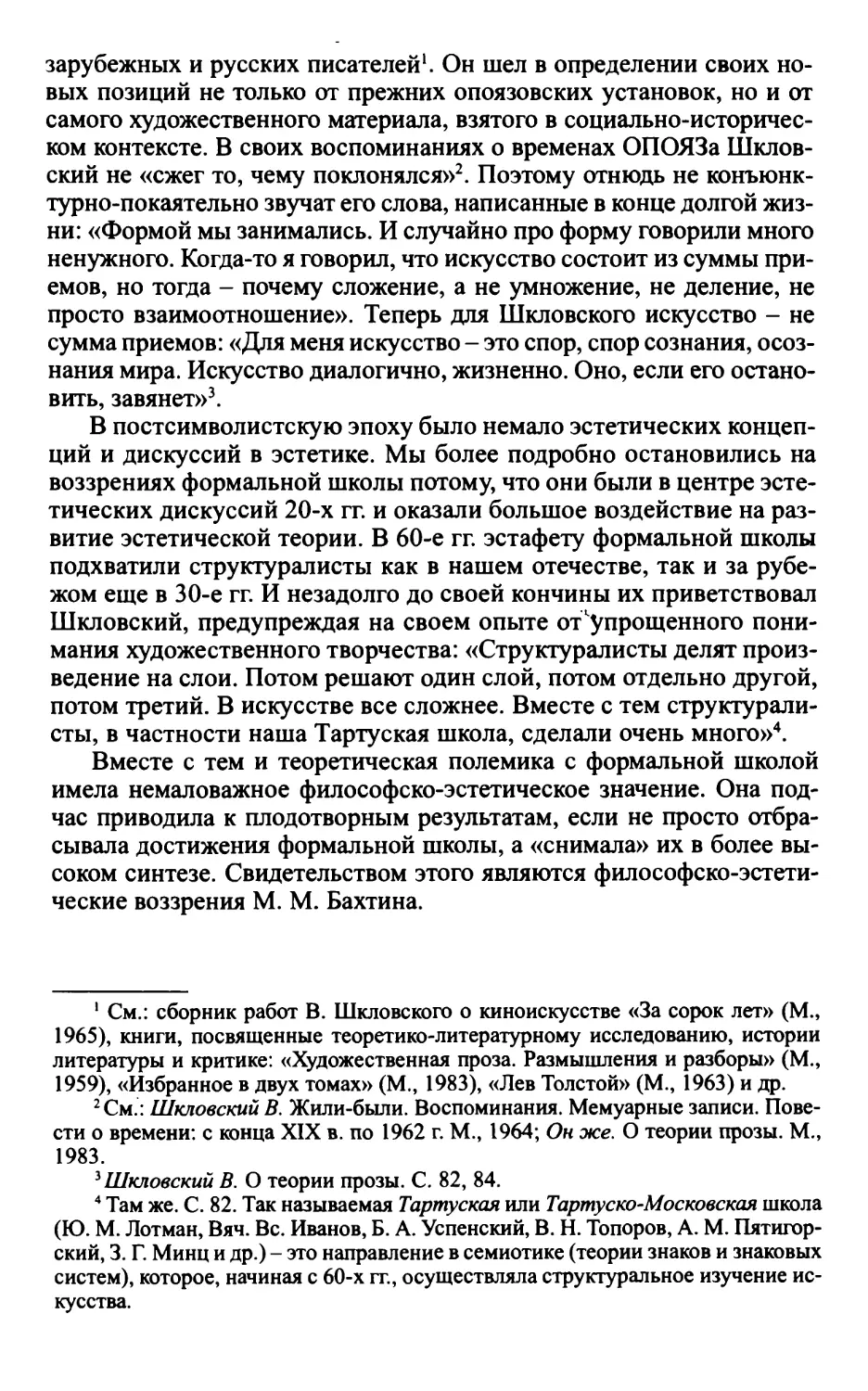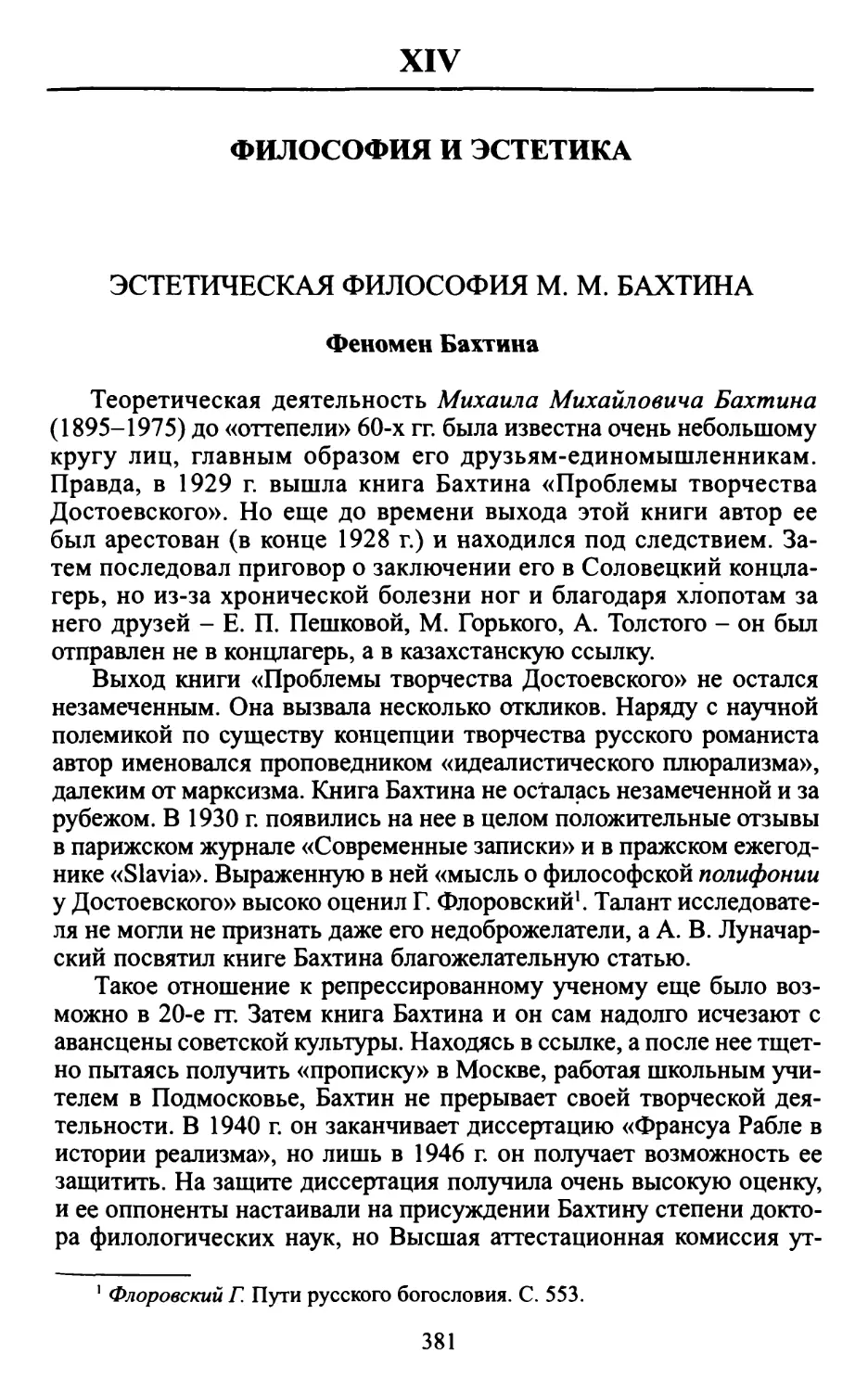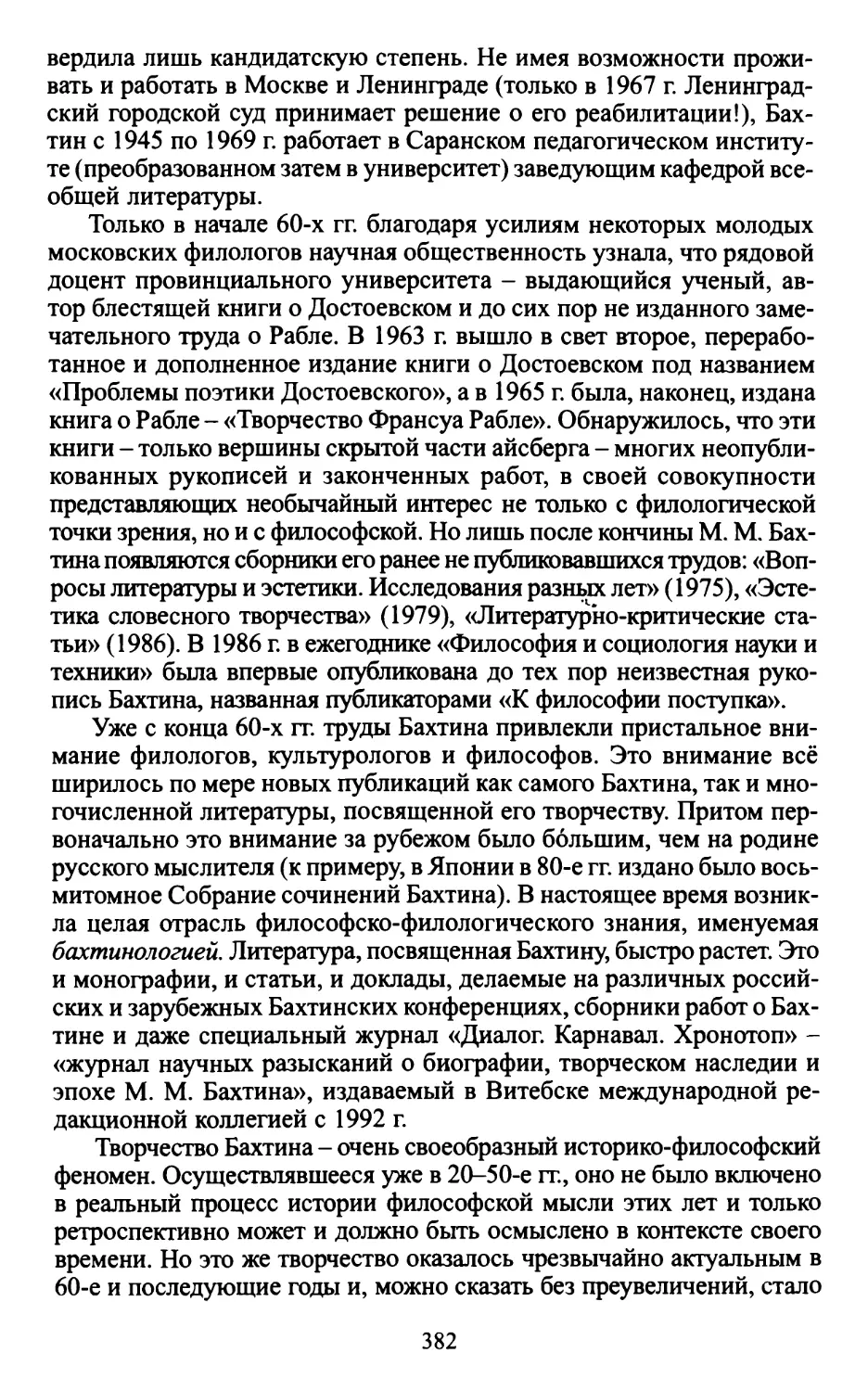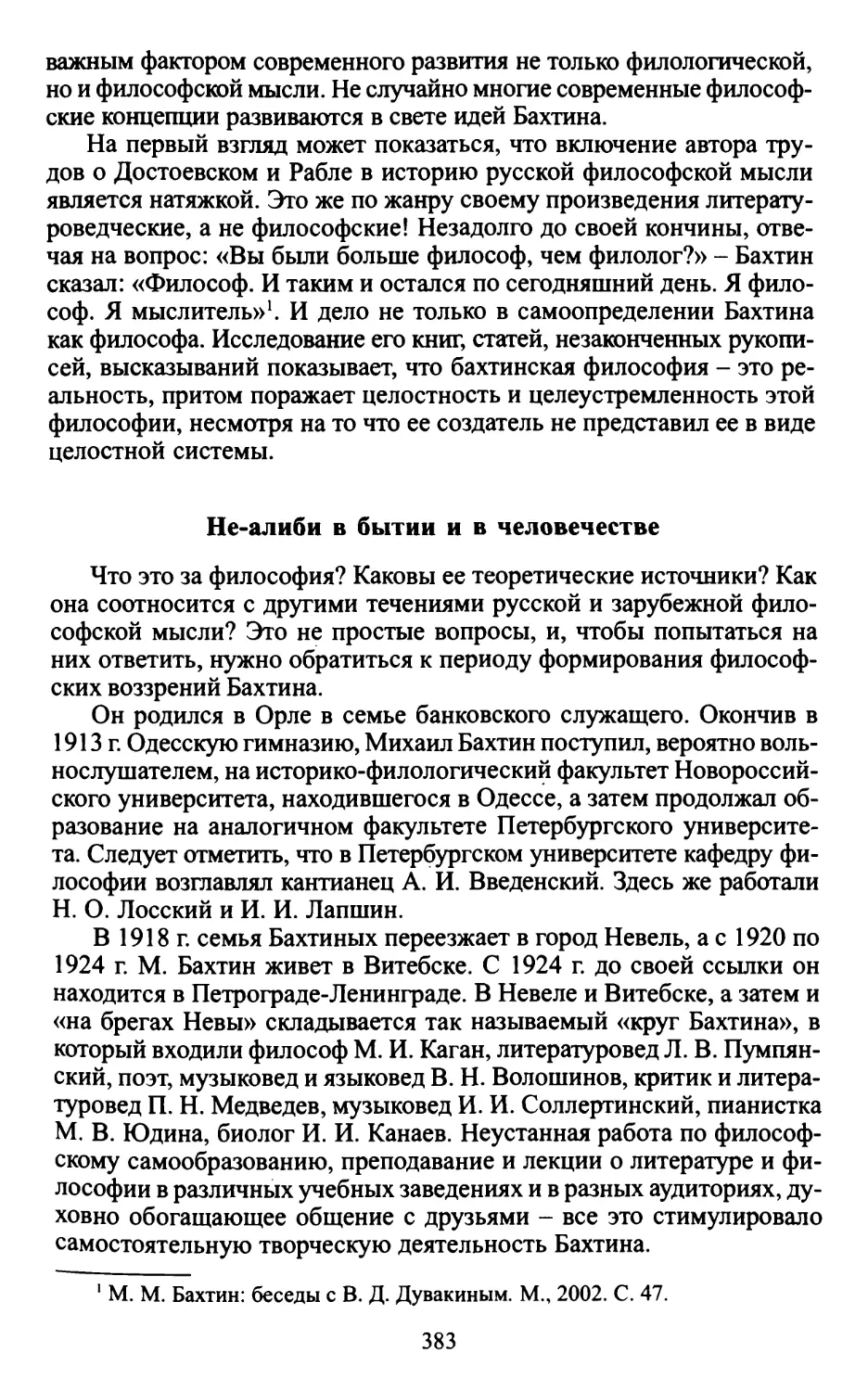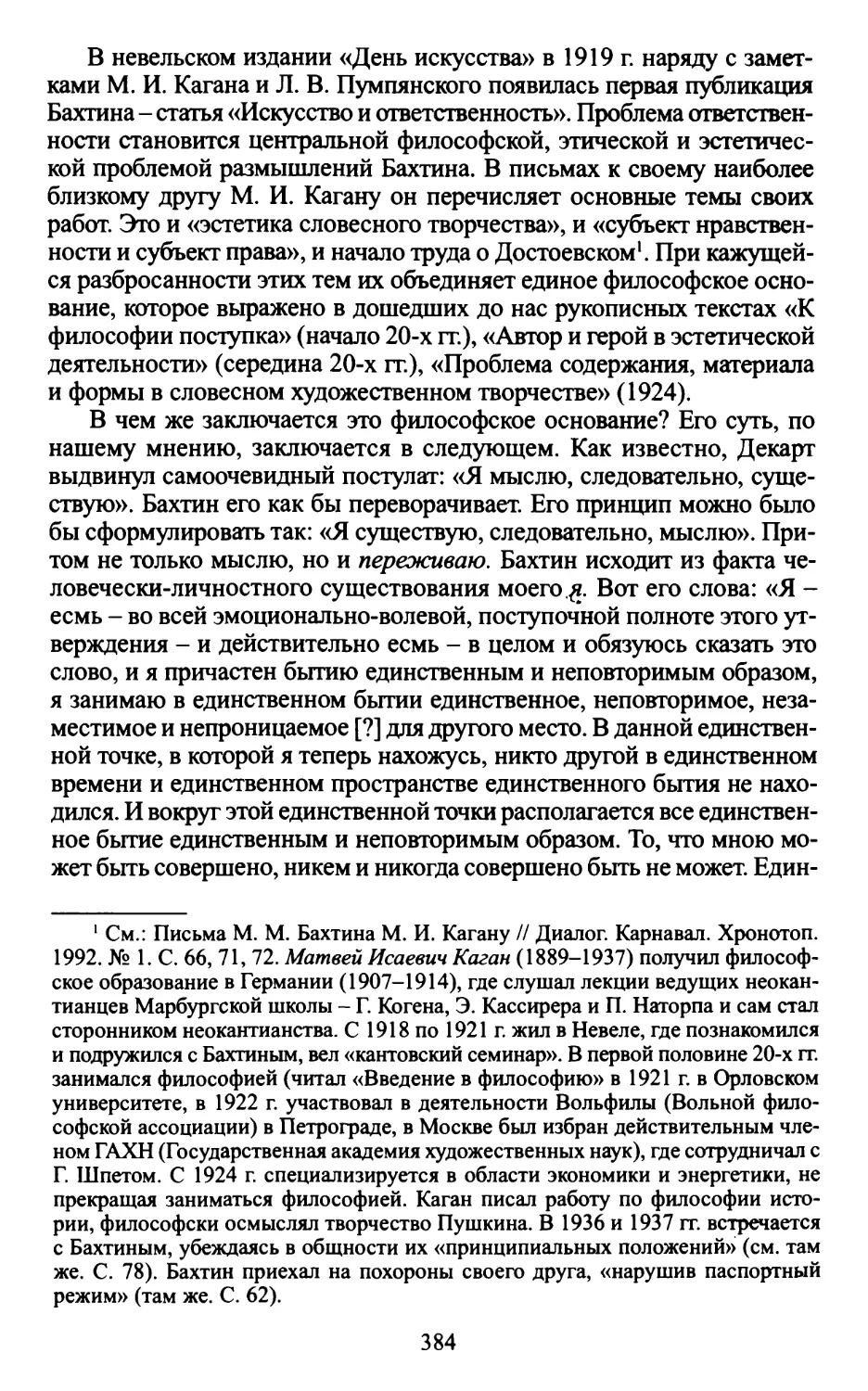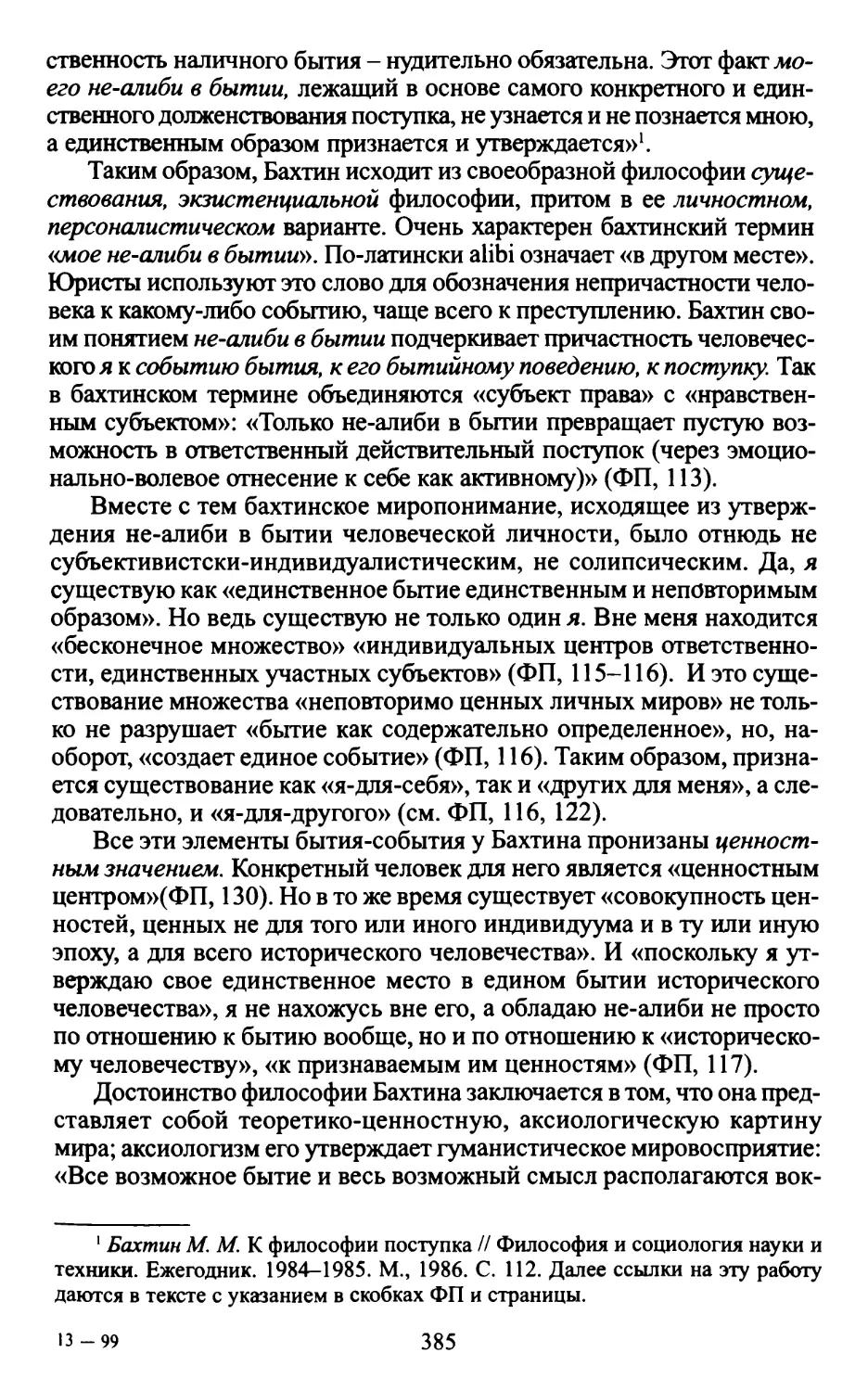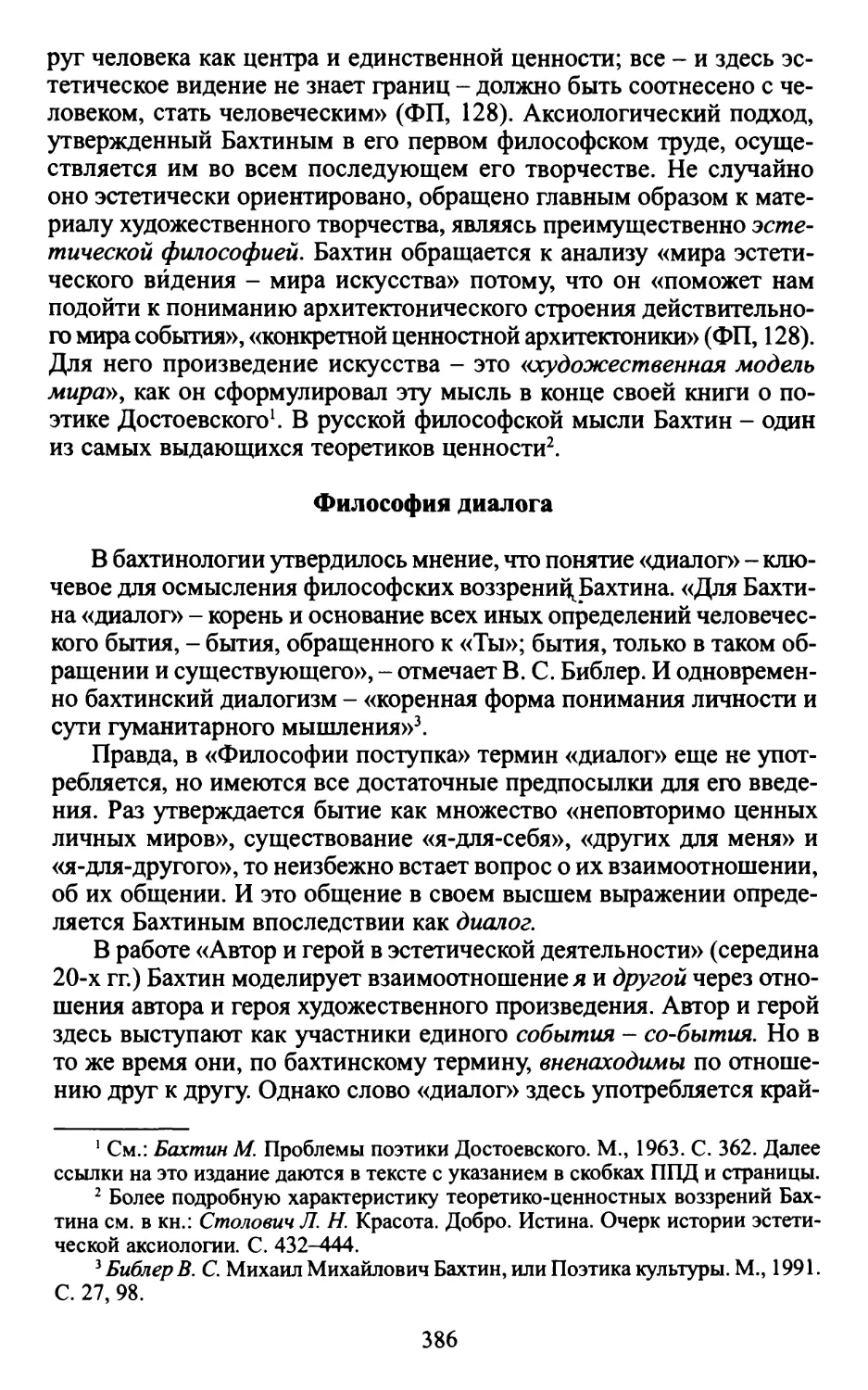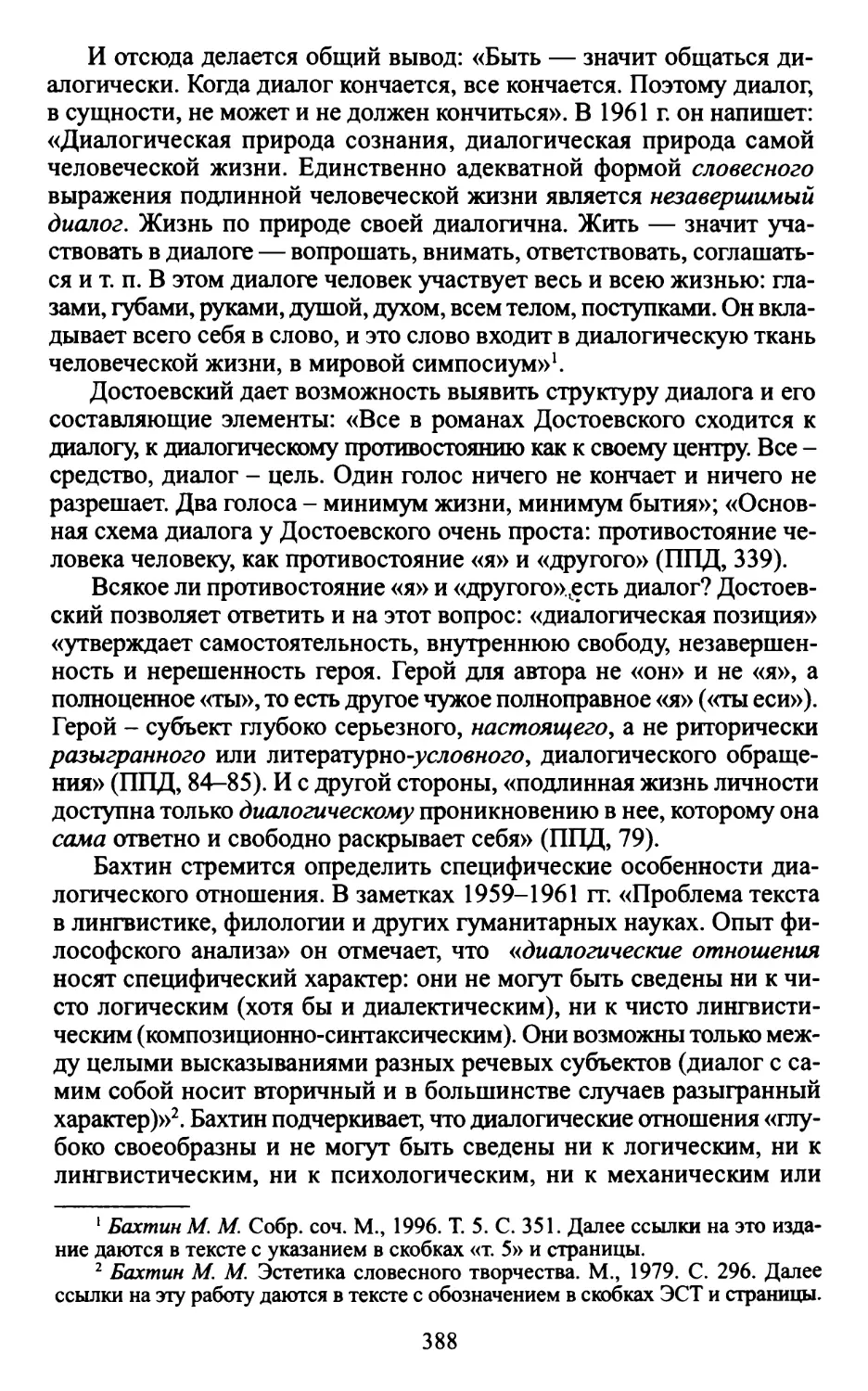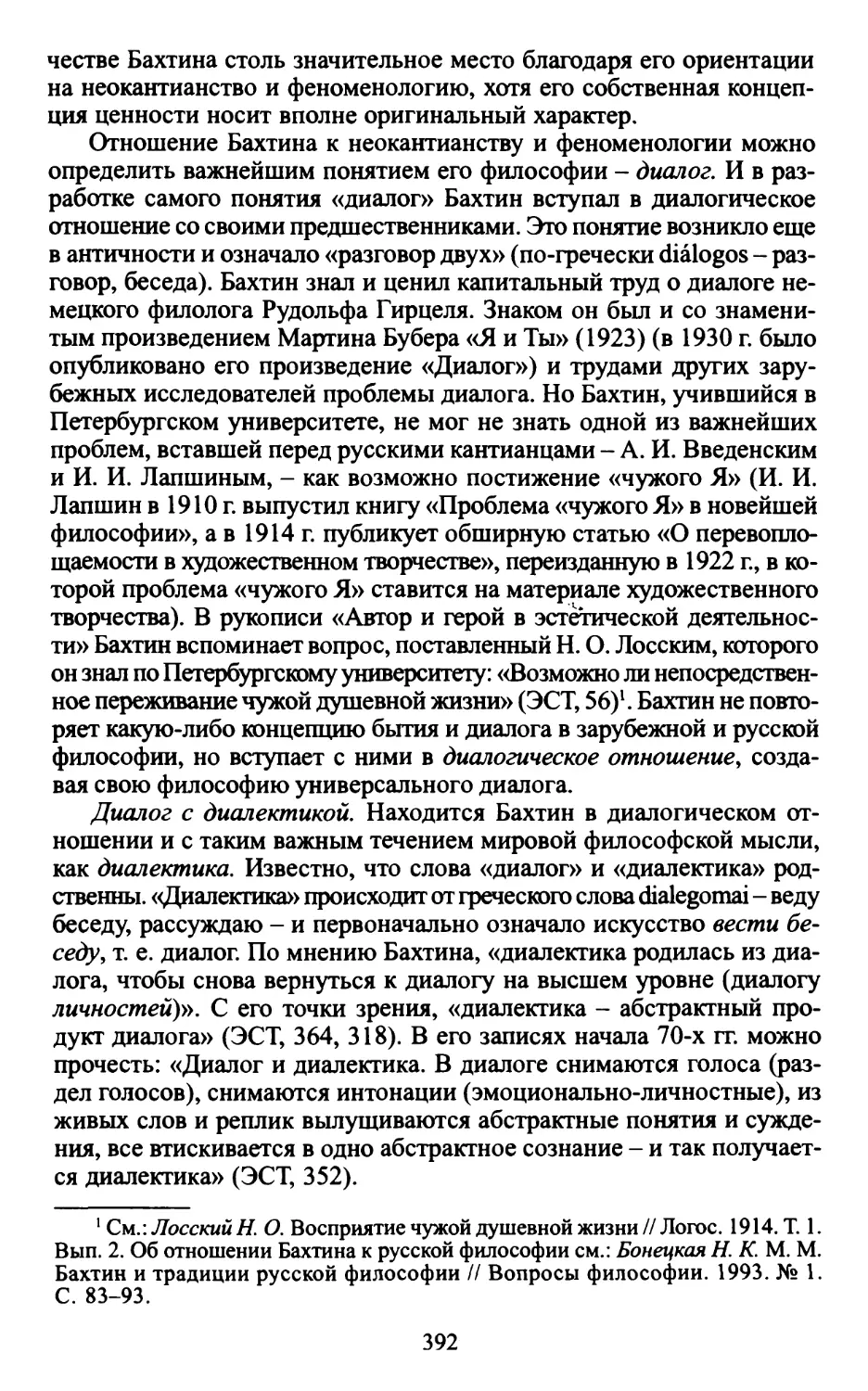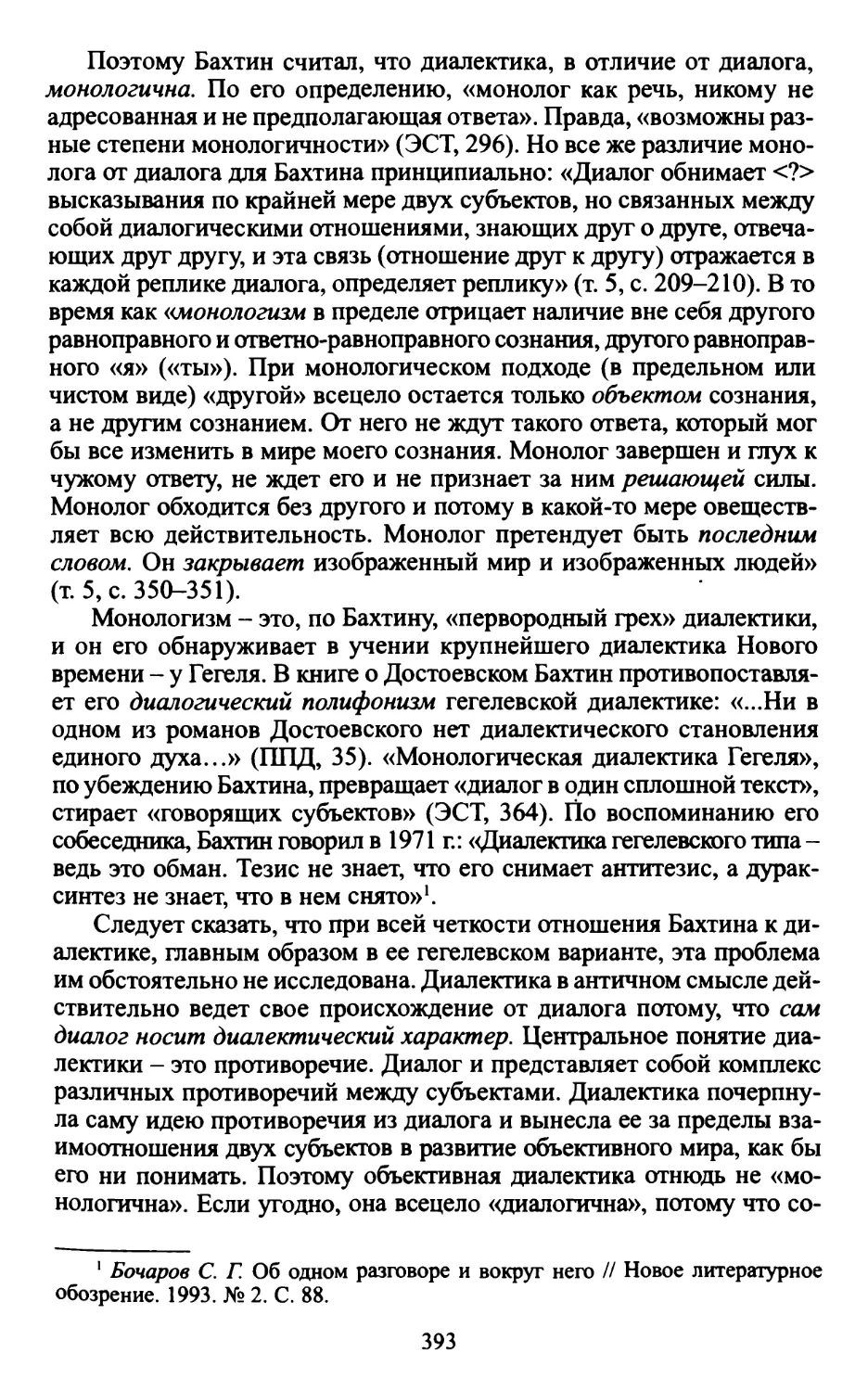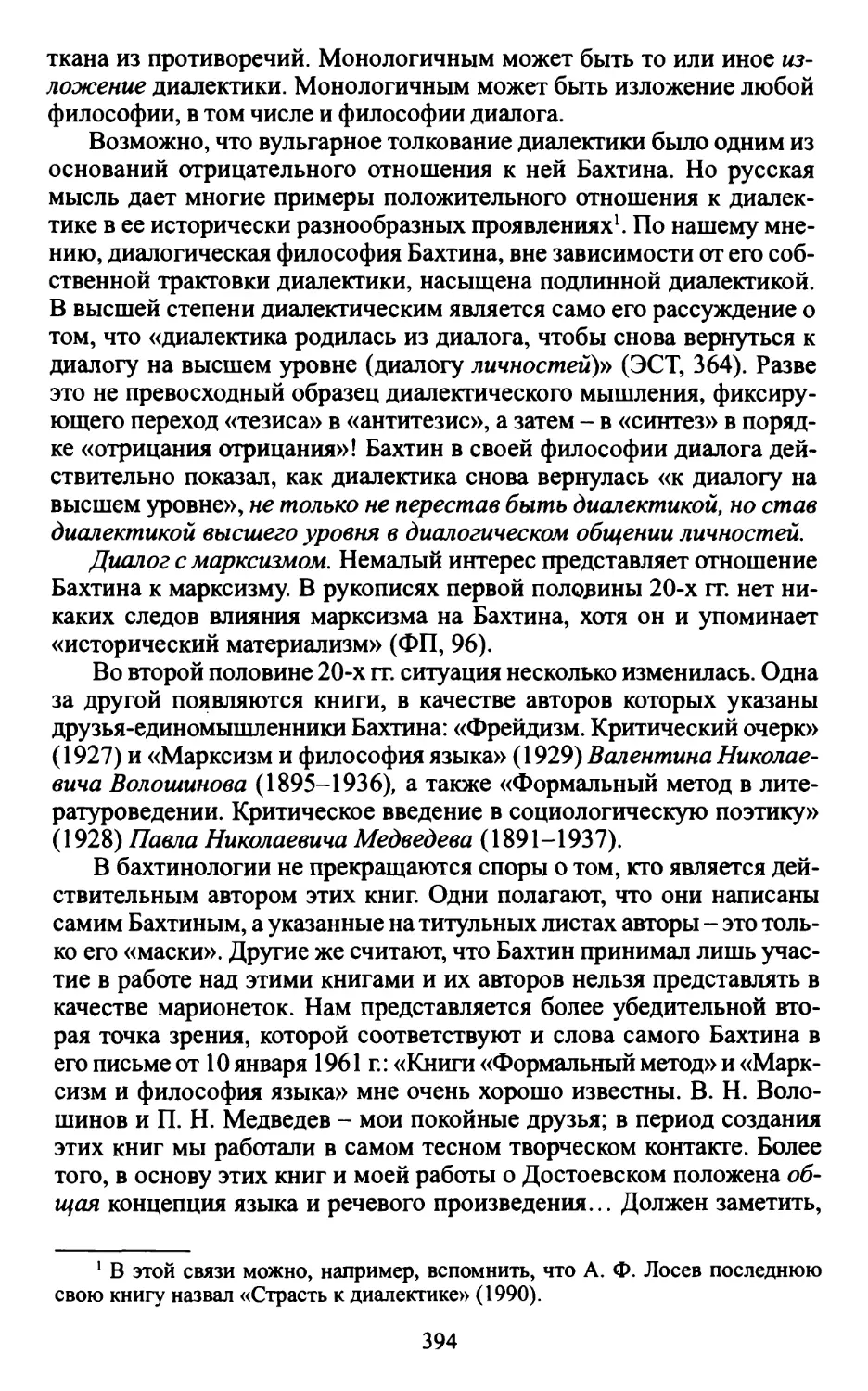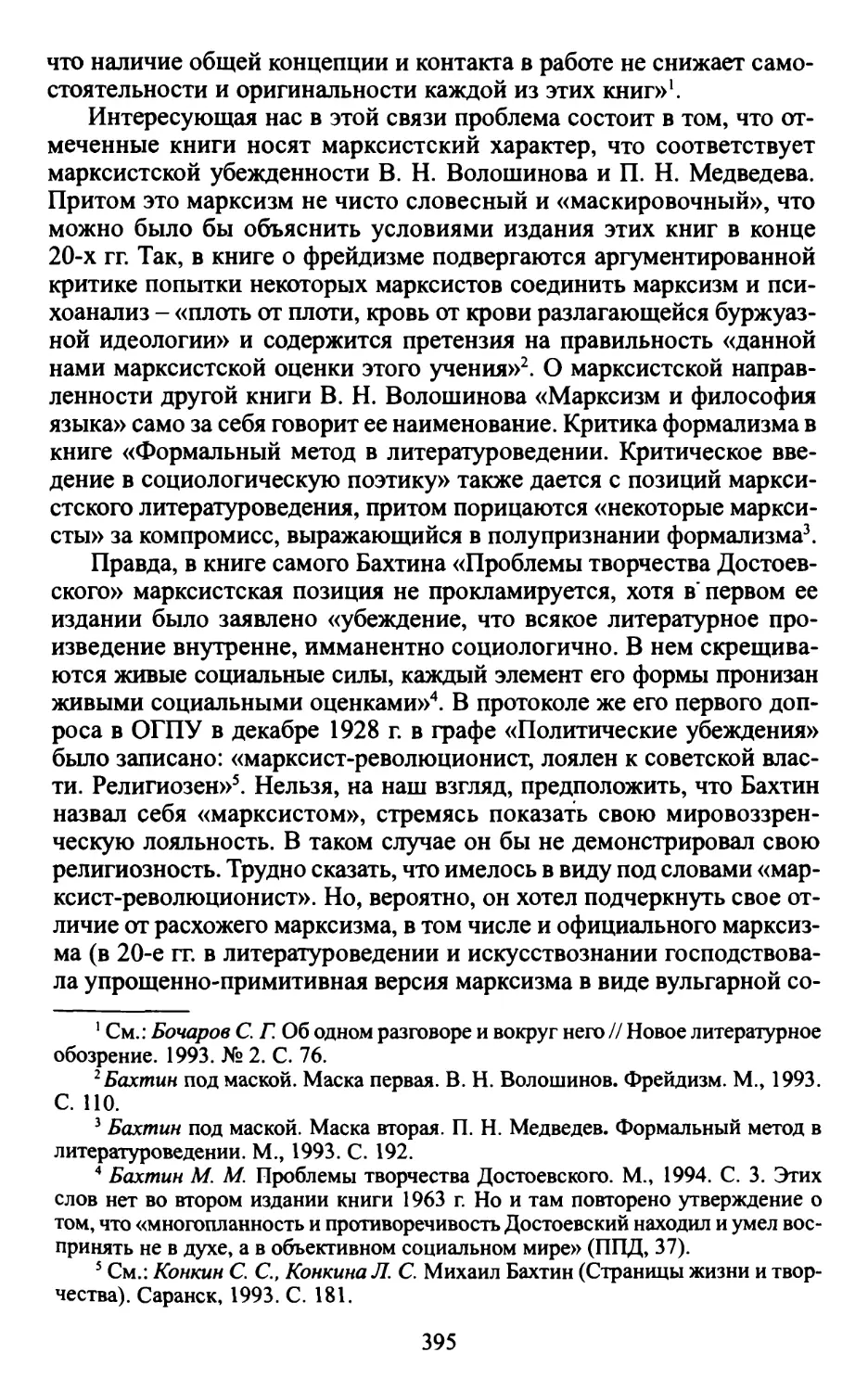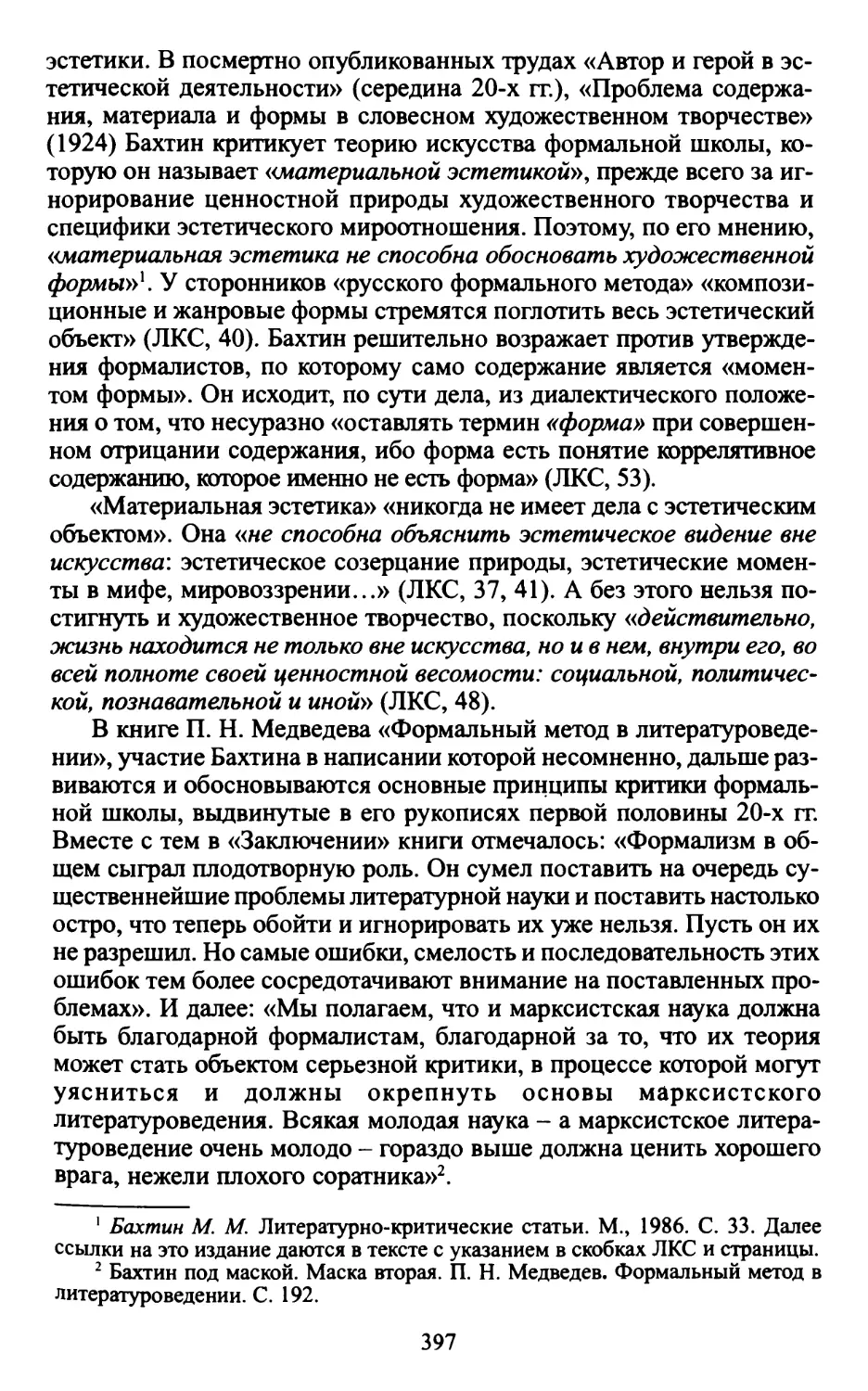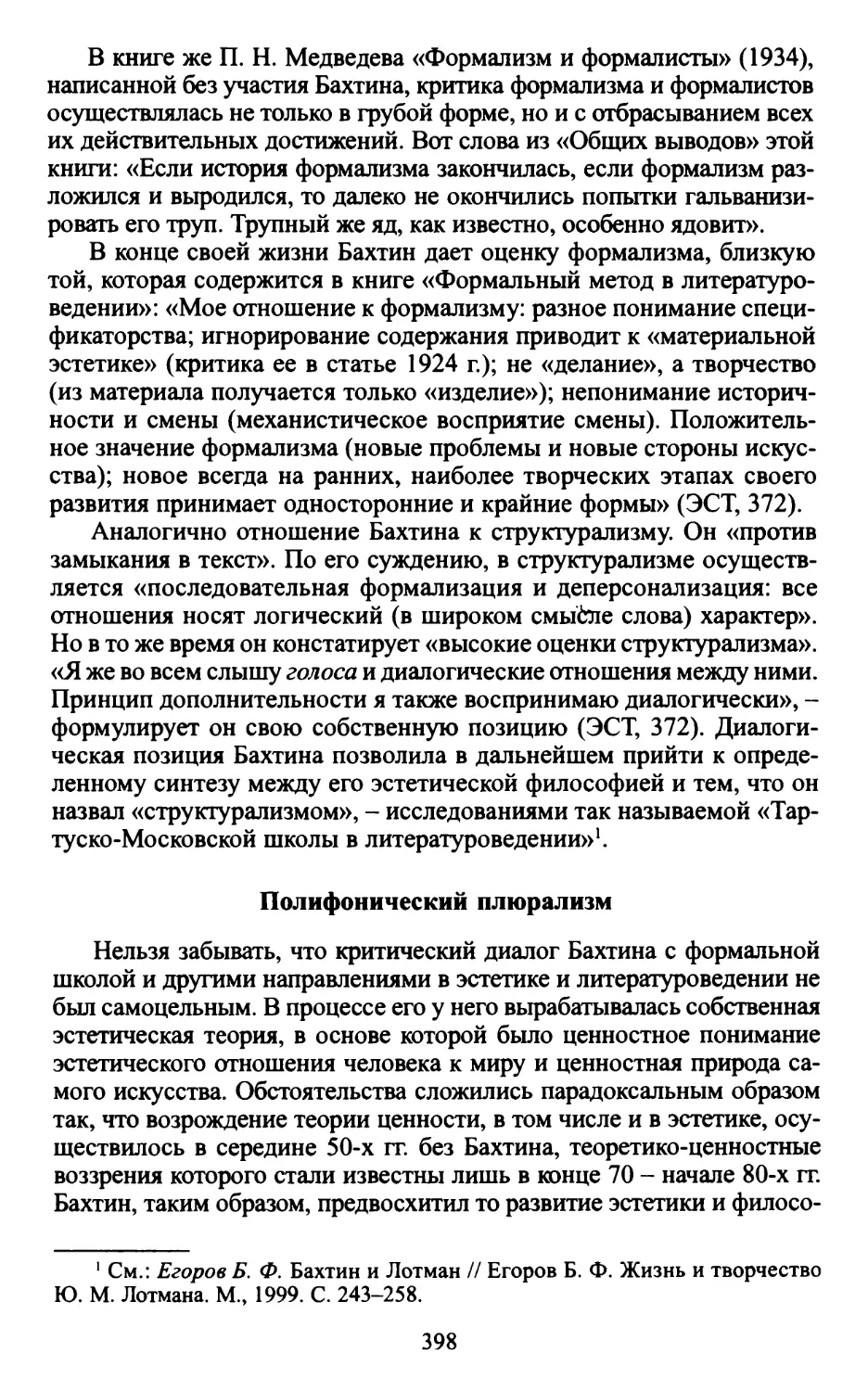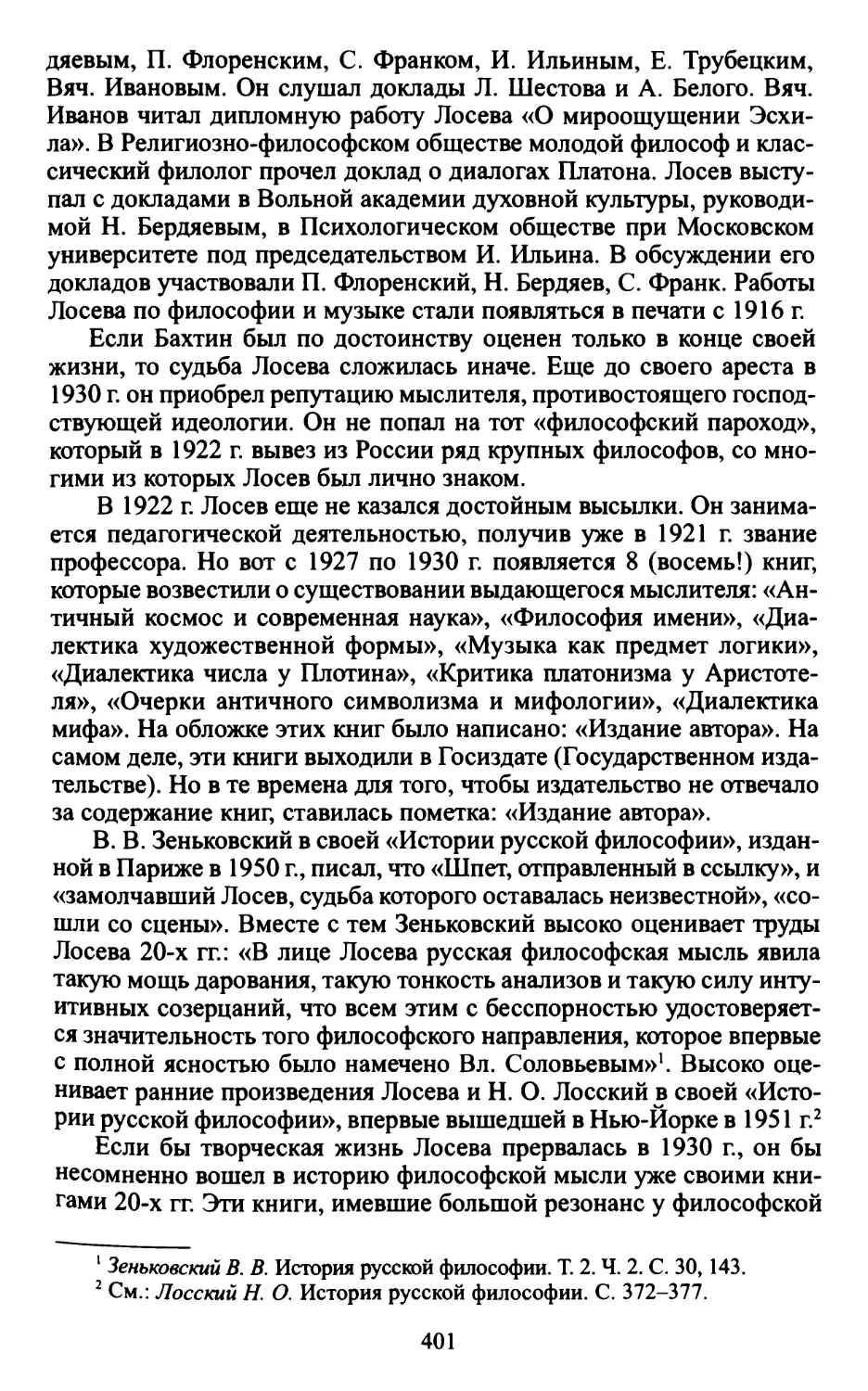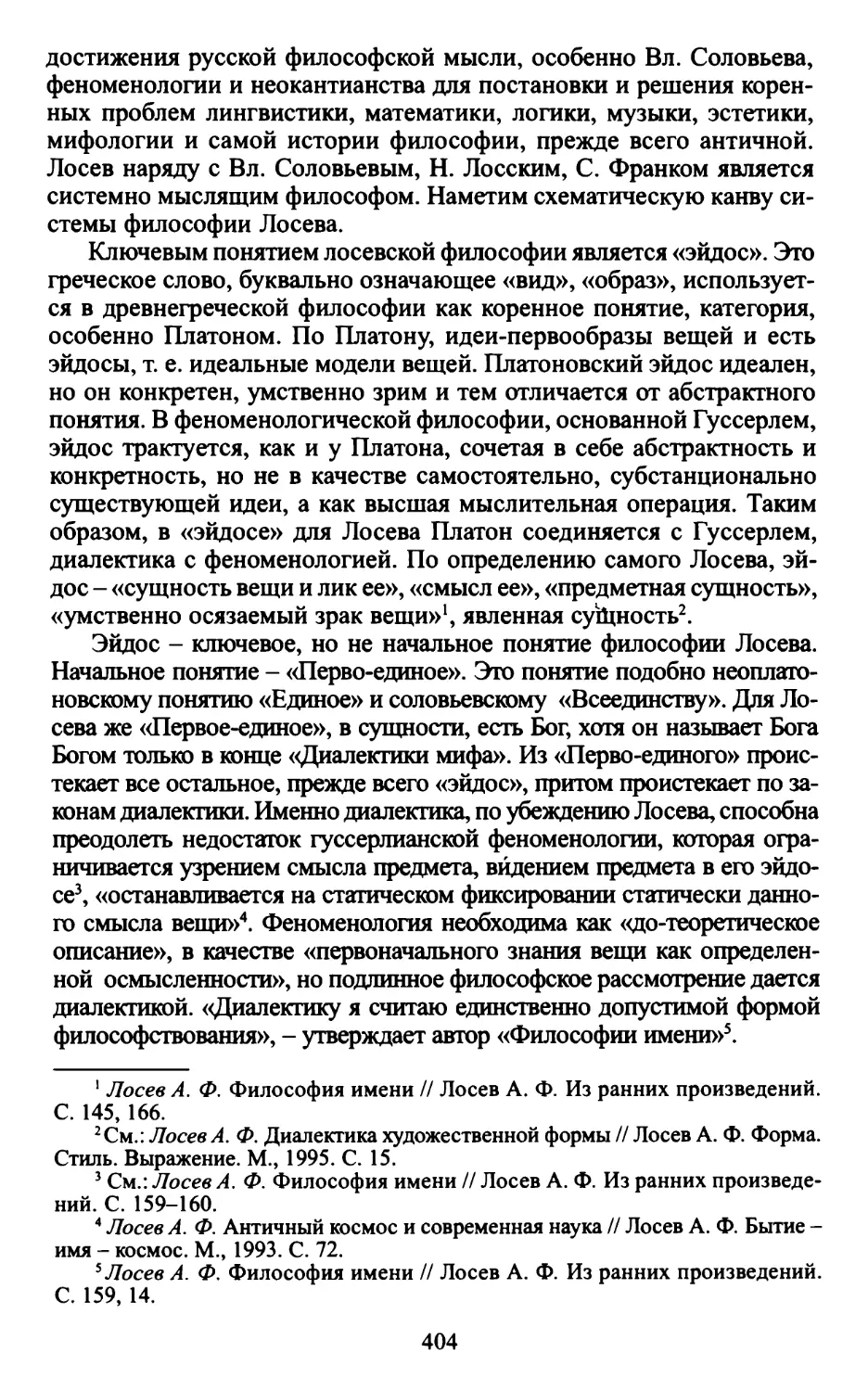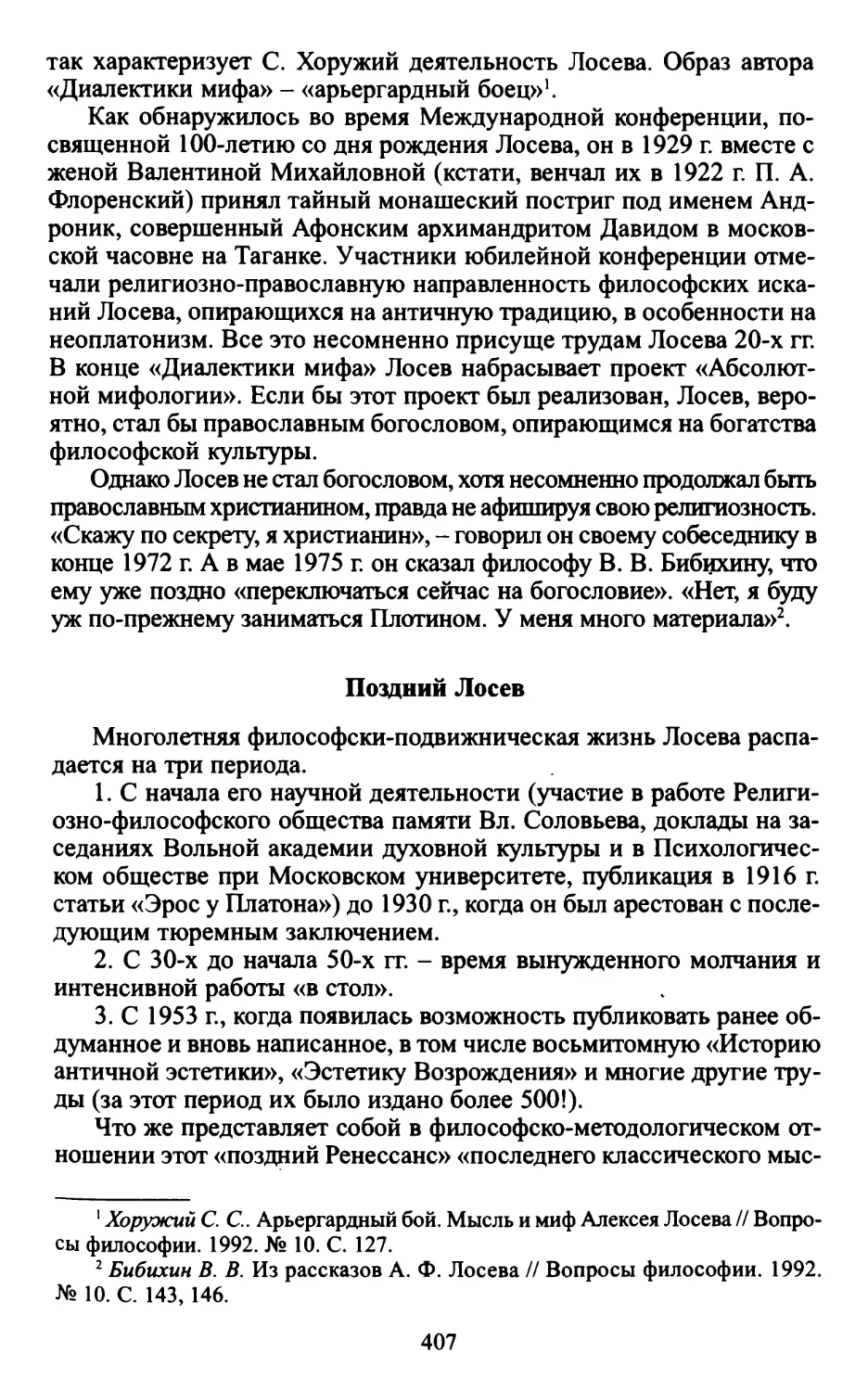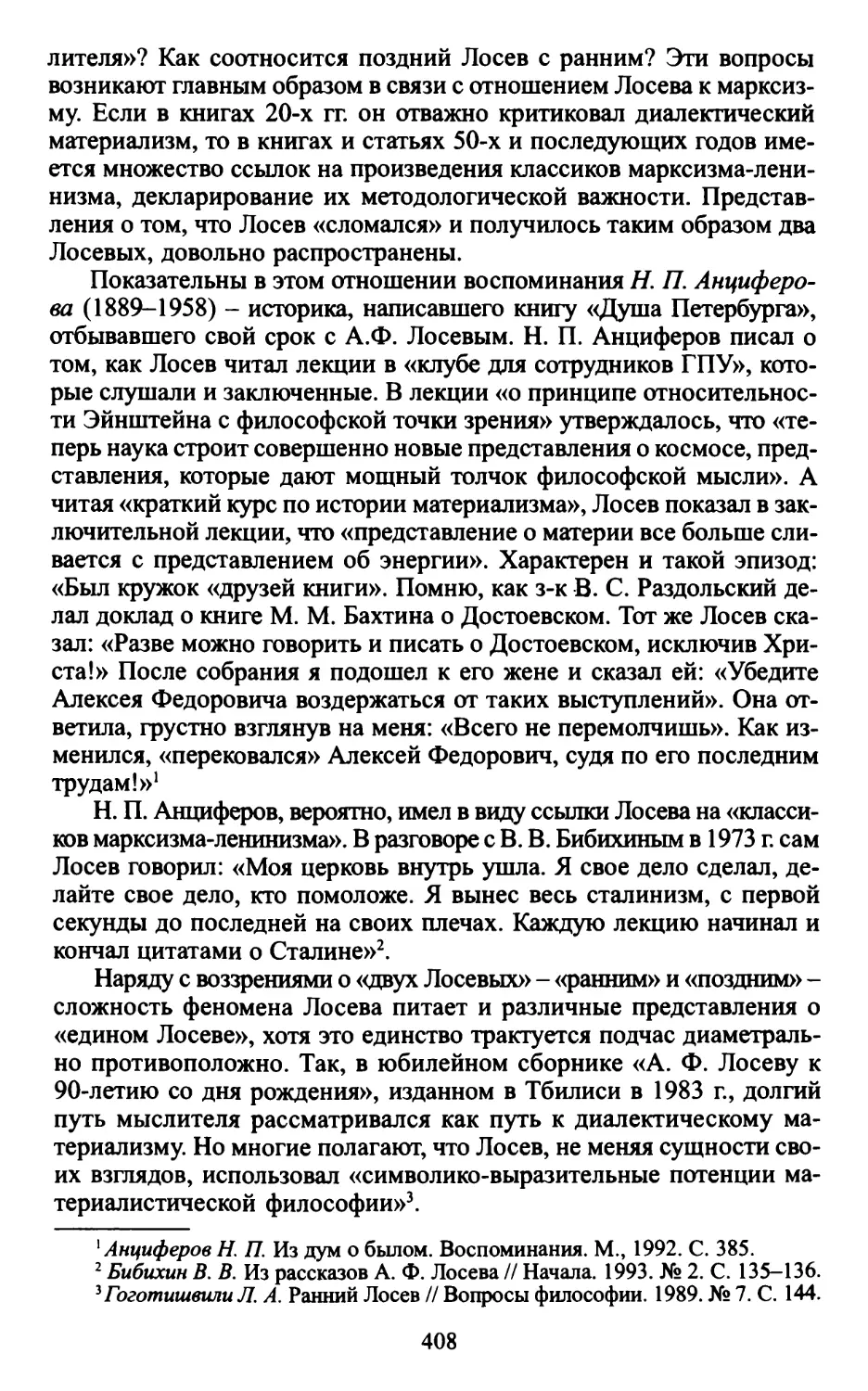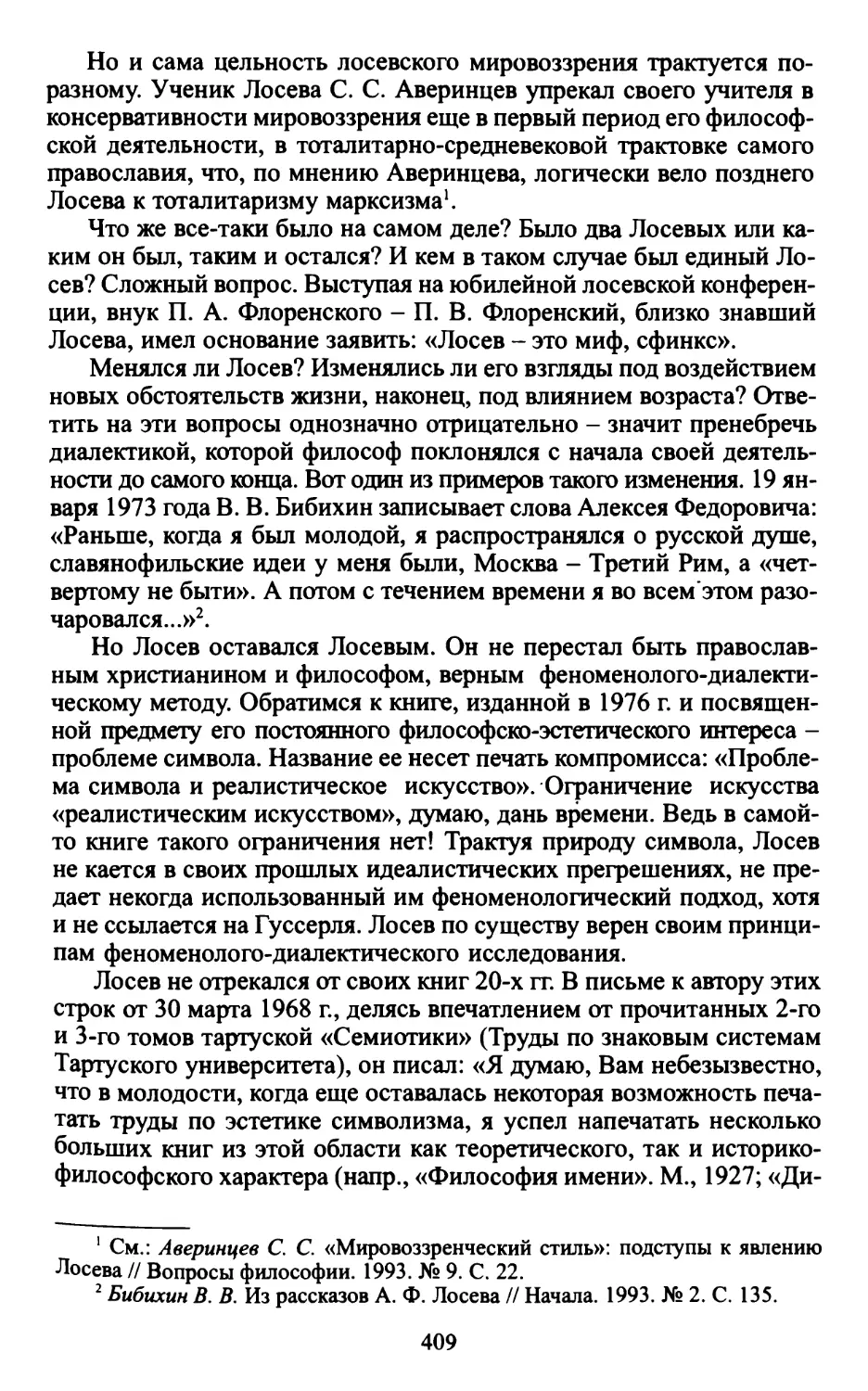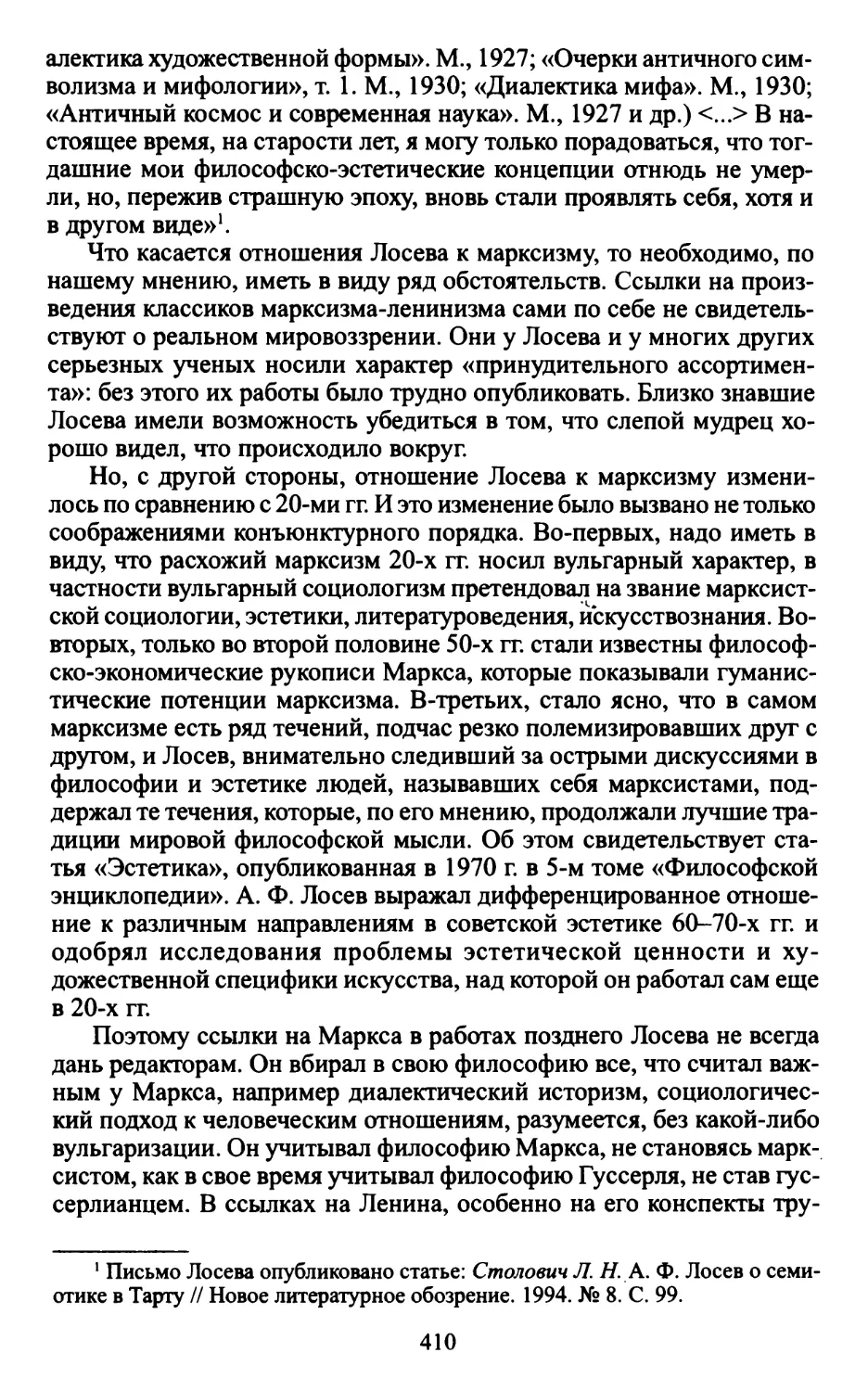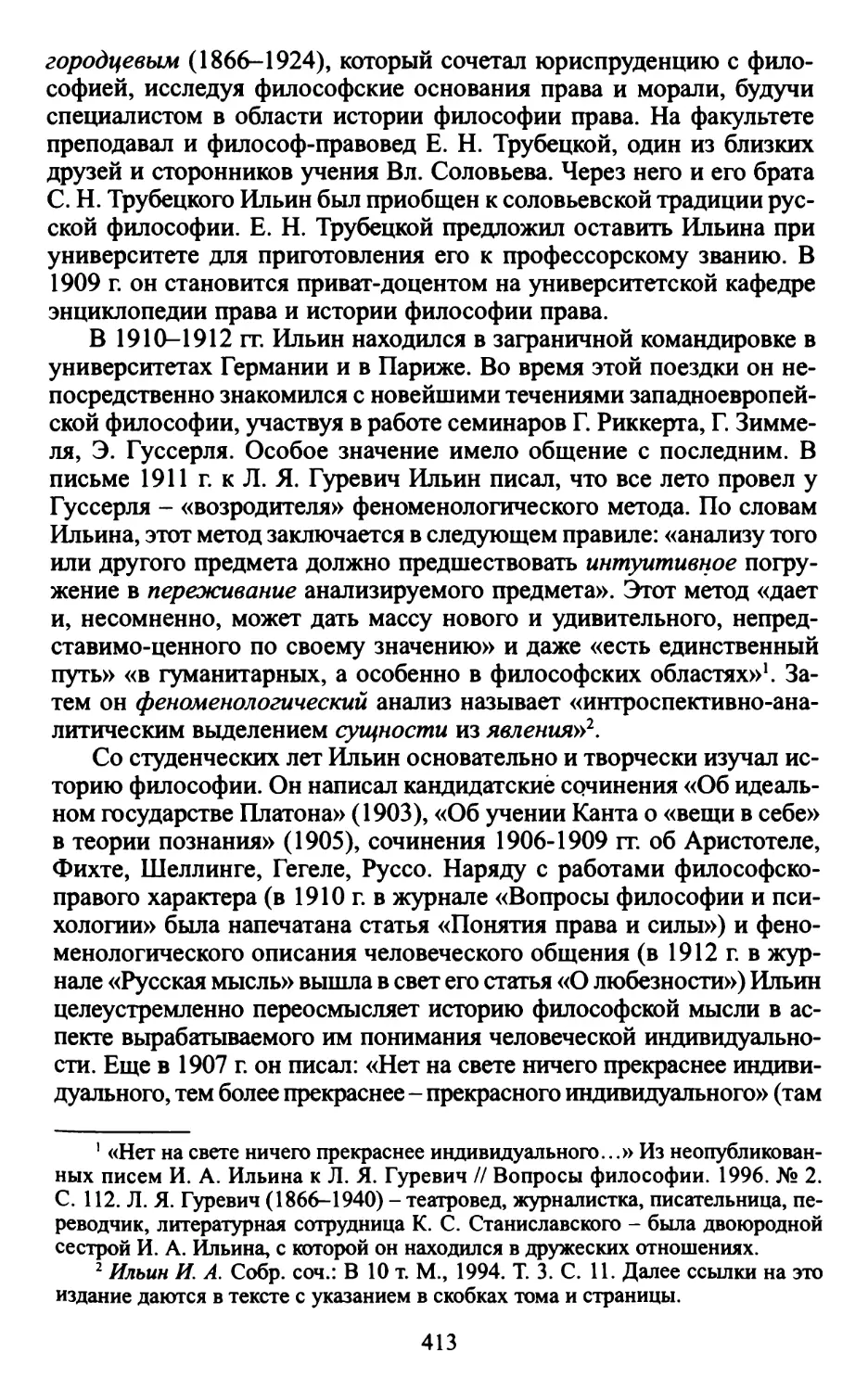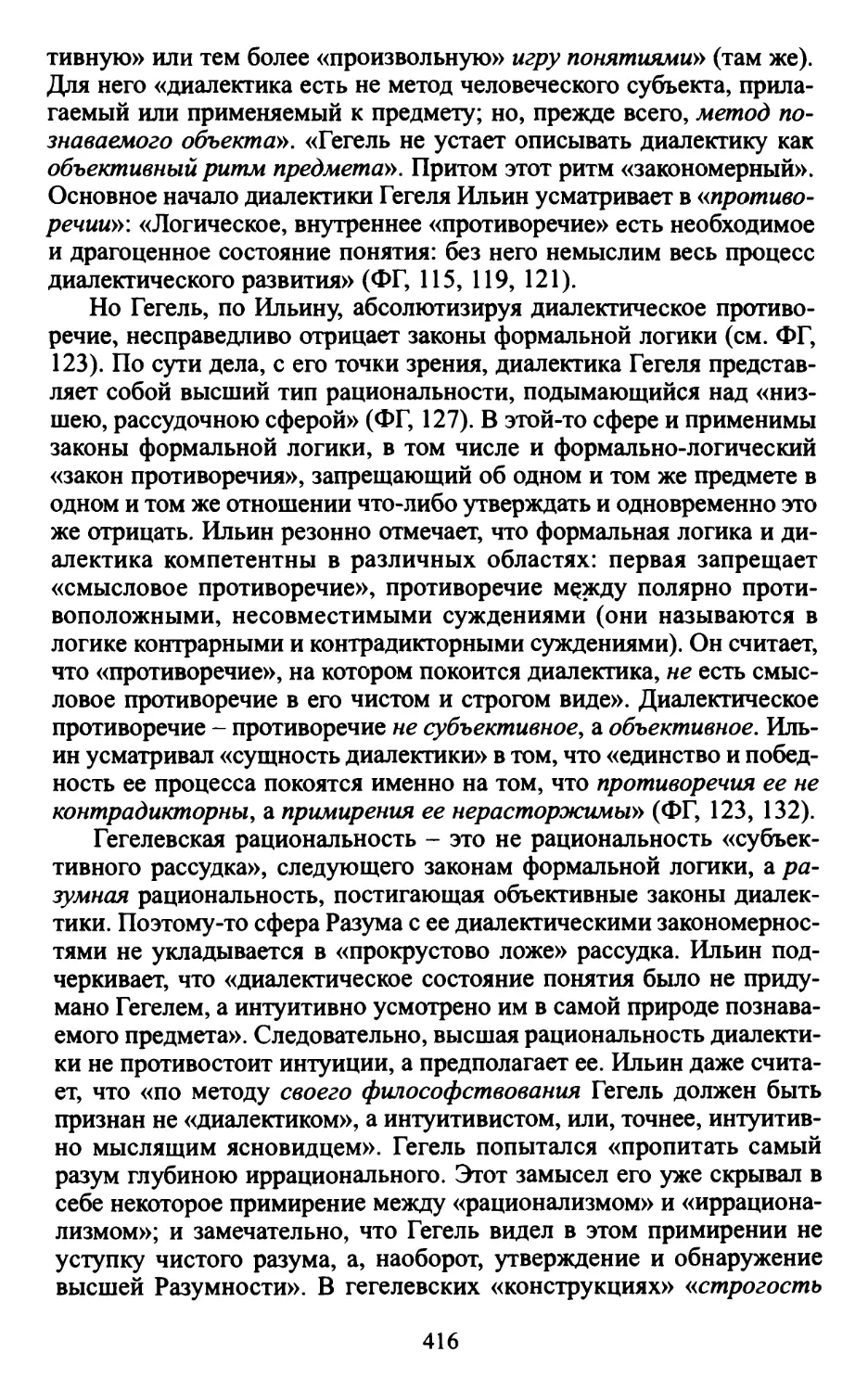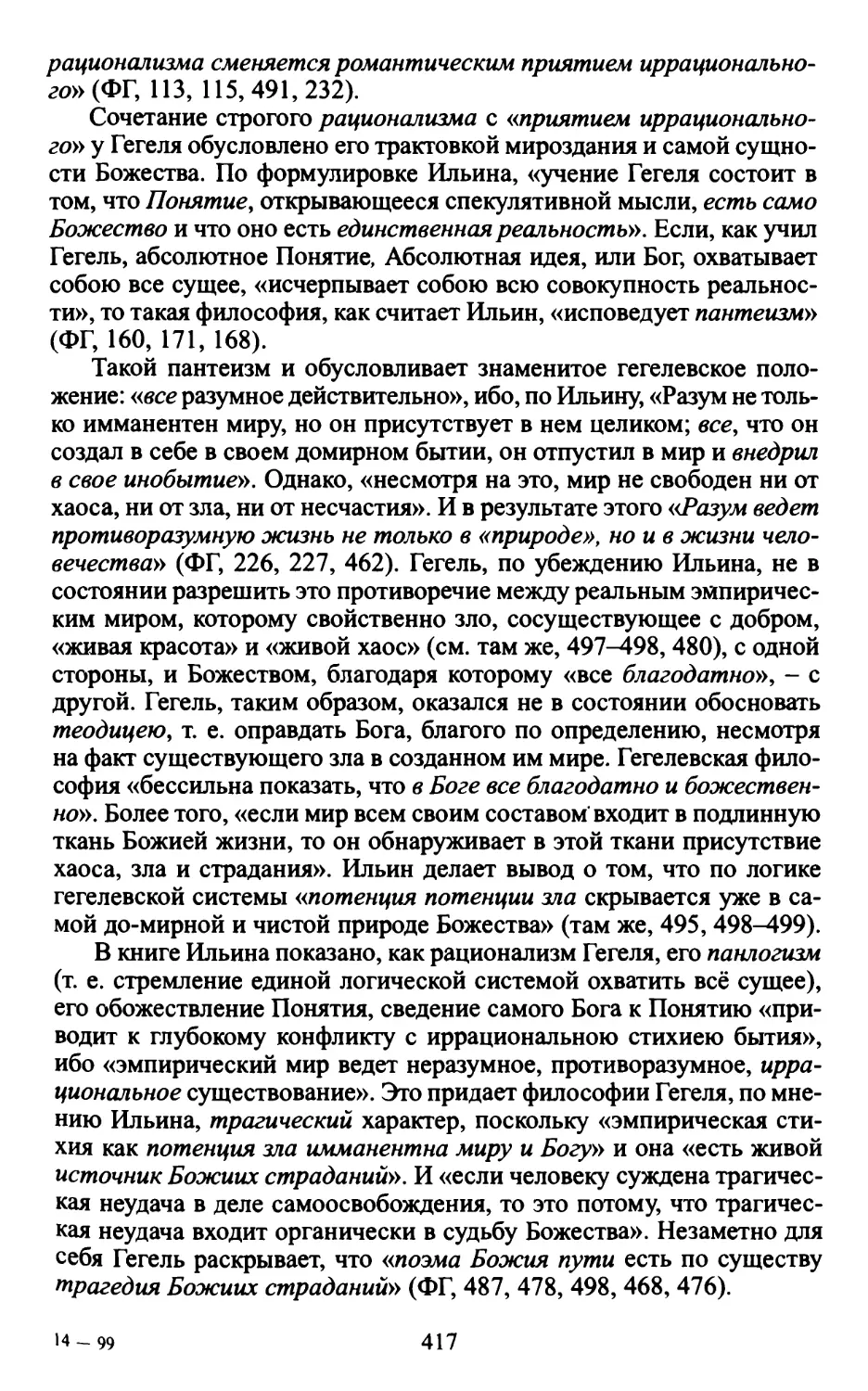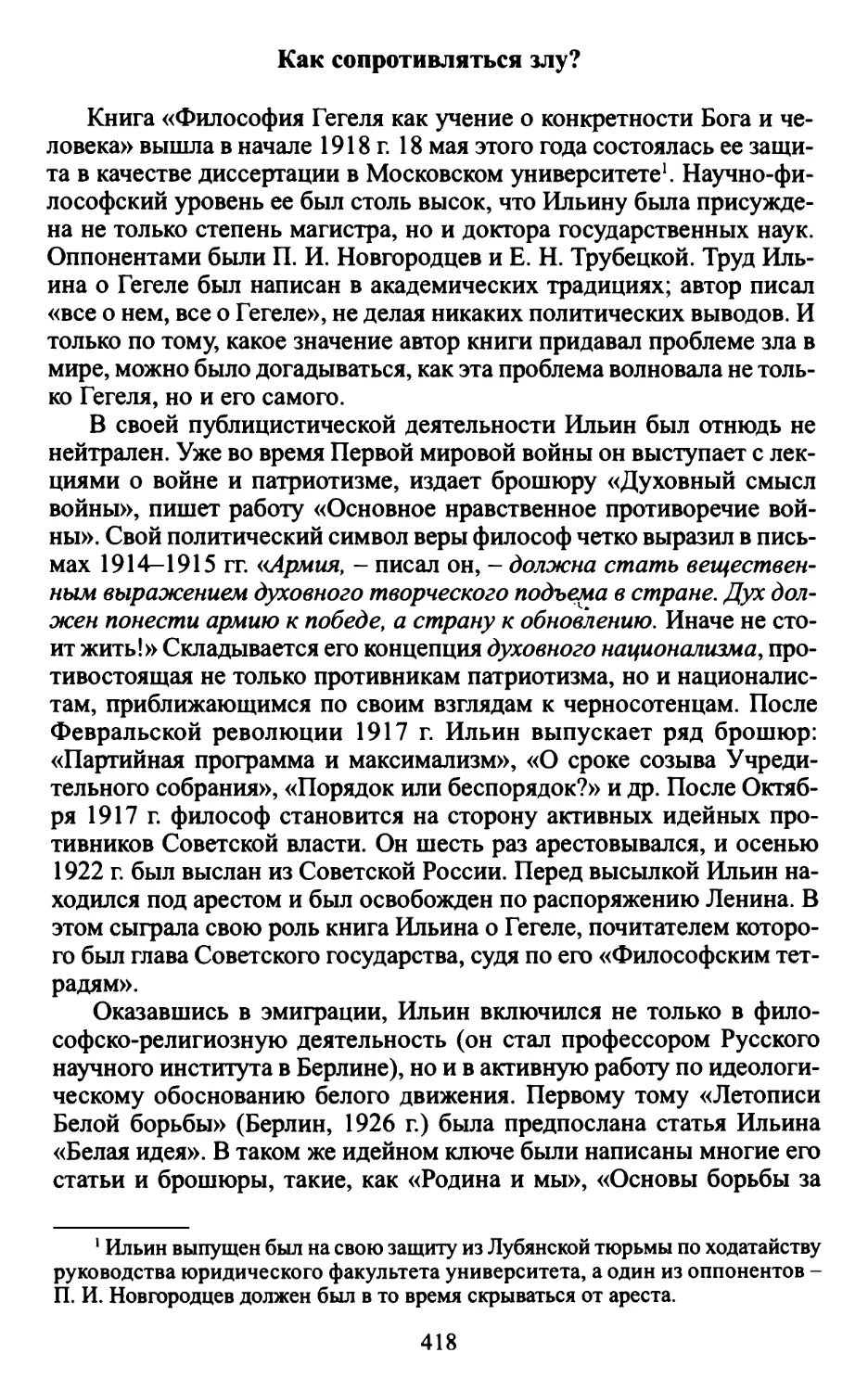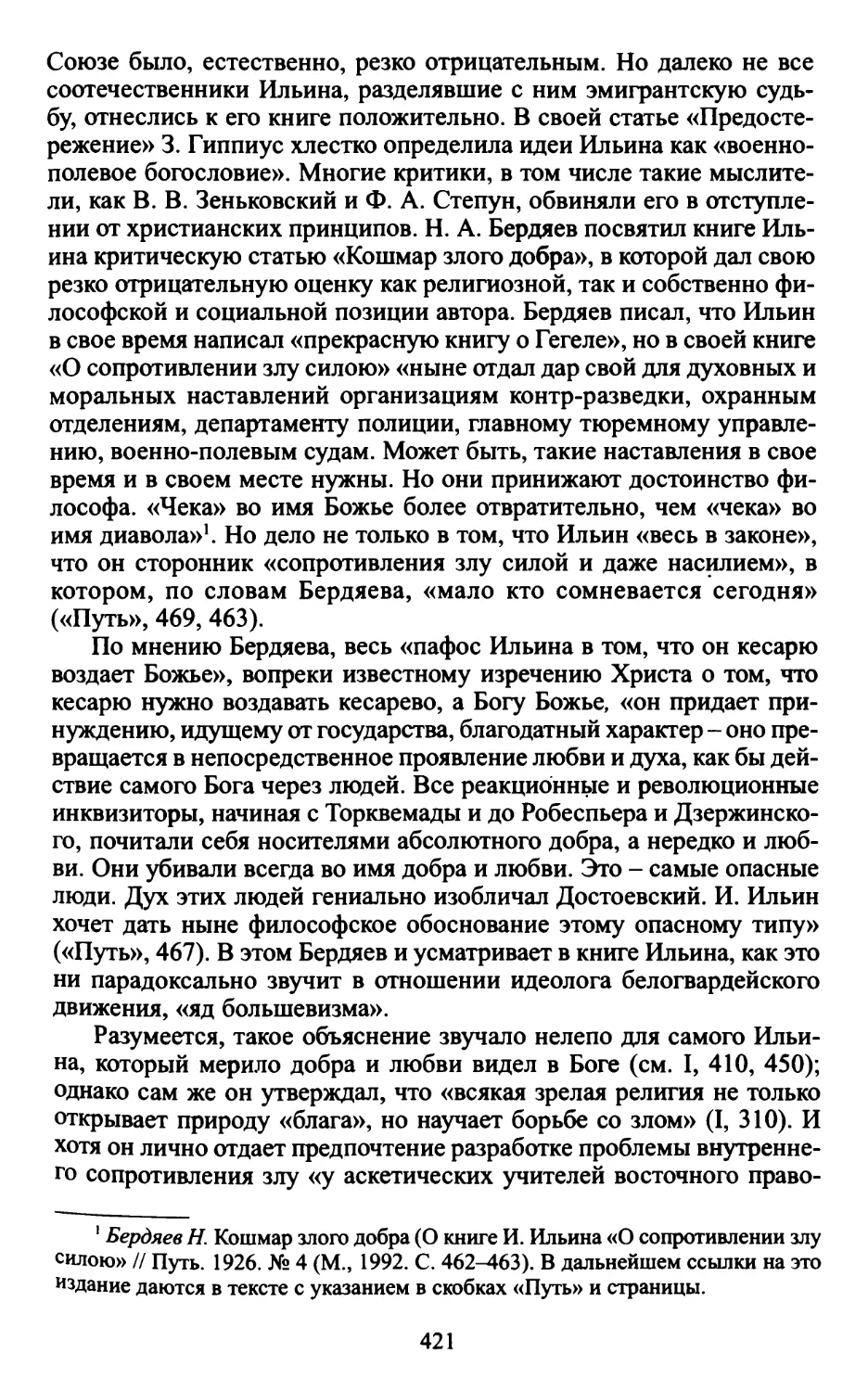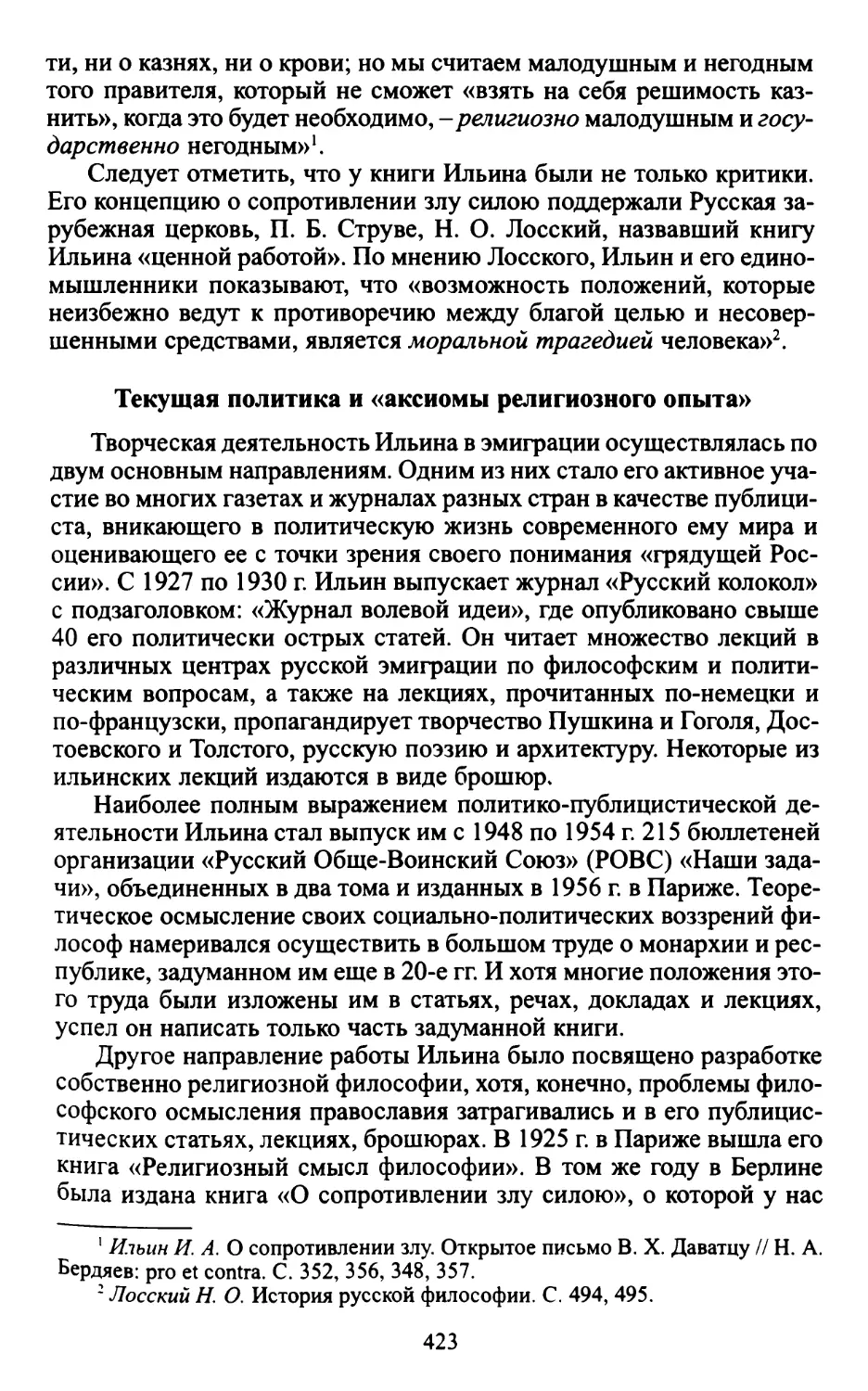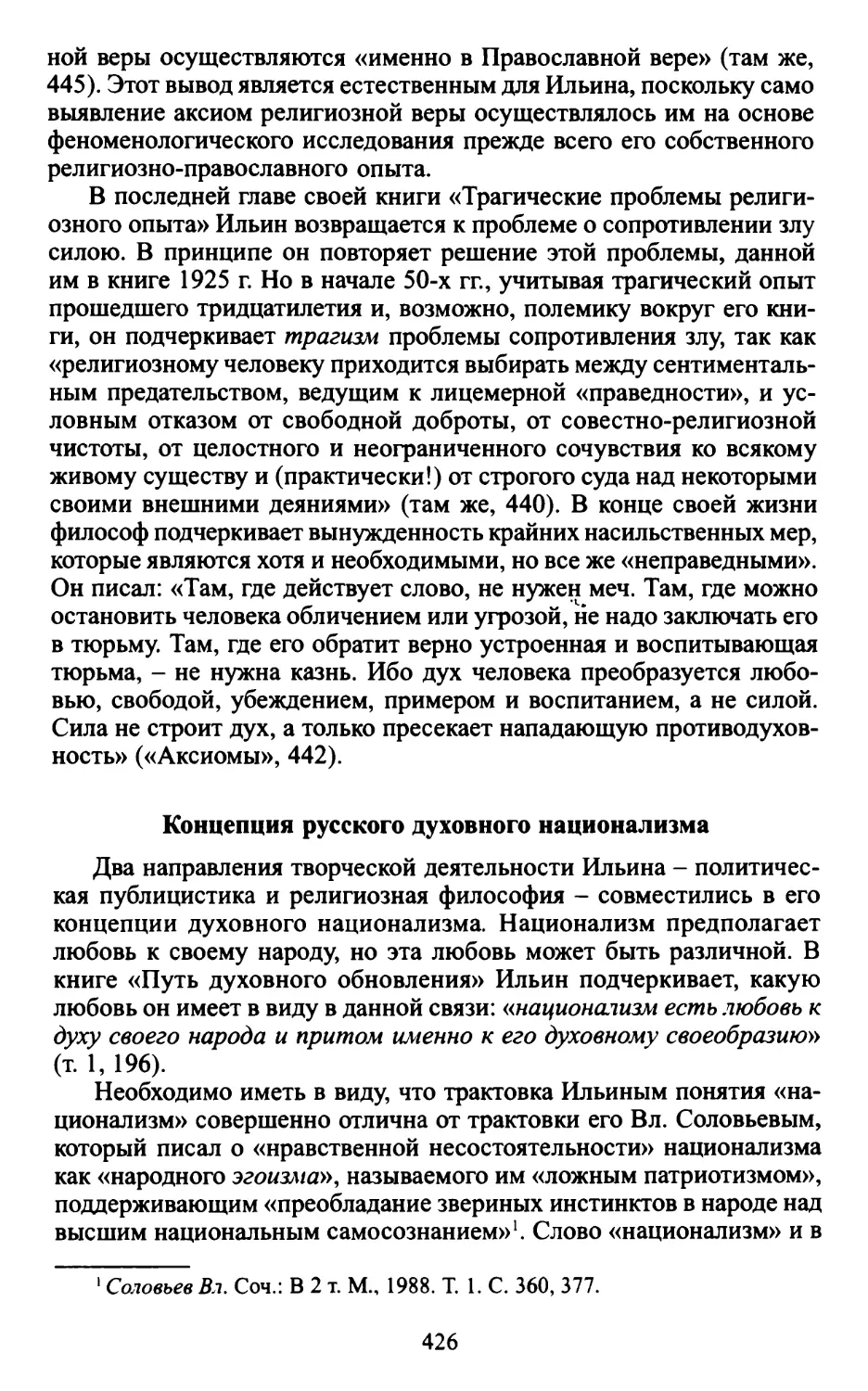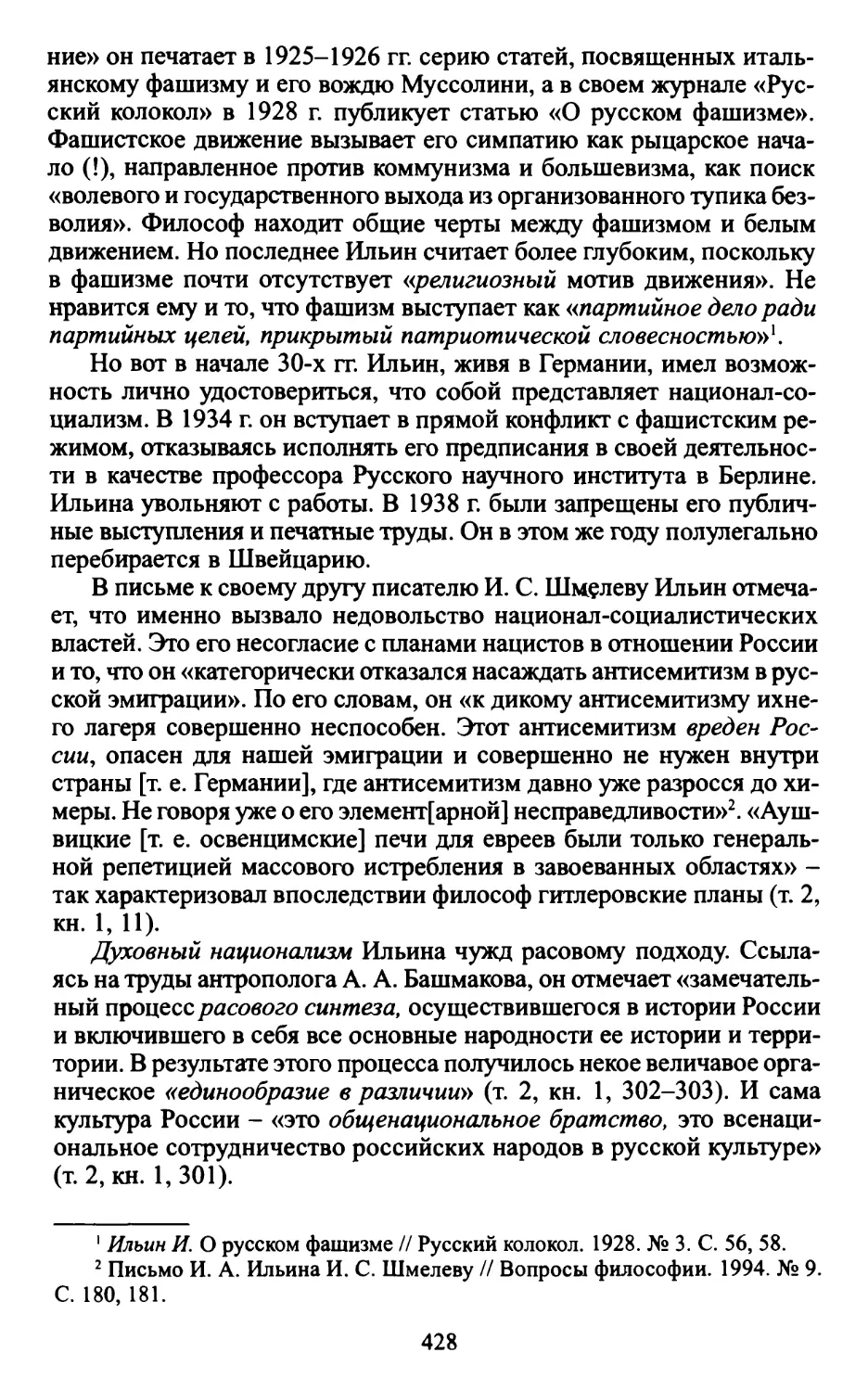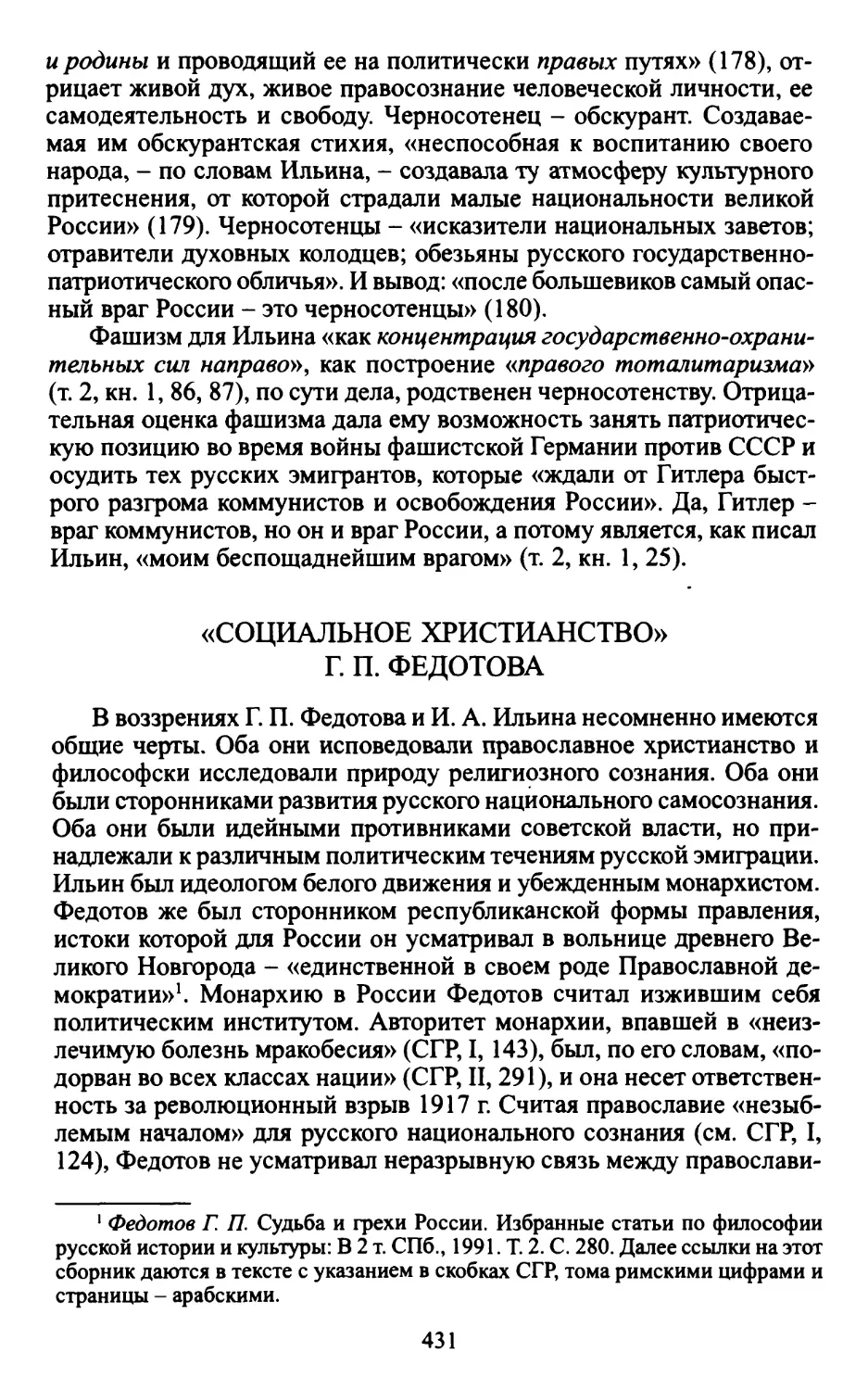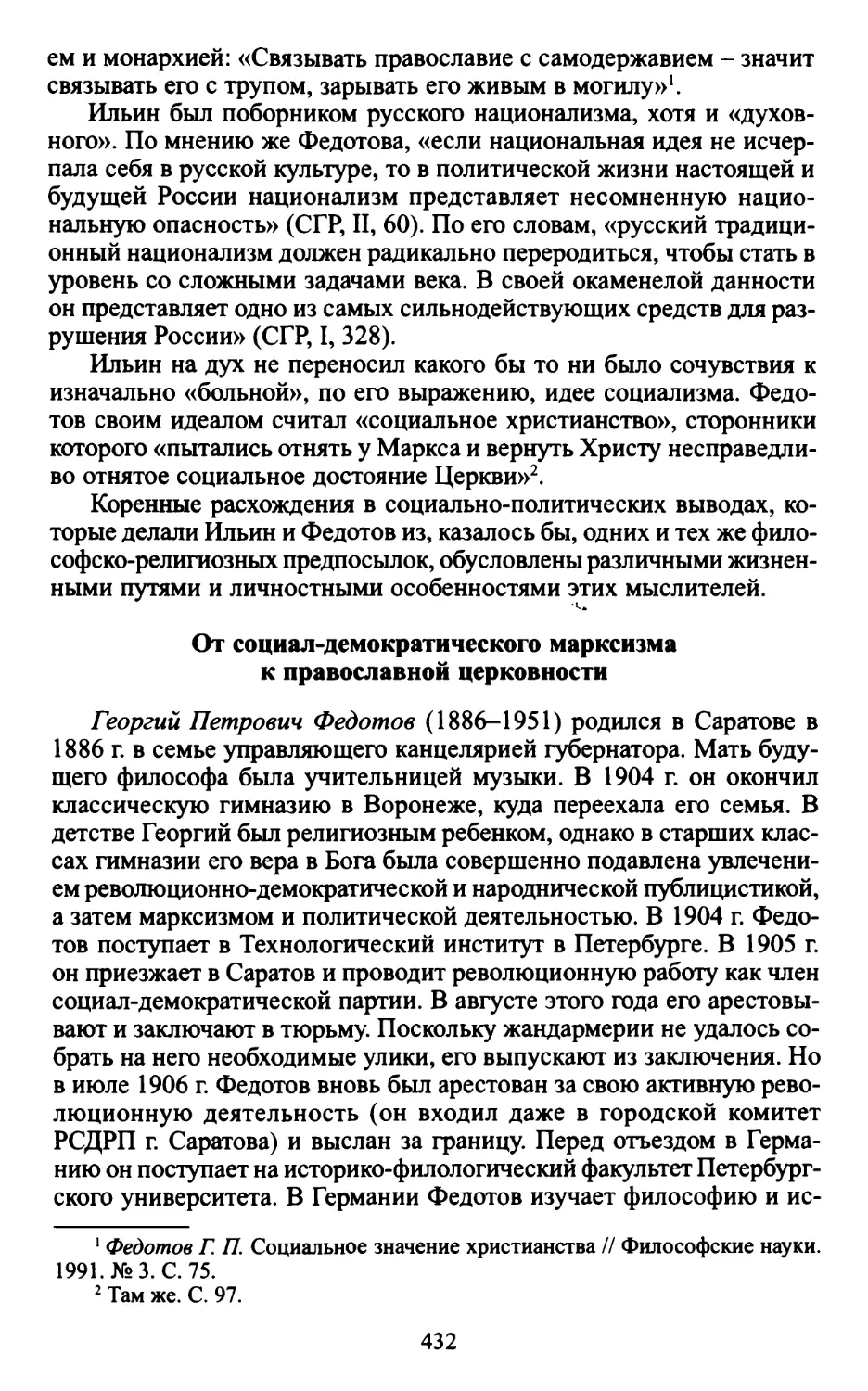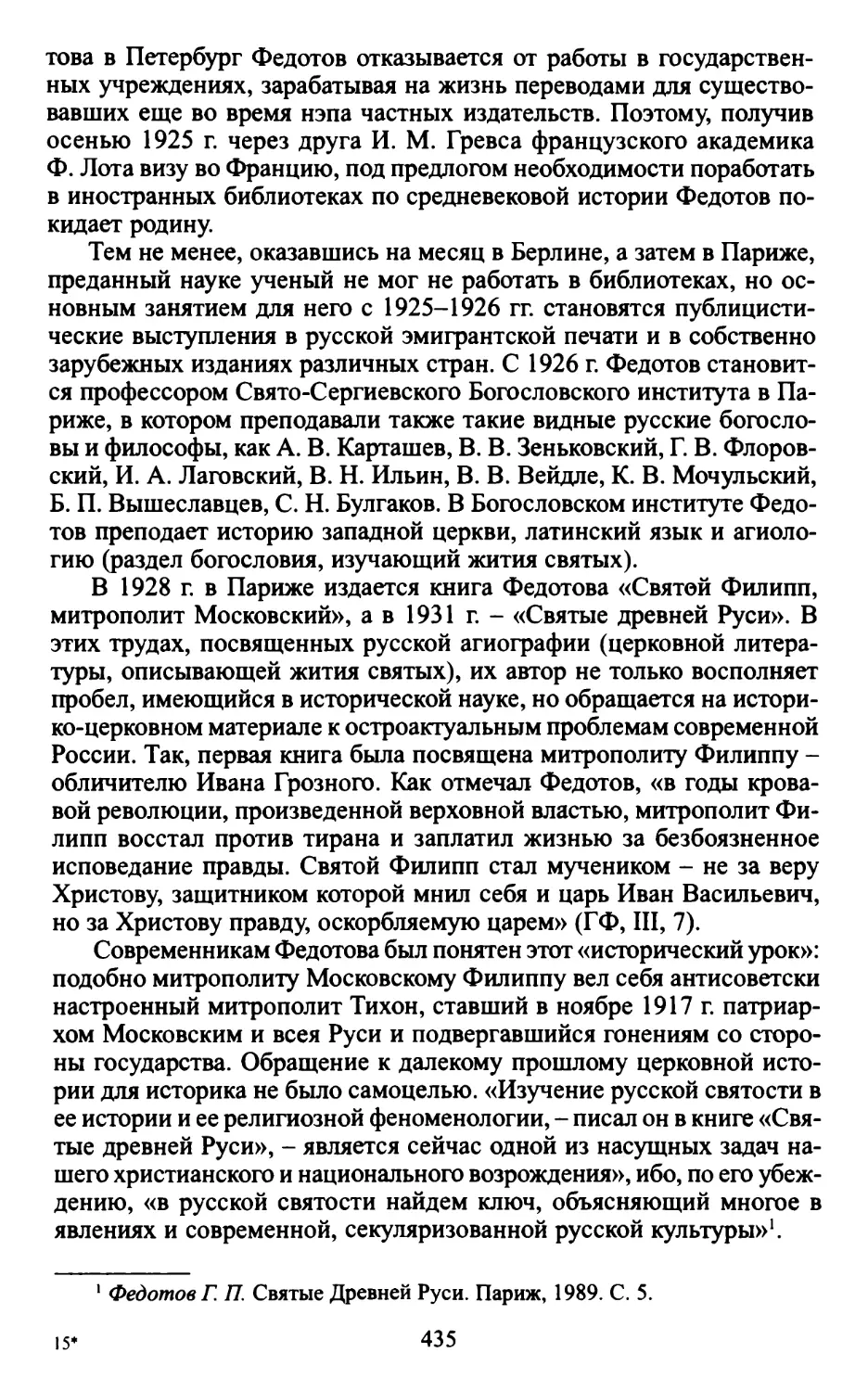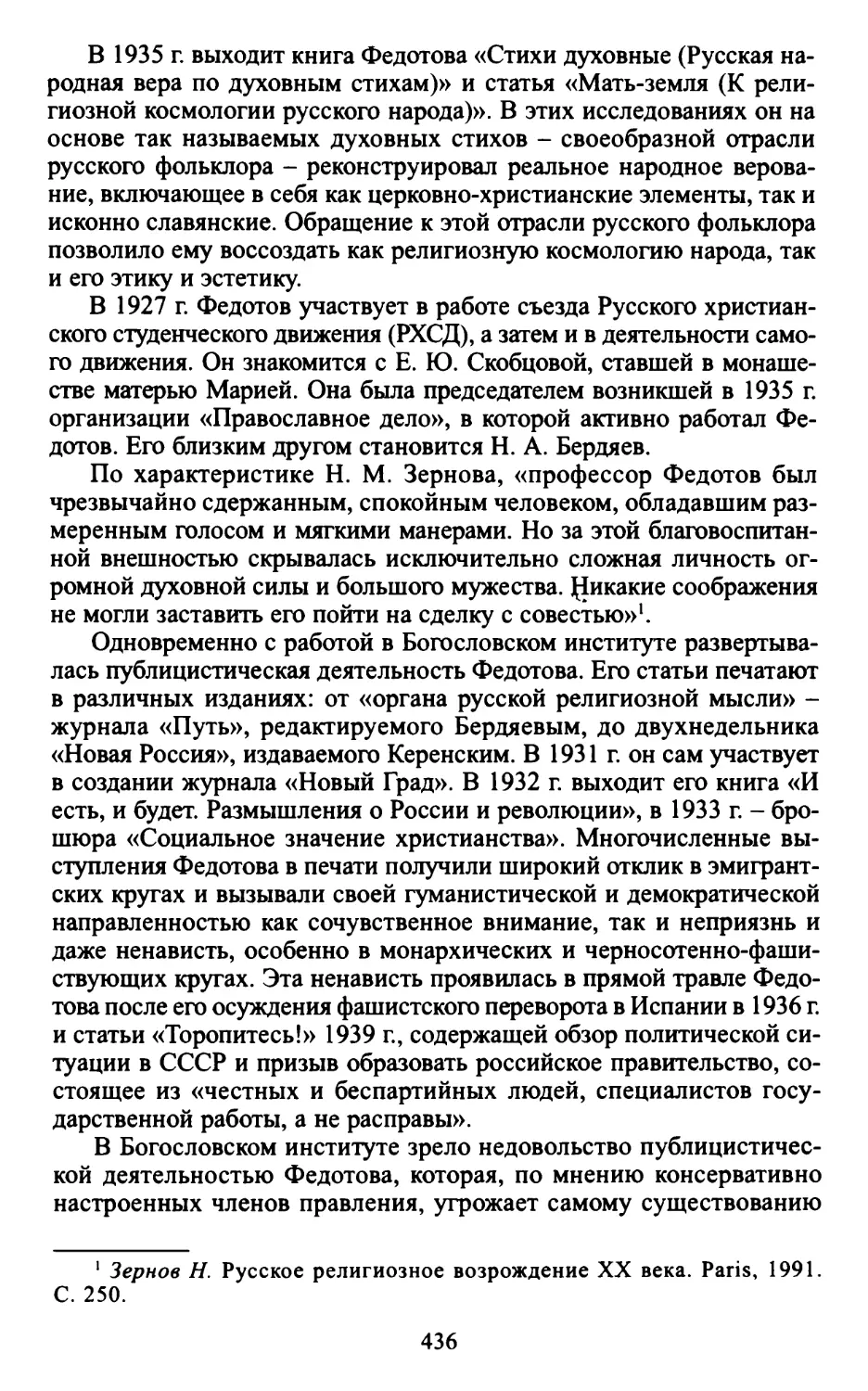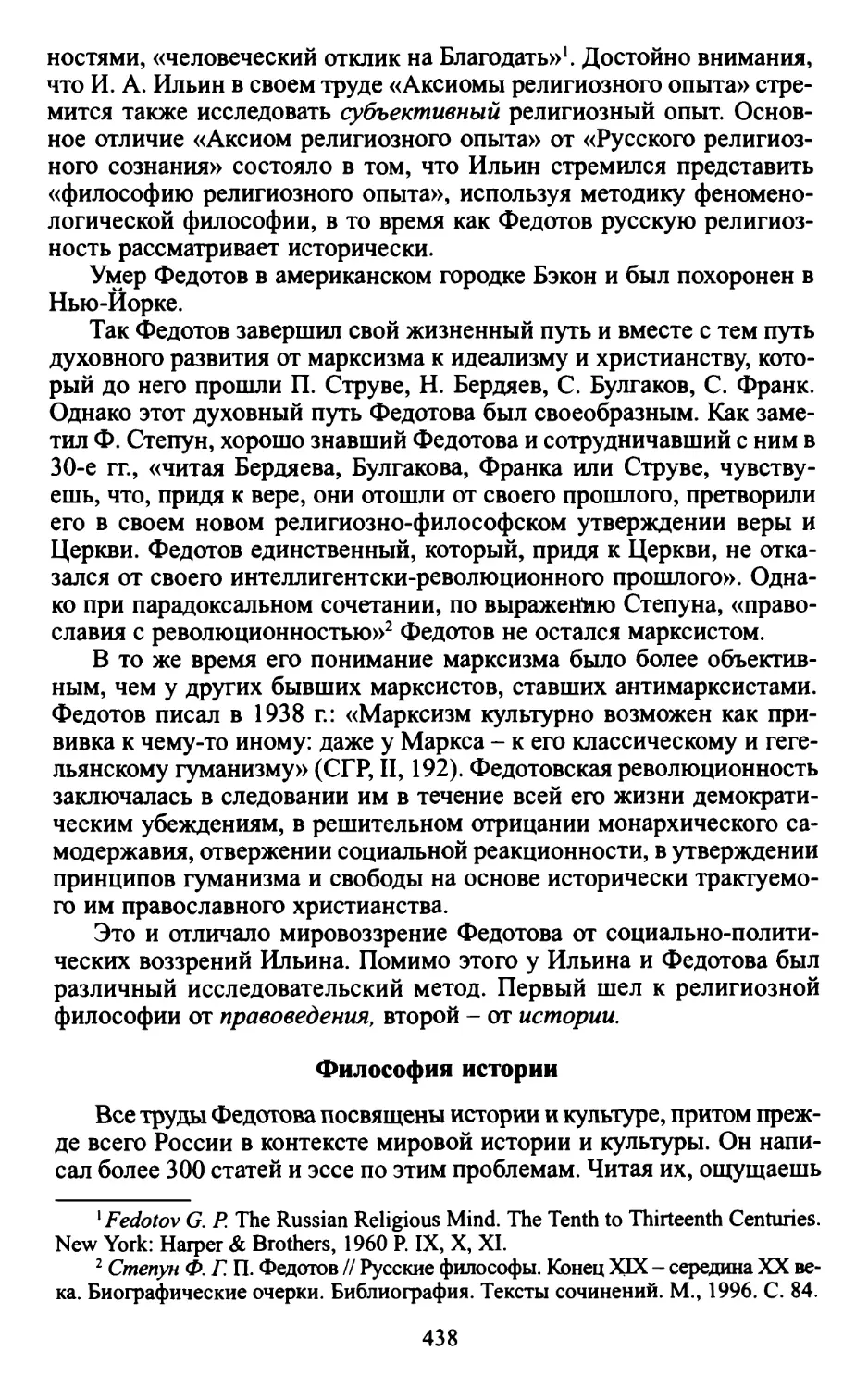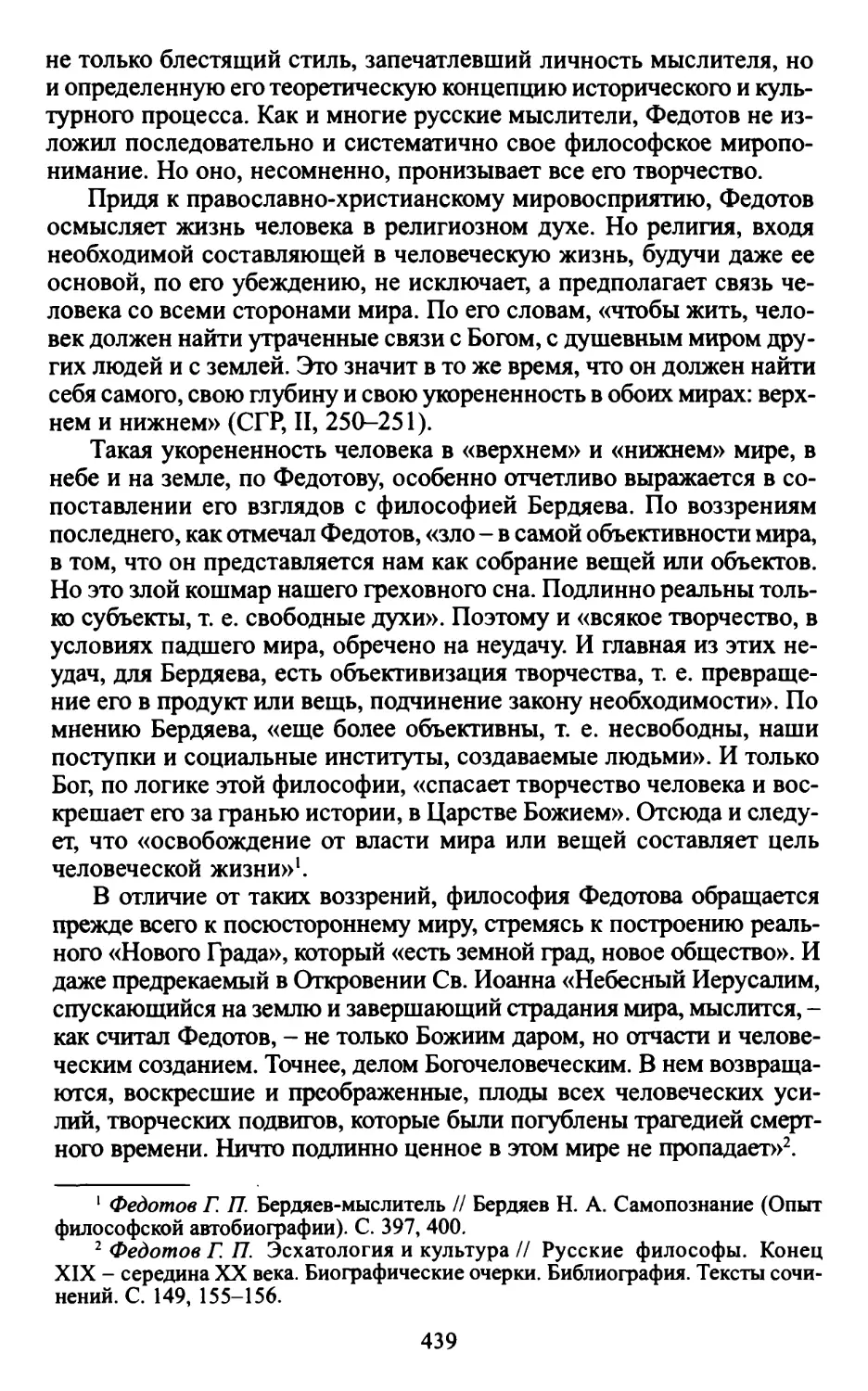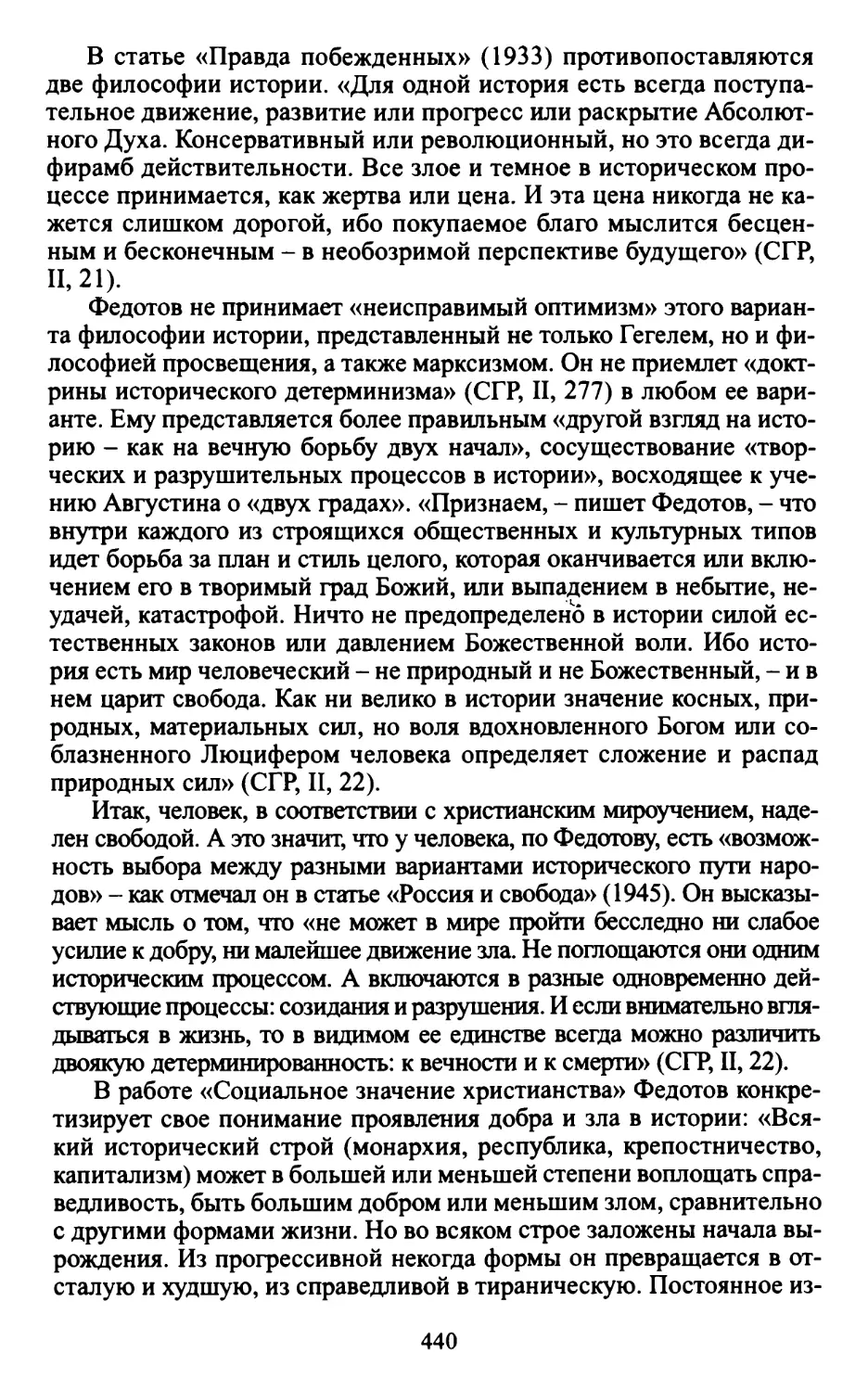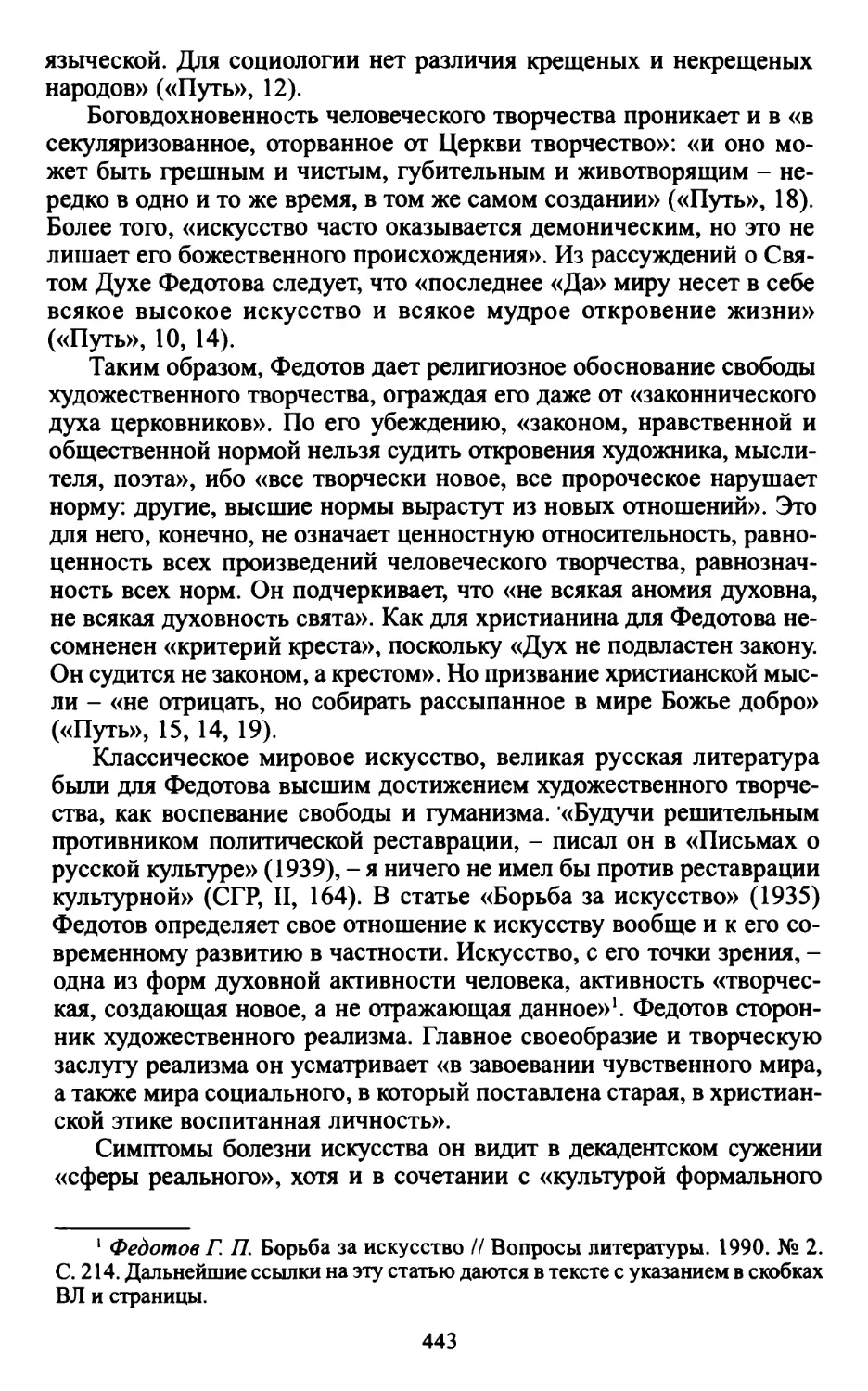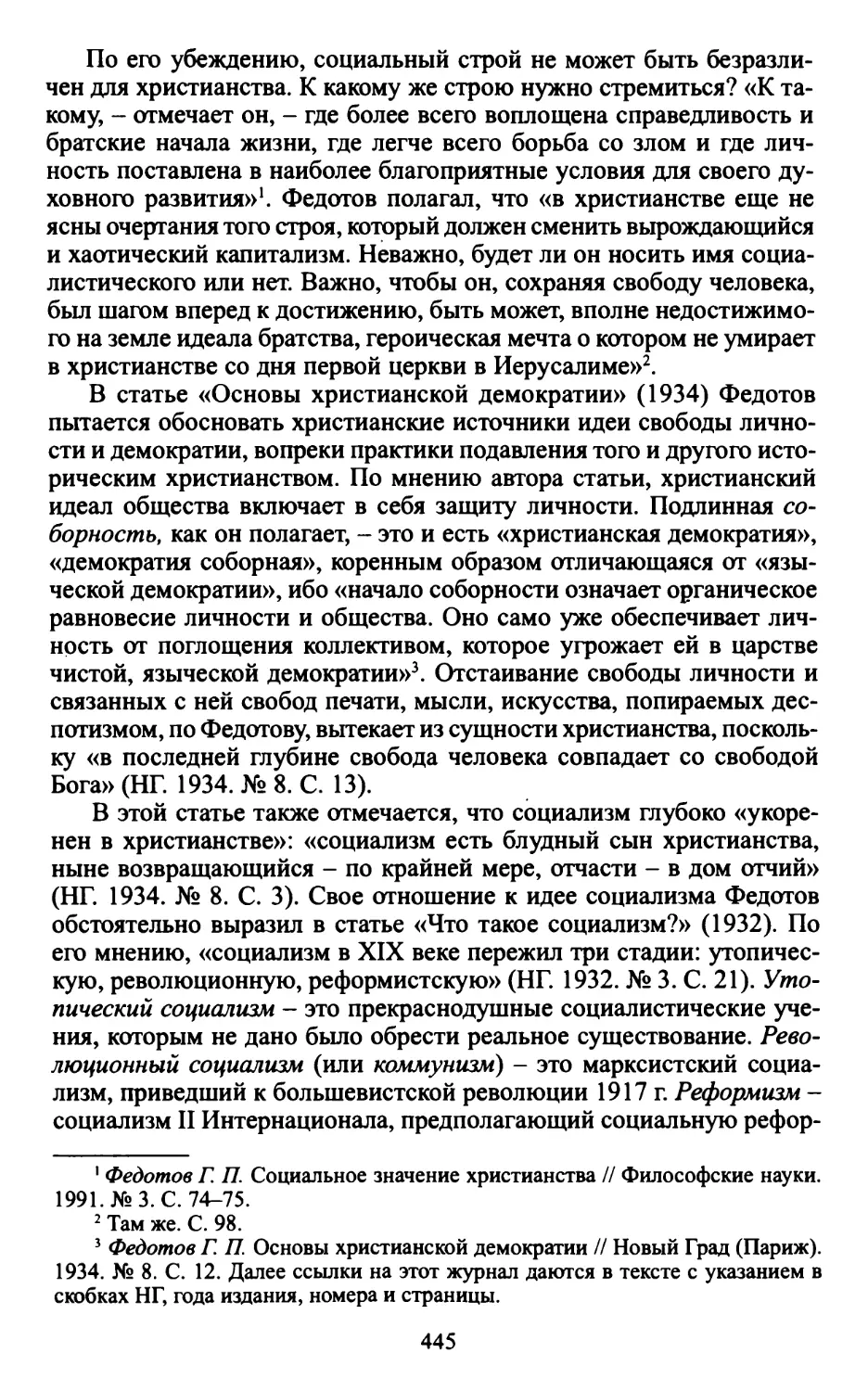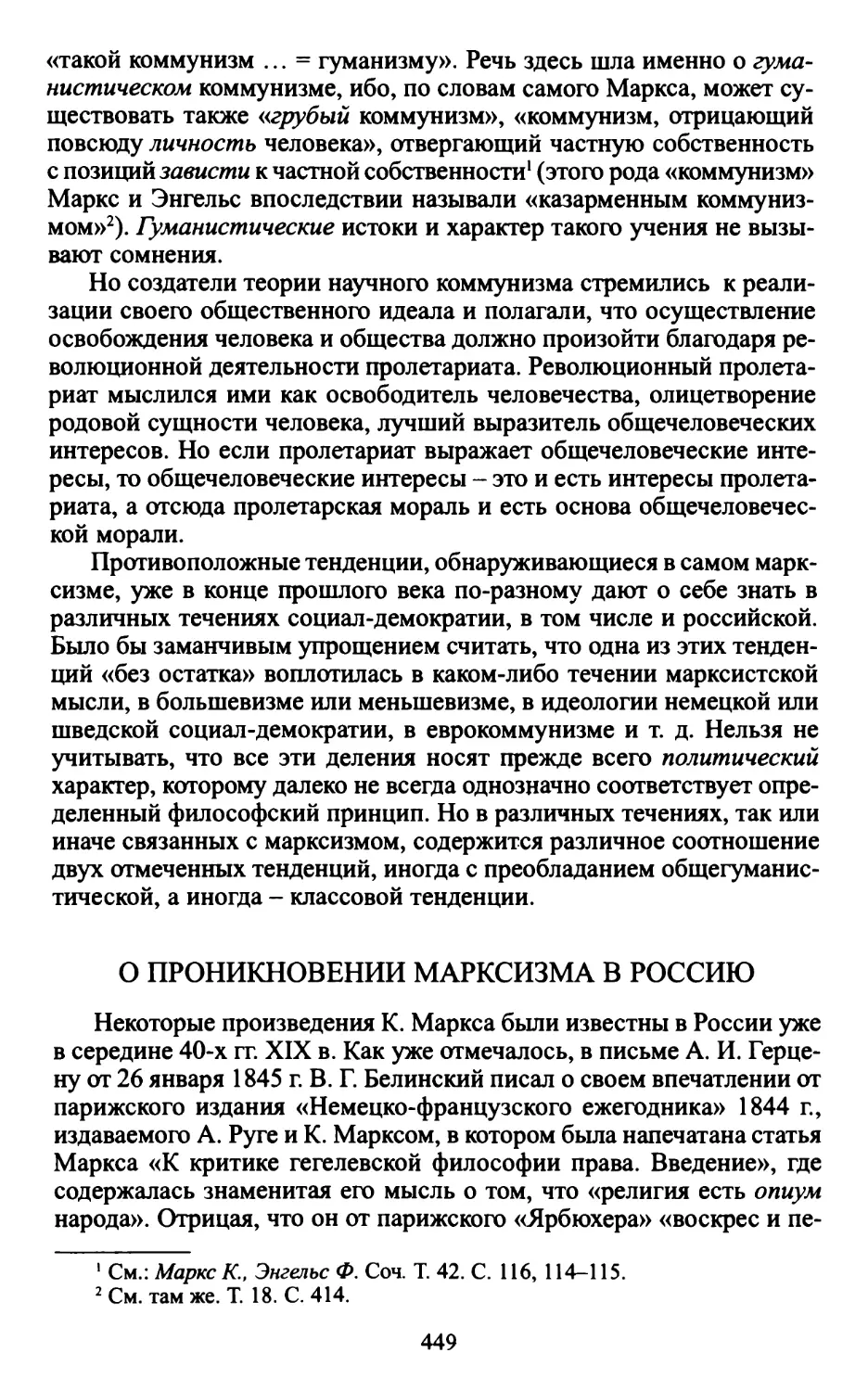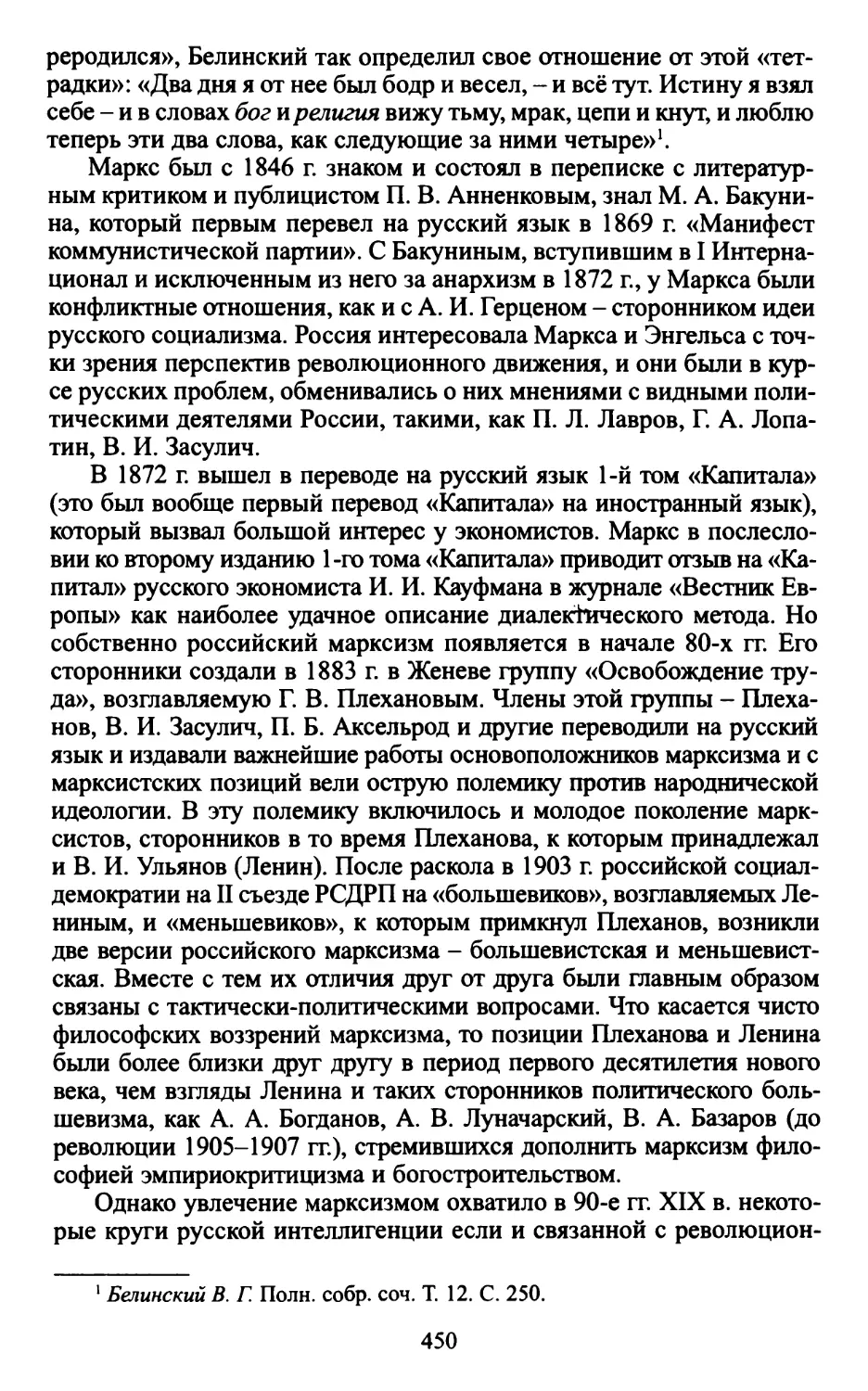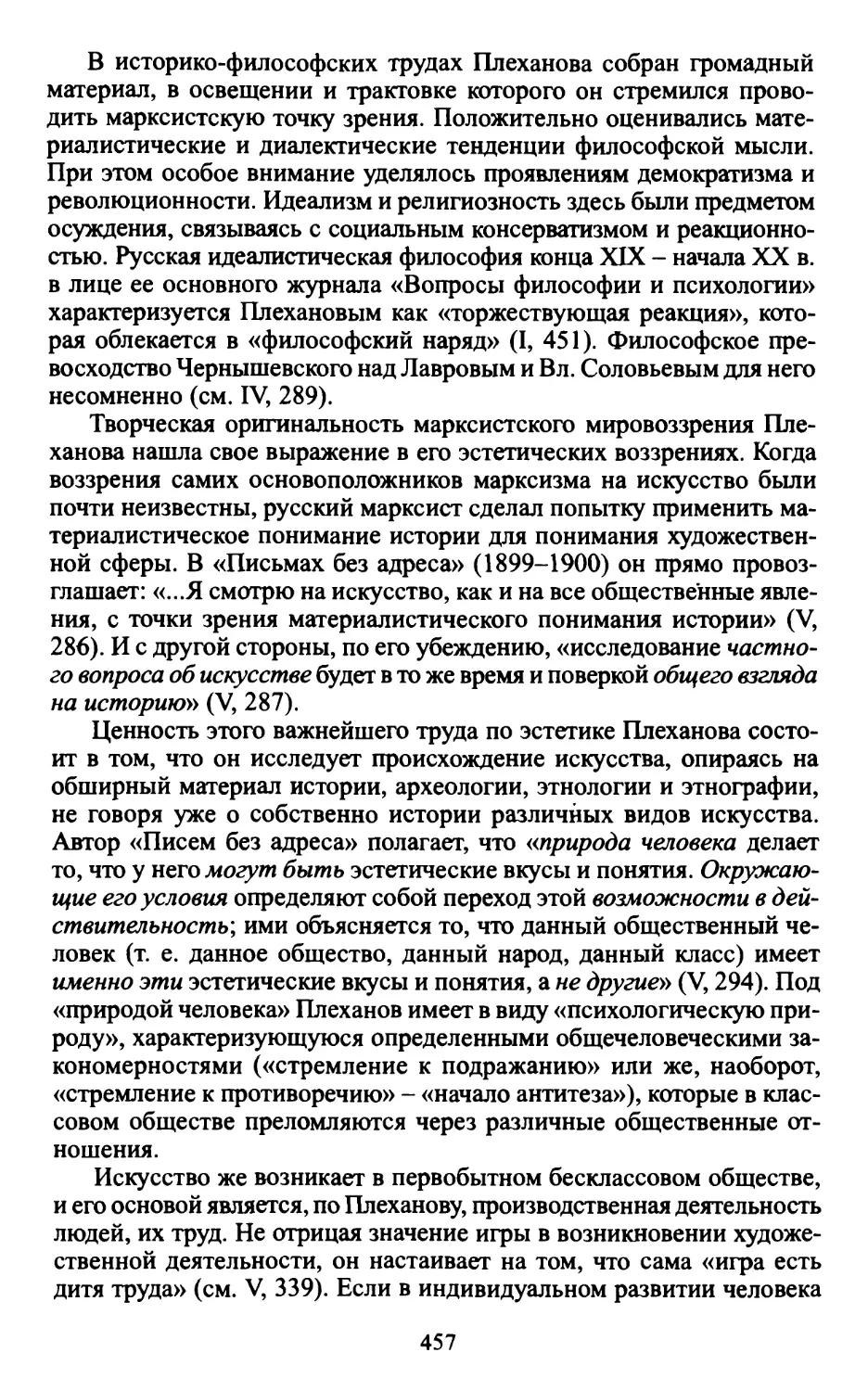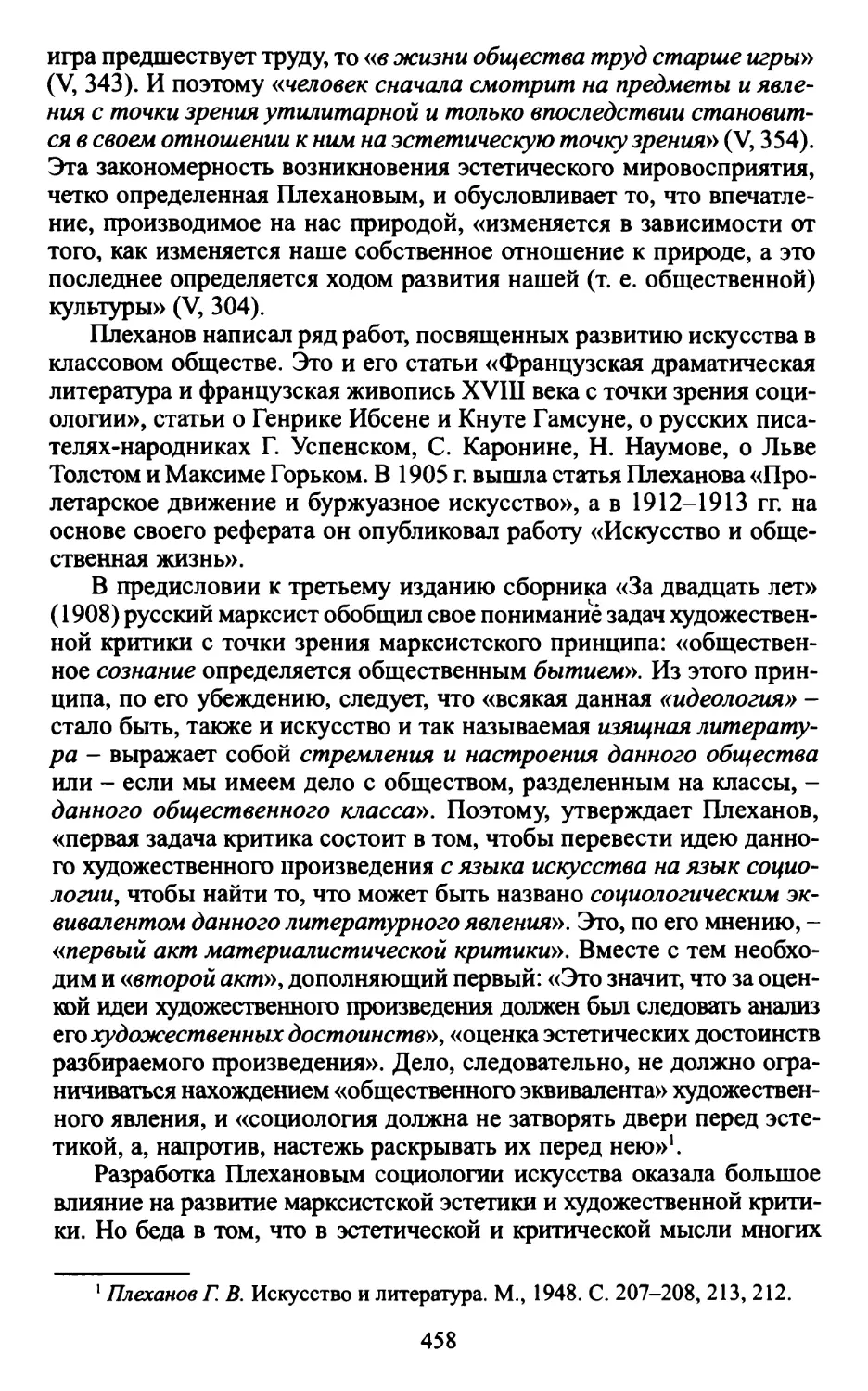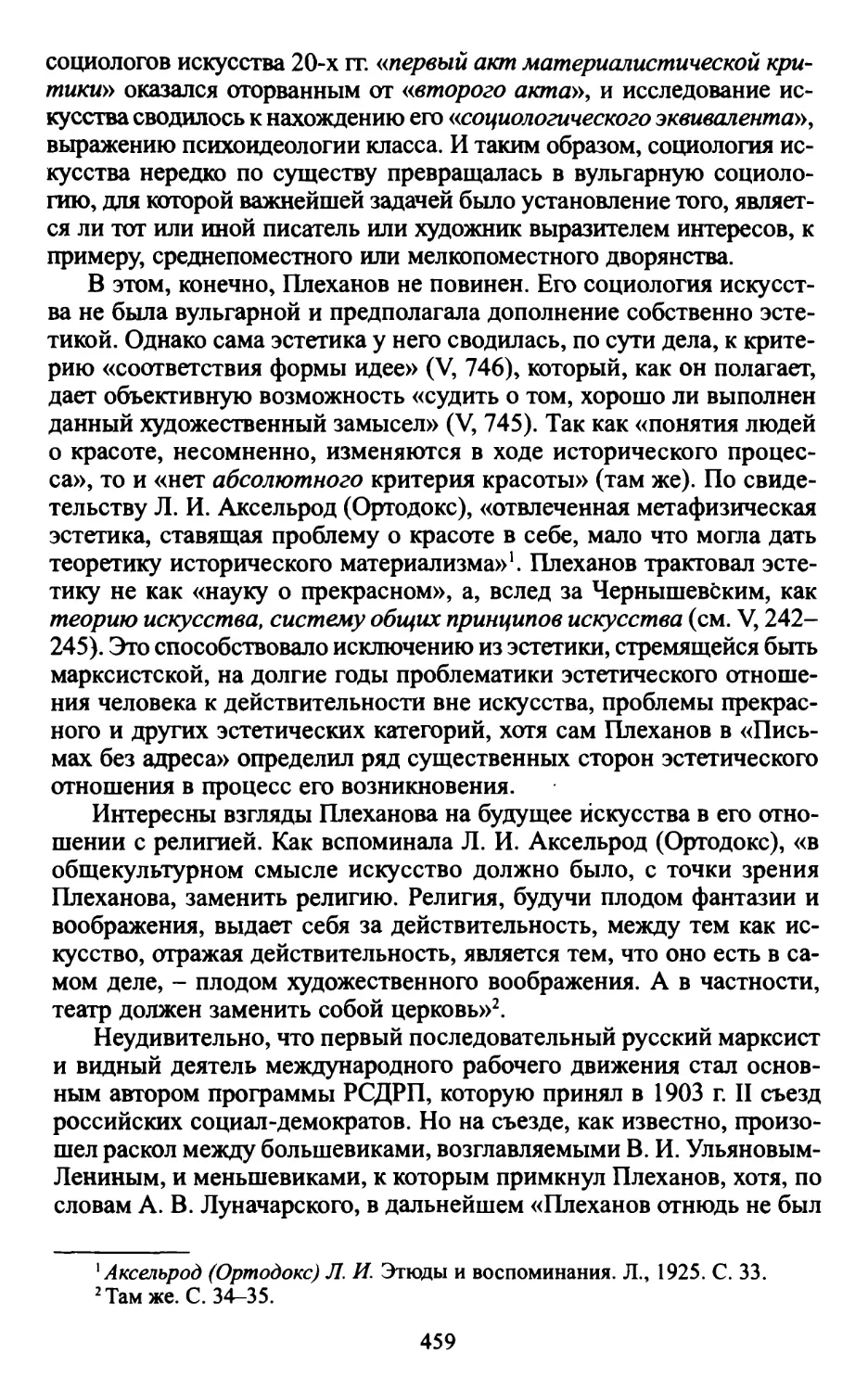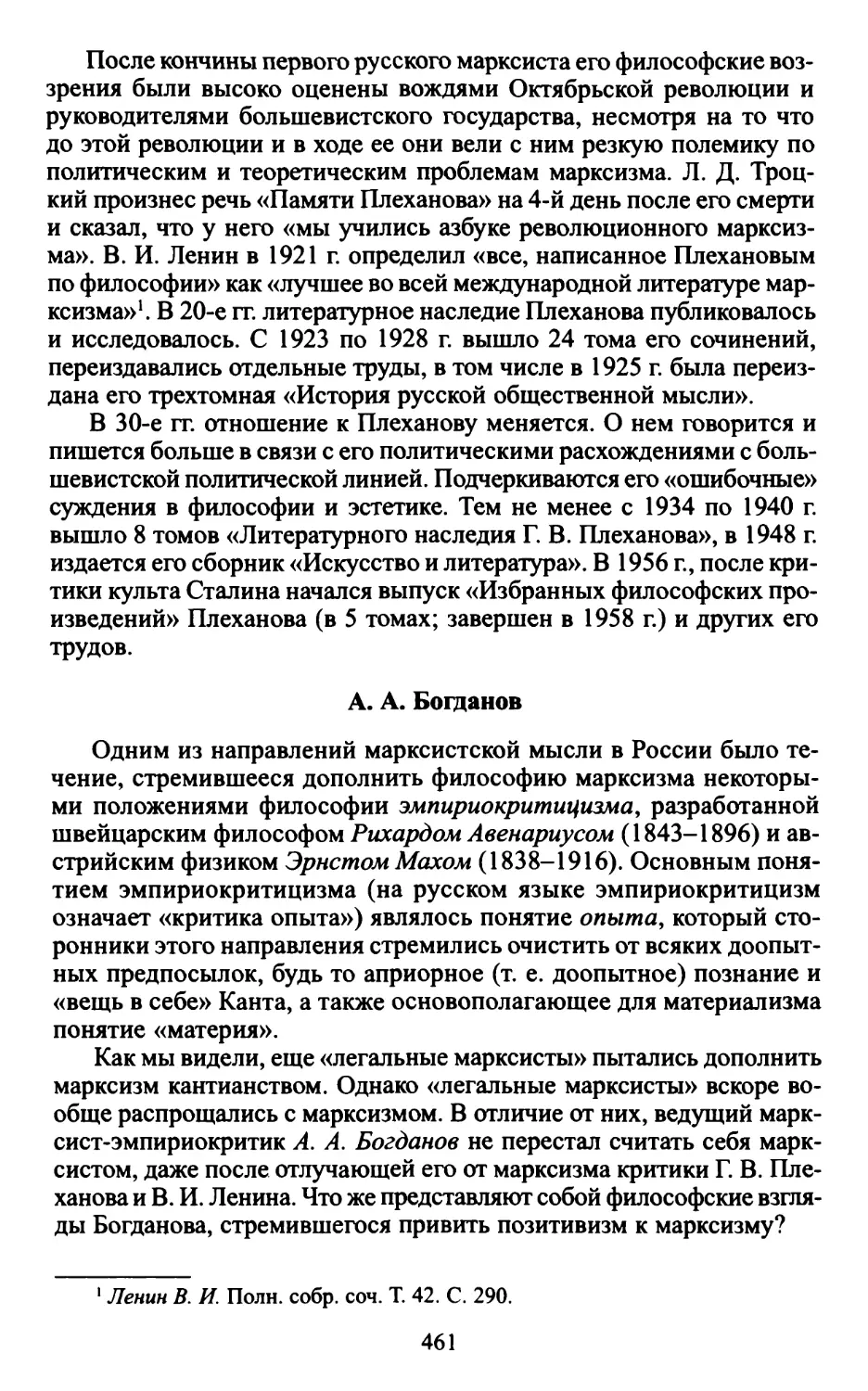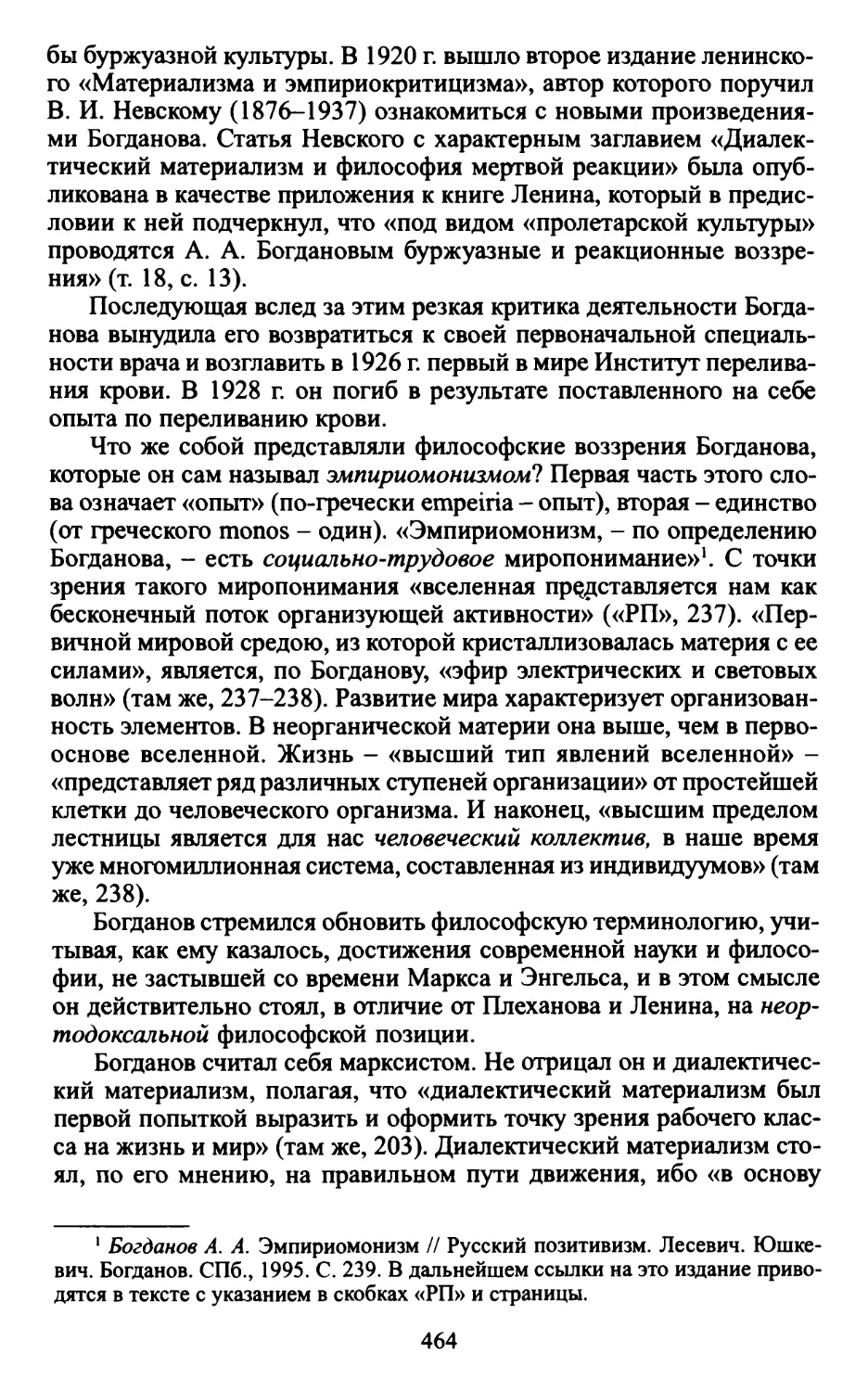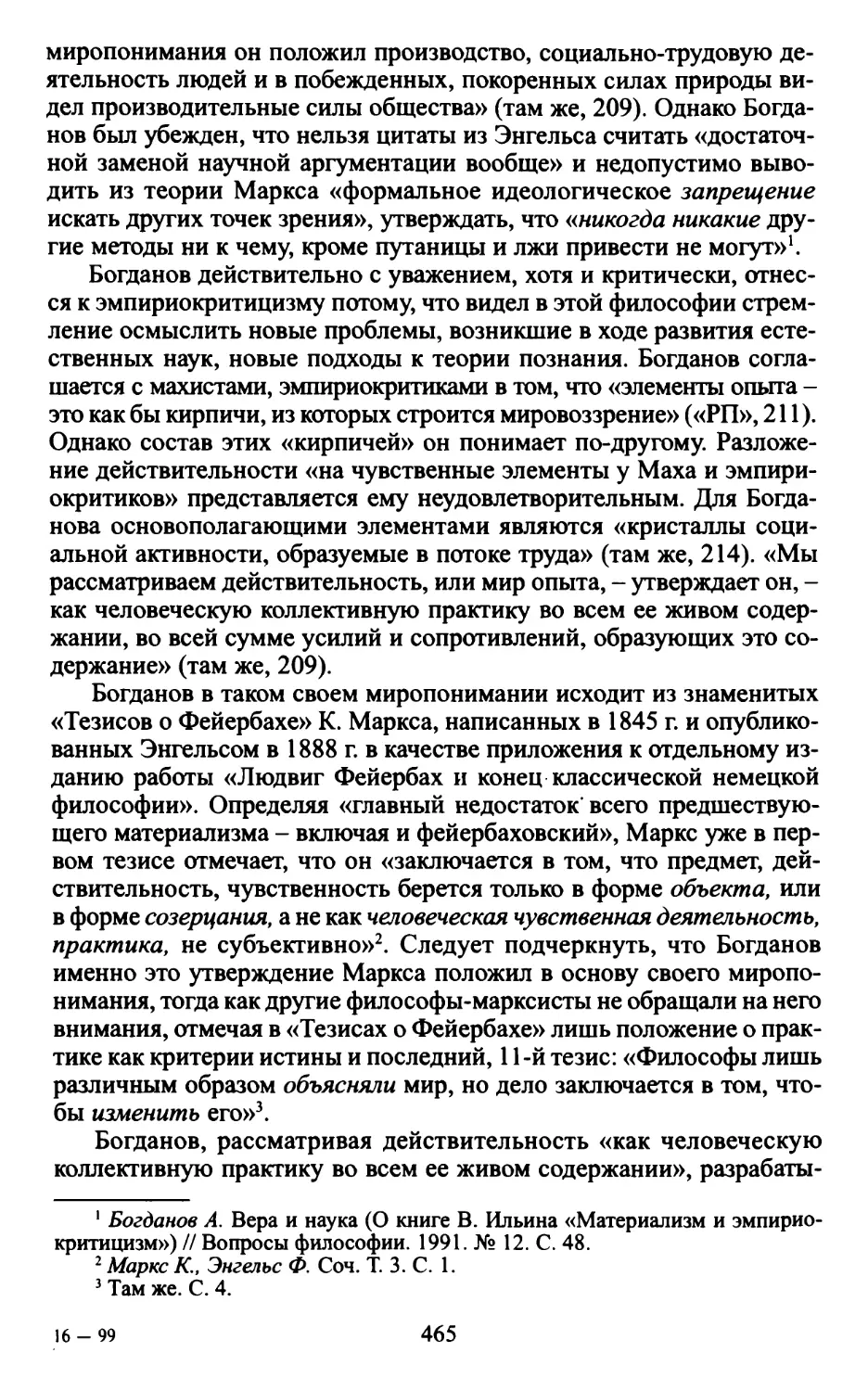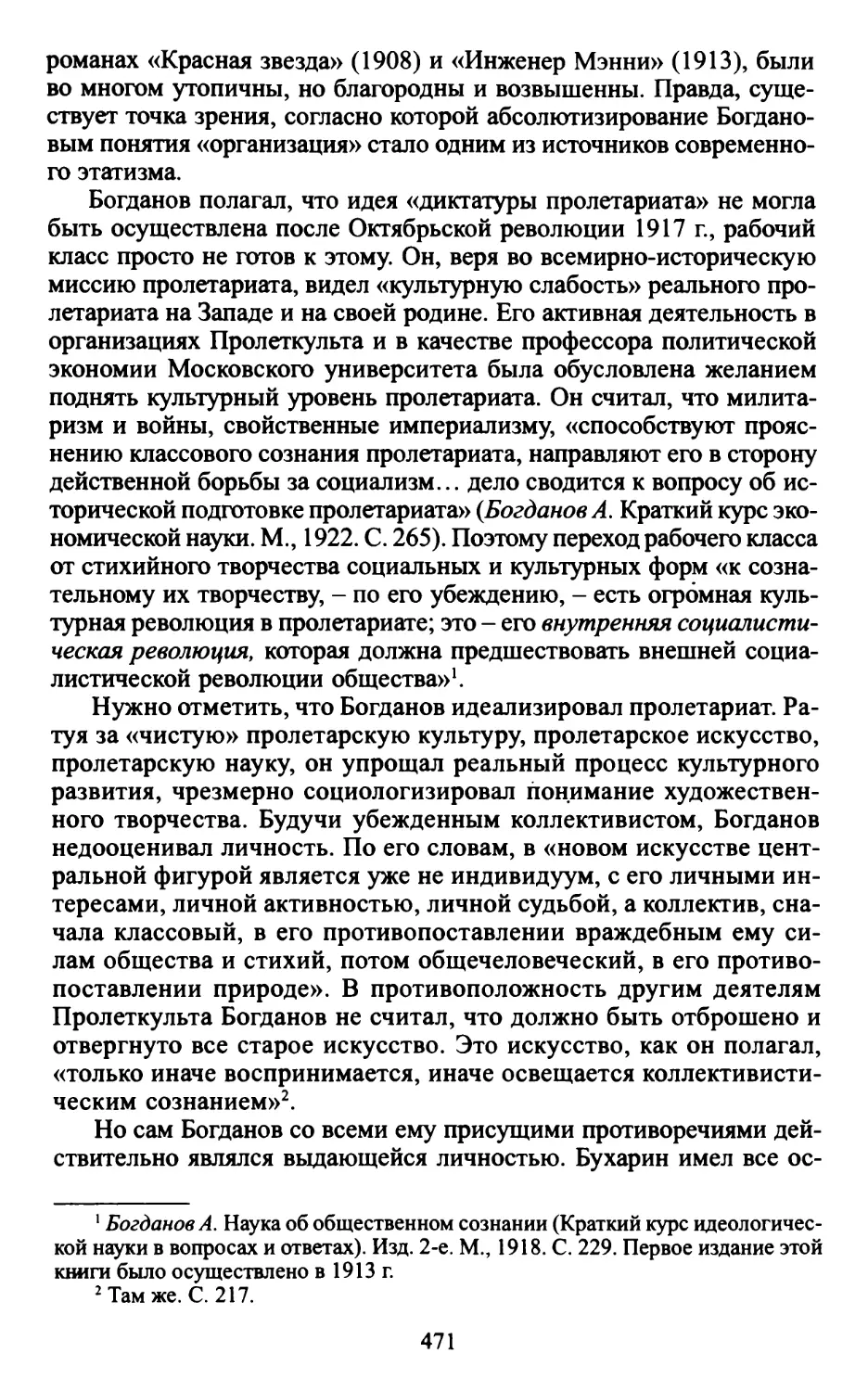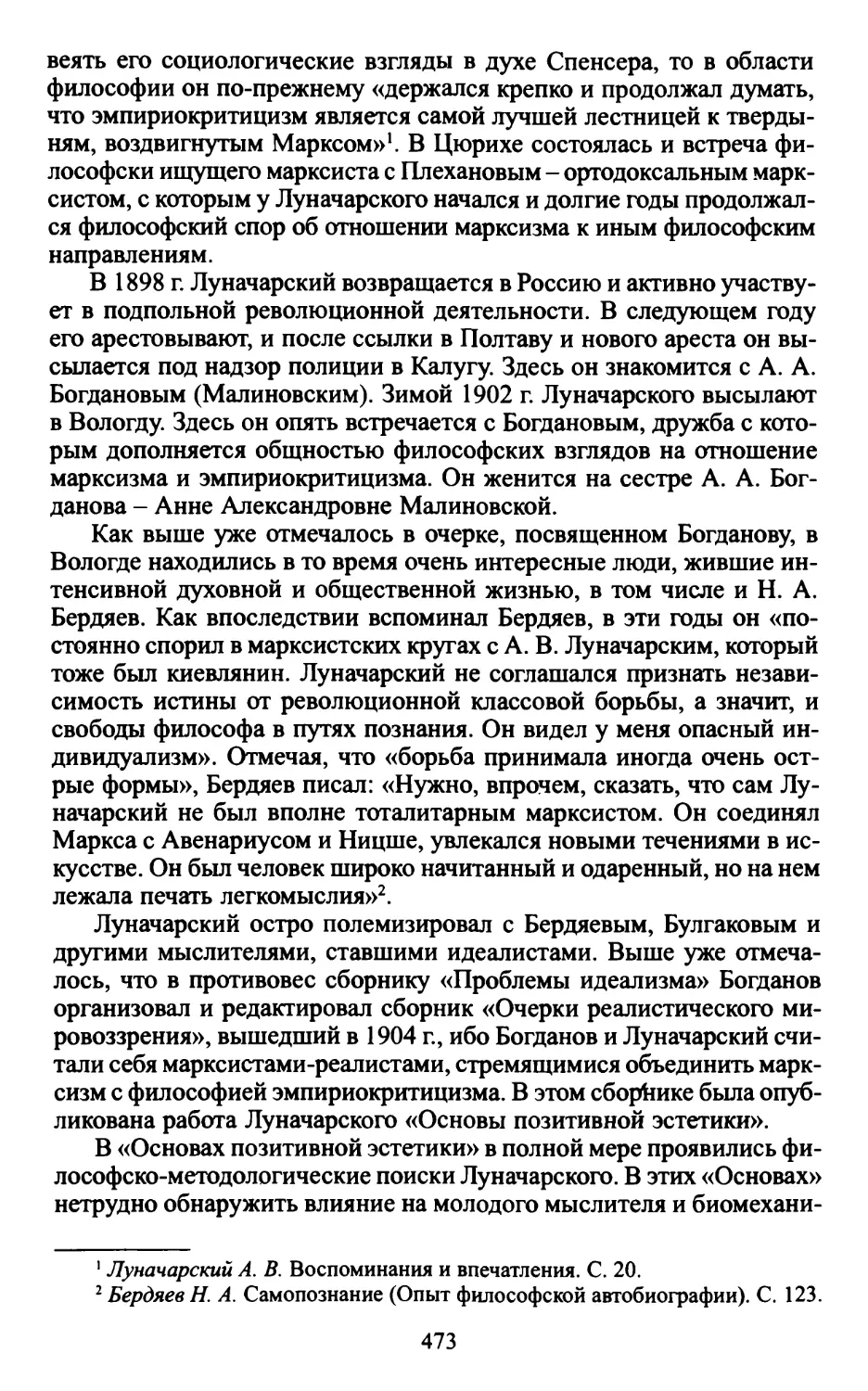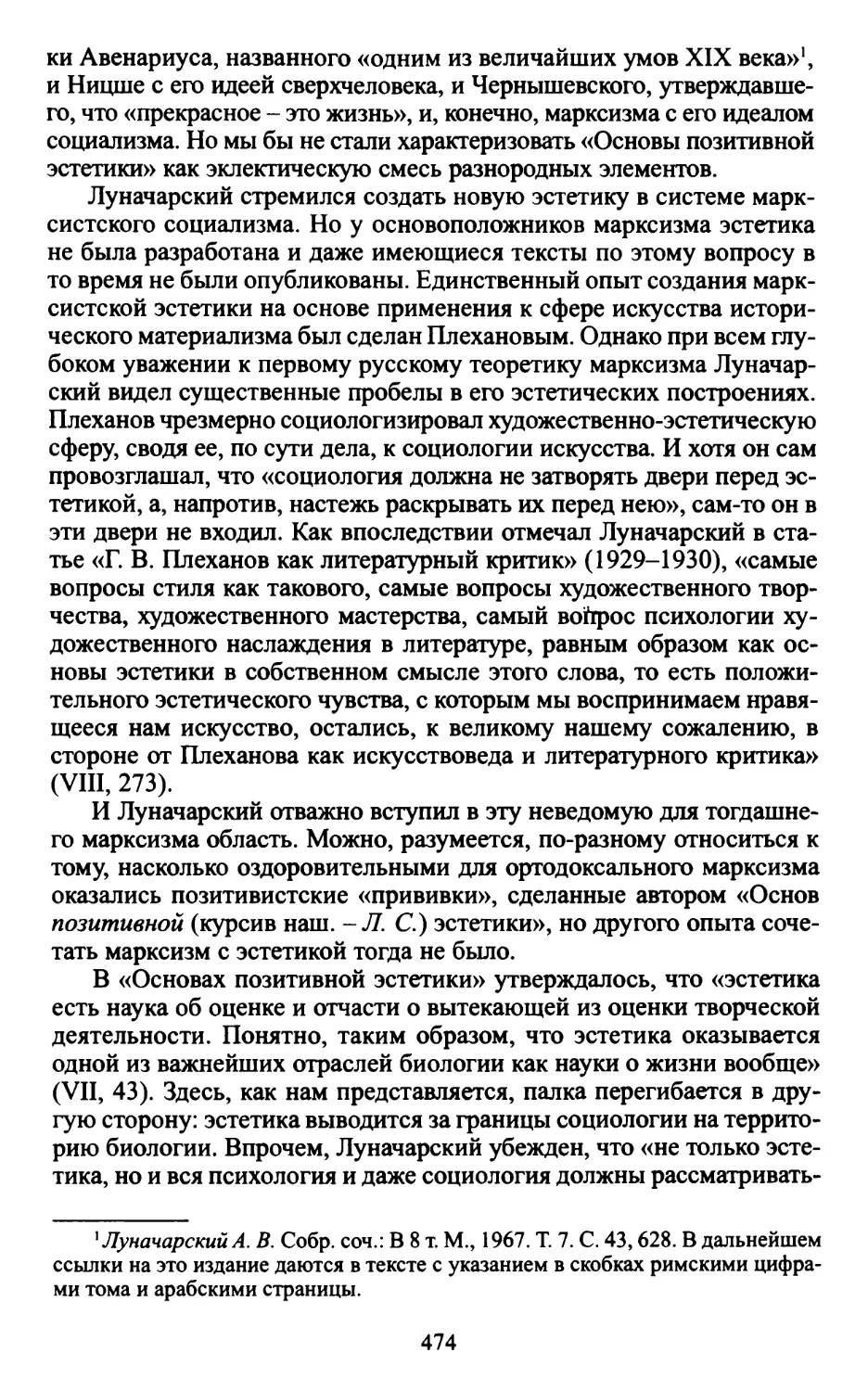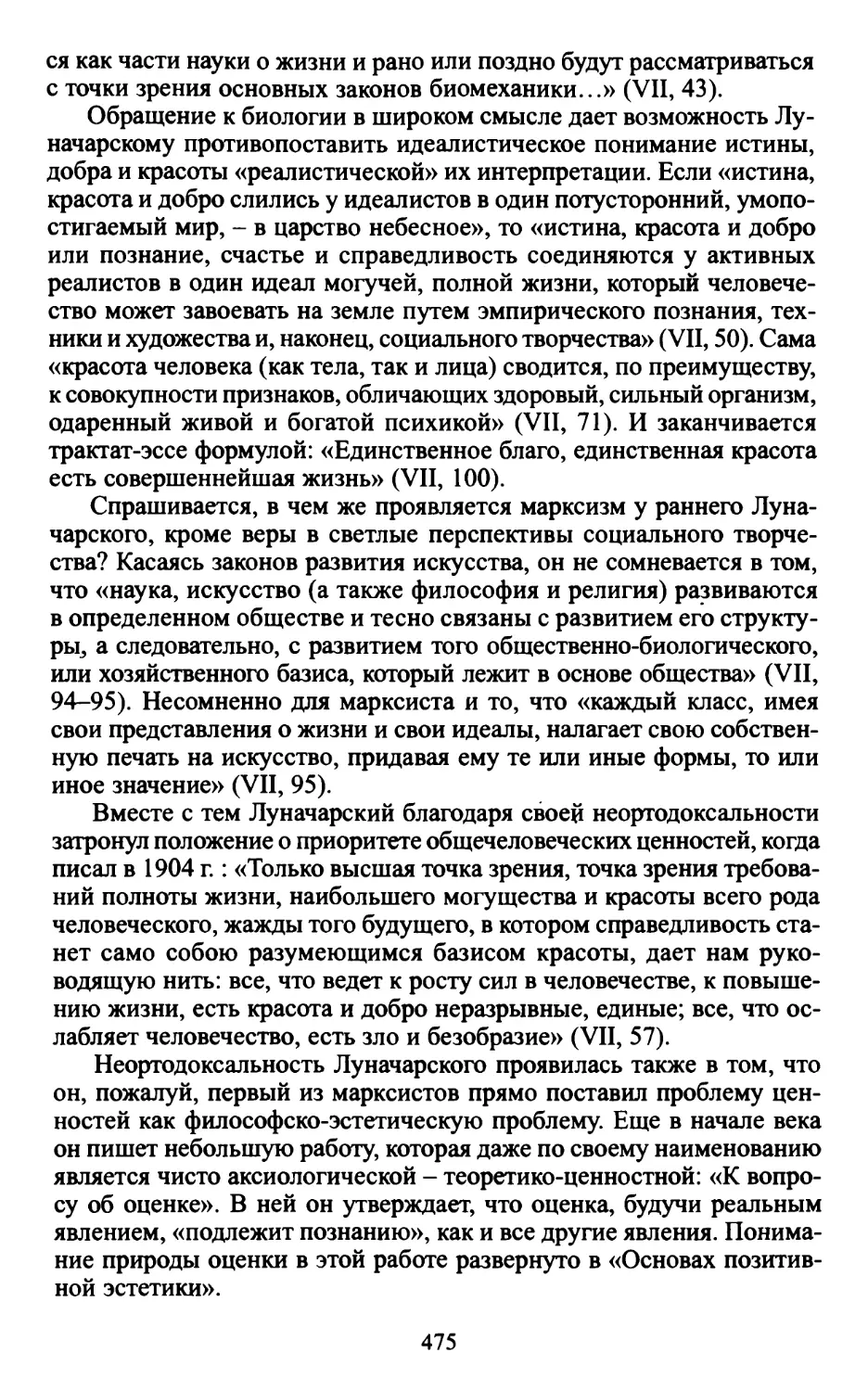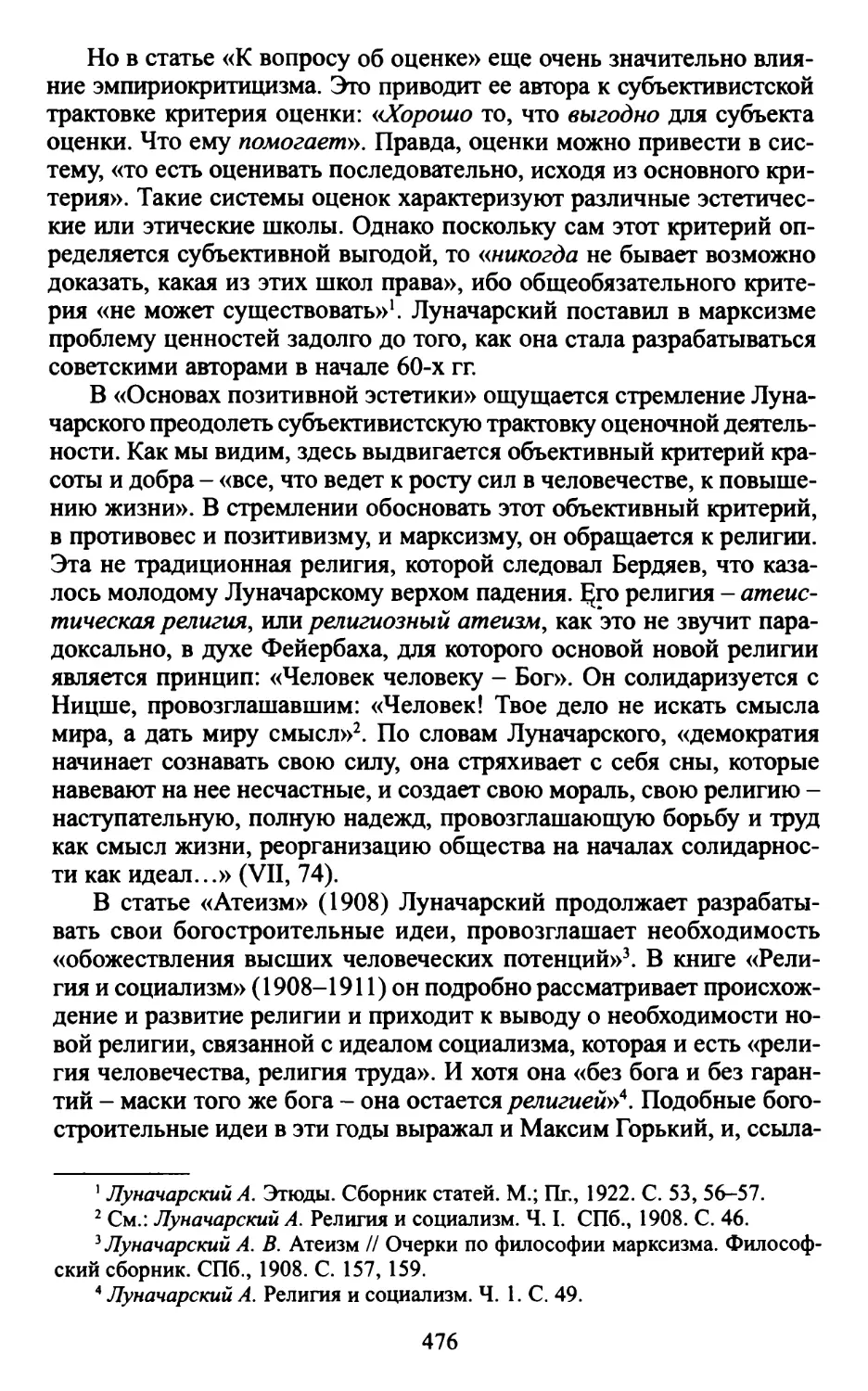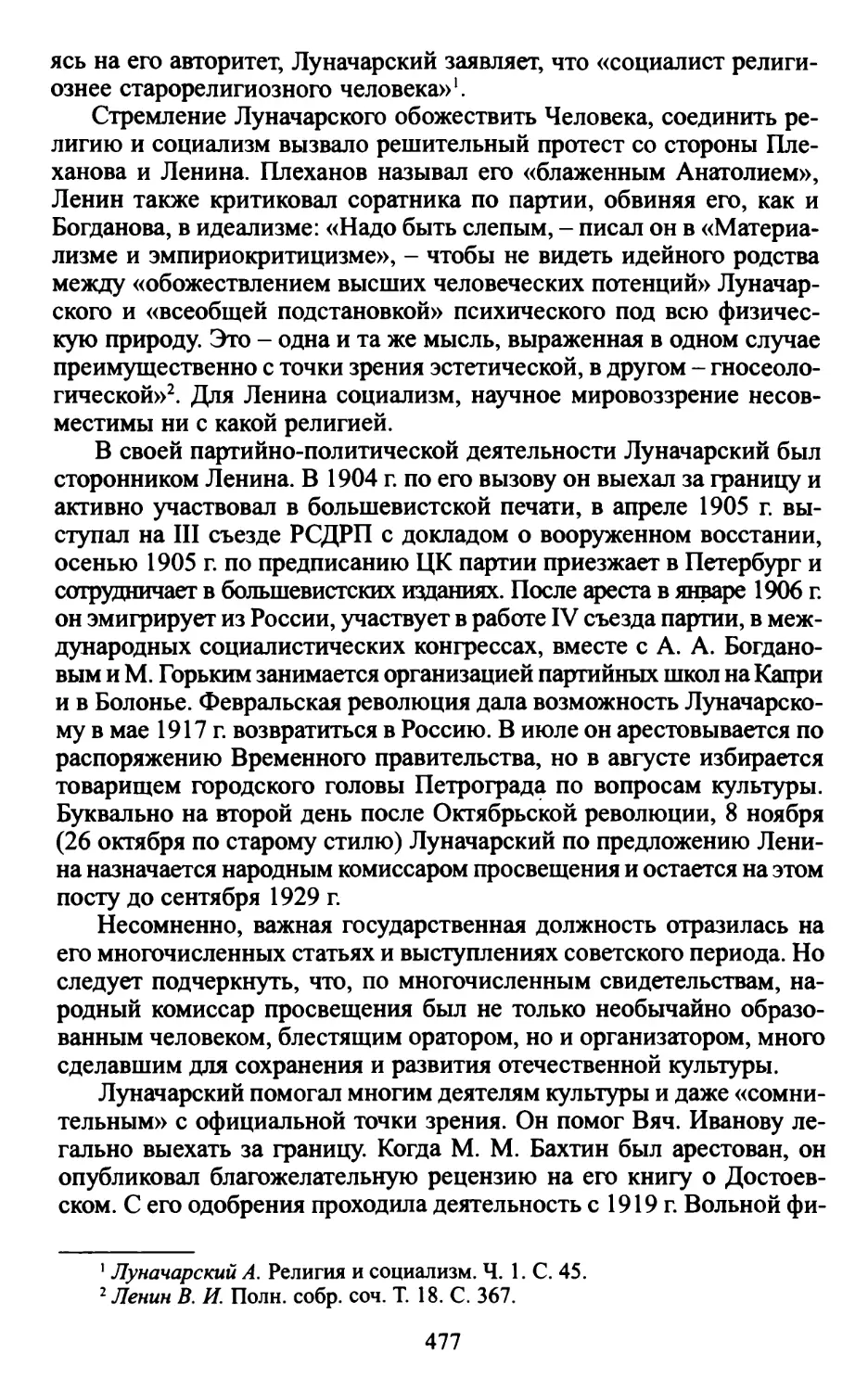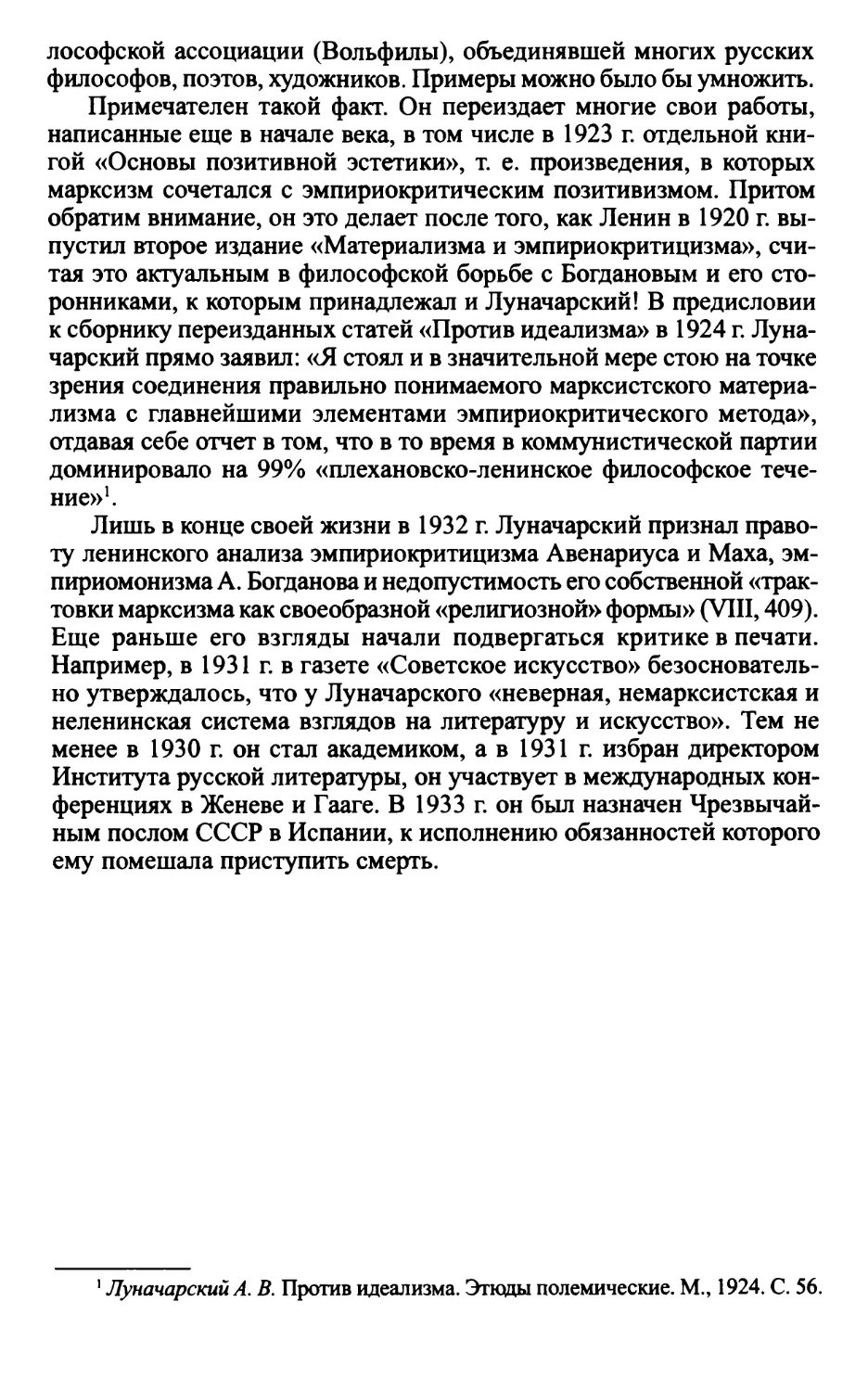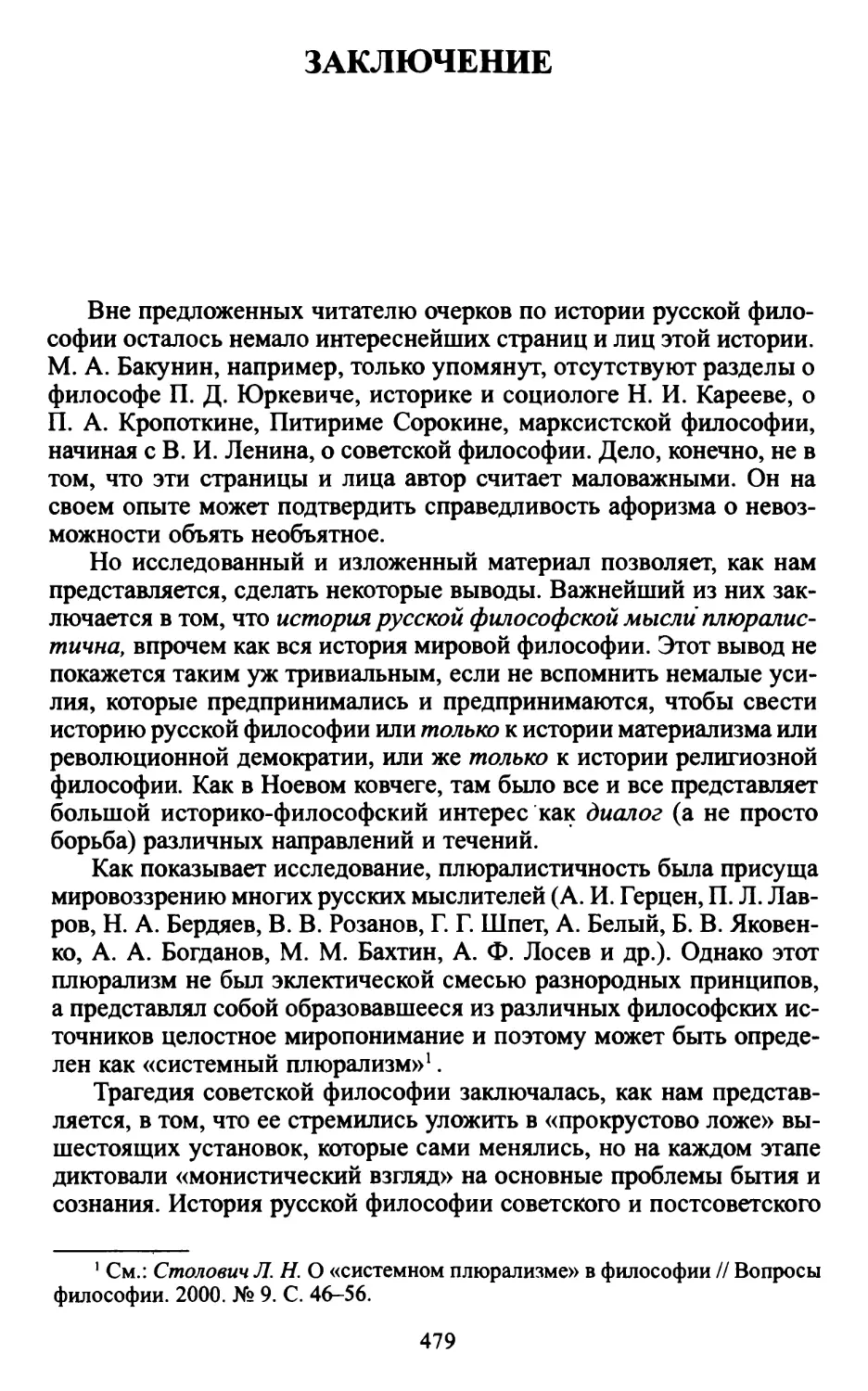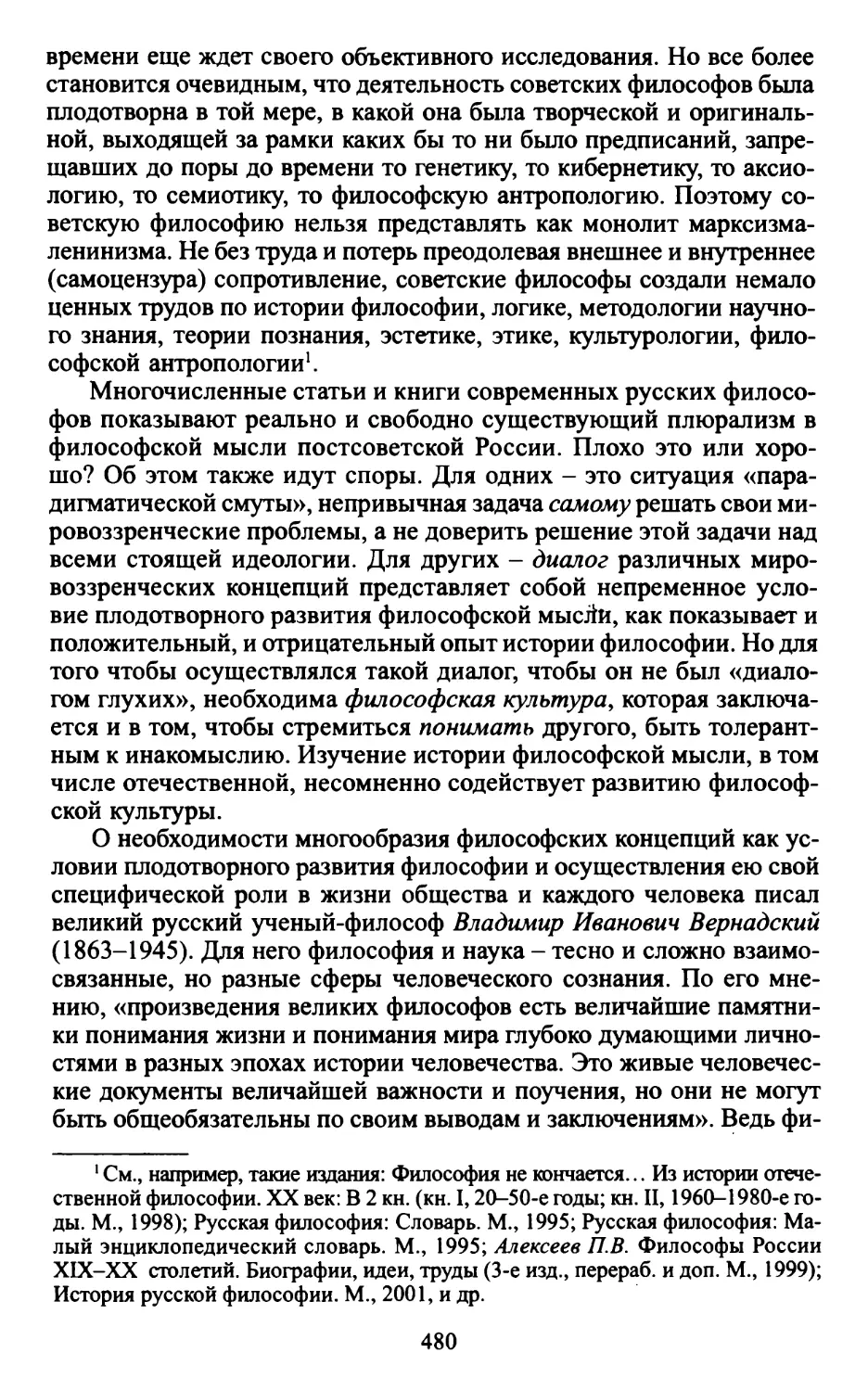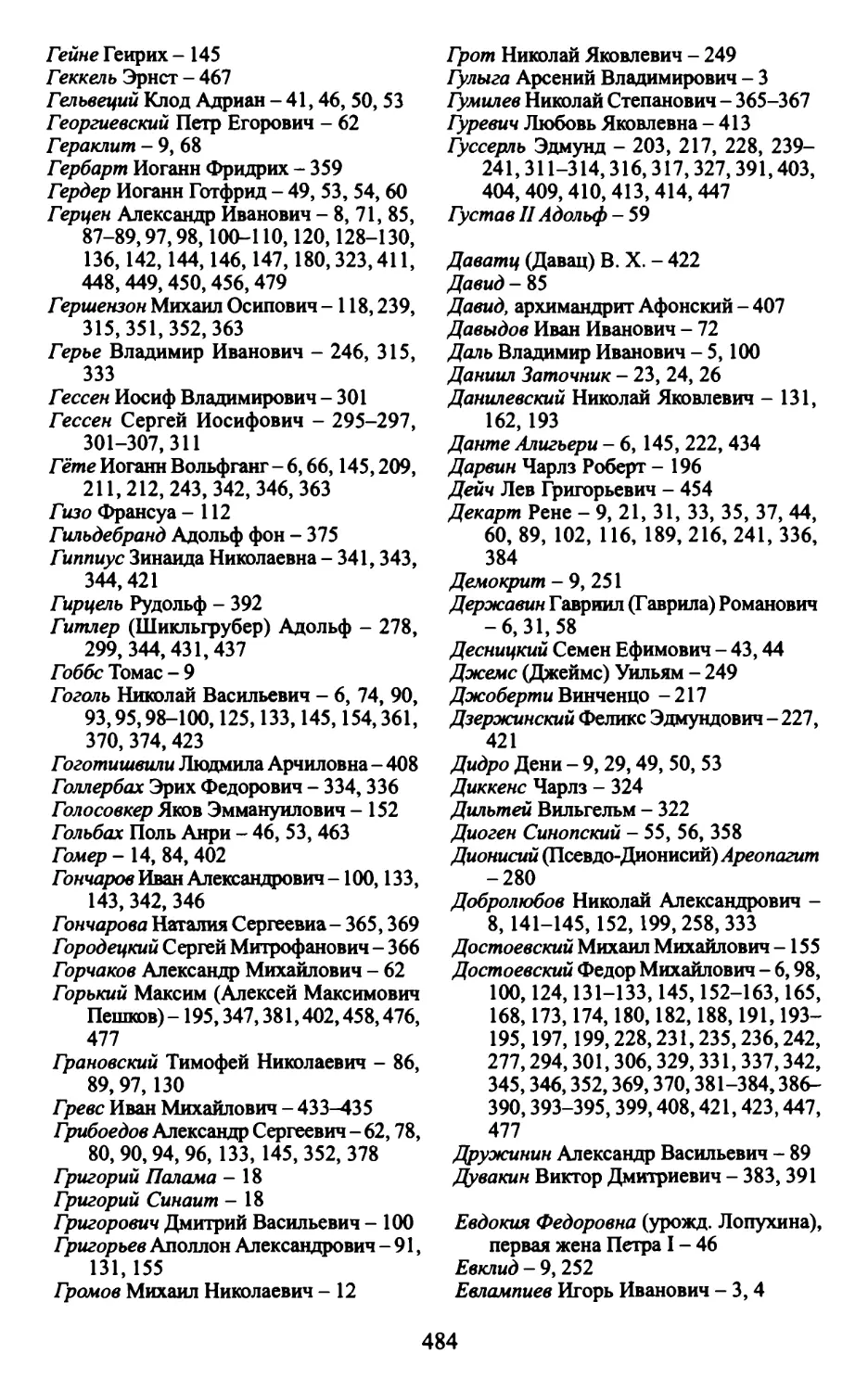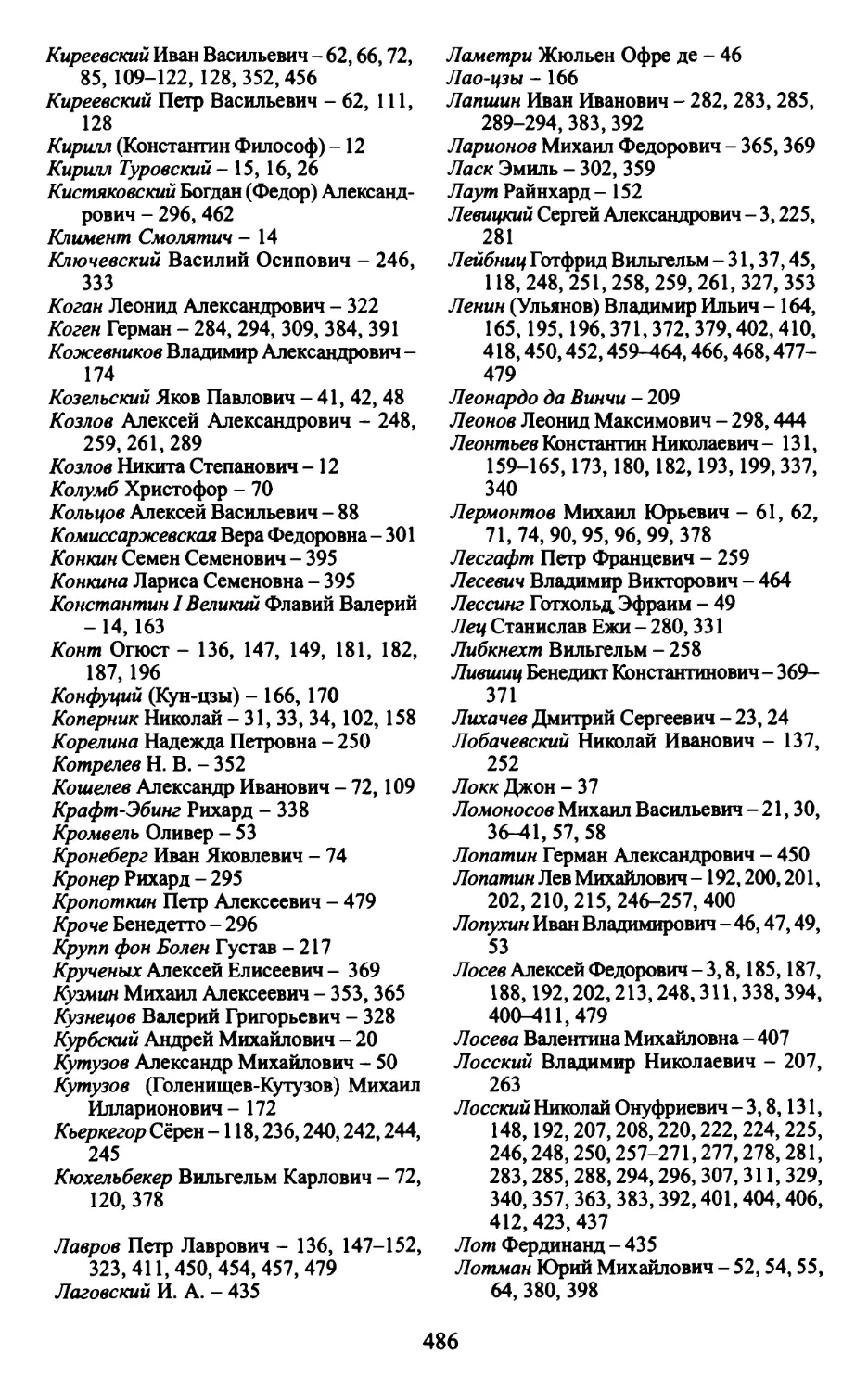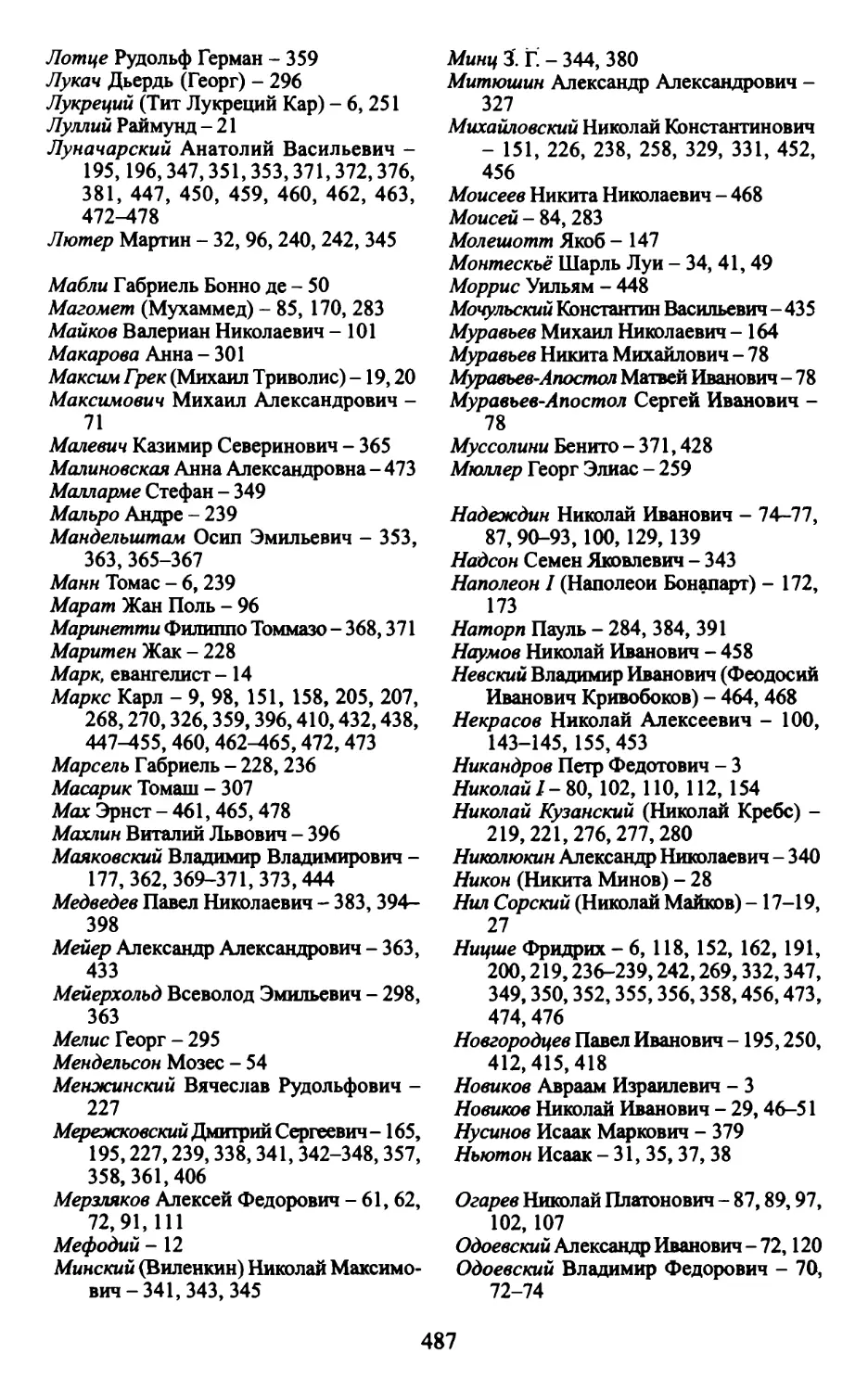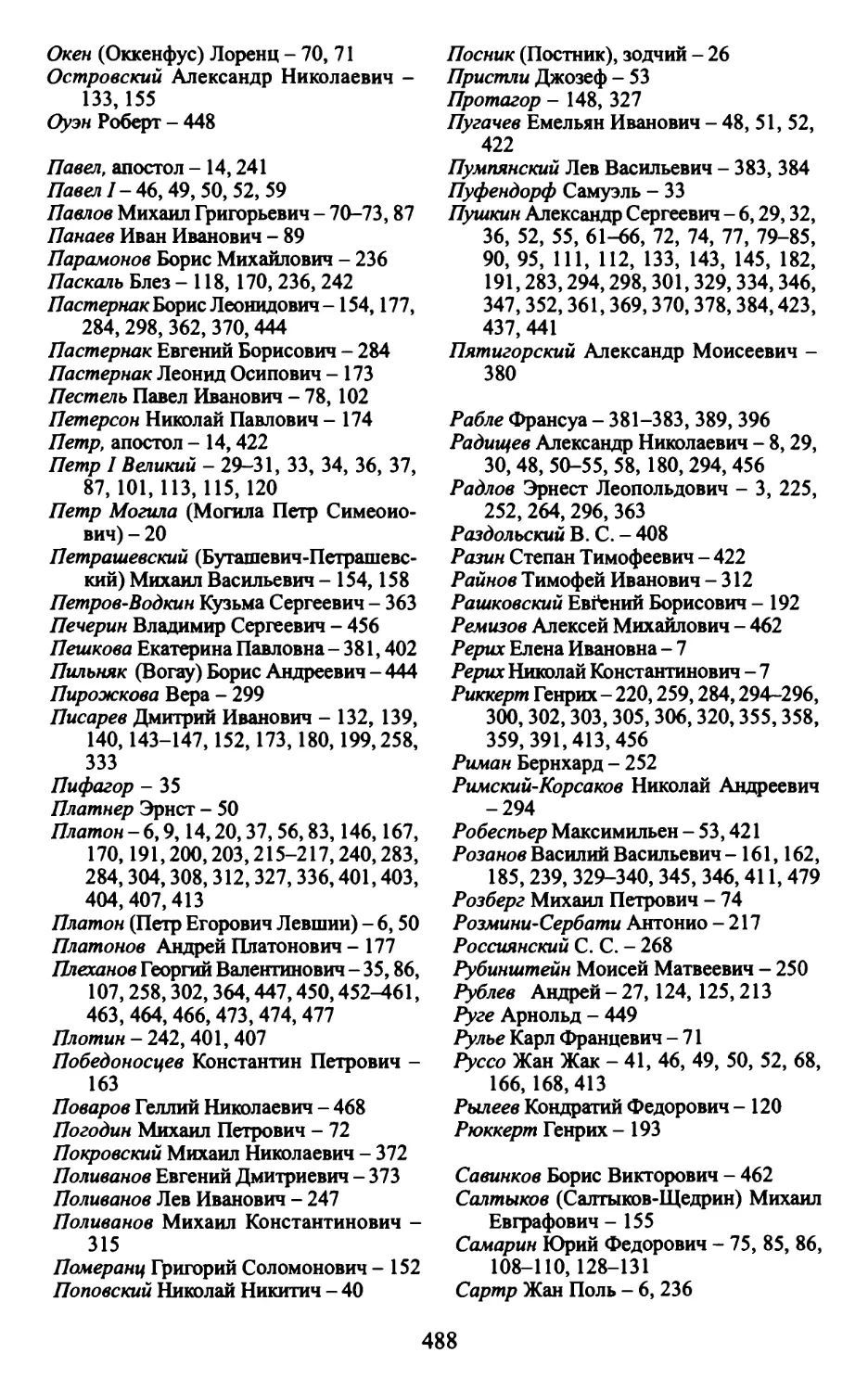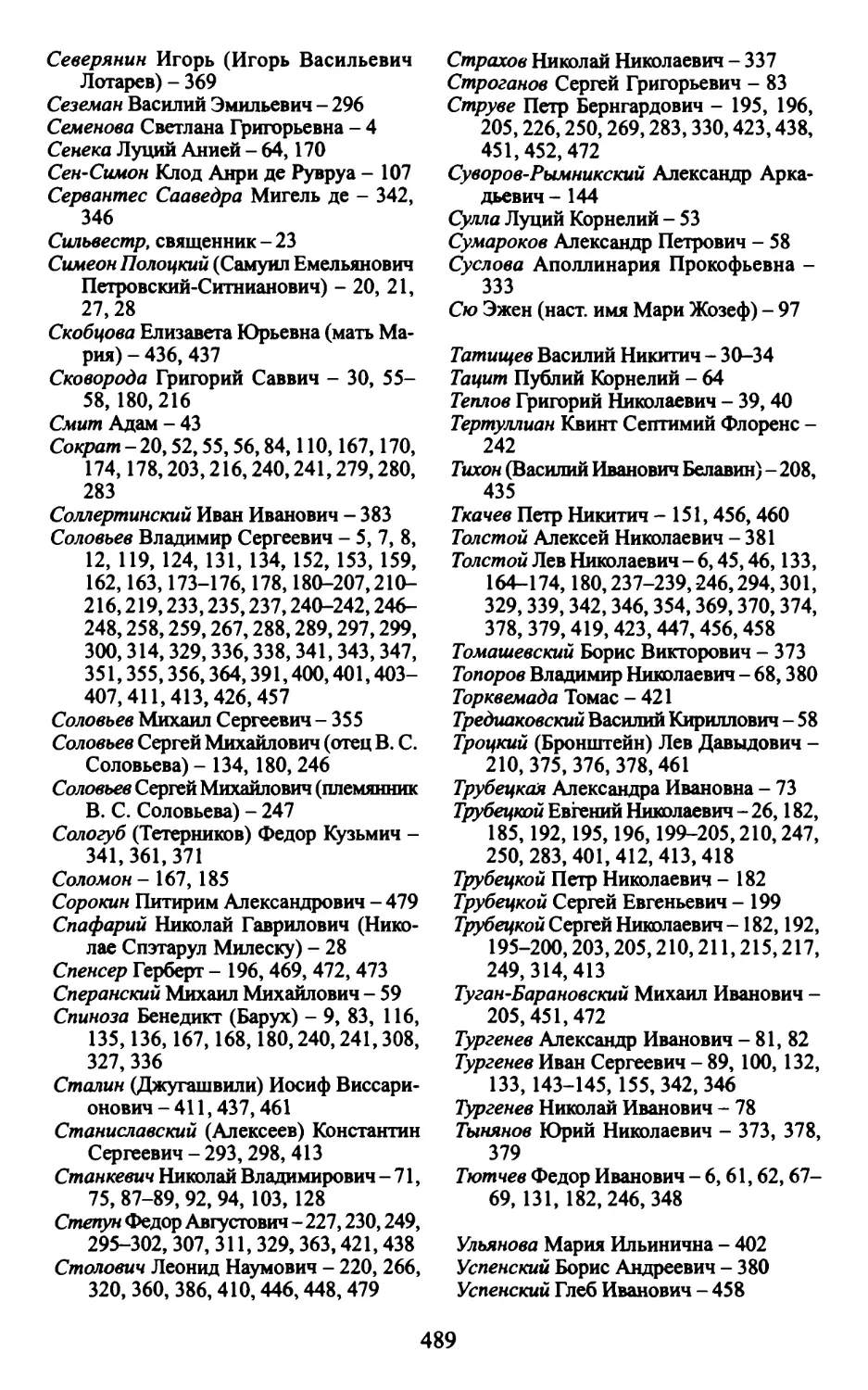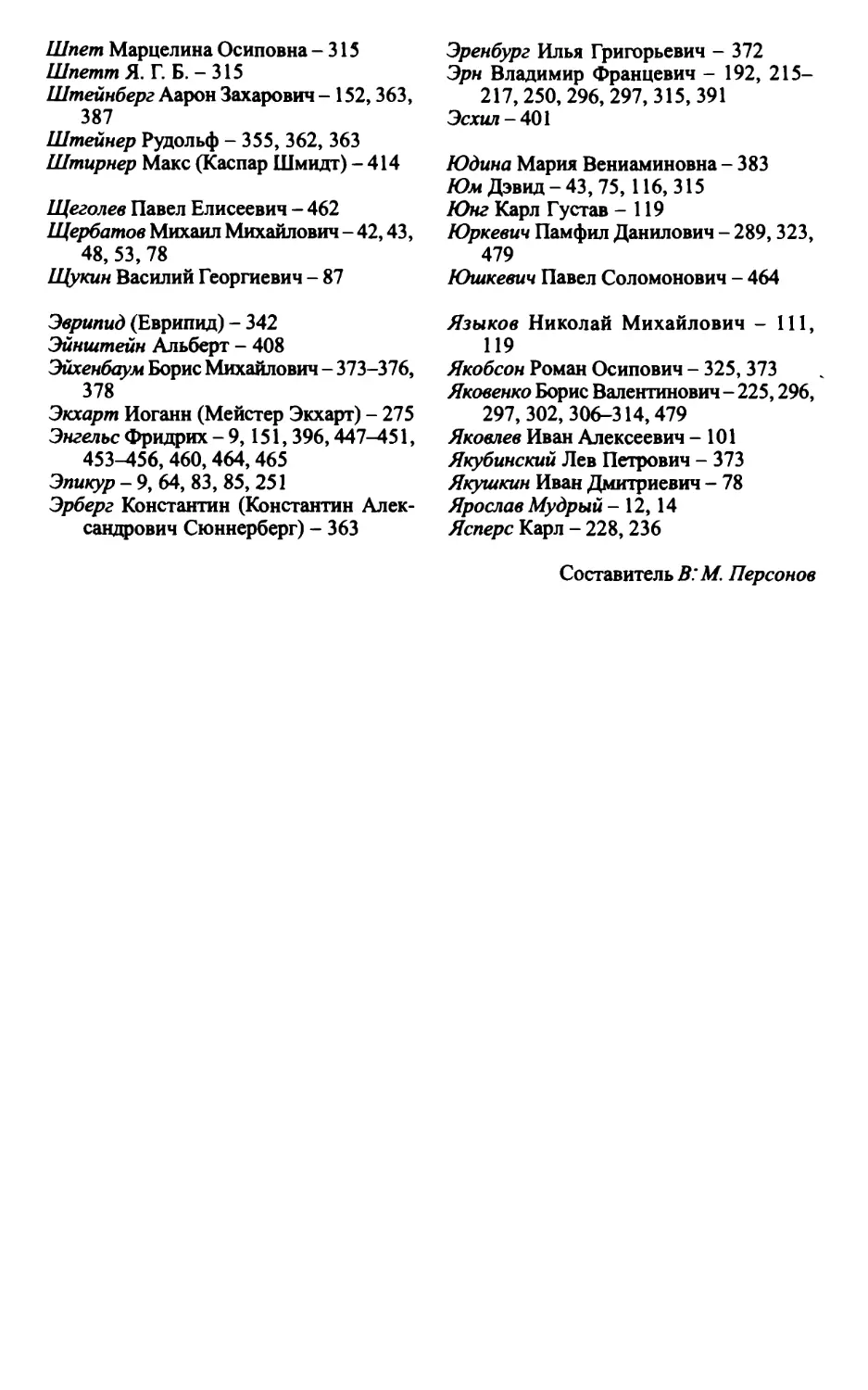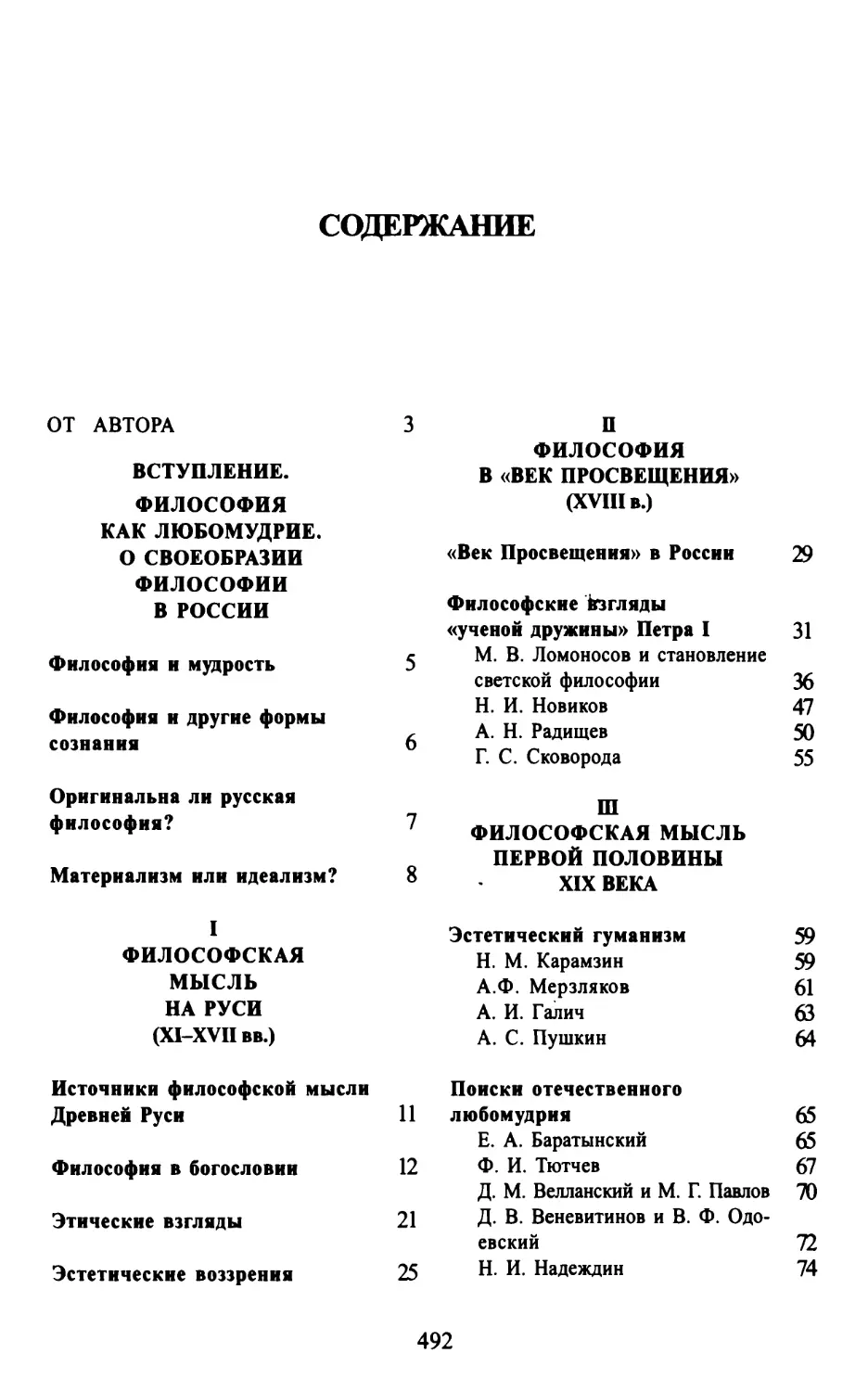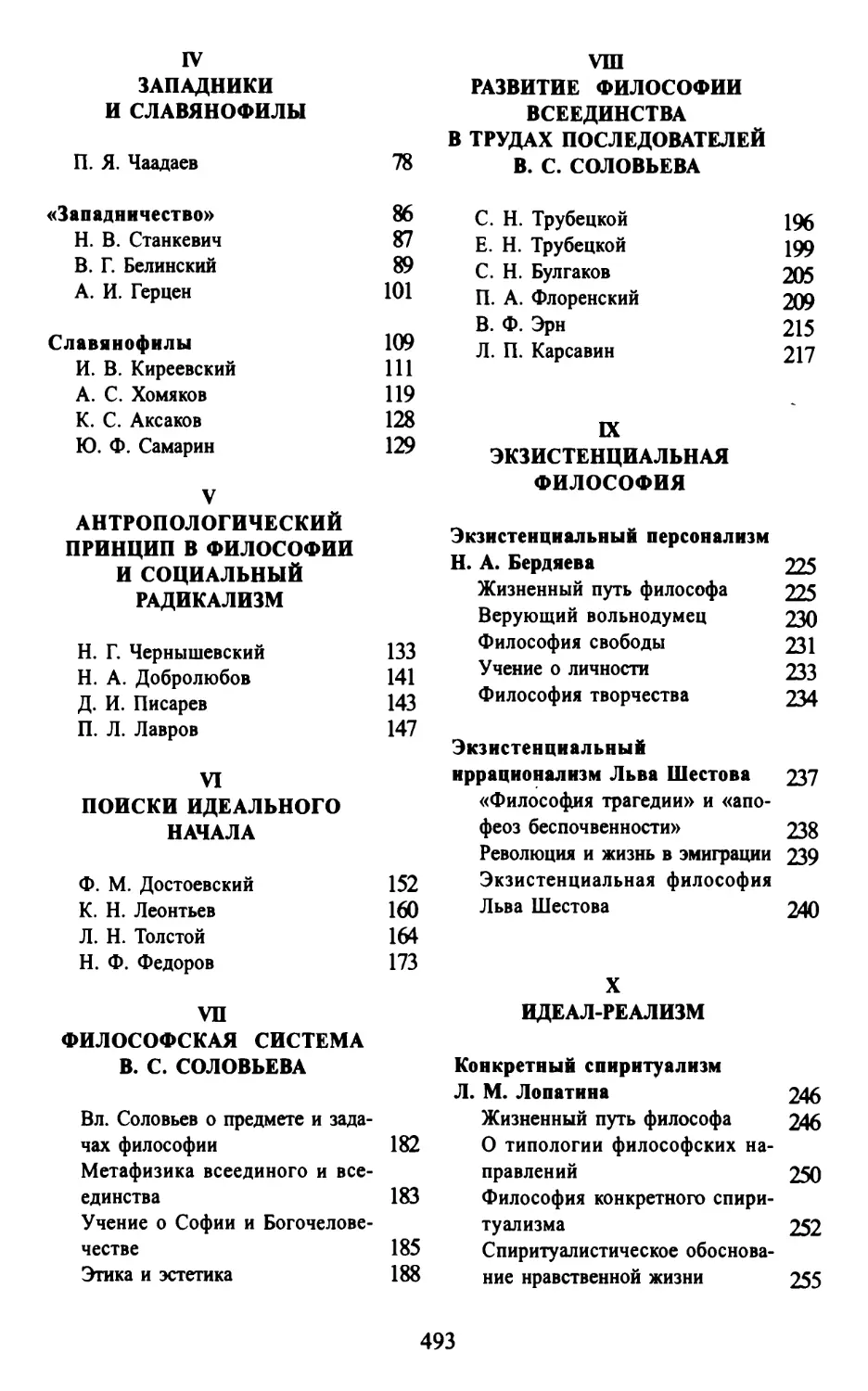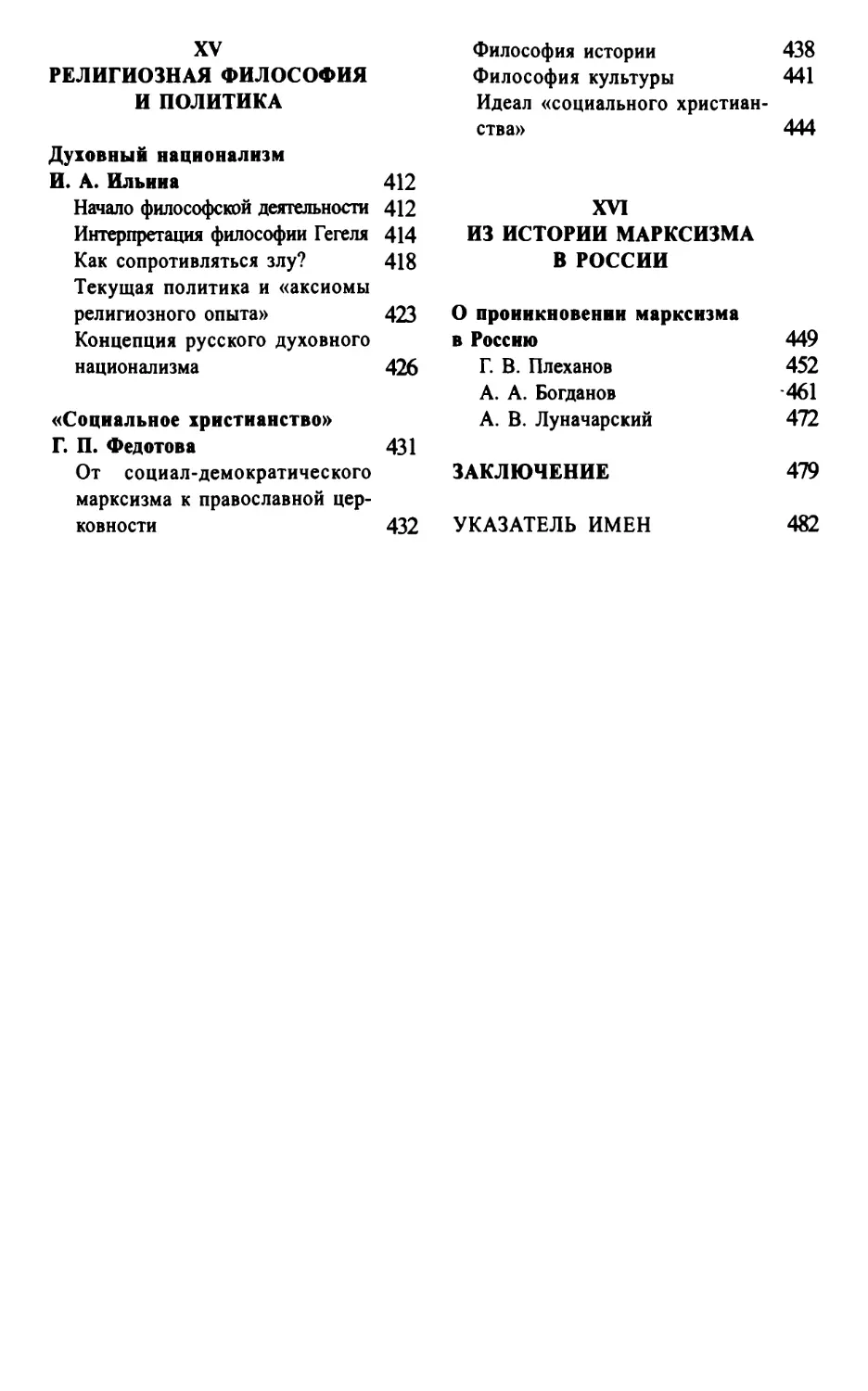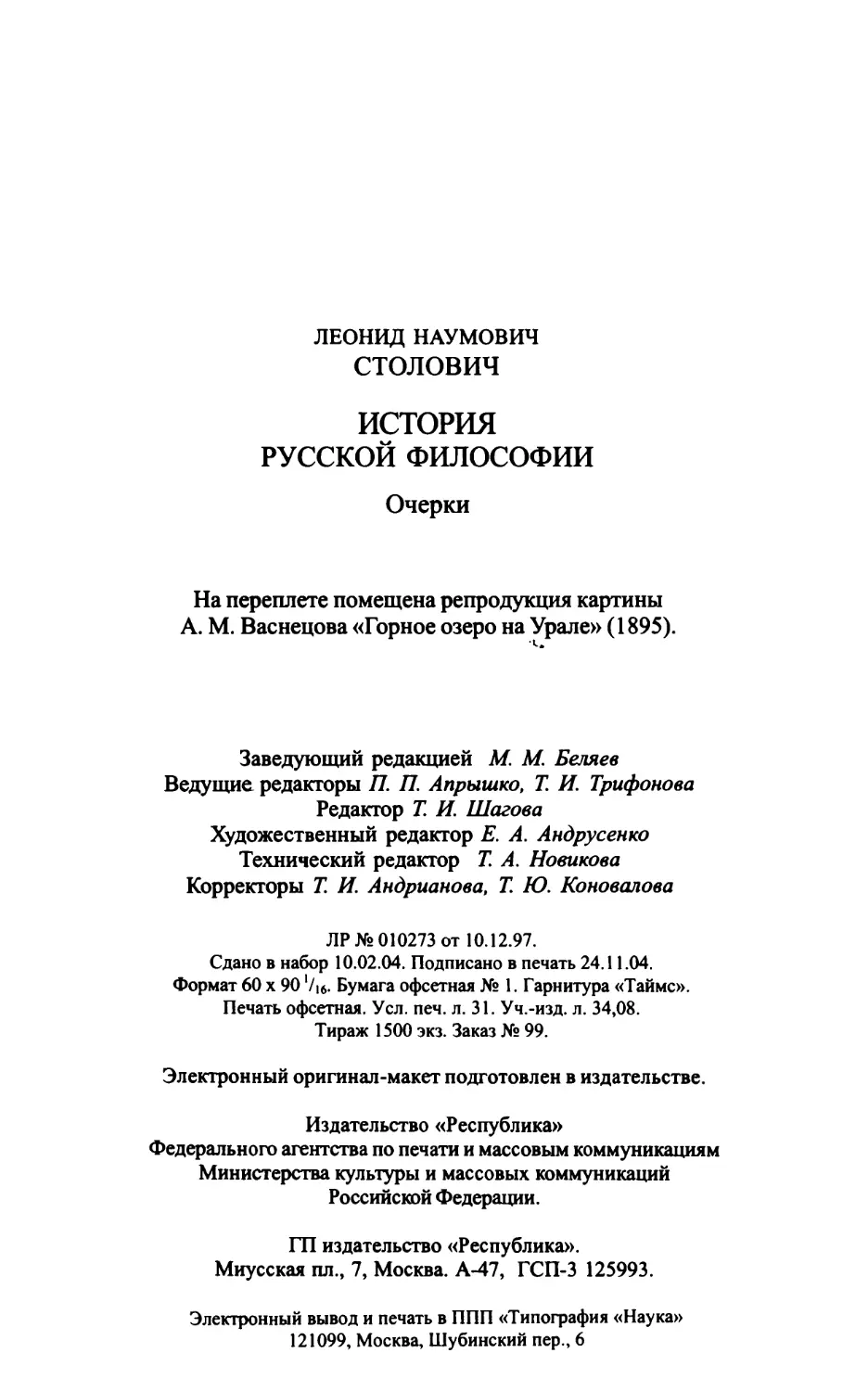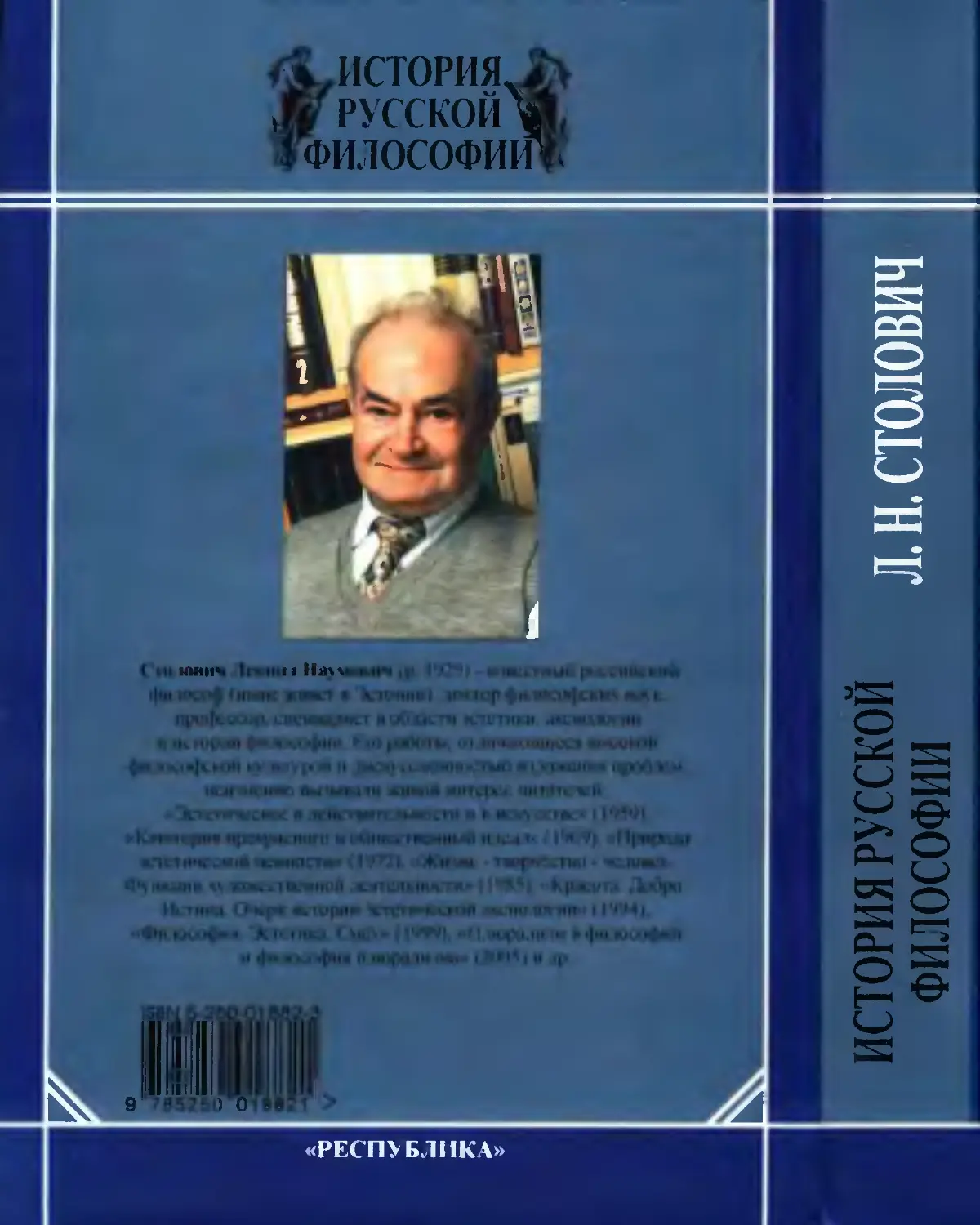Текст
л. H. столович
Очерки
Москва
Издательство «Республика»
2005
Столович Л. H.
История русской философии. Очерки. - М.: Республика,
2005. -495 с.
ISBN 5-250-01882-3
Автор книги, известный читателям своими трудами в области эстетики
и философии, с позиций плюрализма систематически излагает
многовековую историю развития философских идей в России. Раскрывая взгляды
русских мыслителей, он стремится показать, какие вопросы волновали их и как
в процессе решения этих вопросов возникали различные теоретические
построения и принципы. Значительная часть работы посвящена философским
течениям конца XIX - первой половины XX в.
Рассчитана на преподавателей, аспирантов, студентов, на читателей,
интересующихся историей русской философии и культуры.
ISBN 5-250-01882-3
© Издательство «Республика», 2005
© Л. Н. Столович, 2005
ОТ АВТОРА
Прочитав первую часть заголовка этой книги - «История русской
философии», - читатель может подумать, что перед ним
академическое исследование или очередное учебное пособие по истории
русской философской мысли. Таких исследований и пособий в
последние годы появилось уже немало, и потребность в них несомненно
возрастает1. Однако автор просит обратить внимание на
подзаголовок: «Очерки». Таков жанр книги. В этом отношении она подобна
книгам С. А. Левицкого «Очерки по истории русской философии»
(М., 1996) и А. В. Гулыги «Русская идея и ее творцы» (М., 1995), хотя
существенно отлична по концепции. Жанр очерка позволяет
излагать историко-философскш! материал в свободной форме, не
соизмеряя объем очерка, посвященного тому или иному мыслителю (или
даже отсутствие такого очерка), с его исторической значимостью, хотя
и определить меру этой значимости достаточно трудно, особенно в
наше время «переоценки всех ценностей».
В центре внимания автора - судьбы и творчество русских
мыслителей, начиная с истоков отечественной философской мысли. По
мере ее развития возрастала ее сложность, что и выразилось в
изложении. Поэтому и большая часть внимания уделена XX в. Автор стре-
1 Были переизданы труды В. В. Зеньковского «История русской
философии» (Париж, 1948. Переиздание в 2 т.; Л., 1991), Н. О. Лосского «История
русской философии» (книга вышла в 1991 г. в издательствах «Высшая школа»
и «Советский писатель»), Георгия Флоровского «Пути русского богословия»
(3-е изд. Париж, 1983. Переиздание осуществлено в 1991 г. в Киеве в
издательстве «Путь к истине»), А. И. Введенского, А.Ф. Лосева, Э. Л. Радлова, Г. Г.
Шпета в сборнике «Очерки истории русской философии» (Свердловск, 1991).
Наряду со многими переизданиями и публикациями произведений русских
философов стала появляться многочисленная исследовательская и учебная
литература, посвященная этой теме (см.: Галактионов А. А. и Никандров П. Ф.
Русская философия XI - XIX веков. 2-е изд. Л., 1989); Русская философия:
Словарь. М., 1995; Русская философия: Малый энциклопедический словарь.
М., 1995; ЗамалеевА. Ф. Лекции по истории русской философии. СПб., 1995;
Новиков А. И. История русской философии X - XX веков. СПб., 1998;
Емельянов Б. В. Очерки русской философии XX века. Екатеринбург, 2001; История
русской философии: Учебник для вузов. М., 2001; Евлампиев И. И. История
русской философии. М., 2002 и др.).
3
милея воссоздать внутреннюю логику каждой философской
системы вне зависимости от того, насколько она соответствует его
собственным воззрениям. Это, на его взгляд, сделает книгу
небесполезной тем читателям, которые хотят представить объективную картину
развития русской философии.
История русской философии теснейшим образом сопряжена с
историей русской культуры, в том числе и особенно художественной.
Это определило особое внимание к эстетическим и
культурологическим проблемам философской мысли, возможно в ущерб другим
проблемам философии - теоретико-познавательным и
естественнонаучным. Такую «однобокость» могут восполнить исследования и
очерки других авторов, посвященные этим проблемам, подобно тому
как это уже сделано в отношении проблемы абсолюта (см.: Евлампи-
ев И. И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская
философия в поисках абсолюта. Ч. I—II. СПб., 2000), русского космизма
(см. антологию, составленную С. Г. Семеновой и А. Г. Гачевой (М.,
1993), феноменологической философии в России (см.: Антология
феноменологической философии в России / Под ред. И. М. Чубаро-
ва. М, 1997).
Книга не предполагает читателя, искушенного в философской
литературе (а те, кто уже умудрен в философии, надеюсь, простят
известное им объяснение некоторых' философских терминов).
Представляемый на суд читателя труд - результат многолетнего изучения
истории русской философской мысли. Автор будет вполне
вознагражден за этот труд, если читатель почувствует то интеллектуальное,
нравственное и эстетическое удовлетворение, которое постоянно
испытывал он сам как исследователь, входя в этот удивительный мир
русской философии.
ВСТУПЛЕНИЕ
ФИЛОСОФИЯ КАК ЛЮБОМУДРИЕ.
О СВОЕОБРАЗИИ ФИЛОСОФИИ
В РОССИИ
ФИЛОСОФИЯ
И МУДРОСТЬ
Древнегреческое слово «философия», означающее «любовь к
мудрости» (phileo - люблю, sophia - мудрость), на древнерусский язык
переводилось словом «любомудрие». Оно употреблялось в русском
языке даже в XIX столетии (любомудрами называли себя члены
московского литературно-философского кружка «Общество
любомудрия», возникшего в 1823 г.). В «Толковом словаре живого
великорусского языка» В. И. Даля «любомудрие» трактуется как «наука
отвлеченности или наука о невещественных причинах и действиях», а также
как «наука достижения пре*(удрости, т. е. понимание назначенья
человека и долга его, слияншгистины с любовью».
В современном языке слово «любомудрие» уступило место
«философии», однако понятие «мудрость» не только сохранилось, но
является ключевым звеном в понимании сущности философии. Порой
философию неточно трактуют как «любовь к знанию». Уже древние
греки видели различие между знанием и мудростью. Знание - это
совокупность сведений о действительности. Мудрость же, по словам
Вл. С. Соловьева, - «понимание наилучших способов и средств для
достижения поставленных целей и уменье надлежащим образом
применять эти средства... уменье целесообразнейшего приложения
своих умственных сил к предметам наиболее достойным»1. Мудрость
предполагает знание, но это не просто знание фактов, а постижение
их смысла и значения на основе понимания высших ценностей -
Истины, Добра и Красоты в их единстве.
Философия как любовь к мудрости объединяет два вида
человеческой деятельности - познание действительности и оценивание ее
явлений, мировоззренческую ориентацию в мире ценностей.
Мудрость человек обретает в процессе жизненной практики, опыта (не
зря говорят о мудром человеке как об «умудренном опыте»).
Поэтому и философия есть не только отвлеченное знание
отвлеченных начал, ибо она всегда обращена к практике духовной жизни
человека.
1 Соловьев В. С Соч.: В 2 т. М, 1988. Т. 1. С. 187.
5
ФИЛОСОФИЯ И ДРУГИЕ ФОРМЫ СОЗНАНИЯ
Находясь как бы на пересечении познавательной и ценностно-
ориентационной деятельности человека, философия включает в себя
такие отрасли философского знания, как, с одной стороны,
онтология (учение о бытии), теория познания, называемая гносеологией и
эпистемологией (от греческих слов «гносис» - познание, знание и
«эпистемэ» - знание), а с другой - такие, как этика - учение о
нравственности и морали, эстетика - учение о красоте и искусстве,
аксиология - теория ценности (по-гречески «аксиа» - ценность). Будучи
связанной с процессом познания, философия близка науке, которая
является основным проявлением и инструментом познавательной
деятельности человека; имея же отношение к ценностям, философия
оказывается близкой другим формам ценностного сознания -
морали, искусству, религии.
В процессе взаимодействия философии с другими формами
общественного сознания проявляются различные стили
философствования. Чаще всего это логико-рациональный стиль, при котором
наука с ее системностью и логической доказательностью становится
интеллектуальным ориентиром в философском исследовании. Стиль эс-
тетическо-образный проявляется в своеобразной художественной
форме изложения философской "мысли, как, например, в диалогах
Платона или в поэме древнеримского поэта Лукреция Кара «О
природе вещей», в романах Ф. М. Достоевского, сочинении Ф. Ницше «Так
говорил Заратустра», художественных произведениях Ж. П. Сартра и
А. Камю. Тяготение философии к художественному творчеству
выразилось не только в художественности философии, но и в
философичности искусства, создавшего «Божественную комедию» Данте
и «Человеческую комедию» Бальзака, «Фауста» Гёте и «Доктора
Фаустуса» Т. Манна.
Для понимания русской философской мысли важно иметь в виду
ее проявление в жанрах философского романа и философской
поэзии. Идейное наследие Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и Л. Н.
Толстого, поэтов Державина, Баратынского, Тютчева, не говоря уже о
Пушкине, является достоянием не только русской литературы, но и
русской философии.
Наряду с логико-рациональным и эстетическо-образным
стилями философского мышления философские идеи и мысли часто
излагались в религиозной форме. Религиозный характер носили многие
течения восточной философии. В эпоху Средневековья философия
была, по существу, «служанкой богословия». Для большого числа
философских течений в России также характерен
религиозно-мистический стиль философствования. Это относится к произведениям
выдающихся церковных деятелей, таких, как Иларион Киевский,
митрополит Платон (Левшин) и его последователи; мистикой проникну-
6
ты труды Вл. Соловьева и многих других русских религиозных
философов конца XIX - первой половины XX в. - Н. А. Бердяева, С. Л.
Франка, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, И. А. Ильина, Л. Шесто-
ва и др. Большой интерес представляет мистико-этическое учение
Н. К. и Е. И. Рерихов.
Нередко под философскими трудами понимают лишь
специальные трактаты. В России их было написано сравнительно немного.
Можно ли на этом основании утверждать, что и философская мысль
России была слабо развита? Думается, что нет. Нужно иметь в виду,
что трактаты - только одна из форм изложения философских
взглядов. Глубокие философские мысли могут содержаться в
полемической статье и литературной критике, в художественном произведении
и письмах. Для русской философии характерно многообразие форм
ее выражения.
ОРИГИНАЛЬНА ЛИ РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ?
Русские философы, как известно, в меньшей мере, чем
мыслители Запада, уделяли внимание теории познания, гносеологии. Но ведь
философия не сводится к теории познания. Помимо
теоретико-познавательных проблем философия в России проявляла большой
интерес к социально-политическим и религиозным вопросам, к
нравственной и эстетической проблематике. Одна из основных проблем
русской философской мысли - судьба самой России, определение ее
места и роли в мировой истории.
Русские мыслители внимательно изучали произведения
философов Германии, Франции, Англии. Целые периоды интеллектуального
развития России проходили под знаком освоения философских идей
французских просветителей, философии Шеллинга, Гегеля,
Фейербаха. Не случайно в середине XIX в. появилась такая эпиграмма:
В тарантасе, телеге ли
Еду ночью из Брянска я,
Все о нем, все о Гегеле
Моя дума дворянская.
В России находили отклик все важнейшие философские
течения Запада: гегельянство, кантианство, позитивизм и интуитивизм,
феноменология, марксизм и др. Это давало повод некоторым
интерпретаторам истории русской философии заявлять о
неоригинальности русской мысли. Правда, иногда появлялись столь же
категорические противоположные суждения: например, утверждалось, что
передовая революционная мысль в России была не только самобытна
и совершенно независима от западной философии, но и во многом
превосходила последнюю.
7
На наш взгляд, неверны как суждения о несамостоятельности и
неоригинальности русской мысли, так и тенденциозное
противопоставление отечественной философии зарубежной. Конечно же
русские философы, как правило, отлично были осведомлены о
состоянии западноевропейской философии (они нередко учились или
стажировались в зарубежных университетах). Об этом свидетельствует
большое число переводов на русский язык произведений
иностранных философов. Вместе с тем русские мыслители чаще всего не
следовали какому-либо одному течению западной философии. Взяв за
исходный пункт то или иное течение, они дополняли его другим, в
том числе и отечественным. В результате же получалась не
разнородная смесь, а оригинальный синтез, как, например, в воззрениях
Вл. Соловьева, Н. Бердяева, Н. Лосского, Г.. Шпета, А. Лосева и др.
МАТЕРИАЛИЗМ ИЛИ ИДЕАЛИЗМ?
Изучение истории русской философии само имеет свою
историю. Если обратиться к исследованиям русской философской
мысли в советский период, то возникает одностороннее, мягко говоря,
представление о философии в России. Русская философия
предстает в положительном плане как ^только элемент «освободительного
движения», направленного против самодержавия и крепостничества.
В центре внимания были воззрения революционных демократов -
В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А.
Добролюбова и их предшественников - А. Н. Радищева и декабристов. И
это не случайно. В соответствии с идеологическими установками
история философии трактовалась как история развития
материализма, боровшегося с реакционным, антинаучным идеализмом.
Поэтому неудивительно, что русский идеализм если и не игнорировался,
то подвергался уничтожающей критике. Между тем произведения
русских идеалистов не издавались. Зарубежные же издания их
трудов для рядовых читателей были недоступны.
В связи с происходящими социально-политическими
переменами в России меняется и отношение к русской философии. В
последние годы вновь увидели свет многие труды выдающихся русских
мыслителей-идеалистов, переизданы труды по истории русской
философии Н. А. Бердяева, В. В. Зеньковского и Н. О. Лосского,
вышедшие в свое время за границей. Появились оригинальные
исследования, в которых более объективно, чем прежде, рассматриваются
воззрения русских мыслителей. Нет сомнения, что со временем все
встанет на свое место и будет воссоздана реальная картина движения
русской философской мысли XI-XX вв. во всем ее многообразии.
Приступая к анализу истории русской философии, необходимо
определить свое отношение к главным направлениям в развитии ми-
8
ровой философии, каковыми являются идеализм и материализм в их
многообразных разновидностях. До XVII в. философия вообще
обходилась без терминов «идеализм» и «материализм». Появление их,
разумеется, не было прихотью. Оно отражало определенное
разделение в развитии философской мысли. Слова «идеализм» и
«материализм» употреблялись в самых разных значениях, вплоть до бытового
(по типу: «этот человек - материалист: он свою выгоду не упустит»
или «а этот человек - идеалист: он витает в облаках»). В
философском смысле под идеализмом, в противоположность материализму,
стало пониматься воззрение, по которому духовное, идеальное
начало является определяющим, истинным бытием. Материалисты же
утверждали, что первичным является материя, которая порождает
сознание, идеальное как нечто вторичное и производное от нее.
Но уже во второй половине XIX в. начали раздаваться голоса об
относительности противопоставления идеализма и материализма, что
сам по себе вопрос о первичности или вторичности духа или
материи далек от решения насущных философских и жизненных проблем
и что само по себе то или иное (материалистическое или же
идеалистическое) решение проблемы бытия и мышления является
недоказуемой аксиомой. Мы знаем, что геометрия Евклида строится на ряде
аксиом, которые при всей своей кажущейся очевидности
невозможно доказать. Как оказалось^ существуют неевклидовы системы
геометрии, строящиеся на других, но столь же недоказуемых аксиомах.
На наш взгляд, подобная ситуация характерна и для философии, ибо
строго логически нельзя обосновать исходные принципы как
материализма, так и идеализма. Философ-неокантианец А. И. Введенский,
будучи идеалистом, признает неопровержимость материализма как
«метафизической гипотезы», т. е. гипотезы общефилософской. По
его мнению, материализм вместе с тем и недоказуем, «как и всякая
метафизика»1 (здесь под метафизикой понимается общефилософское
построение).
Опыт истории мировой философской мысли показывает, что
наиболее значительные философские системы опирались на различные
методологические основания: идеалистические (Платон, Аристотель,
Кант, Гегель и др.) и материалистические (Демокрит, Эпикур, Гоббс,
Спиноза, Дидро, Фейербах, Маркс, Энгельс и др.). Таких древних
философов, как Фалес, Анаксимандр, Гераклит, невозможно
однозначно отнести ни к материализму, ни к идеализму. Например,
Декарт полагал, что материалистический и идеалистический подходы
могут быть продуктивны при изучении разных областей мира:
материалистический - природы, идеалистический - сознания. Культура
философского мышления определяется не теми «аксиомами», из
которых оно исходит, а тем, как оно доказывает свои «теоремы», иначе
1 Введенский А. И. Логика как часть теории познания. СПб., 1912. С. 416.
9
говоря, тем, как решаются им коренные вопросы человеческого
существования.
Сказанное выше в полной мере относится и к истории русской
философии. Мы должны выяснить, как развивалась философская
мысль в России во всем теоретическом многообразии ее проявлений.
Нужно, конечно, иметь в виду, что понятия «идеализм» и
«материализм» не ругательства и не комплимент, а принципиальная основа
того или иного философского миропонимания. И та и другая
ориентация имеют свои резоны, и автор этой книги не претендует на роль
судьи в этой многовековой тяжбе. На наш взгляд, должна
существовать своеобразная свобода философской совести подобно свободе
совести религиозной. Пафос утверждения философской свободы
выстрадан многими веками ее подавления, принудительным
навязыванием господствующего мировоззрения. История уже наглядно
показала, к чему приводит монополия на истину, которую присваивает
себе та или иная господствующая идеология в обществе.
I
ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ
НА РУСИ (XI-XVII вв.)
ИСТОЧНИКИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
ДРЕВНЕЙ РУСИ
Как у каждого человека, так и у целого народа вырабатывается
определенное мировоззрение. Философия возникает как осознание
миропонимания, как его основание и систематизирующее начало.
Предысторией русской философии является длительный
начальный этап становления и развития философской мысли на Руси.
Большое значение для формирования мировоззрения русских
мыслителей этого времени имела христианизация Руси. До этого периода
восточнославянские племена, населявшие территорию Древней Руси,
исповедовали языческие верования с их культом богов,
олицетворявших различные силы природы, и культом предков. Христианство на
Руси, утверждая новые религиозные ориентиры в поведении людей,
между тем вобрало в себя некоторые языческие верования. В этом
состоит одна из особенностей мировосприятия восточных славян,
которые в период Киевской Руси сложились в древнерусскую
народность. На основе ее впоследствии сформировались русский,
украинский и белорусский народы.
В летописях рассказывается о том, как князь Владимир тщательно
выбирал веру для своего народа. «Болгары магометанской веры»
предлагали ему принять ислам. Хазары склоняли князя приобщиться к их
вере - иудаизму. «Иноземцы из Рима» уговаривали Владимира
присоединиться к западному христианству, возглавляемому папой. Свою
православную веру красочно описал ему присланный византийскими
греками «философ». Киевский князь избрал веру православную.
То, что Русь приняла византийское христианство, а не западно-
римское, тоже важно иметь в виду для понимания своеобразия
русской мысли. Уже древние «русичи», а затем и русские мыслители
ориентировались на восточнохристианские традиции,
утвердившиеся в Византии. Прежде всего оттуда они черпали богословско-фило-
софские идеи, через них они получали первые сведения о
древнегреческой философии.
Нельзя забывать и о духовном влиянии на Русь, идущем от
других славянских стран, прежде всего из Болгарии и Моравии. Оттуда
пришла славянская азбука, созданная славянскими просветителями
11
братьями Кириллом и Мефодием, которые перевели с греческого на
славянский язык основные богослужебные книги. Восприятие
византийской культуры на Руси было таким образом опосредствовано
воздействием древнеславянской культуры.
Все эти вышеизложенные факторы обусловили своеобразие
становления русской культуры в эпоху Киевской Руси.
Однако правомерно ли говорить о развитии философии на Руси?
Дело не только в том, что она уже знала слово «философия», хотя и
это немаловажно. Так, в летописи «Повесть временных лет»
говорится о том, что «прислали греки к Владимиру философа»,
пространная речь которого о христианстве и его спасительной миссии
приводится в тексте летописи. В этой же летописи Кирилл (Константин) и
Мефодий были названы «искусными философами». Хорошо было
известно на Руси и понятие «мудрость». Великого князя Киевского
Ярослава - сына крестителя Руси князя Владимира не случайно
назвали Ярославом Мудрым (ок. 978-1054): он не только объединил
под своей властью почти все русские земли, но и руководил
составлением «Русской'правды» - свода древнерусского права. При
Ярославе Мудром воздвигнут был в Киеве Софийский собор, по словам
современника, «дом Божий великой святой Премудрости». («София» -
по-гречески «мудрость» - важное понятие античной философии, в
христианстве трактуется как Премудрость Божия.) На Руси кроме
киевского Софийского собора Софии были посвящены построенные
в XI в. величественные соборы в Новгороде и Полоцке.
Культ Софии свидетельствует о философском образе мышления
в Древней Руси. Не случайно размышления о Софии занимают
важное место в творчестве Вл. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, П. А.
Флоренского и других русских религиозных философов.
ФИЛОСОФИЯ В БОГОСЛОВИИ
В средневековой Руси, как и в средневековой Западной Европе,
доминирующей формой общественного сознания была религия.
Поэтому и философское осмысление мира и человека осуществлялось
главным образом в богословии1.
Иларион Киевский. Примерно через полстолетия после крещения
Руси, в период между 1037 и 1050 гг., появляется «Слово о законе и
благодати» Илариона, поставленного князем Ярославом Мудрым в
1051 г. Киевским митрополитом. Обращаясь к Библии и учениям
отцов церкви, Иларион стремится постигнуть смысл человеческой исто-
10 взаимосвязи в Древней Руси философии и богословия см.: ЗамалеевА. Ф.
Философская мысль в средневековой Руси (XI-XVI вв.). Л.» 1987; Громов М. К,
Козлов Н. С. Русская философская мысль X-XVII вв. М., 1990.
12
рии, определить место Руси во всемирно-историческом процессе.
«Слово» - замечательный памятник древнерусской историософии.
Иларион «с точки зрения вечности» трактует животрепещущие для
его времени проблемы: что означает для Руси приобщение к
христианскому миру; как само христианство соотносится с язычеством, с
одной стороны, и с «законом», ему предшествовавшим; должны ли
народы, лишь недавно принявшие христианство, подчиняться
старым христианским государствам? Последний вопрос был особо
актуальным для Киевской Руси, на независимость которой посягала
Византийская империя по праву державы, от которой Русь переняла
христианство. Ведь до Илариона киевской метрополией руководили
греческие священники из Византии.
«Слово» Илариона начинается с восхваления единого для
израильтян и христиан Бога, который предначертал путь спасения всему
человечеству. Опираясь на книги Ветхого и Нового Завета, Иларион
сосредоточивает свое внимание на выявлении противоположности
между иудейским «законом», «через Моисея данном», и
«благодатью», олицетворенной Иисусом Христом. Эта противоположность
видится им как противопоставление истины и ее тени, ее подобия,
свободы и рабства, спасения и оправдания. При этом преимущество
христианства перед иудаизмом, по суждению Илариона, в том, что у
последнего «совершенствование» «не распространялось на другие
народы», в то время как «спасение» у христиан «простирается во все
края земли». Иларион отвергает иудейство, образно сопоставляя его
с христианством, как «свет луны» со светом солнца, как «ночную
стужу» с «солнечной теплотой», тесноту со свободой, земное с
небесным. Но он видит не только противоположность, но и
преемственность между Ветхим и Новым Заветом: в жене Авраама Сарре и их
сыне Исааке усматривает «образ благодати», благоговейно чтит
ветхозаветных пророков. Основное же обвинение Израилю состоит в
том, что Христос «к своим пришел, и свои не приняли его. Другими
же народами был принят». Приобщиться к Христу способен каждый
человек, любой народ, ибо сам Иисус «настоящий человек по плоти,
а не приведение, но и настоящий Бог по Божественной сути». Как
величайшее событие для своего народа Иларион рассматривает
Крещение Руси, освобождение его от «идольской лжи», духовное
единение с другими христианскими народами. Между новыми
христианскими народами и принявшими христианство в давние времена он
не допускает неравенства, так как «для нового учения - новые мехи,
новые народы. И сохранится и то, и другое».
В «Слове» звучит хвала крестителю Руси - князю Владимиру,
которого автор называет «великим каганом», что означало
приравнивание киевского князя к византийским императорам. Автор
«Слова» признает, что о христолюбивой вере Владимир слышал от
греков, но при этом он особо подчеркивает мысль, что креститель Руси
13
самостоятельно пришел к Христу - «только по благому пониманию
и остроте ума». Владимир уподобляется здесь римскому императору
Константину Великому, которого церковная традиция за
покровительство христианству называет равноапостольным. Более того, Илари-
он ставит Владимира в один ряд с апостолами Петром, Павлом,
Иоанном Богословом, Фомой, Марком - учителями «православной веры».
Прославление Владимира рисует идеальный образ
государственного деятеля, излечившего своих подданных «от недуга идолослуже-
ния умерших». Образ крестителя Руси и «наставника благоверию» -
образец для его сына - великого князя Ярослава Мудрого и его
потомства. В «Слове» звучит гимн торжествующему на Руси
христианству, благодаря которому засиял величеством град Киев, воздвигнут
«дом Божий великий святой Премудрости», изукрашенный всякой
красотой, и процветающие церкви. Заканчивается «Слово»
пожеланием, чтобы сын Владимира «с богатством добрых дел неколебимо
управлял людьми, данными ему от Бога».
Климент Смолятич (XII в.). Среди церковнослужителей было
различное отношение к философии. Для большей части из них она
означала мудрствовать лукаво, предаваться тщеславию, пренебрегать
Священным Писанием, чтить «язычников» Платона и Аристотеля и
тем самым готовить себе путь в геенну, т. е. в ад. Но такие
священники, как Иларион, думали иначе? Спустя столетие после Илариона,
так же как и он, без благословения Константинополя, Киевским
митрополитом стал Климент Смолятич (родом из Смоленска). В
летописи говорится, что Климент «был книжник и философ, каких в
Русской земле не бывало». В единственном сохранившемся его
сочинении, озаглавленном «Послание, написанное Климентом,
митрополитом русским, Фоме, пресвитеру», Смолятич начинает свое послание
осуждением пренебрежительного отношения к тому, что Фома
называет «философией», отстаивая свое право ссылаться на Гомера,
Платона и Аристотеля.
В «Послании» Климент продолжает историософию Илариона, но
помимо «закона» и «благодати» выделяет предшествующую им
ступень «завета», данного Богом Аврааму. «Закон упразднил завет, а
благодать упразднила и то, и другое - завет и закон», - писал Климент,
имея в виду то, что сейчас называют нравственным совершенством.
Ведь «закон» устранил многоженство, а Христос нас «просветил
своим крещением». Основная же мысль «Послания» - обоснование
возможности символико-аллегорического истолкования Священного
Писания. «Не в том ли, любимец, - риторически спрашивает
Климент своего критика, - моя философия, которою я ищу славы от
людей, что описанные у евангелиста чудеса Христовы хочу разуметь
иносказательно и духовно?»
Стремясь «исследовать духовно» Писание, Климент Смолятич
обосновывает своего рода метод, «как просить у Бога добрых и по-
14
лезных дел и как достигнуть и получить спасение». Подобно тому
как истолковывается текст Священного Писания, следует изучать и
саму действительность и по ее признакам определять намерения
Творца этой действительности, подобно тому как по реальным
предзнаменованиям корабельщики «догадываются, что будет буря».
Кирилл Туровский (вторая половина XII в.). Приверженцем сим-
волико-аллегорического истолкования «священных книг» был Кирилл
из города Турова на реке Припяти, где он получил сан епископа. До
этого он, сын богатых родителей, был монахом, притом не простым
монахом, а затворенным «в столп», т. е. в уединенную башню,
предаваясь посту, молитве и «изложению писаний божественных».
В «Притче о человеческой душе и о теле» Кирилл Туровский
пересказывает историю о том, как один «домовитый человек» решил
поставить сторожами своего виноградника «хромца» и «слепца»,
полагая, что первый увидит вора, а второй услышит. Сами же они не
смогут воровать, так как «хромец» не может ходить, а «слепец» -
видеть. Но вот охранники сговорились. Сел «хромец» на «слепца»,
указывая ему дорогу, и ограбили они добро своего господина. «Кто
это - хромец и слепец? - вопрошает Кирилл и дает такое
истолкование образам притчи: - Хромец - это тело человеческое,-слепец же -
душа». Притча явилась поводом для рассуждений о
взаимоотношении тела и души человека. .Мертвое тело не имеет души. Даже
«чудотворные мощи» святых не сохраняют их души. Грешная душа
может оправдываться: «Не я, но плоть согрешила». Поэтому-то,
считает Кирилл, во время второго пришествия Христа «души наши
войдут в тела и каждый получит воздаяние по делам своим».
В «Слове о расслабленном» Кирилл аллегорически
истолковывает евангельскую притчу об исцелении Иисусом Христом
паралитика. Отвечая на жалобы несчастного человека, которому 38 лет
никто не помогал («не имею человека, который опустил бы меня в
купель, ибо все отвернулись и негодными стали, и нет ни единого,
творящего добро»), «благой наш врач Господь Иисус Христос»
сказал: «Что ты говоришь: человека не имею! Я ради тебя человеком
стал... Ради тебя я, бесплотный, в плоть облекся, чтобы все
телесные и душевные недуги исцелить... Я стал человеком, чтобы
человека Богом сделать...»
Конкретное благое деяние Христа дает повод Кириллу
Туровскому предложить свое понимание вопроса о богочеловеческой
природе Христа. Если, будучи еще простым монахом, Кирилл считал, что
«рассуждать о человекообразности Бога» есть ересь, то, став
епископом Туровским, он пишет о «вочеловечивании» Бога в Христе. Да и
мир, по Кириллу Туровскому, сотворен для человека. Обращаясь к
«расслабленному», его исцелитель говорит каждому человеку: «Тебе
всю тварь в услужение создал. Небо и земля тебе служат... Ради тебя
реки приносят рыбу, а пустыни питают зверей!»
15
Так, древнерусские мыслители, уделяя основное свое внимание
богословским вопросам и Священному Писанию, вместе с тем
ставили и по-своему решали философские проблемы отношения
человека и мира, соотношения духовного и телесного, возможности
человека иметь свободу выбора в своих действиях (почему
всемогущий и всеведающий Бог допускает греховное поведение человека?).
Как и философы Средневековья на Западе, так же и богословы на
Руси думали о том, как могут сосуществовать вера и знание, как
уживаются разум и чувства. Эти вопросы рассматриваются и Кириллом
Туровским. Он, например, не осуждает апостола Фому, прозванного
«неверующим», за то, что тот не верил в воскрешение Христа, пока
сам не увидел ран от гвоздей и не вложил свой палец в эти раны.
Кирилл тем самым оправдывает человеческое стремление не
принимать все на веру, но испытывать мир своим разумом. Но сам по себе
разум, опирающийся на телесные чувства и обладающий свободой
выбора между добром и злом, может, по его мнению, порождать
грешные мысли и желания. Поэтому он признает «стройный разум» -
разум, не выходящий за пределы «разума истинного», богооткровенной
истины церкви. Таким образом, как и некоторые философы-теологи
на Западе, Туровский не противопоставляет веру разумному знанию.
Иосифляне и нестяжатели. В процессе развития церковной
организации по ряду причин, в том яисле социальных, возникают
течения, отклоняющиеся от принятой на церковных соборах догматики.
Их называют ересями. В конце XIV в. широкое еретическое
движение возникает и в Северной Руси. Это так называемая ересь
стригольников, появившаяся в Пскове и Новгороде. Стригольники
выражали недовольство деятельностью церкви и ее служителей, обвиняя
их в нравственной деградации - пьянстве, невежестве,
корыстолюбии, неправедном образе жизни. Но при этом они посягали и на сами
церковные обряды, и на утвердившиеся каноны православного
вероучения. У стригольников, например, в христианство вводятся
некоторые пережитки язычества, пантеистическая вера в равнобожествен-
ность Земли и Неба. В другой ереси, осужденной церковью как ересь
жидовствующих (конец XV в.), выражалось сомнение в
божественности Христа, отрицалась Божественная Троица, т. е. единство и в то
же время неслиянность Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа.
Господствующая церковь беспощадно боролась с ересями, подвергая их
сторонников преследованиям, вплоть до казней, резко осуждая
еретические умонастроения. И сами эти ереси, и их критика
представляют для нас определенный интерес. Так, обосновывая свои
взгляды, еретики, а среди них были и образованные люди, обращались к
трудам античных и восточных мыслителей, стремились на русском
языке создать философские термины, существующие на других
языках. Обличители ересей также вынуждены были обращаться к бого-
словско-философской аргументации.
16
Но и в пределах ортодоксального богословия, соответствующего
до1 матам православного христианства, возникали свои
противоречия, выражающиеся в острых спорах, которые также стимулировали
движение богословско-философской мысли. Наиболее крупным
церковным спором, возникшим во второй половине XV в. и
продолжившимся до середины XVI в., был спор иосифлян (или осифлян) с
нестяжателями (или «заволжцами»). На поверхности борьба между
этими религиозными течениями велась относительно монастырского
землевладения. Нестяжатели в лице своего главы Нила Сорского
(ок. 1433-1508) провозглашали: «Чтобы у монастырей сел не было, а
жили бы чернецы по пустыням, а кормились бы рукоделием». Иные
взгляды были у иосифлян, получивших свое название от имени
основателя Волоколамского монастыря Иосифа Волоцкого ( 1439-1515),
который активно выступал против нестяжателей, за сохранение
монастырского землевладения.
В 1507 г. Иосиф Волоцкий переходит под покровительство
великого князя Московского Василия III. Если до этого он прославлял
монашество и призывал служить царям «телесно, а не душевно»,
воздавать им «царскую честь, а не божественную», то после
принятия в «великое государство» взгляды главы иосифлян переменились.
Он провозгласил божественной власть Московского государя,
полагал, что Бог вручил ему «малость и суд, и церковное, и
монастырское, и всего православного христианства власть и попечение».
Московский государь объявлялся «всея русския государем»,
возвышающимся над удельными князьями, которые должны быть ему
послушны и покорны.
Отсюда оставалось сделать лишь один шаг до провозглашения
Москвы Третьим Римом. И этот шаг был сделан игуменом
псковским Спасо-Елизарова монастыря старцем Филофеем. Между 1514
и 1521 гг. Филофей обратился с посланием к Василию III, в котором
призывал его стать «единственным во всей поднебесной
христианским царем». Если Древний Рим пал, сокрушенный еретическим
неверием, Второй Рим - Константинополь был повержен турками, то
Москва, объединившая «вся христианская царьства», стоит как
Третий Рим, «а четвертому не быти».
Иосифляне давали свою трактовку Священного Писания и
миропонимания. В Библии говорится: «И сказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему (и) по подобию Нашему» (Быт. 1, 26). Иосиф
Волоцкий строго различал понятия «образ» и «подобие». Человек, по
его толкованию, подобен Богу, нося в себе душу, слово и ум. Человек -
образ Божий, поскольку он владеет всем на земле, как Бог властен
над всем миром. Но человек двойствен: он и духовен, и состоит из
плоти. Поэтому «истина» постигается как духовно, так и
естественно. Разум человека не может отрешиться от плотской природы
людей, от мирских страстей. В силу ограниченности человеческого ра-
17
зумения «истины» человеку не доступно полное знание о Боге и его
откровении - Священном Писании.
Вместе с тем сам Иосиф Волоцкий, исходя из подобия человека
Богу и человекоподобия Христа, рассуждает и о Боге, и о Христе.
Так, по его мнению, премудрость Бога не исключает его «коварства»
и «прехыщрения» (обмана). Бог, явившись на земле в человеческом
облике для спасения людей, тем самым перехитрил дьявола. Однако
следует иметь в виду, что повествование о Христе дает «образ его по
человечеству». На этом основании Иосиф Волоцкий не считает
Христа «в мирском образе» образцом для подражания.
Иосифляне были непримиримы в борьбе с еретиками, требуя
«отправлять их в заточение и повергать жестоким казням». Создается
впечатление, что иосифляне заземляли церковно-религиозное
вероучение в угоду решения определенных земных проблем: укрепления
централизованной власти царя, сохранения монастырского
землевладения, борьбы против инаковерующих. При этом в само богословие
включались знания, основанные на жизненном опыте, некоторые
философские идеи античности и раннего средневековья, подчас не
соответствующие учениям восточных отцов церкви. Г. В. Флоров-
ский писал, что в учении иосифлян была «правда социального
служения», но проявилась и «опасность - перенапряженность
социального внимания»1. *
В противоположность иосифлянам нестяжатели проповедовали
«оставление мира», новую, более аскетическую форму монашеской
жизни, мистического сосредоточения для единения с Богом. Глава
нестяжательства Нил Сорский, происходивший из боярского рода (в
миру - Николай Майков), был переписчиком богослужебных книг, а
затем пострижен в монахи. После того как Нил побывал на Афоне
(знаменитом православном монастыре в Греции) и воспринял идеи
исихазма2, он основал скит на реке Соре, недалеко от Кирилло-Бело-
зерского монастыря.
Нил Сорский и его последователи (Вассиан Патрикеев и др.)
выступали против стяжательства церкви, обличали ее пышную
обрядность, «сребролюбие и славолюбие», произвол, чинимый в
отношении крестьян, работавших в монастырских угодьях. Сами же
нестяжатели призывали к аскетическому образу жизни, который предпо-
1 Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1983. С. 18, 19.
2 Исихазм (от греч. hësychia - покой, безмолвие, отрешенность -
мистическое течение в православии, разработанное Григорием Синаитом (XIV в.) и
Григорием Паламой (XTV в.), с трудами которых Нил познакомился на Афоне. Иси-
хасты обосновывали аскетизм и приемы психофизического самоконтроля,
«очищения сердца» для единения с Богом. По учению Паламы, исихаст в
религиозном экстазе приобщается к Божественному Свету (см.: Хоружий С. С. Исихазм
в Византии и России: исторические связи, антропологические проблемы //
Хоружий С. С. О старом и новом. СПб., 2000. С. 207-260).
18
лагал «рукоделие» - физический труд не только как средство
пропитания, но и способ устранения «лукавых помыслов». Следуя за
идеями исихастов, «заволжский старец» Нил Сорский разработал
учение о «мудровании», которое должно очистить ум от земных
«помыслов». Мистическая религиозность обосновывалась
нестяжателями с помощью логически-рационального анализа познавательной
деятельности человека, начинающейся с «прилога» - случайного
образа обыденной реальности и заканчивающейся «страстью»,
образующей «нрав» человека.
Как и иосифляне, нестяжатели боролись с еретическими
воззрениями. Так, нестяжатель игумен Троице-Сергиева монастыря Артемий
(XVI в.) разработал учение об истинном и ложном разуме, по
которому помимо «разума духовного», соответствующего «божественным
писаниям», существует «суетный разум». На «суетном разуме» зиж-
дятся еретические взгляды и «человеческие науки», способствующие
уклонам в различные ереси. Однако нестяжатели были более
веротерпимы, чем иосифляне. Вассиан, например, считал необходимым
«затворение в темницах» и «ссылку в заточение» еретиков, но был
против смертной их казни. Сами нестяжатели подвергались
преследованиям (только бегство из Соловецкого монастыря в Литву спасло
Артемия от заточения).
Стоглавый собор в 155Ix (при участии Ивана Грозного),
провозгласив неприкосновенность церковного имущества, утвердил
победу иосифлян над нестяжателями.
К нестяжателям примыкал Максим Грек (1470-1556), родом из
Византии, живший в Италии, ставший православным монахом на
Афоне и приглашенный в Москву Василием III в 1518 г. для перевода
и исправления богослужебных книг. В полемическом произведении
«Стязание о известном иноческом жительстве» Максим Грек
остроумно опровергает аргумент «любостяжателя», заявляющего, что
монахи, владеющие монастырскими вотчинами, безгрешны, ибо у них
нет своей собственности, а монастырская земля - их общее
достояние. Нестяжатель сравнивает такой довод с рассуждением человека,
живущего с блудницей: дескать, я безгрешен, так как с этой
блудницей живу не только я один.
Один из образованнейших людей своего времени, Максим Грек
полагал, что «философия без умаления есть вещь весьма почитаемая
и поистине Божественная», поскольку повествует о Боге и
непостижимом его промысле. Философия, «хотя не все постигает»,
восхваляет целомудрие, мудрость и кротость, «всякое иное доброе
украшение нрава как закон полагает, и порядок в обществе наилучший
устанавливает, и, в целом говоря, всякую добродетель и благодать в этой
жизни вводит». Подчеркивая религиозно-христианскую
направленность философского знания, Максим Грек неоднозначно относился к
античному наследию: он не принимал католической схоластики, стре-
19
мившейся опереться на «аристотельские силлогизмы», порицал
иосифлян за мудрствование в духе латинян. Между тем в своих
трудах он нередко обращается к идеям Сократа, Платона, Аристотеля.
Максим Грек разделил судьбу нестяжателей, осужденных
церковными Соборами 1525 и 1531 гг. Его обвинили в «порче» под
видом исправления богослужебных книг и заточили в монастырь. И
только за пять лет до его кончины стараниями Артемия с Максима
Грека были сняты обвинения в ереси и государственной измене. На
Соборе 1988 г. он был причислен к лику святых Русской
православной церковью.
Самоопределение философии и философское образование.
Острая полемика иосифлян и нестяжателей между собой и с еретиками
вынуждала обращаться к доводам разума и различному толкованию
книг Священного Писания, учения отцов церкви. В этих условиях
философия, оставаясь подчиненной богословию, постепенно
обретает относительную самостоятельность.
Андрей Михайлович Курбский (1528-1583) - князь, воевода
Московского царя, вынужденный от Ивана Грозного бежать в Литву,
немало внимания уделял философии. Будучи европейски
образованным человеком, Курбский перевел на русский язык трактаты
«Диалектика» и «Богословие» византийского богослова и философа
Иоанна Дамаскина (VII—VIII вв.), дополнив их своими «сказами» -
обширными пояснениями и рассуждениями. В одном из них он, вслед
за «мудрыми», подразделяет «ум человеческий» на две части. Одна
из них «помышляет о Боге и мечтает о бесплотных силах». Другая -
«делательная» - «связана с чувствами», рассуждает и управляет». В
этом рассуждении русский мыслитель знакомит соотечественников
с тем, что на Западе называли теорией «двух истин» - истины
богословской и истины, связанной с природно-естественным бытием
человека. При этом для Курбского философия - знание о «вещах», о
мире и деятельности человека («эттика»). Оставаясь и за рубежом
горячим защитником православия, Курбский выступает против
смешения богосозерцания с мирским знанием, порожденным
естественным разумом. Он специально обращается к проблемам логики,
рассматривая ее как орудие тех, «кто хочет разуметь философские вещи».
Курбский разрабатывал русскую философскую терминологию.
Особая заслуга Андрея Курбского - создание в 1580 г. училища в
Остроге, где велось обучение языкам, древним и современным
(русскому и польскому), грамматике, поэтике, диалектике, богословию.
По образцу этого училища создавались школы в других городах
Белоруссии и Украины. Митрополит Киевский и Галицкий Петр
Могила, получивший образование во Львовской школе, в 1632 г. создал
в Киеве аналогичное училище, на основе которого возникла
названная в его честь Киево-Могилянская академия, в которой учились
такие мыслители-просветители, как Симеон Полоцкий (1629-1680) и
20
Феофан Прокопович (1681-1736). По инициативе Симеона
Полоцкого в Москве в 1687 г. была образована Эллино-греческая академия,
впоследствии получившая наименование Славяно-греко-латинская
академия, в которой наряду с преподаванием языков изучались, как и
в западноевропейских университетах, «семь свободных искусств», в
том числе грамматика, риторика, диалектика, богословие, а с начала
XVIII в. - физика и философия. Воспитанниками этой академии
стали впоследствии и Михаил Васильевич Ломоносов, и Антиох
Кантемир, вошедшие в историю русской философской мысли.
И в Киеве, и в Москве философия преподавалась в
схоластическом духе, опираясь на авторитет Аристотеля, препарированного в дух
христианского богословия. Схоластическая философия на Руси, как
и в Западной Европе, еще была подчинена богословию и с его
позиций трактовала и критиковала античных мыслителей и
современников, например Декарта. Но немало внимания уделялось логике,
естественно-научным знаниям того времени в области физики и
астрономии. Появляются такие трактаты, как «Великая и предивная
наука» А. X. Белобоцкого, комментарий к произведению схоласта XIII в.
Раймонда Луллия «Великое всеобщее и окончательное искусство» и
«Зерцало естествозрительное» - перевод курса натурфилософии в
духе Аристотеля. ^
Схоластическая философия, при всей ее ограниченности,
способствовала расширению философского диапазона русской мысли,
знакомила ее и с античными философами, и с западноевропейской
средневековой философией, обращала внимание на логические законы
мышления, способствовала самоопределению самой философии как
особой области знания, выделяющейся из богословия.
ЭТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
Этика - традиционная часть философского знания. Поскольку
философская мысль Древней Руси, как и в средневековой Европе, была
тесно связана с богословием и подчинена ему, этические воззрения
русских мыслителей нашли отражение в богословских сочинениях.
Основные этические понятия - добро и зло - определялись в них в
соответствии с Божьей волей, и основные принципы человеческого
поведения выводились из божественных заповедей учения Иисуса
Христа. Иосиф Волоцкий утверждал, вслед за Иоанном Златоустом,
что «не природа вещей, но Божий суд» делает человеческие
поступки «добрыми или дурными». Принадлежащий к другому
религиозному течению, к нестяжателям, Артемий Троицкий, как и
иосифляне, видел в Боге источник добра, тогда как зло, по его учению об
истинном и ложном разуме, возникает из произвольных действий
человека, уклоняющегося от Божьих заповедей.
21
Вместе с тем область человеческих отношений, действий и
поступков столь обширна, как и многообразие людских характеров, что
обсуждение всего этого обретало и самостоятельное значение. Как
гласит Священное Писание, «пути Господни неисповедимы».
Поэтому не так-то просто было соотнести ту или другую правовую норму,
то или иное правило человеческого поведения с волей Господней. В
этой связи появляются различные трактовки одних и тех же
поступков и действий. Так, в «Поучении» Владимира Мономаха говорится
о недопустимости смертной казни: «Ни правого, ни виноватого не
убивайте и не повелевайте убить его... не губите никакой
христианской души». Иосиф Волоцкий же считал, что помилование еретика
«из человеколюбия» будет хуже всякого убийства. Нестяжатели, в
противоположность иосифлянам, при всей своей непримиримости к
еретикам, были против их смертной казни, ибо сам Сын Божий
воплотился для искупления человеческих грехов.
Этические представления на Руси не могли не быть связанными
с теми социальными, общественными отношениями, которые
сложились в древнерусских княжествах. Это отношения князя и его
подданных, взаимоотношение между самими князьями и между
простолюдинами, между старшими и младшими, родителями и детьми,
мужьями и женами. В древнерусской литературе и фольклоре все эти
многообразные взаимоотношения между людьми оцениваются как
праведные или неправедные, справедливые или несправедливые,
честные или бесчестные, добродетельные или пагубные.
Этическая мысль проявлялась в формулировании нравственных
критериев, нравственно-моральных оценок. Такими критериями
морально-нравственных оценок являются, например, наставления
богатым из «Изборника 1076 года». В «Поучении» Владимира
Мономаха также содержатся определенные нравственные установки:
«Малым делом можно получить милость Божию»; «Не давайте сильным
губить человека»; «Гордости не имейте в сердце и в уме»; «Старых
чтите, как отца, а молодых, как братьев»; «Лжи остерегайтесь, и
пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело»; «Добро же творя,
не ленитесь ни на что хорошее». В популярных сборниках
афоризмов, высказываний из Священного Писания, изречений апостолов,
«Внешних мудрецов» - философов, поэтов, ораторов, историков
древности - собрано множество текстов, имеющих
морально-этическое содержание. Например, в знаменитой «Пчеле» имеются
разделы: «О жизненной добродетели и о злобе», «О чистоте и
целомудрии», «О мужестве и о твердости», «О правде», «О братской любви
и о дружбе», «О милостыне», «О благодарности», «О лжи и о
клевете», «О лести», «О почитании родителей», «О пьянстве», «О
трудолюбии» и т. д.
В XVI в. создается ряд произведений морально-назидательного
порядка, в которых видно стремление четко регламентировать жиз-
22
ненный уклад различных слоев общества. К ним относится
«Домострой», обобщающий предшествующую поучительную литературу,
жизненно-бытовой опыт и потребности нового устроения русского
государства. Существовало несколько редакций «Домостроя».
Наиболее известная - сильвестровская, оформленная священником
московского Благовещенского собора Сильвестром в середине XVI в.
В конце XVII - начале XVIII в. Карион Истомин изложил
«Домострой» в стихах.
Сильвестровский «Домострой» назывался книгой, «которая
содержит в себе полезные сведения, поучение и наставление всякому
христианину - и мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам». Вот
наименования некоторых из 64 глав «Домостроя»: «Наставление отца
сыну», «Как детей своих воспитать в поучении и страхе Божьем»,
«Как дочерей воспитать и с приданым замуж выдать», «Как детей
учить и страхом спасать», «Наказ мужу, и жене, и работникам, и
детям, как подобает им жить», «О неправедной жизни». Помимо
морально-педагогических предписаний «Домострой» рекомендовал,
«как порядок в избе навести хорошо и чисто», «как огород и сад
разводить», «как мужу с женою советоваться, что ключнику наказать о
столовом обиходе, о кухне и о пекарне».
«Домострой» - образеы/^гремления к стабильности,
устойчивости существующих социальных отношений. Охранительная
направленность его особенно ярко проявляется в наставлении родителей в
отношении своих детей: «Наказывай детей в юности - успокоят тебя
в старости твоей»; «не жалея бей ребенка: если прутом посечешь
его, не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его
избавляешь от смерти»; «воспитай дитя в запретах и найдешь в нем
покой и благословение»; «и не дай ему воли в юности, но сокруши
ему ребра, пока он растет, и тогда, возмужав, не провинится перед
тобой и не станет тебе досадой, и болезнью души, и разорением дома,
погибелью имущества, и укоризной соседей, и насмешкой врагов, и
пеней властей, и злою досадой»1.
Наряду с тенденцией этических воззрений свести действия и
поступки людей «к одному знаменателю», чтобы «всяк сверчок знал
свой шесток», в древнерусских философско-этических взглядах
проявилась и другая тенденция, притом все более и более углубляясь:
утверждение своеобразия и ценности каждой человеческой
личности. Уже в своем «Поучении» Владимир Мономах восхищается тем,
«как разнообразны человеческие лица», и «если и всех людей
собрать, не у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица, по
Божьей мудрости». Исследователи отмечают личностное начало,
пронизывающее «Моление Даниила Заточника». Анализируя
произведения русской литературы XVII в., Д. С. Лихачев приходит к выводу,
1 Литература Древней Руси: Хрестоматия. М., 1990. С. 327, 328.
23
что в ней осуществилось «открытие ценности человеческой
личности»1. Особенно это выражено в «Житии» протопопа Аввакума (1621—
1682) - замечательном произведении идейного вдохновителя
старообрядчества, написанном им в земляной тюрьме около 1673 г.
В Древней Руси были широко распространены переводы древних
и средневековых текстов, собранных в сборники: «Изборник 1076 года»,
«Пчела», «Физиолог», «Мудрость Менандры», «Изречения Исихия
и Варнавы» и др.
Морально-нравственные принципы, афористически
формулированные, нашли выражение в «Повести временных лет» и других
летописях, в «Поучении» Владимира Мономаха, в «Молении Даниила
Заточника», в разных литературных памятниках, в фольклоре,
пословицах и поговорках. Правда, и здесь нередко русский афоризм
таит в себе инородный источник. Однако тот факт, что Древняя Русь
черпала из сокровищницы мировой мудрости, отбирая необходимое
для себя, превращая чужое в свое и соединяя свою мудрость с
иноплеменной, разве не говорит об общечеловеческом характере
древнерусской этической мысли? И хотя моральные принципы,
утверждаемые русскими мыслителями, основываются по преимуществу на
православии, они вобрали в себя и языческое наследие «стрибожьих
внуков» («Слово о полку Игореве») и мудрость античных философов.
Общечеловеческий характер древнерусской этики сочетался с
выражением исторических особенностей народного быта Руси.
Важнейшей чертой этических воззрений этого времени был патриотизм,
осознание этнической и религиозной общности людей, несмотря на
их социальные различия. Уже Иларион Киевский рассматривал Русь
во всемирно-исторической перспективе. Обостренное чувство
Родины у русских людей формировалось под влиянием противостояния
Руси ее воинственным соседям, опасности потери независимости и
распада в результате междукняжеских усобий. «О Русская земля! Уже
за холмом ты!» - рефрен «Слова о полку Игореве», созданного
гениальным неизвестным автором в конце XII столетия, который
горестно сокрушался, что «в княжеских распрях век людской сокращался».
В «Слове о погибели Русской земли» (написано между 1237 и 1246 гг.)
беда, обрушившаяся на Русь, - монголо-татарское нашествие -
побуждает «землю Русскую» воспринимать как воплощение светлости
и красоты, полного совершенства: «Всем ты преисполнена, земля
Русская, о правоверная вера христианская!»
Лишь после освобождения от чужеземного ига и объединения
русских земель великим князем Московским возникла
историософская концепция, сформулированная игуменом Филофеем: Москва -
Третий Рим. По словам Н. А. Бердяева, «от идеи Третьего Рима идет
1 См.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М.; Л., 1958.
С. 151-161.
24
русское мессианское сознание и проходит через весь XIX век,
достигает своего расцвета у великих русских мыслителей и писателей.
До XX века дошла русская мессианская идея, и тут обнаружилась
трагическая судьба этой идеи»1.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
В «Повести временных лет» рассказывается о том, что великий
князь Владимир, выслушав представителей различных религий,
расхваливавших свою веру, послал «мужей славных и умных», чтобы
посмотреть, как у разных народов совершают церковную службу. И
вот что они поведали князю, боярам и старцам: «Ходили в Болгарию,
смотрели, как они молятся в храме, то есть в мечети, стоят там без
пояса; сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда, как безумный, и
нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон их.
И пришли мы к немцам и видели в храмах их различную службу, но
красоты не видели никакой. И пришли мы в Греческую землю, и
ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали - на небе или на
земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не
знаем, как и рассказать об этом, - знаем мы только, что пребывает
там Бог с людьми, и служащих лучше, чем во всех других странах.
Не можем мы забыть красоты той...» Возможно, что это
повествование - легенда, но сама эта древняя легенда о том, что красота
богослужения была важным доводом для принятия византийского
христианства Киевской Русью, говорит о значении эстетического
миропонимания на Руси.
Слово «красота» происходит от праславянского слова «краса».
Прилагательное «красный» в праславянском и древнерусском
языках имело значение «красивый», «прекрасный», «светлый» (отсюда,
например, «красная площадь», «красна девица»), а не обозначало
красный цвет (он назывался словами с корнем «чьрв», как ныне в
украинском «червоный»). Слово «красный» стало наименованием для
красного цвета лишь во время образования национального
великорусского языка, возможно благодаря эстетическим свойствам
красного цвета. Помимо слов «краса», «красота» для обозначения
отношения к красивому и прекрасному в старославянском и
древнерусском языках использовались слова «лепый», «лепота» (и сейчас мы
говорим «великолепный», а в качестве отрицания - «нелепый»).
В Древней Руси красота мыслится как существенное свойство
различных явлений. В «Изборнике 1076 года» «красота» - и «воину
оружие и кораблю - паруса». Для Илариона красотою наделяется
1 Бердяев К А. Миросозерцание Достоевского // Н. А. Бердяев о русской
философии. Ч. 1. Свердловск, 1991. С. 121.
25
истина и киевский храм Святой Софии. Для автора «Слова о
погибели Русской земли» красота многообразна. Она и в реках, горах,
холмах, дубравах, и мире зверей и птиц. Она и в созданных
человеческими руками колодцах, полях, виноградниках, городах, селах,
церквах. Она и в тех людях, которые в те времена олицетворяли силу и
честь - «князьях грозных», «боярах честных». Она не только в
чувственно-зримом, но и в духовном - правоверной вере христианской.
Она в самом многообразии всего: «О, светло светлая и прекрасно
украшенная, земля Русская! Многими красотами прославлена ты.. .»1
Эстетическое сознание XI-XVI вв. на Руси было сплетено с
другими ценностными мироотношениями: утилитарно-практическим,
морально-нравственным, духовно-религиозным. Не случайно
синонимом слов «красота», «красивое» были слова «пригожий»,
«пригожество», имеющие тот же корень, что и слова «годный»,
«пригодный». Это показывает первоначальную связь красоты с полезностью,
пригодностью. В «Молении Даниила Заточника» говорилось, что
«сердце умного укрепляется в теле его красотою и мудростью». Для
Кирилла Туровского высшая красота - духовная, имеющая и
мыслительно-познавательный, и религиозный, и морально-нравственный
смысл. Этрт синкретический (синкретизм - слитность,
нерасчлененность) характер древнерусского эстетического^сознания проявлялся
в фольклоре, памятниках письменности, в обычаях, обрядах, в
архитектуре храмов, декоративном и прикладном искусстве, в
своеобразии иконописи. В знаменитых древнерусских иконах религиозное их
значение сливалось с эстетическим. Эти иконы, по замечательному
определению Е. Н. Трубецкого, представляли собой «умозрение в
красках»2.
По мере развития древнерусской культуры ее эстетическая
сторона обретает все большую самостоятельность. Показателен такой
факт. Одно из замечательнейших произведений русской
архитектуры Покровский собор (также именуемый храмом Василия
Блаженного) на Красной площади в Москве был построен зодчими Бармой
и Посником в 1555-1560 гг. в ознаменование взятия Казани (штурм
Казани был завершен в день праздника Покрова - отсюда и название
собора «Покровский»). Архитекторы должны были построить храм
из восьми церквей, посвященных восьми святым, дни почитания
которых были во время боев за Казань. Но зодчие построили девять
церквей. Почему? Летописец пишет, что они это сделали «не яко по-
велено было, но яко... разум даровался им в размерении основания».
Иначе говоря, девятая церковь, прозванная «безимянитой», была
добавлена из соображений не культово-религиозных, а архитектурно-
эстетических.
1 Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М, 1981. С. 131.
2 См.: Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в
древнерусской религиозной живописи. М., 1916 (М, 1990).
26
И еще один показательный пример. Андрея Рублева по праву
считают гениальным русским живописцем. Его «Троица» дала
основание выдающемуся русскому религиозному философу и ученому
П. А. Флоренскому выдвинуть своего рода эстетический аргумент
для доказательства существования Бога: «Есть Троица Рублева,
следовательно, есть Бог»1. Флоренский имел возможность видеть
икону-картину Рублева во всей ее живописной красе. Нам даже нельзя
представить, что этот величайший шедевр древнерусской живописи
до начала XX в. никто не видел со времен Ивана Грозного, который
заказал оклад для «Троицы», смененный в 1600 г. на золотой оклад с
драгоценными камнями, выполненный по повелению Бориса
Годунова. Спору нет, сам этот оклад обладал
художественно-эстетической ценностью как произведение декоративно-прикладного
искусства. Но он закрывал рублевскую живопись! Более того, как
обнаружилось в 1904 г., когда была снята золотая риза, эта живопись была
записана позднейшими иконописцами, и потребовался огромный труд
реставраторов, чтобы возродить краски Рублева.
О чем свидетельствует этот факт? Для самого Андрея Рублева,
жившего со второй половины XIV в. до 1427 или 1430 г., живопись
была еще не отдельна от ее религиозно-символического значения.
Но в середине XVI столетия<!Уже не было совпадения между
религиозной ценностью и эстетической. Различия между ними лежали в
основе споров иконопочитателей с иконоборцами в XV-XVI вв.
Обособление и развитие эстетического сознания было причиной
перелома в русской иконописи с XVI в. и вместе с тем в самой эстетической
мысли.
В древнерусских эстетических воззрениях первоначально
преобладало богословское понимание красоты как красоты
Божественного первообраза. По Нилу Сорскому, красота «мира сего» является
преходящей, превращающейся в «красоту безобразну». Старец Артемий
усматривал три уровня красоты: «тленная красота», душевная
красота (красота праведности) и «безвещественная», духовная красота.
Однако уже Симеон Полоцкий (1629-1680) считал «красоту плоти»
наградой за «красоту душевную». Для XVII в. характерно
понимание красоты как проявления «внутреннего стройства».
В XVII в., переломном в развитии русской культуры от
Средневековья к Новому времени, происходит дальнейшее движение
эстетической мысли. Возникают новые виды и формы эстетико-художе-
ственной деятельности: распространение книжной словесности,
риторики, «стихотворчества», появление первого русского театра,
эстетизация придворного церемониала, новая система многоголосия в
музыке и переход на новую систему нотной записи. Иконопись ста-
1 Флоренский П. А. Иконостас: Избранные труды по искусству. СПб., 1993.
С. 48.
27
новится более «живоподобной», и происходит становление самой
живописи, не связанной с иконописанием. Развитие эстетической
мысли стимулируется дискуссиями о соотношении небесной
красоты («лепоты») и красоты «плотской», о принципах иконописного
изображения.
Мятежный протопоп Аввакум отстаивал понятие абсолютной
Божественной красоты и был решительным противником внешней
красоты и украшений в искусстве, был против писания икон «по
плотскому умыслу», наподобие образов зарубежных художников. Вот как
Аввакум карикатурно описывает облик Христа у современных ему
иконописцев: «Лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые,
руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедры тол-
стыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли той при
бедре не писано»1.
В противоположность таким старообрядческим эстетическим
установкам Симеон Полоцкий включал и «красоту плоти», и «красоту
любви в душе» в духовное совершенство человека. Возражая
старообрядцам и эстетически консервативным сторонникам церковной
реформы (сам патриарх Никон, проводивший эту реформу, был
сторонник традиционного иконописания), Симеон Полоцкий и сами
художники Иосиф Владимиров и Симон Ушаков считали задачей
искусства создавать предметы4ши «подобие всякого человека», в том
числе и «вочеловечившегося Христа и мучения святых», учитывая
индивидуальность. «Весь ли род человеческий на одно лицо создан?
Все ли святые были одинаково смуглы и худы?» - риторически
вопрошал Иосиф Владимиров2. Он выступал против «плохописания» за
«искусное мастерство живописцев», за учет опыта искусства
иноземцев.
В XVII в. помимо теории живописи разрабатываются теории
словесного искусства и музыки. В трактате Николая Спафария (1636-
1708, уроженца Молдавии, жившего и работавшего в России с 1671 г.
в качестве переводчика Посольского приказа) «Книга избраная
вкратце о девятих мусах и о седмих свободных художествах» (1672)
предпринята попытка представить различные виды искусства в их
взаимосвязи, определить место «свободных художеств» среди других
знаний3.
1 Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его
сочинения. Иркутск, 1979. С. 89.
2 Владимиров Иосиф. Трактат об искусстве // Мастера искусства об
искусстве. М, 1969. Т. 6. С. 36.
3См.: Спафарий Николай. Эстетические трактаты. Л., 1978. Эстетические
воззрения мыслителей Древней Руси наиболее полно изложены в книге В. В.
Бычкова «Русская средневековая эстетика» (М., 1995).
II
ФИЛОСОФИЯ В «ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(XVIII в.)
«ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ» В РОССИИ
XVIII век в Европе именуют «веком Просвещения». Немецкий
философ Иммануил Кант, отвечая на вопрос «Что такое
просвещение?», в качестве главного условия просвещения назвал свободу «во
всех случаях публично пользоваться собственным разумом»1.
Просветительское движение в Европе было многообразным,
различным в различных странах, да и в каждой стране оно менялось на
протяжении XVIII столетия. В Англии, например, оно было
следствием революционных событий предыдущего века. Во Франции
Просвещение завершилось революцией. В Германии оно было
сопряжено с революцией духовной, особенно в области философской
мысли. Но каким бы образом ни развивалось просветительство, его
общей чертой было стремление к свободе во всех областях жизни
общества.
«Век Просвещения» в России несомненно во многом был
связан с петровскими преобразованиями. Петр Великий «уздой
железной Россию поднял на дыбы» (Пушкин), стремясь приобщить ее к
европейской цивилизации, науке и культуре и на этом основании
утвердить могущество государства Российского. Но,
спрашивается, причем здесь свобода? Разве радикальные преобразования в
стране царь не осуществлял «уздой железной»? Разве наследники
власти Петра не укрепляли самодержавный строй, играя роль
«просвещенного монарха», «философа на троне», как Екатерина II -
корреспондентка великих французских просветителей Вольтера и
Дидро? Разве эта просвещенная императрица не учинила расправу над
Радищевым, воспевшим свободу, не заточила просветителя Н. И.
Новикова в Шлиссельбургскую крепость?
«Если задать вопрос, - заметил Кант, - живем ли мы теперь в
просвещенный век, то ответ будет: нет, но мы живем в век
просвещения»2. Разумеется, в России не было свободы для крепостного
крестьянства, и форточка в «окне в Европу» была наглухо закрыта,
когда в нем замаячили призраки революции. И в самой Франции
1 Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 29.
2 Там же. С. 33.
29
революция не принесла желанную свободу, заменив королевскую
власть на диктатуру якобинцев. В Германии «век Просвещения» был
«веком Фридриха» - «просвещенного монарха», прусского короля,
покровительствовавшего Вольтеру, но правившему по принципу:
«Рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, но повинуйтесь\»х
И тем не менее именно осознание необходимости свободы было
лейтмотивом просветительского движения. Один из деятелей
английского Просвещения А. Шефтсбери писал: «Мы живем в век,
когда свобода вновь поднимает голову»2. И чем сильней был гнет,
тем была сильней потребность в свободе.
Эта черта «века Просвещения» по-своему проявилась и в
России. Петр I, учреждая Академию наук, провозгласил в ее
Регламенте (1725 г.), что «науки никакого принуждения и насилия терпеть не
могут, любящие свободу». Для М. В. Ломоносова теория
двойственной истины была средством оградить науку от вмешательства
богословия, которое стремилось подчинить себе всякое знание. «Не
здраво рассудителен математик, - писал ученый, - ежели он хочет
божескую волю вымерять циркулом. Таков же и богословия учитель,
если он думает, что по псалтире научиться можно астрономии или
химии»3. В XVIII в. осознание абсолютной ценности свободы было
ярко выражено не только в творчестве А. Н. 'Радищева,
восславившего ее в оде «Вольность» и в-«Путешествии из Петербурга в
Москву», но и в сочинениях философа Григория Сковороды, писавшего
о свободе:
Что за волность? Добро в ней какое?
Ины говорят, будто золотое.
Ах, не златое, если сравнить злато,
Против волности еще оно благо4.
Идеи свободы Сковорода стремился обосновать в своей
философии, будучи «свободным церковным мыслителем»5, как его называл
В. В. Зеньковский.
Своеобразием начала века Просвещения в России было то, что
его сторонники самого царя называли первым просветителем. Так,
В. Н. Татищев заявлял, что «Петр Великий открыл своему народу
путь к просвещению». Зачинателями просветительского движения
стали государственные деятели, ученые, писатели, образовавшие
«ученую дружину» Петра I.
1 Кант И. Соч. Т. 6. С. 29.
2 Шефтсбери А. Эстетические опыты. М., 1975. С. 374.
3 Ломоносов M\ В. Избр. филос. произв. М., 1950. С. 357.
4 Сковорода Г. С. Избранное. М., 1972. С. 84.
5 Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Л., 1990. Т. 1.4. 1.
С. 69.
30
ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
«УЧЕНОЙ ДРУЖИНЫ» ПЕТРА I
Философские вопросы занимают заметное место в трудах таких
представителей «ученой дружины», как В. Н. Татищев и А. Д.
Кантемир, а также в сочинениях главы «дружины» - Феофана Прокопови-
ча (1681-1736). Многие исследователи истории русской мысли
признают, что в XVIII в. «дружина» начинает обретать светский (вне-
церковный) характер. Казалось бы, этому положению противоречит
фигура Феофана Прокоповича, который был псковским епископом, а
в 1721 г. стал вице-президентом Святейшего Синода. Однако, будучи
церковным деятелем, Феофан Прокопович, вероятно, больше других
способствовал подчинению православной церкви в России царской
власти. По его словам, духовенство не должно быть государством в
государстве.
Феофан Прокопович после окончания Киево-Могилянской
коллегии обучался в иезуитских школах Львова и Кракова и в римском
католическом коллегиуме Св. Афанасия. Затем он возвращается в
качестве профессора в Киево-Могилянскую коллегию, где им был
прочитан в 1707-1709 гг. первый курс лекций по философии. В 1709 г.
в Киеве Прокопович встретился с Петром I и был затем переведен в
столицу для проведения церковной реформы. Деятельность вице-
президента Синода не ограничивалась церковными делами. Он
участвовал в учреждении учебных заведений и Академии наук,
занимался библиотеками и типографиями, писал учебные пособия и
исторические труды, выступал с речами и проповедями, даже писал
стихи.
Российской церкви столп, совета мудрый муж,
Философ, богослов, историк, пастырь душ -
так характеризовал Феофана Прокоповича Г. Р. Державин.
Феофан Прокопович подверг критике догматическое
богословие, слепую веру в тексты Священного Писания, допускал
аллегорическое их толкование, стремился согласовать их с новыми
естественно-научными открытиями и достижениями, в частности с
учением Н. Коперника.
Богословие Феофана Прокоповича, отличавшееся от
догматического богословия православной церкви, не препятствовало ему быть
почитателем «науки философии новой». Он знал не только
античных философов, но и Декарта и Лейбница, полемизировал с
Ньютоном по вопросу о существовании пустоты. Бог, считал русский
богослов, не мог сотворить пустоту, так как она есть «ничто». Однако Бог
«законы свои, единожды утвержденные, никак не отменяет».
Поэтому изучение законов природы является делом богоугодным. Феофан
Прокопович сам занимался астрономическими наблюдениями и ма-
31
тематикой. Обосновывая необходимость усиления царской власти,
он только ссылается на церковные традиции («нет власти, не идущей
от Бога»), но и часто обращается к так называемому естественному
праву («кроме Писания, есть в самом естестве закон от Бога
положенный»). В силу этого закона даже «пчелы, малые и бессловесные
мухи имеют царя».
Василий Никитич Татищев (1686-1750) был выдающимся
мыслителем «ученой дружины», государственным и общественным
деятелем. Помимо практической деятельности в качестве артиллериста,
управляющего железноделательными заводами в Сибири,
дипломата, астраханского губернатора Татищев много сил отдавал
различным отраслям знаний. Он - автор «Истории Российской с самых
древнейших времен», трудов по истории русского права, географии,
экономике. И вместе с тем по характеристике А. С. Пушкина, «Татищев
жил совершенным философом и имел особенный образ мыслей»1.
Собственно философские взгляды В. Н. Татищева выражены
главным образом в своеобразной энциклопедии - «Разговоре двух
приятелей о пользе науки и училищах» (1733) и в завещательном письме
к своему сыну («Духовная»), написанном в 1734 г.
В отличие от своего сподвижника Феофана Прокоповича
воззрения Татищева носили светский характер, хотя он, как известно, был
верующим человеком, считал душу бессмертной, поскольку она, в
отличие от тела, «нераздельна». Правда, в «Духовной» он писал, что
«от несмысленных и безрассудных, не ведущих божиего закона», «не
токмо за еретика, но и за безбожника почитан и немало невинного
поношения и бед претерпел»2. Но это, вероятно, было вызвано
веротерпимостью Татищева. Полагая, что «добрые законы» в государстве
должны препятствовать религиозным распрям, Татищев отмечал в
«Разговоре»: «Да и распри такие ни от кого более, как от попов для
их корыстей, а к тому от суеверных ханжей или несмысленных на-
божников происходят. Между же людьми умными произойти не
могут, понеже умному до веры другого ничто касается и ему равно Лютер
ли, Кальвин ли, папист, анабабтист, магометанин или язычник с ним
в одном городе живет или с ним торгуется. Ибо не смотрит на веру,
но смотрит на его товар, на его поступки и нрав и потому с ним
обхождение имеет...»3
К отношению «филозофии» и богословия Татищев подходит
исторически. В античной древности философия включала в себя и
богословие, и другие области знания, и даже магию. Ныне же
«богословия почитается от филозофии за особливую науку». Если
богословие обращено к «душевному», то философия имеет своим
1 Пушкин А. С. Собр. соч.: В Ют. М., 1981. Т. 6. С. 381.
2 Татищев В. К Избр. произв. Л., 1979. С. 137.
3 Там же. С. 87.
32
предметом «телесное», точнее, связь душевного с телесным, ибо
«душа с телом толико связаны, что от повреждения телесных
членов повреждаются и силы ума». Богословие направлено на
«будущее и вечное», на познание Творца, хотя, замечает автор
«Разговора», «что же свойств или обстоятельств божиих касается, то наш ум
не в состоянии о том внятно разуметь, да и нужды нет, ибо
довольно, что я знаю и верю его быть всех вещей творца...»'.Философия
же и науки связаны со сферой действия естественных законов. И
Татищев решительно протестует против вмешательства
религиозных деятелей в вопросы науки, вспоминая и отрицание
католической церковью учения Коперника, и порицание Декарта за критику
им схоластики, и хулу на Пуфендорфа «за изъяснение
естественного права». По мнению Татищева, «наука главная есть, чтоб человек
мог себя познать», а познать - значит выявить, что человеку
«полезно и нужно и что вредно и непотребно»2.
Принцип общественной полезности лежит в основе
классификации наук, предложенной Татищевым и названной им «моральной».
Науки им разделяются на: «1) нуждные, 2) полезные, 3) щегольские,
или увеселяющие, 4) любопытные, или тщетные, 5) вредительные».
К «нуждным» наукам он относит «речение» (язык), «домоводство»,
или экономию, медицину, «нравоучение» и «законоучение», логику
и богословие. Последнее необходимо для «спокойности души», для
постижения воли Божьей, "выраженной в данных им законах.
«Полезные» науки - грамматика, необходимая для того, чтобы научиться
правильно говорить и писать, красноречие, или риторика,
«инородные языки», математика, механика, архитектура, история, география,
ботаника, анатомия, физика, химия. Если «нуждные» науки нужны
всем людям, то «полезные» - прежде всего специалистам в той или
иной области знания. «Щегольские» «науки» - это то, что сейчас
называется искусством, - поэзия, музыка, «танцование», живопись, а
также «вольтежирование, или на лошадь садиться». «Науки
любопытные и тщетные» - астрология, физиогномия, хиромантия,
алхимия, которые «обманывают и в беспутные страхи и надежды
приводят». «Науки» «вредительные» - всякого рода колдовство, гадания,
заговоры, «чернокнижество» и пр. - «в беспутстве время тратят и
других обманывают». За это «сии науки или зломудрия» «телесное
наказание неизбежно должны» понести, ибо таким образом Петр
Великий у обманщиков, к которым причастны и «сребролюбивые
церковники», «бесов повыгнал»3.
История - предмет особого интереса Татищева: 30 лет он
изучал историю российскую, основываясь на летописях и документах,
многие из которых лично собрал. Татищев стремился постигнуть
1 Татищев В. Н. Избр. произв. С. 73.
2 Там же. С. 76.
3 Там же. С. 94.
2-99
33
причинную связь событий: «причины же всякому приключению»,
он полагал, могут проистекать как от Бога, так и «от человека». В
своей историософии Татищев исходил из деления мира на три
состояния, соответствующие развитию человека: «младенчество»,
«юность», «мужественность». «Младенчество» человечества
совершалось «до обретения письма и закона Моисеева». «Обретение
письма» - первое просвещение ума. Следующий рубеж - «пришествие
и учение Христово». Третий этап человечества - «обретение
тиснения книг», т. е. книгопечатание1. Двигатель исторического
процесса - «всемирное умопросвещение». Конкретное же
государственное устройство народа зависит, по мнению Татищева, и от
географического положения страны, и от роста народонаселения, от уровня
просвещения и нравственного развития. Татищев был сторонником
«естественного права», из которого выводил необходимость
просвещенного абсолютизма.
Хотя основные труды Татищева были опубликованы после его
смерти, они в рукописи уже были известны современникам,
особенно его соратникам в деле петровских преобразований.
Яркой фигурой в составе «ученой дружины» был Антиох
Дмитриевич Кантемир (1708-1744) - сын молдавского господаря и
ученого-историка, философа, писателя Дмитрия* Кантемира,
перешедшего в 1711 г. на сторону Петра I. Блестяще образованный Антиох
Кантемир проявил себя и как острый сатирик, и как талантливый
дипломат (он был российским послом в Англии и во Франции).
Высмеивая невежество, суеверия, поэт-сатирик воодушевлялся
идеалами Просвещения, убеждениями в высокое предназначение
человеческого разума и научных знаний. Кантемир был в дружеских
отношениях с французским просветителем Монтескье, переводил его
«Персидские письма», переписывался с Вольтером, но его
политические воззрения не совпадали со взглядами французских
просветителей, поскольку российский посол как сторонник абсолютизма был
убежден, что интересы государя и народа должны идти рука об руку.
Собственно философские взгляды Кантемира изложены в его
обширных комментариях к своему переводу книги Фонтенеля
«Разговоры о множестве миров», в которой картина мира рисовалась с
точки зрения учения Коперника. Как переводчик Кантемир
столкнулся с тем, что в русском языке не были выработаны многие
философские термины, и он пытается перевести и объяснить такие
понятия, как «философия», «идея», «элемент», «система», «материя».
Он ввел в русский язык философские понятия «объект» и «субъект».
Потребность в разработке философской терминологии на русском
языке осознавал уже Татищев, но заслуга в этом отношении
Кантемира несомненна. При этом нельзя забывать условия, в которых про-
1 Татищев В. Н. Избр. произв. С. 70.
34
текала творческая деятельность Кантемира. «Бедный Кантемир! -
отмечает Г. В. Плеханов. - Ему приходилось доводить до сведения
своих читателей не только то, что значит слово система или слово
материя, но также и то, что Париж - столица Франции...»1.
«Философию» Кантемир определял как «любомудрие» и
подразделял на «логику», «нравоучение» («ифика» - этика), «фисику» и
«метафисику». Логика «учит право о вещах рассуждать и известные
истины другому правильно доказывать». «Нравоучение», или этика,
«учит добрым нравам, т. е. дает знать худые и добрые дела и
представляет правила, по которым доставать себе добродетели и
отбегать злонравий». «Фисика» «учит познавать причину и
обстоятельства всех естественных действ и вещей». «Метафисика» «дает нам
знание сущего в обществе и о сущих бесплотных, каковы суть душа,
духи и Бог».
Специально философским размышлениям посвящены «Письма
о природе и человеке» Кантемира, написанные в последние годы
жизни мыслителя и опубликованные в книге «Сочинения, письма и
избранные переводы князя Антиоха Дмитриевича Кантемира»,
изданной в Петербурге в 1867 и 1868 гг.
Каковы же по сути философские взгляды Антиоха Кантемира? В
примечаниях к переводу книги Фонтенеля он критикует Пифагора за
склонность «к суеверию волшебства», «к некоей непонятной
арифметической чисел силе», которой приписывал «причину многих
действ естественных». Высоко ценя Аристотеля, Кантемир упрекал
его за то, что греческий философ объявлял «сокровенною силою» те
причины, которые не в состоянии был «уразуметь». Русскому
мыслителю больше всего импонировали научные методы Декарта и
Ньютона, которые употребляли математические доказательства,
стремились к ясности и честно признавались в том, чего они не знают. Как
видим, Кантемир был сторонником рационалистической философии,
провозглашающей приоритет разума. Рационализм стал и
мировоззренческой основой классицизма, одним из зачинателей которого в
России был мыслитель и поэт-сатирик Кантемир.
Миропонимание Кантемира во многом близко декартовскому.
Декарт был дуалистом, признававшим существование двух
независимых друг от друга субстанций - материальной и духовной, которые
объединяет Бог. Кантемир также был убежден в том, что сама по себе
«материя не может думать». «Натура души моей совсем отменна от
тела», - писал Кантемир. Как и Декарт, он противопоставляет
«фисику» - учение о естественных действиях и вещах - и «метафисику» -
учение о душе, духе и Боге. В «Письмах о природе и человеке»
Кантемир стремится доказать существование Бога и «Божественной
1 Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. Кн. II. М; Л., 1925.
С 85.
2*
35
премудрости». Эти доказательства, правда, не являются
оригинальными. Понятие о Боге считает автор «Писем» врожденным
человеку; Бог существует, ибо только он соединяет в человеке два
«естества», две природы - тело и душу. Кантемир - сторонник учения о
свободе воли. «Я в моей воле свободен», - писал он. Свобода воли
человека - основание для нравственной оценки его действий,
«основание достоинства и недостоинства». Обладая свободой воли,
человек несет ответственность за свои поступки и соответственно
заслуживает хулу или хвалу, наказания или награды. «Сие есть, -
считает он, - истинное основание прямого порядка и наставления во
нравах и нашей жизни».
М. В. Ломоносов и становление светской философии
Посев, осуществленный петровскими реформами и его «ученой
дружиной», дал свои плоды к середине XVIII в. В 1755 г. был открыт
Московский университет, который по праву носит имя М. В.
Ломоносова - инициатора его создания. «Ломоносов, - писал А. С.
Пушкин, - был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он
один является самобытным сподвижником пррсвещения. Он создал
первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим
университетом»1. Ломоносов был не только великим ученым, он был
поэтом и художником, историком, языковедом, теоретиком поэзии,
организатором науки и просвещения и во всех областях своей
творческой деятельности достиг выдающихся результатов. Он -
преобразователь русского стихотворного языка. Он же - гениальный ученый,
сформулировавший закон сохранения материи (вещества) и
движения, разработавший теорию теплоты, кинетическую теорию газов,
сделавший и ряд других научных открытий, которые его
современники не сумели должным образом оценить.
0 Ломоносове правомерно говорить и как о философе. Он не
писал специально философских трактатов, но, занимаясь наукой,
глубоко осознавал необходимость единства практики и теории,
притом теории, возвышающейся до философских обобщений. Так,
в работе «Элементы математической химии» (1741), говоря о том,
что «истинный химик должен быть теоретиком и практиком»,
Ломоносов отмечает, что химик «должен уметь доказывать
познанное, т. е. давать ему объяснение, что предполагает философское
познание». Он утверждает, что «теоретическая часть химии и
состоит в философском познании изменений смешанного тела», а
«химик-теоретик есть тот, кто обладает философским познанием
изменений, происходящих в смешанном теле». Во всех областях
знания, которыми занимался Ломоносов, он стремился от «надеж-
1 Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 6. С. 186.
36
ных и много раз повторенных опытов» идти к «мысленным
рассуждениям», возвышающимся до философского познания.
Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) был сыном
крестьянина-помора. В детстве проявив необычайные способности и тягу к
знаниям, пытливый юноша добрался до Москвы и поступил в 1730 г.
в Славяно-греко-латинскую академию. Учился он также в Киевской
духовной академии и в университете при Петербургской Академии
наук. В 1736 г. он был послан в Германию, где в Марбургском
университете его руководителем был ученый-естествоиспытатель и
философ Христиан Вольф. В 1741 г. Ломоносов возвращается на
родину и до конца своих дней занимается научной, просветительской и
художественной деятельностью.
X. Вольф, лекции которого по физике, математике, логике и
другим естественно-научным дисциплинам три года слушал
Ломоносов, был ученым-энциклопедистом, последователем и
систематизатором учения великого немецкого философа и математика
Лейбница. По рекомендации Лейбница Петр I пользовался
советами Вольфа при создании Петербургской Академии наук, в
которой он стал первым почетным членом. В России труды Вольфа и
его последователей по физике, математике, философии были
широко распространены и оказывали воздействие на становящуюся
науку и философские воззрения. Ломоносов в 1746 г. издал в
собственном переводе «Вольфианскую экспериментальную физику»
с рядом своих прибавлений. Он с глубоким уважением относился
к своему учителю, особенно ценя его способность «внятного и
порядочного расположения мыслей», хотя далеко не всегда
разделял его взгляды. В «Предисловии» к этому изданию Ломоносов
отмечает заслугу Декарта в критике схоластической философии,
в том, что он «открыл дорогу к вольному философствованию и к
вящему наук приращению». Русский ученый высоко оценивает
труды Лейбница, Локка, Кеплера, Галилея, Ньютона. Вместе с тем
он убежден,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
Какая же картина мира рисуется Ломоносовым? Он, как и
некоторые его предшественники, придерживается концепции так
называемой двойственной истины, по которой «знание натуры, какое бы
оно имя ни имело, христианскому закону не противно; и кто натуру
исследовать тщится, бога знает и почитает...» Бог, по его словам, -
«непостижимый всего бытия строитель», мир - свидетельство его
«всемогущества, величества и премудрости». Но, как любил
повторять Ломоносов, «природа крепко держится своих законов и всюду
одинакова».
37
Отдавая Богу Богово, не посягая на богословие, ученый
отвергает чудеса, иронизирует над теми, кто думает, «что по псалтире
научиться можно астрономии или химии», высмеивает тех философов,
которые, «выучась наизусть три слова: «Бог так сотворил»,
произносят их «в ответ вместо всех причин»1.
Как ученый-естествоиспытатель Ломоносов особое внимание
уделял тому, что он называл «корпускулярной философией», т. е. учению
об атомном строении материи (корпускула - частица); он полагал, что
«физически тела разделяются на мельчайшие части, в отдельности
ускользающие от чувства зрения». Это учение не было простым
возрождением античного атомизма; к «корпускулярной философии»
естествознание пришло экспериментально-опытным путем, притом далеко не
сразу. Ломоносов стоял у истоков современного атомно-молекулярно-
го научного миропонимания. Предшественником его в этом
отношении был «великий Невтон» (Ньютон), хотя конкретное понимание
атомного строения вещества у них было различным: Ломоносов не
признавал существование пустого пространства; по его мнению, оно
заполнено тончайшим и легко подвижным телом - эфиром. Гипотеза эфира
была впоследствии отвергнута наукой.
«Материя, - по определению Ломоносова, - есть то, из чего
состоит тело и от чего зависит его сущность». ЙГритом «все, что есть и
происходит в телах, обусловливается сущностью и природою их»2. В
заметках по физике и корпускулярной философии русский
мыслитель, как и Аристотель, считает, что «тела состоят из материи и
формы», но он, в противоположность античному философу, полагает, что
форма зависит от материи. Это несомненно свидетельствует о
материалистической направленности его «корпускулярной философии».
Но философские воззрения Ломоносова нельзя трактовать как
последовательно материалистические. Он был убежден в том, что
«метод философствования, опирающийся на атомы», не только не
отвергает Бога-Творца, но предполагает существование «всемогущего
двигателя». В стихотворении «Утреннее размышление о Божьем
величии» Ломоносов писал, что
.. .всякая взывает плоть:
Велик зиждитель наш Господь!
В своих эстетических высказываниях Ломоносов провозглашал
многообразие красоты мира. Эта красота космоса, которую
выразили его замечательные стихотворные строки:
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
1 Ломоносов М. В. Избр. филос. произв. С. 397.
2 Там же. С. 98, 99.
38
Это и красота природы - «роскошь преизобилующия натуры». И
плоды человеческого труда. И красота просвещенного
человеческого разума. И красота российского языка. И красота произведений
различных «художеств», в том числе «свободных искусств» -
литературы, живописи, скульптуры, архитектуры. Но все эти красоты имеют
своим источником, по его словам, «создателеву бесконечную
премудрость и силу»1.
В Собрании сочинений Ломоносова до начала 60-х гг.
прошлого столетия печаталась работа «О качествах стихотворца
рассуждение». Но как показали исследования, ее действительным автором
был Григорий Николаевич Теплое (1717-1779). Это имя сейчас мало
кому известно. Но согласитесь, уже сам факт приписывания
всемирно признанному ученому произведения Г. Н. Теплова
свидетельствует о незаурядных его интеллектуальных способностях. Теплов,
сын истопника, ученик Феофана Прокоповича, был почетным
членом Петербургской Академии наук, Академии художеств,
Мадридской академии.
Г. Н. Теплов - сторонник философии X. Вольфа, лекции которого
он слушал в Германии. Он - автор изданной в 1751 г. книги «Знания,
касающиеся вообще до философии для пользы тех, которые о сей
материи чужестранных книг читать не могут». В этом трактате
Теплов, вслед за Вольфом, пофазделяет человеческое познание на три
вида: «историческое», которое «помощью чувств получается;
«математическое», изучающее количество, силы и причины;
«философское», логически постигающее бесконечное множество вещей.
«Философия, - писал он, - наука такая, по которой через разум наш и
заключения от известных вещей познаем неизвестных»2.
Философское познание трактуется Тепловым довольно широко:
«Во всякой не только науке, но и во всяком художестве надобно,
чтобы были свои причины, и надобно, чтобы оные через
философствование открывалися»3. Но наряду с таким общим осмыслением
«философствования» Теплов выделяет философию как особую отрасль
знания - как «познание вообще философии». «Наука философская»
подразделяется им на «теоретическую» и «практическую»,
включающую в себя «философию моральную».
Заслугой Теплова является выделение особого вида
философствования, названного им «философией стихотворческой», которая
занимается теорией художественного творчества и имеет своим
предметом «поэтические искусства» (помимо литературы он относил к
ним также живопись и скульптуру).
1 Ломоносов M В. Избр. филос. произв. С. 165.
2 Русская философия второй половины XVIII века: Хрестоматия. Свердловск,
1990. С. 214.
3 Там же. С. 219.
39
В середине XVIII в. в европейской просветительской мысли
формируется специальная философская дисциплина, которая
акцентирует внимание на понимании красоты и художественного творчества.
А. Г. Баумгартен, принадлежавший к лейбницианско-вольфианскому
направлению немецкой философии, эту дисциплину назвал
«эстетикой». Таким образом, «крестный отец» эстетики Баумгартен и
русский вольфианец Теплов, можно сказать, почти одновременно
пришли к идее выделения особой отрасли философского знания,
посвященной художественному творчеству и прекрасному. Термин
«эстетика» стал употребляться в России с 80-х гг. XVIII столетия.
Как зачинатель «философии стихотворческой» Теплов внес
заметный вклад в русскую эстетическую мысль XVIII в. В 1755 г.
кроме сочинения «О качествах стихотворца рассуждение», которое
ошибочно приписывалось Ломоносову, он опубликовал и «Рассуждения
о начале стихотворства». Ему же принадлежит «Письмо об
искусстве», в котором рассматривается соотношение живописи, ораторского
искусства и поэзии. Убежденный в необходимости
«философствования» не только« науке, «но и во всяком художестве», Теплов
подчеркивал значение разума и для деятельности живрписца и поэта.
Признавая важность «природного таланта» стихотворца, который
благодаря таланту «часто сам выше своего разума возвышается», он в то
же время полагал, что «совершенный стихотворец» должен «иметь
довольное понятие» обо всех науках. Таким образом,
художественный способ миропонимания, по Теплову, призван соединить
познание историческое (чувственный опыт) и познание философское,
опирающееся на логику.
26 апреля 1755 г. в день открытия Московского университета
ученик М. В. Ломоносова Николай Никитич Поповский (1726 или
1730-1760) начал курс лекций по философии речью «О содержании,
важности и круге философии». Эта речь - гимн философии, которая
уподобляется храму, «в котором вмещена вся Вселенная, где самые
сокровеннейшие от простого понятия вещи в ясном виде
показываются». Философия характеризуется им как «мать всех наук и
художеств», ибо «от нее зависят все познания». Речь H. Н. Поповского
была произнесена на латинском языке, но уже в августе того же года
она была опубликована по-русски. И это не случайно. В своей речи
первый профессор философии Московского университета
значительное внимание уделил проблеме языка философии. Отдавая должное
латинскому языку - языку научного общения своего века,
Поповский отмечал, что этот язык - не единственный язык философии,
ведь до римской эпохи ее языком был греческий язык, а ныне
философия способна говорить и по-русски: «Что ж касается до изобилия
российского языка, в том перед нами римляне похвалиться не могут.
Нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснить было
невозможно. Что ж до особливых надлежащих к философии слов, называе-
40
мых терминами, в тех нам нечего сумневаться». Ученик Ломоносова
видел необходимость изложения философии на русском языке для
того, «чтобы каждый российский язык разумеющий мог удобно ею
пользоваться»1.
Эта просветительская программа начала активно
осуществляться во второй половине XVIII столетия. Яков Павлович Козельский
(1726 или 1728-1795), среди учителей которого по естественным
наукам также был М. В. Ломоносов, издал в 1768 г. книгу
«Философские предложения», а в 1770 г. перевел с латинского, немецкого и
французского языков «Статьи о философии и частях ее из
Французской энциклопедии». В 1788 г. он опубликовал философское
произведение «Рассуждения двух индийцев Калана и Ибрагима о
человеческом познании».
Я. П. Козельский стремится дать целостное и систематическое
изложение философских знаний, опираясь не только на философию
Вольфа и его последователей, но и на французских просветителей,
прежде всего Руссо, Монтескье и Гельвеция. Под философией он
понимает науку о познании истин вещей и дел. Философия, по его
мнению, не должна смешиваться с богословием: «Философы
рассуждают о свойствах и делах божиих, а мне думается, что это они
предпринимают излишнее и несходное с силами их разума дело»2.
«Истина, - писал он, - есть троякая: естественная, или натуральная,
нравоучительная и логическая». «Истина натуральная» - это
соответствие вещи с ее сущностью. Например, «истинное золото» - золото,
имеющее «в себе все то, что к существу его требуется».
«Нравоучительная истина» возникает тогда, когда «мы говорим то, что
думаем». «Истина логическая» - это «сходство мыслей наших с самою
вещию»3.
Философия в широком смысле, полагает Козельский, «содержит
в себе все науки», но собственно философия охватывает «одни
только генеральные познания о вещах и делах человеческих». Эта
философия подразделяется им, как и у вольфианцев, на «теоретическую»
и «практическую». Теоретическая философия, в свою очередь,
делится на логику («науку ума») и метафизику. «Метафизика содержит
в себе онтологию, то есть знание вещей вообще, и психологию, то
есть науку о духе, или о душе». «Практическая, или
нравоучительная», философия преподает «правила, по которым человек дела свои
и поступки располагать должен», это «наука искания благополучия»4.
Практическая, или нравоучительная, философия включает в себя
юриспруденцию и политику. В юриспруденцию как в науку о «пра-
1 Избр. произв. русских мыслителей второй половины XVIII века. М, 1952.
Т. 1.С. 91.
2 Там же. С. 417.
3 Там же. С. 440,441.
4 Там же. С. 428, 429, 446, 462.
41
вах» входит этическая проблематика - учение о добродетелях, добре
и зле, совести и т. п. Классификация философских знаний, по
Козельскому, может быть представлена следующим образом:
ФИЛОСОФИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ ФИЛОСОФИЯ
логика метафизика юриспруденция политика
онтология психология
Философские взгляды Козельского носят
просветительски-гуманистический характер. С его точки зрения, нравственные ценности
имеют приоритетное значение и по отношению к «дарованиям в
разуме», и по отношению к «силе», и даже «красоте». И эти
нравственные ценности являются общечеловеческими. Он утверждает, что
«весьма неполезны великие различия состояний человеческих в
обществе». Просветитель-гуманист считает справедливым, «чтоб одни
люди не могли презирать и утеснять других, а другие не имели б
причины много раболепствовать»1. Он не отрицал крепостного права, но
в своем мнении о положении крепостных крестьян внес
предложения, которые могли бы, по его мнению, сделать готовящийся
законопроект «справедливее и человеколюбнее», ограничивая произвол
помещиков. «Лучше, кажется, - писал он в «Комиссию о сочинении
проекта нового Уложения» в 1768 г., - по человеколюбию стараться
возбуждать народ к работе вольной и не томной, то он большой урок
вырабатывать будет и не устанет, ежели одною неволею и удручени-
ем рабства»2.
В «Комиссию о сочинении проекта нового Уложения» входил
князь Михаил Михайлович Щербатов (1733-1790). Он, широко
образованный человек, историк и писатель, на заседаниях Комиссии
искусно отстаивал интересы и привилегии дворянского сословия. При
этом он был не чужд гуманных взглядов, характеризуя бедственное
положение рабочих на купеческих фабриках, но идеализируя,
правда, положение крепостных рабочих на «заведенных дворянами
фабриках». В центре внимания M. М. Щербатова были нравственные
проблемы. Он пишет памфлет «О повреждении нравов в России» и
роман-утопию «Путешествие в Землю Офирскую» (1784), в котором
1 Избр. произв. русских мыслителей второй половины XVIII века. Т. 1.
С. 534.
2 Там же. С. 656.
42
рисуется идеальное, с его точки зрения, общество и государство, где
правила поведения и нравственности устраняют все источники
«повреждения нравов» и социальные конфликты.
Социально-политические воззрения Щербатова консервативны, утверждая необходимость
господства родовой аристократии и идеализируя допетровскую Русь.
Вместе с тем одним из принципов нравственного и гражданского
катехизиса «Офирской империи» является так называемое «золотое
правило нравственности», сформулированное в Библии и других
древних текстах, правило, которое И. Кант положил в основу своего
«категорического императива», притом в то же время, когда писал свою
утопию Щербатов: «Мы должны во всех наших деяниях и мыслях
остерегаться от всякого неправосудия и всегда то делать и делать
другим, что бы желали и соделывали для себя»1.
Моральная узда необходима для человека, заявлял Щербатов в
сочинении «О пользе науки», ибо «колико в нем величества и
подлости!». В диалоге «О бессмертии души» важнейшим доводом в
утверждении бессмертия души Щербатов считает неизбежность
правосудия Божия. Отвержение бессмертия души означает, по его мнению,
отрицание существования Бога и его правосудия. Но сама
возможность правосудия - учинение воздаяния благим и наказания злым -
обусловлена свободой человека: «Не машины он [Бог], но разумных
тварей сотворил, а потому и-дал нам свободу последовать или нет его
святому Закону, да не от рабов, но от вольных востребует слово в
делах их...»2
Просветительская философия в России развивалась в нескольких
направлениях, ориентируясь, как мы видели, на философскую мысль
в Германии и во Франции.
Семен Ефимович Десницкий (ок. 1740-1789), получив
первоначальное образование в Москве и Петербурге, был в 1761 г.
командирован в Англию. В университете Глазго он слушал курс
нравственной философии, который читал Адам Смит, изучал труды Давида
Юма. Получив степень доктора права, в 1767 г. Десницкий
возвращается в Россию и становится первым русским профессором права
Московского университета. Хотя основные труды его посвящены
юриспруденции, он подходит к юридическим проблемам с
философской точки зрения. В его работах выявляется взаимосвязь
юриспруденции и «нравоучительной философии», исследуются правовые
проблемы религии, семьи, собственности.
В этой связи Десницкий разрабатывал своеобразную концепцию
исторического процесса развития человеческого общества, который
в зависимости от хозяйственной деятельности людей делится на че-
1 Из истории русской гуманистической мысли: Хрестоматия для учащихся
старших классов. М, 1993. С. 97.
2 Там же. С. 111.
43
тыре периода: 1 ) первобытное состояние народов, «живущих ловлею
зверей и питающихся плодами саморождающимися на земле»; 2)
«пастушеское» состояние - «состояние народов, живущих
скотоводством»; 3) состояние «хлебопашественное»; 4) «коммерческое»
состояние. По этим хозяйственно-экономическим состояниям, писал он,
«мы должны выводить их [народов] историю, правление, законы и
обычаи и измерять их различные преуспевания в науках и
художествах»1.
Коллегой Десницкого по Московскому университету был
Дмитрий Сергеевич Аничков (1733-1788), преподававший логику и
метафизику, а до этого - математику. В 1769 г. он представил к защите
диссертацию на соискание профессорского звания «Рассуждение из
натуральной богословии о начале и происшествии натурального бо-
гопочитания». В диссертации речь шла о психологических причинах
происхождения «натурального богопочитания» - страхе перед
природными силами, воображении, создающем привидения, удивлении.
Автор диссертации отнюдь не был атеистом. Он верил в Бога и был
христианином, но смел утверждать, что «и самое христианство
столько уже превратилось от своей первоначальной сущности». В
диссертации он критикует католицизм, однако из текста ее следует,
что и в православии не все благополучно. Диссертация вызвала
гневную реакцию церковных кругов. Не помогли ни новое название, в
котором подчеркивалось, что «философское рассуждение о начале и
происшествии богопочитания» относится к «невежественным
народам», ни исправление сомнительных формулировок. Синод
возбудил дело против Аничкова, обвиняемого в атеизме, а диссертация
была сожжена. Сохранилось всего несколько экземпляров,
являющихся библиографической редкостью. В конце концов Аничков получил
звание профессора логики, метафизики и математики, но в своих
последующих трудах он уже не давал поводов для идеологических
обвинений.
В «Слове о разных способах, теснейший союз души с телом
изъясняющих» (1783) Аничков выражает свое несогласие как с
идеалистами, которые полагают, что «душа человеческая есть
невещественная», так и с материалистами, утверждающими, что «душа
человеческая есть вещественная». Самому Аничкову представляется более
правильной дуалистическая позиция в трактовке человеческого
бытия, согласно которой существуют два начала (слово «дуализм»
образовано от dua - два) - и «вещественное», и «невещественное» -
телесное и духовное. Однако взаимодействия души и тела разные в
трактовке различных философов. Так, Декарт и его последователи
считают, что душа и тело не зависимы друг от друга и связаны в че-
'Избр. произв. русских мыслителей второй половины XVIII века. Т. 1.
С. 270,271.
44
ловеке «системою случайных причин». Сторонники же Лейбница
полагают, что душа соединяется с телом благодаря
предустановленной Богом гармонии, подобно тому, как, например, разные часы
показывают одинаковое время не потому, что одни воздействуют на
другие, а благодаря своему устройству. Русский философ
присоединяется к мнению «перипатетиков» - последователей Аристотеля,
считающих существующей прямую связь между телом и душой. Эта
точка зрения представляется Аничкову предпочтительной еще и
потому, что тем самым «не уничтожается свободная человеческая воля»,
не зависящая ни от «строения телесных органов», ни от
непосредственного присутствия Бога.
Казалось бы, если тело и душа неразрывно связаны в человеке,
то какое же бессмертие души может быть «по разрушении тела»? Но
Аничков настаивает на бессмертии души, сравнивая телесное
ограничение с заключением в темницу1.
Русская философская мысль, начиная с «ученой дружины»,
освобождалась от власти богословия, но, как мы видели, сама ставила
и стремилась рациональными средствами решать традиционно
богословские проблемы о бытии Бога, о человеческой душе, о ее
смертности или бессмертии. При этом все эти проблемы сопрягались с
нравственными вопросами человеческой жизни.
Просветительское движение, охватившее к середине века
западноевропейские страны, распространилось и в России, сделав даже
императрицу Екатерину II в определенной мере на некоторое время
своей сторонницей. Однако «вольтерьянство» со всем своим
критицизмом по отношению к существующим порядкам и к самой
господствующей церкви, не посягая на самого Бога, не могло разрешить
насущные и глубинные противоречия общественной жизни. Во
Франции эти противоречия в 1789 г. вызвали революцию со всеми ее
эксцессами. В России в 1773-1775 гг. вспыхнул пугачевский бунт -
восстание, охватившее крепостных крестьян, «работных людей»
приуральских заводов и национальные меньшинства.
Неудовлетворенность в «вольтерьянстве» и бессилие перед
надвигавшимися социальными катаклизмами было источником новых
духовных исканий, среди которых особое место занимало масонство.
Масонство, или франкмасонство (franc maçon по-французски
означает «вольный каменщик») -религиозно-философское течение,
возникшее в Англии и во второй половине XVIII в. охватившее Европу и
проникшее в Америку и Россию. Масоны в России не отрицали
христианства, но не придерживались существовавших церковных
порядков. Масонские «ложи» были тайными сообществами с
ритуально-мистической символикой. В «Войне и мире» Л. Н. Толстого ярко изобра-
1 См.: Избр. произв. русских мыслителей второй половины XVIII века. Т. 1.
С 172-173, 183,184.
45
жен ритуал посвящения в масоны одного из главных персонажей
романа Пьера Безухова.
Масонство само делилось на ряд направлений, в которых
преобладало религиозно-мистическое мироотношение. «Высшая
мудрость, - говорил масон («еще новиковского времени») в романе
Толстого, - основана не на одном разуме, не на тех светских науках
физики, истории, химии и т. д., на которые распадается знание
умственное». Масонство стремится по-своему ответить на те вопросы,
которые Пьер Безухов ставил самому себе на станции в Торжке перед
тем, как он встретился с масоном: «Что дурно? Что хорошо? Что надо
любить, что ненавидеть? Для чего жить и что такое я? Что такое жизнь,
что смерть? Какая сила управляет всем?»
В России масонство распространилось в 70-80-е гг. XVIII в. в
значительной мере в виде ордена розенкрейцеров («златорозового
креста»). Большую роль в распространении мистического учения
розенкрейцеров сыграл Иоганн Георг Шварц (1751-1784), немец,
приглашенный в Россию в 1776 г. в качестве гувернера, а затем ставший
профессором философии Московского университета. «Иван
Григорьевич», как звали Шварца в России, опирался на учение немецкого
философа-мистика Я. Бёме и провозглашал возможность
мистического соединения человека с Богом. Нравственность он считал
средством такого соединения. Нравственное же воспитание человека -
это воспитание в духе Христа. Шварц был противником учения
французских просветителей - Гельвеция, Руссо, Ламетри и
приверженцем оккультных «наук» - физиогномии, хиромантии, учения
каббалы - мистически-магической философии, оперирующей буквами
еврейского алфавита, которые рассматриваются как свойства Божества.
«Просвещение» Шварц и другие масоны понимали как
распространение масонского религиозно-мистического учения.
Наиболее видным идеологом русского масонства был Иван
Владимирович Лопухин (1756-1816). Сын генерал-поручика и киевского
губернатора, И. В. Лопухин принадлежал к знатному роду (его отец
был племянником царицы Евдокии Федоровны). В 80-е гг. он был
советником и даже председателем Московской уголовной палаты до
его увольнения в 1786 г. за снисходительность приговоров и
масонскую деятельность. Принадлежность к высшим кругам, видимо,
спасла Лопухина от ссылки в связи с делом Н. И. Новикова,
заключенного в Шлиссельбургскую крепость. При Павле I и Александре I
идеолог масонства занимал крупные государственные должности (в
Сенате он вел уголовные дела, будучи тайным советником и
сенатором).
Вначале Лопухин увлекался идеями французских просветителей,
переводил даже «Систему природы» Гольбаха - одно из
фундаментальных материалистических произведений XVIII в. Но затем он сжег
свой перевод и перешел на идейные позиции, сформулированные в
46
самом названии его произведения, изданного в 1780 г.: «Излияние
сердца, чтущего благость единоначалия и ужасающегося, взирая на
пагубные плоды мечтания равенствами буйной свободы, с
присовокуплением нескольких изображений душевной слепоты тех, которые
не там, где должно, ищут причин своих бедствий. Писано
Россиянином, сочинившим Рассуждение о злоупотреблении разума
некоторыми новыми писателями». В своем произведении «о внутренней
церкви», опубликованном в 1798 г., Лопухин называет орудиями и
проводниками богопротивной «церкви антихристовой» «модных
философов», «которые тщатся доказывать, что душа смертна, что
самолюбие должно быть основанием всех действий человеческих, что
христианство [-] фанатизм»1. Правда, Лопухин к «церкви
антихристовой» относил также упражнения «в буквах теософии, каббалы,
алхимии, тайной медицины и в магнетизме», поскольку это все может
быть средством «продолжить греховную свою жизнь» и стать
«рассадником и приготовлением для действий темных сил»2.
Религиозная направленность размышлений Лопухина не
подлежит сомнению, но он понимает масонство как «внутреннюю церковь»,
противопоставляя ее «внешним» церквям, на которые распалось
христианство. Но «внутренняя церковь» сама имела свою внешнюю
сторону - свой ритуал, свою символику, свою жесткую организацию и
дисциплину. По утверждение Лопухина, главное средство «на пути
божественной жизни» - «насилование развращенной воли падшего
естества нашего». «Надлежит, - пишет он, - собственную свою волю
насиловать к исполнению воли божественной»3. Вместе с тем и в
масонстве, как и в других идейных течениях века Просвещения,
утверждался принцип свободы в своеобразном виде. В анонимном
трактате «Рассуждение о бессмертии души», напечатанном в масонском
журнале «Вечерняя заря» (1782), утверждалось, что «человек не под
физическим управлением находится, как скоты, но под
нравственным. В самом деле, будучи свободен и одарен разумом, он находит в
собственной своей внутренности начало свободы».
Н. И. Новиков
Одна из ярких страниц просветительского движения в России
связана с деятельностью Николая Ивановича Новикова ( 1744-1818). Сын
небогатого помещика, Новиков учился в дворянской гимназии при
Московском университете. Свою литературную и книгоиздательскую
работу он начал с середины 60-х гг. во время военной службы. Очень
много дала будущему просветителю служба в качестве секретаря под-
1 Русская философия второй половины XVIII века: Хрестоматия. С. 275.
2 Там же. С. 274.
3 Там же. С. 256.
47
комиссии «о среднем роде людей» Комиссии по составлению
проекта нового Уложения в 1767-1768 гг. (в этой комиссии принимали
участие и Я. П. Козельский, и M. М. Щербатов).
В 1769-1774 гг. Новиков издает сатирические журналы
(еженедельники в несколько страниц) «Трутень», «Пустомеля»,
«Живописец» и «Кошелек». Содержание этих изданий
обличительно-нравоучительное. Его социальные симпатии на стороне «среднего рода
людей». Так, в журнале «Трутень» Новиков призывает писать
«сатиры на дворян, на мещан, на приказных, на судей, совесть свою
продавших, и на всех порочных людей». Но при этом иронически
предупреждает: «Только остерегайтесь наводить свое зеркало на лица
знатных бояр и боярынь», ибо «знатный господин не простой
дворянин», и кто «не имеет почтения и подобострастия к знатным особам,
тот уже худой слуга». Социальное неравенство Новиков остроумно
выявляет через такой пример. Что такое воровство? А это смотря от
того, кто им занимается: «в маленьком человеке воровство есть
преступление»; в «средостепенном человеке воровство есть порок»; в
человеке же, стоящем на высшей ступени, «воровство не что иное,
как слабосхь».
В «Трутне» повествуется и о том, как мещанин молодому
дворянину, обучавшемуся «в некотором славном немецком университете
разным наукам», задал вопрос* «А что такое философия?»
Последовал ответ: «Философия не что иное есть, как дурачество, а
совершенный философ есть совершенный дурак». В свою очередь, мещанин,
отвечая на вопрос, «какая разница между ученым дураком и
неученым», ответил так: «Разница между ими та,*что ученые дураки
гораздо больше делают вреда государству».
Русский просветитель выражал свое возмущение крепостным
правом, когда, например, в том же «Трутне» писал о судьбе
«преискусного миниатюрного живописца» - «крепостного человека», к
счастью выкупленного одним добрым «знатным господином» за 500
рублей. А в журнале Новикова «Живописец» «путешественник» видит в
образе крестьян «бедность и рабство» и видит в «рабстве» причину
бедности. «О человечество! - восклицает издатель «Живописца». -
Ты тиранствуешь над подобными себе человеками... Глупые
помещики сих бедных рабов изъявляют тебя [-любовь] более к лошадям
и собакам, а не к человекам». Этот «Отрывок путешествия» из
«Живописца» предвещает «Путешествие из Петербурга в Москву»
Радищева. Но Новиков, видимо стремясь обезопасить себя, выражает
надежду, что «премудрость, седящая на престоле», покровительствует
истине «во всех деяниях».
Однако «премудрость, седящая на престоле», после восстания
Пугачева круто изменила свою внутреннюю политику, перестала
покровительствовать «вольтерьянству». Изменил свои
мировоззренческие ориентации и Новиков: в 1775 г. он вступает в масонскую ложу.
48
И отныне издаваемые им журналы «Утренний Свет», «Вечерняя
Заря», «Покоящийся трудолюбец», «Московское издание» и др., вся
его издательская деятельность непосредственно связаны с
масонством. Он сотрудничает со Шварцем и Лопухиным.
Н. И. Новиков по-прежнему убежден, что «причина всех
заблуждений человеческих есть невежество, а совершенства - знание» («Пре-
уведомление» к первой части журнала «Утренний Свет» 1777 г.). Но
само «знание» понимается им в масонском духе. «Утренний свет»
выступает против французских просветителей - энциклопедистов как
«проповедников безнравственности», ратует за бессмертие души, без
которой невозможна добродетель. Добродетельный человек может
быть счастлив даже в оковах, так как нельзя заковать душу. Издатель
популярных сатирических журналов теперь отказывается от сатиры:
мистика ведь не совместима с комическим мировидением. В
«Утреннем Свете» появилась даже такая формулировка: «Смех есть едва
ли не преступление».
И все же было бы упрощением рассматривать Новикова в
качестве просветителя только до того времени, когда он стал масоном.
Само масонство явление сложное: оно по-своему боролось за
христианскую нравственность, бичевало пороки, занималось
филантропией. Безусловно, и сам Новиков, и издаваемые им масонские
журналы не жаловали философрв-просветителей, а неверующих
мыслителей именовали «вредительными гадинами». Но в то же время в
новиковских изданиях публиковались переводы Вольтера, Руссо,
Монтескье, Дидро, Лессинга (кстати, в масонском движении
принимали участие и видные западноевропейские просветители -
Вольтер, Лессинг, Гердер и др.). Конечно, в просветительской масонской
деятельности Новикова социально-обличительные мотивы
отодвигаются на второй план. Но в его творчестве появились новые грани.
Так, им впервые в России был поставлен вопрос об эстетическом
воспитании и введен сам термин «эстетика». В 1784 г. в издаваемых
Новиковым «Прибавлениях к Московским ведомостям» была
опубликована статья «Об эстетическом воспитании», автором которой,
вероятно, был сам издатель. В этой статье речь шла о новой науке -
эстетике, о возможном ее развитии, о формировании эстетического
вкуса, о пользе эстетического воспитания для народного
просвещения и образования. «Утренний Свет» стал первым в России
популярным философским журналом.
При всей аполитичности, мистической отрешенности от
действительности, христианской направленности умонастроения «вольных
каменщиков» масонское движение показалось крамольно-опасным
для императрицы, напуганной французской революцией, и своим
высоким интеллектуальным уровнем, и расхождением с
официальным православием, и связью с масонами наследника престола
Павла. Екатерина II многие годы в общем благожелательно относилась к
49
сатирическим журналам Новикова и сама издавала журнал «Всякая
всячина», допускала полемику со своим журналом, сама писала в
«Живописце». Она стремилась создать, как теперь говорят, «имидж»
«просвещенной императрицы», переписывалась с Вольтером и
Дидро. К масонству же она отнеслась отрицательно. В 1785-1786 гг.
Екатерина пишет комедии, с успехом поставленные на петербургских
сценах, - «Обманщик», «Обольщенный», «Шаман Сибирский», в
которых, высмеивая всякого рода суеверия, представляла масонов
лжецами и лицемерами, обманывающими доверие общества в угоду
собственной пользе. В это же время она приказала произвести проверку
преподавания Закона Божия, книг, издаваемых Новиковым, а также
поручила архиепископу Платону (Левшину) испытать самого
Новикова в Законе Божием. Тогда это испытание прошло благополучно.
Но по указу Екатерины II в апреле 1792 г. Новиков был арестован и
заключен без суда на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость. Арест
был наложен и на все его издания. Часть книг было передано в
университет и духовную академию, а 18 656 книг сожжено. Мученик
Просвещения был освобожден только через четыре года взошедшим
на престол Павлом I.
А. Н. Радищев
Вершиной просветительской мысли в России XVIII в. является
творчество Александра Николаевича Радищева (1749-1802). Сын
помещика, он в 1762 г. был зачислен в Пажеский корпус, а в 1766 г. в
группе молодых людей по распоряжению Екатерины II был послан
на учебу в Лейпцигский университет. Здесь он слушает лекции по
философии профессора Платнера, по которым мог получить
представление о тогдашней, в основном вольфианской, немецкой
философии. Русские студенты увлекались также французскими
просветителями - Гельвецием, Руссо, Мабли и др. Большое воздействие на
духовное развитие Радищева оказал его старший друг Федор
Ушаков, скончавшийся в Лейпциге в 23 года. Позже Радищев напишет
«Житие Федора Васильевича Ушакова», в котором запечатлеет образ
юноши, обещавшего стать выдающимся мыслителем. Умный,
смелый и решительный Ушаков возглавил сопротивление русских
студентов приставленному к ним надзирателю, обкрадывавшему их и
грубо требовавшему полного повиновения (он даже
провинившихся, по его мнению, сажал в придуманную им клетку). Таково было
столкновение с несправедливостью и «бунт» против нее будущего
автора оды «Вольность» и «Путешествия из Петербурга в Москву».
Вместе с Радищевым и Ушаковым в Лейпциге обучался Алексей
Михайлович Кутузов, друг Радищева, которому он посвятил не
только «Житие...», но и «Путешествие...». Однако мировоззрения
друзей резко разошлись: Кутузов стал одним из видных масонов,
придерживался мистических взглядов, не разделяемых его другом.
50
В 1771 г. Радищев возвращается на родину. Он служит в
различных государственных учреждениях (протоколистом в Сенате, в Ком-
мерцколлегии, в петербургской Казенной палате), служит честно и
бескорыстно, отстаивая справедливость, но находит свое призвание
в литературной деятельности.
70-80-е гг. XVIII в. были временем определенного кризиса
просветительских идей: становилось все более очевидным, что
«просвещенный абсолютизм» для России - несбыточный идеал, что
человеческий разум нуждается не только в просвещении, но и в критике,
что общественная жизнь людей не во всем подчиняется разуму, что
стремление к свободе может оборачиваться новым рабством.
Крестьянская война под руководством Пугачева, закончившаяся в 1775 г.
его публичной казнью, положила конец иллюзиям на смягчение
участи крепостных, не говоря уже об их освобождении. Между тем с
1775 по 1783 г. шла борьба за независимость от британского
колониального подчинения Северной Америки. Этот пример борьбы за
свободу и начавшаяся в 1789 г. французская революция усилили
политическую реакцию в Российской империи.
В этой исторической ситуации разные люди вели себя
по-разному. Одни ушли в масонскую мистику, о чем свидетельствует, к
примеру, творческая эволюция Н. И. Новикова, и его трагическая
судьба показывает, что даже в масонах самодержавие видело для себя
опасность. У советника же таможенных дел петербургской
Казенной палаты Радищева все эти события зарубежной и российской
действительности, напротив, вызывали усиление политического
радикализма.
В 1773 г. в издании Новикова выходит в переводе Радищева
книга Мабли «Размышление о греческой истории и о причинах
благоденствия и несчастия греков». Знаменательно само обращение
Радищева к творчеству аббата Мабли - республиканца по убеждениям,
сторонника равенства и свободы как высшего блага народа. К тому
же переводчик дал ряд примечаний. Так, переведя слово «деспотизм»
как «самодержавство», Радищев называет его «наипротивнейшим
человеческому естеству состоянием». Выступая как сторонник
«естественного права» и «общественного договора», который обязан
соблюдать государь, Радищев прямо заявляет: «Неправосудие
государя дает народу, его судии, тоже и более над ним право, какое ему
дает закон над преступниками».
В начале 80-х гг. Радищев пишет оду «Вольность», которую
частично включает в «Путешествие из Петербурга в Москву» (в
раннюю рукописную редакцию «Путешествия» ода «Вольность»
входила целиком). Само «Путешествие...» было напечатано в домашней
типографии автора и издано в 1790 г. Екатерина II была
внимательной читательницей книги. Ее приговор Радищеву обжалованию не
подлежал: «Он бунтовщик, хуже Пугачева». «.. .Ода, - отмечала она, -
51
совершенно и ясно бунтовская, где царям грозится плахою».
Радищев писал об этом, имея в виду пример английской революции. Но
царица читала трактат Радищева лишь год спустя после начала
французской революции и казни короля и королевы. «Сочинитель сей
книги, - заключала она, - наполнен и заражен французскими
заблуждениями, всячески ищет умалить почтение к власти». Радищев не
первый возмущался крепостным правом. Но после восстания Пугачева
и событий французской революции можно себе представить, как
воспринимались слова-пожелания и пророчества того, чтобы «рабы,
тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом,
вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных
своих господ и кровию нашею обагрили нивы свои!». Расправа
наступила скорая и жестокая. После следствия Радищев был
приговорен Сенатом к смертной казни, которая была заменена ссылкой в
Сибирь.
В 1797 г. Павел I разрешил Радищеву возвратиться из ссылки.
При Александре I автор «Путешествия» даже вошел в комиссию по
составлению Свода законов. Но в своих проектах он, как писал
Пушкин, «предался своим прежним мечтаниям» - предлагал отменить
крепостное право, .телесное наказание и пытки, ввести публичное
судопроизводство и т. п. По версии Пушкина, Радищев покончил
жизнь самоубийством после того, как возглавлявший комиссию граф
П. Завадовский сказал ему: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе
пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?»1
Думается, что причиной самоубийства Радищева был не страх
перед новыми гонениями, а осознание революционным
мыслителем законченности своей жизненной миссии и стремление
героическим поступком, подобно Сократу, оказать влияние на потомков.
Ю. М. Лотман писал: «Радищев стремился подчинить всю свою
жизнь, и даже самую смерть, доктринам философов. Но не потому,
что сам он по своей природе был философ-доктринер, а по прямо
противоположным побуждениям. Он силой вдавливал себя в
нормы «философской жизни» и одновременно силой воли и
самовоспитания делал эту «философскую жизнь» образцом и программой
жизни реальной2.
Что же представляет собой философия Радищева? О
политических взглядах автора «Вольности» и «Путешествия из Петербурга в
Москву» у нас уже шла речь. К этому следует добавить, что
Радищев отнюдь не был бунтовщиком в духе Пугачева. Да, социально-
политическая концепция Радищева, развивая взгляды Руссо на
«общественный договор», полагала правомерность народной револю-
1 Пушкин А. С. Александр Радищев // Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 6. С. 236.
2 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского
дворянства (XVIII - начало XIX века). СПб., 1994. С. 269.
52
ции как гарантии народного суверенитета, если правители
нарушают вытекающие из этого «договора» обязанности. Но Радищев
отрицательно относился к восстаниям пугачевского типа, когда
«прельщенные грубым самозванцем» яростные и невежественные
рабы, умерщвляя всех подряд, не щадя «ни пола, ни возраста»,
«искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз». Автор
«Путешествия» писал, что такого рода «пагуба зверства», «смерть
и пожигание» - это возмездие «за нашу суровость и бесчеловечие».
Да, в оде «Вольность» Радищев видит в казни английского
короля Карла «пример великий», который преподал Кромвель, показав,
как могут народы мстить за себя, но к лидеру Английской
революции были обращены и такие строки:
Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что, власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил...
В поэме «Песнь историческая», написанной в последние годы
своей жизни, Радищев кровавого римского диктатора Суллу
сравнивает по «лютости» с Робеспьером. Еще в оде «Вольность» Радищев
формулирует «закон природы», в соответствии с которым
происходит чередование рабства и свободы. И он был, разумеется, вовсе не в
восторге от того, что «раве&тво» начнет утверждаться через казни и
Свобода в наглость превратится,
И власти под ярмом падет.
Философские свои воззрения Радищев выразил в трактате «О
человеке, о его смертности и бессмертии», который начал писать в
январе 1792 г., сразу же по приезде в место своей сибирской ссылки
г. Илимск. Этот трактат - одно из самых загадочных произведений
философской литературы. Он состоит из четырех книг. Притом
первые две книги доказывают смертность человека, его души, а две
последние - ее бессмертие.
Вопрос о душе и ее бессмертии был одним из главных в русской
мысли XVIII столетия. Но если M. М. Щербатов, Д. С. Аничков, не
говоря уже о масонах И. Г. Шварце и И. В. Лопухине, утверждают
бессмертие души, основываясь на идеализме, то Радищев впервые
в России воспроизвел в первых двух частях своего трактата
материалистическую аргументацию, отрицающую существование души
после смерти тела. Проявляя обширную эрудицию, автор трактата
сводит воедино по данной проблеме взгляды французских
материалистов Гельвеция, Гольбаха, Дидро, английского
естествоиспытателя и философа Пристли, оригинально интерпретирует учение о
человеке немецкого просветителя Гердера. При этом Радищев в ряде
случаев тот или иной вопрос трактует по-своему, вступая в
полемику с Гельвецием и другими философами.
53
В трактате Радищева выражена следующая логика отрицания
бессмертия души человека: всеобщность материальной
вещественности мира, подчинение «умственных сил» человека «законам
естественности», совпадение «свойств вещественности» и «свойств мыслен-
ности», материальность жизни, чувственности, мысли. Смертность
души, по этой логике, есть не несчастие, а переход в вечность,
окончание всех горестей земной жизни. При всей материалистической
направленности первой половины трактата Радищева он остается
деистом, т. е. мыслителем, признающим Бога как «всему начало,
источник всех сил».
Во второй половине трактата представлена противоположная
логика. Как же может умереть душа вместе с телом, если природа
«ничего не уничтожает»?! Душа ведь - не простой придаток тела. «Душа
есть сила, и сила сама по себе». Она не есть результат «сложения
нашего тела» при всей его искусности. Более того, обычный опыт
показывает, что «мысленность» способна властвовать над
телесностью, над чувственными желаниями и страстями. Душа - источник
движений тела, его болезней и здоровья, даже смерти (в случае
самоубийства). Радищев выдвигает также психологические, эстетические
и этические аргументы для доказательства бессмертия души. Вера в
бессмертие утешает человека перед лицом смерти, дает надежду на
справедливое нравственное возДаяние, не позволяет допустить,
чтобы «вся красота мира ничтожествовала», ибо красота - духовна, и
бессмертие духовности - залог бессмертия красоты.
Обосновывая идею бессмертия души, Радищев творчески
соединил аргументы, выдвигаемые идеалистами, в особенности М.
Мендельсоном и И. Гердером, подобно тому, как, доказывая смертность
человека, он объединил воззрения мыслителей
материалистического направления. Ну, а что полагает сам Радищев? По этому
поводу высказывались различные суждения. Одни считали, что он все-
таки больше симпатизирует материализму, другие - что он
склоняется в сторону идеализма и бессмертия души. Однако, по нашему
мнению, в данном случае правы те, кто считает, что «Радищев не
отдает предпочтения ни той, ни другой концепции» (Ю. М. Лот-
ман).
Что это? Философская эклектика, т. е. механическое соединение
разнородных принципов? Думается, что нет. Кант, живший и
творивший в то же время, что и Радищев, в «Критике чистого разума» (1781)
определил так называемые антиномии чистого разума, в соответствии
с которыми можно в равной степени логически достоверно доказать
некое положение (тезис) и противоположение (антитезис). Это, по
Канту, относится и к проблеме бессмертия души и даже к вопросу о
существовании Бога. Что следует из того, что тезис о бессмертии
души, как и антитезис о ее смертности в одинаковой степени
логически доказуем? Только то, что эта проблема вообще не может быть
54
решена логическим способом и что следует в решении ее исходить
из соображений нравственного порядка.
Нет оснований для предположения о том, что Радищев был
знаком с философией Канта, но тем более знаменательно, что русский
мыслитель самостоятельно пришел к диалектическому методу
сопоставления двух противоположных положений о смертности или же о
бессмертии души человека. Подобно Канту, Радищев учитывает и
нравственный аргумент в пользу бессмертия души «для любящих
добродетель».
Вместе с тем своеобразие позиции Радищева заключается в том,
что он при любом решении вопроса о бессмертии души отстаивает
непреходящую значимость нравственных поступков человека. К
такому выводу приходит Ю. М. Лотман, предлагая свое прочтение
философского трактата Радищева: «Человек может думать, что с
жизнью все кончается, или предполагать бессмертие души. Но в любом
случае он должен преодолеть страх смерти и быть готовым принести
себя в жертву своим убеждениям1.
А. С. Пушкин видел в поступке Радищева «воззвание к
возмущению» и писал о нем как о «преступнике с духом необыкновенным»,
действовавшем с «удивительным самоотвержением и с какой-то
рыцарскою совестливостию». Пушкин не случайно в первоначальной
редакции своего знаменитою стихотворения «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный» писал:
И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу..}
Г. С. Сковорода
Особым типом обращения философии в жизнь и жизни человека в
философию во второй половине «века философов» были жизнь и
творческая деятельность Григория Саввича Сковороды (1722-1794).
Сковороду называли «украинским Сократом» и «харьковским Диогеном».
В этих сравнениях помимо похожести украинского «старчика» на
античных мудрецов стремлением вести «разговор» и бездомностью есть
более глубокий смысл: Сковорода жил, как учил, и учил, как жил.
Хотя, безусловно, как поэт и философ Сковорода принадлежит к
украинской культуре, он в то же время включен и в русскую
философскую мысль. И дело не только в том, что сама Украина входила в
Россию, что Сковорода в молодости жил в Петербурге, а потом
бывал в Москве и в Троице-Сергиевом монастыре, что многие его
воспитанники стали видными российскими чиновниками. Сам язык, на
1 См.: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. С. 260. .
2 Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 2. С. 394.
55
котором говорил и писал Сковорода, староукраинский (или
славянороссийский), в те времена тяготел к русской языковой стихии. Для
современного читателя он, пожалуй, понятней, чем язык многих
русских философов и писателей XVIII в. Да и первые публикации
произведений Сковороды и воспоминаний о нем появились в
центральной России, и все возрастающая его популярность как философа была
в русской среде не меньшей, чем в украинской. В. В. Зеньковский в
«Истории русской философии» называет Сковороду первым на Руси
философом «в точном смысле слова».
Сын малоземельного казака, Сковорода в 1738-1741 гг., а затем с
1744 по 1750 г. учился в Киево-Могилянской академии, получив
знание латинского и греческого языков, античной философии и
христианского богословия. Он преподавал поэтику в Переяславской
семинарии и «христианское добронравие» в Харьковском коллегиуме, но
его педагогическая деятельность не нашла одобрения у начальства.
Последнюю четверть века своей жизни Сковорода скитался по
Украине, живя в монастырях и поместьях своих почитателей, проповедуя
свое миропонимание, выражая его в стихах, притчах, диалогах
(«разговорах»). Над своей могилой философ-странник завещал надписать:
«Мир ловил меня, «о не поймал». а
Эта эпитафия полностью соответствует философии жизни
Сковороды. Ему не раз предлагали' благополучно «устроиться» в
монастырях, на службе, в поместьях, но он отовсюду уходил, а подчас и
убегал, будучи убежденным в том, что счастье не зависит «ни от
высоких наук, ни от почтенных должностей, ни от изобилия», ибо «ща-
стие [счастье] твое и мир твой, и рай твой, и Бог твой внутрь тебе
есть» («Алфавит, или Букварь мира»). А если «щастие наше внутрь
нас», то путь к нему лежит через самопознание. Слова дельфийского
оракула - «Познай самого себя», ставшие девизом Сократа,
сделались девизом и «украинского Сократа».
Про Диогена говорили, что он днем ходил с фонарем, так как, по
его словам, «искал человека». «Украинский Диоген» призывал
искать в себе «истинного человека», а «истинный человек» и есть Бог,
т. е. Истина. Вот почему «Царство Божие внутрь нас», а
следовательно, и счастье.
Этот ход мыслей Сковороды исходит из представления о трм, что
весь мир «состоит из двоих натур: одна видимая, другая невидимая»,
и поэтому нужно «везде видеть двое». Это, в сущности,
платоновское мироосмысление предполагает в каждом видимом явлении его
невидимую сущность, животворящую это явление. И в человеке -
«маленьком мирке», микрокосме, и в целом, большом мире,
макрокосме, Сковорода усматривает две «натуры»: «человека и Человека»,
тень яблони и саму яблоню, ложь и Истину и т. п. Дополняя Платона
Библией, Сковорода считает, что в конечном счете «невидимая
натура» и есть Бог, а видимая - «тварь» - «рухлядь, смесь, сволочь, сечь,
56
лом, крушь, стечь, вздор, сплочь и плоть и плетки». Каким же
образом можно постигнуть эту божественную «натуру»? С помощью
науки, столь развившейся в его время, будь то физика, химия, логика,
грамматика? Отнюдь нет. И хотя бродячий мудрец отдавал наукам
должное («Я наук не хулю»), его призыв был иным: «Брось коперни-
ковские сферы. Глянь в сердечные пещеры!» «Не хочу и наук новых,
кроме здравого ума». Узреть же «сердечные пещеры» можно только,
по убеждению Сковороды, через «око веры».
Философия Сковороды, в сущности, была просветительской
философией. Но она была направлена не на научное просвещение, как,
скажем, философия Ломоносова, а на просвещение нравственное.
Ведь наука сама по себе дает ощущение счастья только лишь
ученому, занимающемуся своим делом, а не всякому человеку. А
Сковорода хотел научить каждого, любого человека обрести счастье. Для этого
нужно, считал он, опять-таки познать себя, чтобы обнаружить свое
призвание, свое предназначение в жизни, свою «сродность», ибо
«лучше быть натуральным котом, нежели с ослиною природою львом».
Так украинский мудрец продолжает традиции этики античных
стоиков, считавших, что человек в своем поведении должен следовать
природе.
Однако традиции стоицизма у Сковороды не только «опробиру-
ются» жизненным опытом 'самого мудрого «старчика», но
дополняются христианским миропониманием. Возможность такого
опосредствования обусловлена тем, что и само христианство при своем
возникновении как религиозное мироучение вобрало в себя и
определенные черты стоической этики.
Основное средство познания и самопознания для Сковороды -
это книга книг, Библия - «фонарь, Божьим светом блистающий для
нас путников». Библия для него - это не просто книга, а особый мир,
«мир символичный», существующий наряду с другими мирами -
микрокосмом и макрокосмом. Как и другие два мира, Библия - «Дом
Божий» - двуслойна. В ней также есть видимая и невидимая
стороны. Поэтому и Библия - сфинкс, требующий разгадки. Библейские
тексты как символические образы Сковорода в духе древней
традиции стремится истолковать аллегорически и свои собственные
произведения создает на основе символического метода - по образцу
библейских притч. Библия - любимая книга Сковороды, которую он
всегда носил с собою в своих странствиях; она не только, по его
словам, взывает: «узнай себе», «внемли себе», но помогает познать себя,
а через себя, через свою истинную и вечную природу - Бога.
Сковорода - христианский философ, но он не был богословом и,
как известно, не раз отказывался принять монашеский постриг, хотя
был частым гостем монастырей. Сковорода - сторонник свободной
религиозно-философской мысли, не стесненной «школьными бого-
с л овцами». Его философские взгляды привлекали внимание и сек-
57
тантов, и масонов своей мистической стороной, однако он оставался
тем, к чему стремился всю свою жизнь, - самим собой, которого «мир
ловил», «но не поймал».
Как мы видели, формы проявления русской философской мысли
в XVIII в. были разные. Наряду с философскими трактатами и
статьями и Феофан Прокопович, и Кантемир, и Ломоносов, и Радищев, и
Сковорода выражали свои философские воззрения в стихах. Между
тем выдающиеся писатели века Просвещения были причастны к
философии, обращаясь к философским, особенно к эстетическим
проблемам в различных видах своего творчества.
Василий Кириллович Тредиаковский (1703-1768), как и Феофан
Прокопович, считал, что «поэзия была первейшей философиею», и
приравнивал поэзию к нравоучительной философии. Обучавшийся в
Славяно-греко-латинской академии и в парижской Сорбонне,
Тредиаковский был весьма образованным человеком, сторонником
естественного права и общественного договора. В своем творчестве он
следовал просветительскому классицизму, обогащенному новым
художественным опытом. Тредиаковский начал реформу русского
стихосложения - переход на силлабо-тоническую систему, - которую
завершил Ломоносов. Просветительские идеи и эстетику
классицизма развивал поэт и драматург Александр Петрович Сумароков (1717-
1777), полагавший, что «естество выше искусства».
Поэт Гавриил Романович Державин (1743-1816) создал
замечательные образцы философской поэзии («На смерть князя
Мещерского», «Водопад», «Река времен» и др.). В его оде «Бог» звучит
подлинный просветительский гимн Человеку:
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества.
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь - я раб - я червь - я Бог.
Ill
ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ГУМАНИЗМ
Хронологическая граница между веками, разумеется, условна.
Новый век продолжает старый. В России наступление XIX столетия
связано с началом царствования Александра I, после заговора и
убийства его отца Павла I в 1801 г. Это был новый период русской
истории, несомненно отличный от екатерининских времен и павловского
правления. В первое десятилетие нового века царь привлек к
законодательной и реформаторской деятельности оригинального
христианского мыслителя Михаила Михайловича Сперанского (1772-1839).
Реформируется Московский университет, возникают новые
университеты в Харькове и Казани. В Дерпте (Тарту) в 1802 г. воссоздается
университет, основанный еще шведским королем Густавом II
Адольфом в 1632 г., но прекративший свою деятельность в XVIII в.
Преподавание философии вводится в университетах. В образовании
университетской философии в России большую роль сыграли
приглашенные из-за границы, главным образом из Германии,
преподаватели философии (в Тарту, например, профессором философии стал
Готлоб Беньямин Еше, сторонник Канта и близкий ему человек).
Наряду с ними в университетах преподавали философию и русские
профессора.
Конец XVIII в. с горечью собирал плоды просвещения.
Французская революция, сокрушившая феодальные порядки, в конечном
счете привела не к торжеству Разума, о котором мечтали просветители,
а к диктатуре, к падению республики и образованию новой империи
с сопутствующими всякой империи кровавыми войнами. «Век
просвещения! Я не узнаю тебя - в крови и пламени не узнаю тебя -
среди убийств и разрушения не узнаю тебя!..» - восклицал устами
своего персонажа Н. М. Карамзин в 1794 г.
H. M. Карамзин
Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) - писатель, историк
и мыслитель, в своем творчестве глубоко и правдиво отразил
противоречия века Просвещения. Его идеалы, как писал он, были
превосходны: «...свет философии, смягчение нравов, тонкость разума и
59
чувства, размножение жизненных удовольствий, всеместное
распространение духа общественности, теснейшая и дружелюбнейшая связь
народов, кротость правлений...» Но дойдя «до крайней степени
возможного просвещения», век Просвещения погружается в варварство.
«Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Где
возвышение кротких, нравственных существ, сотворенных для счастья?» -
спрашивает мыслитель.
Где же выход? Карамзин, один из образованнейших людей
своего времени, прошедший искушение масонской мистикой (он был
членом масонской ложи в 1785-1789 гг.), посетивший европейские
страны и встречавшийся с Кантом, Гердером и другими
выдающимися мыслителями, видел спасение в сосредоточении человека на
самом себе. «Но неужели, друг мой, - утешал участник карамзинс-
кого диалога Филалет (по-гречески «любитель истины») Мелодора
(«дарителя песен»), - не найдем мы никакого успокоения во
глубине сердец наших?» В статье «Нечто о науках, искусствах и
просвещении» (1793) Карамзин, приведя формулу Декарта «Мыслю,
следовательно, существую», задается вопросом: «Что ж я? - и
заявляет: -рея наша антропология есть не что иное, как ответ на
сей вопрос»1.
Н. М. КарамзшГбыл сторонником сентиментализма с его
подчеркнутым вниманием к духовному миру личности, ее
эмоциональным переживаниям. И в Западной Европе, и в России
сентиментализм противостоял искусству классицизма с его культом разума и
рациональности, подчинения индивида общественному долгу.
В еще большей степени, чем сентиментализм, обращением к
субъективному миру личности характеризовался романтизм,
художественно-философское направление, возникшее в конце XVIII
столетия в Германии и получившее развитие в других странах: во
Франции, Англии и России. Появление романтизма, порожденное
кризисом просветительской идеологии, пришедшей к конфликту с
реальностью, знаменовало критическое отношение к этой реальности и
утверждение самоценности и творческой свободы человеческой
личности во всей ее неповторимой индивидуальности.
В России романтическое мироощущение было доминирующим в
течение первой трети XIX в. Оно проявляется у писателей и поэтов
различной политической ориентации - и у мечтательного В. А.
Жуковского, ставшего воспитателем будущего царя Александра II, и у
поэтов-декабристов. Дух романтизма в России выражал конфликт
между духовно-поэтизированными запросами личности и «прозой»
жизненной реальности, однако социально-политический характер
этого конфликта мог быть разным. Хотя романтизм как течение был
1 Карамзин H. М. Соч.: В 2 т. Л., 1984. Т. 2. С. 46. Выше цитированные слова
Карамзина см. там же на с. 179-181, 184.
60
межнациональным, а его художественный опыт был всеобщим
достоянием, в каждой стране он имел свои национальные корни.
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой, -
писал юный Лермонтов.
И сентиментализм, и романтизм выступали не только как
течения в искусстве. Уже при своем возникновении в XVIII в. и в начале
XIX столетия они представляли особой миросозерцание, в центре
которого находилась личность. Притом доминировали в нем
эстетические воззрения. Поэтому главную направленность русской мысли
первых трех десятилетий XIX в. мы, разделяя точку зрения В. В. Зень-
ковского, определим как «эстетический гуманизм». Важно также
отметить, что эстетические идеи и взгляды в России в этот период
тесно переплетались с нравственно-этическими воззрениями. Философ-
ско-эстетическая мысль того времени нашла яркое выражение в
творчестве таких поэтов, как Пушкин, Баратынский, Веневитинов,
Тютчев и др.
А.<ф. Мерзляков
Крупным русским эстетиком начала XIX в. был Алексей
Федорович Мерзляков (1778-1830). Сын владельца торговой лавки в
уездном городке Пермской губернии благодаря рано пробудившимся в
нем поэтическим способностям попадает в гимназию при
Московском университете, заканчивает его и с 1804 г. становится его
профессором по кафедре красноречия и поэзии. Наряду с поэтическим
творчеством (он автор знаменитой песни «Среди долины ровныя»)
Мерзляков проявил себя как литературный критик и философ.
Как эстетик Мерзляков был противником карамзинской линии в
литературе, отстаивал некоторые принципы классицизма. Однако,
считая искусство «подражанием природе», само это «подражание»
он понимал как творческое воспроизведение действительности. И
«предметом подражания», по его мнению, достойна быть не
равнодушная природа, а та, «которою мы тронуты». «Сердце»
подсказывает поэту чувства, которые он желает возбудить. «...Спрашивайте
свое сердце, - советует эстетик-поэт. - Тот всегда поступает хорошо,
который умеет с ним советоваться»1. Не случайно поэтому
Мерзляков, несмотря на симпатию к классицизму и неприятие
романтического искусства, был поклонником Шиллера. Ему импонировало
высокое, общественно значимое искусство, в котором эстетическое нахо-
1 Русские эстетические трактаты первой трети XIX века: В 2 т. М., 1974. Т. 1.
С. 90.
61
дится в полном единстве с нравственным началом, ибо
«совершенство и красота трогают нас не иначе, как будучи в связи с добротой»,
а «совершенство и добро» должны нам являться «в полном блеске
изящества, дабы имели в себе разительнейшую приятность». Только
тогда будет соблюдаться правило: «Театр есть училище
нравственности^.
Профессор эстетики, Мерзляков признает объективность
красоты, различая при этом то, «что в самом деле есть красота», и то, что
«у нас почитается красотою». В то же время он был убежден в том,
что «все предметы, называемые прекрасными, нравятся нам не
столько сами по себе, сколько по отношению к нам»2. Таким
образом, русский эстетик подходил к ценностному пониманию красоты,
к трактовке ее не только как объективной реальности, но и как
человеческой ценности. Уделял он внимание и субъективным
эстетическим способностям человека, его эстетическому вкусу, который, с его
точки зрения, неразрывно связан с нравственным чувством.
Взгляды и идеи Мерзлякова оказали заметное воздействие на
развитие эстетической мысли в России. Лекции же по литературе,
риторике, эстетике, которые он читал в Московском университете, его
занятия в кружке литераторов пользовались большой
популярностью. У него непосредственно учились Грибоедов, Чаадаев, Иван и
Петр Киреевские, Вяземский, Веневитинов и другие русские
писатели и мыслители. Он обнаружил поэтический талант Тютчева. Его
учеником был юный Лермонтов, которому он любил повторять: «Чем
более стихотворец философ, тем он более пиит», т. е. поэт.
В России поэты были нередко философско образованными
людьми и сама поэзия носила философский характер. В первую очередь
это, конечно, относится к поэзии Пушкина. Но прежде чем перейти к
философским идеям великого поэта, отметим тех
эстетиков-философов, которые были его лицейскими учителями.
Петр Егорович Георгиевский (1791-1852) читал курс эстетики в
лицее (сохранилась запись этого курса, сделанная лицейским
товарищем Пушкина А. М. Горчаковым). В своем понимании эстетики он
следовал за Мерзляковым, но проявил также осведомленность в
эстетике Канта, даже полемизировал с ним по отдельным вопросам, а в
понимании идеала солидаризировался с ним. Близкая по смыслу к
учению Канта и романтикам дается им трактовка прекрасного:
«Прекрасное, - писал он, - находим токмо там, где познание переходит в
неопределенные чувствования, где душа чувствует свою свободу и
совершенство, возносится над целым миром»3. Хотя в целом эстетические
воззрения Георгиевского относятся к просветительскому классицизму.
'Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. Т. 1.С. 150,
151, 127.
2Тамже. С. 124.
3 Там же. С. 207.
62
А. И. Галич
Александр Иванович Галич (Говоров) ( 1783-1848) в 1814-1815 гг.
преподавал в Царскосельском лицее русскую и латинскую
словесность. Он был видным философом, эстетиком и психологом. По
окончании Петербургского педагогического института Галич учился в
1808-1812 гг. в Германии. С 1813 г. преподавал философию в
Педагогическом институте, ставшем в 1819 г. университетом. В 1818-1819 гг.
Галич издал «Историю философских систем...», включая систему
Шеллинга и логику Гегеля, с приложением «Опыта философского
словаря». Он занимал кафедру философии Петербургского
университета, но в 1821-1822 гг. его отстранили от преподавания за то, что
он якобы предпочитает «язычество христианству, распутную
философию девственной невесте христианской церкви, безбожного
Канта самому Христу, а Шеллинга и Духу Святому».
После этого Галич продолжает читать лекции на дому и
выпускает в 1825 г. «Опыт науки изящного» - один из лучших эстетических
трактатов своего времени, написанный в духе романтической
эстетики с учетом взглядов Канта и Шеллинга. По словам Галича, «все
изящное есть идеальное, образцовое, то есть такое, в котором
устраняются случайные черты. у$1 (при чтении этого определения
вспоминаются слова А. Блока, написанные им почти сто лет спустя:
«Сотри случайные черты - / И ты увидишь: мир прекрасен»).
По Галичу, «изящное» внутренне связано с «истинным» и
«добрым», а сама красота может быть «умозрительной», «нравственной»,
а также чувственно-прелестной; гений художника - «частица того
великого, божественного духа, который все производит, все
проникает и во всем действует по одинаковому закону, хотя в разных
степенях силы и ясности»2. Человек, с его точки зрения, - гражданин двух
миров: видимого, чувственно-органического, и невидимого -
духовно-нравственного. В 1834 г. выходит книга Галича «Картина
человека» - очерк психологии и антропологии, в котором человек
рассматривается в единстве его телесности и духовности.
Галич преподавал в лицее словесность чуть больше года (с 1814
по 1815), но лицеисты его любили и встречались с ним не только на
занятиях. Юный Пушкин посвящает ему стихотворения «К Галичу»
и «Послание к Галичу»3, поминает его добрым словом в
стихотворении «Пирующие студенты» (I, 41).
1 Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. Т. 1. С. 217.
2Там.же. С. 227.
3См.: Пушкин А. С Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 1. С. 84-86,93-96. Далее
ссылки на это издание даются в скобках: римская цифра обозначает том,
арабская - страницу.
63
Друзья, почто же с Кантом
Сенека, Тацит на столе,
Фольянт над фолиантом?
Под стол холодных мудрецов,
Мы полем овладеем;
Под стол ученых дураков!
Без них мы пить умеем.
Но это не просто озорное отвержение всякой философии. Тут же
был упомянут «добрый Галич» - «Эпикуров младший брат»
(почитатель философии Эпикура, видевшего смысл жизни в
наслаждениях). Правда, реальный Эпикур предпочитал духовные наслаждения
физическим, но эпикурейцы XVIII - начала XIX в., с которыми
солидаризовался поэт, предпочитали «кубок полный через край» (I, 86).
Когда в 1821 г. Галича изгоняют из университета, в частности за
почитание «безбожного Канта», Пушкин в «Евгении Онегине»
демонстративно делает Ленского «поклонником Канта»1.
А. С. Пушкин
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) ,как поэт не жаловал
метафизику, понимая под ней схоластическое философствование.
Однако как оригинальный мыслитель он оказал большое влияние на
развитие русской философии XIX-XX вв.2 Более того, если
философские воззрения многих современников Пушкина нужно извлекать
из редких или забытых изданий, то пушкинские философские
афоризмы живут и в наши дни, формулируя удивительно точно не
только многие этические и эстетические понятия, но и такие понятия
теории познания, как «опыт», «понимание» и др.
Вспомним хотя бы некоторые поэтические формулировки:
«.. .Гений и злодейство - / Две вещи несовместные» (IV, 294).
«...Гений, парадоксов друг» (II, 171).
«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» (II, 181).
«Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю» (IV, 334).
«На свете счастья нет, но есть покой и воля» (И, 236).
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам (И, 200).
«Да здравствуют музы, да здравствует разум!» (II, 51).
«...Опыт, сын ошибок трудных» (И, 171).
«...Наука сокращает / Нам опыты быстротекущей жизни» (IV, 217).
1 См.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Комментарий. Л., 1983. С. 182-183.
2См., напр.: Пушкин в русской философской критике. М., 1990.
64
«... Случай, бог изобретатель» (II, 171).
«Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу...» (II, 190).
«...И нет истины, где нет любви» (VI, 238).
Почти каждая из этих формул - своего рода концепция. Но
философская мысль поэта - не просто «изюминки», извлекаемые из
«сладкой булки» его произведений. Целый ряд его созданий относится к
жанру философской поэзии, как, например, «маленькие трагедии» -
«Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во
время чумы», «Медный всадник», «Борис Годунов». В «Медном
всаднике» Пушкин ставит проблему трагического противостояния
счастья отдельной личности и общественного блага. Порой понимание
той или иной философской проблемы раскрывается им во многих
его произведениях. Это относится, в частности, к таким проблемам,
как понимание свободы и счастья, соотношения красоты и пользы,
как определения места поэта в обществе.
Следует иметь в виду, что в течение своей недолгой жизни и
творчества Пушкин, оставаясь самим собой, менял свои философские
ориентации. В первый период своего творчества (до 1822-1823 гг.) поэт
увлекался французскими просветителями, симпатизировал,
эпикуреизму, проповедовавшему генодистическое (наслажденческое)
отношение к жизни. В эти годы слооф «философ» далеко не всегда для него
означало отрешение от жизненных удовольствий и бывало в таком
сочетании: «философ резвый и пиит» (1,50), «философ и шалун» (1,226).
В последующие годы Пушкин все более углубляется в философское
осмысление социальных, нравственных и религиозных проблем,
показывая несостоятельность наслажденческого отношения к жизни и
утверждая высокие принципы общечеловеческой нравственности.
ПОИСКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛЮБОМУДРИЯ
£. А. Баратынский
Большой интерес и в наше время вызывает творчество Евгения
Абрамовича Баратынского ( 1800-1844), одного из выдающихся
представителей «золотого века» русской поэзии. Если философские идеи
Пушкина входят составной частью в поэтическую картину
воплощенной им «энциклопедии русской жизни», то его друг Баратынский
раскрывается в своем творчестве как поэт-философ по
преимуществу. «Баратынский, - отмечал Пушкин, - принадлежит к числу
отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит» (VI, 152).
По его словам, Баратынский «с удивительным искусством»
соединил «метафизику и поэзию» (VI, 57).
У самого Баратынского был глубоко осмысленный интерес к
философии. «Нам очень нужна философия», - писал он Пушкину в ян-
3-99
65
варе 1826 г. «Философ я» - так назвал себя поэт в одном
стихотворении1. Философские размышления поэта стимулировались общением
с П. Я. Чаадаевым и членами «Общества любомудрия», особенно с
И. В. Киреевским, которые были сторонниками философии Шеллинга.
Будучи приверженцем романтического направления, Баратынский
первоначально симпатизировал философии Шеллинга. Особенно ему
импонировала шеллингианская идея о внутреннем единстве,
тождестве духа и природы, что отразилось, например, в стихотворении «На
смерть Гёте»:
С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье.
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна (174).
Но Баратынский не стал правоверным шеллингианцем. В письме
Пушкину он сетовал, что «московская молодежь помешана на
трансцендентальной философии» и, хотя ему нравится «поэзия»
немецкой эстетики (он познакомился с ней через «.Опыт науки изящного»
А. Галича), «начала ее», по его мнению, «можно опровергнуть
философически». Поэт-философ опознавал, что между человеком и
природой существует не только гармония, но и трагические
противоречия, которые могут привести человечество к уничтожению
(«Последняя смерть») (137-140).
Философия Шеллинга, как и Гегеля, была близка Баратынскому
своей диалектичностью, учением о существовании в природе
единства противоположностей, о противоречиях, пронизывающих бытие
и сознание. Философская поэзия Баратынского диалектична, и в этом,
как нам представляется, одна из причин ее непреходящей
значимости, которую пророчески предвидел сам поэт:
И, как нашел я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я (144).
Притом, при всем влиянии на творчество Баратынского
диалектических идей немецкой философии, а также диалектики Гёте и
романтической поэзии, основным источником диалектичности стихов
Баратынского была сама жизнь в ее противостоянии смерти.
Жизнь - результат противоречия, ибо «возникнул мир цветущий
/ Из равновесья диких сил» (141). Но противоречива функция самой
смерти: она не только отрицает жизнь, но и сохраняет ее, «смиряя
буйство бытия»:
1 Баратынский Е. А. Поли. собр. стихотворений. Л., 1989. С. 149. В
дальнейшем ссылки на страницы этого издания даны в тексте.
66
Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес (142)
Баратынский поэтически осмысливает противоречивость
времени: «Не вечный для времен, я вечен для себя: ...Мгновенье мне
принадлежит, / Как я принадлежу мгновенью» (73). «Роковая
скоротечность! / В тягость роскошь мне твоя, / О бессмысленная вечность!»
(182).
В стихотворении «К чему невольнику мечтания свободы?» поэт
передает диалектическую напряженность между свободой и
неизбежностью судьбы: хотя люди - «рабы самовластного рока» (78), они -
земные дети Прометея, бросившего вызов небу. Поэзия
Баратынского пронизана духом стоицизма и эстетического гуманизма -
утверждения достоинства человеческой личности во всех превратностях ее
бытия. Сами страдания людей диалектически сопряжены со
счастьем: «Страданье нужно нам; / Не испытав его, нельзя понять и
счастья» (74), - пишет поэт.
Ф. И. Тютчев
Философия эстетического гуманизма нашла выражение и в
творчестве Федора Ивановича Тютчева (1803-1873). Несмотря на
устойчивую репутацию Тютчева как поэта-философа, у некоторых
исследователей его творчества порой возникают сомнения по этому
поводу, связанные с пониманием самой философии. Далеко не все,
написанное поэтом, относится к философии. Его политические стихи и
публицистика, представляющие, конечно, большой интерес для
характеристики мировоззрения Тютчева и умонастроения его эпохи, к
философии в строгом смысле слова не принадлежит.
По своим социально-политическим воззрениям он был близок к
славянофилам. Ему принадлежит знаменитое четверостишие,
написанное в 1866 г.:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить1.
Тютчев - прежде всего поэт-художник, не ставящий перед собой
задачу конструировать какую-либо философскую систему или
иллюстрировать образами те или другие философские воззрения. И тем
не менее включение его поэзии в философскую мысль России
представляется вполне оправданным.
1 Тютчев Ф. И. Поли. собр. стихотворений. Л., 1987. С. 229. Далее ссылки
на страницы этого издания даются в тексте.
3*
67
Тютчев в период своего длительного пребывания за границей был
хорошо знаком с Шеллингом - кумиром многих русских
интеллектуалов 20-40-х гг. И хотя русский поэт не во всем был согласен с
немецким философом, отзвуки шеллингианства обнаруживаются в
стихах Тютчева, поскольку Шеллинг в своей философии, близкой
романтическому мировосприятию, превосходно выразил тот душевный
настрой, который был присущ и романтическому умонастроению
поэту-мыслителю1.
В 1836 г. в пушкинском «Современнике» были напечатаны
ставшие знаменитыми строки Тютчева:
Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык... (135).
Комментаторы усматривают в этом четверостишии и проявление
«философии тождества» (тождества духа и природы) Шеллинга, и
даже полемику с Гегелем, для которого природа была
«отчуждением» абсолютной идеи. Порой считают, что Тютчев следовал за Руссо,
писавшим, что природа «говорит всем людям». Как бы там ни было,
русский поэт афористически выразил свое понимание природы,
близкое шеллингианству, связанное с пантеизмом (не случайно цензура
сняла последующие два четверостишия), осознанием духовности
природы. Тютчев в своих стихах утверждал тождество духа и
природы. Именно благодаря этому образы и состояния природных
явлений в тютчевской лирике стали проявлением мыслей, чувств,
стремлений «лирического героя», для которого «все во мне, и я во
всем!» (127).
Как и поэзия Баратынского, стихи Тютчева пронизаны
диалектическим миропониманием. Влияние на него и в этом отношении
немецкой философии и романтической поэзии не подлежит сомнению,
хотя в некоторых стихах исследователи находят и отзвук античной
диалектики - Гераклита. Но как и у Баратынского, у Тютчева
диалектическая противоречивость внешнего мира и внутреннего мира
человека подсказывается самим бытием, физическим и духовным.
Сама «вещая душа» поэта и «сердце, полное тревоги» бьется «на
пороге / Как бы двойного бытия» (192). Земля и небо, день и ночь,
гармония и хаос, смерть и сон, самоубийство и любовь, само бытие и
небытие сплетаются и переплетаются в тютчевских стихах,
обнаруживая противоположность друг другу и внутренние противоречия.
Поэтому так удивительно выражено в этих стихах само движение,
текучесть, превращения.
1 Об отношении Тютчева к философии Шеллинга см.: Топоров В. Н.
Заметки о поэзии Тютчева (Еще раз о связях с немецким романтизмом и шеллингиан-
ством) // Тютчевский сборник. Таллинн, 1990. С. 77-107.
68
Но в центре поэзии Тютчева - «Ты, человеческое Я» (173), его
радости и страдания, сила и бессилие, счастье и несчастье,
отрешенность от мира и растворение в нем. В этом прежде всего и состоит
философское значение его поэзии, в которой таким образом
запечатлен новый уровень человеческого самосознания и ценность самой
человечности.
В течение первой половины XIX в. Россия искала свою
самобытную философию. Это утверждение может показаться не
соответствующим действительности, поскольку, по словам безвременно
скончавшегося поэта и философа Д. В. Веневитинова, в отличие от
других народов, у которых просвещение развивалось из отечественных
начал, «Россия все получала извне». И 20-30-е гг. были временем
чрезвычайной популярности немецкого философа, имя которого уже
упоминалось в связи с философскими воззрениями А. Галича,
Баратынского и Тютчева, - Шеллинга. Для Веневитинова, как и многих
других русских мыслителей, Шеллинг олицетворял философию, а
Россия должна овладеть философией, ибо именно в философии
Россия найдет «залог своей самобытности», «нравственной свободы в
литературе». «Воздвигнуть торжественный памятник любомудрию»,
даже «в нескольких благородных сердцах», полагал Веневитинов и
его единомышленники, - этд значит побудить Россию «развить свои
силы и образовать системы мышления»1.
Почему именно Шеллинг стал «властителем дум» в данный
период развития философской мысли в России? Причиной этого было
сочетание ряда исторических обстоятельств. Мы уже отмечали
господство в это время романтического направления в искусстве. А ведь
Шеллинг создал наиболее развитую и наиболее популярную
философию романтизма. Философия Шеллинга, усматривающая в
искусстве высшую форму познания, в то же время большое внимание
уделяла осмыслению природы, с учетом новейших достижений
естествознания.
Натурфилософия Шеллинга, свободная от механического
истолкования природы, стремилась объединить знания о природе с точки
зрения диалектического принципа единства противоположностей,
наглядное представление о котором дает полярность магнитных
полюсов. Но диалектика Шеллинга была идеалистической. Природа
мыслится им как снятие противоположности между объектом и
субъектом, как единство, пронизанное «мировой душой», как история
развития творческого духа от бессознательного состояния до высшего
сознания и свободы.
Философия Шеллинга - новый этап в развитии немецкой
философии после Канта и Фихте. Фихте стремился преодолеть дуализм
1 Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. Письма. Воронеж, 1985. С. 198,202.
69
Канта - утверждение о противоположности между миром явлений,
предстоящих перед человеческим познанием, и миром
непознаваемых «вещей в себе». Но единство мира, по Фихте, зиждилось на
субъекте, на «Я». «Наукоучение» Фихте исходило из того, что «Я»
есть всё. Шеллинг же делает акцент на объективной стороне мира,
на природе. Однако в его понимании сама природа одухотворена, она
есть движение от бессознательного «Я» к сознательному, к
тождеству объекта и субъекта, природы и духа. В противоположность
фихтеанскому принципу: «Я» есть всё, Шеллинг стремился обосновать
принцип: всё есть «Я».
В. Ф. Одоевский - один из видных шеллингианцев 20-х гг. - так
писал о значении Шеллинга: «В начале XIX века Шеллинг был тем
же, чем Христофор Коломб [Колумб] в XV: он открыл человеку
неизвестную часть его мира, о которой существовали только какие-то
баснословные предания, - его душу!.. Все бросились в эту чудную,
роскошную страну»1.
* Д. М. Велланский и М. Г. Павлов
Первым шеллингианцем в России был Дцнило Михайлович
Велланский ( 1774-1847), который слушал лекции Шеллинга в Вюрцбург-
ском университете и был отмечен им как очень способный ученик.
Велланский был послан в Германию после учебы в Киевской
духовной академии и в Петербургской Медико-хирургической академии.
Возвратившись на родину в 1805 г., он представил диссертацию «О
преобразовании теории медицины и физики с помощью
натуральной философии». Хотя Велланский хотел получить кафедру
философии, он стал профессором анатомии и физиологии, не прерывая
занятия в области практической медицины. В своих трудах по
проблемам «философического естествознания» Велланский опирается на
натурфилософию Шеллинга и Окена - немецкого ученика и
последователя Шеллинга; философские воззрения Окена были также
хорошо известны в России (кстати, лекции Шеллинга Велланский
слушал одновременно с Океном). Для русского шеллингианца «природа
есть произведение всеобщей жизни, действующей в качестве
творящего духа», а «человеческий организм, как внутренний и
индивидуальный мир, равен внешнему универсальному, состоящему из
солнца, планет и элементов».
Сторонником философии Шеллинга стал также Михаил
Григорьевич Павлов (1793-1840). После изучения богословия и философии
в Воронежской семинарии он в 1813 г. год провел в Харьковском
университете, в котором в это время преподавали приглашенный из
Германии профессор Иоганн Баптист Шад (1758-1834), знакомивший
1 Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 15-16.
70
своих слушателей с новейшей немецкой философией, особенно с
идеями Шеллинга, а также естествоиспытатели-шеллингианцы. В
1818 г. Павлов, окончив Московский университет по медицинскому
и математическому отделениям и защитив докторскую диссертацию,
продолжил образование за границей, где становится убежденным
приверженцем натурфилософии Шеллинга и Окена. С 1820 г.
Павлов - профессор Московского университета в области
естественных наук - минералогии, сельского хозяйства, физики. Подобно
Велланскому, Павлов акцентировал внимание прежде всего на
проблемах натурфилософии, но в своих статьях,
публиковавшихся в издаваемом им журнале «Атеней» и других журналах («Мне-
мозина», «Московские ведомости», «Телескоп», «Отечественные
записки» и др.), он выступал и по проблемам теории познания, и
даже по вопросам эстетики («Различие между изящными
искусствами и науками»).
Собственные философские воззрения М. Г. Павлова, в которых
он в духе Шеллинга отстаивал единство теоретического и опытного
знания («умозрительные сведения возможны только при опытных»),
философии и научных знаний, в наши дни представляют интерес
только для историков философии. Но его педагогическая и
журналистская деятельность, пропаганда им философских знаний оказали
большое воздействие на формирование взглядов творческой молодежи.
Его лекции слушали и ценили Лермонтов и Герцен, Станкевич и
Белинский, многие естествоиспытатели, в том числе М. А.
Максимович и К. Ф. Рулье.
«Германская философия была привита Московскому
университету М. Г. Павловым, - писал А. И. Герцен в «Былом и думах». -
Кафедра философии была закрыта с 1826 года. Павлов преподавал
введение к философии вместо физики и сельского хозяйства. Физике
было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству -
невозможно; но его курсы были чрезвычайно полезны. Павлов стоял в
дверях физико-математического отделения и останавливал студента
вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что
такое знать?»... Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение
Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда
не имел ни один натурфилософ».
Лекции Павлова, как и труды Велланского, способствовали
разрастающемуся интересу к философии Шеллинга в кругах русской
интеллектуальной молодежи, которая ощущала потребность в
формировании отечественной философии в России. На первый взгляд
может показаться странным, почему поиски самобытной
философии были сопряжены с распространением шеллингианства, т. е.
философии явно неотечественной! Дело в том, что Шеллинг и его
последователи тогда воспринимались не как проводники
иностранного интеллектуального влияния, а как создатели новейшего
71
способа философствования, овладение которым может
способствовать преодолению французского «легкомыслия» просветительской
философии и в конечном счете становлению самобытного
любомудрия.
Д. В. Веневитинов и В. Ф. Одоевский
Показательно, что древнерусское слово «любомудрие» вошло в
название московского философского кружка - «Общества любомудрия»,
основанного в 1823 г. В этот кружок входили талантливые
воспитанники Московского университета (их называли также «архивными
юношами», поскольку многие из друзей-любомудров находились на службе в
Архиве Министерства иностранных дел в Москве). Председателем
кружка стал Владимир Федорович Одоевский (1803 или 1804-1869),
Дмитрий Владимирович Веневитинов ( 1805-1827) - его секретарем. Членами
кружка были молодые любомудры И. В. Киреевский - впоследствии
теоретик славянофильства; С. П. Шевырев, также ставший
славянофилом; А. И. Кошедев - общественный деятель и публицист, «историю)
кружка. Связь с любомудрами поддерживал В. К. Кюхельбекер.
Печатным органом кружка любомудров был альманах «Мнемо-
зина», четыре книжки которого вышли в течение 1824-1825 гг. Но в
декабре 1825 г. кружок самораспустился и Одоевский уничтожил его
протоколы.
В. Ф. Одоевский был двоюродным братом декабриста А. И.
Одоевского, но как раз их взаимоотношения достоверно показывают, что
любомудры в своей деятельности не были связаны с декабризмом.
Однако они опасались возможных репрессий за свою кружковую
работу. Хотя формально «Общество любомудрия» прекратило свое
существование, его участники, переехавшие в Петербург, продолжали
заниматься философскими проблемами, сотрудничали в журнале
М. П. Погодина «Московский вестник».
Д. В. Веневитинов был талантливым поэтом, критиком и
мыслителем-философом, прожившим на свете всего 22 года. В год своей
смерти он писал в стихотворении «Поэт и друг»: «Как знал он жизнь!
как мало жил!» Закончив вольнослушателем Московский
университет, где он посещал лекции А. Ф. Мерзлякова, М. Г. Павлова и
русского шеллингианца того времени К И. Давыдова (1794-1863),
Веневитинов принимал активное участие в литературных спорах и
философских дискуссиях, стал душой кружка любомудров. За свою
короткую жизнь он успел прославиться не только как поэт и критик
(Пушкин говорил, что статья Веневитинова о «Евгении Онегине» -
единственная, которую он «прочел с любовью и вниманием»), но и
как философ-любомудр.
Даже труды Мерзлякова казались молодому мыслителю
недостаточно теоретическими. Противопоставляя философию религиозной
72
схоластике, Веневитинов считал, что «философия есть высшая
поэзия». Философия, по его убеждению, «должна свести все науки к
одному началу», «она есть познание самого познания». В таком
понимании философии Веневитинов несомненно идет от Шеллинга, но
стремится его взгляды творчески переосмыслить. Если у Шеллинга
в центре его философии «самосознание», то для его русского
последователя - «познание познания». В своем «Втором письме о
философии» (1826) Веневитинов ставит вопрос: что является изначальным -
субъективное или объективное! Для него этот вопрос равнозначен
двум предположениям: «Или природа всему причина», и тогда «как
присоединился к ней ум, который отразил ее?»; «Или ум есть
существо начальное», и тогда «как родилась природа, которая отразилась
в нем?» В соответствии с этим сама философия распадается на «две
науки равносильные»: «естественная философия» - «наука
объективного, или природы»; «трансцендентальный идеализм» - «наука
субъективного, или ума». И «естественная философия», и «идеализм»
стремятся друг к другу, «так как объективное и субъективное всегда
стремятся одно к другому»1.
Если ранние русские шеллингианцы Велланский и Павлов
занимались главным образом «естественной философией» -
натурфилософией, то любомудры повышенный интерес проявляли к «науке
субъективного, или ума». Ии импонировало стремление Шеллинга
эстетизировать философию, усматривать в философии искусства
доказательство тождества природы и «интеллигенции», под которой он
понимал разумно-субъективное начало.
Большое влияние Шеллинг оказал на председателя кружка
любомудров В. Ф. Одоевского - философа, писателя, музыкального
критика. Одоевского привлекал эстетизм философии раннего Шеллинга,
созвучный с его эстетическими воззрениями, согласно которым
«искусство есть второе мироздание», а «основание красоты не в природе, но
в духе человеческом». С точки зрения Одоевского, «философия есть
теория сущего», «Вселенная - отпечаток божества, бог в предмете»,
«цель человека - уподобиться божеству». Этому и должны служить,
по его мнению, «все теории: искусства, нравственности, философии»2.
Вспоминая благотворное воздействие философии Шеллинга на
русскую образованную молодежь 20-х гг., Одоевский в своем
философском романе «Русские ночи» (1844) указал на осознание
недостаточности шеллинговской «философии тождества» в 30-40-е гг. Да и
сам создатель «философии тождества» переходит на позиции
мистической «философии откровения». В этом же направлении,
противоположном панлогизму Гегеля, самостоятельно развивается и умона-
1 Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. Письма. С. 196, 197.
2 Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. Т. 2. С. 162, 163,
171,164.
73
строение Одоевского, который в 1842 г. встретился с Шеллингом и
убедился в родственности их философской эволюции, а также в
благодарной любви Шеллинга к России, где его философская система
получила широкую известность. Сам же Одоевский в критике
западной цивилизации, в утверждении, что «девятнадцатый век
принадлежит России», сближается со славянофилами, хотя в последний
период творчества по ряду вопросов он противопоставляет свои взгляды
их учению. В эти годы, как отмечают исследователи, Одоевский
отдаляется от мистицизма, отдает должное «опытному наблюдению»,
признающему только «авторитет фактов».
На всех этапах своей творческой эволюции Одоевский особое
значение придавал эстетическому осмыслению мира. В самой науке он
усматривал необходимость поэтичности, ибо тайны мира, по его
мнению, не раскрываются без художественного дара ученого.
Правда, собственно эстетические воззрения Одоевского также
претерпели определенные изменения. Если в ранний период творчества он
был убежден в «единстве Теории изящного», то уже к 30-м гг.
начинает сомневается в этом, полагая, что «основание Изящного
находится лишь* в самом произведении». Если на начальном этапе своей
теоретической деятельности Одоевский центральное место среди
видов искусства отводит поэзии, то затем он в этом отношении
отдает предпочтение музыке. Прекрасный знаток музыкального
творчества, Одоевский явился родоначальником русской философии музыки.
Влияние философии Шеллинга на развитие эстетических
взглядов в России проявилось не только в столицах - Петербурге и
Москве. В Харьковском университете пропагандой эстетических учений
занимался Иван Яковлевич Кронеберг (1788-1838). Сторонником
философии Шеллинга в Дерптском (Тартуском) университете был
Михаил Петрович Розберг (1804—1874).
Но Шеллинг, стимулируя развитие русской философии и
эстетики, в 30-40-е гг., говоря словами Одоевского, перестает
удовлетворять «искателей истины». И дело не только в том, что в России
появляется новый философский кумир - Гегель. Русская философская
мысль, в том числе эстетическая, стремилась творчески осмыслить
российскую действительность и литературу, которая в лице
Пушкина, Гоголя, Лермонтова поднялась на мировой уровень. В этот
период предметом философского анализа для русских мыслителей стала
также история и мировая литература.
Н. И. Надеждин
Крупным русским эстетиком 30-х гг. был Николай Иванович На-
деждин (1804-1856). В своих эстетических воззрениях он исходил
из определенных философских положений, поэтому его по праву
считают одним из ведущих представителей русской «философской эсте-
74
тики». Он окончил Московскую духовную академию, но занялся
литературной критикой, опубликовав в 1828 г. в журнале «Вестник
Европы» под псевдонимом «Никодим Надоумко» статью, сокрушавшую
романтизм и не щадившую общепризнанных мэтров мировой
литературы. В 1830 г. Надеждин защищает докторскую диссертацию (на
латинском языке) «О происхождении, природе и судьбах поэзии,
называемой романтической» ив 1831 г. становится профессором
Московского университета по кафедре теории изящных искусств и
археологии. В то же время он активно участвует в журнальной полемике
и сам издает с 1831 г. журнал «Телескоп» с приложением газеты
«Молва». В этих изданиях начал сотрудничать Белинский, который
слушал лекции Надеждина еще в университете, как и другие в
будущем выдающиеся мыслители и литераторы - Н. В. Станкевич, К. С.
Аксаков, Ю. Ф. Самарин и др. Деятельность Надеждина была
прервана ссылкой за публикацию в «Телескопе» «Философического
письма» Чаадаева в 1836 г. Возвратившись из ссылки в 1838 г., он не
оставил научных занятий, но они были связаны не с философией и
эстетикой, а с этнографией, лингвистикой, историей, географией.
Каких философских взглядов придерживался Надеждин? Он был
одним из самых философски образованных людей России. Отвергая
субъективный идеализм (названный им «исступленным идеализмом»)
Беркли и Фихте, не принимая^скептицизма Юма и «критицизма
Канта», который, по его словам, тщетно старался «запугать
испытующий разум антиномиями», Надеждин в то же время - противник
французского материализма. Придерживаясь платоновской линии в
философии, русский мыслитель, как и любомудры, в «транценденталь-
ном идеализме» и «философии тождества» Шеллинга усматривает
высшее достижение философской мысли. В Шеллинге его
привлекают стремление к системности, выявление единства законов бытия и
мышления, «вещественности» и «идеальности», диалектическая идея
развития через противоречия, которые снимаются в высшем синтезе.
Между тем Надеждин не стал правоверным шеллингианцем; он
стремился творчески применить философскую концепцию Шеллинга к
теоретическому осмыслению искусства в его историческом
развитии, в итоге выходя за пределы шеллингианства. По его словам,
«философия не переводится и не переносится - а произращается
из недра духа!»1.
Диалектическую точку зрения Надеждин стремится применить в
своей докторской диссертации для осмысления исторического
развития искусства на материале поэзии. Он исходит из положения, что
«формы поэзии определяются духом того времени, к которому она
относится». В соответствии с тем что были античность и
предшествующий ей «первобытный» мир Древнего Востока, затем - Сред-
1 Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М, 1972. С. 117.
75
невековье и Новое время, то и поэзия подразделяется им на
«первобытную», предшествующую «классической», «романтическую» и
«новую». «Классическая» поэзия - искусство античного мира -
характеризуется объективностью. «Романтическая» поэзия -
искусство Средневековья, сосредоточенного на внутренней духовной
жизни, - субъективна. Новейшая форма искусства являет собой
своеобразный синтез «классического» и «романтического» начал.
Поскольку «дух романтической поэзии вытекал
непосредственно из духа Средневековья», то, по мнению Надеждина,
«восстановление романтической поэзии в наше время невозможно»1. То, что
именуется «романтизмом», считает он, являемся жалким подражанием
прошлому и позорит наше время, искусство же, соответствующее
своему времени, должно быть естественным, народным,
исторически содержательным. При всем схематизме надеждинской трактовки
истории искусства и романтизма эта трактовка обозначила новые
перспективы художественного развития, которые затем четко прочертил
ученик Надеждина - Белинский.
Однако обратим внимание на то, что, следуя Шеллингу, Надеж-
дин выходит, по существу, за пределы шеллингианства, которое было
философией романтического искусства, против которого восстал
диссертант Московского университета. В университете же молодой
профессор читал не только эстетику и историю искусства, но также
и логику. В связи с последней он обращает внимание на Гегеля.
Чернышевский не без основания полагал, что Надеждин не только
пошел «далее Шеллинга», но «и приблизился силою самостоятельного
мышления к Гегелю, которого, как по всему видно, не изучал».
В своих лекциях по эстетике Гегель выделяет три исторических
формы искусства: символическую, выразившуюся в искусстве
Древнего Востока; классическую, соответствующую античному
искусству; романтическую, начавшуюся с христианской эпохи. Публикация
этих лекций немецкого философа осуществилась лишь в 1835-1838 гг.,
и Надеждин, естественно, не мог это знать во время написания
докторской диссертации и отрывков из нее, опубликованных в 1830 г. в
журналах «Вестник Европы» и «Атеней». Между схемой Надеждина
и концепцией Гегеля в отношении этапов художественного развития
человечества имеются определенные совпадения, обусловленные
диалектическими принципами, примененными к эстетике
(выявление классической и романтической форм искусства, стадия
древневосточного искусства, у Гегеля имеющая самостоятельное значение,
а у Надеждина как предыстория классической формы). Однако у
немецкого философа с романтической формой заканчивается
искусство вообще, уступая место другим видам сознания - религии и
философии. У русского же эстетика утверждается возможность новой,
1 Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. С. 253.
76
высшей ступени развития искусства, синтезирующей
предшествующие его достижения.
Эстетические воззрения Надеждина не свободны от
метафизической ограниченности. Он признавал непреходящие и вечные
законы прекрасного и «абсолютную поэзию», объединяющую
объективность классицизма с субъективностью романтизма. Сам
эстетический вкус, по его заключению, носит абсолютный характер, как и
«правила», которыми должна руководствоваться художественная
критика. Эти установки помешали ему справедливо оценить роман
«Евгений Онегин» и ряд других произведений Пушкина, которые не
умещались в эстетические схемы Надеждина, хотя критик видел
поэтический дар автора «Онегина», а «Бориса Годунова» ценил
чрезвычайно высоко. И тем не менее именно Надеждин был предтечей
нового понимания художественного творчества, усматривающего его
связь с действительностью, с жизнью. Первый тезис его
диссертации: «Где жизнь, там - поэзия»1 - стал отправным пунктом эстетики
«натуральной школы» и концепции реализма в искусстве. По Надеж-
дину, «красота есть не что иное, как высочайшая гармония жизни»2.
'%
1 Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. С. 252.
2 Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. Т. 2. С. 486.
IV
ЗАПАДНИКИ И СЛАВЯНОФИЛЫ
П. Я. Чаадаев
Как уже отмечалось, за публикацию в «Телескопе»
«Философического письма» П. Я. Чаадаева издатель журнала был наказан
ссылкой. Какой криминал содержался в этом «Письме»*> Кто был его
автором?
Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856) принадлежал к родовой
знати России. Его дед по материнской линии - князь M. М.
Щербатов, автор памфлета «О повреждении нравов в России»,
консервативной утопии «Путешествие в Землю Офирскую» и диалога «О
бессмертии дущи». Получив превосходное домашнее образование (в
качестве учителей приглашались даже профессора университета),
Чаадаев в 1808 г. поступил в Московский университет, где
подружился с А. С. Грибоедовым и будущим декабристом И. Д. Якушки-
ным. Во время Отечественной войны 1812 г. - в действующей армии.
Он участник Бородинского сражения, сражения под Кульмом. Еще
до войны, интересуясь философскими проблемами, Чаадаев,
блестящий гусарский офицер, был занят поисками истинного
миропонимания. Он вступает в масонскую ложу «Соединенных друзей»,
становится даже «мастером», но разочаровывается в масонстве ив 1821 г.
покидает это тайное общество. В том же году Чаадаев дает согласие
И. Д. Якушкину вступить в другое тайной общество - декабристское
общество «Союз благоденствия».
Среди будущих декабристов у Чаадаева не только много хороших
знакомых, но и немало друзей. С П. И. Пестелем он был знаком, еще
будучи «мастером» масонской ложи, встречался с идейными
руководителями Северного общества Н. И. Тургеневым и H. М. Муравьевым,
дружил с М. И. Муравьевым-Апостолом, знаком также был с его
братом, казненным после декабрьского восстания на Сенатской площади,
С. И. Муравьевым-Апостолом. Но декабристом Чаадаев не стал при
всем сочувствии к их идеям и взглядам (антикрепостничество, вера в
просвещение, необходимость конституции); он был противником
политического насилия, тем более кровавого. Во время кульминации
декабристского движения Чаадаев был за границей (1823-1826), куда он
выехал после неожиданной отставки накануне предполагаемой
блестящей карьеры в качестве флигель-адъютанта царя Александра I. Тем
78
не менее, возвращаясь в Россию, Чаадаев был подвергнут допросу, его
бумаги и книги были изъяты и тщательно просмотрены, из чего был
сделан вывод, что «он имел самый непозволительный образ мыслей и
был в тесной связи с действовавшими членами злоумышленников».
Однако, поскольку в ходе следствия над декабристами выяснилось,
что Чаадаев не принимал участия в деятельности тайных обществ, не
причастен к политическим акциям декабристов и расходился с ними в
оценке их намерений, он был «допущен» на родину и освобожден от
дальнейших следствий по этому делу.
Отношение Чаадаева к движению декабристов в определенной
мере подобно пушкинскому, так как поэт также близко знал многих
декабристов, разделял их просветительские идеи, но далеко не
всегда солидаризировался с их программой и действиями. Это сходство
не было случайным. С юности и до конца своих дней Пушкин был
близким другом Чаадаева, который оказал большое воздействие на
становление поэта как мыслителя. Именно Чаадаеву Пушкин
посвятил знаменитые строки:
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут ria%m имена!
В 1818г. друзья ждали
.. .с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
мечтая посвятить отчизне «души прекрасные порывы».
В 1824 г. Пушкин вновь обращается к своему другу, но уже с
другим умонастроением:
Чедаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.
После возвращения из-за границы, где он в Карлсбаде в 1825 г.
встречался с Шеллингом, русский мыслитель стремится определить
свое миропонимание. Чаадаев выезжает из Москвы в имение своей
тети, изучает труды по философии и религии и работает над своими
«Философическими письмами». Появляется он в «свете» только в
1831г. Все попытки мыслителя опубликовать свой философский труд
заканчиваются безрезультатно. Лишь в 1832 г. в журнале «Телескоп»
79
публикуется его небольшая статья об архитектуре и несколько
афористически выраженных философских размышлений. В сентябре
1836 г. в этом же журнале было опубликовано в русском переводе
(Чаадаев писал по-французски) первое его «Философическое
письмо», и разразилась буря. Автора произведения в соответствии с
резолюцией самого Николая I, обозвавшего «Письмо» смесью
«дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного», объявляют
сумасшедшим. У Чаадаева изымаются все бумаги, и потребовано объяснение.
Следует отметить, что автор «Философического письма» настроил
против себя не только правительственные круги, но и
«общественное мнение», которое как бы реализовало способ расправы с
инакомыслящим, описанный в «Горе от ума» университетским товарищем
Чаадаева - Грибоедовым. §
Разгневал «Басманный философ» (так стали называть Чаадаева
после того, как он в 1833 г. поселился в московском доме Левашевых
на Ново-Басманной) не только правительственные сферы и
церковных иерархов, но и многих читателей. Даже друзья философа
отнеслись критически к некоторым положениям его «Философического
письма». А.,С. Пушкин, получив от Чаадаева оттиск журнальной
публикации, писал в последнюю осень своей жизни, что «далеко не во
всем согласен» с ним. Это несогласие относится к выраженной в
«Письме» концепции русской истории. И в то же время, в отличие от
недоброжелателей Чаадаева, Пушкин заключил свое письмо такими
словами: «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в
вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что
наша общественная жизнь - грустная вещь. Что это отсутствие
общественного мнения, что равнодушие ко всему, что является долгом,
справедливостью и истиной, это циничное презрение к
человеческой мысли и достоинству - поистине могут привести в отчаяние. Вы
хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши
исторические воззрения вам не повредили»1. Поскольку же опасения
поэта подтвердились преследованиями Чаадаева, он даже не
отправил свое письмо, чтобы не участвовать в общем хоре поношения.
Чаадаев, как бы мы сейчас сказали, «вызвал огонь на себя»
прежде всего горькими размышлениями о судьбе России, которая живет
(«мы живем, - писал автор «Письма», - не отделяя себя от своей
страны») «лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без
будущего, среди плоского застоя»2. России он противопоставляет
Запад, народы Европы, в истории и современной жизни которых
осуществляются принципы христианской нравственности. «Хотя мы и
1 Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 10. С. 337.
2 Чаадаев П. Я. Поли. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. М, 1991. Т. 1. С. 325.
Далее ссылки на это издание даются по тексту в скобках: римская цифра
обозначает том, арабская - страницу.
80
христиане, - отмечается в «Письме», - не для нас созревали плоды
христианства» (I, 332). Вину за это Чаадаев возлагает на
православную церковь, унаследованную от «растленной Византии» (I, 331). В
европейском же обществе, «невзирая на все незаконченное,
порочное и преступное», «все же царство Божие в известном смысле в нем
действительно осуществлено» (I, 336). Заслугу в этом Чаадаев
усматривает в деятельности католической церкви и ее папского
престола. В других «Философических письмах», которые ходили по
рукам, это выражено еще острее, чем в первом «Письме».
После скандала и унизительных мер, принятых в отношении к
чрезвычайно чувствительному к своему человеческому достоинству
Чаадаеву, он в 1837 г. пишет «Апологию сумасшедшего», где
уточняется его историософская концепция, а взгляды на судьбу России и ее
будущее существенно меняются.
Было бы ошибочным полагать, что изменение взглядов Чаадаева
на судьбу и будущее России произошло под воздействием
нахлынувших на него бед вследствие публикации первого «Философического
письма». Уже после окончания работы над «Письмами», с начала
30-х гг., мыслитель начинает пересматривать свою историософскую
концепцию, в особенности в связи с «бедной Россией,
заблудившейся на земле» (II, 66). Для пеоесмотра этой концепции был ряд
оснований. Его чрезвычайно разочаровала революция 1830 г. во Франции
и ее последствия. Запад оказывается не столь идеальным, как он
ранее представлялся автору «Писем»: там проявляются индивидуализм
и разгул эгоизма, единство общества в действительности оказывается
иллюзорным, благородные идеи выворачиваются наизнанку. Вместе с
тем на Чаадаева произвело большое впечатление героическое
противостояние российского общества эпидемии холеры 1830 г. Его
нигилистическое отношение к русской старине и отечественной истории
было сильно поколеблено новыми изысканиями в этой области.
Сыграли свою роль беседы и переписка с несогласными с ним друзьями,
особенно с Пушкиным, который читал «Философические письма» до
публикации первого «Письма» и спорил со своим другом
относительно оценок исторических личностей и главных течений в христианстве.
«Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе, -
писал поэт философу в июле 1831 г. - Не заключается ли оно в идее
Христа, которую мы находим также и в протестантизме?»1
Новый взгляд Чаадаева на Россию, на значение для ее развития
просвещения и образования, по-видимому, обусловил его
стремление в 1833 г. поступить на государственную службу в Министерство
просвещения, в чем ему было отказано.
В 1833 г. Чаадаев писал своему другу А. И. Тургеневу: «Как и все
народы, мы, русские, подвигаемся теперь вперед бегом, на свой лад,
1 Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 10. С 315.
81
если хотите, но мчимся несомненно». Он выражает уверенность в
том, что «великие идеи, раз настигнув нас, найдут у нас более
удобную почву для своего осуществления и воплощения в людях, чем
где-либо, потому что не встретят у нас ни закоренелых
предрассудков, ни старых привычек, ни упорной рутины, которые
противостояли бы им» (II, 79). В 1835 г. в письме этому же адресату он
напоминает о своем убеждении в том, что «Россия призвана к необъятному
умственному делу: ее задача дать в свое, время разрешение всем
вопросам, возбуждающим споры в Европе». Именно благодаря своему
положению вне стремительного движения Россия получила
возможность спокойно и беспристрастно взирать на волнующие души
проблемы и тем самым «получила в удел задачу дать в свое время
разгадку человеческой загадки» (II, 92). В этом ж« году в другом письме
к А. И. Тургеневу он считает себя вправе сказать, что «Россия
слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику; что
ее дело в мире есть политика рода человеческого» (II, 96).
Не следует думать, что это просто суждения, выраженные в
частном письме. О них российская общественность была осведомлена
благодаря тогдашнему своеобразному «самиздату»: Чаадаев
копировал свои письма, содержащие важные для него рассуждения, и делал
их доступными многим людям, не говоря уже о том, что он
проповедовал свои воззрения и в Английском клубе, и в самых влиятельных
салонах, предавая их «гласности в тесному кругу», которая,
разумеется, не ограничивалась этим кругом. Вообще следует заметить, что
Чаадаев принадлежал к философам сократовского типа. Он, считая
себя наделенным даром предвозвестника истины, считал своим
долгом проповедовать свои взгляды, не облекая их в форму логически
оформленного трактата. Поэтому его основное «философическое»
произведение изложено в виде писем, а многие другие его письма
имеют полное право именоваться «философическими».
Чаадаев, таким образом, не лукавил, когда, давая объяснение по
поводу появившегося в «Телескопе» «Письма», заявлял, что он
изменил свои взгляды на судьбу и будущее России. В этой связи
возникает вопрос, каковы же собственно философские взгляды Чаадаева? В
1843 г., когда уже утих шум, вызванный скандалом 1836 г., когда
автор «Философических писем» включился в новые дискуссии о
судьбе России, возникшие между западниками и славянофилами, он
писал А. И. Тургеневу: «Я - не из тех, кто добровольно застывает на
одной идее, кто подводит все - историю, философию, религию под
свою теорию, я неоднократно менял свою точку зрения на многое и
уверяю Вас, что буду менять ее всякий раз, когда увижу свою
ошибку» (И, 158).
При всей изменчивости конкретно-исторических оценок
Чаадаева даже по такому вопросу, как предназначение его родины, в его
философских воззрениях был неизменный идейный стержень. В раз-
82
rap гонений и обвинений мыслителя в том, что он втаптывает в грязь
свою родину и оскорбляет ее верования, сожалея о публикации
«Письма», содержащего во многом уже преодоленные представления,
Чаадаев писал графу С. Г. Строганову - попечителю Московского
учебного округа и председателю московского цензурного комитета: «Я
далек от того, чтобы отрекаться от всех мыслей, изложенных в
означенном сочинении; в нем есть такие, которые я готов подписать
кровью» (II, 113).
Что представляют собой основные философские идеи Чаадаева,
которые он был готов подписать кровью? Будучи одним из самых
философски образованных людей России, Чаадаев ценил воззрения
античных мыслителей, особенно Платона и Эпикура, однако
первостепенное значение для него всегда имела христианская философия.
Он хорошо знал труды Декарта и Спинозы, Канта и Фихте, был
знаком лично с Шеллингом, встречался с ним и обменивался письмами
и безусловно имел основательные представления о его системе
взглядов. В отличие от русских шеллингианцев, которые исходили из
раннего Шеллинга, его натурфилософии и «философии тождества»,
Чаадаев отмечает близость своих взглядов с миропониманием позднего
Шеллинга, перешедшего к «философии откровения», «стремясь, -
как сам Шеллинг пишет в письме к высоко чтимому им Чаадаеву, -
преодолеть господствовавшей до сих пор рационализм (не
богословия, а самой философии)» (II, 450), т. е. соединить философию и
религию. К Гегелю, которым начала увлекаться русская образованная
молодежь 30-40-е гг., Чаадаев сначала отнесся настороженно и
критически как к антиподу Шеллинга, но затем оценил высоко как
создателя синтетической философии, соединившей субъект и объект.
Гегель, синтезировавший учение Фихте и Шеллинга, по словам
Чаадаева, - «последняя глава современной философии» (I, 497).
Философия самого Чаадаева основывается на христианском
религиозном учении. «Хвала земным мудрецам, - пишет он во втором
«Философическом письме», - но слава одному только Богу!» (I, 352). В
противоположность деизму, признающему Бога только в качестве
создателя мира и его перводвигателя, Чаадаев подчеркивает
непрерывность действия Бога на мир и человека, ибо он «никогда не переставал
и не перестанет поучать и вести его до скончания века» (1,376). «Наша
свобода» - это «образ Божий, его подобие» (там же). Однако без идей,
нисшедших с неба на землю, «человечество давно бы запуталось в
своей свободе» (I, 353), которую человек часто понимает, «как дикий
осленок» (I, 375), и, злоупотребляя своей свободой, творит зло.
В пятом «Философическом письме» мыслитель следующим
образом формулирует «символ веры (credo) всякой здравой философии»:
«Имеется абсолютное единство во всей совокупности существ», «это
единство объективное, стоящее совершенно вне ощущаемой нами
действительности». «Великое ВСЕ» «создает логику причин и след-
83
ствий», - утверждает философ, но при этом он отвергает пантеизм,
который факты «духовного порядка» отождествляет «с фактами
порядка материального» (I, 377, 378). Физически^ мир вполне
познаваем естественными науками, однако существуют «истины откровения»;
истины нравственности «не были выдуманы человеческим разумом,
но были ему внушены свыше» и постигаются разумом,
«проникнутым откровением» (I, 352).
На этих основаниях создается его оригинальная философия
истории, историософия. Ставя перед собой задачу «построить
философию истории», «размышляя о философских основах исторической
мысли» (I, 392), Чаадаев рассматривает проблему соотношения
фактов и достоверности. С одной стороны, полагает он, «никогда не
будет достаточно фактов для того, чтобы все доказать», с другой -
«самые факты, сколько бы их ни собирать, еще никогда не создадут
достоверности» (I, 394). Особое внимание философ уделяет проблеме
соотношения личности и общества в процессе исторического
развития. Для него «единственной основой нравственной философии» и
«основой понятия истории» является замена отдельного
существования Я «совершенно социальным, или безличным» (1,417). В
философии истории Чаадаева важное место занимает его трактовка
вопроса о взаимоотношении между различными народами в процессе
их исторического развития. «
Чаадаев стремится определить всеобщий закон существования и
развития человечества, придающий смысл историческим фактам и
обусловливающий объективную необходимость исторических
событий и нравственный прогресс в обществе. Таким законом для него
является действие Бога, Провидения. Притом «способность к
усовершенствованию» народов и «тайна их цивилизации» состоит в
«христианском обществе», ибо только оно «действительно руководимо
интересами мысли и души» (1,409). Дохристианские общества в Греции
и Риме, в Индии и Китае, в Японии и Мексике, по мнению Чаадаева,
даже в своей поэзии, философии, искусстве служили «одной лишь
телесной природе человека» (1,408) и поэтому оцениваются им
невысоко. Провидение, «мировой разум» проявляется как «разум
христианский». «Для меня, - отмечает он, - к этому сводится вся моя
философия, вся моя мораль, вся моя религия» (1,406). Это для него выступает
и как критерий оценок различных периодов истории, отдельных
личностей, стран и народов. Так он, вопреки просветительской традиции,
отрицательно относится к культуре Древней Греции, к Гомеру,
Сократу. Эпоха Возрождения, понимаемая им как возврат к язычеству,
оценивается «как преступное опьянение, самую память о котором надо
стараться всеми силами стереть в мировом сознании» (1,406).
Парадоксальность философии Чаадаева, которую замечали еще
его современники и исследователи, проявляется в некоторой
произвольности исторических оценок мыслителя. Деятельность Моисея и
84
царя Давида, хотя они принадлежат к дохристианской эпохе,
характеризуется им весьма положительно: так как первый «открыл людям
истинного Бога», а второй «был совершенным образцом самого
святого героизма» (I, 396). Но вот имя Аристотеля, заявляет
«Басманный философ», «станут произносить с некоторым отвращением». В
то же время совершенно неожиданно реабилитируется «от
порочащего его предвзятого мнения» язычник Эпикур, несмотря на то что
он материалист. Положительно также оценивается основатель
ислама Магомет, поскольку Чаадаев считает, что исламизм происходит от
христианства и является одним из разветвлений «религии
откровения». Но вот протестантизм, несомненно, христианская конфессия -
характеризуется отрицательно, против чего протестовал Пушкин в
последнем неотправленном письме к своему другу.
В первом и втором «Письмах» резкие обвинения направлены и
против православия и России. Но затем его оценки меняются на
противоположные, хотя Чаадаев не меняет основ своей историософии. В
шестом «Философическом письме» он выступает как сторонник
объединения всех христианских вероисповеданий, которые должны
возвратиться к «Церкви-матери», т. е. к католицизму (I, 414). Но сам
Чаадаев до конца своих дней остался православным. В 1847 г. он писал
П. А. Вяземскому, что «церковь наша, единственная наставница наша.
Горе нам, если изменим ее мудрому ученью! Ему обязаны мы всеми
лучшими народными свойствами своими, своим величием, всем тем,
что отличает нас от прочих народов и творит судьбы наши» (II, 203).
Чаадаев как личность и его философские воззрения оказали
большое воздействие на развитие русской общественной мысли. Он стоит у
истоков размежевания русских мыслителей в 30-40-х гг. ХГХ в. на так
называемых западников и славянофилов. В первом «Философическом
письме» он выступил во многом как западник. А. И. Герцен называл это
«письмо» «выстрелом, раздавшимся в темную ночь», «безжалостным
криком боли и упрека петровской России». По свидетельству Герцена,
он сблизился с Чаадаевым и они были «в самых лучших отношениях»1.
Но в очень близких отношениях Чаадаев был и со
славянофилами - И. В. Киреевским, А. С. Хомяковым, К. С. Аксаковым, К). Ф.
Самариным, а также С. П. Шевыревым. Он внимательно слушал
голоса споривших между собою западников, считавших, что Россия
должна идти по пути Западной Европы, и славянофилов,
настаивавших на исключительной самобытности России, и сам активно
участвовал в этих дискуссиях в московских салонах конца 30-40-х гг.,
соглашаясь по отдельным вопросам то с теми, то с другими, но не
присоединяясь ни к одной из спорящих сторон.
Западников Чаадаев не случайно называл своими «учениками».
Он посещал в 1843-1845 гг. публичные лекции историка-западника
1 Герцен А. И. Избр. филос. произв.: В 2 т. М, 1948. Т. 2. С. 213, 215, 216.
85
T. H. Грановского, но в эти годы его взгляды на судьбу России были
ближе к славянофильским воззрениям. Однако уже в «Апологии
сумасшедшего» представителей еще только складывающегося
славянофильского направления он именует «наши фанатические славяне»
(I, 528). Взгляды славянофилов характеризуются им как «странные
фантазии», «ретроспективные утопии», «мечты о невозможном
будущем, которые волнуют теперь наши патриотические умы» (I, 532).
В 1851 г. в письме к В. А. Жуковскому он называет славянофилов
«ревностными служителями возвратного движения» (II, 254).
Полагая, что народы, как и отдельные личности, не могут не иметь
своей индивидуальности, Чаадаев выступал против философии
«своей колокольни». Эта философия, по его словам, «занята
разграничиванием народов на основании френологических и филологических
признаков, только питает национальную вражду, создает новые рогатки
между странами, она стремится совсем к другому, нежели к созданию
из рода человеческого одного народа братьев» (1,476). Отвергая чисто
расовый подход к народам, русский философ не принимает идеи ни
панславизма, ни гвштюркизма («пан-татаризма», как он пишет. См. I,
469). В последние годы своей жизни Чаадаев, особенно под
впечатлением от неудая Россиив Крымской войне 1853-18$6 гг., усиливает свою
критику славянофильских идей; он полагает, что Россия в своем
развитии не должна обособляться or европейских народов.
Взгляды Чаадаева в ранний период и в последние годы его жиз-
немыслия порой квалифицировались и современниками философа,
и в наши дни несправедливо как антипатриотизм, русофобия и т. п.
По этому поводу он писал: «Я предпочитаю бичевать свою родину,
предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не
обманывать» (1,469). В «Апологии сумасшедшего» он обосновал
необходимость единения любви к Отечеству и любви к истине, ибо
только такой подход способен, в отличие от «патриотизма лени»,
который «умудряется все видеть в розовом свете и носиться со своими
иллюзиями» (I, 533), принести родине реальную пользу. В 1846 г. он
писал Ю. Ф. Самарину: «Я любил мою страну по-своему, вот и все, и
прослыть за ненавистника России было мне тяжелее, нежели я могу
вам выразить!» (II, 196). Изменения во взглядах Чаадаева на
историческую судьбу России представляли собой переход в свою
противоположность, но в итоге он сам осознал необходимость
диалектического сочетания «мировых идей с идеями местными» (II, 185).
«ЗАПАДНИЧЕСТВО»
Еще в допетровские времена (в XVII в.) появились, по
выражению Г. В. Плеханова, «первые западники и просветители». Тогда
же возникла и «националистическая реакция западному влиянию».
Мятежный протопоп Аввакум решительно протестовал против ико-
86
нописания по образцу «неметцкому» и восклицал: «Ох, ох, бедныя!
Русь, чего-то тебе захотелося немецких поступов и обычаев!» Но
Руси «захотелося немецких поступов и обычаев», особенно в ходе
петровских реформ. Поэтому не случайно та или иная оценка
реформ Петра I была постоянным предметом споров западников и
славянофилов.
Разумеется, «западничество» не было однородным1. Оно могло
ориентироваться и на Польшу, и на Германию, и на Голландию, на
Францию и на Англию, притом на различные аспекты жизни этих
стран в разные исторические времена. В развитии русской
философской мысли 30-х гт. XIX столетия произошел сдвиг от влияния
французского просвещения к сильному воздействию немецкого
романтизма и философии Шеллинга, а в 40-х гг. - Гегеля.
Н. В. Станкевич
По свидетельству А. И. Герцена, «первым последователем Гегеля
в кругу московской молодежи» был Николай Владимирович
Станкевич (1813-1840). Окончив Благородный пансион в Воронеже
(имение его отца было в Воронежской губернии), он в 1830 г. переезжает
в Москву и поступает на словесное отделение Московского
университета. Подготовкой его к поступлению в университет руководил
известный русский шеллингианец профессор Московского
университета М. Г. Павлов, в доме которого Станкевич жил в студенческие
годы. Лекции Павлова и Надеждина приобщили юного студента к
философии Шеллинга. Убежденный в том, что философия может
способствовать решению важнейших жизненных вопросов,
Станкевич изучает помимо произведений Шеллинга труды Канта и Фихте, а
затем Гегеля.
Зимой 1831/32 г. возникает знаменитый
литературно-философский кружок Станкевича, в деятельности которого принимают
участие такие молодые люди, сыгравшие в будущем значительную роль в
интеллектуальном развитии России, как В. Белинский, М. Бакунин,
К. Аксаков, В. Боткин, М. Катков. Впоследствии они разойдутся по
разным и даже противоположным идейным направлениям. Но тогда,
в 30-е гг., все члены кружка были одержимы философскими
проблемами. По воспоминаниям Герцена, который с Н. П. Огаревым
организовал свой политический кружок, но хорошо знал участников
«умозрительного» кружка Станкевича, «все ничтожнейшие
брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах
немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписыва-
1 См.: Щукин В. Русское западничество. Генезис - сущность - историческая
роль. £ôdz, 2001; Кантор В. К. Русский европеец как явление культуры (фило-
софско-исторический анализ). М., 2001.
87
лись, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько
дней»1. При этом тщательно изучались и обсуждались произведения
самого Гегеля.
Поэтическое и философское наследие Станкевича, прожившего
всего 27 лет, невелико: набросок трактата «Моя метафизика» (1833),
носящий шеллингианский характер; этюд «Об отношении
философии к искусству», написанный в год его кончины. Но дошла до нас
переписка Станкевича, по которой, как и по воспоминаниям
современников, можно судить о его философский, социальных, этических
и эстетических воззрениях.
Сам Станкевич не был ни западником, ни славянофилом.
Находясь с 1837 г. за границей, он воочию видел в старой Европе
«самоубийство, мистицизм, разврат», разъедающий общество эгоизм. Но
он в то же время верит «в скорое исцеление мира», ибо «везде
порывы святого чувства, везде борьба с подлой жизнью». При всей
аполитичности Станкевича его объединяло со славянофилами и Герценом
«глубокое чувство отчуждения от официальной России»2.
Неприятие темных сторон российской действительности, и прежде всего
крепостничества, не парализовало в нем любовь к отечеству, ибо, по
его словам, «отечество и семейство есть почва, а..которой живет
корень нашего бытия» (из письма родным из Праги, 1839 г.). Именно
Станкевич открыл в Алексее Кольцове поэтический талант и вместе
с Белинским издал первую книжку стихотворений этого подлинно
народного русского поэта.
Однако патриотизм Станкевича не был по духу славянофильским.
Он полагал, что мы не должны «вечно подлаживать рассийскому
человеку, мерить и обмеривать заодно с ним, а, напротив, следует то, что
должны пробудить в нем человеческую сторону, которая заснула под
звук валдайского колокольчика, под говор ярмарок». В 1837 г.
Станкевич записывает в своем «Дневнике»: «Чего хлопочут люди о
народности? - Надобно стремиться к человеческому, свое будет поневоле». И
далее: «Выдумывать или сочинять характер народа из его старых
обычаев, старых действий - значит хотеть продолжить для него время
детства; давайте ему общее и смотрите, что он способнее принять, чего нет
у него и недостает ему. Вот эту народность угадайте, а поддерживать
старое натяжками, квасным патриотизмом - это никуда не годится»3.
В кружке Станкевича приобщился к философии К. С. Аксаков,
ставший затем видным теоретиком славянофильства. Оценивая
кружок Станкевича как «замечательное явление в умственной истории
нашего общества», Аксаков вместе с тем был недоволен, что «в этом
1 Герцен А. И. Избр. филос. произв. Т. 2. С. 180.
2 Там же. С. 197.
3 Переписка Николая Владимировича Станкевича, 1830-1840. М., 1914.
С. 112,367,754.
88
кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на
литературу, на мир, - воззрение большею частию отрицательное»1. В
кружке Станкевича действительно формировалось в те годы
мировоззрение мыслителей с несомненно западнической ориентацией,
таких, как М. А. Бакунин, В. П. Боткин, M. Н. Катков. К западникам
относили себя в тот период А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Идеи
западничества развивали впоследствии Т. Грановский, И. Тургенев,
П. Анненков, И. Панаев, К. Кавелин и др.
Одним из идеологов либерального западничества был друг
Станкевича Тимофей Николаевич Грановский (1813-1855). Блестящий
знаток истории Западной Европы, стремившийся применить
диалектику Гегеля к пониманию мирового исторического процесса, он
пользовался большой популярностью среди студентов и передовой
общественности. Грановский по отношению к человечеству и
отдельным народам применял «идею организма», рассматривая развитие
народов по аналогии с жизнью отдельного человека от младенчества
к старости. Трактовка народа как организма подчеркивала
естественность исторического развития, не подчиняющегося никакому
произволу. Поэтому Грановский был противником официальной
идеологии, сковывающей естественное движение народной жизни. Не
принимал он также стремлениефлавянофилов ограничить «народный
дух» старыми, уже отжившими формами жизни. Как либерал
Грановский был противником коренного изменения социальной
действительности, идею социализма считал враждебной свободе личности.
Философской основой либерализма является идея свободы
личности как высшей ценности. Поэтому Грановский, считавший, как и
Станкевич, что нравственное совершенствование общества может
быть осуществлено только через самосовершенствование личности,
а не в ходе революционного преобразования общества, по праву
считается предтечей русского либерализма 40-х гг. В эти годы
западниками-либералами были писатели и критики-публицисты И. Тургенев,
П. Анненков, В. Боткин, А. Дружинин и др.
Для понимания западничества в его
революционно-демократическом проявлении обратимся к эволюции философско-социологи-
ческих воззрений таких мыслителей, как Белинский и Герцен.
В. Г. Белинский
Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848) - социальный
мыслитель, литературный критик и публицист, деятельность которого
имела огромное влияние на развитие русской мысли и споры о
котором не утихают и в наши дни.
1 Аксаков К. С. Воспоминания студенчества 1832-1835 годов. СПб., 1911.
С. 17.
89
Но какое имеет отношение его творчество к истории русской
философии?
Талантливый критик - это человек, наделенный особым даром
оценочной деятельности. Но сознательная объективная оценка чего
бы то ни было, в том числе произведений литературы и искусства, не
может не руководствоваться определенными критериями оценок. А
выяснение сущности, истинности или ложности этих критериев - дело
теории; теории эстетики, если речь идет об эстетических оценках,
теории ценности (аксиологии), в случае общих оценок, оценочно-
критической деятельности вообще.
В одной из ранних своих работ Белинский писал, что критика
«есть движущаяся эстетика». Эта его ставшая крылатой формула в
полной мере относится к самому критику. Его беспрестанно
движущаяся критическая деятельность в качестве своего фундамента
несомненно имела эстетическую теорию, притом не какую-то уже
готовую, у кого-то заимствуемую теорию, но свою, формулируемую в
самих критических статьях.
Другое дело,<что эта эстетическая теория не оставалась
неизменной. Однако развитие его теории зависело не только от тех
теоретических концепций, которые он критически осмысливал, но и
от развития самой литературы, появления таких художественных
явлений, как Пушкин, Гоголь, Лермонтов, а также от состояния и
развития самой действительности. В этом состояло важное
отличие Белинского от его учителя Надеждина. Последний был
теоретиком-критиком, прикладывавшим свою эстетическую концепцию
к художественным произведениям, попадая подчас впросак, как это
случилось с ним, например, при оценке «Евгения Онегина».
Белинский же был критиком-теоретиком, у которого сама теория
корректировалась предметом оценки, что и позволяло ему должным
образом оценить творчество своих современников. Исключение,
подтверждающее правило, - это отрицательная оценка критиком «Горе
от ума» А. С. Грибоедова в статье 1840 г., в которой он пытался
приложить сложившуюся у него в то время теоретическую
конструкцию к грибоедовской комедии.
Итак, хотя Белинский не писал эстетических трактатов, за
исключением статей «Идея искусства» и «Разделение поэзии на роды и
виды», но включенность его в историю русской эстетики сомнения не
вызывает. Эстетика же - философская дисциплина, она исходит из
тех или иных общефилософских оснований. Эстетика Белинского -
не исключение. Она с очевидностью обнаруживает свои глубинные
философские корни. Да и сама критическая деятельность
«неистового Виссариона» (так его называли и друзья, и противники) нередко
выходила за рамки чисто литературной критики, ибо она
становилась критически-оценочным отношением не только к литературно-
художественным произведениям, но и к самим явлениям обще-
90
ственной жизни, ее проявлениям в науке, искусстве,
нравственности, религии. Значит, и критерии такой широкой критической
деятельности должны быть не просто эстетическими, а также
социальными, этическими, познавательными, т. е. в своей
совокупности философскими.
Каковы же философские воззрения Белинского? Ответить на этот
вопрос очень непросто, потому что философия критика была
«движущейся» философией. Как оригинальный мыслитель он менял свои
мировоззренческие ориентации, одержимый поиском истины. Этот
искренний поиск истины делал Белинского Белинским на любом этапе
его философской эволюции, хотя его взгляды на искусство и
общество на каждом этапе существенно отличны; в начале творческого
пути во многом иные, чем в конце. В этом одна из причин
противоречивого отношения к Белинскому и его наследию. Так, поэт и
самобытный мыслитель Аполлон Григорьев очень любил критические
труды Белинского раннего периода и отрицательно относился к его
статьям второй половины 40-х гг. Напротив, советские
исследователи подчеркивали значимость идей позднего Белинского как
материалиста и революционного демократа. И не случайно тот же
Белинский, именуемый «отцом русской интеллигенции», вызывал
негодование у либерально настроенных авторов сборника «Вехи» (1909).
Большой интерес для исследователей идейного наследия
Белинского представляет эволюция его философских воззрений, логика
перехода от одного этапа к другому, честность, искренность и
страстность в поиске истины. Само по себе изменение взглядов - обычное
явление в философии и других областях знания. Оценка же этой
«смены вех» зависит подчас не только от того, какое «шило» меняется на
какое «мыло», но и от роли таких факторов, как страх или карьерные
соображения. У Белинского, в отличие от некоторых его
современников, эти факторы никакой роли не играли.
В. Г. Белинский родился в семье флотского врача,
дослужившегося до дворянства. Его дед по отцу был сельским священником.
Окончив уездное училище в Чембаре в Пензенской губернии и
полгода не доучившись в Пензенской гимназии, Белинский в 1829 г.
поступил в Московский университет. Не получая денег от отца, он
становится «казеннокоштным» студентом, т. е. студентом, который
должен был затем отработать плату за обучение, проживание в
общежитии, питание и обмундирование. Питание было скудным,
общежитие походило на казарму.
Наряду с лекциями А. Ф. Мерзлякова и Н. И. Надеждина ему
приходилось слушать скучные лекции по истории русской
словесности. Строптивый студент, протестовавший против тяжелых условий
жизни «казеннокоштных», запоем читавший новую литературу,
пренебрегая нудными лекциями, оставленный на второй год из-за не-
сданных экзаменов, встал, что называется, «поперек горла» универ-
91
ситетскому начальству. А тут еще этот студент написал драму
«Дмитрий Калинин», проникнутую симпатией к крепостнум и ненавистью
к крепостникам. Цензурный комитет признал пьесу
«безнравственной, бесчестящей университет». Наказание за все эти
«преступления» наступило после того, как подорвавший свое здоровье
Белинский почти весь семестр пролежал в университетской больнице: в
сентябре 1832 г. он был исключен из университета «по слабому
здоровью и притом по ограниченности способностей».
После исключения из университета Белинскому пришлось
перебиваться случайными заработками в качестве переводчика и
поденного журналиста, пока его не взял на работу в журналы «Телескоп» и
«Молва» Н. И. Надеждин в 1834 г. В «Молве» осенью этого года
увидел свет цикл статей начинающего критика «Литературные
мечтания», который принес ему известность как талантливому и
самостоятельно мыслящему литератору. В эти годы Белинский активно
включается в деятельность кружка Станкевича. В 1835 г. он
сближается с В. П. Боткиным, а в следующем году подружился с М. А.
Бакуниным. к
В «Литературных мечтаниях» Белинского чувствуется влияние
немецкой философии, особенно Шеллинга. «Весь беспредельный,
прекрасный божий мир есть не что иное, как дыхание единой,
вечной идеи (мысли единого, вечного бога), проявляющейся в
бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в
бесконечном разнообразии»1, - писал критик. Как и у Шеллинга,
объективный идеализм молодого критика сопряжен с диалектикой: «Для
этой идеи нет покоя: она живет беспрестанно, то есть беспрестанно
творит, чтобы разрушать, и разрушает, чтобы творить» (I, 30);
«Проявление ее - борьба между добром и злом, любовию и эгоизмом, как
в жизни физической противоборство силы сжимательной и
расширительной. Без борьбы нет заслуги, без заслуги нет награды, а без
действования нет жизни!» (I, 32).
Такую же идеалистическую направленность имеют и
эстетические воззрения автора «Литературных мечтаний». По его убеждению,
назначение и цель искусства, его «единая и вечная тема» -
«изображать, воспроизводить в слове, в звуке, в чертах и красках идею
всеобщей жизни природы» (I, 32). Литература же «непременно должна
быть выражением - символом внутренней жизни народа» (I, 29).
Притом «поэзия не имеет цели вне себя» (I, 35). Более того, «цель
вредит поэзии» (I, 78).
Однако, если философия и эстетика Шеллинга - апология
романтизма, пафос молодого Белинского - борьба с романтизмом; он ви-
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М, 1953. Т. 1. С. 30. Далее ссылки на это
издание (М., 1953-1959) даются в тексте в скобках: римская цифра означает том,
арабская - страницы.
92
дит и в классицизме, и в романтизме уже пройденный этап
литературного развития.
Одной из теоретических проблем «Литературных мечтаний»
является проблема народности, по-разному трактовавшаяся и
идеологами официальной народности с их формулой «православие,
самодержавие, народность», и теми, кто стоял на иных идейных
позициях. Надеждин еще до запрещения «Телескопа» в 1836 г. начал
склоняться к этой формуле, правда несколько изменяя в ней акценты,
начиная ее с народности. В статье «Европеизм и народность в
отношении к русской словесности» (1836) он писал: «Будь только наша
словесность народною: она будет православна и самодержавна!»1
Солидарность с формулой, выражающей «священную волю монарха»,
Надеждин, как предполагают исследователи (см. I, 526), включил и в
текст «Литературных мечтаний» (см. I, 102), подчеркнув слово
«народность». Но трактовка народности учеником и сотрудником На-
деждина была иной.
Для Белинского сама литература «должна быть выражением -
символом внутренней жизни народа», и поэтому подлинная
литература народна по определению. На вопрос: «Что такое народность в
литературе?» - он отвечает: «Отпечаток народной физиономии, тип
народного духа и народно^жизни» (I, 92). Критик предостерегает
против смешения народности с простонародностью, подчеркивая,
что подлинная русская народность состоит «не в подборе мужицких
слов или насильственной подделке под лад песен и сказок, но в сгибе
ума русского, в русском образе взгляда на вещи» (I, 50).
Принадлежа к русскому народу и заботясь о развитии его
литературы и культуры, Белинский вместе с тем был убежден, что «каждый
народ, вследствие непреложного закона провидения, должен
выражать своею жизнию одну какую-нибудь сторону жизни целого
человечества» (I, 35). Это понимание диалектики национального и
общечеловеческого Белинский будет отстаивать и развивать до конца
своих дней.
В «Литературных мечтаниях» еще нет четкого различения
между народностью искусства как выражением в нем коренных
интересов народа и национальным своеобразием художественного
творчества. Для Белинского эти понятия почти совпадают в «народности»
как выражении внутренней жизни каждого народа, который, в свою
очередь, «выражает собою одну какую-нибудь сторону жизни
человечества» (I, 28). И эта народность русской литературы «состоит в
верности изображения картин русской жизни» (I, 94). Так,
отталкиваясь от народности литературы, критик утверждает принцип
правдивости искусства, того, что впоследствии станет именоваться
реализмом. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», написан-
1 Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. С. 444.
93
ной в следующем году, Белинский доказывает и «обратную
теорему»: «...если изображение жизни верно, то и народно».(I, 295).
Время жизни и деятельности Белинского с 1837 по 1840 г. - так
называемый период его «примирения с действительностью».
Почему же мятежный человек, ненавидевший крепостное право, сам
чувствовавший несправедливость жизни, становится на позиции
охранительной идеологии? В статье «Бородинская годовщина. В.
Жуковского» (1839) можно прочесть: «...пора сознать, что мы имеем
разумное право быть горды нашею любовию к царю...» (III, 247). Это,
конечно, не случайное высказывание критика и не результат
вмешательства цензуры. Просто, как и во всем, страстный Белинский шел
до конца в своих выводах. Он в это время полагал, что царское
самодержавие, не позволяя «писать против крепостного права»,
«исподволь освобождает крестьян» (XI, 149).
Как известно, этот зигзаг в эволюции социально-политических
взглядов Белинского связан был с его философским развитием.
Пережив под влиянием Станкевича и Бакунина краткий период
увлечения субъективным идеализмом Фихте («Я есть всё»), Белинский, как
и его филооофские друзья, окунается в философию Гегеля, нового
властителя дум передовой русской молодежи. LВ центре внимания
оказался гегелевский принцип: «Что действительно, то разумно», хотя,
по Гегелю, верно и обратное: «Что разумно - то действительно», т. е.
действительно-разумно не всё, что существует. Но для Белинского в
это время «жизнь всякого народа есть разумно-необходимая форма
общемировой идеи» (III, 247).
В этом движении образа мысли молодого критика была своя
логика. Он по-прежнему считал, что «искусство есть воспроизведение
действительности» (III, 415). Значит, и для оценки самого искусства
важно знание действительности. Однако стремление понять
действительность перешло в ее оправдание, в апологетику: «Я гляжу на
действительность, столь презираемую прежде мною, и трепещу
таинственным восторгом, сознавая ее разумность, видя, что из нее ничего нельзя
выкинуть и в ней ничего нельзя похулить и отвергнуть» (XI, 282).
Такая позиция отразилась и на эстетических воззрениях
Белинского, и на его критических оценках. Выше уже речь шла о
негативной оценке критиком комедии Грибоедова. Как же прозорливый
Белинский, который еще в «Литературных мечтаниях» назвал «Горе от
ума» «гениальным произведением», притом за верность
действительности, заклейменной «рукою палача-художника» (I, 81), мог в 1840 г.
заявить, что «Горе от ума» - «произведение слабое в целом, но
великое своими частностями» (III, 486)? Это был вывод, вытекающий из
эстетического принципа: «Художественное произведение есть само
себе цель и вне себя не имеет цели, а автор «Горя от ума» ясно имел
внешнюю цель - осмеять современное общество в злой сатире и
комедию избрал для этого средством» (III, 484).
94
Но сама действительность быстро отрезвила Белинского,
особенно после того, как он в 1839 г. переехал в Петербург для руководства
критикой в журнале «Отечественные записки». В письме к своему
другу В. П. Боткину от 10-11 декабря 1840 г. критик как страшный
сон вспоминал свое совсем недавнее «насильственное примирение с
гнусною расейскою действительностию», которую «называл
разумною и за которую ратовал» (XI, 577-578). По его словам, это было
примирение с «царством материальной животной жизни, чинолюбия,
крестолюбия, деньголюбия, взяточничества, безрелигиозности,
разврата, отсутствия всяких духовных интересов, торжества
бесстыдной и наглой глупости, посредственности, бездарности» (XI, 577),
примирение с господством тупой цензуры, истреблением свободы
мысли, угнетением и страданием всего человеческого, умного,
благородного, талантливого (см. там же). Белинский не отказывался от
идеи «исторической законности», но самокритично признавался в
том, что игнорировал «идею отрицания, как исторического права <...>,
без которого история человечества превратилась бы в стоячее и
вонючее болото...» (XI, 576).
Теперь Белинский понимает, что сам факт существования не
может быть оправданием этого существования, оправдания,
вытекающего из формулы:«Что есть, щ разумно»; «Да и палач ведь есть же, и
существование его разумно л действительно, но он тем не менее
гнусен и отвратителен» (XI, 577). В чем же заключается критерий,
позволяющий в самой действительности отличать подлинное от
неподлинного, гнусного и отвратительного? Этот критерий мыслитель находит
в человеческой личности. «Для меня теперь, - пишет он Боткину в
октябре 1840 г., - человеческая личность выше истории, выше
общества, выше человечества. Это мысль и дума века!» (XI, 556). В письме
Боткину от 10-11 декабря 1840 г. критик развивает свое обоснование
идеи человеческой личности или «личного человека» как высшей
ценности и как критерия для определения явлений действительности.
«Идея либерализма, - пишет он, - в высшей степени разумная и
христианская, ибо его задача - возвращение прав личного человека,
восстановление человеческого достоинства, и сам Спаситель сходил на
землю и страдал на кресте за личного человека» (XI, 577).
Одновременно происходит и переоценка Белинским философии
Гегеля, на которого возлагается вина за «насильственное
примирение» с действительностью. Основное обвинение, предъявляемое им
Гегелю, - это растворение во всеобщем судьбы субъекта,
индивидуума, личности, превращение субъекта из самоцели (как это было у
Канта и Фихте) в «средство для мгновенного выражения общего»
(XII, 22).
Если в период «примирения» Белинский считал, что
«субъективность есть отрицание поэзии» (XI, 387), то с начала 40-х гг. в своих
статьях о творчестве Лермонтова, Гоголя, Пушкина критик, напро-
95
тив, отстаивает «гуманную субъективность», которая не искажает
«объективную действительность изображаемых поэтом предметов»
(VI, 217), а утверждает выражение в художественном творчестве, как
у Лермонтова, «благородной человеческой личности» (см. IV, 521).
Он вновь переоценивает свое отношение к комедии «Горе от ума»:
«... расейская действительность гнусна», и комедия Грибоедова была
«оплеухою по ее роже» (XII, 25). Ненависть к такой
действительности была вызвана тем, что она враждебна личности. В июне 1841 г.
Белинский признается Боткину: «Во мне развилась какая-то дикая,
бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости
человеческой личности, которые возможны только при обществе,
основанном на правде и доблести.<...> Я понял и французскую революцию.
<...> Понял и кровавую любовь Марата к свободе, его кровавую
ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством
хоть коляскою с гербом... Личность человеческая сделалась пунктом,
на котором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество
маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я,
кажется, огнем и мечом истребил бы остальную» (XII, 51, 52). В
сентябре этого оке года он пишет: «Отрицание - мой бог! В истории мои
герои - разрушители старого - Лютер, Вольтер, энциклопедисты,
террористы, Байрон («Каин») и т. п.» (XII, 70). Возникает вопрос:
зачем нужно для того, чтобы «сделать счастливою малейшую часть»
человечества, истреблять другую, если в существующей
действительности «для избранных есть блаженство, когда большая часть и не
подозревает его возможности»? (XII, 69). Разве не сам Белинский
бросал вызов «Егору Федорычу» - Гегелю: «Я не хочу счастия и
даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братии по крови, -
костей от костей моих и плоти от плоти моея» (XII, 23)? Разве не он
решительно протестовал против того, что «дисгармония есть
условие гармонии»?
Белинский мечтает о времени, «когда никого не будут жечь,
никому не будут рубить головы» (XII, 70). Главное условие построения
справедливого общества - «воспитание в социальности», «чрез
социальность» (XII, 71). И тут опять возникает мысль о «кровавой
любови» Марата к свободе. Нет ничего выше и благороднее, как
способствовать развитию социальности, но смешно и думать, заявляет
мыслитель, «что это может сделаться само собою, временем, без
насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их
насильно надо вести к счастию. Да и что кровь тысячей в сравнении с
унижением и страданием миллионов» (XII, 71).
В письме к Боткину от 8 сентября 1841 г. Белинский так
определил особенности своего идейного развития: «Ты знаешь мою натуру:
она вечно в крайностях и никогда не попадает в центр идеи. Я с
трудом и болью расстаюсь с старою идеею, отрицаю ее донельзя, а в
новую перехожу со всем фанатизмом прозелита. Итак, я теперь в но-
96
вой крайности - это идея социализма, которая стала для меня идеею
идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и
знания» (XII, 66).
Отношение Белинского к идее социализма - непростой вопрос.
Несомненно, что он увлечен был ею в начале 40-х гг. «с подачи»
французских социалистов. Отношение к этой идее послужило
основанием для размежевания «западников». Грановский и его
единомышленники были противниками социализма. Союзником же Белинского
стали Герцен и Огарев, которые также были сторонниками идеи
социализма.
В критическом обзоре романа Эжена Сю «Парижские тайны»
(1844) и в письмах второй половины 40-х гг. Белинский резко
критикует буржуазные порядки в Западной Европе. «Я знаю, - заявляет
он, - что владычество капиталистов покрыло современную
Францию вечным позором...» (XII, 447). Будучи в Силезии, Белинский
возмущается положением пролетариата. Поэтому-то он на стороне
оппозиции буржуазному обществу. Социализм представляется
Белинскому как общество высшей справедливости и гуманности.
Что касается России, то ей, по словам мыслителя, тоже
предстоит стать на путь буржуазного развития. В письме П. В. Анненкову от
15 февраля 1848 г. Белинский писал, что «внутренний процесс
гражданского развития в России .начнется не прежде, как с той минуты,
когда русское дворянство обратится в буржуази» (XII, 468). Для
Белинского «буржуази» - это средний класс, который он отличает от
капиталистов, осуществляющих тиранию над трудом: «не на
буржуази вообще, а на больших капиталистов надо нападать, как на чуму и
холеру современной Франции» (XII, 449). По Белинскому,
«буржуази явление не случайное, а вызванное историею», «она имела свое
великое прошедшее, свою блестящую историю, оказала человечеству
величайшие услуги» (XII, 448), хотя «буржуази в борьбе и буржуази
торжествующая - не одна и та же», ибо в начале ее движения «она не
отделяла своих интересов от интересов народа» (XII, 449).
Белинский писал: «Я знаю, что промышленность - источник великих зол,
но знаю, что она же - источник и великих благ для общества.
Собственно, она только последнее зло в владычестве капитала, в его
тирании над трудом» (452). Белинский готов допустить, что «даже и
отверженная порода капиталистов должна иметь свою долю влияния
на общественные дела; но горе государству, когда она одна стоит во
главе его! Лучше заменить ее ленивою, развратною и покрытою
лохмотьями сволочью: в ней скорее можно найти патриотизм, чувство
национального достоинства и желание общего блага» (XII, 452).
Поворот в мировоззрении Белинского в начале 40-х гг.,
разочарование в гегелевской философии вели его к новому миропониманию.
В 1842 г. он благодаря Герцену знакомится с философией Л.
Фейербаха, а с 1843 г. начинается его переход на позиции материалистичес-
4-99
97
кой философии. В очерке «Взгляд на русскую литературу 1846 года» и
в письме В. П. Боткину от 17 февраля 1847 г. Белинский заявляет о
себе как убежденный сторонник материалистического мировоззрения.
Что это означает? Речь здесь идет о понимании значения
материального начала, обусловливающего проявления человеческой духовности.
«Вы, конечно, очень уважаете в человеке ум? - риторически
спрашивает автор «Взгляда на русскую литературу 1846 года». - Прекрасно! -
так останавливайтесь же в благоговейном изумлении и перед массою
его мозга, где происходят все умственные отправления <...>
Психология, не опирающаяся на физиологию, так же не состоятельна, как и
физиология, не знающая о существовании анатомии» (X, 26).
Белинский выступает сторонником познания действительных
природных причин, обусловливающих духовно-нравственную
деятельность человека. Он решительно против сочинения небывалых
«в природе причин». «Метафизику к черту: это слово означает
сверхнатуральное, следовательно, нелепость», - пишет он Боткину (XII,
331). Логика как наука о мышлении имеет право на существование:
«Она должна идти своею дорогою, но только не забывать ни на
минуту, что предмет ее исследований - цветок, корень которого в земле,
т. е. духовное, которое есть не что иное, как деятельность
физического» (там же).
Белинский не отождествляет духовное с материальным:
«Духовную природу человека не должно отделять от его физической
природы, как что-то особенное и независимое от нее, но должно
отличать от нее, как область анатомии отличают от области физиологии»
(там же). Белинский утверждает единство материального и
духовного, единство, воплощенное в человеческой личности: «Ум - это
человек в теле или, лучше сказать, человек через тело, словом, личность»
(X, 27). Человеческая натура - «источник всякого прогресса, всякого
движения вперед», но «в ней же заключается и источник уклонений
от истины, коснения и неподвижности» (X, 32). Такого рода
материализм, исходящий из природы человека, которая сама является
высшей частью природного мира, можно определить как
антропологический материализм.
К середине 40-х гт. меняется и отношение Белинского к религии.
В 1845 г. в письме к Герцену он пишет, что «в словах бог и религия»
видит «тьму, мрак, цепи, и кнут» (XII, 250). Белинский отмечает, что
эту «истину» он почерпнул из «Немецко-французского ежегодника».
В нем была напечатана статья К. Маркса, в которой содержалась
формула: «Религия есть опиум народа». Как вспоминал Ф. М.
Достоевский, в это время Белинский горячо отстаивал свои атеистические
взгляды. В своем письме к Гоголю по поводу его книги «Выбранные
места из переписки с друзьями», написанном 15 июля 1847 г.,
Белинский утверждает, что русский народ «по натуре своей глубоко
атеистический народ», хотя и подверженный суевериям (см. X, 215).
98
Однако Белинский здесь сам выступает как приверженец
«учения Христова» и обвиняет Гоголя в том, что он преисполнился не
«истиною Христова», а «дьяволова учения» (X, 214). При этом
критик противопоставляет Христа, который «первый возвестил людям
учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел,
утвердил истину своего учения», церкви, являющейся, по его
словам, «иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льстецом
власти, врагом и гонительницею братства между людьми» (там же). «Кто
способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище
угнетения чуждых ему людей, - тот носит Христа в груди своей...»
(X, 218), - утверждал Белинский.
Белинский был прежде всего литературным критиком, и
разработка философских вопросов, конечно, не являлась для него
самоцелью. Но его критика была «движущейся эстетикой», тесно связанной
с его философскими взглядами и в значительной мере была
обусловлена развитием самого искусства. «Задача истинной эстетики, -
отмечал критик в 1843 г., - состоит не в том, чтоб решить, чем должно
быть искусство, а в том, что такое искусство». Поэтому она
должна рассматривать искусство как «предмет, который существовал
давно прежде ее и существованию которого она сама обязана своим
существованием» (VI, 585).
По мере того как сама русская литература все больше
проникалась социальной проблематикой, все в большей степени
социализировались эстетические позиции Белинского. Еще в 1841 г. в статье о
стихотворениях Лермонтова критик писал: «Как красота, так и
поэзия - выразительница и жрица красоты, сама себе цель и вне себя не
имеет никакой цели» (IV, 498). Но уже в 1842 г. он считает такое
понимание красоты и искусства первоначально необходимым, но уже
односторонним (см. VI, 275-276). В письме к Боткину в декабре 1847 г.
Белинский отмечал: «А мне поэзии и художественности нужно не
больше, как настолько, чтобы повесть была истинна, т. е. не впадала
в аллегорию или не отзывалась диссертациею. Для меня дело - в деле.
Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество
нравственное впечатление» (XII, 445). Вместе с тем невозможно
безнаказанно нарушать законы искусства. «Без всякого сомнения,
искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно
может быть выражением духа и направления общества в известную
эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено
стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными
вопросами, но если в нем нет поэзии, - в нем не может быть ни прекрасных
мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем, - это
разве прекрасное намерение, дурно выполненное», - пишет он во
«Взгляде на русскую литературу 1847 года» (X, 303).
Но в сам критерий художественности у Белинского с начала его
критической деятельности и до ее конца включается правдивость,
4*
99
истинность произведения. «Дар выставлять явления жизни во всей
полноте их реальности и их истинности» (X, 244) - это не только
особенность таланта Гоголя, но очень важное качество
художественной одаренности, которое вызывало высокую оценку русского
критика. «Где нет истины, природы, естественности, там нет для меня
очарования», - определял еще молодой Белинский эстетический
критерий актерской игры (I, 187). Еще тогда, понимая, что поэзия
исторически была не только реальной, но и идеальной, когда
пересоздавала «жизнь по собственному идеалу» (I, 262), критик отдает
предпочтение первой - поэзии реальной, поэзии жизни, поэзии
действительности, которая, по его словам,- «истинная и настоящая поэзия
нашего времени» (I, 267). В последних своих трудах критик настойчиво
отстаивает принципы «натуральной школы», получившие развитие
в творчестве Гоголя, Герцена, Тургенева, Достоевского, Некрасова,
Григоровича, Гончарова, Даля. И хотя термин «реализм» утвердился
как эстетическое понятие уже после кончины Белинского, именно
он, продолжая традиции Надеждина, поддерживал «реальную
поэзию», видя в реализме главный критерий художественного
творчества, ибо «когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и
талант!» (X, 218-219).
«Эстетический кодекс» Белинского оказал такое воздействие на
последующее развитие русской1 литературы, критики и эстетики, что
многие его положения сейчас могут показаться тривиальными, хотя
в свое время они были новым словом в истории эстетической мысли.
Непреходящая теоретическая ценность эстетических положений
критика, прошедшего «школу» Шеллинга и Гегеля, заключается в их
диалектическом содержании. Подчеркивая важность верного
отражения в искусстве самой действительности, Белинский, придававший
большое значение проблемы личности, подчеркивал и «гуманную
субъективность» искусства. Говоря об истинности и правдивости
искусства, он не сводил его к копировке жизни: «Тут все дело в
типах» (X, 294). Типический образ, по Белинскому, - единство
конкретного и общего, случайного и необходимого, знакомого и
незнакомого, объективного и субъективного, содержания и формы.
С точки зрения диалектики национального и общечеловеческого
стремился Белинский подойти к проблеме взаимоотношения России
и Запада. «Разделить народное и человеческое на два совершенно
чуждые, даже враждебные одно другому начала - значит впасть в
самый абстрактный, в самый книжный дуализм» (X, 26), - заявлял
критик. Поэтому он полемизирует и со сторонниками
«фантастической народности», и с теми, кто впадает в «фантастический
космополитизм». «Фантастическая народность» была присуща
приверженцам официальной народности; они «смешали с народностью
старинные обычаи, сохранившиеся теперь только в простонародье, и не
любят, чтобы при них говорили с неуважением о курной и грязной
100
избе, о редьке и квасе, даже о сивухе» (X, 23). Но подобные
воззрения, по мнению Белинского, присущи также славянофилам. В статье
«Взгляд на русскую литературу 1846 года», отдавая должное
важности проблем, которые ставит «партия славянофильская», критик
выражает свое несогласие с мнением сторонников этой «партии»
относительно оценки реформы Петра I, которая якобы «лишила нас
народности», и с их призывом «воротиться к общественному
устройству и нравам времен не то баснословного Гостомысла, не то царя
Алексея Михайловича», и по поводу обусловленности русского
национального начала смирением, которое будто бы присуще «одним
славянским племенам» (X, 17,19,24). Не приемлет Белинский и
«фантастический космополитизм», проповедуемый критиком и
публицистом Валерианом Майковым и некоторыми западниками. Он
критикует взгляд, согласно которому «национальность происходит от
чисто внешних влияний и выражает собою все, что есть в народе
неподвижного, грубого, ограниченного, неразумного, и диаметрально
противополагается всему человеческому», а «великие люди» «стоят вне
своей национальности, и вся заслуга, всё величие их в том и
заключается, что они идут прямо против своей национальности, борются с
нею и побеждают ее» (X, 25).
По Белинскому, «великий человек всегда национален как его
народ, ибо он потому и велиц» что представляет собою свой народ».
Национальное и человеческое не противостоят друг другу.
Человеческое проявляется через национальное. Однако в любом народе
существует борьба «нового с старым, идеи с эмпиризмом, разума с
предрассудками» (X, 31). Человеческое и выражает положительное,
имеющееся в каждом народе. Поэтому, пишет критик, «пора нам
перестать восхищаться европейским потому только, что оно не азиатское,
но любить, уважать его, стремиться к нему потому только, что оно
человеческое, и, на этом основании, все европейское, в чем нет
человеческого, отвергать с такою же энергиею, как и все азиатское, в чем
нет человеческого» (X, 19).
С удовлетворением он отмечал: «Умея отдавать справедливость
чужому, русское общество уже умеет ценить и свое, равно чуждаясь
как хвастливости, так и уничижения» (X, 16); «Да, в нас есть
национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль»
(X, 21). Он верил в будущность своего отечества на путях развития
цивилизации и культуры, когда «мы будем уже не догонять Европу, а
идти с нею рядом» (XX, 282).
А. И. Герцен
Александр Иванович Герцен родился в 1812г. Отцом Герцена был
богатый помещик Иван Яковлев. Мать - Луиза Гааг, родом из
Германии. Сын же их получил фамилию «Герцен» - от немецкого слова
101
«Herz» - сердце. Сильное впечатление на юного Герцена произвело
восстание декабристов. «Казнь Пестеля и его товарищей окончательно
разбудила ребяческий сон моей души», - писал он впоследствии.
Пятнадцатилетний Александр вместе со своим другом Николаем
Огаревым (1813-1877) на Воробьевых горах, «обнявшись, присягнули, в
виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами
борьбу». В 1829 г. Герцен поступил в Московский университет на
физико-математическое отделение и в 1833 г. его окончил.
Еще в студенческие годы Герцен и Огарев организовали
политический кружок, мечтая «о том, как начать в России новый союз по
образцу декабристов». В 1834 г. последовал арест, а затем ссылка. Лишь
в 1840 г. Герцен возвратился в Москву. В мае этого же года он
переезжает в Петербург, где занимается литературной деятельностью. Но в
1841 г. его снова ссылают по распоряжению Николая I, которому
донесли, что в письме к отцу Герцен неуважительно отозвался о
полиции. В 1842 г. он вновь возвращается в Москву, где продолжает
занятия литературой и философией. В 1847 г. Герцен с семьей уезжает за
границу. В 1853 г. он создает Вольную русскую типографию, издает
альманах «Полярная звезда» и газету «Колокол», публикациями
которых вступает в открытую борьбу с царским самодержавием. Все эти
годы Герцен ведет интенсивную работу как публицист, художник,
мыслитель-философ до своей смерти в Париже в начале 1870 г.
Богатейшее литературное наследие Герцена может
рассматриваться во многих аспектах - литературно-художественном, социально-
политическом, философском. Философские идеи и взгляды
мыслителя содержатся не только в его собственно философских
сочинениях, но и в публицистических статьях, дневниках, письмах, а также в
художественных произведениях. Белинский подчеркивал
философское значение произведений Герцена, считая, что их автор -
«философ по преимуществу», «больше философ и только немножко поэт»
(X, 326). Его роман «Кто виноват?» посвящен одному из роковых для
России философских вопросов.
Философские взгляды Герцена претерпели определенную
эволюцию. Еще в период учебы в университете он пишет сочинение «О
месте человека в природе» (1832) и кандидатскую диссертацию
«Аналитическое изложение солнечной системы Коперника» (1833). В этих
ранних философских работах он во многом находится под влиянием
натурфилософии Шеллинга, но вместе с тем в поисках научного
метода обращается к трудам Бэкона и Декарта. Он делает попытку
преодолеть односторонность «эмпиризма» и «идеализма»,
понимаемого как чисто умозрительный подход к миру, на основе единства
человека и природы.
В годы первой ссылки Герценом овладевают
мистически-религиозные настроения, в значительной мере под влиянием архитектора
А. Л. Витберга - автора первого проекта храма Христа Спасителя,
102
который в то время также находился в ссылке в Вятке. «Влияние Вит-
берга поколебало меня, - вспоминал Герцен в «Былом и думах». - Но
реальная натура моя взяла все-таки верх. Мне не суждено было
подниматься на третьечнебо, я родился совершенно земным человеком».
Возвратившись из ссылки, Герцен обнаружил, по его словам,
«отчаянный гегелизм» в кружке Станкевича. Бакунин и Белинский,
опираясь на Гегеля, утверждали, что «все действительное разумно», в
том числе самодержавие, которое Герцен называл «чудовищным». И
тогда он «серьезно занялся Гегелем». В результате этих
основательных занятий им был сделан вывод, совершенно противоположный
тому, какой делал Белинский в период «примирения с
действительностью». «Философия Гегеля - алгебра революции, она
обыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира
христианского, от мира преданий, переживших себя»1, - заявляет
Герцен. Он не стал правоверным гегельянцем, но блестяще овладел
диалектическим методом.
В философских оческах «Дилетантизм в науке» (1842-1843)
Герцен писал: «Все живое живо и истинно только, как целое, как
внутреннее и внешнее, как всеобщее и единичное - сосуществующее. Жизнь
связует эти моменты; жизнь - процесс их вечного перехода друг в
друга» (I, 61). «Во все времена долгой жизни человечества заметны два
противоположные движения развитие одного обусловливает
возникновение другого, с тем вместе - борьбу и разрушение первого» (1,45).
С позиций диалектики Герцен показывает несостоятельность
примирения «со всей темной стороной современной жизни» (I, 80).
В этой работе Герцен стремится существенно дополнить и развить
диалектические положения самого Гегеля, ибо «Гегель, раскрывая
области духа, говорит об искусстве, науке и забывает практическую
деятельность, вплетенную во все события истории» (1,75-76). По его
убеждению, «мысль должна принять плоть, сойти на торжище жизни,
раскрыться со всею роскошью и красотой временного бытия»; «человек
призван не в одну логику, - а еще в мир социально-исторический,
нравственно-свободный и положительно-деятельный» (I, 78).
Герцен по-своему решает вопрос об отношении мышления и
бытия, духа и материи: «Природа есть именно существование идеи в
многоразличии» (I, 33). Однако уже здесь проводится
диалектическая мысль о единстве идеального и материального. В главном своем
философском труде «Письма об изучении природы» (1844-1845)
Герцен обстоятельно развивает эту мысль на обширном
историко-философском материале. В советской литературе распространено мнение,
что в этом труде Герцен выступает как последовательный материа-
1 Герцен А. И. Избр. филос. произв.: В 2 т. М, 1948. Т. 2. С. 85. В
дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте: римская цифра обозначает том,
арабская - страницу.
103
лист в трактовке вопроса о соотношении материального бытия и
мышления, критикует схоластику и идеализм.
В «Письмах» Герцена действительно содержится резкая
характеристика идеализма: «идеализм - не что иное, как схоластика
протестантского мира» (I, 99). Он пишет о том, что философия
должна победить в себе «дуализм, идеализм, метафизическую
отвлеченность» (I, 99), что «философия, не опёртая на частных науках, на
эмпирии, - призрак, метафизика, идеализм» (1,101). Достается за
идеализм и самому Гегелю, ибо «идеализм, в котором он был воспитан,
который он всосал с молоком, срывает его в односторонность,
казненную им самим, и он старается подавить духом, логикой природу»
(I, 120).
С нашей точки зрения, термин «идеализм» Герцен употребляет
не совсем в том смысле, как он трактуется современной
философией. Для него идеализм означает не столько первичность идеального,
духовного по отношению к материальному, сколько умозрительный
односторонний подход к действительности. Таким же
односторонним взглядом на мир является для него и тогдашний материализм.
Если «идеализм стремился уничтожить вещественное бытие,
принять его за мертвое^за призрак, за ложь, за ничто», «видел и
признавал одно всеобщее, родовое, сущность, разум'человеческий,
отрешенный от всего человеческого», то «материализм, точно так же
односторонний, шел прямо на уничтожение всего невещественного,
отрицал всеобщее, видел в мысли отделение мозга, в эмпирии
единый источник знания, а истину признавал в одних частностях, в
одних вещах, осязаемых и зримых» (I, 261).
Сам Герцен стремился диалектически преодолеть
односторонности предшествовавших ему идеалистических и материалистических
учений, и свое миропонимание он определял как «реализм», истоки
которого он усматривал еще в древнегреческой философии,
основанной на «безусловном признании действительности мира, природы,
жизни» (I, 142). Герценовский реализм предполагает
диалектическое единство материального и духовного, природы и человека,
бытия и мышления, умозрения и опыта, философии и естествознания,
теории и практики. Отправным пунктом мировоззрения Герцена
составляет убеждение в том, что «человек - не вне природы и только
относительно противоположен ей», «как цветок противоположен
стеблю, как юноша - ребенку», так как «все стремления и усилия
природы завершаются человеком», а человеческое сознание венчает
«все развитие природы» (I, 127). Притом он верно отмечает, что
«история мышления - продолжение истории природы: ни человечества,
ни природы нельзя понять мимо исторического развития» (I, 128).
Его реализм чужд односторонности в трактовке философских
вопросов, причем он основывается на диалектике: «Принимать ту или
другую сторону в антиномиях совершенно ни на чем не основано;
104
природа на каждом шагу учит нас понимать противоположное в
сочетании» (I, 157).
Но что представляет собой герценовский реализм с точки зрения
современного представления о материализме и идеализме?
Думается, что и в аспекте этих представлений Герцена нельзя трактовать ни
как чистого материалиста, ни как последовательного идеалиста.
Преодолев мистически-религиозные настроения, он приходит к
заключению, что «нет ни личного духа, ни бессмертия души» (II, 188).
Так, встретив во время новгородской ссылки женщину, потерявшую
троих детей, Герцен понял, почему она «предалась мистицизму»,
«нашла спасение от тоски в мире таинственных примирений» (II, 186).
Однако и сам Герцен испытал такую же трагедию - «три колыбели
заменились вдруг тремя гробами». Когда он потерял первого
ребенка, ему показалось, что «тут религия, одна религия несет утешение».
Но перед лицом «тупой случайности», перед «отсутствием разума в
управлении личной жизни» он находит в конечном счете утешение
не в религии, а в философии.
В 1848 г. Герцен испытывает уже не просто чисто личное, но
социально-политическое потрясение, после жестокого поражения
европейских революций, поражения его надежд и ожиданий. В серии
очерков «С того берега» онд^ким образом определяет состояние
человека, пережившего потрясения от крушения его надежд и
верований: «Душа его или становится еще религиознее, держится с
отчаянным упорством за свои верования... или он, мужественно и скрепя
сердце, отдает последние упования, становится еще трезвее».
Между «блаженством безумия» и «несчастьем знания» Герцен избирает
второе: «Я избираю знание, и пусть оно лишит меня последних
утешений, я пойду нравственным нищим по белу свету, - но с корнем
вон детские надежды, отроческие упования! Все их под суд
неподкупного разума!» (II, 40).
Кажется, что отрицание им «лести религии человеческому
сердцу», «личного духа» и бессмертия души свидетельствует о
материалистическом миропонимании Герцена. Но в «Письмах об изучении
природы» можно прочесть, что «человек не потому раскрывает во
всем свой разум, что он умен и вносит свой ум всюду, а, напротив,
умен оттого, что все умно» (1,111 ); «Само собой разумеется, что мысль
предмета не есть исключительно личное достояние мыслящего; не
он вдумал ее в действительность, она им только сознана; она предсу-
ществовала, как скрытый разум, в непосредственном бытии
предмета...» (I, 125). Здесь, на наш взгляд, Герценом высказана
плодотворная мысль о единстве материального и идеального. Его
реалистическая философия обладает своей логической целостностью и
должна осмысливаться в этой целостности как оригинальное
миропонимание, основанное на диалектической трактовке природы, бытия и
сознания.
105
Г. Шпет писал: «До конца, до последних дней Герцена идея
человека цельного, живого и единого остается центральным, твердо
устойчивым пунктом его философского мировоззрения»1. Такое понимание
человеческой личности определяется принципами его философского
реализма. Разве не личность воплощает в себе высшее единство бытия
и мышления, материального и идеального? Разве не она «скрытый
разум» природы превращает в открытый, осуществляя творческий и
свободный разум в действительности? Разве не деятельность личности
переводит теорию в жизнь, претворяет ее в практику?
Утверждение ценности человеческой личности стало для
Герцена духовной опорой после крушения его ожиданий на справедливое
переустройство общества в ходе революционных событий 1848 г. Для
него остается неколебимой «религия грядущего общественного
пересоздания» (И, 6), заменяющая всякую другую религию. Но
«свобода лица - величайшее дело; на ней - и только на ней, - может
вырасти действительная воля народа» (II, 11). «Человек свободнее,
нежели обыкновенно думают, - пишет Герцен в книге «С того
берега». - Он много "зависит от среды, но не настолько, как кабалит себя
ей. Большая доля нашей судьбы лежит в наших руках, - стоит понять
ее и не выпускать из рук» (И, ПО). Он развивал мысль о
диалектическом взаимоотношении личности и социальной среды: «Личность
создается средой и событиями^ но и события осуществляются
личностями и носят на себе их печать; тут - взаимодействие» (II, 312).
Личность находится в центре этических воззрений Герцена.
«Незыблемой, вечной нравственности также нет, как вечных наград и
наказаний, - заявляет мыслитель. - Действительно, свободный
человек создает свою нравственность», т. е. в нашей воле «творить наше
поведение в ответ обстоятельствам» (II, 122).
По форме такое высказывание звучит как этический
субъективизм с вытекающим из него этическим релятивизмом - признанием
относительности всех нравственных норм. Однако Герцен не был
сторонником релятивизма. Для него свободная личность - не просто
любой человек со своими прихотями и капризами, произвольными
желаниями и тем более с извращенным сознанием. Человеческая
личность трактуется им как «вершина исторического мира», как
«истинная, действительная монада общества» (И, 117) и, следовательно,
нравственное творчество человека не субъективно-произвольно.
В своих работах Герцен нередко употребляет понятия «эгоизм» и
«индивидуализм». Но он считает, что «эгоизм и общественность
(братство и любовь) - не добродетели и не пороки, это - основные стихии
жизни человеческой, без которых не было бы ни истории, ни
развития, а была бы или рассыпчатая жизнь диких зверей, или стада
ручных троглодитов. Уничтожьте в человеке общественность, - и вы
1 Шпет Г. Философское мировоззрение Герцена. Пг., 1921. С. 4.
106
получите свирепого орангутана; уничтожьте в нем эгоизм, - и из него
выйдет смирное жоко» (II, 121). Таким образом, мыслитель отнюдь
не сводит человека к биологической особи и не мыслит
человеческую личность без «общественности».
Еще в юности Герцен и Огарев увлеклись социалистическим
учением Сен-Симона. В дальнейшем Герцен основательно знакомится с
социалистическими учениями Запада и сам становится убежденным
сторонником идеи социализма как общественного идеала. Следует
отметить, что герценовский социализм - это проникнутое гуманизмом
представление об обществе, предполагающее свободу личности,
находящейся в гармонии с общественными интересами. Герцену были
чужды уравнительные социалистические и коммунистические
идеалы общества, ограничивающие развитие личности, типа «каторжного
равенства Гракха Бабёфа и коммунистической барщины Кабэ» (II, 303).
Притом, следуя принципам своего реалистического
миропонимания, Герцен понимал, что «идеалы, теоретические построения
никогда не осуществляются так, как они носятся в нашем уме» (II, 73).
Это несоответствие идеала и действительности философ испытал на
себе после крушения иллюзий, вызванного поражением революций
1848 г. Но тем не менее Герцен продолжал верить, что «социализм
соответствует назарейском^^чению в римской империи», т. е.
христианству, у которого похороны древнего мира «совпадали с
крестинами». Только в отличие от христианства, писал он, «у нас нет неба,
нет «веси божией», наша весь человеческая и должна осуществиться
на той почве, на которой существует все действительное, на земле»
(II, 71,72). Развивая свой диалектический взгляд на общество и
историю, русский мыслитель не считал социализм завершающим этапом
мирового исторического процесса. «Социализм, - писал он, -
разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей.
Тогда снова вырвется из титанической груди революционного
меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в
которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет
побежден грядущею, неизвестною нам революцией...» (II, 102-103).
Эти слова Герцена можно, конечно, комментировать по-разному. Сам
Герцен, высказав такую мысль, исходил из своего понимания
диалектики общественного развития, из которой вытекает «вечная игра
жизни, безжалостная, как смерть, неотразимая, как рождение» (II,
103). Г. В. Плеханов, обратившийся в 1908 г. к этому высказыванию
Герцена, не отвергает возможности в далеком будущем такого рода
«неизвестной революции», но, не отрицая «игру жизни», русский
марксист сомневается в том, что «человечество, вышедшее из
дикости, когда-нибудь вернулось к людоедству»1. Однако Герцен не имеет
в виду возвращение к людоедству. Предрекаемая им грядущая рево-
1 Плеханов Г. В. Избр. филос. произв.: В 5 т. М, 1958. Т. 5. С. 547.
107
люция устраняет не просто социализм, а социализм, развитый «до
нелепостей», ставший консервативным.
До эмиграции Герцен был «западником»; он считал, что путь
России к прогрессу должна указывать цивилизованная Европа,
способная осуществить в процессе коренной социальной революции
преобразование общества на основе идей социализма. Однако в
Европе его ждало не только потрясение от кровавого подавления
революционного движения, но и разочарование в буржуазной
демократии, нравственном состоянии западного общества. Уже в 1849 г.
Герцен готов произнести тост: «За Русь и святую волю!» (II, 15).
Социализм его меняет свое содержание - становится «русским
социализмом».
В 1852 г. Герцен публикует работу «Русский народ и социализм»,
в которой речь идет о своеобразии России и о необходимости для нее
особой формы социализма, основывающегося на сельской общине,
как зародыше нового общества. Отсюда выводится «характер
русских крестьян - солидарность, связывающая их между собою».
Поэтому «у русского крестьянина нет нравственности, кроме
вытекающей инстинктивно, естественно из его коммунизма». Притом
«немногое, что известно ему из Евангелия, поддерживает ее» (II, 149).
Освобождение крестьян и земли - «начало социальной революции,
провозглашение сельского коммунизма» (II, 152). Отсюда и
убеждение, что «человек будущего в России - мужик, точно так же как во
Франции работник» (И, 153). Пропагандируя «общинный социализм»,
Герцен писал: «Прошлое русского народа темно, его настоящее
ужасно, но у него есть права на будущее» (И, 135).
Вместе с тем обращение Герцена к русской самобытности,
критическое отношение к западному мещанству (буржуазным
порядкам) не означало перехода на славянофильские позиции. В 1864—
1865 гг. в «Колоколе» были напечатаны «Письма к противнику»
Герцена, адресованные Ю. Ф. Самарину - одному из теоретиков
славянофильства. Принципиальное расхождение Герцена со
славянофилами связано с пониманием русского народа. «Для вас, -
писал он, - русский народ преимущественно народ православный, т. е.
наиболее христианский, наиближайший к веси небесной. Для нас
русский народ преимущественно социальный, т. е. наиболее
близкий к осуществлению одной стороны того экономического
устройства, той земной веси, к которой стремятся все социальные учения»
(П, 273).
Герцен считал, что «вне России нет будущности для славянского
мира» (И, 141), но ему чужд и ненавистен «императорский
панславизм»; он выступал против соединения западных славян с империей,
«где скипетр превратился в заколачивающую насмерть палку» (II,
143). Герцен не случайно встал на защиту польского восстания
против русского царизма в 1863-1864 гг. Протестуя против «полицей-
108
ского усмирения Польши», он заявлял: «Мы не рабы любви нашей к
родине, как не рабы ни в чем» (II, 292).
Главу в «Былое и думах», посвященную славянофилам, Герцен
назвал «Не наши», в то время как предыдущая глава о западниках
названа им «Наши». Но в 50-60-х гг. он сближается со
славянофилами в критическом отношении к западному образу жизни и в
понимании важности сохранения и развития русской крестьянской общины.
Правда, полагая, что артель и сельская община - «краеугольные
камни, на которых зиждется храмина нашего будущего
свободно-общинного быта», Герцен считал, что «эти краеугольные камни - все же
камни <...> и без западной мысли наш будущий собор остался бы
при одном фундаменте», «при диком общинном быте» (II, 224).
Вместе с тем глава «Не наши» начинается эпиграфом из герценовского
некролога, посвященного памяти одного из славянофилов - К. С.
Аксакова, и заканчивается большим фрагментом из этого некролога,
опубликованного в «Колоколе» в начале 1861 г. Герцен так пишет о
своем отношении к славянофилам после того, как, по его
выражению, «время, история, опыт сблизили» его со славянофильством: «Да,
мы были противниками их, но очень странными: у нас была одна
любовь, но не одинакая. У них и у нас запало с ранних лет одно
сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они
принимали за воспоминание^ а мы - за пророчество: чувство
безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому
народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как
двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце
билось одно» (II, 244).
СЛАВЯНОФИЛЫ
Слово «славянофил» стало употребляться в русской литературе с
начала XIX столетия для обозначения человека,
ориентировавшегося на славяно-русскую культуру, в том числе и на церковно-славян-
ский язык (славянофилом, например, называли адмирала А. С.
Шишкова, который идеализировал допетровское прошлое России и
рассматривал старославянский язык как «корень и начало» русского
языка). Как идейное течение русской общественной мысли,
противостоящее западничеству, славянофильство возникло в конце 30-х гг. и было
представлено воззрениями И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, К. С.
Аксакова, Ю. Ф. Самарина, А. И. Кошелева и ряда других писателей,
ученых-фольклористов, общественных деятелей. В этом виде
славянофильское направление существовало до начала 60-х гг.
Формирование славянофильских воззрений тесно связано с
полемикой между западниками и их противниками - сторонниками
самобытного пути развития России (они даже называли себя
«самобытниками»). И хотя последних с 1844 г. стали называть «славяно-
109
филами», это наименование неточно выражало суть их воззрений,
ибо в центре их внимания были Россия и русский народ. Это было
«русское направление», «московское направление», «московская
партия» - по их самоопределению. Подчеркивание
родоначальниками славянофильства «московского направления» их взглядов было
связано не только с тем, что они были москвичами и в Москве возник
их кружок, но и с убеждением, что «Москва - столица русского
народа, а Петербург - только резиденция императора», по словам К.
Аксакова, сказанным Герцену (II, 237).
Ранние славянофилы не были панславистами, т. е. сторонниками
идеи объединения славян. Самобытность России они связывали,
прежде всего, с православием и своеобразием исторических судеб
русского народа; политической деятельностью они не занимались. По
своим социально-политическим воззрениям славянофилы были «так
же далеки от консерватизма в его нелепой односторонности, как и от
революционности в ее безнравственной и страстной
самоуверенности» (А. С. Хомяков). Казалось бы, что их идеалы укладываются в
формулу официальной народности - «православие, самодержавие,
народность». Но почему тогда царское правительство
подозрительно относилось к славянофилам, запрещало их издания, держало их
под полицейским контролем, а Ю. Ф. Самарина даже подвергло в
1849 г. краткосрочному аресту?-Немалую роль в этом, вероятно,
играла подозрительность, а порой просто глупость правительственных
чиновников (славянофилов сам московский генерал-губернатор
называл «красными» и «коммунистами», а ношение ими бород
расценивалось как поведение, несовместимое с дворянским званием). И в
то же время теоретики славянофильства отнюдь не апологетически
воспринимали существующую российскую действительность, ее
социальное состояние, государственность и церковные порядки.
Противопоставляя Москву как народную столицу Петербургу как
императорской резиденции, они тем самым отрицали единение народа с
царским самодержавием1. Славянофилы были противниками
крепостного права. Их понимание православия не соответствовало
официальным установкам. Не случайно серьезные богословские труды
А. С. Хомякова печатались за границей, а на родине - лишь через
19 лет после его кончины.
Для формирования философии славянофильства первостепенное
значение имели философские идеи и взгляды И. В. Киреевского и
А. С. Хомякова.
1 И. В. Киреевский писал, что Николай I «никогда не любил словесности и
никогда не покровительствовал ей. Быть литератором и подозрительным
человеком в его глазах было однозначительно»; «хвалить его именно за
покровительство и сочувствие к просвещению и словесности - то же, что хвалить
Сократа за правильный профиль» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979.
С. 378, 379).
ПО
И. В. Киреевский
Иван Васильевич Киреевский (1806-1856) родился в родовитой
дворянской семье, в которой европейская образованность его
родителей сочеталась с особым почитанием русского народного быта и
фольклора. Мать И. В. Киреевского была близкой родственницей В.А.
Жуковского (отец поэта был ее дедом) и дружила с ним в юности.
Жуковский, с которым Иван в детстве жил в одном доме, несомненно
повлиял на формирование его миропонимания. Отца Киреевский
потерял в шестилетнем возрасте. Когда ему было 11 лет, мать
вторично вышла замуж. Его отчим А. А. Елагин высоко ценил труды
Канта и Шеллинга; именно он внушил своему пасынку интерес к
немецкой философии. Иван и его брат Петр (1808-1856), ставший
известным собирателем русских народных песен и стихов, древних
текстов, получили превосходное домашнее образование: их
учителями были профессора Московского университета, в том числе
Мерзляков. Слушал он и публично лекции в университете, а в 1824 г. сдал
университетский экзамен.
Поступив на службу в Архив Министерства иностранных дел,
И. В. Киреевский вместе с другими «архивными юношами» входит в
«Общество любомудрия», где увлеченно изучают немецкую
философию, особенно Шеллинга. Ç1830 г. он едет в Германию, где слушает
лекции Гегеля, Шеллинга и других видных немецких философов,
знакомится лично с Гегелем и Шеллингом.
С конца 20-х гг. И. Киреевский выступает в печати в качестве
литературного критика. Он пишет статьи «Нечто о характере поэзии
Пушкина» ( 1828), «Обозрение русской словесности 1829 года» ( 1830).
Последняя статья вызвала отклик Пушкина. Поэт очень
одобрительно оценил работу 20-летнего критика и в письме к нему писал в
начале 1832 г.: «Ваша статья о «Годунове» и о «Наложнице» порадовала
все сердца; насилу-то дождались мы истинной критики» (X, 65).
Дружеские отношения установились у Киреевского с Е. А. Баратынским.
«Дружба твоя, милый Киреевский, принадлежит к моему
домашнему счастию, - писал Баратынский в августе 1831 г. - Ты первый из
всех знакомых мне людей, с которыми изливаюсь я без
застенчивости: это значит, что никто еще не внушал мне такой доверенности к
душе своей и своему характеру».
В 1832 г. Киреевский начинает выпускать журнал «Европеец». В
первых двух номерах этого «журнала наук и словесности»
публиковались произведения Жуковского и Баратынского, H. М. Языкова и
А. С. Хомякова. Тепло отозвавшись о журнале, Пушкин обещал свое
сотрудничество в нем. Несколько своих работ опубликовал в
«Европейце» и сам Киреевский, в том числе первую часть статьи
«Девятнадцатый век». Однако именно эта статья послужила поводом к
запрещению издания журнала, и третий номер «Европейца», в котором
111
должно было быть окончание «Девятнадцатого века», уже не вышел
в свет. Основанием для запрета явилось мнение Николая I,
узревшего в слове «просвещение» свободу», в «деятельности разума» -
революцию, а в «искусно отысканной середине» - конституцию.
Запрещение «Европейца» вызвало протест передовой
общественности. «Запрещение Вашего журнала, - писал Пушкин Киреевскому
в июле 1832 г., - сделало здесь большое впечатление; все были на
Вашей стороне, то есть на стороне совершенной безвинности». В
защиту И. Киреевского выступили П. А. Вяземский, П. Я. Чаадаев,
В. А. Жуковский, бывший тогда воспитателем наследника царского
престола. Но ничто не помогло. Киреевскому было запрещено
печататься на долгие годы, не смог он получить и кафедру философии в
Московском университете.
Что же представляла собой статья «Девятнадцатый век»? Автор
ее широкими мазками нарисовал картину смены прошлого века
новым, обрисовав те изменения, которые произошли в науках,
искусстве, философии и религиозных воззрениях. Характер европейского
просвещения, по его мнению, «был прежде попеременно
поэтический, исторический, художественный, философический», а в
настоящее время, т. е. в первую треть XIX столетия, он становится «чисто
практическим»', жизнь становится средством и целью бытия,
вершиной и корнем «всех отраслей ^ственного и сердечного
просвещения»1. Вместе с тем, отмечал он, «жизнь европейского просвещения
девятнадцатого века не имела на Россию того влияния, какое она имела
на другие государства Европы» (89), и Киреевский ставит вопрос,
который он будет решать всю свою жизнь: «Извнутри ли
собственной жизни должны мы заимствовать просвещение свое или получать
его из Европы? И какое начало должны мы развивать внутри
собственной жизни?» (там же).
Отвечая на этот вопрос, Киреевский в своей статье вслед за
французским историком Ф. Гизо определяет три начала, из которых
«развивалась вся история новейшей Европы»: 1. «Влияние христианской
религии». 2. «Характер, образованность и дух варварских народов,
разрушивших Римскую империю». 3. «Остатки древнего мира» (91).
Сравнивая историю западноевропейских государств и России,
Киреевский делает вывод, что роковое значение для России имел
«недостаток классического мира» (94), хотя «в России христианская
религия была еще чище и святее» (93). В Европе же «новейшее
просвещение есть не отрывок, но продолжение умственной жизни
человеческого рода». И таким образом, «государства, причастные образованности
европейской, внутри самих себя совместили все элементы
просвещения всемирного, сопроникнутого с самою национальностью их» (96).
1 Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 88-89. Все
последующие ссылки на страницы этого издания даются в тексте в скобках.
112
По мнению Киреевского, сама история России свидетельствует о
том, что сближение с Европой (а оно началось еще в допетровскую
эпоху) дало возможность распространению просвещения «в
истинном смысле сего слова», под которым он понимает «не отдельное
развитие нашей особенности, но участие в общей жизни просвещенного
мира», развитие, имеющее общечеловеческий успех (см. там же). В
статье безусловно одобряются реформы Петра I, «ибо благоденствие
наше зависит от нашего просвещения, а им обязаны мы Петру» (99).
В этой статье мысли Киреевского созвучны «Философическим
письмам» Чаадаева, к тому времени еще не опубликованным, но
ходившим в списках. Не случайно Чаадаев от имени Киреевского
обратился с запиской к шефу корпуса жандармов и начальнику III
Отделения графу Бенкендорфу, оправдывая и защищая от обвинений
статью «Девятнадцатый век». Как оказалось, запрещение «Европейца»
было своеобразной прелюдией к последовавшему через четыре года
запрещению «Телескопа» из-за первого «Философического письма»
Чаадаева.
Прозападническая направленность «Девятнадцатого века»
выражена в статье четко и недвусмысленно. Автор ее выступает против
тех, кто хочет «возвратить нас к коренному и старинно-русскому».
Он убежден в том, что «у нас искать национального - значит искать
необразованного; развивать^го за счет европейских нововведений -
значит изгонять просвещение, ибо, не имея достаточных элементов
для внутреннего развития образованности, откуда возьмем мы ее, если
не из Европы?» (98).
После истории с «Европейцем» Киреевский отошел от активной
общественной жизни. В 1834 г. он женится на девушке, которую
давно уже любил. Религиозность жены и общение со «старцами» в Оп-
тиной пустыни оказали заметное влияние на его мировоззрение. В
Москве он организует в своем доме вечера («Среды»), на одном из
которых зимой 1838/39 г. Хомяков прочитал свою статью «О старом
и новом». В 1839 г. Киреевский читает статью «В ответ А. С.
Хомякову». Обе статьи расходятся в списках, активно обсуждаются в
салонах и, будучи первыми программными сочинениями
славянофильского направления, способствуют делению общества на «своих» и
«чужих».
В этой своей статье 1839 г. Киреевский ставит, в сущности, ту же
проблему, что и в статье «Девятнадцатый век»: «Нужно ли для
улучшения нашей жизни теперь возвращение к старому русскому или
нужно развитие элемента западного, ему противоположного?» (144).
Однако решение этой проблемы в данной статье и последующих его
трудах имеет совершенно иную идейную направленность. Он и в 1839 г.
придерживается, как и ранее, концепции, согласно которой
европейская образованность складывается из трех начал, или элементов.
Но если раньше «недостаток классического мира», по его словам,
113
имел пагубный результат для России, то теперь Киреевский
полагает, что этот «недостаток» оборачивается достоинством.
Дело в том, что «классический мир древнего язычества, не
доставшийся в наследие России, в сущности своей представляет
торжество формального разума человека над всем, что внутри и вне его
находится» (145). «Начало рационализма», как считает Киреевский,
вобрало в себя западное христианство - католическая церковь.
«Поэтому, - заключает он, - и характер образованности европейской
отличается перевесом рациональности» (147). Положительно
оценивая «все отдельные выгоды рациональности» (удобства «жизни
общественной и частной, которые произошли от того же самого
рационализма»), русский мыслитель считает рациональность «началом
односторонним, обманчивым, обольстительным и предательским»,
ведущим к «нравственной апатии», к недостатку убеждений,
всеобщему эгоизму (146).
Рационализм в виде «логического начала» проник в католицизм,
породив схоластическую философию. Эта философия «силою
разумных доводов» подчинила разум вере, тем самым формализуя саму
веру, логически противопоставляя веру разуму. Таким образом,
рационализм становится врагом разума: «.. .по причине
рациональности своей западная церковь является врагом разума*угнетающим,
убийственным, отчаянным врагом ere» (148). Рациональность
католицизма породила и рациональность протестантизма. Отсюда выводится и
антирелигиозность европейского просвещения.
Источник благотворного воздействия на Россию Киреевский
усматривает в православии, которое «не знало ни этой борьбы веры
против разума, ни этого торжества разума над верою» (148). В
противоположность Западу с его рационализмом и эгоизмом, где
«каждый сам по себе», где свобода в низших слоях общества является
произволом, а произвол «в правительственном классе» -
«самовластием» (149), в России, по Киреевскому, утверждаются иные
принципы. Здесь «человек принадлежал миру, мир ему». «Поземельная
собственность, источник личных прав на Западе, была у нас
принадлежностью общества» (148). В противоположность Европе, в которой
«науки как наследие языческое процветали так сильно», «но
окончились безбожием как необходимым следствием своего
одностороннего развития» (152), в России «собиралось и жило то устроительное
начало знания, та философия христианства, которая одна может дать
правильное основание наукам». Речь идет об учении восточных
отцов церкви, произведения которых переводились, читались,
переписывались и изучались «в тишине наших монастырей, этих святых
зародышей несбывшихся университетов». Монастыри,
находившиеся «в живом, беспрестанном соприкосновении с народом», были
источником народного просвещения. В статье Киреевского это
просвещение характеризуется как «не блестящее, но глубокое; не роскош-
114
ное, не материальное, имеющее целью удобства наружной жизни, но
внутреннее, духовное, это устройство общественное, без
самовластия и рабства, без благородных и подлых» (там же).
«В ответе А. С. Хомякову» Петр I - уже не великий просветитель
и благодетель России, как утверждалось в «Европейце», а
«разрушитель русского и вводитель немецкого» (153). Первые признаки
подавления национальных начал в России Киреевский видит в
появлении еще в допетровскую эпоху ереси в церкви, в победе «партии но-
вовводительной» над «партией старины», осуждение большинства
народа как «раскольников».
Какова же идейная программа славянофилов? Они считали, что
«было бы смешно, когда бы не было вредно», воскрешать
насильственно «прошедшее России», ставшие мертвыми формы русского
быта. Но следует сохранять «оставшиеся формы» как надежду на то,
что «когда-нибудь Россия возвратится к тому живительному духу,
которым дышит ее церковь» (153).
Философские идеи первой своей славянофильской статьи
Киреевский развивает в статье «О характере просвещения Европы и о его
отношении к просвещению России» (1852) и в неоконченном труде
«О необходимости и возможности новых начал для философии»,
посмертно опубликованном «русской беседе» в 1856 г. одновременно с
некрологом, написанным AJC. Хомяковым.
В центре философских интересов Киреевского находится
проблема отношения разума и веры. В статье 1839 г. он критикует
рационализм, имеющий своим истоком «классический мир древнего
язычества». В статье 1852 г. философ уточняет это положение, подчеркивая,
что источником рационализма является, прежде всего, «древний
языческий Рим», в то время как греческая образованность в чистом виде
почти не проникала в Европу до первой половины XV в.
Отличительный же «склад римского ума заключался в том именно, что в нем
наружная рассудочность брала перевес над внутреннею сущностью
вещей» (260). И эта особенность «римского ума» нашла свое выражение
в общественном и семейном быте Рима, уродуя «нравственные
отношения людей», в римской поэзии, занятой «художественным
усовершенствованием внешних форм чужого вдохновения», даже в самом
латинском языке и в «знаменитых законах римских» (там же).
«Умственный характер Рима» - «наружная рассудочность»,
«особенная приверженность римского мира к наружному сцеплению
понятий» (262) повлияла, как считал Киреевский, на само
христианское богословие на Западе и вошло, что называется, в кровь и плоть
католицизма и его схоластической философии, «подчинив веру
логическим выводам рассудка» (263). Этот «перевес логической
односторонности» был продолжен Реформацией, породившей
протестантизм, ибо католическая церковь была поставлена «перед судом того
же логического разума» (там же). «Это распадение разума на част-
115
ные силы, это преобладание рассудочности над другими деятельнос-
тями духа» (266) и разрушили все умственное и общественное
здание европейской образованности.
В противоположность западному рационализму,
проявившемуся и в философском мышлении Декарта, Спинозы, Юма, Канта,
Фихте, Гегеля, восточные мыслители, начиная с богословов
восточной церкви, «для достижения полноты истины ищут внутренней
цельности разума: того, так сказать, средоточия умственных сил,
где все отдельные деятельности духа сливаются в одно живое и
высшее единство» (274).
В последнем своем философском труде Киреевский излагает свое
собственное понимание проблемы взаимоотношения знания и веры. С
его точки зрения, в западной философии продолжает господствовать
«рациональное мышление», которое выражает несогласие «с
учениями веры». Противники этой философии, «благочестивые люди на
Западе», «желая спасти веру, совсем отвергают всякую философию как
нечто несовместное с религией и осуждают разум вообще как нечто
противное вере» (295). Киреевскому такое противопоставление
разума и веры представляется неправомерным и ошибочным, «ибо что это
была бы за религия, которая не могла бы вынести света науки и
сознания? Что за вера, которая несовместна с разумом1?» (295-296).
Задача состоит в том, чтобы*«самый разум поднять выше своего
обыкновенного уровня», т. е. стремиться «самый источник
разумения, самый способ мышления возвысить до сочувственного согласия
с верою» (318). Возможность «такого возвышения разума», по
Киреевскому, заключается в том, что он не сводится к «отвлеченной
логической способности», а представляет собой «одну неделимую
цельность», в которой воедино сливаются и логическая способность, и
восторженное чувство, и внушение эстетического смысла, и «любовь
своего сердца». Важно, чтобы все эти «отдельные силы» разума в
таком его понимании не находились «в состоянии разрозненности и
противоречия» (там же). «Цельность разума» необходима для
постижения «цельной истины». Вера же для Киреевского - это «высшая
разумность, живительная для ума», а «не слепое понятие»,
противостоящее «естественному разуму», и не только «внешний авторитет,
перед которым разум должен слепнуть» (319).
Объединяя веру и разум, Киреевский употребляет понятие
«верующее мышление». По его словам, «главный характер верующего
мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части
души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где
разум и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и истинное, и
удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объем
ума сливается в одно живое единство, и таким образом
восстанавливается существенная личность человека в ее первозданной
неделимости» (333-334). Статья «О необходимости и возможности но-
116
вых начал для философии» заканчивается выводом о том, что
«цельному сознанию верующего разума» может подчиниться
«раздвоенная образованность Запада» (332).
«Цельное сознание верующего разума», считает Киреевский,
соответствует «основным началам древнерусской образованности»,
идущей от учения отцов церкви. Еще в статье «О характере просвещения
Европы...» подчеркивается, что под руководством учения св. отцов
православной церкви «сложился и воспитался коренной русский ум,
лежащий в основе русского быта» (275). И если «западный человек
раздробляет свою жизнь на отдельные стремления», связывая их лишь
«рассудком в один общий план» (282), то «русский человек каждое
важное и неважное дело свое всегда связывал непосредственно с
высшим понятием ума и с глубочайшим средоточием сердца» (283).
В связи с этим Киреевский решительно противопоставляет
«Святую Русь» Западу по разным основаниям. В отличие от западных
стран, считает он, на Руси «не было ни завоевателей, ни
завоеванных» (278), «все классы и виды населения были проникнуты одним
духом, одними убеждениями, однородными понятиями, одинакою
потребностию общего блага» (279); в то время как на Западе
господствует «личное право собственности» (281), в России «общество
слагалось не из частных собстведностей, к которым приписывались лица,
но из лиц, которым приписывалась собственность» (282). Отсюда
выводится общинное землевладение, правда ограниченное правом
помещика, обусловленным его, помещика, личными заслугами
перед государством. Киреевский проводит различия между западным и
русским человеком в его нравственном облике (см. 288) и в его
эстетическом отношении к миру: на Западе «та же раздробленность духа,
которая в умозрении произвела логическую отвлеченность, в
изящных искусствах породила мечтательность и разрозненность
сердечных стремлений» (287).
Даже единомышленники Киреевского А. С. Хомяков, К. С.
Аксаков и И. С. Аксаков полагали, что в статье «О характере
просвещения Европы...» Древняя Русь представлена идеализированно.
Однако достойно внимания то, что Киреевский чужд какого бы то ни было
философствования о преимуществах русского ума и быта. Как он
писал в этой же статье, «не природные какие-нибудь преимущества
словенского племени заставляют нас надеяться на будущее его
процветание, нет!» (276-277). Источником драгоценных для него
особенностей русского ума, чуждого логической односторонности,
лежащего в основе русского быта, являются «чистые христианские
начала» (276), ибо со времени своего возникновения христианство
боролось «с тем состоянием духовного распадения, где односторонняя
рассудочность отрывается от других сил духа» (261).
Разрабатывая свое учение о «цельности разума», о «цельном
сознании верующего разума», о неделимости личности человека, Ки-
117
реевский отмечал также заслуги таких западных философов, как
Паскаль, Лейбниц, Кант и особенно Шеллинг. Шеллинг, писал он, по
своей врожденной гениальности и по необычайному развитию
своего философского глубокомыслия принадлежал к числу тех существ,
которые рождаются не веками, но тысячелетиями» (330). Именно
Шеллинг доказывал «односторонность всего логического мышления»
(271), «ограниченность рационального мышления» (329). Высоко
оценивая шеллинговско-гегелевскую диалектику, Киреевский
вместе с тем творчески ее применяет для показа ограниченности как
Гегеля, так и Шеллинга (см. 326-331).
Киреевский стремится утвердить «новые начала для философии»,
полагая, что «философия не есть одна из наук и не есть вера. Она
общий итог и общее основание всех наук и проводник мысли между
ними и верою» (321). Своеобразие философской мысли Киреевского
состоит в стремлении постичь целостность человеческой личности,
несводимой к одной лишь рассудочной деятельности. «Внутренняя
природа разума» включает «верующее мышление» (331), благодаря
которому, по его мнению, человеку становится доступной высшая
истина единства Бога и мира.
Притом ««внутреннее сознание, что есть в глубине души живое
общее средоточие для всех отдельных сил разума», сокрыто «от
обыкновенного состояния духа человеческого» (319). Киреевский далее
отмечает, что «внутреннее сознание» выступает иногда как «только
темное чувство этого искомого, конечного края ума» (321). Таким
образом, философ подходит к постановке проблемы, над решением
которой билась философская и психологическая мысль второй
половины XIX и XX в., - над сознательного и подсознательного в
человеческой психике. Еще с юношеского возраста его привлекала
таинственная область сновидений («Сны для меня не безделица», - писал
он сестре (353), считая знание «свойства снов» «наукой важной»).
По мнению М. О. Гершензона, для Киреевского «сновидение - как
бы отверстие, в которое мы можем подсмотреть действие
таинственных сил в нашей душе, а может быть, и нечто большее»1.
В лице Киреевского русская мысль не только не была
отгорожена славянофильским мировоззрением от западноевропейской
философии, но находилась в русле философских исканий живой
целостности человеческой личности, единства богатств ее духовного
мира, не ограничивающихся односторонним рационалистическим
мышлением, а включающих в себя духовно-чувственное познание,
интуицию, сферу бессознательного. В этом отношении его
философские воззрения оказались созвучны учениям таких западных
мыслителей, как Серен Кьеркегор, Фридрих Ницше, Анри Бергсон,
1 Гершензон М. О. И. В. Киреевский // Гершензон М. О. Грибоедовская
Москва. П. Я. Чаадаев. Очерки прошлого. М, 1989. С. 301.
118
таким течениям, как возникшая во второй половине XIX в.
«философия ценностей» и столь популярное в XX в. психоаналитическое
направление (3. Фрейд, К. Юнг и др.). Киреевский как философ,
обосновывающий единство веры и знания, «цельного сознания
верующего разума», оказал большое влияние на развитие русской
религиозной мысли, прежде всего на формирование философии
всеединства В. С. Соловьева и его последователей.
А. С. Хомяков
Алексей Степанович Хомяков (1804-1860) был многосторонне
развитой личностью - философом, богословом, социологом и
экономистом и в то же время поэтом, художником, изобретателем (изобрел
новую паровую машину и дальнобойное ружье), врачом, знатоком
сельскохозяйственного производства. Он знал несколько
иностранных языков.
Родился А. С. Хомяков в Москве в дворянской семье. Мать его
была из рода Киреевских. Она воспитала сына в духе верности
православной вере и национальным традициям. Алексей и его брат
получили превосходное домашнее образование (уроки им давали даже
профессора университета), жизнь А. С. Хомякова небогата
внешними событиями. В 1822 г. он, сдав экзамены в Московском
университете, получает степень кандидата математических наук и в том же
году поступает на военную службу. В 1824 г. выходит в отставку, едет
за границу; изучает живопись в Париже и занимается литературным
трудом. Вернувшись на родину, Хомяков вскоре (в 1828 г.) вновь
возвращается в армию во время войны России с Турцией, но уже в
1829 г. оставляет военную службу и до конца своих дней ведет
спокойную жизнь, управляя своим имением. В 1836 г. он женится на
сестре поэта Николая Языкова. Скончался Хомяков во время
эпидемии холеры, когда он старался лечить крестьян.
Духовная жизнь Хомякова была более стабильной, чем духовные
искания другого родоначальника славянофильства - Киреевского. Как
поэт и философ он последовательно шел по тому духовному пути,
который в конце 30-х гт. привел его к славянофильскому идеалу.
В юности А. С. Хомяков и его брат Федор были дружны с
братьями Веневитиновыми, и, хотя будущий философ не входил в
«Общество любомудрия», мимо Шеллинга он не прошел. Отсюда,
по-видимому, берет начало склонность Хомякова к диалектике, которую
отмечали знавшие его современники. В стихотворении 1825 г. «Заря»
он в людях, как в заре, усматривает противоречия:
Смешенье пламени и хлада,
Смешение небес и ада,
Слияние лучей и тьмы.
119
Герцен в «Былом и думах» подчеркивал особые бойцовские
качества Хомякова, его постоянную готовность и стремление к спорам,
называл философа «старым бретером диалектики», который своих
противников «мастерски ловил и мучил на диалектической жаровне».
Критический интерес к Шеллингу и Гегелю Хомяков сохранял до
конца жизни. В 1847 г. в Берлине он встретился с Шеллингом, но
не нашел в нем единомышленника в понимании сущности
христианства.
С юности Хомяков был увлечен историей своей родины. Он
пишет поэму «Вадим», посвященную легендарному герою древнего
Новгорода, стихотворные драмы «Ермак» (1825-1826) и «Дмитрий
Самозванец» (1831-1832). Интерес к новгородской вольнице
Хомяков разделял с поэтами-декабристами - К. Ф. Рылеевым и В. К.
Кюхельбекером. Однако его пугал их политический радикализм. В
споре с Рылеевым он осудил саму идею социальной революции, после
которой военные «станут распоряжаться народом по произволу и
сделаются выше его»; А. И. Одоевскому доказывал, что затеи
заговорщиков - это rie либерализм, а желание «заменить единодержавие
тиранством.вооруженного меньшинства». Хомяков был сторонником
национального единства России вне зависимости от ее правителей.
В отличие от Киреевского Хомяков не идеализировал Русь -
Россию. Он осуждал «илотизм крестьян до Петра» и современную
«мерзость рабства законного», тяжелую «для нас во всех смыслах,
вещественном и нравственном»1. Современная Россия «нас и радует, и
теснит; об ней мы можем говорить с гордостью иностранцам, а
иногда совестимся говорить даже с своими» (1,459). Вместе с тем, по его
словам, «лучше инстинкты души русской, образованной и
облагороженной христианством, эти-то воспоминания древности неизвестной,
но живущей в нас тайно, произвели все хорошее, чем мы можем
гордиться» (I, 462).
Здание российской государственности, по убеждению Хомякова,
поддержали «единство веры и жизнь церковная»: «Без влияния, без
живительной силы христианства не восстала бы земля русская»
(1,463). Однако это способна была свершить не всякая христианская
церковь, но только восточная христианская церковь, притом
преломленная через своеобразие русской жизни («Не могло духовенство
византийское развить в России начала жизни гражданской, о
которой не знало оно в своем отечестве» (I, 465). Западная же церковь
«обратилась к рационализму, утратила чистоту, заключила в себе
ядовитое начало будущего падения, но овладела грубым человечеством,
развила его силы вещественные и умственные и создала мир пре-
1 Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 461. В дальнейшем ссылки на
это издание приводятся в тексте в скобках: римская цифра означает том,
арабские - страницы.
120
красный, соблазнительный, но обреченный на гибель, мир
католицизма и реформаторства» (I, 464).
Вывод из такого понимания Запада и России следовал
однозначный: «Западным людям приходится все прежнее отстранять, как
дурное, и все хорошее в себе создавать; нам довольно воскресить,
уяснить старое, привести его в сознание и жизнь. Надежда наша велика
на будущее» (I, 463).
Как и Киреевский, Хомяков выступает против рационализма,
присущего западному образу мышления. В философии Гегеля, по его
словам, «рационализм или логическая рассудочность должна была
найти себе конечный венец...»'. Хомяков обвиняет Гегеля в том, что
действительность он подчиняет движению рассудочного понятия,
творящего мир, что в его системе осуществляется «вечное,
самовозрождающееся творение из недр отвлеченного понятия, не имеющего
в себе никакой сущности» (268). А это, с его точки зрения, означает,
что исходный пункт Гегеля - «отсутствие субстрата», т. е. реального
основания. Поэтому, по мнению Хомякова, логично само
возникновение материализма из гегелевского идеализма; материализм в лице
Фейербаха восполнил недостаток субстрата в философии Гегеля и в
качестве субстрата провозгласил «вещество». Этот «чистейший и
грубейший материализм» л^я Хомякова еще более неприемлем. Он
иронически писал, что ум материалистов «как будто не способен к
напряжению чистого мышления, к созерцанию отвлеченного
понятия». Отвергая материализм, Хомяков в то же время чтил телесность
тварного мира. В богословском труде «Церковь одна» он писал:
«...Никакой дух кроме Бога не может вполне назваться бестелесным.
Презирающий тело грешит гордостью духа».
Конечно, можно иначе интерпретировать философскую систему
Гегеля и материализм Фейербаха, чем это делает Хомяков, но нам
важно понять и определить логику философских воззрений самого
Хомякова, с позиций которой он трактует предшествующую и
современную ему философию. Гегелевский идеализм был для него
неприемлем, ибо исходным понятием этого идеализма была абсолютная
идея, а не Бог (Бог, по Гегелю, есть лишь ступень в развитии
абсолютной идеи, а религия - форма, притом не высшая, познания
«абсолютного духа»). Сам же Хомяков в качестве исходного «субстрата»
определяет Бога, называя его «водящим Разумом» (см. 325,335-347).
Отсюда мир есть «мысль Божия», проявленная в творении через
«свободную волю» и по «закону любви».
Итак, Воля в единстве с Разумом, по Хомякову, выражают
Божественное творение мира и лишь, поскольку человек создан по образу
1 Хомяков А. С. Поли. собр. соч.: В 8 т. М., 1900. Т. 1. С. 267. В дальнейшем
ссылки на этот том, в котором собраны философские работы Хомякова, не
вошедшие в двухтомник 1994 г., дают в тексте с указанием страницы в скобках.
121
и подобию Божьему, характеризуют самого человека как «волящий
разум» или «разумеющую волю» (283). Следовательно, Бог в
качестве «волящего Разума» и есть бытийная сущность мира, а уже
потом воля и разум суть психологические особенности человеческой
личности. Внимание, уделяемое Хомяковым воле в объективном и
субъективном ее значении, было знамением времени. Как известно,
немецкий философ А. Шопенгауэр поставил волю в центр своей
философии, создав произведение с характерным названием «Мир как
воля и представление». Хомяков вряд ли знал учение Шопенгауэра,
книга которого, хотя и вышла в 1819г., прошла почти незамеченной,
а известность и слава пришли к автору «Мира как воли и
представления» лишь в 50-е гг. Шопенгауэр также выступил против панлогизма
гегелевской философии, обращаясь к воле как внутренней сущности
всех сил природы и человека. Однако понимание волевого начала у
немецкого философа и русского мыслителя совершенно различно.
Если у Шопенгауэра «воля к жизни» не обладает разумной целью, то
у Хомякова Воля внутренне сопряжена с Разумом. Если
шопенгауэровская воля - здая, саморазрушающаяся сила, агрессивное
стремление, то у Хомякова творческая активность «волящего Разума» осу-
ществляетсЯ;«по закону любви». Поэтому если Шопенгауэр точно
назвал свое философское учение «пессимизмом», то мироучение
Хомякова пронизано оптимизмом.
Бытийной, онтологической основой мира в философии
Хомякова является Бог и сам «мир есть творение, мысль Божия». И эта
религиозность пронизывает не только ее онтологию, но и теорию
познания - гносеологию. По словам Хомякова, «силы разума не доходят до
истины Божией» (II, 8). Само человеческое знание он подразделяет
на «знание внешнее» - «убеждение логическое» - и «внутреннее
знание». Последнее и есть истинное знание, сопряженное «с верою,
видящею невидимое» (II, 9).
Как и Киреевский, Хомяков не противопоставляет веру знанию и
разуму как таковому. Знание и разум противостоят вере, когда они ее
лишены. Но сама вера должна быть разумной, и вера сама есть
«внутреннее знание» - «внутреннее знание веры» (И, 6). При всех своих
претензиях к Канту и кантианцам Хомяков считал, что Кант
«памятника заслуживает», ибо «убил скептицизм, доказал, что вера есть
высшее, безусловное знание» (II, 331).
«Разум жив восприятием явления в вере», - отмечает Хомяков, в
данном случае называя «верою ту способность разума, которая
воспринимает действительные данные, передаваемые ею на разбор и
сознание рассудка». «Вера» в этом значении принадлежит к
«области, предшествующей логическому сознанию и наполненной
сознанием жизненным, не нуждающимся в доказательствах и доводах»
(279, 327). Таким образом, «вера» в первоначальном смысле
выступает на самом первом этапе познавательного процесса. Эту «веру»
122
(«первичные акты веры» - по характеристике В. В. Зеньковского)
Хомяков именует «живознанием» (см. 282). «Живознание»,
«жизненное сознание» - начальный этап процесса познания - для Хомякова
есть «вера», вероятно, потому, что человек на этой стадии
познавательной деятельности без всякого логического рассуждения верит
жизненному содержанию своего сознания, без всяких доказательств
доверяет Божьему миру, уверен в его объективном внешнем
существовании, отличном от «умственного мира».
Наряду с этим значением понятие «вера», по Хомякову, означает
также высшее состояние разума, уже преодолевшего «логический
рассудок», поднявшегося до «целостного разума», «всецелого
разума». «Всецелый разум» - это «волящий разум», или «разумеющая
воля», «тождество умного естества и воли» (II, 121). Разуму присуща
и вера как его «отражательная восприимчивость», способность
видеть невидимое. Вера - высшее состояние разума, и она сама
разумна. Вера вносит в разум «нравственное начало», ибо сама «вера есть
начало, по самому существу своему, нравственное», так как «вера -
жизнь и истина в одно и то же время», она «есть такое действие,
которым человек, осуждая свою собственную несовершенную и
злостную личность, ищет соединиться с существом нравственным по
преимуществу, с Иисусом праведным, с Богочеловеком» (II, 97).
Поэтому «верующий знфЬт истину» (И, 9). Истина недостижима
без любви. Любовь - Божественный дар, который обеспечивает «за
людьми познание безусловной истины» (И, 84). Притом
«недоступная для отдельного мышления истина доступна только совокупности
мышлений, связанных любовью» (283). Таким образом, Хомяков
утверждает принципы, по словам исследователя, «соборной
гносеологии»1.
«Соборность» - центральное понятие философии Хомякова,
усвоенное последующей русской религиозной философией. Слово
«соборность», очевидно, связано со словом «собор», притом не только в
значении «главная церковь в городе», но и как «сбор», «собрание»
(«вселенский собор» - сбор всех епископов, «поместный собор»
духовенства или же светский «земский собор»). По словам Хомякова,
«собор» «выражает идею собрания, не обязательно соединенного в
каком-либо месте, но существующего потенциально без внешнего
соединения. Это единство во множестве» (II, 242). В его понимании
«соборность» - прежде всего имеет религиозный смысл, с особой
силой выявленный в православии.
С точки зрения православного богослова, «человек в
протестантстве» подобен песчинке, поскольку она «действительно не получает
нового бытия от груды, в которую забросил ее случай» (II, 87). «Вой-
1 См.: Благова Т. И. Соборность как философская категория у А. С.
Хомякова // Славянофильство и современность. Сб. статей. СПб., 1994. С. 186.
123
дите в протестантский храм. Не в совершенном ли одиночестве
стоит в нем молящийся?» - риторически спрашивает Хомяков (II, 88). В
католическом же храме на первый взгляд молитва каждого сливается
в одну общую молитву, но «и здесь человек остается одиноким перед
молитвою, ибо от него не требуется, чтоб он ее понимал», так как
богослужение происходит на непонятном большинству людей
латинском языке (II, 89). Если человек в протестантизме, по выражению
Хомякова, уподобляется песчинке, то в католицизме он подобен
кирпичу: этот «кирпич, уложенный в стене, не претерпевает порчи и не
приобретает совершенства от места, назначенного ему наугольником
каменщика» (II, 87). Если в католицизме существует «единство
внешнее, отвергающее свободу и потому недействительное», то в
протестантизме, наоборот, «свобода внешняя, не дающая единства, а
потому также недействительная» (И, 183). В истинном же христианстве
человек не утрачивает своей индивидуальности, своей свободы
(«любовь только там, где личная свобода») (1,469), однако он - «не
одинокая личность; он стал членом Церкви, которая есть тело Христово, и
жизнь его стала нераздельною частью высшей жизни, которой она
свободно себя подчинила» (II, 93).
Истинной Церкви (а для Хомякова это православная церковь) дано
и «христианское единство», и «христианская свобода», «потому что
единство ее есть не иное что, как согласие личных свобод» (II, 183).
Соборность - это и есть «согласие личных свобод»; она присуща
Церкви, «собранной в святом единении любви и молитвы» (II, 157),
ибо «никто один не спасается. Спасающийся же спасается в Церкви
как член ее и в единстве со всеми другими ее членами» (И, 19).
Видный русский богослов H. М. Зернов считает, что
«кардинальная ошибка Хомякова состояла в том, что в своих рассуждениях он
пользовался «двойным стандартом»: если римо-католикам и
протестантам, со всеми их недостатками, он давал характеристику на
основе подлинных исторических фактов, то вместо исторической
православной Церкви он описывал свой идеал - Церковь, которую чаял
видеть»1.
Соборность как «единство во множестве», как «согласие личных
свобод», как «святое единение любви и молитвы» - это и есть
религиозный и нравственный идеал Хомякова, с позиций которого он
критически оценивал реальное историческое развитие и современное
состояние православной церкви.
На наш взгляд, то, что Хомяков понимал под «соборностью»,
великолепно выразил Андрей Рублев в своей знаменитой иконе
«Троица». Средствами живописи, гармонией композиции и красок
великий художник изобразил в образах прекрасных женоподобных юно-
1 Зернов Н. М. Три русских пророка. Хомяков, Достоевский, Соловьев. М,
1995. С. 75.
124
шей - ангелов, представляющих три лика Троицы: Бога-Отца, Бога-
Сына и Святого Духа, - соборное общение. Как лики Троицы, они
«нераздельны и неслиянны», они объединены дружеским согласием,
любовью, но в то же время каждый из них имеет свой лик, свою
свободную индивидуальность. И хотя три ангела, являющиеся Аврааму,
в христианском художественном осмыслении олицетворяли три лика
Троицы, в «Троице» Рублева они настолько равнозначны, настолько
взаимопроникновении, настолько гармонически едины при всей
своей индивидуальности, что все попытки определить, какой именно
ангел представляет Отца, Сына, Святого Духа, в принципе
безрезультатны. Вот это, думается, и есть идеал соборности, который
провозглашал Хомяков.
Хотя соборность - прежде всего религиозно-нравственный идеал,
принцип соборности, как мы видели, Хомяков включает и в теорию
познания, так как «истина доступна только совокупности мышлений,
связанных любовью» (283). Принцип соборности, считает он,
проявился в таких социальных формах быта русского народа, как сельская
община и артель, своего рода братское объединение рабочего люда по
профессиям (артели ткачей, каменщиков, плотников и т. п.). В общине
Хомяков ценил воплощение демократических и гуманных начал:
община управлялась «миром»^ выбранным народом; на «сходах» -
собраниях общины - выявлялось или вырабатывалось общественное
мнение, утверждавшее справедливость в отношениях между людьми;
принимаемое решение должно быть одобрено всеми членами общины
на основе традиций, обычаев, народного, православного
представления о справедливости, совести и истине. Хомяков считал, что община
и артель противостоят западному индивидуализму, спасают рабочий
люд от пролетаризации. Поэтому община может быть прообразом
будущего справедливого общественного устройства.
Представления Хомякова о всемирном историческом процессе (его
историософия) исходят из того, что «картина человечества»,
сведенная в одну систему, должна разделяться «по высшему признаку его
духовного развития» (I, 30), т. е. по видам вероисповеданий, религий,
поскольку религиозная вера есть «совершеннейший плод народного
образования, крайний и высший предел его развития. Ложная или
истинная, она в себе заключает весь мир помыслов и чувств
человеческих» (I, 148). Свои историософские воззрения Хомяков изложил в
обширном труде «Исследования истины исторических идей», названном
при посмертной публикации «Записками о всемирной истории»
(Гоголь назвал его «Семирамидой»). В этом сочинении, начатом
Хомяковым еще во второй половине 30-х гг., содержится огромный
исторический, мифологический, религиоведческий, языковедческий,
этнографический, литературный материал, соответствующий уровню
знаний своего времени. В методологическом отношении он стремился
преодолеть панлогизм «гегелевской школы», представители которой
125
«воссоздают весь мир из логического развития какой-нибудь
произвольной догадки и питают благородное презрение к фактам» (I, 445).
В то же время ему чужд эмпиризм «школы исторической»,
сторонников которой философ именовал «чистыми фактистами».
По мнению Хомякова, процесс всемирного исторического
развития пронизывают два религиозных начала, характер которых
определяется отношением к свободе и необходимости (см. I, 188). Одно из
этих начал Хомяков назвал иранским, другое - кушитским (от
названия древней страны Куш, располагавшейся в южной части реки Нил,
в античности называвшейся «Нильской Эфиопией», находящейся
сейчас на территории Судана и части Египта). Иранское верование
основано «на предании о свободе или на внутреннем сознании ее».
«Бог в значении Творца есть основная характеристическая черта иран-
ства. Свобода положена началом, благо нравственное - высокою це-
лию всякого дробного бытия» (I, 199). В древности иранское начало,
по Хомякову, проявилось в «писаниях народа израильского», в
индийском брахманизме и в книгах о нравственной свободе,
приписываемых реформатору древнеиранской религии Зардушту
(называемому также, Зороастром или Заратуштрой).
Кушитские верования исходят из подчинения «строгим законам
логической необходимости», что было обусловлено практикой
жизни, зависимой от внешней природы (I, 273). Если иранство
характеризовалось «самостоятельною духовностью», то кушитство -
«грубо вещественным началом» (I, 217). Если иранство утверждало Бога
как Творца, то кушитство уже в древности переходило «в
совершенную безличность Верховного Существа, в пантеизм» (I, 195),
который Хомяков называет «религией необходимости» (I, 204).
Кушитское начало автор «Семирамиды» определяет как признание «вечной
органической необходимости, производящей в силу логических
неизбежных законов» (I, 442). В кушитстве «заключалось крайнее
искажение человеческой природы» (I, 279). «Кушитство распадается
на два раздела: на шиваизм - поклонение царствующему веществу, и
будцаизм - поклонение рабствующему духу, находящему свою
свободу только в самоуничтожении» (I, 442).
Правда, по словам Хомякова, «будцаизм», реформированный
Шакья-Муни, должен «считаться явлением духа иранского»,
поскольку он, сохранив кушитство «в признании всемогущей
необходимости», «в то же время объявил ему войну, приняв от иранства
поклонение духу» (I, 279, 280). Он подчеркивает, что иранство и кушитство
как «два начала верования» в первобытную необходимость или
творческую свободу далеко не всегда выступают в чистом виде. Эти
начала могут быть и в определенном смешении. Помимо
реставрированного буддизма такое смешение Хомяков видит и в религиях
Древней Греции и Рима - «полное слияние иранства и кушитства» (1,215).
Даже в христианство - высшее проявление иранства с его монотеиз-
126
мом и «чувством человеческого достоинства и человеческого
братства» (1,441) - может проникать «кушитская стихия», искажая его, по
его убеждению, в римско-каталической церкви и в протестантизме.
Хомяков рассматривает здесь и вопрос о том, как влияют на
характер религиозных верований племенные начала различных народов. Он
считает, что «истина и ложь доступны или соблазнительны для всех
людей», «вера и просвещение равно принадлежат всякому существу
мыслящему, будь его кожа черная, как уголь, или поэтически бела, как
снег, и будь его волосы курчавым войлоком африканца или
каштановым украшением английской головы» (I, 303). Справедливость этого
положения автор «Семирамиды» видит в том, что иранство и кушит-
ство не были раз и навсегда закреплены за тем или другим народом, но
в его верованиях могли сменять друг друга или влиять друг на друга.
Даже этнические иранцы утратили дух иранства (см. I, 441), а между
тем «иранство изменило более или менее религию многих народов,
первоначально принадлежавших кушитскому учению» (I, 303). В том
отношении громадную роль сыграло христианство.
Хомяков признает, что «родовой характер племен имел сильное
влияние на характер религий или на их развитие» (I, 303). В этом
плане «белое племя» тяготеет к иранству, «желтоликая семья»
«отличается каким-то равнодушием к миру мыслей религиозных», а
«чисто черное племя» в силу своего образа жизни в пустынных областях
«утратило творческую деятельность духа» (I, 303, 304). С точки
зрения Хомякова, на христианское учение в Европе оказали сильное
влияние «германское племя» с его тягой к умозрительности, «римский
мир» со свойственной ему «логической формальностью» и
«славянский мир, которого сказочное человекообразие служило колыбелью
религиозному человекообразию Эллады» (I, 306).
Славянский мир - предмет особого внимания
философа-славянофила. Собственно говоря, Хомяков и предпринял свой громадный
труд для того, чтобы определить место славянства во всемирной
истории, историю его возникновения, влияния на другие народы,
истинность православного христианства. Он считал, что исторические
особенности «славянского племени» - его миролюбие, общительность
и общинность, близость к общечеловеческим началам
нравственности - сделали его восприимчивым к подлинному христианству,
ставшему в виде православия «характеристической чертой» ряда
славянских народов, в особенности русского. Россия, восприняв
православное христианство от Византии, сумела дальше развить его, создав
основы «христианской государственности», «домашнюю святыню
семьи», «деревенский мир с его единодушной сходкою, с его судом
по обычаю совести и правды внутренней». На этом была основана
вера Хомякова в возможность и необходимость самобытного
развития России; он считал, что нужно учиться у западных народов, но не
подражать им.
127
Хомяков отнюдь не идеализировал современную ему царскую
Россию. В своем стихотворении «России» он писал:
А на тебя, увы! Как много
Грехов ужасных налегло!
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!
При этом мыслитель верил в великое призвание России. В
стихотворении «Раскаявшейся России» он заявляет:
...исцелив болезнь порока
Сознаньем, скорбью и стыдом,
Пред миром станешь ты высоко,
В сияньи новом и святом!
Философские взгляды и идеи родоначальников славянофильства
Киреевского и Хомякова развивали их ближайшие последователи и
единомышленники К. С. Аксаков и Ю. Ф. Самарин: они активно
разрабатывали отдельные стороны их учения, пропагандировали
славянофильские идеи и стремились практически их реализовать.
И тот и другой по возрасту были как бы «младшими братьями»
Киреевского и Хомякова, в своем творчестве и в своей общественной
деятельности ориентировались на «старших братьев».
К. С. Аксаков
Сын писателя С. Т. Аксакова Константин Сергеевич Аксаков (1817-
1860) учился на словесном отделении Московского университета. В
1833 г. он вошел в кружок Станкевича, увлекся философией Гегеля; в
начале 40-х гг. сблизился с Киреевским, Хомяковым, Самариным. По
воспоминаниям Герцена, «Константин Аксаков не смеялся, как
Хомяков, и не сосредоточивался в безвыходном сетовании, как Киреевские.
Мужающий юноша, он рвался к делу... Вся жизнь его была
безусловным протестом против петровской Руси, против петербургского
периода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа. Его
диалектика уступала диалектике Хомякова, он не был поэт-мыслитель,
как И. Киреевский, но он за свою веру пошел бы на площадь, пошел
бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся
страшно убедительными. Он в начале сороковых годов проповедывал
сельскую общину, мир и артель... Последовательный до детства, первый
опустил панталоны в сапоги и надел рубашку с кривым воротом» (II,
237). Аксаков вместо принятых головных уборов западного образца
128
надевал мурмолку - шапку с высоким верхом, носившуюся
московскими боярами. «К. Аксаков, - по словам Герцена, - оделся так
национально, что народ на улицах принимал его за персиянина, как
рассказывал, шутя, Чаадаев» (II, 223).
В своем творчестве Аксаков следовал «главным, существенным
основаниям» славянофильства, считая, что «основа всего духовного,
разумного и нравственного бытия нашего хранится в нашей
православной церкви». Он внес существенный вклад в социальную
теорию славянофильства, особенно своей разработкой учения об
общине в ее отношении к государству и личности. По его мнению, у
славян, и в особенности у русского народа, общинное устройство
общественных отношений было изначально связано с семьей.
«Страна» - это и есть община. Государство же образуется для
осуществления не внутренних потребностей общества, а внешних -
для защиты от врагов, для создания законов как внешних правил
поведения людей. Поэтому отношение Аксакова к государству
неприязненное: «Государство как принцип - зло; ложь лежит не в той или
иной форме государства, а в самом государстве как идее, как
принципе». Он сторонник неограниченной власти монарха, который берет
на себя все политические заботы, оставляя народу
нравственно-общественную жизнь и «стремление к духовной свободе».
Убежденный в том, что «правительство существует для народа», мыслитель
полагает, что государство не должно вмешиваться в экономические
отношения, бытовую и нравственно-идейную жизнь общества. Всем
этим призвано заниматься «земское дело». Община же подавляет не
личность, а только ее эгоизм. Личность в общине свободна, «как в
хоре», гармонически сочетая свой неповторимый голос с другими
своеобразными голосами.
Ю. Ф. Самарин
Юрий Федорович Самарин (1819-1876) родился в
аристократической семье и получил превосходное домашнее образование.
Молодой Н. И. Надеждин был его учителем, преподававшим ему русский
язык. С 15 лет он учится в Московском университете, где
встречается с К. С. Аксаковым и дружески сближается с ним. Как и Аксаков,
Самарин становится гегельянцем, стремясь сочетать философию
Гегеля с православием и даже обосновать православие гегелевской
философией. В 1840 г. он знакомится с Хомяковым и с середины
40-х гг. переходит полностью на позиции славянофильства.
Ю. Ф. Самарин считал себя последователем Хомякова. Исходя из
православного вероучения, Самарин полагал, что Бог воздействует
на каждого человека и человек непосредственно ощущает это
действие на него Всемогущего существа, дающее «смысл» и
«разумность» его жизни. Поэтому не только естественные науки, но и рели-
5-99
129
гия основаны на «личном опыте», обусловливающем «личное
откровение» - связь личности с Богом. Но эта связь с Богом предполагает
не обособление человеческой личности, а ее жизнь в «общине».
Притом личность должна свободно и сознательно отречься от своего
индивидуализма во имя общинной жизни.
Преимущество русского быта и заключается, по убеждению
Самарина, в том, что он строится на общинном начале. Это общинное
начало проявилось уже в родовом устройстве славян, а затем
выражалось в вече и земских думах. Древнеславянское общинное начало
было оправдано и освящено православной церковью, сделавшей его
началом высшего духовного общения людей. Поскольку, как считает
Самарин, общины добровольно отдавали себя под власть князей, а
затем царя, царская власть носит «народный характер».
Будучи убежденным в незыблемости монархического принципа
для России и ее будущего, Самарин как государственный чиновник
далеко не всегда одобрял конкретные действия царского
правительства. Так, в своих письмах к друзьям из Риги, он критиковал
политику правительственных кругов в Прибалтике. За эти письма,
ходившие по рукам, Самарин в 1849 г. был даже подвергнут
кратковременному аресту Он был противником крепостного права и принимал
активное участие в проведении реформы по освобождению крестьян
в 1861 г. В отношении к польскому восстанию 1863 г. Самарин занял
проправительственную позицию усмирения Польши, что вызвало
решительный протест Герцена в «Письмах к противнику». Самарин,
встретившись в Герценом в 1864 г., решительно разошелся с ним и в
понимании социально-политических проблем, и в трактовке
философских вопросов.
Спор Самарина с Герценом как бы подводит итог разногласиям
между западниками и славянофилами. Герцен сам осознал глубокие
социальные противоречия в странах Западной Европы, а поражение
революции 1848 г. его «снова привело домой» (II, 274), к созданию
учения о социализме, основанном на русской общине.
Противостояние славянофилов и Герцена переходит в противоречия более губо-
кого мировоззренческого значения. При этом в 60-х гт. ни
славянофилы, ни западники не были едины. Даже по отношению к
польскому восстанию взгляды Самарина разделяли далеко не все
славянофилы. А бывший западник-социалист Герцен и либеральный
западник К. Д. Кавелин придерживались совершенно различных
философских и политических взглядов.
Константин Дмитриевич Кавелин (1818-1885), в 40-х гг.
сторонник Герцена, Белинского и Грановского, критиковавшийся
Самариным по поводу его западнической ориентации, в отзыве на первый
том Собрания сочинений Ю. Ф. Самарина писал в 1878 г.: «В наше
время самое название славянофилов и западников потеряло всякое
значение и держится только по старой памяти. Каждый мыслящий
130
человек, принимающий к сердцу интересы своей родины, не может
не чувствовать себя наполовину славянофилом, наполовину
западником, потому что оба воззрения выражали и формулировали только
две стороны одной и той же русской действительности.. .»1 Да и сам
Самарин в начале 60-х гг. отмечал, что противостояние прежнего
славянофильства и прежнего западничества сошло на нет.
Вместе с тем в пореформенный период, после отмены
крепостного права в 1861 г., заявляет о себе следующее поколение
славянофилов («новые славянофилы»), которые полагали, что борьба с
западничеством не потеряла свою актуальность. Одним из активных
деятелей нового славянофильства был младший брат Константина
Аксакова Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886), прошедший через
искус западничества, а в 50-х гг. примкнувший к славянофильскому
течению.
Славянофильские идеи оказали заметное влияние на взгляды Ф. И.
Тютчева, Ап. Григорьева и Ф. М. Достоевского. Славянофильское
умонастроение в определенной мере проявилось в книге Н. Я.
Данилевского «Россия и Европа» (1869-1871) и в творчестве К. Н. Леонтьева,
который, утверждая культурную самобытность России, критиковал
славянофилов за чрезмерное противопоставление России Западу.
Н. О. Лосский в «Истории русской философии» рассматривает
взгляды Н. Я. Данилевского, как я К. Н. Леонтьева, в главе «Вырождение
славянофильства», однако их взгляды, при всем влиянии на них
славянофильства, принадлежат уже к иному этапу развития русской мысли.
В. С. Соловьев, критиковавший славянофильские мотивы в книге
Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», сам испытал влияние
славянофильских идей Хомякова и даже имел репутацию «продолжателя
славянофильства». Но, разумеется, философия Соловьева не может быть
сведена к славянофильству как идейному течению русской
общественной мысли 40-50-х гг. XIX столетия. Славянофильские идеи в
своеобразном виде проявились в России и в XX в.2
1 Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской
истории и культуры. М., 1989. С. 363.
2 См.: Хоружий С. С. Метаморфозы славянофильской идеи в XX веке // Хо-
ружий С. С. О старом и новом. СПб., 2000. С. 117-140.
5*
V
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
В ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫЙ РАДИКАЛИЗМ
Середина 50-х гг. XIX в. ознаменовала собой начало нового
периода в истории России. Формально оно может быть обозначено 1855 г. —
годом вступления на престол Александра II и окончания
«николаевской эпохи». Это было завершение времени, начавшегося
репрессиями против участников декабристского восстания, «чугунной», как
тогда говорили, цензуры, политического гонения на инакомыслие,
запрещения издания провинившихся журналов, изгнания из
университетов неугодных профессоров. Даже далекие от революционных
идей славянофилы подвергались гонениям.
Наступившая «оттепель» была вызвана паром, выпущенным из
социального котла; готового вот-вот взорваться. Давление в котле
понизилось, но кипение продолжалось. Общенациональный
кризис, в первую очередь связанный с существованием крепостного
права, с новой силой обострил социальный вопрос: «Что же делать?»
Ответы на него давались различные, начиная от самого царя,
объявившего своим манифестом в феврале 1861 г. отмену крепостного
права, сторонников монархизма «с человеческим лицом» до
революционеров, звавших Русь к топору для коренного решения
крестьянского вопроса.
В истории русской общественно-политической и философской
мысли этот период связан с деятельностью так называемых
шестидесятников, которые по своей идейной направленности
представляли либерально-демократическую и революционно-демократическую
оппозицию существующему строю. Поэтому шестидесятников
нередко называли «нигилистами» (от латинского слова nihil - ничто).
Термин «нигилизм» употреблялся и в Западной Европе, и в России
задолго до этого времени, но именно в 60-е гг. он получил
распространение, притом в ценностно различном смысле. И. Тургенев создал
в романе «Отцы и дети» образ нигилиста Базарова. Достоевский
считал нигилизм «болезненным явлением». В работах Писарева
нигилизм трактуется как отрицание старого, отжившего, ставшего
тормозом на пути утверждения нового, прогрессивного. Шестидесятники
XIX в. действительно переоценивали ценности своего времени и
отрицали многие прежние ценностные представления. Они, конечно,
не были циниками, т. е. не отрицали ценности вообще. У них были
свои ценностные идеалы, хотя сами эти идеалы и пути их осуществ-
132
ления трактовались по-разному различными оппозиционными
общественными группами и их глашатаями.
Кризисные явления в российском обществе при всем их
своеобразии в определенной мере имели и общеевропейские черты.
Поэтому не случайно «властителями дум» в России стали выразители
духовных устремлений западноевропейских стран того времени, прежде
всего позитивизм и материализм - умонастроение и философия,
доверявшая только непосредственному опыту и трактующим его
«позитивным» (т. е. естественно-научным) дисциплинам. Увлечение
Шеллингом и Гегелем сменилось повышенным интересом к
атеистическим материалистическим идеям Фейербаха. Но имела большое
значение и уже собственная традиция философского мышления в лице
Белинского, его предшественников и последователей.
Философская мысль России 60-х и последующих годов
опиралась также на философско-эстетический потенциал отечественной
литературы. А это Пушкин и Гоголь, Гончаров и Тургенев,
Грибоедов и Островский, Достоевский и Лев Толстой и др. Поэтому
неудивительно, что литературно-художественная критика, как это было уже
у Белинского, являлась особой формой философствования, которая,
анализируя отображение действительности в художественных
произведениях, размышляла их> природе искусства, и о самой жизни.
Н. Г. Чернышевский
Общепризнанным лидером шестидесятников был Николай
Гаврилович Чернышевский (1828-1889). Уже при жизни мыслителя
возник его своеобразный культ среди революционно настроенной
молодежи - поклонение, подогретое бездоказательностью суда над ним и
несправедливостью понесенного наказания. Даже на студенческих
вечеринках в популярную студенческую песню «Проведемте,
друзья, эту ночь веселей» обязательно вставлялся куплет:
Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал,
За героев его,
За его идеал...
С другой же стороны, за автором «Что делать?» установилась
репутация опасного смутьяна, подстрекателя к опасным действиям,
бунту (Достоевский даже приходил к Чернышевскому уговаривать
его, чтобы он повлиял на виновников майских пожаров в Петербурге
в 1862 г., к которым, как известно, Чернышевский не имел никакого
отношения), зловредного человека, стремящегося «заточить людей»
в социалистические фаланстеры.
О том, что реальный Чернышевский - сложная фигура, не
укладывающаяся в прокрустово ложе каких-либо схем, свидетельствуют
133
оценки его личности, деятельности и учения со стороны
непримиримых противников и материализма, и социализма. Замечательный
русский историк С. М. Соловьев, по воспоминаниям его сына Вл. С.
Соловьева, далекий «от господствующего направления 60-х годов»,
говорил о судебном произволе, учиненном над Чернышевским -
«самой значительной головой» в этом движении - за «свои мысли и
убеждения». А сам В. С. Соловьев, несогласный с теоретическими
взглядами Чернышевского, писал, что «нравственное качество его души
было испытано великим испытанием и оказалось полновесным. Над
развалинами беспощадно разбитого существования встает тихий,
грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека»1.
Более того, этот убежденный идеалист, откликаясь на переиздание в
начале 90-х гг. сочинений Чернышевского по эстетике, оценил их как
«первый шаг к положительной эстетике»2. В. В. Зеньковский в своей
«Истории русской философии» уделяет Чернышевскому
значительное внимание. Он признает, что его эстетика была новым этапом в
развитии «эстетического гуманизма»3.
Н. Г. Чернышевский родился в Саратове, в семье священника.
Получив хорошее домашнее образование, он закончил духовную
семинарию в родном,городе. Подготовленный отцом к
духовно-религиозной деятельности, Чернышевский, однако, поступает в 1846 г. на
историко-философское отделение Петербургского университета.
Закончив его в 1850 г., он возвращается в Саратов, где преподает в
гимназии. Через два с небольшим года он вновь едет в Петербург и
занимается журнальной работой, изучает усиленно философию и
эстетику. В 1855 г. защищает магистерскую диссертацию «Эстетические
отношения искусства к действительности». Основная деятельность
его с 1853 г. - журналистика, связанная главным образом с
«Современником», в котором он стал одним из редакторов. В эти годы
складываются его философские и социально-политические взгляды, в
обобщенной форме изложенные им в «Антропологическом
принципе в философии» (1860), в серии статей «Очерки гоголевского
периода русской литературы» и других работах; он становится кумиром
радикально настроенных слоев общества.
Это обстоятельство и сделало его предметом внимания
карательных органов Петербурга. В 1862 г. мыслитель был арестован и два
года находился под следствием в Петропавловской крепости. Здесь
он написал роман «Что делать?», который был сразу же опубликован
и получил беспримерный отклик в широких кругах молодежи. Суд
над Чернышевским был неправым и возмутил даже либеральную
1 Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
С. 622.
2 См. там же. С. 90-98.
3 См.: Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. 1. Ч. 2.
С. 136, 140, 142.
134
общественность, не сочувствующую революционным и
социалистическим идеям, которые смело пропагандировал автор «Что делать?».
Несмотря на бездоказательность предъявленного ему обвинения в
подстрекательстве крестьян на восстание, мыслитель был
приговорен к унизительному обряду «гражданской казни» и ссылке на
каторгу в Сибирь. Только в 1883 г. ему было разрешено переехать в
Астрахань, а за несколько месяцев до смерти - в Саратов.
Каково же было философское миропонимание Чернышевского?
В письме сыновьям из сибирской ссылки он писал в 1877 г.: «Вы
можете узнать общий характер моего мировоззрения от Фейербаха. -
Это взгляд спокойный и светлый»1. Предшественником Фейербаха
он считает Спинозу. И здесь же так характеризует «положение
Фейербаха»: «.. .хорош ли он, или плох, это как угодно; но он безо
всякого сравнения лучше всех» (III, 714). Судя по дневнику
Чернышевского, он познакомился с «Сущностью христианства» Фейербаха в
феврале 1849 г. и согласился с ним в том, что человек представляет Бога
«как самого лучшего абсолютного человека» (III, 849). За год до
своей кончины, в 1888 г. в предисловии к третьему изданию
«Эстетических отношений искусства к действительности» Чернышевский,
отмечая значение философии Фейербаха для его эстетического
трактата, подтверждает свою верность этой философии.
Можно ли из этого заключить, что Чернышевский просто
повторяет учение Фейербаха? Думается, что нет. Фейербах, преодолев
философию Гегеля, отбросил ее как сплошной идеализм.
Чернышевский же отнесся к Гегелю бережно, учтя опыт освоения гегелевской
системы отечественными мыслителями, особенно Белинским. Он не
приемлет «одностороннего идеализма», но и сам не впадает в
односторонность в оценке Гегеля, высоко оценивая его «диалектический
метод мышления» (см. 1,666). В «Очерках гоголевского периода
русской литературы» (1856) им четко формулируется противоречие
философии Гегеля между ее диалектическими принципами и
выводами: «Принципы Гегеля были чрезвычайно мощны и широки, выводы -
узки и ничтожны» (I, 662). В 1858 г. Чернышевский писал: «Мы не
последователи Гегеля, а тем менее последователи Шеллинга; но не
можем не признать, что обе эти системы оказали большие услуги
науке раскрытием общих форм, по которым движется процесс
развития» (II, 457). В своих трудах по различным областям знания он
стремился использовать диалектический метод, соответствующий
общим формам универсального процесса развития.
Сущность диалектического мышления, по Чернышевскому,
состоит в том, что «мыслитель не должен успокаиваться ни на каком
1 Чернышевский Н. Г. Избр. филос. соч.: В 3 т. М., 1951. Т. III. С. 716.
В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте: римской цифрой
обозначается том, арабской - страница.
135
положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о
котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что
представляется этим предметом на первый взгляд; таким образом,
мыслитель был принужден обозревать предмет со всех сторон, и
истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных
противоположных мнений» (I, 666). Сама истина носит
конкретный характер, поскольку «все зависит от обстоятельств, от
условий места и времени» (там же). Чернышевский признает основные
диалектические законы: единство противоположностей -
«соединение совершенно разнородных качеств в одном предмете есть
общий закон вещей» (III, 187); «количественное различие переходит
в качественное различие» (III, 188); закон «отрицания отрицания»
(«высшая степень развития по форме совпадает с его началом» (II,
490), который используется им для обоснования «общинного
владения».
Как и для Герцена, для Чернышевского диалектика являлась
«алгеброй революции». В статье «Г. Чичерин как публицист» (1859) он
следующим образом определяет формы, по которым «движется
общественный прогресс»: «До сих пор история не представляла ни
одного примера, когда успех получался бы без борьбы... До сих
пор мы знали, что крайность может быть побеждаема только
другою крайностью, что без напряжения сил нельзя одолеть сильного
врага» (II, 625).
Философскую основу миропонимания Чернышевского
составляет «антропологический принцип», истоки которого он усматривает в
учениях Аристотеля и Спинозы. Этот принцип мыслитель
обосновывает в своем главном философском труде «Антропологический
принцип в философии», написанном в связи с выходом брошюры
П. Л. Лаврова «Очерки вопросов практической философии. I.
Личность». Суть антропологического принципа он видит в том, что «на
человека надобно смотреть как на одно существо, имеющее только
одну натуру...» (III, 251). Вместе с тем «при единстве натуры мы
замечаем в человеке два различных ряда явлений: явления так
называемого материального порядка (человек ест, ходит) и явления так
называемого нравственного порядка (человек думает, чувствует,
желает)» (III, 187). Важнейшим философским вопросом
Чернышевский считает вопрос: «В каком же отношении между собою находятся
эти два порядка явлений?» (там же).
Этот вопрос автор «Антропологического принципа...»
стремится решить, утверждая единство «натуры человека», показываемого
естественными науками. Апелляция к авторитету естественных
(положительных) наук - важная особенность философии позитивизма,
основателем которой был О. Конт. Но Чернышевский не приемлет
воззрения Конта (хотя высоко оценивает его верность «научному
духу») (III, 135) за то, что он ограничивается опытом и не хочет ви-
136
деть за ним субстанциальной основы, считая ее принципиально
«неизвестной» (см. III, 691-692).
Для Чернышевского такой субстанциальной основой опытного
знания является материя. Антропологический принцип в философии
он трактует материалистически. Но что же такое «материя»?
«Материя, - пишет он, - это одинаковое в материальных предметах» (III,
527). Не довольствуясь таким определением, когда материя
определяется через материальное, Чернышевский в письмах к своим
сыновьям отмечал: «То, что существует, называется матернею» (III, 701).
Но «то, что существует, - вещество» (III, 722 и 786). Следовательно,
понятие материи философ отождествлял с понятием вещества. К
веществу он относит и «силу», и «законы природы», и любое из ее
качеств (III, 786). Такой подход лежит в основе ряда упрощений в
трактовке им единства законов природы. Поэтому подчас
Чернышевский, вопреки диалектике, сводит качество к количеству, когда,
например, пишет, что «разница между царством неорганической
природы и растительным царством подобна различию между
маленькою травкою и огромным деревом: это разница по количеству, по
интенсивности, по многосложности, а не по основным свойствам
явления» (III, 195). Порой он допускал упрощенное толкование
познавательного процесса, односторонне критиковал философию
Канта (см. Ш, 783-784), отвергал выдающееся открытие своего времени -
неевклидовой геометрии Н. И. Лобачевским («некто Лобачевский»)
и К. Ф. Гаусом («дикие фантазии Гауса во вкусе Канта») (см. III, 776-
777, 779-780).
Однако, несмотря на известные недостатки материализма
Чернышевского, его антропологический принцип был решительным
шагом вперед в понимании единства природы и человека, в
трактовке человеческого в человеке, сущности самой человеческой
личности. Сегодня представляют большой интерес многие положения,
которые содержатся в «Антропологическом принципе в философии».
«Общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации,
общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия,
интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного», -
заявлял Чернышевский. Это положение он выводит из применения
геометрических аксиом «к общественным вопросам»: «целое
больше своей части», «большее количество больше меньшего количества».
Из этого на первый взгляд элементарного рассуждения следуют
выводы, оказавшиеся пророческими для следующего века:
«Теоретическая ложь непременно ведет к практическому вреду; те случаи, в
которых отдельная нация попирает для своей выгоды
общечеловеческие интересы или отдельное сословие - интересы целой нации,
всегда оказываются в результате вредными не только для стороны,
интересы которой были нарушены, но и для той стороны, которая
думала доставить себе выгоду их нарушением: всегда оказывается,
137
что нация губит сама себя, порабощая человечество, что отдельное
сословие приводит себя к дурному концу, принося в жертву себе
целый народ» (III, 244).
Приоритет «общечеловеческого интереса» для Чернышевского -
это не просто вывод из математических аксиом, но и результат его
понимания природы человека, антропологического учения о
«человеке вообще». Именно такое отношение к человеку - «к человеку
вообще, а не к рыцарю или вассалу, не к фабриканту или работнику»
(II, 738) - для него критерий здравого смысла, добра и красоты, т. е.
ценностный критерий истинного, нравственного и эстетического
отношения.
Да, мыслитель революционно-демократического направления не
раз утверждал, что «политические теории, да и всякие вообще
философские учения создавались всегда под сильнейшим влиянием того
общественного положения, к которому принадлежали, и каждый
философ бывал представителем какой-нибудь из политических
партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к
которому принадлежал философ» (III, 163). Даже при оценке
красоты девушки; по убеждению автора диссертации «Эстетические
отношения искусства к, действительности», представители различных
социальных слоев - аристократ, купец, крестьянин, интеллигент-
демократ - исходят из своего идеала прекрасного, идеала,
сложившегося под влиянием определенных условий жизни (см. I, 59-61, 192-193,
231-236). И при всем этом, разнообразие и даже противоположность
политических взглядов и теорий, философских учений,
нравственных позиций и эстетических идеалов не означает для
Чернышевского равноценности всех этих воззрений, отсутствия объективной
истины. Критерием этой истины и является для него соответствие всех
этих теорий, взглядов, учений и идеалов «общечеловеческому
интересу», интересам «человека вообще».
В аспекте антропологического принципа Чернышевского
следует понимать и его социалистические убеждения. Социалистический
идеал Чернышевского, как Белинского и Герцена, менее всего похож
на «казарменный коммунизм». Изображая свое представление об
идеальном общественном устройстве в романе «Что делать?», его
автор подчеркивает: «Здесь все живут, как лучше кому жить, здесь
всем и каждому - полная воля...»1 Провозглашение свободы
человеческой личности (узник Петропавловской крепости мог чувствовать
и осознавать ценность свободы личности более, чем кто-либо
другой!) в качестве основы справедливого общественного строя
позволило Чернышевскому свой социалистический идеал представить и в
качестве эстетического идеала - царства «Светлой красавицы».
Красива сама жизнь «подданных» этого царства. Они живут в хрусталь-
1 Чернышевский К Г. Поли. собр. соч.: В 15 т. (1939-1953). Т. 11. С. 283.
138
ных дворцах. Их труд, облегчаемый машинами, свободен и
радостен. Их трапезы великолепны. Их веселье полно и ничем не
омрачено, их наслаждение живее, сильнее и сладостнее, чем у людей
прошлых эпох.
Конечно, социализм Чернышевского, в котором объединяются мир
и красота, имел утопический характер, при всем том, что мыслитель
свой социалистический выбор стремился обосновать не только как
эстетический идеал, но и как политический, экономический и
нравственный. Именно утверждение им свободы личности и связанная с
ней эстетическая окрашенность общественного идеала были одной
из причин беспримерного успеха его романа «Что делать?».
В обосновании своих социалистических идей Чернышевский
исходил из так называемой теории разумного эгоизма. Суть этого
этического учения, разработанного французскими просветителями XVIII в.,
заключается в том, что эгоизм, разумно понятый, не противоречит
общественному благу. Чернышевский обосновывает свои этические
взгляды, опираясь на антропологический принцип в философии:
«Люди вообще без различия наций и сословий называют добром то,
что полезно для человека вообще» (III, 243). Но как поборник
общественного добра он как бы оборачивает другой стороной принцип
«разумного эгоизма». Если, по этой теории, разумно рассчитанная
личная польза ведет к общему добру, то прямое служение добру
оказывается и лично выгодным делом. По словам автора
«Антропологического принципа...», «добрым человек бывает тогда, когда для
получения приятного себе он должен делать приятное другим; злым
бывает он тогда, когда принужден извлекать приятность себе из
нанесения неприятности другим» (III, 215).
На антропологическом принципе основываются и эстетические
воззрения Чернышевского, его понимание прекрасного. Знаменитая
формула «Прекрасное есть жизнь» была сформулирована Н. И. На-
деждиным. Но автор «Эстетических отношений искусства к
действительности» идет дальше Надеждина. Формула «прекрасное есть
жизнь» дополняется им другой формулировкой: «Прекрасно то
существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она
по нашим понятиям» (I, 59). Следовательно, прекрасное - не просто
жизнь, а «хорошая жизнь», «жизнь, как она должна быть» (там же).
Должна быть для кого? В диссертации и примыкающих к ней
работах Чернышевского показано, что в зависимости от понятий,
сложившихся под влиянием определенных условий жизни, аристократ,
купец, крестьянин, интеллигент-демократ («истинно образованный
человек») имеют свой идеал прекрасного даже при оценке красоты
девушки. А если это так, то о каком же объективно-прекрасном
может идти речь? Д. И. Писарев в статье «Разрушение эстетики»,
написанной в 1865 г. в связи со вторым изданием диссертации
Чернышевского, полагал, что ее автор разрушил эстетику, которая предполага-
139
ет существование прекрасного, «независимое от бесконечного
разнообразия личных вкусов». Писарев считает: «Если же прекрасно
только то, что нравится нам, и если вследствие этого все
разнообразнейшие понятия о красоте оказываются одинаково законными, тогда
эстетика рассыпается в прах»1. При этом Писарев отнюдь не
сожалеет о разрушении эстетики.
Но дело-то в том, что у Чернышевского «разнообразнейшие
понятия о красоте» оказываются отнюдь не «одинаково законными»!
Для сторонника антропологического принципа прекрасное и
возвышенное - это выражение отношения «к человеку вообще и к его
понятиям тех предметов и явлений, которые находит человек
прекрасными и возвышенными» (I, 74). По его словам, различные, а порой и
противоположные представления о прекрасном человеке, возникшие
в различной социальной среде в результате различного образа
жизни, отнюдь не равноценны (что касается «красоты природы», то, по
Чернышевскому, различные классы понимают ее «совершенно
одинаково») (1,231). Для него очевидно, что различные типы понимания
прекрасного не равнозначны: эстетические воззрения крестьянина
являются более истинными и нормальными в силу близости его к
природе. Но поскольку жизнь народа в условиях гнета, нищеты и
темноты, изнурительного труда не может не сказываться отрицательно
и на его эстетических вкусах и представлениях, постольку наиболее
истинные взгляды на прекрасное существуют, с точки зрения
Чернышевского, у «истинно образованных людей», образы которых он
вывел в романе «Что делать?». Отношение к антропологически
трактуемому «человеку вообще» для Чернышевского - критерий здравого
смысла, справедливости и красоты.
Считая общим характерным признаком искусства, его
сущностью «воспроизведение жизни», а также ее объяснение,
революционер-демократ подчас упрощенно трактовал природу
художественного произведения. В его глазах, произведение искусства ниже
действительности, которую оно лишь воспроизводит, а не новая реальность,
которую вообще не следует сравнивать с жизнью по принципу «выше»
- «ниже». Эстетика Чернышевского опиралась в основном на
ведущий вид художественного творчества в России XIX в. - на
художественную литературу, которая способна воспроизводить
действительность. Но он недооценивал творческое преобразование жизни в
искусстве. Поэтому такие виды художественной деятельности, как
архитектура, прикладное искусство и инструментальная музыка,
выводились им вообще за рамки искусства, так как в них он не
усматривал «воспроизведения жизни».
Эстетические воззрения Чернышевского, несомненно, сыграли
большую роль в развитии отечественной эстетической мысли.
1 Писарев Д. К Избр. произв. Л., 1968. С. 369.
140
H. A. Добролюбов
Из сторонников Чернышевского в первую очередь следует назвать
его друга и сподвижника Николая Александровича Добролюбова
(1836-1861). Как и Чернышевский, он родился в семье священника и
окончил духовную семинарию. Затем в Петербурге в 1853-1857 гг.
он учился в Педагогическом институте, где сложилось его
мировоззрение. Еще будучи студентом, Добролюбов публикуется в
«Современнике», а в 1857 г. возглавил, по рекомендации Чернышевского,
литературно-критический отдел журнала. Чернышевский обрел в
Добролюбове «второе я».
Философские, этические и эстетические воззрения
Добролюбова во многом однотипны со взглядами Чернышевского. Отметим,
однако, что Добролюбов развивает свои воззрения вполне
самостоятельно, на ином материале, а в ряде вопросов придерживается
положений, не совпадающих с позицией Чернышевского. В области же
литературной критики он идет дальше Чернышевского, практически
и теоретически обосновывая принципы так называемой «реальной
критики».
Добролюбов разделял с Чернышевским материалистическое
миропонимание. «В природе, - писал он в 1859 г., - все идет
постепенно от простого к более сложному, от несовершенного к более
совершенному; но везде одна и та же материя, только на разных степенях
развития»1. Притом «человек, совершеннейшее из животных,
составляет последнюю степень развития мировых существ в видимой
вселенной». Мозг - самая развитая часть человеческого тела - «есть
источник высшей жизненной деятельности» и «умственные
отправления имеют к нему прямое отношение» (там же). Вместе с тем
Добролюбов принимает не любой материализм. В статье «Органическое
развитие человека в связи с его умственной и нравственной
деятельностью» (1858) он писал: «Нам кажутся смешны и жалки
невежественные претензии грубого материализма, который унижает
высокое значение духовной стороны человека, стараясь доказать, будто
душа человека состоит из какой-то тончайшей материи» (1,230-231).
Отвергая «грубый, слепой материализм», считающий «душу
каким-то кусочком тончайшей, эфирной материи», Добролюбов
полагает, что «жизненность, обнаруживаемая нами, зависит не от того
или другого вещества, а от известного соединения всех их» (I, 236).
Как и Чернышевский, апеллируя к антропологии, он утверждает, что
«душа не внешней связью соединяется с телом, не случайно в него
положена, не уголок какой-нибудь занимает в нем, - а сливается с
ним необходимо, прочно и неразрывно, проникает его всё и повсюду
1 Добролюбов Н. А. Избр. филос. произв.: В 2 т. М., 1948. Т. 1. С. 495. Далее
ссылки на это издание даются в тексте. Римская цифра обозначает том,
арабская - страницу.
141
так, что без нее, без этой силы одушевляющей, невозможно
вообразить себе живой человеческий организм [и наоборот]» (I, 237).
Добролюбов был сторонником коренного преобразования
существующего общественного строя. «Я - отчаянный социалист, хоть
сейчас готовый вступить в небогатое общество, с равными правами
и общим имуществом всех членов», - пишет он 15 января 1857 г. в
своем дневнике. Социалистические убеждения Добролюбова
развивались в духе гуманистической мысли. Он полагал, что интересы всех
членов общества могут охраняться только охраной интересов «кале-
дого из всех». Патриотизм, по его словам, «развивается с особенною
силою в тех странах, где каждой личности представляется большая
возможность приносить сознательно пользу обществу и участвовать
в его предприятиях» (II, 567). Общественный идеал Добролюбова
чужд какой-либо национальной исключительности: «Настоящий
патриотизм, как частное проявление любви к человечеству, не
уживается с неприязнью к отдельным народностям» (там же).
Понимание путей, которыми Россия должна идти к социализму,
у Добролюбова б|лло несколько отличным от взглядов Герцена и
Чернышевского,, «Русский социализм» Герцена, как и «общинный
социализм» Чернышевского, предполагал движение общества к
социализму, минуя капиталистическую («западную») стадию развития на
основе сохранения общины. В статье «Литературные мелочи
прошлого года» (1859) Добролюбов с одобрением ссылается на статьи
Чернышевского об общине, отмечая в то же время, что в споре по этому
вопросу существует «хаос всех понятий - философских,
исторических и экономических» (I, 426). Подходя к вопросу об общине
конкретно-исторически, Добролюбов в статье «Взгляд на историю и
современное состояние Ост-Индии» (1857) рассматривал сельскую
общину как консервативный фактор, разрушение которого
активизирует народ и идет на благо «исторической необходимости».
В статье «От Москвы до Лейпцига» (1859) Добролюбов
отмечает, что Россия должна пойти по западноевропейскому пути: «Что и
мы должны пройти тем же путем, это несомненно и даже нисколько
не прискорбно для нас» (II, 196). Однако, учитывая опыт народов
Западной Европы, «мы можем питать себя лестною надеждою, что
наш путь будет лучше». При всей неизбежности повторения чужих
«ошибок и уклонений» «все-таки наш путь облегчен; все-таки наше
гражданское развитие может несколько скорее перейти те фазисы,
которые так медленно переходило оно в Западной Европе» (II, 197).
Добролюбов был не только выдающимся литературным
критиком - автором статей «Что такое обломовщина?», «Темное царство»,
«Луч света в темном царстве», «Когда же придет настоящий день?»,
но и теоретиком искусства и эстетиком, обосновывающим
принципы своей критической деятельности, «реальной критики». Основной
оценочный критерий для критика - правдивость изображения дей-
142
ствительности, ибо «образы, созданные художником, собирая в себе,
как в фокусе, факты действительной жизни, весьма много
способствуют составлению и распространению между людьми правильных
понятий о вещах» (II, 23). В соответствии с этим «реальная критика
относится к произведению художника точно так же, как к явлениям
действительной жизни» (II, 20). «Реальный критик» не стремится
навязывать автору свой собственный образ мыслей, но он вычитывает
в художественном произведении «реальное» содержание, о котором
сам автор может не подозревать. Вот почему Тургенев был
недоволен критическим разбором своих произведений, который
осуществлял Добролюбов. Понятие «обломовщина», обозначенное
Добролюбовым и получившее широкий общественный резонанс, далеко не
вполне соответствует образу Обломова в романе Гончарова. Но для
«реального критика», собственно, эстетический критерий оценки хотя
и не исключался, но трактовался как производный от критериев
общественных, познавательных и нравственных, ибо, по убеждению
Добролюбова, сама красота понимается как аспект правды и добра.
Н. А. Некрасов в стихах, посвященных памяти Добролюбова (а
он умер 25 лет от роду!), писал:
Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!
Д. И. Писарев
Наряду с Чернышевским и Добролюбовым сторонником
антропологического принципа в философии был Дмитрий Иванович
Писарев (1840-1868).
Мы уже обращались к его взглядам на эстетику, в которых не
Чернышевский, а он сам выступает как «разрушитель эстетики». В этом
отношении он походил на любимый им образ тургеневского
Базарова, который пренебрежительно относился к эстетической стороне
жизни. Ведь герой романа «Отцы и дети» прямо заявляет, что в нем
нет «художественного смысла» и что этот «смысл» ни на что не
нужен. Это он сказал о понравившейся ему женщине: «Этакое богатое
тело! Хоть сейчас в анатомический театр». А его презрительное
отношение к Пушкину! Кажется, что, реализуя базаровское отношение
к автору «Евгения Онегину» («пора бросить эту ерунду»), Писарев
пишет свой знаменитый антиэстетический манифест - статью
«Пушкин и Белинский», шокировавшую даже противников теории
«искусство для искусства».
Современникам Писарева казалось, что именно он является
воплощением того самого нигилизма, который подсмотрел в русской
жизни 60-х гг. И. С. Тургенев. В 1861 г. в статье «Схоластика XIX века»,
напечатанной в журнале «Русское слово», начинающий публицист
143
четко сформулировал свой «ультиматум»: «...что можно разбить,
то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что
разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от
этого вреда не будет и не может быть»1. В отличие от
Чернышевского и его последователя М. А. Антоновича (1835-1918),
выступивших против романа Тургенева как клеветы на новых людей,
Писарев с гордостью заявляет вместе с Базаровым: «И это называется
нигилизмом!»
Но дело, конечно, не в слове, которому может придаваться
разный оценочный смысл, вплоть до обывательского: нигилист - это тот,
кто «в Бога не верует и в баню не ходит». Писаревский нигилизм
отнюдь не был цинизмом, т. е. отрицанием человеческих ценностей.
Наоборот, он, говоря словами Некрасова, «проповедовал любовь
враждебным словом отрицанья».
Писарев, как и Добролюбов, прожил очень короткую жизнь. Он
родился в дворянской семье. С 1852 по 1856 г. учится в
петербургской гимназии, которую оканчивает с серебряной медалью. С 1856
по 1861г. - учеб^ на историко-филологическом факультете
Петербургского университета. Уже с 1858 г. Писарев ведет
библиографический отдед в журнале «Рассвет», а с декабря 1860 г. начинает
сотрудничать в журнале «Русское слово», в котором становится
ведущим критиком и публицистом. Но в 1862 г. за написание памфлета-
прокламации «Глупая книжонка Шедо-Ферроти...», где
разоблачается царский агент, пытающийся дискредитировать Герцена, и
предрекается гибель династии Романовых и петербургской бюрократии,
Писарев был арестован. Однако, как и Чернышевский, Писарев
получает возможность работать в Петропавловской крепости, а с
1863 г. - публиковать свои статьи в «Русском слове». (Этому
содействовал военный генерал-губернатор Петербурга А. А. Суворов - внук
великого полководца, к которому обратилась мать Писарева.)
Тюремное заключение длилось 4 года 4 месяца и 18 дней и закончилось
благодаря амнистии по случаю бракосочетания наследника
престола. Выйдя из Петропавловской крепости, Писарев продолжает
сотрудничать в петербургских журналах. 4(16) июля 1868 г. он утонул
во время купания в Рижском заливе.
Такова канва недолгой жизни необычайно одаренного человека,
восхищавшего своим талантом даже своих литературных
противников. Тургенев, относящийся с негодованием к писаревским статьям о
Пушкине, в своих воспоминаниях о встрече с Писаревым весной 1867 г.
писал: «Писарев с первого взгляда производил впечатление человека
честного и умного, которому не только можно, но и должно говорить
правду»; он был «истым джентельменом», нисколько не походим на
1 Писарев Д. И. Соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 1. С. 135. Далее ссылки на это
издание приводятся в тексте. Римская цифра означает том, арабская - страницы.
144
нигилиста. По словам Н. А. Бердяева, «этот нигилист, разрушитель
эстетики, стал очень благовоспитанным молодым человеком,
хорошо говорившим по-французски, безукоризненно элегантным,
эстетом по своим вкусам. В нем было что-то мягкое, не было моральной
суровости Добролюбова. Ничего похожего на Базарова, за
исключением увлечения естественными науками»1. К этому можно добавить,
что считавший себя принадлежащим к «мыслящему пролетариату»
Писарев знал по своему личному опыту страстное чувство любви,
хотя и неразделенной.
Его отрицательное отношение к эстетике и к тому искусству,
которое казалось ему ее воплощением, прежде всего к Пушкину, было
связано с его представлением об иерархии, соподчиненности
ценностей. Он отнюдь не был противником искусства как такового.
Однако, по его убеждению, «поэт - или титан, потрясающий горы
векового зла, или же козявка, копающаяся в цветочной пыли» (III, 95). К
таким титанам критик относил Шекспира, Данте, Байрона, Гёте,
Гейне. Писарев ценил как «полезных» писателей Гоголя, Грибоедова,
Некрасова, Тургенева, Достоевского. Пушкина, не говоря уже о Фете,
он отрицал как знамя своих идейных противников - сторонников
теории «искусство для искусства». Помимо полемического.перехлеста
в оценке великого русского поэта здесь сказалось недиалектическое
понимание им соотношения в художественном произведении формы
и содержания, при котором они отрываются друг от друга:
произведение сводится к содержанию, а последнее - к мысли, а форма
трактуется как его внешняя одежда; повышенное же внимание к этой
форме-одежде - дело несерьезное. Даже стихотворная форма
(вообще стихи) представляется, по Писареву, «всем здравомыслящим
людям ребяческой забавою и напрасною тратою времени» (III, 111).
Писарев отвергает самоценность красоты для того, чтобы
утвердить другие ценности - нравственные и социальные. Это «идея
общечеловеческой солидарности» (III, 64), идея «общей пользы и
разумного труда» (III, 82), свобода человеческой личности,
предполагающая свободное человеческое общение,
мыслительно-познавательная деятельность человека и ее проявление в науке, особенно в
естествознании. В то же время в таком действительно нигилистическом
отношении к эстетическим ценностям проявилось противоречие
мировоззрения Писарева. По заключению Бердяева, он «хочет
бороться за индивидуальность, за право личности». Но, пренебрегая
эстетическим мироотношением человека, он, полагает Бердяев,
«отрицал творческую полноту личности, полноту ее духовной и даже
душевной жизни, отрицал право на творчество в философии, в
искусстве, в высшей духовной культуре»2.
1 Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре.
М., 1990. С. 160.
2 Там же. С. 161, 164.
145
Считая неизбежным в обществе «вопрос о голодных и раздетых
людях», Писарев понимание антропологического принципа в
философии связывает с политическим радикализмом, за который он
заплатил заключением в Петропавловской крепости. Но он стал
сторонником не «механического», а «химического» способа
преобразования общества, т. е. эволюционного пути развития, способствовать
которому следует, усиливая, по его словам, «приток новых людей из
низших классов в образованное общество» (III, 489).
Был ли Писарев социалистом? Да, в статье «Очерки из истории
труда» (1863) он отмечает, что «элемент присвоения», в том числе
«присвоения чужого труда», «составляет источник и причину
всякого зла», хотя, по его мнению, это присвоение вытекает из
особенностей умственной деятельности человека (см. II, 284, 286). Да, в этой
же статье утверждается: «Средневековая теократия упала, феодализм
упал, абсолютизм упал; упадет когда-нибудь и тираническое
господство капитала» (II, 308). Да, он горячий сторонник идеи «общей
пользы и разумного труда». Он, несомненно, симпатизирует идеям и
взглядам автора<«Что делать?». Но даже если признать
определенную социалистическую направленность мировоззрения Писарева,
совершенно, очевидно, что он не был сторонником общинного
социализма, идею которого теоретически обосновывали Герцен и
Чернышевский. Писаревский идеал общественной жизни не приемлет
такое понимание личности, которое он усмотрел в идеальном
государстве Платона, где «каждая отдельная личность есть известной
формы и величины винт, шестерня или колесо в государственном
механизме» (I, 93). Впрочем, по Писареву, «общий идеал так же мало
может предъявить прав на существование, как общие очки или общие
сапоги, сшитые по одной мерке и на одну колодку» (I, 83).
Как же разорвать порочный круг: «Мы бедны, потому что глупы,
и мы глупы, потому что бедны»? По Писареву, есть только один путь:
«Пока наука не перестанет быть барскою роскошью, пока она не
сделается насущным хлебом каждого здорового человека, пока она не
проникнет в голову ремесленника, фабричного работника и
простого мужика, до тех пор бедность и безнравственность трудящейся
массы будут постоянно усиливаться, несмотря ни на проповеди
моралистов, ни на подаяния филантропов, ни на выкладки экономистов, ни
на теории социалистов» (III, 121-122). И далее: «Есть в человечестве
только одно зло - невежество; против этого зла есть только одно
лекарство - наука» (III, 122).
Просветительский демократизм, или демократическое
просветительство, Писарева философским основанием имел
антропологический принцип. Но как он его осмысливал? Непримиримый противник
мистики и суеверий, идеализма в философии и жизни (донкихотство)
автор статьи «Схоластика XIX века» заявлял, что «ни одна
философия в мире не привьется к русскому уму так прочно и так легко, как
146
современный, здоровый и свежий материализм» (I, 118). Но этот
материализм включал в себя, как и у Базарова, «физиологический»
материализм Бюхнера, Фохта и Молешотта, а также позитивистские
взгляды О. Конта. В строгом смысле слова философского идеализма
не был лишен и сам Писарев, сводя все человеческое зло к
невежеству, а лекарство от него к такой идеальной силе, как наука.
Вероятно, будет правильным, если мы эту амальгаму
философских взглядов Писарева назовем вслед за ним самим «реализмом».
Сущность своего «реализма» он определил следующим образом:
«Первая сторона состоит из наших взглядов на природу: тут мы
принимаем в соображение только действительно существующие
реальные, видимые и осязаемые явления или свойства предметов. Вторая
сторона состоит из наших взглядов на общественную жизнь: тут мы
принимаем в соображение только действительно существующие, ре-
альные, видимые и осязаемые потребности человеческого
организма» (III, 450).
П. Л. Лавров
В трудах Петра Лавровича Лаврова (1823-1900) содержится
своеобразная концепция антропологического принципа в философии в
сочетании со столь же своеобразным пониманием политического
радикализма. Вспомним, что основной философский труд
Чернышевского «Антропологический принцип в философии» был написан как
отклик на труд Лаврова «Очерки вопросов практической философии.
Личность» (1859-1860). И в то же время Лавров считается
выдающимся теоретиком и идеологом русского народничества.
Русский философ и социолог, деятель революционного
движения в России и Западной Европе, П. Л. Лавров родился в семье
богатого помещика, отставного артиллерийского офицера. В 1837 г. он
поступает и сам в артиллерийское училище, успешно его
заканчивает в 1842 г.; с 1844 по 1866 г. преподает в нем, а затем и в
Артиллерийской академии математические науки, одновременно занимается
литературой, пишет стихи. В 1856 г. Лавров посылает свои стихи
А. И. Герцену, который публикует за границей анонимно его
стихотворения «Пророчество» и «Русскому народу». Впоследствии Лавров
стал автором знаменитой революционной песни «Отречемся от
старого мира...», получившей название «Рабочая марсельеза». В начале
60-х гг. он был приглашен в революционное общество «Земля и воля».
В апреле 1866 г., во время повальных обысков и арестов,
последовавших после покушения на царя, Лавров был арестован, предан
военному суду и осужден за антимонархические стихи и связи с
Чернышевским и другими революционными деятелями, а затем сослан в
Вологодскую губернию. Но в феврале 1870 г. он бежит из ссылки и в
марте прибывает в Париж. Знавший о его побеге Герцен ожидает
Лаврова в Париже, но умирает незадолго до их встречи.
147
Еще до эмиграции Лавров становится известным русским
читателям своими философскими статьями и лекциями,
публицистическими выступлениями в печати. Его «Исторические письма»,
написанные в 1868-1869 гг. и опубликованные под псевдонимом П.
Миртов, стали «революционным евангелием» для русской молодежи,
важным побудителем «хождения в народ».
Каковы же были философские воззрения Лаврова? Считая, что
брошюра Лаврова «Очерки вопросов практической философии»
«должна быть положительно признана хорошею», Чернышевский вместе
с тем упрекает ее автора в эклектизме: «В брошюре г. Лаврова
встречаются мысли, которые едва ли совместны между собою» (III, 167,
168). Об эклектизме философских взглядов Лаврова писали и
советские исследователи его мировоззрения. Лавров был
энциклопедически образованным человеком, превосходно знавший не только
философские учения прошлого, особенно Канта и Гегеля, но и
современную ему общественную мысль, стремившийся творчески
использовать в своих теоретических построениях многие философские
концепции XIX в. Это-то и ставили ему в вину его критики, говоря о его
эклектизме., Лавров сочувствовал материализму, отвергал идеализм.
Испытав влияние позитивизма (Н. О. Лосский в своей «Истории
русской философии» помещает Лаврова в главу «Русские позитивисты»,
а В. В. Зеньковский характеризует его воззрения как
«полупозитивизм»), он как раз философски расходится с позитивистами. Кто же
он в таком случае?
Сам Лавров не признавал выдвигаемое против него обвинение в
эклектизме, поскольку, по его словам, эклектизм состоит не в том,
что «надо изучать все партии и из возможно большей массы фактов
выбирать то, что может быть годно», «обыкновенно эклектизмом
называют учение, соединяющее механически результаты различных
школ, не сплавляя их в одно стройное целое». Он писал, что
различные мыслители с разных сторон освещают «одно великое учение»
века - «храм теории человеческой деятельности»1. Поэтому
стремление охватить это учение как «одно стройное целое», учитывая
суждения несхожих теоретиков, отнюдь не является эклектикой. Мы
полагаем, что философское мировоззрение Лаврова по форме можно
характеризовать как системно-плюралистическое, ибо системный
плюрализм, в отличие от эклектики, стремится постигнуть
целостный предмет познания в его многогранности, в системном единстве
его различных сторон.
Свое миросозерцание Лавров называет антропологизмом,
имеющим истоки в учениях Протагора, античных скептиков, Канта и
1 Лавров П. Л. Философия и социология. Избр. произв.: В 2 т. М., 1965. Т. 1.
С. 352. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте: римская цифра в
скобках обозначает том, арабская - страницу.
148
Фейербаха. Лавров принимает ряд положений материализма и
позитивизма, прежде всего ориентацию этих направлений на научное
знание. «Спиритуалистический дуализм и идеалистическую
метафизику» он решительно отвергает (II, 632-633). В материализме он не
приемлет то, что называется им «метафизикой», т. е. утверждение о
существовании неких «сущностей», недоступных опыту и научному
знанию. Причем, по Лаврову, метафизика свойственна и
материализму и идеализму. Различие же между ними состоит в том, что
материализм постулирует материальные «сущности» (вещество), а идеализм
- идеальные (безусловный дух). Мыслитель не приемлет «главный
пункт материалистической теории - рассмотрение психических
явлений как особого рода преобразованных движений» (I, 600). Ему
представляется, что материалисты отвергают «всякую нравственную
классификацию побуждений, целей и действий» (I, 621).
Вместе с тем, как отмечал Лавров в «Биографии-исповеди» (1885—
1889), «в понимании природы» он «становится по необходимости на
материалистическую точку зрения, видоизмененную
эволюционизмом» (II, 636). Однако ему больше импонирует позитивизм, свое
отношение к которому он подробно рассматривает в статье «Задачи
позитивизма и их решение» (1868). Здесь Лавров утверждает, что
основания позитивизма «действительно непреложны» и «все люди
науки» должны «признать истину этих оснований и видеть в них
самый нераздельный элемент своего мышления» (I, 584), хотя решения
тех или иных частных вопросов сторонниками позитивизма, в том
числе его основателем О. Контом, может быть оспорено. В
позитивизме русского мыслителя привлекает доверие опытному знанию и
неприятие умозрительной «метафизики»1. Лавров, как и
позитивисты, склоняется к кантовскому противопоставлению познаваемого
мира явлений и непознаваемых «вещей в себе». Согласно его
философской концепции «невозможно знать так называемые вещи сами в
себе, или сущность вещей. Теоретический и практический миры
остаются неизвестными по их сущности и представляют для человека
совокупность познаваемых явлений с непознаваемою подкладкою»
(II, 633).
Лавров усматривает «существенный недостаток позитивизма,
если его рассматривать не как способ мышления, не как постановку
задач, а как философскую систему» (I, 604). Этот недостаток, с его
точки зрения, заключается в том, что позитивизм, претендуя быть
философией, сам же отрицает правомерность философского знания.
1 Чернышевский в «Антропологическом принципе в философии» называет
философией «теорию решения самых общих вопросов науки, обыкновенно
называемых метафизическими, например, вопросов об отношении духа и
материи, о свободе человеческой воли, о бессмертии души и т. д.» (III, 184). Да и сам
Лавров теоретическую философию именует «метафизикой» (1,484).
149
По словам Лаврова, особенность позитивизма «заключается именно
в отрицании возможности философской системы», и поэтому «самая
большая несообразность в нем та, что он называет себя
философией» (I, 583). Он считает, что в позитивизме отсутствует
«философский принцип» (I, 621).
Но дело не только в этой логической несообразности.
Позитивизм, по его мнению, не учитывает того, что «жизненный процесс
требует своей особой субъективной классификации побуждений,
целей и действий как нравственно лучших и нравственно худших» (I,
612). И Лавров стремится дополнить позитивизм научным, как он
считает, «субъективным методом».
Человеческая личность находится в центре философских
воззрений Лаврова. Поэтому-то он и стремится к построению
«антропологии как философской системы» (1,480), делая упор на практическую
философию, независимую «от метафизических теорий». Эта
философия утверждает «личный принцип свободы»: «Личность
практически свободна, и свобода сама является первою ее потребностью»
(I, 485).
Но поскольку общество состоит из множества личностей, их
взаимоотношение - важнейший предмет практической философии
Лаврова, его этического учения. «Нравственная жизнь, - по убеждению
мыслителя, - начинается в элементарной форме выработкою
представления о личном достоинстве и стремлением воплотить в жизни
это достоинство, которое в этой форме становится нравственным
идеалом» (II, 638). Только «идеал человеческого достоинства», по
Лаврову, способен к разрешению «противоречия между
общественной обязанностью и личным стремлением гражданина». «Личность, -
пишет он, - видит в справедливом обществе воплощение своего
достоинства. Общество должно иметь целью удовлетворение
справедливым требованиям развития всех своих членов» (I, 487). (Зтсюда
отношение к личности - главный критерий оценки самой
общественной системы. В статье «Что такое антропология» (1860) он отмечал,
что «общественный союз является для антропологической системы
средством развития личности, средством воплощения в жизнь идеи
о личном достоинстве, т. е. идеи справедливости» (там же).
Идеи личности, ее свободы и нравственного достоинства стали
исходным принципом теоретического обоснования Лавровым
социалистического идеала. В большой статье «Социальная революция и
задачи нравственности» (1884) он подчеркивает, что
«социалистический нравственный идеал оказывается не только не
противоречивым прогрессивному нравственному идеалу, как он логически
развивался в человечестве, но единственно возможным
осуществлением требований для личности: беспрепятственной выработки,
развития и осуществления в жизни ее достоинства; для общества:
распространения возможности развития на все большее и большее число
150
личностей и выработки общественных форм, дозволяющих
всеобщую кооперацию для всеобщего развития» (II, 433).
Лавров полагал, что «нравственные задачи социализма не
легки», ибо «социальная революция, входящая в эти задачи, обещает
быть кровавою и жестокою, но цель ее есть цель нравственная и
должна быть достигнута» (И, 504). Нравственный идеал Лаврова не мог
не вступать в противоречие с той тактикой революционной борьбы,
которую избрала «Народная воля», перешедшая от революционной
агитации к террору. В «Биографии-исповеди» он вспоминает, как в
1877-1882 гг. «много раз возвращался к указанию тех опасностей,
которые представляют для успеха революционной партии в России
анархические начала и террористические приемы» (II, 652). Тем не
менее Лавров и после 1(13) марта 1881 г., когда бомбой убит был
Александр II, защищал народовольцев, признавая успешность их
террористической борьбы с самодержавием.
Эмигрировав из России, Лавров, не прерывая своих научных и
философских занятий, активно включился в революционную
деятельность. Он - участник Парижской коммуны как военный специалист
и как организатор народного образования. И за границей автор
«Исторических писем» продолжает разрабатывать идеологию, теорию и
тактику народнического движения в России, полемизируя с
анархистами и последователями П. Н. Ткачева, призывавшими к захвату
власти «революционным меньшинством». Лавров лично знакомится с
К. Марксом и Ф. Энгельсом, обменивается с ними письмами,
становится их другом. Он испытывает определенное воздействие идей
марксизма, особенно в понимании значения экономического
фактора в историческом процессе. Однако Лавров до конца жизни
остается убежденным в правоте своих народнических представлений о
самобытности исторического пути России, об
общинно-социалистической природе русского крестьянства, о роли «критически мыслящих
личностей» в истории.
Последователем идей Лаврова о значении в истории
«критически мыслящей личности» и его субъективного метода в социологии
стал другой крупный идеолог народничества, философ,
литературный критик и публицист - Николай Константинович Михайловский
(1842-1904).
VI
ПОИСКИ ИДЕАЛЬНОГО НАЧАЛА
Ф. М. Достоевский
Антропологизм, т. е. выдвижение проблемы человека как
центральной, проявлялся не только в тех течениях русской философской мысли,
о которых шла речь в предыдущем очерке. Антропологический подход
пронизывает миропонимание великого писателя и мыслителя Федора
Михайловича Достоевского (1821-1881). Однако в его произведениях
понимание человека принципиально иное, чем в философских
воззрениях Чернышевского, Добролюбова, Писарева и Лаврова. Для
Достоевского человеческое я «в земной порядок» «не укладывается, а ищет
еще чего-то другого, кроме земли, чему тоже принадлежит оно»1.
Может возникнуть вопрос, по какому праву взгляды писателя
включаются в историю философской мысли. Ведь он сам отмечал: «Швахо-
ват я в философии (но не в любви к ней; в любви к ней я силен)» (ХХГХ,
кн. 1, 125). Да, несомненно, Достоевский не писал собственно
философских трактатов, не сводил в систему свои воззрения, но его любовь
к философии была отнюдь не бесплодна. Разве случайно
произведения русского писателя привлекали пристальное внимание таких
философов, как Ф. Ницше и Вл. Соловьев! Парадоксально, но со временем
возрастает интерес к Достоевскому именно как к философу, и без
влияния его идей невозможно себе представить русскую философскую
мысль XX столетия. И не только русскую. Предметом специального
исследования стали связи идей Достоевского с философией Канта,
Шиллера, Ницше, философией экзистенциализма. Да и сами
философские, социальные и эстетические взгляды писателя раскрываются в их
системной связи, которая выявляется исследователями в его
художественных образах, публицистических высказываниях и в переписке2.
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972-1990. Т. 30. Кн. 1.
СИ. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте: римская цифра означает
том, арабская - страницы.
2 См.: Шестов Л. Достоевский и Ницше // Лев Шестов. Избр. соч. М., 1993;
Штейнберг А. 3. Система свободы Достоевского. Берлин, 1923; Голосовкер Э. Я.
Достоевский и Кант. М., 1963; Вильмонт Н. Достоевский и Шиллер. М, 1984;
Фридлендер Г. Достоевский и мировая литература. Л., 1985; Бердяев Н. А.
Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и
искусства: В 2 т. М, 1994. Т. 2; Аллен Л. Достоевский и Бог. СПб., 1993; Поме-
ранц Г. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М., 1990; Корякин Ю.
Достоевский и канун XXI века. М, 1989; Лаут Р. Философия Достоевского в
систематическом изложении. М, 1996. Этот список можно было бы продолжить.
152
По словам H. Бердяева, «Достоевский был не только великий
художник, он был также великий мыслитель и великий духовидец. Он -
гениальный диалектик, величайший русский метафизик»1.
Своеобразие философских взглядов Достоевского состоит в том,
что они выражены прежде всего через художественные образы.
Персонажи его гениальных романов - носители идей, и столкновение
этих идей составляет внутренний сюжет его художественных
творений. M. М. Бахтин убедительно показал, что романы Достоевского
по сути своей диалогичны, представляя собой «множественность
самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний»2.
Художественная философия Достоевского образуется из этого взаимодействия
голосов и сознаний, выявляющих диалектику идей. Притом писатель
не навязывает своим персонажам своих идей. Он обладал
удивительной способностью вживаться в даже чуждые ему идеи и раскрывать
их внутреннюю логику. Это создает определенные трудности для
понимания воззрений самого Достоевского. Не случайно относительно
его произведений не прекращаются споры. В какой-то мере взгляды
автора романов проясняются в его публицистике, особенно в
«Дневнике писателя» и письмах. Но, как не раз отмечалось, эти
высказывания более прямолинейны, чем собственно художественная
философия Достоевского.
«О Достоевском можно образно сказать, - отмечал Н. Зернов, -
что он неожиданно обнаружил в хорошо знакомом доме множество
комнат, коридоров, чуланов, о существовании которых и не
подозревали владельцы дома. Он был способен проникнуть в самые
потаенные уголки человеческой души, куда никогда не заглядывали
до него ни писатели, ни ученые»3. Глубокие философские идеи
Достоевский почерпнул не столько из учений своих
предшественников, сколько из глубин своей личности. В самом себе он
бесстрашно открыл «подполье» - иррациональную сторону человеческой
души, глубинное подсознание, которое десятилетия спустя стало
поразившим мир открытием «психоанализа» Фрейда (кстати,
тщательно изучавшего произведения Достоевского), «глубинной
психологии».
Эпоха, в которую жил Достоевский, - это переломное для России
и для всей Европы время, период социальных и культурных сдвигов,
которые раскалывали человеческие жизни и души, выявляя в них
ранее скрытые бездны.
Ф. М. Достоевский родился в Москве. И хотя раннее детство его
прошло благополучно (он жил в московской больнице для бедных, в
которой работал врачом его отец), впечатления будущего писателя от
1 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. С. 9.
2 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М, 1963. С. 7.
3 Зернов Н. Три русских пророка: Хомяков, Достоевский, Соловьев. С. 98.
153
несчастных пациентов больницы на Божедомке не прошли
бесследно. Когда Федору было 10 лет, его отец купил небольшое поместье в
Тульской губернии, в котором сотня крепостных крестьян жили в
бедности и забитости. Отец отличался крутым нравом и
пристрастием к алкоголю. Мать - добрая и благородная женщина, оказывавшая
на своих детей благотворное нравственное влияние, измученная
дурным характером мужа и чахоткой, умерла в 1837 г. Отец же спустя
два года был убит своими крепостными мужиками, мстившими ему
за жестокость и распутство. Достоевский в это время учился в
Военно-инженерном училище, помещавшемся в петербургском
Михайловском замке. Окончив училище, он начал работать в инженерном
ведомстве, но вскоре вышел в отставку, увлеченный литературной
деятельностью.
В 1845 г. печатается его первый роман «Бедные люди»,
восторженно встреченный публикой и критикой «как новый Гоголь», в том
числе и особенно самим Белинским. Молодой писатель знакомится
со знаменитым критиком, подпадая под обаяние его
гуманистических и социалистических воззрений, но не разделяя в то же время его
атеистических убеждений, а также взглядов на служебную роль
искусства.
Продолжая литературный труд, Достоевский в 1846 г.
встречается с М. В. Петрашевским и посещает его кружок сторонников
французского утопического социализма, решительно не приемлющих
российскую действительность. И вот в апреле 1848 г. власти,
напуганные революционными событиями в Европе, арестовывают
петрашевцев, в том числе Достоевского. Он заточен в страшный Алексеевский
равелин Петропавловской крепости, мужественно ведет себя перед
следственной комиссией и приговаривается к смертной казни за
публичное чтение крамольного письма Белинского к Гоголю (хотя
читался и ответ Гоголя) и план создания нелегальной типографии.
Заключенных 22 декабря 1849 г. вывели на место казни, надели на
первых трех смертные балахоны, исполнители приговора подняли
ружья. Достоевский должен был войти во вторую тройку и ожидал,
говоря словами Б. Пастернака, «полной гибели всерьез». Но
смертельный спектакль был задуман так, чтобы приговоренные к смерти
испытали все предсмертные муки, но остались живы для каторги и
ссылки. В последний момент последовал высочайший указ о
помиловании, и писатель был приговорен к четырем годам каторжных работ и
бессрочной солдатчине.
Страшные годы, прошедшие на каторге, легли в основу книги
«Записки из Мертвого дома», опубликованной в начале 60-х гг. Пять
лет продолжалась армейская служба. И только после смерти
Николая I Достоевский получил возможность покинуть место ссылки и
в конце 1859 г. возвращается в Петербург, в котором он начинает
154
вести напряженную писательскую деятельность. Во время
заключения и каторги Достоевский переживает «историю перерождения»
своих убеждений. Он разуверился в социалистических идеях и
обрел новый «символ веры»: «...верить, что нет ничего прекраснее,
глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее
Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и
не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне
истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне
лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»
(XXVIII, кн. 1, 176).
В 1860 г. Федор Михайлович вместе с братом Михаилом
начинает издавать журнал «Время». В нем Достоевский печатает свои
«Записки из Мертвого дома» и роман «Униженные и оскорбленные».
Журнал публикует произведения А. Островского, Некрасова,
Тургенева, Салтыкова-Щедрина и других видных писателей и поэтов.
Идейной платформой «Времени» и сменившего затем его журнала
«Эпоха» стало так называемое «почвенничество», которое Достоевский
исповедовал вместе с поэтом, критиком (создателем концепции
«органической критики»), теоретиком искусства Аполлоном
Александровичем Григорьевым (1822-1864).
Почвенничество в определенной мере было продолжением
славянофильской традиции, но со значительными изменениями.
Критика западноевропейской цивилизации, ее индивидуалистичности и
«буржуазности», убеждение в особом, самобытном историческом
пути России сочетались у почвенников с признанием
плодотворности культурных достижений Запада, подчеркиванием значения
человеческой индивидуальности, личности. Вместе с тем почвенники
считали, что русское общество должно соединиться с «народной
почвой» и принять в себя «народный элемент», неотделимый от
христианского православия. К почвенничеству восходят идеи Достоевского
о божественной избранности русского народа и его спасительной
миссии в судьбе человечества.
Каковы же были собственно философские воззрения
Достоевского, выраженные в его произведениях, написанных после
каторги и ссылки, таких, как «Записки из подполья» (1864),
«Преступление и наказание» ( 1866), «Идиот» ( 1868), «Бесы» (1871-1872),
«Подросток» (1875), «Братья Карамазовы» (1879-1880), «Дневник
писателя» и др.?
Персонажи романов Достоевского можно подразделить на три
типа: 1) положительные или даже идеальные (князь Мышкин,
Алеша Карамазов, старец Зосима); 2) чисто отрицательные герои (Петр
Верховенский, Смердяков); 3) большинство же действующих лиц,
даже совершавших преступные деяния, противоречиво сочетают в
себе пороки и достоинства.
155
В «Записках из подполья» Достоевский в полемике с
рационалистической «теорией разумного эгоизма», которой придерживались
многие просветители, в частности Чернышевский, дает свое экзистенцио-
нальное понимание природы человека. В блистательно написанном
монологе «подпольного» человека, выворачивающего наизнанку свою
душу, рисуется то, как «человек устроен». А устроен он весьма
противоречиво, содержа в себе «много-премного самых противоположных
тому элементов»(У, 100). Человек отнюдь не является рассудочным
существом. «.. .Рассудок, господа, - рассуждает герой Достоевского, -
есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и
удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть
проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с
рассудком, и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша в этом проявлении
выходит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно только
извлечение квадратного корня»(У, 115). И дальше: «...а натура
человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и
бессознательно, и хоть врет, да живет» (там же).
Писатель беспощадно показывает реальность человеческой
природы, как он ее понимает, а рисует он ее прозорливо гениально.
Последующее время (особенно XX в.) показало, что благодушно-идеа-
лизованное представление о человеческой природе («ретортный
человек») приносит великий вред«самому же человеку.
Означает ли сказанное, что Достоевский принимает
существующую реальность человеческой натуры? И принимает, и не
принимает. Нет сомнения, что слова «подпольного» человека о том, что
«самое главное и самое дорогое» - это наша «личность» и наша
«индивидуальность» (см. V, 115), выражают одну из заветных мыслей
автора «Записок из подполья». Достоевский здесь и во всем своем
творчестве - сторонник и защитник индивидуальности человеческой
личности и ее свободы. Он противник превращения человека в
«фортепьянную клавишу» или в «штифтик в органном вале», превращения
человеческого общества в «муравейник». Именно поэтому он не
приемлет, как бы мы сейчас сказали, тоталитаризм власти Великого
Инквизитора (см. «поэму» о «Великом Инквизиторе», которую Иван
Карамазов рассказывает брату Алеше).
Однако «подпольный человек» - отнюдь не идеал Достоевского.
Ему импонирует лишь самоирония этого человека, которой он
вершит суд над собой и над существующей человеческой природой.
Свобода, обратившаяся в своеволие, к добру не приводит. Горько
звучат самооценки «подпольного» человека: «По крайней мере, от
цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уже, наверно,
хуже, гаже кровожаден, чем прежде» (V, 112); «Самое лучшее
определение человека - это: существо на двух ногах и неблагодарное» (V,
116); «человек устроен комически» (V, 119). Достоевский,
безусловно, солидарен с высказыванием своего персонажа: «я убежден, что
156
нашего брата подпольного нужно в узде держать» (V, 121). Он также
разделяет вывод из рассуждения-самоосуждения другого своего
героя Дмитрия Карамазова о том, что человек способен одновременно
отдаваться и «идеалу Мадонны» и «идеалу содомскому»: «Нет,
широк человек, слишком даже широк, я бы сузил» (XIV, 100). И сам
автор «Братьев Карамазовых» в знаменитой «Пушкинской речи»
произносит крылатую фразу: «Смирись, гордый человек, и прежде всего
сломи свою гордость» (XXVI, 138).
Существующее в мире зло - важнейшая проблема в творчестве
Достоевского; он стремится раскрыть природу зла во всей его
внутренней логике. Он писал: «.. .не как мальчик же я верую во Христа и
его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна
прошла...» (XXVII, 86). В «Братьях Карамазовых» Иван Карамазов
выступает против божественного мироустройства в его высшей
гармонии, покупаемой ценой страдания, особенно страданиями невинных
детей: «А потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не
стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка...»
(XIV, 223). Возможно, подобные мысли Достоевский слышал от
Белинского (он ведь еще в письме к В. П. Боткину от 1 марта 1841 г.
также отказывался от высшей гармонии, условием которой есть
дисгармония).
Достоевскому чужд иезуитский принцип: «Цель оправдывает
средство». Это принцип, которому следуют и Раскольников, убивая
старуху-процентщицу, чтобы сделать добро многим людям
(«Преступление и наказание»), и Шигалев с Петром Верховенским, не
брезгующие убийством во имя осуществления идеала общества
всеобщего равенства («Бесы»), и Великий Инквизитор, убежденный в том,
что общество покоя и всеобщего материального благоденствия
можно создать лишь ценой лишения людей свободы, совести и
подчинению силе, тайне и авторитету избранных вершителей человеческих
судеб («Братья Карамазовы»).
Однако, по учению писателя-философа, необходимо сделать
мировоззренческий выбор: или бунт против Бога, терпящего мир во зле,
или же еще больший разгул зла, преступного своеволия, так как если
Бога нет, то «всё позволено». «Совесть без Бога есть ужас, она может
заблудиться до самого безнравственного», - записывает Достоевский
в Дневнике 1881 г. (XXVII, 56). И вот его положительный ответ на
вопрос об идеале нравственности: «Нравственный образец и идеал
есть у меня, дан, Христос» (там же). Следование этому
нравственному образцу, преодоление греха через страдание очищает мир. По
высказыванию Бердяева, «в страдании видел Достоевский знак
высшего достоинства человека, знак свободного существа. Страдание есть
последствие зла. Но в страдании сгорает зло»1.
1 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. С. 72.
157
Писатель достаточно четко представлял, каким мир не должен
быть и в настоящем, и в будущем. Много написано о том, что
автор «Бесов» видел возможность осуществления антиутопии Шига-
лева - Верховенского: «...каждый член общества смотрит один за
другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все
каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и
убийство, а главное равенство. <.. .> Рабы должны быть равны: без
деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно
быть равенство...» (X, 322). Во имя утверждения равенства «высшие
способности» рассматриваются как развращающий и опасный
фактор, «их изгоняют или казнят». И далее следуют показательные
примеры: «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза,
Шекспир побивается каменьями...» (там же).
Достоевский, после кары за участие в кружке Петрашевского,
изменяет свои взгляды на социализм. Но социализм ли мечтания
Шигалева? Даже сторонник шигалевщины Петр Верховенский са-
моразоблачительно заявляет: «Я мошенник, а не социалист» (X, 325).
Достоевский вряд ли знал о коммунистическом идеале К. Маркса,
любимым поэтом которого был Шекспир, побиваемый камнями в
проекте Шигалева. ,.
Социальная философия Достоевского в его 'трудах не получила
детального обоснования. В поопеднем выпуске «Дневника
писателя» за 1881 г. он употребляет понятие «социализм» в значении -
«русский социализм»: «Не в коммунизме, не в механических формах
заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в
конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш
русский социализм!» (XXVII, 19).
В «поэме» Ивана Карамазова «Великий Инквизитор» ставится
проблема о насущности хлеба земного и пищи духовной. Инквизитор
упрекает Христа в том, что он предпочел вторую первому во имя
свободы, провозгласив: «Человек жив не единым хлебом». Глава же
инквизиции полагает, что храм Христа разрушится под напором
голодных масс, на знамени которых будет написан лозунг: «Накорми,
тогда и спрашивай с них добродетели!» (XIV, 230). В империи
Великого Инквизитора действует принцип: «Даешь хлеб, и человек
преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба...» (XIV, 232). Власть
предержащие берут на себя роль распределителя хлеба среди
народа, который этот же хлеб добыл и у которого он был отнят. Создатель
«Братьев Карамазовых» был конечно же на стороне Христа.
Убеждение Достоевского в великом значении духовного начала в
человеческой жизни выражено в его знаменитой формуле: «Мир
спасет красота» (VIII, 436). В ней сливаются воедино эстетические,
этические и социальные воззрения писателя. Слова о спасительной
миссии красоты он «передал» своему любимому герою князю Мышкину -
персонажу романа «Идиот». Сама эта формула восходит к любимо-
158
му Достоевским Фридриху Шиллеру, который в эстетическом
воспитании искал спасение от кровавых потрясений якобинского
террора во время Французской революции конца XVIII столетия. По
мнению немецкого поэта и мыслителя, приобщение к красоте -
единственная возможность достижения «идеала равенства» и
«эстетического государства», гармонии человеческих способностей и
человеческого счастья. Но «мир красотою спасется» (IX, 222) у
Достоевского по несколько иной логике, чем у Шиллера. Шиллер под
красотой прежде всего имел в виду прекрасное искусство как
«выражение свободы в явлении». Достоевский также придавал большое
значение искусству как воплощению свободы, но само понимание
красоты у него было непростым.
Князь Мышкин произносит слова, близкие автору романа:
«Красота - загадка» (VIII, 66). В романе «Братья Карамазовы» устами
Дмитрия Карамазова так определяется диалектическая сущность
красоты: «Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут»; «тут
дьявол с богом борется, а поле битвы - сердца людей» (XIV, 100).
Итак, сама красота двойственна. Она может быть и от Бога, и от
дьявола, может быть сопряжена с Добром или Злом, может порождать
как «идеал Мадонны», так и «идеал содомский». Существует, увы, и
эстетика злых людей, и даже преступников. И «будущий антихрист
будет пленять красотой» (XVI, 363). Поэтому один из персонажей
«Идиота» правомерно ставит вопрос: «Какая красота спасет мир?»
(VIII, 317).
В отличие от Шиллера, Достоевский пришел к убеждению, что
мир спасается не красотой вообще, а красотой доброй, «положительно
прекрасным», «вполне прекрасным» (см. XXVIII, кн. 2, 251, 241).
Писатель исходит из единства эстетического и этического. Не
только подлинно прекрасное нравственно, но и «нравственно только то,
что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы
его воплощаете» (XXVII, 57). Этическое для Достоевского едино с
его христианским смыслом. И сам Христос для него - воплощение
добра и красоты: «На свете есть одно только положительно
прекрасное лицо - Христос...» (XXVIII, кн. 2, 251). «Мир спасет красота»
также потому, что «прекрасное есть идеал» (там же), а «без идеалов,
то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего,
никогда не может получиться никакой хорошей действительности»
(XXII, 75).
Формула Достоевского относительно спасительной миссии
Красоты вызвала полемику в русской философско-эстетической мысли,
прежде всего потому, что разные мыслители по-разному понимали
соотношение Красоты и Добра. Последователями идей
Достоевского стали Вл. Соловьев и Н.Бердяев. В качестве его оппонента-
К. Леонтьев.
159
К. H. Леонтьев
К. H. Леонтьев обвинил Достоевского в «неохристианстве», в
«розовом», т. е. филантропическом христианстве, в
«общегуманитарном» пророчестве. В своей реакции на «Пушкинскую речь» писателя
Леонтьев выражает решительное несогласие с оптимистическим
идеалом гармонии в человеческих отношениях, возможности создать
«рай на земле». По его убеждению, «неохристианство»
Достоевского - «пророчество всеобщего примирения людей во Христе не есть
православное пророчество, а какое-то общегуманитарное».
Леонтьев считает, что «ничего нет верного в реальном мире явлений», а «верно
только одно, - точно, одно, одно только несомненно, - это то, что
все здешнее должно погибнуть!»1.
Незадолго до своей кончины Достоевский пишет в записной
тетради: «Леонтьеву (не стоит добра желать миру, ибо сказано, что
он погибнет). В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх
того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все
обречены, так чего же стараться, чего любить, добро делать? Живи в
своепузо»(ХХУП,51).
Константин Николаевич Леонтьев (1831-1891) родился в
дворянской семье. Специальное образование он получает на
медицинском факультете Московского университета. В 1854 г. в качестве
батальонного лекаря участвует в русско-турецкой (Крымской) войне.
Еще до увольнения из армии в 1857 г. Леонтьев начинает свою
литературную деятельность. В «Отечественных записках» появляются его
романы «Подлипки» и «В своем краю». С 1863 г. он служит в
Министерстве иностранных дел и вскоре становится секретарем русского
консульства на острове Крит, а затем работает дипломатом в ряде
южных городов. Своеобразная жизнь народов Средиземноморья
становится темой его очерков и рассказов.
В 1871 г. в Салониках, где Леонтьев исполнял должность
консула, он тяжело заболел (как врач он поставил себе безнадежный
диагноз: холера). Придя в ужас от неминуемой смерти, он обратился с
молитвой к иконе Божьей Матери и через два часа поправился. Через
три дня Леонтьев был уже в монастыре на Афоне. Афонские старцы
отговорили его немедленно стать монахом, но с этого времени
ревностное православие стало определяющим началом его
мировоззрения. Он часто посещает монастыри, а незадолго до своей смерти
принимает тайный постриг в Оптиной пустыни.
С 1873 г. Леонтьев покидает дипломатическую службу, живет и в
Константинополе, и в родовом имении Кудиново Калужской
губернии, и в Варшаве, и в Москве, где он работал цензором, и с 1887 г. в
Оптиной пустыни, снимая двухэтажный дом. Однако основным со-
1 Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство. М, 1996. С. 315, 318.
160
держанием его жизни становятся публицистическо-философские
труды. Он пишет о религии и политике, историософии и эстетике,
анализирует художественные произведения и не прекращает свое
художественное творчество.
С одной стороны, Леонтьев - сторонник сурового, аскетического
и даже деспотического христианства (он считает, что в «поэме» о
Великом Инквизиторе Достоевский сочинил
«безжизненно-всепрощающего Христа» и неправомерно исказил образ инквизитора,
воплощающего практичность христианского учения)1. С другой же
стороны, он предан эстетизму, поклоняется красоте во всех формах
жизненного ее проявления. Как все это совместить? В статье о судьбе
Леонтьева С. Н. Булгаков задает вопрос: «И почему же он,
пламенный эстет, словно не услыхал слов Достоевского, что красота
спасет мир, и прошел мимо этой напряженнейшей трагедии красоты, в
которой «Бог с дьяволом борется» в человеческом сердце?»2
Но у Леонтьева была своя логика. Да, утверждал он, «все здешнее
должно погибнуть». Да, на земле никакое спасение невозможно -
оно осуществимо только в загробной жизни. Но как приятен момент
земной жизни! Как страстно молил больной консул Божию Матерь,
чтобы она подняла его с одра смерти! А «видимое разнообразие и
ощущаемая интенсивность жизни» - это же и есть «ее эстетика»3. В
письме к В. В. Розанову от 13-14 августа 1891 г. из Оптиной пустыни
(за 10 дней до принятия монашеской аскезы и полного отречения от
мира!) Леонтьев заявлял: «Я считаю эстетику мерилом, наилучшим
для истории и жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем
местностям. Мерило положительной религии, например,
приложимо только к самому себе (для спасения индивидуальной души моей
за гробом, трансцендентный эгоизм) и вообще к людям,
исповедующим ту же религию. Как Вы будете, например, приступать со строго
христианским мерилом к жизни современных китайцев и к жизни
древних римлян?»4
Но как понимает Леонтьев саму «эстетику жизни», ее красоту?
Если Достоевский считал, что в сердцах людей за красоту борется
дьявол с Богом и потому существуют два противоположных идеала
красоты - дьявольский и божественный, а спасает только второй, то
для Леонтьева в красоте проявляется действие любых мистических
сил, будь они божественные или сатанинские. Отсюда в
эстетических взглядах Леонтьева противопоставляются Добро и Красота. Он
решительно не согласен с теми, кто полагает, что «все неморальное -
не прекрасно, и наоборот» и по отношению к отдельным лицам, и в
оценке целых исторических эпох. «Отчего, - спрашивает он, - госу-
1 См.: Леонтьев К. Избранные письма (1854-1891). СПб., 1993. С. 577-578.
2 Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 92.
3 Леонтьев К. Избранные письма. С. 586.
4 Там же. С. 584.
6-99
161
дарственно-религиозное падение Рима, при всех ужасах Колизея,
цареубийств, самоубийств и при утонченно-сатанинском половом
разврате, имело в себе, однако, так много неотразимой поэзии, а
современное демократическое разложение Европы так некрасиво, сухо,
прозаично?»1 Если Достоевский провозглашал нравственную силу
красоты, то Леонтьев возвеличивал красоту силы, даже силу
«настоящей деревянной палки», которая хотя сама и является
«некрасивым средством», но служит «для прекрасных нередко целей»2. Не
случайно Вл. Соловьев и В. В. Розанов находили общность культа
красоты как жизненной силы, противопоставление эстетического и
нравственного у К. Леонтьева и Ф. Ницше. Притом «русский
Ницше», как порой называли Леонтьева, высказывал свои эстетические
идеи раньше Ницше, не зная о нем. По словам Вл. Соловьева, «в
своем презрении к чистой этике и в своем культе самоутверждающейся
силы и красоты Леонтьев предвосхитил многие мысли Ницше,
вдвойне парадоксальные под пером афонского послушника и оптинского
монаха»3.
Эстетический критерий был для Леонтьева основным для
оценки жизнеспособности того или иного периода в развитии природных
форм и этапов исторического развития общества и государства.
Большое впечатление произвела на Леонтьева книга Н. Я. Данилевского
«Россия и Европа» (1871), в которой была предпринята попытка
представить историю как совокупность различных
культурно-исторических типов (египетский, китайский и т. д. вплоть до романо-герман-
ского). Притом каждый из этих типов проходит свой цикл развития:
от стадии первоначального роста ко времени расцвета цивилизации -
периоду «цветения и плодоношения» - и затем к ее угасанию.
Видоизменяя и корректируя концепцию Данилевского, Леонтьев
разрабатывает закон «триединого процесса развития», равно относящегося
и к природе, и к обществу. По этому закону «государственные
организмы» и «целые культуры мира» проходят три периода: «1)
первичной простоты, 2) цветущей сложности и 3) вторичного
смесительного упрощения»4. Только второй период соответствует
эстетическому критерию. Последний же - это «разложение в однообразие». В
своем труде «Византизм и славянство» Леонтьев подсчитывает срок
существования государственных образований. У него получается
1000-1200 лет.
Западная Европа, по Леонтьеву, вступила в период «разложения
в однообразие», показателем чего, с его точки зрения, являются де-
1 Леонтьев К. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни (По двум
письмам). М, 1912. С. 37.
2 Там же. С. 24.
3 Соловьев Вл. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М, 1990.
С. 467.
4 Леонтьев К. Избранное. М., 1993. С. 75.
162
мократические и республиканские институты, а также стремление к
социализму. У России же еще сохраняется шанс лет на 200
сохранить себя от гибели. «Для замедления всеобщего уравнения и
всеобщей анархии, - полагает Леонтьев, - необходим могучий Царь. Для
того, чтобы Царь был силен, то есть и страшен, и любим, -
необходима прочность строя, меньшая переменчивость и подвижность его;
необходима устойчивость психических навыков у миллионов
подданных его. Для устойчивости этих психических навыков необходимы
сословия и крепкие общины»1. Леонтьев даже мечтал соединить с
монархией социализм: «Чувство мое пророчит мне, что славянский
православный царь возьмет когда-нибудь в руки социалистическое
движение (так, как Константин Византийский взял в руки движение
религиозное) и с благословения Церкви учредит социалистическую
форму жизни на место буржуазно-либеральной. И будет этот
социализм новым и суровым трояким рабством: общинам, Церкви и Царю»2.
Такова консервативная и реакционная («реакционная» в прямом,
а не только оценочном смысле) программа Леонтьева - бойца
«консервативной партии», по словам Достоевского, оригинального и
талантливого проповедника «крайне консервативных взглядов», по
характеристике Вл. Соловьева. «До дня цветения лучше быть парусом
или паровым котлом - обосновывает Леонтьев свою
консервативность и реакционность, - после этого невозвратного дня достойнее
быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под
крутую гору.. .»3. «Пора учиться, как делать реакцию», - призывал
Леонтьев - «вдохновенный проповедник реакции», по определению
С. Н. Булгакова4.
Консерватизм Леонтьева не предполагает сохранение всего
существующего в тогдашней России. Его общественный идеал -
реставрация «византизма», византийского православия, ибо «византизм
организовал нас, система византийских идей создала величие наше,
сопрягаясь с нашими патриархальными, простыми началами, с
нашим, еще старым и грубым в начале, славянским материалом». И
потому, «изменяя, даже в тайных помыслах наших, этому византиз-
му, мы погубим Россию»5. Леонтьеву принадлежит формула: «Надо
подморозить Россию, чтобы она не «гнила». Но он сам же,
характеризуя К. П. Победоносцева - обер-прокурора Св. Синода и
проводника крайне охранительно-консервативной политики в России,
писал: «Человек он очень полезный; но как? Он как мороз:
препятствует дальнейшему гниению, но расти при нем ничего не будет»6.
1 Леонтьев К. Избранное. С. 291.
2 Леонтьев К. Избранные письма. С. 473.
3 Леонтьев К. Избранное. С. 83.
4 См.: Булгаков С. Н. Тихие думы. С. 86, 84.
5 Леонтьев К. Избранное. С. 40.
6 Леонтьев К. Избранные письма. С. 424.
6*
163
Эстетика Леонтьева сложно соотносится с его христианским
православием, но вполне соответствует его социально-политическим
воззрениям. «Записки отшельника» Леонтьева начинаются разделом
«Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой». На первых
страницах его утверждается: «Эстетика спасла во мне
гражданственность... <...> Я стал любить монархию, полюбил войска и военных,
стал и жалетьм ценить дворянство, стал восхищаться статьями
Каткова и Муравьевым-Виленским»1. А далее следуют рассуждения,
«почему нам Вронский гораздо нужнее и дороже самого Льва
Толстого»2. В написанной в 1890 г. книге «О романах гр. Л. Н. Толстого.
Анализ, стиль и веяние (Критический этюд)» Леонтьев упрекает
Толстого за снижение и деэстетизацию в «Анне Карениной» образа
Вронского. Для Леонтьева Вронский - «молодой, знатный, красивый и
здоровый герой», опорочивание которого романистом
квалифицируется носителем «искренно-деспотического вкуса» (так сам себя
называл Леонтьев) как «мошки на солнце».
Леонтьев, несомненно, высоко ценил Толстого как художника -
творца «Войны « мира» и «Анны Карениной», но резко порицал его
как проповедника, разрушающего «старую и весьма утешительную
веру в сердцах людей шатких, молодых, неразвитых». В одном из
писем конца 80-х гг. Леонтьев рассказывает о посещении его
Толстым и споре между ними: «Нонод конец свидания и беседы я сказал
ему:
- Жаль, Лев Николаевич, что у меня нет достаточно
гражданского мужества написать в Петербург, чтобы за Вами следили
повнимательнее и при первом поводе сослали бы в Тобольск или дальше под
строжайший надзор; сам я прямого влияния не имею, но у меня есть
связи, и мне в Петербурге верят сильные мира сего.
А он в ответ, простирая ко мне руки:
- Голубчик, напишите, сделайте милость... Я давно этого желаю
и никак не добьюсь!»3
Л. Н. Толстой
Что же вызвало в учении Л. Толстого такое неприятие К.
Леонтьева, рассматривающего доносительство как «гражданское мужество»?
Противопоставление Толстого-художника Толстому-мыслителю
и проповеднику свойственно было не только Леонтьеву. В 1908 г.
В. И. Ленин, называя Льва Толстого «зеркалом русской революции»,
1 Леонтьев К. Избранное. С. 188; граф M. Н. Муравьев (1796-1866) -
противник проведения крестьянской реформы, прославился жестоким
подавлением польского восстания 1863-1864 гг., получив от общественного мнения
звание «вешатель».
2 Там же. С. 193.
3 Леонтьев К. Избранные письма. С. 521-522.
164
считал, что он, «с одной стороны, гениальный художник, давший не
только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные
произведения мировой литературы. С другой стороны - помещик,
юродствующий во Христе»1. Толстого-художника и
Толстого-религиозного мыслителя противопоставляет также, хотя и по другому
основанию, и Н. А. Бердяев: «Прежде всего нужно сказать о Л.
Толстом, что он - гениальный художник и гениальная личность, но он не
гениальный и даже не даровитый религиозный мыслитель». И в
другом месте: «Но Толстой велик своим художественным творчеством и
своей жизненной судьбой, своим исканием, а не учением»2. За свое
учение Толстой в 1901 г. постановлением Святейшего Синода
Русской православной церкви был отлучен от церкви. Однако у
Толстого как религиозного мыслителя было много приверженцев и в
России, и за ее пределами, считавших себя «толстовцами».
Вместе с тем при всех противоречиях творчества и учения
великого писателя необходимо иметь в виду, рассматривая его
философские воззрения, что и все его художественные произведения, по
словам В. Ф. Асмуса, «задуманы и созданы в страстных поисках ответов
на те же вопросы, которые Толстой ставил перед собой в своих
дневниках, в своей переписке, в статьях и трактатах на
публицистические и философско-религиозные темы»3.
Философские идеи и Достоевского, и Толстого вызвали
огромный общественный резонанс. Их часто сравнивали между собой,
находя и общие черты (для К. Леонтьева и тот и другой были
«неохристианами», многие отечественные исследователи усматривали и у того
и у другого гуманизм в положительном смысле и реакционно-рели-
гизный утопизм - в отрицательном), и существенные различия (Д. С.
Мережковский, например, в двухтомном труде «Толстой и
Достоевский» характеризует первого как «пророка плоти», а второго как
«пророка духа»). Хотя и Достоевский, и Толстой являются гениальными
художниками слова, их философские воззрения по-разному
воплощались в их художественных произведениях. Романы Достоевского
- это в полном смысле философские романы, коллизии людей в них
выражали коллизии идей и наоборот. Художественные же творения
Толстого - шире их философского эквивалента. Поэтому он
художественно-образную ткань подчас дополняет философскими
рассуждениями (например, в эпилоге «Войны и мира», размышления
Левина в «Анне Карениной»). Если публицистика Достоевского лишь как
бы аккомпанирует философской проблематике его романов, то у
Толстого публицистические выступления и религиозно-философские
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 17. С. 209.
2Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. С. 462,
461.
3 Асмус В. Ф. Мировоззрение Толстого // Асмус В. Ф. Избранные
философские труды. М., 1969. Т. 1. С. 41.
165
трактаты имеют самостоятельное значение для понимания его
философской позиции.
Лев Николаевич Толстой (1828-1910) родился в
аристократической графской семье. Он рано лишился родителей и воспитывался
сестрой отца, после же ее кончины - другими родственниками.
Будущий писатель получает домашнее образование и в 16 лет поступает в
Казанский университет, сначала на отделение арабо-турецкой
словесности, а затем на юридический факультет. Однако университет он
не заканчивает, полагая, что необходимые знания можно получить
самообразованием, которым Толстой занимается всю свою жизнь.
В его самообразовании философия занимает значительное место.
С юности он увлечен Руссо. Читает и глубоко чтит Канта.
Переживает период большого интереса к философии Шопенгауэра.
Евангелисты и восточные мудрецы - Конфуций, Лао-цзы, философия
буддизма - становятся его постоянными собеседниками.
Лев Толстой прожил долгую деятельную жизнь, в которой были
и военная служба (он - участник обороны Севастополя), и труд
педагога, и сельскохозяйственный труд, и заботы счастливой семейной
жизни. Но «главное - это литературное творчество, успешно
начавшееся с 50-х гг. и получившее сразу же большое общественное
признание. Полное собрание сочинений писателя насчитывает 90 томов.
Нас интересуют философские воззрения Толстого, тесно
переплетенные с его нравственными и религиозными исканиями. В
марте 1855 г. он пишет в своем дневнике: «Вчера разговор о
божественном и вере навел меня на великую громадную мысль,
осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль
эта - основание новой религии, соответствующей развитию
человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности,
религии практической, не обещающей будущее блаженство, но
дающей блаженство на земле»1. Эту мысль, озарившую 27-летнего
Толстого, в сущности, он и осуществлял, как бы ни оценивать
толстовскую религию. Но поиски новой веры не были чисто
умозрительными.
В детстве Толстой был приобщен к христианским религиозным
представлениям и православному быту, но образ жизни молодого
человека и той великосветской среды, в которой он вращался,
привел его к отрешению от церкви и традиционных верований. Вместе с
тем не только жизнь, но прежде всего смерть, особенно смерть
близких людей (в 1860 г. Толстого потрясла смерть старшего брата),
ставила вопрос: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не
уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» (XVI, 111).
1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1960-1965. Т. 19. С. 150. Далее ссылки
на это издание приводятся в тексте в скобках: том обозначается римской
цифрой, страница - арабской.
166
Этот вопрос ставится в толстовской «Исповеди», над которой шла
работа в конце 70-х гг. Одновременно этой же проблемой смысла
жизни мучится и герой «Анны Карениной» - Левин. И он при виде
любимого умирающего брата «ужаснулся не столько смерти,
сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что
она такое» (IX, 409). Материалистическое миропонимание -
неистребимость материи, закон сохранения силы, трактовка человека как
организма, развивающегося и разрушающегося, - было хорошо «для
умственных целей», но ничего не давало для жизни. Левин,
«убедившись, что в материалистах он не найдет ответа», «перечитал и вновь
прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и
Шопенгауэра - тех философов, которые не материалистически
объясняли жизнь» (IX, 411). Но и философия этих мыслителей была лишь
«ловушкой слов» «дух», «воля», «свобода», «субстанция». Она
оказалась искусственной постройкой, которая «заваливалась, как
карточный дом, и ясно было, что постройка была сделана из тех же
перестановленных слов, независимо от чего-то более важного в жизни,
чем разум» (IX, 412).
В «Исповеди» Толстой рассматривает ответы на вопрос о смысле
жизни, даваемые философскими мудрецами - Сократом,
Шопенгауэром, библейским Соломоном и Буддой. И эти ответы оказываются
неутешительными: «Обманывать себя нечего. Все - суета. Счастлив,
кто не родился, смерть лучше жизни; надо избавиться от нее»(ХУ1,
123). И благополучный Левин, и создатель его образа оказались близки
к самоубийству, придя к мысли о бессмысленности жизни.
Но тут обнаруживается бессмысленность этой идеи о
бессмысленности жизни: «Как же этот разум отрицает жизнь, а он сам творец
жизни? Или, с другой стороны: если бы не было жизни, не было бы и
моего разума, - стало быть, разум есть сын жизни. Жизнь есть все.
Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает самую жизнь. Я
чувствовал, что тут что-то неладно» (XVI, 126). Как же так? «Мое
знание, подтвержденное мудростью мудрецов», открывает, что «все на
свете», «все необыкновенно умно устроено». Почему же «только мое
одно положение глупо»? Почему же «наша мудрость, как ни
несомненно верна она, не дала нам знания смысла нашей жизни»? В то же
время «человечество, делающее жизнь, миллионы - не сомневаются
в смысле жизни» (XVI, 127).
И Левин, как и автобиографический герой «Исповеди»,
обнаруживают для себя, что миллиарды простых людей обладают чем-то,
что выше разума. Как размышляет Левин, «разум открыл борьбу за
существование и закон, требующий того, чтобы душить всех,
мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить
другого не мог открыть разум, потому что это неразумно» (IX, 422).
Оказывается, как отмечается в «Исповеди», кроме разума, не
дающего смысла жизни, работает еще что-то другое, названное Тол-
167
стым «сознанием жизни» (XVI, 128). Оно и присуще миллиардам
живших и живущих людей. Эти громадные массы людей, все
человечество признают этот смысл жизни «в неразумном знании». «И это
неразумное знание есть вера», - констатирует автор «Исповеди» (XVI,
130). «Неразумное знание - вера» (XVI, 132) и дает возможность жить.
Поэтому «где жизнь, там вера». «Всякий ответ веры конечному
существованию человека придает смысл бесконечного, - смысл, не
уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит - в одной вере
можно найти смысл и возможность жизни» (там же). «Вера есть сила
жизни»; и если человек «понимает призрачность конечного, он
должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить» (XVI, 133).
«В ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость
человечества», - утверждает Толстой. «Смысл жизни, понятия бога,
свободы, добра» - это «понятия, при которых приравнивается
конечное к бесконечному» (XVI, 135, 134). И вот заключительное звено
толстовского рассуждения: Бог - «то, без чего нельзя жить. Знать Бога
и жить - одно и то же. Бог есть жизнь» (XVI, 144).
И Толстой, т«ак же как и Левин в «Анне Карениной», в простом
трудящемся народе, в неграмотных мужиках усматривает подлинную
мудрость, ибо «у них есть настоящая вера», и эта «вера их
необходима для них, и она дает им смысл и возможность жизни» (XVI, 137).
В этом истоки толстовского «народничества»: «И я полюбил этих
людей» (XVI, 138); «...Чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь
не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого
трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он
придает ей» (XVI, 146). Также и Левин находит высшую мудрость в
словах мужика о том, что нужно жить «для души, по правде, по-божью»
(IX, 419).
Но, отступив перед верой, признав ее превосходство перед
собой, разум не может смириться перед тем, что он не в состоянии
понять в осуществлении самой веры: «таинства, церковные службы,
посты, поклонение мощам и иконам» (XVI, 146). Если для
Достоевского, как мы помним, «лучше хотелось бы оставаться с Христом,
нежели с истиной», то для Толстого в самом вероучении должно
«найти истину и ложь и отделить одно от другого». «Я хочу понять так, -
утверждает автор «Исповеди», - чтобы всякое необъяснимое
положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как
обязательство поверить» (XVI, 157).
Отношение Льва Толстого к разуму противоречиво. С одной
стороны, Толстой, вслед за Руссо, не приемлет существующую
цивилизацию и ее рационалистическое сознание, которое, по его мнению,
не способно определить смысл жизни. С другой же стороны, как
верно отметил Н. А. Бердяев, «разум свой, которым он судит
православие, Толстой взял целиком из ненавистной ему цивилизации, из
европейского рационализма, от Спинозы, Вольтера, Канта и др.». По
168
словам Бердяева, «он не хотел пойти ни на какие жертвы своим
рационалистическим сознанием, гордость разума в нем действовала
непрерывно». Поэтому «он согласен принять лишь разумную веру, все,
что кажется ему в вере неразумным, вызывает в нем протест и
негодование»1.
И в рассуждениях Левина из «Анны Карениной», и в
«Исповеди», и в трактатах «Исследование догматического богословия» ( 1879—
1880), «В чем моя вера» (1883-1884), «Царство Божие внутри вас»
(1893), в романе «Воскресение» (1889-1899), в книге «Путь жизни»
(1910) и во многих других произведениях Толстой
рационалистически критикует христианскую догматику, отрицая троичность Бога,
бессмертие души, чудеса, искупительную жертву и воскресение
Христа, таинства православной обрядности и божественность самой
Церкви. В книге «Царство Божие внутри вас» Толстой заявляет, что
«церкви, как церкви, всегда были и не могут не быть учреждениями
не только чуждыми, но и прямо враждебными учению Христа», что
«церкви не только никогда не соединяли, но были всегда одной из
главных причин разъединения людей, ненависти друг к другу, войн,
побоищ, инквизиций, варфоломеевских ночей и т. п.». Церкви, по
суждению Толстого, не только «никогда не служат посредниками
между людьми и Богом», но «заслоняют от людей Бога».
Православная же церковь занимается внушением «народу этих чуждых ему,
отжитых и не имеющих уже никакого смысла для людей нашего
времени формул византийского духовенства о Троице, о Божьей
матери, о таинствах, о благодати и т. п.», а также распространением
идолопоклонства - «почитания святых мощей, икон, принесения им
жертв и ожидания от них исполнения желаний»2. Таким образом,
Толстой отлучил от себя церковь еще до Toroj как он сам был
отлучен от нее.
Что же представляет собой та религия, которую Толстой
называет «истинной»? «Истинная религия, - по его словам, - в том, чтобы
знать тот закон, который выше всех законов человеческих и один для
всех людей мира»3. Этот высший закон и есть Бог. «Кроме всего
телесного в себе и во всем мире, мы знаем еще нечто бестелесное,
дающее жизнь нашему телу и связанное с ним. Это нечто бестелесное,
связанное с нашим телом, мы называем душою. Это же бестелесное,
ни с чем не связанное и дающее жизнь всему, что есть, мы называем
Богом»4. По Толстому, Бог познается человеком в самом себе: «Не
ищи Бога в храмах. Он близок тебе. Он внутри тебя. Он живет в тебе.
1 Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. С. 457.
2 Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас, или Христианство не как
мистическое учение, а как новое жизнепонимание // Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.:
В 90 т. (М.; Л., 1928-1958). Т. 28. М, 1957. С. 55, 57.
3 Толстой Л. К Путь жизни. М., 1993. С. 9.
4 Там же. С. 43.
169
Только отдайся Ему, и ты поднимешься выше счастья и несчастья»1.
Толстой, таким образом, трактует Бога не как личностного Бога, Бога
Ветхого и Нового Завета, но как безличный закон, пронизывающий
весь мир, в духе пантеизма или буддистского понимания Бога.
Вместе с тем Толстой считает себя христианином, но
христианином, отличным от христиан других христианских конфессий. Для него
Христос - не Бог-Сын, не ипостась Бога-Отца. В дневнике от 13 (25)
октября 1860 г. Толстой пишет, что во время похорон брата ему
пришла «мысль написать матерьялистическое Евангелие, жизнь Хрис-
та-матерьялиста» (XIX, 242). Этот замысел он не осуществил, но
написал книгу «Соединение и перевод четырех евангелий», в которой
дал свою интерпретацию христианства. Христос для Толстого -
великий учитель жизни, моралист-проповедник. В дневниковых
записях 1881 г. «Записки христианина» он отмечал, что «религиозная
истина есть единственная истина, доступная человеку, христианское
же учение считаю такой истиной, которая - хотят или не хотят
признавать это люди - лежит в основе всех людских знаний, и не боюсь
осуждения в гордости названия себя христианином...» (XIX, 293).
Искренно считая себя христианином, Толстой в то же время
полагал, что нравственный эквивалент всех великих религий и учений
мудрейших людей един: «Для того, чтобы хорошо прожить жизнь,
надо понимать, что такое жизнь и что в этой жизни надо и чего не
надо делать. Этому учили во все времена самые мудрые и доброй
жизни люди всех народов. Учения этих мудрых людей все в самом
главном сходятся к одному. Вот это-то одно для всех людей учение о
том, что такое жизнь человеческая и как надо проживать ее, и есть
настоящая вера»2. Не случайно в книги Толстого «Круг чтения» и
«Путь жизни» вошли высказывания о вере, о душе, о Боге, о любви,
о грехах, о самоотречении, смирении, правдивости, жизни и смерти
не только Христа, но и Магомета, не только из Библии, но также из
Талмуда, из священных книг индуизма, буддизма. Изречения
Конфуция и буддийских мудрецов сочетаются с высказываниями Сократа и
Платона, Сенеки и Паскаля, Канта и Шопенгауэра и т. д. И это не
эклектика, а системный плюрализм - стремление писателя
рассмотреть единую нравственную истину с разных сторон.
Толстой осуждает официальное христианство, канонизированное
различными христианскими церквами: «Люди, верующие в злого и
безрассудного бога, - проклявшего род человеческий и обрекшего
своего сына на жертву и часть людей на вечное мучение, - не могут
верить в бога любви»; «Если человек может спастись искуплением,
таинствами, молитвой, то добрые дела уже не нужны ему»; «Главное
же, человек, верующий в спасение людей верою в искупление или в
1 Толстой Л. К Путь жизни. С. 44.
2 Там же. С. 9.
170
таинства, не может уже все силы свои полагать на исполнение в
жизни нравственного учения Христа»1 . По убеждению Толстого,
«христианин освобождается от всякой человеческой власти тем, что
считает для своей жизни и жизни других божеский закон любви,
вложенный в душу каждого человека и приведенный к сознанию
Христом, единственным руководителем жизни своей и других
людей»2. По Толстому, «христианское учение возвращает человека к
первоначальному сознанию себя, но только не себя животного, а себя -
Бога, искры Божьей, себя - сына Божия, Бога такого же, как и отец,
но заключенного в животную оболочку»; «Истинную жизнь, по
христианскому учению, имеет только тот, кто перенес свою жизнь в ту
область, в которой она свободна»3. Свобода есть необходимое
условие христианской жизни.
Поэтому Толстой непримиримый противник всяческого насилия,
даже насилия по отношении ко злу. «Одна из главных причин
бедствий людей - это ложное представление о том, что одни люди могут
насилием улучшать, устраивать жизнь других людей», - читаем мы в
книге «Путь жизни»4. Это относится и к любому государственному
насилию, и к насилию революционному: «Жестокости всех
революций - только следствие жестокостей правителей. Революционеры
понятливые ученики».
Основа толстовской этики - это проповедь любви к ближнему и
дальнему. В этой проповеди Толстой, несомненно, следует
христианской этике. Знаменитый тезис толстовства о непротивлении злу
насилием выводится из Евангелия. В противовес ветхозаветному
принципу «око за око и зуб за зуб» Христос провозгласил в нагорной
проповеди: «Не противься злому» (Мф. 5, 39).
Как отмечает сам автор книги «Царство Божие внутри вас»,
немало людей провозглашало необходимость следования принципу
непротивления. Но этот нравственный принцип получил всемирную
известность прежде всего благодаря Толстому и был излюбленной
мишенью противников толстовства.
Как же Толстой обосновывает необходимость непротивления злу
насилием? В этой связи возникает вопрос: что же такое зло? И
оказывается, что люди по-разному понимают различение между злом и
добром. Поэтому «то, что один человек считает злом, есть зло
сомнительное (другие считают его добром)». А если это так, то какое
же право имеет тот или другой человек или какая-либо организация
насилием сокрушать то, что он считает злом?! Где гарантия того, что
это действительное зло, а не то, что просто противостоит выгодам и
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 28. С. 60.
2 Там же. С. 167.
3 Там же. С. 85, 282.
4 Толстой Л. Н. Путь жизни. С. 166, 168.
171
интересам этого человека или организации? «На вопрос о том, как
разрешить постоянные между людьми споры о том, что добро и что
зло, - как полагает Толстой, - учение Христа отвечает тем, что так
как человек не может несомненно определить зло, то он и не должен
стараться злом насилия побеждать то, что он считает злом». Вот само
насилие - несомненное зло. Насилие, которое совершают люди во
имя уничтожения зла в их понимании - «побои, увечья, лишение
свободы, смерть, - уже наверное зло».
Насилие, совершаемое даже «во имя блага многих»,
недопустимо, ибо это и означает реализацию иезуитского принципа цель
оправдывает средство. По Толстому, «как только человек допустил
возможность совершить насилие над одним человеком во имя блага
многих, так нет пределов того зла, которое может быть совершено
во имя такого предположения» (там же). Поскольку само насилие -
зло, то применение насилия против того, что считается злом,
является эскалацией зла. Но возникает вопрос, возможно ли
сопротивление самому насилию? Во всяком случае, освободительная война
русского народа против нашествия Наполеона одобрительно
рассматривается автором «Войны и мира», хотя один из любимых героев
Толстого - Пьер Безухов счел необходимым непротивление во время
французского плена. Да и сам Толстой всем своим творчеством
призывает к сопротивлению всячеЛсому насилию, правда, конечно, не
насилием.
Толстовское учение о непротивлении основано на определенном
понимании исторического процесса, которое излагается писателем в
эпилоге «Войны и мира». «Каждая личность, - пишет он, - носит в
самой себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить
недоступным человеку целям общим» (VII, 276). Эти общие и
конечные цели, цели исторические и общечеловеческие недоступны
человеческому уму Исторический процесс складывается в результате
взаимодействия миллионов воль отдельных людей, представляя
собой их равнодействующую, поглощающую их индивидуальную
свободу. «Движение народов производят не власть, не умственная
деятельность, даже не соединение того и другого, как то думали
историки, - писал Толстой, - но деятельность всех людей, принимающих
участие в событии...» (VII, 360). «Почему происходит война или
революция? - спрашивает автор «Войны и мира» и дает такой ответ: -
Мы не знаем; мы знаем только, что для совершения того или другого
действия люди складываются в известное соединение и участвуют
все; и мы говорим, что это так есть, потому что немыслимо иначе,
что это закон» (VII, 361). Этот закон Толстой называет «законом
предопределения», который, по его убеждению, «управляет историею»
(VII, 392). Отсюда Толстой делает вывод относительно «малого
значения, которое имеют так называемые великие люди в исторических
событиях» (VII, 389). Поэтому он симпатизирует Кутузову, несопро-
172
тивляющемуся необходимости исторического процесса, и порицает
Наполеона, стремящегося в него насильственно вмешиваться.
Этические взгляды Толстого составляют основу его философских
воззрений, поглощая, по сути дела, его религиозное учение и
эстетику. Парадоксально, конечно, то, что один из величайших художников
мира порой пренебрежительно говорил о красоте. «Чем больше мы
отдаемся красоте, тем больше мы удаляемся от добра», - читаем мы
в его трактате «Что такое искусство?» (XV, 101). А в дневниковой
записи от 9 августа 1897 г. содержится такая мысль: «Эстетическое и
этическое - два плеча одного рычага: насколько удлиняется и
облегчается одна сторона, настолько укорачивается и тяжелеет другая
сторона. Как только человек теряет нравственный смысл, так он
делается особенно чувствителен к эстетическому» (XX, 80-81).
Понимание Толстым проблемы соотношения добра и красоты
аналогично писаревскому, по которому эстетика и все эстетическое
отрицается во имя утверждения общественно-политических,
нравственно-гражданских ценностей, хотя последние трактуются
Писаревым иначе, чем Толстым. В решении этой проблемы Толстой -
антипод К. Леонтьева, так как для последнего красота имела
самоценное значение, даже красота, противостоящая нравственности. Для
Достоевского сама красота может быть и дьявольской, и
божественной, т. е. сопряженной с добром, и только она «спасет мир». Эта
традиция автора «Идиота» находит свое продолжение и развитие в
трудах Вл. С. Соловьева. Единство добра, истины и красоты
провозгласил также Н. Ф. Федоров, учение которого представляет
своеобразный вариант духовных поисков XIX в.
Н. Ф. Федоров
На рисунке известного художника Л. Пастернака изображены три
русских мыслителя: Лев Толстой, Владимир Соловьев и Николай
Федоров, имя которого многие годы замалчивалось на родине этого
самобытного философа. Вместе с тем незнакомое широкому кругу
даже образованных читателей имя Федорова было знакомо только
тем, кто серьезно занимался русской философией. Ведь не зря же
академик живописи Пастернак, близкий к Толстому, на своем
рисунке соединил Федорова с великим писателем и выдающимся
философом. Л. Толстой, который отнюдь не был единомышленником
Федорова, писал в 1895 г. о своем глубоком уважении к его личности и
признании «того добра, которое он делал и делает своей
самоотверженной деятельностью». А Вл. Соловьев, познакомившись с
развернутым изложением «проекта» Федорова, писал скромному (во всех
отношениях) библиотекарю Румянцевского музея (ныне
центральная библиотека страны): «Я очень много Вам имею сказать. А пока
скажу только одно, что со времени появления христианства Ваш «про-
173
ект» есть первое движение вперед человеческого духа по пути
Христову. Я со своей стороны могу только признать Вас своим учителем и
отцом духовным»1. Небезынтересно еще одно суждение об идеях
Федорова. Узнав о них от верного ученика и последователя
Федорова - Н. П. Петерсона, Ф. М. Достоевский в письме Петерсону от
24 марта 1878 г. ставит ряд вопросов, касающихся учения Федорова,
и среди них «первым делом вопрос: кто этот мыслитель, мысли
которого Вы передали? Если можете, то сообщите его настоящее имя. Он
слишком заинтересовал меня. <...> Затем скажу, что в сущности
совершенно согласен с этими мыслями. Их я прочел как бы за свои»
(XXX, ч. 1, 13, 14). Исследователи полагают, что учение Федорова
нашло отзвук в его романе «Братья Карамазовы».
Николай Федорович Федоров (1828-1903) был «незаконным»
сыном князя Павла Ивановича Гагарина, принадлежащего к одной
из знатнейших в России родовой фамилии, восходящей к
основателю династии Рюриковичей и крестителю Руси князю Владимиру.
Фамилию и отчество Николай получил по крестному отцу. До семи
лет он жил в усадьбе отца, затем учился в уездном училище, в
тамбовской гимназии и одесском лицее. Вынужденный по семейным
обстоятельствам покинуть лицей, Федоров работает школьным
учителем в Липецком уездном училище, в Богородском и Подольском
уездных училищах, где он прецодает историю и географию (1854—
1868). В 1869 г. начинается работа Федорова в библиотеках, сначала
в Чертковской, а затем с 1874 г. в Румянцевском музее, в котором он
проработал 25 лет. Федоров скончался в Мариинской больнице для
бедных.
Такова внешняя канва жизни, наполненной непрестанными
размышлениями, обоснованием своего философского учения,
постоянным самообразованием. По воспоминаниям знавших его людей,
Федоров вел жизнь аскета, ограничивая свои потребности до минимума
и всячески помогая нуждающимся. «Он нищий, и все отдает, всегда
весел и кроток», - характеризовал его Л. Толстой. Федорова
называли «московским Сократом» не только за непритязательность в быту,
но и за стремление распространить свое учение в беседах и спорах
через верных своих учеников и последователей, хотя сам мыслитель
порицал исторического Сократа за сосредоточенность познания на
самом себе («познай самого себя») и отрыв знания от дела. Федоров
оставил сравнительно небольшое литературное наследство,
собранное и изданное его единомышленниками Н. П. Петерсоном и В. А.
Кожевниковым. Три года спустя, после смерти Федорова, в городе
Алма-Ате (он тогда назывался «Верный») вышел первый том,
названный Кожевниковым «Философия общего дела», тиражом в 480
экземпляров с пометкой «не для продажи». Второй том был издан в
1 Соловьев В. С. Письма. СПб., 1909. Т. 2. С. 345.
174
Москве в 1913 г. Материалы, подготовленные для 3-го тома, изданы
были в сборниках «Вселенское дело» (выпуск 1, Одесса, 1914;
выпуск 2, Рига, 1934).
Что же представляет собой учение Федорова, его «философия
общего дела»? Основной темой размышлений Федорова,
многократно повторяющимся мотивом и, можно даже сказать, навязчивой
идеей является преодоление смерти и воскрешение умерших.
Стремление к воскрешению всех умерших и провозглашается «общим
делом» всех живущих, их непременным долгом перед «отцами».
Притом речь идет не просто о духовном воскрешении, а о воскрешении
физическом, телесно-вещественном. Спрашивается, как это вообще
возможно?
Федоров был человеком религиозным, считавшим себя
православным христианином, но он полагал, что у людей есть возможность
избежать мрачного пророчества Апокалипсиса - явления
антихриста, Страшного суда и ада. Человечество, по убеждению философа,
может быть спасено, соединившись для «общего дела» - победы над
смертью и воскрешения усопших. По его мнению, «общее дело» - не
своеволие человека, противопоставленное воле Божьей. Он считал,
что «Бог воспитывает человека собственным его опытом», что Бог -
«Царь, который делает все не только лишь для человека, но и чрез
человека» (360)1. Поэтому Бог не лишает человека свободы в его
деятельности, но дает эту свободу. Отделение небесного от земного, по
Федорову, - это «полное искажение христианства, завет которого
заключается именно в соединении небесного с земным, божественного
с человеческим», а «всеобщее же воскрешение, воскрешение
имманентное, всем сердцем, всею мыслию, всеми действиями, т. е. всеми
силами и способностями всех сынов человеческих совершаемое, и
есть исполнение этого завета Христа - Сына Божия и вместе Сына
Человеческого» (94).
Следует отметить, что этот теологический аспект философского
учения Федорова был по-разному воспринят в философских и
церковных кругах. Даже многие богословы и религиозные философы
отнеслись к «проекту» Федорова не однозначно. Выше уже
приводились восторженные слова Вл. Соловьева о федоровском «проекте»
как о первом, со времени появления христианства, движении вперед
«человеческого духа по пути Христову». Однако через некоторое
время Соловьев разочаровался в учении Федорова. В другом своем
письме к автору «проекта» он при всем уважении к Федорову,
называя его по-прежнему «дорогой учитель», выражает неприятие его
философии «общего дела» по нравственным и религиозным
соображениям: «Простое физическое воскрешение умерших само по себе
1 Федоров Н. Ф. Соч. М., 1982. Здесь и далее цифра в скобках означает
страницу издания.
175
не может быть целью. Воскресить людей в том их состоянии, в каком
они стремятся пожирать друг друга, воскресить человечество на
степени каннибализма было бы и невозможно, и совершенно
нежелательно»; «Если бы человечество своей деятельностью покрывало
Божество (как в Вашей будущей психократии), тогда действительно
Бога не было бы видно за людьми.. .»'
Высокую оценку личности Федорова и его философии дает Н. А.
Бердяев, в эмигрантской квартире которого висел портрет
библиотекаря Румянцевского музея. Бердяев считал оригинальным и
правильным истолкование им апокалиптических пророчеств как условных,
т. е. действующих не фатально неотвратимо, но лишь тогда, когда
люди не будут исполнять заветы Христа. Учение Федорова, считает
Бердяев, тем самым утверждает христианскую идею свободы.
Федоровский «проект» - «это есть, - по его словам, - не более и не менее,
как проект избежания страшного суда. Победа над смертью,
всеобщее воскрешение не есть только дело Бога при пассивности
человека, это есть дело богочеловеческое, т. е. и дело коллективной
человеческой активности». Правда, Бердяев полагает, что «в «проекте»
Федорова гениальное прозрение в толковании апокалиптических
пророчеств, необыкновенная высота нравственного сознания, всеобщей
ответственности всех за всех соединяется с утопическим
фантазерством». И хотя «в учении Федорова очень многое должно быть
удержано, как входящее в русскую идею», по мнению Бердяева,
«предложенные им материалистические методы воскрешения не могут быть
удержаны. Вопрос об отношении духа к природному миру не был им
до конца продуман». Бердяев отмечает, что в миросозерцании
Федорова «есть совершенно революционные элементы - активность
человека, коллективизм, определяющее значение труда,
хозяйственность, высокая оценка позитивной науки и техники. <...> И, как это
ни странно, было некоторое соприкосновение между учением
Федорова и коммунизмом, несмотря на его очень враждебное отношение
к марксизму. Но вражда Федорова к капитализму была еще большая,
чем у марксистов»2.
С позиций православного богословия федоровское учение
подвергает острой критике Г. В. Флоровский в книге «Пути русского
богословия». В ней признается, что «Федоров был мыслитель
острый и тонкий», что «он умел вскрывать подлинные апории и ставить
решительные вопросы», однако выдвигается целый ряд серьезных
упреков к учению Федорова с теологической точки зрения.
«Словесно Федоров как будто в церковности и в православии. Но это, -
полагает Флоровский, - только условный исторический язык. <.. .> Стро-
1 Соловьев В. С. Письма. Т. 2. С. 346, 347.
2 Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре.
С. 231,229.
176
го говоря, у Федорова нет никакой христологии вовсе. <.. .>
Интересует Федорова собственно только судьба человеческого тела. Но
остается совсем не ясно, какова же судьба души?.. Остается неясным,
кто умирает и кто воскресает - тело или человек?.. <.. > О
загробной жизни умерших Федоров едва упоминает. Он говорит больше о
их могилах, об их могильном прахе». Флоровский считает, что
«Божественному действию он противопоставляет человеческое. Он
благодати противопоставляет труд», что «условное понимание
эсхатологических пророчеств Библии, как предупреждений и
предостережений, обращенных педагогически к воображению и воле людей»,
связано у Федорова с «гуманистическим активизмом». «Религия» же
Федорова, как считает богослов, «есть религия человечества. Это
своеобразный «культ предков» <...> Учение Федорова есть
своеобразная форма религиозного позитивизма, утонченная форма
«позитивной религии». И, строго говоря, ничто не изменится, если в нем
умолчать о Боге».
Но если в устах теолога характеристика: «Федоров был
натуралистом в своей метафизике, вся его концепция выполнена в категориях
природного бытия»1 является негативной, то для философии,
ориентирующейся на естествознание, она должна быть позитивной. В учении
Федорова мы находим сочетание, казалось бы, несовместимых начал
- убежденность во всесилии естественно-научного знания, практически
реализуемого в деятельности человека, и безудержную фантазию,
основанную на этом убеждении. Нечто подобное осуществляется в
популярном жанре литературы, названном «научно-фантастическим». Но
в отличие от большинства писателей, работающих в этом жанре,
которые осознают эстетически-игровую природу своей фантазии,
Федоров был убежден в совершенной реальности своего «проекта»,
необходимости и осуществимости «общего дела».
На самом деле, воскрешение умерших представляется им не как
сверхъестественно-мистический акт, а как результат развития науки
и ее практического применения. Наука, как он считает, позволит
собрать рассеянные частицы разложившихся тел и воссоздать из них
тела оживших отцов и матерей. Но ведь в таком случае Земля не в
состоянии вместить миллиарды всех существовавших людей!
Поэтому-то Федоров и считает неизбежным выход человечества в
космическое пространство, заселение людьми планет космического
пространства.
Отсюда и знаменитый федоровский «космизм», который оказал
влияние на миропонимание ряда философов, ученых, поэтов,
художников. В этом ряду могут быть названы и Владимир Маяковский, и
Андрей Платонов, и Борис Пастернак.
1 Флоровский Г. В. Пути русского богословия // О России и русской
философской культуре. С. 368, 369, 370, 373.
177
Идеи «московского Сократа» повлияли на философско-научное
осмысление космоса. И дело, конечно, не просто в том, что, работая
в общедоступной московской библиотеке («Чертковской»), Федоров
встретил и стал опекать 15-летнего К. Э. Циолковского, который
впоследствии отмечал: «Федорова я считаю человеком необыкновенным,
а встречу с ним - счастьем», он мне «заменил университетских
профессоров, с которыми я не общался». При всем различии, которое
существует между космическими идеями Циолковского и Федорова,
их, бесспорно, объединяет выдвижение самой проблемы «человек и
космос», проблемы, поставленной Федоровым. Академик В. И.
Вернадский называл Федорова как одного из «искателей истины»,
выразившего неудовлетворенность «узкими размерами Земли и даже
Солнечной системы», стремящегося к поискам «мировой космической
связи».
Цели, поставленные Федоровым перед человечеством, могут
показаться бредом. Многим так и казалось. Даже Вл. Соловьев,
разочаровавшись в федоровском «проекте», назвал его автора в письме к
брату юродивыц «воскресения ради». Однако сам Федоров в своей
фантазии стремился опереться на действительные достижения
науки и техники. На него произвел громадное впечатление опыт
вызывания искусственного дождя посредством взрывчатых веществ. Он в
этом практическом достижении людей видел первый шаг в спасении
от неурожаев и, более широко, в регуляции отношений между
человеком и природой. Само воскрешение умерших для Федорова и есть
результат такой регуляции, «обращение слепой силы природы в
сознательную» (365). Реальную возможность самого воскрешения он
усматривал опять-таки в реальных успехах науки: «В некоторых
случаях, когда действительность смерти была уже признана, удавалось
возвращать жизнь посредством гальванизма: как бы незначительны
подобные случаи ни были, все же они заставляют нас дать более
строгое определение так называемой действительной смерти» (364-365).
А ведь Федоров не знал о тех успехах, которые достигнуты
современной медициной в реанимации, в преодолении клинической
смерти! Не мог знать он и о выходе современного человечества в космос,
который он предвидел в своих фантазиях.
У Федорова были последователи, верившие в осуществимость
его «проекта», в возможность оживления умерших. Но даже если не
считать воскрешение возможным, нельзя не отдать должное
Федорову в его стремлении сохранить в памяти живущих людей образы и
дела ушедших от нас «отцов» (через историю, музеи, библиотеки,
храмы, искусство и т. п.), ибо, по его убеждению, духовное
воскрешение должно предшествовать физическому.
Вообще следует подчеркнуть, что, хотя идея преодоления смерти
и воскрешение умерших является центральной темой федоровского
учения, в целом же это учение, как отмечает немецкий исследова-
178
тель наследия Федорова М. Хагемайстер, представляет собой
«практическую философию, руководство к правильному (нравственному)
действию, следовательно, вид этики (Федоров сам говорил о «супра-
морализме»)»1. Вряд ли можно согласиться с Г. Флоровским, что «в
природе Федоров не видит и не признает никакого смысла, ни целей,
ни красоты»2. Вопрос о цели и смысле человеческого существования
в его отношении с природой стоит в центре его философии. Федоров
подчеркивал триединство добра (блага), истины и прекрасного (см.
46(М61).
Нельзя не отдать должное стремлению Федорова объединить
человечество общим делом. Пусть «общее дело», как его определял
Федоров, утопично, но нельзя не признать благородность его
стремлений для осуществления «общего дела» объединить всех людей «во
всеобщей родственной, праотеческой любви как верующих, так и
сомневающихся, ученых и неученых, сословия, город и село» (313),
через это дело решить «санитарный вопрос» и «продовольственный
вопрос» (352). Можно не соглашаться с Федоровым в конкретном
понимании этого «общего дела» - физического воскрешения всех
умерших, но то, что человечеству необходимо «общее дело»,
объединяющее людей для выживания человеческого рода, в этом
Федоров несомненно прав. Разве спасение современного человечества и
вместе с тем человечества вообще не заключается в общем деле
регуляции отношений с природой, решении насущных экологических
проблем, в преодолении разъединенности людей, разъединенности,
которая несет в себе угрозу братоубийственной войны, грозящей
гибелью человечеству?!
Читая труды оригинального мыслителя-подвижника,
вспоминаешь старинную мудрую притчу об отце, который сказал сыновьям
перед смертью, что он закопал клад в винограднике. Сыновья
перерыли всю землю в винограднике, но клад так и не нашли. Вместе с
тем они сделали полезное дело - взрыхлили землю... Трудно,
разумеется, поверить в «проект» Федорова. Однако даже и в этом случае
само стремление к регуляции отношения человека и природы,
космический взгляд на человечество и человеческий взгляд на космос,
утверждение нравственного значения столь актуального сейчас
единения человечества и незабвенности памяти ушедших поколений
«отцов» весьма плодотворно.
1 Hagemeister M. Nikolaj Fedorov. Studien zu Leben und Wirkung. München,
1989. S. 61.
2 Флоровский Г. В. Пути русского богословия // О России и русской
философской культуре. С. 371.
VII
ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА
В. С. СОЛОВЬЕВА
Философские воззрения русских мыслителей XVIII и XIX
столетий выражались главным образом в публицистике и художественной
литературе. Но дело не в том, что в этот период было написано
сравнительно немного собственно философских трактатов. И хотя
философские взгляды Сковороды и Радищева, Чаадаева и Герцена,
Чернышевского и Писарева, Толстого и Достоевского, Федорова и
Леонтьева и других несомненно обладали определенной системностью,
сами они, казалось, не особенно заботились о приведении их в
целостную систему Это дает основание говорить о том, что в России
развивалась, не философия, как таковая, а была лишь философская
мысль. Однако во второй половине прошлого века появился
мыслитель, который наряду с философскими диссертациями и
богословскими трактатами также писал публицистические статьи и даже стихи,
но в отношении которого не может быть сомнений в том, философ он
или нет. Это Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900) - русский
мыслитель, создавший оригинальную систему, охватывающую все
основные сферы человеческого бытия и познания.
Вл. Соловьев родился в семье историка Сергея Михайловича
Соловьева ( 1820-1879) - автора многотомной «Истории России с
древнейших времен». Дед философа был священником. Со стороны
матери Вл. Соловьев приходился дальним родственником Григория
Сковороды. Окончив с золотой медалью гимназию, будущий
философ поступил сначала на физико-математический, а затем перешел
на историко-филологический факультет Московского университета,
который окончил в 1873 году. В следующем году он был
вольнослушателем Московской духовной академии.
Еще в гимназические годы пытливый юноша обратился к
поискам высших целей жизни. Это были 60-е гг., и гимназист отдает дань
духу времени: он становится атеистом, увлекается
материалистическими идеями, симпатизирует социалистическим идеалам.
Углубляясь в историю философии, особенно осмысляя воззрения Спинозы,
Вл. Соловьев приходит к своей излюбленной мысли о духовном
всеединстве мира. Изучая Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля,
Шопенгауэра, европейских позитивистов, он преодолевает
материалистическое миропонимание, возвращается к Богу, к религии, которую
считает совместимой с научным знанием.
180
В ноябре 1874 г. Соловьев защищает магистерскую диссертацию
«Кризис западной философии (против позитивистов)» и
становится доцентом на кафедре философии Московского университета. Но
уже в июне следующего года он выехал в Лондон для занятий в
Британском музее, где изучает мистическую философию,
увлекаясь оккультными знаниями, литературу о Софии - Премудрости Бо-
жией. Но внезапно философ выезжает в Египет. Ему причудился зов
самой Софии. И уже в стране пирамид, под Каиром в конце ноября
ему привиделось явление Божественной Софии как образ Вечной
Женственности. Ее мистически-поэтический облик, возникший в этом
видении, не раз рисовался им в стихах.
В 1876 г. Соловьев возвращается в Россию. Он читает лекции в
Московском университете, а с 1877 г. - в Петербургском
университете и на Высших женских курсах. В этом же году выходит в свет в
«Журнале Министерства народного просвещения» еще, правда,
незаконченный первый очерк системы философа - «Философские
начала цельного знания». В 1878 г. он прочел цикл публичных лекций
«Чтения о Богочеловечестве». В них Соловьев разрабатывает свое
учение о Софии, полагая, что она и есть идеальное человечество во
Христе. В его трудах «Россия и Вселенская церковь» и «Идея
человечества у Августа Конта» осуществляется дальнейшее развитие
учения о Софии как о Богочеловечестве и Богоматери, которую издавна
почитал русский народ в качестве Святой Софии, воплощающей Бога
во Вселенской церкви. В апреле 1880 г. Вл. Соловьев защищает в
Петербургском университете докторскую диссертацию «Критика
отвлеченных начал», в которой он утверждает свою излюбленную
идею - идею положительного всеединства, а София выступает как
«Всеединая мудрость божественная».
Академическая карьера Соловьева была прервана после того, как
он в публичной лекции 28 марта 1881 г., не питая симпатии к
народовольцам, организовавшим убийство Александра II, призвал
помиловать их во имя христианского всепрощения. Русский мыслитель на
протяжении 80-х гг. занимается главным образом публицистической
деятельностью. Он пишет целый ряд работ по церковно-религиоз-
ным проблемам и национальному вопросу. Соловьев одержим
теократической идеей, идеей власти церкви, воссоединяющей все
христианские конфессии под руководством Папы Римского. Он в то же
время полагает, что политическую власть объединенных
христианских народов должен осуществлять русский царь. В работах по
национальному вопросу, объединенных в книгу «Национальный вопрос в
России» (1883-1891), и других публицистических статьях философ
критикует славянофильство, резко выступает против национализма как
национального эгоизма, против проявлений антисемитизма.
В 90-е гг. в трудах Соловьева вновь преобладает философская
проблематика. Он создает такие произведения, как «Смысл любви»
181
(1892-1894), капитальный этический трактат «Оправдание добра»
(1894-1897), статьи по теоретико-познавательным вопросам,
названные в первом Собрании его сочинений «Теоретической философией».
В Большом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, в
котором Соловьев с 1891 г. возглавил отдел философии, он написал много
статей по истории философии («Индийская философия», «Кант»,
«Гегель», «Конт», «Леонтьев» и др.) и статей, посвященных различным
философским понятиям («Действительность», «Природа», «Свобода
воли» и др.). В 1889 и 1890 гг. он публикует статьи по эстетике
«Красота в природе» и «Общий смысл искусства». Проблемы эстетики им и
ранее разрабатывались в выступлениях о Достоевском, в статьях о
Пушкине, Тютчеве, Чернышевском. В 1899-1900 гг. он написал «Три
разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со
включением краткой повести об Антихристе». Здесь он окончательно
расстается с теократической утопией и предрекает миру трагическую
перспективу. Печальные размышления Вл. Соловьева о будущем мира не
могли не быть связанными с предчувствием своей собственной
кончины. Умер философ в подмосковном имении «Узкое» князя П. Н.
Трубецкого - брата друзей Соловьева философов С. Н. и Е. Н. Трубецких.
Прах его покоится в Новодевичьем монастыреч
Какова философская система Вл. Соловьева? О ней и о ее авторе
существует многочисленная литература. Мы постараемся лишь в
самых общих чертах ответить на поставленный вопрос.
Вл. Соловьев о предмете и задачах философии
Философия рассматривается им в комплексе «цельного знания».
Что Соловьев понимает под «цельным знанием»? Оно включает в
себя богословие как мистическое знание, науку как эмпирическое
(опытное) знание и философию как знание рациональное.
Собственно же философия, по суждению автора «Философских начал
цельного знания», может пониматься по-разному. По одной из
интерпретаций, философия - это только теория, относящаяся
исключительно к познавательной способности человека, требующая от
человека лишь развитого ума. По другому пониманию, разделяемому
Соловьевым, философия - это «философия жизни», для которой
требуется, кроме ума, «особенное направление воли, т. е.
особенное нравственное настроение, и еще художественное чувство и
смысл, сила воображения, или фантазии». И если
философия-теория не имеет никакой прямой внутренней связи с личной и
общественной жизнью, то «философия жизни» «стремится стать
образующею и управляющею силой этой жизни». Такое понимание
философии находится в полном соответствии с самим
этимологическим значением слова «философия» (по-гречески «любовь к
мудрости», «любомудрие»), ибо мудрость - это «не только полнота
182
знания, но и нравственное совершенство, внутренняя цельность
духа»1.
Цель философии - познание истины. Однако, отмечает
Соловьев, «сама эта истина, настоящая всецелая истина, необходимо есть
вместе с тем и благо, и красота, и могущество, а потому истинная
философия неразрывно связана с настоящим творчеством и с
нравственной деятельностью, которые дают человеку победу над низшею
природой и власть над нею» (II, 199). Поэтому «истинная
философия» - не просто часть «цельного знания», каковой является чисто
теоретическая философия, а его основа и суть. «Цельное знание»
философ называет также «свободной теософией», т. е.
Божественной Мудростью. «Истинная философия», или «свободная теософия»,
подразделяется на логику, метафизику и этику, как и традиционные
философские системы, но с эпитетом «органическая» (см. II, 195).
«Цельная философия», включающая в себя все человеческие
способности, рациональное познание и интуицию, научное знание и веру,
логику и нравственные убеждения, позволяет постигнуть свой
предмет: истинно-сущее, или всеединое, начало всеединства (см. I, 685).
Метафизика всеединого и всеединства
Под «метафизикой» Соловьев понимает учение о познании
существа вещей, «истинно-сущего». Но что такое, с его точки зрения,
существо вещей, «истинно-сущее»? Каково отношение сущего и
бытия! Действительное бытие есть непосредственное доступное
нашему восприятию явление. Но как явление невозможно без
являющегося, так и бытие невозможно без сущего- (II, 221). Само сущее
«не есть ни бытие, ни небытие», но «оно есть то, что имеет бытие
или обладает бытием». «Итак, сущее как таковое или абсолютное
первоначало есть то, что имеет в себе положительную силу
бытия, а так как обладающий первее или выше обладаемого, то
абсолютное первоначало точнее должно быть названо сверхсущим или
даже сверхмогущим» (II, 220), абсолютно-сущим (II, 232).
Абсолютно-сущее, «абсолютное первоначало», или просто
«абсолютное», выступает не только как «единое во всем», но и как «все в
едином» (II, 233), т. е. как всеединое. Абсолютное же «в своем
совершенном акте, или вечном бытии», есть Бог (II, 504). Бог -
абсолютно-сущее, всеединое, «субъект всеединства», но само всеединство
«предполагает существование того неединого, многого, которое
делается всем в единстве; то самое многое, которое в единстве есть все,
само по себе, или вне единства, есть не все» (1,710). Таким образом,
1 Соловьев Вл. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 179. Далее ссылка на это
издание дается в тексте в скобках: римская цифра обозначает том, арабская -
страницу.
183
Соловьев проводит различие между всеединым как Богом и
всеединством как миром.
Но философ проводит в самом абсолютном и такое различение:
«Абсолютное необходимо во всей вечности различается на два
полюса или два центра: первый - начало безусловного единства или
единичности как таковой, начало свободы от всяких форм, от
всякого проявления и, следовательно, от всякого бытия; второй - начало,
или производящая сила бытия, то есть множественности форм».
Абсолютное во втором своем центре, на втором своем полюсе «есть
непосредственная потенция бытия или первая материя» (II, 235).
Что представляет собою эта «первая материя» (prima materia)?
Соловьев специально подчеркивает, что он не имеет в виду то, «что
современные ученые называют материей». Материя в химическом
или механическом смысле также существует, но она «имеет характер
предметный», и поэтому не может рассматриваться как «первая
материя» - «чистая потенция бытия» (II, 238).
Помимо первого и второго центров, или полюсов («сверхсущее
как таковое» и ^первая материя» как «необходимость или
непосредственная сила бытия»), по концепции Соловьева, существует «бытие
или действительность» - «общее произведение или
взаимоотношение» обоих центров-полюсов. Второй же центр-полюс называется им
также сущностью. «Поскольку сущность определяется сущим, она
есть его идея, поскольку бытие определяется сущим, оно есть его
природа» (II, 240, 241). Следовательно, в бытии-действительности
существует природа и его содержание - сущность, идея. Если
природа - это бытие натуральное, то идея - бытие идеальное.
Для наглядности представим соотношение вводимых
Соловьевым понятий в виде такой схемы:
1-й центр-полюс -
сверхсущее, положительная мощь бытия
2-й центр-полюс -
«первая материя», непосредственная сила бытия -»
сущность (как единство сущего и бытия) -> ИДЕЯ
Взаимоотношение
1-го и 2-го центров-полюсов -
бытие-действительность
Бытие, определяемое сущим, -» ПРИРОДА
Ряду понятий: сущее (мощь) - сущность (необходимость) -
бытие (действительность) соответствует другой ряд: Бог - идея -
природа. В трактате «Философские начала цельного знания»
24-летний Вл. Соловьев на основе разрабатываемых им понятий пытается
философски истолковать христианское учение о Троице. Бог-Отец -
это, по его терминологии, «сверхсущее абсолютное». Сын - это
184
Логос как «отношение сверхсущего ко всему и всего к
сверхсущему» (II, 259), воплощенный в Христе. Дух Святой соответствует
«идее» (И, 260)1.
Учение о Софии и Богочеловечестве
Всю философию Соловьева, его жизнь и творчество
пронизывает учение о Софии2. Кратко это учение можно представить
следующим образом.
Слово «софия» - по-гречески означает мудрость, и оно обозначало
важное понятие в античной философии, которая ведь сама по своему
понятию есть «любовь - фило - к мудрости, т. е. к софии». Но богиня
мудрости у древних греков называлась Афина. Философский же
термин «софия» в поздней античности стал обозначать то, что в
библейских текстах именовалось Премудростью Божией. Сам Соловьев
писал, что «в канонической книге «Притчей Соломоновых» мы
встречаем развитие этой идеи Софии...»3. В «Притчах Соломона»
Премудрость провозглашает: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде
созданий Своих, искони: / От века я помазана, от начала, прежде бытия
земли. <...>/ Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он
проводил круговую черту по лицу бездны, / Когда утверждал вверху облака,
когда укреплял источники бездны, / Когда давал морю устав, чтобы
воды не преступали пределов его, когда полагал основания земли: /
Тогда я была при Нем художницею, и была радостию всякий день,
веселясь перед лицом Его во все время, / Веселясь на Земном кругу
Его, и радость моя была с сынами человеческими» (Притч. 8:22,27-31).
Кто же такая Премудрость-София? Какое она занимает место в
священной иерархии? Каково ее отношение к Богу и другим лицам
Божественной Троицы - Христу и Святому Духу? Каково ее
отношение к человеческому роду? Все эти вопросы рассматривались еще в
дохристианской и раннехристианской античной философии - в
неоплатонизме и гностицизме, а затем и в ряде философско-мистичес-
ких и богословских учений Нового времени. Особое отношение к
Софии было на Руси. Наследуя традиции византийского почитания
Софии, православие на Руси посвятило Софии три главных храма,
построенные еще в XI в., - Софийские соборы в Киеве, в Новгороде
1 Исследователи учения Вл. Соловьева подвергают критике с христианских
позиций его попытку философски интерпретировать учение о Св. Троице. См.,
например: Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. М., 1995. Т. 1.
С 309-315; Лосев А. Ф. Вл. Соловьев. М., 1994. С. 132-134.
2 Учение Вл. Соловьева о Софии рассматривается во многих трудах,
посвященных его творчеству. Наиболее обстоятельно оно излагается в книге А. Ф.
Лосева «Владимир Соловьев и его время» (М., 1990. С. 209-260).
3 Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 109. Далее в ссылках на это
издание, чтобы отличить его от двухтомника 1988 г. издания, мы будем указывать
в скобках год 1989, том - римскими цифрами и страницу - арабскими цифрами.
185
и Полоцке. София в виде ангела в царском облачении изображается
на иконах XV - XVI вв. Образ Софии сближался с образом
Богоматери и выступал как воплощение Вселенской церкви.
Все это было хорошо известно Соловьеву и чрезвычайно его
занимало. Однако он разработал свое учение о Софии, оказавшее
большое воздействие на последующую русскую
религиозно-философскую мысль и поэзию символистов. В его отношении к Софии был
еще и личностно-мистический аспект. Выше уже шла речь о видении
Софии философу в ноябре 1875 г. в Египте. Под впечатлением этого
видения он написал в Каире такие строки:
Вся в лазури сегодня явилась
Предо мною царица моя, -
Сердце сладким восторгом забилось,
И в лучах восходящего дня
Тихим светом душа засветилась,
А вдали, догорая, дымилось
Злое пламя земного огня.
Уже в Библии Премудрость Божия выступает как женское
начало. И для Вд. Соловьева София - воплощение Вечной
Женственности, «один лишь образ женской красоты», но в то же время и «как
первое сиянье / Всемирного и творческого дня»1.
Соловьевская София - «осуществленная идея», «тело Божие,
материя Божества, проникнутая началом божественного единства».
София в таком понимании входит в Христа, осуществляющего это
«божественное единство» как «цельный божественный организм -
универсальный и индивидуальный вместе» (1989, И, 108). И так же,
как Христос, объединяющий в себе Божественное и человеческое,
София, по Соловьеву, образует «организм всечеловеческий, как
вечное тело Божие и вечная душа мира» (1989, II, 119).
В «Чтениях о Богочеловечестве» философ усматривает в человеке
два начала: «стихии материального бытия, связывающие его с миром
природным», а также «идеальное сознание всеединства, связывающее
его с Богом». Притом человек есть «свободное «я», могущее так или
иначе определять себя по отношению к двум сторонам своего
существа, могущее склониться к той или другой стороне, утвердить себя в
той или другой сфере» (1989, II, 140). Человечество может быть и зве-
рочеловечествам и богочеловечеством. Исторический процесс и
представляет собой долгий и трудный переход от первого ко второму (см. I,
257). Этот «исторический процесс человечества» есть «освобождение
человеческого самосознания и постепенное одухотворение человека
чрез внутреннее усвоение и развитие божественного начала» (1989, II,
1 Соловьев Вл. «Неподвижно лишь солнце любви...». Стихотворения.
Проза. Письма. Воспоминания современников. М, 1990. С. 22-23.
186
145). По словам Соловьева, «София есть идеальное, совершенное
человечество, вечно заключающееся в цельном божественном существе,
или Христе» (1989, И, 113-114).
София, таким образом, олицетворяет Богочеловечество -
человечество в целом, как «организм всечеловеческий». В «Идеи
человечества у Августа Конта» (1898) русский философ высоко оценивает
мысль французского философа-позитивиста о Человечестве как
«Великом Существе», «живом действительном существе», а не просто
как «отвлеченном понятии» или «эмпирическом агрегате» (II, 577).
Соловьев полагает, что идея Человечества как «Великого Существа»
родственна его пониманию Софии, трактуемой как «само истинное,
чистое и полное человечество, высшая и всеобъемлющая форма и
живая душа природы и вселенной, вечно соединенная и во
временном процессе соединяющаяся с Божеством и соединяющая с Ним
все, что есть» (там же).
Ключевая для всей философии Соловьева мысль о едином
Человечестве как Софии, т. е. как высшей мудрости Вселенной, актуальна
и в наши дни. Ведь от того, насколько человечество осознает свое
единство и целостность, зависит само его существование перед
лицом грозящих ему военных и экологических катастроф. Обратим
внимание и на то, что русский философ саму идею Человечества в
качестве «Великого Существа» рассматривает как «зерно великой
истины» (II, 562), несмотря на то что эта идея определяется как
предмет «позитивной веры» в чуждой Соловьеву нехристианской
«религии человечества», изобретенной «безбожником и нехристем» Кон-
том. Для Соловьева «зерно великой истины» важнее, чем та
идеологическая оболочка, в которой оно заключено. И в этом также состоит
значение философии всеединства замечательного русского
мыслителя, способной объединить вокруг идеи всеединого Человечества
людей различных философских убеждений и верований.
Являясь важнейшим выражением соловьевского принципа
всеединства, Человечество как Богочеловечество, как «Великое
Существо не есть пустая форма, а всеобъемлющая богочеловеческая
полнота духовно-телесной, божественно-творной жизни, открывшейся
нам в христианстве» (II, 578). Соловьевский принцип всеединства,
таким образом, проявляется и в утверждении единства духовного и
телесного, утверждении, пронизывающем всю философию
Соловьева. В стихотворении 1875 г. он писал:
И под личиной вещества бесстрастной
Везде огонь божественный горит1.
А. Ф. Лосев усматривает специфику «софийного идеализма»
Соловьева в том, что его «общее учение о всеединстве как основной
1 Соловьев Вл. «Неподвижно лишь солнце любви...». С. 22.
187
субстанции бытия» максимально возможно сближает духовное и
материальное, и в этом смысле - идеализм и материализм1. Русский
философ с явной симпатией относится к тому материализму,
который он называет «материализмом религиозным», или «священным
материализмом», не отделяющим «материю от ее духовного и
божественного начала» (1989,1, 219, 220).
Этика и эстетика
Философия всеединства обосновывает как само объективное
существование абсолютного блага, истины и красоты, так и единство
их между собой: «Если в нравственной области (для воли)
всеединство есть абсолютное благо, если в области познавательной (для
ума) оно есть абсолютная истина, то осуществление всеединства
во внешней действительности, его реализация или воплощение в
области чувствуемого, материального бытия есть абсолютная
красота» (I, 745). Соловьев в утверждении единства Добра, Истины и
Красоты следует за Достоевским, который в своих убеждениях
«никогда не отделял истину от добра и красоты», а «в своем
художественном творчестве он никогда не ставил красоту отдельно от
добра и истины» (II, 305).
Этика, или нравственная философия, Вл. Соловьева
основывается на понятии и идее Добра. Не случайно его итоговый труд по этике
назван «Оправдание добра» (1894-1897). По убеждению философа,
«внутренними свойствами добра определяется жизненная задача
человека; ее нравственный смысл состоит в служении Добру чистому,
всестороннему и всесильному» (I, 97). Добро - безусловное
содержание человека, который «в своем разуме и совести» предстает «как
безусловная внутренняя форма для Добра» (I, 49).
Но что есть Добро? Отвечая на этот коренной вопрос этики,
Соловьев настаивает на том, что «добро само по себе ничем не
обусловлено, оно все собою обусловливает и через все осуществляется» (I,
96). Поэтому он отвергает претензии философской метафизики и
богословия решать проблемы нравственной философии. Соловьев
убежден в том, что «нравственная философия не зависит всецело от
положительной религии», ибо «при существовании многих религий
и вероисповеданий споры между ними предполагают общую
нравственную почву <...> и, следовательно, нравственные нормы, на
которые одинаково ссылаются спорящие стороны, не могут зависеть
от их религиозных и вероисповедных различий» (I, 49).
Автор «Оправдания добра» не приемлет трактовку добра как
данного свыше и осуществленного «в непреложных жизненных формах
(семьи, отечества, церкви)», требующего «от человека лишь покор-
1 См.: Лосев А. Ф. Вл. Соловьев. С. 208-212; Он же. Владимир Соловьев и
его время. С. 257-258.
188
ного принятия, без всяких рассуждений». Но он также отвергает
«моральный аморфизм», утверждающий, что «добро существует лишь в
субъективных душевных состояниях каждого отдельного человека»
(I, 48-49).
В чем же искать истоки Добра, которое само есть «всеединство,
поскольку оно все собою обусловливает»? Соловьев стремится
прежде всего обнаружить их в самой человеческой природе, в том, чем
человек отличается от животного. Декарт усматривал это отличие в том,
что человек мыслит, утверждая: «Я мыслю, следовательно,
существую». Русский философ стремится найти нравственное отличие
человека от животного и видит его в способности испытывать стыд: «я
стыжусь, следовательно, существую, не физически только существую,
но и нравственно, - я стыжусь своей животности, следовательно, я
еще существую как человек» (I, 124). Совесть есть не что иное, «как
видоизменение стыда в отчетливой и обобщенной форме» (I, 52).
Помимо стыда, выделяющего человека из мира животных,
нравственные отношения предполагают жалость, связывающую его «со
всем миром живущих», «солидарность с живыми существами», а
также благоговение, выражающее подчинение человека
«сверхчеловеческому началу» (I, 53, 52). Это «чувство благоговения, или
благочестия, выражающее должное отношение человека к высшему
началу», и составляет «индивидуально-душевный корень религии» (1,52).
Таким образом, в нравственности содержится религиозное начало.
Истоком его является любовь к родителям, возвышающаяся от
почитания матери, отца, предка до любви к «единому всемирному Отцу
Небесному» (I, 55).
Соловьев не основывает нравственность на религии, за что его
нередко порицали. Его логика в этом отношении отчасти подобна
логике Канта, который также трактовал нравственность как
автономную, независимую от религии сферу, но сам факт существования
нравственного закона считал доказательством существования Бога и
бессмертия души. Соловьев солидарен с Кантом в том, что
«нравственность действительно самозаконна» (I, 244), между тем в самих
нравственных отношениях он усматривает начало религиозного
сознания, но не обоснование бытия самого Бога.
По убеждению Соловьева, «Бог и душа суть не постулаты
нравственного закона, а прямые образующие силы нравственной
действительности» (1,244—245). Само добро идет от Бога, и, как таковое, оно
является «совершенным сверхчеловеческим Добром» (I, 245). Чем
же обосновывается существование этого «совершенного
сверхчеловеческого Добра» в далеко несовершенном мире действительных
нравственных отношений людей? «Действительность
сверхчеловеческого Добра», по Соловьеву, доказывается нравственным
прогрессом человечества - «нравственным ростом человечества», тем, что
«мера добра в человечестве вообще возрастает» (I, 61, 245).
189
Нравственная философия занимает особое место в философской
системе русского мыслителя. Она пронизывает и его метафизику
всеединства, немыслимую без всеединства Добра, и его теорию
познания, предполагающую добросовестное искание Истины. Она
пронизывает и его историософию, характеризующую человеческую
историю как переход от зверочеловечества к Богочеловечству и
утверждающую нравственный прогресс человечества, выступающего «как
целый субъект нравственной организации» (I, 76). И в правовых, и в
социально-политических воззрениях Соловьева нравственный аспект
составляет существенный элемент понимания и оценки. По его
определению, «право есть низший предел или определенный минимум
нравственности» (I, 448). Нравственно осуждая индивидуализм и
эгоизм, философ вместе с тем подчеркивает нравственное значение
человеческой личности, которая «ни при каких условиях и ни по
какой причине не может рассматриваться как только средство или
орудие - ни для блага другого лица, ни для блага известной группы лиц,
ни для так называемого «общего блага» (I, 68).
И в «Оправдании добра», и в своих многочисленных работах по
национальному вопросу Соловьев рассматривает этот вопрос с
нравственной точки зрения. Порицая всякий индивидуализм и эгоизм,
философ подчеркивает «нравственную несостоятельность»
национализма как «народного эгоизма» (I, 360), называемого им «ложным
патриотизмом», поддерживающим «преобладание звериных инстинктов
в народе над высшим национальным самосознанием» (I, 377).
Космополитизм, «требующий безусловного применения нравственного
закона без всякого отношения к национальным различиям», прав в
своем противостоянии «ложному патриотизму или национализму»
(там же). Однако эта правота односторонняя, правота отрицания
другой крайности, ибо сам космополитизм требует «безнародности»,
которую философ соотносит с «безличностью» (I, 366). Отстаивая
диалектику христианского универсализма, Соловьев с уважением
воспринимает «национальные различия» и считает психологически
естественной любовь к своему народу, но утверждает «этическое
равенство» всех народов, выраженное в сформулированном им
принципе: «Люби все другие народы, как свой собственный» (I, 378-379).
Этика Вл. Соловьева теснейшим образом связана с его эстетикой,
ибо для него подлинная Красота неразрывно связана с Добром, как и с
Истиной. Это, конечно, не означает, что красота и добро - одно и то же.
Красота - это не просто ипостась идеи всеединства. В статье Соловьева
«Красота в природе» (1889) отмечается, что «в красоте, как в одной из
определенных фаз триединой идеи, необходимо различать общую
идеальную сущность и специальнс-эстетическую форму. Только эта
последняя отличает красоту от добра и истины, тогда как идеальная сущность
у них одна и та же - достойное бытие или положительное всеединство,
простор частного бытия в единстве всеобщего» (П, 362).
190
Красота - это «преображение материи через воплощение в ней
другого, сверхматериального начала» (II, 358). А в письме к поэту
А. Фету Соловьев определял красоту как «духовную телесность».
(П, 774).
То, что красота есть «воплощенная идея»(И, 361), он показывает
на примере красоты алмаза. Почему алмаз, по своему химическому
составу не отличающийся от обыкновенного угля, красив? Потому что
в нем осуществляется неслиянное и нераздельное соединение
вещества и света, и он выступает как «одна светоносная материя и
воплощенный свет - просветленный уголь и окаменевшая радуга» (II, 358).
Понимание Соловьевым красоты как «воплощенной идеи»,
конечно, является идеалистическим, имеющим свою философскую
традицию от Платона до Гегеля. Но та особенность философии
Соловьева, которая заключается в утверждении единства материального и
духовного, отчетливо проявляется в его эстетике. Характеризуя
гуманизм Достоевского, Соловьев подчеркивал его свободу «от
всякого одностороннего идеализма или спиритуализма», тесную связь
человека в его понимании «с материальной природой»: «Достоевский
с глубокой любовью и нежностью обращался к природе, понимал и
любил землю и все земное, верил в чистоту, святость и красоту
материи. В таком материализме нет ничего ложного и греховного» (II,
314). Поэтому не приходится удивляться, что идеалист Соловьев
солидаризуется с материалистом Чернышевским в том, что «красота в
природе имеет объективную реальность» (II, 555).
Соловьев неустанно подчеркивал, что красота материального мира
должна сопрягаться с миром духовным, с добром, так как «красота
нужна для исполнения добра в материальном мире, ибо только ею
просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира» (П, 392).
Единство Красоты с Добром и Истиной и есть основание для
утверждения, что «красота спасет мир» (II, 306). Эту крылатую формулу
Достоевского Соловьев полностью принимает и даже делает эпиграфом
к статье «Красота природы».
Вот почему Соловьев резко отрицательно относится к
бездуховной красоте, культивируемой некоторыми течениями искусства и
мыслителями в конце XIX в. Он критикует взгляд «талантливого и
злополучного Ницше» (1,87) и его сторонников, «взгляд, признающий в
жизни смысл, но исключительно эстетический, выражающийся в том, что
сильно, величаво, красиво - безотносительно к нравственному добру»
(1,48). В статье «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (1899)
характеризуется как «фальсификация красоты» отъединение красоты
от добра и истины в так называемой «новой красоте», что фактически
означает подчинение этой «красоты» злу и лжи1.
1 См.: Соловьев Вл. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика.
С. 399-400.
191
Если в мире существует объективная Красота, внутренне
сопряженная с Добром и Истиной, зачем нужно искусство,
художественное творчество? На этот вопрос Вл. Соловьев стремился ответить
еще в своей докторской диссертации «Критика отвлеченных начал»
(1880). Да, существуют абсолютное благо, абсолютная истина и
абсолютная красота как тройственное выражение всеединства.
Однако, увы, «эта реализация всеединства еще не дана в нашей
действительности, в мире человеческом и природном». Но эта реализация
всеединства уже совершается, и совершается нами, людьми. «Она
является задачею для человечества, и исполнение ее есть
искусство», вводящее «все существующее в форму красоты» (I, 745). В
статье «Общий смысл искусства» (1890) определяется троякая задача
искусства: «1) прямая объективация тех глубочайших внутренних
определений и качеств живой идеи, которые не могут быть
выражены природой; 2) одухотворение природной красоты и чрез это 3)
увековечение ее индивидуальных явлений» (II, 398). Выступая как
«вдохновенное пророчество» (II, 399), «совершенное искусство в своей
окончательной задаче должно воплотить абсолютный идеал не в
одном воображении, айв самом деле, - должно одухотворить, пресу-
ществить нашу действительную жизнь» (II, 404).
* * *
Философия Вл. Соловьева и его личность оказали большое
воздействие на развитие русской религиозно-философской мысли
конца XIX - начала XX в. Это воздействие шло по разным
направлениям. Его учение о Софии оказало влияние на отечественную софиоло-
гию (С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, В. Н. Ильин, Л. П. Карсавин
и др.), на поэзию и эстетику русского символизма. Но особое
значение для последующего развития философской мысли в России
имела центральная идея Соловьева - идея всеединства. Эта идея легла в
основу «философии всеединства», которую разделяли и
разрабатывали не только так называемые софиологи, но и такие мыслители,
как С. Л. Франк, Н. О. Лосский, С. Н. Трубецкой, Е. Н. Трубецкой,
Л. М. Лопатин, В. Ф. Эрн, А. Ф. Лосев и др. Христианская
метафизика Соловьева - его концепция божественного, положительного,
истинного всеединства - обретает большую актуальность в наши дни,
чем историософический пласт его сочинений, связанный с
теократической утопией (в которой разочаровался и сам философ) и
мрачными прогнозами последнего периода его жизни1.
В 1894 г. Соловьев четко сформулировал следующий
ценностный критерий, по которому можно судить о всякой идее, всяком чув-
1 См.: Рашковский Е. Б. Современное мирознание и философская традиция
России: о сегодняшнем прочтении трудов Вл. Соловьева // Вопросы
философии. 1997. №6. С. 92-106.
192
стве и всяком человеческом деле: «Согласно ли оно с идеалом
всеобщей солидарности или противоречит ему, направлено ли оно к
осуществлению истинного всеединства или противодействует ему». И
тут же он определяет само понятие «истинного всеединства»: «Я
называю истинным, или положительным, всеединством такое, в
котором единое существует не за счет всех или в ущерб им, а в пользу
всех. Ложное, отрицательное единство подавляет или поглощает
входящие в него элементы и само оказывается, таким образом,
пустотою; истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы,
осуществляясь в них как полнота бытия» (II, 552). Многие мысли и
положения мировоззрения и деятельности Вл. Соловьева сохраняют
свою значимость как конкретизация диалектики всеединства, в
равной мере чуждой тоталитарному единству, исключающему
самостоятельность и свободу входящих в него элементов, а также не
приемлющей анархическую свободу-произвол этих элементов
Соловьев утверждает принципы христианского гуманизма как
«истинного гуманизма». Истинным гуманистом он считает
Достоевского, защищая его от обвинений К. Н. Леонтьева в «отвлеченном
гуманизме». По словам Соловьева, «гуманизм Достоевского
утверждался на мистической, сверхчеловеческой основе истинного
христианства» (И, 320). В речи о Достоевском 19 февраля 1883 г. философ
отмечал, что «гуманизм есть вера в человека». Человеческое же зло,
немощи, извращенная природа - не предмет веры, а печальные
факты жизни. «Верить в человека - значит признавать в нем ту силу и ту
свободу, которая связывает его с Божеством» (II, 314). Отвечая
Леонтьеву, Соловьев подчеркивал, что «Достоевский верил в человека и в
человечество только потому, что он верил в богочеловека и в богоче-
ловечество...» (II, 321). Гуманизм Соловьева и состоит в том, что для
него богочеловек и богочеловечество есть в то же время и
богочеловек и богочеловечество, т. е. идеал человека и человечества.
Христианский гуманизм в таком его осмыслении созвучен
гуманистическому миропониманию и в иных философских интерпретациях,
гуманистическому миропониманию, столь важному для современного
человечества.
Соловьев был сторонником объединения православия и
католицизма и вообще всех христианских церквей. Центральная идея,
вытекающая из его философии всеединства, - идея Богочеловечества -
представляет собой оправдание человечества, утверждает единство
человечества, не разрываемое национальным эгоизмом,
противопоставлением Запада и Востока. Он подвергает критике
социологические концепции Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского — автора книги
«Россия и Европа», считавшего «человечество за пустую абстракцию» и
дробившего его на чуждые друг другу цивилизации - «культурно-
исторические типы», утверждая при этом непримиримую
враждебность между Россией и Европой (см. II, 408-414).
7-99
193
Судьба России была предметом постоянного внимания
Соловьева. Само понятие «русская идея», наполнявшееся впоследствии
различным смыслом, было выдвинуто Достоевским и Соловьевым. Для
него «русская идея» - это конкретизация философии всеединства по
отношению к России: его Родина должна быть свободной от
национального эгоизма, для того чтобы осуществлять «светлый и
благотворный христианский идеал всеобщей солидарности и свободного
развития всех живых сил человечества», проводить в жизнь народа
«единственно твердые и единственно плодотворные начала
общечеловеческого просвещения и вселенской правды» (1989,1, 623).'
VIII
РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА
В ТРУДАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ В. С. СОЛОВЬЕВА
Конец XIX - начало XX в. в истории русской религиозной
философской мысли характеризуется как философско-религиозный
Ренессанс, у истоков которого стояли Достоевский и Вл. Соловьев. На
позиции идеалистической философии в начале XX в. перешел ряд
мыслителей, разделявших марксистские воззрения в духе «легального
марксизма». Это Петр Бернгардович Струве (1870-1944), один из
составителей манифеста РСДРП. Это Сергей Николаевич Булгаков,
Николай Александрович Бердяев и Семен Людвигович Франк, об
эволюции мировоззрения которых у нас пойдет речь в дальнейшем.
В конце 1902 г. вышел сборник «Проблемы идеализма»,
объединивший на основе идеалистической философии бывших «легальных
марксистов» - П. Б. Струве, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, С. Л.
Франка - с такими последовательными сторонниками
идеалистического миропонимания, как П. И. Новгородцев, С. Н. Трубецкой, Е. Н.
Трубецкой и др.
В ответ на «Проблемы идеализма» в 1904 г. был издан сборник
«Очерки реалистического мировоззрения», в котором принимали
участие мыслители, считающие себя приверженцами социализма и
ставшие членами большевистской фракции российской
социал-демократии, в том числе А. В. Луначарский и А. А. Богданов.
В среде марксистских литераторов (М. Горький, А. В.
Луначарский) стали развиваться идеи богостроительства, рассматривающие
социализм как «новую религию без Бога», а самого Бога как
«человечество в высшей потенции». Сторонники богостроительства
противопоставляли себя религиозно-философскому течению
богоискательства, «нового религиозного сознания», которые в лице Д. С.
Мережковского, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, В. В. Розанова и др.
стремились обновить ценности православного христианства. Но с
точки зрения последовательного марксистского мировоззрения
богостроительство было столь же неприемлемо, как и
богоискательство, а марксизм несовместим ни с какими философскими
дополнениями, будь то кантианство, ницшеанство или эмпириокритицизм.
Вместе с тем показательно, что такие «дополнения» пытались делать
некоторые сторонники марксизма, которых подверг резкой критике
В. И. Ленин, выпустивший в 1909 г. под псевдонимом Вл. Ильин книгу
«Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной
7*
195
реакционной философии». Поводом для написания этой книги
послужил сборник «Очерки по философии марксизма» (1908),
рассматриваемый Лениным как «Очерки против философии
марксизма». В этом сборнике выступали Богданов, Луначарский и другие
теоретики, считавшие себя марксистами, но полагавшие, что
философия марксизма требует обновления и дополнения новейшей
философской мыслью.
Причиной такого обращения к религии и идеализму стало
кризисное состояние российского общества, а также осознание
консервативной и либеральной интеллигенцией неприемлемости для нее ни
существующего в самодержавной империи порядка вещей, ни путей
революционного переустройства общества после поражения первой
русской революции 1905-1907 гг. Реакцией на ценности русской
интеллигенции прежних лет, которая была ориентирована на
освободительное движение, революционные и социалистические идеалы и на
материалистическое мировоззрение, был сборник «Вехи. Сборник статей
о русской интеллигенции». «Вехи» были, по убеждению их
создателей, размышлением об идеалах русской интеллигенции в свете опыта
первой русской революции и предостережением о грядущей
опасности для судьбы России господствовавших в интеллигентских кругах
революционных и материалистических умонастроений.
Опыт Октябрьской революции 1917 г. веховцы пытались
осмыслить в книге «Из глубины. Сборник статей о русской революции».
П. Б. Струве писал в предисловии, что всем его авторам «одинаково
присуще и дорого убеждение, что положительные начала
общественной жизни укоренены в глубинах религиозного сознания и что
разрыв этой коренной связи есть несчастие и преступление»1. В начале
20-х гг. большинство представителей русской
религиозно-идеалистической философии вынуждены были покинуть родину, но
продолжали активную творческую деятельность в эмиграции.
Далее в этом очерке речь пойдет о философии, развивавшейся
непосредственно под воздействием философских идей Вл. Соловьева.
С. Н. Трубецкой
Философия Вл. Соловьева нашла прямой отклик и была в
определенной мере преломлена во взглядах князей Трубецких, Сергея и
Евгения, ставших с 1886 г. его близкими друзьями2. Сергей
Николаевич Трубецкой (1862-1905) в гимназические годы, подобно Вл.
Соловьеву, пережил свой «нигилистический» период, увлекаясь
идеями Белинского, Дарвина, позитивизмом Конта и Спенсера. Но уже
1 Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 209.
2 Вл. Соловьев скончался буквально на руках С. Н. Трубецкого. См.:
Трубецкой С. К Смерть В. С. Соловьева // Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991.
196
18-летним юношей он, основательно изучавший историю
философии, знакомится с трудами Хомякова, Достоевского и Вл. Соловьева
и под их влиянием разрабатывает свою метафизическую
философскую систему.
Уже первый замысел магистерской диссертации С. Н.
Трубецкого - «О Церкви и Св. Софии» - был несомненно навеян учением
Вл. Соловьева. Но от первоначального замысла пришлось отказаться,
несмотря на большую предварительную работу. Этот отказ был связан
с невозможностью защиты диссертации на эту тему в Московском
университете. Однако изменение темы диссертации было обусловлено,
вероятно, и тем, что молодой философ, судя по его последующим
работам, не придавал Софии такое значение в своей метафизической
системе, как его друг Вл. Соловьев. Трубецкой напряженно занимается
историей античной философии и в 1890 г. защищает магистерскую
диссертацию «Метафизика в Древней Греции», тепло встреченную
Соловьевым. Ему была близка мысль Трубецкого о влиянии мифологии и
религии на становление философской метафизики. Свою репутацию
выдающегося знатока истории философской мысли Трубецкой
подтверждает и своей докторской диссертацией «Учение о Логосе в
его истории», защищенной в 1900 г. Свои собственные философские
воззрения он определяет в работах «О природе человеческого
сознания» (1889-1891) и «Основания идеализма» (1896).
Что же представляет собой философская система С. Н.
Трубецкого, названная им самим «конкретным идеализмом»? Философ не
приемлет субъективный идеализм, по которому не существует ничего,
кроме сознания субъекта. Он убежден в том, что «есть и абсолютное,
вселенское сознание», а следовательно, есть и «абсолютные идеи,
вселенские идеалы, независимые от субъективного сознания
отдельных лиц. Если есть сознание абсолютное, которое ведает все, объем-
лет полноту истины, добра и красоты, то, очевидно, оно должно
обосновывать всякое индивидуальное сознание, устроять и нормировать
его во всякой его истинной деятельности, познавании, творчестве»1.
Таким образом, философское миропонимание Трубецкого
является объективно-идеалистическим. Однако его «конкретный
идеализм» отличается от других видов объективного идеализма,
именуемых им «отвлеченным идеализмом» немецких философов - Канта,
Фихте, Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра и Э. Гартмана. Недостатком
«отвлеченного идеализма», с его точки зрения, является сведение
всего сущего «к логической идее», как у Гегеля (621), или к каким-
либо иным «отвлеченным понятиям» (623), ибо «реальная
действительность отличается от понятия не одним только «неумышленным»
иррациональным бытием. Она отличается от него своею чувствен-
1 Трубецкой С. Н. Соч. М., 1994. С. 518. Все последующие ссылки на это
издание даются в тексте.
197
ностью и своею конкретной индивидуальностью» (627). По
убеждению Трубецкого, «системы отвлеченного идеализма прямо
исключают возможность самостоятельного изучения души» (521).
Критикуя идеализм в форме субъективно-идеалистического
эмпиризма, гегелевского рационализма и мистицизма (индийская мистика
и Шопенгауэр), «конкретный идеализм» Трубецкого утверждает
Абсолютное, давая «конкретное определение абсолютного». Абсолютное -
«начало и основание всего сущего». Но его конкретное определение
«указывает нам действительный мост от абсолютного к
относительному, - показывает в абсолютном истинное всеединство,
обуславливающее конкретную соотносительность сущего» (710). Такое
конкретное понимание Абсолютного «соответствует вере в личного Бога» и
«нравственной идее Бога, как бесконечной любви» (717).
Это миропонимание, усматривающее «в абсолютном истинное
всеединство», предполагало признание конкретного единства
познавательных способностей (см. 691). Как и Вл. Соловьев, С. Н.
Трубецкой против абсолютизации какой-либо одной духовной способности
человека, подчеркивая единство и целостность духовного мира,
включающего нераздельно и чувства, и разум, и волю, и веру. Притом вера
осмысляется им и как «религиозная вера» - «вера в религиозном
культе», вера в духов, богов (662), и как «признание реальности внешних
явлений» (651 ), как «убеждение в реальности других субъектов» (661).
«Вера при чисто психологическом анализе ее окажется
познавательною функцией воли», - полагает Трубецкой (654).
Исходя из диалектики индивидуального и общего, человеческое
сознание он рассматривает как «соборное сознание». Что означает это
сознание, которое философ, обращаясь к термину Хомякова, именует
«соборным»? «Если сознание человека по существу своему соборно,
если оно есть возможное сознание всех в одном, то и его субъективное
я может обладать всеобщим, объективным бытием в этом соборном
сознании; его самосознание получает объективную вселенскую
достоверность» - читаем мы в труде Трубецкого «О природе человеческого
сознания» (577). И там же: «Сознание не может быть ни безличным,
ни единоличным, ибо оно более чем лично, будучи соборным. Истина,
добро и красота сознаются объективно, осуществляются постепенно
лишь в этом живом, соборном сознании человечества» (498).
«Признание соборности сознания» Трубецкой называет
метафизическим социализмом (577). В работе «Основания идеализма»
этому термину философ придает и онтологическое, бытийное
содержание как идеальное «универсальное соотношение» между
различными элементами реального бытия. Он писал: «Мы приходим к теории
метафизического социализма, если не хотим отказаться от
реалистической гипотезы и отрицать реальную основу явлений» (700).
Концепция соборности человеческого сознания - основа
этических воззрений С. Н. Трубецкого, которые он не успел теорети-
198
чески обосновать, но реализовывал их в своей академической,
публицистической и общественной деятельности. Он выступал против
консервативных общественно-политических воззрений К. Н.
Леонтьева, однако не разделял и взгляды левых радикалов. Его
христианский гуманизм соловьевского типа выражался в деятельном
участии в либеральном движении за гражданские свободы в
конституционной монархии и за автономию университетов. Он стал первым
избранным ректором Московского университета, но через 27 дней
своего ректорства в возрасте 43 лет скончался 29 сентября (по
старому стилю) 1905 г. от апоплексического удара. Хотя Трубецкой не
осуществил многих своих философских замыслов, он вошел в
историю русской мысли и своими глубокими трудами по истории
философии, теории познания и сознания, и как сотрудник и
редактор первого в стране философского журнала «Вопросы философии
и психологии».
Е. Н. Трубецкой
Младший брат С. Н. Трубецкого - Евгений Николаевич Трубецкой
(1863-1920) был многосторонней личностью. Он был и видным
юристом, и активным общественно-политическим деятелем, и
талантливым публицистом, и философом, стремившимся продолжить
философские традиции Вл. Соловьева, с которым его связывала
многолетняя дружба. В своем духовном развитии Е. Н. Трубецкой прошел
те же ступени, что и его брат Сергей. В гимназические годы он был
также увлечен английским позитивизмом, Белинским,
Добролюбовым, Писаревым и настроен атеистически. Изучение истории
философии еще в гимназии освободило его от позитивистских догм, но
первоначально привело к скептицизму. Под влиянием Шопенгауэра
юноша почувствовал интерес к религиозной проблематике. Чтение
Достоевского, А. С. Хомякова и «Критики отвлеченных начал» Вл.
Соловьева углубило этот интерес, а впечатление от Девятой
симфонии Бетховена дало ему тот мистический опыт, который привел его к
религиозной вере. При этом он был эстетически одаренным
человеком. По словам его сына, С. Е. Трубецкого, у Е. Н. Трубецкого «была
очень талантливая, художественная природа». Красота в природе и в
искусстве, во всех ее формах и проявлениях, воспринималась им с
удивительной чуткостью. Поэтому и его философия - «насквозь
религиозная - вся была проникнута также и эстетикой»1. Это
проявлялось и в самом изящном стиле публицистических и философских
работ Е. Трубецкого, а также в его трудах, специально посвященных
русской иконописи («Умозрение в красках», 1915; «Два мира в
древнерусской иконописи», 1916; «Россия в ее иконе», 1918).
Трубецкой С. Е. Минувшее. М., 1991. С. 45.
199
Оба брата, Сергей и Евгений, поступили в 1881 г. на юридический
факультет Московского университета, но если Сергей перешел на
филологический факультет, то Евгений получил полное юридическое
образование и стал преподавателем ярославского юридического
лицея (1886 - 1897). Но интерес к философии его никогда не оставлял,
особенно после личного знакомства в 1887 г. с Вл. Соловьевым. Е.
Трубецкой в 1892 г. защитил магистерскую диссертацию, а в 1897 г.
диссертацию докторскую, посвященные исследованию
религиозно-общественных идеалов западного христианства V и VII вв., получив
соответственно степень магистра и доктора философии. С 1897 г. он -
профессор Университета св. Владимира в Киеве, а с 1905 г., после смерти
брата, возглавил кафедру философии Московского университета.
Е. Трубецкой вел большую общественную деятельность как
собственно в философской области (он был в числе организаторов и
руководителей Психологического общества при Московском
университете, Религиозно-философского общества им. Владимира
Соловьева, одним из основателей издательства «Путь», выпускавшего
философско-религиозную литературу), так и в сфере политики. Он -
один из создателей партии кадетов, а выйдя из нее - «Союза мирного
обновления» и его издания «Московского еженедельника»; в 1916—
1917 гг. он становится членом Государственного Совета; в 1917-1918 гг.
активно участвует в церковном Соборе, а во время Гражданской
войны - в белогвардейском движении. В январе 1920 г. Е. Трубецкой
умер от сыпного тифа в Новороссийске.
Е. Трубецкой писал как по правовым, так и по философским
проблемам. Помимо своих диссертаций он - автор «Энциклопедии
права», выдержавшей с 1909 до 1919 г. пять изданий, «Истории
философии права» (1907), критического очерка о философии Ницше (1904),
khhfh «Социальная утопия Платона» (1908). Но первым наиболее
значительным его философским трудом является двухтомная
монография «Миросозерцание В л. С. Соловьева» (1913). Этот труд до сих
пор не утратил своего историко-философского значения как
детальная характеристика различных сторон учения великого русского
философа. Однако он представляет интерес и для выяснения
философских воззрений самого автора.
Отвечая на критику своей книги философом Л. М. Лопатиным,
который был также близким другом Вл. Соловьева, Е. Трубецкой
заявил: «Своих философских воззрений, безусловно отдельных от
Соловьева, я не имею». Правда, при этом он отмечает определенные
различия, существующие между ним и Вл. Соловьевым «на основе
общих нам, тождественных принципов»1. Вместе с тем Трубецкой в
своей монографии критикует ряд положений учения своего друга и
1 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. М, 1995. Т. 2. С. 474.
Далее ссылки на это издание приводятся в тексте указанием в скобках
римскими цифрами на том и арабскими - на страницу.
200
претендует на его переработку и продолжение во имя, как он
считает, целостности православно-христианской последовательности
этого учения. По его словам, «те поправки, которые мы вносим в это
учение, должны рассматриваться не как отступление от него, а как
дальнейший процесс его развития» (I, 402).
В чем же заключается несогласие Е. Трубецкого с Вл.
Соловьевым и, следовательно, состоит своеобразие философско-религиозных
взглядов первого? Заметим, что и при жизни Соловьева между ним и
Е. Трубецким нередко возникали разногласия. Даже их личное
знакомство в доме Лопатина началось с острого спора об отношении
православия к католицизму и папству1. Неудивительно поэтому, что
Е. Трубецкой не приемлет теократическую идею Соловьева как
неосуществимую «в рамках здешнего, земного» (I, 557), хотя
совершенно согласен с ним в том, что «Бог должен стать всем во всем и
что идея царствия Божия должна господствовать над всей
человеческой жизнью, как личной, так и общественной» (I, 548). Впрочем,
ведь и сам Соловьев отказался от своей теократической утопии.
Критикует Е. Трубецкой и утопизм любовной романтики своего друга.
Половая любовь, в трактовке Вл. Соловьева, по мнению его критика,
«для неба» «оказывается отношением слишком земным: зато для
земли она, наоборот, слишком небесна» (I, 587).
Будучи политиком, Е. Трубецкой в ряде случаев стремится
«заземлить» Соловьева, освободить его учение от излишнего
мистицизма, но, с другой стороны, он не приемлет все то, что, по его мнению,
не соответствует христианско-православной ортодоксии. Это,
прежде всего, относится к пантеистическим тенденциям соловьевской
философии.
Пантеизм стремится отождествить Бога с миром, представить мир
как Бога или Бога как мир. Пантеизм противоречит библейскому
пониманию мира как творения Бога, отличного от Творца, который не
несет ответственности за зло, совершающееся в мире, поскольку твар-
ный мир наделен им свободой. По словам Трубецкого, «как только
мы признаем, что мир сотворен в свободе, т. е. вне божественной
сущности», «тогда станет ясным, что мир имеет собственную,
отдельную от Божества природу и что все ограничения, свойственные
бытию несовершенному, становящемуся, суть определения этой
природы, а не Божественной природы в части или в целом» (1,401). Этим,
по его мнению, и объясняются видимые противоречия религиозного
чувства: «...Всякое религиозное сознание предполагает, что нет
ничего действительного, что бы не имело отношения к Богу, что Бог
участвует во всем. Одним словом, вера в Бога как Абсолютное
непременно предполагает, что Он находится к нам в двояком отноше-
1 См.: Трубецкой Е. Н. Знакомство с Соловьевым // Книга о Владимире
Соловьеве. С. 263-265.
201
нии. Он одновременно и бесконечно далек от нас и бесконечно к нам
близок, бесконечно возвышен над нами и вместе с тем живет в нас,
участвует в наших радостях и муках, страдает с нами и за нас и
побеждает наши страдания, претворяя их в блаженство» (там же).
Соответствуют ли упреки Е. Трубецкого в адрес Вл. Соловьева
действительности, это вопрос особый1, но для нас сейчас представляет
интерес позиция самого критика, и она выражена им достаточно четко
с православно-христианских позиций. Е. Трубецкой, по его
признанию, перенимает учение Соловьева об «Абсолютном как Всеедином»
(II, 474). Особо высоко он оценивает «идею Богочеловечества», в
которой для него «сплетаются воедино все нити мысли Соловьева» (II,
520). Что касается соловьевского учения о Софии, то оно
«выпрямляется» им до неузнавания. Как пишет А. Ф. Лосев, «согласно Е. Н.
Трубецкому, учение о Софии не как об одном из бесчисленных
предикатов Божества, но как о реальном существе, отдельном от Бога, есть
хула и на Бога и на всю свободную тварь. Лучше поэтому совсем не
вводить учение о Софии в философию и богословие, а ограничиться
только традиционным учением о том, что Бог среди своих бесконечно
разнообразных свойств обладает также и мудростью»2. Лосев
справедливо полагает, что Е. Трубецкой, сводя философию к богословию3,
односторонне трактует философию Вл. Соловьева, игнорируя симво-
лико-мифологический смысл его учения о Софии, не понимая «соло-
вьевской динамической диалектики и антиномико-синтетического
символизма». Поэтому-то, по мнению Лосева, «при всей личной дружбе
этих двух мыслителей Е. Н. Трубецкой наибольшей частью даже не
соловьевец, но активный и часто непобедимый его противник»4.
«Непобедимый» - с точки зрения христианско-православной догматики.
Свои теоретико-познавательные воззрения Е. Трубецкой
излагает в книге «Метафизические предположения познания. Опыт
преодоления Канта и кантианства» (1917) и далее развивает их в фило-
1 С точки зрения Л. М. Лопатина, обвинения Е. Трубецкого в пантеизме
представляют собой «явно несправедливый поклеп на философию Соловьева» (И,
442). По мнению А. Ф. Лосева, «элементы пантеизма можно находить кое-где в
ранних сочинениях Вл. Соловьева», ибо «безоговорочное всеединство должно
было бы приводить к пантеизму, который принципиально, конечно, никогда не
был свойствен Вл. Соловьеву». Однако «пантеизм, конечно, против воли самого
Вл. Соловьева часто все-таки играет огромную роль в его философии», и
«вскрытие такого рода пантеистических тенденций у Вл. Соловьева есть одна из очень
больших заслуг исследования Е. Н. Трубецкого» {Лосев А. Ф. Владимир
Соловьев и его время. М., 1990. С. 567, 549, 581).
2 Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. С. 570.
3 Е. Н. Трубецкой, по мнению А. Ф. Лосева, - «фидеист, для которого
последним основанием всякого знания является религиозная вера и откровение, а
разум действует скорее в роли разъяснителя и пропагандиста истин доразумно-
го и сверхразумного откровения» (там же. С. 559).
4 Там же. С. 571,579.
202
софском трактате «Смысл жизни» (1918). Он не приемлет Канта и
его последователей за то, что они, по его мнению, ограничиваются
теорией познавательного процесса, принципиально игнорируя сам
объект, предмет познания, его бытийные, онтологические основы.
Сам же Е. Трубецкой стремится идти путем Сократа и Платона,
которые от самопознания («Познай самого себя!») шли «к объективной
идее, т. е. к сверхиндивидуальному, вселенскому и безусловному
сознанию»1 .
Русский мыслитель начинает свое рассуждение с опыта
познавательной деятельности, доступного каждому человеку. В этом
познавательно-психологическом опыте обнаруживается неодолимое
стремление к истине, к общезначимой мысли, к смыслу, который носит
сверхпсихологический характер. Таким образом, человек
обнаруживает существование «всеединого сознания», «безусловного сознания»,
сознания «абсолютного», «всеединого ума», непосредственно
обладающего «смыслом всего действительного и мысленного»,
всеведением и всевидением, т. е. Бога (см. 29-30). В определенной мере
учение Евгения Трубецкого о «всеедином», «безусловном», «вечном»,
«абсолютном» сознании созвучно с учением его брата Сергея о
«соборном сознании». Он даже порой называет сверхиндивидуальное
сознание «соборным» (131). Но если для С. Трубецкого речь идет о
«соборном сознании человечества», то для Е. Трубецкого -
«соборность есть явление самого Христа в коллективной жизни Церкви», и
он строго отличает «подлинную соборность Христову от
соборности естественной, человеческой» (250).
Стремление выявить в субъективном, индивидуальном
человеческом сознании нечто сверхиндивидуальное, интерсубъективное,
надпсихологическое свойственно европейской философии начала
XX в., особенно философии неокантианцев и феноменологов (Э.
Гуссерль). Да и сам Кант стремился выявить в сознании обычного,
эмпирического субъекта его общезначимость, его «трансценденталь-
ность». Как мы видели, мысль братьев Трубецких движется в этом
же направлении. Однако для Е. Трубецкого поиск объективной
истины, истины как сущего (см. 21), смысла жизни как «положительной
и общезначимой ценности» (11), смысла сверхпсихологического и
общеобязательного (см. 10) - это поиск и нахождение Бога. Если
существует истина, то существует и Бог - это для него и есть
философское доказательство существования Бога, ибо, по его словам,
верить в истину как истину сущую - «значит предполагать
безусловное сознание как подлинно сущее и действенное. Хотя бы на свете
вовсе не было психологических субъектов, могущих воспринимать и
сознавать, истина есть: стало быть, есть некоторые содержания со-
1 Трубецкой Е. Я. Избранное. М, 1994. С. 25. Далее ссылки на это издание
даются в тексте.
203
знания, носящие на себе печать необходимости, всеобщности и
безусловности. Есть некоторое сверхпсихологическое сознание,
безусловное и всеобщее как по форме, так и по содержанию. И я -
психологический субъект - могу сознать истину, лишь поскольку я так или
иначе приобщаюсь к этому сознанию» (21).
Произведение Трубецкого «Смысл жизни» - «выражение всего
миросозерцания автора» - было написано в период Первой мировой
войны и революции, которая переживалась и осознавалась им как
«мировая бессмыслица», когда Россия лежала в развалинах и «стала
очагом мирового пожара, угрожающего гибелью всемирной
культуры» (7). Книга Трубецкого является ответом на им же поставленный
вопрос: «Не безумие ли утверждать, что есть смысл и есть Бог, когда
окружающий мир дает столь неотразимые доказательства своего
бессмыслия и безбожия?» (258).
Однако именно «восприятие бессмыслицы» порождает
«интуицию смысла» (см. 48): «Чем мучительнее ощущение царствующей
кругом бессмыслицы, тем ярче и прекраснее видение того
безусловного смысла, который составляет разрешение мировой трагедии» (7).
Основной философский труд Е. Трубецкого представляет собой
утверждение смысла и ценности жизни в запредельной для этой
земной жизни религиозной сфере.
Значительная часть книги посвящена так называемой теодицее
(от греческих слов theôs - Бог и dike - справедливость), т. е.
оправданию Бога за совершающееся в мире зло. В «Смысле жизни»
получили развитие богословские положения, которые Е. Трубецкой
обосновывал в монографии о Вл. Соловьеве: Бог не несет ответственности
за зло, совершающееся в мире, поскольку созданный им тварный мир
наделен им свободой выбора между добром и злом. «Свобода твари» -
это «возможность самоопределения за или против Бога, иначе
говоря, возможность выбора между жизнью и смертью» (124). Притом
сама жизнь понимается не просто как земное временное
существование, а как вечная жизнь с Богом и в Боге. В таком осмыслении и
состоит, по Е. Трубецкому, смысл жизни, который и должен быть
целью земной человеческой жизни.
Полагая жизнь в религиозном ее значении «положительной
ценностью, притом ценностью всеобщей и безусловной, ценностью
обязательной для каждого» (11), что и составляет смысл жизни,
религиозный мыслитель не пренебрегает и относительными ценностями,
ценностями «мирского порядка» - «мирского общества, государства,
хозяйства и всей вообще светской культуры». Критерием ценности
мирского порядка является его отношение к «последним, высшим
целям человеческого существования» (289). «Поскольку
относительные ценности служат средствами для осуществления любви, они
приобретают высшее освящение, ибо они становятся способами
явления безусловного и вечного в мире» (296). Мир не должен быть от-
204
дан «во владычеству бесу», необходима борьба со злом при помощи
государства, препятствуя превращению его в царство «зверя,
выходящего из бездны» (290).
Такое понимание значения «относительных ценностей» и было для
Е. Трубецкого основанием его активной общественной деятельности в
духе либерализма, непримиримого как к «черному зверю» реакции,
так и к «красному зверю» революции1. Он был сторонником
правового государства, поскольку право - проявление Абсолютного.
Достоинство человеческой личности обосновывалось им христианским
учением о человеке как «образе и подобии Божием». Еще в 1906 г. он
различал (правда, упрощая проблему) два типа демократизма. Один
тип - это «народовластие на праве силы», неограниченное «никакими
нравственными началами». «Другое понимание демократии кладет в
основу народовластия незыблемые нравственные начала, и прежде
всего - признание человеческого достоинства, безусловной ценности
человеческой личности как таковой. Только при таком понимании
демократии дело свободы стоит на твердом основании»2.
С. Н. Булгаков
Несколько в ином плане, чем братья Трубецкие, последователем
философии Вл. Соловьева был Сергей Николаевич Булгаков (1871-
1944). Но это совершилось после сложного процесса
трансформации мировоззрения мыслителя. Он прошел трудный путь от детской
религиозности (Булгаков родился в семье священника и учился в
духовной семинарии) к юношескому безверию, а потом и к марксизму.
Затем он переходит к философскому идеализму соловьевского
направления, становится в 1918 г. священником и занимается
богословием также в духе Вл. Соловьева.
В 1894 г. Булгаков заканчивает Московский университет,
получив экономическое образование; пишет труды по политической
экономии с позиций так называемого «легального марксизма», т. е. он
принадлежал к мыслителям, разделявшим главным образом
экономические воззрения К. Маркса и печатавшимся в легальных
изданиях (П. Струве, Н. Бердяев, С. Франк, М. Туган-Барановский и др.).
Его экономические труды «О рынках при капитализме» (1897) и
«Капитализм и земледелие» (1900) вызвали интерес у русских и
немецких социалистов. Но и в это время С. Булгаков не был
ортодоксальным марксистом. Он полагал, что в сельском хозяйстве не действует
закон концентрации производства, а в философии он предпочитал
Канта Марксу.
1 См.: Трубецкой Е. Н. Два зверя. М., 1918.
2 Трубецкой Е. Н. Всеобщее, прямое, тайное и равное // Новый мир. 1990.
№ 7. С. 200.
205
В начале века Булгаков под влиянием религиозной литературы,
немецкой идеалистической философии и особенно Вл. Соловьева
окончательно отходит от марксизма и становится идеалистом. В 1902 г. он
участвует в сборнике «Проблемы идеализма», а в 1903 г. выпускает
сборник статей, уже в названии которого отражается его
мировоззренческая эволюция: «От марксизма к идеализму». Булгаков - один из
авторов коллективных религиозно-философских изданий, в том числе
сборника «Вехи». В двухтомнике «Два града» (1911) печатаются его
работы по проблемам религии, культуры и философии.
Отвергнув марксизм, Булгаков не перестает заниматься
проблемами экономики (в Киеве он с 1901 по 1906 г. - профессор кафедры
политической экономии Политехнического института и
приват-доцент Университета св. Владимира). Своеобразным сплавом его
экономических занятий и религиозной философии явилась монография
«Философия хозяйства» (1912), защищенная им как докторская
диссертация по политической экономии. Возникает вопрос, как вообще
возможно сочетание экономики, хозяйственной деятельности людей
с религиозным идеализмом, к которому пришел С. Булгаков? Ответ
на него заключается в особенностях этого идеализма.
Еще в статье «Природа в философии Вл. Соловьева» Булгаков,
характеризуя воззрения Вл. Соловьева как «религиозный материализм»,
писал: «Что же такое представляет собою этот религиозный
материализм, не есть ли это явное противоречивое соединение несоединимых
понятий? Напротив, он притязает быть их синтетическим единством.
Религиозный материализм, вместе с материализмом, признает
субстанциальность материи, метафизическую реальность природы. Он
считает человека не духом, заключенным в футляр материи, но духовно-
телесным, природным существом, метафизические судьбы которого
неразрывно связаны с природным миром»1. Такова философская
позиция и самого Булгакова, следующего за Вл. Соловьевым.
Для него «хозяйство есть борьба человечества со стихийными
силами природы в целях защиты и расширения жизни, покорения и
очеловечения природы, превращения ее в потенциальный
человеческий организм» (I, 85). Но сам человек также - «око Мировой Души»,
причастный к «Божественной Софии» (I, 143). «Индивиды суть
копии или экземпляры, род - их идея, предвечно существующая в
Божественной Софии, идеальная модель для воспроизведения» (1,149).
Поэтому и само хозяйство, по Булгакову, софийно, как софийно
вообще «человеческое творчество - в знании, в хозяйстве, в культуре,
в искусстве» (I, 158). «Путем хозяйства природа опознает себя в
человеке» (I, 154). И следовательно, по этой логике, «хозяйство,
рассматриваемое как творчество, есть и психологический феномен, или,
1 Булгаков С. К Соч. : В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 20. Далее ссылки на это
издание даются в тексте указанием в скобках на том римскими цифрами и на
страницу - арабскими.
206
говоря еще определеннее, хозяйство есть явление духовной жизни
в такой же мере, в какой и все другие стороны человеческой
деятельности и труда» (1,233). В этом заключается противоположность
«философии хозяйства» Булгакова «экономическому материализму»
К. Маркса, которому отдается должное в постановке самой
проблемы философии экономической жизни (см. I, 296).
Булгаков развивает учение Вл. Соловьева о Софии. По его
взглядам, «София правит историей как Проведение, как объективная ее
закономерность, как закон прогресса». Притом сама София выступает
как «земная» и как мать «Софии Земной» - «София Небесная» (1,171).
В дальнейшем Булгаков конкретизирует свое понимание Софии,
обосновывает вслед за Вл. Соловьевым и П. Флоренским софиоло-
гию - учение о Премудрости Божией. Свое осмысление Софии
Булгаков формулирует в своем труде «Свет Невечерний. Созерцания и
умозрения», создававшемся в течение 1911-1916 гг. и вышедшем в
1917 г. (Наименование этих созерцаний и умозрений: «Свет
Невечерний» взято из стихотворения А. Хомякова «Вечерняя песня».) По
концепции Булгакова, София как Премудрость Божия находится
между Богом и миром. «Занимая место между Богом и миром, София
пребывает и между бытием, и сверхбытием, не будучи- ни тем, ни
другим или же являясь обоими зараз», - утверждается в «Свете
Невечернем»1 . Поэтому, по словам С. Булгакова, «центральной
проблемой софиологии является вопрос об отношении Бога и мира, или -
что по существу является тем же самым - Бога и человека»2.
Серьезной и во многом дискуссионной проблемой является
взаимоотношение Софии с ликами Св. Троицы - Богом-Отцом, Богом-
Сыном и Святым Духом. По Булгакову, «София обладает личностью
и ликом, есть субъект, лицо или, скажем богословским термином,
ипостась» (186). Он даже называет ее «четвертой ипостасью». И хотя
следуют оговорки, что София не превращает Божественную «троицу
в четверицу» (187), Булгакову, принявшему в 1918 г. сан священника,
не удалось избежать обвинений со стороны руководства как
зарубежной русской православной церкви (1927), так и церкви в Советском
Союзе (1935) в отступлении от церковного вероучения, в церковном
модернизме и ереси. Против булгаковской трактовки Софии
выступили и некоторые православные богословы (В. Н. Лосский, Г. В. Фло-
ровский и др.). В то же время софиологию Булгакова поддержал ряд
видных философов как по существу, так и во имя «свободы
богословской мысли» (Н. О. Лосский). Сам же русский софиолог считал,
что его учение о Софии «является личным богословским убеждени-
1 Булгаков С. Н. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. М, 1994. С. 188.
В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте указанием в скобках
номера страницы.
2 Булгаков С. Н. Центральная проблема софиологии // Булгаков С. Н. Тихие
думы. С. 269.
207
ем», которому он «никогда не придавал значения обязательного
церковного догмата»1.
София, по Булгакову, многозначна. Она как Премудрость Божия есть
и замысел Бога о мире - «горний мир умопостигаемых, вечных идей»
(189), и олицетворение любви, «любовь Любви», и «Вечная
женственность», и Красота, через которую «София открывается в мире» (199).
Для Булгакова смысл Софии в ее посреднической роли между Богом и
миром. Именно благодаря Софии тварный мир и сами твари
становятся софийными, прекрасными и тем самым оправдываемыми и в
конечном счете спасаемыми, несмотря на антисофийное состояние
современного мира, существование уродства, косности и безобразия
«тяжелого покрова небытия», нависшего «над миром грехопадения» (200).
Булгаков продолжает соловьевскую линию христианского
гуманизма, считая, что мир «создан для человека» и что «мир в качестве
незыблемой основы включает свободу и царственное достоинство
человека» (288).
Несмотря на свои монархические убеждения, Булгаков осуждал
«связь православия с самодержавием», которая приводила «к
унизительной и вредоносной зависимости церкви от государства»2. И
когда после революции «церковь оказалась свободна, из
государственной она стала гонимой», Булгаков - активный ^частник Поместного
собора Русской православной церкви 1917-1918 гг., восстановившего
патриаршество и избравшего патриархом Тихона, - в 1918 г.
становится священником. В этом же году он выезжает к своей семье в Крым,
а в конце 1922 г. высылается за границу советским правительством.
В Крыму он пишет свои последние собственно философские
труды: «Философию имени» и «Трагедию философии (философия и
догмат)». В первом речь идет о том, что словами - живыми
символами вещей - через человека говорит сам космос. В «Трагедии
философии» (работа была написана в 1920-1921 гг., в 1927 г. издана на
немецком языке, до 1993 г. на русском языке публиковались в журналах
лишь отрывки из нее) автор стремится произвести суд над
философией с позиции христианского догмата, который для него - «не
только критерий, по к мера истинности философских построений» (1,311).
По убеждению Булгакова, «все философские системы, которые
только знает история философии, представляют собой... «ереси»,
сознательные и заведомые односторонности, причем во всех них одна
сторона хочет стать всем, распространиться на все» (I, 312). Поэтому
«история философии есть трагедия. Это - повесть о повторяющихся
падениях Икара и о новых его взлетах» (I, 314).
В «Трагедии философии» утверждается, что «религиозная основа
философствования есть факт» (I, 317), что «религия, как откровение,
как учение не рационалистическое, но догматическое или мифотвор-
1 См.: Лосский Н. О. История русской философии. M., 1991. С. 296.
2 Булгаков С. Н. Тихие думы. С. 347.
208
ческое, предшествует философии и постольку стоит выше нее» (1,328).
«Церковный догмат» - «единственно удовлетворяющий мысль
постулат для постижения человеческого духа» (I, 390). И сам «догмат
троичности есть божественная тайна, которая может стать доступна
человеку лишь божественным откровением и воспринята верою» (I, 425).
В дальнейшей своей деятельности о. Сергий занимается
богословием. С 1925 г. он возглавляет Православный Богословский институт в
Париже. Его многие труды эмигрантского периода посвящены богословию,
в которых мыслитель продолжает разрабатывать свое учение о Софии.
П. А. Флоренский
Выдающимся представителем софиологии в России после Вл.
Соловьева был Павел Александрович Флоренский (1882-1937),
оказавший влияние на софиологические взгляды С. Н. Булгакова.
Флоренский был богословом и философом, математиком и поэтом,
лингвистом и искусствоведом, священником и инженером-изобретателем.
Его называли «русским Леонардо да Винчи» и «русским Фаустом».
Путь Флоренского к религии отличался от мировоззренческой
эволюции других русских религиозных мыслителей, у которых
детски наивная вера вытеснялась в отрочестве богоотрицанием, а затем
в результате «отрицания отрицания» они, разочаровавшись в
позитивистском или материалистическом атеизме, вновь возвращались к
религии. Флоренский родился в семье инженера-путейца, любимым
писателем и мыслителем которого был Гёте, а «Фауст» - его
евангелием. «Человечность - вот любимое слово отца, которым он хотел
заменить религиозный догмат и метафизическую истину. В
человечности видел он всеобщий регулятор всех общественных и личных
отношений взамен религии, права и морали...», - писал
Флоренский1 . Мать будущего философа была армянка, и в этой
русско-армянской семье индифферентно относились как к Армянской, так и к
Русской церкви, хотя, конечно, дети были крещены и Пасха
справлялась как весенний праздник. Флоренский вспоминал: «В церковном
отношении я рос совершенным дичком. Меня никогда не водили в
церковь, ни с кем не говорил я на темы религиозные, не знал даже,
как креститься» («Детям моим», 145). Но если в набожных семьях
дети нередко начинают отталкиваться от религии, то при обратной
семейной ситуации ребенок может тянуться к таинственной для него
религиозной сфере. Так было и у Флоренского, который еще в
детстве «метался между страстным влечением к религии и приступами
борьбы с тем, чего... не знал» (там же).
1 Флоренский П. Детям моим. Воспоминания прошлых дней.
Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание. М., 1992. С. 122. Далее
ссылка на это издание дается в тексте указанием в скобках «Детям моим» и
страницы.
209
Окончив Тифлисскую классическую гимназию, Флоренский в
1900 г. поступает на математическое отделение
физико-математического факультета Московского университета. Одновременно он
проявляет глубокий интерес к философии, слушая лекции друга Вл.
Соловьева - Л. М. Лопатина и посещая историко-философский
семинар С. Н. Трубецкого. В миропонимании молодого Флоренского
органически слились философия и математика. Он приходит к
«математическому идеализму». В 1904 г. Флоренский поступает в
Московскую духовную академию, которую заканчивает в 1908 г.,
написав кандидатское сочинение «О религиозной истине». Затем он в
1914 г. защищает магистерскую диссертацию «О духовной истине.
Опыт православной теодицеи». В том же году выходит его бого-
словско-философский труд «Столп и утверждение истины. Опыт
православной теодицеи в двенадцати письмах». Изысканно
изданная книга Флоренского, напечатанная необычным шрифтом, с
гравюрными заставками, рисунками и репродукциями, привлекает
большое внимание и становится предметом острых дискуссий.
Книгу приветствовал Е. Н. Трубецкой, назвав посвященный ей доклад
«Свет Фаворский и преображение ума». Н. А. Бердяев же
рассматривал «Столп и утверждение истины» как «стилизованное
православие»1 .
С 1908 г. Флоренский, сначала в качестве доцента, ас 1914 г. -
профессора, ведет различные курсы по истории философии в
Московской духовной академии. В 1911 г. он рукоположен в сан
священника. С 1912 г. о. Флоренский возглавляет журнал Академии
«Богословский вестник».
После Октябрьской революции, когда была закрыта Духовная
академия, в 1918 г. Флоренский работает в Комиссии по охране
памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. В 1921 г. он
становится профессором ВХУТЕМАСа (Высших Художественных
Мастерских) по кафедре «Анализ пространственности в
художественных произведениях». В 20-е гг. он ведет большую работу в
различных технических институтах и лабораториях, занимаясь вопросами
электротехники. Его привлекают к осуществлению плана ГОЭЛРО.
Характерен следующий эпизод:
«В 1919 г. во главе Главэлектро стоял Л. Троцкий. Обходя все
учреждение, Троцкий в лаборатории подвального этажа заметил
Флоренского - тот был в своей обычной белой рясе.
- Это кто такой?
- Профессор Флоренский.
- А, Флоренский,знаю!
1 См. различные высказывания о П. А. Флоренском в кн. «П. А. Флоренский:
pro et contra. Личность и творчество Павла Флоренского в оценке русских
мыслителей и исследователей» (СПб., 1996).
210
Подошел к нему и пригласил участвовать на съезде инженеров.
- Только, если можно, не в этом костюме.
Флоренский отвечал, что не слагал с себя сана священника и
штатское надевать не может.
- Да, не можете, тогда в этом костюме!»1
Поразительно разносторонними были деятельность и труды
Флоренского. Он ведет экспериментальные работы по электротехнике и
материаловедению, редактирует «Техническую энциклопедию», в
которой было напечатано 150 его статей, делает десятки изобретений и
открытий. Он пишет книгу «Диэлектрики и их техническое
применение» и читает лекции по анализу пространственности и времени в
художественно-изобразительных произведениях на основе данных
математики, физики, психологии и эстетики2. В 1922 г. он выпускает книгу
«Мнимости в геометрии» и разрабатывает в 20-е гг. проблемы теории
искусства, в особенности связанного с религиозным культом3. Много
Флоренский занимается лингвистическими изысканиями и философией
имени, теоретически обосновывая религиозное учение «имяславцев»,
по которому само имя Божие есть Бог4. Им был задуман большой
философский труд «У водоразделов мысли (Черты конкретной
метафизики)». Но хотя до нас дошли только части этого труда, можно сказать,
что философская мысль, определенная как конкретная метафизика,
пронизывает всю жизнь и деятельность Флоренского, а также его
работы, на первый взгляд далекие от философии.
«Конкретным идеализмом», как мы помним, называл свои
философские воззрения С. Н. Трубецкой, в семинаре которого работал и
Флоренский. Но у Флоренского понятие «конкретное» обладает иным
значением, хотя, конечно, конкретная метафизика всеединства,
предполагающая выражение духовного в чувственном облике, восходит
к Владимиру Соловьеву. В заметках к труду «У водоразделов мысли
(Черты конкретной метафизики)» конкретная метафизика
характеризуется как «философская антропология в духе Гёте»5. При всей
эволюции философских воззрений Флоренского их пронизывает
единый принцип - принцип символизма6.
В 1920 г. Флоренский пишет: «И всю свою жизнь я думал только
об одной проблеме, о проблеме СИМВОЛА» («Детям моим», 153). Что
он понимал под «символом»? В лекции по искусству, прочитанной им
1 Жегин Л. Ф. Воспоминания о П. А. Флоренском // П. А. Флоренский: pro et
contra. С. 164.
2 См.: Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в
художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.
3 См.: Флоренский П. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб., 1993.
4 См.: Флоренский П. Имена. М., 1993.
5 Флоренский П. А. Соч. Т. 2. У водоразделов мысли. М, 1990. С. 29.
6 См.: Хоружий С. С. Философский символизм Флоренского и его
жизненные истоки // Хоружий С. С. После перерыва. Пути русской философии. СПб.,
1994. С. 100-130.
211
в 1921 г., он говорил: «Символ есть то, что больше себя: например:
картина как реальность есть холст, краски, рама, подрамник, но она
больше, чем она есть в порядке реальном - физическом - как
сущность. Она - окно. Метафизически символ есть такая сущность,
энергия которой несет в себе энергию другой, высшей сущности,
растворена в ней, соединена с ней и чрез нее проявленно обнаруживает
сущность высшую. Символ - окно к другой сущности, не данной
непосредственно»1. «...Явление, дву-единое, духовно-вещественное,
символ, всегда дорого мне было в его непосредственности, в его
конкретности, со своею плотью и со своею душою, - читаем мы в его
«Воспоминаниях». - В каждой жилке его плоти я видел и хотел видеть,
искал видеть, верил, что могу видеть, - душу, единую духовную
сущность; и сколь тверда была моя уверенность, что плоть не есть только
плоть, только косное вещество, только внешнее, столь же тверда была
и обратная уверенность - в невозможности, ненужности
самонадеянности видеть эту душу бестелесной, обнаженной от своего
символического покрова». И далее свой символизм Флоренский «вписывает» в
существующие системы философского мышления: «Мне претил
позитивизм, но не менее претила и отвлеченная метафизика. Я хотел
видеть душу, но я хотел видеть ее воплощенной. Если это покажется
кому материализмом, то я согласен на такую кличку. Но это не
материализм, а потребность в конкретном или символизм» («Детям моим»,
154). Флоренский усматривает в своем миропонимании близость к Гёте,
которого так почитал его отец, и признается, что от отца и даже от
обоих дедов им была «унаследована плотскость мысли» (там же, 157).
Так понимаемый символизм объясняет, почему о. Флоренский не
гнушался сугубо практической деятельности, усматривая духовную
природу в материальном и духовное предназначение своего жизне-
творчества как воплощения своей философии. Философский
символизм Флоренского близок тому, что Вл. Соловьев, а вслед за ним и
С. Булгаков называл «религиозным материализмом».
В книге «Столп и утверждение истины. Опыт православной
теодицеи в двенадцати письмах» Флоренский излагает свой вариант со-
фиологии. Он, несомненно, отталкивается от Вл. Соловьева, притом
отталкивается в двойном смысле этого слова: Соловьев - исходная
позиция автора «Столпа...» и в то же время - позиция, им
отталкиваемая в процессе своего собственного движения2. И тем не менее
1 Флоренский П. А. Анализ пространственное™ и времени в
художественно-изобразительных произведениях. С. 302.
2 См.: Флоренский П. А. Столп и утверждение истины: В 2 т. М., 1990
(репринтное воспроизведение издания книги «Столп и утверждение истины» 1914 г.),
где философия Вл. Соловьева - «тонко-рационалистическая по своей форме» и
«вещная по своему содержанию» (с. 775) - названа «примирительной» в
противоположность «антиномичности» воззрений самого Флоренского (с. 612). В
дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте указанием в скобках
«Столп...» и страницы.
212
А. Ф. Лосев, который был не только близко знаком с Флоренским
(о. Павел даже в 1922 г. обвенчал Алексея Федоровича Лосева с
женой), но и считал себя в определенном отношении его учеником,
имел основание утверждать: «В конце концов, он (т. е. Флоренский. -
Л. С), конечно, ученик Соловьева»1.
В книге Флоренского приводится громадный материал
богословской литературы и иконографии, связанной с пониманием Софии.
Рассматривая Софию в аспектах ипостасей св. Троицы, автор
книги считает, что она под углом зрения Бога-Отца - «идеальная
субстанция, основа твари, мощь или сила бытия ее»; в аспекте Бога-
Сына, или Слова, - «разум твари, смысл, истина или правда ее»; «с
точки зрения Ипостаси Духа» - «духовность твари, святость»,
чистота и непорочность ее, т. е. красота («Столп...», 349). Флоренский
даже именует Софию, участвующую «в жизни Триипостасного
Божества», «четвертым Лицом» (как впоследствии и С. Булгаков), что
вызывало протест с точки зрения ревнителей догматического
православия.
Далее перечисляются новые аспекты Софии: 1. София - «Тело
Господа Иисуса Христа, т. е. тварное естество, воспринятое
Божественным Словом»; 2. Она есть «Церковь в ее небесном
аспекте»; 3. А также - «Церковь в ее земном аспекте»; 4. «София есть
Дух, поскольку Он обожил тварь»; 5. «София есть Девство» и
«носительница» Девства - «Дева в собственном и исключительном
смысле слова», Богоматерь Мария; 6. «Если София есть вся Тварь,
то душа и совесть Твари, - Человечество, - есть София по
преимуществу»; 7. «София есть Красота». «Только София, одна лишь
София есть существенная Красота во всей твари» («Столп...»,
350,351).
Вот почему эстетическая сторона бытия имеет такое большое
значение в миропонимании о. Павла. Красота, по его убеждению, -
критерий православной церковности: « - Что такое церковность? -
Это новая жизнь, жизнь в Духе. Каков же критерий правильности
этой жизни? - Красота. Да, есть особая красота духовная, и она,
неуловимая для логических формул, есть в то же время
единственный верный путь к определению, что православно и что нет»
(«Столп...», 7-8). Более того, Флоренский формулирует
эстетическое доказательство существования Бога: «Из всех философских
доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно
то, о котором даже не упоминается в учебниках; примерно оно
может быть построено умозаключением: «Есть Троица Рублева,
следовательно, есть Бог»2.
1 П. А. Флоренский по воспоминаниям Алексея Лосева // П. А. Флоренский:
pro et contra. С. 174.
2 Флоренский П. Иконостас. Избранные труды по искусству. С. 47-48.
213
Философия Флоренского переходит в богословие, но само
богословие предполагает философское обоснование. Это прежде всего
связано с обоснованием постижения Истины, как ее понимает
философ-богослов. Вспоминая перелом в своем мировоззрении, он
писал: «Истина - жизнь, - много раз в день говорил себе я. - Без
истины жить нельзя. Без истины нет человеческого существования»
(«Детям моим», 245). Но что есть истина? В «Столпе и утверждении
истины» мы читаем: «Для рассудка истина есть противоречие, и это
противоречие делается явным, лишь только истина получает
словесную формулировку. Каждое из противоречащих предложений
содержится в суждении истины, и потому наличность каждого из них
доказуема с одинаковою степенью убедительности, - с
необходимостью. Тезис и антитезис вместе образуют выражение истины.
Другими словами, истина есть антиномия, и не может не быть таковою»
(«Столп...», 147). Антиномична даже формулировка важнейшего
догмата, определяющего Истину: «Истина есть единая сущность о
трех ипостасях. Не три сущности, но одна; не одна ипостась, но три.
Однако, при всем том, ипостась и сущность - одно и то же»
(«Столп...», 49).
Концепцию антиномичности рассудочной истины, которой
автор «Столпа...» даже противопоставляет себя Владимиру Соловьеву
(см. «Столп...», 612), своим истоком, несомненно, имеет учение об
антиномиях рассудка и разума Канта, философская система которого
в целом отвергается Флоренским и даже третируется. Само
противостояние рассудка и разума Флоренский понимает иначе, чем Кант.
Если «истина есть антиномия», как же обрести ее, если рассудок
не может предложить ничего, кроме равно доказуемых
противоположных суждений? Но помимо рассудка есть разум, который хотя и
является «вторичным разумом», но «коренится в Разуме
Абсолютном, поскольку он питается Светом Истины» («Столп...», 328).
Истина и постигается разумной интуицией, совпадающей с верой. По
Канту, антиномии разума - свидетельства ограниченности
человеческого познания, требующего дополнения верой. По Флоренскому
же, сам разум переходит в веру, образуя в ней единство. Выход из
рассудочного тупика видится в рассуждениях средневековых
богословов о взаимосвязи знания и веры: «...границы знания и веры
сливаются. Тают и текут рассудочные перегородки; весь рассудок
претворяется в новую сущность» («Столп...», 62); «...подвигом веры
преодолена, побеждена и ниспровергнута рассудочная «нелепость»
догмата. Сознано, что в нем - источник знания» («Столп...», 63). Таким
образом, «сквозь зияющие трещины человеческого рассудка видна
бывает лазурь Вечности» («Столп...», 489).
Религиозно-философские воззрения Флоренского уже его
современников поражали (одних восхищали, а других приводили в
негодование) сочетанием архаичности и новизны, даже «авангардизма»,
214
соединением, казалось, несоединимого - консервативной
религиозной веры и ведущих отраслей научного знания, особенно в области
математики, священнического сана и практической деятельности
ученого, инженера и изобретателя. Флоренский являл собой антино-
мичность истины.
Жизнь этого удивительного человека с конца 20-х гг.
подвергалась жестоким испытаниям. В 1928 г. он был выслан в Нижний
Новгород. Эта ссылка, правда, длилась недолго. Но в 1933 г. последовал
новый арест, затем ссылка в Забайкалье. В 1934 г. он переброшен в
лагерь на Соловках. Но и во время этих тюремно-ссылочных
скитаний Флоренский творчески работал как ученый и исследователь. В
Нижнем Новгороде он трудится в радиолаборатории. В Сибири он
изучает вечную мерзлоту. В соловецком лагере - занимается
получением йода и агар-агара из морских водорослей. В письме жене от
11-13 мая 1937 г. он писал: «Наша водорослевая эпопея на днях
кончается, чем буду заниматься далее - не знаю, м[ожет] б[ыть],
лесом, т. е. хотелось бы применить в этой области математический]
анализ» («Детям моим», 438). И одновременно со всем этим о. Павел
утешал заключенных, приобщая их к религии. 8 декабря 1937 г.
Флоренский был расстрелян.
В. Ф. Эрн
Соловьевскую линию русской философии своеобразно
развивает Владимир Францевич Эрн (1882-1917). Он родился в Тифлисе и
учился в гимназии в одном классе с Флоренским. В Московском
университете Эрн изучает философию под руководством С. Н.
Трубецкого и Л. М. Лопатина. У него возник глубокий интерес к Платону и
первоначальному христианству. Он участвует в организации в 1906 г.
Религиозно-философского общества памяти В. С. Соловьева. Вл.
Соловьев для Эрна - «русский Платон», «гений философского
творчества, создавший обширнейшее и законченное философское
миросозерцание». «Все мышление Соловьева, - отмечает Эрн, - извнутри
проникнуто пламенным стремлением к всечеловечности»1.
Свои философские воззрения Эрн именует «логизмом», образуя
этот термин от понятия «Логос» - Слово, имевшее важнейшее
значение в древнегреческой и христианской философии. Ведь и
непосредственный учитель Эрна - друг Вл. Соловьева - С. Н. Трубецкой свою
докторскую диссертацию посвятил учению о Логосе в его истории.
В предисловии к сборнику своих работ «Борьба за Логос» Эрн
определяет Aôyoç-Логос как «разум, взятый вне отвлечения от живой и
конкретной действительности, ей сочувственный и ее имманентно
1 Эрн В. Ф. Соч. М., 1991. С. 87, 84-85. Далее ссылки на это издание даются
в тексте.
215
проникающий. Логос есть коренное и глубочайшее единство
постигающего и постигаемого, единство познающего и того
объективного смысла, который познается» (11). Эрн подчеркивает, что
«философия Логоса» является философией онтологической, т. е.
философией бытия (ontos - по-гречески сущее), ибо «существо Лоуос'а
состоит в его божественности. Это не субъективно-человеческий
принцип, а объективно-божественный» (79).
В человеческом сознании Логос выступает в трех аспектах.
1. Логос космический, который «открывается в натуральных
религиях, в искусстве, в неиссякающем и в наши дни бьющем
творчестве поэтов слова, звука, линии, цвета, ритма» (121).
2. Логос «дискурсивно-логический», открывающийся в философии.
3. Логос Божественный, выявляющийся в христианской религии.
Философия же по своему содержанию связана со всеми видами
Логоса, так как она призвана приводить к теоретическому единству
«все данные человеческого опыта» (122).
«Философии Логоса» противостоит, по Эрну,
рационалистическая философия, исходный пункт которой - ratio, т. е. «формальный
рассудок, оторванный от полноты и бесконечного многообразия
жизни» (11). Эта рационалистическая философия «тянется от Декарта к
Канту, от Канта к Гегелю и от Гегеля к трансцендентализму наших
дней» (148). Эрн заявляет, что «чистый ratio, предоставленный сам
себе, с роковой необходимостью вовлекается в то топкое место, из
которого своими силами выбраться он не может» (133).
«Топкое место» рационализма, по Эрну, - это искажение идеи
Бога, непонимание ее благости и даже представление Бога как
«Абсолютного Обманщика» (см. 133, 135). Непомерное самомнение
человека в рационалистической философии приводит к тому, что она и
«хаотизирует» жизнь, и механизирует ее, порождая техническую
цивилизацию. Эта гниющая и разлагающаяся цивилизация -
«законное и необходимое детище рационализма» (80). И, по убеждению
Эрна, «для истинной культуры нет врага более ужасного, чем
рационализм» (283).
Легко себе представить негодование Эрна, когда он увидел под
священным для него наименованием «Логос» международный
философский журнал неокантианского направления, который начал
выходить в России в 1910г.! В книге «Борьба за Логос» Эрн борется
за священный для него Логос и за русскую философскую мысль,
которая им пронизана, отвергая обвинения в ее несамостоятельности и
несостоятельности. Сам Эрн написал монографию о творческой
жизни и жизненном творчестве «русского Сократа» - Григория
Сковороды и ряд работ о «русском Платоне» - Вл. Соловьеве.
Неприятие Эрном рационалистической философии своим
истоком имеет отвержение рационализма славянофилами как основного
216
метода «западного» мышления. Славянофильские симпатии Эрна
(притом, что его отец был пол у швед и полунемец, а мать полу полька
и полурусская) были несомненны. Во время войны в 1915 г. он
выпустил брошюру с показательным названием «Время
славянофильствует». Однако его философские предпочтения определялись не
географической оппозицией двух культур: России и Запада, а
противостоянием «познавательных начал» Логоса и Ratio (113). Это
противостояние могло быть и на самом Западе, даже в католицизме. Эрн
посвятил магистерскую и докторскую диссертации (1914 и 1916 гг.)
итальянским религиозным философам Антонио Розмини и Винченцо Джо-
берти, взгляды которых, несмотря на католицизм, Эрн воспринимал
одобрительно, так как усматривал в них религиозный «онтологизм».
В статье «Смысл онтологизма Джоберти в связи с проблемами
современной философии» Эрн положительно воспринимает одно из
новых направлений западноевропейской философии -
феноменологическую философию, «школу Гуссерля», поскольку в ней
проглядывает платонизм, хотя, с точки зрения Эрна, робкий и
недостаточный (см. 409, 411).
Позиция Эрна в отношении западной философии вызвала
возражения среди его российских коллег. С. Л. Франк характеризовал
взгляды Эрна как «национализм в философии». Отвечая Франку, Эрн
писал: «Русская мысль дорога мне не потому, что она русская, а потому,
что во всей современности, во всем теперешнем мире она одна
хранит живое, зацветающее наследие антично-христианского
умозрения», «устремленность к логизму» (112). Эрну принадлежит заслуга
в обосновании самостоятельности и своеобразия русской
философской мысли (см. 86-91).
Но в начале войны в 1914 г. Эрн выступил с докладом, затем
опубликованном в качестве статьи «От Канта к Круппу», в которой
пытался установить связь между философией Канта и немецким
милитаризмом и милитаризма с немецкой философией (313-316).
Имя Эрна занимает особое место в истории русской
философской мысли. Он умер в 1917 г., не дожив до своего 35-летия. Его
последний труд «Верховное постижение Платона. Введение в изучение
Платоновых творений», посвященный памяти С. Н. Трубецкого,
остался незавершенным. Памяти самого В. Ф. Эрна посвятили свои
статьи его близкие друзья - С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский.
Л. П. Карсавин
Лев Платонович Карсавин (1882-1952) - историк религиозной
мысли Средневековья, религиозный мыслитель, разрабатывающий,
как и его предшественники, русский вариант философии всеединства.
Он родился в семье замечательного артиста балета Платона
Карсавина (1854-1922). Знаменитая русская балерина Тамара Карсавина
217
(1885-1978) была сестрой историка и философа. Мать Льва
Карсавина - Анна Иосифовна была дочерью двоюродного брата А. С.
Хомякова и до замужества носила эту же фамилию. (Впоследствии
Л. Карсавин напишет большое предисловие к переизданию
произведения своего дальнего родственника - философа-славянофила «О
церкви», поддерживая хомяковскую традицию свободного
философского богословия.) В жизни и трудах Карсавина как бы слились
воедино художественный артистизм отца и религиозно-духовные хомя-
ковские традиции, которые культивировала мать. Способный к
тончайшим логическим рассуждениям в духе схоластики Карсавин в то
же время был поэтической натурой: он писал стихи, не чуждался
литературных мистификаций, написал лирико-философский трактат о
любви («Noctes Petropolitanae», 1922) и «Поэму о смерти» (1931).
Жизненный путь Карсавина преломился через сложные
перипетии судеб первой половины XX столетия. В 1901-1906 гг. он учится
на историко-филологическом факультете Петербургского
университета, специализируясь на изучении религиозных движений Италии и
Франции позднего Средневековья. В 1910-1912 гг. историк получил
возможность работать в архивах и библиотеках Франции и Италии.
В 1912 г. выходит его магистерская диссертация «Очерки
религиозной жизни Италии XII—XIII веков», а в 1915 г. - дикторская
диссертация «Основы средневековой религиозности в ХИ-ХШ веках,
преимущественно в Италии», которую он защитил в марте 1916 г.
Исторические труды Карсавина носят культурологический характер,
воссоздавая в определенной духовной целостности изучаемую эпоху.
С 1913 г. Карсавин преподает исторические дисциплины в
Петербургском университете, на Высших женских курсах и других
учреждениях. После революции он продолжает учебно-лекторскую
деятельность в университете, активно занимается литературно-философской
работой, пишет и издает такие философско-религиозные этюды, как
«SALIGLA, или Весьма краткое и душеполезное размышление о Боге,
мире, человеке, зле и семи смертных грехах», «Глубины сатанинские»,
«София земная и горняя», «О свободе», «О добре и зле» и др.
Одновременно он читает проповеди в храмах. Неудивительно, что
Карсавин в 1922 г. попадает в список антисоветски настроенных деятелей
русской культуры, подлежащих высылке из страны.
С 1922 г. начинается эмигрантский период жизни и деятельности
Карсавина. С 1922 по 1926 г. он живет в Берлине и пишет
«Философию истории» (1923), «Джордано Бруно» (1923), «О началах» (1925),
в которых определяются его философско-религиозные воззрения. С
1926 г. Карсавин переезжает в Париж и теоретически возглавляет до
1929 г. левое крыло евразийского движения. Это движение,
представлявшее собой вариант русской идеи, видело своеобразие России в
геополитическом и культурном положении между Европой и Азией
(Евразия). Сторонники евразийства стремились к созданию идеоло-
218
гически единого государственного образования на основе
православия, уповая на возможность использования Советского государства,
возникшего в ходе большевистской революции1.
В 1927 г. Карсавин был приглашен в Литву в качестве
руководителя кафедры всеобщей истории Каунасского университета. Овладев
литовским языком, он читает курс истории европейской культуры. В
1940 г. университет перебазируется в Вильнюс. Пережив годы
немецкой оккупации во время Второй мировой войны, философ в 1946 г.
изгоняется из университета, а в 1949 г. его арестовывают и ссылают в
Сибирь. Больной туберкулезом, он попадает в инвалидный лагерь
Абезь, расположенный у Полярного круга. Во время пребывания в
лагере Карсавин не прекращает свое философско-религиозное и
поэтическое творчество, с благодарностью воспринимаемое
солагерниками, и особенно ставшим его учеником и последователем А. А.
Ванеевым (1922—1985)2. 20 июля 1952 г. Лев Карсавин умирает, он был
похоронен в безымянной могиле. Но чтобы в будущем опознать тело
русского мыслителя, лагерный патологоанатом литовец В. Шимку-
нас вложил в тело Карсавина закрытый флакон, в который была
вложена записка-эпитафия, написанная А. А. Ванеевым.
Карсавин занимает своеобразное место в русской религиозной
философии. Он шел от истории к философии и богословию, от
исторического богословия - к философии истории и философии
богословия. Его метафизика всеединства находится, конечно, в русле
традиций христианского платонизма, наиболее ярко в России
представленной Вл. Соловьевым. Но непосредственно Карсавин не
примыкает ни к Соловьеву, ни к соловьевцам (притом что современники
усматривали между ним и великим русским философом внешнее
сходство), апеллируя к учению отцов церкви и Николаю Кузанскому.
Как историк Карсавин ставит проблему о значении оценки,
оценочной деятельности в историческом познании. «Оценка в истории
необходима», «момент оценки» неустраним, - отмечает он в
«Философии истории»3. Проблема ценности и оценки широко обсуждалась
в западноевропейской и русской философской мысли со второй
половины XIX столетия. Потребность «переоценки всех ценностей»
(Ницше), осознание важности ценностного мироотношения
особенно в сфере практической деятельности и гуманитарного
исторического знания подвинуло к разработке «философии ценностей»,
«аксиологии» (от греческого axia - ценность и logos - учение) в различ-
1 Карсавин в статье «Основы политики» стремился определить философ-
ско-теоретические основы евразийства (см.: Россия между Европой и Азией:
Евразийский соблазн. Антология. М, 1993. С. 174-216).
2 См.: Ванеев А. А. Очерк жизни и идей Л. П. Карсавина // Звезда. 1990. № 12.
С.138-151.
3 Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993. С. 266,273. Далее ссылки
на это издание приводятся в тексте указанием в скобках «ФИ» и страницы.
219
ных ее вариантах, особенно в философии неокантианцев (Виндель-
банд, Риккерт)1.
Карсавин также считает «возможным оправдать аксиологический
момент в историографии, устранив из него всякий субъективизм и
релятивизм» (ФИ, 334). Иначе говоря, он включает в историю
ценностный фактор, но при этом саму ценность Карсавин, в
противоположность риккертианцам, рассматривает не как субъективное «мое
построение», построение «трансцендентальное», не обладающее
обычным эмпирическим бытием. Да, «оценки расходятся», но
«историк ошибается лишь в том случае, если отвергает ценность иных
«склонностей»; признавая ее чисто «субъективной», он ошибается в
том, что считает ее свойственной только ограниченному своему я, а
не укорененною в Абсолютном». По убеждению Карсавина,
«существо всякой оценки в Абсолютном», а «так называемая
«субъективность» лишь периферия, индивидуализация оценки», ибо «и
абсолютная ценность, абсолютный критерий не существует без
индивидуализации». Правда, «сами-то «ценности», хотя бы и абсолютные,
оцениваются. Почему-нибудь они да признаются нами «ценными» и
«ценностями». Мы можем признать их ценными лишь в том случае,
если сами выше их и делаем их ценными или если они, будучи выше
нас, в то же время и сами мы, а потому сами в себ*е и в нас себя
утверждают. Они - неоспоримо, абсолютно ценны потому, что являются
самооценкою Абсолютного в Нем самом и во всякой Его теофании
[богоявлении], т. е. и в нас» (там же, 236-237).
Автор «Философии истории», таким образом, выступает как
сторонник теологической, богословской теории ценности. Сущность этой
теории в начале 30-х гг. сформулировал Н. О. Лосский в
подзаголовке своего аксиологического труда «Ценность и Бытие»: «Бог и
Царство Божие как основа ценностей»2. По словам Карсавина, «Божьи
законы и явятся критерием для сравнительной оценки всего
относительного по качеству» (там же, 232). Абсолютное как начало, в том
числе и аксиологическое, всего мира лежит в основе карсавинской
метафизики всеединства. Карсавин утверждает «равноценность всех
моментов развития». Притом существует центральный момент
исторического развития. Это - Боговоплощение, обладающее «первоцен-
ностью». Однако, по убеждению Карсавина, «его первоценность
нисколько не умаляет ценности прочих моментов и, в известном
смысле, оно им равноценно» (там же, 250).
Карсавин свое понимание Всеединства формулирует в следующих
«метафизических тезисах». Во-первых, существует «Божество, как
абсолютное совершенное Всеединство». Во-вторых, существует отлич-
1 История разработки концепций ценности рассматривается в кн.: Столович
Л. Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии. М, 1994.
2 См.: Лосский Н. О. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа
ценностей // Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994.
220
ное от Бога «усовершенное или обоженное (абсолютированное) твар-
ное всеединство». В-третьих, «завершенное или стяженное тварное
всеединство, стремящееся к усовершенности своей, как к идеалу или
абсолютному заданию, и чрез него к слиянию с Богом...».
В-четвертых, «незавершенное тварное всеединство, т. е. относительное много-
единство, всеединство, становящееся совершенным чрез свое
завершение, или момент всеединства в его ограниченности» (ФИ, 55). В
трактате «О личности» (1929), образно описывая структуру мира,
Карсавин отмечал, что мир «похож на пасхальное яйцо, состоящее из
многих включенных друг в друга яиц, которым еще так недавно играли
наши дети»1. Мир состоит из многих «моментов», которые он
называет «качествованиями». Но эти «моменты», или «качествования»,
образуют «стяженное единство». Понятие «стяженное», предполагающее
диалектическое единство части и целого, Карсавин заимствует у
Николая Кузанского. По Карсавину, «стяженное всеединство» - это
всеединство, «сжимающее все моменты» (ФИ, 50). Всеединство как
«стяженное всеединство», таким образом, присутствует во всяком
«моменте», и все они в совокупности образуют всеединство Абсолютного. В
определенной мере моделью карсавинского всеединства являются не
только включенные друг в друга пасхальные яйца, но и литературная
форма «венка сонетов». Видимо не случайно, находясь в лагере Абезь,
Карсавин заветные свои метафизические идеи выражает в виде
именно «венка сонетов». Что такое «венок сонетов»? Сам классический
сонет - это сложнейшая литертурно-поэтическая конструкция,
состоящая из 14 строк (2 четверостишия, связанные единой рифмовкой, и
2 трехстишия). Венок же сонетов - это 14 сонетов, в которых каждая
последняя строка предыдущего сонета становится первой строкой
следующего сонета. И вот из этих первых-последнйх строк складывается
15-й, «магистральный сонет». «Магистральный сонет» и образует
«стяженное единство» всех сонетов, и в то же время он растворен в
каждом из «моментов», «качествований» всех других сонетов. Вот
магистральный сонет карсавинского венка сонетов, поэтически
выражающий его метафизику всеединства:
Ты все один: что будет, и что было,
И есть, и то, что может быть. Тебе
Сияет все, как на небе светило,
И движется, покорствуя Судьбе.
Безмерная в Тебе сокрыта сила.
Являешься в согласье и борьбе
Ты, свет всецелый, свет без тьмы в себе.
И тьма извне Тебя не охватила.
1 Карсавин Лев. Религиозно-философские сочинения. М., 1992. Т. 1. С. 98.
Далее ссылки на это издание даются в тексте указанием в скобках «R-ф. соч.» и
страницы.
221
Ты беспределен: нет небытия.
Могу ли в тьме кромешной быть и я?
Свой Ты предел - всецело погибая.
Небытный, Ты в Себе живешь как я,
Дабы во мне воскресла жизнь Твоя.
Ты - мой Творец, Твоя навек судьба - я1.
Рассматривая себя в русле русской философии всеединства,
Карсавин вносит в эту философию ряд важных особенностей. Это
относится, во-первых, к конкретизации всеединства триединством. И во-
вторых, к пониманию всеединства-триединства как
диалектическому становлению личности.
Абсолютное осмысляется Карсавиным как Триединство в связи с
«православной религиозной метафизикой» (ФИ, 329). Принцип
триединства не только увязывает Абсолютное с Пресвятой Троицей (такая
связь подчеркивалась еще у отцов церкви), но стремится выявить
структуру развития, его движение в тройственном ритме: первоединство -
саморазъединение-самовоссоединение2. Если моделью «стяженного
всеединства» может служить литературная форма «венка сонетов», то
временное развертывание всеединства через триединство наглядно
представляется стихотворной формой «терцин», к которой также обратился
Карсавин в последний лагерный период своего творчества. «Терцины»
(ими написана «Божественная комедия» Данте) как бы предполагают
реализацию всеединства во времени: рифмовка первой строфы aba
переходит в рифмовку второй beb, вторая - в рифмовку третьей ede, третья -
в рифмовку четвертой ded и т. д. Вот пример карсавинских «терцин»:
В сомнении коснею у порога
Небытия (- начала и конца). -
Нет без меня познанья, нет и Бога:
Без Твари быть не может и Творца,
Как быть не может твари совершенной
Без Твоего тернового венца.
Но нет меня без этой жизни бренной,
Без адских мук, без неба и земли,
Без разделенной злобою вселенной,
Без мерзких гадов и ничтожной тли.
Твоя Любовь меня усовершила
В себе. Но разве мы с Тобой могли
Забыть, не бывши сделать то, что было?..3
1 Вестник русского студенческого христианского движения. № 104-105.
Париж-Нью-Йорк, 1972. С. 304.
2 См.: Хоружий С. С. Жизнь и учение Льва Карсавина // Хоружий С. С.
После перерыва. Пути русской философии. С. 149-150; о принципе триединства у
Л. Карсавина см. также: Лосский Н. О. История русской философии. С. 385.
3 Вестник русского студенческого христианского движения. № 104-105. С. 309.
222
Подчеркивая историческое развертывание всеединства через
триединство, Карсавин усматривает основание развивающегося всеединства
в личности: «Весь мир - всеединая личность в том смысле, что он -
теофания [богоявление], т. е. Триипостасное Божество, чрез Ипостась
Логоса причаствуемое тварным субстратом» (Р.-ф. соч., 100);
«Всеединая личность Логоса - идеал и существо тварного личного бытия. Но в
твари мы должны учитывать ее несовершенство» (Р.-ф. соч., 124).
Таким образом, Личность выступает как триединство в Пресвятой
Троице. Но и человеческая личность «раскрывается как самоединство,
саморазъединение и самовоссоединение» (Р.-ф. соч., 5).
Несовершенство твари выражается в том, что она в виде вещей и
животных обладает лишь потенциальным и зачаточным личностным
бытием. Вместе с тем индивидуальная человеческая личность не
завершает процесс личностного развития. Помимо индивидуальной
личности Карсавин вводит понятие «социальной личности» и
«симфонической личности». «Социальная группа» мыслится им как
«некоторое целое», как «организм» (ФИ, 91). Это и отдельные социальные
группы или классы людей, нации, поместные церкви, культурные
образования и т. д. Однако «социальная личность» может выражаться в
индивидуальных личностях с разной степенью полноты (см." Р.-ф. соч.,
126). Несовершенство твари - это «ее разъединенность» (см. там же,
214). Но помимо «несовершенной личности» существует «ее
идеальный образ» (там же, 216). «Симфоническая личность» - это
совершенная социальная личность. С богословской точки зрения
«симфоническая личность» - «полное и совершенное отображение
Божьего Триединства» (там же, 66). Говоря аксиологическим языком,
«симфоническая личность» - это социальная личность в ее
ценностном значении. Отсюда и образно-музыкальный термин
«симфоническая».
В своем учении о «симфонической личности» Карсавин
развивает идею соборности Хомякова. Представление развития всеединства
как развитие личности и всеединого человечества, при котором
«высшая личность рождает как свой момент низшую» (там же, 126),
позволяет Карсавину освободиться от символа Софии. Лишь в
стилизованном под древнее произведение сочинении «София земная и
горняя» (1922) Карсавин воспевал «Софию Предвечную» и писал: «Кто
же Она как творенье свое? - Конечно, Слово и Ум, Ее самопостиже-
нье. Слово же есть Человек, Человек - Соборность, Соборность -
София»1. В трактате же «О личности» (1929) Карсавин
«возрожденную тварную Софию», не отличающуюся от «Девы Марии»,
называет ангелом «всего оцерковленного человечества» (Р.-ф. соч., 218). Кар-
савинское понятие «симфонической личности» вобрало в себя,
следовательно, символическую мифологему Софии.
1 Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб., 1994. С. 92.
223
Карсавинская метафизика всеединства-триединства, соединенная
в середине 20-х гг. с идеологией евразийства, была неоднозначно
воспринята русскими философами. Не сомневаясь в громадной
историко-философской эрудиции и культуре философских размышлений
Карсавина, в его воззрениях усматривали те или иные недостатки,
несовместимые со взглядами критикующих. Так, Н. О. Лосский
отмечал «пантеистический характер системы Карсавина» и видел его
обнаружение в том, что «в ней отношение между Богом и
космическим процессом является в некотором роде игрой Бога с самим
собой»1. Н. А. Бердяев в 1939 г. критиковал Карсавина с точки зрения
своей персоналистической философии (т. е. философии,
провозглашающий приоритет свободы, творчества и ценности
индивидуальной личности - персоны). «Совершенно непонятно, - писал он, -
что, например, Карсавин отрицает существование человеческой
личности и признает лишь существование Божественной личности
(ипостаси). Он строит учение о симфонической личности,
осуществляющей божественное триединство. Учение о симфонической личности
глубоко противоположно персонализму и означает метафизическое
обоснование рабства человека»2.
Философия всеединства-триединства Л. Карсавина гонениями
40-х гг. и лагерной кончиной религиозного мыслителя была
окрашена трагической судьбой. В этом аспекте обретает и новое звучание
«глубинное ядро его философии, идея жизни-чрез-смерть»3.
Мученическая смерть Карсавина и долгое замалчивание его творчества на
родине в определенной степени способствовали пробудившемуся в
90-е гг. интересу к религиозно-философским трудам Карсавина,
которые и за рубежом многие годы не переиздавались.
1 Лосский Н. О. История русской философии. С. 384.
2 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической
философии // Бердяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. М., 1995. С. 19.
3 Хоружий С. С. Жизнь и учение Льва Карсавина. С. 146.
IX
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ
В последующих очерках речь пойдет о течениях русской
философской мысли первой половины XX столетия, помимо
рассмотренной выше «философии всеединства». Какие это течения?
Общепринятой классификации этих течений, или направлений, не существует. В
различных трудах по истории русской философии (В. В. Зеньковского,
Н. О. Лосского, Э. Л. Радлова, Б. В. Яковенко, С. А. Левицкого и др.)
предлагаются различные классификационные схемы. Трудность
отнесения того или другого мыслителя к тому или иному философскому
направлению заключается в том, что его мировоззрение
многосторонне и может быть охарактеризовано по различным сторонам. Сложность
распределения русских философов по разным рубрикам - одно из
свидетельств самобытности русской философской мысли. И дело не только
в том, что она большей частью не стремилась к созданию систем.
Русские мыслители, как правило, не шли строго в фарватере тех
направлений, которые с конца прошлого века существовали в
западноевропейской философии. В России были сторонники неокантианства и
неогегельянства, феноменологической философии и интуитивизма, но и
они часто не укладывались в рамки какого-то одного течения.
Поэтому, отдавая себе отчет в условности классификации
направлений русской философской мысли, мы все же попытаемся
сгруппировать материал по основным тенденциям философского творчества
ведущих философов рассматриваемого периода.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛИЗМ
Н. А. БЕРДЯЕВА
Жизненный путь философа
Николай Александрович Бердяев (1874-1948) родился в Киеве в
дворянской семье. Поскольку отец его был кавалергардским
офицером, потомственным военным, то и будущего философа готовили к
военной карьере. Его определили в Киевский кадетский корпус, а
затем перевели в Пажеский кадетский корпус в Петербурге. Но, сдав
экзамены на аттестат зрелости, он поступил на естественный
факультет Киевского университета, а через год перешел на факультет
юридический. В студенческие годы Бердяев много и систематически за-
8-99
225
нимается философией. Однако за участие в социал-демократической
деятельности и пропаганду марксизма в 1898 г. он был арестован,
исключен из университета и сослан в 1900 г. в Вологду, а затем в
Житомир. С 1898 г. начали публиковаться статьи Бердяева. В 1901 г.
вышла в свет его первая книга (с предисловием П. Б. Струве)
«Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический
этюд о Н. К. Михайловском».
Бердяев, как Струве и Булгаков, в начальный период своей
творческой деятельности стоял на позиции «легального марксизма».
«Легальные марксисты» печатались в легально разрешенных изданиях.
Они разделяли с марксистами экономический подход к изучению
общественной жизни, были убеждены в неизбежности
капиталистического развития России и поэтому критиковали народническую
идеологию, которая отрицала эту неизбежность. Но в философском
отношении «легальные марксисты» отнюдь не были марксистскими
ортодоксами. Они полагали, что марксизм нуждается в дополнении
кантианством, особенно в области этики. Не случайно «легальные
марксисты» уже в конце XIX в. начали движение, которое С.
Булгаков точно определил в названии своего сборника статей: «От
марксизма к идеализму».
В 1901 г. Бердяев публикует в «Мире Божьем» статью «Борьба за
идеализм», а в 1902 г., как и Булгаков, принимает участие в сборнике
«Проблемы идеализма», в который была включена его статья
«Этическая проблема в свете философского идеализма». В 1907 г.
выходит сборник статей и эссе Бердяева, написанных с 1900 по 1906 г.,
под названием «Sub specie aeternitatis», т. е. на латинском языке: «С
точки зрения вечности»1. В этой книге философ показывает, почему
он отходит от марксизма и какое мировоззрение соответствует его
умонастроению. Свой идейный путь он определяет следующим
образом: «От марксистской лжесоборности, от декадентско-романти-
ческого индивидуализма иду к соборности мистического
неохристианства» («Sub», 4). Отдавая должное марксизму, отмечая его
значение «в духовной культуре, в современных исканиях, в
определении ценного содержания жизни», бывший «легальный марксист»
писал, что тут-то и «обнаруживается полнейшее бессилие и немощь»
(«Sub», 215).
Бердяев - один из тех русских философов, для которого
важнейшее значение имеет теоретико-ценностный, аксиологический
подход к миропониманию. Марксизм для него неприемлем
прежде всего потому, что в нем «решительно отвергается самоценность
прав личности» («Sub», 245). «Революция, - писал он за 12 лет до
1 Бердяев Н. Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и
литературные (1900-1906 гг.). СПб., 1907. Ссылки на это издание приводятся в
тексте указанием в скобках «Sub» и страницы.
226
1917 г., - слишком часто заражается тем духом, против которого
борется: один деспотизм порождает другой деспотизм, одна
полиция - другую, вандализм реакции порождает вандализм
революции» («Sub», 375).
С точки зрения Бердяева, «преодолеть этот тяжкий кошмар
прошлого», «освободить творчество культуры можно только на том пути,
который признает свободу и права человека абсолютными
ценностями» («Sub», 380). «Человеческая личность, этот метафизический дух,
внутренно свободный», «обладает абсолютной ценностью», хотя
«достоинство ее может быть поругано» («Sub», 220). Преимущество
идеализма, по его мнению, и состоит в том, что он «признает
абсолютную ценность нравственного блага и естественного права человека»
(«Sub», 19). Он убежден в том, что «абсолютная ценность
человеческой личности может быть признана лишь религией ценностей
сверхчеловеческих» («Sub», 377).
Через всю книгу «с точки зрения вечности» утверждается
абсолютная ценность понятий, которые станут ключевыми для всего
последующего развития философии Бердяева: личность, свобода,
творчество.
В 1907 г. выходит книга Бердяева «Новое религиозное сознание
и общественность», теоретически обосновывающая богоискатель-
ское движение русской либеральной интеллигенции, начатое Д. С.
Мережковским. В 1909 г. в сборнике «Вехи» печатается статья
Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда», в которой
утверждалось, что в русской интеллигенции «любовь к
уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу
парализовала любовь к истине...» и что «мы освободимся от внешнего
гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства»1.
Пафос искания истины для освобождения от духовного рабства -
основной стимул философской деятельности Бердяева. В 1911 г. вышла
в свет его книга «Философия свободы», а в 1916 г. - «Смысл
творчества. Опыт оправдания человека», которая итожила
дореволюционный период философского творчества автора. В годы революций и
войны философ духовно погружен в свершающиеся перевороты и
зигзаги судеб России. Помимо многих статей в периодических
изданиях он в 1918 г. выпускает книгу «Судьба России. Опыт по
психологии войны и национальности». В 1919 г. он создает в Москве
Вольную академию духовной культуры и читает в ней курсы по
философии религии и истории, привлекая к ее деятельности таких
мыслителей и поэтов, как Андрей Белый, Вяч. Иванов, Ф. Степун, С. Франк.
В 1920 г. Бердяев был вызван в ЧК: с ним беседовал сам
Дзержинский в присутствии своего заместителя Менжинского и Каменева.
Философ произнес длинную речь, объяснявшую его неприятие со-
1 Вехи. Из глубины. С. 17, 30.
8*
227
ветской власти. Прямота высказываний Бердяева понравилась
руководителю ЧК.
После ареста в 1922 г. он оказался на так называемом
«философском пароходе», который увозил за границу антисоветски
настроенных деятелей русской культуры1.
В Берлине и Праге в 1923 г. выходит ряд его работ, таких, как
«Философия неравенства», «Смысл истории», «Миросозерцание
Достоевского». В 1924 г. в Берлине была издана небольшая книжка
Бердяева «Новое средневековье», содержащая размышления об
эпохе, русской революции, демократии, социализме и теократии. Она
была переведена на 14 языков и сделала русского философа
европейски известным. Бердяев встречается со Шпенглером, о знаменитой
книге которого «Закат Европы» он писал в статье «Предсмертные
мысли Фауста», знакомится с Максом Шелером, Германом Кейзер-
лингом. После того как в 1924 г. Бердяев переехал в Париж, он
сотрудничает и дружит с Жаком Маритеном, Габриелем Марселем и
другими видными европейскими мыслителями.
Бердяев был хорошо знаком с современной мировой
философской мыслью и живо откликался на появляющиеся сочинения Э.
Гуссерля, М. Хайдеггера, Н. Гартмана, К. Ясперса^ и других властителей
философских дум 20-30-х гг. Книги Бердяева переводятся на
различные языки, и он становится в Западной Европе и Америке самым
известным русским философом.
Вместе с тем у Бердяева сохраняются тесные, хотя порой и
непростые, связи с русскими философами, оказавшимися, как и он сам,
в эмиграции. Еще в Берлине он основывает русскую
религиозно-философскую академию, деятельность которой продолжается в
Париже. При академии под его редакцией с 1925 по 1940 г. издается орган
русской философско-религиозной мысли - журнал «Путь», в
котором печатаются статьи философов русского зарубежья, в том числе и
многочисленные труды самого Бердяева.
Переехав во Францию, русский философ поселяется в Кламаре,
под Парижем, где всецело отдается творческой работе. Один за
другим появляются такие труды, как «Философия свободного духа.
Проблематика и апология христианства» (1927-1928), «О назначении
человека. Опыт парадоксальной этики» (1931), «Я и мир объектов. Опыт
философии одиночества и общения» (1934), «Судьба человека в
современном мире (К пониманию нашей эпохи)» ( 1934), «Истоки и смысл
русского коммунизма» (вышла на английском языке в 1937 г.), «О
рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии» (1939),
«Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала
XX века» (1946), «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и
1 См.: Хоружий С. С. Философский пароход // Хоружий С С. После
перерыва. Пути русской философии. С. 189-208.
228
объективация» (фр. изд. - 1946 г., рус. - 1947 г.), «Истина и
откровение. Пролегомены к критике Откровения» (написана в 1945-1947 гг.
Опубликована на рус. яз. на родине автора в 1996 г.),
«Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» (на фр. яз. книга вышла
в 1947 г., на рус. - после смерти автора в 1952 г.). Посмертно вышли
книги «Царство Духа и царство Кесаря» (Париж, 1949) и
«Самопознание (Опыт философской автобиографии)» (Париж, 1949).
Вторая мировая война, особенно немецкая оккупация Франции и
нападение Германии на СССР, потрясла Бердяева. Хотя лично его не
затронули репрессии оккупантов (дом в Кламаре навещало гестапо,
но, по-видимому, философа оберегала его известность и
популярность, в частности в Германии), он глубоко переживал
происходящие аресты друзей и власть ненавистных ему фашистов. По его
словам, «ни в каких начинаниях, хотя бы отдаленно связанных с
немцами, я не соглашался принимать участия. Поэтому я не мог читать
публичных лекций и докладов». Его кламарский дом стал «одним из
центров патриотических настроений»1.
Победа над Германией, решающий вклад в которую внесла родина
русского философа, усилила эти настроения. Встал даже вопрос о
возвращении в Россию, но этот вопрос был для него очень болезненным:
ведь там «философия остается в очень неблагоприятном положении,
свободы мысли нет. Мне, может быть, и позволили бы вернуться в
Россию. Но что я мог бы там делать?» - писал он в добавлениях к
«Самопознанию» (341). 1947 г. назван им «годом мучения о России»: «Я
пережил тяжелое разочарование. После героической войны процессы,
происходящие в советской России, протекли не так, как можно было
надеяться. Свобода не возросла, скорее наоборот. Особенно тяжелое
впечатление произвела история с Ахматовой и Зощенко. Диалектический
материализм по-прежнему является господствующим государственным
миросозерцанием» (346). Творчество Бердяева замалчивалось в
Советском Союзе, в то время как в Западной Европе, Америке и даже в
Азии все больше возрастала его известность: в 1947 г. Кембриджский
университет присвоил ему степень почетного доктора, его выдвигают
на соискание Нобелевской премии. Но 23 марта 1948 г. во время
работы за письменным столом заканчивается его жизненный путь.
Что же представляет собой философия Бердяева? Им написано
множество книг и статей. Притом взгляды его подчас менялись и не
опасались быть парадоксальными. Афористическая форма его
произведений предполагала не дискурсивно-логическую
доказательность, а была порождена интуицией и апеллировала к интуиции
читателя. И тем не менее, по самооценке самого Бердяева, его «фило-
1 Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1991.
С 336. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием в скобках
страницы.
229
софское миросозерцание чрезвычайно централизовано» (295).
Однако раскрыть это философское миросозерцание непросто. Ведь
пишущие об этом миросозерцании руководствуются своим, во многих
случаях отличным, а порой и противоположным бердяевскому1.
На наш взгляд, центральную идею Бердяева очень точно
определил Федор Степун: «Бердяев - определенный однодум. Единая мысль,
которой он мучился уже в довоенной Москве и которою будет
мучиться и на смертном одре, - это мысль о свободе. Многократно
меняя свои теоретические точки зрения и свои оценки, Бердяев никогда
не изменял ни своей теме, ни своему пафосу: как марксист, он
защищал экономическое и социальное раскрепощение масс, как идеалист -
свободу духовного творчества от экономических баз и
идеологических тенденций, как христианин, он с каждым годом все страстнее
защищает свободное сотрудничество человека с Богом и с
недопустимою подчас запальчивостью борется против авторитарных
посягательств духовенства на свободу профетически-философского духа
в христианстве. На исходе средневековья Н. А. Бердяев, несмотря на
свое христианство, мог бы кончить свою жизнь и на костре»2.
Верующий вольнодумец
Бердяев был, несомненно, религиозным мыслителем, но его
религиозность не носила церковно-ортодоксальный характер. «Я
представитель свободной религиозной философии» (175), «я верующий
вольнодумец» (185), - отмечал он в «Самопознании». «У меня есть настоящее
отвращение к богословско-догматическим распрям», - признавался
философ, считавший свою философию «исповеданием веры» (314).
Говоря, что Бердяев «мог бы кончить свою жизнь и на костре», Ф. Степун не
был далек от истины: за статью «Гасители Духа», направленную
против Синода в защиту духовной свободы, Бердяев был отдан под суд, и
ему «за богохульство» грозило вечное поселение в Сибири, от
которого его спасла только Февральская революция 1917 г. (см. 202-203).
Каково же, по Бердяеву, отношение Бога и мира? В чем
заключается свобода человека и каков ее источник? Эти вопросы - центральные
для его философского миропонимания. Он стремился их решать в
подавляющем большинстве своих трудов, варьируя ключевые формулы.
Для Бердяева как верующего христианина существование Бога
несомненно: «Жизнь делается плоской, маленькой, если нет Бога и
высшего мира»(168). Однако возникает проблема, которая не
переставала быть актуальной для богословия и религиозной философии
и которой Бердяев мучился всю свою жизнь, - проблема
возникновения зла, существующего в мире, охватывающего все наличное
бытие. Традиционное христианское богословие связывало появление зла
1 См.: Н. А. Бердяев: pro et contra. Антология. Кн. 1. СПб., 1994.
2 Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. М.; СПб., 1995. С. 200.
230
и греха со свободой, дарованной человеку Богом. Обладая
свободной волей, человек имеет возможность выбирать как добро, так и
зло. Правда, человек должен знать, что за свой выбор он получит
соответствующее воздаяние. Творя добро, он гарантирует себе в
посмертном существовании райское блаженство. Деяние же зла
чревато вечными адскими мучениями.
Бердяев восстает против традиционных богословских
рассуждений, полагая, что при такой логике Бог все-таки оказывается
ответственным за существование зла в мире: если зло - порождение
свободы человека, а эта свобода дана Богом, то и сам Он тем самым
порождает зло. С этой логикой Бердяев не может смириться. «Мир не
окончательно мне чужд только потому, что есть Бог. Без Бога он мне был
бы совершенно чужд», - читаем мы в «Самопознании» (331). «Бог есть
правда, мир же есть неправда» (173). И там же: «У меня есть
религиозное переживание, которое очень трудно выразить словами. Я
погружаюсь в глубину и становлюсь перед тайной мира, тайной всего, что
существует. И каждый раз с пронизывающей меня ост-ротой я ощущаю,
что существование мира не может быть самодостаточным, не может
не иметь за собой в еще большей глубине Тайны, таинственного
Смысла. Эта Тайна есть Бог. Люди не могли придумать более высокого
слова» (185). И далее: «Если нет Бога, т. е. если нет высшей сферы
свободы, вечной и подлинной жизни, нет избавления от необходимости мира,
то нельзя дорожить миром и тленной жизнью в нем» (302).
И Бердяев стремится оградить Бога от репутации творца не
только добра, но и зла, создателя не только рая, но и ада. Идея ада в
принципе неприемлема для Бердяева. Для него «ад существует как
человеческий опыт, как человеческий путь» (71), но превращение его в
вечные муки грешников - это проявление утонченного садизма,
противоречащего сущности христианства: «Все учение Христа
проникнуто любовью, милосердием, всепрощением, бесконечной
человечностью, которой раньше мир не знал» (312). «Если идея ада раньше
удерживала в церкви, то сейчас она лишь отталкивает от церкви, как
идея салическая, и мешает вернуться в нее. Судебная религия
больше не годна для человека, человек слишком истерзан миром» (313).
«Ад создает и организует отделение души от Бога, от Божьего мира,
от других людей». По Бердяеву, «нравственное сознание началось с
Божьего вопроса: «Каин, где брат твой Авель?» Оно кончится
другим Божьим вопросом: «Авель, где брат твой Каин?»1
Философия свободы
Но кто ответственен за Зло, совершающееся в мире? Как
обосновать алиби Бога? Бердяев принимает положение традиционного
богословия о связи зла и свободы. В «Миросозерцании Достоевско-
1 БердяевН. А. О назначении человека. М., 1993. С. 237.
231
го» он писал: «Зло необъяснимо без свободы. Зло является на путях
свободы. Без этой связи со свободой не существует ответственности
за зло. Без свободы за зло был бы ответственен Бог»1. Но разве Бог
не ответственен за свободу и, следовательно, за зло?
И вот для того, чтобы снять с Бога эту ответственность,
Бердяев разводит понятия «Бог» и «свобода». В «Смысле творчества»
он для этого привлекает учение немецкого философа-мистика
Якоба Бёме о Бездне - Ungrund. Эта Бездна предшествует Богу. Таким
образом, «зло имеет источник не в Боге, а в Бездне», «из которой
течет и свет, и тьма». Зло - это «тень божественного света»2. «Я
истолковываю Ungrund Бёме как первичную, добытийственную
свободу. Но у Бёме она в Боге, как Его темное начало, у меня же
вне Бога», - подводил Бердяев итог своим размышлениям о Боге,
свободе и зле (101). По ортодоксальным богословским доктринам
с их «судебным учением об искуплении, учением об аде и многим
другим» оказывалось, что «Бог зол, а не добр». Сам философ в
тяжелые и мучительные годы кровопролитной войны - всеобщего
торжества зла - ловил себя на этой неприемлемой для него
мысли, но, по его словам, «находил выход в идее несотворенной
свободы» (337), т. е. в том, что источником Зла является не Бог, не
порождаемая Им свобода, а несотворенная Им свобода,
исходящая из Бездны.
Эта далеко не ортодоксальная теодицея - «оправдание Бога» -
приводила и к нетрадиционному пониманию места Бога в мире: «Бог
открывает Себя миру, Он открывает Себя в пророках, в Сыне, в Духе,
в духовной высоте человека, но Бог не управляет этим миром,
который есть отпадение во внешнюю тьму» (173). Бог не есть миропра-
витель: «В этом мире необходимости, разобщенности и порабощен-
ности, в этом падшем мире, не освободившемся от власти рока,
царствует не Бог, а князь мира сего. Бог царствует в царстве свободы, а
не в царстве необходимости, в духе, а не в детерминированной
природе» (311). К Богу не может быть приложено «такое низменное
начало, как власть». Поэтому «Бог никакой власти не имеет. Он имеет
меньше власти, чем полицейский» (177).
Философ писал, что ему самому «глубоко присущ религиозный
гуманизм, вера в человечность Бога. Это человек бесчеловечен, Бог
же человечен. Человечность есть основной атрибут Бога. Человек
вкоренен в Боге, как Бог вкоренен в человеке» (178-179).
Следовательно, теодицея Бердяева переходит в антроподицею. Поэтому-то
программное произведение философа «Смысл творчества» имеет
подзаголовок: «Опыт оправдания человека».
1 Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. С. 58.
2 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 373.
232
Учение о личности
Не случайно поэтому проблема личности находится в центре
философии Бердяева. По его словам, «свобода, личность, творчество
лежат в основании моего мироощущения и миросозерцания» (59). Но
что такое личность? Бердяев подчеркивает принципиальное различие
между понятиями «личность» и «индивидуум». «Индивидуум есть
категория натуралистически-биологическая. Личность же есть
категория религиозно-духовная», - утверждает автор книги «О назначении
человека. Опыт парадоксальной этики». Хотя личность
«соотносительна обществу», «к обществу, к социальному коллективу личность
принадлежит лишь частью своего существа. Остальным же своим
составом она принадлежит к миру духовному».
Притом «личность есть категория аксиологическая, оценочная».
Не всякий индивидуум достоин характеризоваться в качестве
личности: «Ценность личности есть высшая иерархическая ценность в мире,
ценность духовного порядка. В учении о личности основным
является то, что ценность личности предполагает существование
сверхличных ценностей. Именно сверхличные ценности и созидают
ценность личности. Личность есть носитель и творец сверхличных
ценностей, и только это созидает ее цельность, единство и вечное
значение». И далее: «Личность есть ценность, стоящая выше государства,
нации, человеческого рода, природы, и она, в сущности, не входит в
этот ряд»1. Вот почему Бердяев неоднократно подчеркивает, что его
философия является персоналистической.
Ценностное понимание личности определило отношение
Бердяева ко всякому тоталитаризму, подавляющему личность. «Идол
коллектива столь же отвратителен, как идол государства, нации, расы,
класса, с которыми он связан» - читаем мы в «Самопознании». И
хотя, по мнению Бердяева, «социально в коммунизме может быть
правда, несомненная правда против лжи капитализма, лжи
социальных привилегий», «ложь коммунизма есть ложь всякого
тоталитаризма» (243). Бердяев в принципе не против социализма: «Я
сторонник социализма, но мой социализм персоналистический, не
авторитарный, не допускающий примата общества над личностью,
исходящий от духовной ценности каждого человека, потому что он
свободный дух, личность, образ Божий» (242-243).
Бердяев относил себя к романтикам, поскольку «испытывал не
столько нереальность, сколько чуждость объективного мира» (45). Он
подчеркивал, что «никогда не был материалистом» (95), признавался,
что любит форму тела, но не любит материю, «которая есть тяжесть и
необходимость». «Более всего, - отмечает философ, - я сопротивлялся
внутри христианства религиозному материализму» ( 173). Речь идет о
«религиозном материализме» Вл. Соловьева, С. Булгакова, П. Флоренского.
1 Бердяев Н. А. О назначении человека. С. 62, 64, 65, 62, 63.
233
Обоснование своей нелюбви к реальной действительности
Бердяев дает в очень важной для его «философии духа» идее объективации.
По его формулировке, «объективной реальности не существует, это
лишь иллюзия сознания, существует лишь объективация реальности,
порожденная известной направленностью духа. Объективированный
мир не есть подлинный реальный мир, это есть лишь состояние
подлинного реального мира, которое может быть изменено. Объект есть
порождение субъекта. Лишь субъект экзистенциален, лишь в субъекте
познается реальность» (295). «Зло объективации» - это
«необходимость, отчужденности, безличности», «падший мир», «порабощенность
субъекта», хотя и порожденная самим субъектом (296). Бердяевская
трактовка объективации в определенном смысле близка понятию
отчуждения, согласно которому продукты человеческого сознания и
деятельности являются чуждыми, враждебными человеку.
Философия творчества
Как же преодолеть объективацию? Чем оправдывается
существование человека в мире? На эти вопросы Бердяев дает ответ одним
словом. И это слово - творчество. Ему посвящена книга, которую
автор считал «самым вдохновенным своим прризведением» и
первым выражением своей оригинальной философской мысли, - «Смысл
творчества. Опыт оправдания человека». О творчестве Бердяев
писал во многих своих последующих трудах, вплоть до чеканных
формулировок «Самосознания».
Почему же творчество является оправданием человека? Само
творчество оправдано, по Бердяеву, тем, что «мир творится Богом».
Но и «человеческая природа - творческая, потому что она есть образ
и подобие Бога-Творца». «Антропологическая истина» и состоит в
том, что «образ и подобие Творца не может не быть творцом». И к
Богу, и к человеку относится закономерная связь творчества и
свободы: «Творчество неотрывно от свободы. Лишь свободный творит».
«Тайна творчества есть тайна свободы»1.
Подчеркивая свободный характер творчества, Бердяев приводит
такой необычный аргумент. Он констатирует, что «в Евангелии нет
ни одного слова о творчестве, и никакими софизмами не могут быть
выведены из Евангелия творческие призывы и императивы».
Казалось бы, этот факт свидетельствует о нехристианском характере
концепции творчества Бердяева. Но религиозный философ как раз этим
«умолчанием Евангелия о творчестве» подтверждает христианскую,
по его представлению, связь творчества и свободы: «Если бы пути
творчества были оправданы и указаны в священном писании, то
творчество было бы послушанием, т. е. не было бы творчеством»1.
1 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. С. 357, 340, 368, 369.
2 Там же. С. 327, 328. В последующих своих работах Бердяев писал, что
«Христос прикровенно, в притчах, говорит о творчестве человека, об его
творческом призвании» (см.: Бердяев Н. А. О назначении человека. С. 117).
234
В религиозном смысле, по Бердяеву, «творческие дары даны
человеку Богом, но в творческие акты человека привходит элемент
свободы, не детерминированный ни миром, ни Богом»; «творчество есть
продолжение миротворения. Продолжение и завершение миротворе-
ния есть богочеловеческое, Божье творчество с человеком,
человеческое творчество с Богом» (214).
Под творчеством Бердяев понимает «не создание культурных
продуктов, а потрясение и подъем всего человеческого существа,
направленного к иной, высшей жизни, к новому бытию». «В опыте
творчества преодолевается подавленность, раздвоенность, порабощенность
внеположностью» (211). Он подчеркивает, что для него творчество -
«не объективация, а трансцендирование», т. е. «не столько
оформление в конечном, в творческом продукте, сколько раскрытие
бесконечного, полет в бесконечность» (210). Вместе с тем «творчество
противоположно эгоцентризму», ибо «творчество менее всего есть
поглощенность собой, оно всегда есть выход из себя. Поглощенность
собой подавляет, выход из себя освобождает» (211). «Этика
творчества» - высшая ступень этики, заступающая место «этики закона»
(«этика социальной обыденности») и «этики искупления» («этика
евангельская», «этика богочеловеческая»). Этика творчества - этика
«истинного призвания и назначения человека»1.
Бердяев отмечал эсхатологический2 характер своей философии
истории, т.е. «понимание исторического процесса в свете конца»
(305). Катаклизмы и катастрофы времени его жизни, казалось,
подтверждали такое миропонимание. Однако возможно ли спасение?
В статье «Спасение и творчество» (1926), посвященной памяти Вл.
Соловьева, Бердяев утверждает спасительную роль творчества:
«Творчество помогает, а не мешает спасению, потому что
творчество есть исполнение воли Божьей, повиновение Божьему призыву,
соучастие в деле Божьем в мире»3. Такое творческое «соучастие в
деле Божьем в мире», «богочеловеческое творчество»,
«совместное с Богом продолжение творения» он, вслед за Соловьевым,
называл теургией. «Теургия есть универсальное делание. В ней
сходятся все виды человеческого творчества. В теургии, - по словам
автора «Смысла творчества», - творчество красоты в искусстве
соединяется с творчеством красоты в природе». В переходе искусства
в теургию Бердяев видит решение проблемы, поставленной
Достоевским: спасет ли красота мир? Как любимый им писатель и Вл.
Соловьев, Бердяев верит в спасительную миссию искусства,
обосновывая ее своей концепцией творчества: «Красота есть великая
1 Бердяев Н. А. О назначении человека. С. 121.
2 Слово «эсхатология» (от греческих слов éschatos - последний, конечный и
logos - учение) означает учение о конечных судьбах мира, индивидуальной и
исторической жизни.
3 Бердяев Hг. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 1. С. 362.
235
сила, и она мир спасет», поскольку «в художнике-теурге
осуществится власть человека над природой через красоту»1.
Свою философию Бердяев называет экзистенциальной. Что
понимается им под экзистенциальной философией (вспомним, что слово
«existentia» на латинском языке означает «существование»)? В книге
«Самопознание», которую он сам считал «опытом вполне личной
экзистенциальной философии» (317), философия называется
экзистенциальной, если в ней существует связь определенного «типа
философского миросозерцания» с «типом моей душевной и духовной
структуры» (89). «Экзистенциальные философы», по Бердяеву, всегда
«вкладывали в свою философию себя», «свое человеческое,
экзистенциальное» ( 104,105). «Я называю экзистенциальным философом того, у кого
мысль означает тождество личной судьбы и мировой судьбы», -
утверждает автор «Самопознания» как «Опыта философской
автобиографии» ( 105). «Экзистенциальная философия, - по его словам, - прежде
всего определяется экзистенциальностью самого познающего
субъекта. Философ экзистенциального типа не объективирует в процессе
познания, не противополагает объект субъекту. Его философия есть
экспрессивность самого субъекта, погруженного в тайну
существования» (280). «Экзистенциальная философия» - выражение «моей
человечности, человечности, получившей метафизическое значение» (218).
Порой Бердяева рассматривают как философа, примыкающего к
экзистенциалистской философии, получившей широкое
распространение в 20-30-х гг. и представленной такими мыслителями, как
Мартин Хайдеггер и Карл Ясперс в Германии, Жан Поль Сартр и Габриель
Марсель во Франции. Но сам Бердяев неоднократно подчеркивал, что
его экзистенциальная философия - нечто иное, чем экзистенциализм
Хайдеггера, Ясперса, Сартра и Марселя. Для Бердяева философами
экзистенциального типа были Августин, Паскаль, Кьеркегор,
Достоевский, Ницше (см. 97,101,104, 280), а из современников - Лев
Шестов (104). Противопоставляя экзистенциальную философию
религиозной схоластике (265), Бердяев в то же время не приемлет
экзистенциализм как философию нерелигиозную или недостаточно, по его
мнению, религиозную. Себя же он определяет в качестве
представителя «религиозного, спиритуального экзистенциализма»2.
Философ-публицист Б. Парамонов в связи с 50-летием со дня
смерти Бердяева отмечал: «Лучшее, что мы можем сделать с
Бердяевым и для Бердяева, - это сохранить его в культурной памяти как
некую антикварную ценность. Учителем и пророком он быть уже не
может». Неудовольствие Б. Парамонова, полагающего, что «на
утонченную духовную деятельность у человечества сейчас просто нет
1 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. С. 458-459.
2 Бердяев Н. Сартр и судьба экзистенциализма // Бердяев Николай. Истина и
откровение. Пролегомены к критике Откровения. СПб., 1996. С. 309.
236
времени», вызывают, главным образом, суждения Бердяева о
трансформации культуры в цивилизацию и его критическое отношение к
последней как к «варварской».
Это, конечно, можно оспаривать, хотя многие из тех
противоречий цивилизации, которые отмечал Бердяев, продолжают
существовать. На должность «учителя жизни», «педагога», «руководителя»
русский экзистенциальный философ и не претендовал. Пророком он
бывал. К сожалению, невеселым. Остается ли он пророком? Чтобы
ответить на этот вопрос, надо самому им быть. Философия Бердяева
имеет только «антикварную ценность», если лишь «антикварной
ценностью» обладают личность, свобода, творчество, которым
всецело посвящена его философия, а все, что им препятствует или даже их
уничтожает - безличность, рабство, объективация, - находится лишь
в воображаемом пока Музее истории человечества.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИРРАЦИОНАЛИЗМ
ЛЬВА ШЕСТОВА
К экзистенциальному типу философствования Бердяев относил
философские воззрения Льва Шестова, при всей несхожести его и
своих взглядов. По словам автора «Самопознания», объединяла их
общая проблематика, «общение экзистенциальное, искание смысла
жизни» (104, 125).
Лев Шестов (псевдоним Льва Исааковича Шварцмана) (1866-1938)
родился в Киеве в семье крупного коммерсанта. Начал учебу в
Киевской гимназии, но перевелся в Москву в связи с политическими
неприятностями. Окончив гимназический курс, он поступает на
физико-математический факультет, но затем переходит на юридический
факультет Московского университета. Проучившись один семестр в
Берлине, Шестов заканчивает университетское образование в Киеве.
Заинтересовавшись марксистским учением, он готовит диссертацию по
рабочему вопросу, но эта диссертация не проходит цензуру. После
службы в армии работает адвокатом в Москве, а затем в Киеве в деле отца,
выступает в печати по финансовым и экономическим проб-лемам.
С 1895 г., отойдя от марксистских взглядов и настроений, он
публикует статьи «Вопрос совести (О Владимире Соловьеве)» и «Георг
Брандес о Гамлете». Живя с 1896 по 1899 г. за границей (он выехал
туда для лечения), Шестов погружается в изучение философии и
литературы, вырабатывая свое миропонимание, начинает серьезно
заниматься философско-литературной деятельностью.
Шекспиру, которого он называл своим первым учителем,
посвящена и первая книга Шестова «Шекспир и его критик Брандес»,
изданная в 1898 г. В следующем году выходит в свет книга «Добро в
учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)», которая
237
привлекла внимание H. К. Михайловского. В 1902 г. в журнале «Мир
искусства» печатается его книга «Достоевский и Ницше
(Философия трагедии)». В 1905 г. большой интерес философской и
литературной общественности России вызвала новая книга Шестова,
написанная в форме афоризмов, «Апофеоз беспочвенности. Опыт адог-
матического мышления».
«Философия трагедии» и «апофеоз беспочвенности»
К этому времени сложились взгляды Шестова на предмет и
задачи философии, которые получат развитие в его последующих
статьях и книгах. Он рассматривает Льва Толстого как философа «в
лучшем и благороднейшем смысле этого слова, ибо он говорит о жизни,
изображает жизнь со всех наиболее загадочных и таинственных
сторон ее». По его мнению, «собственно же философия должна
начинаться там, где возникают вопросы о месте и назначении человека в
мире, о его правах и роли во вселенной и т. д.»1.
Но сама жизнь неизлечимо трагична. По убеждению Шестова,
«трагедии из жизни не изгонят никакие общественные
переустройства» и «настало время не отрицать страдания как некую фиктивную
действительность», а «принять их, признать и, может быть,
наконец понять» («Избр.», 323). Опираясь на Достоевского и Ницше, в
книге им посвященной, Шестов противопоставляет подлинную
философию - «философию трагедии» «философии обыденности» (там
же, 324-325).
В «Апофеозе беспочвенности» Шестов углубляет свое
понимание философии: «философия должна бросить попытки отыскания
veritates aeternae [по латыни - вечные истины]. Ее задача - научить
человека жить в неизвестности - того человека, который больше
всего боится неизвестности и прячется от нее за разными догмами.
Короче - задача философии не успокаивать, а смущать людей» (там же,
347). Он не приемлет служебную роль философии ни в качестве
«служанки богословия», ни в виде «прислужницы наук» (там же, 380).
Он отрицает основанную на логике «ложь» идеализма и
примитивность материализма. Автор «Апофеоза беспочвенности» полагает,
что «истин столько, сколько людей на свете» (там же, 460) и что
книги мудрецов «можно и даже должно читать - но жить надо своим
умом» (там же, 461). Шестов неоднократно подчеркивает значение
для философии скептицизма, сомнения: «Нужно, чтобы сомнение
стало постоянной творческой силой. Пропитало бы собой самое
существо нашей жизни» (там же, 384); «Философ обязан
сомневаться, сомневаться и сомневаться...» (там же, 464).
1 Шестов Л. Избр. соч. М.,1993. С. 87, 88. Далее ссылки на это издание
будут приводиться в тексте обозначением в скобках «Избр.» и страницы.
238
Бердяев остроумно заметил, что когда «беспочвенность»
начинает писать свой «апофеоз», сама «она делается догматической», и
«абсолютный скептицизм так же может убить тревожные искания, как и
абсолютный догматизм»1. Однако «Апофеоз беспочвенности» и «адог-
матическое мышление» в философии для Шестова - не самоцель.
Уже книга «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» заканчивается
словами: «Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра.
Нужно искать Бога» (там же, 157). В «Апофеозе» Шестов стремится
не поминать имя Бога «всуе», но и здесь он «проговаривается»: «Но
если есть Бог, если все люди - дети Бога, то, значит, можно ничего не
бояться и ничего не жалеть» (там же, 364); «может быть, что есть Бог
и выдумывать Его не нужно ни Вольтеру, ни метафизикам», а само
«неверие в Бога» «именно служит доказательством Его
существования - большим, чем вера» (там же, 462).
Все последующие годы Шестова наполнены интенсивным
литературно-философским трудом. Он пишет много статей, отвечает
своим оппонентам, выступает с докладами и лекциями. В 1908 г.
издается сборник его статей «Начала и концы». Статьи 1909-1910 гт.
составляют книгу «Великие кануны». В 1911 г. в издательстве
«Шиповник» выходит шеститомное собрание его сочинений: В 1910 г.
Шестов едет в Швейцарию. В 1914 г. возвращается в Россию, живет
в Москве, активно участвуя в литературно-философской жизни, в
тесном общении с Н. Бердяевым, С. Булгаковым, Вяч. Ивановым,
В. Розановым, Д. Мережковским, Г. Шпетом, М. Гершензоном.
Революция и жизнь в эмиграции
Революция 1917 г. застает его в Москве, но после гибели сына на
фронте он переезжает в Киев. В 1920 г. из Севастополя через
Константинополь и Геную семья Шестовых уезжает за рубеж, сначала в
Швейцарию, а в 1921 г. в Париж.
В годы эмиграции Шестов продолжает интенсивную творческую
деятельность. Он публикует множество работ, читает лекции в
Сорбонне, выступает с докладами во многих европейских городах, а в 1936 г. в
Иерусалиме. Его работы выходят на многих языках. На Западе
Шестов становится известным мыслителем. У него возникают дружеские
отношения и переписка со многими философами и писателями
европейского континента - с Эдмундом Гуссерлем, Мартином Бубером,
Максом Шелером, Мартином Хайдеггером, Томасом Манном, Андре
Жидом, Андре Мальро и др. Основные труды Шестова, вышедшие в
годы эмиграции и посмертно, труды, части которых печатались
нередко в виде статей и очерков, это - «Potestas clavium (Власть ключей)»
(книга писалась с 1915 г., опубликована в 1923 г.), «На весах Иова (Сгран-
1 Бердяев Н. Трагедия и обыденность // Бердяев Н. А. Философия
творчества, культуры и искусства. Т. 2. С. 221.
239
ствования по душам)» (книга вышла в 1929 г.), «Афины и Иерусалим»
(книга, в которую вошли работы с 1928 г., издана по-французски и по-
немецки в 1938 г., на русском языке вышла в Париже в 1951 г.), «Кирге-
гард и экзистенциальная философия» (на французском языке книга
издана в 1936 г. и по-русски в 1939 г.). После смерти Шестова увидели свет
в Париже в 1964 г. книга «Умозрение и откровение (Религиозная
философия Владимира Соловьева и другие статьи)» и в 1966 г. книга «Sola
Fide - Только Верою (Греческая и средневековая философия. Лютер и
Церковь)», над которой Шестов работал еще в 1913-1914 гг.
Экзистенциальная философия Льва Шестова
Экзистенциальная философия, по Шестову, - это прежде всего
утверждение существования в его единичном, индивидуальном,
случайном и свободном проявлении. Шестов неустанно во многих
своих трудах отвергает заповедь Спинозы: «Не смеяться, не плакать, не
ненавидеть, а понимать». По его мнению, при следовании этой
заповеди «нужно отказаться от мира и того, что есть в мире», ибо, «чтобы
было «понимание», нужно отвернуться от всего, с чем связаны наши
радости и печали, наши упования, надежды, отчаяния и т. д.»1.
Для Шестова бытие в своем многообразном существовании
несомненно. В последней своей статье, посвященной памяти Э.
Гуссерля, Шестов заявлял: «...Философия экзистенциальная начинает
великую и последнюю борьбу». Борьбу за что и с кем? Это борьба за
«преодоление того, что кажется нашему разумению непреодолимым».
Это борьба с философией, которую Шестов называет
«умозрительной», или «спекулятивной», т. е. стремящейся получить знание
чисто мыслительно-логическим путем2.
Шестов выступает против стремления философии раскрыть
какие бы то ни было общие закономерности, «сущность» явлений,
подчеркивая их неповторимо индивидуальный характер. Например,
в книге «На весах Иова» вновь ставится древний вопрос: «Что
такое красота?» В свое время Сократ и Платон показали
принципиальное различие между этим вопросом, вопросом о сущности
красоты, и вопросом: «Что прекрасно?» Последний вопрос - это вопрос о
конкретных и индивидуальных красивых явлениях. Для античных
философов вопросы «Что такое красота?» и «Что прекрасно?» не
исключают друг друга, но без уяснения сущности красоты невозможно
учение о красоте, которое впоследствии получило наименование
«эстетика». Для Шестова же «приходится выбирать - либо прекрасные
1 Шестов Л. Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 331. Далее ссылки на это издание
будут даваться в тексте указанием в скобках тома римскими цифрами и
страницы арабскими цифрами.
2 См.: Шестов Л. Памяти великого философа (Эдмунд Гуссерль) //
Вопросы философии. 1989. № 1. С. 157.
240
предметы, либо «красоту». То есть нужно признать, что хоть мы
называем и Елену, и Эвридику прекрасными, но «общего» между ними
нет ничего» (II, 203). Философ, конечно, прав, когда он утверждает,
что «прекрасное небо не заменит прекрасного моря, а прекрасное
море - прекрасной картины», что «каждая прекрасная вещь есть
нечто абсолютно незаменимое...». Но он идет дальше: прекрасные
явления, по его мнению, не имеют ничего общего, кроме имени,
подобно тому, «как апостол Павел ничего общего не имеет с Чичиковым
Павлом, хотя называются одинаковыми именами». И отсюда следует
вывод, ликвидирующий по существу философское учение о красоте:
«Стало быть, нечего и спрашивать, что такое красота» (II, 204).
Так же Шестов поступает со всеми общими понятиями. Он
отвергает понятие «необходимости» и вообще всякой истины, тем
более «абсолютной». По его убеждению, «философия начнется лишь
тогда, когда человек растеряет все критерии истины, когда он
почувствует, что никаких критериев быть не может и что они даже низачем
не нужны» (I, 144). Поэтому Шестов отвергает философию, которая
исходит из разума, культивирует его, провозглашает единственным
средством и источником познания. Из произведения в произведение
Шестов повторяет как заклинание: разум должен быть разрушен! Вот
лишь некоторые примеры обличения разума: «.. .Именно разум -
который мы привыкли считать освобождающим и пробуждающим - и
держит нас в состоянии сонного оцепенения» (I, 145); «Последняя
истина, та истина, которую наши прародители так неудачно искали в
раю, лежит <...> по ту сторону разума и разумом постижимого» (I,
242); «...чтобы обрести Бога, нужно вырваться из чар разума с его
физическими и моральными принуждениями и пойти к иному
источнику» (I, 333). И отсюда задача теории познания, по Шестову,
заключается «в том, чтобы определить момент, когда должно устранить
разум от руководящей роли или ограничить его в правах» (I, 198).
Таким отношением к разуму и обусловлены
историко-философские симпатии и антипатии Шестова. Он не приемлет
рационалистическую традицию в философии, будь то Сократ или Аристотель,
Декарт или Спиноза, Кант или Гегель, Вл. Соловьев или Гуссерль.
Притом в его изложении «образ врага» далеко не всегда соответствует
реальному образу того или другого философа, взгляды которого
представляются подчас односторонне, но в то же время уважительно
(например, своего друга-антипода Гуссерля Шестов называет «великим
философом»). Шестов отвергает «идеализм» в его понимании, ибо,
по его словам, «с идеями, и только с идеями, нужно бороться тому,
кто хочет преодолеть ложь мира» (II, 156). «Идеализм» для него - это
способ уйти от действительной жизни. Но и материализм Шестов
также не жалует, считая его примитивной философией и, в
сущности, не отличающейся от идеализма: «Материализм в своем существе
от идеализма ничем не отличается, хотя на внешний вид они так не
241
похожи друг на друга» (I, 290). Для религиозного мыслителя
несомненный порок идеализма и материализма заключается в том, что
«идеалистическая, как и материалистическая, философия всегда
старалась возвыситься над Богом» (I, 290).
Своими предшественниками Шестов считает мыслителей, не
доверявших разуму. Это и неоплатоник Плотин, и раннехристианский
богослов Тертуллиан, провозгласивший: «Я верю, потому что это
абсурд». Это и математик и религиозный философ Паскаль, и
религиозный реформатор Лютер. Своими учителями Шестов считал
Шекспира и Достоевского. Высоко ценил Ницше. В 1928 г. он открыл для
себя философию С. Кьеркегора (Киргегарда), во многом созвучную
его собственной экзистенциальной философии1.
Главный духовный авторитет для Шестова - Священное
Писание, книги Ветхого и Нового Завета. Название его книги «Афины и
Иерусалим», навеянное сопоставлением Тертуллиана («Что общего
между Афинами и Иерусалимом?»), определяет два полюса
философских исканий. Афины - это олицетворение разума, Иерусалим -
веры в Бога. Для Шестова «Бог - не общее понятие и не то, что не
действует «по законам» своей природы, а сам есть источник и всяких
законов и всяких природ» (I, 303).
Религиозные устремления Шестова не имеют
конфессионального характера, т. е. они не связаны с какой-либо конкретной
религиозной системой. Родившись в еврейской семье, Шестов вступил с ней в
конфликт, женившись на православной девушке. Не придерживаясь
норм иудаизма, он не стал и правоверным христианином, вместе с
тем с великим уважением относясь и к Христу, и к апостолам, и к
Лютеру, и к Кьеркегору. «Религиозная философия, - по Шестову, -
есть рождающееся в безмерных напряжениях, через отврат от
знания, через веру, преодоление ложного страха пред ничем не
ограниченной волей Творца...» (I, 335).
Вл. Соловьева Шестов считал первым русским религиозным
философом и «одним из самых обаятельных и самых даровитых русских
людей». Однако его философию всеединства не принимал, полагая,
что она кладет «на алтарь разума» человеческую душу, человеческую
свободу и «даже самого Бога»2. Сторонники философии всеединства
не оставались в долгу. По определению С. Л. Франка, «Шестов -
крайний религиозный анархист», и «от всякого подлинно-религиозного
сознания его позиция отличается тем, что для него трагизм
человеческой жизни остается и должен оставаться безысходным, и всякая
попытка его преодоления бичуется, как нечестность и трусость мысли»3.
1 См.: Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас
вопиющего в пустыне). М., 1992.
2 См.: Шестов Л. Умозрение и откровение (Религиозная философия
Владимира Соловьева и другие статьи). Париж, 1964. С. 25, 26, 77, 89, 90.
3 Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 641, 725.
242
С. Булгаков посвятил памяти Шестова статью, в которой он,
отмечая обаяние личности Шестова и характеризуя его как «отважного
искателя истины», выражает несогласие с его экзистенциальной
философией; решительно отвергает противопоставление Шестовым
веры и знания. По словам о. Сергия, «догматическое богословие» -
это «путь в Иерусалим чрез Афины или наоборот». Булгаков
защищает единство веры и знания. «Возможность бессмысленной веры, -
по его словам, - есть такая же «парадоксальная» выдумка, как
порабощающая, а не освобождающая истина». Сетуя на то, что «Христос
для Шестова не воплотившийся Бог», «но совершеннейший из
людей» и что «единобожие не раскрылось для него как единосущная
троичность», Булгаков писал: «Но пламя веры в единого Бога живым
огнем горело в его сердце, все ярче разгораясь с приближением к
земному пределу»1.
При всем несогласии с Шестовым по ряду
философско-религиозных вопросов Бердяев в «Самопознании» назвал его «человеком,
который остался моим другом на всю жизнь, быть может
единственным другом, и которого я считаю одним из самых замечательных и
лучших людей, каких мне приходилось встречать в жизни» (125). В
статье, посвященной памяти Шестова, он подчеркивал общность
своих философских воззрений и философии Шестова как философии
экзистенциальной, которая, «не объективировала процесса познания,
не отрывала его от субъекта познания, связывала его с целостной
судьбой человека». Как и Бердяев, «Л. Шестов боролся за личность,
за индивидуально неповторимое против власти общего». Поиск Бога
у Шестова был сопряжен с поисками «освобождения человека от
власти необходимости»2.
И действительно, утверждение человеческой индивидуальности,
свободы личности, неприятие какого бы то ни было тоталитаризма -
одна из самых привлекательных сторон философии Л. Шестова. Он
писал, что «люди чувствуют себя бесправными и бессильными
колесиками одной большой машины и забыли о том, что мир создан для
них» (1,617).
Бердяев выражает несогласие с Шестовым в трактовке им
разума, знания и познания. «Главный философский недостаток Л.
Шестова, - отмечает Бердяев, - я вижу в том, что он не устанавливает
различения в формах и в ступенях знания. Он также верит в кафо-
личность и однородность разума, как и его рационалистические
защитники».
Конечно, иррационализм Шестова не беспочвенен. Еще Гёте
заметил, что мир не делится на разум без остатка. «Иррациональный
1 Булгаков С. Н. Некоторые черты религиозного мировоззрения Л. И.
Шестова // Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 519, 527, 526, 532, 533.
2 Бердяев Н. А. Основная идея философии Льва Шестова // Н. А. Бердяев о
русской философии. Ч. 2. С. 104, 107, 104.
243
остаток», по Шестову, присущ самому бытию (см. II, 229-233). С
конца XIX в. не случайно шли интенсивные поиски
подсознательных и сверхсознательных факторов человеческой психики и жизни.
Не лишены справедливости и слова Шестова: «Слишком уже много
самоуверенности у современного знания - и не мешало бы с него
посбить спеси» (I, 103). Однако Бердяев безусловно прав,
утверждая, что сам «разум изменчив, разнокачественен и отражает
качественные состояния человека и отношения человека к человеку»1.
Современное знание - свидетельство как силы, так и ограниченности
человеческого разума, но не предел его возможностей. Разум не
всесилен, но без него человек не может существовать как разумное
существо. В этом плане весьма показательно внутреннее противоречие
самой философии Шестова.
Бердяев подмечает это существенное противоречие в его
философии: Шестов борется с разумом и логическим мышлением, «но
вместе в тем он остается на территории мышления и разума»2.
Аналогичное замечание делает и С. Булгаков о том, что «философский
нигилизм Шестова <...> есть лишь одна из возможных
разновидностей рационализма (или «спекулятивной философии»)»3. Ведь на
самом деле Шестов развенчивает культ разума и логики, прибегая к
разумным и логическим средствам, создавая тем самым философию
рационалистического иррационализма4.
Но парадоксальность философии Шестова - не только следствие
его логических неувязок. Она отражает и выражает парадоксальность
ситуации, в которой живет человечество. «Действительное» отнюдь
не «разумно» и «разумное», увы, не «действительно», как это
представлялось Гегелю. Шестов, в противоположность великому
рационалисту, констатирует бессмысленность и абсурдность, царящие в
жизни человека и общества. Разве не бессмысленны, например,
войны, постоянно сопровождающие человеческую историю! «Чтобы
понять войну, - утверждает Шестов, - нужно себе сказать, что она не
имеет ровно никакого смысла, что она есть вопиющая бессмыслица»
(I, 112). Поэтому и «философия должна быть сумасшедшей, как вся
наша жизнь» (1,61). И «задача философии - вырваться, хотя бы
отчасти, при жизни от жизни» (II, 215).
Яркая характеристика абсурдности бытия, характеристика, не
лишенная основания, и привлекала к Шестову внимание ряда евро-
1 Бердяев Н. А. Лев Шестов и Киркегор // Н. А. Бердяев о русской
философии. Ч. 2. С. 102.
2 Там же. С. 96.
3 Булгаков С. Н. Некоторые черты религиозного мировоззрения Л. И.
Шестова. С. 527.
4 Показательно, что борец против разума и знания обвиняет большевиков в
том, что «они не верят в знание, не верят даже в ум» («Что такое русский
большевизм?»).
244
пейских философов XX в., в особенности сторонников
экзистенциализма. Писатель и философ Альбер Камю в своем «Мифе о Сизифе»
подробно рассматривает трактовку абсурда у Шестова и Кьеркегора.
«По Шестову, - отмечает Камю, - констатировать абсурд - значит
его принять, и все логические усилия его ума сводятся к тому, чтобы
пролить на это свет и тем помочь забить ключу огромной надежды».
Камю полагает, что «Шестов прав в споре с рационалистом», хотя
«напрасно вовсе отрицать разум», ибо «существует круг явлений,
внутри которого он действен»1.
Шестовский «ключ огромной надежды», неприемлемый для Камю
как сторонника атеистического экзистенциализма, - это
безоговорочная вера в Бога, который вне добра и зла и способен делать всё, даже
бывшее превращать в небывшее, а несуществующее - в
существующее. Любимый образ Шестова - библейский Иов, страдания
которого «песка морей тяжелее», Иов, прошедший испытания верой и
получивший благодаря своей вере в Бога «вдвое больше того, что он
имел прежде» (Иов. 42, 10). Библейская формула «Господь дал,
Господь и взял» (Иов. 1,21), таким образом, верою оборачивается:
Господь взял, но Господь и дал. Еще в «Апофеозе беспочвенности»
автор писал: «Если есть Бог, если все люди - дети Бога, то, значит, можно
ничего не бояться и ничего не жалеть».
Религиозная философия Шестова представляет собой
своеобразный стоицизм XX в., который призван помочь людям переносить все
свалившиеся на них несчастья и ужасы жизни.
1 Камю Альбер. Миф о Сизифе // Камю Альбер. Творчество и свобода.
Статьи, эссе, записные книжки. М., 1990. С. 51, 52.
X
ИДЕАЛ-РЕАЛИЗМ
КОНКРЕТНЫЙ СПИРИТУАЛИЗМ Л. М. ЛОПАТИНА
Среди течений идеалистической философии в России конца XIX -
начала XX столетия значительное место занимал так называемый
идеал-реализм - философия, утверждавшая реальность идеального
не только в индивидуальном сознании человека, но и в самом мире.
«Конкретным идеал-реализмом» называл свою философскую
систему Н. О. Лосский. Но еще в 90-х гг. XIX в. Л. М. Лопатин отмечал,
что «в жизни нашего собственного духа мы имеем неистощимый
материал для суждений, которые можно назвать
идеально-реальными, потому что в них самоочевидным отношениям сознаваемых
фактов отвечает их самоочевидная реальность». По мнению философа,
«только потому мы можем знать о действительности нечто
подлинное, что само наше сознание есть бесспорно подлинная
действительность»1 . По словам другого сторонника идеал-реальных воззрений
С. Л. Франка, «русская философия в точном смысле слова возникает
впервые в 80-х годах XIX века в той московской школе, одним из
самых значительных представителей которой был Л. М. Лопатин».
«Л. М. Лопатин, - продолжает Франк, - был образцом чистого
философа-теоретика. В этом смысле Лопатин стоит в русской философии
особняком. Занимает свое особое место и нашел своих
продолжателей лишь в русских философах-систематиках XX века. Лопатин
первый в России создал систему теоретической философии»2.
Жизненный путь философа
Лев Михайлович Лопатин (1855-1920) родился в Москве в
дворянской семье. Его отец занимался правовой деятельностью на
различных должностях в судебных учреждениях. Мать будущего
философа была сестрой знаменитого математика П. Л. Чебышева. В доме
Лопатиных на еженедельных вечерах собирались многие
выдающиеся люди России конца XIX в. - историки В. О. Ключевский, В. И. Ге-
рье, С. М. Соловьев, его сын Вл. Соловьев и другие философы. На
лопатинских «средах» бывали и Л. Н. Толстой, и Ф. И. Тютчев,
знаменитые деятели театра и изобразительного искусства.
1 Лопатин Л. М. Положительные задачи философии. М, 1891. Ч. 2. С. 53-54.
2 Франк С. Л. Памяти Л. М. Лопатина // Франк С. Л. Русское мировоззрение.
С. 423.
246
В 1868 г. Лева Лопатин поступил в гимназию выдающегося
педагога Л. И. Поливанова, который был убежден, что «из детей следует
развивать живые личности, т. е. существа, способные принести на
общее благо ценный дар своей индивидуальности»1. Уже в
гимназические годы формировались его философские воззрения. Особое
значение в этом процессе имела начавшаяся с детства дружба с Вл.
Соловьевым. Как писал впоследствии сам Лопатин, «Вл. С. Соловьев
был мне одним из самых близких людей на свете, с которым у меня
рано установились почти братские отношения. Я подружился с ним,
когда мне было семь лет, а ему девять; отрочество и юность мы
прожили вместе. Я имел счастье наблюдать, как росла его душа и
развивался ум и как слагалось и менялось его миросозерцание. И наша
дружба не прерывалась до самой его смерти. Нечего и говорить о
том, как я страшно много ему обязан и нравственно, и умственно»2.
Правда, философские взаимоотношения Лопатина и Вл.
Соловьева не были простыми уже с юношеских времен. Как он потом
вспоминал, «Соловьев до основания поколебал мою наивную детскую
веру, когда мне было всего двенадцать лет, и с тех пор мне пришлось,
рано и мучительно, вырабатывать свое миросозерцание в
непрерывной борьбе с Соловьевым»3. «Когда я додумался до того, что Бога
вовсе нет, а есть только материя, - писал Вл. Соловьев в своей
автобиографии, - я с таким жаром проповедовал эту новую веру одному
своему приятелю, что он, вместо всяких возражений, заметил: «Я
удивляюсь только одному: почему ты не молишься этой своей
материи?» Этим приятелем, по предположению племянника Вл.
Соловьева - С. М. Соловьева, был Л. М. Лопатин4.
Когда же Вл. Соловьев отказался от прежнего материализма и стал
горячим защитником идеалистического понимания мира, друзья
«сошлись на философском идеализме»5. Но их философские
разногласия не закончились. Лопатин стал сторонником «умозрительной
метафизики», которая «имеет своим содержанием необходимые
истины разума и только их»6, в то время как Вл. Соловьев стремился
сочетать философию с богословием. Друзья, уже став
профессиональными философами, продолжали спорить и при личных встречах, и в
печати по таким проблемам, как свобода воли, природа души, о по-
1 Лопатин Л. М. Философские характеристики и речи. М., 1995. С. 202.
2 Лопатин Л. М. Вл. С. Соловьев и князь Е. Н. Трубецкой // Трубецкой Е. Н.
Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 2. С. 398.
3 Там же. С. 402.
4 См.: Соловьев С. М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция.
М., 1997. С. 37.
5 Лопатин Л. М. Вл. С. Соловьев и князь Е. Н. Трубецкой // Трубецкой Е. Н.
Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 2. С. 402.
6 Лопатин Л. М. Положительные задачи философии. Ч. 1. Область
умозрительных вопросов. М., 1911. С. XXV.
247
нятии «субстанция», о причинных отношениях1. Сестра Лопатина
так описывает внешнее впечатление от этих споров: «Много было
споров в кабинете и наверху, у брата, в его низенькой студенческой
комнате, и на заседаниях Психологического общества, где общий смех
вызвал спор брата с Соловьевым; сначала все шло хорошо, называли
друг друга «почтенный референт», «мой уважаемый оппонент» и
вдруг не выдержали и стали кричать при всей публике: «Я тебе
говорю, а ты мне возражаешь не на то!» - «Что ты врешь!» и т. д.»2
Вл. Соловьева и Лопатина объединяло следование принципам
философского идеализма и неприятие позитивизма и материализма.
Но истоки их философских воззрений и разрабатываемые ими
идеалистические системы были различными. Вл. Соловьев продолжал
традиции платонизма и неоплатонизма. Лопатин же, как и некоторые
другие русские сторонники идеал-реализма (Н. О. Лосский) и
персонализма (А. А. Козлов), опирался на метафизическое учение
Лейбница, по которому мир состоит из одушевленных единиц - «монад»,
излучаемых «первомонадой» - Богом.
Философия Вл. Соловьева утверждала всеединство духовного и
материального мира, которое олицетворяла мистическая София, «Все-
единая мудрость божественная» - Богочеловечество. Философская
система Лопатина - «конкретный спиритуализм», с точки зрения
которого «начало и основа вещей есть сила духовная в себе, внутренне живая
и действенная до всякого воплощения в жизни природы и
человечества». Для спиритуализма, по Лопатину, «все вещи внутри себя
духовны, потому что в окончательном итоге ничего нет, кроме духа»3.
Окончив гимназию в 1875 г., Лопатин поступил на
историко-филологический факультет Московского университета, который он
заканчивает в 1879 г. После окончания университета он преподает
русский язык, литературу и историю в реальном училище и гимназиях,
на Высших женских курсах. В 1883 г. Лопатин, сдав магистерские
экзамены при кафедре философии, становится приват-доцентом
университета. В 1886 г. он защищает магистерскую диссертацию, а в
1891 г. - докторскую. Диссертации были опубликованы в основном
его труде «Положительные задачи философии. Ч. 1. Область
умозрительных вопросов. Ч. 2. Закон причинной связи как основа
умозрительного знания действительности». Часть первая вышла в свет в
1886 г., часть вторая - в 1891 г. Здесь были изложены исходные
принципы его системы «конкретного спиритуализма». В дальнейшей
1 Философские разногласия между Вл. Соловьевым и Лопатиным подробно
изложены в книге А. Ф. Лосева «Владимир Соловьев и его время» (М., 1990.
С. 546-571).
2 Ельцова К. М. Сны нездешние (К двадцатилетию кончины В. С.
Соловьева) // Книга о Владимире Соловьеве. С. 146.
3 Лопатин Л. М. Аксиомы философии. М., 1996. С. 338. Далее ссылки на это
издание даются в тексте с указанием в скобках «Аксиомы» и страницы.
248
своей творческой деятельности Лопатин во многих статьях развивал
и обосновывал различные аспекты этой системы.
С 1892 г. Лопатин становится профессором Московского
университета, в значительной мере способствуя победе на кафедре
философии метафизического, т. е. абстрактно-теоретического, направления
над эмпирически-позитивистским. Он вступает в Московское
психологическое общество, которое, возникнув в 1885 г., стало центром
объединения и общения философов. С 1887 г. это общество возглавил
Н. Я. Грот, получивший и заведование кафедрой философии
университета. По инициативе Грота при обществе в 1889 г. начал издаваться
философский журнал «Вопросы философии и психологии». В период
с 1894 по 1895 г. Лопатин помогал Гроту редактировать журнал.
Соредактором журнала Лопатин был до 1905 г. После смерти С. Н.
Трубецкого он с 1906 по 1918 г. являлся главным редактором этого ведущего
философского журнала. С 1899 г. Лопатин - председатель
Московского психологического общества вплоть до его закрытия в 1918 г.
Уделяя много внимания истории философии с древности до
второй половины XIX в., Лопатин критически отнесся к философским
течениям второй половины века и начала XX столетия - эмпирио-кри-
тицизму, ницшеанству, неокантианству, феноменологии, хотяценил
прагматизм Джемса и философию Бергсона. Такая философская
ориентация вызывала со стороны некоторых молодых философов отношение
к Лопатину как к старомодному метафизику-лейбницианцу. Ф. А. Сте-
пун так описывал свое впечатление от беседы с Лопатиным в 1910 г.:
«Несмотря на то что его представление о неокантианских течениях в
немецкой философии было весьма приблизительным, его отрицание
этих течений было весьма определенным. Я ушел от него с чувством,
что историко-философский факультет, «Психологическое общество»
и редакция «Вопросов философии и психологии» были в глазах
Лопатина некою вотчиною, в которой им искони заведены определенные
порядки, не нуждающиеся ни в каких заморских новшествах»1.
Однако Лопатин, последовательно отстаивающий свою
философскую позицию в трудах, написанных четко и ясно, как профессор
философии Московского университета и редактор философского
журнала пользовался большим авторитетом. Далекий от его
философских воззрений Бердяев в своей статье «Философская истина и
интеллигентская правда», опубликованной в «Вехах» (1909), назвал
Лопатина «замечательным и оригинальным русским философом»,
философия которого «требует серьезной умственной работы»2.
Признанием заслуг Лопатина было торжественное заседание
Московского психологического общества в декабре 1911 г. в связи с
30-летием его философской и педагогической деятельности. В че-
1 Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. С. 151.
2 Вехи. Из глубины. С. 18.
249
ствовании приняли участие представители научной и
педагогической общественности Москвы, видные философы, такие, как Г. И.
Челпанов, С. Н. Булгаков, П. И. Новгородцев, Г. Г. Шпет, M. М.
Рубинштейн, написавший статью «Очерк конкретного спиритуализма
Л. М. Лопатина» (Логос. 1911-1912. Кн. 2-3) и др. Юбиляру был
вручен «Философский сборник Льву Михайловичу Лопатину к
тридцатилетию научно-педагогической деятельности от Московского
Психологического общества. 1881-1911», в котором были напечатаны
статьи философов различных направлений - Е. Трубецкого, С.
Булгакова, В. Эрна, С. Аскольдова, С. Франка, Н. Лосского, П. Струве,
Г. Шпета, П. Новгородцева, Г. Челпанова и др. П. Новгородцев свою
статью, посвященную юбилею Лопатина, назвал «Праздник русской
философии» (Русская мысль. 1912. № 2).
Лопатин, придерживающийся либеральных убеждений, не
участвовал в какой-либо политической деятельности и откликался на
общественную жизнь лишь теоретической разработкой нравственной
проблематики. Только в статье «Неотложные задачи современной мысли»,
написанной на основе речи, произнесенной им в январе 1917 г. (т. е. до
Февральской революции), философ отмечал в связи с идущей мировой войной,
что «человечество переживает небывалую, поистине катастрофическую
эпоху» - «предвестник грядущих катастроф» («Аксиомы», 449).
За несколько месяцев до своей кончины (в ноябре 1919 г.) он
писал Н. П. Корелиной - секретарю журнала «Вопросы философии и
психологии», что «жизнь человечества в ее целом, да и жизнь
каждого человека, являет собою великую трагедию» и что «такое море
трагедий» «не изобразить и двадцати Шекспирам». «Я убежден, - писал
Лопатин, - что все происходящее нужно, что оно представляет
болезненный и мучительный процесс возрождения человечества (да,
человечества, а не одной России) от задавившей его всяческой
неправды и что приведет он к хорошему, светлому и совсем новому».
Правда, при этом философ отмечал, что его вера опирается «не на
исторические, наглядные основания, а имеет религиозный характер»1.
О типологии философских направлений
Философские воззрения Лопатина как «конкретный
спиритуализм» определяются им в сопоставлении с другими «типическими
системами философии». В его понимании «философия ставит
вопрос об общих условиях и общих основах всякого бытия вообще и все
частное рассматривает лишь в свете делаемых ею универсальных
предположений и в связи с ними» (там же, 335). Философия же как
метафизика «вырастает из потребности признать рядом с
непосредственно данным нашему сознанию нечто отличное от него и незави-
1 Корелина Н. П. За пятьдесят лет <Воспоминания о Л. М. Лопатине> //
Вопросы философии. 1993. № 11. С. 118.
250
симое как его причину» (там же, 357). Но при этом сама философия,
как показывает ее история, являет существование «общих типов
философского понимания» (там же, 336). Каковы эти «типические
системы философии», «общие типы философского понимания»?
В статье «Типические системы философии» (1905) Лопатин
приходит к следующей общей классификации «типических систем
метафизики».
«Две положительные типические системы метафизики»:
1) спиритуализм, «понимающий действительность по аналогиям
духовным»;
2) материализм, «понимающий ее по аналогиям физическим».
«Одна отрицательная типическая система»:
агностицизм - «система, не признающая в истинной реальности
никакого подобия с какими-нибудь духовными или материальными
отношениями и свойствами» («Аксиомы», 343. Подчеркнуто мною. -
Л. С). Эту систему Лопатин называет также феноменизмом (от
греческого слова феноменон -явление), или ноуменизмом (от греческого
слова ноуменон - то, что мыслится), поскольку агностицизм
признает человеческое знание только феноменов - явлений, но отрицает
познание их сущностей, «вещей в себе», ноуменов.
Таким образом, по словам Лопатина, «мы имеем только три
основные типа умозрительного понимания вещей»: материализм, фе-
номенизм и спиритуализм-идеализм (там же, 341). «Отрицательная
типическая система», или феноменизм, представлена философией
Канта и его последователей. Что же касается «двух положительных
типических систем метафизики» - спиритуализма (спиритуализм
Лопатин называет также идеализмом) и материализма, то они могут
иметь различные разновидности.
Материализм может проявляться в форме атомизма, т. е. учения о
том, что сама материя состоит из мельчайших неделимых частичек
(например, античная философия Демокрита, Эпикура, Лукреция). Но
материалистическое учение может быть и неатомистическим, по
которому материя, или «абсолютное вещество мира», «все сливается в одну,
вечно меняющую виды своего бытия сущность» (там же, 343-344).
Спиритуализм, или идеализм («идеалистическое или духовное
толкование существующего») (там же, 337) в истории философской
мысли выступал как монадологизм - признание «реальной
множественности центров духовного существования» (Лейбниц), а также
как субъективный идеализм - признание «всего материального мира
за простое представление сознающего духа» (там же, 339).
Лопатин усматривает также существование абстрактного
идеализма (панлогизма): «панлогический идеализм полагает сущность
бытия в формальном логическом принципе или идее» (там же, 338).
Наиболее последовательное выражение этот вид идеализма нашел в
философии Гегеля.
251
Свою философскую систему Лопатин определяет в качестве
конкретного спиритуализма, основной принцип которого - «все
реальное в себе духовно» (там же, 379). Философия конкретного
спиритуализма, по его мнению, выражена в учении Лейбница, однако сам
Лопатин не является сторонником монадологии, в соответствии с
которой существует множественность «центров духовного
существования». Для него духовный мир един. Вместе с тем единство
духовного мира Лопатин трактует иначе, чем абстрактный идеализм
(панлогизм) Гегеля. С точки зрения Лопатина, «реальная духовность
существующего» независима «от наших отвлечений и логических
обобщений» (там же, 338).
Общая классификация философских направлений, даваемая
Лопатиным, достаточно традиционна. Она принята даже марксистской
философией, которая также делит основные философские течения
на материализм, идеализм и агностицизм. Но его типология
идеализма-спиритуализма оригинальна1 и позволяет обозначить место в
идеалистической философии самой системы конкретного
спиритуализма самого Лопатина.
Философия конкретного спиритуализма
Как полагает Лопатин, три определенные им типические
системы метафизической философии - материализм, феноменизм и
спиритуализм-идеализм - являются «тремя единственными
возможностями объяснять вещи». Ни одной из них нельзя приписать
«абсолютной достоверности». В этом отношении Лопатин сравнивает
философию с геометрией - наиболее образцовой наукой по своей
точности. Ведь в геометрии тоже не существует единой системы
объяснения реального пространства. Наряду с геометрической системой
Евклида существуют также системы неевклидовой геометрии -
система Лобачевского, система Римана и т. п. И несмотря на то что все
геометрические системы «приходят к заключениям весьма
различным между собою», «у нас нет оснований, чтобы одну из них
признать за абсолютную истину» («Аксиомы», 345).
Однако Лопатин все же полагает, что при полной теоретической
равноправности основных философско-метафизических систем они
не обладают «полною логическою равноправностью» (там же, 345).
1 В русской философии предлагались и другие типологии идеализма. Одна
из таких типологий была предложена философом Эрнестом Леопольдовичем
Радловым (1854-1928), который подразделял идеализм на 1) объективный
идеализм, признающий реальность идеального; 2) субъективный идеализм,
отрицающий существование внешнего мира, и 3) трансцендентальный идеализм,
представленный прежде всего Кантом, в котором, по концепции Радлова, делается
«попытка соединения объективного идеализма с субъективным» (Радлов Э. Л.
Философский словарь. 2-е изд. М, 1913. С. 243-244).
252
В статье «Спиритуализм как монистическая система философии»
(1912) он формулирует критерий оценки метафизических теорий,
который, по его словам, «прежде всего заключается в объяснимости
нашего сознания» (там же, 369).
Этому критерию, по мнению Лопатина, не соответствует
философский материализм, ибо «беда материализма заключается в том,
что при всей наглядности свойств, которые он приписывает материи,
эти свойства все же представляют явное отрицание свойств и
переживаний нашей психической жизни» (там же, 370-371). С точки
зрения материализма присутствие в природе внутренних субъективных
переживаний «не только непонятно, оно просто невозможно».
Материализм «должен объяснить из объективных свойств материи самую
наличность субъективного, а между тем для такого объяснения у него
не оказывается никаких данных» (там же, 372).
Не выдерживает этот критерий и агностицизм в его наиболее
образцовом кантовском варианте. Если абсолютно непостижим мир
вещей в себе, то не может быть дано никакое «рациональное
объяснение наличности нашего сознания», поскольку «непостижимыми
вещами в себе ничего нельзя объяснить в жизни духа, как ими
ничего не объясняется в материальной природе» (там же, 370).
В противоположность и материализму, и агностицизму
философии спиритуализма «не приходится духа - внутреннего и
субъективного бытия сознания - выводить из бытия ему инородного и по
всему существу чуждого». В то же время конкретный спиритуализм
Лопатина, в отличие от субъективного идеализма, не сводит мир к
субъективному бытию сознания. Он не только признает «чужое
одушевление или чужое сознание», но и «не упраздняет физической
природы», полагая, что «физическая природа обладает действительной
реальностью». Однако эта философия признает «внутреннюю
духовность всего существующего» (там же, 373, 374, 375). Для нее «все
реальное в себе духовно» (там же, 379), в том числе и материальное
бытие, физическая природа.
Но как обосновывает Лопатин положение, что «все реальное в
себе духовно»? Ведь логически это не следует из очевидного для
каждого человека факта существования его субъективного сознания! И
этот переход от субъективного духа к объективному
философ-спиритуалист делает на основе «интуиции духовного», считая, что «в
основе нашей идеи о духе лежит непосредственная интуиция» (там же,
380). Следовательно, и конкретный спиритуализм вынужден
опираться на ряд недоказуемых аксиом.
«Аксиомами философии» Лопатин называет «истины в виду их
непосредственного характера». К таким аксиомам философии он
относит и уверенность в существовании объективного мира в его
духовном содержании, «аксиому внешнего мира, или нашу веру во внешний
мир» (там же, 326). Среди таких аксиом и «принцип объективности
253
нашей мысли»: «Что с совершенной необходимостью мыслится о
каком-либо предмете в виду его данных свойств и отношений, в самом
деле принадлежит ему». Аксиомами являются также и «признание
других одушевленных существ, кроме нас, т. е. признание чужого
одушевления», и «признание бытия внешнего мира или вообще отличной
от нас и по отношению к нам самостоятельной действительности и
нашей принудительной зависимости от нее». Аксиомы постулируют
такие свойства и закономерности объективного мира, как «закон
причинности», «принцип субстанциальности» (основание всякого действия,
явления и состояния), свобода воли, т. е. нашу способность
«действовать от себя, по собственному почину и по своей воле» (там же, 316).
«Закон причинности» был для Лопатина предметом особого
внимания. Его докторская диссертация именовалась «Закон причинной
связи как основа умозрительного знания о действительности» и
составила 2-ю часть его книги «Положительные задачи философии»
(1891). К этому закону он многократно обращался и в своих
последующих трудах. Философ-спиритуалист выявляет «двоякий тип
причинных связей». Первый из них - причинные связи в физической
природе, «физическая причинность». Второй «тип причинных
связей» существует «в сфере духовных явлений», характеризующийся
как «причинность творческая» (там же, 106).
В физической природе, полагает Лопатин, «господствует
механическая последовательность явлений; в этой последовательности
всякое возникающее явление с математическою неизбежностью
вытекает из явлений предыдущих как их логическое продолжение» (там
же, 106). Если бы в мире господствовал лишь такой тип причинных
связей, то это бы означало полную предопределенность всех
событий, то, что называют фатализмом. «Фатализм, будь он философский
или религиозный, - отмечает Лопатин, - все равно, есть
совершенное отрицание личности, потому что обращает ее в случайную
связку процессов, в которых все заранее предустановлено, а стало быть,
и отрицание личной деятельности». Таким образом, господство
«физической причинности», - то, что Лопатин называет
«детерминизмом»1, - означает для него «отрицание всякой свободы в человеке» и
вместе с тем нравственности, ибо «свобода воли есть непременное
условие нравственной жизни» (там же, 98, 99).
Важнейшая особенность творческой причинности «состоит в
деятельном переходе от общих потенций или от общих, не
раскрытых еще способностей и сил к живому разнообразию конкретных,
постоянно вновь возникающих проявлений» (там же, 106-107).
Понятие творческой причины, следовательно, по суждению Лопатина,
дает возможность совместить «закон причинности», который он счи-
1 Под «детерминизмом» Лопатин имеет в виду механический детерминизм,
«физическую причинность» в его понимании.
254
тает объективным законом, со свободой воли, с творческой
активностью человеческой личности, с ее нравственным поведением.
Следует отметить, что «конкретный спиритуализм» Лопатина
пронизан своеобразной диалектикой и потому называется также
«учением динамического спиритуализма». Он проводит различие между
диалектикой субъективной и диалектикой объективной: «Субъективный
диалектический процесс выражает чисто внутреннюю деятельность
мысли, направляющейся от понимания абстрактного к пониманию
всеобъемлющему и целостному. Объективный диалектический процесс
есть логическое повторение того постепенного развития, которое
совершается в самой познаваемой действительности, независимо от
актов нашей познавательной силы». При этом Лопатин считает, что
возможность объективного диалектического процесса коренится в том
«иррациональном моменте»1, который заключает в себе понятие о
бытии благодаря динамической природе сущего. При оперировании
противоположными понятиями - свободы и необходимости,
бесконечности и конечности, единого и многого, явлений и субстанций и др. -
Лопатин учитывает важность «неизбежной диалектики при
умозрительном понимании существующего: противоположные, даже как будто
противоречащие друг другу в своей отвлеченности определения
могут совмещаться в живом содержании действительности, если они
выражают ее различные отношения и стороны» (там же, 417).
Спиритуалистическое обоснование нравственной жизни
Важнейшим аргументом в пользу учения «конкретного
спиритуализма», по убеждению Лопатина, является способность этого
учения быть основой нравственного миропонимания, ибо «оно вносит
высший моральный смысл в космическое бытие и в существование
всех отдельных тварей» (там же, 446).
Логика такого утверждения такова. «Идея универсальной
внутренней духовности реального» ведет к тому, что «свободный
нравственный идеал человека и абсолютная норма творения совпадают
между собою» («Аксиомы», 380, 381). Божественное творчество «не
может не быть гармоничным и целесообразным», «разумность
творческой силы неизбежно предполагает совершенство творения», «цель
мира в бесконечном благе всех духовных существ». Следовательно,
«жизнь мира может и должна быть лишь осуществлением
абсолютного добра» (там же, 410, 411).
1 Лопатин Л. М. Положительные задачи философии. Ч. 1. С. 356,397.
Своеобразие диалектических воззрений Лопатина обстоятельно рассмотрено в
очерке П. П. Гайденко «Диалектический процесс как отношение мысли к данности
(«учение динамического спиритуализма») (Л. М. Лопатин)», опубликованном в
коллективном труде «Идеалистическая диалектика в XX столетии (Критика
мировоззренческих основ немарксистской диалектики)» (М., 1987).
255
Но Лопатин отлично понимал, что такой нравственный оптимизм
неизбежно наталкивается на проблему зла в мире и ответственность
благого и всемогущего Бога за происходящее в мире зло. Эту
проблему философ-спиритуалист стремится решить, как и многие его
предшественники, утверждая, что «Божественный творческий разум»
создал мир «свободных существ», стремящихся к своему
самоутверждению. Свобода воли - непременное условие самого
существования нравственности, которой не может быть, если человек лишен
свободы выбора между добром и злом. Моральная свобода, по
Лопатину, заключается в том, что «мы сами творим в себе свой
нравственный мир и изменяем его своими усилиями» (там же, 97). «Конкретный
спиритуализм», утверждая свободу воли, тем самым теоретически
обосновывает саму возможность нравственности.
Самоутверждение «свободных существ» объясняет
«неограниченное разнообразие качеств в наличном бытии», однако это же
самоутверждение при его чрезмерном проявлении порождает зло:
«Источник и сущность всякого зла и всякой духовной тьмы в
исключительном самоутверждении тварей» («Аксиомы», 421). По словам
Лопатина, «историческая жизненность христианского миросозерцания в
том и заключается, что в нем не только даны прекрасные правила
любви и самоотречения, но указан и подлинный источник гибели
духовной личности в себялюбии и злобе» («Аксиомы», 119).
Такова, по его концепции, «неизбежная логика творения, и она не
может быть отменена никакими актами верховного произвола».
Правда, при этом он не сомневается в том, что «Божественный творческий
разум, созидая мир свободных существ, тем самым ставил себе
неизбежную цель в спасении, очищении и освящении этого мира». Отвечая
на вопрос, является ли его миропонимание оптимизмом или
пессимизмом, Лопатин заявляет: «Это несомненный пессимизм в оценке
существующего мира, и столь же бесспорный оптимизм в оценке реального
смысла бытия в его целом» («Аксиомы», 421, 119,422,421-422,419).
При этом для философа-спиритуалиста «реальный смысл бытия
в его целом» предполагает утверждение идеи бессмертия души, идеи,
имеющей, по его убеждению, «огромное моральное и теоретическое
значение в миросозерцании и мироощущении человечества» (там же,
429). Теоретическое доказательство бессмертия души с точки зрения
спиритуалистической философии заключается в следующем
умозаключении. «Для спиритуализма истинная субстанция в
существующем есть дух и, наоборот, всякий дух есть субстанция». А
«субстанциальное бытие», по определению самого понятия «субстанция»,
характеризуется сверхвременностью. Даже материалисты, считая
материю субстанцией, приписывают ей «абсолютную
сверхвременность и абсолютную неуничтожимость». Но «спиритуализм, в
отличие от других философских систем, приписывает сверхвременную
субстанциальность только духу» (там же, 426, 427).
256
Поэтому «наша душа бессмертна просто потому, что она есть
сверхвременная, внутренне единая, субстанциальная сила» и «жизнь
каждого духа после смерти есть настоящая, реальная жизнь,
которая при нормальных условиях есть бесконечный прогресс к
высшему, хотя при упорном извращении воли она может стать
постепенным падением и внутренним помрачением через возрастающую связь
с низшими и темными потенциями бытия» (там же, 428-429). Веря в
посмертное существование человеческих душ, Лопатин, по
воспоминаниям современников, серьезно увлекался спиритизмом1.
Таким образом, как мы видим, пытаясь теоретически и морально
обосновать бессмертие души и ее посмертную жизнь, Лопатин
вступает в мистическую область, которая по сути дела есть область не
знания, а веры. И все же философия Лопатина основана на
убеждении в силу разума, непреложность законов логики, хотя она не
отрицает «иррациональный момент» бытия и человеческого творчества,
особенно в искусстве.
Для Лопатина несомненно и существование веры как
неотъемлемой стороны духовного мира человека. И сам он был верующим
православным христианином. Однако философия в его понимании
призвана опираться не на веру, а на рациональное, разумное зйание.
Отвечая на приветствия, прозвучавшие в честь 30-летия его философской
и педагогической деятельности, Лопатин подчеркивал, что
«философия не может быть только условным методом или логическою
формою для изложения субъективных верований и чаяний высоко
настроенных, пламенно верующих душ, - она должна быть прежде всего
системою объективных истин, обязательных для всякого разумного
существа» («Аксиомы», 453). Этих убеждений философ
придерживался в течение всей своей творческой жизни. Еще в магистерской
диссертации в 1886 г. он провозглашал: «Философ может иметь
убеждения, какие ему угодно; но в своих философских построениях он
обязан идти так, как будто бы он не имел их, пока они не получат
вида рациональных истин. Философ должен говорить от разума к
разуму; в противном случае его выводы будут случайною игрою
фантазии. В этом единственный метод философии, и, отказавшись от него,
она перестает быть тем, что она есть»2.
КОНКРЕТНЫЙ ИДЕАЛ-РЕАЛИЗМ Н. О. ЛОССКОГО
Среди философских течений в России первой половины XX
столетия важное место принадлежало воззрениям Николая Онуфриеви-
ча Лосского (1870-1965). Его творчество представляло собой свое-
1 См.: Корелина Н. П. За пятьдесят лет // Вопросы философии. 1993. №11.
С 116.
2 Лопатин Л. М. Положительные задачи философии. Ч. 1. С. 425.
9-99
257
образный синтез традиций западноевропейской философии, в
особенности Лейбница, и русской философской мысли, прежде всего учения о
всеединстве Вл. Соловьева и его последователей. Вместе с тем
трудно оспорить оригинальный характер философской системы Лосского,
называемой им «конкретным идеал-реализмом». По словам В. В. Зень-
ковского, «он едва ли не единственный русский философ, построивший
систему философии в самом точном смысле слова»1, т. е. охвативший
единой концепцией основные области философского знания: онтологию
(учение о бытии), гносеологию (теорию познания), логику, аксиологию
(теорию ценности), этику и эстетику. Многочисленные труды Лосского
вызывали живой отклик выдающихся русских и зарубежных
философов, и сам он постоянно откликался на работы своих коллег. Его перу
принадлежит «История русской философии», изданная на английском
языке в 1951 г. и в 90-е гг. выпущенная на родине философа тремя
издательствами. Эта книга не только достойно и обстоятельно
представила русскую философию зарубежному читателю, но и ясно
обрисовала систему философии самого Лосского (глава XVII, 1) в ее
отношении к прошлым и современным русским мыслителям.
На пути к философии.
Н. О. Лосский родился в местечке Креславка Витебской губернии
(теперь это место - Краслава - находится в Латвии) в семье
лесничего. Отец его был православный. Мать - католичка. В 1881 г. Николай
поступил в витебскую классическую гимназию. 15-летний гимназист
начал читать Писарева, Добролюбова, Михайловского и увлекся
социалистическими учениями. Вскоре он «отверг не только церковь, но даже
и бытие Бога»2. В 1887 г. он был исключен из гимназии «за пропаганду
социализма и атеизма», хотя эти прегрешения заключались лишь в
разговорах с товарищами. Лишенный возможности продолжить
образование в России Лосский нелегально перебирается в Швейцарию. Здесь
он слушал выступление Плеханова, видел Либкнехта, изучал
социалистическую литературу. В своих «Воспоминаниях» философ ярко
описывает свои заграничные приключения, среди которых была недолгая
служба во французском Иностранном легионе в Алжире.
В 1889 г. Лосский возвращается в Витебск. Стремясь получить
образование, юноша едет в Петербург, где сначала учится на
бухгалтерских курсах, а затем благодаря помощи родственников заканчивает
гимназическое образование и поступает в 1891 г. на
физико-математический факультет университета, будучи «убежден в истинности
механистического материализма» (82). Большое значение для формирования его
мировоззрения и знаний по психологии имели лекции и практические за-
1 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 1. С. 205.
2 Лосский Н. О. Воспоминания. Жизнь и философский путь. СПб., 1994.
С. 46. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.
258
нятия П. Ф. Лесгафта. Многое в последующем философском развитии
Лосского определило знакомство с философом Алексеем
Александровичем Козловым (1831-1901), с сыном которого, также ставшим
философом, Сергеем Алексеевичем Алексеевым (Аскольдовым) (1870/1871-
1945) Лосский вместе учился в университете. А. А. Козлов, как и его
сын, был сторонником философской традиции Лейбница, учения
персонализма, развивавшего идею об основополагающем значении
личности как индивидуальной духовной субстанции. Под влиянием Козлова
Лосский стал сторонником панпсихизма (от греческих слов pan - всё и
psyche - душа), т. е. концепции всеобщей одушевленности мира.
В 1894 г. всецело поглощенный философскими интересами
Лосский переходит на историко-филологический факультет, где слушает
лекции сторонника кантовской философии Александра Ивановича
Введенского (1856-1925). Особое значение для Лосского имело его
знакомство в доме Козлова с Вл. Соловьевым, с которым он затем
встречался во время приездов Соловьева в Петербург. Лосский
писал: «В последний раз я видел его в 1900 г. В то время я был уже на
пути к своему интуитивизму. Соловьев с интересом и симпатией
слушал мои рассуждения о гносеологической проблеме, а я, увлекаясь в
то время логикою и гносеологиею, вовсе и не подозревал, что через
двадцать лет окажусь в разработке метафизической системы
наиболее близким к Соловьеву из всех русских философов» (106).
Интуитивизм Лосского
После окончания университета и сдачи магистерского экзамена
Лосский был командирован в 1901 г. за границу для завершения
образования. В Страсбурге он занимался в семинаре Виндельбанда,
познакомился во Фрейбурге с Риккертом. Большое внимание он уделил
занятиям по психологии (в Лейпциге в психологическом институте В.
Вундта, в Геттингене в кабинете экспериментальной психологии Г.
Э. Мюллера). С 1902 г. Лосский в качестве приват-доцента читает
лекции по философии и психологии в Петербургском университете, а
в 1903 г. защищает магистерскую диссертацию, в которой
первоначально обосновывает уже сложившуюся у него концепцию
интуитивизма. Эту концепцию он разрабатывает в докторской диссертации и
в книге «Обоснование интуитивизма» (1906).
В чем сущность концепции интуитивизма Лосского? Для того
чтобы понять и оценить эту концепцию, нужно представить
ситуацию, существовавшую в теории познания. Будучи частью той или
другой системы философии, теория познания ставит вопрос об
отношении субъекта познания к его объекту, или предмету Учение Канта
и его последователей полагало, что весь процесс познавательной
деятельности человека не выходит за пределы субъекта, поскольку
объект как «вещь в себе» в принципе непознаваем. Материалисты
9*
259
представляли познавательный процесс как отражение в голове
человека объективно существующей материальной действительности.
В основе материалистической теории познания лежит представление,
согласно которому человек, не искушенный в философских
хитросплетениях, не сомневается в существовании вне его реального мира.
На такой «наивный реализм» опирается и интуитивизм Лосского.
По его словам, «непосредственный анализ сознания, не сбиваемый с
толку никакими ложными предпосылками, дает право утверждать,
что «данное мне» есть уже сам внешний мир, вступивший в «мое»
сознание в подлиннике» (132). Он стремится снять со слова
«интуиция» дымку чего-то загадочного, обозначение какой-то
таинственной способности отдельных высокоодаренных людей. Для него
«интуиция» - это человеческая способность непосредственного
созерцания бытия в его подлинности, а интуитивизм - это прежде всего
учение о том, что «в кругозор сознания человеческого «я» вступают
предметы внешнего мира в подлиннике» (127).
Интуитивизм Лосского, таким образом, противостоит тем
теоретико-познавательным учениям которые субъективизируют процесс
познания, рассматривая сам предмет познания как конструируемый
субъектом. Но чем теория познания Лосского отличается от
познавательной концепции материализма, который ведь тоже признает
внешний мир в качестве предмета познания? Для материалистов внешний
мир - это причина познания, но сам он присутствует в человеческом
сознании как «субъективный образ объективного мира». Лосский же
усматривает между объектом познания и его субъектом не причинно-
следственную связь, а «гносеологическую координацию», по которой
«внешние объекты координируются с познающей личностью в их
целостности, во всей бесконечной множественности их содержания»1.
Это богатство объекта связано с человеческим «я» уже на
подсознательном уровне благодаря принципу «все имманентно всему». Эта
мысль, озарившая Лосского в 1898 г. (см. 110), означает, что
существует внутренняя связь, внутреннее единство между всеми явлениями
мира, в том числе между субъектом познания и его и объектом.
В отличие от материализма, Лосский утверждает
существование наряду с реальным бытием бытия идеального - бытия, не
имеющего ни пространственного, ни временного характера. Притом
«реальное бытие может возникнуть и получить систематический
характер только на основе идеального бытия» («ИРФ», 323). Поэтому-то
Лосский называет свою философскую теорию идеальным
реализмом, или идеал-реализмом.
Как видим, интуитивизм Лосского выводит теорию познания,
гносеологию, за ее пределы, в сферу самого бытия, в область учения о
1 Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 322. Далее
ссылки на это издание приводятся в тексте указанием в скобках «ИРФ» и страницы.
260
бытии, онтологии (Бердяев определил интуитивизм Лосского как
«онтологическую гносеологию»). Исходя из своей теории познания, он и
строит свою метафизическую систему.
Метафизика конкретного идеал-реализма
Проблемы метафизики1 интересовали Лосского с начала его
философской деятельности, со времени знакомства с лейбницианской
философией А. А. Козлова. Сам Лейбниц становится любимым
философом Лосского. Но занятия психологией и теорией познания на какое-то
время потеснили его метафизические интересы. Однако в результате
интуитивистского понимания познавательного процесса они вновь
выдвинулись на первый план. Он изучает историю метафизических учений
и определяет свою собственную метафизическую концепцию, которую
излагает в статье «Органические и неорганические мировоззрения»
(1912), а затем в работе «Мир как органическое целое» (журнальная
публикация 1915г., вышла книгой в 1917 г.).
Центральным понятием метафизики Лосского является
«субстанциальный деятель». Что это такое? По его словам,
«субстанциальный деятель - идеальная, сверхпространственная й сверхвременная
сущность и как таковая выходит за пределы различия между
психическими и материальными процессами» («ИРФ», 324). Учение
Лосского о субстанциальных деятелях подобно учению Лейбница о
«монадах» - вечных духовных субстанциях, обладающих
индивидуальными отличиями и деятельной силой. Вместе с тем, в отличие от
лейбницевских монад, которые «не имеют окон», т. е. совершенно
независимы друг от друга и связаны лишь божественной
«предустановленной гармонией», Лосский приписывает субстанциальным
деятелям взаимную координацию, обеспечивающую «возможность
интуиции, любви, симпатии» («ИРФ», 326).
Субстанциальные деятели как конкретно-идеальные
сущности являются, по учению Лосского, потенциальными или реальными
личностями. Поэтому свою метафизическую теорию он относил к
философской традиции персонализма, идущей от Лейбница, а в
России - от Козлова. Реальная личность - это человеческая личность.
Потенциальные личности - это субстанциальные личности на
низшей стадии: от электронов, кристаллов, животных существ и т. п.
«Один и тот же деятель, - читаем мы в «Воспоминаниях», -
начинает, может быть, с электронного типа жизни, а потом изобретает или
усваивает более высокий идеал жизни и становится атомом
кислорода, потом кристаллом горного хрусталя, амебою, лошадью,
человеком» (215). В. В. Зеньковский такого рода рассуждения Лосского на-
1 «Метафизика, - по Лосскому, - есть наука о мире как целом; она дает
общую картину мира как основу для всех частных утверждений о нем» (Лосский
Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995. С. 5).
261
зывает «фантастическими гипотезами» и «фантастическими
картинами»1, но фантастический момент не может не быть присущим
любой метафизической системе. Сам Лосский полагает, что наряду с
чувственной и интеллектуальной интуицией (интуицией,
направленной на идеальные аспекты бытия) существует и мистическая
интуиция, при помощи которой постигается невидимое и немыслимое2.
По метафизическим воззрениям Лосского, субстанциальные
деятели высшего порядка образуют системы из деятелей,
находящихся на более низкой стадии. Говоря словами философа, «группа
деятелей подчиняет себя одному деятелю, стоящему на более высоком
уровне развития, и становится его органом. В результате этого
возникает такая иерархия единств, как атом, молекула, кристалл,
одноклеточный организм, многоклеточный организм, общность
организмов, подобно пчелам или гнезду термитов; в сфере человеческой
жизни существуют нации и человечество как целое; далее, существует
наша планета, солнечная система, вселенная» («ИРФ», 327).
Многочисленные системы пространственно-временных отношений, которые
творят деятели, «составляют одну единую систему космоса. Во главе
этой системы стоит высокоразвитый субстанциальный деятель -
мировой дух» («ИРФ», 326). Свою метафизику Лосский поэтому
называет «иерархическим персонализмом».
Однако «мировой дух» - это не Абсолют, не Бог. В ином случае
философская система была бы пантеистической, т. е. таким
представлением, по которому Бог растворен в мире, а не стоит над ним как его
Творец. И с философско-логической точки зрения, по Лосскому,
Абсолютное не может быть единством мировой системы. Оно - «выше
всяких систем», оно - «сверхсистемное» начало всего3. Отвергая
пантеизм, которого в той или иной мере не избежать и «философии
всеединства», Лосский утверждает, в соответствии с христианским учением,
что Бог творит мир «из ничего», ибо «не нуждается ни в каком
материале вне Себя и не заимствует никакого содержания из Себя. Он творит
мир ни из чего. Обоснование Им мира имеет характер абсолютного
творчества в том смысле, что рядом с Собою Он создает нечто
абсолютно новое, не тождественное Ему ни в каком отношении» (217).
Следует отметить, что юношеский атеизм Лосского перешел в
длительное индифферентное отношение к религии и церкви. Даже перед
венчанием он честно сказал священнику о своем «неверии» (см. 120).
Но разработка проблем метафизики в 1915-1916 гг. привела его к
религии, а затем и к церкви (см. 203). Поэтому он стремился привести в
соответствие свои метафизические взгляды с православным христи-
1 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 1. С. 211.
2 См.: Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая
интуиция. С.259-288.
3 Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Лосский Н. О. Избранное. М.,
1991. С. 385. Далее ссылки на это издание даются в тексте: «Избр.» и страницы.
262
анством, дополняя чисто философскую концепцию «верховного
принципа» «данными религиозного опыта», основанного на Откровении,
используя «догму о Троице» (см. «ИРФ», 328-329). Сын Лосского -
Владимир Николаевич Лосский (1903-1958) стал видным православным
богословом. Но сам Н. О. Лосский, при всей усиливавшейся
религиозности его философии после 1917 г., был сторонником свободы мысли,
защищая право Булгакова и Бердяева на свое философское понимание
богословских проблем, хотя он не разделял их взглядов.
По Лосскому, абсолютное творчество Бога и создало систему
субстанциальных деятелей - личностей, наделив их способностью к
собственной свободной творческой деятельности, создающей
божественную полноту жизни. В книге «Свобода воли» (1927) Лосский
отмечает, что, получая свободу от Бога, люди сами отвечают за свои
поступки и Бог не может нести никакой ответственности за зло,
совершающееся в мире. С другой же стороны, «только свободные
существа могут быть носителями нравственного добра и других
абсолютных ценностей» («Избр.», 565). «Свобода есть условие высочайшего
достоинства тварей Божиих. Без свободы нет добра» (там же, 566).
Свою книгу «Мир как органическое целое» Лосский заканчивает
выстраиванием высшей иерархии в соответствии со своей
философией «конкретного идеал-реализма»: в основе мира и выше его находится
Бог «как Сущее сверхсовершенство. Далее, в основе мира и притом в
составе самого мира есть Царство Божие, Царство Духа как
осуществленный идеал» (там же, 480). «Во главе всего мира, вслед за Христом,
как его ближайший сподвижник стоит тварное бытие, мировой дух, св.
София». Но в отличие от других софиологов для Лосского «Дева Мария
- земное воплощение св. Софии, которая, таким образом, служила делу
воплощения Иисуса Христа» («ИРФ», 339).
Лосский подчеркивает, что его идеал-реализм является не
отвлеченным, а конкретным. «Отвлеченным я называю идеал-реализм,
допускающий только отвлеченно-идеальные начала, идеи, тогда как
конкретный идеал-реализм признает, сверх того, еще и конкретно-
идеальные начала», - отмечал он в работе, итожащей его
философское миропонимание1. «Конкретно идеальные начала» - это, по
Лосскому, и есть «субстанциальные деятели». Конкретный
идеал-реализм представляет собой такую метафизическую систему, «которая
в сфере идеального (духовного) бытия находит не только
отвлеченные идеи, правила, законы и т. п., но и конкретно-идеальные начала,
именно субстанции как живые существа, Дух с бесконечною
содержательностью бытия, не исчерпаемою посредством отвлеченных
идей» («Избр.», 476).
1 Лосский Н. О. Идеал-реализм (из книги «Общедоступное введение в
философию») // Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая
интуиция. С. 344.
263
Условие абсолютного добра
Под таким названием в 1944 г. в Братиславе вышла в
гектографическом издании книга Лосского с подзаголовком «Основы этики».
Его этические воззрения органически включены в метафизическую
систему конкретного идеал-реализма, но разрабатывались они не
только умозрительно, но и под влиянием жизненно-духовного опыта
философа. До Братиславы середины 40-х гг. был трудный путь из
России после 1917 г.
Полагая, что всякая революция, опрокидывающая «историческую
государственную власть, есть величайшее бедствие в жизни народа»
(220), Лосский не принял ни Февральскую революцию, ни революцию
Октябрьскую 1917 г. Он придерживался либеральных взглядов и
состоял в партии «кадетов» (конституционно-демократической партии,
партии народной свободы). Он не был противником социализма, но
считал, что социалистические порядки должны быть установлены не
революционным, а эволюционным путем. В статье «О социализме»,
напечатанной летом 1917 г., философ утверждал, что эволюционный
путь развития должен привести к новой форме экономического строя,
«сочетающей ценные стороны индивидуалистического хозяйства с
ценными сторонами коллективистического идеала социалистов» (221-222).
В первые послереволюционные годы Лосский еще работал в
Петроградском университете, читал лекции на философско-религиозные
темы в Народном университете, в Вольной философской академии
(Вольфила), выпускал с Э. Л. Радловым философский журнал
«Мысль». Но в 1921 г. философ был удален из университета за
идеализм и религиозность, а в 1922 г. выслан из Советской России.
Семья Лосских поселилась в Праге, где он продолжил свою ис-
следовательско-философскую и педагогическую деятельность,
выезжая с лекциями и докладами в другие страны. В 1942 г. Лосского
приглашают на кафедру философии Братиславского университета. В
1945 г., после вступления в Братиславу Советской Армии, он уезжает
во Францию, а в следующем году - к сыну в США. До 1950 г.
Лосский работал в качестве профессора Духовной академии Св.
Владимира в Нью-Йорке. Умер философ в Париже в 1965 г.
В годы эмиграции Лосский продолжал разработку своей
философской системы в многочисленных работах: «Свобода воли» (1927), «Типы
мировоззрений. Введение в метафизику» (1931), «Чувственная,
интеллектуальная и мистическая интуиция» (1938), «Учение о
перевоплощении» (написана в начале 50-х гг., издана в 1992 г.) и др. Однако, как он
отмечает в своих «Воспоминаниях», его «главной задачей в это время
был переход от теоретической философии к практической» (277).
Практическая философия - это прежде всего этика. Но
своеобразным переходом от теоретической философии к практической
стала у Лосского его теория ценности, или аксиология. Ценностным на-
264
чалом пронизана сама метафизика Лосского как иерархический
персонализм. Ведь критерием реальности и развитости
«субстанциального деятеля» как личности является его способность «понимать
абсолютные ценности, в особенности моральные, и видеть свой долг
в достижении их в своем поведении» (ИРФ, 325). «Условие
космического процесса» - «осуществление в нем абсолютных ценностей»,
а «всеобъемлющая абсолютная ценность - это абсолютная полнота
жизни» (там же, 326). Сама иерархия личностей (т. е.
иерархический персонализм) основывается на иерархии ценностей: «Бог -
высочайшая ценность... Затем в иерархии ценностей следует тварная
личность как некий индивидуум, неповторимый и незаменимый
никакой иной ценностью...» (там же, 331 ).
Эти положения Лосский разрабатывает в своей книге «Ценность
и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей» (1931), которая
представляет собой первую (и до начала 60-х гг. единственную)
монографию по проблемам ценности в русской философской
литературе. На материале тщательного исследования и критики
существовавших в западноевропейской философии, психологии, этике и
собственно аксиологии (теории ценности) концепций ценности русский
мыслитель определяет свое понимание ценности и ценностного
отношения. Он вместе с тем полагает, что «как ни различны эти теории,
каждая из них учитывает какую-либо сторону ценности»1.
Для философии идеал-реализма «ценность есть нечто идеальное
или, по крайней мере, включает в себя идеальный момент как нечто
существенное». Более того, любое содержание бытия есть ценность
«не в каком-либо своем отдельном качестве, а насквозь всем
своим бытийственным содержанием» («Ценность», 263). «Ценности
существуют не иначе как в соотношении с абсолютною полнотою
бытия». Поэтому, с позиции иерархического персонализма,
«ценности мирового бытия так же, как и само мировое бытие, существуют
не иначе как на основе Сверхмирового начала, а это Начало,
поскольку Оно есть Бог, есть абсолютная полнота бытия» (там же, 277). Как
видим, аксиологическая концепция Лосского является теологической,
что прямо заявлено в подзаголовке книги: «Бог и Царство Божие как
основа ценностей».
В своей монографии о ценности Лосский рассматривает также
важнейшие проблемы аксиологии: ценность в ее отношении с
субъектом и объектом; ценность и ценностное отношение, выраженное в
«чувстве ценности» и оценочном суждении; ценности абсолютные и
относительные, «служебные ценности»; Добро, Истина и Красота как
ценности в их единстве. Исходя из принципов своей философской
1 Лосский Н. О. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа
ценностей // Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М, 1994. С. 255. Дальнейшие ссылки на
эту книгу приводятся в тексте указанием в скобках: «Ценность» и страницы.
265
системы, Лосский обосновывает «онтологическую теорию
ценностей», утверждает объективность ценности, которая определяется им
как «органическое единство существования и смысла» (ИРФ, 329-330)1.
Этика Лосского является конкретизацией его метафизической
системы и сама, как и аксиология, составляет органическую часть
этой системы. Этический аспект философии иерархического
персонализма специально освещен в таких его трудах, как «Бог и мировое
зло. Основы теодицеи» (книга писалась в Праге в 1940 г. во время
нацистской оккупации Чехии, и цензура потребовала изъятия тех мест,
в которых «мировое зло» могло ассоциироваться с фашистским
режимом), «Условия абсолютного добра. Основы этики» (Братислава,
1944; Париж, 1949), «Достоевский и его христианское
миропонимание» (книга вышла на словацком языке в 1946 г., по-русски - в 1953 г.),
«Характер русского народа» (издано в 1957 г.).
По Лосскому, субстанциальные деятели - потенциальные и
реальные личности - обладают свойством как притяжения, так и
отталкивания друг от друга. Притяжение лежит в основе любви.
Отталкивание - в основе эгоизма и себялюбия. Любовь, в широком смысле этого
понятия, привязывает деятелей друг к другу, образуя их союзы
возрастающей сложности: от электронов и атомов, живых организмов до
самого человека и общественных образований (семья, нация,
государство и т. п.) и далее - Земля, Солнечная система, «единство всего
мира с Богом во главе его»2. Благодаря такой любви и существует
добро. Зло как нравственное зло «состоит в нарушении деятелем
ранга ценностей, именно в себялюбии, эгоизме, т. е. в большей любви к
себе, чем к Богу и другим существам...» («Условия», 62).
Ответственен ли Бог за то, что существует зло? «Не мог ли бы
Бог сотворить автоматов добродетели! Тогда в мире не было бы
зла». Но Богу не нужны «автоматы добродетели». Ему нужно, чтобы
субстанциальные деятели по своей воле соединялись с Ним,
добровольно восходили к Царство Божие, которое есть совокупность
деятелей, живущих в Боге и осуществляющих «подобие Божие» (там же, 58).
Поэтому он наделил их свободой воли, хотя «свобода - опасный дар»
(там же, 60), поскольку она может привести к ложной ценностной
ориентации, к себялюбию и эгоизму, к гордыне, ведущей на путь сатаны.
Для любой персоналистической философии существует
проблема сочетания интересов неповторимо-индивидуальной личности и дру-
1 Проблемы теории ценности Н. О. Лосского рассматриваются в кн.: Сто-
лович Л. Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии.
М., 1994. С. 408-414. В этой книге также показывается, что обоснование
объективности ценностей возможно не только с точки зрения теологической
аксиологии, но и с позиций иных теоретико-ценностных концепций.
2 Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 181. В
дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте указанием в скобках
«Условия» и страницы.
266
гих личностей. Ведь персонализм может вести и к индивидуализму
со всеми его социальными и моральными следствиями. Мы уже
видели, как эту проблему стремились разрешить Бердяев и
Шестов, а также Карсавин с его учением о «симфонической личности».
Исходя из принципа «все имманентно всему» и полагая, что
«каждое существо есть не только для-себя-бытие, но бытие для
другого», Лосский утверждает как идеал гармоническое сочетание
индивидуальности деятелей в «соборном творчестве»: «Абсолютно
целостное единство деятельности нескольких лиц есть соборное
творчество. В описанной идеальной форме оно возможно не иначе как
на основе совершенной любви друг к другу участвующих в нем лиц,
обладающих индивидуальным своеобразием, и притом
совершенным, т. е. содержащих в себе и осуществляющих только
абсолютные ценности» (там же, 56).
Можно принимать или не принимать способ решения Лосским
теоретико-ценностных и этических вопросов, но полученный им результат
не может не импонировать гуманистическому миропониманию. Этот
результат - утверждение свободной человеческой личности, ее
неповторимой индивидуальности и свободной ассоциации личностей в их
«соборном творчестве» во имя Любви, Добра, Истины, Красоты1 и в
противостоянии «мировому злу» во всех его проявлениях.
АБСОЛЮТНЫЙ РЕАЛИЗМ С. Л. ФРАНКА
Философия Семена Людвиговича Франка (1877-1950) в
определенном отношении близка философским воззрениям Н. О. Лосского.
И тот и другой были сторонниками интуитивизма и основанного на
нем идеал-реализма. Их сближает также приверженность к
системному мышлению в философии. В то же время Франк разрабатывает
весьма обстоятельно учение о всеединстве, связанное прежде
всего с именем Вл. Соловьева. По словам самого Франка, «сродство»
его взглядов «с основной религиозно-философской интуицией Вл.
Соловьева» уяснилось ему самому только после того, как он в
основном завершил разработку системы своей философии. «Влияние на
меня, - отмечает он, - мировоззрения Вл. Соловьева было очевидно
бессознательным. Но я охотно и с благодарностью признаю себя в
этом смысле его последователем»2.
Исследователи вместе с тем пишут о том, что свою концепцию
всеединства Франк разработал с необычайной
«последовательностью и логическим совершенством» и что «в лице Франка русская
1 Во второй половине 30 - начале 40-х гг. Лосский работал над трудом
«Мир как осуществление красоты», который он закончил в последние годы
жизни. Книга под этим названием, завершающая его систему
идеал-реализма, впервые была опубликована на родине философа в 1998 г.
2 Франк С. Л. Реальность и человек. М., 1997. С. 208.
267
философия принесла один из самых зрелых и драгоценных своих
плодов. Наряду с Лосским и Бердяевым, занимая свое особое место,
Франк должен быть признан крайне глубоким и оригинальным
русским мыслителем»1. А как полагает В. В. Зеньковский, «по силе
философского зрения Франка без колебания можно назвать самым
выдающимся русским философом вообще, - не только среди близких
ему по идеям»2. Могут быть, конечно, разные мнения по поводу того,
кого поставить первым, вторым или третьим на «пьедестал почета»,
хотя занятия философией - не спортивные соревнования. Однако при
самом различном отношении к существу философской системы
Франка или отдельным ее сторонам нельзя усомниться в ее значимости
для русской философской мысли.
С. Л. Франк родился в Москве в семье врача - участника русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. Но с 1882 г., после смерти отца, он рос
в доме своего деда со стороны матери С. С. Россиянского, который
был одним из основателей еврейской общины в Москве. Под
влиянием деда-раввина складывались первые религиозные впечатления
будущего философа. Однако юность его не была религиозной;
сказалось приобщение будущего философа к
революционно-демократической и народнической литературе. В старших классах гимназии в
Нижнем Новгороде, куда переехала его семья, Франк вступил в
марксистский кружок, а затем, уже учась на юридическом факультете
Московского университета, начал заниматься революционной
пропагандой в социал-демократическом духе.
Однако увлечение революционными идеями продолжалось не
долго: уже в 1896 г. Франк прекратил свою пропагандистскую
деятельность и занялся философией. Правда, в 1899 г., после студенческих
волнений в университете, он был арестован и выслан из Москвы.
После поездки к родным в Нижний Новгород он едет в Германию,
занимаясь в Гейдельберге и Мюнхене политической экономией и философией.
Здесь он пишет свою первую книгу «Теория ценности Маркса и ее
значение. Критический этюд», вышедшую в 1900 г. в Петербурге. В этой
книге, а также в статье «Психологическое направление в теории
ценности», опубликованной в 1898 г. в журнале «Русское богатство», Франк
подвергает критике учение К. Маркса о стоимости, усматривая
вместе с тем общность понятия стоимости-ценности с другими
ценностями - ценностями нравственными, научными, эстетическими и т. д.
К началу XX столетия молодой философ окончательно отошел от
марксизма, заявив, что «научный социализм» «выродился теперь в ненаучную
и антинаучную догматическую веру»3. В статье «Этика нигилизма»,
напечатанной в 1909 г. в сборнике «Вехи», Франк отмечает, что социалист
1 Левицкий С. А. Очерки по истории русской философии. М, 1996. С. 330.
2 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. С. 158.
3 Франк С. Л. Соч. М, 1990. С. 75. Далее ссылки на это издание даются в
тексте.
268
стремится к человеческому счастью, но «он любит уже не живых
людей, а лишь свою идею - именно идею всечеловеческого счастья»
(94). В эмиграции философ усиливает свою критику социализма. В 1926 г.
в Берлине выходит его критический очерк «Основы марксизма».
Франк был либералом по своим политическим воззрениям. В
программной статье журнала «Полярная звезда», который им
редактировался вместе с П. Б. Струве, он в 1905 г. писал: «В нашем фило-
софско-политическом мировоззрении мы исходим из идеи личности
как носителя и творца духовных ценностей, осуществление которых
в общественно-исторической жизни образует содержание культуры
и есть высшая и последняя задача политического строительства» (69).
Франк, как и Струве, становится сторонником «либерального
консерватизма», который, по его мнению, находится «по ту сторону
«правого» и «левого» (так была названа статья Франка 1931 г.).
«Либеральный консерватизм» предполагал сочетание либерализма и
демократии с консерватизмом, состоявшим в убеждении, что «традиция,
историческое преемство, органическое произрастание нового из
старого есть необходимое условие подлинной свободы и что, напротив,
всякий самочинный «революционизм», всякая насильственная и
радикальная ломка общественного порядка, всякое разнуздание
демагогических страстей ведет только к деспотизму и рабству»1.
От марксизма к христианскому миропониманию
и идеализму
От марксизма Франк перешел к идеализму. Сначала это было
обращением к неокантианству, к которому он вскоре отнесся
критически, затем - увлечение Фр. Ницше. Ницше была посвящена
первая его собственно философская работа «Фр. Ницше и этика «любви
к дальнему», опубликованная в 1902 г. в сборнике «Проблемы
идеализма». Его привлекало к Ницше также сочетание «элементов
реализма и идеализма» (566). Франк расширил свой философский
кругозор, занимаясь с 1901 по 1905 г. переводами немецкой философской
литературы. В своей статье «Этика нигилизма» (1909) он резко
противопоставляет религию служения земным нуждам, «которую
исповедует русский интеллигент», религии «служения идеальным
ценностям» (87). Статья заканчивается призывом «перейти к
творческому, созидающему культуру религиозному гуманизму» (ПО).
Переход к метафизическому идеализму был сопряжен у Франка
с его религиозным самоопределением. Первоначальные религиозные
чувства, связанные с иудаизмом, погасли в юношеском атеизме.
Возрождение его религиозности проходило на христианской основе. В
иудаизме его не удовлетворяло, как он писал впоследствии, противо-
1 Франк С. Л. Русское мировоззрение. С. 514.
269
стояние Бога и человека, «неведение Богочеловечества»,
нераздельного единства Бога и человека, жертвенно победившего «мир - на
кресте»1. Вместе с тем Франк, после выхода его книги «Теория
ценности Маркса и ее значение», отказался от предложенной ему
подготовки к профессуре в Политехническом институте, поскольку для
этого требовалось изменение вероисповедания. Философ, пришедший
к христианскому миропониманию уже в 1907 г., принял православное
крещение лишь в 1912 г., после того как не могло возникнуть даже
малейшего подозрения, что это сделано для какой-либо карьеры. При
этом Франк, по его словам, «всегда сознавал», что его христианство -
«наслоение на ветхозаветной основе», «естественное развитие
религиозной жизни» его детства2. Свои религиозно-общественные
воззрения Франк определял как «христианский реализм» (7). Будучи
православным христианином и религиозным мыслителем, Франк был чужд
конфессиональной нетерпимости.
От теории познания ко всеединству
Определив свои философские позиции в духе
«метафизического» идеализма, Франк в первое десятилетие своих занятий
философией выступил со многими статьями, часть которых была собрана
в книге «Философия и жизнь», вышедшей в 1910 г. С 1906 г. он начал
свою преподавательскую деятельность; с 1912 г. - приват-доцент
Петербургского университета. Во время научной командировки в
Германию Франк в 1914 г. заканчивает свою философскую работу
«Предмет знания», изданную в 1915 г. и защищенную как
магистерская диссертация в 1916 г.
В теории познания Франк, как и Лосский, - сторонник
интуитивизма. «Усиленным напряжением внимания, - пишет он, - можно многое
уяснить, т. е. достигнуть большой ясности и точности понятий, но лишь
при условии, что этому уже предшествовало подлинное, творческое,
т. е. интуитивное проникновение в мыслимое содержание; само же это
проникновение имеет форму внезапного «просветления», как бы
неожиданного «дара свыше», достижению которого, правда, часто
содействует напряжение внимания, но не в форме непосредственного,
сознательного осуществления поставленной цели, а в форме такого
воздействия на сознание, которое создает в нем условия, благоприятные для
этого приобщения истины». Эта характеристика интуиции - ее
психологическая сторона. В результате же содержательного процесса
интуиции в самый момент, когда мы испытываем такое «просветление»,
отмечает Франк, «мы на краткое мгновение имеем тогда перед собой
в едином познавательном акте и, следовательно, как единство,
бесконечное многообразие, и что воспоминание о нем, т. е. позднейшее, так
1 Франк С. Мистическая философия Розенцвейга // Путь (Paris). 1926. № 2.
2 Франк С. Л. Русское мировоззрение. С. 44.
270
сказать, затемненное, вновь потенциализованное обладание этим
единством многообразия служит нам затем руководящей нитью в
построении системы отвлеченных определенностей»1.
Франк полагает, что интуитивное знание позволяет иметь дело с
самим предметом; «предмет есть как бы крепость, которую мы должны
одолеть и в которую должны войти; одоление ее есть познание, прочное,
окончательное обладание ею есть знание; но покорять можно лишь то, что
оказывает сопротивление, и обладать можно лишь тем, что, по своему
собственному бытию, мыслится существующим независимо от
обладания; покоренная крепость есть все же крепость, а не ветряная мельница
Дон Кихота»2. «Живая интуиция» - это и есть «единство знания и жизни».
Предмет доступен знанию потому, что и объект познания, и его
субъект находятся в едином бытии, во всеединстве. Сама
возможность интуиции существует только потому, что и индивидуальное
бытие человека, и объект его познания еще до всякого
познавательного процесса пребывают во «всеединстве» и слиты друг с другом в
самом бытии. «Высшей ступенью интуиции может быть лишь
знание-жизнь, где субъект вообще уже не противостоит объекту, а
знает объект в силу того, что слит с ним в самом своем бытии, или где
бытие и знание действительно есть одно и то же»3. Франк, таким
образом, подобно Лосскому, разрабатывал «онтологическую теорию
познания», т. е. такую теоретико-познавательную концепцию,
которая обосновывает реальность бытия, притом бытия
реально-идеального. Поэтому они оба могут быть отнесены к философскому
направлению идеал-реализма, обосновываемому интуитивизмом.
О структуре всеединства
Однако саму структуру идеально-реального бытия Лосский и Франк
понимают по-разному. У Лосского - это субстанциональные деятели как
конкретно-идеальные сущности. У Франка же - это абсолютное
бытие, всеобъемлющее единство, или всеединство. «Абсолютное
всеединство» включает в себя «с одной стороны, идеальное или вневременное
бытие и, с другой стороны, бытие реальное или конкретно-временное».
По другой формулировке: «...сущее делится лишь на временной поток
реальности и вневременное бытие идеального». Однако Франк не
разъединяет реальное и идеальное, временное и вечное, но усматривает связь
между ними, ибо «само время и всякое временное бытие возможно не
иначе, как на почве самой вечности», а «всякая погруженность в миг
настоящего есть вместе с тем потенциальное бытие в вечности»4.
1 Франк С. Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания //
Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995. С. 270.
2 Там же. С. 90, 360.
3 Там же. С. 38.
4Тамже.С.316,317,360,361.
271
В 1916 г. Франк пишет книгу «Душа человека. Опыт введения в
философскую психологию», которая выходит в свет в 1917 г. В ней он
подчеркивает, что конкретная душевная жизнь человека вся
протекает на почве «двуединства душевного и телесного бытия», что
существует «внутреннее единство душевной и телесной стороны
человеческого бытия» и что «человеческая душа» «не есть замкнутая
со всех сторон келья одиночного заключения». Человек, по Франку,
живет не только душевной, но и духовной жизнью. «Духовная жизнь»
- это тот тип «жизни, в котором само существо нашего «душевного
бытия» не есть нечто только субъективное, а укоренено в
объективном бытии или органически слито с ним». «Духовная жизнь» - это
«та глубина, в которой наша душевная жизнь слита с абсолютным
всеединством и переживается и сознается в этой слитности»1.
Духовная жизнь и делает человека личностью. «Эта высшая,
духовная «самость», - писал Франк в книге «Непостижимое», - и
конституирует то, что мы называем личностью. Личность есть
самость, как она стоит перед лицом высших, духовных,
объективно-значимых сил и вместе с тем проникнута ими и их
представляет, - начало сверхприродного, сверхъестественного бытия,
как оно обнаруживается в самом непосредственном самобытии...
Тайна души как личности заключается именно в этой ее способности
возвышаться над самой, быть по ту сторону самой себя - по ту
сторону всякого фактического своего состояния и даже своей
фактической общей природы... В этом состоит подлинная внутренняя
основа того, что мы переживаем как наше я», - заключает философ (409).
Философская версия всеединства, сложившаяся у Франка в его
работах «Предмет знания» и «Душа человека», охватывающая
теорию познания и философскую психологию, была дополнена книгой
«Духовные основы общества. Введение в социальную философию» (1930).
В ней он рассматривает общество как особую реальность. По его
словам, общество есть «подлинная целостная реальность, а не
производное объединение отдельных индивидов; более того, оно есть
единственная реальность, в которой нам конкретно дан человек. Изолированно
мыслимый индивид есть лишь абстракция; лишь в соборном бытии, в
единстве общества подлинно реально то, что мы называем
человеком». Для Франка «Я» как носитель личного индивидуального
сознания не является первичным началом: «Я» никогда не существует и
немыслимо иначе, как в отношении «ты» - как немыслимо «левое» вне
«правого», «верхнее» вне «нижнего» и т. п.». Единство же «я» и «ты»
выражено в понятии «мы», которое есть, следовательно, некая
первичная категория личного человеческого, а потому и социального бытия»2.
1 Франк С. Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного
знания. С. 601,591,585.
2 Франк С. Л. Духовные основы общества. М, 1992. С. 53, 50, 51.
272
При объяснении своего понимания сущности общества Франк
использует термин «соборность» как «органически неразрывное единство
«я» и «ты», вырастающее из первичного единства «мы». «В отличие от
внешнего общественного единства, где власть целого нормирует и
ограничивает свободу отдельных членов и где единство осуществляется в
форме внешнего порядка, разграничения компетенций, прав и
обязанностей отдельных частей, - отмечает он, - единство соборности есть
свободная жизнь, как бы духовный капитал, питающий и обогащающий жизнь
его членов»1. Соборность, связующая отдельные личности и личность с
общественной целостностью отношением любви, по Франку, есть
принцип «абсолютной правды», а не «общественный идеал».
По его мнению, общественные идеалы, будучи зависимы от
условий места и времени, относительны и могут лишь частично
выражать «абсолютную правду»; попытки же осуществления утопии
земного рая, «насаждения на земле царства Божия», не считаясь «с
основным онтологическим фактом греховности, несовершенства
человеческой природы», «вместо чаемого рая приводят к
насаждению ада на Земле»2.
Об этом Франк много писал в эмиграции, после того как в 1922 г. с
большой группой философов, ученых и деятелей культуры был выслан
за пределы Советской России. Он обосновался в Германии, работая в
Русском научном институте, а с 1931 г. и в Берлинском университете -
читал там лекции по истории русской мысли и литературы (в том числе
на немецком языке). Но в 1933 г. после прихода к власти нацистского
правительства Русский научный институт был закрыт, чтение лекций в
университете Франку было запрещено. Для нацистов не имело
значения, что Франк давно переменил веру, отошел от иудаизма и стал
христианином. В 1937 г. философ переехал во Францию, где в 1939 г.
вышел его фундаментальный труд «Непостижимое». Название его
философского трактата «Свет во тьме», написанного в оккупированной
Франции, точно определяет умонастроение христианского
мыслителя, страдающего не только за свое этническое происхождение, но и
вообще крайне обеспокоенного судьбой мира, в котором господство
«разбойничьей шайки» «потопило на наших глазах мир в море крови и
слез»3. Лишь в 1945 г. Франк смог с женой выехать к своим детям в
Лондон, где философ творчески работал до своей кончины в 1950 г.
Но вернемся к трактовке Франком социальных проблем. Какова
же, с его точки зрения, природа общественного бытия? Материально
оно или идеально? Субъективно или объективно? Отвечая на эти
вопросы, Франк подвергает критике «социальный материализм», в том
числе «экономический материализм» марксизма. Он считал, что «об-
1 Франк С. Л. Духовные основы общества. С. 60, 61.
2 Там же. С. 105-106.
3 Франк С. Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной
философии // Франк С. Л. Духовные основы общества. С. 418.
273
щественная жизнь по самому существу своему духовна, а не
материальна». Между тем он не приемлет и «социальный психологизм»,
субъективизирующий общественное бытие. Франк отказывается
видеть в существовании человеческого общества
«абстрактно-идеальное вневременное бытие», так как общественное бытие обладает
двойственной природой: «оно сразу и «субъективно» и «объективно»,
оно входит «в состав духовной жизни и есть как бы ее внешнее
выражение и воплощение». В этом смысле ему присуща «своеобразная
объективность» - «подлинно объективная реальность, которая, как
некий осадок, вырабатывается самим человеческим духом,
выделяется им и неразрывно с ним связана»1.
Духовная жизнь, к которой причастен человек как личность,
духовные основы общества ведут, по учению Франка, к утверждению
«реальности» Бога, «образом и подобием» которого является сам
человек. Как писал Франк в последнем своем труде «Реальность и
человек. Метафизика человеческого бытия», опубликованном после его
смерти, «единственное, но вполне адекватное «доказательство
бытия Бога» есть бытие самой человеческой личности, осознанное
во всей глубине и значительности.. .»2.
ч.
Вопрос о смысле жизни
По словам Франка, «вопрос о смысле жизни сам по себе не
бессмысленный вопрос». Решение же его он связывает с ценностным
осмыслением жизни. Но для него непременным условием самой
возможности смысла жизни является признание существования
абсолютного и высшего блага: «Чтобы быть осмысленной, наша жизнь -
вопреки уверениям поклонников «жизни для жизни» и в согласии с
явным требованием нашей души — должна быть служением
высшему и абсолютному благу». По его убеждению, «абсолютным в
смысле совершенной бесспорности мы можем признать только
такое благо, которое есть одновременно и самодовлеющее,
превышающее все мои личные интересы благо, и благо для меня. Оно
должно быть одновременно благом и в объективном, и в субъективном
смысле и высшей ценностью, к которой мы стремимся ради нее
самой, и ценностью, пополняющей, обогащающей меня самого». И
далее: «Под благом в объективном смысле мы разумеем
самодовлеющую ценность или самоцель, которая уже ничему иному не служит и
стремление к которой оправдано именно ее внутренним достоинством;
под благом в субъективном смысле мы разумеем, наоборот, нечто
приятное, нужное, полезное нам, т. е. нечто служебное в отношении
нас самих и наших субъективных потребностей и потому имеющее
1 Франк С. Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной
философии. С. 66,72, 73.
2 Франк С. Л. Реальность и человек. С. 313.
274
значение, очевидно, не высшей цели, а средства для нашего
благосостояния». И потому «смысл жизни - в ее утвержденности в вечном, он
осуществляется, когда в нас и вокруг нас проступает вечное начало, он
требует погружения жизни в это вечное начало». Для христианского
мыслителя «вечный и ненарушимый смысл нашей жизни» - «сам
Богочеловек Христос, который есть для нас «путь, истина и жизнь»1.
Бог и мир
Эта проблема не могла не встать перед Франком как
сторонником учения о всеединстве. Каково взаимоотношение Бога и
всеединства? Как соотносятся Бог и мир, в котором существует добро и зло?
К решению этих вопросов Франк обращается как философ, а не как
богослов, ибо «философское постижение Бога потеряло бы весь свой
смысл, если бы оно просто совпадало с «догматическим
богословием» как рационально-систематическим разъяснением
определенного, уже фиксированного круга религиозных идей»2.
В своей книге «Непостижимое. Онтологическое введение в
философию религии» Франк, вслед за немецким средневековым
философом-мистиком Мейстером Экхартом, проводит различие между
понятиями «Бог» и «Божество» (которое он также называет
«Святыней»). «Божество» (или «Святыня») - это «Непостижимое,
Абсолютное, Всеобъемлющее Первоначало всего, последняя, лишь смутно
чуемая Глубина реальности» (см. 450, 487-488). Бог - «уже
совершенно определенная форма обнаружения или откровения того, что
мы разумеем под «Святыней» или «Божеством» (450). «Божество,
как Абсолют и абсолютное первоначало, не есть личность» (484),
тогда как Бог выступает «как личность, как абсолютное «Ты», перед
чьим взором я всегда стою», «как «отец» (487). С другой стороны,
«отношение к Богу, связь с Богом есть определяющий признак
самого существа человека, - писал Франк в последнем своем
капитальном труде. - То, что делает человека человеком, - начало
человечности в человеке - есть его Бого-человечность»3.
Франк в своем понимании проблемы «Бог и мир» сталкивается с
противоположностью двух богословских систем. Одна из них - апо-
фатическое (отрицательное) богословие противопоставляет Бога
миру, считая Его вне пределов всего существующего, а потому и в
принципе непознаваемым. Другая - катафатическое
(положительное, утверждающее) богословие, напротив, усматривает в мире
проявление Божественного творчества и утверждает возможность бо-
гопознания по плодам Его творения. Франк стремится преодолеть
противоположность между этими двумя богословскими системами.
1 Франк С. Л. Смысл жизни // Духовные основы общества. С. 164,165,205,216.
2 Франк С. Л. Реальность и человек. С. 299.
3 Там же. С. 321.
275
Взаимоотношение Бога и мира, по его мнению, диалектически
противоречиво. Что это означает? Через всю философию Франка
проходит методологический принцип, который он называет «антиноми-
стическим монодуализмом», т. е. «совпадением противополож-
ного», «единством раздельности и взаимопроникновения» (см.
385,403). Этот, несомненно, диалектический принцип восходит к
учению Николая Кузанского о «совпадении противоположностей». В
русской философии сторонником антиномистического принципа был
Флоренский, утверждавший, что «истина есть антиномия».
Принцип «антиномистического монодуализма» Франк
использует для разрешения многих проблем своей философской системы.
Так, этот принцип применяется им для понимания самого
всеединства в его частях и целом, в его вневременности и становления во
времени, в его реальности и идеальности. Он применяет этот
принцип для определения взаимосвязи «души» и «тела», «души» и «духа»,
двойственности человеческой личности, которая «как бы стоит
всегда на пороге между душевным и духовным бытием» (408),
взаимоотношения «я» и «ты», объективного и субъективного в
общественном бытии и многих других проблем общества. «Антиномический
монодуализм» служит ему для уяснения связи субъекта и объекта в
процессе познания, знания и жизни в «живом знании»,
«рациональности» и «иррациональности», единство которых образует
«трансрациональное» (см. 385 и 557-558), т. е. «сверхрациональное». Сам
принцип «антиномистического монодуализма» он характеризует как
«трансрациональный» (см. 409).
Вот этот «трансрациональный принцип антиномистического
монодуализма» Франк стремится применить для постижения мира и
Бога - Непостижимого. По его словам, «подлинное отношение
между Богом и миром - так же как отношение между Богом и «мною» -
может быть понято только в форме трансрационально-антиномис-
тического монодуализма - как внутреннее единство двух или как
двойственность одного. Это применимо как в отношении существа
мира, так и в отношении его бытия» (522). Мир, лишенный
основания своего бытия, антиномически связан «с тем, что в самом себе
несет свое основание» - со своей Первоосновой, со своим
Первоначалом как «Божеством» (518).
Как связан? С одной стороны, «Бог ни в какой мере не есть
«субстанция» или «субстрат» мира, а есть нечто «совсем иное», чем мир»
(521). Это положение философа соответствует апофатическому
(отрицательному) богословию, которое противопоставляет Бога миру.
Однако, с другой стороны, «Бог, как абсолютное первооснование или
Первоначало, есть всеединство, вне которого вообще ничто не
мыслимо. Если мир по сравнению с Богом есть нечто «совсем иное», то
сама эта инаковость проистекает из Бога и обоснована в Боге.
Поэтому, если мы говорим, что мир есть нечто совсем иное, чем Бог,
276
мы не должны при этом забывать, что он есть именно «иное Бога».
Если мы говорим в отношении бытия мира, что мир обладает
бытием, отличным от бытия Бога и в этом смысле самостоятельным, -
мы не должны забывать, что это разделение и обусловленная им
самостоятельность суть сами «сотворенно сущее», т. е. истекающее
из Бога отношение, - другими словами, что само разделение
пребывает в Боге» (521-522). Поэтому Франк называет свое
мировоззрение панентеизмом, по которому мир пребывает в Боге1 в
противоположность пантеизму, считающему, что Бог растворен в мире.
Следовательно, по Франку, Бог и противостоит миру как «совсем
иное», чем мир, и в то же время «сама эта инаковость
проистекает из Бога и обоснована в Боге». Это, по концепции философа, не
формально-логическое противоречие, а проявление принципа «трансра-
ционалъно-антиномистического монодуализма - как внутреннее
единство двух или как двойственность одного». «Это есть
именно трансрациональное монодуалистическое единство, в лоне
которого уже содержится двойственность, - пишет он в «Непостижимом» .-
Бог не есть в отношении мира «целое», и мир не есть «часть» Бога.
Но в качестве абсолютного Первоначала Бог есть и всеединство, - и
притом в том смысле, что всякое разделение, всякое пребывание вне
его при этом сохраняется, но сохраняется именно внутри самого
всеединства: само «бытие-вне-Бога» - сам момент «вне» и
«отдельно» - находится в Боге, как и все вообще. Напомним опять
глубокое изречение Николая Кузанского, что непостижимое единство
Бога открывается сполна лишь в - антиномистическом - единстве
«Творца» и «творения» (521,522,524).
Правда, само «творение» Франк трактует не как традиционно
библейское сотворение мира Богом, а как «вызывание мира к
бытию», совпадающее «с обоснованием, дарованием ценности,
осмыслением», поскольку и сам Бог выступает «в качестве
первоосновы или первооснования, в качестве единства бытия и ценности» (519).
С Богом сопряжены высшие ценности Добра, Истины, Красоты.
Поэтому-то в эстетическом восприятии Красоты, по Франку, мы
приобщаемся к высшей Божественной реальности, а сама Красота
определяется им как «отблеск «рая», онтологической укорененности всей
реальности в божественном всеединстве». Правда, как и
Достоевский, Франк видит двойственность красоты, сочетающей в себе
«божественное» с «сатанинским». Красота как эстетическая гармония
видимого мира, по Франку, лишь намекает на сущностную
гармонию всеединого бытия, но не совпадает с ней (433).
Такая трактовка Франком «творения» вызвала критику со
стороны Н. О. Лосского за чрезмерное, по его мнению, «сближение Бога и
мира» и за недостаточно проведенное различение между «Творцом»
1 См.: Франк С. Л. Духовные основы общества. С. 260; Франк С. Л. Русское
мировоззрение. С. 636.
277
и «творением»1. В. В. Зеньковский так же упрекает Франка за
недооценку «идеи творения», за нехватку ясности «в различениях
Абсолюта и мира», что характерно, как он считает, вообще для
философии всеединства, чреватой пантеизмом2.
Проблема зла
Критики философии всеединства, в частности в том ее варианте,
который разработан Франком, полагают, что «проблема зла» - это ее
ахиллесова пята3, т. е. уязвимое место. Как же автор
«Непостижимого» ставит и решает эту проблему? Существование зла для него
несомненно. По его словам, мир «полон зла», «берет сторону зла в его
борьбе с добром и тем обеспечивает победу зла над добром» (516).
В чем же корень зла? Франк не принимает те концепции, по
которым источник зла - в свободе воли человека, благодаря которой он
ослушался Бога и совершил «первородный грех». Не соглашается он
и с суждениями, усматривающими в действиях всемогущего и
всеблагого Бога использование зла как средства нравственного
воспитания человечества. «Не так легко, без всяких оговорок и дальнейших
разъяснений, поверить, - пишет Франк, - что вееблагий Бог, с
бесстрастием всемогущего владыки, заранее уверенного в
благотворности и разумности своих действий, избрал Гитлера орудием своей воли,
чтобы через муки удушения невинных женщин и детей в газовых
камерах повести человечество по заранее им определенному пути».
Перед нравственным сознанием не может не встать вопрос: «Как
совместить факт мирового страдания и зла со всемогуществом
всеблагого Бога?» По убеждению философа, «на этот вопрос нет и не
может быть рационального ответа. По человеческим понятиям, Бог
так же ответствен за зло, проистекающее из свободы воли, как
ответствен родитель, предоставивший детям свободу, не
соответствующую их слабости или неразумию»4. Поэтому он отказывается
признать саму правомерность проблемы теодицеи, т. е.
богооправдания, ибо «проблема теодицеи рационально безусловно
неразрешима» (531). И сторонник философии всеединства, признавая
существование зла как «эмпирической реальности», вынужден признать,
что «через гармоническое, божественное всеединство бытия
проходят глубокие трещины, зияют бездны небытия - бездны зла.
Всеединство, каким оно является эмпирически, есть некоторое
надтреснутое единство» (533).
1 См.: Лосский Н. О. История русской философии. С. 360-361.
2 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. С. 178. См. также
с. 168-169, 178-181.
3 Там же. С. 172.
4 Франк С. Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной
философии //Франк С. Л. Духовные основы общества. С. 428.
278
Однако, хотя зло есть «эмпирическая реальность», «существует в
мире и властвует над миром», оно, с его точки зрения, выступает в
качестве «реальности, безусловно лишенной основания и в этом
смысле лишенной и подлинного, бытийственно укорененного бытия» (532,
533). Эта двойственность мира соответствует существенной стороне
христианского мироучения о том, что «мир в его фактическом
эмпирическом составе и состоянии не таков, каким он должен быть по
своему истинному божественному существу»1.
Притом что зло относится Франком к сфере «непостижимого»,
«единственно правомерная установка в отношении зла - отвергать,
устранять его...» (531). Отвержение и устранение зла мыслится им
на принципах христианской этики, которые он развивает в книгах «С
нами Бог» (1941) и «Свет во тьме. Опыт христианской этики и
социальной философии» (написана в конце 30-х гг., издана в 1949 г.). Пусть
окончательная победа над злом, как таковым, невозможна в условиях
реального человеческого бытия, но нельзя забывать, что
возможности конкретных носителей зла ограничены по своей силе и смертным
пределом. Поэтому в борьбе со злом возможен успех, когда «удается
отбросить его назад, принудить к отступлению или ослабить его
могущество». «Но уже простое неустанное сопротивление, простая
мужественная оборона против него есть успех и во всяком случае наш
постоянный долг»2, - считает Франк, подводя итог размышлениям
на тему о необходимости стоического противостояния злу.
Объяснение Франком истоков зла дается в традициях мистической
философии: «Зло зарождается из несказанной бездны, которая лежит
как бы как раз на пороге между Богом и «не-Богом» (546). Автор
«Непостижимого» полностью отдает себе отчет, что такое
«объяснение» не может претендовать на рациональную логичность.
«Внутренняя связь между Богом и «дурным» эмпирическим миром»
рассматривается им как «связь антиномистически-трансрациональ-
ная и очевидная лишь в этой ее непостижимости» (530-531). В
постановке и решении проблемы зла, по Франку, «основоположное начало
антиномического монодуализма обнаруживает свое действие» (548).
Постижение непостижимого
Свой основной философский труд Франк назвал «Непостижимое».
В нем неоднократно отмечается непостижимость непостижимого.
Казалось бы, это столь же тривиально звучит, как известный
афоризм Козьмы Пруткова: «Никто не обнимет необъятного!» Однако
основная идея Франка отнюдь не сводится к такой тривиальности.
Первым предшественником этой идеи он называет Сократа, который
показал, что «в состав самого рационального знания необходимо вхо-
1 Франк С. Л. С нами Бог // Франк С. Л. Духовные основы общества. С. 327.
2 Франк С. Л. Свет во тьме // Там же. С. 441-442.
279
дит знание его ограниченности и неадекватности»1. Сократ говорил:
«Я знаю, что я ничего не знаю». Его же оппоненты - софисты
утверждали, что они «знают всё». И тем не менее Сократ был мудрее их.
Он знал, что он ничего не знает. Они же не знали даже этого, не
знали «своей собственной духовной нищеты» (136, см. также 212).
Эпиграфом к третьей части «Непостижимого» Франк взял слова
из трактата «О Божественных именах» (примерно V в. н. э.),
приписываемого Дионисию Ареопагиту: «Самое божественное знание Бога
есть то, которое познается через неведение» (415). Франк
неоднократно ссылается на формулу Николая Кузанского, которого он
называл своим единственным учителем философии (см. 184):
«Недостижимое достигается через посредство его недостижения».
«Умудренное неведение» Николая Кузанского Франк считал высшей
мудростью. Продолжая традицию этих парадоксальных формулировок,
Франк делает следующий вывод из своего философского
исследования всеединства: «Непостижимое постигается через постижение
его непостижимости» (559).
Если бы Франк просто провозгласил: «непостижимое
непостижимо», это было бы равнозначно афоризму: «Никто не обнимет
необъятного!» Однако философ утверждает как раз постижение
непостижимого. Но процесс этого постижения как раз и
обнаруживает непостижимость непостижимого. Все это - не схоластическая
игра словами, а выявление диалектической противоречивости и
самой познавательной деятельности человека и предмета ее познания -
видимой и невидимой реальности. Разве можно, например, считать
словесной игрой остроумный афоризм польского писателя С. Е. Леца:
«Наше невежество достигает все более далеких миров»?
Думается, что высокая оценка трудов Франка выдающимися
русскими философами, при всем несогласии с теми или другими
положениями этих трудов, связана с последовательно проводимым
Франком диалектическим принципом - «антиномистическим
монодуализмом», т. е. «совпадением противоположного». Диалектика Франка
своеобразна. Она идет не от Гегеля, как диалектика марксизма, а как
бы «через голову» Гегеля (хотя, разумеется, философию Гегеля Франк
знал) - от Сократа, неоплатоников, Ареопагита, Николая Кузанского,
Канта, Фихте, Шеллинга.
Постижение непостижимого в его непостижимости не
предполагает для Франка ни скептицизма, ни абсолютного иррационализма в
духе Л. Шестова. Он не отрицает правомерности рационального
миропонимания и рациональности самого бытия. Но в то же время для
него неприемлем ни «отвлеченный иррационализм», ни
односторонний рационализм. «Наше мышление, - утверждает Франк, - посколь-
1 Франк С. Л. Свет во тьме // Франк С. Л. Духовные основы общества.
С. 433.
280
ку оно служит именно познанию реальности, должно всегда
оставаться диалектичным...» (236). И это для него означает не отвержение
рациональности в познании и в реальности, как это делают иррациона-
листы, а возвышение рациональности до трансрациональности,
сверхрациональности. Ведь и сам принцип «антиномистического
монодуализма» Франк определяет как «трансрациональный». В этом
представляется суть «трансрациональной» диалектической логики
Франка, отличной не только от формальной рационалистической
логики, но и от «диалектической логики» Гегеля и его последователей.
Чтобы подчеркнуть отличие своей «трансрациональной» логики от
обычной рациональной логики, он называет природу всеединства
«металогической», характеризуя ее как «единство противоположного»1.
Однако если логика «антиномистического монодуализма» у него
«работает» в мирской реальности, то она бессильна в сфере реальности
Божественной, ибо «невозможность логического согласования
основана на сущностной трансрациональности Бога» (54Ô)2.
«Трансрациональность Бога» для Франка и означает
«Непостижимое». Открытие философией
трансрационально-непостижимого утверждает, по его мысли, «саму священную реальность Божества»
и «непосредственное религиозное восприятие бытия» (558).
Философия Франка, по его собственному определению, является
религиозной. Признавая, что книга Франка «Непостижимое» «пронизана
бесспорной и глубокой религиозностью», Зеньковский упрекает
Франка в том, что он «слишком философ, чтобы быть богословом»3. Для
философа такой упрек - не упрек.
1 Франк С. Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания.
С. 232.
2 Н. О. Лосский и С. А. Левицкий не без основания полагают, что Франк в
трактовке проблем, связанных с Богом, в особенности проблемы зла, невольно
переходит от декларируемой им «трансрациональности» к иррационализму,
который сам же отвергает как «банкротство философской мысли» (см.: Левицкий
С. А. Очерки по истории русской философии. С. 340-341). Иррациональность
концепции всеединства отмечает и Зеньковский (см.: Зеньковский В. В. История
русской философии. Т. 2. Ч. 2. С. 165). «Антиномистический монодуализм» не
может не иметь свою диалектическую «трансрациональную» («металогическую»)
логику, отличную от логики рациональной. Если же в сфере
«трансрациональности» отрицается всякая логика, то это и означает иррационализм.
3 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. С. 177.
XI
РУССКОЕ НЕОКАНТИАНСТВО
Идеалистическая философия, связанная с так называемым
русским религиозным ренессансом, получила в начале XX столетия
широкое распространение в России и стала преобладающей в
русском зарубежье. Однако наряду с религиозной философией
существовали направления, ориентировавшиеся не на религию, а на научное
знание. Не говоря уже о марксизме на русской почве, серьезное
влияние на философскую мысль России, начиная со второй половины
XIX в., оказывал позитивизм и в философии, и в социологии, само
название которого связано с провозглашаемой опорой на
«позитивные», «положительные» науки, прежде всего естественные.
КАНТИАНСТВО В РОССИИ
Среди течений философской мысли рассматриваемого периода
важное значение имело русское неокантианство. Кантианство в
России в лице своего признанного главы А. И. Введенского определяло
саму философию как «научно переработанное мировоззрение»,
отличающееся «и от религии, и от поэзии, которые тоже действуют на
наше мировоззрение, перерабатывают его, но делают это иначе, чем
философия»1. Ученик и последователь А. И. Введенского - И. И.
Лапшин подчеркивал, что «философия есть своеобразная научная область
духовной деятельности, она есть сфера познавательного, а не
эмоционального мышления». И далее: «...Философское изобретение есть
вид научного творчества, и его надо отчетливо различать,
во-первых, отрелигиозного творчества и, во-вторых, от богословской
изобретательности». Определяя специфику философии в сфере научной
области духовной деятельности, ни Введенский, ни Лапшин не были
противниками религии как таковой. По словам Лапшина,
«религиозное творчество - глубоко эмоциональной природы. Основатели
религий не научные исследователи, не критики, не систематизаторы, а
творцы новых скрижалей ценностей. Они являются наиболее
яркими выразителями морально-религиозных потребностей народных
масс своего времени, они призваны не философствовать, а «глаголом
1 Введенский А. И. Статьи по философии. СПб., 1996. С. 13. Далее ссылки на
это издание даются в тексте.
282
жечь сердца людей». Вот почему история философии включает
имена Сократа, Платона, Канта, но в ней нет места для Моисея,
Магомета или Иисуса»1.
Имя Канта в России было известно еще при жизни великого
мыслителя. В 1789 г. философа посетил Н. М. Карамзин, ив 1791 г. в
«Московском журнале» было напечатано его «Письмо русского
путешественника», в котором подробно описывалась эта встреча. В 1794 г.
Кант избирается иностранным членом Петербургской академии наук
«за его славные успехи в науках». Философские идеи Канта
распространяли в России профессора, получившие образование в Германии,
а с начала XIX в. появляются и первые переводы его произведений
на русский язык. Однако, хотя русская общественность была
наслышана о Канте (вспомним, что и пушкинский Ленский был
«поклонник Канта и поэт»), в русской философской мысли он не был таким
властителем умов, как его соотечественники Шеллинг и Гегель. Не
жаловало Канта и начальство. Один из лицейских учителей
Пушкина Александр Галич был в начале 20-х гг. отстранен от преподавания
философии в Петербургском университете, в том числе и за
предпочтение «безбожного Канта самому Христу», хотя и Кант не был
безбожником, и Галич не был кантианцем. Большим вниманием
философия Канта пользовалась в Киевской и Московской духовных
академиях, подвергаясь критике с точки зрения богословия.
Философскими противниками Канта были и сторонники религиозной
философии. В 1917 г. вышла книга Е. Н. Трубецкого «Метафизические
предположения познания. Опыт преодоления Канта и кантианства».
Вместе с тем именно Кант и кантианство были той первой
ступенью, на которую вступили бывшие «легальные марксисты» - Струве,
Бердяев, Булгаков, Франк и др., - на пути к идеализму и
религиозному миропониманию. Изучение работ Канта было школой
философского мышления, которую проходили все значительные русские
мыслители, вне зависимости от того, как они относились к
основоположениям кантовского «критицизма». В 1905 г. Н. О. Лосский, не
будучи кантианцем, взялся за перевод «Критики чистого разума» Канта
(перевод был издан в 1907 г.). Вот как он мотивировал свой
чрезвычайно сложный переводческий труд, не потерявший своего значения
до наших дней (в основу новейших русских изданий «Критики
чистого разума» кладется перевод Лосского): «Я считал, что
существенным условием для преодоления критицизма должно быть знание и
точное понимание текста «Критики чистого разума»2.
В Западной Европе, особенно в Германии, многие философы со
второй половины прошлого столетия следовали лозунгу «Назад к
1 Лапшин И. И. Философия изобретения и изобретение в философии. М.,
1999. С. 8.
2 Лосский К О. Воспоминания. С. 147.
283
Канту!». Возникло влиятельное философское течение
неокантианство в двух основных разновидностях: «Марбургская школа» (Герман
Коген, Пауль Наторп, Эрнст Кассирер), занимавшаяся кантианской
интерпретацией научных понятий, и «Баденская школа» (Вильгельм
Виндельбанд, Генрих Риккерт и др.), которая на основе кантовских
принципов разрабатывала философию ценностей и культуры.
Философия немецких неокантианцев была хорошо известна в
России. Их труды выходили в русских переводах. Молодежь
увлеченно изучала их не только по переводам. Как вспоминал Андрей
Белый, сам не избежавший неокантианского поветрия, «московские
кантианцы уже и тогда раздел ил ися на две фракции: на сторонников
«наукообразной» линии Когена и на философов культуры от Генриха
Риккерта». Притом «риккертианцы не знались с когенианцами»1.
«Коген и Риккерт, - свидетельствует А. Белый, - и без приезда в
Москву, господствовали в стенах университета, ибо «ученики» их из
Москвы поставляли им юношей для всяческой обработки»2. Один из
этих юношей - молодой тогда поэт Б. Пастернак летний семестр 1912 г.
провел в Марбурге у Г. Когена. И хотя знаменитый Коген по
достоинству оценил философские способности своего московского ученика,
в конце своей учебы Пастернак признался: «Кант - уже совершенно,
раз навсегда - прошлое для меня»3.
«АКАДЕМИЧЕСКОЕ НЕОКАНТИАНСТВО»
А. И. Введенский
В 90-е гг. в России возникло так называемое «академическое
неокантианство», признанным главой которого стал Александр
Иванович Введенский (1856 - 1925). Он родился в Тамбове в семье
судебного деятеля. Окончив в 1876 г. тамбовскую гимназию, Введенский
поступил на физико-математический факультет Московского
университета, но в следующем году перешел на такой же факультет
Петербургского университета, а затем на историко-филологический
факультет. Его наставником в области философии стал Михаил Иванович
Владиславлев (1840 - 1890) - автор работ по психологии и логике, по
философии Платона, первый переводчик на русский язык «Критики
чистого разума» Канта. Владиславлев своим заступничеством помог
Введенскому, замешанному из-за свободомыслия в «студенческую
историю», избежать ссылки в Сибирь. После окончания
университета в 1881 г. Введенский был оставлен при университете для
подготовки к профессуре. Командированный на два года в Германию, он
слушал в Гейдельберге лекции известного историка философии Куно
1 Белый Андрей. Начало века. М, 1990. С. 451.
2 Белый Андрей. Между двух революций. М, 1990. С. 272.
3 Пастернак Е. Борис Пастернак. Материалы для биографии. М., 1989. С. 166.
284
Фишера. В 1888 г. состоялась защита его диссертации «Опыт
построения материи на принципах критической философии».
С 1890 г. Введенский становится профессором философии
Петербургского университета вплоть до его увольнения новой властью
в 1922 г. Последовательный мыслитель кантианского направления,
обладавший большой культурой философского мышления,
талантливый и популярный лектор он много сделал для развития
философии в России. Начинаемые им дискуссии, в которые вовлекались
крупные мыслители тех лет, несомненно стимулировали философскую
мысль. Среди его слушателей были Н. О. Лосский и И. И. Лапшин.
Он был одним из организаторов в 1897 г. при Петербургском
университете первого в России Философского общества (в Москве
существовало Психологическое общество).
«Академическое неокантианство» характеризовалось как
«академическое», поскольку оно разрабатывалось и пропагандировалось
представителями университетской науки - А. И. Введенским и его
учеником, также ставшим профессором Петербургского
университета, И. И. Лапшиным, профессором Киевского, а затем Московского
университета Г. И. Челпановым. Все они были по своим
философским убеждениям кантианцами. Поскольку же они продолжали
традиции Канта, творчески их развивая и видоизменяя, в этом смысле
они были неокантианцами, обновителями кантианства. Однако их
неокантианство не находилось в связи с известными
неокантианскими школами в Германии. Они следовали учению Канта независимо
от других направлений неокантианства и по ряду вопросов
придерживались иных взглядов.
Свое понимание кантианства Введенский изложил в статье «Что
такое философский критицизм?» (1909) и в опубликованном
докладе, сделанном в 1908 г. на заседании С.-Петербургского
философского общества, «Новое и легкое доказательство философского
критицизма». В соответствии с учением Канта, называемым «критицизмом»,
Введенский подразделяет все предметы на трансцендентные и
имманентные. Последние - это такие предметы, которые
воспринимаются в опыте или могут быть даны в опыте. Речь идет о
воспринимаемом или представляемом нами предметном мире. Трансцендентные
же предметы «нигде и ни при каком изощрении наших органов чувств»
не могут быть восприняты в опыте. В качестве примера
«трансцендентальных предметов» философ называет такие понятия, как «Бог»,
«душа», «внутренняя, сокровенная сущность вещей», - всё то, что
основатель философии критицизма именовал «вещью в себе»,
которая принципиально непознаваема (см. 15).
Предметы, изучаемые математикой и естествознанием, являются
«всего лишь нашими представлениями о вещах, но не вещами в себе»
(34). Собственно говоря, всякое знание, в том числе и научное, по
Введенскому, и возможно только относительно представлений о ве-
285
щах, а не о «вещах в себе». Что же касается «вещей в себе», в том
числе и таких, как Бог и душа, то о них невозможно знание, но только
вера. «Вещи в себе» - не предмет научного знания, а метафизической
веры. В отношении их правомерны только «метафизические
гипотезы» (17). Он даже считает, что помимо обычных эмпирических чувств
имеется особый орган познания метафизического характера -
«метафизическое чувство», «открывающее нам то, что лежит не только вне
нас, но и за пределами возможного опыта»1.
С точки зрения Введенского, для человечества вера столь же
необходима, как и знание. По его словам, «цельное мировоззрение не
может обойтись без метафизики, а последняя возможна только в виде
недоказуемой, хотя и неопровержимой веры» (19). Введенский
полагает, что и вера, и знание имеют полное право на существование.
Единственно, что недопустимо, - это смешение их друг с другом.
Необходимость веры и основывающейся на ней метафизики
обусловлена, по мнению русского кантианца, нравственными
потребностями людей, непреложностью «нравственного долга», ибо
«бесспорно непозволительно не иметь никаких нравственных правил» (16).
Даже признание существования душевной жизни других людей
возможно, по отстаиваемому Введенским «закону одушевления», только
благодаря «метафизическому чувству» и «нравственному чувству»
(см. 111, 112,217).
Изложенные философские воззрения Введенского находятся в
русле традиционного кантианства, самым последовательным
сторонником которого и был петербургский профессор. Однако сам он
полагал, что великий Кант был «основателем, но, конечно, не
завершителем этого направления в теории познания» (57). Что же нового внес
Введенский в философию «критицизма»?
По суждению основателя этой философии, «время не есть нечто
такое, что существовало бы само по себе или было бы присуще вещам
как объективное определение»2. Кант рассматривал время и
пространство как априорные (доопытные) формы человеческой чувственности.
Введенский же настаивал на объективности времени: «Существует еще
и время само по себе, в котором находятся вещи, взятые сами по себе,
- помимо наших невольных представлений о них» (64).
Русский кантианец стремился доказать истинность философии
критицизма «совершенно независимо от кантовских доказательств,
посредством рассмотрения способа действия логических законов
мышления» (23). Поэтому свою версию критицизма он называл
«логицизмом». Свой «логицизм» Введенский стремился обосновать в
1 Введенский Александр. О пределах и признаках одушевления. Новый
психофизиологический закон в связи с вопросом о возможности метафизики. СПб.,
1892. С. 4. См. также с. 83.
2 Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 137.
286
статье «Новое и легкое доказательство философского критицизма» и
в капитальном труде «Логика, как часть теории познания» (первое
издание вышло в 1909 г.). По его логическому учению, такие законы
логики, как «закон тождества» и «закон исключенного третьего»1,
непреложны для наших представлений. Без этих законов
умозаключение не может считаться правильным. Что же касается логического
«закона противоречия»2, то он обязателен для представлений, но
может нарушаться в мышлении. «Противоречие непредставимо», -
констатирует Введенский. Так, мы «не в состоянии представить круглый
квадрат, триединого Бога», но мы способны мыслить эти понятия,
«хотя в них, несомненно, содержится противоречие» (30).
Умозаключения, по Введенскому, «позволительны и уместны лишь
постольку, поскольку мы доверяем закону противоречия» (31), иначе говоря,
в умозаключениях не должно быть никаких противоречий.
Следовательно, «умозаключения вполне уместны и логически
позволительны лишь о наших представлениях». Но «умозаключения, очевидно, -
для Введенского, - совсем неуместны и логически непозволительны
о том, что по существу своему совсем не может считаться
представлениями, т. е. о вещах в себе». Поэтому «вещи в себе совершенно
непознаваемы» (33).
По учению Канта, теоретический разум не в состоянии
проникнуть в мир «вещей в себе», в том числе доказать существование
свободы и Бога. При попытке такого доказательства разум натыкается
на антиномии, т. е. взаимопротивоположные, равно логически
доказуемые суждения. И Кант, и его русский последователь считали, что
признание объективных противоречий, т. е. противоречий,
существующих в самом бытии, несовместимо с логическим «законом
противоречия» и потому невозможно.
Введенский, конечно, знает, что «диалектический метод Гегеля»
преодолел барьер непознаваемости «вещей в себе», преодолев
формально-логический «закон противоречия», признав противоречия не
только в мышлении, но и в объективном мире. Следуя своеобразной
диалектике, Флоренский саму истину трактовал как противоречие,
как антиномию, а Франк рассматривал «антиномистический
монодуализм», «совпадение противоположного» в качестве
универсального закона. Однако для кантианца «диалектический метод» не
представляется убедительным (см. 39). По его убеждению, противоречия
1 «Закон тождества» - это логический закон, по которому употребляемые
в суждениях и умозаключениях понятия должны не менять своего
содержания, должны быть тождественными самим себе. «Закон исключенного
третьего» утверждает, что из двух противоречащих друг другу суждений одно
является истинным, другое же ложным. «Третьего не дано».
2 «Закон противоречия» в формальной логике означает, что одному и тому
же предмету в одно и то же время в одном и том же отношении нельзя
приписывать противоположные признаки.
287
присущи не доступным нам в опыте представлениям о вещах, а
мышлению о трансцендентных «вещах в себе». Эти противоречия и
делают их непознаваемыми.
Таким образом, Введенский подтвердил путем своего
«логицизма» деление мира, с одной стороны, на представления, получаемые в
опыте и постигаемые знанием, и, с другой стороны, на «вещи в себе»,
недоступные умозаключениям и принимаемые на веру. Наука,
прежде всего математика и естествознание, как знание резко
противопоставляется им метафизике, исповедуемой «в виде веры без всяких
опасений, что она будет опровергнута знанием» (42).
Для Введенского все философские системы, включая
материализм, относятся к метафизике. С позиций критицизма он утверждает
«недоказуемость навсегда всех метафизических гипотез».
Характерно в этом плане отношение Введенского к материализму. По его
суждению, материализм наряду с противоположными
нематериалистическими течениями в философии неопровержим. Вместе с тем, «как
и всякая метафизика, он тоже недоказуем»1.
Признавая метафизику, поскольку она базируется на вере, он
решительно критикует философов-метафизиков, которые своими
построениями претендуют на знание. За это достается и Лосскому,
который стремился при помощи интуитивизма включить «вещи в себе»
в познавательный процесс, и Бердяеву в его попытке считать
метафизику разумным знанием, и самому Вл. Соловьеву за мистицизм,
принимающий мистическое восприятие за объективную
реальность2.
Признавая теоретическую равноправность всех метафизических
систем в качестве принимаемых на веру и поэтому неопровержимых,
хотя и недоказуемых, Введенский вместе с тем полагал, что сама вера
может быть различной. В статье «О видах веры в ее отношении к
знанию» (1893) Введенский подразделяет веру на 1) наивную (вера
ребенка в сказочный мир, вера в приметы, в привидения и т. п.),
2) слепую, фанатическую веру и 3) веру, «допущенную критическим
рассудком». Последняя может быть как суетной (мотивированной
неценными, преходящими факторами, например модой), так и
сознательной (см. 186).
Сознательная вера, обладающая прочностью и ценностью, по
учению Канта и последовательных кантианцев, - это религия, так
как «мы обязаны верить в Бога и бессмертие именно в силу
требований нравственности» ( 177). В статье «Условие позволительности веры
в смысл жизни» (1896) Введенский веру в смысл жизни, веру в ее
«истинное назначение» ставит в зависимость от веры в личное
бессмертие, ибо «вера в смысл нравственного закона непозволительна
1 Введенский А. И. Логика как часть теории познания. С. 416.
2 См. там же. С. 275-287, 428-433.
288
без веры в бессмертие» (105). Материализм же, толкующий о смысле
жизни, но отрицающий веру в бессмертие, он именует «умственным
развратом» (108).
Следовательно, кантианская философия, ориентирующаяся на
науку, а не на религию, ни в коем случае не посягает на авторитет
религии, отводя ей важное место в «цельном мировоззрении», но не в
области знания, а в сфере «морально обоснованной веры» (20).
Поэтому не случайно Введенский в 1922 г. в обстановке ожесточенной
борьбы большевиков против религии и церкви выступил со статьей
«Судьба веры в Бога в борьбе с атеизмом», в которой логически
обосновывал правомерность и религии, и атеизма, поскольку и то, и
другое есть принципиально недоказуемая вера. Атеизм, по его
убеждению, тоже вера, вера в несуществование Бога и не может быть
доказан научно. Как отмечается в этой статье, «в природе, действительно,
все можно объяснить без всякой помощи Бога, одними законами
природы, - все, кроме существования природы и ее законов» (195).
«Чисто научными доводами» нельзя доказать и то, что «Бог есть» (192).
Однако вера в Бога существовала, существует и будет существовать
в силу психологических, нравственных и эстетических факторов.
Обостренная же борьба с ней атеизма, вечного спутника-антипода
религиозной веры, способна, по мнению Введенского, усилить
религиозные чувства людей.
Неудивительно, что это выступление философа вызвало протест
большевистской прессы. А вместе с тем Введенский считал, что
немало сторонников марксистского социализма «охотно пойдут на
освобождение научного социализма от всякой спорной предпосылки»,
т. е. «от атеистической предпосылки» (210), превращением
марксистско-ленинской идеологии в наукообразную религию и авторитет
вождя в его религиозный культ. Неудивительно, что и многие
современные коммунисты вполне примирительно относятся к религии и
сотрудничают с церковью.
И. И. Лапшин
Продолжателем традиций «критицизма» в России был Иван
Иванович Лапшин (1870 - 1952). В доме его родителей бывали такие
замечательные люди, как химик А. М. Бутлеров, психолог А. Н.
Аксаков, философы А. А. Козлов, П. Д. Юркевич и его ученик - Вл.
Соловьев1. С 1889 г. Лапшин - студент историко-филологического
факультета Петербургского университета. Здесь он становится учени-
1 В 1877 г., когда Лапшину было 7 лет, Вл. Соловьев подарил ему
стихотворение, которое было им впервые опубликовано в 1911 г. (см.: Лапшин И. И.
Вселенское чувство. СПб.; М, 1911. С. 27-28).
10-99
289
ком А. И. Введенского, сторонником кантовского «критицизма». По
окончании университета в 1893 г. Лапшина оставляют для
приготовления к профессорскому званию. В 1897 г. он работает
приват-доцентом кафедры философии, читая лекционные курсы по многим
разделам философии как в университете, так и в других учебных
заведениях Петербурга, в том числе на Высших женских курсах и в
Александровском лицее. В 1913 г. Введенский, уходя в отставку, передает
своему ученику заведование кафедрой философии Петербургского
университета.
Результатом заграничной научной командировки на Британские
острова в 1898-1899 гг. явилась работа Лапшина «Судьба
критической философии в Англии до 1830 г.». Глубокий интерес его к
критической философии не только в историческом, но и теоретическом
плане нашел отражение в книге, изданной в 1906 г., «Законы
мышления и формы познания» (с приложением очерков «О трусости в
мышлении» и «О мистическом познании и вселенском чувстве»). Этот труд
был представлен как магистерская диссертация, но философские
достоинства исследования были столь высоки, что его автор стал сразу
доктором философии. Академическая деятельность Лапшина на
родине была прервана его высылкой в 1922 г. из России. Дальнейшая
педагогическая и литературно-философская деятельность Лапшина
проходила в Чехословакии, где он был профессором Русского
юридического факультета в Праге, сотрудником Славянского института,
членом Русского философского общества.
Лапшин в своей диссертации по-своему обосновывает основное
положение кантовской философии: противопоставление мира
явлений, данных человеку в его опытном знании, и непознаваемого мира
«вещей в себе». По его воззрениям, законы мышления - «простые
абстракции для выражения всеобщности, необходимости и незамес-
тимости форм познания». Следовательно, сами законы мышления
обусловлены формами познания и поэтому не могут действовать вне
познавательной деятельности человека, ограниченной опытным
знанием, знанием мира явлений. Развивая «логицизм» Введенского,
Лапшин стремится доказать неприменимость логических законов
мышления, в особенности «закона противоречия», за пределами познания
явлений, т. е. по отношению к «вещам в себе».
Критицизм, предостерегающий от всяких попыток проникнуть в
«вещи в себе», для Лапшина - «чистейшее выражение стремления к
миросозерцанию, свободному от логических противоречий». Все
иные философские системы, так или иначе трактующие в принципе
непознаваемый мир «вещей в себе», он рассматривает как
«метафизические». «Метафизикой», с его точки зрения, является и
материализм, считающий, что познаваемая материя и есть «вещь в себе», и
«монистический идеализм», ставящий «в качестве основы мира
(вместо материи) Духа, каковой является Богом, или Абсолютным «Я»,
290
или «Мировой Волей», или «Сознанием Вообще»1. Обращение к
метафизике Лапшин считает «трусостью в мышлении», боязнью
потерять духовные ценности.
Мыслитель полагает, что философия критицизма отнюдь не
лишает человека духовных ценностей. В очерке «О мистическом
познании и вселенском чувстве», приложенном к тексту «Законы
мышления и формы познания», и в книге «Вселенское чувство» (1911)
Лапшин утверждает существование «вселенского чувства»,
важнейшим признаком этого чувства является «мысль о наивысших
ценностях, имеющих постоянное значение для меня и для всех остальных
людей»2. Ценности он подразделяет, исходя из классификации
ценностей немецкого неокантианца Виндельбанда, на гедонистические
(наслажденческие), эстетические, этические и интеллектуальные.
«Вселенское чувство», по Лапшину, включает как «мысль о
постоянных ценностях научного порядка», так и то, что связано со сферой
«религиозного самосознания». При этом он подчеркивает
«универсальный аффект научного типа» и «универсальный аффект
эстетического типа»: созерцание красот природы, прекрасного
человеческого образа и произведений искусства3. По его убеждению,
«критическая философия должна иметь своей заветной целью гармонию
духа», которая «недостижима на почве метафизических, искаженных
и односторонних концепций панорамы мира»4.
Однако философ озабочен решением проблемы, которую
поставил еще его учитель Введенский: как мы можем постигать духовный
мир «чужого Я», если его душа - это тоже непознаваемая «вещь в
себе»? Не подстерегает ли критицизм опасность солипсизма?5 В 1910 г.
выходит книга Лапшина «Проблема «чужого Я» в новейшей
философии». В ней, как и в статье «Опровержение солипсизма»,
исследуется с точки зрения критицизма возможность постижения «чужого Я»
в различных направлениях философской мысли. Введенский
полагал, что признание существования душевной жизни других людей
возможно только благодаря «метафизическому чувству» и
«нравственному чувству». Лапшин не разделяет мнение, по которому «для
критической теории познания» единственная возможность преодолеть
солипсизм заключается «лишь при помощи веры или мистической
интуиции». Правда, Лапшин сам признает «вселенское чувство»,
1 Лапшин И. И. Опровержение солипсизма [1924] // Философские науки.
1992. №3. С. 34.
2 Лапшин И. И. Вселенское чувство. 1911. С. 32.
3 См. там же. С. 34, 39, 50, 51, 59.
4 Лапшин И. И. Опровержение солипсизма. С. 41.
5 Солипсизм (от лат. слов solus - один и ipse - сам) - учение философского
эгоцентризма, крайнего субъективизма, по которому существую только я сам, а
весь окружающий меня мир, в том числе другие люди, - это продукт моего
сознания.
10*
291
включающее «мысль о наивысших ценностях, имеющих
постоянное значение для меня и для всех остальных людей».
Следовательно, «вселенское чувство» не оставляет сомнения в
существовании «всех остальных людей».
Вместе с тем проблема «чужого Я» решается Лапшиным с
позиции критицизма на теоретическом уровне. Хотя «чужое Я» - это
реальность, лежащая «за пределами непосредственного восприятия»,
но с точки зрения критического феноменализма она является
объектом возможного опыта. «Я не утверждаю при этом, - писал
Лапшин, - что объекты возможного опыта суть трансцендентные
реальности [т. е. «вещи в себе». - Л. С], но я должен мыслить их так,
как будто они обладают непрерывностью бытия, независимого от
моего сознания постольку, поскольку меня вынуждает к этому
связное, свободное от противоречий истолкование всех фактов и
процессов в мире, доступных моему наблюдению». По мнению
Лапшина, «задача критического феноменализма» заключается в том, чтобы
разрешить «проблемы реальности прошлого и будущего моего «я»,
реальности «чужого Я» и реальности физического мира», «не
прибегая ни к какому метафизическому трансцензу»1.
Проблему «чужого Я» Лапшин ставит и на материале
художественного творчества, которое немыслимо без перевоплощаемости автора
в свои персонажи. Такая перевоплощаемость, очевидно, присуща
актерской игре, но, по философско-эстетическим взглядам Лапшина,
перевоплощаемость присуща всем видам художественного
творчества, она проявляется и в поэзии, и в музыке, и в изобразительных
искусствах. В 1914 г. Лапшин публикует работу «О
перевоплощаемости в художественном творчестве», которую переиздает в 1922 г.2,
подчеркивая свою приверженность критическому мировоззрению.
Как же, по Лапшину, художник воссоздает «чужое Я»? По словам
философа, «материал для своих художественных перевоплощений
художник черпает из опыта, не из мистического сверхразумного
откровения». «Чужое Я» - «постройка воображения и чувств,
сообразная с телесными проявлениями окружающих нас индивидуумов»
(105). Он убежден в том, что «мы познаем «чужое Я» не по частям,
но сразу, пользуясь качеством формы» (125). Лапшин исходит из того,
что целостное впечатление от выражения переживания (печальная
улыбка, счастливые глаза, злобная усмешка и т. п.) «тесно срослось с
телесными проявлениями». Это и позволяет художнику представлять
«чужое Я», а зрителю интуитивно его постигать (см. 106). В книге
1 Лапшин И. И. Опровержение солипсизма. С. 19, 29-30.
2 См.: Лапшин И. И. О перевоплощаемости в художественном творчестве //
Вопросы теории и психологии творчества. Харьков, 1914. С. 161-262; Он же.
Художественное творчество. Пг., 1922 (на обложке указан 1923 г.). С. 5-140.
Дальнейшие ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках
страницы.
292
К. С. Станиславского «Работа актера над собой» (текст был
опубликован в 1938 г.) мы читаем: «В каждом физическом действии есть
что-то от психологического, а в психологическом - от физического.
Один известный ученый говорит, что если попробовать описать свое
чувство, то получится рассказ о физическом действии. От себя
скажу, что чем ближе действие к физическому, тем меньше рискуешь
насиловать самое чувство»1.
Есть все основания предположить, что «один известный ученый»,
в единогласии с которым Станиславский разработал свой
знаменитый «метод физических действий»2, - это Лапшин. В книге «Работа
актера над собой» имя Лапшина упоминается и непосредственно:
«Нужно уметь перерождать объект, а за ним и самое внимание из
холодного - интеллектуального, рассудочного - в теплое, согретое,
чувственное. Эта терминология принята в нашем актерском
жаргоне. Впрочем, название «чувственное внимание» принадлежит не нам,
а психологу И. И. Лапшину, который впервые употребил его в своей
книге «Художественное творчество»3. Отношение Станиславского к
Лапшину - одно из свидетельств значимости его философии,
плодотворности его эстетических воззрений.
Со своей стороны Лапшин в работе «О перевоплощаемости в
художественном творчестве» ссылается на творческо-теоретическую
деятельность Станиславского: «Самый оригинальный пример
экспериментирования артиста над своим душевным миром представляют
приемы, введенные в творчество актера гениальным Станиславским»
(43). «Станиславский показал, - пишет Лапшин, - что можно
воспитать в себе «искусство переживания»; что можно, вживаясь в роль,
сделать выполнение ее на сцене гораздо более жизненным,
благодаря постоянному экспериментированию актера над собою, вчув-
ствованию в роль». Заслуга Станиславского и состоит в том, что он
«поставил своей задачей развить в актере эту способность вчув-
ствования произвольными упражнениями, и притом
упражнениями не искусственными, но вполне естественными» (45).
На материале перевоплощаемости в художественном творчестве
Лапшин рассматривает общефилософскую проблему об отношении
«Я» и «чужого Я», «Я» и «Ты»: «ведь познания своей и чужой
душевной жизни до того взаимно проникают друг в друга, что едва ли
возможно углубленное постижение Я без Ты, как Ты без Я» (14);
«Познание чужого Я и своего собственного идут рука об руку» (82).
1 Станиславский К. С Собр. соч.: В 8 т. М, 1954. Т. 2. С. 196.
2 По определению театральной энциклопедии, сущность метода
физических действий «заключается в создании жизни человеческого духа роли через
правильную организацию жизни человеческого тела актера в предлагаемых
обстоятельствах» (Театральная энциклопедия. Том V. М., 1967. С. 461).
3 Станиславский К. С Собр. соч. Т. 2. С. 122.
293
Эти положения, опубликованные еще в 1914 г., предвосхищают
обсуждение проблемы Я и Ты в их диалектическом и диалогическом
отношении, развернувшееся в 20-30-е тт. как в Западной Европе, так
и в России, с различных методологических позиций.
Творческая деятельность человека как в сфере искусства, так и
в области науки, техники и самой философии - основной интерес
Лапшина. В сборник «Художественное творчество» помимо работы «О
перевоплощаемости в художественном творчестве» включены его
статьи о музыке. В 1945 г. он выпустил в Праге книгу о Римском-
Корсакове, а в 1948 г. - книгу о русской музыке, изданную на
чешском языке. По свидетельству Н. О. Лосского, «в течение долгих лет
Лапшин был личным другом Н. А. Римского-Корсакова»1.
Предметом философского внимания Лапшина становятся Радищев, Пушкин,
Л. Толстой, Достоевский. В 1922 г. в Петрограде выходит в двух
томах труд Лапшина «Философия изобретения и изобретение в
философии» (второе издание этого труда осуществлено в 1924 г. в Праге).
В зарубежных периодических изданиях начала 30-х гг. Лапшин
публикует ряд статей о научном творчестве, предвосхитивших
позднейшие исследования логики и методологии науки: «Бессознательное в
научном творчестве», «О значении моделей в научном творчестве»,
«О схематизме творческого воображения в науке». Этот глубокий
интерес к творческой деятельности человека в различных ее
проявлениях был не случаен для философских воззрений Лапшина, ибо
творчество, по его убеждению, и есть то, что противостоит смерти: «В
экстазах творчества, в созерцании красоты, в актах деятельной
любви мы как бы выключаем себя из временной цепи событий и
приобщаемся к вечному»2.
НЕАКАДЕМИЧЕСКОЕ КАНТИАНСТВО
Помимо «академического неокантианства», центром которого
была кафедра философии Петербургского университета, в России
начала XIX в. были сторонники кантианства среди философов, не
связанных с академической наукой. Это были молодые люди,
получившие образование в немецких университетах, слушавшие лекции
и работавшие в семинарах самих основателей неокантианского
движения в Германии - В. Виндельбанда, Г. Риккерта, Г. Когена и их
последователей. Появилось много переводов этих мыслителей на
русский язык. Ас 1910 г. стал издаваться в русском варианте
международный философский журнал «Логос», в котором неокантианство
было доминирующим течением.
1 Лосский Н. О. История русской философии. С. 221.
2 Лапшин И. И. Ars moriendi [Искусство умирать (лат.)] II Вопросы
философии. 1994. №3. С. 124.
294
Идея создания международного журнала по философии
принадлежала учившимся в Германии С. И. Гессену, Ф. А. Степуну, H. Н.
Бубнову и будущим немецким профессорам Р. Кронеру и Г. Мелису.
Организационное собрание инициаторов «Логоса» состоялось на
квартире Г. Риккерта, и новое философское издание получило его
«благословение». Русская версия журнала вышла в Москве в издательстве
«Мусагет», связанном с символизмом в русской литературе (в его
руководство входил поэт и теоретик символизма Андрей Белый).
В предисловии к первому выпуску русского «Логоса» Г. И. Гес-
сен и Ф. А. Степун подчеркивали научный характер своей
философской ориентации. Философия рассматривалась ими «как
рациональное знание, ведущее к научно доступному единству»1. «Философия, -
по их формулировке, - нежнейший цветок научного духа» (424). Они
подчеркивали независимое и самодовлеющее значение
философского знания. Однако, провозглашая «принцип автономии философии»
(430), редакторы «Логоса» считали необходимым связать
«философскую традицию со всею полнотой специального знания», вместе с
тем не растворяя философию в науке в духе позитивизма (427).
Выступая за союз «философии со специальным знанием», они в то же
время считали необходимым, чтобы «философская мысль вобрала в себя
не только полноту специально-научных мотивов, но также и мотивы
остальных областей культуры - общественности, искусства и
религии». Задача «Логоса» - «разрабатывать научно-философским
методом все эти области, запросы и нужды которых должны получить
надлежащее философское удовлетворение» (428). Сами сборники
«Логоса» определяются «как сборники по философии культуры»,
противостоящие современному культурному распаду.
Авторы предисловия признают «национальные особенности
философского развития» (428). Они видят одну из главных задач
русского издания «Логоса» в «приобщениирусской культуры и
выраженных в ней оригинальных мотивов к общей культуре Запада» (429) и
обещают «постоянно держать русского читателя в курсе
современных учений Запада» (431).
«Логос» не декларировал приверженность какому-либо одному
течению философской мысли. Его редакторы подчеркивали, что их
журнал «не является поборником какого-нибудь определенного
философского направления», отмечая «односторонность современных
школ». Они провозглашали необходимость полноты
«представленных различными школами мотивов», чтобы «ни один из них не
должен пропасть даром для будущего строительства» (427). В то же вре-
1 Гессен С. И., Степун Ф. А. От редакции (Цели и задачи современной
философской мысли) // Русская философия. Конец XIX - начало XX века. Антология.
СПб., 1993. С. 423. Последующие ссылки на эту статью даются в тексте
указанием в скобках на соответствующую страницу.
295
мя журнал будет «резко отмежевываться от всякой не научной
философии» (431). С другой же стороны, утверждается, что некоторые
положения кантовского критицизма (например, «мысль глубокой
связи между понятием границы и свободы») должны «неминуемо стать
неотъемлемым достоянием всей послекантовской философии» (424).
За период с 1910 по 1914 г. вышло 11 номеров «Логоса». В 1925 г.
была попытка возобновить выпуск журнала в Праге, но удалось
выпустить только один номер. Был опубликован ряд статей
европейских философов, таких, как Г. Риккерт, В. Виндельбанд, Н. Гартман,
Б. Кроче, Г. Лукач и др. Русская философия была представлена
главным образом авторами, тяготевшими к неокантианству. Это
редакторы журнала - Ф. А. Степун, С. И. Гессен и Б. В. Яковенко, вошедший
в редколлегию в 1911 г., В. Э. Сеземан, ставший соредактором
журнала в 1913 г., философ, социолог и правовед Б. А. Кистяковский,
Андрей Белый, увлекавшийся одно время кантианством. Однако в
«Логосе» печатались и сторонники иных философских воззрений: Н.
О. Лосский, С. Л. Франк, Э. Л. Радлов, И. А. Ильин. Философско-
просветительское и информационное значение «Логоса» трудно
переоценить. Помимо многих статей о выдающихся философах
прошлого и настоящего в нем было опубликовано около 120 рецензий на
выходящую русскую и зарубежную философскую литературу.
Журнал, несомненно, «поднял планку» культуры философского
исследования в России.
Но «Логос» с его прозападной ориентацией вызвал и неприятие
со стороны ревнителей славянофильских традиций и ряда
сторонников религиозной философии. Центром противостояния «Логосу» было
книгоиздательство «Путь», выпускавшее книги религиозных
философов. Ф. А. Степун вспоминал слова Н. А. Бердяева, выражавшие
исходную сущность расхождений между «Логосом» и «Путем»: «Для
вас,— нападал он на меня,— религия и церковь проблемы культуры,
для нас же культура во всех ее проявлениях внутрицерковная
проблема. Вы хотите на философских путях прийти к Богу, я же
утверждаю, что к Богу прийти нельзя, из Него можно только исходить: и,
лишь исходя из Бога, можно прийти к правильной, т. е.
христианской, философии»1.
С резкой критикой философской направленности «Логоса»
выступил в 1910 г. В. Ф. Эрн со статьей «Нечто о Логосе, русской
философии и научности». Ему отвечал С. Л. Франк статьей «О
национализме в философии». После этого Эрн и Франк обменялись еще
полемическими статьями. Франк подчеркнул, что не является
сторонником неокантианства, но убежден в том, что европейская мысль
«воплотила и выявила некоторые вечные ценности», и поэтому в
сплошном отрицании результатов этой мысли он не может не видеть «пре-
1 Степун Федор. Бывшее и несбывшееся. С. 218-219, 136.
296
небрежения к тому, что в них есть общечеловечески ценного». При
этом Франк заявлял, что в споре между «философским
славянофильством Эрна и философским универсализмом В. Соловьева» он
принимает сторону последнего1. С критической рецензией на книгу Эрна
«Борьба за Логос» выступил Б. В. Яковенко в «Логосе», а Андрей
Белый позиции «Логоса» защищал в статье «Неославянофильство и
западничество в современной русской философской мысли».
Правда, впоследствии наметилось сближение воззрений логос-
цев и путейцев. Степун впоследствии самокритично признавался:
«Философствуя «от младых ногтей», мы были твердо намерены
постричь волосы и ногти московским неославянофилам. Не скажу,
чтобы мы были во всем не правы, но уж очень самоуверенно принялись
мы за реформирование стиля русской философии». «Я же, - говорил
о своей философской эволюции Степун, - и в несколько меньшей
степени Гессен во многом весьма существенно приблизились к
своим бывшим московским противникам»2.
Ф. А. Степун
Федор Августович Степун (1884 - 1965) родился в Москве. Его
отец - владелец писчебумажных фабрик - был выходцем из
Восточной Пруссии. С 1902 по 1910 г. Степун занимался философией в Гей-
дельбергском университете у Виндельбанда. Но неокантианство
своего наставника дополнялось у Степуна влиянием немецкого
романтизма и философией Вл. Соловьева. Философии истории Соловьева
была посвящена докторская диссертация Степуна. К
рационалистической стороне системы русского философа он.вскоре утратил
интерес, и задуманное им большое исследование о Соловьеве
ограничилось докторской работой.
Степун, как один из инициаторов журнала «Логос»,
возвратившись в Россию, принимал активное участие в его издании. В
«Логосе» он напечатал свои философские статьи: «Трагедия творчества
(Фридрих Шлегель)» (1910), «Трагедия мистического сознания (Опыт
феноменологической характеристики)» (1911-1912), «Жизнь и
творчество» (1913).
Последнюю статью сам Степун рассматривал как «первый
набросок философской системы, пытающейся на почве кантовского
критицизма научно защитить и оправдать явно навеянный романтиками
и славянофилами религиозный идеал»3. Печатался он также и в
других журналах, публикуя статьи по философии, об общественной
жизни, литературе, театре.
1 См.: Франк С Л. Русское мировоззрение. С. 117, 118.
2 Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. С. 218-219, 136.
3 Там же. С. 117.
297
Встретив недоброжелательное отношение к неокантианству со
стороны академических кругов Москвы, Степун пришел к выводу,
что «в России, быть может, правильнее заниматься философией вне
университетских стен»1. Он организует свой курс лекций «Введение
в философию», который читает в снятой квартире. Дважды он
выступал с докладами на заседаниях Петербургского
религиозно-философского общества. Степун ведет лекционную деятельность в
Москве и провинциальных городах России.
Во время Первой мировой войны Степун - прапорщик
артиллерийского полка. Февральская революция 1917 г. застала его на
фронте в Галиции. Он во главе делегации Юго-Западного фронта
приезжает в Петроград и затем избирается депутатом Всероссийского
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, с мая по июнь
1917 г. возглавляет культурно-просветительный отдел при
Политическом управлении Военного министерства Временного
правительства, а затем становится и начальником Политического управления,
редактором «Журнала армии и флота Свободной России».
После Октябрьской революции Степун становится идейным
руководителем Государственного Показательного театра, а потом и
режиссером. Но практическая театральная деятельность Степуна длилась
недолго: он был отстранен от работы в театре после обвинительно-
революционного выступления режиссера В. Э. Мейерхольда. Однако
увлечение театром продолжалось уже на теоретическом уровне.
Степун преподавал «философию театра» в различных театральных
школах и студиях, в том числе в Студии молодых актеров, в которой уроки
давал К. С. Станиславский. Через несколько лет, уже находясь в
эмиграции, Степун выпустит свою книгу «Основные проблемы театра»
(Берлин, 1923). Не прерывается и литературная работа Степуна. Он
сотрудничает в культурно-философском отделе эсеровской газеты
«Возрождение», не разделяя эсеровскую идеологию, но будучи
сторонником «окультуривания русского демократического
социализма»2. В 1918 г. выходит его книга воспоминаний о войне «Из писем
прапорщика-артиллериста». В 1922 г. под его редакцией и с его
статьей выходит первый и единственный номер журнала «Шиповник», в
котором опубликована работа Бердяева, произведения Леонида
Леонова и Бориса Пастернака. В этом же году вышел сборник статей
Бердяева, Франка, Степуна и Букшпанна, посвященный книге О.
Шпенглера «Закат Европы». Степун, возражая Шпенглеру, утверждал, что не
погибнет «подлинная, то есть христиански-гуманитарная культура»,
как не погибнет и европеизированная Россия, давшая миру Пушкина.
Но Степун вполне солидаризировался с автором «Заката Европы» в
резко отрицательной оценке марксистского социализма.
1 Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. С. 151.
2 Там же. С. 470.
298
Неудивительно, что Степун попал в список философов и ученых
высылаемых из России большевистским правительством. Он
эмигрирует в Германию, где сотрудничает в русских и немецких журналах,
выпускает ряд книг, в том числе основной свой философский труд -
«Жизнь и творчество» (Берлин, 1923). С 1926 г. Степун работает на
кафедре социологии Высшего Технического училища в Дрездене, но в
1937 г. нацисты увольняют его за идейную неблагонадежность. У него
на квартире производили обыски. Степун - решительный противник
национал-социализма1. Имея немецкое этническое происхождение,
Степун в период Второй мировой войны был патриотом России.
После войны он с 1946 г. с большим успехом читает лекции о русской
духовной культуре, возглавляя специально для него созданную в
Мюнхенском университете кафедру по истории русской культуры. В 1956 г.
выходит на немецком языке его книга «Большевизм и христианское
существование», а в 1962 г. «Мистическое мировосприятие». В 1947 г.
на немецком языке напечатаны воспоминания Степуна, которые в
1956 г. издаются по-русски под названием «Бывшее и несбывшееся».
В 1992 г. увидел свет и сборник его статей о русских писателях
«Встречи», в 1999 г. - «Чаемая Россия». В 2000 г. в серии «Из истории
отечественной философской мысли» опубликованы его «Сочинения».
Философские воззрения Степуна представляют собой
своеобразный синтез неокантианства и романтизированной «философии
жизни» с религиозной философией в духе Вл. Соловьева. Многим
современникам этот синтез не казался органичным, но он показателен для
умонастроений определенного течения русской философской
мысли. Попытаемся понять логику столь разнородного философского
построения автора очерка «Жизнь и творчество» - основного
концептуального произведения Степуна.
По его убеждению, «единственной подлинной задачей
философии» является «узрение абсолютного»1. Эту задачу философии раз-
1 Помимо прямых характеристик национал-социализма в своих
произведениях Степун допускал на своих лекциях такие необычайно смелые
высказывания: «Если бы мне пришлось встретиться с Гитлером, как бы я к нему
обратился? Mein Fuhrer (мой вождь)? Нет, ибо мой вождь только Иисус Христос.
Господин рейхсканцлер? Нет, после Бисмарка я не могу Гитлеру дать такой титул!
Просто господин Гитлер? Нет, это в моих глазах было бы слишком фамильярно,
я не хочу с ним такой фамильярности» (см.: Пирожкова В. Несколько слов о
моем учителе // Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. С. 641). По словам ученицы
Степуна Веры Пирожковой, «ему нацисты запретили профессорскую
деятельность как judenfreudlich (относящемуся дружески к евреям)» (там же. С. 631).
2 Первоначально очерк «Жизнь и творчество» был опубликован в журнале
«Логос» (1913, кн. 3-4). Второй вариант этого очерка был напечатан в сборнике
«Жизнь и творчество» (Берлин, 1923). Мы цитируем это произведение Степуна
по изданию: Русские философы (конец XIX - середина XX века): Антология.
Вып. 2. М., 1994. С. 141. Последующие ссылки на «Жизнь и творчество» даются
в тексте с указанием в скобках на страницу этого издания.
299
решал и Кант, но иначе, чем ему предшествующая философия,
которая, по образному определению Степуна, стремилась «узреть
абсолютное в образе стоящего высоко над землею солнца». Кант же
«действительно переложил горизонт философии так, что солнце
абсолютного осталось за ее горизонтом» (140). Поэтому и современный кан-
товский критицизм «ищет не солнца в небе, а лишь его следы и
отсветы на гаснущей земле» (141). Для Степуна кантовский критицизм
характеризует современный уровень научной философии, хотя не все
положения Канта представляются ему приемлемыми1.
Свои рассуждения о жизни и творчестве Степун и начинает с
«гаснущей земли». За основу он берет понятие «переживание», имея в
виду не конкретное субъективно-психическое переживание, а некое
«переживание» вообще. Для него и жизнь, и творчество являются
двумя полюсами этого «переживания». При этом переживание-жизнь
является «переживанием мистическим» (157). Дело в том, что «то
понятие, которым знаменуется жизнь, есть понятие
«положительного всеединства» (160). Так Степун пытается совместить «философию
жизни» с учением Вл. Соловьева. Он стремится также Соловьева
«скрестить» с Кантом, отмечая, что для него положительное
всеединство не есть «само абсолютное», а только «логический символ этого
абсолютного, да и то не абсолютного, как оно есть на самом деле и в
самом себе, но как оно дано в переживании» (179). Но само это
«переживание жизни» постулируется «как переживание религиозное, как
религиозное переживание Бога». Таким образом, «знание Жизни»
приравнивается к знанию «Бога живого» (180).
Творчество рассматривается Степуном также как переживание, но
такое переживание, которое противостоит переживанию жизни. Если
переживание жизни характеризуется как «положительное всеединство»,
то в переживании творчества единства нет. Оно расколото на субъект и
объект и распадается на многообразные формы культурного
творчества: на науку и философию, на искусство и религию. По отношению
к творчеству Степун применяет, по примеру своих
учителей-неокантианцев Виндельбанда и Риккерта, аксиологический, т. е. теоретико-
ценностный подход, который он своеобразно развивает.
Сами ценности он подразделяет на «ценности состояния» и
«ценности предметного положения». «Ценности состояния» - это
ценности, «в которых организуется каждый человек (с ценностью
личности во главе)», и ценности, «в которых организуется человечество (с
основною ценностью судьбы)» (171). «Ценности предметного
положения» - второй слой ценностей творчества. К ним относятся ценно-
1 Так, в книге «Бывшее и несбывшееся» он писал, что, «живи Кант не в
Кенигсберге, а в Сибири, он, наверное, понял бы, что пространство вовсе не
феноменально, а насквозь онтологично» (с. 264), т. е. пространство объективно
существует, а не является формой человеческой чувственности, как учил Кант.
300
сти «научно-философские» и «эстетически-гностические».
«Научно-философские ценности те, что построяют культурные блага
точной науки и философии». «Эстетически-гностические
ценности те, которые построяют культурные блага искусства и
символически-метафизические системы философии» (171).
Взаимоотношение жизни и творчества, по Степуну,
противоречиво. Он утверждает «равномерное признание обоих полюсов» - «как
полюса Жизни, так и полюса творчества» (182). В то же время он
полагает, «что Жизнь есть Бог, а творчество - отпадение от Него»
(181). Вместе с тем творчество «никак не может быть осмысленно и
отвергнуто, как греховное и богоборческое самоутверждение
человека. Творя, человек покорно свершает свое подлинно человеческое,
т. е. указанное ему самим Богом дело» (182). Но это двойственное
отношение творчества к Жизни-Богу и составляет «трагедию
творчества», которую Степун в статье «Трагедия творчества»
характеризует, как стремление решить невозможную задачу: «Вместить жизнь,
как таковую, в творчестве»1.
Степун был творческой личностью, что выразилось и в его
собственном философском и художественном творчестве (в 1923 г. он
опубликовал свой философский роман «Николай Переслегин»; его
воспоминания «Бывшее и несбывшееся» имеют не только
документальное, но и художественное значение), и в глубоком интересе к
литературному и театральному творчеству2.
С. И. Гессен
«Неакадемическим» неокантианцем был также Сергей
Иосифович Гессен (1887 - 1950). Он родился в г. Усть-Сысольске (в
настоящее время Сыктывкар). Его отец И. В. Гессен (1865 - 1943) стал
видным юристом, общественным и политическим деятелем,
публицистом, членом руководства кадетской партии, издателем 22
томов «Архива русской революции»3. В гимназии СИ. Гессен
увлекался марксизмом, атеистическими воззрениями и
революционными настроениями. Опасаясь за будущее сына, отец в 1905 г. отпра-
1 Степун Ф. Трагедия творчества (Фридрих Шлегель) // Логос. Кн. 1. М.,
1910. С.194.
2 См.: Степун Ф. Встречи. М, 1998. В этом сборнике собраны статьи и очерки
Степуна о Пушкине, Л. Толстом, Достоевском, Комиссаржевской, Ермоловой,
Бунине, Вяч. Иванове, Блоке, Б. Зайцеве, Б. Пастернаке.
3 Будучи еще студентом-юристом, И. В. Гессен был сослан в Усть-Сысольск
по делу народовольцев, и от его брака с Анной Макаровой - русской
православной женщиной - и родился будущий философ, крещенный в раннем детстве.
Его отец, когда мальчику было 3 года, расстался с его матерью, но, чтобы его
формально усыновить, сам принял православие. Воспитывался С. И. Гессен в
новой семье отца.
301
вил его за границу. В Гейдельбергском университете Гессен слушал
лекции Виндельбанда и другого известного неокантианца Б. Ласка, а
в университете Оренбурга занимался под руководством Риккерта.
В 1908 г. он завершает свою диссертацию «Об индивидуальной
причинности», написанную в духе философии Риккерта, и в
следующем году получает докторскую степень. В Германии начинается его
дружба со Степуном и Яковенко и у них возникает идея создания
«Логоса».
После возвращения в Россию Гессен редактирует «Логос»и
публикует в нем свои статьи «Мистика и метафизика» (1910),
«Философия наказания» ( 1912-1913) и несколько рецензий, переводит на
русский язык произведения Бергсона и Риккерта, готовится к
магистерскому экзамену на историко-философском факультете Петербургского
университета и, сдав его в 1913 г., с 1914 г. начинает читать лекции в
качестве приват-доцента. В 1916 г. на курсах для учителей Гессен
прочел свой первый курс педагогики, которая станет в дальнейшем
важнейшей областью в его теоретической деятельности.
После Февральской революции Гессен знакомится с Г. В.
Плехановым и участвует в его издании «Единство». «Хотя я давно порвал с
марксизмом, - вспоминал Гессен, - душой, однако, я всегда был на
стороне социал-демократической группировки'Плеханова
(«Единство»). Несмотря на мое кантианство, я, как и раньше, ощущал себя
ближе правовому марксизму Плеханова, чем революционному
социализму»1. С осени 1917 по 1920 г. Гессен работает профессором
Томского университета. Здесь он помимо занятий по философии
разрабатывает свою систему педагогики. В 1920 г. он читает лекции по
педагогике в Петроградском университете и Педагогическом
институте им. А. И. Герцена.
С конца 1920 г. Гессен живет за границей. В Берлине он пишет
книгу «Основы педагогики», которая выходит там же в 1923 г. с
подзаголовком «Введение в прикладную философию». С 1924 г. он
находится в Праге, работая в Русском педагогическом институте и читая
лекции в Русском народном университете, выступая также в
различных европейских странах, сотрудничая в «Современных записках»,
где в нескольких номерах с 1924 по 1927 г. печатается его обширный
труд «Проблемы правового социализма». В 1935 г., получив
приглашение Свободного польского университета в Варшаве, Гессен
переезжает в Польшу, где работает в области педагогики и философских
проблем воспитания до конца своих дней, пережив ужасы Второй
мировой войны2.
1 Гессен С. И. Мое жизнеописание // Вопросы философии. 1994. № 7-8.
С. 159.
2 События своей жизни Гессен рассказал в своей автобиографии «Мое
жизнеописание» (Вопросы философии. 1994. № 7-8. С. 150-187).
302
По своим философским взглядам Гессен - сторонник
неокантианства в его баденской разновидности, к который принадлежал его
учитель Риккерт. Но из неокантианства Гессен взял прежде всего
внимание к проблеме ценностей, которую он преломляет в решении
правовых и педагогических вопросов. В статье «Мистика и метафизика» он,
как и его неокантианские наставники, определяет саму философию
как «науку о ценностях», а такую отрасль философии, как эстетику, в
качестве «учения об эстетических ценностях»1. Но если в этой статье
Гессен еще разделяет взгляд Риккерта на «дуализм ценности и бытия»
и саму ценность определяет как «минимум трансцендентного бытия»,
то в статье «Философия наказания» ценность понимается более
конкретно. Применяя понятие ценности к правовым вопросам, Гессен
трактует ценность уже вполне посюсторонне. Полагая, что жизнь и
сознание сами по себе безразличны к ценностям, он в то же время считает,
что «без этой материальной основы ценности остаются висящими в
воздухе значимостями». В своем труде «Основы педагогики. Введение
в прикладную философию» Гессен утверждает, что «мир не
исчерпывается физической и психической действительностью, что кроме
физического и психического в мире есть еще третье царство,
царство ценностей и смысла, в котором наряду с формами знания
пребывает в своей вечной заданности и свобода человека»2. По его
убеждению, культурные ценности, к которым он относит науку, искусство,
нравственность, религию, право, государственность, хозяйство,
технику, «служа орудиями другого, они кроме того ценны и сами по себе.
В этом только смысле мы и называем их ценностями абсолютными»
(32). «Царство ценностей» для неокантианца - это духовная сфера:
«совокупность культурных ценностей мы назовем старинным, несколько
двусмысленным, но все же прекрасным именем Духа» (376). Ценности
культуры являются «сверхиндивидуальными».
С теоретико-ценностной точки зрения рассматриваются Гессеном
правовые явления. Для него преступление и наказание - не просто
факты, но события, требующие уяснения «с точки зрения их
(правового) смысла, значения, ценности». Такая ценностно-правовая
позиция философа приводит его к отрицательному отношению к
смертной казни, несовместимой, по его мнению, с «актом правосудия», ибо
она уничтожает «правового субъекта», и поэтому «убийство
приговоренного к смертной казни есть такое же преступление, как и
убийство любого гражданина»3.
В теоретико-ценностном аспекте трактуются Гессеном и
центральные педагогические проблемы. Подчеркивая «мысль об единстве
'Логос. 1910. Кн. 1.С. 133, 125.
2 Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М.,
1995. С. 248-249. Далее ссылки на это издание даются в тексте.
3 Логос. 1912-1913. Кн. 1-2. С. 228, 229.
303
психофизического организма, равноправными сторонами которого
являются взаимно переплетающиеся душевные и телесные
процессы», Гессен убежден в том, что «душа и тело человека в равной
мере должны быть образованы в направлении культурных
ценностей, по отношению к которым они, как чисто природный
материал, подлежащий образованию, представляются равноценными
сторонами единого и нераздельного целого. Весь человек в целом, а не
одна только его часть или сторона, должен воспринять в себя
ценности культуры, приобщиться к ним всем своим существом
и в служении им преобразовать свой психофизический организм»
(376).
Уже в первых своих философских работах Гессен проявил свой
вкус к диалектике - стремление видеть противоречия и понимание
единства противоположных начал в жизни и в ее осмыслении. В
предисловии к «Основам педагогики» он относит себя к
сторонникам той философии, которая «противоборство двух начал»
превращает в «единство двух моментов», постигаемых друг через друга. И
этот «вечный мотив философской мысли, мотив диалектики»
Гессен находит уже у Платона, определявшего «философов как тех, кто
пребывает «посреди обоих начал», в самой своей двойственности
составляющих неразрывное единство» (21). НО* он учитывает
достижения и последующей диалектической мысли, особенно Гегеля.
Поэтому Гессен не за противопоставление, а за синтез «разума и
интуиции, монизма и плюрализма, рационализма и
иррационализма» (там же), индивидуального и сверхиндивидуального в личности
(см. 75), национального и общечеловеческого (см. 340-343).
Отрицание понимается им не как «голое отрицание», а как отрицание во
имя утверждения: «Чтобы быть самим собой, чтобы сохранить
себя самого, отрицание должно крыть в себе положительный
момент. Этот положительный момент в отрицании есть не
что иное, как творчество, открывающееся нам как единство
отрицания и утверждения, как будущее, сохраняющее в себе
прошлое...» Поэтому «преодолеть прошлое через приобщение к
вечному, составляющему его истинный смысл, - по Гессену, - и
является подлинной задачей образования» (380).
Стремясь сочетать диалектику с неокантианством, Гессен
применял диалектический метод для понимания самих ценностей. По
словам его ученика - польского философа А. Валицкого,
«диалектическое понимание» смысла ценности позволяло, по его мнению,
соединить историзм с феноменологическим «вниканием в сущность
предмета». «Согласно Гессену, - отмечает А. Валицкий, -
диалектика была именно орудием борьбы с релятивизмом: в исторических
переменах она позволяла видеть преемственность и постоянство; в
том, что относительно, - отблеск абсолютных ценностей». И далее:
«Ценности связаны между собой диалектически и пронизывают одна
304
другую - в низших ценностях «просвечивают» высшие, а в высших
ценностях низшие сохраняются как диалектический «момент»1.
Своеобразие философских воззрений Гессена состоит в том, что
он конкретизировал неокантианский трансцендентализм2, стремясь с
его позиций разработать философскую антропологию и основанную
на ней «философию воспитания», а также концепцию «правового
социализма». Педагогику он рассматривал как часть «прикладной
философии» и был убежден в том, что «самые отвлеченные
философские вопросы имеют практическое жизненное значение» (20).
Правда, само неокантианство Гессена претерпело значительную
эволюцию. По его словам, он, «будучи учеником Риккерта и
опосредованно Канта, все более развивался в направлении платонизма,
стараясь разработать многоэтажную теорию реальности,
увенчивающуюся теорией духовного бытия, а в дальнейшей перспективе
даже визией «Царства Божьего»3. Однако об этой эволюции можно
судить не по специальной разработке Гессеном философских
проблем, а по его «прикладной философии».
Его книга «Основы педагогики. Введение в прикладную
философию», изданная в Берлине в 1923 г., переиздана на родине автора в
1995 г. как учебное пособие для вузов и характеризуется издателями
в качестве «одной из лучших книг этого столетия по педагогике». К
сожалению, замысел Гессена создать капитальный труд «Философия
воспитания» из-за начавшейся Второй мировой войны полностью не
был осуществлен (часть этого труда в виде книги «О противоречиях
и единстве воспитания» была издана по-польски в 1938 г.).
В западноевропейском неокантианстве возникла идея так
называемого «этического социализма» - своеобразного соединения идеи
социализма с кантовской этикой. Гессен в серии статей, опубликованных
в парижском журнале «Современные записки» за 1925-1927 гг.,
обосновывает свою концепцию «правового социализма». «Правовой
социализм», по Гессену, коренным образом отличается от
большевистского коммунизма проникновением идеи права во все области
хозяйственной, социальной, государственной и культурной жизни. Право
определяется Гессеном как «одно из самых мощных и верных
орудий Духа», и «именно признанием права и утверждением Духа
отличается социализм от коммунизма»4. Правовой социализм, по утверж-
1 Валицкий А. Послесловие // Вопросы философии. 1994. № 7-8. С. 183.
2 Трансцендентализм - важнейшее понятие кантовской философии,
обозначающее априорные (доопытные) условия познавательной деятельности. Сам
Гессен полагал, что центральная идея трансцендентализма - это идея
многогранности бытия и неисчерпаемость Абсолюта ни в одной сфере реальности
(см.: Современные записки. XXX. Париж, 1927. С. 382).
3 Гессен С. И. Мое жизнеописание. С. 181.
4 Гессен С. И. Проблема правового социализма. Окончание //
Современные записки. XXXI. Париж, 1927. С. 357.
305
дению Гессена, «означает не только освобождение труда, но и
одухотворение через труд самих вещей, становящихся во все большей
мере материальным поприщем человеческой свободы»1. Он
пронизан идеалами демократии и гуманизма и является своеобразным
предтечей идеи «социализма с человеческим лицом». Гессен работал над
книгой о социализме, но рукопись этого труда была утрачена во
время Варшавского восстания.
Как и другие русские мыслители, Гессен проявлял большой
интерес к русской литературе, особенно к Достоевскому, в
произведениях которого видел художественно выраженную философию и
подлинный гуманизм. Подлинный же гуманизм, по воззрениям Гессена,
предполагая «смирение перед Абсолютным» и осознание
ограниченности человеческого разума в духе кантовской философии, означает
умонастроение «любви, и притом не любви к дальнему, слишком
часто оборачивающейся брезгливостью и ненавистью к ближнему, а
любви к конкретному, к живому, к индивидуальному»2.
Б. В. Яковенко
Близким по своим воззрениям к неокантианству был Борис
Валентинович Яковенко (1884 - 1949). Он с 1911 г. стал одним из
ведущих редакторов «Логоса» и, пожалуй, самым продуктивным его
автором. Его отец был народником, ученым-статистиком, сотрудником
известного книгоиздательства Ф. Павленкова. Мать будущего
философа переводила с европейских языков, в том числе и философскую
литературу. После окончания Петербургской гимназии, Б. В.
Яковенко учился в Сорбонне и Свободном Русском университете в Париже.
С 1903 по 1905 г. Яковенко учился на естественном факультете
Московского университета. За участие в студенческом движении он
подвергся аресту и был отчислен из университета. Свое образование
Яковенко продолжил в Германии в течение 1906-1908 гг., в центрах
неокантианского движения Баденской школы: в Гейдельберге и Фрей-
бурге, где преподавали Виндельбанд и Риккерт. В 1908 г. он
участвует в III Международном конгрессе в Гейдельберге. Уже с 1905 г.
появляются публикации Яковенко по философским проблемам.
С 1910 г. Яковенко опять на родине. С 1911 г. он соредактор и
активный автор «Логоса», печатаясь также и в других философских
изданиях - «Новые идеи в философии», «Вопросы философии и
психологии» и др., переводя на русский язык немецкую и
итальянскую философскую литературу. Но в 1913 г. его снова
арестовывают (по-видимому, он был связан с организацией эсеров). Обретя
1 Гессен С. И. Проблема правового социализма. С. 353.
2 Гессен С. Мировоззрение и идеология // Современные записки. LVII.
Париж, 1935. С. 328-329.
306
свободу, Яковенко уезжает в Италию, где живет до 1924 г.
Откликом его на Октябрьскую революцию 1917 г. является небольшая
книга «Философия большевизма» (Берлин, 1921), в которой он
негативно отзывается о революции и Советской России и «философии
большевизма». Всякая революция ему представляется
одновременно ужасной и великой, отвратительной и прекрасной, как и сам
человек.
В 1924 г. Яковенко уезжает из Италии, где устанавливается
фашистский режим, и по приглашению чехословацкого президента
философа Т. Масарика поселяется в Праге, в которой живет и
работает до конца своих дней. Здесь он много занимается философско-
литературной и издательской деятельностью. В 1925 г. вместе с Гес-
сеном и Степуном пытается возобновить издание «Логоса»
(состоялся только один его выпуск со статьей Яковенко «Мощь философии»).
В течение 1929 - 1934 гг. он является издателем журнала на
немецком языке «Der russische Gedanke» («Русская мысль») -
международного журнала русской философии, литературоведения и культуры. С
1935 по 1944 г. он издает серию книг «Международная библиотека по
философии».
Наибольшее число работ Яковенко посвящено истории
философской мысли, главным образом современной. Предметом его
внимания была и немецкая, и итальянская, и американская, и
чехословацкая, и русская философия. В 1922 г. в Берлине вышла его
небольшая работа «Очерки русской философии». Книга Яковенко
«Философия русских. Опыт истории русской философии» в 1927 г.
выходит по-итальянски. Он автор нескольких обзорных работ по
истории философии в России и многих рецензий на труды русских
философов. В 1938 г. его книга «История русской философии»
выходит на чешском языке. В 1940 г. на немецком языке издана первая
часть его труда «История гегельянства в России». Он написал
большую работу о Белинском, изданную после его смерти, а также
исследования о философии Чаадаева и Н. О. Лосского, не изданные
до сих пор.
Философско-теоретические статьи Яковенко представляют собой
стремление автора выявить внутренние закономерности развития
философской мысли и на этом основании сформулировать
собственную философскую концепцию. Обладая большой эрудицией,
Яковенко рассматривает и анализирует историю философии в различных
странах. Вместе с тем в «Очерках русской философии» он
утверждает, что «ни для одного философского проявления или течения
внутренне не важно, в духовной атмосфере какой определенной нации
родилось оно». В то же время «для той или другой нации
чрезвычайно существенно и характерно, что в ее духовной жизни нашла для
себя возможность выразиться и осуществиться какая-нибудь
определенная философия». Что же касается русской философской мысли,
307
то она «представляет неоспоримый интерес как одна из сторон
общекультурной жизни и творчества русского народа...»1.
Изучение истории философии показывает огромное число
различных, а подчас и противоположных философских идей, систем и
концепций. Создается впечатление, что существует не одна Философия,
а множество философий, соответствующих множеству самих
философов. Но, с точки зрения Яковенко, такое впечатление ошибочно,
при глубоком рассмотрении обнаруживается существование единой
философии, имеющей единый предмет исследования. «Тем единым
предметом философских исканий, - полагает он, - является Сущее
во всем своем целом, во всех своих деталях, во всех своих
обнаружениях; значит, Сущее, как Сущее»2. Поскольку Сущее едино и
многообразно, то и сама философия многообразна и в то же время
едина. Множественность различных философских построений
необходима для охвата множественности Сущего. Поэтому различные
философские теории имели право на существование. «Ни одна
философская мысль не бывает и не становится навсегда или
бесполезной, или бессильной», - отмечал Яковенко в статье «Мощь
философии»3. Вместе с тем, поскольку Сущее множественно, т. е.
плюралистично (на латинском языке pluralis означает множественный), то и
сама философия в идеале должна стремиться стать
плюралистической^ чтобы соответствовать плюрализму Сущего.
Однако такой плюрализм философии - итог длительного
процесса развития мысли. В течение долгого времени философия была не
плюралистической, а монистичной, выделяя и подчеркивая лишь одну
сторону Сущего: либо внешнее бытие вещей, либо данность ее в
субъективном восприятии. Так появились философские системы,
основанные на подчеркивании объекта («объективизм», по
терминологии Яковенко): это и «наивный реализм», и «субстанция»
Спинозы, и признание существования «вещи в себе», и идеи Платона и т. п.
Другие же философские системы, как, например, субъективный
идеализм, абсолютизировали субъективную сторону процесса познания
(Яковенко их называет «субъективизмом»). Наряду с монистичными
философскими системами были и системы дуалистические, в
которых Сущее раскалывалось на какие-либо два начала.
Не сразу философия пришла к своему особому философскому типу
познания, существующему наряду с другими типами познания -
познанием чувственным, эмоционально-волевым и научным познанием.
По убеждению Яковенко, философское познание - «познание сущего
1 Яковенко Б. В. Очерки русской философии // Яковенко Б. В. Мощь
философии. СПб., 2000. С. 740, 746.
2 Яковенко Б. Что такое философия? Введение в трансцендентализм //
Логос. 1911-1912. Кн. П-Ш. С. 31.
3 Яковенко Б. В. Мощь философии (Историческое самоутверждение
философской мысли) // Яковенко Б. В. Мощь философии. С. 270.
308
в том виде, как оно есть» - является развитием научного познания.
Однако «философия и требует, и стремится выполнить условия не
просто научности, а критической научности, научной или в квадрат
возведенной науки, науки науки, наукоучения или разума»1. Яковенко
убежденный сторонник научной философии. «Религиозная философия» ему
представляется господством «языческой хаотичности и
фантастичности над просвещенным философским мышлением»2. Он не отрицает
религию как религиозное мировоззрение, но религия, по его мнению,
основывается на эмоционально-волевом, а не научном типе познания,
ей присущ догматизм, в противоположность философскому
критицизму. Поэтому соединение религии и философии неправомерно как в том
случае, когда религия превращает философию в свою служанку и даже
в раба, так и тогда, когда сама религия «оказывалась в наибольшей
зависимости от философствования, впадала в наибольшую
рационализацию веры и явственно стояла на пороге своего вырождения и
упадка». Примером такого соединения философии и религии для него
является средневековая философия и «пример современного русского
религиозно-философского старания обновить религиозное сознание (в
частности, православие)»3.
В своей истории философская мысль развивается циклично. Она,
по Яковенко, проходит следующие мировые циклы: космизм
(греческая философия), гносеологизм (немецкая философия) и
трансцендентализм. Последнее понятие - трансцендентализм - характеризует
такое созерцание, «в котором предстает и наличествует сама
сущностная феноменология Сущего: каждое сущее и все сущее, как оно
подлинно суще в своей каждости и своей всещности»4. В другой статье
Яковенко определяет трансцендентализм как «разумение сущего как
сущего»5. Сам этап трансцендентализма имеет свои ступени
развития, начиная с учения Канта, продолженное Фихте и Гегелем, а затем и
неокантианцами. Наиболее перспективной философией Яковенко
считает воззрения главы Марбургской школы неокантианства Г. Когена.
Термин трансцендентализм, имеющий большое значение в
философии Канта и «с его легкой руки» получивший распространение
в последующей философии, Яковенко трактует как стремление
великого философа преодолеть противопоставленность ума и «вещей в
себе»: трансцендентальное - это такая среда, «в которой и «вещи в
себе», и человеческий ум суть равноправные граждане»6. Термином
1 Яковенко Б. Путь философского познания // Яковенко Б. В. Мощь
философии. С. 248, 257.
2 Яковенко Б. Что такое философия? Введение в трансцендентализм. С. 51.
3 Яковенко Б. Мощь философии. С. 274.
4 Там же. С. 280.
5 Яковенко Б. Путь философского познания. С. 258.
6 Яковенко Б. Об имманентном трансцендизме, трансцендентном имманен-
тизме и дуализме вообще. Второе, большое специальное введение в
трансцендентализм //Логос. 1912-1913. Кн. I—II. С. 181.
309
трансцендентализм Яковенко называет такую философскую
систему, которая охватывает всё Сущее, его внешнюю для человека
сторону, трансцендентное (от лат. transcendens - выходящий за пределы),
и внутренне присущее, имманентное (от лат. immanens -
свойственный, присущий). Трансцендентализм - магистральный путь развития
философской мысли, преодолевающей, по его словам, как
«объективизм», так «субъективизм», как «трансцендентизм» (абсолютизацию
внешнего), так и «имманентизм» (абсолютизацию внутреннего).
Свою философскую позицию Яковенко называет
«трансцендентальным плюрализмом», подчеркивая тем самым, что он сторонник
трансцендентализма в философии, утверждая «значимость и самого
трансцендентального Сущего»1 и «плюрализм сущего»2. Ратуя за
научность философии, выступая с критикой «религиозной философии»,
Яковенко сам признает «критический, разумный мистицизм», или
«критический разумный интуитивизм». Этот философский мистицизм,
или интуитивизм, Яковенко связывает с непосредственностью
философского познания Сущего, которая для него столь же важна, как и
научность: «Научность есть сторона философского познания,
обращенная критически к субъекту; непосредственность есть другая
его сторона, обращенная мистически к сущему^. «Таким образом, -
заключает философ, - «крестный» путь философского познания есть
критический путь от беспредельного сомнения к положительной
мистике, есть путь критико-мистический»3.
Как мы видим, философские взгляды Яковенко строятся в
основном на историко-философском материале, лишь декларируя связь
философии с жизнью и культурными ценностями. Поэтому на его
работах лежит налет схоластичности, и они перегружены
специальной терминологией, недоступной неспециалисту (чего стоит
название одной из «программных» статей Яковенко: «Об имманентном
трансцендизме, трансцендентном имманентизме и дуализме
вообще»!). Но в истории русской философии Яковенко находит свою
«нишу» как сторонник высокой культуры философского мышления
и всестороннего философского образования. Сколь бы ни были
абстрактными его философские построения, Яковенко проецировал их
на социально-политическую реальность, полагая, что в
нравственной сфере философский плюрализм есть «система чистой свободы»
и предполагает демократизм4.
1 Яковенко Б. Мощь философии. С. 281.
2 Яковенко Б. Путь философского познания. С. 262.
3 Там же. С. 260.
4 Яковенко Б. В. Мощь философии. С. 921.
XII
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ
Наряду с неокантианством на развитие русской философии
оказала воздействие так называемая феноменологическая философия,
основателем которой был Эдмунд Гуссерль (1859-1938). Как и
неокантианство, феноменологическая философия, или феноменология,
привлекала внимание философов своим стремлением сделать
философию научной. Одна из статей Гуссерля, напечатанная и по-русски
в «Логосе» за 1911-1912 гг., называлась «Философия как строгая
наука». Книга русского философа Г. Г. Шпета «Явление и смысл»,
излагающая основные принципы феноменологической философии, не
случайно имела такой подзаголовок: «Феноменология как основная
наука и ее проблемы».
Забегая вперед, отметим, что в России не было «чистых»
феноменологов. Одной из особенностей развития философии в
России было то, что русские философы, отлично знавшие состояние
западноевропейской философии, как правило, не следовали
какому-либо одному ее течению, будь то лейбницианство или
гегельянство, ницшеанство или неокантианство, творчески его
преломляя и учитывая традиции отечественной философской мысли. То
же относится и к феноменологии. Вместе с тем уже первые труды
Гуссерля, посвященные феноменологической философии,
вызвали живой отклик у русских мыслителей различных философских
направлений. Их переводили на русский язык, рецензировали,
излагали, использовали в своих работах, принимая или отвергая, и
Франк, и Лосский, и Шестов, и Яковенко, и Гессен, и Шпет, и
Ильин, и Вышеславцев, и Лосев. Слова «феноменология»,
«феноменологический» часто встречаются в произведениях русских
философов, хотя далеко не всегда в гуссерлевском смысле. Ф. А. Сте-
пун стремился осуществить «феноменологическое узрение
понятий жизни и творчества», правда в качестве только предпосылки
«научного раскрытия понятий жизни и творчества»^. Б. В.
Яковенко определял свою философскую позицию как
«трансцендентально-плюралистическую концепцию» на путях «критико-
1 См.: Степун Ф. А. Жизнь и творчество. С. 148-156.
311
интуитивистского феноменологизма»1. В 1914 г. была
опубликована обширная работа Т. И. Райнова (1888 - 1959) «Введение в
феноменологию творчества», задачей которой было «показать, что
творчество может и должно изучаться с особой, именно -
феноменологической точки зрения, отличной от точки зрения, в какой подходит к
творчеству психология». Притом термин «феноменология» означал
«науку о проявлениях сознания»2. Лев Шестов, находившийся с
Гуссерлем в дружеских отношениях, но отвергая философию своего
друга-антипода как «умозрительную» философию, назвал свой
некролог, посвященный Гуссерлю, «Памяти великого философа».
Что же собой представляла феноменологическая философия? Слово
«феномен» (от греческого слова phainomenon - являющееся) в
современном русском языке означает явление необычайное, особенное,
редкое (так говорят о «феноменальном» достижении в каком-либо виде
деятельности). В философском смысле феномен - это явление во всем
его индивидуальном своеобразии, постигаемое в чувственном опыте.
Но в истории философии феномен понимался по-разному, в
зависимости от того, как трактовалась его природа в качестве материальной или
же духовной, идеальной, как осмыслялось его отношение к сущности,
идее, смыслу. Так, в философии Канта чувственно воспринимаемый
феномен противопоставлялся ноумену (по-гречески noumenon - объект
мысли, разума) - предмету интеллектуального созерцания. Для Канта
окружающий нас мир, природа есть мир феноменов,
противопоставляемый непознаваемому миру «вещей в себе». Феноменологическая
философия стремилась преодолеть кантовскую противоположность
между феноменами и «вещами в себе», стремясь в феноменах выявить
их идею, эйдос (по-гречески eidos - вид, прообраз), сущность, смысл.
По Гуссерлю, феномен не есть предмет, вещь, существующая сама по
себе, вне сознания. Феномены - это вещи и предметы,
непосредственно явленные сознанию, притом явленные в своих идеальных
сущностях, эйдосах, смыслах. Излагая основные принципы
феноменологической философии, Г. Шпет отмечал, что «феноменология желает
изучать «все», но все в его «сущности» или «идее», эйдосе»3.
Феноменология оказывается в определенном отношении близкой учению
Платона, который видел смысл философского познания в постижении идей,
или эйдосов явлений. По формулировке Шпета, при
феноменологическом подходе «платоновское царство идей раскрывается нам как наше
царство» (181).
1 Яковенко Б. В. Тридцать лет русской философии (1900-1929) // Яковенко
Б. В. Мощь философии. С. 863.
2 Райнов Т. Введение в феноменологию творчества // Вопросы теории и
психологии творчества. Т. V. Харьков, 1914. С. 1, 102.
3 Шпет Г. Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее
проблемы. Томск, 1996. С. 27. В дальнейшем ссылки на эту работу приводятся
в тексте.
312
Гуссерль разработал методологию и методику
феноменологического познания. Он исходит из того, что человеческому сознанию
присуща интенциональность (от латинского слова intentio - стремление).
Словом интенция, использовавшимся еще в средневековой
философии как смысловая направленность чувств, Гуссерль обозначил
свойство сознания «быть сознанием о чем-то», направленность сознания
на предметы и вещи. Однако речь не идет о предметах и вещах,
существующих независимо от сознания, объективно, а о вещах и
предметах, данных сознанию через интенциональность, коррелирующихся с
сознанием. По Шпету, в феноменологии «действительный мир, как и
всякий возможный иной мир, мыслим только в коррелятивном
отношении к сознанию» (50). Интенциональность сознания, по Гуссерлю,
характеризует предметность сознания и выражает привлекательный
лозунг феноменологии: «Назад к предметам!»
Но философская ценность феноменологии состоит прежде всего
в новом аспекте исследования сознания. Сознание изучается
феноменологически не в его психическом проявлении. Гуссерль и его
последователи подчеркивали необходимость преодолеть психологизм
в «феноменологической установке». В результате процедуры
«феноменологической редукции», называемой эпохе (по-гречески это
слово означает «воздержание от суждений»), «отключаются» обычные
эмпирические связи субъекта, его натурально-вещные установки, его
социально-идеологические предубеждения, в том числе философские
и религиозные, «шоры исторических предрассудков»1 (Гуссерль). Все
это необходимо для того, чтобы «сделать чистое сознание
специальным и особым предметом исследования» (52). Важнейшим
инструментом феноменологического исследования служат интуиции,
притом не чувственные интуиции, «интуиции опыта», а «интуиции
идеальные, проникающие в существо вещи или предмета».
Феноменология - «наука о сущностях, эйдетическая наука, об идеальных
предметах, т. е. о предметах, по существу находящих свое выражение в
понятиях». Поэтому «познание идеального бытия предметов есть
знание, а не вера» (56-57, 101, 95).
Б. В. Яковенко не без основания утверждал, что Гуссерль, как
никто другой, оказал глубоко идущее воздействие на состояние
русской философии первых двух десятилетий XX столетия, что «ни в
какой другой стране (за исключением, естественно, Германии) его
мысль не оставила столь глубоких следов, как в России»2. Такое
воздействие феноменологии на русскую философскую мысль имело свое
основание. Некоторые русские мыслители еще до знакомства с тру-
1 Письма Эдмунда Гуссерля к Густаву Шпету //Логос (Москва). 1992. № 3.
С. 238.
2 Яковенко Б. В. Эд. Гуссерль и русская философия // Яковенко Б. В. Мощь
философии. С. 843.
313
дами Гуссерля пристальное внимание уделяли основному предмету
феноменологии - сознанию, в его структуре и целостности1. Правда,
и после того, как работы основоположника феноменологии стали
известны русским мыслителям, ни один из них не стал «чистым» гус-
серлианцем, хотя критических интерпретаторов Гуссерля было
немало. И тем не менее мы вправе вместе с Яковенко говорить о
«глубоких следах» феноменологии в русской философии. В письме к
Гуссерлю от 11 марта 1914 г. Шпет писал по возвращении из Германии в
Россию: «Феноменология вызывает здесь большой и серьезный
интерес во всех философских кругах. «Идеи» [речь идет о работе
Гуссерля «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической
философии», вышедшей в 1913 г. -Л. С] изучены пока не очень хорошо,
но о феноменологии говорят почти все, имеются даже специальные
общества по изучению феноменологических вопросов. Я отстаиваю
идеи феноменологии на своих лекциях и семинарах...»2
МИРОВОЗЗРЕНИЕ Г. Г. ШПЕТА
Густав Густавович Шпет (1879 - 1937) был наиболее видным
сторонником феноменологической философии Ъ России. Его книга
«Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее
проблемы», посвященная Гуссерлю, была наиболее адекватным
изложением учения основателя феноменологии. Критика некоторых
положений этого учения не выходила за его рамки. Гуссерль и сам
впоследствии пересматривал некоторые моменты своей
феноменологической концепции, притом в ряде случаев тех же положений, с которыми
не был согласен и его русский последователь.
Феноменология - это, конечно, не то же самое, что гуссерлиан-
ство; некоторые ученики Гуссерля, как, например, немецкий
философ Макс Шелер (1874-1928) и польский философ Роман Ингарден
(1893-1970), создали свои версии феноменологической философии.
Ближайший ученик Гуссерля и его ассистент Мартин Хайдеггер
(1889-1976), отталкиваясь от феноменологии, пришел к своей
экзистенциалистской философии. Феноменология Гуссерля и Шел ера, а
также экзистенциализм Хайдеггера послужили основанием для
герменевтики Ханса Георга Гадамера (1900-2002) - философского
учения о бытии, основанного на определенной концепции понимания
реальности и текстов (герменевтика - учение о понимании; на гре-
1 См.: Антология феноменологической философии в России. М, 1997. Т. 1.
В этой антологии имеется специальный раздел «Предфеноменологическая
традиция в русской философии XIX века», в который включены отрывки из
произведений М. И. Карийского, С. Н. Трубецкого, В. С. Соловьева.
2 Густав Густавович Шпет - Эдмунду Гуссерлю //Логос (Москва). 1996. № 7.
С. 125-126.
314
ческом языке hermeneutikos - истолковывающий). Как мы увидим в
дальнейшем, Шпет своим путем также шел от феноменологии к
своеобразной герменевтике. В феноменологических исканиях в России,
и не только в ней, ему принадлежит выдающаяся роль.
Густав Густавович Шпет родился в 1879 г. в Киеве. Его мать Мар-
целина Осиповна Шпет была полькой католического
вероисповедания. Отца своего, венгерского офицера, будущий философ не знал.
Его усыновил брат матери - Я. Г. Б. Шпетт. Мать одна воспитывала
сына, зарабатывая на жизнь шитьем и стиркой. По словам внука
Шпета - М. К. Поливанова, когда в 1932 г. умерла его мать, Г. Г. Шпет
«попросил, чтобы ему дали ее наперсток, который с тех пор всегда
стоял на его письменном столе»1.
В 1898 г. Шпет поступил в Киевский университет на
физико-математический факультет. Будучи студентом, он увлекся марксизмом.
За распространение марксистской литературы он был на время
исключен из университета и арестован. В тюрьме Шпет занялся
философией. В 1901 г. он был восстановлен студентом в университете на
историко-филологическом факультете. К марксизму он продолжал
относиться уважительно, хотя в нем, по его мнению, есть
философские ошибки. Большое значение для философского развития Шпета
имело его участие в психологическом семинарии профессора Г. И.
Челпанова (1862-1936) - психолога и философа-неокантианца.
Разделяя теперь позиции философского идеализма, Шпет делает на
семинарии в 1903 г. доклады о причинности у Юма, по которым он в
1907 г. публикует работу «Проблема причинности у Юма и Канта».
По материалам работы психологического семинария в 1904 г. Шпет
пишет конкурсное сочинение «Память в экспериментальной
психологии», опубликованное в 1905 г., за которое он получает золотую
медаль Киевского университета.
В 1907 г. молодой философ переезжает в Москву по
приглашению Челпанова (с 1906 г. профессора Московского университета),
где входит в круг творчески одаренных людей, таких, как философы
Франк, Шестов, Эрн, Гершензон, поэты Андрей Белый,
Балтрушайтис, артист Качалов, читает лекции в Московском университете, на
Высших женских курсах Герье, в Народном университете Шаняв-
ского. В 1912 г. вышло литографированное издание «Логики» Шпета
по записям его слушательниц.
Лекции молодого философа пользовались огромным успехом.
Андрей Белый вспоминал, что Шпет становился премоден на курсах
Герье; «здесь сражал философских курсисток рядами он; и десятка-
1 Поливанов М. К. Очерк биографии Г. Г. Шпета //Лица. Биографический
альманах. 1. М; СПб., 1992. С. 10. Не признавая двойных согласных в
иностранных словах, философ свою фамилию Шпетт переделал на Шпет, с одним
«т», оставив двойное «tt» только в немецком написании свой фамилии: Spett.
315
ми расплодились «шпеттистки» <...> очень многие носили тогда на
груди медальончик с портретом Шпета; рассказывали: и на лекциях
он кубарями вертит системы философов». А. Белый отмечал, что в
это время Шпет скептически относился к существовавшим в то
время в России философским течениям: «он в юмовском скептицизме,
как в кресле, уселся с удобством; это было лишь формой отказа его
от тогда господствовавших течений; он особенно презирал
«нечистоту» позиций Бердяева и с бешенством просто издевался над ниц-
шеанизированным православием <...> более, чем кто-либо, он видел
бесплодицу когенианцев и риккертианцев...»1.
Философские воззрения самого Шпета определились в
результате его поездок за границу, прежде всего в Геттинген, где он с 1910 по
1912 г. в течение летних семестров слушал лекции Гуссерля и имел
возможность общаться с основателем феноменологии. Переписка
Гуссерля и Шпета свидетельствует о том, что отношения между ними
были взаимно уважительными и дружескими. Гуссерль ценил
Шпета не только как человека, но и как философа, одобряя его
«интенсивную феноменологическую деятельность», полагая, что
феноменология - «новая наука, бесконечно плодотворная почва для работы,
- бесконечная и плодотворная как русская равнина, но как и она
приносящая богатый урожай только благодаря упорному труду (а не
громким словам)»2. Результатом этой работы в области феноменологии и
была книга «Явление и смысл. Феноменология как основная наука и
ее проблемы», вышедшая в 1914 г.
Творчески излагая основы гуссерлевской феноменологии, Шпет
сделал к ней ряд замечаний и дополнений, определивших в
дальнейшем движение его философской мысли. Гуссерль различал три вида
бытия: бытие физических вещей, животный мир и психическое
сознание. Однако, полагает Шпет, у него «пропущен особый вид
эмпирического бытия, - бытие социальное, которое, согласно принятому
нами положению, должно иметь и свою особую данность, и свой
особый способ познания» (ПО).
Таким способом познания социального бытия являются, по Шпету,
«социальные интуиции», представляющие собой особый вид
интуитивного знания наряду с «чувственной интуицией» и «идеальной
интуицией» (112). Как прийти к социальному бытию? Вот ответ Шпета
на этот вопрос: «За оболочкой слов и логических выражений,
закрывающих нам предметный смысл. Мы снимаем другой покров
объективированного знака, и только там улавливаем некоторую
подлинную интимность и в ней полноту бытия. И вот оказывается, что мы -
не заключенные одиночных тюрем, как уверяли нас еще недавно (Зиг-
1 Белый А. Между двух революций. С. 278, 273.
2 Письма Эдмунда Гуссерля к Густаву Шпету // Логос (Москва). 1992. № 3.
С. 237, 239, 238.
316
варт), а в непосредственном единении уразумения мы открываем
подлинное единство смысла и конкретную целостность
проявившегося в знаке, как предмете» (12-13).
Для Шпета, уразумение и есть понимание, «понимание как
уразумение» (96). Он убежден в том, что «к сущности самого сознания
принадлежит не только усматривать, но и понимать, уразумевать
усмотренное. И это «уразумение» не есть только умозаключение». И «мы,
действительно, можем говорить об особой группе, предметов, к
сущности которых относится быть уразумеваемыми» (173). Речь идет здесь
прежде всего о «социальных предметах», которые «всегда выступают,
как знаки, и со своим внутренним интимным смыслом. Но мы его не
видим, не слышим, не осязаем, а «знаем» все-таки. Мы знаем, что der
Tisch значит стол, стол значит орудие для такой-то цели, вот тут уже
его смысл, его энтелехия1; мы знаем, что у птицы крылья для летания;
что данный памфлет написан для протеста; наконец, просто, вот
лежит что-то для чего-то! И феноменологический анализ
соответственных предметов, - как полагал Шпет, - покажет нам только, что,
действительно, к сущности социального относится иметь цель, т. е.
обладать энтелехией, тоже к сущности организма и проч.» (171-172).
Поэтому существует, с его точки зрения, принципиальное
различие между пониманием, например, секиры как явления «мира
социального» и песчинкой как явления «мира «естественного» (162).
Понять смысл такого социального явления, как секира, нельзя, только
исходя из ее внешней формы, которая в таком случае выступает как
знак без значения, как бессмыслица. Для понимания секиры
необходимо усмотреть ее «внутренний смысл» в том, что секира «рубит».
Материальная форма секиры является «знаком» действия «рубить»,
которое оказывается «чем-то интимно-внутренним самого
предметного содержания, и притом в его целом окажется, по Аристотелю,
его «душой» или энтелехией» (160).
Притом «понимать, уразумевать» как социальные явления, так
явления естественные возможно только при «социальном единении»,
«в непосредственном единении уразумения», ибо «абсолютное
социальное одиночество, «одиночная камера», есть удел не индивида
как такого, а только сумасшедшего» (173).
В последующем своем развитии и сам Гуссерль, и развивавшие
феноменологию его ученики также пришли к пониманию важности
учета социального фактора (Макс Шелер явился одним из
основоположников «социологии познания»). Но Шпет уже до Первой
мировой войны самостоятельно пришел к этим положениям. В
дальнейшем он после 1918 г. по известной причине не имел возможность
постоянно следить за развитием феноменологических исследований
1 Энтелехия - термин философии Аристотеля, означающий цель и «душу»
предмета.
317
за рубежом. Вместе с тем творческое освоение им феноменологии
было чрезвычайно важно для собственных философских
исследований, выходивших за рамки гуссерлианской феноменологии.
В книге «Явление и смысл» на основе подчеркивания значимости
социального начала в познавательной деятельности человека
содержится «зерно», которое проросло в последующих трудах русского
философа. Речь идет о герменевтике. «Герменевтический акт» - это «акт
осмысления», а смысл раскрывается через «интерпретацию» или
«истолкование» (166). Напомним, что на греческом языке hermeneutikos -
истолковывающий. «Герменевтические акты» в «содержании ноэмы»1
усматривают только знак для внутреннего, для энтелехии», а потому
эти акты суть акты, «одушевляющие всякое положение» (164).
Единство «энтелехии и моментов герменевтического характера»
предполагает «единство предмета с его живым интимным смыслом» (165).
Герменевтическое содержание предмета «открывается анализом самого
содержания предмета» (167). Внутренний смысл, энтелехию Шпет
называет «герменейей» как единство «энтелехии с герменевтическим
характером». Пишет он и о «интуитивных герменейях» (169).
Что же такое «герменейя»? Объективна она или субъективна?
Присуща она самому предмету или же это только его осмысление,
интерпретация, акт сознания, поскольку «всякое сознание может быть
герменевтическим сознанием»(169)? В книге «Явление й смысл»
Шпет отмечает: «Перед нами возникает в высшей степени трудная
проблема об источнике герменевтических актов» (171). Здесь еще эта
проблема четко не решена, однако автор книги стремится делать
«онтологические выводы» из «чисто феноменологического описания»
(165), т. е. он рассматривает смыслы предметов, их энтелехии как
существующие объективно отношения и связи, присущие «самой
вещи по существу», а не привносимые «нами для «удобств»
познания в нашем теоретическом познании». «Онтологические
конструкции телеологических систем не есть «теория», а есть выражение
некоторого порядка сущностей, а равно и самой деятельности, поскольку
речь идет о ней в ее конкретности. «Связи», которые мы не «постро-
яем», а действительно находим, суть связи осмысленные,
телеологические» (167).
Утверждение Шпетом объективного существования духовного
смысла вещей и предметов, внутренне им присущих целей,
энтелехий («онтологические конструкции телеологических систем»,
«связи осмысленные, телеологические») не противоречит принципу
научности, поскольку эти смыслы и цели присущи явлениям «бытия
социального», «социальным предметам», ибо, говоря его словами,
1 «Ноэма» (от греческого слова noema - мысль) - термин феноменологии,
означающий предмет, который выступает как феномен, обладающий
смысловой значимостью.
318
«действительно, к сущности социального относится иметь цель, т. е.
обладать энтелехией» (172). Что касается явлений «естественного
мира», но они могут наделяться энтелехией человеческим
сознанием: «всякий предмет, - во всяком случае, конкретный, -может иметь
свою энтелехию, для этого нужно только «содействие»
соответственного акта интенционального сознания». Поэтому «мы,
следовательно, можем увидеть энтелехию там, где ее «нет», энтелехию «не
существующую». Это - не энтелехия в собственном смысле, а «как бы»
энтелехия, quasi-энтелехия». Эта quasi-энтелехия образуется, когда
мы «полагаем» явлению, вещи, нечто ей «несвойственное»
собственно, - например, песчинка пляшет, звезда предсказывает, секира
рассказывает, образуя тем самым «сказочный» мир» (см. 163).
Герменевтические же акты, интерпретация, понимание,
уразумение - это дело разума: «Бытие разума состоит в герменевтических
функциях, устанавливающих разумную мотивацию, исходящую от
энтелехии, как «носителя» предметного бытия, как «духа предмета»
(175). В этой связи Шпет подключает к своей философии столь
значимое в русской философской мысли понятие логоса. Логос, в его
понимании, есть «выражение», проникающее предмет и
составляющее «явление, «обнаружение», «воплощение» духа. Его
«объективирование», будучи разумным, мотивированным, есть организующая
направленность различных форм духа в их социальной сути: язык,
культ, искусство, техника, право» (175). Человеческая история, в том
числе история самой философской мысли, язык, искусство составят
в дальнейшем предмет герменевтических исследований Шпета.
В 1916 г. Шпет защищает в Московском университете
магистерскую диссертацию «История как проблема логики». В этом же году эта
работа выходит в свет. В ней он на обширном историко-философском
материале отстаивает принципы «положительной философии», ее
обращенность к действительности и стремление к истине на путях
разума. Возможность «истории как предмета логики» он усматривает в том,
что в самой действительности, наряду со случайным, существует
необходимое. Это «необходимое и единое» выступает как «особый мир,
идеальный, или мир идеального предмета с прочной внутренней
закономерностью и порядком. Этот мир во всем проникает мир
действительности, открывая себя в каждой его форме и в каждом явлении его»1.
Шпет решительно выступает против субъективистского
понимания действительности, в том числе исторической. Он против
включения в историческое знание оценочных суждений, основанных на
нормах этики и права, что делает науку истории не объясняющей, а
оценивающей. По его убеждению, «собственно оценке в истории, как
науке, не место. Провозглашение оценки не как неизбежного психо-
1 Шпет Г. История как предмет логики. Критические и методологические
исследования. Ч. 1. Материалы. М., 1916. С. 13-14.
319
логически недостатка, ибо история пишется людьми вкусов,
симпатий, эпох, убеждений, а как принципа - есть принципиальное же
отрицание логики исторического знания»1. В исследовании «История
как проблема логики» острой критике подвергаются воззрения
неокантианцев, особенно Риккерта, за противопоставление наук о
природе наукам о культуре, которые, по сути дела, предписывают
«ценности» историческому процессу. Притом сам Шпет не подвергает
сомнению правомерность понятия «ценность», но выступает против
его неокантианской субъективизации2.
Во введении к книге «Явление и смысл» Шпет писал в 1914 г.
еще накануне начала войны: «Падают теории, сокрушаются
мировоззрения, рухнут догматы и колеблются престолы и алтари... а все-
таки весело жить!..» ( 14). После Октябрьской революции 1917г. жить
становилось все труднее и труднее. Шпет старается «жить весело».
Под его редакцией в 1917 и 1919 гг. выходят два номера
философского ежегодника «Мысль и слово», в котором публикуются
произведения философов, в том числе философские этюды самого Шпета. В
его очерке «Мудрость или Разум» отстаиваются идеи
«положительной философии», защищающие Разум от всякого рода
псевдофилософии, к которой он относил и «позитивистические фантазии о
«синтезе» всего знания по типу какой-либо специальной науки», и
«теологические фантазии, облекающие верования и произвольно
прокламированные догматы в наукообразную форму». Шпет проводит
четкое различие между «философией как чистым знанием и научной
философией». Последняя хотя и противостоит псевдофилософии, но
сама «она принимает за норму приемы и методы какой-либо частной
области научного знания и, таким образом, провинциальными
средствами собирается решать мировые вопросы»3.
В философском этюде «Скептик и его душа» показывается, что
«скептицизм, не будучи философским учением, может играть роль
методического приема в философии», но возведенный в принцип
скептицизм создает постоянный душевный уклад «неудачничества и
связанный с неудачей, как своим источником, растерянности мысли».
Шпет называет скептицизм «изнанкой догматизма», ибо «сомнение,
как и уверенность, не знает, строго говоря, аргументации»4.
1 Шпет Г. История как предмет логики. Критические и методологические^
исследования. Ч, 1. Материалы. С. 445.
2 Подробнее о теоретико-ценностных взглядах Шпета см.: Столович Л. К
Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии. С. 417—
427.
3 Шпет Г. Г. Философские этюды. М., 1994. С. 223, 222. В 1929 г. Шпет
писал, что «философия, как основная наука, отличается от так наз. «научной
философии», которая базируется на частных науках и создает привативные
направления: физицизм, биологизм, психологизм и т. п.» (Статья «Шпет» для
энциклопедического словаря «Гранат») // Начала. 1992. № 1. С. 50).
4 Там же. С. 179, 204.
320
В июле 1918 г. Шпет завершает свой чрезвычайно интересный
труд «Герменевтика и ее проблемы», который был опубликован в 1989-
1992 гг.1 Эта его работа неожиданно вторгается в обсуждение
проблем герменевтики, которое два последних десятилетия, вплоть до
сегодняшнего дня, идет в зарубежной и отечественной философии и
гуманитарном знании. Внимание к проблемам герменевтики, как
отмечалось, Шпет проявил уже в «Явлении и смысле». И здесь он вновь
возвращается к этой проблематике в связи со своими историко-логи-
ческими исследованиями. Этот труд непосредственно примыкает к
его книге «История как предмет логики». Герменевтика как учение о
понимании важна Шпету для понимания исторической
действительности. В этой связи он обращается к истории самой герменевтики,
начиная с античности и кончая наиболее значительными работами в
этой области в начале XX столетия. Притом излагаемая Шпетом
история герменевтики обнаруживает свою логику развития и тем
самым сущность этой области знания в ее тесной связи с
основополагающими проблемами философии и других гуманитарных наук.
Раскрытие и осуществление идеи герменевтики, определение того
места, которое занимают проблемы герменевтики в современном
философском сознании, позволяют увидеть, по его словам, «как и почему
решение этих проблем должно привести к радикальному пересмотру
задач логики и к новому освещению всей положительной
философии» (1989, 231-232).
Герменевтика начинается не как самостоятельная наука, а в
качестве вспомогательной дисциплины, помогающей понимать,
истолковывать, интерпретировать произведения античных авторов, а затем и
книги Священного Писания. Но «рано или поздно герменевтика
должна обратиться к логике, т. е. увидеть в знаке не только предмет, но и
понятие» (1989, 249).
Шпет скрупулезно, шаг за шагом, прослеживает становление
герменевтики в ее связях с логикой, учением о знаках - семиотикой,
социологией и философией. Рассматривая развитие герменевтики,
анализируя ее трактовку различными исследователями, он
высказывает свое понимание герменевтических проблем. Философ
подчеркивает социальный характер предмета герменевтики, недопустимость
игнорирования того, что «вещи» выступают как
«социально-исторические» и «сама «личность» для историка - социальная вещь» (1992,
254). «Личность здесь говорит и действует как социальный фактор,
она есть социально-историческая реальность» (1992, 267). Он
отмечает «особое значение, которое должно быть уделено общности и
общению как для объективации духа, составляющего предмет наук о
1 Публикация этого труда в ежегоднике: Контекст.
Литературно-теоретические исследования. М„ 1989, 1990, 1991, 1992. При цитировании в скобках
указаны год издания «Контекста» и страница.
11-99
321
духе, так и для понимания как пути, ведущего к постижению этого
предмета, - и в самой жизни духа и в науке о нем» (1992,258). Шпет
солидаризуется с мыслью В. Дильтея - одного из основателей
современной герменевтики - о том, что «понимание теснейшим образом
связано с общностью» и что «с одной стороны, взаимное понимание
обеспечивает нас в общности (Gemeinsamkeit), существующей
между индивидами, а с другой стороны, сама общность образует
предпосылку для понимания» (1992, 259).
Подводя итог своему рассмотрению истории герменевтики, Шпет
делает вывод: «Мы убеждаемся, что вокруг принципиальных
оснований герменевтики стягивается большое число основных проблем
современной философии и методологии» (1992, 268). Для него
«понимание есть путь постижения духа». Он писал: «Мы идем от
чувственной действительности как загадки к идеальной основе ее,
чтобы разрешить эту загадку через осмысление действительности,
через усмотрение разума, в самой действительности реализованного и
воплощенного» (1992, 279).
Придя, таким образом, к гегелевскому принципу разумности
действительности, мыслитель в середине 1918 г. чувствует
обеспокоенность в связи с тем, всели действительное разумно. Да, «историческая
реальность» есть «реализация идеи». Но такое'осуществление
истории предполагает «свободное и непосредственное творчество». В ином
случае «мы просто лишили бы возможности историю осуществляться
дальше. Прекратили бы ее» (1992,280). Важно отличать знание от
мнения. Поэтому философия должна «оберегать свободу самого мнения»
(1992, 280), ибо господство одного мнения, принимаемого за знание,
превращаемого в догму, прекращает осуществление истории.
В августе 1922 г. в предисловии к «Очерку развития русской
философии» Шпет пишет о своей вере «в русский Ренессанс, в новую,
здоровую народную интеллигенцию», о том, что «наша революция в
философско-кулыурном аспекте «сознания» должна побуждать к
настроениям оптимистическим. И такой оптимизм, в моих глазах,
есть здоровый оптимизм»1. В 1921 г. философ прекращает свою
педагогическую деятельность в Московском университете, поскольку
было ликвидировано философское отделение
историко-филологического факультета. Однако он организует при университете
«Этнографический кабинет» и становится директором Института научной
философии, вошедшего в Ассоциацию научно-исследовательских
институтов при факультете общественных наук Московского
университета2. Но в 1922 г. участвовавшие в работе этого института С. Франк
1 Шпет Г. Г. Соч. М, 1989. С. 16-17.
2 См.: Коган Л. А. Непрочитанная страница (Г. Г. Шпет - директор
Института научной философии. 1921 - 1923) // Вопросы философии. 1995. № 10.
С. 95-117.
322
и И. Ильин были арестованы и высланы из страны. Имя Шпета
также было внесено в список высылаемых, но он, в принципе отвергая
для себя эмиграцию, сумел остаться на родине. В 1923 г. Шпет был
отстранен от руководства Институтом философии.
В 1923 г. он возглавил философское отделение Российской
академии художественных наук, а в 1927 г. становится вице-президентом
этой академии, преобразовавшейся в Государственную академию
художественных наук (ГАХН).
Шпет остается на своей независимой позиции, но у него еще
сохраняется возможность издавать свои произведения, несмотря на
критику и обвинения в идеализме, в классовой чуждости и т. п. И
Шпет этой возможностью пользуется, разрабатывая свою
философскую концепцию в работах по русской философии, в трудах по
эстетике, лингвистике, этнографии, психологии.
Интерес к истории русской философской мысли Шпет проявляет
еще до революции. В 1915 г. выходит его работа, посвященная П. Д.
Юркевичу: «Философское наследие П. Д. Юркевича (К сорокалетию
со дня смерти)»1. В 1921 г. он выпускает книгу «Философское
мировоззрение Герцена». В следующем году публикуется его статья
«Антропологизм Лаврова». В 1922 г. издается 1-я часть «Очерка развития
русской философии», в которой эта история прослеживается до
начала XIX в. Историю русской философии Шпет исследует, будучи
сторонником «философии как знания, а не как морали, не как
проповеди, не как мировоззрения»2. Русская же философия
рассматриваемого периода трактуется им лишь в качестве предварительного этапа
истории «философии как знания». Отсюда резкость, подчас
несправедливая, оценок ряда русских мыслителей. Вместе с тем развитие
философской мысли в России дается Шпетом в ее
социально-политическом контексте, показывается, как душила эту мысль политика
правительственных учреждений, ведавших «народным
просвещением». Он много работал над продолжением своего «Очерка развития
русской философии». Однако рукопись не была опубликована.
Определенной реализацией герменевтического проекта Шпета
является цикл его трудов: «Проблемы современной эстетики» (1922),
«Эстетические фрагменты» (три выпуска, вышедшие в 1922-1923 гг.),
«Введение в этническую психологию» (вып. 1, 1927), «Внутренняя
форма слова» (1927). Был замысел книги «Язык и смысл
(Философское введение в науку о языке)» и других работ.
Но в 1929 г. была закрыта Государственная академия
художественных наук, и ее вице-президент, фактически возглавлявший ГАХН,
оказался лишенным возможностей заниматься философией. К тому же
1 См. приложение к кн.: Юркевич П. Д. Философские произведения. М., 1990.
С. 578-638.
2 Шпет Г. Г. Соч. С. 12.
11*
323
Шпету была запрещена преподавательская деятельность. Он был
вынужден зарабатывать на жизнь переводами. Благо ученый владел
буквально всеми европейскими языками (он знал 14 языков). Философ
переводит Байрона и Диккенса, пишет обширный комментарий к его
«Посмертным запискам Пиквикского клуба», участвует в подготовке
научного издания Шекспира. Ему принадлежит блестящий перевод
«Феноменологии духа» Гегеля - сложнейшего произведения
философской литературы. Но перевод Гегеля Шпет осуществлял уже в
ссылке. 14 марта 1935 г. он был арестован по ложному обвинению «как
руководитель антисоветской группой» в ГАХНе и сослан в Енисейск, а
затем в Томск. В 1937 г. философ был осужден вторично и
расстрелян1. Лишь в 1959 г. издан был его перевод «Феноменологии духа»
Гегеля и только с конца 80-х гг. начали издавать его произведения.
В наши дни возникла своеобразная «шпетиана» - работы,
посвященные философскому наследию Шпета. На родине философа и за
рубежом проводятся Шпетовские чтения. Но сложное философское
мировоззрение Шпета еще далеко не изучено.
В 20-е гг. Шпет не писал обобщенных философских трудов, но он
развивал свою философию в процессе разработки вопросов истории
философии и эстетики, лингвистики и этнологии. Изучение работ
Шпета этого периода показывает, что он сохраняет преемственность с
тем, что писалось им ранее. Это отнюдь не означает, что каким он был,
таким он и остался. Его воззрения несомненно развиваются, но не
путем полного отвержения прошлых взглядов, а через их
преобразование в новой системе миропонимания. От просвещенного скептицизма
Шпет пришел к феноменологической философии, творческое
отношение к феноменологии привело его к осознанию важности бытия
человека как бытия социального, а также необходимости
герменевтического подхода к его пониманию. Изучение логики истории и истории
философии, в частности герменевтики, утвердило его в правильности
избранной методологии. Цикл последующих работ по эстетике,
лингвистике, этнологии своим стержнем имеет трактовку человеческого
бытия как социокультурной реальности. Свою позицию Шпет сам
определяет как «подлинный социальный реализм»2.
Моделью социокультурной реальности для него является слово.
Шпет приходит к следующему выводу: «Определение слова в его
результате, как некоторой социально-культурной вещи, а в его
процессе, как некоторого акта культурного сознания»; «слово в своей
формальной структуре есть онтологический прообраз всякой культурно-
социальной «вещи»3. Поскольку слово выступает и как словесный знак,
1 См.: Шпет в Сибири: ссылка и гибель. Томск, 1995.
2 Шпет Г. Г. Психология социального бытия. Избранные психологические
труды. М; Воронеж, 1996. С. 237.
3 Там же. С. 182.
324
притом знак всеобщий, универсальный, то по отношению к нему, как и
ко всякой культурно-социальной «вещи», необходим семиотический
подход - подход в аспекте семиотики - науки о знаках и знаковых
системах. Шпет, таким образом, предвосхитил в конце 20-х гг.
необычайный интерес к семиотике с начала 60-х гг. и по праву считается одним
из создателей отечественной семиотики. Лингвистические взгляды
Шпета оказали большое влияние на формирование современной
лингвистики. «В Ваших работах по языку я всегда находил много такого,
что мне было близко и существенно», - писал ему в 1929 г. один из
выдающихся лингвистов XX в. Р. Якобсон1.
В методологии работ Шпета 20-х гг. все большую роль играет
диалектика. В дошедшей до нас рукописи Шпета, написанной
предположительно в 1914-1916 гг., говорится: «Присущий нашему
разговору характер диалога есть существенная особенность самого
разумения и суждения. Также внутреннего мышления. Pro и contra в
мысли, разговоре, взаимном разумении и т. д. есть необходимый метод
выражения и интерпретации. Отсюда искомый нами метод
оказывается диалектикой»2. Здесь диалектика понимается в первоначальном
античном смысле как обнаружение истины в процессе спора,
диалога. В дальнейшем Шпет учитывает опыт диалектики Гегеля - учения
о закономерностях противоречивого процесса развития понятия. В
своем последнем крупном теоретическом труде «Внутренняя форма
слова» (1927 г.) Шпет дает свою трактовку диалектике понятия:
«Диалектика понятия находит в действительности свое разумное
оправдание, в точности соответствует действительности, и
руководствуется, в последнем итоге, ее собственной идеей, реализация которой есть
завершающая реализация самой действительности, как ее
собственного в целом слова, то есть культуры. Такая диалектика, - в отличие
от платоновской диалектики гипостазируемой <...> идеи, в отличие
от кантовских пустых (bloss) идей (nur eine Idee!), в отличие от
гегелевской диалектики объективируемого понятия, - есть диалектика
реальная, диалектика реализуемого культурного смысла, и может быть
названа, имея в виду приемы образования элемента культуры - сло-
. во-понятия, диалектикою экспонирующею и интерпретирующею,
или, обнимая задачи формальные и материальные [в] присущем им
конкретном единстве, диалектикою герменевтическою»3.
Примером шпетовской диалектики является трактовка им
субъекта и объекта, субъективного и объективного в культуре: «всякая
социальная вещь может рассматриваться как объективируемая
субъективность» и вместе с тем «как субъективируемая объективность»,
1 Письма Р. Якобсона к Г. Шпету //Логос. 1992. № 3. С. 257.
2 Шпет Г. Г. <Работа по философии> // Логос. 1991. № 2. С. 220.
3 Шпет Г. Г. Психология социального бытия. Избранные психологические
труды. С. 158.
325
поскольку человек в «продуктах своей деятельности» «воздвигает
между собою и природою новый мир - социально-культурный, самим
этим действием своим преобразуя и себя самого из вещи природной
также в вещь социально-культурную»1. В книге «Введение в
этническую психологию» (1927) Шпет следующим образом раскрывает
эту диалектику, обнаруживающую социальный смысл «физической
вещи»: «Труд и творчество субъектов в продуктах труда и творчества
запечатлены и выражены объективно, но в этом же объективном
отражено и субъективное»; «Физическая вещь состоит из
материала природы, сколько бы мы ни меняли ее форму. Сделаем мы из
дерева статую или виселицу, природно изменилась только форма. Но как
общественное явление, как продукт труда и творчества, как товар и
предмет потребления эта просто «чувственная вещь» становится, по
выражению Маркса, «чувственно-сверхчувственной» - она, говорит
он, «отражает людям общественный характер их собственного
труда в виде вещественных свойств самих продуктов труда».
Ссылка на Маркса в трактовке социальных свойств вещей, делающих вещь
«чувственно-сверхчувственной», была у Шпета отнюдь не
конъюнктурной. «Не нужно даже быть во что бы то ни стало, за совесть или за
страх, материалистом, чтобы признать истину и констатируемого
факта, и вытекающего из него методологического требования»2. Он
своим путем шел к осознанию бытия «социально-культурного типа».
Вспомним, что характеристику «секиры» как «социального явления»
философ дал еще в 1914 г. в «Явлении и смысле».
Такая философская позиция оказалась очень плодотворной для
разработки им ряда коренных проблем эстетики. Этим проблемам
посвящены такие его труды, как «Эстетические фрагменты» ( 1922-1923),
«Театр как искусство» (1922), «Проблемы современной эстетики»
(1923), «К вопросу о постановке научной работы в области
искусствоведения» (1926), «Внутренняя форма слова» (1927). Шпет исходит из
того, что «эстетический предмет, как предмет отрешенного бытия есть,
в первую голову, предмет культурный, «знак», «выражение»3. По его
словам, «природа» приобретает всякий смысл, в том числе и
эстетический, как и все на свете, только в контексте - в контексте
культуры»4 . Эти теоретические положения обрели актуальность в период
возрождения эстетической мысли у нас в стране в середине 50-х гг.
К философскому мировоззрению Шпета невозможно прикрепить
этикетку какого-либо одного философского направления. Сам он
считал себя сторонником «положительной философии», в ряду которой
1 Шпет Г. Г. Психология социального бытия. Избранные психологические
труды. С. 220.
2 Шпет Г. Г. Соч. С. 480.
3 Шпет Г. Г. Психология социального бытия. Избранные психологические
труды. С. 409.
4 Шпет Г. Г. Соч. С. 348.
326
был для него и Платон, и Спиноза, и Лейбниц, и Гегель, и Гуссерль,
«положительной философии», противостоящей «отрицательной
философии», представленной от античного софиста Протагором до
Канта и его последователей. Правда, и в кантовском «нет» Шпет
усматривал и «положительные возможности»1. Современная и будущая
философия, по его убеждению, должна «приступить к собиранию уже
выраженных элементов положительной философии»2.
С точки зрения Шпета, материализм полагает, что познание
«отображает природу». Идеализм же утверждает, что познание
«предписывает ей законы». В этом смысле он не считал себя ни
материалистом, ни идеалистом, а был сторонником «третьей возможности». По
его мнению, она заключается в том, что, «исходя из
непосредственного опыта», «мы должны брать этот опыт в его конкретной полноте
культурно-социального опыта, а не в абстрактной форме восприятия
«вещи»3. Притом сознание может быть не только индивидуальным,
но и коллективным, обладать «коллективной памятью». Поэтому он
и определял свою философскую позицию как «социальныйреализм».
Реализация этой позиции предполагает семиотический подход к
«социальному знаку», который также является предметом социальной
психологии. Поскольку «усмотрение смысла есть понимание,
которое так же непосредственно, как и чувственное восприятие», то для
такого понимания смысла социальных явлений необходим
герменевтический подход. Диалектической интерпретации должен подлежать
«каждый социально-культурный факт»4. Шпет сторонник
«диалектики реальной, диалектики реализуемого культурного смысла»,
которую он называл «диалектикой герменевтической». Поэтому, на наш
взгляд, было бы односторонностью представлять его философию как
только гуссерлианскую феноменологию или же герменевтику. Эта
философия синтетическая, вбирающая в себя все ему известные
«элементы положительной философии».
Философские воззрения Шпета чаще всего определяли как гус-
серлианско-феноменологические. В. В. Зеньковский прямо
причисляет Шпета к гуссерлианцам5. Вместе с тем ряд исследователей его
философии решительно возражали против такого определения6. Кон-
1 См.: Шпет Г. Г. <Работа по философии> // Логос. 1991. № 2. С. 223,229.
2 Там же. С. 229.
3 Шпет Г. Г. Шпет (Статья для энциклопедического словаря «Гранат») //
Начала (Москва). 1992. № 1. С. 50.
4 Там же. С. 51.
5 См.: Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. С. 114,
133-136.
6 См.: Митюшин А. А. Творчество Г. Шпета и проблема истолкования
действительности // Вопросы философии. 1988. № 11. С. 95. А. А. Митюшин прямо
заявляет: «Одна из многих околонаучных сплетен, которые существуют вокруг
имени Г. Г. Шпета, называет его «гуссерлианцем»» {Митюшин А. А. О том, как
«делается» история русской философии // Начала. 1992. № 1. С. 52).
327
цепцию Шпета называли и «герменевтической феноменологией», а
его философскую эволюцию характеризовали как путь от
феноменологии к герменевтике1.
Философские воззрения Шпета можно охарактеризовать как
особый вид системного плюрализма, включающего в себя все этапы его
мировоззренческой эволюции от гуссерлианской феноменологии до
«диалектической герменевтики» и «социального реализма». Эта
эволюция сама носила диалектический характер: переход от одного
этапа к другому был отрицанием, вбирающим элементы, необходимые
для последующего развития.
1 См.: Кузнецов В. Г. Герменевтическая феноменология в контексте
философских воззрений Густава Густавовича Шпета // Логос. 1991. № 2. С. 199-214;
Калиниченко В. В. Густав Шпет: от феноменологии к герменевтике // Логос. 1992.
№3. С. 37-61.
XIII
ФИЛОСОФИЯ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Как и в предшествующем XIX в., когда художественное
творчество Толстого и Достоевского полноправно входило в русскую
философию, в XX столетии литература и искусство и размышления в
связи с ними были одним из направлений развития философской
мысли, особенно этической и эстетической ее проблематики. Трудно
вообще найти такого русского философа начала XX в., который бы не
размышлял над произведениями Пушкина, Толстого, Достоевского.
О них писали специально Булгаков и Бердяев, Лосский и Шестов,
Франк и Степун. Но хотя все мыслители, о которых выше шла речь,
искусство и особенно художественную литературу делали
предметом своего философского анализа, нам хотелось бы выделить тех
писателей, которые ставили и по-своему решали философские
проблемы. Среди них своеобразное место занимает В. В. Розанов.
ФИЛОСОФИЯ В. В. РОЗАНОВА
Феномен Розанова
В русской философии вряд ли был мыслитель, о воззрениях
которого было высказано столь много противоположных суждений,
как о Розанове. Как только не квалифицировали его воззрения! Вл.
Соловьев в посвященной ему критической статье «Порфирий Го-
ловлев о свободе и вере» обзывает писателя «Иудушкой»1. Н. К.
Михайловский произведения Розанова обзывает «философической
порнографией». По его словам, писатель отличается «той
развязностью, с которой он пускает в обращение небывалые факты
собственного сочинения или делает достоверные, но ни для кого не
интересные, сообщения о подробностях житья-бытья своих знакомых; той
небрежностью, с которой он пишет «первые попавшиеся слова», не
отдавая себе труда в них вдуматься, и даже прямо и просто свой
бред печатает»2. И на самом деле, такие книги Розанова, как
«Опавшие листья» и «Уединенное» представляют собой вроде бы не свя-
1 См.: В. В. Розанов: pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова
в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 1995. Кн. 1. С. 282-292.
2 Там же. С. 349.
329
занные между собой заметки по разным случайным поводам.
Притом автор, подчеркивая это, помечает где и при каких
обстоятельствах эти заметки были написаны: «когда болел живот, в саду»,
«засыпая», «за шашками с детьми», «за нумизматикой», «за чаем
вспомнил» и т. д. и т. п.
П. Б. Струве в своей статье «Большой писатель с органическим
пороком» приводит диаметрально противоположные высказывания
Розанова и вопрошает: «В чем же правда для Розанова? - имеет
полное право спросить читатель. - Или Розанов стоит по ту сторону
правды и лжи?»1 И действительно, в произведениях Розанова можно
встретить взаимоисключающие характеристики одних и тех же явлений,
людей, революции, евреев, Христа. Число подобных отзывов о
Розанове можно было бы значительно умножить.
Но и сам Розанов не скупится на «саморазоблачения»: «Во мне
нет ясности, настоящей деятельной доброты и открытости. Душа моя
какая-то путаница, из которой я не умею вытащить ногу...»2; «Я
сам «убеждения» менял, как перчатки, и гораздо больше
интересовался калошами (крепки ли), чем убеждениями (своими и чужими)»
(II, 353); «.. .мне ровно наплевать, какие писать статьи, «направо» или
«налево». Все это ерунда и не имеет никакого* значения» (II, 562).
Более того, Розанов формулирует принцип своей беспринципности:
«Правда, я писал однодневно «черные» статьи с эсэрными. И в обеих
был убежден. Разве нет Vioo истины в революции? И Vioo истины в
черносотенстве?» (II, 495). «Господа, можно иметь все убеждения,
принадлежать ко всем партиям... притом совершенно искренне!
чистосердечно!! до истерики!!! В то же время не принадлежа и ни к
одной и тоже «до истерики»» (II, 434).
Вместе с тем, несмотря на все эти парадоксальные оценки Розанова,
немало прозвучало в высшей степени хвалебных отзывов о нем и его
творчестве. Даже его ярые противники не могли не признать у него
выдающегося литературно-художественного таланта. П. Б. Струве видел в
Розанове «большого», «крупного» писателя. И не только благодаря
форме его произведений. Откликаясь на его книгу «Сумерки просвещения»,
он писал: «Спору нет: в умственном творчестве г. Розанова есть
явственная доля изуверства. Но, с другой стороны, среди современных русских
писателей вряд ли кто другой нанес практическому обскурантизму и
изуверству столь тяжелые литературные раны, как Розанов»3. В. Шклов-
1 См.: В. В. Розанов: pro et contra. Кн. 1. С. 380.
2 Розанов В. В. Том 2. Уединенное. М: Правда, 1990. С. 331. Далее ссылки
на это издание (Розанов В. В. Том 1 и том 2. М.: Правда, 1990. «Из истории
отечественной философской мысли» . Приложение к журналу «Вопросы
философии») даются в тексте с указанием в скобках тома римской цифрой и
страницы - арабской.
3 В. В. Розанов: pro et contra. Кн. 1. С. 361.
330
ский увидел в Розанове открывателя нового жанра, создателя новой
литературной формы: «Да» и «нет» существуют одновременно на
одном листе, - факт биографический возведен в степень факта
стилистического». Он называл Розанова великим без кавычек1. Порой
Розанова считали даже гениальным писателем.
В чем же секрет феномена Розанова? Почему его имя по праву
вошло в историю русской философской мысли? Думается, что
необычайный успех Розанова связан с тем, что он явил собой
философа «здравого смысла», разумеется того периода, в котором
протекала его творческая деятельность.
Что понимается под «здравым смыслом» и его философией?
«Здравый смысл» - это осмысление жизни, не выходящее за пределы ее
обыденности, каждодневного опыта, повседневной стихийно
складывающейся практики, это то, чем руководствуются в своем быту
обычные люди, «не мудрствуя лукаво». Розанов демонстративно
провозглашает приоритет обыденной жизни:
«Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину, какой вам не
говорил ни один из пророков...
-Ну?Ну?..Хх...
- Это - что частная жизнь выше всего.
- Хе-хе-хе !.. Ха-ха-ха !.. Ха-ха !..
- Да, да! Никто этого не говорил; я - первый» (II, 237).
Этой мировоззренческой установкой обусловлен и сам стиль
произведений Розанова, который так возмущал Н. К. Михайловского.
Конечно, бытовая хаотичность «Уединенного» или «Опавших
листьев» - не простой сколок с обыденной жизни. Нарочито приземляя
свою позицию, он с этой обыденной земли рассуждает и о небесном.
Благодаря подчеркнутой тяге к единичному, индивидуальному,
субъективному, личностному началу, выраженному образным,
эмоционально-экспрессивным, богато-разнообразным, народно-гибким языком,
стиль Розанова и обретает художественный характер, и его многие
произведения становятся художественной публицистикой. Писатель
не только много пишет об искусстве, культуре и литературе, но и сам
мыслит часто художественно. Противоречивость его воззрений
соответствует диалогичности художественной литературы, в частности
и в особенности романам любимого Розановым Достоев-ского. Да
и народному сознанию, которое во многом представляет собой
здравый смысл, свойственна противоречивость, которую очень точно
охарактеризовал польский писатель СЕ. Лец: «Пословицы
противоречат одна другой. В этом, собственно, и заключается народная
мудрость». Нечто подобное о себе писал и сам Розанов: «Я сам
себя не знаю. И ни об одном предмете не имею одного мнения. Но
сумма моих мнений, однако, есть более полная истина, чем порознь
1 См.: В. В. Розанов: pro et contra. Кн. 2. С. 331.
331
«имеемое» (кем-либо мнение)» (II, 672). Хотя, разумеется, то, что
положено мудрости народа, далеко не всегда положено отдельному
ее представителю. Но в самой антиномичности, двойственности,
противоречивости Розанова можно усмотреть ориентацию на
обыденное сознание.
Сказанное выше не является апологией ни здравого смысла, ни
его выражения в философских воззрениях Розанова. Сам здравый
смысл далеко не однозначен и ценностно противоречив. Он,
несомненно, имеет преимущество перед спекулятивными фантазиями, с
высот которых теряется очертание обычной жизненной правды. Здесь
здравый смысл выступает в виде мальчика из сказки Андерсена
«Новое платье короля», который увидел короля не так, как придворные,
опутанные фантазиями обманщиков: «Да ведь он голый!» И таким
увидел короля весь народ.
Однако «здравый смысл» таит в себе определенного рода
ограниченности. Истина далеко не всегда очевидна. С точки зрения
«здравого смысла» земля стоит на месте, а «солнце всходит и заходит».
Опираясь на «здравый смысл», можно успешно ориентироваться в
обыденной жизни, но нельзя решать глобальные и научные
проблемы. С точки зрения обыденного сознания теория относительности -
нелепость. Потому-то суждения «здравого смысла» часто мечутся
между крайностями и логически противоречивы. На уровне
«здравого смысла» не построишь целостной системы воззрений. Отсюда
недоверие многих философов к «здравому смыслу». Кант отмечал, что
«здравый смысл может доказать свое превосходство только в
отношении предмета опыта: он не только благодаря опыту увеличивает
познание, но и расширяет сам опыт, однако не в спекулятивном, а
только в эмпирически-практическом отношении». Поэтому Кант и
делил людей по их познавательным способностям и уму на людей,
обладающих здравым смыслом, и «на людей науки»1.
Но и философы порой апеллировали к «здравому смыслу»,
«наивному реализму» простых людей. В XVIII в. существовала даже
философская «Шотландская школа здравого смысла». Да и в последующие
времена философы, обосновывая свои хитросплетения, использовали
предрассудки «здравого смысла». Так называемая «философия жизни»
исходила из непосредственного жизненного переживания, трактуя его
различным образом. Философствование Розанова представляет собой
русский вариант «философии жизни». Не случайно его современники
усматривали определенную общность между розановскими
воззрениями и взглядами Ницше - одного из главных представителей
«философии жизни». Розанов так писал о себе: «Моя «новая философия», уже
не «понимания», а «жизни»...» (II, 342). Но новой философии жизни у
него предшествовала философия понимания.
Кант И. Соч. Т. 6. С. 371, 370.
332
Начало литературно-философской деятельности.
Трактат о понимании
Василий Васильевич Розанов (1856-1919) родился в г. Ветлуга
Костромской губернии в семье чиновника. Получив среднее
образование в Нижегородской классической гимназии (до нее Розанов учился
в гимназиях Костромы и Симбирска), он поступил в 1878 г. на
историко-филологический факультет Московского университета, где
слушал лекции замечательного филолога Ф. И. Буслаева, выдающихся
историков, в том числе В. О. Ключевского и В. И. Герье. Но основные
свои знания Розанов получил самообразованием, которым он
усиленно занимался еще в гимназические годы. Он прошел период
увлечения Белинским, Писаревым, Добролюбовым, а также
западноевропейскими философами-позитивистами.
После окончания университета, несмотря на предложение
остаться для подготовки к написанию диссертации, Розанов в 1882 г. стал
провинциальным учителем истории и географии, проработав в
Брянске, Ельце, Белом (Смоленская губ.) 11 лет. В эти годы совершился
важный поворот в его личной жизни. В 1880 г. он женился на
бывшей возлюбленной Достоевского Аполлинарии Сусловой, которая
была старше его на 16 лет. Жизнь с прототипом страстно-роковых
героинь романов Достоевского, с женщиной трудного характера была
для Розанова мучительной. Когда она ушла от него, он долгое время
не давал ей отдельный вид на жительство. В отместку она не давала
ему развода, когда Розанов счастливо соединил свою жизнь с
Варварой Дмитриевной Бутягиной. Хотя он тайно обвенчался со своей
второй женой, дети их оставались формально «незаконными». Эта
перипетия личной жизни Розанова оказала большое влияние на его
воззрения на семью, брак, развод и вообще на центральную проблему
его творчества - проблему пола.
В годы своего учительства и несчастливой личной жизни
Розанов пишет философский трактат, резко отличающийся от
последующих его произведений. В 1886 г. в Москве выходит его книга «О
понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего
строения науки». Если, став широко известным, Розанов бравировал своей
несистемностью, пренебрежением к системному построению
мыслей, то его трактат «О понимании» подчеркнуто системен. К нему
даже были приложены три обширные таблицы «Разложение идеи
понимания, раскрывающие формы науки, вне которых не может быть
приобретено никакое познание».
Книга о понимании, написанная по всем правилам
философского трактата, была не понята. Не разошелся даже ее скромный тираж -
600 экземпляров. Над выстраданным им трактатом «все смеялись...»
(II, 677). Автор горько пережил равнодушие к его труду, в который
333
было вложено огромное количество знаний и идей. Это и вызвало
его поворот от профессиональной философии к философской
публицистике.
Но Розанов не отрекся в принципе от идей своего первого
серьезного сочинения. И та бессистемность, которой он бравировал
впоследствии, на самом деле имела скрытое глубинное системное
основание. Ведь побуждением для работы над трактатом «О понимании»
были вопросы, которые он стремился решать всю свою жизнь. «Мне
совершенно было непонятно, - отмечал писатель, - зачем все живут,
и зачем я живу, что такое и зачем вообще жизнь? - такая проклятая,
тупая и совершенно никому не нужная. Думать, думать и думать
(философствовать, «О понимании») - этого всегда хотелось...» (II, 341-342).
Как многие годы спустя писал Розанов своему биографу, «да ведь все
«О понимании» пропитано у меня «соотношением зерна и из него
вырастающего дерева», а в сущности просто роста, живого роста.
«Растет» и кончено»1. Не раз Розанов уже в популярных своих
произведениях возвращается к проблеме понимания, которое для него не
просто акт познания, а возможность усвоения познанного.
Трактат «О понимании» достоин специального рассмотрения. Его
не случайно переиздали более 100 лет спустя после первого его столь
неудачного выхода в свет2. В аннотации к этому переизданию
справедливо отмечается, что книга Розанова «О понимании» (1886) -
пример «невостребованности временем идей, ценность и смысл
которых осознается в конце XX в.» и что «именно первая
фундаментальная работа мыслителя существенно проясняет его последующие фи-
лософско-литературные произведения».
Слово «понимание» в русском языке, как и соответствующие слова
в других языках, существовало издавна. А. С. Пушкин в «Стихах,
сочиненных ночью во время бессонницы» писал, обращаясь к жизни
(«жизни мышья беготня»):
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...
Поэт задолго до различных вариантов «философии понимания»,
начавшейся активно разрабатываться в начале XX столетия,
удивительно точно определил направленность процесса «понимания» -
поиск смысла. И Розанов в 80-х гг. XIX в., когда в немецкой
философии только складывались первые концепции «понимания», о
которых провинциальный учитель очевидно не знал, поставил проблему
«понимания» в центре своего философского трактата.
Что же представляет собой, по Розанову, «понимание», чем оно
отличается от «познания» и «знания»? Понимание, согласно его кон-
1 Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. М., 1991. С. 72-73.
2Розанов В. В. О понимании. СПб., 1994. Последующие ссылки на это
издание даются в тексте с указанием в скобках номера страницы.
334
цепции, - это «деятельность разума» и цель этой деятельности,
«понимание есть жизнь разума и сущность его» (6-7, 28). «Знание и
понимание, - считает автор трактата, - различаются по природе и
происхождению» (12). Знание всецело обусловлено своим объектом. Его
основные свойства - правильность, истинность и соответствие
предмету. Главные способы его получения - «органы чувств».
«Понимание образуется при господствующем участии человеческого разума,
и внешние чувства - только орудия для него, которые направляет он
и впечатления которых он исследует, чтобы раскрыть то, что лежит
за этими впечатлениями и что вызывает их». Понимание «понимает
отдельные явления в их взаимной связи», «понимает целое, части
которого составляют эти явления» (13). Например, знание о теплоте
доставляют наши чувства, показывая нам, что явление теплоты
сопровождается расширением тел. Но само по себе такое знание не
способно объяснить это явление и его свойства. Понимание же
«раскрывает то, что лежит под внешними признаками и наружными
формами наблюдаемых явлений и что производит их; оно обнаруживает
природу этих явлений и скрытый процесс, происходящий в них» (16).
Суждением понимания и будет утверждение: «Теплота, с
увеличением которой тела расширяются, есть молекулярное движение,
происходящее в телах» (15).
Конечно, можно было возразить Розанову, что и это суждение
является знанием, результатом познания и что вообще познавательная
деятельность не ограничивается чувственными восприятиями. Но
само стремление философа разграничить познание и понимание
представляется плодотворным. Понимание - это не просто познание.
Познание, говоря современным языком, есть информация о
познаваемом мире. Понимание предполагает усвоение и освоение этой
информации человеком, ее осмысление, постижение смысла
информации. И, по Розанову, суждение о молекулярном движении как причине
расширения тел есть суждение, не констатирующее видимое
(молекулярное движение непосредственно не усматривается), а
объясняющее суждение, делающее понятным, осмысленным чувственные
восприятия. Совершенно справедливо утверждение писателя:
«Понимание не есть только знание, потому что нередко, много зная, мы
ничего еще не понимаем». Понимание, по Розанову, - «знания, такие и
так соединенные, чтобы они соответствовали всем схемам разума и
обнимали все стороны бытия» (529). Таким образом, понимание
составляет духовный процесс не получения знания (познание), а
освоение, осмысление их в соответствии со структурой человеческого
сознания, того, что Розанов называет «схемами разума».
Вслед за Шеллингом и Гегелем Розанов усматривает тождество,
совпадение между разумом и миром, ибо есть «в разуме нечто
космическое, в космосе нечто разумное», благодаря чему и «возможно
познание мира разумом, возможно понимание, возникающее о мире
335
в разуме» (51). Исходя из этого положения, автор трактата «О
понимании» большую часть книги посвящает строению космоса, поскольку
он и составляет предмет науки, так как «область науки» совпадает с
«областью понимания» (см. 22).
Мы не будем сейчас рассматривать систему мироздания, которую
Розанов создает в своем трактате. Она представляет собой в
основном историко-философский интерес, строится на научных данных
конца прошлого века, хотя в рамках ее содержится немало
интересных идей и рассуждений, в частности о добре, зле, красоте, об
искусстве. Розанов самостоятельно подходит к мысли о необходимости
того, что названо было в Германии в это же самое время
«философией ценности».
Свою философскую позицию Розанов определяет следующим
образом. Его симпатии на стороне идеалистов, к которым он относит
Платона, Аристотеля, Декарта, Спинозу, Канта. Он считает, что
развитие естествознания как будто свидетельствует в пользу
материализма, но вместе с тем «ни одна из побед материализма не выиграна»
и «ни одно из учений в идеализме не колеблется» (317). В сущности,
Розанов утверждает неразрывное единство духовного и
материального: «Словом, если есть мышление, цели, идеалы и другие
психические явления (и в этом никто не сомневается), то есть или дух и
вещество, как два самостоятельные и противоположные одно
другому начала; или есть одухотворенное вещество — одно, но с двоякой
природой, пассивное и деятельное, само из себя творящее формы,
само себя устремляющее к целям, само себя понимающее; и ничего
третьего, от этого отличного, быть не может. Таким образом, все, что
идеализм утрачивает в духе с его отрицанием, он приобретает в
материи; и все, что уничтожает материализм в духе, он находит у себя в
веществе» (317).
Считая, что дух - «нематериальное существо» (312) и что «мозг
есть не причина, порождающая психические явления, но условие,
при котором они происходят в духе» (315), Розанов признает
несомненную «связь между духом и телом; и отсутствие в природе
внешней еще где-нибудь духа, кроме человека» (312). Такому
пониманию единства телесного и духовного, характерному для ряда
русских мыслителей, начиная с Вл. Соловьева, Розанов оставался
верен и в последующем своем философском творчестве. В первом
коробе «Опавших листьев», вышедшем в 1913 г., он провозглашал:
«Тело есть начало духа. Корень духа. А дух есть запах тела» (II,
392). По словам Э. Голлербаха, для Розанова «земное - залог, а не
антитеза небесного. Небесное возникает из земного, как бабочка из
гусеницы»1. Это, конечно, колеблет розановскую апологию
идеализма.
1 Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. С. 49.
336
С точки зрения Розанова, «идея БожСства есть идея Существа
Единого, Всемогущего и Праведного» (485), а «религия истинная,
всемирная и живая есть та конечная форма, к которой естественно и
необходимо стремится религиозное сознание всего человечества и на
которой оно успокоится» (452). В 1913 г. писатель так определял свое
отношение к Богу: «С университета (1-й курс) я постоянно любил Его. С
университета я уже не оставлял Б., не забывал Его» (II, 374). Для
автора «Опавших листьев» Бог - «душа мира, а - не мировой разум» (II,
354). Во втором коробе «Опавших листьев» (1915) мы читаем:
В конце всех вещей - Бог.
И в начале вещей Бог.
Он все.
Корень всего (II, 583).
Философия пола и отношение к христианству
После неприятия общественностью трактата «О понимании»
Розанов переживает творческий кризис. Второй задуманный им
трактат «О потенциальности в мире человеческом» так и остался только в
замысле. Лишь в 1889 г. он возвратился к творческой деятельности,
пишет ряд статей, посвященных философским проблемам. В
сотрудничестве с коллегой по Елецкой гимназии - преподавателем
греческого и латинского языков - он перевел первые пять книг
«Метафизики» Аристотеля. В 1890 г. в виде брошюры и статьи был опубликован
его доклад «Место христианства в истории». Розанова сковывает
провинциальная атмосфера казенной школы, из которой он с трудом
вырывается. В 1893 г. Розанов переезжает в Петербург, но вынужден
работать чиновником в Государственном контроле.
Только с 1899 г. писатель целиком отдается литературной работе,
став сотрудником газеты «Новое время». В этот период проявляются
его консервативные социально-политические воззрения, хотя и здесь
обнаруживалась характерная для него двойственность (он не считал
для себя зазорным печататься в изданиях самых разных
политических и идейных направлений). Особое влияние на него оказали
философ и литературный критик Н. Н. Страхов и К. Н. Леонтьев. С ними
он заочно по переписке познакомился, еще живя в Ельце.
В 1899 г. выходят книги Розанова «Сумерки просвещения»,
«Религия и культура», «Литературные очерки», затем «Природа и
история» (1900), вызвавшие отклики в печати и полемику. Но
наибольший резонанс вызвала большая статья Розанова 1891 г., вышедшая
затем в виде книги несколькими изданиями, «Легенда о Великом
инквизиторе Ф. М. Достоевского». Литературное наследие Розанова
громадно и многообразно. В 1917 г. он составил план полного
собрания своих сочинений в 50 томах, выделив такие разделы, как
философия, религия, литература и художество, брак и развод, общество
337
и государство, педагогика, а также свою художественную эссеис-
тику - «Листву»1.
Мы остановимся на центральной теме
литературно-философского творчества Розанова - проблеме пола, которой он начал
интересоваться еще в 1896 г. и исследование которой представляет собой
оригинальный вклад его в развитие философской мысли России.
Сама постановка этой проблемы назрела не только в России. За
границей, особенно в Германии, выходят в конце XIX - начале XX в.
немало работ, посвященных проблеме пола. Это труды 3. Фрейда,
положившие начало психоаналитическому движению, оказавшему
большое влияние на психиатрию, психологию, философию,
культурологию, книга О. Вейнингера «Пол и характер» (1903), книга
психиатра Рихарда Крафт-Эбинга «Половая психопатия» и др.
Проблема пола и любви занимала не последнее место и в русской
философской мысли. О ней писали и Вл. Соловьев, и Н. Бердяев, и П.
Флоренский, и Л. Карсавин, и С. Франк, и Д. Мережковский, и А. Белый.
Однако Розанов внес особый вклад в философию пола. А. Ф.
Лосев с присущим ему чувством юмора называл его «половых дел
мастером»2. В этом отношении его можно сравнивать с 3. Фрейдом. Но
между Розановым и Фрейдом имеется существенное различие. Фрейд
видел в сексуальности как в «инстинкте жизни» основное начало
человека и всего общества (впоследствии он усматривал в качестве
такого начала также «инстинкт смерти»). По Фрейду, с одной стороны,
существует конфликт, который может привести к психическим
заболеваниям, между бессознательными влечениями человека, в
основном сексуального характера, и культурой, сдерживающей стихию
бессознательного, с другой - сексуальная энергия сублимируется,
преобразуется в различные виды человеческой деятельности - в
государственно-общественные образования, в мораль, в искусство, в
религию. Фрейд рассматривал религию как особую форму
коллективного невроза.
Но если для Фрейда пол - основание самой религии, то для
Розанова взаимоотношение пола и религии диаметрально
противоположно. В книге «Люди лунного света. Метафизика христианства» (1911)
он заявлял, что «пол и действительная истинная религия имеют не
только корневую близость, но и корневое тождество, единство, сли-
янность или, точнее, целость одного и того же существа...» (II, 52).
Размножение имеет, по его убеждению, «метафизический и
божественный смысл» (II, 60). Он считает, что «родовой акт есть столько
же материальный (семя, яйцо), сколько и духовный (семя с душой в
себе, яйцо с душой в себе, с талантом, гением!)» (II, 97). И для него
«пол - весь организм, и душа, и тело» (II, 152).
1 См.: Розанов В. В. Религия. Философия. Культура. М., 1992. С. 368.
2 Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 462.
338
Так Розанов развивает и конкретизирует мысль, высказанную им
еще в трактате «О понимании», о том, что существует «несомненная
связь между духом и телом». Идею связи Бога с полом,
божественности пола Розанов пропагандирует во множестве своих статей и книг,
связывая их, с одной стороны, с житейскими вопросами семьи, а с
другой - с метафизическими и религиозными проблемами.
Мировоззрение Розанова религиозно. Но какая это религиозность?
В своей статье «Место христианства в истории» (1890), написанной
на основе речи, произнесенной им в 1888 г. на публичном акте в
Елецкой гимназии, посвященном 900-летию крещения Руси, он
утверждал идею «христианской цивилизации как завершения истории, как
ее окончания» (I, 43).
Однако по мере того как им овладевала мистика пола, его
отношение к христианству стало меняться. Изменению отношения к
официальной церкви способствовало и то, что его второй брак и
рожденные в нем дети не признавались «законными». В статье «Русская
Церковь» (1905) он писал, что «все радостное, земное, всякое
просветление через религию собственно самой жизни и ее условий враждебно
основным тенденциям Православия» (I, 339), что «поневоле
христианство занимает только уголок в современной цивилизации» (I, 347).
Отлучение Льва Толстого от церкви Розанов определил как
«кощунство, а не серьезный факт; и менее всего - факт «церковной жизни»
(I, 621). Произведения самого Розанова порой подвергались
цензурным запретам. В Синод поступали доносы на Розанова с
требованием отлучить его от церкви.
Книга Розанова «Темный лик. Метафизика христианства» (1911)
пронизана антихристианским мировосприятием. «Мир естественный,
натуральный, - пишет он, - несомненно не Христов, ибо если бы он
был уже изначала и по существу своему «Христов», то незачем было
Христу и приходить!» (I, 392). В докладе «О сладчайшем Иисусе и
горьких плодах мира», прочитанном на заседании
Религиозно-философского общества в 1907 г., Розанов готов был признать, что «Иисус
действительно прекраснее всего в мире и даже самого мира».
Поэтому-то «во Христе прогорк мир, и именно от Его сладости»; «Таким
образом мир стал тонуть около Иисуса. Наступил всеобщий потоп
прежних идеальных вещей. Этот потоп и называется христианством»
(I, 569), и «лишь не глядя на Иисуса внимательно - можно предаться
искусствам, семье, политике, науке» (1,570). И вот заключение:
«Очевидно, что Иисус - это «Тот Свет», поборающий «этот», наш, и уже
поборовший» (I, 571). Розанов на стороне «этого Света».
Но «этот Свет» для религиозного мыслителя также
божественен. Подтверждение божественности мира Розанов в эти годы ищет
в Ветхом Завете с его призывом: «Плодитесь! Множитесь!», в то
время как, по его словам, «любовь» же евангельская, это особая
бесполая любовь» (II, 132). Писатель любой аскетизм рассматривает
339
как «обращения к Богу людей, так или иначе аномальных в поле, в
большей или в меньшей степени аномальных, не могущих вести
нормальную семейную жизнь, не могущих нормально супружество-
вать» (II, 126).
Вместе с тем Розанов был непоследователен в отрицании
христианства. Во втором коробе «Опавших листьев» (1915) в страхе
перед смертью он пишет покаянные слова:
.. .главное в испуге моем - неверие в Христа.
И мука моя оттого, что я далек от Христа.
Кто меня приведет ко Христу?
Церковь вела, но я не шел (II, 590).
В «Апокалипсисе нашего времени» Розанова, написанном в
1917-1918 гг., после того, как он с семьей, спасаясь от революционных
потрясений, переехал в Сергиев Посад, опять явственно зазвучали
антихристианские мотивы: «Ты один прекрасен. Господи Иисусе! И
похулил мир красотою Своею. А ведь мир-то - Божий». В христианском
отвержении мира Розанов усматривает корень «нигилизма»: «Мир без
начинки»... Пирог без начинки. «Вкусно ли?» Но действительно:
Христом вывалена вся начинка из пирога, и то называется «христианством»1.
Но Розанов не был бы Розановым, если бы он перед самой
смертью опять не перешел бы в свою противоположность. По словам
П. А. Флоренского, Розанов незадолго до своей смерти «твердил много
раз, что он ни от чего не отрекается, что размножение есть
величайшая тайна жизни; но принял как-то и Христа». А за несколько часов
до кончины он прошептал: «Как я был глуп, как я не понимал
Христа»2. Он скончался 23 января (по старому стилю) 1919 г. как
православный христианин во время церковного обряда соборования и был
похоронен у церкви Черниговской Божьей Матери в Сергиевом
Посаде рядом с могилой К. Н. Леонтьева.
В своей «Истории русской философии» Н. О. Лосский отмечал:
«Розанов обладал большим литературным дарованием и был в
высшей степени оригинальным мыслителем и наблюдателем жизни. Его
произведения не носили систематического или даже
последовательного характера, но в них часто обнаруживались искры гения»3. В
последние годы проявился повышенный интерес к Розанову, издаются
многие его сочинения, публикуется та часть его наследия, которая не
увидела свет при жизни мыслителя, ему посвящается множество
статей и докладов. В 1994-2003 гг. было опубликовано 15 томов
Собрания сочинений Розанова (под ред. А. Н. Николюкина; издание
продолжается). Без сложной фигуры Розанова невозможно себе
представить интеллектуальную жизнь России начала XX столетия.
1 См.: Розанов В. В. Уединенное. М, 1990. С. 414, 415.
2 В. В. Розанов: pro et contra. Кн. 1. С. 257.
3 Лосский Н. О. История русской философии. С. 435.
340
ФИЛОСОФИЯ
РУССКОГО СИМВОЛИЗМА
Среди литературно-художественных направлений конца XIX -
начала XX столетия в России одним из самых влиятельных стал
символизм. Он возник во Франции в 80-х гг. XIX в., наследуя
некоторые черты романтизма, а затем распространился на другие
европейские страны. В России символизм обрел своеобразные
особенности и получил философское обоснование. В русской поэзии
его проявление было в творчестве Николая Минского, Дмитрия
Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Валерия Брюсова,
Константина Бальмонта, Вячеслава Иванова, Федора Соллогуба,
Александра Блока, Андрея Белого, Максимилиана Волошина и других
литераторов. Он оказал влияние также на театр, музыку, живопись,
скульптуру, архитектуру. Символизм представлял собой
определенное миропонимание и оказал значительное влияние на
развитие русской философской мысли начала XX в. Его предтечей
считают Вл. Соловьева. Проблема символа в искусстве и его
символистичности рассматривалась в трудах Бердяева и Флоренского,
хотя сама эта проблема, несомненно, шире, чем собственно
символизм как особое художественное направление. Сторонники же
этого направления - поэты-символисты не только стремились
воплотить в своем художественном творчестве символистическое
мировоззрение, но и теоретически разработать его философские
принципы. Ниже мы рассмотрим наиболее интересные в
философском плане концепции трех выдающихся теоретиков и
художественных практиков русского символизма - Дмитрия
Мережковского, Вячеслава Иванова и Андрея Белого.
Символизм и «новое религиозное сознание»
Д. С. Мережковского
Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865-1941) - одна из
ключевых фигур русского Серебряного века - был многосторонним
литератором. Он писал стихи, романы, литературно-критические
статьи, эссе на общественно-политические и религиозные темы, делал
переводы с древних и новых языков. Полное собрание его сочинений
к 1914 г. насчитывало 24 тома, но и до конца своих дней он писал
непрерывно. Обращение к нему при рассмотрении истории русской
философской мысли обусловлено тем, что он был одним из первых
теоретиков символизма, притом таким теоретиком, который в
символизме как эстетико-художественном явлении выявлял связь с
существенными проблемами философии и религии.
341
Начал он писать стихи с 13 лет. Когда ему было 15 лет, отец
повез его к Достоевскому. Автор «Братьев Карамазовых», послушав
юного стихотворца, сказал без обиняков:
- Слабо, плохо, никуда не годится. Чтоб хорошо писать -
страдать надо, страдать!
- Нет, пусть уж лучше не пишет, только не страдает! - возразил
отец.
Получив образование в гимназии и на историко-филологическом
факультете Петербургского университета, где он изучал философию,
Мережковский целиком и полностью посвятил себя литературной
деятельности.
Как и многие другие русские мыслители, он прошел этап
увлечения позитивизмом. Его увлекали и народнические идеи. Но с начала
90-х гг. Мережковский «заболел» символизмом. «Символы» - так
назывался сборник его стихов. В 1893 г. появляется его большая
работа «О причинах упадка и о новых течениях современной
литературы», ставшая одним из первых в России манифестов символизма.
Что Мережковский понимает под символом и соответственно под
символизмом? «Символы, - по его убеждению, - должны
естественно и невольно выливаться из глубины действительности. Если же
автор искусственно их придумывает, чтобы выразить какую-нибудь
идею, они превращаются в мертвые аллегории, которые ничего,
кроме отвращения, как все мертвое, не могут возбудить»1. Для
Мережковского такого рода символы присущи всякому подлинному
искусству. Он их усматривает в барельефе античного Парфенона, где за
реалистическим изображением стройных юношей, ведущих молодых
коней, чувствуется «веяние идеальной человеческой культуры,
символ свободного эллинского духа. Человек укрощает зверя. Это не
только сцена из будничной жизни, но вместе с тем - целое откровение
божественной стороны нашего духа».
Подобный символизм свойственен, по Мережковскому, всем
великим созданиям греческого искусства и вообще подлинному
искусству, в котором «под реалистической подробностью скрывается
художественный символ»2, будь то трагедия Эврипида, драма Ибсена,
роман Флобера, характеры-символы Сервантеса, Шекспира, Гёте.
Главные элементы «нового искусства» Мережковский определяет
следующим образом: «мистическое содержание, символы и
расширение художественной впечатлительности»3. И эти «три основы
идеальной поэзии» теоретик символизма обнаруживает у великих
русских писателей - Толстого, Тургенева, Достоевского, Гончарова. Го-
1 Мережковский Д. С. Эстетика и критика: В 2 т. Харьков, 1994. Т. 1.
С. 173-174.
2 Там же. С. 173.
3 Там же. С. 174.
342
воря о современной ему литературе, Мережковский
символистическое мировосприятие находит в прозе Гаршина и Чехова, в стихах
Фофанова и Минского, Надсона и Апухтина, особенно у Вл. Соловьева.
Символизм Мережковский стремился осуществить в своем
художественном творчестве и в критической деятельности, которую он
рассматривал тоже как деятельность художественную. Его стихи,
романы, статьи - это манифестация символизма. В стихотворении
1895 г. Мережковский так сформулировал канон своего символизма:
Дух Божий веет над землею.
Недвижен пруд, безмолвен лес;
Учись великому покою
У вечереющих небес.
Не надо звуков: тише, тише,
У молчаливых облаков
Учись тому теперь, что выше
Земных желаний, дел и слов1.
Андрей Белый - один из ведущих поэтов и писателей нового
поколения символистов, а также выдающийся теоретик этого
художественного направления - несколькими штрихами раскрывает
символистическую природу одного из романов Мережковского: «И вот
«Петр и Алексей», где вся сила в эпохе, в своеобразной жизни
мелочей: эти мелочи возведет он в иное, живое: под внешней личиной
быта оживит несказанный трепет грядущего - все для него символы.
Но и его лицо тоже символ»2.
Что касается отношения Мережковского к тем поэтам и
писателям, которые принадлежали к собственно символистическому
направлению русской литературы первого десятилетия XX в., то оно было
не однозначным и сложным. Мережковский не мог не
приветствовать волну символизма в русской поэзии, но он подчас ревниво
относился к поэтам-символистам, выговаривая им за те или другие, по
его мнению, нарушения принципов символизма, будь то Брюсов,
которого он считал «истинным поэтом», или Бальмонт. В свою очередь
символисты новой волны, уважительно относясь к Мережковскому,
нередко бунтовали против него, видели в нем заложника
теоретических постулатов. Тот же Андрей Белый следующим образом
характеризовал его творческий метод: «Образы прибирает он к схемам. От
этого живые лица, проходящие в его романах, превращаются в кукол,
разукрашенных археологической ветошью. Становятся
эмблемами мертвых схем. Но идеи Мережковского - только вера, только
символы, обсаженные аллеей красочных образов». Правда, при этом
1 Мережковский Д. С, Гиппиус 3. Н. Стихотворения. Таллинн, 1992. С. 33.
2 Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. М., 1994. Т. 2.
С. 369.
343
А. Белый отмечает, что «и схоластика, и археология» романов
Мережковского обладает своеобразной прелестью1.
Мережковский, как и его жена - поэтесса Зинаида Гиппиус, и
своим творчеством, и теоретическими воззрениями оказал большое
влияние на формирование символизма Александра Блока и сам ценил
его поэтический талант. Однако их взаимоотношения были
непростыми: периоды дружеской близости сменялись отчуждением, вплоть
до полного разрыва отношений в 1918-1919 гг. в связи с восприятием
революционных процессов в России2. Как подлинно большой поэт Блок
не укладывался в «прокрустово ложе» символистической эстетики и
философии, строго очерченной «мэтром». Символизм Блока носил
несколько иной характер, чем трактовка символизма Мережковским
и Гиппиус, которых он называл «петербургскими мистиками». В
письме к Блоку от 24 ноября 1910 г. сам Мережковский следующим
образом определил их различие в понимании символизма: «Все наше
глубочайшее, вовсе не личное и даже не общественное, а религиозное
разногласие заключается в том, что для Вас наивысшее - Символ, а
для меня есть высшее, чем Символ, - Воплощение, и я принесу Ему
в жертву все символы»3. Воплощение - это высшее религиозное
начало христианства, Христос.
Для Мережковского символизм в искусстве - это обращение
художника через символ к мистическо-религиозному основанию мира,
ибо, по его словам, «без веры в божественное начало мира нет на
земле красоты, нет справедливости, нет поэзии, нет свободы!»4.
Концепция символизма Мережковского, таким образом, тесно связана с
его философско-религиозными воззрениями, которые он определял
как «новое религиозное сознание».
«Новое религиозное сознание» было религиозно-философским
движением, возникшим в начале XX столетия. Провозглашенное
Мережковским, это движение охватило ту часть русской
интеллигенции, которая в обновленном христианстве видела решение всех ду-
1 См.: Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. Т. 1.
С. 332, 333.
2 Александр Блок приветствовал «музыку революции», стремясь осмыслить
ее религиозно (в поэме «Двенадцать» впереди красногвардейцев незримо идет
Христос). Мережковский и Гиппиус, бежавшие в 1918 г. за границу, увидели в
революции установление «Царства Антихриста». Ослепляющая ненависть к
советской власти привела Мережковского, в отличие от большинства других
эмигрантов-интеллигентов, к антипатриотической, прогерманской позиции во время
нападения Германии на Советский Союз, притом что к самому Гитлеру он
относился отрицательно.
3 Цит. по публикации в статье 3. Г. Минц «А. Блок в полемике с
Мережковским» (Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский
сборник IV. Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 535.
Тарту, 1981. С. 185).
4 Мережковский Д. С. Эстетика и критика. Т. 1. С. 224.
344
ховных и общественных вопросов России, вставших перед ней в годы
зреющей революции 1905-1907 гг. В 1901 г. Мережковский и
Гиппиус организовали в Петербурге «Религиозно-философские собрания»
как место встречи религиозных мыслителей, таких, как его
организаторы - В. В. Розанов, Д. В. Философов, H. М. Минский и др., с
церковными деятелями, чувствовавшими потребность в обновлении
церковной жизни (среди них был и епископ Сергий, ставший
впоследствии патриархом). В 1903 г. общество было запрещено Синодом, но
в 1907 г. возникло «Религиозно-философское общество»,
просуществовавшее до 1917 г., в деятельности которого активно участвовал
и Мережковский. Сторонником религиозного обновления был и
Бердяев, издавший в 1907 г. книгу «Новое религиозное сознание и
общественность».
Стремление Мережковского и его единомышленников
реформировать христианство (его даже называли «русским Лютером»)
вызвано было осознанием кризиса, в котором оказалось, по его мнению,
«историческое христианство», в особенности в России. В статье
«Теперь или никогда» (1906) Мережковский выступает против
зависимости церкви от государства, против тезиса о единстве православия
и самодержавия. В статье, посвященной 25-летию со дня-смерти
Достоевского, «православие, самодержавие, народность» были
определены им как «не три твердыни, а три провала в неизбежных путях
России к будущему»1. А в статье «Грядущий Хам» он утверждает, что
«религия современной Европы - не христианство, а мещанство».
Результатом этого является положение, при котором «не только человек
человеку, но и народ народу - волк». А это чревато страшными
последствиями. За 8 лет до мировой войны прозвучало
осуществившееся пророчество русского мыслителя: «Не сегодня, так завтра они
бросятся друг на друга и начнется небывалая бойня»2.
Как всего этого избежать? Как остановить «грядущего Хама»?
Мережковский убежден в том, что это возможно сделать только
благодаря религиозной революции: «В революции правда человеческая
становится Божеской; в религии правда Божеская становится
человеческой; обе эти правды должны соединиться в новую, совершенную
Богочеловеческую истину»3. Мережковский многократно повторяет
мысль о необходимости Третьего Завета, который дополнит как
Ветхий Завет - религию Бога в мире, так и Новый Завет - религию Бога
в человеке. Третий Завет призван стать религией Бога в
человечестве, ставшем Богочеловечеством. Третий Завет - Третье Царство
Духа. По богословскому рассуждению Мережковского, это Царство
1 Мережковский Д. С. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М.,
1991. С. 310.
2 Мережковский Д. С. Больная Россия. Л., 1991. С. 29-30.
3 Мережковский Д. С. В тихом омуте. С. 93.
345
Духа, «Грядущий и Вечный Завет» - «последнее соединение двух
Ипостасей, Отчей и Сыновней, в Третьей Ипостаси Духа Св.,
последнее соединение Царства Отца, Ветхого Завета, с Царством Сына,
Новым Заветом». В другом изложении соотношение трех Заветов
предстает следующим образом: «В первом царстве Отца, Ветхом
Завете, открылась власть Божия, как истина, во втором царстве Сына,
Новом Завете, открывается истина как любовь; в третьем и
последнем царстве Духа, Грядущем Завете, откроется любовь как свобода».
В своих исторических романах Мережковский стремился показать,
как становилась идея Третьего Завета.
Для Мережковского в этом процессе всемирной истории должна
раскрыться «правда не только о духе, но и о плоти, правда не только
о небе, но и земле, не только о нисхождении небесного к земному, но
и о восхождении земного к небесному, не только о загробной, но и о
здешней жизни, не только о личном, но и о всеобщем,
всечеловеческом спасении...»1. Религиозная философия Мережковского была,
таким образом, повернута и к земной, здешней жизни. Он
сочувственно относился к стремлению Розанова реабилитировать плоть,
усматривая ее святость. Но он не мог принять его антихристианство,
абсолютизацию Ветхого Завета. Мережковский всю свою творческую
жизнь стремился к синтезу телесного и духовного, веры и разума, к
преодолению их односторонностей. Его идеал - примирение через
православие в единой соборной вселенской Церкви Святой Софии,
Премудрости Божией, веры католичества и разума протестантизма2.
Христианство для него не исключало красоты эллинской
античности, телесность художественного мира Льва Толстого - духовности
творений Достоевского, ценности русской истории и культуры -
богатства культуры западноевропейской. Его «Вечными спутниками»
были Сервантес и Достоевский, Гёте и Пушкин, Флобер и Тургенев,
Ибсен и Гончаров.
Дионисийский символизм Вячеслава Иванова
С «новым религиозным сознанием» связана и другая концепция
символизма, представленная в поэзии и философии одного из
властителей дум и душ Серебряного века - Вячеслава Ивановича Иванова
(1866-1949). Талантливый поэт, оригинальный мыслитель, ученый -
классический филолог Вяч. Иванов разрабатывал теорию
символизма с несколько иными акцентами и тенденциями, чем Мережковский,
которого Вяч. Иванов, при всей общности их религиозных
устремлений, упрекал в «общественном утилитаризме»3, в том, что у него про-
1 Мережковский Д. С. Больная Россия. С. 66, 27, 62.
2 См.: Флоровский Георгий. Пути русского богословия. Париж, 1983. С. 458.
3 См.: Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 197, 198. В
дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте указанием в скобках страницы.
346
исходит замена «понятия «религиозная общественность» (т. е.
общественность, основанная на религиозной идее) иным понятием -
понятием общественности мирской, социологической...» (323).
Воззрения и деятельность Вяч. Иванова были несравненно более далеки от
политической злобы дня, чем у его собрата по символизму
Мережковского1.
Занимаясь в Берлинском университете античной историей и
филологией, Вяч. Иванов в начале 1890-х гг. знакомится с
произведениями Ницше. Особое впечатление на него произвело произведение
немецкого философа и поэта «Рождение трагедии из духа музыки», в
котором утверждается двойственная природа искусства,
сочетающего в себе противоположные начала, олицетворяемые греческими
богами Аполлоном и Дионисом. Если аполлоническое начало
предполагает полное чувство меры, самоограничение, свободу от диких
порывов, мудрый покой, то дионисийское начало - опьяняющий
восторг, радостно охватывающий человека, вызванный воссоединением
природы и человека, в котором «субъективное исчезает до полного
самозабвения» и в нем «звучит нечто сверхприродное: он чувствует
себя богом»2.
Любовь Вяч. Иванова к Лидии Дмитриевне Зиновьевой-Аннибал
вызвала в нем «дионисийскую грозу» и пробудила поэта-философа.
В 1896 г. молодой поэт знакомится с Вл. Соловьевым, и знаменитый
философ-поэт через два года рекомендовал к печати первую книгу
стихов Вяч. Иванова, собирался даже написать о нем статью, оценил
символический смысл ее наименования: «Кормчие звезды». Вся
последующая творческая жизнь Вяч. Иванова представляла собой
чередование символических поэтических образов в стихах и
философско-религиозных обоснований принципов символизма в
многочисленных статьях и эссе. В напечатанном в первом сборнике стихотво-
1 Вяч. Иванов до революции долгое время обучался за границей.
Возвратившись в Россию в 1905 г., он создал центр общения художественной
интеллигенции на своей петербургской квартире (т. н. «башне»), всецело посвятив себя
поэзии, философии и филологии, не занимаясь политической деятельностью.
Переехав в Москву в 1913 г. , Вяч. Иванов оказался в близкой ему среде поэтов,
религиозных философов, музыкантов, деятелей искусства. После октября 1917 г.
он работал в театральном отделе Наркомпроса и «Отделе памятников
искусства». С 1920 по 1924 г. Вяч. Иванов являлся профессором классической
филологии Бакинского университета, где он защитил свою докторскую диссертацию,
посвященную древнегреческому богу Дионису. В 1924 г., выступив в Москве в
Большом театре на торжественном заседании, посвященном Пушкину, вместе с
наркомом Луначарским, бывавшим у него на «башне», Вяч. Иванов вполне
легально выехал в Италию, где прожил до конца своих дней, поддерживая добрые
отношения с М. Горьким и сохранив до его смерти в 1936 г. советское
гражданство. В 1926 г. он принял католичество и с 1936 г. был профессором русского
языка и литературы Папского Восточного института.
2Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 61, 62.
347
рении «Русский ум» Вяч. Иванов достаточно точно определил и
характер своего творчества:
Как чрез туманы взор орлиный
Обслеживает прах долины,
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле1.
Для Вяч. Иванова, как и для Мережковского, символизм -
«принцип всякого истинного искусства» (197). Однако вместе с тем
утверждается существование «новейшей символистической школы» (186),
зачинателем которой в русской поэзии Вяч. Иванов считает Тютчева.
Особенностью этой школы он считает сознательное выражение
художником созвучия «того, что искусство изображает как
действительность внешнюю (realia), и того, что оно провидит во внешнем, как
внутреннюю и высшую действительность (realiora)». В случаях же
«бессознательного» творчества, когда художник сознательно не
осмысливает связь изображаемой реальности (realia) со сверхреальной
(realiora), проявляется «особенная интуиция и энергия слова,
каковое непосредственно ощущается поэтом как тайнопись
неизреченного» и таким образом служит «выходом в запредельное» (186).
Саму же «новейшую символистическую школу» Вяч. Иванов
делит на два направления: реалистический символизм и
идеалистический символизм. Для первого из них -реалистического символизма -
всякая вещь есть уже символ, тем более глубокий, «чем прямее и
ближе причастие этой вещи реальности абсолютной». В
реалистическом символизме символ соединяет отдельные сознания людей в
«соборное единение», которое «достигается общим мистическим
лицезрением единой для всех, объективной сущности» (155). По словам
Вяч. Иванова, «реалистический символизм, в своем последнем
содержании, предполагает ясновидение вещей в поэте и постулирует
такое же ясновидение в слушателе». Пафос реалистического
символизма формулируется в лозунге: «a realibus ad reliora» - «от
реального к реальнейшему» (156). Следует помнить, что термин «реализм»
применительно к одному из направлений символизма Вяч. Иванов
употребляет не в обычном значении, когда говорят о реалистическом
искусстве, а в философско-средневековом смысле, когда «реализмом»,
в противоположность «номинализму», называли философские
воззрения, утверждавшие реальное существование общих понятий,
универсалий, подобно платоновским идеям.
С другой стороны, «для идеалистического символизма - символ,
будучи только средством художественной изобразительности, не
более чем сигнал, долженствующий установить общение разделенных
индивидуальных сознаний». Здесь «символ есть условный знак, ко-
1 Иванов Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. СПб., 1995. Кн. 1. С. 94.
348
торым обмениваются заговорщики индивидуализма, тайный знак,
выражающий солидарность их личного самосознания, их
субъективного самоопределения» (155). В статье «Символизм», написанной Вяч.
Ивановым для итальянского словаря в 1936 г., идеалистический
символизм он прямо называет «реализмом субъективным»1.
«Идеалистический символизм, - по Вяч. Иванову, - посвятил себя изучению и
изображению субъективных душевных переживаний, не заботясь о
том, что лежит в сфере объективной и трансцендентной для
индивидуального переживания» (156). Примером такого рода
субъективного символизма в русской поэзии для Вяч. Иванова является лирика
Иннокентия Анненского, названная им «символизмом
ассоциативным» (170). Для Анненского, как и французского поэта Маллармэ,
по образному определению Вяч. Иванова, «символ - тюремное
оконце, чрез которое глядит узник, чтобы, утомившись приглядевшимся
и ограниченным пейзажем, снова обратить взор в черную
безвыходность своего каземата» (172).
Такой тип символизма противопоставляется «реалистическому
символизму», для которого «явление - символ, поскольку оно выход
и дверь в тайну». Этот символизм отправляется «от конкретного и
видимого» в «темные пределы сущностей» (172). Поэтому Вяч.
Иванов связывает предпочитаемый им символизм с мифом:
«Реалистический символизм раскроет в символе миф. Только из символа,
понятого как реальность, может вырасти, как колос из зерна, миф. Ибо
миф - объективная правда о сущем». Более того: «Если возможен
символизм реалистический, возможен и миф» (157). Между мифом и
символом усматривается внутренняя связь: «миф есть динамический
вид (modus) символа - символ, созерцаемый как движение и
двигатель, как действие и действенная сила» (184). И в более поздней
формулировке: «Миф и есть символ, понятый как действие», миф -
высшее проявление символа2.
И таким мифом, оплодотворяющим символическое искусство,
Вяч. Иванов считает прежде всего дионисийскиймиф, эллинский миф
о Дионисе. Этим мифом он занимался и как классический филолог.
Еще в 1903 г. Вяч. Иванов читает в Париже курс лекций о религии
Диониса, а в 1904-1905 гг. выходит его работа «Эллинская религия
страдающего бога». В 1923 г. в Баку издается его книга «Дионис и
прадионисийство». Дионису он посвящает несколько стихотворений,
вошедших в первый его сборник стихов. В его статьях и эссе о
символизме Дионису и дионисийству уделяется первостепенное внимание.
Вяч. Иванов не таит, что толчок его дионисийству дал Ницше,
который «возвратил миру Диониса», «возвратил жизни ее трагичес-
1 См.: Иванов Вяч. Лик и личины России. Эстетика и литературная критика.
М, 1995. С. 151.
2 См. там же. С. 148.
349
кого бога» (27). В статье «Ницше и Дионис» (1904) поэт-философ
показывает также и то, чем отличается его поклонение Дионису от
ницшеанского его понимания. «Трагическая вина Ницше, - утверждает
русский дионисиец, - в том, что он не уверовал в бога, которого сам
открыл миру. Он понял дионисийское начало как эстетическое и жизнь
- как «эстетический феномен», тогда как для Вяч. Иванова
дионисийское начало, «прежде всего, - начало религиозное» (34).
Вяч. Иванов подчеркивает сходство Диониса и Христа, тем
самым эллинизируя само христианство. «Религиозная идея Дионисова
оргиазма» - «Бога страдающего извечная жертва и восстание
вечное». Дионис - античный бог, «столь родственный нашему [т. е.
христианскому] религиозному миропониманию». Ведь он - «Сын божий»,
преемник отчего престола, растерзанный Титанами в колыбели
времен; «он же в лике «героя», - богочеловек, во времени родившийся
от земной матери» (28). В книге «Дионис и прадионисийство»
подчеркивалось, что «Дионис есть божественное бытие в его
многообразных и мимолетных проявлениях, душа явления вообще, бог
исчезающий и снова возникающий»1. Отмечается и такая особенность
Диониса: «Все божества олицетворяют закон; все они -
законодатели, и закономерны сами. Один Дионис провозглашал и осуществлял
свободу»2. По словам автора книги, «трагедия была глубочайшим
всенародным выражением дионисийской идеи и вместе последним
всенародным словом эллинства». Когда же эллинство сменилось
эллинизмом - заключительной фазой древнегреческой истории и
культуры, - «дионисийская идея ищет себе выражения в эллинистических
мистериях, проникнутых одною идеей - страдающего, умирающего
и воскресающего бога. Так эллинский мир создает почву для
христианства»3.
Исповедуемое Вяч. Ивановым христианство, эллинизированное
через миф о Дионисе, представляет собой вариант «нового
религиозного сознания», тесно связанного с символизмом и художественным
творчеством. По его словам, «самое допущение, что символизм, как
ценность положительная не с эстетической только, но и с мистико-
реалистической точки зрения, - существует, - заставляет нас
признать элементы нового религиозного сознания в современном
творчестве» (169). Подчеркивая близость дионисийства христианству
(«Дионис для эллинов - ипостась Сына, поскольку он - «бог
страдающий»), Вяч. Иванов в то же время утверждает, что «дионисийский
восторг не координируется с вероисповеданием»: «Ясно, что план,
или разрез, дионисийства проходит через всякую истинную
религиозную жизнь и всякое истинное религиозное творчество, независимо
от форм их завершительной кристаллизации» (168).
1 Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923. С. 179.
2 Там же. С. 40.
3 Там же. С. 285.
350
Рассматривая феномен дионисийства вне определенного
религиозно-догматического истолкования, Вяч. Иванов трактует его
предельно широко: «Дионис есть божественное всеединство Сущего...» (28).
В таком понимании мифический образ Диониса в философско-мис-
тических воззрениях Вяч. Иванова играет такую же роль, как София
в философско-религиозном учении Вл. Соловьева и его
последователей. И как для Вл. Соловьева, для Вяч. Иванова подлинное искусство
- это не просто художественная деятельность, а «теургическая
попытка религиозного творчества» (156). По его убеждению,
противоречие «между ценностями искусства и ценностями жизни»
«снимается только в религиозном синтезе» (226). Правда, с точки зрения
православного богослова, «религия здесь превращалась в искусство,
почти что в игру»1.
Для дионисийского символизма, исповедуемого Вяч. Ивановым,
большое значение имеет такое понятие русской философской
мысли, как соборность. Не принимая индивидуализм, который, как он
считает, находится в глубоком кризисе, Вяч. Иванов провозглашает
соборность, присущую великому искусству: «Мы <...> стоим под
знаком соборности» (25). Он называет «внутренним каноном» «закон
устроения личности по нормам вселенским, закон оживления,
укрепления и осознания связей и соотношений между личным бытием и
бытием соборным, всемирным и божественным» (208-209).
Соборность, в трактовке Вяч. Иванова, - «тайна мистического
коллектива», а не «откровение Единого Христа, в Котором все одно,
будучи каждый с Ним», - как полагает Г. Флоровский2.
Симпатизировавший Вяч. Иванову марксист А. В. Луначарский даже выражал
сдержанное одобрение «расплывчатому коллективизму так
называемой «соборности» Вячеслава Иванова»3. Для самого же Вяч.
Иванова соборность означала мистически-космическое единство
человечества: «В глубине глубин, нам не досягаемой, все мы - одна система
вселенского кровообращения, питающая единое всечеловеческое
сердце» (133).
Последнее высказывание поэта-философа сделано в
чрезвычайно интересном тексте - «Переписке из двух углов» (1921), вскоре
переведенном на основные европейские языки и получившем
большую известность. В 1920 г. Вяч. Иванов жил в одной комнате с М.О.
Гершензоном в так называемом «санатории», где «переутомленные
работники умственного труда» получали продовольственный паек.
Между ними и завязалась философская переписка из разных углов
комнаты. Михаил Осипович Гершензон (1869-1925) - инициатор
знаменитых «Вех» и автор наиболее острой статьи этого сборника, за-
1 Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 458.
2 Там же.
3Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. М, 1965. Т. 5. С. 390.
351
нимался преимущественно историей русской культуры первой
половины XIX в. Он написал книгу о Чаадаеве, работы о Пушкине,
Грибоедове, декабристах, славянофилах, издал произведения И.
Киреевского и Чаадаева. Его деятельность по исследованию и публикациям
русской духовной жизни, а также язык, которым написаны его статьи
и книги, получали самую высокую оценку в философско-литератур-
ных кругах дореволюционной России. Гершензон, потрясенный
бедствиями «страшной войны 1914—1918 годов», был настроен весьма
пессимистически. Эта война показала, по его словам, «что в
культурном, образованном человеке нашего времени созрел хищный и
кровожадный зверь» (130). Культура и ценности деградируют: «Мир
вовлекает цветущую ценность в свои житейские битвы. В мире их
полнота никому не нужна» (124); культура «разлагается изнутри - это мы
ясно видим, и она свисает лохмотьями с изможденного духа» (121).
Вяч. Иванов не идеализирует существующее положение «нашей
расчлененной и разбросанной культурной эпохи, бессильной родить
соборное сознание, эпохи, осуществляющей предпоследние выводы
исконного греха «индивидуации», которыми отравлена вся
историческая жизнь человечества - вся культура» (132-133). Пусть
«соборность вспыхивает на мгновенье и гаснет опятьчи не может
многоголовая гидра раздираемой внутренним междоусобием культуры
обратиться в согласный культ» (133). Однако Вяч. Иванов убежден в том,
что ценности «дивно живучи и живы, потому что живою своею
кровью напитало их, как вы говорите, человечество, огненную душу свою
в них вдохнуло» (127). И хотя «должно ценности быть распятой, и
положенной во гроб, и заваленной камнем, и запечатанной печатями:
сердце увидит ее воскресшей в третий день» (129). Даже в разрухе
1920 г. Вяч. Иванов силится увидеть предзнаменование грядущего
воскрешения ценностей культуры: «То, что именуется сознательным
пролетариатом, стоит всецело на почве культурной
преемственности. Борьба ведется не за отмену ценностей прежней культуры, но за
предносящееся умам, как некая верховная задача, оживление в них
всего, что имеет значение объективное и вневременное, - в
ближайшие же дни за их переоценку» (129). Определенным
подтверждением этого для Вяч. Иванова была возможность преподавать в
Бакинском университете с 1920 по 1924 г. античную литературу и
философию, вести занятия по немецкому романтизму и Ницше, читать курс
о Байроне, вести семинарий по Пушкину и Достоевскому, читать
лекции и доклады о современной русской поэзии, в частности об
Александре Блоке, защищать докторскую диссертацию и издать ее в
1923 г. в Баку в качестве книги «Дионис и прадионисийство»1.
1 См.: Котрелев Н. В. Вяч. Иванов - профессор Бакинского университета //
Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 209.
Труды по русской и славянской филологии. XI. Литературоведение. Тарту, 1968.
С. 326-339.
352
Вскоре дионисийский символист приходит к выводу, что
возникшая в России общественно-политическая и духовно-культурная
ситуация несовместима с его миропониманием и душевным настроем.
Еще в 1919 г. он писал: «Несмотря на всю самодовольную
уверенность механицизма в обеспеченной ему диктатуре над
миросозерцанием ближайших поколений, я не верю в состоятельность обезбо-
женного и обездушенного мира». Материалистическое и
социалистическое мировоззрение было несовместимо с мировосприятием Вяч.
Иванова, которое он называл «мифологическим» (106). «Мне
кажется, что никто из моих современников так не живет чувством мифа,
как я», - говорил он в Баку своему ученику, выражая убеждение, что
«ныне наступают сроки новой мифологической эпохи. И тогда, когда
она настанет, меня впервые должным образом оценят»1. В 1924 г. при
содействии наркома Луначарского Вяч. Иванов выехал в Италию, где
продолжал творческую деятельность и скончался в 1949 г.
Мифологическое мировосприятие давало Вяч. Иванову
отрешаться от «злобы дня», злобы и в прямом смысле. Поэтому его поэзия на
редкость оптимистична. «По-моему, поэт и есть тот, кто
славословит», - сказал он бакинскому студенту, признаваясь в своем
«классицизме»2. Между эстетико-философской концепцией дионисийского
символизма Вяч. Иванова и его поэтическим творчеством
существует, конечно, прямая связь. Исследователи не случайно отмечали, что
теоретические построения Вяч. Иванова являются своеобразными
комментариями к его стихам. Вместе с тем его поэзия - а он был
действительно талантливым поэтом и подлинным мастером стиха -
выходит за пределы даже им самим провозглашенного
художественного направления. Не случайно он оказал столь большое влияние на
поэзию Серебряного века, притом не только на символистов. Его
поэтические уроки были плодотворны и для Осипа Мандельштама, и
для Велимира Хлебникова, и для Михаила Кузмина. Кто только не
был на петербургской «башне» Вяч. Иванова! Там читала свои стихи
молодая Анна Ахматова и бывал весь цвет русской философии.
Теория символизма Андрея Белого
Андрей Белый - поэт и писатель символистического
направления, философ русского символизма, одна из центральных фигур
Серебряного века - псевдоним Бориса Николаевича Бугаева ( 1880-1934).
Он родился в семье Николая Васильевича Бугаева (1837-1903),
профессора математики и философа, оригинально преломившего
учение Лейбница о монадах. Андрей Белый писал в своих мемуарах:
1 Альтман М. С. Из бесед с поэтом Вячеславом Ивановичем Ивановым (Баку,
1921 г.)//Там же. С. 321.
2 Там же. С. 307.
12-99
353
«Отец - первый мне встретившийся идеологический спутник,
поведший меня по годам: к рубежу двух столетий»1. Воспитанный в семье,
многими нитями связанной с выдающимися учеными и писателями
России, в том числе со Львом Толстым, будущий поэт и мыслитель
сочетал в себе тягу как к естественно-научным, так и гуманитарным
началам. И образование свое он получил как на естественном
отделении физико-математического факультета Московского
университета, так и на филологическом факультете со специализацией по
философии. Эти два, казалось бы, противоположные начала
объединялись еще в гимназические годы увлечением философской
литературой, а затем и собственным художественным творчеством и эстети-
ко-литературными исследованиями.
Андрей Белый - автор множества литературно-художественных
произведений: стихотворений и поэм, написанных поэтической
прозой «Симфоний» (1902-1908), повестей «Серебряный голубь» (1909)
и «Котик Летаев» (1917-1918), романов «Петербург» (1913—1914) и
«Крещенный китаец» (1927), эпопеи «Москва» (1926-1932),
мемуаров «На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух
революций» (конец 20 - начало 30-х гг.). Художественное творчество
Андрея Белого - сознательное следование принципам символизма. Эти
принципы он разрабатывает во многих философских и литературно-
критических статьях и эссе, собранных в основном в книгах
«Символизм» (1910), «Луг зеленый» (1910), «Арабески» (1911), а также в
изданиях последующих лет, и особенно в неопубликованном при
жизни автора исповедальном эссе «Почему я стал символистом и
почему не перестал им быть на всех фазах моего идейного и
художественного развития» (1928).
Символизм для Андрея Белого - это не только и даже не столько
определенная направленность художественного творчества. Это
особое миропонимание и образ самой жизнедеятельности. «На вопросы
о том, как я стал символистом и когда стал, по совести отвечаю:
никак не стал, никогда не становился, но всегда был символистом (до
встречи со словами «символ», «символист»)»2, - читаем мы в начале
его исповеди символиста. Андрей Белый обнаруживает то, что в
последствии он осознал как символизм, в своих играх четырехлетнего
ребенка, «прячущего» свой испуг в багровый цвет крышки коробки и
создающего тем самым третий, по существу символический, мир. И
этот мир, отличен и от предмета - картонной крышки, - и от
состояния испуга, которое тем самым преодолевается.
Исследователи творчества Андрея Белого постоянно обращают
внимание на многообразные философские источники его символиз-
1 Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 65.
2 Белый Андрей. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 418. В
дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках на страницу.
354
ма. Среди них и Шопенгауэр, и Ницше, и Кант, и неокантианство, и
«антропософия» Рудольфа Штейнера, и конечно же философия
Владимира Соловьева, которого Боря Бугаев знал с детства, будучи
своим человеком в доме брата великого философа - Михаила
Сергеевича Соловьева. «Вот почему, - вспоминал Андрей Белый встречи с Вл.
Соловьевым, - я не мог не научиться любить в Соловьеве не
мыслителя только, но и дерзновенного новатора жизни, укрывшего свой
новый лик под забралом ничего не говорящей метафизики»1.
Такое разнообразие источников философских воззрений Андрея
Белого и попеременное увлечение то одним мыслителем, то другим
вызывало к этим воззрениям настороженное, а то и отрицательное
отношение со стороны профессиональных русских философов, хотя
его художественное творчество и сама личность оценивались ими как
исключительно интересное явление. Андрей Белый вспоминал, как
Густав Шпет говорил ему: «Твое дело - стихи; здесь ты на месте; и
здесь ты - философ; нет, мало тебе быть поэтом; тебе подавай еще
фрачную пару от Риккерта.. .»2 По словам Бердяева, Андрей Белый -
«индивидуальность необыкновенно яркая, оригинальная и
творческая», «человек больших дарований. Временами в нем чувствовались
проблески гениальности»; «А. Белый самая характерная фигура
эпохи, более характерная, чем В. Иванов, который был связан с
культурными эпохами прошлого». И в то же время: «У А. Белого знания были
сомнительные. Он все постоянно путал»3.
Сам Андрей Белый сетовал, что так и не смог создать труд,
целостно воссоздающий систему символистического миропонимания.
Свою программную в этом плане, но спешно написанную в 1910 г.
статью «Эмблематика смысла» он сам рассматривал как «черновик
предисловия к будущей системе» (449). Вместе с тем, на наш взгляд,
есть достаточное основание усматривать у Андрея Белого
оригинальную философскую концепцию символизма. Разумеется, он
вполне отдавал себе отчет в том, что о символе было немало написано и
до него. Однако, по его мнению, даже такие мыслители, как Гегель,
Фихте и Шеллинг, антропософ Р. Штейнер, выводили символизм из
своей метафизики, т. е. из своей общефилософской системы.
Задача же, по убеждению А. Белого, заключается в том, чтобы сам
символизм трактовать как метафизику, как «символизм...
метафизики» (439).
В построении же своего «символизма метафизики» Андрей
Белый использует самый разнообразный философский материал, но
отказывается сводить свое символистическое миропонимание к лю-
1 Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 2. С. 353.
2 Белый Андрей. Между двух революций. С. 276.
3 Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). С. 151,
194, 195.
12*
355
бому из элементов этого материала: «Поэтому не прикрепляйте меня
вы, прикрепители, объяснители, популяризаторы, - всецело: к
Соловьеву, или к Ницше, или к кому бы то ни было; я не отказываюсь от
них в том, в чем я учился у них; но сливать «мой символизм» с какой-
нибудь метафизикой — верх глупости; <...> самое мое
мировоззрение - проблема контрапункта, диалектики энного рода
методических оправ в круге целого; каждая, как метод плоскости, как проекции
пространства на плоскости, условно защищаема мною; и отрицаема
там, где она стабилизуема в догмат; догмата у меня не было, ибо я
символист, а не догматик, то есть учившийся у музыки ритмическим
жестам пляски мысли, а не склеротическому пыхтению под
бременем несения скрижалей». И далее: «Я - ни шопенгауэрианец, ни со-
ловьист, ни ницшеанец, менее всего «ист» и «анец», пока не усвоен
стержень моего мировоззрительного ритма, бойтесь полемики со
мной; всегда могу укусить со стороны вполне неожиданной; и,
укусив, доказать по пунктам (гносеологически), что я поступил не
вопреки мировоззрению своему, а на основании его данных, ибо
мировоззрение мое для вас весьма туманная штука: оно ни монизм, ни
дуализм, ни плюрализм, а плюро-дуо-монизм, то есть
пространственная фигура, имеющая одну вершину, многие основания и явно
совмещающая в проблеме имманентности антиномию дуализма, но -
преодоленного в конкретный монизм»1.
Самоопределение философии символизма Андрея Белого как плю-
ро-дуо-монизма содержится и в других его текстах. В труде «Почему
я стал символистом» мы читаем: «теория символизма есть плюр-дуо-
монизм, где сфера плюрализма - сфера научных эмблем и
символизации; сфера дуализма есть сфера самой теории символизма,
рассматривающей проблему дуальности познаний и творчеств; сфера же
конкретного монизма, переживаемого целостно, - сфера Символа» (438,
см. также 460, 471, 491).
Для наглядности плюро-дуо-монизм Андрея Белого можно
представить в виде треугольника («пространственная фигура, имеющая одну
вершину, многие основания»). Основанием этого треугольника
является плюрализм, т.е., с одной стороны, многообразие жизненных
явлений, рассматриваемых Андреем Белым как множество символизации,
а с другой стороны, различные философские концепции, включенные
в теорию символизма («сфера научных эмблем и символизации»).
Между основанием и вершиной треугольника «располагается» дуализм.
Этому дуализму соответствует деление мироздания на
реально-материальную его часть и духовную, а также проблема «дуальности
познаний и творчеств». Вершиной же треугольника, венчающей и
объединяющей плюрализм и дуализм, выступает «конкретный монизм»,
воплощенный высшим началом - Символом с большой буквы.
1 Белый Андрей. На рубеже двух столетий. С. 196-197.
356
Называя свою философию плюро-дуо-монизмом, Андрей
Белый стремится к такой теории символизма, которая была бы
плюралистической, сочетающей в себе концепции различных
мыслителей и в то же время была бы монистической, т. е. единой,
свободной от эклектического смешения разнородных элементов,
соединяющей эти элементы в целостную систему. Следовательно,
философию символизма Андрея Белого можно рассматривать как
одно из проявлений системного плюрализма. Субъективное
стремление к системному плюрализму еще, конечно, не означает
действительной системности плюралистической позиции того или иного
мыслителя, но безусловно выражает потребность в такой
системности. У Андрея Белого не все сплавилось воедино, но несомненно
была потребность в гармоническом синтезе различных элементов
единой системы, в том, что он называет «конкретным монизмом»,
«пл юро-ду о-монизмом».
«Сфера символа» составляет первую из трех сфер символизма.
Вторая - «символизм как теория». Третья - «символизация как
прием» (435), «сфера овладения стилями творчеств в искусстве» (436).
Свою триаду А. Белый определяет как «сферы - Символа -
Символизма - Символизации» (437).
Что же он понимает под Символом? «Символ - окно в вечность»
(249). В трактовке А. Белого «сфера Символа - подоплека самой эсо-
терики1 символизма: учения о центре... всех соединений; и этот центр
для меня Христос; эсотерика символизма в раскрытии по-новому
Христа и Софии в человеке» (435). Притом «под «Софией», -
отмечал А. Белый, - я разумею не традиционно-гностическое
представление, а символический знак культуры быта новой жизни,
ритмизируемой Символом, или Логосом» (440). Он не разотмечает религиозный
характер своего символизма: «Это новотворимое энергией символизма
- религия, не имеющая ничего общего с миром традиционных
религий» (430). По характеристике Н. О. Лосского, «в целом философия
Андрея Белого есть разновидность пантеизма»2. Вместе с тем
символизм в целом не сводится А. Белым только к религии: «Символизм,
стоявший передо мною как стройная теория знания и творчества, был
символом веры и знания новой эпохи, обнимающей, может быть,
столетия будущего» (456).
Для Мережковского символ не самодостаточен, он лишь - знак
высшего, с точки зрения «нового религиозного сознания»,
религиозного начала - Ипостаси Святого Духа как последнего соединения
Царства Отца с Царством Сына (вспомним, как он писал Блоку в 1910 г. :
«Для Вас наивысшее - Символ, а для меня есть высшее, чем Символ, -
1 Эзотерический (от греч. esoterikos - внутренний) - тайный, скрытый,
предназначенный только для посвященных.
2 Лосский Н. О. История русской философии. С. 427.
357
Воплощение, и я принесу Ему в жертву все символы»). Вяч. Иванов
усматривает в символе миф, который и есть «динамический вид
(modus) символа», высшее проявление символа. Благодаря этому
«символ есть условный знак, которым обмениваются заговорщики
индивидуализма, тайный знак, выражающий солидарность их личного
самосознания, субъективного самоопределения». И как мы видели,
таким мифом, составляющим содержание символа, Вяч. Иванов
считает прежде всего дионисийский миф, эллинский миф о Дионисе. Для
А. Белого, как и для Блока в интерпретации Мережковского,
«наивысшее - Символ». В своей программной статье «Эмблематика
смысла. Предпосылки к теории символизма» он провозглашал: «Символ
есть предел всем познавательным, творческим и этическим нормам:
Символ есть в этом смысле предел пределов» (63). Однако «символ
раскрывается в символизация*; там он и творится, и познается»
(75).
Философским же новаторством А. Белого является формула:
Символ есть ценность. По концепции философа символизма, «Символ
есть единое» и «Единое есть ценность». Поэтому «понятие о
ценности содержится в понятии о символическом единстве» (71). Символ
есть ценность, как и «ценность есть символ», и «символ в этом
смысле есть последнее предельное понятие»(36). Из* такого утверждения
проистекают для философа символизма, считающего
Символ-ценность «эмблемой эмблем»1 смысла (35, 51), далеко идущие выводы:
«Если смысл определить ценностью, то падают твердыни
теоретической философии; мировоззрение становится творчеством;
философские системы приобретают символический смысл; в
познавательных терминах символизируют они представление о ценности и смысле
жизни» (36). В статье «Проблемы культуры» (1909) понимание
ценности связывается А. Белым с важнейшими вопросами культуры:
«вопрос о ценности вообще в современной теоретической мысли
опирается на вопросы культуры, как на вопросы, связанные с
уяснением практических задач бытия». Не случайно поэтому «некоторые
умственные течения выдвигают с особенной резкостью вопрос о
ценности» (18).
Сам А. Белый признавался, что его «новый подход к теории
символизма» связан с разработкой теории культуры «на
гносеологической базе Фрейбургской школы» (438). Речь идет о школе
неокантианской философии, представленной Генрихом Риккертом, в которой
центральное значение имело понятие «ценность». Вместе с тем А.
Белый отлично осведомлен об историко-философских корнях
проблемы ценности. Он видит «проблему ценностей у Ницше», обнаружив-
1 Эмблема, по определению А. Белого, - это «монограмма чистого
воображения, соединяющего образы творчества в систему; посредством эмблемы идеи
разума становятся мыслимыми в чувственных образах» (88).
358
шего «обломки рухнувших ценностей», как и проблему ценностей у
Маркса, Авенариуса, Риккерта, а до них еще у кантианца Фриза, Гер-
барта, Лотце ( 190,191 ). «В настоящее время, - отмечает русский поэт-
философ, - проблема ценности - боевая проблема»1.
Для А. Белого проблематика теории ценности важна для
построения теории символизма, рассматриваемого как определенный тип
культуры. Символизм, по его убеждению, выступая за творчество
более совершенных форм жизни, переносит «вопрос о смысле
искусства к более коренному вопросу, а именно - к вопросу о ценности
культуры» (22).
Что же А. Белый понимает под ценностью? Он исходит в
трактовке ценности из неокантианства Фрейбургской (или Баденской)
школы неокантианства. В статье «На перевале» (1907) он писал о
том, что «вопрос о ценностях в свете школы Риккерта и Ласка
становится центральным вопросом символизма и
теоретико-познавательных выводов». Через разработку этого вопроса и ставится задача -
обосновать независимую эстетику как точную науку2.
Однако А. Белый, сохраняя понятие «ценность», стремится
преодолеть его неокантианскую интерпретацию. С точки зрения
Риккерта, ценность представляет собою особый мир, противостоящий
бытию, действительности, жизни: «Ценности не представляют
собой действительности, ни физической, ни психической. Сущность
их состоит в их значимости, а не в их фактичности»3. Уже в статье
«Феникс» (1906) А. Белый, трактуя еще ценность в духе
кантианства в качестве «нормы долженствования», в то же время осознает
ценности как возвращение от нормы к бытию: «Это - единство
слова и плоти. Это - воскрешающая ценность. Это - соединение,
символ. Мы возвращаемся к бытию». И далее: «Наша жизнь
становится ценностью. Мы, как участники жизни ценной, обитаем
вне пределов старой жизни и смерти»4. Следовательно, «Ценное -
есть» (70).
Риккерт выводил ценность из познавательного процесса. Для него
ценность вытекает из теории познания, гносеологии. А. Белый же
стремится сокрушить «самодержавие гносеологии во Фрейбургской
школе» (88). По его концепции, «никакое гносеологическое понятие
не определит ценность никак», ибо «ценность неопределима
познанием; наоборот: она-то познание и определяет» (35). Поэтому
ценность не есть гносеологическое понятие. Оно не может стать и
психологическим понятием. Оно - понятие творческой деятельности.
1 Белый Андрей. Символизм. Книга статей. М., 1910. С. 461.
2 См.: Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 2. С. 243.
3 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М, 1998. С. 94.
4 Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма Т. 2. С. 144.
359
Отвечая на вопрос: «А в чем ценность», автор «Эмблематики
смысла» утверждает: «Она не в субъекте, и она не в объекте; она - в
жизненном творчестве» (38). «Ценность символизируется живой,
индивидуальной деятельностью» (43). По его словам, «понимая все роды
творчества как символы ценностей, мы вскрываем источник
автономного творчества» (63). Поэтому «теория символизма утверждает все
виды ценностей» (67). Для А. Белого, таким образом, «теория
ценностей есть теория творчества. Это и есть теория символизма»
(161). Задача теории символизма состоит в том, чтобы, «во-первых,
указать теоретическое место, из которого следует строить систему,
во-вторых, вывести из основного понятия о ценности ряд
методических ценностей» (58).
Теория ценности, по концепции А. Белого, есть теория
символизма также потому, что сама «ценность - символ» (38). По его
рассуждению, «понятие о ценности не может стать понятием
психологическим в обычно принятом смысле; но оно и не понятие
гносеологическое; оно как бы эмблема эмблемы». Отсюда следует: «класс
понятий о ценном, не будучи ни гносеологическим, ни психологическим,
относится к классу символических понятий» (35).
Утверждая, что «ценность есть символ», а «символ есть всегда
символ чего-нибудь» (36), А. Белый в своей'трактовке ценности
осуществляет то, что впоследствии получило название
семиотический подход, т.е. исследование ценности как особого вида
знака. Исходя из задачи разработки теории символизма,
теоретико-ценностная концепция А. Белого открывала новые возможности теории
ценности, аксиологии, предвосхищала символическо-семиотичес-
кое понимание ценностей, распространившееся в Западной Европе
в 20-30-е гг.1 и на родине философа символизма в 60-70-е гг. А.
Белый, обосновывая жизненную реальность ценности, ее творческую
природу, семиотический («символистический», «эмблематический»)
характер, внес значительный вклад в развитие теории ценности и
был одним из самых значительных аксиологов, теоретиков
ценности в России.
А. Белый, как и другие теоретики символизма, рассматривает
символизм двояко, ибо «граница несомненно лежит между символизмом,
как школой, и символизмом, как миросозерцанием»2. С одной
стороны, «всякое искусство по существу символично» (246), «всякое
искусство символично - настоящее, прошлое, будущее» (81).
Усмотрение символизма в искусстве как таковом, несомненно, имело свое
основание. Искусству действительно присущ семиотический (или
1 См. раздел «Логико-семантический и семиотический анализ ценности» в
кн.: СтоловичЛ. К Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической
аксиологии. С. 191-213.
2 Белый Андрей. О символизме // Труды и дни. 1912. № 2. С. 2.
360
знаковый) аспект, который можно называть также и
символическим, ибо оно в предметном результате художественного творчества
выражает его духовное содержание. Поэтому А. Белый
неоднократно подчеркивал, что подлинный символизм предполагает единство
формы и содержания: «Символическое единство есть единство
формы и содержания» (51).
С другой же стороны, существует «школа символистов» как
особое течение в художественной культуре конца XIX - начала XX
столетия, к которой принадлежал и сам А. Белый как поэт и писатель.
Он усматривает связь между символической «школой» и
предшествующей художественной культурой: «Правда, черты реализма,
классицизма и романтизма мы встречаем у иных представителей
символизма; правда и то, что лучшие произведения современных художников
верны лучшим традициям старого доброго времени». Но вместе с
тем, по теории символизма А. Белого, необходимо усматривать «грань,
отделяющую современное искусство от прошлого». Новое
символическое искусство - «символ кризиса миросозерцании; этот кризис
глубок; и мы смутно предчувствуем, что стоим на границе двух
больших периодов развития человечества» (255). Поэтому содержание
символов этого искусства - «или окончательная победа над смертью
возрожденного человечества, или беспросветная тьма, разложение,
смерть» (256). Как литературно-художественный критик А. Белый
обращается к творчеству Мережковского, Ф. Соллогуба, Брюсова,
Бальмонта. Но в многообразии символического искусства А. Белому
ближе всего поэзия Александра Блока и Вячеслава Иванова,
которым он посвятил ряд своих статей и эссе1.
А. Белый серьезное внимание уделяет формальной стороне
поэтического творчества, ибо сам «Символ есть единство формы и
содержания» (75) и «школьный лозунг» символизма» - лозунг
«единства формы и содержания» (446). По его словам, «символизм дает
методологическое обоснование не только школам искусства, но и
формам искусства» (123). Уже в книгу «Символизм» А. Белый
включил статьи «Лирика и эксперимент» и «Магия слов», написанные в
1909 г., а также статьи, специально посвященные стиховедению:
«Опыт характеристики русского четырехстопного ямба»,
«Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре»
и опыт описания стихотворения Пушкина «Не пой, красавица, при
мне...». В 1929 г. выходит исследование А. Белого «Ритм как
диалектика и «Медный всадник», а в 1934 г., в год его кончины, капитальное
исследование «Мастерство Гоголя». В этих трудах в полной мере
проявилась склонность А. Белого к математическому
естествознанию. Сам автор рассматривал их как разработку экспериментальной
эстетики - эстетики, стремящейся стать «точной наукой», в отличие
1 См.: Белый Андрей. Поэзия слова. Пб., 1922.
361
от «метафизической эстетики»1. А. Белый, как пушкинский Сальери,
«поверил алгеброй гармонию». Его труды оказали влияние на
«формальную школу» в литературоведении, возникшую в России в
середине 10-х гг. и успешно развивавшуюся в 20-е гг., и на развитие
структуральных исследований в Советском Союзе в 60-х гг. Следует
отметить, что эстетико-экспериментальные работы А. Белого по
изучению формы художественных произведений не были
формалистическими по своим установкам: «Я разумел диалектическое понятие фор-
мо-содержания»2.
Философия символизма А. Белого сложилась в основном к 1912 г.
В последующее время его концепция символизма лишь уточнялась
и осуществлялась в художественном творчестве. Да и сам
символизм уже уступил свое место последующим художественным
течениям. Трагедия А. Белого была в том, что крупнейший теоретик и
практик символизма пережил символизм как некогда основное
художественное направление начала века. Символист пережил
символизм. Он почувствовал кризис символизма еще в 1907-1908 гг.:
«Символизм» как глубокое, критическое и интимное течение
рушился для меня в «символистах»; «символисты» проваливали
символизм» (445). Притом, будучи крупным художником, он сам не
всегда «вмещался» в собственные теоретические рамки. Бердяев
отмечал, что А. Белый «принадлежит к поколению символистов и
всегда исповедовал символическую веру, но в художественной прозе
А. Белого можно открыть образцы почти гениального
футуристического творчества»3.
В 1912 г. А. Белый знакомится с основателем антропософии -
мистического учения о познании бога через общение человека с
космосом - Рудольфом Штейнером и в следующем году становится
членом антропософского общества, участвует в строительстве храма-
театра «Гётеанума» в Дорнахе (Швейцария). В 1916 г. он
возвращается в Россию, не прекращая своего участия в антропософском
движении, которое захватило также поэта-символиста Максимилиана
Волошина, актера и режиссера Михаила Чехова, художника Василия
Кандинского и других деятелей культуры. В 1917 г. выходит книга
1 См.: Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 1. С. 179.
2 Белый Андрей. Ритм как диалектика и «Медный всадник». М., 1929. С. 29.
3 Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. С. 410.
В статье Вяч. Вс. Иванова «О воздействии «эстетического эксперимента»
Андрея Белого (В. Хлебников, В. Маяковский, М. Цветаева, Б. Пастернак)»
также утверждается, что «Андрей Белый, по его собственным словам, всегда
остававшийся символистом, вместе с тем в очень большой степени в лучших своих
произведениях переходил стилистические границы символизма и шел гораздо
дальше в том направлении «эстетического эксперимента» (его термин), который
ближе всего был именно к футуризму» {Белый Андрей. Проблемы творчества.
Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 338).
362
А. Белого «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении
современности»1. Однако в исповедальном эссе «Почему я стал символистом и
почему не перестал им быть на всех фазах моего идейного и
художественного развития», написанном в 1928 г., А. Белый утверждает:
«Я - символист: даже в антропософии» (471). Позиция же
«антропософского символизма» (492) А. Белого не добавляет ничего
существенного к его прежнему теоретико-ценностному, аксиологическому
символизму и, по нашему мнению, особого философского интереса не
представляет.
В 1919 г. в Петрограде возникла Вольная философская
ассоциация, так называемая Вольфила (правительство не разрешило ей
называться академией, как предполагали ее организаторы),
объединявшая цвет русской интеллигенции. В ее работе принимали участие
А. Блок, открывший ее докладом «Крушение гуманизма», публицист,
литературный критик и историк русской общественной мысли
Иванов-Разумник (Р. В. Иванов), поэт, художественный критик и эстетик
Константин Эрберг (К. А. Сюннерберг), художник К. С. Петров-Вод-
кин, режиссер В. Э. Мейерхольд, теоретик формальной школы В. Б.
Шкловский и многие другие. В деятельности Вольфилы принимали
участие также такие русские философы, как Л. П. Карсавин, Э. Л.
Радлов, С. А. Аскольдов, Н. О. Лосский, А. А. Мейер, А. 3. Штейн-
берг. В московском отделении Вольфилы участвовали Н. А. Бердяев,
М. О. Гершензон, Ф. А. Степун, С. Л. Франк, Б. П. Вышеславцев и
ряд других выдающихся деятелей русской культуры. Андрей Белый
стал не только президентом Вольфилы, но и ее душой. Он выступал с
докладами, участвовал во многих дискуссиях по историческим,
культурным и философским проблемам, читал курс лекций «Культура
мысли» и «Антропософия как путь самосознания», вел отдел
философии символизма, проводил семинары по символизму и «культуре
духа».
С 1921 А. Белый живет в Берлине, ощущая свое одиночество в
эмигрантской среде, а в 1923 г. возвращается на родину, где чувство
одиночества усугубилось невозможностью войти в идеологическую
атмосферу советской действительности. В 1934 г., на 54-м году
жизни, он умирает. Осип Мандельштам пишет стихотворения,
посвященные его памяти. Там были такие строки:
Меж тобой и страной ледяная рождается связь -
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь2.
Эта «ледяная... связь» постепенно начала таять, начиная с
«оттепели» 60-х гт. В 1966 г. вышел том стихотворений и поэм Андрея
1 См.: Белый Андрей. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении
современности. Воспоминания о Штейнере. М., 2000.
2 Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М, 1990. Т. 1. С. 207.
363
Белого в серии «Библиотека поэта». Окончательно же она растаяла в
конце 80-х гг., в период возрождения живого интереса к русской
культуре Серебряного века. В декабре 1980 г. был проведен в Москве
вечер, посвященный 100-летию со дня его рождения, и прошли
конференции, связанные с этой датой в других городах. Однако только в
1988 г. вышел в Москве капитальный том - коллективная
монография «Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания.
Публикации». В последующее время были переизданы почти все
основные его произведения. Время расставило всё по местам.
ПОСТСИМВОЛИСТСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
А. Белый сам объяснял свою теоретическую активность в
обосновании символизма и свое «теоретическое одиночество» (448) в
1906-1908 гг. осознанием кризиса этого художественного
направления. В обществе появились новые художественно-эстетические
потребности, которые выразились в возникновении новых течений в
искусстве и их теоретическом осмыслении. Наиболее влиятельными
из них стали акмеизм и футуризм. .^
Разумеется, нельзя полагать, что вся эстетическая мысль после
символизма исчерпывается этими концепциями. Мы уже видели, что
почти все русские философы первой трети XX в. размышляли над
общими проблемами эстетики, давали свое понимание красоты и
художественного творчества. Начиная с работ Г. В. Плеханова,
начала разрабатываться в России и марксистская эстетика в различных ее
течениях. Но помимо философской эстетики возникали
эстетические теории, непосредственно связанные с необходимостью
обоснования того или иного направления в искусстве. Многие художники
писали не только свои картины, но и книги, и статьи по вопросам
искусства.
Так, Аполлинарий Васнецов (1856-1933) в 1908 г. выпустил в
Москве книгу «Художество. Опыт анализа понятий, определяющих
искусство живописи». В ней он касается многих важных
эстетических и философских проблем: субъективное и объективное,
художественное творчество и художественность, художественный образ и
символ, красота и искусство. В трактовке красоты он близок к
воззрениям Вл. Соловьева. Для А. Васнецова несомненна «объективная
сущность прекрасного». В оценке значения символа в искусстве он
рассуждает подобно теоретикам символизма, но выступает против
лжесимволистов, заменяющих символ аллегорией. А. Васнецов
противник декадентства в искусстве, считая новомодные его течения
упадком в художественном творчестве.
С другой стороны, знаменитый зачинатель абстрактной
живописи Василий Кандинский (1866-1944) в своей работе «О духовном в
364
искусстве (Живопись)» (1911), выступая против «периода
материалистического искушения», отстаивает творческую свободу и право
художника «вылить во внешности свой внутренний мир» не только в
музыке, но и в живописи, которую он рассматривает по аналогии с
музыкой. Поэтому Кандинский выступает за освобождение
живописи «от прямой зависимости от «природы». Он убежден в том, что
«душа и искусство связаны между собою неразрывной цепью
взаимодействия и взаимоусовершенствования». Источник деятельности
художника, по утверждению первого абстракциониста, -
«внутренний голос души», который «подскажет ему также, какая форма ему
нужна и где ее добыть (внешняя или внутренняя «природа»)». В
противоположность концепциям «объективной сущности прекрасного»
Кандинский постулирует: «То прекрасно, что соответствует
внутренней душевной необходимости»1.
С теоретическими статьями, декларациями, манифестами
различных художественных течений и групп выступали такие видные
русские художники, как Михаил Ларионов, Наталья Гончарова,
Казимир Малевич, Павел Филонов и мн. др. И не только художники.
Эстетически самоопределялись архитекторы, музыканты, деятели театра
и кино. Однако символизм был, пожалуй, наиболее философски
разработанной эстетической системой, которая стремилась охватить не
только определенное направление в искусстве, но и быть также
концепцией миропонимания и жизнестроения. В его границах большей
частью начинали развиваться и те поэты, писатели, художники,
музыканты, артисты, которые затем пересекли эти границы, переросли
рамки символистического мировосприятия.
Ниже мы кратко охарактеризуем философско-эстетические
концепции акмеизма и футуризма.
Акмеизм
Следует иметь в виду, что конкретные эстетико-теоретические
построения, как бумажные деньги, имеют ценность не столько сами
по себе, но благодаря «золотому обеспечению» их художественным
творчеством сторонников этих теоретических построений. Таким
художественно плодотворным течением в русском искусстве
постсимволистского периода был акмеизм, к которому принадлежали
замечательные русские поэты - Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип
Мандельштам, Михаил Кузмин и ряд других. При этом, конечно,
действительно большой художник «не укладывается» в рамки
ограничивающей его теоретической концепции. Это относилось, как мы
видели, и к художественному творчеству выдающихся правоверных
символистов. И поэтому не все литераторы-акмеисты оставались вер-
1 Кандинский В. О духовном в искусстве (Живопись). Л., 1989. С. 8, 17, 53,
63, 64, 65.
365
ными первоначально сформулированным принципам акмеизма. Но тем
не менее философско-эстетическое обоснование этих принципов
представляет большой интерес для истории развития философско-эстети-
ческой мысли.
В первом номере журнала «Аполлон» за 1913 г. была
опубликована статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», а также
статья С. Городецкого «Некоторые течения в современной русской
поэзии». Они имели значение манифеста нового
литературно-поэтического течения, названного акмеизмом от греческого слова акте -
высшая степень чего-либо, цветущая пора, - или адамизмом.
Декларация первых теоретиков акмеизма опиралась на творчество поэтов,
создавших объединение «Цех поэтов».
Акмеисты прежде всего должны были определить свое
отношение к символизму, зарубежному и отечественному. «Русский
символизм, - отмечал Н. Гумилев в своей статье, - направил свои главные
силы в область неведомого. Попеременно он братался то с мистикой,
то с теософией, то с оккультизмом. Некоторые его искания в этом
направлении почти приближались к созданию мифа».
Философия акмеизма предполагает доверие к бытию. По Н.
Гумилеву, «перед лицом небытия - все явления братья»1. С. Городецкий
в своей программной статье утверждал: «После всяких
«неприятностей» мир бесповоротно принят акмеизмом, во всей совокупности
красот и безобразий»2. В 1914 г. в предисловии к своей книге стихов
«Цветущий посох» он заявлял, что «акмеизм существует не только
как литературная теория, но и как мировоззрение, категорически
утверждающее первенство и главнозначимость для нас, людей, нашего
земного мира, и первой своей заповедью считающее творческое к
этому миру отношение»3. Осип Мандельштам в своем манифесте
акмеизма «Утро акмеизма» (написанном в 1912 г. и опубликованном
в 1919 г.) писал: «Нет равенства, нет соперничества, есть
сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия». И далее: «Любите
существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих
себя - вот высшая заповедь акмеизма»4.
В самом бытии акмеисты больше всего ценили
материально-первоначальное. Отсюда и синоним акмеизма - адамизм. Н. Гумилев его
объясняет как «мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь», а
также и таким образом: «Как адамисты, мы немного лесные звери и
во всяком случае не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен
на неврастению»5. Возвращение к «ветхому Адаму» как своеобраз-
1 Гумилев К С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 57.
2 Городецкий С. Некоторые течения в современной русской поэзии //
Аполлон. 1913. № 1.С. 48.
3 Городецкий С. Цветущий посох. Пг., 1914. С. 16.
4 Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 170, 172.
5 Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. С. 55, 57.
366
ный руссоизм отстаивает и О. Мандельштам: «Мы не хотим
развлекать себя прогулкой в «лесу символов», потому что у нас есть более
девственный, более дремучий лес - божественная физиология,
бесконечная сложность нашего темного организма»1.
А. Блок обвинил акмеистов в том, что «они замалчивают самое
главное, единственно ценное: душу», хотя и сам признавал, что «храм
«символизма» опустел»2. Сами же акмеисты, если и впрямую не
говорили о душе, то только потому, что исповедовали такой «принцип
акмеизма»: «Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять
своей мысли о нем более или менее вероятными догадками». Акмеисты
не отвергали «для себя право изображать душу в те моменты, когда
она дрожит, приближаясь к иному; но тогда она должна только
содрогаться». Ориентируясь на земной мир, акмеисты молчаливо
признавали существование «иного». Их отношение к Богу Н. Гумилев
сформулировал следующим образом: «Здесь Бог становится Богом
Живым, потому что человек почувствовал себя достойным такого
Бога»; «Разумеется, познание Бога, прекрасная дама Теология,
останется на своем престоле, но ни ее низводить до степени литературы,
ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят»3.
Для О. Мандельштама три измерения пространства - «богом данный
дворец». Но «небо» его не представляет: «Хорошая стрела
готической колокольни - злая, потому что весь ее смысл - уколоть небо,
попрекнуть его тем, что оно пусто»4. Поэтому и провозглашаемая
акмеизмом эстетика, в противоположность символизму с его принципом
«от реального к реальнейшему» (Вяч. Иванов), - эстетика земная.
«Здесь, - по словам Н. Гумилева, - этика становится эстетикой»5. А
Мандельштам в 1913 г. утверждал в стихотворении
«Адмиралтейство»:
...Красота - не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра6.
Такова в самых общих чертах философия акмеизма. Она скорее
художественно провозглашалась, чем глубоко теоретически
обосновывалась. Конечно, у каждого из выдающихся поэтов, относящих себя
к акмеизму, был и свой философско-эстетический взгляд на мир,
который может быть в той или иной степени выявлен специальным
исследованием. Акмеизм как художественное течение больше
внимания уделял не столько философии и эстетике, сколько конкретной
1 Мандельштам О. Слово и культура. С. 170.
2 Блок А. «Без божества, без вдохновенья» (Цех акмеистов) // Александр Блок.
О литературе. М., 1989. С. 380, 375.
3 Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. С. 58, 57, 58.
4 Мандельштам О. Слово и культура. С. 170.
5 Гумилев К С. Письма о русской поэзии. С 57.
6Мандельштам О. Соч. Т. 1. С. 88.
367
поэтике. Это обусловлено было и тем, что акмеизм, в отличие от
символизма, проявившегося в различных видах искусства - в
литературе и музыке, в живописи и архитектуре, в театре и прикладном
искусстве, - главным образом нашел свое выражение в поэзии.
Футуризм и авангард
Футуризм как направление в искусстве 10 - начала 20-х гг. XX в.
возник в Италии, а затем распространился в других странах
Западной Европы и в России. Он провозгласил себя несколькими
манифестами. Первый из них написал и опубликовал во Франции
предводитель итальянского футуризма Ф. Т. Маринетти в начале 1909 г.
В нем были такие слова: «Мифология, мистика - все это уже
позади! На наших глазах рождается новый кентавр - человек на
мотоцикле, а первые ангелы взмывают в небо на крыльях аэропланов!»;
«Старая литература воспевала леность мысли, восторги и бездействие.
А вот мы воспеваем наглый напор, горячечный бред, строевой шаг,
опасный прыжок, оплеуху и мордобой»; «Мы говорим: наш
прекрасный мир стал еще прекраснее - теперь в нем есть скорость. Под
багажником гоночного автомобиля змеятся выхлопные трубы и изры-
гают огонь. Его рев похож на пулеметную очередь, и по красоте с
ним не сравнится никакая Ника Самофракийская»; «Нет ничего
прекраснее борьбы. Без наглости нет шедевров. Поэзия наголову
разобьет темные силы и подчинит их человеку»; «Мы стоим на обрыве
столетий!.. Так чего же ради оглядываться назад? Ведь мы вот-вот
прорубим окно прямо в таинственный мир Невозможного! Нет
теперь ни Времени, ни Пространства. Мы живем уже в вечности, ведь
в нашем мире царит одна только скорость»; «Да здравствует война -
только она может очистить мир. Да здравствует вооружение, любовь
к Родине, разрушительная сила анархизма, высокие Идеалы
уничтожения всего и вся! Долой женщин!»; «Мы вдребезги разнесем все
музеи, библиотеки. Долой мораль, трусливых соглашателей и
подлых обывателей! Мы будем воспевать рабочий шум, радостный гул и
бунтарский рев толпы; пеструю разноголосицу революционного вихря
в наших столицах»1.
Футуристическое движение в Италии охватывало поэзию,
живопись, скульптуру и даже женское движение. В «Техническом
манифесте футуристической литературы» (1912) провозглашалось
абсолютное новаторство: «Синтаксис надо уничтожить...»; «Надо
отменить прилагательное»; «Надо отменить наречие»; «Пунктуация
больше не нужна»; «Полностью и окончательно освободить
литературу от собственного «я» автора»; «Человеческая психология
вычерпана до дна, и на смену ей придет лирика состояний неживой
1 Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров
западноевропейской литературы XX века. М., 1986. С. 158, 160-161.
368
материи»1. В «Манифесте художников-футуристов» (1910)
утверждалось, что «нужно презирать все формы подражания и
восславлять все формы оригинальности», что «у бегущих лошадей не
четыре ноги, а двадцать, и их движения треугольны», что «художник
носит в себе самом пейзажи, которые он хочет зафиксировать на
полотне», что «надо признать почетным титулом кличку «сумасшедший»,
которой пытаются заткнуть рот новаторам»1.
Мы цитируем манифесты итальянского футуризма потому, что в
них немало общего с манифестами и прокламациями русского
футуризма. И все же футуризм в России обладал своеобразием и нередко
противопоставлял себя итальянскому футуризму. Поэт Игорь
Северянин в 1911 г. называл себя «эгофутуристом». Но основная группа
поэтов и художников - Давид и Николай Бурлюки, Виктор (Вели-
мир) Хлебников, Владимир Маяковский, Алексей Крученых,
Бенедикт Лившиц - до весны 1913 г. вообще не называла себя
футуристами, а именовалась «Гилея»3. И лишь потом, когда критика, начиная с
В. Брюсова, стала обзывать гилейцев «футуристами», они присвоили
себе это имя. Очередной сборник поэтов-гилейцев уже назывался
«Сборник единственных футуристов мира! ! - поэтов «Гилея». Гилей-
цы отныне стали именоваться футуристами, кубофутуристами или
- на русский лад - будетлянами, как употреблял слово «футуристы»
на русский лад Хлебников (в манифесте художников М. Ларионова,
Н. Гончаровой, А. Шевченко и др. 1913 г. слово «футуристы» было
заменено на «будущники»). Следует отметить, что русские
футуристы и в словесных экспериментах, и в тематике своих произведений, и
в ориентации на фольклор опирались на национальную основу.
Хлебников, которого футуристы чтили как гения, сочетал углубление в
народные традиции с поисками новых форм поэтической речи,
словотворчеством. Вместе с тем тяга к национально выразительному не
мешала подчеркиванию ими космизма своего мировосприятия.
Манифесты русских футуристов столь же крикливы, как и
итальянских. Примером может служить предисловие к сборнику
«Пощечина общественному вкусу» (1912) и манифест из альманаха «Садок
судей», подписанные Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Маяковским,
В. Хлебниковым и др. Наряду со многими языковыми новшествами
(типа: «нами уничтожены знаки препинания...») там содержался
знаменитый призыв: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч.
и проч. с парохода современности»4. Однако в этих декларациях, как
1 Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров
западноевропейской литературы XX века. М., 1986. С. 163, 165.
2 Манифесты итальянского футуризма. М., 1914. С. 13, 11, 12, 14.
3 Гилея (по-гречески «лесная») - наименование древнегреческой области в
Скифии в устье Днепра, где находилось село Чернянка, в котором жило
семейство Бурлюков.
4 Маяковский В. В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М, 1961. Т. 13. С. 245.
369
и в ношении желтой кофты, в разрисовке щек и т. п., больше было
желания эпатировать обывателя, чем художественной искренности.
Один из активных участников группы «Гилея» - поэт Бенедикт
Лившиц писал впоследствии: «Я спал с Пушкиным под подушкой - да я
ли один? Не продолжал ли он и во сне тревожить тех, кто объявлял
его непонятнее гиероглифов? - и сбрасывать его, вкупе с
Достоевским и Толстым, с «парохода современности» мне представлялось
лицемерием»1. Пушкин, как и Гоголь, был любимым писателем
Хлебникова.
Однако помимо эпатажности в декларациях и творчестве
футуристов были особенности, коренным образом отличающие их и от
символистов, и от акмеистов. Если символисты в реальном видели
намек на сверхреальное, если акмеисты звали возвратиться назад, к
Адаму, к «звериности», к средневековью, то футуристы были
полны стремлением к Будущему. Борис Пастернак, также
участвовавший в футуристическом движении, считал, что «футурист -
новосел Будущего, нового, неведомого», что это «приготовление
истории к завтрашнему дню»2. В это они верили совершенно искренно
и стремились найти новые формы выражения в искусстве. И
подчас находили. При этом они в своих художественных
экспериментах намеренно, а подчас и нарочито порывали с художественными
традициями. Но те, кто обладал действительным талантом и
выдержал искус новаторства, пройдя школу футуризма, стали
действительно крупными художниками и поэтами, как тот же Пастернак,
Маяковский, Хлебников.
По словам Виктора Шкловского, «футуристы шли пестрым
строем и хотели разного»3. История художественной жизни этого
времени полна всяческих противоречий и конфликтов между различными
группировками, так или иначе связанными с футуристическим
движением. Эти группировки (помимо «Гилей» и эгофутуристов были
художественные объединения «Бубновый валет» и «Ослиный хвост»,
московская поэтическая группа «Центрифуга» и др.) возникали и
исчезали, взаимодействовали друг с другом и образовали то течение
в искусстве 10 - 20-х гг., которое и получило название «авангард»,
близкое по смыслу со словом «футуризм».
Найти единый философско-мировоззренческий знаменатель
всего футуристического движения достаточно трудно, хотя у таких
поэтов, как Хлебников, Маяковский, Пастернак, было свое
миропонимание, подчас утопическое, которое само не оставалось неизменным
и только в определенный период совпадало с «чистым» футуризмом.
1 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Стихотворения. Переводы.
Воспоминания. Л., 1989. С. 403.
2 Пастернак Б. Черный бокал // Пастернак Б. Об искусстве. М., 1990.
С. 129.
3 Шкловский В. Жили-были. М., 1964. С. 109.
370
«Говоря о разрыве между нашими воззрениями на искусство и
вопросами миросозерцания, - отмечал свидетель и активный участник
деятельности русских футуристов Бенедикт Лившиц, - я имею в виду
лишь отсутствие у нас общей философской основы, которая была,
например, у символистов и которая при всем различии между Брю-
совым и Белым, Блоком и Соллогубом сделала их идейно более
близкими друг другу, чем, например, Хлебникова и Маяковского или Бур-
люка и меня»1.
Небезынтересна политическая судьба футуризма. Итальянский
футуризм Маринетти, провозглашавший наряду с «любовью к
Родине» войну, которая только и «может очистить мир»,
«разрушительную силу анархизма», «высокие Идеалы уничтожения всего и вся»,
сомкнулся с итальянским фашизмом еще до захвата им власти в 1922 г.
Его поддерживал сам Муссолини, и после фашистского переворота
футуристы утвердили свое влияние. Однако футуризм не стал
государственным искусством и был потеснен другими течениями в
искусстве, более понятными для широких слоев населения и менее
бунтарскими, чем футуризм. Фашистский же режим в Германии,
утвердившийся в 1933 г., не только не поощрял авангардное искусство (хотя
среди некоторых его представителей были фашисты по
мировоззрению), но ожесточенно боролся с ним, третируя его как
«вырожденное искусство» и «культурбольшевизм».
Последний термин был обусловлен тем, что русский авангард в
лице его ряда видных представителей приветствовал революцию в
России и в 20-х гг. активно участвовал в художественной жизни
Советской России. В. Хлебников еще в 1912 г. предсказал крушение
Российской Империи в 1917 г. После Октябрьской революции 1917 г.
русский футуризм раскололся. Д. Бурлюк эмигрировал в 1920 г. Но
большинство футуристов поставили себя на службу Советской
власти, участвуя своим творчеством в пропагандистско-агитационных
мероприятиях (футуристы в 1918 г. даже заняли руководящие посты
в петроградском Отделе изобразительных искусств Наркомпроса).
Особенно активно в этом отношении проявлял себя Маяковский, хотя
он незадолго до самоубийства признавался, что «себя смирял,
становясь на горло собственной песне»2.
Возникла группа комфутов (т. е. коммунистических футуристов).
С декабря 1918 по апрель 1920 г. футуристы объединились вокруг
газеты «Искусство Коммуны». Авангардному искусству в
определенной мере сочувствовал А. В. Луначарский. Но уже в те времена
немало руководителей советского государства отрицательно
относились к новому искусству, в том числе и сам В. И. Ленин. Вождь
пролетарской революции отрицательно отнесся к поэме Маяковского
1 Лившиц Б. Полуторагаазый стрелец. С. 415-416.
2 Маяковский В. В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М, 1958. Т. 10. С. 280-281.
371
« 150 000 000», он писал в записке Луначарскому в 1921 г. :
«Луначарского сечь за футуризм», а в другой записке M. Н. Покровскому,
защищая реализм, выражал пожелание: «Нельзя ли найти
надежных ан/им-футуристов»1. Илья Эренбург имел основания утверждать
в 1922 г.:
«В России:
революционеры в искусстве - в революции ничто (0, ноль)
революционеры общественные - в искусстве реакционеры
(-, минус)»2.
Но если в 20-е гг. авангардное искусство, в том числе и
преобразованный футуризм, еще бурно развивалось, то в 30-е и
последующие годы подвергалось гонениям, запретам, а иные художники - и
репрессиям.
Формальная школа
23 декабря 1913 г. в кафе «Бродячая собака», где собирались
поэты, выступил с докладом «Место футуризма в истории языка» 20-
летний студент Виктор Шкловский. Встреченный с необычайным
интересом доклад в 1914 г. появился в виде брошюры «Воскрешение
слова». Это было начало деятельности Виктора Борисовича
Шкловского (1893 - 1984) и нового течения эстетической и филологической
мысли, получившего наименование «формальная школа». Эта
«школа» выступила первоначально как эстетическо-филологическое
обоснование футуристического искусства. Сам Шкловский называл себя
«филологом-футуристом».
В первом своем выступлении и последовавшими за ними
статьями «О поэзии и заумном языке» (1916), «Искусство как прием» (1917),
напечатанными в «Сборниках по теории поэтического языка»,
Шкловский развивал следующее теоретическое построение. Слова нашего
языка, образы и положения и даже формы искусства становятся
привычными и воспринимаются бессознательно-автоматически. Этот
автоматизм стирает свежесть восприятия, и оно перестает быть
поэтическим, эстетическим. Для того чтобы расковать привычность
слова, образа, положения, чтобы они задевали душу, притягивали наше
внимание, нужно сделать их странными. Искусство, по
Шкловскому, и должно осуществлять остраннение, благодаря которому
явление предстает в необычном ракурсе, как бы впервые увиденном:
«Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как
узнавание; приемом искусства является прием «остранения» вещей
и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу
1 Ленин В. И. О литературе и искусстве. М, 1960. С. 477, 478.
2 Эренбург Илья. А все-таки она вертится. М.; Берлин, 1922. С. 49, 47.
372
восприятия...»1. Шкловский термином «остраннение»
действительно обнаружил существенную закономерность эстетического
восприятия, которое предполагает преодоление автоматизма обычного
восприятия. Однако в ранних работах «филолога-футуриста»
остраннение трактовалось слишком широко. Странное для эстетического
восприятия не должно превращаться в чуждое. Остраннение не должно
быть отчуждением. В произведениях же футуристов форма подчас
бывала настолько усложнена или упрощена, что вообще становилась
не только странной, но и чуждой восприятию, сформировавшемуся
на основе предшествующего искусства, а потому не вызывающей
эстетическое переживание. Вместе с тем автор «Воскрешения слова»
был убежден в том, что «у поэтов-будетлян верный путь: они
правильно оценили старые формы»2.
Филологи, участвующие в «Сборниках по теории поэтического
языка» (первые два номера вышли в 1916-1917 гг., 3-й - в 1919 г.,
4-6-й выпуски - в 1921-1923 гг.), организовали «Общество по
изучению поэтического языка», вошедшее в историю по своей
аббревиатуре - ОПОЯЗ. В это объединение входили помимо Шкловского
такие литературоведы и критики, как Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н.
Тынянов, В. М. Жирмунский, Б. В. Томашевский, О. М. Брик, и
языковеды Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский. Участие языковедов в
«формальной школе» было обусловлено тем, что предметом ее
пристального внимания стала языковая ткань литературного произведения.
ОПОЯЗ сближается с Московским лингвистическим кружком, в
деятельности которого активное участие принимали Р. О. Якобсон и
Г. О. Винокур. Опоязцы сотрудничают с литературной группой ЛЕФ
(«Левый фронт искусств»), возглавлявшейся Маяковским, и с
учеными, работавшими в Государственном институте истории
искусства. Деятельность всех этих литературоведов, критиков,
литераторов, составлявших так называемую «формальную школу»,
объединялась приверженностью к формальному методу в изучении
литературы и искусства.
Что же представляет собой эстетика «формальной школы»,
оказавшая большое воздействие на развитие эстетической и
филологической мысли в России и за ее рубежами? Сразу же отметим, что это
воздействие было не только в плане прямого влияния «формальной
школы», но и как воздействие, связанное с противодействием «фор-
1 Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи - воспоминания - эссе ( 1914-1933).
М., 1990. С. 63. Этот знаменитый термин Шкловского очень часто писался как
«остранение». Но сам его создатель признавался впоследствии: «И я тогда
создал термин «остранение»; и так как уже могу сегодня признаться в том, что
делал грамматические ошибки, то я написал одно «н». Надо «странный» было
написать. Так оно и пошло с одним «н» и, как собака с отрезанным ухом, бегает
по миру» (Шкловский В. О теории прозы. М., 1983. С. 73).
2 Шкловский В. Гамбургский счет. С. 42.
373
малистам», противодействием, стимулировавшим разработку
важнейших эстетических проблем и оказывавшим влияние на эволюцию
самой «формальной школы».
Если начальный период «формальной школы» сопряжен был с
защитой и обоснованием футуристического искусства, то вскоре
материалом исследования стали произведения классической и
современной литературы. В 1919 г. Б. М. Эйхенбаум публикует свою
статью «Как сделана «Шинель» Гоголя». Как показывает само название
этой статьи, ее автора интересует только форма гоголевской повести -
принципы ее композиции, обусловленные речевыми приемами
повествования-сказа, приемы языковой игры, звучание употребляемых
слов. Всё социально-психологическое содержание «Шинели»
находится вне внимания исследователя. Шкловский в 1921 г. издает
работу «Развертывание сюжета. Как сделан «Дон Кихот»». Отвечая на
обвинение в том, что опоязовцы таким формальным подходом
развенчивают классику, они отвечали: мы классику не развенчиваем, а
развинчиваем, чтобы показать, как она сделана.
Принципы такого формального анализа художественного
произведения провозгласил Шкловский в статье «Искусство как прием», в
которой он решительно выступает против формулы: «Искусство - это
мышление образами». Свое понимание искусства как приема он
демонстрирует примерами из творчества Льва Толстого и Гоголя. В
рецензии на книгу стихов Анны Ахматовой он заявляет, что
«человеческая судьба стала художественным приемом. Приемом. Да,
приемом». И тут же: «Прославим оторванность искусства от жизни,
прославим смелость и мудрость поэтов, знающих, что жизнь,
переходящая в стихи, уже не жизнь»1. Еще в 1919 г. Шкловский провозгласил:
«Искусство всегда было вольно от жизни, и на цвете его никогда не
отражался цвет флага над крепостью города»2.
Это заостренно выраженное противопоставление искусства
жизни у опоязовцев было протестом против существовавших в то время
эстетико-теоретических концепций, по которым искусство несет в
себе психологическое и социальное содержание. По господствующей
тогда «социологии искусства», претендовавшей на единственно
правильное понимание искусства, искусство есть выражение
психоидеологии класса. «Формальная школа» стремилась заниматься не
домыслами о психологическом и социальном содержании
художественного произведения, а тем, что непосредственно доступно
восприятию - его формой, вне которой никакого содержания вообще не
существует. «В основе формальный метод прост, - отмечал
Шкловский, - возвращение к мастерству. Самое замечательное в нем то, что
он не отрицает идейного содержания искусства, но считает так назы-
1 Шкловский В. Гамбургский счет. С. 143.
2 Там же. С. 79.
374
ваемое содержание одним из явлений формы»1. В отождествлении
содержания с формой он ссылается на авторитет Канта,
утверждавшего, что содержание музыки - «чистая форма»2.
В философско-эстетическом плане растворение содержания
искусства в его форме и формальный метод в подходе к искусству не
было изобретением «формальной школы». Помимо идей Канта о
значении формы для эстетического восприятия и искусства, а также тех
неокантианцев, которые полагали, что главное в искусстве - это
форма (Б. Христиансен), в России были хорошо известны зарубежные
музыковедческие, искусствоведческие и литературоведческие
работы, откровенно провозглашавшие формалистическое понимание
искусства (книги Э. Ганслика «О музыкально-прекрасном», А. Гиль-
дебранда «Проблема формы в изобразительном искусстве», статьи
О. Вальцеля о проблемах формы в поэзии).
Однако опоязовцы сознательно отказывались от какой-либо
эстетической и философской системы. В программном выступлении
Б. М. Эйхенбаума «Теория «формального метода» (1926)
провозглашался полный отказ от философской эстетики, в особенности
освобождение поэтики от ее связи с «субъективными эстетическими и
философскими теориями» символистов для того, чтобы «вернуть ее
на путь научного исследования фактов». Провозглашался «новый
пафос научного позитивизма, характерный для формалистов: отказ
от философских предпосылок, от психологических и эстетических
истолкований и т. д. Разрыв с философской эстетикой и с
идеологическими теориями искусства диктовался самым положением вещей»3.
Можно понять стремление «формалистов» противопоставить себя
эстетике и философии символистов, сохранять независимость от
«идеологических теорий искусства» 20-х гг. И действительно, значение
исследований отечественных формалистов заключалось не столько в
их теоретических декларациях, сколько в мастерском и талантливом
анализе конкретных форм литературно-художественного творчества,
а также в поисках инструментов такого анализа (идея остраннения,
различение фабулы и сюжета, закономерности сюжетосложения,
композиционного построения произведения, приемы стиля и т. п.). Не
случайно они так много внимания уделяли теории стиха,
стиховедению. Но позитивистский отказ от философии и эстетики - это тоже
своего рода философия и эстетика.
Установки «формальной школы» вызвали критическую реакцию
с разных сторон. Л. Троцкий в статье «Формальная школа поэзии и
марксизм» (1923), не отрицая полезность известной части
«изыскательской работы формалистов», вспомогательного, служебно-техни-
1 Шкловский В. Гамбургский счет. С. 169.
2 Там же. С. 80.
3 Эйхенбаум Б. О литературе. Работы разных лет. М, 1987. С. 379.
375
ческого значения их приемов, с позиций понимаемого им марксизма
утверждает, что «попытка освободить искусство от жизни, объявить
его самодовлеющим мастерством, обездушивает и умерщвляет
искусство». Общая оценка его такова: «Формальная школа есть
гелертерски препарированный недоносок идеализма в применении к
вопросам искусства. На формалистах лежит печать скороспелого по-
повства»1.
Журнал «Печать и революция» в 20-е гг. имел специальный
дискуссионный раздел «К спорам о формальном методе», на его
страницах публиковались статьи как сторонников формальной школы, так
и ее противников. В 5-м выпуске за 1924 г. там была напечатана
статья А. В. Луначарского «Формализм в науке об искусстве». Автор ее
признает, что «далеко не всякое бессодержательное искусство
лишено ценности», что «формальная работа присуща всякому искусству»,
а «в некоторых случаях искусство может целиком свестись к
формальной работе», например в прикладном искусстве и
художественной промышленности, в игре словами («присказки, припевы или
заумь»). Однако марксистски ориентированный теоретик искусства
полагает, что на высшей ступени искусство «захватывает своей
особой манерой организации вещей <...> также мир.высших и
сложнейших эмоций и их комплексов, идей и их систем». Полемизируя с
Эйхенбаумом, Луначарский порицает формалистов за отрицание ими
связи между искусством и другими областями культуры, за то, что
они не хотят видеть «в творчестве даже классической эпохи живого
переживания, которое ведь всегда есть социальный акт», хотя «в
кучах щебня иной раз находишь у формалистов интересный факт или
здоровую мысль». Сведение Эйхенбаумом, по мнению
Луначарского, всякого литературного произведения «к словесному фокусу»
напоминает ему «анекдот о господине, который на бетховенском
концерте на вопрос: «Что сейчас будут играть?» - ответил: «Будут
скрипеть конским волосом по кошачьей кишке»2.
При всей остроумности сравнения формального анализа
произведения искусства с персонажем этого анекдота полемическая
стрела Луначарского не попадала точно в цель. Ведь формализм, даже в
музыкальном исследовании, занимается не формой музыкального
инструмента, а самой музыки, в том числе и музыки Бетховена.
Другое дело, исчерпывает ли формальное исследование все богатство этой
музыки как художественно-эстетического явления.
По этой проблеме разгорелась дискуссия даже среди тех, кто
ранее разделял воззрения сторонников формальной школы. В 1923 г. в
качестве предисловия к небольшой книжке О. Вальцеля появилась
статья В. М. Жирмунского «К вопросу о «формальном методе». Ав-
1 Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991. С. 130, 143, 145.
2 Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1967. Т. 7. С. 407, 409, 421, 420.
376
тор этой статьи, сам примыкавший к ОПОЯЗу, ставит вопрос о
границах формального изучения искусства. Не отрицая самой задачи
формально-эстетического подхода к литературным явлениям,
Жирмунский выступает против претензии такого подхода на
универсальное значение, основанного на убеждении в том, что «в искусстве нет
ничего, кроме искусства». С точки зрения истории художественной
культуры он критикует трактовку искусства только как «приема»,
полагая, что художественное творчество «может заключать в себе
элемент познавательный, моральный, религиозный». Он упрекает
сторонников формализма в игнорировании тематической стороны
искусства, особенно поэзии, как «в искусстве предметном,
тематическом», в котором сам «словесный материал не подчиняется
формальному композиционному закону». Жирмунский призывает
«провести особенно отчетливо границу между формальными заданиями
науки о литературе и формалистическими принципами ее изучения и
истолкования». «Нельзя думать, - полагает он, - что вопросами
метрики, инструментовки, синтаксиса и сюжетосложения (т. е.
сюжетной композиции) исчерпывается область поэтики: задача изучения
литературного произведения с точки зрения эстетической только тогда
будет закончена, когда в круг изучения войдут и поэтические темы,
так называемое содержание, рассматриваемое как художественно
действенный факт»1.
С критикой формализма выступил в середине 20-х гт. Лев
Семенович Выготский (1896-1934), ставший впоследствии крупнейшим
психологом, в книге «Психология искусства», завершенной в 1925 г.,
но изданной только 40 лет спустя, притом воспринятую в 60-х гт. как
теоретически актуальную. В главе книги «Искусство как прием»
отмечается, что «формула формалистов «искусство как прием»
естественно вызывает вопрос: «прием чего?». Выготский
присоединяется к мнению Жирмунского о том, что «прием ради приема, прием,
взятый сам для себя, ни на что не направленный, есть не прием, а
фокус». Сторонники формальной школы провозглашали отказ «от
всякого психологизма при построении теории искусства. Они
пытаются изучать художественную форму как нечто совершенно
объективное и независимое от входящих в ее состав мыслей и чувств и
всякого другого психологического материала». Но психологическое
значение искусства, вытолкнутое в дверь, лезет в окно, притом не в
лучшем виде. Автор «Психологии искусства» убедительно
показывает, что «основной недостаток формализма - непонимание
психологического значения материала - приводит его к <...>
сенсуалистической односторонности»: целью провозглашаемых ими «приемов»
оказывается то же восприятие и переживание, но только в самом прими-
1 Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
С 97,98, 102, 103.
377
тивном виде как элементарный гедонизм. Вместе с тем
«совершенно ясно, что далеко не всякое восприятие формы будет непременно
актом художественным»1.
Но и теоретико-литературные воззрения самого Шкловского
претерпели определенную эволюцию. Еще отвечая Троцкому (хотя этот
ответ был опубликован только в 1990 г.), Шкловский подчеркивал
свой интерес к смыслу произведения, к его «смысловому
материалу», который «художественно оформлен». Для него «содержание» -
одно из явлений смысловой формы. Мысли, входящие в
произведение, - материал, их взаимоотношение - форма»2.
Эволюционировали и эстетические и теоретико-литературные
воззрения и других опоязовцев, которые в середине 20-х гг. отходят
от первоначальных формалистических установок, по которым
искусство как «сумма приемов» существует вне внутренней связи с
другими явлениями, вне исторического времени. В работах
Эйхенбаума появляется серьезный интерес к истории, к историко-быто-
вой обусловленности литературной деятельности. В статье 1926 г.
«Теория «формального метода» он пишет об эволюции
формального метода: «От установления единства приема на разнообразном
материале мы пришли к дифференцированию приема по функциям, а
отсюда - к вопросу об эволюции форм, то есть "к проблеме
историко-литературного изучения». «Теория и история, - утверждал один
из ведущих теоретиков формальной школы, - слились у нас не только
на словах, но и на деле. Мы слишком хорошо обучены самой
историей, чтобы думать, что ее можно обойти»3. Свою концепцию
«литературного быта», которая была попыткой выявить социальную
обусловленность художественного творчества без вульгарного
социологизма, Эйхенбаум проводил в исследованиях творчества
Лермонтова, Льва Толстого и других писателей, в том числе
современных.
Юрий Николаевич Тынянов ( 1894-1943) был не только
выдающимся теоретиком формальной школы, но и замечательным писателем -
автором исторических романов, посвященных Кюхельбекеру («Кюх-
ля», 1925), Грибоедову («Смерть Вазир-Мухтара», 1927-1928),
Пушкину (1935-1943), таких рассказов, как «Подпоручик Киже»,
повести «Восковая персона», нескольких киносценариев.
Теоретико-исследовательская одаренность и прямая причастность к
художественному творчеству дала возможность Тынянову, сохраняя
действительные достижения формальной школы, обогатить их пониманием
произведения искусства как системы элементов, имеющих свое
функциональное значение, притом формальные элементы связаны с се-
1 Выготский Л. С. Психология искусства. Изд. 2-е. М, 1968. С. 78, 77, 79,
83.
2 Шкловский В. Гамбургский счет. С. 279.
3 Эйхенбаум Б. О литературе. Работы разных лет. С. 408.
378
мантическими, смысловыми (книга «Проблема стихотворного
языка», 1924). Он проявил глубокий интерес к литературной жизни и
эволюции (статья 1924 г. «Литературный факт», работа 1927 г. «О
литературной эволюции»), к социологии литературы не в вульгарно-
марксистском ее понимании. В статье «О литературной эволюции»
Тынянов формулирует важнейший «сдвиг» в эволюции самой
формальной школы: «Изучение эволюции литературы возможно только
при отношении к литературе как к ряду, системе, соотнесенной с
другими рядами, системами, ими обусловленной. Рассмотрение должно
идти от конструктивной функции к функции литературной, от
литературной к речевой. Оно должно выяснить эволюционное
взаимодействие функций и форм»1.
Внимание к социологической стороне художественного
произведения проявил и Шкловский в книге «Матерьял и стиль в романе
Льва Толстого «Война и мир»» (1928), но органического сочетания
принципов ОПОЗа и социологического анализа не получилось, да и
сам социологический анализ оказался достаточно вульгарным. Это и
дало основание критику И. М. Нусинову написать об этой книге
статью «Запоздалые открытия, или Как В. Шкловскому надоело есть
голыми формалистскими руками, и он обзавелся самодельной
марксистской ложкой» (журнал теории и истории литературы
«Литература и марксизм». 1929. Кн. 5). Критик поймал Шкловского на слове,
написавшего в книге «Третья фабрика»: «Мы не марксисты, но если
нам в нашем обиходе понадобится этот инструмент, то мы не станем
есть руками».
Кризис формальной школы обусловлен был как внутренними
причинами - соприкосновением ее сторонников с новым,
неподдающимся формальным установкам материалом, так и причинами
внешними: давлением на них официальных литературных критиков.
Обороняясь от них, они пытались свой инструментарий не без таланта
применить и к вполне ортодоксальным предметам: Тынянов в 1924 г.
пишет работу «Словарь Ленина-полемиста», а Шкловский - статью
о стиле Ленина. Когда борьба с формализмом усилилась, Шкловский
написал в «Литературной газете» покаянную статью «Памятник
научной ошибке» (1930).
Однако помимо внешнего идеологического давления
(Шкловскому можно было помянуть не только его формализм, но и его
политическую позицию в годы революции: он участвовал в правоэсеровс-
ком антибольшевистском заговоре в 1918 г.) основатель и ведущий
теоретик формальной школы осознал необходимость ее эволюции,
отошедшей от крайностей первоначальных постулатов. Уже с
середины 20-х гг. Шкловский подключил к своим теоретическим
поискам обширный материал киноискусства, исследования творчества
1 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М, 1977. С. 281.
379
зарубежных и русских писателей1. Он шел в определении своих
новых позиций не только от прежних опоязовских установок, но и от
самого художественного материала, взятого в
социально-историческом контексте. В своих воспоминаниях о временах ОПОЯЗа
Шкловский не «сжег то, чему поклонялся»2. Поэтому отнюдь не конъюнк-
турно-покаятельно звучат его слова, написанные в конце долгой
жизни: «Формой мы занимались. И случайно про форму говорили много
ненужного. Когда-то я говорил, что искусство состоит из суммы
приемов, но тогда - почему сложение, а не умножение, не деление, не
просто взаимоотношение». Теперь для Шкловского искусство - не
сумма приемов: «Для меня искусство - это спор, спор сознания,
осознания мира. Искусство диалогично, жизненно. Оно, если его
остановить, завянет»3.
В постсимволистскую эпоху было немало эстетических
концепций и дискуссий в эстетике. Мы более подробно остановились на
воззрениях формальной школы потому, что они были в центре
эстетических дискуссий 20-х гт. и оказали большое воздействие на
развитие эстетической теории. В 60-е гг. эстафету формальной школы
подхватили структуралисты как в нашем отечестве, так и за
рубежом еще в 30-е гг. И незадолго до своей кончины их приветствовал
Шкловский, предупреждая на своем опыте от'упрощенного
понимания художественного творчества: «Структуралисты делят
произведение на слои. Потом решают один слой, потом отдельно другой,
потом третий. В искусстве все сложнее. Вместе с тем
структуралисты, в частности наша Тартуская школа, сделали очень много»4.
Вместе с тем и теоретическая полемика с формальной школой
имела немаловажное философско-эстетическое значение. Она
подчас приводила к плодотворным результатам, если не просто
отбрасывала достижения формальной школы, а «снимала» их в более
высоком синтезе. Свидетельством этого являются философско-эстети-
ческие воззрения M. М. Бахтина.
1 См.: сборник работ В. Шкловского о киноискусстве «За сорок лет» (М.,
1965), книги, посвященные теоретико-литературному исследованию, истории
литературы и критике: «Художественная проза. Размышления и разборы» (М,
1959), «Избранное в двух томах» (М., 1983), «Лев Толстой» (М., 1963) и др.
2 См.: Шкловский В. Жили-были. Воспоминания. Мемуарные записи.
Повести о времени: с конца XIX в. по 1962 г. М., 1964; Он же. О теории прозы. М.,
1983.
3 Шкловский В. О теории прозы. С. 82, 84.
4 Там же. С. 82. Так называемая Тартуская или Тартуско-Московская школа
(Ю. М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов, Б. А. Успенский, В. Н. Топоров, А. М.
Пятигорский, 3. Г. Минц и др.) - это направление в семиотике (теории знаков и знаковых
систем), которое, начиная с 60-х гг., осуществляла структуральное изучение
искусства.
XIV
ФИЛОСОФИЯ И ЭСТЕТИКА
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ M. М. БАХТИНА
Феномен Бахтина
Теоретическая деятельность Михаила Михайловича Бахтина
(1895-1975) до «оттепели» 60-х гг. была известна очень небольшому
кругу лиц, главным образом его друзьям-единомышленникам.
Правда, в 1929 г. вышла книга Бахтина «Проблемы творчества
Достоевского». Но еще до времени выхода этой книги автор ее
был арестован (в конце 1928 г.) и находился под следствием.
Затем последовал приговор о заключении его в Соловецкий
концлагерь, но из-за хронической болезни ног и благодаря хлопотам за
него друзей - Е. П. Пешковой, М. Горького, А. Толстого - он был
отправлен не в концлагерь, а в казахстанскую ссылку.
Выход книги «Проблемы творчества Достоевского» не остался
незамеченным. Она вызвала несколько откликов. Наряду с научной
полемикой по существу концепции творчества русского романиста
автор именовался проповедником «идеалистического плюрализма»,
далеким от марксизма. Книга Бахтина не осталась незамеченной и за
рубежом. В 1930 г. появились на нее в целом положительные отзывы
в парижском журнале «Современные записки» и в пражском
ежегоднике «Slavia». Выраженную в ней «мысль о философской полифонии
у Достоевского» высоко оценил Г. Флоровский1. Талант
исследователя не могли не признать даже его недоброжелатели, а А. В.
Луначарский посвятил книге Бахтина благожелательную статью.
Такое отношение к репрессированному ученому еще было
возможно в 20-е гг. Затем книга Бахтина и он сам надолго исчезают с
авансцены советской культуры. Находясь в ссылке, а после нее
тщетно пытаясь получить «прописку» в Москве, работая школьным
учителем в Подмосковье, Бахтин не прерывает своей творческой
деятельности. В 1940 г. он заканчивает диссертацию «Франсуа Рабле в
истории реализма», но лишь в 1946 г. он получает возможность ее
защитить. На защите диссертация получила очень высокую оценку,
и ее оппоненты настаивали на присуждении Бахтину степени
доктора филологических наук, но Высшая аттестационная комиссия ут-
1 Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 553.
381
вердила лишь кандидатскую степень. Не имея возможности
проживать и работать в Москве и Ленинграде (только в 1967 г.
Ленинградский городской суд принимает решение о его реабилитации!),
Бахтин с 1945 по 1969 г. работает в Саранском педагогическом
институте (преобразованном затем в университет) заведующим кафедрой
всеобщей литературы.
Только в начале 60-х гг. благодаря усилиям некоторых молодых
московских филологов научная общественность узнала, что рядовой
доцент провинциального университета - выдающийся ученый,
автор блестящей книги о Достоевском и до сих пор не изданного
замечательного труда о Рабле. В 1963 г. вышло в свет второе,
переработанное и дополненное издание книги о Достоевском под названием
«Проблемы поэтики Достоевского», а в 1965 г. была, наконец, издана
книга о Рабле - «Творчество Франсуа Рабле». Обнаружилось, что эти
книги - только вершины скрытой части айсберга - многих
неопубликованных рукописей и законченных работ, в своей совокупности
представляющих необычайный интерес не только с филологической
точки зрения, но и с философской. Но лишь после кончины M. М.
Бахтина появляются сборники его ранее не публиковавшихся трудов:
«Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет» (1975),
«Эстетика словесного творчества» (1979), «Литературно-критические
статьи» (1986). В 1986 г. в ежегоднике «Философия и социология науки и
техники» была впервые опубликована до тех пор неизвестная
рукопись Бахтина, названная публикаторами «К философии поступка».
Уже с конца 60-х гт. труды Бахтина привлекли пристальное
внимание филологов, культурологов и философов. Это внимание всё
ширилось по мере новых публикаций как самого Бахтина, так и
многочисленной литературы, посвященной его творчеству. Притом
первоначально это внимание за рубежом было большим, чем на родине
русского мыслителя (к примеру, в Японии в 80-е гг. издано было
восьмитомное Собрание сочинений Бахтина). В настоящее время
возникла целая отрасль философско-филологического знания, именуемая
бахтинологией. Литература, посвященная Бахтину, быстро растет. Это
и монографии, и статьи, и доклады, делаемые на различных
российских и зарубежных Бахтинских конференциях, сборники работ о
Бахтине и даже специальный журнал «Диалог. Карнавал. Хронотоп» -
«журнал научных разысканий о биографии, творческом наследии и
эпохе M. М. Бахтина», издаваемый в Витебске международной
редакционной коллегией с 1992 г.
Творчество Бахтина - очень своеобразный историко-философский
феномен. Осуществлявшееся уже в 20-50-е гг., оно не было включено
в реальный процесс истории философской мысли этих лет и только
ретроспективно может и должно быть осмыслено в контексте своего
времени. Но это же творчество оказалось чрезвычайно актуальным в
60-е и последующие годы и, можно сказать без преувеличений, стало
382
важным фактором современного развития не только филологической,
но и философской мысли. Не случайно многие современные
философские концепции развиваются в свете идей Бахтина.
На первый взгляд может показаться, что включение автора
трудов о Достоевском и Рабле в историю русской философской мысли
является натяжкой. Это же по жанру своему произведения
литературоведческие, а не философские! Незадолго до своей кончины,
отвечая на вопрос: «Вы были больше философ, чем филолог?» - Бахтин
сказал: «Философ. И таким и остался по сегодняшний день. Я
философ. Я мыслитель»1. И дело не только в самоопределении Бахтина
как философа. Исследование его книг, статей, незаконченных
рукописей, высказываний показывает, что бахтинская философия - это
реальность, притом поражает целостность и целеустремленность этой
философии, несмотря на то что ее создатель не представил ее в виде
целостной системы.
He-алиби в бытии и в человечестве
Что это за философия? Каковы ее теоретические источники? Как
она соотносится с другими течениями русской и зарубежной
философской мысли? Это не простые вопросы, и, чтобы попытаться на
них ответить, нужно обратиться к периоду формирования
философских воззрений Бахтина.
Он родился в Орле в семье банковского служащего. Окончив в
1913 г. Одесскую гимназию, Михаил Бахтин поступил, вероятно
вольнослушателем, на историко-филологический факультет
Новороссийского университета, находившегося в Одессе, а затем продолжал
образование на аналогичном факультете Петербургского
университета. Следует отметить, что в Петербургском университете кафедру
философии возглавлял кантианец А. И. Введенский. Здесь же работали
Н. О. Лосский и И. И. Лапшин.
В 1918 г. семья Бахтиных переезжает в город Невель, а с 1920 по
1924 г. М. Бахтин живет в Витебске. С 1924 г. до своей ссылки он
находится в Петрограде-Ленинград е. В Невеле и Витебске, а затем и
«на брегах Невы» складывается так называемый «круг Бахтина», в
который входили философ М. И. Каган, литературовед Л. В.
Пумпянский, поэт, музыковед и языковед В. Н. Волошинов, критик и
литературовед П. Н. Медведев, музыковед И. И. Соллертинский, пианистка
М. В. Юдина, биолог И. И. Канаев. Неустанная работа по
философскому самообразованию, преподавание и лекции о литературе и
философии в различных учебных заведениях и в разных аудиториях,
духовно обогащающее общение с друзьями - все это стимулировало
самостоятельную творческую деятельность Бахтина.
1 М. М. Бахтин: беседы с В. Д. Дувакиным. М., 2002. С. 47.
383
В невельском издании «День искусства» в 1919 г. наряду с
заметками М. И. Кагана и Л. В. Пумпянского появилась первая публикация
Бахтина - статья «Искусство и ответственность». Проблема
ответственности становится центральной философской, этической и
эстетической проблемой размышлений Бахтина. В письмах к своему наиболее
близкому другу М. И. Кагану он перечисляет основные темы своих
работ. Это и «эстетика словесного творчества», и «субъект
нравственности и субъект права», и начало труда о Достоевском1. При
кажущейся разбросанности этих тем их объединяет единое философское
основание, которое выражено в дошедших до нас рукописных текстах «К
философии поступка» (начало 20-х гг.), «Автор и герой в эстетической
деятельности» (середина 20-х гг.), «Проблема содержания, материала
и формы в словесном художественном творчестве» (1924).
В чем же заключается это философское основание? Его суть, по
нашему мнению, заключается в следующем. Как известно, Декарт
выдвинул самоочевидный постулат: «Я мыслю, следовательно,
существую». Бахтин его как бы переворачивает. Его принцип можно было
бы сформулировать так: «Я существую, следовательно, мыслю».
Притом не только мыслю, но и переживаю. Бахтин исходит из факта
человечески-личностного существования моего #. Вот его слова: «Я -
есмь - во всей эмоционально-волевой, поступочной полноте этого
утверждения - и действительно есмь - в целом и обязуюсь сказать это
слово, и я причастен бытию единственным и неповторимым образом,
я занимаю в единственном бытии единственное, неповторимое, неза-
местимое и непроницаемое [?] для другого место. В данной
единственной точке, в которой я теперь нахожусь, никто другой в единственном
времени и единственном пространстве единственного бытия не
находился. И вокруг этой единственной точки располагается все
единственное бытие единственным и неповторимым образом. То, что мною
может быть совершено, никем и никогда совершено быть не может. Един-
1 См.: Письма М. М. Бахтина М. И. Кагану // Диалог. Карнавал. Хронотоп.
1992. № 1. С. 66, 71, 72. Матвей Исаевич Каган (1889-1937) получил
философское образование в Германии (1907-1914), где слушал лекции ведущих
неокантианцев Марбургской школы - Г. Когена, Э. Кассирера и П. Наторпа и сам стал
сторонником неокантианства. С 1918 по 1921 г. жил в Невеле, где познакомился
и подружился с Бахтиным, вел «кантовский семинар». В первой половине 20-х гг.
занимался философией (читал «Введение в философию» в 1921 г. в Орловском
университете, в 1922 г. участвовал в деятельности Вольфилы (Вольной
философской ассоциации) в Петрограде, в Москве был избран действительным
членом ГАХН (Государственная академия художественных наук), где сотрудничал с
Г. Шпетом. С 1924 г. специализируется в области экономики и энергетики, не
прекращая заниматься философией. Каган писал работу по философии
истории, философски осмыслял творчество Пушкина. В 1936 и 1937 гт. встречается
с Бахтиным, убеждаясь в общности их «принципиальных положений» (см. там
же. С. 78). Бахтин приехал на похороны своего друга, «нарушив паспортный
режим» (там же. С. 62).
384
ственность наличного бытия - нудительно обязательна. Этот факт
моего не-алиби в бытии, лежащий в основе самого конкретного и
единственного долженствования поступка, не узнается и не познается мною,
а единственным образом признается и утверждается»1.
Таким образом, Бахтин исходит из своеобразной философии
существования, экзистенциальной философии, притом в ее личностном,
персоналистическом варианте. Очень характерен бахтинский термин
«мое не-алиби в бытии». По-латински alibi означает «в другом месте».
Юристы используют это слово для обозначения непричастности
человека к какому-либо событию, чаще всего к преступлению. Бахтин
своим понятием не-алиби в бытии подчеркивает причастность
человеческого я к событию бытия, к его бытийному поведению, к поступку. Так
в бахтинском термине объединяются «субъект права» с
«нравственным субъектом»: «Только не-алиби в бытии превращает пустую
возможность в ответственный действительный поступок (через
эмоционально-волевое отнесение к себе как активному)» (ФП, 113).
Вместе с тем бахтинское миропонимание, исходящее из
утверждения не-алиби в бытии человеческой личности, было отнюдь не
субъективистски-индивидуалистическим, не солипсическим. Да, я
существую как «единственное бытие единственным и неповторимым
образом». Но ведь существую не только один я. Вне меня находится
«бесконечное множество» «индивидуальных центров
ответственности, единственных участных субъектов» (ФП, 115-116). И это
существование множества «неповторимо ценных личных миров» не
только не разрушает «бытие как содержательно определенное», но,
наоборот, «создает единое событие» (ФП, 116). Таким образом,
признается существование как «я-для-себя», так и «других для меня», а
следовательно, и «я-для-другого» (см. ФП, 116, 122).
Все эти элементы бытия-события у Бахтина пронизаны
ценностным значением. Конкретный человек для него является «ценностным
центром»(ФП, 130). Но в то же время существует «совокупность
ценностей, ценных не для того или иного индивидуума и в ту или иную
эпоху, а для всего исторического человечества». И «поскольку я
утверждаю свое единственное место в едином бытии исторического
человечества», я не нахожусь вне его, а обладаю не-алиби не просто
по отношению к бытию вообще, но и по отношению к
«историческому человечеству», «к признаваемым им ценностям» (ФП, 117).
Достоинство философии Бахтина заключается в том, что она
представляет собой теоретико-ценностную, аксиологическую картину
мира; аксиологизм его утверждает гуманистическое мировосприятие:
«Все возможное бытие и весь возможный смысл располагаются вок-
1 Бахтин M. М. К философии поступка // Философия и социология науки и
техники. Ежегодник. 1984-1985. М., 1986. С. 112. Далее ссылки на эту работу
даются в тексте с указанием в скобках ФП и страницы.
13-99
385
руг человека как центра и единственной ценности; все - и здесь
эстетическое видение не знает границ - должно быть соотнесено с
человеком, стать человеческим» (ФП, 128). Аксиологический подход,
утвержденный Бахтиным в его первом философском труде,
осуществляется им во всем последующем его творчестве. Не случайно
оно эстетически ориентировано, обращено главным образом к
материалу художественного творчества, являясь преимущественно
эстетической философией. Бахтин обращается к анализу «мира
эстетического видения - мира искусства» потому, что он «поможет нам
подойти к пониманию архитектонического строения
действительного мира события», «конкретной ценностной архитектоники» (ФП, 128).
Для него произведение искусства - это «художественная модель
мира», как он сформулировал эту мысль в конце своей книги о
поэтике Достоевского1. В русской философской мысли Бахтин - один
из самых выдающихся теоретиков ценности2.
Философия диалога
В бахтинологии утвердилось мнение, что понятие «диалог» -
ключевое для осмысления философских воззрений^Бахтина. «Для
Бахтина «диалог» - корень и основание всех иных определений
человеческого бытия, - бытия, обращенного к «Ты»; бытия, только в таком
обращении и существующего», - отмечает В. С. Библер. И
одновременно бахтинский диалогизм - «коренная форма понимания личности и
сути гуманитарного мышления»3.
Правда, в «Философии поступка» термин «диалог» еще не
употребляется, но имеются все достаточные предпосылки для его
введения. Раз утверждается бытие как множество «неповторимо ценных
личных миров», существование «я-для-себя», «других для меня» и
«я-для-другого», то неизбежно встает вопрос о их взаимоотношении,
об их общении. И это общение в своем высшем выражении
определяется Бахтиным впоследствии как диалог.
В работе «Автор и герой в эстетической деятельности» (середина
20-х гг.) Бахтин моделирует взаимоотношение я и другой через
отношения автора и героя художественного произведения. Автор и герой
здесь выступают как участники единого события - со-бытия. Но в
то же время они, по бахтинскому термину, вненаходимы по
отношению друг к другу. Однако слово «диалог» здесь употребляется край-
1 См.: Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М, 1963. С. 362. Далее
ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках ППД и страницы.
2 Более подробную характеристику теоретико-ценностных воззрений
Бахтина см. в кн.: Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории
эстетической аксиологии. С. 432-444.
3 Библер В. С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. М., 1991.
С. 27, 98.
386
не редко и в обычном смысле («драматический диалог», диалог как
диспут), а не в значении категории - концептуального понятия.
В книге же «Проблемы творчества Достоевского» (1929) Бахтин
характеризует взаимоотношение людей именно как диалог.
Концепция диалога развивается им и во втором издании этой книги,
вышедшей под названием «Проблемы поэтики Достоевского» (1963). По
словам Бахтина, «романы Достоевского сплошь диалогичны» (ППД,
357); «Достоевский сумел прослушать диалогические отношения
повсюду, во всех проявлениях осознанной и осмысленной
человеческой жизни; где начинается сознание, там для него начинается и
диалог <...> Поэтому все отношения внешних и внутренних частей и
элементов романа носят у него диалогический характер, и целое
романа он строил как «большой диалог». Внутри этого «большого
диалога» звучали, освещая и сгущая его, композиционно выраженные
диалоги героев, и, наконец, диалог уходит внутрь, в каждое слово
романа, делая его двуголосым, в каждый жест, в каждое мимическое
движение лица героя, делая его перебойным и надрывным; это уже
«микродиалог», определяющий особенности словесного стиля
Достоевского (ППД, 56-57); «Достоевский обладал гениальным даром
слышать диалог своей эпохи или, точнее, слышать свою эпоху как
великий диалог, улавливать в ней не только отдельные голоса, но
прежде всего именно диалогические отношения между голосами, их
диалогическое взаимодействие» (ППД, 119)1.
На материале произведений великого русского романиста Бахтин
формулирует философскую теорию диалогического отношения
вообще: «Самосознание героя у Достоевского сплошь диалогизовано:
в каждом своем моменте оно повернуто вовне, напряженно
обращается к себе, к другому, к третьему. Вне этой живой обращенности к
себе самому и к другим его нет и для себя самого». И далее: «Вполне
понятно, что в центре художественного мира Достоевского должен
находиться диалог, притом диалог не как средство, а как самоцель.
Диалог здесь не преддверие к действию, а само действие. Он и не
средство раскрытия, обнаружения как бы уже готового характера
человека; нет, здесь человек не только проявляет себя вовне, а впервые
становится тем, что он есть, повторяем, - не только для других, но и
для себя самого».
1 Достоевский подталкивает исследователя его творчества к
диалогическому мировосприятию. А. 3. Штейнберг - ученый секретарь совета «Вольфилы»
(Вольной философской ассоциации), читавший там лекции по философии, а в
1922 г. уехавший в эмиграцию, - писал в книге «Система свободы
Достоевского» (Берлин, 1923) о том, что в мысли Достоевского «господствует
симфоническая диалектика» (с. 35). В заключении книги он отмечал: «Чтобы победить
дьявола, надо вырвать из рук его его диалектическую шпагу. Достоевский учит, как
трудно ею владеть, и он учит ею владеть. Его диалектическая система не
завершение мысли, а школа мысли... Он учит нас упражняться в философском
диалоге» (с. 144).
13*
387
И отсюда делается общий вывод: «Быть — значит общаться
диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. Поэтому диалог,
в сущности, не может и не должен кончиться». В 1961 г. он напишет:
«Диалогическая природа сознания, диалогическая природа самой
человеческой жизни. Единственно адекватной формой словесного
выражения подлинной человеческой жизни является незавершимый
диалог. Жизнь по природе своей диалогична. Жить — значит
участвовать в диалоге — вопрошать, внимать, ответствовать,
соглашаться и т. п. В этом диалоге человек участвует весь и всею жизнью:
глазами, губами, руками, душой, духом, всем телом, поступками. Он
вкладывает всего себя в слово, и это слово входит в диалогическую ткань
человеческой жизни, в мировой симпосиум»1.
Достоевский дает возможность выявить структуру диалога и его
составляющие элементы: «Все в романах Достоевского сходится к
диалогу, к диалогическому противостоянию как к своему центру. Все -
средство, диалог - цель. Один голос ничего не кончает и ничего не
разрешает. Два голоса - минимум жизни, минимум бытия»;
«Основная схема диалога у Достоевского очень проста: противостояние
человека человеку, как противостояние «я» и «другого» (ППД, 339).
Всякое ли противостояние «я» и «другого» .есть диалог?
Достоевский позволяет ответить и на этот вопрос: «диалогическая позиция»
«утверждает самостоятельность, внутреннюю свободу,
незавершенность и нерешенность героя. Герой для автора не «он» и не «я», а
полноценное «ты», то есть другое чужое полноправное «я» («ты еси»).
Герой - субъект глубоко серьезного, настоящего, а не риторически
разыгранного или литературно-условного, диалогического
обращения» (ППД, 84—85). И с другой стороны, «подлинная жизнь личности
доступна только диалогическому проникновению в нее, которому она
сама ответно и свободно раскрывает себя» (ППД, 79).
Бахтин стремится определить специфические особенности
диалогического отношения. В заметках 1959-1961 гг. «Проблема текста
в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт
философского анализа» он отмечает, что «диалогические отношения
носят специфический характер: они не могут быть сведены ни к
чисто логическим (хотя бы и диалектическим), ни к чисто
лингвистическим (композиционно-синтаксическим). Они возможны только
между целыми высказываниями разных речевых субъектов (диалог с
самим собой носит вторичный и в большинстве случаев разыгранный
характер)»2. Бахтин подчеркивает, что диалогические отношения
«глубоко своеобразны и не могут быть сведены ни к логическим, ни к
лингвистическим, ни к психологическим, ни к механическим или
1 Бахтин М. М. Собр. соч. М., 1996. Т. 5. С. 351. Далее ссылки на это
издание даются в тексте с указанием в скобках «т. 5» и страницы.
2 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, С. 296. Далее
ссылки на эту работу даются в тексте с обозначением в скобках ЭСТ и страницы.
388
каким-либо другим природным отношениям. Это особый тип
смысловых отношений, членами которых могут быть только целые
высказывания (или рассматриваемые как целые, или потенциально целые),
за которыми стоят (и в которых выражают себя) реальные или
потенциальные речевые субъекты, авторы данных высказываний» (ЭСТ,
303). Он подчеркивает, что «диалогические отношения - это
отношения (смысловые) между всякими высказываниями в речевом
общении» и «специфика диалогических отношений нуждается в особом
изучении» (ЭСТ, 296).
Своеобразием бахтинского понимания диалога является
осознание его ценностного характера. Ведь, по его концепции, не-алиби в
бытии, и «я» и «другие» представляют собой «индивидуальные
центры ответственности», «ценностные центры». В диалогических
отношениях, которые «нельзя свести ни к чисто логическим, ни к чисто
предметным», «встречаются целостные позиции, целостные
личности» (ЭСТ, 300). «Всякое высказывание, - отмечает Бахтин, -
претендует на справедливость, истинность, красоту и правдивость
(образное высказывание) и т. п. И эти ценности высказываний
определяются не их отношением к языку (как чисто лингвистической
системе), а разными формами отношения к действительности, к
говорящему субъекту и к другим (чужим) высказываниям (в
частности, к тем, которые их оценивают как истинные, прекрасные и т. п.)»
(ЭСТ, 302). И вот продолжение этой мысли: «Всякое живое,
компетентное и беспристрастное наблюдение с любой позиции, с любой
точки зрения всегда сохраняет свою ценность и свое значение.
Односторонность и ограниченность точки зрения (позиции
наблюдателя) всегда может быть прокорректирована, дополнена и
трансформирована (перечислена) с помощью таких же наблюдений с других
точек зрения» (303).
Ценностная специфика диалогических отношений в трактовке
Бахтина проявляется также в том, что они включают в себя «смехо-
вую культуру», «карнавальную жизнь», которая есть «жизнь,
выведенная из своей обычной колеи, в какой-то мере «жизнь наизнанку»,
«мир наоборот» (ППД, 163-164). «Карнавальный смех» также
диалогичен, но это уже диалог культур, ибо он «направлен на высшее -
на смену властей и правд, смену миропорядков. Смех охватывает оба
полюса смены, относится к самому процессу смены, к самому
кризису» (ППД, 169). Бахтин на материале творчества Рабле в контексте
его эпохи показывает природу «карнавальной драмы одновременной
смерти старого и рождения нового мира», которая и есть «большая
линия борьбы двух культур»1.
0 ценностной природе диалогических отношений
свидетельствует и то, что они наиболее адекватно моделируются в художественном
1 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья
и Ренессанса. М, 1965. С. 504, 475.
389
произведении. Поэтому Бахтин строит свою философию диалога,
обращаясь к художественным текстам, и сама его философия
является философией эстетической. В художественном произведении
диалогические отношения могут объединяться понятием полифонии,
эстетико-ценностный смысл которого не подлежит сомнению.
Особую заслугу Достоевского Бахтин и усматривает в создании
«полифонического романа». В заключении своей книги о Достоевском он
прямо говорит «об особом полифоническом художественном
мышлении, выходящем за пределы романного жанра. Этому мышлению
доступны такие стороны человека, и прежде всего мыслящее
человеческое сознание и диалогическая сфера его бытия...» (ППД, 359-360).
Бахтин не ограничивает диалог только художественным
мышлением. По его размышлению, он свойственен также и такому виду
ценностного отношения, как религиозное. Диалог может
осуществляться не только в наличном бытии: «В плане своего
религиозно-утопического мировоззрения Достоевский переносит диалог в вечность,
мысля ее как вечное со-радование, со-любование, со-гласие. В плане
романа это дано как незавершимость диалога, а первоначально - как
дурная бесконечность его» (ППД, 338).
Еще в работе «Автор и герой в эстетической деятельности»
Бахтин стремится определить взаимоотношение Бога через понятия «Я»
и «Другой» и в этом плане отношение к Богу в различных
философско-религиозных концепциях. Предпочтение отдается им
христианству и его этике (см. ЭСТ, 50-52). Бахтин был верующим человеком,
православным христианином. В его заметках 1943 г. имеется такая
запись: «Вера в адекватное отражение себя в высшем другом, Бог
одновременно и во мне и вне меня, моя внутренняя бесконечность и
незавершенность полностью отражена в моем образе, и его вненахо-
димость также полностью реализована в нем» (т. 5, с. 68).
В дальнейшем религиозное мироотношение осмысляется
Бахтиным через понятие «Третий»: «Понимающий неизбежно становится
третьим в диалоге (конечно, не в буквальном, арифметическом
смысле, ибо участников понимаемого диалога кроме третьего может быть
неограниченное количество), но диалогическая позиция этого
третьего - совершенно особая позиция. Всякое высказывание всегда
имеет адресата <...> Но кроме этого адресата (второго) автор
высказывания с большей или меньшей осознанностью предполагает
высшего нададресата (третьего), абсолютно справедливое ответное
понимание которого предполагается либо в метафизической дали, либо
в далеком историческом времени. <...> В разные эпохи и при разном
миропонимании этот нададресат и его идеально верное ответное
понимание принимают разные конкретные идеологические выражения
(бог, абсолютная истина, суд беспристрастной человеческой
совести, народ, суд истории, наука и т. д.)». Притом «указанный третий
вовсе не является чем-то мистическим или метафизическим (хотя при
390
определенном миропонимании и может получить подобное
выражение)...» (ЭСТ, 305-306). Как мы видим, Бог включен в философское
мировоззрение Бахтина, однако его философия не является
религиозной, наподобие религиозной философии Вл. Соловьева, Бердяева,
Булгакова, Флоренского, Эрна, Франка, граничащей с богословием.
Диалогизм в его ценностном значении свойственен, по Бахтину,
вообще гуманитарному мышлению: «Стенограмма гуманитарного
мышления - это всегда стенограмма диалога особого вида: сложное
взаимоотношение текста (предмет изучения и обдумывания) и
создаваемого обрамляющего контекста (вопрошающего,
возражающего и т. п.), в котором реализуется познающая и оценивающая мысль
ученого. Это встреча двух текстов - готового и создаваемого
реагирующего текста, следовательно, встреча двух субъектов, двух
авторов» (ЭСТ, 285). При этом «бесконечный и незавершимый диалог, в
котором ни один смысл не умирает», и образует «большое время»,
тогда как «малое время» - это «современность, ближайшее прошлое
и предвидимое (желаемое) будущее» (ЭСТ, 372).
Философия диалога Бахтина преломилась в его лингвистических
взглядах и в литературоведческих позициях, которые привлекли
внимание филологов не только на родине мыслителя, но и за-рубежом.
Диалог с предшественниками и современниками
Естественно, возникает вопрос, каковы источники эстетической
философии Бахтина? Каковы его отношения с философской
традицией и современной ему философской мыслью?
Диалог с кантианством. В период формирования своих
философских воззрений Бахтин находился под сильным влиянием Канта и
неокантианства. Он Канта читал уже в юности, притом на языке
оригинала. В Петербургском университете он слушал лекции кантианца
А. И. Введенского и читал его труды, которые очень ценил.
Во время пребывания в Невеле и Витебске проводником
некантианского воздействия на него был его друг М. И. Каган, который,
как выше уже отмечалось, прошел неокантианскую школу в самом
прямом смысле слова, будучи прямым учеником Г. Когена, Э. Касси-
рера и П. Наторпа. Бахтин был участником «Кантовского семинара»
и читал курс введения в философию, обращая главное внимание на
неокантианство1. Вместе с тем в бахтинских рукописях первой
половины 20-х гг. обнаруживается как влияние неокантианства, так и
полемика с некоторыми его представителями, в частности с Риккертом.
В то же время в этих трудах стиль изложения несет следы
воздействия феноменологического направления, основанного Гуссерлем. Не
вызывает сомнения, что сама ценностная проблематика заняла в твор-
1 См.: М. М. Бахтин: беседы с В. Д. Дувакиным. С. 260.
391
честве Бахтина столь значительное место благодаря его ориентации
на неокантианство и феноменологию, хотя его собственная
концепция ценности носит вполне оригинальный характер.
Отношение Бахтина к неокантианству и феноменологии можно
определить важнейшим понятием его философии - диалог. И в
разработке самого понятия «диалог» Бахтин вступал в диалогическое
отношение со своими предшественниками. Это понятие возникло еще
в античности и означало «разговор двух» (по-гречески diâlogos -
разговор, беседа). Бахтин знал и ценил капитальный труд о диалоге
немецкого филолога Рудольфа Гирцеля. Знаком он был и со
знаменитым произведением Мартина Бубера «Я и Ты» (1923) (в 1930 г. было
опубликовано его произведение «Диалог») и трудами других
зарубежных исследователей проблемы диалога. Но Бахтин, учившийся в
Петербургском университете, не мог не знать одной из важнейших
проблем, вставшей перед русскими кантианцами - А. И. Введенским
и И. И. Лапшиным, - как возможно постижение «чужого Я» (И. И.
Лапшин в 1910 г. выпустил книгу «Проблема «чужого Я» в новейшей
философии», а в 1914 г. публикует обширную статью «О
перевоплощаемости в художественном творчестве», переизданную в 1922 г., в
которой проблема «чужого Я» ставится на материале художественного
творчества). В рукописи «Автор и герой в эстетической
деятельности» Бахтин вспоминает вопрос, поставленный Н. О. Лосским, которого
он знал по Петербургскому университету: «Возможно ли
непосредственное переживание чужой душевной жизни» (ЭСТ, 56)1. Бахтин не
повторяет какую-либо концепцию бытия и диалога в зарубежной и русской
философии, но вступает с ними в диалогическое отношение,
создавая свою философию универсального диалога.
Диалог с диалектикой. Находится Бахтин в диалогическом
отношении и с таким важным течением мировой философской мысли,
как диалектика. Известно, что слова «диалог» и «диалектика»
родственны. «Диалектика» происходит от греческого слова dialegomai - веду
беседу, рассуждаю - и первоначально означало искусство вести
беседу, т. е. диалог. По мнению Бахтина, «диалектика родилась из
диалога, чтобы снова вернуться к диалогу на высшем уровне (диалогу
личностей)». С его точки зрения, «диалектика - абстрактный
продукт диалога» (ЭСТ, 364, 318). В его записях начала 70-х гг. можно
прочесть: «Диалог и диалектика. В диалоге снимаются голоса
(раздел голосов), снимаются интонации (эмоционально-личностные), из
живых слов и реплик вылущиваются абстрактные понятия и
суждения, все втискивается в одно абстрактное сознание - и так
получается диалектика» (ЭСТ, 352).
1 См.: Лосский Н. О. Восприятие чужой душевной жизни//Логос. 1914. Т. 1.
Вып. 2. Об отношении Бахтина к русской философии см.: Бонецкая Н. К. M. М.
Бахтин и традиции русской философии // Вопросы философии. 1993. № 1.
С. 83-93.
392
Поэтому Бахтин считал, что диалектика, в отличие от диалога,
монологична. По его определению, «монолог как речь, никому не
адресованная и не предполагающая ответа». Правда, «возможны
разные степени монологичности» (ЭСТ, 296). Но все же различие
монолога от диалога для Бахтина принципиально: «Диалог обнимает <?>
высказывания по крайней мере двух субъектов, но связанных между
собой диалогическими отношениями, знающих друг о друге,
отвечающих друг другу, и эта связь (отношение друг к другу) отражается в
каждой реплике диалога, определяет реплику» (т. 5, с. 209-210). В то
время как «монологизм в пределе отрицает наличие вне себя другого
равноправного и ответно-равноправного сознания, другого
равноправного «я» («ты»). При монологическом подходе (в предельном или
чистом виде) «другой» всецело остается только объектом сознания,
а не другим сознанием. От него не ждут такого ответа, который мог
бы все изменить в мире моего сознания. Монолог завершен и глух к
чужому ответу, не ждет его и не признает за ним решающей силы.
Монолог обходится без другого и потому в какой-то мере
овеществляет всю действительность. Монолог претендует быть последним
словом. Он закрывает изображенный мир и изображенных людей»
(т. 5, с. 350-351).
Монологизм - это, по Бахтину, «первородный грех» диалектики,
и он его обнаруживает в учении крупнейшего диалектика Нового
времени - у Гегеля. В книге о Достоевском Бахтин
противопоставляет его диалогический полифонизм гегелевской диалектике: «...Ни в
одном из романов Достоевского нет диалектического становления
единого духа...» (ППД, 35). «Монологическая диалектика Гегеля»,
по убеждению Бахтина, превращает «диалог в один сплошной текст»,
стирает «говорящих субъектов» (ЭСТ, 364). По воспоминанию его
собеседника, Бахтин говорил в 1971 г.: «Диалектика гегелевского типа -
ведь это обман. Тезис не знает, что его снимает антитезис, а дурак-
синтез не знает, что в нем снято»1.
Следует сказать, что при всей четкости отношения Бахтина к
диалектике, главным образом в ее гегелевском варианте, эта проблема
им обстоятельно не исследована. Диалектика в античном смысле
действительно ведет свое происхождение от диалога потому, что сам
диалог носит диалектический характер. Центральное понятие
диалектики - это противоречие. Диалог и представляет собой комплекс
различных противоречий между субъектами. Диалектика
почерпнула саму идею противоречия из диалога и вынесла ее за пределы
взаимоотношения двух субъектов в развитие объективного мира, как бы
его ни понимать. Поэтому объективная диалектика отнюдь не
«монологична». Если угодно, она всецело «диалогична», потому что со-
1 Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное
обозрение. 1993. № 2. С. 88.
393
ткана из противоречий. Монологичным может быть то или иное
изложение диалектики. Монологичным может быть изложение любой
философии, в том числе и философии диалога.
Возможно, что вульгарное толкование диалектики было одним из
оснований отрицательного отношения к ней Бахтина. Но русская
мысль дает многие примеры положительного отношения к
диалектике в ее исторически разнообразных проявлениях1. По нашему
мнению, диалогическая философия Бахтина, вне зависимости от его
собственной трактовки диалектики, насыщена подлинной диалектикой.
В высшей степени диалектическим является само его рассуждение о
том, что «диалектика родилась из диалога, чтобы снова вернуться к
диалогу на высшем уровне (диалогу личностей)» (ЭСТ, 364). Разве
это не превосходный образец диалектического мышления,
фиксирующего переход «тезиса» в «антитезис», а затем - в «синтез» в
порядке «отрицания отрицания»! Бахтин в своей философии диалога
действительно показал, как диалектика снова вернулась «к диалогу на
высшем уровне», не только не перестав быть диалектикой, но став
диалектикой высшего уровня в диалогическом общении личностей.
Диалог с марксизмом. Немалый интерес представляет отношение
Бахтина к марксизму. В рукописях первой половины 20-х гг. нет
никаких следов влияния марксизма на Бахтина, хотя он и упоминает
«исторический материализм» (ФП, 96).
Во второй половине 20-х гг. ситуация несколько изменилась. Одна
за другой появляются книги, в качестве авторов которых указаны
друзья-единомышленники Бахтина: «Фрейдизм. Критический очерк»
(1927) и «Марксизм и философия языка» (1929) Валентина
Николаевича Волошинова (1895-1936), а также «Формальный метод в
литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику»
(1928) Павла Николаевича Медведева (1891-1937).
В бахтинологии не прекращаются споры о том, кто является
действительным автором этих книг. Одни полагают, что они написаны
самим Бахтиным, а указанные на титульных листах авторы - это
только его «маски». Другие же считают, что Бахтин принимал лишь
участие в работе над этими книгами и их авторов нельзя представлять в
качестве марионеток. Нам представляется более убедительной
вторая точка зрения, которой соответствуют и слова самого Бахтина в
его письме от 10 января 1961 г. : «Книги «Формальный метод» и
«Марксизм и философия языка» мне очень хорошо известны. В. Н. Воло-
шинов и П. Н. Медведев - мои покойные друзья; в период создания
этих книг мы работали в самом тесном творческом контакте. Более
того, в основу этих книг и моей работы о Достоевском положена
общая концепция языка и речевого произведения... Должен заметить,
1 В этой связи можно, например, вспомнить, что А. Ф. Лосев последнюю
свою книгу назвал «Страсть к диалектике» (1990).
394
что наличие общей концепции и контакта в работе не снижает
самостоятельности и оригинальности каждой из этих книг»1.
Интересующая нас в этой связи проблема состоит в том, что
отмеченные книги носят марксистский характер, что соответствует
марксистской убежденности В. Н. Волошинова и П. Н. Медведева.
Притом это марксизм не чисто словесный и «маскировочный», что
можно было бы объяснить условиями издания этих книг в конце
20-х гг. Так, в книге о фрейдизме подвергаются аргументированной
критике попытки некоторых марксистов соединить марксизм и
психоанализ - «плоть от плоти, кровь от крови разлагающейся
буржуазной идеологии» и содержится претензия на правильность «данной
нами марксистской оценки этого учения»2. О марксистской
направленности другой книги В. Н. Волошинова «Марксизм и философия
языка» само за себя говорит ее наименование. Критика формализма в
книге «Формальный метод в литературоведении. Критическое
введение в социологическую поэтику» также дается с позиций
марксистского литературоведения, притом порицаются «некоторые
марксисты» за компромисс, выражающийся в полупризнании формализма3.
Правда, в книге самого Бахтина «Проблемы творчества
Достоевского» марксистская позиция не прокламируется, хотя в'первом ее
издании было заявлено «убеждение, что всякое литературное
произведение внутренне, имманентно социологично. В нем
скрещиваются живые социальные силы, каждый элемент его формы пронизан
живыми социальными оценками»4. В протоколе же его первого
допроса в ОГПУ в декабре 1928 г. в графе «Политические убеждения»
было записано: «марксист-революционист, лоялен к советской
власти. Религиозен»5. Нельзя, на наш взгляд, предположить, что Бахтин
назвал себя «марксистом», стремясь показать свою
мировоззренческую лояльность. В таком случае он бы не демонстрировал свою
религиозность. Трудно сказать, что имелось в виду под словами
«марксист-революционист». Но, вероятно, он хотел подчеркнуть свое
отличие от расхожего марксизма, в том числе и официального
марксизма (в 20-е гг. в литературоведении и искусствознании
господствовала упрощенно-примитивная версия марксизма в виде вульгарной со-
1 См.: Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное
обозрение. 1993. № 2. С. 76.
2Бахтин под маской. Маска первая. В. Н. Волошинов. Фрейдизм. М., 1993.
С. 110.
3 Бахтин под маской. Маска вторая. П. Н. Медведев. Формальный метод в
литературоведении. М., 1993. С. 192.
4 Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. М., 1994. С. 3. Этих
слов нет во втором издании книги 1963 г. Но и там повторено утверждение о
том, что «многопланность и противоречивость Достоевский находил и умел
воспринять не в духе, а в объективном социальном мире» (ППД, 37).
5 См.: Конкин С. С, Конкина Л. С. Михаил Бахтин (Страницы жизни и
творчества). Саранск, 1993. С. 181.
395
циологии и не все взгляды «присяжных» марксистов ему
представлялись правильными даже с действительно марксистской точки
зрения в его понимании).
Вместе с тем, по свидетельству С. Г. Бочарова, в июне 1961 г.
Бахтин говорил, что он «не марксист». А на вопрос, заданный в 1974 г.:
«Может быть, вы увлекались какое-то время марксизмом?» - ответ
последовал категорический: «Нет, никогда. Интересовался, как и
многим другим - фрейдизмом, даже спиритизмом. Но марксистом
никогда не был ни в какой мере»1. Этому заявлению не противоречит,
разумеется, обращение к работам создателей марксизма в
диссертации о Рабле, ряде докладов и т. д. (см. т. 5, с. 560, 565, 575).
Как же совместить авторское участие Бахтина в марксистских
книгах о Фрейде, о философии языка, о формальном методе в
литературоведении с его же прямым отмежевыванием от марксизма?
Существует такая версия ответа на этот вопрос: Бахтин-де в этих
книгах, карнавально играя, перевоплотился в марксиста, не будучи им
ни в коей мере. Нам представляется, что более убедительным, чем
эта маскарадная концепция, является предположение о том, что
Бахтин здесь, как и в других своих трудах, вступил в диалог с марксизмом.
Для него марксизм, по его же словам, был..«хорошим врагом»,
который лучше «плохого соратника»2. Не будучи марксистом, Бахтин
отличал вульгаризаторов-марксистов от аутентичного марксизма,
который представляет собой великое достижение человеческой мысли.
В бахтинских рукописях и заметках для себя содержатся нечастые,
но вполне уважительные ссылки на Маркса по проблемам языка и
античного искусства, на его «Экономическо-философские рукописи
1844 года» (см., например, ЭСТ, 306, 316; см. т. 5, с. 304, 338, 345). В
«Немецкой идеологии» Маркса и Энгельса Бахтин даже обнаружил
«диалогическую формулу» (т. 5, с. 213). Как для марксизма, так и для
Бахтина существенное значение имел принцип историзма
(«историческое время») и невульгарный социологизм. Но для Бахтина был
неприемлем «монологизм» марксизма.
Диалог с формальной школой. «Хорошим врагом» была для
Бахтина и формальная школа, что прямо отмечается в конце книги
«Формальный метод в литературоведении». В полемике с формальной
школой формировалась сама эстетика Бахтина. В противоположность
формалистам, противопоставлявшим искусство жизни, уже в первой
опубликованной статье Бахтина «Искусство и ответственность» (1919)
провозглашается взаимоответственность жизни и искусства (ЭСТ, 3-4).
Неприемлемо было для Бахтина отвержение сторонниками ОПОЯЗа
какого бы то ни было философского миропонимания и философской
1 Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное
обозрение. 1993. № 2. С. 76-77.
2 См.: Махлин В. Л. Комментарии // Бахтин под маской. Маска вторая. П. Н.
Медведев. Формальный метод в литературоведении. С. 206.
396
эстетики. В посмертно опубликованных трудах «Автор и герой в
эстетической деятельности» (середина 20-х гг.), «Проблема
содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве»
(1924) Бахтин критикует теорию искусства формальной школы,
которую он называет «материальной эстетикой», прежде всего за
игнорирование ценностной природы художественного творчества и
специфики эстетического мироотношения. Поэтому, по его мнению,
«материальная эстетика не способна обосновать художественной
формы»1. У сторонников «русского формального метода»
«композиционные и жанровые формы стремятся поглотить весь эстетический
объект» (ЛКС, 40). Бахтин решительно возражает против
утверждения формалистов, по которому само содержание является
«моментом формы». Он исходит, по сути дела, из диалектического
положения о том, что несуразно «оставлять термин «форма» при
совершенном отрицании содержания, ибо форма есть понятие коррелятивное
содержанию, которое именно не есть форма» (ЛКС, 53).
«Материальная эстетика» «никогда не имеет дела с эстетическим
объектом». Она «не способна объяснить эстетическое видение вне
искусства: эстетическое созерцание природы, эстетические
моменты в мифе, мировоззрении...» (ЛКС, 37, 41). А без этого нельзя
постигнуть и художественное творчество, поскольку «действительно,
жизнь находится не только вне искусства, но и в нем, внутри его, во
всей полноте своей ценностной весомости: социальной,
политической, познавательной и иной» (ЛКС, 48).
В книге П. Н. Медведева «Формальный метод в
литературоведении», участие Бахтина в написании которой несомненно, дальше
развиваются и обосновываются основные принципы критики
формальной школы, выдвинутые в его рукописях первой половины 20-х гг.
Вместе с тем в «Заключении» книги отмечалось: «Формализм в
общем сыграл плодотворную роль. Он сумел поставить на очередь
существеннейшие проблемы литературной науки и поставить настолько
остро, что теперь обойти и игнорировать их уже нельзя. Пусть он их
не разрешил. Но самые ошибки, смелость и последовательность этих
ошибок тем более сосредотачивают внимание на поставленных
проблемах». И далее: «Мы полагаем, что и марксистская наука должна
быть благодарной формалистам, благодарной за то, что их теория
может стать объектом серьезной критики, в процессе которой могут
уясниться и должны окрепнуть основы марксистского
литературоведения. Всякая молодая наука - а марксистское
литературоведение очень молодо - гораздо выше должна ценить хорошего
врага, нежели плохого соратника»2.
1 Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 33. Далее
ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках ЛКС и страницы.
2 Бахтин под маской. Маска вторая. П. Н. Медведев. Формальный метод в
литературоведении. С. 192.
397
В книге же П. Н. Медведева «Формализм и формалисты» (1934),
написанной без участия Бахтина, критика формализма и формалистов
осуществлялась не только в грубой форме, но и с отбрасыванием всех
их действительных достижений. Вот слова из «Общих выводов» этой
книги: «Если история формализма закончилась, если формализм
разложился и выродился, то далеко не окончились попытки
гальванизировать его труп. Трупный же яд, как известно, особенно ядовит».
В конце своей жизни Бахтин дает оценку формализма, близкую
той, которая содержится в книге «Формальный метод в
литературоведении»: «Мое отношение к формализму: разное понимание специ-
фикаторства; игнорирование содержания приводит к «материальной
эстетике» (критика ее в статье 1924 г.); не «делание», а творчество
(из материала получается только «изделие»); непонимание
историчности и смены (механистическое восприятие смены).
Положительное значение формализма (новые проблемы и новые стороны
искусства); новое всегда на ранних, наиболее творческих этапах своего
развития принимает односторонние и крайние формы» (ЭСТ, 372).
Аналогично отношение Бахтина к структурализму. Он «против
замыкания в текст». По его суждению, в структурализме
осуществляется «последовательная формализация и деперсонализация: все
отношения носят логический (в широком смыеле слова) характер».
Но в то же время он констатирует «высокие оценки структурализма».
«Я же во всем слышу голоса и диалогические отношения между ними.
Принцип дополнительности я также воспринимаю диалогически», -
формулирует он свою собственную позицию (ЭСТ, 372).
Диалогическая позиция Бахтина позволила в дальнейшем прийти к
определенному синтезу между его эстетической философией и тем, что он
назвал «структурализмом», - исследованиями так называемой «Тар-
туско-Московской школы в литературоведении»1.
Полифонический плюрализм
Нельзя забывать, что критический диалог Бахтина с формальной
школой и другими направлениями в эстетике и литературоведении не
был самоцельным. В процессе его у него вырабатывалась собственная
эстетическая теория, в основе которой было ценностное понимание
эстетического отношения человека к миру и ценностная природа
самого искусства. Обстоятельства сложились парадоксальным образом
так, что возрождение теории ценности, в том числе и в эстетике,
осуществилось в середине 50-х гг. без Бахтина, теоретико-ценностные
воззрения которого стали известны лишь в конце 70 - начале 80-х гг.
Бахтин, таким образом, предвосхитил то развитие эстетики и филосо-
1 См.: Егоров Б. Ф. Бахтин и Лотман // Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество
Ю. М. Лотмана. М, 1999. С. 243-258.
398
фии, которое у нас свершилось спустя три десятка лет, после его
раздумий и исканий. Но изучение бахтинских трудов, как оказалось,
имеет не только исторический интерес. Оно составляет важную часть
современного развития эстетической и - шире - философской мысли.
Философия Бахтина, которая возникла и развивалась в диалоге со
многими течениями как зарубежной, так и русской философской
мысли и которую нельзя свести ни к одному из них, представляет собой,
по нашему мнению, определенный вид системного плюрализма. В
основе же этой системности лежит идея диалогических отношений.
Идея диалогических отношений в современном мире имеет
важнейшее значение как в философско-теоретическом плане, так и в
социально-практическом. Изучая творчество Достоевского, Бахтин
пришел к идее социальной и художественной полифонии. Этот термин
взят им из мира музыки, где полифония (по-гречески -
многоголосие) означает многоголосую музыку, в которой самостоятельное
мелодическое развитие каждого голоса и равноправие всех голосов
образует их целостное гармоническое взаимодействие. Полифонии
противостоит какофония (на греческом языке - разноголосица,
нескладица). Притом Бахтин подчеркивает, что «сама эпоха сделала
возможным полифонический роман Достоевского», что «многоплан-
ность и противоречивость Достоевский находил и умел воспринять
не в духе, а в объективном социальном мире» (ПОД, 37). По Бахтину,
«мир Достоевского глубоко плюралистичен», но в то же время он в
определенном отношении подобен образу церкви «в духе
мировоззрения самого Достоевского», где осуществляется «общение несли-
янных душ, где сойдутся и грешники, и праведники», хотя «и образ
церкви остается только образом, ничего не объясняющим в самой
структуре романа» (ППД, 36).
Можно соглашаться или не соглашаться с Бахтиным,
действительно ли полифонизм присущ творчеству великого русского романиста1.
Но сама идея полифонии имеет, по Бахтину, более широкий смысл.
Полифония в искусстве представляет собой не только бахтинский
художественный идеал, но также идеал социальный. Это модель
тех отношений, которые реализуются в действительности при
определенных условиях.
Полифония - это то, что образует единство диалогических
отношений как в самой жизни, так и в сфере различных видов сознания в
качестве полифонического мышления, в том числе и в
художественном творчестве. В полифонии, по Бахтину, «Я» и «Другой» не
растворяются в «Мы», а равнозначно выявляются и объединяются в
«большом диалоге». Диалог - это особый вид человеческих
взаимоотношений, включающий как противоречие, так и определенную меру
1 См., например: ФридлендерГ. Достоевский и мировая литература. Л., 1985.
С 153-155.
399
единства, согласия, без которого невозможно диалогическое
взаимодействие: «Нельзя, с другой стороны, понимать диалогические
отношения упрощенно и односторонне, сводя их к противоречию,
борьбе, спору, несогласию. Согласие - одна из важнейших форм
диалогических отношений». Притом «согласие очень богато
разновидностями и оттенками». Диалогическое отношение согласия - «это
определенное диалогическое событие во взаимоотношениях двоих, а не эхо»
(ЭСТ, 304).
В нашу переломную эпоху - эпоху потрясений и кризисов,
величайших научных и технических достижений человеческого духа,
сопряженных подчас с моральной деградацией, противостояний
людей и государств - идея «большого диалога» обретает жизненно
необходимое значение. Этим, думается, обусловлена актуальность
философии Бахтина и диалог с этой философией.
ФИЛОСОФИЯ И СУДЬБА А. Ф. ЛОСЕВА
Феномен Лосева
Удивительный феномен Лосева уже давно приковывал к себе
внимание, еще при жизни ученого и философа. Его книги, издававшиеся
с 60-х гг. большими тиражами, быстро становились
библиографической редкостью. С 1944 г. и до конца своих дней он был рядовым
профессором Московского государственного педагогического
института им. В. И. Ленина.
Перед девяностолетним юбилеем здравствующего
классического филолога и философа в 1983 г. был задержан выпуск в свет тираж
его книги «Вл. Соловьев». Но уже к столетию Лосева в Московском
государственном университете им. М. В. Ломоносова с 18 по 23
октября 1993 г. под эгидой ЮНЕСКО прошла международная
конференция «А. Ф. Лосев: философия, филология, культура».
Выдающийся русский ученый и философ Алексей Федорович
Лосев (1893-1988), которого по праву называют «последним
классическим мыслителем», был младшим современником и последним
представителем русской философии Серебряного века. Окончив с
золотой медалью классическую гимназию в Новочеркасске, он в 1911 г.
поступил в Московский университет на историко-филологический
факультет, который окончил в 1915 г. как по отделению философии,
так и классической филологии. Его руководителем и учителем был
выдающийся русский психолог и философ Г. И. Челпанов. Он
слушал лекции по новой философии друга Вл. Соловьева - Л. М.
Лопатина. С 1911 г., будучи еще студентом, Лосев, по рекомендации Г. И. Чел-
панова, участвовал в заседаниях Религиозно-философского общества
памяти Вл. Соловьева. Там он познакомился с С. Булгаковым, Н. Бер-
400
дяевым, П. Флоренским, С. Франком, И. Ильиным, Е. Трубецким,
Вяч. Ивановым. Он слушал доклады Л. Шестова и А. Белого. Вяч.
Иванов читал дипломную работу Лосева «О мироощущении
Эсхила». В Религиозно-философском обществе молодой философ и
классический филолог прочел доклад о диалогах Платона. Лосев
выступал с докладами в Вольной академии духовной культуры,
руководимой Н. Бердяевым, в Психологическом обществе при Московском
университете под председательством И. Ильина. В обсуждении его
докладов участвовали П. Флоренский, Н. Бердяев, С. Франк. Работы
Лосева по философии и музыке стали появляться в печати с 1916 г.
Если Бахтин был по достоинству оценен только в конце своей
жизни, то судьба Лосева сложилась иначе. Еще до своего ареста в
1930 г. он приобрел репутацию мыслителя, противостоящего
господствующей идеологии. Он не попал на тот «философский пароход»,
который в 1922 г. вывез из России ряд крупных философов, со
многими из которых Лосев был лично знаком.
В 1922 г. Лосев еще не казался достойным высылки. Он
занимается педагогической деятельностью, получив уже в 1921 г. звание
профессора. Но вот с 1927 по 1930 г. появляется 8 (восемь!) книг,
которые возвестили о существовании выдающегося мыслителя:
«Античный космос и современная наука», «Философия имени»,
«Диалектика художественной формы», «Музыка как предмет логики»,
«Диалектика числа у Плотина», «Критика платонизма у
Аристотеля», «Очерки античного символизма и мифологии», «Диалектика
мифа». На обложке этих книг было написано: «Издание автора». На
самом деле, эти книги выходили в Госиздате (Государственном
издательстве). Но в те времена для того, чтобы издательство не отвечало
за содержание книг, ставилась пометка: «Издание автора».
В. В. Зеньковский в своей «Истории русской философии»,
изданной в Париже в 1950 г., писал, что «Шпет, отправленный в ссылку», и
«замолчавший Лосев, судьба которого оставалась неизвестной»,
«сошли со сцены». Вместе с тем Зеньковский высоко оценивает труды
Лосева 20-х гг.: «В лице Лосева русская философская мысль явила
такую мощь дарования, такую тонкость анализов и такую силу
интуитивных созерцаний, что всем этим с бесспорностью
удостоверяется значительность того философского направления, которое впервые
с полной ясностью было намечено Вл. Соловьевым»1. Высоко
оценивает ранние произведения Лосева и Н. О. Лосский в своей
«Истории русской философии», впервые вышедшей в Нью-Йорке в 1951 г.2
Если бы творческая жизнь Лосева прервалась в 1930 г., он бы
несомненно вошел в историю философской мысли уже своими
книгами 20-х гт. Эти книги, имевшие большой резонанс у философской
1 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. С. 30, 143.
2 См.: Лосский Н. О. История русской философии. С. 372-377.
401
общественности за границей, оставались в спецхранах и были
недоступны на родине философа большинству исследователей. Правда,
их можно было приобрести в букинистических магазинах.
Лосев своими работами 20-х гг. «вызвал огонь на себя». Дело не
только в том, что молодой философ не проявил никакого желания и
намерения приспособиться к господствующей тогда идеологии,
откровенно следуя принципам философского идеализма. Он вступил в,
казалось, донкихотскую схватку с этой идеологией, особенно в
«Диалектике мифа». Там Лосев прямо характеризует марксистскую
идеологию как «коммунистическую мифологию», выявляет ее
противоречия. Неудивительно поэтому, что в апреле 1930 г. Лосев был
арестован; на XVI съезде партии, в газете «Правда» и Институте красной
профессуры его называют «идеалистом-реакционером», «философом-
мракобесом», «наглейшим нашим классовым врагом» и т. п.
Лишь инвалидность Лосева и заступничество первой жены
М. Горького Е. П. Пешковой, а также сестры Ленина М. И.
Ульяновой помогли освобождению Лосева в 1933 г. Но заниматься
философией ему было запрещено. Оставалась классическая филология.
Поэтому на закате своих дней Лосев сказал одному из своих
собеседников: «Я чудом выжил. Классическая филология спасла».
Другой спасительницей Лосева стала эстетика, в которой теоретическая
деятельность не была столь жестко регламентирована, как в чистой
философии, и даже среди марксистов шли споры по важнейшим
эстетическим проблемам. Казалось, столь блестяще начавшееся
явление выдающегося философа ушло в небытие.
Освобожденный по инвалидности, Лосев, лишенный
возможности публиковать свои труды до 1953 г., преподавал в различных
вузах. Только в 1954 г. после долгого перерыва в Ученых записках МГПИ
была опубликована большая его работа «Эстетическая
терминология ранней греческой литературы (эпос и лирика)», а в 1957 г. - книга
«Античная мифология в ее историческом развитии». В 1960 г. -
книга «Гомер». В годы «оттепели» одна за другой печатаются статьи по
античной культуре и эстетике в сборниках, журналах,
энциклопедиях, в качестве предисловий и послесловий ряда книг. И вот в 1963 г.
появляется «История античной эстетики (ранняя классика)»,
ставшая первым томом восьмитомной «Истории античной эстетики». Этот
гигантский по материалу труд, подобного которому нет в мировой
науке, синтезирует основные для Лосева области знания -
философию, эстетику и классическую филологию.
Но круг его интересов оказывается шире. Помимо нескольких книг
по античной философии («Античная философия истории»,
«История античной философии» и др.), множества статей об античной
культуре и специально о литературе в 1978 г. он выпускает «Эстетику
Возрождения», пишет работы по общей эстетике: «История
эстетических категорий» (в соавторстве, 1965), «Проблема символа и
402
реалистическое искусство» (1976), публикует серию статей по
эстетике и истории философии в «Философской энциклопедии». Не
забыта и лингвистика. В 1968 г. издана книга «Введение в общую
теорию языковых моделей». Статьи и доклады 40-70-х гт.
объединяются в объемистый том «Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию»
(1982). Помимо всего этого статьи о музыке, серия статей для
молодежи, собранных в книге «Дерзание духа» (1988), книги о
Владимире Соловьеве (в 1983 г. появляется небольшая книга «Вл. Соловьев»;
после смерти автора в 1990 г. издается книга «Владимир Соловьев и
его время» и в 1994 г. второе издание книги «Вл. Соловьев»).
Но труды Лосева 20-х гг. до начала перестройки не
переиздавались. Однако мировая философская общественность их не забыла. В
1983 г. немецкий исследователь русской философской мысли М. Ха-
гемайстер репринтно переиздал в Мюнхене «Диалектику
художественной формы». И только с 1990 г., уже после смерти автора,
начали выпускаться книги, изданные в 1927-1930 гт. Вновь увидели
свет «Философия имени», «Музыка как предмет логики» и
«Диалектика мифа»1, в 1993 г. - «Античный космос и современная наука», а
затем и другие произведения выдающегося мыслителя2.
Публикация раннего Лосева и посмертно изданные книги
«Страсть к диалектике», «Владимир Соловьев и его время» и многие
другие его труды, а также архивные материалы вызвали новую волну
интереса к Лосеву и споры о характере его философских воззрений.
Его столетний юбилей широко и неформально отмечался
философской и научной общественностью в 1993 г
Предметом дискуссионного обсуждения стал вопрос: в чем суть
философских воззрений Лосева? Как соотносится «ранний» и
«поздний» Лосев? Стал ли «поздний» Лосев марксистом?
Лосевский «идеал-реалистический символизм»
Продолжая традиции «метафизики всеединства» Вл. Соловьева,
Лосев органически сочетал в своих философских воззрениях
феноменологический метод, обоснованный Гуссерлем, с диалектическим
методом, имевшим свои истоки у Платона, неоплатоников и развитым
Шеллингом и Гегелем. Обладая высочайшей философской
эрудицией и культурой, Лосев актуализировал античную философию, учел
1 См.: Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
2 См.: Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. В серии
«Философское наследие» издательства «Мысль» издано 7 томов сочинений
А. Ф. Лосева, в которые вошли и его работы 20-х гг.: «Бытие. Имя. Космос»
(1993), «Очерки античного символизма и мифологии» (1993), «Миф. Число.
Сущность» (1994), «Форма. Стиль. Выражение» (1995), «Хаос и структура» (1997).
В этой же серии в 2001 г. вышла «Диалектика мифа» и впервые опубликованные
дополнения в ней.
403
достижения русской философской мысли, особенно Вл. Соловьева,
феноменологии и неокантианства для постановки и решения
коренных проблем лингвистики, математики, логики, музыки, эстетики,
мифологии и самой истории философии, прежде всего античной.
Лосев наряду с Вл. Соловьевым, Н. Лосским, С. Франком является
системно мыслящим философом. Наметим схематическую канву
системы философии Лосева.
Ключевым понятием лосевской философии является «эйдос». Это
греческое слово, буквально означающее «вид», «образ»,
используется в древнегреческой философии как коренное понятие, категория,
особенно Платоном. По Платону, идеи-первообразы вещей и есть
эйдосы, т. е. идеальные модели вещей. Платоновский эйдос идеален,
но он конкретен, умственно зрим и тем отличается от абстрактного
понятия. В феноменологической философии, основанной Гуссерлем,
эйдос трактуется, как и у Платона, сочетая в себе абстрактность и
конкретность, но не в качестве самостоятельно, субстанционально
существующей идеи, а как высшая мыслительная операция. Таким
образом, в «эйдосе» для Лосева Платон соединяется с Гуссерлем,
диалектика с феноменологией. По определению самого Лосева,
эйдос - «сущность вещи и лик ее», «смысл ее», «предметная сущность»,
«умственно осязаемый зрак вещи»1, явленная сущность2.
Эйдос - ключевое, но не начальное понятие философии Лосева.
Начальное понятие - «Перво-единое». Это понятие подобно
неоплатоновскому понятию «Единое» и соловьевскому «Всеединству». Для
Лосева же «Первое-единое», в сущности, есть Бог, хотя он называет Бога
Богом только в конце «Диалектики мифа». Из «Перво-единого»
проистекает все остальное, прежде всего «эйдос», притом проистекает по
законам диалектики. Именно диалектика, по убеждению Лосева, способна
преодолеть недостаток гуссерлианской феноменологии, которая
ограничивается узрением смысла предмета, видением предмета в его
эйдосе3, «останавливается на статическом фиксировании статически
данного смысла вещи»4. Феноменология необходима как «до-теоретическое
описание», в качестве «первоначального знания вещи как
определенной осмысленности», но подлинное философское рассмотрение дается
диалектикой. «Диалектику я считаю единственно допустимой формой
философствования», - утверждает автор «Философии имени»5.
1 Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Из ранних произведений.
С. 145, 166.
2 См.: Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А. Ф. Форма.
Стиль. Выражение. М., 1995. С. 15.
3 См.: Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Из ранних
произведений. С. 159-160.
4 Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука // Лосев А. Ф. Бытие -
имя - космос. М., 1993. С. 72.
5Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Из ранних произведений.
С. 159, 14.
404
Что же понимается Лосевым под диалектикой? Под диалектикой,
в соответствии с классической философской традицией, Лосев
понимал развитие как переход в свою противоположность, как
движение через противоречие к последующему синтезу. Основной закон
диалектики формулируется им следующим образом: «всякое
диалектическое определение совершается через противопоставление
иному и последующий синтез с ним»1.
Руководствуясь этой диалектикой, Лосев не ограничивает мир
идеальным эйдосом. Идеальное предполагает существование
«иного» - материального. Неприятие Лосевым материализма вызвано не
отрицанием существования материального. Он сам признает это
существование. Он отрицает материалистическую философию,
поскольку она, вопреки диалектике, будто бы совершенно отрицает
«идеальный мир». В «Философии имени» дается такая картина мира с точки
зрения «материалистической мифологии»: «мир, в котором
отсутствует сознание и душа, ибо все это - лишь одна из многочисленных
функций материи наряду с электричеством и теплотой <...>; мир, в
котором мы - лишь незаметная песчинка, никому не нужная и
затерявшаяся в бездне и пучине таких же песчинок, как и наша земля <...> мир,
в котором все смертно и ничтожно, но велико будущее человечества,
воздвигаемое как механистическая и бездушная вселенная, на
вселенском кладбище людей, превратившихся в мешки с червяками, где
единственной нашей целью должно быть твердое и неукоснительное
движение вперед против души, сознания, религии и проч. дурмана,
мир-труп, которому обязаны мы служить верой и правдой и отдать
свою жизнь во имя общего...»2. Это, конечно, упрощенное
толкование материализма.
Лосев не принимает «т. н. диалектический материализм,
кладущий в основу бытия материю», поскольку «материи, в смысле
категории, принадлежит роль совершенно такая же, как и идее», и
«особый идеальный мир есть диалектическая необходимость»3.
Здесь и в дальнейшем он выступает против абсолютной
противоположности идеализма и философского материализма. Образцом для него и
в этом отношении был Вл. Соловьев, мировоззрение которого
характеризуется Лосевым и как идеализм, и как материализм,
утверждающий красоту материи4.
Показательно для мировоззрения Лосева понимание чуда. Чудо
для него не есть «вмешательство высшей Силы или высших сил».
По его мнению, «чудо вовсе не есть нарушение законов природы.
1 Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А. Ф. Форма. Стиль.
Выражение. С. 13.
2 Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. С. 164.
3 Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений.
С 584, 595.
4 См.: Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. С. 624-628.
405
Не нарушение законов природы есть чудо, а, наоборот, установление
и оправдание, их осмысление»1.
Н. О. Лосский определяет философскую позицию молодого
Лосева как «идеал-реалистический символизм». С. С. Хоружий
выражает ее формулой: «Феноменология + диалектика = символизм»2.
Философия Лосева носит символический характер, ибо для него
мир - система выражений: Перво-единое как сущность выражена в
эйдосе, эйдос - в мифе, миф - в символе, символ - в личности,
личность - в энергии сущности, энергия сущности - в имени. Но
«символ» не только элемент этой системы. Он также принцип ее
образования, так как само «выражение есть символ». Следовательно,
символ как выражение «есть соотнесенность смысла с инобытием»3.
Поэтому Лосев символически трактует и миф, и искусство, и
личность, и имя.
Сам по себе символизм не свидетельствует еще об
оригинальности философии Лосева. Символизм в начале века был влиятельным
художественно-философским течением. В России его теоретически
представляли Дмитрий Мережковский, Андрей Белый и близкий
Лосеву Вячеслав Иванов. Философско-религиозный символизм
характеризовал философские воззрения П. Флоренского. «Философию
символических форм» разрабатывал неокантианец Э. Кассирер. Но,
пожалуй, ни у кого символическая философия не имела такого
глубокого философско-теоретического обоснования, как у Лосева. Он
хотел конкретизировать эту философию, проведя ее через различные
области знания, однако исполнить этот замысел он не смог по
нефилософским причинам. Но то, что было сделано им в области истории
философии, эстетики, мифологии, лингвистики, не только не
утратило своего значения, но обрело новую актуальность в связи с
развитием семиотики - науки о знаках и знаковых системах - и
аксиологии, философской теории ценностей.
Исследователи полагают, что философские труды Лосева
обладают значительными теологическими потенциями. Он не писал
специально богословские произведения, но его философия, как и у Вл.
Соловьева, связана была с религией. Лосев следует православной
доктрине энергетизма, по которой сотворенный Богом мир причас-
тен Богу не по сущности, а по энергии. Противостоя разгулу
вульгарного атеизма, автор «Диалектики мифа» с отчаянной смелостью
отстаивал принципы и обряды православия в его
исконно-традиционных формах. «Арьергардный бой русской христианской культуры» -
1 Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений.
С. 538, 539.
2 Хоружий С. С. Арьергардный бой. Мысль и миф Алексея Лосева //
Вопросы философии. 1992. № 10. С. 119.
3 Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы //Лосев А. Ф. Форма. Стиль.
Выражение. С. 15, 32.
406
так характеризует С. Хоружий деятельность Лосева. Образ автора
«Диалектики мифа» - «арьергардный боец»1.
Как обнаружилось во время Международной конференции,
посвященной 100-летию со дня рождения Лосева, он в 1929 г. вместе с
женой Валентиной Михайловной (кстати, венчал их в 1922 г. П. А.
Флоренский) принял тайный монашеский постриг под именем
Андроник, совершенный Афонским архимандритом Давидом в
московской часовне на Таганке. Участники юбилейной конференции
отмечали религиозно-православную направленность философских
исканий Лосева, опирающихся на античную традицию, в особенности на
неоплатонизм. Все это несомненно присуще трудам Лосева 20-х гг.
В конце «Диалектики мифа» Лосев набрасывает проект
«Абсолютной мифологии». Если бы этот проект был реализован, Лосев,
вероятно, стал бы православным богословом, опирающимся на богатства
философской культуры.
Однако Лосев не стал богословом, хотя несомненно продолжал быть
православным христианином, правда не афишируя свою религиозность.
«Скажу по секрету, я христианин», - говорил он своему собеседнику в
конце 1972 г. А в мае 1975 г. он сказал философу В. В. Бибихину, что
ему уже поздно «переключаться сейчас на богословие». «Нет, я буду
уж по-прежнему заниматься Плагином. У меня много материала»2.
Поздний Лосев
Многолетняя философски-подвижническая жизнь Лосева
распадается на три периода.
1. С начала его научной деятельности (участие в работе
Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, доклады на
заседаниях Вольной академии духовной культуры и в
Психологическом обществе при Московском университете, публикация в 1916 г.
статьи «Эрос у Платона») до 1930 г., когда он был арестован с
последующим тюремным заключением.
2. С 30-х до начала 50-х гт. - время вынужденного молчания и
интенсивной работы «в стол».
3. С 1953 г., когда появилась возможность публиковать ранее
обдуманное и вновь написанное, в том числе восьмитомную «Историю
античной эстетики», «Эстетику Возрождения» и многие другие
труды (за этот период их было издано более 500!).
Что же представляет собой в философско-методологическом
отношении этот «поздний Ренессанс» «последнего классического мыс-
1 Хоружий С. С Арьергардный бой. Мысль и миф Алексея Лосева //
Вопросы философии. 1992. № Ю. С. 127.
2 Бибихин В. В. Из рассказов А. Ф. Лосева // Вопросы философии. 1992.
№ 10. С. 143, 146.
407
лителя»? Как соотносится поздний Лосев с ранним? Эти вопросы
возникают главным образом в связи с отношением Лосева к
марксизму. Если в книгах 20-х гг. он отважно критиковал диалектический
материализм, то в книгах и статьях 50-х и последующих годов
имеется множество ссылок на произведения классиков
марксизма-ленинизма, декларирование их методологической важности.
Представления о том, что Лосев «сломался» и получилось таким образом два
Лосевых, довольно распространены.
Показательны в этом отношении воспоминания Я. П.
Анциферова (1889-1958) - историка, написавшего книгу «Душа Петербурга»,
отбывавшего свой срок с А.Ф. Лосевым. Н. П. Анциферов писал о
том, как Лосев читал лекции в «клубе для сотрудников ГПУ»,
которые слушали и заключенные. В лекции «о принципе
относительности Эйнштейна с философской точки зрения» утверждалось, что
«теперь наука строит совершенно новые представления о космосе,
представления, которые дают мощный толчок философской мысли». А
читая «краткий курс по истории материализма», Лосев показал в
заключительной лекции, что «представление о материи все больше
сливается с представлением об энергии». Характерен и такой эпизод:
«Был кружок «друзей книги». Помню, как з-к В. С. Раздольский
делал доклад о книге M. М. Бахтина о Достоевском. Тот же Лосев
сказал: «Разве можно говорить и писать о Достоевском, исключив
Христа!» После собрания я подошел к его жене и сказал ей: «Убедите
Алексея Федоровича воздержаться от таких выступлений». Она
ответила, грустно взглянув на меня: «Всего не перемолчишь». Как
изменился, «перековался» Алексей Федорович, судя по его последним
трудам!»1
Н. П. Анциферов, вероятно, имел в виду ссылки Лосева на
«классиков марксизма-ленинизма». В разговоре с В. В. Бибихиным в 1973 г. сам
Лосев говорил: «Моя церковь внутрь ушла. Я свое дело сделал,
делайте свое дело, кто помоложе. Я вынес весь сталинизм, с первой
секунды до последней на своих плечах. Каждую лекцию начинал и
кончал цитатами о Сталине»2.
Наряду с воззрениями о «двух Лосевых» - «ранним» и «поздним» -
сложность феномена Лосева питает и различные представления о
«едином Лосеве», хотя это единство трактуется подчас
диаметрально противоположно. Так, в юбилейном сборнике «А. Ф. Лосеву к
90-летию со дня рождения», изданном в Тбилиси в 1983 г., долгий
путь мыслителя рассматривался как путь к диалектическому
материализму. Но многие полагают, что Лосев, не меняя сущности
своих взглядов, использовал «символико-выразительные потенции
материалистической философии»3.
1 Анциферов К П. Из дум о былом. Воспоминания. М, 1992. С. 385.
2 Бибихин В. В. Из рассказов А. Ф. Лосева // Начала. 1993. № 2. С. 135-136.
ъГоготишвили Л. А. Ранний Лосев // Вопросы философии. 1989. № 7. С. 144.
408
Но и сама цельность лосевского мировоззрения трактуется по-
разному. Ученик Лосева С. С. Аверинцев упрекал своего учителя в
консервативности мировоззрения еще в первый период его
философской деятельности, в тоталитарно-средневековой трактовке самого
православия, что, по мнению Аверинцева, логически вело позднего
Лосева к тоталитаризму марксизма1.
Что же все-таки было на самом деле? Было два Лосевых или
каким он был, таким и остался? И кем в таком случае был единый
Лосев? Сложный вопрос. Выступая на юбилейной лосевской
конференции, внук П. А. Флоренского - П. В. Флоренский, близко знавший
Лосева, имел основание заявить: «Лосев - это миф, сфинкс».
Менялся ли Лосев? Изменялись ли его взгляды под воздействием
новых обстоятельств жизни, наконец, под влиянием возраста?
Ответить на эти вопросы однозначно отрицательно - значит пренебречь
диалектикой, которой философ поклонялся с начала своей
деятельности до самого конца. Вот один из примеров такого изменения. 19
января 1973 года В. В. Бибихин записывает слова Алексея Федоровича:
«Раньше, когда я был молодой, я распространялся о русской душе,
славянофильские идеи у меня были, Москва - Третий Рим, а
«четвертому не быти». А потом с течением времени я во всем'этом
разочаровался...»2.
Но Лосев оставался Лосевым. Он не перестал быть
православным христианином и философом, верным феноменолого-диалекти-
ческому методу. Обратимся к книге, изданной в 1976 г. и
посвященной предмету его постоянного философско-эстетического интереса -
проблеме символа. Название ее несет печать компромисса:
«Проблема символа и реалистическое искусство». Ограничение искусства
«реалистическим искусством», думаю, дань времени. Ведь в самой-
то книге такого ограничения нет! Трактуя природу символа, Лосев
не кается в своих прошлых идеалистических прегрешениях, не
предает некогда использованный им феноменологический подход, хотя
и не ссылается на Гуссерля. Лосев по существу верен своим
принципам феноменолого-диалектического исследования.
Лосев не отрекался от своих книг 20-х гг. В письме к автору этих
строк от 30 марта 1968 г., делясь впечатлением от прочитанных 2-го
и 3-го томов тартуской «Семиотики» (Труды по знаковым системам
Тартуского университета), он писал: «Я думаю, Вам небезызвестно,
что в молодости, когда еще оставалась некоторая возможность
печатать труды по эстетике символизма, я успел напечатать несколько
больших книг из этой области как теоретического, так и историко-
философского характера (напр., «Философия имени». М., 1927; «Ди-
1 См.: Аверинцев С. С. «Мировоззренческий стиль»: подступы к явлению
Лосева // Вопросы философии. 1993. № 9. С. 22.
2 Бибихин В. В. Из рассказов А. Ф. Лосева // Начала. 1993. № 2. С. 135.
409
алектика художественной формы». М., 1927; «Очерки античного
символизма и мифологии», т. 1. М., 1930; «Диалектика мифа». М, 1930;
«Античный космос и современная наука». М., 1927 и др.) <...> В
настоящее время, на старости лет, я могу только порадоваться, что
тогдашние мои философско-эстетические концепции отнюдь не
умерли, но, пережив страшную эпоху, вновь стали проявлять себя, хотя и
в другом виде»1.
Что касается отношения Лосева к марксизму, то необходимо, по
нашему мнению, иметь в виду ряд обстоятельств. Ссылки на
произведения классиков марксизма-ленинизма сами по себе не
свидетельствуют о реальном мировоззрении. Они у Лосева и у многих других
серьезных ученых носили характер «принудительного
ассортимента»: без этого их работы было трудно опубликовать. Близко знавшие
Лосева имели возможность убедиться в том, что слепой мудрец
хорошо видел, что происходило вокруг.
Но, с другой стороны, отношение Лосева к марксизму
изменилось по сравнению с 20-ми гг. И это изменение было вызвано не только
соображениями конъюнктурного порядка. Во-первых, надо иметь в
виду, что расхожий марксизм 20-х гг. носил вульгарный характер, в
частности вульгарный социологизм претендовал на звание
марксистской социологии, эстетики, литературоведения, искусствознания. Во-
вторых, только во второй половине 50-х гг. стали известны философ-
ско-экономические рукописи Маркса, которые показывали
гуманистические потенции марксизма. В-третьих, стало ясно, что в самом
марксизме есть ряд течений, подчас резко полемизировавших друг с
другом, и Лосев, внимательно следивший за острыми дискуссиями в
философии и эстетике людей, называвших себя марксистами,
поддержал те течения, которые, по его мнению, продолжали лучшие
традиции мировой философской мысли. Об этом свидетельствует
статья «Эстетика», опубликованная в 1970 г. в 5-м томе «Философской
энциклопедии». А. Ф. Лосев выражал дифференцированное
отношение к различным направлениям в советской эстетике 60-70-х гг. и
одобрял исследования проблемы эстетической ценности и
художественной специфики искусства, над которой он работал сам еще
в 20-х гг.
Поэтому ссылки на Маркса в работах позднего Лосева не всегда
дань редакторам. Он вбирал в свою философию все, что считал
важным у Маркса, например диалектический историзм,
социологический подход к человеческим отношениям, разумеется, без какой-либо
вульгаризации. Он учитывал философию Маркса, не становясь
марксистом, как в свое время учитывал философию Гуссерля, не став гус-
серлианцем. В ссылках на Ленина, особенно на его конспекты тру-
1 Письмо Лосева опубликовано статье: Столович Л. Н. А. Ф. Лосев о
семиотике в Тарту // Новое литературное обозрение. 1994. № 8. С. 99.
410
дов Гегеля, опубликованные в «Философских тетрадях»,
подчеркивались общедиалектические положения, которым Лосев был верен
всегда, что отнюдь не делало его ленинцем.
Определяя в 1934 г. методологические основы своего курса
лекций по истории эстетических учений, Лосев следующим образом
самоопределил свое философское мировоззрение в соотношении со
своими предшественниками: «Что же со мною делать, если я не
чувствую себя ни идеалистом, ни материалистом, ни платоником, ни
кантианцем, ни гуссерлианцем, ни рационалистом, ни мистиком, ни
голым диалектиком, ни метафизиком, если даже все эти
противоположения часто кажутся мне наивными? Если уж обязательно нужен
какой-то ярлык и вывеска, то я, к сожалению, могу сказать только
одно: я - Лосев! Все прочее будет неизбежной натяжкой,
упрощенчеством и искажением, хотя и не так трудно уловить здесь черты
длинного ряда философских систем, горячо воспринятых в свое время и
переработанных когда-то в молодом и восприимчивом мозгу»1.
Такая философская позиция в случае Лосева не представляет собой
эклектическую мешанину различных и подчас противоположных
теоретических взглядов, а есть особого рода системный плюрализм,
характерный для таких русских мыслителей, как Герцен, Лавров,
Розанов, Шпет, Бахтин.
Лосев оставался Лосевым и в молодости, и в старости. В своей
«Эстетике Возрождения» (1978) он не побоялся выступить против
укоренившейся в господствующей идеологии концепции
Средневековья и Возрождения. Он смело выступил в защиту любимого им Вл.
Соловьева, философия которого в лучшем случае замалчивалась, а
при упоминании характеризовалась как
реакционно-идеалистическая в течение многих лет. Даже получив возможность публиковать
свои труды после смерти Сталина, Лосев оставался опальным
философом. Он не был избран даже членом-корреспондентом Академии
наук. Лишь незадолго до его смерти грандиозная «История античной
эстетики» была отмечена Государственной премией.
Сказанное выше не исчерпывает феномена Лосева. Лосев - одна
из загадок XX в. Но подняться на уровень вековой загадки мог
только очень крупный мыслитель и человек. История все расставляет по
своим местам. И уже сейчас можно сказать, что Алексей Лосев - один
из значительнейших мыслителей прошлого столетия, в течение
которого он жил нелегкой, но мудрой жизнью. Поэтому и сама эта
подвижническая жизнь обрела философский смысл.
1 Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. С. 356.
XV
РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
И ПОЛИТИКА
Евгений Трубецкой и Лев Карсавин, Сергей Булгаков и Павел
Флоренский, Николай Бердяев и Лев Шестов, Николай Лосский и
Семен Франк, как и другие русские религиозные мыслители первой
половины XX в., в той или иной мере проецировали свои воззрения в
область социальных отношений и в ней находили проблемы,
требовавшие философского осмысления. Глубочайшие общественные
потрясения, вызванные мировой войной, революцией и Гражданской
войной, началом строительства социалистического общества,
эмиграцией большого количества людей, в том числе ряда крупных
философов, - все это до предела обостряло внимание отечественных
мыслителей к вопросам общественно-политическое жизни и вызывало у
них стремление осознать происходящее.
Здесь мы обратимся к творчеству И. А. Ильина и Г. П. Федотова -
философов, религиозные воззрения которых были тесно сопряжены
с их политико-социальной позицией и активной публицистической
деятельностью, пожалуй, в большей степени, чем у других
религиозных мыслителей. Притом сопоставительное рассмотрение их
взглядов представляет особый интерес еще и потому, что они на основе
своего религиозного учения делают совершенно различные, если не
сказать противоположные, социально-политические выводы. Труды
Ильина и Федотова, запрещенные в СССР в течение многих лет, с
начала 90-х гг. начали активно издаваться и переиздаваться,
обнаруживая свою актуальность, занимая видное место в идейном арсенале
некоторых политических деятелей современной России.
ДУХОВНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ И. А. ИЛЬИНА
Начало философской деятельности
Иван Александрович Ильин (1883-1954) родился в Москве, в
семье присяжного поверенного. Юридическая деятельность отца
послужила примером для четырех его сыновей, в том числе и для
Ивана. Он, окончив с золотой медалью московскую гимназию, поступил
в 1901 г. на юридический факультет Московского университета.
Направление научных интересов Ильина было в значительной мере
определено его университетским учителем Павлом Ивановичем Нов-
412
городцевым (1866-1924), который сочетал юриспруденцию с
философией, исследуя философские основания права и морали, будучи
специалистом в области истории философии права. На факультете
преподавал и философ-правовед Е. Н. Трубецкой, один из близких
друзей и сторонников учения Вл. Соловьева. Через него и его брата
С. Н. Трубецкого Ильин был приобщен к соловьевской традиции
русской философии. Е. Н. Трубецкой предложил оставить Ильина при
университете для приготовления его к профессорскому званию. В
1909 г. он становится приват-доцентом на университетской кафедре
энциклопедии права и истории философии права.
В 1910-1912 гг. Ильин находился в заграничной командировке в
университетах Германии и в Париже. Во время этой поездки он
непосредственно знакомился с новейшими течениями
западноевропейской философии, участвуя в работе семинаров Г. Риккерта, Г. Зимме-
ля, Э. Гуссерля. Особое значение имело общение с последним. В
письме 1911 г. к Л. Я. Гуревич Ильин писал, что все лето провел у
Гуссерля - «возродителя» феноменологического метода. По словам
Ильина, этот метод заключается в следующем правиле: «анализу того
или другого предмета должно предшествовать интуитивное
погружение в переживание анализируемого предмета». Этот метод «дает
и, несомненно, может дать массу нового и удивительного,
непредставимо-ценного по своему значению» и даже «есть единственный
путь» «в гуманитарных, а особенно в философских областях»1.
Затем он феноменологический анализ называет
«интроспективно-аналитическим выделением сущности из явления»2.
Со студенческих лет Ильин основательно и творчески изучал
историю философии. Он написал кандидатские сочинения «Об
идеальном государстве Платона» (1903), «Об учении Канта о «вещи в себе»
в теории познания» (1905), сочинения 1906-1909 гг. об Аристотеле,
Фихте, Шеллинге, Гегеле, Руссо. Наряду с работами философско-
правого характера (в 1910 г. в журнале «Вопросы философии и
психологии» была напечатана статья «Понятия права и силы») и
феноменологического описания человеческого общения (в 1912 г. в
журнале «Русская мысль» вышла в свет его статья «О любезности») Ильин
целеустремленно переосмысляет историю философской мысли в
аспекте вырабатываемого им понимания человеческой
индивидуальности. Еще в 1907 г. он писал: «Нет на свете ничего прекраснее
индивидуального, тем более прекраснее - прекрасного индивидуального» (там
1 «Нет на свете ничего прекраснее индивидуального...» Из
неопубликованных писем И. А. Ильина к Л. Я. Гуревич // Вопросы философии. 1996. № 2.
С 112. Л. Я. Гуревич (1866-1940) - театровед, журналистка, писательница,
переводчик, литературная сотрудница К. С. Станиславского - была двоюродной
сестрой И. А. Ильина, с которой он находился в дружеских отношениях.
2 Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1994. Т. 3. С. И. Далее ссылки на это
издание даются в тексте с указанием в скобках тома и страницы.
413
же, с. 106). В 1911 г. в журнале «Вопросы философии и психологии»
печатается его статья «Идея личности в учении Штирнера (опыт по
истории индивидуализма)». Эта же проблема в
теоретико-познавательном ключе рассматривается им в статье, опубликованной в том же
журнале, «Кризис идеи субъекта в наукоучении Фихте Старшего».
Одновременно Ильина волнует проблема взаимоотношения
философии и религии, которую он также рассматривает на историко-
философском материале в статьях «Шлейермахер и его «Речи о
религии» (1912) и «Философия Фихте как религия совести» (1914). В
дальнейшем проблему соотношения религии и философии он
теоретически решает для себя в трех речах 1914—1923 гг. «Религиозный
смысл философии». Философия для него есть «душевно-духовное
делание» (т. 3, с. 23). Она должна основываться «на самостоятельно
добытом опыте и лично испытанной очевидности» (т. 3, с. 30). Она
призвана преодолеть «опасность рассудка, отрывающегося от
живого предметного опыта и интуиции» (т. 3, с. 34). «Философия не в
отвлеченности, не в сплетениях хитроумия и не в праздно-лукавом
мудровании. Нет, настоящая философия духовна, опытна, честна и
проста; и именно в этих свойствах своих, - по мнению Ильина, - она
приближается к настоящей религии» (т. 3, с. 35). В его понимании
«философия с самого начала приняла в себя тот самый предмет, в
аффективно-иррациональном переживании которого пребывала
религия», и поэтому «в жизни философа душа является орудием бого-
познания» (т. 3, с. 52, 53).
Интерпретация философии Гегеля
Из философов прошлого Ильина больше других привлекает
Гегель. В 1912 г. в журнале «Русская мысль» он публикует статью «О
возрождении гегелианства», где показывает актуальность гегелевской
философии для современной философской мысли, развитие которой
позволяет «при интуитивном углублении в духовную атмосферу
философии Гегеля»1 по-новому понять эту философию. И не только
понять, ибо «возрождение гегелианства» может дать «живое
оплодотворение к самостоятельному философскому творчеству» (1,50).
Философия Гегеля, по мнению Ильина, оказалась созвучной
стремлению новейших течений европейской философии - феноменологии
Гуссерля, «философии жизни» - к интуитивизму в постижении
своего предмета, так как «диалектический метод есть у Гегеля результат
интуитивистического познания» (I, 51). По примеру Гегеля
философия как «метафизическое мировоззрение» сможет осуществить
«свободный подход к самому предмету», подход, который «при надлежа-
1 Ильин И. А. Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 49. Далее ссылки на это издание
даются в тексте с указанием в скобках римскими цифрами тома и арабскими -
страницы.
414
щем углублении неизбежно приведет рано или поздно к постановке
последних проблем, определяющих то, что называется философским
мировоззрением» (I, 52).
Такое отношение к философии Гегеля делает Ильина
продолжателем давней традиции гегельянства в русской философской мысли,
вплоть до докторской диссертации его учителя П. И. Новгородцева
на тему «Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве». Ильин
включается в неогегельянское течение современной ему
западноевропейской философии, возродившей интерес к Гегелю и
переосмыслявшей его философию для решения новых проблем. Порой самого
Ильина именуют русским гегельянцем, учитывая его труды о
гегелевской философии 1912-1918 гг. Однако, имея в виду его
последующую философскую деятельность, правильнее было бы сказать, что
он прошел и закончил высшую школу гегелевской философии и
неогегельянства, не оставаясь ее «вечным студентом».
В период с 1914 по 1917 г. Ильин публикует в журналах «Логос»
и «Вопросы философии и психологии» шесть капитальных статей о
различных аспектах философии Гегеля. В начале 1918 г. на основе
этих статей выходит его двухтомная книга «Философия Гегеля как
учение о конкретности Бога и человека». Эта книга - одно из лучших
произведений в мировой историко-философской литературе,
посвященных гегелевской философии. Она, говоря словами ее автора,
осуществила «тайну художественного перевоплощения», будучи
«художественным воспроизведением философского акта» великого
мыслителя, стремясь «увидеть тот предмет, который он видел и которым он
жил»1. Вместе с тем Ильин не ограничивает себя только задачей
воссоздания гегелевской системы. Как он писал в конце предисловия к
своей книге, «философское значение гегелианства не в том, чтобы уче-
ничествовать, но в том, чтобы учиться самостоятельному и
предметному знанию о самом главном, что есть в жизни человека» (ФГ, 22).
Кратко остановимся здесь на выяснении того, в каком ракурсе
автор книги анализирует гегелевскую философию и в каком
направлении его мысль движется, отталкиваясь от Гегеля.
Философия Гегеля интерпретировалась самым различным
образом, и в ней выдвигались как доминирующие и наиболее значимые
разные ее стороны. Так, для марксизма наиболее важной и ценной
частью этой философии был диалектический метод. Ильин,
напротив, полагает, «что «диалектика» не есть ни главное содержание, ни
высшее достижение философии Гегеля» (ФГ, 113). Такое
утверждение, конечно, отнюдь не означает, что он игнорирует гегелевскую
диалектику. В его книге дается объективное ее изложение. Он
подчеркивает, что «Гегель никогда не испытывал диалектику как «субъек-
1 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека.
СПб., 1994. С. 17,18,19. Далее ссылки на это издание даются в тексте с
указанием в скобках ФГ и страницы.
415
тивную» или тем более «произвольную» игру понятиями» (там же).
Для него «диалектика есть не метод человеческого субъекта,
прилагаемый или применяемый к предмету; но, прежде всего, метод
познаваемого объекта». «Гегель не устает описывать диалектику как
объективный ритм предмета». Притом этот ритм «закономерный».
Основное начало диалектики Гегеля Ильин усматривает в
«противоречии»: «Логическое, внутреннее «противоречие» есть необходимое
и драгоценное состояние понятия: без него немыслим весь процесс
диалектического развития» (ФГ, 115, 119, 121).
Но Гегель, по Ильину, абсолютизируя диалектическое
противоречие, несправедливо отрицает законы формальной логики (см. ФГ,
123). По сути дела, с его точки зрения, диалектика Гегеля
представляет собой высший тип рациональности, подымающийся над
«низшею, рассудочною сферой» (ФГ, 127). В этой-то сфере и применимы
законы формальной логики, в том числе и формально-логический
«закон противоречия», запрещающий об одном и том же предмете в
одном и том же отношении что-либо утверждать и одновременно это
же отрицать. Ильин резонно отмечает, что формальная логика и
диалектика компетентны в различных областях: первая запрещает
«смысловое противоречие», противоречие мсжду полярно
противоположными, несовместимыми суждениями (они называются в
логике контрарными и контрадикторными суждениями). Он считает,
что «противоречие», на котором покоится диалектика, не есть
смысловое противоречие в его чистом и строгом виде». Диалектическое
противоречие - противоречие не субъективное, а объективное.
Ильин усматривал «сущность диалектики» в том, что «единство и побед-
ность ее процесса покоятся именно на том, что противоречия ее не
контрадикторны, а примирения ее нерасторжимы» (ФГ, 123, 132).
Гегелевская рациональность - это не рациональность
«субъективного рассудка», следующего законам формальной логики, а
разумная рациональность, постигающая объективные законы
диалектики. Поэтому-то сфера Разума с ее диалектическими
закономерностями не укладывается в «прокрустово ложе» рассудка. Ильин
подчеркивает, что «диалектическое состояние понятия было не
придумано Гегелем, а интуитивно усмотрено им в самой природе
познаваемого предмета». Следовательно, высшая рациональность
диалектики не противостоит интуиции, а предполагает ее. Ильин даже
считает, что «по методу своего философствования Гегель должен быть
признан не «диалектиком», а интуитивистом, или, точнее,
интуитивно мыслящим ясновидцем». Гегель попытался «пропитать самый
разум глубиною иррационального. Этот замысел его уже скрывал в
себе некоторое примирение между «рационализмом» и
«иррационализмом»; и замечательно, что Гегель видел в этом примирении не
уступку чистого разума, а, наоборот, утверждение и обнаружение
высшей Разумности». В гегелевских «конструкциях» «строгость
416
рационализма сменяется романтическим приятием
иррационального» (ФГ, ИЗ, 115,491,232).
Сочетание строгого рационализма с «приятием
иррационального» у Гегеля обусловлено его трактовкой мироздания и самой
сущности Божества. По формулировке Ильина, «учение Гегеля состоит в
том, что Понятие, открывающееся спекулятивной мысли, есть само
Божество и что оно есть единственная реальность». Если, как учил
Гегель, абсолютное Понятие, Абсолютная идея, или Бог, охватывает
собою все сущее, «исчерпывает собою всю совокупность
реальности», то такая философия, как считает Ильин, «исповедует пантеизм»
(ФГ, 160, 171, 168).
Такой пантеизм и обусловливает знаменитое гегелевское
положение: «все разумное действительно», ибо, по Ильину, «Разум не
только имманентен миру, но он присутствует в нем целиком; все, что он
создал в себе в своем домирном бытии, он отпустил в мир и внедрил
в свое инобытие». Однако, «несмотря на это, мир не свободен ни от
хаоса, ни от зла, ни от несчастия». И в результате этого «Разум ведет
противоразумную жизнь не только в «природе», но и в жизни
человечества» (ФГ, 226, 227, 462). Гегель, по убеждению Ильина, не в
состоянии разрешить это противоречие между реальным
эмпирическим миром, которому свойственно зло, сосуществующее с добром,
«живая красота» и «живой хаос» (см. там же, 497-498, 480), с одной
стороны, и Божеством, благодаря которому «все благодатно», - с
другой. Гегель, таким образом, оказался не в состоянии обосновать
теодицею, т. е. оправдать Бога, благого по определению, несмотря
на факт существующего зла в созданном им мире. Гегелевская
философия «бессильна показать, что в Боге все благодатно и
божественно». Более того, «если мир всем своим составом входит в подлинную
ткань Божией жизни, то он обнаруживает в этой ткани присутствие
хаоса, зла и страдания». Ильин делает вывод о том, что по логике
гегелевской системы «потенция потенции зла скрывается уже в
самой до-мирной и чистой природе Божества» (там же, 495, 498-499).
В книге Ильина показано, как рационализм Гегеля, его панлогизм
(т. е. стремление единой логической системой охватить всё сущее),
его обожествление Понятия, сведение самого Бога к Понятию
«приводит к глубокому конфликту с иррациональною стихиею бытия»,
ибо «эмпирический мир ведет неразумное, противоразумное,
иррациональное существование». Это придает философии Гегеля, по
мнению Ильина, трагический характер, поскольку «эмпирическая
стихия как потенция зла имманентна миру и Богу» и она «есть живой
источник Божиих страданий». И «если человеку суждена
трагическая неудача в деле самоосвобождения, то это потому, что
трагическая неудача входит органически в судьбу Божества». Незаметно для
себя Гегель раскрывает, что «поэма Божия пути есть по существу
трагедия Божиих страданий» (ФГ, 487, 478, 498, 468, 476).
14-99
417
Как сопротивляться злу?
Книга «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и
человека» вышла в начале 1918 г. 18 мая этого года состоялась ее
защита в качестве диссертации в Московском университете1.
Научно-философский уровень ее был столь высок, что Ильину была
присуждена не только степень магистра, но и доктора государственных наук.
Оппонентами были П. И. Новгородцев и Е. Н. Трубецкой. Труд
Ильина о Гегеле был написан в академических традициях; автор писал
«все о нем, все о Гегеле», не делая никаких политических выводов. И
только по тому, какое значение автор книги придавал проблеме зла в
мире, можно было догадываться, как эта проблема волновала не
только Гегеля, но и его самого.
В своей публицистической деятельности Ильин был отнюдь не
нейтрален. Уже во время Первой мировой войны он выступает с
лекциями о войне и патриотизме, издает брошюру «Духовный смысл
войны», пишет работу «Основное нравственное противоречие
войны». Свой политический символ веры философ четко выразил в
письмах 1914-1915 гг. «Армия, - писал он, - должна стать
вещественным выражением духовного творческого подъема в стране. Дух
должен понести армию к победе, а страну к обновлению. Иначе не
стоит жить!» Складывается его концепция духовного национализма,
противостоящая не только противникам патриотизма, но и
националистам, приближающимся по своим взглядам к черносотенцам. После
Февральской революции 1917 г. Ильин выпускает ряд брошюр:
«Партийная программа и максимализм», «О сроке созыва
Учредительного собрания», «Порядок или беспорядок?» и др. После
Октября 1917 г. философ становится на сторону активных идейных
противников Советской власти. Он шесть раз арестовывался, и осенью
1922 г. был выслан из Советской России. Перед высылкой Ильин
находился под арестом и был освобожден по распоряжению Ленина. В
этом сыграла свою роль книга Ильина о Гегеле, почитателем
которого был глава Советского государства, судя по его «Философским
тетрадям».
Оказавшись в эмиграции, Ильин включился не только в
философско-религиозную деятельность (он стал профессором Русского
научного института в Берлине), но и в активную работу по
идеологическому обоснованию белого движения. Первому тому «Летописи
Белой борьбы» (Берлин, 1926 г.) была предпослана статья Ильина
«Белая идея». В таком же идейном ключе были написаны многие его
статьи и брошюры, такие, как «Родина и мы», «Основы борьбы за
1 Ильин выпущен был на свою защиту из Лубянской тюрьмы по ходатайству
руководства юридического факультета университета, а один из оппонентов -
П. И. Новгородцев должен был в то время скрываться от ареста.
418
национальную Россию» и др. Как философско-религиозное
обоснование борьбы с большевизмом была задумана книга Ильина «О
сопротивлении злу силою» (1925), посвященная «белым воинам,
носителям православного меча» (см. I, 303).
Название его книги полемически направлено против учения Льва
Толстого о непротивлении злу. Значительная часть ее представляет
собой критику толстовского учения, в котором Ильин видит
«учение, узаконивающее слабость, возвеличивающее эгоцентризм,
потакающее безволию, снимающее с души общественные и гражданские
обязанности» (I, 306). «Непротивление злу насилием» означает, по
Ильину, «ложную видимость согласия с духом Христова учения» и
есть «приятие зла» (1,307). Положения Евангелия «не противься
злому» (Мф. V, 39), «любить врагов и прощать обиды» он
истолковывает не как призывы разоружиться перед лицом зла, «любить врагов
Божиих», а как чисто личное отношение к личным врагам, ибо
«настоящее, религиозно-верное сопротивление злодеям ведет с ними
борьбу именно не как с личными врагами, а как с врагами дела Бо-
жия на земле» (I, 405).
Проблема, решение которой предлагает Ильин, - «о духовной
допустимости сопротивления злу посредством физического понуждения
и пресечения» (1,346). К этой проблеме Ильин подходит не только как
философ, но и как юрист, которого с начала его научной деятельности
волновал вопрос о соотношении права и силы (статья «Понятия права
и силы» была его первой работой, опубликованной в 1910 г.).
В книге много внимания уделяется выяснению того, не являются
ли меры физического понуждения и пресечения и такая крайняя мера,
как смертная казнь, сами по себе уже проявлением зла, как считают
сторонники непротивления злу насилием? Для автора несомненно
то, что «вопрос о нравственной ценности внешнего физического зас-
тавления зависит не от «внешней телесности» воздействия и не от
«волевой преднамеренности» поступка, а от состояния души и духа
физически воздействующего человека» (I, 335).
Ильин отдает себе отчет в том, что «физическое понуждение и
заставление» могут использоваться чрезмерно, но злоупотребление
этими мерами не есть свидетельство их изначального зла.
«Чрезмерность, - считает он, - идет не от средства, а от неумеренного
человека; неуместность или несвоевременность данного лекарства не
свидетельствует о его «злых» свойствах; мышьяк отравляет, но мышьяк
и вылечивает, и не наивно ли думать, что бездарный или неумелый
хирург, вообразивший к тому же, что оперирование есть панацея, -
компрометирует хирургию? Без крайности не следует ампутировать;
значит ли это, что ампутация сама по себе есть зло и что
ампутирующий делает свое дело из мести, зависти, властолюбия и злости?»
(1,333). По его убеждению, «физическое воздействие допустимо
тогда, когда оно необходимо, а необходимо оно тогда, когда душевно-
14*
419
духовное воздействие недостаточно, недействительно или
неосуществимо» (I, 395). Для «абсолютного злодея» предусматривается
«смертная казнь» (см. I, 397, 433, 436).
Автор книги отмечает, что признание смертной казни
справедливой «по отношению к злодею» «не избавляет нас от основного
вывода, утверждающего, что эта справедливая мзда не может и не должна
признаваться нравственно-совершенным обхождением человека с
человеком» (I, 452). Для того чтобы оправдать насильственные
методы борьбы со злом, понимая их нравственную уязвимость, Ильин
разводит такие понятия, как неправедность, с одной стороны, и грех -
с другой, ибо «всякий грех есть разновидность неправедности, но
далеко не всякая неправедность есть грех» (1,452). Он понимает, что
меры физического воздействия на других людей, вплоть до смертной
казни, неправедны, так как не соответствуют христианскому
представлению «о нравственно-идеальном отношении человека к
человеку» (1,449). Однако, поскольку эти меры направлены против
носителей зла, они необходимы при всей их неправедности и,
следовательно, негреховны. «Человек совершает не то, что ему практически
запрещено, а то, что составляет его практическую обязанность. Он
творит не грех, а несет служение. И служение его, неправедное по
способу действия, не может быть признано делом греховным, злым
или порочным» (I, 453).
Но если борьба добра со злом делает допустимыми даже
неправедные действия, превращая их в «негреховное (!) совершение
неправедности» (I, 454), то не может не возникнуть вопрос: что такое
добро и что такое зло? Ильин убежден, что на этот вопрос он
отвечает с христианско-православной точки зрения. Он пишет: «Добро есть
одухотворенная (или, иначе, религиозно-опредмеченная, от слова
«предмет») любовь, зло — противодуховная вражда. Добро есть
любящая сила духа, зло - слепая сила ненависти. Добро по самой
природе своей религиозно - ибо оно состоит в зрячей и целостной
преданности Божественному. Зло по самому естеству своему проти-
ворелигиозно, ибо оно состоит в слепой, разлагающейся отвращен-
ности от Божественного» (I, 316).
Отсюда следуют его практические выводы о необходимости
борьбы со злом «в условиях революционных потрясений, гражданских и
международных войн; в этих условиях необходимость оборонять
родину, веру и святыни ставит человека в положение не воспитателя,
а воина» (I, 436). В эпоху «меча и крови» «отрицание и пресечение»
«доходят до максимума и до внешнего закрепления в казни злодея и
в убийстве на войне» (I, 437, 443). Так, в середине 20-х гг., после
окончания Гражданской войны, Ильин обосновывает задачи белого
движения, призывая, по сути дела, к новой гражданской войне.
Книга «О сопротивлении злу силою» вызвала бурные отклики в
различных слоях русской эмиграции. Отношение к ней в Советском
420
Союзе было, естественно, резко отрицательным. Но далеко не все
соотечественники Ильина, разделявшие с ним эмигрантскую
судьбу, отнеслись к его книге положительно. В своей статье
«Предостережение» 3. Гиппиус хлестко определила идеи Ильина как «военно-
полевое богословие». Многие критики, в том числе такие
мыслители, как В. В. Зеньковский и Ф. А. Степун, обвиняли его в
отступлении от христианских принципов. Н. А. Бердяев посвятил книге
Ильина критическую статью «Кошмар злого добра», в которой дал свою
резко отрицательную оценку как религиозной, так и собственно
философской и социальной позиции автора. Бердяев писал, что Ильин
в свое время написал «прекрасную книгу о Гегеле», но в своей книге
«О сопротивлении злу силою» «ныне отдал дар свой для духовных и
моральных наставлений организациям контр-разведки, охранным
отделениям, департаменту полиции, главному тюремному
управлению, военно-полевым судам. Может быть, такие наставления в свое
время и в своем месте нужны. Но они принижают достоинство
философа. «Чека» во имя Божье более отвратительно, чем «чека» во
имя диавола»1. Но дело не только в том, что Ильин «весь в законе»,
что он сторонник «сопротивления злу силой и даже насилием», в
котором, по словам Бердяева, «мало кто сомневается сегодня»
(«Путь», 469, 463).
По мнению Бердяева, весь «пафос Ильина в том, что он кесарю
воздает Божье», вопреки известному изречению Христа о том, что
кесарю нужно воздавать кесарево, а Богу Божье, «он придает
принуждению, идущему от государства, благодатный характер - оно
превращается в непосредственное проявление любви и духа, как бы
действие самого Бога через людей. Все реакционные и революционные
инквизиторы, начиная с Торквемады и до Робеспьера и
Дзержинского, почитали себя носителями абсолютного добра, а нередко и
любви. Они убивали всегда во имя добра и любви. Это - самые опасные
люди. Дух этих людей гениально изобличал Достоевский. И. Ильин
хочет дать ныне философское обоснование этому опасному типу»
(«Путь», 467). В этом Бердяев и усматривает в книге Ильина, как это
ни парадоксально звучит в отношении идеолога белогвардейского
движения, «яд большевизма».
Разумеется, такое объяснение звучало нелепо для самого
Ильина, который мерило добра и любви видел в Боге (см. I, 410, 450);
однако сам же он утверждал, что «всякая зрелая религия не только
открывает природу «блага», но научает борьбе со злом» (I, 310). И
хотя он лично отдает предпочтение разработке проблемы
внутреннего сопротивления злу «у аскетических учителей восточного право-
1 Бердяев Н. Кошмар злого добра (О книге И. Ильина «О сопротивлении злу
силою» // Путь. 1926. № 4 (М., 1992. С. 462-463). В дальнейшем ссылки на это
издание даются в тексте с указанием в скобках «Путь» и страницы.
421
славия» (I, 311 ), не может не возникнуть такой вопрос: разве «благо»
и «зло» в различных зрелых религиях трактуется однозначно? Разве
религиозные войны - а их было неисчислимое число вплоть до
сегодняшних дней - не вызваны были тем, что каждая из воюющих
сторон была убеждена в абсолютной верности своего понимания
«блага» и «зла»? Даже сторонники различных христианских конфессий
рассматривали подчас инакомыслящих христиан как «абсолютных
злодеев» и предавали их смертной казни. С точки зрения Бердяева,
«отвратительнее всего в книге И. Ильина его патетический гимн
смертной казни» («Путь», 469). В отличие от Ильина, Бердяев в эти
годы «не верит в реальность белого движения и целесообразность
его и в разжигании страстей этого движения видит «опасность
укрепления большевизма» («Путь», 464).
Ильин, что называется, «не оставался в долгу» у своих
оппонентов. На резкую критику Бердяева он ответил в 1926 г. двумя
статьями: «Кошмар Бердяева. Необходимая оборона» и «О сопротивлении
злу. Открытое письмо В. X. Даватцу». Ильин полагает, что
приписываемая ему система идей - это приснившийся Бердяеву кошмар и
галлюцинация, возникшие при чтении его книги. В полемике
Бердяева действительно есть ряд полемических перехлестов, когда он,
например, заявляет, что «Ильин - не русский мыслитель, чуждый
лучшим традициям нашей национальной мысли, чужой человек,
иностранец, немец» («Путь», 471). Отвечая своим критикам, Ильин
разъясняет свое отношение к государству, с одной стороны, выступая
против идей о его абсолютной власти над человеческой личностью, а с
другой - считая, что «отрицать государственное дело - нелепо,
зловредно и фальшиво»1. «Я считаю, - пишет он, - христиански
верным и необходимым, оставаясь христианином, принять
государство»2. Ссылаясь на апостола Петра, философ настаивает на том,
что государственные правители - «исполнители воли Сына Божия
Иисуса Христа».
Он оправдывает карательные меры самодержавной власти,
направленные против бунтовщиков, будь то Разин, стрельцы, Пугачев.
Ильин выступает против «малодушной гуманности» и полагает, что
настроения «русской сентиментально-непротивленческой
интеллигенции», к которой он относит и своих критиков, оказало влияние на
Временное правительство и тем самым открыло дорогу
большевикам. Перспективы же сопротивления злу силою определяются
Ильиным следующим образом: «Мы совсем не ищем гражданской войны
во что бы то ни стало, но в случае необходимости мы признаем ее
христиански обязательной для нас. Мы совсем не мечтаем ни о мес-
1 Ильин И. А. Кошмар Бердяева. Необходимая оборона //H.A. Бердяев: pro
et contra. Антология. Кн. 1. СПб., 1994. С. 341.
2 Ильин И. А. О сопротивлении злу. Открытое письмо В. X. Даватцу // Н. А.
Бердяев: pro et contra. С. 348.
422
ти, ни о казнях, ни о крови; но мы считаем малодушным и негодным
того правителя, который не сможет «взять на себя решимость
казнить», когда это будет необходимо, -религиозно малодушным и
государственно негодным»1.
Следует отметить, что у книги Ильина были не только критики.
Его концепцию о сопротивлении злу силою поддержали Русская
зарубежная церковь, П. Б. Струве, Н. О. Лосский, назвавший книгу
Ильина «ценной работой». По мнению Лосского, Ильин и его
единомышленники показывают, что «возможность положений, которые
неизбежно ведут к противоречию между благой целью и
несовершенными средствами, является моральной трагедией человека»2.
Текущая политика и «аксиомы религиозного опыта»
Творческая деятельность Ильина в эмиграции осуществлялась по
двум основным направлениям. Одним из них стало его активное
участие во многих газетах и журналах разных стран в качестве
публициста, вникающего в политическую жизнь современного ему мира и
оценивающего ее с точки зрения своего понимания «грядущей
России». С 1927 по 1930 г. Ильин выпускает журнал «Русский колокол»
с подзаголовком: «Журнал волевой идеи», где опубликовано свыше
40 его политически острых статей. Он читает множество лекций в
различных центрах русской эмиграции по философским и
политическим вопросам, а также на лекциях, прочитанных по-немецки и
по-французски, пропагандирует творчество Пушкина и Гоголя,
Достоевского и Толстого, русскую поэзию и архитектуру. Некоторые из
ильинских лекций издаются в виде брошюр.
Наиболее полным выражением политико-публицистической
деятельности Ильина стал выпуск им с 1948 по 1954 г. 215 бюллетеней
организации «Русский Обще-Воинский Союз» (РОВС) «Наши
задачи», объединенных в два тома и изданных в 1956 г. в Париже.
Теоретическое осмысление своих социально-политических воззрений
философ намеривался осуществить в большом труде о монархии и
республике, задуманном им еще в 20-е гг. И хотя многие положения
этого труда были изложены им в статьях, речах, докладах и лекциях,
успел он написать только часть задуманной книги.
Другое направление работы Ильина было посвящено разработке
собственно религиозной философии, хотя, конечно, проблемы
философского осмысления православия затрагивались и в его
публицистических статьях, лекциях, брошюрах. В 1925 г. в Париже вышла его
книга «Религиозный смысл философии». В том же году в Берлине
была издана книга «О сопротивлении злу силою», о которой у нас
1 Ильин И. А. О сопротивлении злу. Открытое письмо В. X. Даватцу // Н. А.
Бердяев: pro et contra. С. 352, 356, 348, 357.
2 Лосский H. О. История русской философии. С. 494, 495.
423
уже была речь. В 1937 г. (а формально на два года ранее) в Белграде
вышла в свет книга «Путь духовного обновления», написанная в
первой половине 30-х гг.
В конце 30-х гг. Ильин начал работать над тремя книгами на
немецком языке, вышедшими в период с 1938 по 1945 г. Эти книги были
связаны единым стилем, сочетающим философию и художественно-
лирическое начало, чтобы читатель мог «чувствовать сердцем и
созерцать из сердца» (т. 3, с. 230). Этот стиль был призван выразить
философско-религиозно-художественный взгляд на мир и человека,
который «становится художественным созданием Божиим, личным
светильником Его Света, индивидуальным иероглифом Духа Божия»
(т. 3, с. 345-346). Одну из книг этого «триптиха» - «Поющее сердце.
Книга тихих созерцаний» автор написал в русском варианте, но она
вышла в свет только в 1958 г., уже после смерти автора. Книга «Я
вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий» впервые была опубликована в
переводе на русский язык в его Собрании сочинений (см. т. 3, с. 89-226).
Итоговым трудом религиозной философии Ильина является
двухтомное исследование «Аксиомы религиозного опыта», над которым
он работал более 30 лет и которое было издано в Париже в 1953 г. - за
год до кончины философа. В своей книге Ильин, стремится
исследовать субъективный религиозный опыт, то, что он называет
религиозным актом. Вместе с тем автор подчеркивает, что он писал «не
психологию верований, а философию религиозного опыта»1.
Ильин поэтому не ограничивается описанием психологического
состояния верующего человека, но видит свою задачу в том, чтобы
найти сверхсубъективное в субъективном, ибо, по его словам, «на
самом деле субъективное может быть помимо своей субъективности
и сверх нее - еще и объективным» («Аксиомы», 45). Субъективность
религиозного опыта становится, по Ильину, объективностью
религиозного акта, во-первых, потому, что предметом религиозного опыта
становится «объективно-сущее Божество» (там же, 108), Бог как
«объективно-сущее Совершенство» (там же, 116).
Во-вторых, объективность религиозному опыту придают
присущие ему аксиомы. Эти аксиомы дают возможность подлинную
религиозность отличить от явлений «слепо-инстинктивной, больной или
извращенной религиозности» (там же, 35). В своем исследовании
аксиом религиозного опыта Ильин использует методику
феноменологической философии, с которой он познакомился еще во время
своей первой поездки в Германию в 1910-1912 гг.
Ильин определяет ряд аксиом религиозного опыта. «Первый
аксиоматический закон религиозного опыта» - «субъективность»
земного человека и, соответственно этому, субъективность его суще-
1 Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М, 1993. С. 95. Далее ссылки
на это издание даются в тексте с указанием в скобках «Аксиомы» и страницы.
424
ствования, его телесных, душевных и духовных состояний». Но «дух
есть самое главное в человеке». Поэтому нельзя быть подлинно
религиозным «вне духа и духовности». По образному определению
Ильина, «религия есть свободное цветение личного духа. Это есть
невынужденное, добровольное обращение к Богу» («Аксиомы», 50,
51,90).
Первостепенное значение в религиозном опыте Ильин придает
такому духовному явлению, как «религиозная очевидность» -
«лучший и необманывающий источник веры»: «Человек со слепым
сердцем не узнает Совершенного и не увидит Бога; не увидев, не
уверует; не уверовав, не предастся и не приобретет религиозного опыта».
«Религиозная очевидность» для Ильина - проявление
универсального философского понятия «очевидность» как умения «узнавать
объективно лучшее, объективно совершенное». Без так понимаемой
«очевидности» «вообще невозможна духовная жизнь человека» во всех
сферах духа, будь то художество-искусство или право, не говоря уже
о религии (там же, 57).
«Религиозную очевидность» Ильин именует часто «сердечным
созерцанием» - важнейшим, «драгоценным и могучим» актом в
составе религиозного опыта (см. там же, 105). Стремясь уловить
феномен «сердечного созерцания», Ильин сопоставляет его с
«наблюдением», «воображением», «фантазией», «непосредственным
восприятием». В «сердечном созерцании», в отличие от этих
психологических состояний, важна человеческая способность любовного
проникновения в предмет, «вчувствования» в него, передача его «любимому
духовному содержанию» своей духовной энергии. По убеждению
Ильина, «сердечное созерцание», культивируемое в религиозном
опыте, способно присоединяться к мысли философов и ученых, к
нравственной воле людей, овладевать художественным творчеством
и правосознанием, включаться в различные сферы жизни от
воспитания, семьи и врачевания до суда, воинского дела, политики и
хозяйства (там же, 106, 107).
Не разделяя позиции крайнего рационализма, как и крайнего
иррационализма, Ильин выступает за «тождество веры и разума»: «Вера
должна стать разумной верой, а разум должен стать верующим
разумом» (там же, 293), ибо «разум, разрушающий веру, - не разум, а
плоский рассудок; вера, восстающая против разума, - не вера, а
пугливое и блудливое суеверие». В соответствии с этим «философия
религии создается именно верующим разумом, и притом на
основании разумной веры» (там же, 119).
«Аксиомы религиозного опыта» написаны на обширном
материале истории религиозного сознания. Но автор ставит «вопрос о
«критерии религиозной истины» или о признаках сущего правоверия» (там
же, 113). Признавая всю сложность этого вопроса, он решает его в
пользу православия, поскольку, по его мнению, аксиомы религиоз-
425
ной веры осуществляются «именно в Православной вере» (там же,
445). Этот вывод является естественным для Ильина, поскольку само
выявление аксиом религиозной веры осуществлялось им на основе
феноменологического исследования прежде всего его собственного
религиозно-православного опыта.
В последней главе своей книги «Трагические проблемы
религиозного опыта» Ильин возвращается к проблеме о сопротивлении злу
силою. В принципе он повторяет решение этой проблемы, данной
им в книге 1925 г. Но в начале 50-х гг., учитывая трагический опыт
прошедшего тридцатилетия и, возможно, полемику вокруг его
книги, он подчеркивает трагизм проблемы сопротивления злу, так как
«религиозному человеку приходится выбирать между
сентиментальным предательством, ведущим к лицемерной «праведности», и
условным отказом от свободной доброты, от совестно-религиозной
чистоты, от целостного и неограниченного сочувствия ко всякому
живому существу и (практически!) от строгого суда над некоторыми
своими внешними деяниями» (там же, 440). В конце своей жизни
философ подчеркивает вынужденность крайних насильственных мер,
которые являются хотя и необходимыми, но все же «неправедными».
Он писал: «Там, где действует слово, не нужен меч. Там, где можно
остановить человека обличением или угрозой, не надо заключать его
в тюрьму. Там, где его обратит верно устроенная и воспитывающая
тюрьма, - не нужна казнь. Ибо дух человека преобразуется
любовью, свободой, убеждением, примером и воспитанием, а не силой.
Сила не строит дух, а только пресекает нападающую противодухов-
ность» («Аксиомы», 442).
Концепция русского духовного национализма
Два направления творческой деятельности Ильина -
политическая публицистика и религиозная философия - совместились в его
концепции духовного национализма. Национализм предполагает
любовь к своему народу, но эта любовь может быть различной. В
книге «Путь духовного обновления» Ильин подчеркивает, какую
любовь он имеет в виду в данной связи: «национализм есть любовь к
духу своего народа и притом именно к его духовному своеобразию»
(т. 1, 196).
Необходимо иметь в виду, что трактовка Ильиным понятия
«национализм» совершенно отлична от трактовки его Вл. Соловьевым,
который писал о «нравственной несостоятельности» национализма
как «народного эгоизма», называемого им «ложным патриотизмом»,
поддерживающим «преобладание звериных инстинктов в народе над
высшим национальным самосознанием»1. Слово «национализм» и в
1 Соловьев Вл. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 360, 377.
426
современном словоупотреблении обременено смыслами,
связанными с существованием идеологии и практики национал-социализма,
нацизма, шовинизма и т. п. Под национализмом обычно понимается
идеология, культивирующая национальную обособленность,
провозглашающая национальную исключительность и враждебность по
отношению к другим нациям. В таком плане подчас трактуется и
«национализм» Ильина.
На самом же деле духовный национализм Ильина не может быть
сведен к ныне общераспространенной трактовке национализма. Вот
как, например, он писал о необходимости трезвого и объективного
отношения народа к самому себе: «Любить свой народ и верить в
него, верить в то, что он справится со всеми историческими
испытаниями, восстанет из крушения очистившимся и умудрившимся, не
значит закрывать себе глаза на его слабости, несовершенства, а
может быть, и пороки. Принимать свой народ за воплощение полного и
высшего совершенства на земле было бы сущим тщеславием,
больным националистическим самомнением». «Одним из соблазнов
национализма является стремление оправдывать свой народ во всем и
всегда, преувеличивая его достоинства и сваливая всю
ответственность за совершенное им на иные «вечно-злые» и «предательски-
враждебные» силы. Никакое изучение враждебных сил не может и
не должно гасить в народе чувство ответственности и вины или
освобождать его от трезво-критического самопознания: путь к
обновлению ведет через покаяние, очищение и самовоспитание» (т. 3,198).
Духовная любовь к своему народу, по Ильину, не исключает, а
предполагает признание того, что «каждый народ есть по духу
своему некая прекрасная самосиянность, которая сияет всем людям и всем
народам и которая заслуживает и с их стороны любви и почтения, и
радости» (т. 3, 208). Он признает «достояние общечеловеческое,
которое способно объединить на себе взоры и чувства, и мысли, и
сердца всех людей, независимо от эпохи, нации и гражданской
принадлежности» (т. 3, 209). Но «всечеловеческое братство» Ильин
именует «не национальным, а сверх-национальным», принципиально
различая интернационализм от сверхнационализма. По его мнению,
«интернационализм отрицает родину и национальную культуру, и
самый национализм», в то время как «сверхнационализм утверждает
родину и национальную культуру, и самый национализм» (т. 3, 209,
210). Можно, конечно, принимать или не принимать терминологию
Ильина, очевидно противопоставленную терминологии марксизма,
трактуемой им явно некорректно (интернационализм в марксизме,
конечно, не истолковывался в противостоянии родине и
национальной культуре), но несомненно, что он не исповедовал
националистический изоляционизм.
Своеобразие духовного национализма Ильина выявляется его
отношением к фашизму и национал-социализму. В газете «Возрожде-
427
ние» он печатает в 1925-1926 гг. серию статей, посвященных
итальянскому фашизму и его вождю Муссолини, а в своем журнале
«Русский колокол» в 1928 г. публикует статью «О русском фашизме».
Фашистское движение вызывает его симпатию как рыцарское
начало (!), направленное против коммунизма и большевизма, как поиск
«волевого и государственного выхода из организованного тупика
безволия». Философ находит общие черты между фашизмом и белым
движением. Но последнее Ильин считает более глубоким, поскольку
в фашизме почти отсутствует «религиозный мотив движения». Не
нравится ему и то, что фашизм выступает как «партийное дело ради
партийных целей, прикрытый патриотической словесностью»1.
Но вот в начале 30-х гг. Ильин, живя в Германии, имел
возможность лично удостовериться, что собой представляет
национал-социализм. В 1934 г. он вступает в прямой конфликт с фашистским
режимом, отказываясь исполнять его предписания в своей
деятельности в качестве профессора Русского научного института в Берлине.
Ильина увольняют с работы. В 1938 г. были запрещены его
публичные выступления и печатные труды. Он в этом же году полулегально
перебирается в Швейцарию.
В письме к своему другу писателю И. С. Шмелеву Ильин
отмечает, что именно вызвало недовольство национал-социалистических
властей. Это его несогласие с планами нацистов в отношении России
и то, что он «категорически отказался насаждать антисемитизм в
русской эмиграции». По его словам, он «к дикому антисемитизму
ихнего лагеря совершенно неспособен. Этот антисемитизм вреден Рос-
сии, опасен для нашей эмиграции и совершенно не нужен внутри
страны [т. е. Германии], где антисемитизм давно уже разросся до
химеры. Не говоря уже о его элементарной] несправедливости»2. «Ауш-
вицкие [т. е. освенцимские] печи для евреев были только
генеральной репетицией массового истребления в завоеванных областях» -
так характеризовал впоследствии философ гитлеровские планы (т. 2,
кн. 1, 11).
Духовный национализм Ильина чужд расовому подходу.
Ссылаясь на труды антрополога А. А. Башмакова, он отмечает
«замечательный процесс расового синтеза, осуществившегося в истории России
и включившего в себя все основные народности ее истории и
территории. В результате этого процесса получилось некое величавое
органическое «единообразие в различии» (т. 2, кн. 1, 302-303). И сама
культура России - «это общенациональное братство, это
всенациональное сотрудничество российских народов в русской культуре»
(т. 2, кн. 1,301).
1 Ильин И. О русском фашизме // Русский колокол. 1928. № 3. С. 56, 58.
2 Письмо И. А. Ильина И. С. Шмелеву // Вопросы философии. 1994. № 9.
С. 180,181.
428
Исторический опыт России, по Ильину, вынуждает
«пересматривать и обновлять все основы нашей культуры». России «не нужно
слепое западничество! Бе не спасет славянофильское самодовольство!
России нужны свободные умы, зоркие люди и новые, религиозно
укорененные творческие идеи», - отмечал Ильин в статье «Что нам
делать?», опубликованной в 1954 г. (т. 2, кн. 2, 362).
Своеобразием трактовки Ильиным русского духовного
национализма является наложение на него политической ориентации
философа. Его понимание русской идеи представляет собой сочетание
религиозной философии с его социально-политическими
воззрениями. Воззрения же эти характеризуются полным неприятием
социалистической идеологии и социальной практики с позиции идеала
монархического устроения России. Ильин утверждает, что
«творческая идея нашего будущего» «должна быть государственно-мс/иори-
ческая, государственно-национальная, государственно-патриотичес-
кая, государственно-религиозная». «Это есть идея воспитания в
русском народе национального духовного характера», поскольку
именно недостаток «национального духовного характера» в
интеллигенции и массах, по его убеждению, и вызвал революцию. Для Ильина
определяющим должны быть три великих «предмета»: «Бог, Родина
и национальный вождь». Под последним понимается государь.
Главная и величайшая воспитательная сила в истории русского народа -
«дух православия»1. Эти воззрения Ильин детально обосновывал в
бюллетенях РОВС «Наши задачи» и был верен им до конца своих
дней.
Политические взгляды Ильина интерпретируются часто как
консервативные и авторитарно-монархические не только по отношению
к прошлому, но и будущему. Он предполагал возможность
«неизбежного хаоса, который разольется в России после падения
тоталитарного коммунизма» (т. 2, кн. 1,457), и размышлял о том, как сократить
период этого хаоса и преодолеть его. Русский народ, по его мнению,
«может повести только национальная, патриотическая, отнюдь не
тоталитарная, но авторитарная - воспитывающая и
возрождающаяся - диктатура» (т. 2, кн. 1,50). По его словам, «если что-нибудь
может нанести России, после коммунизма, новые, тягчайшие удары,
то это именно упорные попытки водворить в ней после
тоталитарной тирании - демократический строй» (т. 2, кн. 1, 449).
Из этого было бы неправильно, на наш взгляд, заключать, что
Ильин принципиальный противник всякой демократии.
Неприемлемость для него демократического строя в период после
тоталитарной власти обусловлена тем, что она «успела подорвать в России все
1 См.: Ильин И. А. Творческая идея нашего будущего. Об основах духовного
характера. - Публичная речь, произнесенная в Риге, Белграде и Праге в 1934 г.
1937 [напечатано в Нарве (Эстония)]. С. 6, 7, 20.
429
необходимые предпосылки демократии, без которых возможно
только буйство черни, всеобщая подкупность и продажность, и всплы-
вание на поверх все новых и новых антикоммунистических тиранов».
Отрицая «фанатизм формальной демократии», Ильин был
сторонником «настоящей, творческой демократии», предпосылками
которой являются понимание народом подлинной свободы, «достаточно
высокий уровень правосознания» (т. 2, кн. I, 451), «хозяйственная
самостоятельность гражданина», «минимальный уровень
образования и осведомленности», необходимый «политический опыт»
(т. 2, кн. 1,449,452,453, 454). Участникам «демократического строя
необходимы личный характер и преданность родине, черты,
обеспечивающие в нем определенность воззрения, неподкупность,
ответственность и гражданское мужество» (там же, 455).
Политическим идеалом Ильина была монархия, о чем он
говорил и писал многократно. Ему импонировало то, что
«монархическому правосознанию, сквозь все известные нам исторические века,
присуща склонность воспринимать и созерцать государственную
власть как начало священное, религиозно освящаемое и придающее
монарху особый, высший, религиозно осмысливаемый ранг» (т. 4,462).
В его понимании идеальная монархия не стремится создать
«тоталитарный режим» (см. т. 2, кн. 1, 166). Он решительно
противопоставляет настоящей монархии «идолопоклоннический цезаризм»,
который возродил фашизм: «Цезаризм» есть прямая противоположность
монархизма. Цезаризм безбожен, безответствен, деспотичен; он
презирает свободу, право, законность, правосудие и личные права
людей; он демагогичен, террористичен, горделив; он жаждет лести,
«славы» и поклонения; он видит в народе чернь и разжигает ее
страсти; он аморален, воинственен и жесток» (см. т. 2, кн. 1, 88-89).
Ильин не был сторонником немедленного установления монархии после
крушения «тоталитарного коммунизма», ибо для монархии нужно
«верноемонархическое строение души в народе», «надо уметь иметь
Царя», а монархия в России развалилась потому, что она
«разучилась иметь Царя» (т. 2, кн. 2, 40).
Свою политическую позицию Ильин определил как
противостояние двум крайностям - большевизму, который, по его определению,
есть «корыстная политика слева», и черносотенству, которое есть
«корыстная политика справа»1. Это «власть правой клики». В
черносотенстве он усматривает «одну из причин революции в прошлом и
одну из величайших опасностей для возрождения России в будущем».
Черносотенец, «предпочитающий свою корысть благу государства
1 Ильин И. А. Черносотенство - проклятие и гибель России // Вопросы
философии. 1994. № 9. С. 178. При последующем цитировании этой статьи ссылки
даются в тексте с указанием в скобках страницы. Эта статья была опубликована
в газете «Слово» (Рига) в № 89-90 за 1-3 марта 1926 г.
430
и родины и проводящий ее на политически правых путях» (178),
отрицает живой дух, живое правосознание человеческой личности, ее
самодеятельность и свободу. Черносотенец - обскурант.
Создаваемая им обскурантская стихия, «неспособная к воспитанию своего
народа, - по словам Ильина, - создавала ту атмосферу культурного
притеснения, от которой страдали малые национальности великой
России» (179). Черносотенцы - «исказители национальных заветов;
отравители духовных колодцев; обезьяны русского государственно-
патриотического обличья». И вывод: «после большевиков самый
опасный враг России - это черносотенцы» (180).
Фашизм для Ильина «как концентрация
государственно-охранительных сил направо», как построение «правого тоталитаризма»
(т. 2, кн. 1, 86, 87), по сути дела, родственен черносотенству.
Отрицательная оценка фашизма дала ему возможность занять
патриотическую позицию во время войны фашистской Германии против СССР и
осудить тех русских эмигрантов, которые «ждали от Гитлера
быстрого разгрома коммунистов и освобождения России». Да, Гитлер -
враг коммунистов, но он и враг России, а потому является, как писал
Ильин, «моим беспощаднейшим врагом» (т. 2, кн. 1, 25).
«СОЦИАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО»
Г. П. ФЕДОТОВА
В воззрениях Г. П. Федотова и И. А. Ильина несомненно имеются
общие черты. Оба они исповедовали православное христианство и
философски исследовали природу религиозного сознания. Оба они
были сторонниками развития русского национального самосознания.
Оба они были идейными противниками советской власти, но
принадлежали к различным политическим течениям русской эмиграции.
Ильин был идеологом белого движения и убежденным монархистом.
Федотов же был сторонником республиканской формы правления,
истоки которой для России он усматривал в вольнице древнего
Великого Новгорода - «единственной в своем роде Православной
демократии»1. Монархию в России Федотов считал изжившим себя
политическим институтом. Авторитет монархии, впавшей в
«неизлечимую болезнь мракобесия» (СГР, I, 143), был, по его словам,
«подорван во всех классах нации» (СГР, II, 291), и она несет
ответственность за революционный взрыв 1917 г. Считая православие
«незыблемым началом» для русского национального сознания (см. СГР, I,
124), Федотов не усматривал неразрывную связь между православи-
1 Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии
русской истории и культуры: В 2 т. СПб., 1991. Т. 2. С. 280. Далее ссылки на этот
сборник даются в тексте с указанием в скобках СГР, тома римскими цифрами и
страницы - арабскими.
431
ем и монархией: «Связывать православие с самодержавием - значит
связывать его с трупом, зарывать его живым в могилу»1.
Ильин был поборником русского национализма, хотя и
«духовного». По мнению же Федотова, «если национальная идея не
исчерпала себя в русской культуре, то в политической жизни настоящей и
будущей России национализм представляет несомненную
национальную опасность» (СГР, II, 60). По его словам, «русский
традиционный национализм должен радикально переродиться, чтобы стать в
уровень со сложными задачами века. В своей окаменелой данности
он представляет одно из самых сильнодействующих средств для
разрушения России» (СГР, I, 328).
Ильин на дух не переносил какого бы то ни было сочувствия к
изначально «больной», по его выражению, идее социализма.
Федотов своим идеалом считал «социальное христианство», сторонники
которого «пытались отнять у Маркса и вернуть Христу
несправедливо отнятое социальное достояние Церкви»2.
Коренные расхождения в социально-политических выводах,
которые делали Ильин и Федотов из, казалось бы, одних и тех же
философско-религиозных предпосылок, обусловлены различными
жизненными путями и личностными особенностями этих мыслителей.
От социал-демократического марксизма
к православной церковности
Георгий Петрович Федотов (1886-1951) родился в Саратове в
1886 г. в семье управляющего канцелярией губернатора. Мать
будущего философа была учительницей музыки. В 1904 г. он окончил
классическую гимназию в Воронеже, куда переехала его семья. В
детстве Георгий был религиозным ребенком, однако в старших
классах гимназии его вера в Бога была совершенно подавлена
увлечением революционно-демократической и народнической публицистикой,
а затем марксизмом и политической деятельностью. В 1904 г.
Федотов поступает в Технологический институт в Петербурге. В 1905 г.
он приезжает в Саратов и проводит революционную работу как член
социал-демократической партии. В августе этого года его
арестовывают и заключают в тюрьму. Поскольку жандармерии не удалось
собрать на него необходимые улики, его выпускают из заключения. Но
в июле 1906 г. Федотов вновь был арестован за свою активную
революционную деятельность (он входил даже в городской комитет
РСДРП г. Саратова) и выслан за границу. Перед отъездом в
Германию он поступает на историко-филологический факультет
Петербургского университета. В Германии Федотов изучает философию и ис-
1 Федотов Г. П. Социальное значение христианства // Философские науки.
1991. №3. С. 75.
2 Там же. С. 97.
432
торию в университетах Берлина и Йены, участвует также в
нелегальных социал-демократических собраниях (на одном из них был
арестован и выслан из Пруссии). После возвращения в Россию в 1908 г.
Федотов продолжил свое образование в Петербургском университете.
Федотову посчастливилось слушать лекции видных русских
историков, но особое значение для него имела работа в семинаре крупного
специалиста по истории Средневековья И. М. Гревса. Многие ученики
его стали впоследствии выдающимися историками и культурологами,
в том числе Л. П. Карсавин. В ходе своих занятий историей
христианского Средневековья Федотов начинает отходить от марксистского
миропонимания и революционной деятельности. Правда, он еще в 1910 г.
выполняет партийное поручение - отвести в Саратов пакет с
прокламациями - и, когда полиция их обнаруживает в квартире его матери,
вынужден перейти на нелегальное положение. Год он скрывается в Италии.
Возвратившись в Россию, Федотов является с повинной и
отбывает годовую ссылку в Риге. В 1912 г. он сдает государственные
экзамены, а до этого получает по рекомендации И. М. Гревса золотую медаль
за сочинение ««Исповедь» бл. Августина как источник для его
биографии и для истории культуры эпохи». В своем отзыве выдающийся
историк, давая восторженную оценку методическим, фактическим и
идейным достоинствам первого научного труда своего ученика,
предсказывая его многообещающую научную будущность, отмечал, что его
труд одухотворен «благородным подъемом идеализма»1.
С осени 1912 г. Федотов получает должность приват-доцента на
кафедре истории средних веков Петербургского университета,
преподает историю в Коммерческом училище, ас 1917 г. работает в
отделе искусств Публичной библиотеки. Здесь он знакомится с
религиозным мыслителем А. А. Мейером (1875-1939) и видным церковным
деятелем А. В. Карташевым (1875-1960), который, будучи
специалистом по церковной истории, в 1909 г. возглавлял
Религиозно-философское общество в Петербурге, а после Февральской революции
1917 г. был министром вероисповеданий Временного правительства.
Осенью 1917 г. А. А. Мейер организует религиозно-философский
кружок «Воскресение», преобразованный в следующем году в братство
«Христос и свобода», в деятельности которого Федотов принимает
активное участие и редактирует кружковский журнал «Свободные
голоса», заглушённые уже после второго номера.
Само наименование этого журнала выражало оппозиционность
его редактора и авторов по отношению к советской власти. В редак-
1 Гревс И. М. «Исповедь» бл. Августина как источник для его биографии и
для истории культуры эпохи. Сочинение, написанное Г. П. Федотовым на тему,
предложенную историко-филологическим факультетом, по средневековой
истории. Рецензия // Федотов Г. П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1996. Т. 1. С. 317. Ссылки на
это издание даются в тексте с указанием в скобках ГФ, тома римскими цифрами
и страницы - арабскими.
15-99
433
ционной статье, написанной Федотовым, утверждалось: «В России
нет сейчас несчастнее людей, чем русские социалисты, - мы говорим
о тех, для кого родина не пустой звук. Они несут на себе двойной
крест: видеть родину истекающей кровью и идеалы свои
поруганными и оскверненными в их мнимом торжестве» (ГФ, I, 101).
Религиозными проблемами Федотов заинтересовался с самого
начала своей научной деятельности. Еще в 1911 г. в сборнике,
посвященном И. М. Гревсу, была опубликована его статья «Письма бл.
Августина». В личности этого выдающегося христианского
мыслителя и церковного деятеля поздней античности, признанного
католицизмом «отцом церкви», для Федотова было важно выявить
становление христианского сознания Августина, к которому он пришел
через манихейство (учение о вечной борьбе света и тьмы, добра и зла),
скептицизм и неоплатонизм. Ведь и сам Федотов шел от марксизма к
христианству через манихейство. В 1914—1915 гг. он занимается
историей средневековой церкви. В 20-х гг. им опубликовано несколько
статей по этой тематике («К истории средневековых культов», «Чудо
освобождения», «Боги подземные. К истории средневековых
культов» и др.). В 1924 г. издается его книга «Абеляр», посвященная
средневековому французскому богослову и философу (1079-1142),
которого автор книги рассматривает как наделенного гуманистическими
чертами борца за дело разума и одного из первых мучеников
«просвещения» в христианском человечестве (см. ГФ, I, 273, 187).
Профессиональная деятельность Федотова как историка и
преподавателя (с 1920 по 1922 г. он был профессором кафедры истории
средних веков в Саратовском университете) была сопряжена с его
углублением в мир христианства, чему содействовало также участие
в религиозно-философском братстве «Христос и свобода». В 1923—
1924 гг. Федотов окончательно возвращается к православию,
принимая церковное причастие.
С 1918 г. Федотов обнаруживает свой прославивший его в
дальнейшем философско-публицистический талант. Откликаясь на
текущие события современности, он ставит коренные вопросы,
связанные с судьбами его родины на фоне происходящих в мире
социально-исторических процессов. Таковы его первые написанные статьи-
эссе «Лицо России» и «Мысли по поводу Брестского мира». В этих и
многих других ярких выступлениях актуальные
социально-политические проблемы переплетаются с проблемами
философско-религиозными.
В условиях Советской России продолжать философско-публици-
стическую деятельность для Федотова стало невозможным.
Становилось все труднее публиковать и исторические труды, написанные
с немарксистских позиций. Так, не увидела свет его статья «Об
утопии Данте». Федотов был человеком, который не мог идти на
моральные и политические компромиссы. После возвращения из Сара-
434
това в Петербург Федотов отказывается от работы в
государственных учреждениях, зарабатывая на жизнь переводами для
существовавших еще во время нэпа частных издательств. Поэтому, получив
осенью 1925 г. через друга И. М. Гревса французского академика
Ф. Лота визу во Францию, под предлогом необходимости поработать
в иностранных библиотеках по средневековой истории Федотов
покидает родину.
Тем не менее, оказавшись на месяц в Берлине, а затем в Париже,
преданный науке ученый не мог не работать в библиотеках, но
основным занятием для него с 1925-1926 гг. становятся
публицистические выступления в русской эмигрантской печати и в собственно
зарубежных изданиях различных стран. С 1926 г. Федотов
становится профессором Свято-Сергиевского Богословского института в
Париже, в котором преподавали также такие видные русские
богословы и философы, как А. В. Карташев, В. В. Зеньковский, Г. В. Флоров-
ский, И. А. Лаговский, В. Н. Ильин, В. В. Вейдле, К. В. Мочульский,
Б. П. Вышеславцев, С. Н. Булгаков. В Богословском институте
Федотов преподает историю западной церкви, латинский язык и
агиологию (раздел богословия, изучающий жития святых).
В 1928 г. в Париже издается книга Федотова «Святой Филипп,
митрополит Московский», а в 1931 г. - «Святые древней Руси». В
этих трудах, посвященных русской агиографии (церковной
литературы, описывающей жития святых), их автор не только восполняет
пробел, имеющийся в исторической науке, но обращается на истори-
ко-церковном материале к остроактуальным проблемам современной
России. Так, первая книга была посвящена митрополиту Филиппу -
обличителю Ивана Грозного. Как отмечал Федотов, «в годы
кровавой революции, произведенной верховной властью, митрополит
Филипп восстал против тирана и заплатил жизнью за безбоязненное
исповедание правды. Святой Филипп стал мучеником - не за веру
Христову, защитником которой мнил себя и царь Иван Васильевич,
но за Христову правду, оскорбляемую царем» (ГФ, III, 7).
Современникам Федотова был понятен этот «исторический урок»:
подобно митрополиту Московскому Филиппу вел себя антисоветски
настроенный митрополит Тихон, ставший в ноябре 1917 г.
патриархом Московским и всея Руси и подвергавшийся гонениям со
стороны государства. Обращение к далекому прошлому церковной
истории для историка не было самоцелью. «Изучение русской святости в
ее истории и ее религиозной феноменологии, - писал он в книге
«Святые древней Руси», - является сейчас одной из насущных задач
нашего христианского и национального возрождения», ибо, по его
убеждению, «в русской святости найдем ключ, объясняющий многое в
явлениях и современной, секуляризованной русской культуры»1.
1 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Париж, 1989. С. 5.
15*
435
В 1935 г. выходит книга Федотова «Стихи духовные (Русская
народная вера по духовным стихам)» и статья «Мать-земля (К
религиозной космологии русского народа)». В этих исследованиях он на
основе так называемых духовных стихов - своеобразной отрасли
русского фольклора - реконструировал реальное народное
верование, включающее в себя как церковно-христианские элементы, так и
исконно славянские. Обращение к этой отрасли русского фольклора
позволило ему воссоздать как религиозную космологию народа, так
и его этику и эстетику.
В 1927 г. Федотов участвует в работе съезда Русского
христианского студенческого движения (РХСД), а затем и в деятельности
самого движения. Он знакомится с Е. Ю. Скобцовой, ставшей в
монашестве матерью Марией. Она была председателем возникшей в 1935 г.
организации «Православное дело», в которой активно работал
Федотов. Его близким другом становится Н. А. Бердяев.
По характеристике H. М. Зернова, «профессор Федотов был
чрезвычайно сдержанным, спокойным человеком, обладавшим
размеренным голосом и мягкими манерами. Но за этой
благовоспитанной внешностью скрывалась исключительно сложная личность
огромной духовной силы и большого мужества. Никакие соображения
не могли заставить его пойти на сделку с совестью»1.
Одновременно с работой в Богословском институте
развертывалась публицистическая деятельность Федотова. Его статьи печатают
в различных изданиях: от «органа русской религиозной мысли» -
журнала «Путь», редактируемого Бердяевым, до двухнедельника
«Новая Россия», издаваемого Керенским. В 1931 г. он сам участвует
в создании журнала «Новый Град». В 1932 г. выходит его книга «И
есть, и будет. Размышления о России и революции», в 1933 г. -
брошюра «Социальное значение христианства». Многочисленные
выступления Федотова в печати получили широкий отклик в
эмигрантских кругах и вызывали своей гуманистической и демократической
направленностью как сочувственное внимание, так и неприязнь и
даже ненависть, особенно в монархических и черносотенно-фаши-
ствующих кругах. Эта ненависть проявилась в прямой травле
Федотова после его осуждения фашистского переворота в Испании в 1936 г.
и статьи «Торопитесь!» 1939 г., содержащей обзор политической
ситуации в СССР и призыв образовать российское правительство,
состоящее из «честных и беспартийных людей, специалистов
государственной работы, а не расправы».
В Богословском институте зрело недовольство
публицистической деятельностью Федотова, которая, по мнению консервативно
настроенных членов правления, угрожает самому существованию
1 Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. Paris, 1991.
С. 250.
436
института и вызывает «смущение и соблазн в русском обществе».
Федотову было вынесено строгое порицание. В его защиту
выступил Бердяев со статьей «Существует ли в православии свобода
мысли и совести?» (Путь. 1939. № 59). Поддержала его и мать
Мария. Однако в 1940 г. Федотов вынужден был подать прошение об
отставке.
Уже началась Вторая мировая война, расколовшая русскую
эмиграцию на тех, кто надеялся при помощи Гитлера сокрушить
советский строй, и настоящих русских патриотов, которые включились в
движение Сопротивления фашизму и, как мать Мария и другие
отважные борцы Сопротивления, погибли в этой борьбе. Федотов
выступал против фашизма во всех его проявлениях, в том числе против
профашистских сил в русской эмиграции. В 1941 г. ему удалось
бежать из оккупированной Франции в США.
Первые три года пребывания в Америке Федотов живет в Нью-
Хейвене, работая профессором Богословской школы при Йельском
университете. С 1943 г. он становится профессором
Свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке, преобразованной в
1948 г. в Свято-Владимирскую академию, в которой работали также
Н. Лосский, Г. Флоровский и другие известные русские- богословы.
Наряду с преподавательской работой Федотов продолжает в русских
изданиях США публиковать свои статьи и эссе на философские,
религиозные и общественно-политические темы («Загадки России»,
«Как бороться с фашизмом?», «Рождение свободы», «Россия и
свобода», «Судьба империй», «Н. А. Бердяев - мыслитель», «Народ и
власть», «О гуманизме Пушкина», «Сталин или Гитлер?»,
«Республика Святой Софии»).
В Америке он начинает свой капитальный труд «Русское
религиозное сознание» («The Russian Religious Mind»), первая часть
которого, посвященная христианству Киевской Руси Х-ХШ вв., выходит на
английском языке в 1946 г., а вторая о Средних веках XIII-XV
столетия - уже посмертно, в 1966 г. Он надеялся написать серию книг,
которая прослеживала бы развитие русской религиозной мысли до
наших дней. В 1948 г. издается, а затем и переиздается составленная
Федотовым антология «Сокровище русской духовности» («A Treasury
of Russian Spirituality»).
В своем предисловии к труду «Русское религиозное сознание»
Федотов отмечает, что он стремится исследовать не просто историю
русской религиозной мысли, но русское религиозное сознание в его
целостности, явление религиозности. Он писал: «Я намереваюсь
описать субъективную сторону религии, противостоящую ее
объективной стороне». Под объективной стороной религии автор понимает
«упорядоченную совокупность догм, таинств, обрядов,
богослужение, каноническое право». А под «субъективной стороной» -
«человеческую сторону религии» со всеми ее психологическими особен-
437
ностями, «человеческий отклик на Благодать»1. Достойно внимания,
что И. А. Ильин в своем труде «Аксиомы религиозного опыта»
стремится также исследовать субъективный религиозный опыт.
Основное отличие «Аксиом религиозного опыта» от «Русского
религиозного сознания» состояло в том, что Ильин стремился представить
«философию религиозного опыта», используя методику
феноменологической философии, в то время как Федотов русскую
религиозность рассматривает исторически.
Умер Федотов в американском городке Бэкон и был похоронен в
Нью-Йорке.
Так Федотов завершил свой жизненный путь и вместе с тем путь
духовного развития от марксизма к идеализму и христианству,
который до него прошли П. Струве, Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк.
Однако этот духовный путь Федотова был своеобразным. Как
заметил Ф. Степун, хорошо знавший Федотова и сотрудничавший с ним в
30-е гг., «читая Бердяева, Булгакова, Франка или Струве,
чувствуешь, что, придя к вере, они отошли от своего прошлого, претворили
его в своем новом религиозно-философском утверждении веры и
Церкви. Федотов единственный, который, придя к Церкви, не
отказался от своего интеллигентски-революционного прошлого».
Однако при парадоксальном сочетании, по выражению Степуна,
«православия с революционностью»2 Федотов не остался марксистом.
В то же время его понимание марксизма было более
объективным, чем у других бывших марксистов, ставших антимарксистами.
Федотов писал в 1938 г.: «Марксизм культурно возможен как
прививка к чему-то иному: даже у Маркса - к его классическому и
гегельянскому гуманизму» (СГР, II, 192). Федотовская революционность
заключалась в следовании им в течение всей его жизни
демократическим убеждениям, в решительном отрицании монархического
самодержавия, отвержении социальной реакционности, в утверждении
принципов гуманизма и свободы на основе исторически
трактуемого им православного христианства.
Это и отличало мировоззрение Федотова от
социально-политических воззрений Ильина. Помимо этого у Ильина и Федотова был
различный исследовательский метод. Первый шел к религиозной
философии от правоведения, второй - от истории.
Философия истории
Все труды Федотова посвящены истории и культуре, притом
прежде всего России в контексте мировой истории и культуры. Он
написал более 300 статей и эссе по этим проблемам. Читая их, ощущаешь
1 Fedotov G. P. The Russian Religious Mind. The Tenth to Thirteenth Centuries.
New York: Harper & Brothers, 1960 P. IX, X, XI.
2 Степун Ф. Г. П. Федотов // Русские философы. Конец ХГХ - середина XX
века. Биографические очерки. Библиография. Тексты сочинений. М, 1996. С. 84.
438
не только блестящий стиль, запечатлевший личность мыслителя, но
и определенную его теоретическую концепцию исторического и
культурного процесса. Как и многие русские мыслители, Федотов не
изложил последовательно и систематично свое философское
миропонимание. Но оно, несомненно, пронизывает все его творчество.
Придя к православно-христианскому мировосприятию, Федотов
осмысляет жизнь человека в религиозном духе. Но религия, входя
необходимой составляющей в человеческую жизнь, будучи даже ее
основой, по его убеждению, не исключает, а предполагает связь
человека со всеми сторонами мира. По его словам, «чтобы жить,
человек должен найти утраченные связи с Богом, с душевным миром
других людей и с землей. Это значит в то же время, что он должен найти
себя самого, свою глубину и свою укорененность в обоих мирах:
верхнем и нижнем» (СГР, II, 250-251).
Такая укорененность человека в «верхнем» и «нижнем» мире, в
небе и на земле, по Федотову, особенно отчетливо выражается в
сопоставлении его взглядов с философией Бердяева. По воззрениям
последнего, как отмечал Федотов, «зло - в самой объективности мира,
в том, что он представляется нам как собрание вещей или объектов.
Но это злой кошмар нашего греховного сна. Подлинно реальны
только субъекты, т. е. свободные духи». Поэтому и «всякое творчество, в
условиях падшего мира, обречено на неудачу. И главная из этих
неудач, для Бердяева, есть объективизация творчества, т. е.
превращение его в продукт или вещь, подчинение закону необходимости». По
мнению Бердяева, «еще более объективны, т. е. несвободны, наши
поступки и социальные институты, создаваемые людьми». И только
Бог, по логике этой философии, «спасает творчество человека и
воскрешает его за гранью истории, в Царстве Божием». Отсюда и
следует, что «освобождение от власти мира или вещей составляет цель
человеческой жизни»1.
В отличие от таких воззрений, философия Федотова обращается
прежде всего к посюстороннему миру, стремясь к построению
реального «Нового Града», который «есть земной град, новое общество». И
даже предрекаемый в Откровении Св. Иоанна «Небесный Иерусалим,
спускающийся на землю и завершающий страдания мира, мыслится, -
как считал Федотов, - не только Божиим даром, но отчасти и
человеческим созданием. Точнее, делом Богочеловеческим. В нем
возвращаются, воскресшие и преображенные, плоды всех человеческих
усилий, творческих подвигов, которые были погублены трагедией
смертного времени. Ничто подлинно ценное в этом мире не пропадает»2.
1 Федотов Г. П. Бердяев-мыслитель // Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт
философской автобиографии). С. 397, 400.
2 Федотов Г. П. Эсхатология и культура // Русские философы. Конец
XIX - середина XX века. Биографические очерки. Библиография. Тексты
сочинений. С. 149,155-156.
439
В статье «Правда побежденных» (1933) противопоставляются
две философии истории. «Для одной история есть всегда
поступательное движение, развитие или прогресс или раскрытие
Абсолютного Духа. Консервативный или революционный, но это всегда
дифирамб действительности. Все злое и темное в историческом
процессе принимается, как жертва или цена. И эта цена никогда не
кажется слишком дорогой, ибо покупаемое благо мыслится
бесценным и бесконечным - в необозримой перспективе будущего» (СГР,
П,21).
Федотов не принимает «неисправимый оптимизм» этого
варианта философии истории, представленный не только Гегелем, но и
философией просвещения, а также марксизмом. Он не приемлет
«доктрины исторического детерминизма» (СГР, II, 277) в любом ее
варианте. Ему представляется более правильным «другой взгляд на
историю - как на вечную борьбу двух начал», сосуществование
«творческих и разрушительных процессов в истории», восходящее к
учению Августина о «двух градах». «Признаем, - пишет Федотов, - что
внутри каждого из строящихся общественных и культурных типов
идет борьба за план и стиль целого, которая оканчивается или
включением его в творимый град Божий, или выпадением в небытие,
неудачей, катастрофой. Ничто не предопределено в истории силой
естественных законов или давлением Божественной воли. Ибо
история есть мир человеческий - не природный и не Божественный, - и в
нем царит свобода. Как ни велико в истории значение косных,
природных, материальных сил, но воля вдохновленного Богом или
соблазненного Люцифером человека определяет сложение и распад
природных сил» (СГР, II, 22).
Итак, человек, в соответствии с христианским мироучением,
наделен свободой. А это значит, что у человека, по Федотову, есть
«возможность выбора между разными вариантами исторического пути
народов» - как отмечал он в статье «Россия и свобода» (1945). Он
высказывает мысль о том, что «не может в мире пройти бесследно ни слабое
усилие к добру, ни малейшее движение зла. Не поглощаются они одним
историческим процессом. А включаются в разные одновременно
действующие процессы: созидания и разрушения. И если внимательно
вглядываться в жизнь, то в видимом ее единстве всегда можно различить
двоякую детерминированность: к вечности и к смерти» (СГР, II, 22).
В работе «Социальное значение христианства» Федотов
конкретизирует свое понимание проявления добра и зла в истории:
«Всякий исторический строй (монархия, республика, крепостничество,
капитализм) может в большей или меньшей степени воплощать
справедливость, быть большим добром или меньшим злом, сравнительно
с другими формами жизни. Но во всяком строе заложены начала
вырождения. Из прогрессивной некогда формы он превращается в
отсталую и худшую, из справедливой в тираническую. Постоянное из-
440
менение - закон исторической жизни. Она всегда ищет, творит
новые формы, разрушая старые. Не обязательно новое является
лучшим»1. Поэтому столь велико значение в истории, по Федотову,
нравственных факторов: «Ценность всяких социальных форм зависит
прежде всего от наполняющего их нравственного содержания: от того,
насколько в них воплощается дух любви, справедливости, свободы.
Самые лучшие формы гибнут, когда их покидает оживлявший их дух
социального идеализма»2. «Христианство, - по его словам, - дает
нравственный критерий для оценки не только личной, но и
общественной жизни. Христианство судит всякий общественный строй и
потому не может зависеть ни от одного из них».
Хотя «власть прошлого, тяжелый или благодетельный груз
традиций», чрезвычайно ограничивает свободу выбора исторического
пути, от нравственной направленности деятельности людей зависит
дальнейшее движение по этому пути. Они способны строить Новый
Град, хотя из старых камней, но по новым зодческим планам.
Философия культуры
Особое значение для выбора исторического пути на началах
добра и свободы Федотов придавал творчеству культуры, которая, по его
формуле, - «сгустки накопленных ценностей». Он решительно
отвергает биологические концепции культуры, в особенности расизм,
считая его «никуда не годной философией культуры» (СГР, II, 253).
Под культурой он понимал «социальную сферу духа», притом такую,
«которая возможна лишь как свободная гармония личных
творческих актов» (СГР, I, 297). Культура, по Федотову, сопряжена
неразрывно со свободой и личностью. Сама «свобода есть поздний и
тонкий цветок культуры. Это нисколько не уменьшает ее ценности».
Сопричастность культуры к свободе и свободы к культуре
определяет значимость, ценность культуры для человека: «Человек
становится вполне человеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на ее
вершинах, находят свое выражение его самые высокие стремления и
возможности» (СГР, II, 253). В статье «О гуманизме Пушкина» (1949)
дается такое определение гуманизма, объединяющее культуру,
человеческую личность и ее творчество: «гуманизм есть культура
человека как творческой личности» (СГР, 11,329).
Трактовка Федотовым культуры выявляется в ее отношении к
цивилизации. В современной ему философской и
культурологической литературе понятия «цивилизация» и «культура»
противопоставлялись друг другу, поскольку «комфорт, материальный и моральный,
остается последним критерием цивилизации», а культуру осмысля-
1 Федотов Г. П. Социальное значение христианства // Философские науки.
1991. №3. С. 75.
2 Там же.
441
ют как «иерархию духовных ценностей». По Федотову,
«цивилизация, конечно, включается в культуру, но в ее низших этажах.
Культура имеет отношение не к счастью человека, а к его достоинству или
призванию. Не в удовлетворении потребностей, а в творчестве, в
познании, в служении высшему творится культура» (СГР, II, 200).
Поэтому он считает, что «совет Шпенглера - решительно отказаться от
непосильной большей культуры ради легкой, дающейся в руки
цивилизации - есть отступничество, лишь прикрытое маской стоицизма»,
отступничество, равнозначное преданию души человека или целого
народа (СГР, II, 203).
С позиции христианского мыслителя, «культура народа
вырастает из религиозных корней» (СГР, I, 64). Он полагал, что «культура
должна быть понята религиозно» (СГР, И, 225). В статье «О Св. Духе
в природе и культуре» (1932) Федотов утверждал, что «культура по
преимуществу дело человека - человека, поставленного между
Богом и космосом, - но Богом вдохновленного на творчество».
Поэтому «есть два извечных начала в культуре: труд и вдохновение»1. Труд
связывает культуру с землей. Вдохновение - с Богом. Федотов
призывал к утверждению как правды «достоинства человеческой
личности», так и правды «религиозного смысла соборного дела культуры»
(СГР, И, 14). «Социальное спасение», по его убеждению, возможно
лишь «при религиозном обновлении культуры» (СГР, 1,327). И
«Церковь, ставя задачу спасения человечества, тем самым освящает
культуру, как форму общей жизни человечества» («Путь», 12).
Вместе с тем Федотов далек от клерикализации культуры, т. е. от
того, чтобы ограничивать культурное творчество людей только
истинной, в его глазах, религией и церковью. Как религиозный
мыслитель он дает культуре богословское объяснение, хотя не считает себя
богословом. Боговдохновенность культуры осуществляется, по его
воззрениям, действием Духа Святого, который и дает свободу через
«свободное, творческое дуновение». Поэтому он убежден в том, что
«лишь в христианстве нам даны и неистощимые источники Св. Духа,
и вместе с тем возможность хранения их чистоты», что
«христианство есть религия личности» («Путь», 16, 10, 6).
Однако он полагает, что действие Св. Духа раскрывается и вне
Церкви - «в мире природы и в мире культуры» и «нигде, ни одной из
ступеней творчество человека не оставлено вдохновением Святого
Духа». Поэтому и «творчество языческого человека, не знающего
Христа, но не предающего Его, тоже причастное божественным
вдохновениям» («Путь», 4, 18). «Строение христианской культуры, -
отмечает автор статьи, - формально ничем не отличается от культуры
1 Федотов Г. П. О Св. Духе в природе и культуре // Путь. 1932. № 35. С. 8.
Эта статья перепечатана также в журнале «Вопросы литературы» (1990. № 2.
С. 204-213). Далее ссылки на эту статью приводятся в тексте с указанием в
скобках «Путь» и страницы.
442
языческой. Для социологии нет различия крещеных и некрещеных
народов» («Путь», 12).
Боговдохновенность человеческого творчества проникает и в «в
секуляризованное, оторванное от Церкви творчество»: «и оно
может быть грешным и чистым, губительным и животворящим -
нередко в одно и то же время, в том же самом создании» («Путь», 18).
Более того, «искусство часто оказывается демоническим, но это не
лишает его божественного происхождения». Из рассуждений о
Святом Духе Федотова следует, что «последнее «Да» миру несет в себе
всякое высокое искусство и всякое мудрое откровение жизни»
(«Путь», 10, 14).
Таким образом, Федотов дает религиозное обоснование свободы
художественного творчества, ограждая его даже от «законнического
духа церковников». По его убеждению, «законом, нравственной и
общественной нормой нельзя судить откровения художника,
мыслителя, поэта», ибо «все творчески новое, все пророческое нарушает
норму: другие, высшие нормы вырастут из новых отношений». Это
для него, конечно, не означает ценностную относительность,
равноценность всех произведений человеческого творчества,
равнозначность всех норм. Он подчеркивает, что «не всякая аномия духовна,
не всякая духовность свята». Как для христианина для Федотова
несомненен «критерий креста», поскольку «Дух не подвластен закону.
Он судится не законом, а крестом». Но призвание христианской
мысли - «не отрицать, но собирать рассыпанное в мире Божье добро»
(«Путь», 15, 14, 19).
Классическое мировое искусство, великая русская литература
были для Федотова высшим достижением художественного
творчества, как воспевание свободы и гуманизма. «Будучи решительным
противником политической реставрации, - писал он в «Письмах о
русской культуре» (1939), - я ничего не имел бы против реставрации
культурной» (СГР, II, 164). В статье «Борьба за искусство» (1935)
Федотов определяет свое отношение к искусству вообще и к его
современному развитию в частности. Искусство, с его точки зрения, -
одна из форм духовной активности человека, активность
«творческая, создающая новое, а не отражающая данное»1. Федотов
сторонник художественного реализма. Главное своеобразие и творческую
заслугу реализма он усматривает «в завоевании чувственного мира,
а также мира социального, в который поставлена старая, в
христианской этике воспитанная личность».
Симптомы болезни искусства он видит в декадентском сужении
«сферы реального», хотя и в сочетании с «культурой формального
1 Федотов Г. П. Борьба за искусство // Вопросы литературы. 1990. № 2.
С. 214. Дальнейшие ссылки на эту статью даются в тексте с указанием в скобках
ВЛ и страницы.
443
совершенства». В современном искусстве, как и в самой жизни,
эротика заступает на место любви, жестокость заменяет сострадание.
Литература «открывает за разумной поверхностью души бесконечный и
темный мир бессознательного». Однако платой за это открытие,
имеющее «огромное значение для самосознания нового человека»,
является «утрата «я». «Человеческий мир изгоняется из музыки, как давно
уже изгнан из живописи». В течениях конструктивизма и футуризма,
по его словам, «обесчеловеченное и обезжизненное искусство
приобретает неожиданно сатанические черты» (ВЛ, 219, 218, 222).
Вместе с тем «человек и искусство не желают умирать», в
быстрой смене направлений последних десятилетий, по Федотову, «все
снова и снова делаются попытки спасти искусство». В статье даются
краткие, но содержательно емкие характеристики таких
противоречивых художественных направлений, как «импрессионистический
реализм», «символизм», «новый реализм (акмеизм)»,
«конструктивизм», «футуризм». И он убежден в том, что «во всех указанных и
неуказанных стилях и направлениях создаются прекрасные вещи»
(ВЛ, 220, 223).
Федотов чутко воспринимал современную ему художественную
культуру. По его словам, в постижении оживающего ныне в истории
лица России «творчество Блока достигает такой объективности,
которая делает его для нас равнозначным историческому открытию»
(СГР, I, 116; см. СГР, II, 296). Как подлинный поэт А. Блок «нередко
оказывается предвестником. Ему дано упреждать не только
историческую мысль, но и самый исторический опыт» (СГР, I, 102). В
А. Блоке, как и в А. Белом, Федотов слышал звучание романтизма
(см. СГР, 1,243). Для понимания происходящего в Советской России
Федотов обращался к произведениям Зощенко, Маяковского,
Пастернака, Пильняка, Вс. Иванова, Леонова, Федина1.
Идеал «социального христианства»
Каков был социальный идеал Федотова? Какой общественный
строй должен был установиться в России после неизбежного, по его
мнению, падения сталинократии, при которой народ «является не
субъектом, а объектом власти» (СГР, И, 93)?
1 И. А. Ильин на основании своего религиозного осмысления искусства
давал совершенно иные, чем Г. П. Федотов, оценки современных русских
писателей. А. Белый у него «безвкусно лепечет или лопочет», А. Блок «беспредметно
и туманно фантазирует». Поэзия предреволюционного периода вырождается,
по его характеристике, «в шепелявое неистовство Волошина и в хулиганское
озорство Есенина». Достается и Анне Ахматовой, в лице которой поэзия
«безвольно предается личным страстям». Послереволюционного Маяковского он
считает «безобразнейшим из хулиганов-рифмачей нашего времени» (т. 2, кн. И,
320, 321).
444
По его убеждению, социальный строй не может быть
безразличен для христианства. К какому же строю нужно стремиться? «К
такому, - отмечает он, - где более всего воплощена справедливость и
братские начала жизни, где легче всего борьба со злом и где
личность поставлена в наиболее благоприятные условия для своего
духовного развития»1. Федотов полагал, что «в христианстве еще не
ясны очертания того строя, который должен сменить вырождающийся
и хаотический капитализм. Неважно, будет ли он носить имя
социалистического или нет. Важно, чтобы он, сохраняя свободу человека,
был шагом вперед к достижению, быть может, вполне
недостижимого на земле идеала братства, героическая мечта о котором не умирает
в христианстве со дня первой церкви в Иерусалиме»2.
В статье «Основы христианской демократии» (1934) Федотов
пытается обосновать христианские источники идеи свободы
личности и демократии, вопреки практики подавления того и другого
историческим христианством. По мнению автора статьи, христианский
идеал общества включает в себя защиту личности. Подлинная
соборность, как он полагает, - это и есть «христианская демократия»,
«демократия соборная», коренным образом отличающаяся от
«языческой демократии», ибо «начало соборности означает органическое
равновесие личности и общества. Оно само уже обеспечивает
личность от поглощения коллективом, которое угрожает ей в царстве
чистой, языческой демократии»3. Отстаивание свободы личности и
связанных с ней свобод печати, мысли, искусства, попираемых
деспотизмом, по Федотову, вытекает из сущности христианства,
поскольку «в последней глубине свобода человека совпадает со свободой
Бога»(НГ. 1934. №8. С. 13).
В этой статье также отмечается, что социализм глубоко
«укоренен в христианстве»: «социализм есть блудный сын христианства,
ныне возвращающийся - по крайней мере, отчасти - в дом отчий»
(НГ. 1934. № 8. С. 3). Свое отношение к идее социализма Федотов
обстоятельно выразил в статье «Что такое социализм?» (1932). По
его мнению, «социализм в XIX веке пережил три стадии:
утопическую, революционную, реформистскую» (НГ. 1932. № 3. С. 21).
Утопический социализм - это прекраснодушные социалистические
учения, которым не дано было обрести реальное существование.
Революционный социализм (или коммунизм) - это марксистский
социализм, приведший к большевистской революции 1917г. Реформизм -
социализм II Интернационала, предполагающий социальную рефор-
1 Федотов Г. П. Социальное значение христианства // Философские науки.
1991. №3. С. 74-75.
2 Там же. С. 98.
3 Федотов Г. П. Основы христианской демократии // Новый Град (Париж).
1934. № 8. С. 12. Далее ссылки на этот журнал даются в тексте с указанием в
скобках НГ, года издания, номера и страницы.
445
мацию общества в рамках капитализма. Реформистский социализм,
приспособленный «к цветущему капитализму», по мнению
Федотова, подвержен разложению, как и сам капитализм, и не в состоянии
противостоять коммунизму.
Сам Федотов является сторонником общества «совершенно
нового типа, еще не бывалого в истории мира, за которым можно
оставить имя социалистического», общества, названного им «социализм
конструктивный», ставящий «своей задачей глубокое, коренное
преобразование общества», но «не через разрушение буржуазного мира,
а через взращение, развитие и оформление тех ростков новой жизни,
которые уже пробиваются в старой». Конструктивный социализм
Федотова представляет собой развитие «социализма гуманитарного
и христианского» с присущей ему «идеей социального обеспечения»,
дополненного организационными и культурными элементами
социальной проблемы, а также «социальным воспитанием» (НГ. 1932.
№ 3. С. 22, 26).
Такой социализм можно было бы выразить формулой: социализм =
социальная демократия + плановость хозяйства. По его словам, «в
соединении с плановостью хозяйства социальная демократия и
образует реальное содержание социализма». Для него социализм -
«трудовое общество», предполагающее господствующее положение в нем
«трудящихся классов», «работников», включая и «трудовую
интеллигенцию». Не считая целью социализма «экономическое равенство»,
«трудовая демократия» обеспечивает вместе с тем «сближение
социальных полюсов до возможности некоего общего бытового стиля»
(НГ. 1932. № 3. С. 28-29).
В этом обществе «труд становится мерилом социальных
ценностей и ложится в основу социальной иерархии», при которой
«создается аристократия, основанная на труде (и творчестве)». «Социальная
демократия» сохраняет «права трудящихся» на определенное
самоуправление «заводского мира» и «на самодисциплину».
Политические партии «должны уступить место профессиональным
организациям в руководстве социальным преобразованием». В таком
обществе осуществляются «технические тенденции культуры»: «не
интеллигенция поглощается пролетариатом, а пролетариат
поглощается интеллигенцией». Таким образом, при равенстве образования
стираются «остатки былого антагонизма» работников различных сфер
труда (НГ. 1932. № 3. С. 29, 31, 32, ЗЗ)1.
1 О том, как Г. П. Федотов представлял будущее России, см.: Столович
Леонид. Философия Георгия Федотова и современность // Звезда (СПб.). 2001. № 9.
С. 210-212.
XVI
ИЗ ИСТОРИИ МАРКСИЗМА
В РОССИИ
История русской философской мысли тесно и органично связана
с развитием философии в Западной Европе. В первой половине XIX
столетия сильное воздействие на русскую мысль оказывали
философские идеи Шеллинга, Гегеля и Фейербаха. Во второй половине
века и в его конце в Россию проникают эстетика символизма и
ницшеанство, а в начале XX в. - неокантианство и феноменология
Гуссерля. Все это отнюдь не говорит о вторичном характере русской
философской мысли. Все эти влияния и воздействия не были чисто
внешними, они преломлялись через потребности российской
духовной жизни, и творчество русских мыслителей не довольствовалось
философским импортом. Русская мысль (в особенности идейное
наследие Достоевского и Толстого) в свою очередь оказывала влияние
на интеллектуальную жизнь Запада.
В этом плане, как нам представляется, следует понимать очень
большое влияние марксистской теории на русскую общественно-
политическую и философскую мысль с конца XIX столетия.
Марксизм - это не только философия. Сама марксистская философия в
значительной мере проявляется через экономическое и социально-
политическое учение, основанное К. Марксом и Ф. Энгельсом.
Своеобразием марксизма на русской почве явилось то, что называют
«русским коммунизмом». Однако марксизм в России имел не только
большевистскую версию. Последняя сама ожесточенно боролась и с
«легальным марксизмом», и с «меньшевистской» его
разновидностью, представленную Г. В. Плехановым и его последователями, и с
философскими ревизионистами, к которым одно время примыкал
А. В. Луначарский и среди которых можно назвать имя предтечи
кибернетики А. А. Богданова. В рамках марксизма-ленинизма
развивалась советская философия, имевшая как официозно-партийную, так
и гуманистически-творческую направленность.
В настоящем очерке не представляется возможным дать
развернутую характеристику марксистской философии в России. Но для
того чтобы иметь общее представление о распространении и
развитии ее в России, необходимо обратить внимание на две тенденции,
существовавшие в марксизме в период его становления и развития
вообще и в трудах русских мыслителей в частности.
447
Уже в учениях социалистов-утопистов прослеживаются две
тенденции. Одна из них, представленная воззрениями Шарля Фурье,
Роберта Оуэна, Николая Чернышевского, Уильяма Морриса, связана
с традициями гуманизма, предполагая в будущем «идеальном»
обществе всестороннее и свободное развитие человеческой личности.
Другая тенденция (ее наглядно выразили бабувисты — сторонники
вождя «коммунистического» «заговора во имя равенства» Гракха
Бабёфа) и была тем «грубым коммунизмом», о котором писал
молодой Маркс, а Александр Герцен называл «каторжным равенством» и
«коммунистической барщиной».
Изучение исторических судеб марксизма показывает, по нашему
мнению, что и в нем самом (имеются в виду не только труды его
основоположников, но также многочисленных сторонников и
пропагандистов) существовали две тенденции: тенденция, предполагаю-
щая приоритет и отстаивание «общечеловеческих ценностей» в
условиях классового общества, и тенденция приоритета
классового интереса над «общечеловеческими» интересами, которые в
классовом обществе выступают в виде интересов господствующего класса1.
Каким образом возможно было сосуществование в марксизме этих
двух противоположных тенденций? Марксизм начинался как
стремление преодолеть отчуждение человека в современном ему
буржуазном обществе. Это отчуждение человека труда приводило к
возникновению многих парадоксальных ситуаций: «чем больше рабочий
выматывает себя на работе, тем могущественнее становится чужой
для него предметный мир, создаваемый им самим против самого себя,
тем беднее становится он сам, его внутренний мир, тем меньшее
имущество ему принадлежит»; «чем больше ценностей он создает,
тем больше сам он обесценивается и лишается достоинства; чем
лучше оформлен его продукт, тем более изуродован рабочий; чем
культурнее созданная им вещь, тем более похож на варвара он сам»2.
Коммунизм представлялся основоположнику марксизма в «Эко-
номическо-философских рукописях 1844 года» как исторически
необходимое общество, устраняющее частную собственность - «этого
самоотчуждения человека», как «действительное разрешение
противоречия между человеком и природой, человеком и человеком,
подлинное разрешение спора между существованием и сущностью,
между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и
необходимостью, между индивидом и родом». Молодой Маркс
утверждал, что бесклассовое общество будущего, в котором должна
действовать «действительно человеческая мораль», - это
«подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека» и
1 Более подробно о понимании автором двух тенденций в марксизме см.:
Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической
аксиологии. С.167-176.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 88, 89.
448
«такой коммунизм ... = гуманизму». Речь здесь шла именно о
гуманистическом коммунизме, ибо, по словам самого Маркса, может
существовать также «грубый коммунизм», «коммунизм, отрицающий
повсюду личность человека», отвергающий частную собственность
с позиций зависти к частной собственности1 (этого рода «коммунизм»
Маркс и Энгельс впоследствии называли «казарменным
коммунизмом»2). Гуманистические истоки и характер такого учения не
вызывают сомнения.
Но создатели теории научного коммунизма стремились к
реализации своего общественного идеала и полагали, что осуществление
освобождения человека и общества должно произойти благодаря
революционной деятельности пролетариата. Революционный
пролетариат мыслился ими как освободитель человечества, олицетворение
родовой сущности человека, лучший выразитель общечеловеческих
интересов. Но если пролетариат выражает общечеловеческие
интересы, то общечеловеческие интересы - это и есть интересы
пролетариата, а отсюда пролетарская мораль и есть основа
общечеловеческой морали.
Противоположные тенденции, обнаруживающиеся в самом
марксизме, уже в конце прошлого века по-разному дают о себе знать в
различных течениях социал-демократии, в том числе и российской.
Было бы заманчивым упрощением считать, что одна из этих
тенденций «без остатка» воплотилась в каком-либо течении марксистской
мысли, в большевизме или меньшевизме, в идеологии немецкой или
шведской социал-демократии, в еврокоммунизме и т. д. Нельзя не
учитывать, что все эти деления носят прежде всего политический
характер, которому далеко не всегда однозначно соответствует
определенный философский принцип. Но в различных течениях, так или
иначе связанных с марксизмом, содержится различное соотношение
двух отмеченных тенденций, иногда с преобладанием
общегуманистической, а иногда - классовой тенденции.
О ПРОНИКНОВЕНИИ МАРКСИЗМА В РОССИЮ
Некоторые произведения К. Маркса были известны в России уже
в середине 40-х гг. XIX в. Как уже отмечалось, в письме А. И.
Герцену от 26 января 1845 г. В. Г. Белинский писал о своем впечатлении от
парижского издания «Немецко-французского ежегодника» 1844 г.,
издаваемого А. Руге и К. Марксом, в котором была напечатана статья
Маркса «К критике гегелевской философии права. Введение», где
содержалась знаменитая его мысль о том, что «религия есть опиум
народа». Отрицая, что он от парижского «Ярбюхера» «воскрес и пе-
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 116, 114-115.
2 См. там же. Т. 18. С. 414.
449
реродился», Белинский так определил свое отношение от этой
«тетрадки»: «Два дня я от нее был бодр и весел, - и всё тут. Истину я взял
себе - и в словах бог к религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю
теперь эти два слова, как следующие за ними четыре»1.
Маркс был с 1846 г. знаком и состоял в переписке с
литературным критиком и публицистом П. В. Анненковым, знал М. А.
Бакунина, который первым перевел на русский язык в 1869 г. «Манифест
коммунистической партии». С Бакуниным, вступившим в I
Интернационал и исключенным из него за анархизм в 1872 г., у Маркса были
конфликтные отношения, как и с А. И. Герценом - сторонником идеи
русского социализма. Россия интересовала Маркса и Энгельса с
точки зрения перспектив революционного движения, и они были в
курсе русских проблем, обменивались о них мнениями с видными
политическими деятелями России, такими, как П. Л. Лавров, Г. А.
Лопатин, В. И. Засулич.
В 1872 г. вышел в переводе на русский язык 1-й том «Капитала»
(это был вообще первый перевод «Капитала» на иностранный язык),
который вызвал большой интерес у экономистов. Маркс в
послесловии ко второму изданию 1-го тома «Капитала» приводит отзыв на
«Капитал» русского экономиста И. И. Кауфмана в журнале «Вестник
Европы» как наиболее удачное описание диалектического метода. Но
собственно российский марксизм появляется в начале 80-х гг. Его
сторонники создали в 1883 г. в Женеве группу «Освобождение
труда», возглавляемую Г. В. Плехановым. Члены этой группы -
Плеханов, В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод и другие переводили на русский
язык и издавали важнейшие работы основоположников марксизма и с
марксистских позиций вели острую полемику против народнической
идеологии. В эту полемику включилось и молодое поколение
марксистов, сторонников в то время Плеханова, к которым принадлежал
и В. И. Ульянов (Ленин). После раскола в 1903 г. российской социал-
демократии на II съезде РСДРП на «большевиков», возглавляемых
Лениным, и «меньшевиков», к которым примкнул Плеханов, возникли
две версии российского марксизма - большевистская и
меньшевистская. Вместе с тем их отличия друг от друга были главным образом
связаны с тактически-политическими вопросами. Что касается чисто
философских воззрений марксизма, то позиции Плеханова и Ленина
были более близки друг другу в период первого десятилетия нового
века, чем взгляды Ленина и таких сторонников политического
большевизма, как А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Базаров (до
революции 1905-1907 гг.), стремившихся дополнить марксизм
философией эмпириокритицизма и богостроительством.
Однако увлечение марксизмом охватило в 90-е гг. XIX в.
некоторые круги русской интеллигенции если и связанной с революцион-
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 250.
450
ным движением, то только в самой начальной его стадии.
Представители этих кругов печатали свои работы в разрешенных, т. е.
легальных, «законных», изданиях и потому получили наименование
«легальных марксистов». Уже в конце XIX - начале XX в. они
отошли от марксизма, философия которого ими не принималась еще во
времена «легального марксизма». У нас уже шла речь о таких
мыслителях, которые от марксизма перешли к идеализму, как С. Н.
Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк и др. Аналогичный идейный путь
проделали П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановский.
Н. А. Бердяев на своем примере показал, в чем заключалась
привлекательность марксизма для «легальных марксистов»: «Марксизм
обозначал совершенно новую формацию, он был кризисом русской
интеллигенции. В конце 90-х годов образовалось марксистское
течение, которое стояло на гораздо более высоком культурном уровне,
чем другие течения революционной интеллигенции. Это был тип,
малопохожий на тот, из которого впоследствии вышел большевизм. Я
стал критическим марксистом, и это дало мне возможность остаться
идеалистом в философии». И далее: «В марксизме меня более всего
пленил историософический размах, широта мировых перспектив. По
сравнению с марксизмом старый русский социализм мне
представлялся явлением провинциальным. Марксизм конца 90-х годов был
несомненно процессом европеизации русской интеллигенции,
приобщением ее к западным течениям, выходом на больший простор».
Уже давно отошедший от марксизма Бердяев писал в своей
философской автобиографии: «Маркса я считал гениальным человеком и
считаю и сейчас. Я вполне принимал марксовскую критику капитализма.
Марксизм раскрывал возможность победы революции, в то время как
старые революционные направления потерпели поражение. У меня
была потребность осуществлять в жизни свои идеи, я не хотел
оставаться отвлеченным мыслителем. Все это в совокупности толкало меня
в сторону марксизма, в который я никогда вместиться не мог»1.
Видным «легальным марксистом» был Петр Бернгардович
Струве ( 1870-1944). Он пришел к марксизму через свои экономические
воззрения, противостоящие народнической социологии. «В 90-е гг., -
отмечал он, - русский марксизм в идеях того же Маркса выражал
понимание, диаметрально противоположное народничеству. Смешно
говорить, что русский марксизм 90-х гг. был просто списан с Маркса и
Энгельса. Что касается меня лично, то меня марксистом гораздо
больше сделал голод 1891-1892 гг., чем чтение «Капитала»2.
1 Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии).
С. 118-119.
2 Струве П. Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М, 1997.
С. 226. Последующие ссылки на это издание даются в тексте с указанием в
скобках страницы.
451
Но и «Капитал» Струве читал основательно, и даже издание этой
«библии» марксизма в 1898 г. вышло под его редакцией. Маркс, по
его словам, «соорудил бесподобное научное здание, которое, даже
если оно когда-нибудь и будет разрушено, даст для будущих и
зодчих, и каменщиков богатейший запас строительных мотивов и
материалов» (354). Но в отличие от Бердяева, который «вполне принимал
марксовскую критику капитализма», Струве «оправдывал»
капитализм в прямой полемике не только с народничеством, но и со всею
почти официальной наукой» (188). Поэтому не только для Ленина,
написавшего работу «Экономическое содержание народничества и
критика его в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной
литературе)», но и для Бердяева Струве - «представитель марксизма
буржуазного»1. Поэтому вполне логична эволюция Струве от
социал-демократии (именно он написал «Манифест РСДРП») к
либеральному консерватизму, его деятельное участие в кадетской партии и
резко антисоветская позиция после Октябрьской революции 1917 г.
Еще будучи «легальным марксистом», Струве, как и некоторые
немецкие социал-демократы, полагал, что марксизм не имеет
философского обоснования, считая, что «социологическая доктрина
Маркса так же мало по существу связана с философским материализмом,
как современная физиология и психофизика» (343). Свою
мировоззренческую позицию он самоопределял как «сильно окрашенный
кантианством и неокантианством марксизм Струве» (187). В своем
«Предисловии к книге Н. А. Бердяева «Субъективизм и
индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К.
Михайловском» Струве отмечал, что книга Бердяева делает «важный шаг в
деле критической перестройки марксизма на основе
идеалистической философии» (344). Однако Струве считал, что существовал
«второй период литературной деятельности Маркса, когда его
материализм становится диалектическим, когда происходит синтез
материалистической метафизики и диалектической логики» (343).
Теоретическая деятельность последовательно марксистских
мыслителей, прежде всего Плеханова, определявшего собственно
марксистскую философию как диалектический материализм (см. 341),
была важным основанием отказа Струве, как и других «легальных
марксистов», не только от этой философии, но и от марксизма
вообще. Это окончательно выявили сборник «Проблемы идеализма»,
изданный по инициативе Струве в 1902 г., и сборник «Вехи» в 1909 г.
Г. В. Плеханов
Георгий Валентинович Плеханов (1856-1918) был первым
русским последовательным марксистом. Он вошел в историю не только
как пропагандист марксистского учения на своей родине, но и как
1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М, 1990. С. 84.
452
один из систематизаторов и теоретиков марксизма, в особенности
марксистской философии.
Плеханов родился в 1856 г. в дворянском имении родителей в
Тамбовской губернии. Мать Георгия Валентиновича была
родственницей В. Г. Белинского. Его отец и братья были офицерами, и
первым учебным заведением, в которое поступил будущий марксист,
была Воронежская военная гимназия - кадетский корпус. Но там он
получал не только военную подготовку, но и приобщился к русской
литературе. О настроениях кадетов свидетельствует такой факт,
который потом вспоминал Плеханов. Как-то после обеда военные
гимназисты читали «Железную дорогу» Некрасова. Когда прозвучал
сигнал на очередное фронтовое учение и юноши стали строиться с
ружьями, к Георгию подошел его приятель и «сжимая в руке ружейный
ствол, прошептал: «Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за
русский народ!»1 Окончив военную гимназию, Плеханов поступает
в Константиновское юнкерское училище, готовящее царских
офицеров. Но вскоре он осознал несовместимость интересов царя и
отечества и перешел в 1874 г. в Горный институт.
Будучи студентом, Плеханов стал участником подпольных
кружков и сходок. В 1876 г. он вошел в народнический кружок,
включенный потом в организацию «Земля и воля», а 6 октября 1876 г.
двадцатилетний революционер ярко выступил против самодержавия на
первой открытой политической демонстрации у Казанского собора
Петербурга, одним из организаторов которой он был сам.
Демонстранты помогли ему скрыться от полиции, и он переходит на нелегальное
положение. Плеханов участвует в подпольном революционном
движении, ведет революционную пропаганду среди рабочих,
включается в забастовочное движение, в рабочие демонстрации и
студенческие протесты. В 1877 и 1878 гг. его арестовывают.
Революционная работа стимулировала самообразование
молодого Плеханова. Петербургская публичная библиотека становится не
только убежищем для нелегала, но и его университетом. Начинается
его и литературно-публицистическая деятельность. В издании
«Земля и воля» в начале 1879 г. появляется его первая теоретическая
работа - статья «Закон экономического развития общества и задачи
социализма в России». В этой статье обосновывается народническая
программа, но, оценивая практику революционного движения
России этого времени, Плеханов обращается и к зарубежной
социалистической мысли, включая труды Маркса и Энгельса.
Переход его на марксистские позиции происходит уже после того,
как он был вынужден покинуть Россию и стать политическим
эмигрантом. Его идейные расхождения с народниками обнаружились еще
на родине. В эмиграции Плеханов окончательно порывает с народо-
• Плеханов Г. В. Соч. М; Л., 1925. Т. 10. С. 389.
453
вольцами и становится сознательным марксистом. В 1883 г. он
пишет работу «Социализм и политическая борьба», критикующую
народническую идеологию. И когда народовольческий журнал
«Вестник Народной воли» отказался напечатать эту работу, она выходит
первым выпуском «Библиотеки современного социализма», которую
начинает выпускать созданная Плехановым первая марксистская
организация России - группа «Освобождение труда».
Группа «Освобождение труда» состояла из нескольких человек.
Кроме самого Плеханова в нее входили такие революционные
деятели, как Вера Засулич, П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч, В. Н. Игнатов.
Сторонница Плеханова в марксистской философии Л. И. Аксельрод
(Ортодокс) вспоминала, как «в конце 80-х годов острили по поводу
количественного состава этой русской марксистской организации, что
ей не следует кататься на лодке, так как несчастный случай может
пустить на дно всю марксистскую партию»1.
«Социализм и политическая борьба» была неодобрительно
встречена идеологами народничества. П. Л. Лавров опубликовал
критическую рецензию на эту работу Плеханова, хотя похвалил
изложение основных положений социалистического учения Маркса, к
которому лично Лавров очень хорошо относился. Свое письмо Лаврову -
ответ на его критику - Плеханов напечатал в качестве предисловия к
новой книге «Наши разногласия», вышедшей в начале 1885 г. Эту
книгу в письме к В. Засулич высоко оценил Ф. Энгельс. С ним
Плеханов вскоре познакомился и дружески беседовал.
Основное противоречие между Плехановым и народниками
заключалось в понимании исторических путей развития России.
Народники полагали, что марксистское учение о капитализме,
подготавливающем условия для социалистического строя, неприменимо к
России, которая способна прийти к социализму, минуя капитализм,
используя для этого существующую сельскую общину. Поэтому для
них основной революционной силой являлся «народ», включающий
в себя главным образом крестьянство. Идеологи народничества были
сторонниками так называемой «субъективной социологии» и видели
главную причину общественных преобразований в деятельности
выдающихся исторических личностей. Столкнувшись с пассивностью
народных масс и репрессиями властей, народовольцы для
достижения своих революционных целей стали прибегать к тактике террора.
Плеханов же, как и другие русские марксисты, полагал, что Россия
уже вступила на капиталистический путь, движению по которому
препятствуют самодержавно-феодальные институты. Поэтому наиболее
перспективной революционной силой и в России является рабочий
класс, хотя в 80-х гг. он еще только формировался. Выражением
этого убеждения являются слова Плеханова на парижском Международ-
1 Аксельрод (Ортодокс) Л. И. Этюды и воспоминания. Л., 1925. С. 9.
454
ном рабочем социалистическом конгрессе в 1889 г. о том, что
«революционное движение в России может восторжествовать только как
революционное движение рабочих»1.
Таким образом, Плеханов утверждал универсальность
марксистского учения, полную применимость к российским условиям
материалистического понимания истории, разработанного
основоположниками этого учения. Поэтому важнейшей задачей плехановской
группы «Освобождение труда» была пропаганда марксизма в России,
прежде всего переводами на русский язык произведений Маркса и
Энгельса. В период с 1883 по 1900 г. было переведено около трех
десятков их произведений. Сам Плеханов в 1882 г. перевел
«Манифест коммунистической партии», а в 1892 г. он перевел со своим
предисловием и обширными примечаниями труд Энгельса «Людвиг
Фейербах и конец классической немецкой философии».
В полемике с русскими народниками и с теми деятелями
немецкой социал-демократии, которые от Маркса обратились к Канту, к
неокантианской философии и философии эмпириокритицизма,
Плеханов выступал как последовательный сторонник марксистской
философии, диалектического материализма и материалистического
понимания истории. В 1895 г. вышла в свет его книга «К вопросу о
развитии монистического взгляда на историю». Задуманная вначале
как 2-я часть работы «Наши разногласия» для нелегальной
публикации, эта книга появилась легально, обманув цензуру псевдонимом
«Бельтов» и заглавием, в котором материалистический взгляд на
историю был прикрыт абстрактно-философским монистическим
взглядом.
Написанная ярким языком, в полемическом стиле на основе
глубокого знания истории культуры и философской мысли, эта книга
Плеханова выявляла теоретические предпосылки марксизма во
французском материализме XVIII в., в воззрениях французских
историков времен Реставрации, социалистов-утопистов и в
идеалистической немецкой философии, прежде всего у Гегеля. Для автора книги
«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»
марксистская философия и есть «современный материализм». Плеханов
впервые определяет сущность этой философии как диалектический
материализм: «Мы употребляем термин «диалектический
материализм», который один только и может правильно характеризовать
философию Маркса» (I, 691). По его словам, «диалектический
материализм говорит: человеческий разум не мог быть демиургом истории,
потому что он сам является ее продуктом. Но раз явился этот
продукт, он не должен и по самой природе своей не может подчиняться
1 Плеханов Г. В. Избр. филос. произв.: В 5 т. (М., 1956-1958). Т. 1. С. 419.
В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках
римскими цифрами тома и арабскими - страницы.
455
завещанной прежнею историей действительности; он по
необходимости стремится преобразовать ее по своему образу и подобию,
сделать ее разумной» (I, 691-692).
Книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на
историю» получила широкую известность. О ней тепло отозвался Энгельс,
приветствуя появление ее в России. Для русских марксистов это была
настольная книга по философии марксизма. Плеханов в этой книге, в
блестяще написанной работе «К вопросу о роли личности в
истории» (1889) и многочисленных своих философских трудах
(собранные в 1956-1958 гг. в качестве избранных его философских
произведений они составили 5 объемных томов) последовательно развивал
и отстаивал важнейшие принципы марксистской философии.
Следует иметь в виду, что Плеханов систематизировал философские
воззрения основоположников марксизма, когда далеко не все их работы
были опубликованы. И сама эта систематизация имела творческий
характер. Принципы марксистской философии разрабатывались им
применительно к новой исторической действительности, прежде
всего к своеобразию исторического пути России в контексте мирового
экономического, политического и культурного развития.
Плеханов по праву считался образованнейшим марксистом не
только на своей родине. Его труды переводились на иностранные
языки и были хорошо знакомы за рубежами его страны. Он
основательно занимался историей философии, в особенности историей
материализма и диалектикой Гегеля. Он откликался на новые течения
западноевропейской философской мысли - интуитивизм А. Бергсона,
неокантианство В. Виндельбанда и Г. Риккерта, эмпириокритичес-
кую философию, воззрения Ф. Ницше, оценивая эти течения с
марксистских позиций.
Но особое место в его историко-философских трудах занимала
русская общественно-политическая и философская мысль. Еще в
«Наших разногласиях» Плеханов, определяя «родословную» русского
марксизма, противостоящего народнической идеологии 70-80-х гг.,
исследует взгляды Белинского, Герцена, Чернышевского, Бакунина,
Ткачева. Его внимание привлекали различные проявления
философской мысли России - «западники» П. Я. Чаадаев и В. С. Печерин,
славянофилы И. В. Киреевский и А. С. Хомяков, народник Н. К.
Михайловский и Л. Н. Толстой. Белинского, Герцена и Чернышевского
Плеханов считал предшественниками марксизма в России. Их
творчеству были посвящены его специальные труды, в том числе
большая книга «Н. Г. Чернышевский», вышедшая в 1909 г.
Плехановым был задуман грандиозный труд «История русской
общественной мысли». В нем предполагалось исследование развития
русской общественной мысли от ее возникновения до революции
1905-1907 гг. Но успел он написать и издать только 3 тома,
завершающиеся А. Н. Радищевым.
456
В историко-философских трудах Плеханова собран громадный
материал, в освещении и трактовке которого он стремился
проводить марксистскую точку зрения. Положительно оценивались
материалистические и диалектические тенденции философской мысли.
При этом особое внимание уделялось проявлениям демократизма и
революционности. Идеализм и религиозность здесь были предметом
осуждения, связываясь с социальным консерватизмом и
реакционностью. Русская идеалистическая философия конца XIX - начала XX в.
в лице ее основного журнала «Вопросы философии и психологии»
характеризуется Плехановым как «торжествующая реакция»,
которая облекается в «философский наряд» (I, 451). Философское
превосходство Чернышевского над Лавровым и Вл. Соловьевым для него
несомненно (см. IV, 289).
Творческая оригинальность марксистского мировоззрения
Плеханова нашла свое выражение в его эстетических воззрениях. Когда
воззрения самих основоположников марксизма на искусство были
почти неизвестны, русский марксист сделал попытку применить
материалистическое понимание истории для понимания
художественной сферы. В «Письмах без адреса» (1899-1900) он прямо
провозглашает: «...Я смотрю на искусство, как и на все общественные
явления, с точки зрения материалистического понимания истории» (V,
286). И с другой стороны, по его убеждению, «исследование
частного вопроса об искусстве будет в то же время и поверкой общего взгляда
на историю» (V, 287).
Ценность этого важнейшего труда по эстетике Плеханова
состоит в том, что он исследует происхождение искусства, опираясь на
обширный материал истории, археологии, этнологии и этнографии,
не говоря уже о собственно истории различных видов искусства.
Автор «Писем без адреса» полагает, что «природа человека делает
то, что у него могут быть эстетические вкусы и понятия.
Окружающие его условия определяют собой переход этой возможности в
действительность; ими объясняется то, что данный общественный
человек (т. е. данное общество, данный народ, данный класс) имеет
именно эти эстетические вкусы и понятия, а не другие» (V, 294). Под
«природой человека» Плеханов имеет в виду «психологическую
природу», характеризующуюся определенными общечеловеческими
закономерностями («стремление к подражанию» или же, наоборот,
«стремление к противоречию» - «начало антитеза»), которые в
классовом обществе преломляются через различные общественные
отношения.
Искусство же возникает в первобытном бесклассовом обществе,
и его основой является, по Плеханову, производственная деятельность
людей, их труд. Не отрицая значение игры в возникновении
художественной деятельности, он настаивает на том, что сама «игра есть
дитя труда» (см. V, 339). Если в индивидуальном развитии человека
457
игра предшествует труду, то «в жизни общества труд старше игры»
(V, 343). И поэтому «человек сначала смотрит на предметы и
явления с точки зрения утилитарной и только впоследствии
становится в своем отношении к ним на эстетическую точку зрения» (V, 354).
Эта закономерность возникновения эстетического мировосприятия,
четко определенная Плехановым, и обусловливает то, что
впечатление, производимое на нас природой, «изменяется в зависимости от
того, как изменяется наше собственное отношение к природе, а это
последнее определяется ходом развития нашей (т. е. общественной)
культуры» (V, 304).
Плеханов написал ряд работ, посвященных развитию искусства в
классовом обществе. Это и его статьи «Французская драматическая
литература и французская живопись XVIII века с точки зрения
социологии», статьи о Генрике Ибсене и Кнуте Гамсуне, о русских
писателях-народниках Г. Успенском, С. Каронине, Н. Наумове, о Льве
Толстом и Максиме Горьком. В 1905 г. вышла статья Плеханова
«Пролетарское движение и буржуазное искусство», а в 1912-1913 гг. на
основе своего реферата он опубликовал работу «Искусство и
общественная жизнь».
В предисловии к третьему изданию сборника «За двадцать лет»
(1908) русский марксист обобщил свое понимание задач
художественной критики с точки зрения марксистского принципа:
«общественное сознание определяется общественным бытием». Из этого
принципа, по его убеждению, следует, что «всякая данная «идеология» -
стало быть, также и искусство и так называемая изящная
литература - выражает собой стремления и настроения данного общества
или - если мы имеем дело с обществом, разделенным на классы, -
данного общественного класса». Поэтому, утверждает Плеханов,
«первая задача критика состоит в том, чтобы перевести идею
данного художественного произведения с языка искусства на язык
социологии^ чтобы найти то, что может быть названо социологическим
эквивалентом данного литературного явления». Это, по его мнению, -
«первый акт материалистической критики». Вместе с тем
необходим и «второй акт», дополняющий первый: «Это значит, что за
оценкой идеи художественного произведения должен был следовать анализ
его художественных достоинств», «оценка эстетических достоинств
разбираемого произведения». Дело, следовательно, не должно
ограничиваться нахождением «общественного эквивалента»
художественного явления, и «социология должна не затворять двери перед
эстетикой, а, напротив, настежь раскрывать их перед нею»1.
Разработка Плехановым социологии искусства оказала большое
влияние на развитие марксистской эстетики и художественной
критики. Но беда в том, что в эстетической и критической мысли многих
1 Плеханов Г. В. Искусство и литература. М., 1948. С. 207-208, 213, 212.
458
социологов искусства 20-х гг. «первый акт материалистической
критики» оказался оторванным от «второго акта», и исследование
искусства сводилось к нахождению его «социологического эквивалента»,
выражению психоидеологии класса. И таким образом, социология
искусства нередко по существу превращалась в вульгарную
социологию, для которой важнейшей задачей было установление того,
является ли тот или иной писатель или художник выразителем интересов, к
примеру, среднепоместного или мелкопоместного дворянства.
В этом, конечно, Плеханов не повинен. Его социология
искусства не была вульгарной и предполагала дополнение собственно
эстетикой. Однако сама эстетика у него сводилась, по сути дела, к
критерию «соответствия формы идее» (V, 746), который, как он полагает,
дает объективную возможность «судить о том, хорошо ли выполнен
данный художественный замысел» (V, 745). Так как «понятия людей
о красоте, несомненно, изменяются в ходе исторического
процесса», то и «нет абсолютного критерия красоты» (там же). По
свидетельству Л. И. Аксельрод (Ортодокс), «отвлеченная метафизическая
эстетика, ставящая проблему о красоте в себе, мало что могла дать
теоретику исторического материализма»1. Плеханов трактовал
эстетику не как «науку о прекрасном», а, вслед за Чернышевским, как
теорию искусства, систему общих принципов искусства (см. V, 242-
245). Это способствовало исключению из эстетики, стремящейся быть
марксистской, на долгие годы проблематики эстетического
отношения человека к действительности вне искусства, проблемы
прекрасного и других эстетических категорий, хотя сам Плеханов в
«Письмах без адреса» определил ряд существенных сторон эстетического
отношения в процесс его возникновения.
Интересны взгляды Плеханова на будущее искусства в его
отношении с религией. Как вспоминала Л. И. Аксельрод (Ортодокс), «в
общекультурном смысле искусство должно было, с точки зрения
Плеханова, заменить религию. Религия, будучи плодом фантазии и
воображения, выдает себя за действительность, между тем как
искусство, отражая действительность, является тем, что оно есть в
самом деле, - плодом художественного воображения. А в частности,
театр должен заменить собой церковь»2.
Неудивительно, что первый последовательный русский марксист
и видный деятель международного рабочего движения стал
основным автором программы РСДРП, которую принял в 1903 г. II съезд
российских социал-демократов. Но на съезде, как известно,
произошел раскол между большевиками, возглавляемыми В. И. Ульяновым-
Лениным, и меньшевиками, к которым примкнул Плеханов, хотя, по
словам А. В. Луначарского, в дальнейшем «Плеханов отнюдь не был
1 Аксельрод (Ортодокс) Л. И. Этюды и воспоминания. Л., 1925. С. 33.
2Тамже.С. 34-35.
459
уверенным меньшевиком». В данной связи мы не будем
рассматривать партийные и политико-тактические разногласия между
Плехановым и большевиками. Отметим только, что в основе их лежало
разное понимание марксизма не столько в философско-теоретичес-
ком отношении, сколько в применимости выработанной его
основоположниками теории социалистической революции и возможности
построения социализма в новых исторических условиях.
Плеханов придерживался ортодоксального марксизма, и, по
свидетельству Луначарского, «ему казалось, что большевизм
неортодоксален». В отличие от Ленина, Плеханов полагал, что
социалистическая революция и строительство социализма предполагают такое
развитие производительных сил при капитализме, каких в России в
первые десятилетия XX в. еще не было. Поэтому он критически отнесся
к стремлению большевиков ускорить необходимый ход истории и
форсировать социалистическую революцию в экономическом
отношении отсталой стране. Ему казалось, что Ленин и его
единомышленники отступают от классического марксизма и своей
революционной деятельностью и взглядами напоминают скорее анархизм
Бакунина, утопический коммунизм Бланки, стремящегося осуществлять
социальную революцию путем заговоров, и позицию русского
народника П. Н. Ткачева, который считал, что социализм должна
создавать революционная «партия действия», захватив политическую
власть и используя террор и другие средства дезорганизации
существующего общества.
В 1917 г. Плеханов, возвратившись на родину из 37-летней
эмиграции после Февральской революции, говорил: «Моя теоретическая
позиция ясна даже для очень близоруких людей, и я не схожу с нее
около 40 лет»1. Еще в книге «Наши разногласия» (I, 345-346) он
солидаризовался с мыслью Энгельса о том, что «самым худшим из
всего, что может предстоять вождю крайней партии, является
вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда движение
еще недостаточно созрело для господства представляемого им
класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство»2.
Скончался он 31 мая 1918 г. в Финляндии, куда вынужден был
выехать в санаторий для лечения от туберкулеза, так и не приняв
Октябрьской революции 1917 г. В последний путь Плеханова провожал
буквально весь Петроград, все слои русского общества, перед его
гробом склонились даже его теоретические и политические
противники - от продолжателей народнических идей до различных
организаций социал-демократии и рабочих заводов и фабрик. Похоронен
он был на Волковом кладбище поблизости от могилы Белинского.
1 Валентинов Н. В. Беседы с Плехановым в августе 1917 г.// Валентинов Н. В.
Наследники Ленина. М., 1991. С. 185.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 422-423.
460
После кончины первого русского марксиста его философские
воззрения были высоко оценены вождями Октябрьской революции и
руководителями большевистского государства, несмотря на то что
до этой революции и в ходе ее они вели с ним резкую полемику по
политическим и теоретическим проблемам марксизма. Л. Д.
Троцкий произнес речь «Памяти Плеханова» на 4-й день после его смерти
и сказал, что у него «мы учились азбуке революционного
марксизма». В. И. Ленин в 1921 г. определил «все, написанное Плехановым
по философии» как «лучшее во всей международной литературе
марксизма»1. В 20-е гг. литературное наследие Плеханова публиковалось
и исследовалось. С 1923 по 1928 г. вышло 24 тома его сочинений,
переиздавались отдельные труды, в том числе в 1925 г. была
переиздана его трехтомная «История русской общественной мысли».
В 30-е гг. отношение к Плеханову меняется. О нем говорится и
пишется больше в связи с его политическими расхождениями с
большевистской политической линией. Подчеркиваются его «ошибочные»
суждения в философии и эстетике. Тем не менее с 1934 по 1940 г.
вышло 8 томов «Литературного наследия Г. В. Плеханова», в 1948 г.
издается его сборник «Искусство и литература». В 1956 г., после
критики культа Сталина начался выпуск «Избранных философских
произведений» Плеханова (в 5 томах; завершен в 1958 г.) и других его
трудов.
А. А. Богданов
Одним из направлений марксистской мысли в России было
течение, стремившееся дополнить философию марксизма
некоторыми положениями философии эмпириокритицизма, разработанной
швейцарским философом Рихардом Авенариусом (1843-1896) и
австрийским физиком Эрнстом Махом (1838-1916). Основным
понятием эмпириокритицизма (на русском языке эмпириокритицизм
означает «критика опыта») являлось понятие опыта, который
сторонники этого направления стремились очистить от всяких доопыт-
ных предпосылок, будь то априорное (т. е. доопытное) познание и
«вещь в себе» Канта, а также основополагающее для материализма
понятие «материя».
Как мы видели, еще «легальные марксисты» пытались дополнить
марксизм кантианством. Однако «легальные марксисты» вскоре
вообще распрощались с марксизмом. В отличие от них, ведущий марк-
сист-эмпириокритик А. А. Богданов не перестал считать себя
марксистом, даже после отлучающей его от марксизма критики Г. В.
Плеханова и В. И. Ленина. Что же представляют собой философские
взгляды Богданова, стремившегося привить позитивизм к марксизму?
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 42. С. 290.
461
Александр Александрович Малиновский, писавший под
псевдонимом А. Богданов (1873-1928), родился в семье народного учителя.
Окончив с золотой медалью классическую гимназию в Туле, в 1892 г.
он поступил на естественное отделение Московского университета.
Однако в 1894 г. его исключили из университета за участие в
народовольческом Союзе северных землячеств.
Во время высылки в Тулу он проводит занятия с тульскими
рабочими по политической экономии Маркса, изучая его «Капитал». На
основе этих занятий он р 1897 г. издает «Краткий курс экономической
науки», переизданный в 1899 г. Этот первый марксистский труд
Богданова Ленин характеризовал как «замечательное явление в нашей
экономической литературе», имеющий «выдающиеся достоинства».
Притом, «выдающееся достоинство «курса» г-на Богданова и состоит в
том, что автор последовательно держится исторического
материализма»1. В 1899 г. социал-демократ Богданов заканчивает медицинский
факультет Харьковского университета. В этом же году результатом его
просветительской деятельности среди рабочих явилась книга
«Основные элементы исторического взгляда на природу», в которой он был,
по словам Ленина, «естественноисторическим» (т. е. наполовину
бессознательным и стихийно-верным духу естествознания)
материалистом»2. Следствием его просветительско-пропагандистской
деятельности были также арест, тюремное заключение и ссылка в Вологду.
В Вологде он не только работает в качестве врача, но и
продолжает свою философско-литературную деятельность. В 1901 г. выходит
его книга «Познание с исторической точки зрения». В то время в
Вологде находились в ссылке Н. А. Бердяев и А. В. Луначарский,
писатели А. М. Ремизов и Б. В. Савинков, ставший эсером-боевиком,
историк П. Е. Щеголев, юрист Б. А. Кистяковский, в последующем
один из авторов сборника «Вехи». В возникавших в этой
интеллектуальной среде дискуссиях обозначились разные философские
позиции. Богданов идейно сблизился с Луначарским, считая его своим
последователем. Им философски противостоял Бердяев, «только еще
начавший переходить от идеалистически окрашенного марксизма к
сумеркам мистики»3. В своей философской автобиографии,
рассказывая о своих отношениях с Богдановым, Бердяев так
характеризовал своего оппонента: «А. Богданов был очень хороший человек, очень
искренний и беззаветно преданный идее, по типу своему
совершенно мне чуждый. В то время меня уже считали «идеалистом»,
проникнутым метафизическими исканиями. Для А. Богданова это было
совершенно ненормальным явлением»4.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 4. С. 35, 37.
2 Там же. Т. 18. С. 243. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте
с указанием в скобках тома и страницы.
3 Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. М., 1968. С. 79.
4 Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). С. 128.
462
Богданов и Луначарский считали себя марксистами-реалистами.
В противовес сборнику «Проблемы идеализма» (1902) Богданов
организовал и редактировал сборник «Очерки реалистического
мировоззрения», вышедший в 1904 г., в котором была сделана попытка
дополнить марксизм философией эмпириокритицизма.
Еще будучи в вологодской ссылке, Богданов установил связь с
Лениным и редакцией первой общерусской нелегальной
марксистской газеты «Искра», а в 1903 г. примкнул к большевикам. После
окончания ссылки в 1904 г. он выехал в Швейцарию. Там начинается
его активная партийная работа. Он участвует в революционных
событиях 1905 г. На III съезде партии в Лондоне весной 1905 г.
Богданов делает доклад и избирается в первый большевистский ЦК партии.
В своей политической деятельности Богданов тесно сотрудничает с
Лениным, вместе с ним живет в 1906 г. на конспиративной квартире
в Финляндии, хотя уже в 1904 г. обнаружились их разногласия по
философским проблемам.
В 1904—1906 гг. выходит главный философский труд Богданова
«Эмпириомонизм. Статьи по философии» и вызывает острую
критику Плеханова и его последователей. Плеханов посвящает Богданову
три статьи в виде «писем» под названием «Materialismus militans
[Воинствующий материализм]. Ответ г. Богданову» (1908-1910), в
которых отлучает его от марксизма, поскольку «все здание этого учения
покоится на диалектическом материализме», а автор
«Эмпириомонизма» как последователь махизма-эмпириокритицизма не стоит и
не может стоять на материалистической точке зрения (III, 203-204).
В 1909 г. еще недавний политический союзник Богданова Ленин
под псевдонимом Вл. Ильин публикует книгу «Материализм и
эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной
философии», где взгляды Богданова характеризуются следующим образом:
«Наверху» у Богданова - исторический материализм, правда
вульгарный и сильно подпорченный идеализмом, «внизу» - идеализм,
переодетый в марксистские термины, подделанный под марксистские
словечки» (т. 18, с. 351).
До Октябрьской революции 1917 г. Богданов спорил со своими
философскими оппонентами, смело вызывая их на бой. Он отвечал
на обличительную критику Плеханова, обвиняя его в том, что сам он
излагает материализм от имени Маркса при помощи цитат из
Гольбаха. Большой статьей «Падение великого фетишизма
(Современный кризис идеологии). Вера и наука (о книге В. Ильина
«Материализм и эмпириокритицизм»)» Богданов ответил на ленинскую
критику его взглядов. В 1918-1920 гг., продолжая свою многолетнюю
просветительскую деятельность среди рабочего класса, Богданов стал
одним из руководителей организации «Пролетарская культура»
(Пролеткульт), в идеологических установках которой просматривалась
тенденция изолировать социалистическую культуру от мировой, яко-
463
бы буржуазной культуры. В 1920 г. вышло второе издание
ленинского «Материализма и эмпириокритицизма», автор которого поручил
В. И. Невскому (1876-1937) ознакомиться с новыми
произведениями Богданова. Статья Невского с характерным заглавием
«Диалектический материализм и философия мертвой реакции» была
опубликована в качестве приложения к книге Ленина, который в
предисловии к ней подчеркнул, что «под видом «пролетарской культуры»
проводятся А. А. Богдановым буржуазные и реакционные
воззрения» (т. 18, с. 13).
Последующая вслед за этим резкая критика деятельности
Богданова вынудила его возвратиться к своей первоначальной
специальности врача и возглавить в 1926 г. первый в мире Институт
переливания крови. В 1928 г. он погиб в результате поставленного на себе
опыта по переливанию крови.
Что же собой представляли философские воззрения Богданова,
которые он сам называл эмпириомонизмом? Первая часть этого
слова означает «опыт» (по-гречески empeiria - опыт), вторая - единство
(от греческого monos - один). «Эмпириомонизм, - по определению
Богданова, - есть социально-трудовое миропонимание»1. С точки
зрения такого миропонимания «вселенная представляется нам как
бесконечный поток организующей активности» («РП», 237).
«Первичной мировой средою, из которой кристаллизовалась материя с ее
силами», является, по Богданову, «эфир электрических и световых
волн» (там же, 237-238). Развитие мира характеризует
организованность элементов. В неорганической материи она выше, чем в
первооснове вселенной. Жизнь - «высший тип явлений вселенной» -
«представляет ряд различных ступеней организации» от простейшей
клетки до человеческого организма. И наконец, «высшим пределом
лестницы является для нас человеческий коллектив, в наше время
уже многомиллионная система, составленная из индивидуумов» (там
же, 238).
Богданов стремился обновить философскую терминологию,
учитывая, как ему казалось, достижения современной науки и
философии, не застывшей со времени Маркса и Энгельса, и в этом смысле
он действительно стоял, в отличие от Плеханова и Ленина, на
неортодоксальной философской позиции.
Богданов считал себя марксистом. Не отрицал он и
диалектический материализм, полагая, что «диалектический материализм был
первой попыткой выразить и оформить точку зрения рабочего
класса на жизнь и мир» (там же, 203). Диалектический материализм
стоял, по его мнению, на правильном пути движения, ибо «в основу
1 Богданов А. А. Эмпириомонизм // Русский позитивизм. Лесевич.
Юшкевич. Богданов. СПб., 1995. С. 239. В дальнейшем ссылки на это издание
приводятся в тексте с указанием в скобках «РП» и страницы.
464
миропонимания он положил производство, социально-трудовую
деятельность людей и в побежденных, покоренных силах природы
видел производительные силы общества» (там же, 209). Однако
Богданов был убежден, что нельзя цитаты из Энгельса считать
«достаточной заменой научной аргументации вообще» и недопустимо
выводить из теории Маркса «формальное идеологическое запрещение
искать других точек зрения», утверждать, что «никогда никакие
другие методы ни к чему, кроме путаницы и лжи привести не могут»1.
Богданов действительно с уважением, хотя и критически,
отнесся к эмпириокритицизму потому, что видел в этой философии
стремление осмыслить новые проблемы, возникшие в ходе развития
естественных наук, новые подходы к теории познания. Богданов
соглашается с махистами, эмпириокритиками в том, что «элементы опыта -
это как бы кирпичи, из которых строится мировоззрение» («РП», 211).
Однако состав этих «кирпичей» он понимает по-другому.
Разложение действительности «на чувственные элементы у Маха и эмпири-
окритиков» представляется ему неудовлетворительным. Для
Богданова основополагающими элементами являются «кристаллы
социальной активности, образуемые в потоке труда» (там же, 214). «Мы
рассматриваем действительность, или мир опыта, - утверждает он, -
как человеческую коллективную практику во всем ее живом
содержании, во всей сумме усилий и сопротивлений, образующих это
содержание» (там же, 209).
Богданов в таком своем миропонимании исходит из знаменитых
«Тезисов о Фейербахе» К. Маркса, написанных в 1845 г. и
опубликованных Энгельсом в 1888 г. в качестве приложения к отдельному
изданию работы «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой
философии». Определяя «главный недостаток всего
предшествующего материализма - включая и фейербаховский», Маркс уже в
первом тезисе отмечает, что он «заключается в том, что предмет,
действительность, чувственность берется только в форме объекта, или
в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность,
практика, не субъективно»2. Следует подчеркнуть, что Богданов
именно это утверждение Маркса положил в основу своего
миропонимания, тогда как другие философы-марксисты не обращали на него
внимания, отмечая в «Тезисах о Фейербахе» лишь положение о
практике как критерии истины и последний, 11-й тезис: «Философы лишь
различным образом объясняли мир, но дело заключается в том,
чтобы изменить его»3.
Богданов, рассматривая действительность «как человеческую
коллективную практику во всем ее живом содержании», разрабаты-
1 Богданов А. Вера и наука (О книге В. Ильина «Материализм и
эмпириокритицизм») // Вопросы философии. 1991. № 12. С. 48.
2 Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 1.
3 Там же. С. 4.
16-99
465
вает «социально-трудовой взгляд на познание» (там же, 218). Он
считает, что познавательная деятельность человека осуществляется в
соответствии с «основной метафорой», в соответствии с которой «к
природе применяются понятия, по своему первоначальному
значению относящиеся к человеческой деятельности». Например, «видеть
в процессах природы «энергию», это значит смотреть на них с точки
зрения возможной трудовой эксплуатации человечеством» (там же,
207). Богданова с полным основанием можно считать
предшественником «социологии знания» - отрасли философии, возникшей в 20-е гг.
XX в. на пересечении социологии и теории познания, исследующей
социальную обусловленность, механизмы и функции различных
видов человеческого знания.
Есть достаточно оснований считать философские воззрения
Богданова одной из версий марксистской философии. Нельзя, конечно,
не видеть в ней различного рода противоречия и недостатки, такие,
как некритическое использование понятийного аппарата
эмпириокритицизма - неглубокой, эклектической философской концепции, -
как сведение «элементов мира» к ощущениям, сведение категории
«объективного» к «общезначимому», как негносеологический
подход к понятию «истина» и его чрезмерную социологизацию, как
отождествление «общественного бытия» и «общественного сознания» и
ряд других. Именно за это и критиковали его Плеханов и Ленин. Но,
с другой стороны, нельзя не видеть и новаторские достижения богда-
новской философии.
Это философско-методологическое новаторство Богданова в
полной мере проявилось в его «Тектологии» - «Всеобщей
организационной науке», - разработанной на основе философии
эмпириомонизма. Рассматривая «действительность как социальную практику»
(«РП», 220), Богданов при этом ни в коей мере не подвергает
сомнению существование «природы как мира сопротивлений, с которыми
борется общество в своем труде» (там же, 206). «Нам приходится
поставить вопрос о человеческой практике в общем и целом, -
отмечал Богданов в статье «Тайна науки», написанной в 1913 г. и
опубликованной в 1918 г. - Чтобы исследовать ее в таком масштабе, надо
всю ее чему-нибудь противопоставить, всю ее с чем-нибудь
сравнивать. Чему же она реально противостоит? Мы знаем это: процессы
природы. Одна сторона представляет активности
сознательно-целесообразные, другая - стихийные; так обе они взаимно определяются
и ограничиваются» (там же, 261-262). И в связи с этим возникает
вопрос: «Существуют ли сходства между человеческой практикой и
стихийными процессами?» (там же, 262). На этот вопрос Богданов
отвечает положительно.
История производственной деятельности людей показывает, что
«человек в своей сознательности часто воспроизводит то, что
делает природа в своей стихийности» (там же, 262). Но философ ищет
466
«самый общий характер, присущий человеческой практике и в то
же время встречающийся в стихийных процессах». По его мнению,
«он состоит в объективном смысле нашей практики», и этот
объективный смысл состоит в том, что «активность человека что-либо
организует или дезорганизует, как мы это наблюдаем на каждом
шагу; и те же определения мы часто относим к активности
природы» («РП», 266).
В соответствии с принципом «основной метафоры» люди
переносят выработанное в их практической деятельности понятие
«организации» и «организованности» на явления природы:
«следовательно, здесь понятие организации прилагается и к «мертвым вещам»
(там же, 267), подобно тому как люди видят в процессах природы
«энергию». Подчеркнем, что, по Богданову, люди не приписывают
природным явлениям свойства организации и организованности. Они
этими понятиями определяют действительно существующие
закономерности, в равной мере присущие как человеческой практике, так и
к природным явлениям. Богданов ищет «формально-строгое,
пригодное для научного исследования определение «организации»,
которое бы одинаково прилагалось «и к сложнейшим, и к простейшим
явлениям, и к живой природе, и к «неорганической». Он убежден в
том, что «организация - факт универсальный, что все существующее
можно рассматривать с организационной точки зрения» (там же, 272),
что существуют «глубокие, универсальные закономерности,
применимые ко всем и всяким организационным процессам, каков бы ни
был их деятель, каковы бы ни были элементы» (там же, 276).
Но «раз возможны закономерности методов и форм организации»,
возможна и необходима для развития практической деятельности
людей «всеобщая организационная наука». И Богданов не только
впервые выдвигает идею этой науки, именуя ее тектологией, но
детально ее разрабатывает. Слово «тектология» (от греческого слова «тек-
тон» - строитель) он взял у английского естествоиспытателя Э. Гек-
келя, который применял его по отношению к законам организации
только живых существ. Богданов же тектологией называет
«всеобщую организационную науку». По его словам, «в буквальном
переводе с греческого это означает «учение о строительстве»1.
Первый том «Всеобщей организационной науки (тектологии)»
выходит уже в начале 1913 г. В 1921 г. в Самаре была напечатана
популярная книга Богданова «Очерки организационной науки». В
1922 г. в Берлине по-русски опубликованы все три части
«Тектологии», которые в 1925, 1927 и 1929 гг. переиздаются в дополненном и
переработанном виде отдельными книгами в Ленинграде и Москве.
В 1926 и 1928 гг. два тома «Тектологии» вышли на немецком языке и
1 Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука. М, 1989.
Кн. 1.С. 92, И2.
16*
467
в определенной мере стали известны международной научной
общественности.
На родине философа «Тектология» была подвергнута жесткой
критике как проявление его идеалистическо-эмпириокритических
взглядов уже в статье В. И. Невского «Диалектический материализм
и философия мертвой реакции». Правда, к тектологии Богданова
проявил благожелательный интерес Н. И. Бухарин и прямо написал об
этом в 1920 г. Ленину, не соглашаясь с Невским. В ответ он получил
записку: «Богданов Вас обманул, переменив (verkleidet) и
постаравшись передвинуть старый спор. А Вы поддаетесь!»1 Потом и
самого Бухарина будут обвинять в «богдановщине».
В 60-е гг. обнаружилось, что «всеобщая организационная наука»
Богданова в определенном смысле предвосхитила идеи новой науки -
кибернетики2. Некоторые видные ученые считают, что Богданов
предвосхитил не только идеи кибернетики, но и общей теории систем,
структурного анализа, теории моделирования, современной
экономики и даже такой новой междисциплинарной области знания, как
синергетика, основным понятием которой является
«самоорганизация»3. «Тектология. Всеобщая организационная наука» была
переиздана на родине мыслителя в 1989 г. а
Как Богданов понимает отношение тектологии и философии?
Тектологию он сравнивал с математикой, которая, будучи самой
точной наукой, «дает законы и формулы сочетаний для каких угодно
элементов вселенной» («РП», 279). Он подчеркивает, что «именно с
формальной стороны связь тектологии с математикой самая тесная,
неразрывная: математика есть не что иное, как раньше развившаяся
часть тектологии, тектология нейтральных комплексов». В
тектологии, по концепции Богданова, «структурные отношения могут быть
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 51. С. 292, 456. Следует отметить, что сам
Богданов аргументированно отвечал своим критикам. См.: Богданов А. А.
Тектология. Всеобщая организационная наука. Кн. 1. С. 291-297; кн. 2. С. 283-319.
2 См., например, предисловие Г. Н. Поварова к книге Норберта Винера
«Кибернетика» (М, 1968. С. 24).
3 Академик H. Н. Моисеев, полагая, что тектология является своеобразным
введением в методологическую основу синергетики, отмечал: «Самое
удивительное в работе Богданова то, что он, не имея достаточного еще эмпирического
материала, которым располагает современная наука, утверждал изоморфизм
физических, биологических и социальных законов. Это было, конечно,
гениальное прозрение, нарушавшее традиционные марксистские, да и другие
философские воззрения, рожденные классическим рационализмом эпохи Просвещения»
(Вопросы философии. 1995. № 8. С. 9). В этом же номере журнала «Вопросы
философии» опубликована часть материалов международной конференции
«Истоки и развитие организационной теории в России», состоявшейся в январе
1995 г. в Англии, на которой А. А. Богданову было уделено основное внимание и
было показано значение идей его тектологии для различных областей
современной науки.
468
обобщены до такой же степени формальной чистоты схем, как в
математике отношения величин; и на такой основе организационные
задачи могут решаться способами, аналогичными математическим»1.
Но поскольку «само математическое мышление - процесс
организационный», «его методы подлежат ведению общей тектологии наряду
с методами всех других наук, равно как и всякой практики». Тектоло-
гия представляется Богданову как «завершение цикла наук»2. Но «в
большей мере прообразом, чем зародышем новой науки, является
старая философия». Притом «одно из философских построений
стоит особенно близко к новой точке зрения. Это - диалектика Гегеля»
(«РП», 282).
Однако, по Богданову, «гегелевская диалектика не была на деле
универсальною, потому что взята из ограниченной сферы -
отвлеченного мышления. Не была универсальною и позднейшая вариация
диалектики - материалистическая». Прежняя диалектика, по мнению
Богданова, была «недостаточно динамична и в своем голом
формализме оставляет невыясненной общую механику развития». И при
всей исторической и архитектурно-эстетической ценности старой
диалектики ее «не надо смешивать с научной, стремящейся к
точности, организационной диалектикой»3. «Всеобщая организационная
наука» «должна родиться из нынешней науки» («РП», 283).
В 1916 г. в предисловии к первому изданию II части
«Тектологии» Богданов высказывался «против смешения организационной
науки с философией». «Тектология, - по его убеждению, - не должна
стать делом философов специалистов, среди которых она вряд ли
может найти какую-нибудь почву, а делом всех широко
образованных людей научной и практической мысли»4. «В своей
объединительной работе философия не раз предвосхищала широкие научные
обобщения». В качестве примера Богданов приводит идею неуничтожае-
мости материи и энергии. По его мнению, «такие философские
концепции, как диалектика или учение Спенсера об эволюции, имеют
скрытый и неосознанный, но несомненный тектологический
характер». Однако «по мере своего развития тектология должна делать
излишней философию и уже с самого начала стоит над нею, соединяя с
ее универсальностью научный и практический характер.
Философские идеи и схемы для тектологии - предмет исследования, как
всякие иные организационные формы опыта». По определению
основателя тектологии, «тектология - всеобщая естественная наука» и
тектология «ликвидирует философию вообще»5.
1 Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Кн. 2.
С. 292, 310.
2 Там же. Кн. 1.С. 128.
3Там же. Кн. 2. С. 269, 271.
4 Там же. Кн. 1.С. 58.
5 Там же. С. 141-142,294.
469
Прав ли Богданов в таком отношении к философии? На наш взгляд,
конечно нет. В его воззрениях на философию отразились как
сильные, так и слабые стороны позитивистского миропонимания.
Сильные в том смысле, что его увлечение позитивизмом способствовало
творческому осмыслению марксистской философии с учетом
новейших достижений научного знания, не укладывая их в «прокрустово
ложе» философских догм.
Отрицательное влияние позитивизма на Богданова выразилось в
декларировании им ликвидации философии, снятия ее «всеобщей
организационной наукой». Он был, как нам представляется, прав,
возражая «против смешения организационной науки с философией».
Тектология, хотя она разрабатывалась Богдановым на определенном
философском основании, действительно выходит за пределы
философии, приближаясь к математическому знанию и становясь
междисциплинарной научной дисциплиной. Не случайно в ней развивались
идеи, предвосхищавшие идеи кибернетики, общей теории систем,
синергетики - таких областей научного знания, которые также
находятся вне философии, хотя и взаимодействуют с ней (в них
существует философская проблематика, как и в других теоретических
науках - математике, физике, биологии, астрономии и т.д.). В этом
смысле, действительно, тектологию нельзя смешивать с философией. Но
может ли тектология заменить философию?
Еще в 1904 г. Богданов опубликовал статью «Проклятые
вопросы философии», в которой он утверждал, что «проклятые» или
«вечные» вопросы философии, в том числе и вопрос о смысле жизни,
имеют исторически преходящий характер. Они - продукт
«стихийности общественных отношений над личностью и ее судьбой». Но
все эти мучительные «вечные» вопросы устраняются, когда на
исторической арене появляется «пролетариат, представитель
растущей товарищеской солидарности, массового объединения сил, с
тенденцией подчинить своей организованной воле эти
общественные отношения»1. Это создаваемое пролетариатом
социалистическое общество и должно руководствоваться, по убеждению
Богданова, новой наукой наук - «всеобщей организационной наукой»,
устраняющей философию со всеми ее «проклятыми» и
«вечными» вопросами.
В такого рода рассуждениях проявилась ошибочная тенденция
мировоззрения Богданова. Но было бы неправильно эту тенденцию
считать доминирующей в его миропонимании. В его философском
мировосприятии наиболее явственно выражалась гуманистическая
тенденция. Ему претил «авторитарный тип мышления». Его
представления о социализме, выраженные в теоретических работах, в
1 Богданов А. А. Вопросы социализма. Работы разных лет. М., 1990.
С. 87, 88.
470
романах «Красная звезда» (1908) и «Инженер Мэнни» (1913), были
во многом утопичны, но благородны и возвышенны. Правда,
существует точка зрения, согласно которой абсолютизирование
Богдановым понятия «организация» стало одним из источников
современного этатизма.
Богданов полагал, что идея «диктатуры пролетариата» не могла
быть осуществлена после Октябрьской революции 1917 г., рабочий
класс просто не готов к этому. Он, веря во всемирно-историческую
миссию пролетариата, видел «культурную слабость» реального
пролетариата на Западе и на своей родине. Его активная деятельность в
организациях Пролеткульта и в качестве профессора политической
экономии Московского университета была обусловлена желанием
поднять культурный уровень пролетариата. Он считал, что
милитаризм и войны, свойственные империализму, «способствуют
прояснению классового сознания пролетариата, направляют его в сторону
действенной борьбы за социализм... дело сводится к вопросу об
исторической подготовке пролетариата» (Богданов А. Краткий курс
экономической науки. М., 1922. С. 265). Поэтому переход рабочего класса
от стихийного творчества социальных и культурных форм «к
сознательному их творчеству, - по его убеждению, - есть огромная
культурная революция в пролетариате; это - его внутренняя
социалистическая революция, которая должна предшествовать внешней
социалистической революции общества»1.
Нужно отметить, что Богданов идеализировал пролетариат.
Ратуя за «чистую» пролетарскую культуру, пролетарское искусство,
пролетарскую науку, он упрощал реальный процесс культурного
развития, чрезмерно социологизировал понимание
художественного творчества. Будучи убежденным коллективистом, Богданов
недооценивал личность. По его словам, в «новом искусстве
центральной фигурой является уже не индивидуум, с его личными
интересами, личной активностью, личной судьбой, а коллектив,
сначала классовый, в его противопоставлении враждебным ему
силам общества и стихий, потом общечеловеческий, в его
противопоставлении природе». В противоположность другим деятелям
Пролеткульта Богданов не считал, что должно быть отброшено и
отвергнуто все старое искусство. Это искусство, как он полагал,
«только иначе воспринимается, иначе освещается
коллективистическим сознанием»2.
Но сам Богданов со всеми ему присущими противоречиями
действительно являлся выдающейся личностью. Бухарин имел все ос-
1 Богданов А. Наука об общественном сознании (Краткий курс
идеологической науки в вопросах и ответах). Изд. 2-е. М., 1918. С. 229. Первое издание этой
книги было осуществлено в 1913 г.
2 Там же. С. 217.
471
нования сказать на его похоронах: «В лице Александра
Александровича ушел в могилу человек, который по энциклопедичности своих
знаний занимал исключительное место не только на территории
нашего Союза, но и среди крупнейших умов всех стран»1.
А. В. Луначарский
Анатолий Васильевич Луначарский (1875-1933) был философом,
публицистом, драматургом, литературным и художественным
критиком, партийным и государственным деятелем. Он родился в
Полтаве в семье члена окружного суда. В 1887 г. поступил в Киевскую
гимназию. В гимназические годы Анатолий читал 1-й том
«Капитала» Маркса и начал пропагандистскую работу среди
железнодорожников. В 1895 г. Луначарский вступает в РСДРП. Он с интересом
знакомится с первыми произведениями «легального марксизма»
П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановского. Но, как он писал
впоследствии в своих воспоминаниях, «должен сказать, однако, что лично меня
рядом с революционной практикой интересовала не столько
политическая экономия или даже социология марксизма, сколько его
философия. И здесь идеи мои не были абсолютно чисты. В последних
классах гимназии я сильно увлекался Спенсером и пытался создать
эмульсию из Спенсера и Маркса. Это, конечно, не очень-то мне удавалось,
но я почувствовал, что необходимо подвести некоторый серьезный
позитивный философский фундамент под здание Маркса»2.
Спенсер был позитивистом, и молодой Луначарский проявляет
большой интерес к модной в то время позитивистской философии,
каковой и был эмпириокритицизм, основателем которого явился
швейцарский философ Рихард Авенариус. Поэтому Луначарский
стремился поступить в Цюрихский университет, чтобы учиться у
Авенариуса. Одновременно он хотел продолжить свое марксистское
образование в Швейцарии у П. Б. Аксельрода - одного из
основателей группы «Освобождение труда».
В 1895 г. он поступает в Цюрихский университет, слушает
лекции по психологии Авенариуса и участвует в его семинариях по
философии и биопсихологии. Ему казалось, что он «привел в полное
согласие этот наиболее последовательный и чистый вид
позитивизма с философскими предпосылками Маркса». Правда, «с этим,
однако, не очень-то соглашался мой непосредственный учитель в области
марксизма П. Б. Аксельрод. Аксельрод был первый очень крупный
марксистский мыслитель, с которым я встретился на своем веку». Но
если первому марксистскому наставнику Луначарского удалось раз-
1 Бухарин К И. Памяти А. А. Богданова (Речь на гражданской панихиде) //
Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Кн. 2. С. 346.
2 Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. С. 18.
472
веять его социологические взгляды в духе Спенсера, то в области
философии он по-прежнему «держался крепко и продолжал думать,
что эмпириокритицизм является самой лучшей лестницей к
твердыням, воздвигнутым Марксом»1. В Цюрихе состоялась и встреча
философски ищущего марксиста с Плехановым - ортодоксальным
марксистом, с которым у Луначарского начался и долгие годы
продолжался философский спор об отношении марксизма к иным философским
направлениям.
В 1898 г. Луначарский возвращается в Россию и активно
участвует в подпольной революционной деятельности. В следующем году
его арестовывают, и после ссылки в Полтаву и нового ареста он
высылается под надзор полиции в Калугу Здесь он знакомится с А. А.
Богдановым (Малиновским). Зимой 1902 г. Луначарского высылают
в Вологду. Здесь он опять встречается с Богдановым, дружба с
которым дополняется общностью философских взглядов на отношение
марксизма и эмпириокритицизма. Он женится на сестре А. А.
Богданова - Анне Александровне Малиновской.
Как выше уже отмечалось в очерке, посвященном Богданову, в
Вологде находились в то время очень интересные люди, жившие
интенсивной духовной и общественной жизнью, в том числе и Н. А.
Бердяев. Как впоследствии вспоминал Бердяев, в эти годы он
«постоянно спорил в марксистских кругах с А. В. Луначарским, который
тоже был киевлянин. Луначарский не соглашался признать
независимость истины от революционной классовой борьбы, а значит, и
свободы философа в путях познания. Он видел у меня опасный
индивидуализм». Отмечая, что «борьба принимала иногда очень
острые формы», Бердяев писал: «Нужно, впрочем, сказать, что сам
Луначарский не был вполне тоталитарным марксистом. Он соединял
Маркса с Авенариусом и Ницше, увлекался новыми течениями в
искусстве. Он был человек широко начитанный и одаренный, но на нем
лежала печать легкомыслия»2.
Луначарский остро полемизировал с Бердяевым, Булгаковым и
другими мыслителями, ставшими идеалистами. Выше уже
отмечалось, что в противовес сборнику «Проблемы идеализма» Богданов
организовал и редактировал сборник «Очерки реалистического
мировоззрения», вышедший в 1904 г., ибо Богданов и Луначарский
считали себя марксистами-реалистами, стремящимися объединить
марксизм с философией эмпириокритицизма. В этом сборнике была
опубликована работа Луначарского «Основы позитивной эстетики».
В «Основах позитивной эстетики» в полной мере проявились фи-
лософско-методологические поиски Луначарского. В этих «Основах»
нетрудно обнаружить влияние на молодого мыслителя и биомехани-
1 Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. С. 20.
2 Бердяев К А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). С. 123.
473
ки Авенариуса, названного «одним из величайших умов XIX века»1,
и Ницше с его идеей сверхчеловека, и Чернышевского,
утверждавшего, что «прекрасное - это жизнь», и, конечно, марксизма с его идеалом
социализма. Но мы бы не стали характеризовать «Основы позитивной
эстетики» как эклектическую смесь разнородных элементов.
Луначарский стремился создать новую эстетику в системе
марксистского социализма. Но у основоположников марксизма эстетика
не была разработана и даже имеющиеся тексты по этому вопросу в
то время не были опубликованы. Единственный опыт создания
марксистской эстетики на основе применения к сфере искусства
исторического материализма был сделан Плехановым. Однако при всем
глубоком уважении к первому русскому теоретику марксизма
Луначарский видел существенные пробелы в его эстетических построениях.
Плеханов чрезмерно социологизировал художественно-эстетическую
сферу, сводя ее, по сути дела, к социологии искусства. И хотя он сам
провозглашал, что «социология должна не затворять двери перед
эстетикой, а, напротив, настежь раскрывать их перед нею», сам-то он в
эти двери не входил. Как впоследствии отмечал Луначарский в
статье «Г. В. Плеханов как литературный критик» (1929-1930), «самые
вопросы стиля как такового, самые вопросы художественного
творчества, художественного мастерства, самый вопрос психологии
художественного наслаждения в литературе, равным образом как
основы эстетики в собственном смысле этого слова, то есть
положительного эстетического чувства, с которым мы воспринимаем
нравящееся нам искусство, остались, к великому нашему сожалению, в
стороне от Плеханова как искусствоведа и литературного критика»
(VIII, 273).
И Луначарский отважно вступил в эту неведомую для
тогдашнего марксизма область. Можно, разумеется, по-разному относиться к
тому, насколько оздоровительными для ортодоксального марксизма
оказались позитивистские «прививки», сделанные автором «Основ
позитивной (курсив наш. - Л. С.) эстетики», но другого опыта
сочетать марксизм с эстетикой тогда не было.
В «Основах позитивной эстетики» утверждалось, что «эстетика
есть наука об оценке и отчасти о вытекающей из оценки творческой
деятельности. Понятно, таким образом, что эстетика оказывается
одной из важнейших отраслей биологии как науки о жизни вообще»
(VII, 43). Здесь, как нам представляется, палка перегибается в
другую сторону: эстетика выводится за границы социологии на
территорию биологии. Впрочем, Луначарский убежден, что «не только
эстетика, но и вся психология и даже социология должны рассматривать-
1 Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1967. Т. 7. С. 43,628. В дальнейшем
ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках римскими
цифрами тома и арабскими страницы.
474
ся как части науки о жизни и рано или поздно будут рассматриваться
с точки зрения основных законов биомеханики...» (VII, 43).
Обращение к биологии в широком смысле дает возможность
Луначарскому противопоставить идеалистическое понимание истины,
добра и красоты «реалистической» их интерпретации. Если «истина,
красота и добро слились у идеалистов в один потусторонний,
умопостигаемый мир, - в царство небесное», то «истина, красота и добро
или познание, счастье и справедливость соединяются у активных
реалистов в один идеал могучей, полной жизни, который
человечество может завоевать на земле путем эмпирического познания,
техники и художества и, наконец, социального творчества» (VII, 50). Сама
«красота человека (как тела, так и лица) сводится, по преимуществу,
к совокупности признаков, обличающих здоровый, сильный организм,
одаренный живой и богатой психикой» (VII, 71). И заканчивается
трактат-эссе формулой: «Единственное благо, единственная красота
есть совершеннейшая жизнь» (VII, 100).
Спрашивается, в чем же проявляется марксизм у раннего
Луначарского, кроме веры в светлые перспективы социального
творчества? Касаясь законов развития искусства, он не сомневается в том,
что «наука, искусство (а также философия и религия) развиваются
в определенном обществе и тесно связаны с развитием его
структуры, а следовательно, с развитием того общественно-биологического,
или хозяйственного базиса, который лежит в основе общества» (VII,
94-95). Несомненно для марксиста и то, что «каждый класс, имея
свои представления о жизни и свои идеалы, налагает свою
собственную печать на искусство, придавая ему те или иные формы, то или
иное значение» (VII, 95).
Вместе с тем Луначарский благодаря своей неортодоксальности
затронул положение о приоритете общечеловеческих ценностей, когда
писал в 1904 г. : «Только высшая точка зрения, точка зрения
требований полноты жизни, наибольшего могущества и красоты всего рода
человеческого, жажды того будущего, в котором справедливость
станет само собою разумеющимся базисом красоты, дает нам
руководящую нить: все, что ведет к росту сил в человечестве, к
повышению жизни, есть красота и добро неразрывные, единые; все, что
ослабляет человечество, есть зло и безобразие» (VII, 57).
Неортодоксальность Луначарского проявилась также в том, что
он, пожалуй, первый из марксистов прямо поставил проблему
ценностей как философско-эстетическую проблему. Еще в начале века
он пишет небольшую работу, которая даже по своему наименованию
является чисто аксиологической - теоретико-ценностной: «К
вопросу об оценке». В ней он утверждает, что оценка, будучи реальным
явлением, «подлежит познанию», как и все другие явления.
Понимание природы оценки в этой работе развернуто в «Основах
позитивной эстетики».
475
Но в статье «К вопросу об оценке» еще очень значительно
влияние эмпириокритицизма. Это приводит ее автора к субъективистской
трактовке критерия оценки: «Хорошо то, что выгодно для субъекта
оценки. Что ему помогает». Правда, оценки можно привести в
систему, «то есть оценивать последовательно, исходя из основного
критерия». Такие системы оценок характеризуют различные
эстетические или этические школы. Однако поскольку сам этот критерий
определяется субъективной выгодой, то «никогда не бывает возможно
доказать, какая из этих школ права», ибо общеобязательного
критерия «не может существовать»1. Луначарский поставил в марксизме
проблему ценностей задолго до того, как она стала разрабатываться
советскими авторами в начале 60-х гг.
В «Основах позитивной эстетики» ощущается стремление
Луначарского преодолеть субъективистскую трактовку оценочной
деятельности. Как мы видим, здесь выдвигается объективный критерий
красоты и добра - «все, что ведет к росту сил в человечестве, к
повышению жизни». В стремлении обосновать этот объективный критерий,
в противовес и позитивизму, и марксизму, он обращается к религии.
Эта не традиционная религия, которой следовал Бердяев, что
казалось молодому Луначарскому верхом падения. Цго религия -
атеистическая религия, или религиозный атеизм, как это не звучит
парадоксально, в духе Фейербаха, для которого основой новой религии
является принцип: «Человек человеку - Бог». Он солидаризуется с
Ницше, провозглашавшим: «Человек! Твое дело не искать смысла
мира, а дать миру смысл»2. По словам Луначарского, «демократия
начинает сознавать свою силу, она стряхивает с себя сны, которые
навевают на нее несчастные, и создает свою мораль, свою религию -
наступательную, полную надежд, провозглашающую борьбу и труд
как смысл жизни, реорганизацию общества на началах
солидарности как идеал...» (VII, 74).
В статье «Атеизм» (1908) Луначарский продолжает
разрабатывать свои богостроительные идеи, провозглашает необходимость
«обожествления высших человеческих потенций»3. В книге
«Религия и социализм» (1908-1911) он подробно рассматривает
происхождение и развитие религии и приходит к выводу о необходимости
новой религии, связанной с идеалом социализма, которая и есть
«религия человечества, религия труда». И хотя она «без бога и без
гарантий - маски того же бога - она остается религией»4. Подобные
богостроительные идеи в эти годы выражал и Максим Горький, и, ссыла-
1 Луначарский А. Этюды. Сборник статей. М; Пг., 1922. С. 53, 56-57.
2 См.: Луначарский А. Религия и социализм. Ч. I. СПб., 1908. С. 46.
3 Луначарский А. В. Атеизм // Очерки по философии марксизма.
Философский сборник. СПб., 1908. С. 157, 159.
4 Луначарский А. Религия и социализм. Ч. 1. С. 49.
476
ясь на его авторитет, Луначарский заявляет, что «социалист
религиознее старорелигиозного человека»1.
Стремление Луначарского обожествить Человека, соединить
религию и социализм вызвало решительный протест со стороны
Плеханова и Ленина. Плеханов называл его «блаженным Анатолием»,
Ленин также критиковал соратника по партии, обвиняя его, как и
Богданова, в идеализме: «Надо быть слепым, - писал он в
«Материализме и эмпириокритицизме», - чтобы не видеть идейного родства
между «обожествлением высших человеческих потенций»
Луначарского и «всеобщей подстановкой» психического под всю
физическую природу. Это - одна и та же мысль, выраженная в одном случае
преимущественно с точки зрения эстетической, в другом -
гносеологической»2. Для Ленина социализм, научное мировоззрение
несовместимы ни с какой религией.
В своей партийно-политической деятельности Луначарский был
сторонником Ленина. В 1904 г. по его вызову он выехал за границу и
активно участвовал в большевистской печати, в апреле 1905 г.
выступал на III съезде РСДРП с докладом о вооруженном восстании,
осенью 1905 г. по предписанию ЦК партии приезжает в Петербург и
сотрудничает в большевистских изданиях. После ареста в январе 1906 г.
он эмигрирует из России, участвует в работе IV съезда партии, в
международных социалистических конгрессах, вместе с А. А.
Богдановым и М. Горьким занимается организацией партийных школ на Капри
и в Болонье. Февральская революция дала возможность
Луначарскому в мае 1917 г. возвратиться в Россию. В июле он арестовывается по
распоряжению Временного правительства, но в августе избирается
товарищем городского головы Петрограда по вопросам культуры.
Буквально на второй день после Октябрьской революции, 8 ноября
(26 октября по старому стилю) Луначарский по предложению
Ленина назначается народным комиссаром просвещения и остается на этом
посту до сентября 1929 г.
Несомненно, важная государственная должность отразилась на
его многочисленных статьях и выступлениях советского периода. Но
следует подчеркнуть, что, по многочисленным свидетельствам,
народный комиссар просвещения был не только необычайно
образованным человеком, блестящим оратором, но и организатором, много
сделавшим для сохранения и развития отечественной культуры.
Луначарский помогал многим деятелям культуры и даже
«сомнительным» с официальной точки зрения. Он помог Вяч. Иванову
легально выехать за границу. Когда M. М. Бахтин был арестован, он
опубликовал благожелательную рецензию на его книгу о
Достоевском. С его одобрения проходила деятельность с 1919 г. Вольной фи-
1 Луначарский А. Религия и социализм. Ч. 1. С. 45.
2 Ленин В. К Поли. собр. соч. Т. 18. С. 367.
477
лософской ассоциации (Вольфилы), объединявшей многих русских
философов, поэтов, художников. Примеры можно было бы умножить.
Примечателен такой факт. Он переиздает многие свои работы,
написанные еще в начале века, в том числе в 1923 г. отдельной
книгой «Основы позитивной эстетики», т. е. произведения, в которых
марксизм сочетался с эмпириокритическим позитивизмом. Притом
обратим внимание, он это делает после того, как Ленин в 1920 г.
выпустил второе издание «Материализма и эмпириокритицизма»,
считая это актуальным в философской борьбе с Богдановым и его
сторонниками, к которым принадлежал и Луначарский! В предисловии
к сборнику переизданных статей «Против идеализма» в 1924 г.
Луначарский прямо заявил: «Я стоял и в значительной мере стою на точке
зрения соединения правильно понимаемого марксистского
материализма с главнейшими элементами эмпириокритического метода»,
отдавая себе отчет в том, что в то время в коммунистической партии
доминировало на 99% «плехановско-ленинское философское
течение»1.
Лишь в конце своей жизни в 1932 г. Луначарский признал
правоту ленинского анализа эмпириокритицизма Авенариуса и Маха,
эмпириомонизма А. Богданова и недопустимость его собственной
«трактовки марксизма как своеобразной «религиозной» формы» (VIII, 409).
Еще раньше его взгляды начали подвергаться критике в печати.
Например, в 1931 г. в газете «Советское искусство»
безосновательно утверждалось, что у Луначарского «неверная, немарксистская и
неленинская система взглядов на литературу и искусство». Тем не
менее в 1930 г. он стал академиком, а в 1931 г. избран директором
Института русской литературы, он участвует в международных
конференциях в Женеве и Гааге. В 1933 г. он был назначен
Чрезвычайным послом СССР в Испании, к исполнению обязанностей которого
ему помешала приступить смерть.
1 Луначарский А. В. Против идеализма. Этюды полемические. М, 1924. С. 56.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вне предложенных читателю очерков по истории русской
философии осталось немало интереснейших страниц и лиц этой истории.
М. А. Бакунин, например, только упомянут, отсутствуют разделы о
философе П. Д. Юркевиче, историке и социологе Н. И. Карееве, о
П. А. Кропоткине, Питириме Сорокине, марксистской философии,
начиная с В. И. Ленина, о советской философии. Дело, конечно, не в
том, что эти страницы и лица автор считает маловажными. Он на
своем опыте может подтвердить справедливость афоризма о
невозможности объять необъятное.
Но исследованный и изложенный материал позволяет, как нам
представляется, сделать некоторые выводы. Важнейший из них
заключается в том, что история русской философской мысли
плюралистична, впрочем как вся история мировой философии. Этот вывод не
покажется таким уж тривиальным, если не вспомнить немалые
усилия, которые предпринимались и предпринимаются, чтобы свести
историю русской философии или только к истории материализма или
революционной демократии, или же только к истории религиозной
философии. Как в Ноевом ковчеге, там было все и все представляет
большой историко-философский интерес как диалог (а не просто
борьба) различных направлений и течений.
Как показывает исследование, плюралистичность была присуща
мировоззрению многих русских мыслителей (А. И. Герцен, П. Л.
Лавров, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, Г. Г. Шпет, А. Белый, Б. В. Яковен-
ко, А. А. Богданов, M. М. Бахтин, А. Ф. Лосев и др.). Однако этот
плюрализм не был эклектической смесью разнородных принципов,
а представлял собой образовавшееся из различных философских
источников целостное миропонимание и поэтому может быть
определен как «системный плюрализм»1.
Трагедия советской философии заключалась, как нам
представляется, в том, что ее стремились уложить в «прокрустово ложе»
вышестоящих установок, которые сами менялись, но на каждом этапе
диктовали «монистический взгляд» на основные проблемы бытия и
сознания. История русской философии советского и постсоветского
1 См.: Столович Л. Н. О «системном плюрализме» в философии // Вопросы
философии. 2000. № 9. С 46-56.
479
времени еще ждет своего объективного исследования. Но все более
становится очевидным, что деятельность советских философов была
плодотворна в той мере, в какой она была творческой и
оригинальной, выходящей за рамки каких бы то ни было предписаний,
запрещавших до поры до времени то генетику, то кибернетику, то
аксиологию, то семиотику, то философскую антропологию. Поэтому
советскую философию нельзя представлять как монолит марксизма-
ленинизма. Не без труда и потерь преодолевая внешнее и внутреннее
(самоцензура) сопротивление, советские философы создали немало
ценных трудов по истории философии, логике, методологии
научного знания, теории познания, эстетике, этике, культурологии,
философской антропологии1.
Многочисленные статьи и книги современных русских
философов показывают реально и свободно существующий плюрализм в
философской мысли постсоветской России. Плохо это или
хорошо? Об этом также идут споры. Для одних - это ситуация
«парадигматической смуты», непривычная задача самому решать свои
мировоззренческие проблемы, а не доверить решение этой задачи над
всеми стоящей идеологии. Для других - диалог различных
мировоззренческих концепций представляет собой непременное
условие плодотворного развития философской мысли, как показывает и
положительный, и отрицательный опыт истории философии. Но для
того чтобы осуществлялся такой диалог, чтобы он не был
«диалогом глухих», необходима философская культура, которая
заключается и в том, чтобы стремиться понимать другого, быть
толерантным к инакомыслию. Изучение истории философской мысли, в том
числе отечественной, несомненно содействует развитию
философской культуры.
0 необходимости многообразия философских концепций как
условии плодотворного развития философии и осуществления ею свой
специфической роли в жизни общества и каждого человека писал
великий русский ученый-философ Владимир Иванович Вернадский
(1863-1945). Для него философия и наука - тесно и сложно
взаимосвязанные, но разные сферы человеческого сознания. По его
мнению, «произведения великих философов есть величайшие
памятники понимания жизни и понимания мира глубоко думающими
личностями в разных эпохах истории человечества. Это живые
человеческие документы величайшей важности и поучения, но они не могут
быть общеобязательны по своим выводам и заключениям». Ведь фи-
1 См., например, такие издания: Философия не кончается... Из истории
отечественной философии. XX век: В 2 кн. (кн. 1,20-50-е годы; кн. II, 1960-1980-е
годы. М., 1998); Русская философия: Словарь. М., 1995; Русская философия:
Малый энциклопедический словарь. М., 1995; Алексеев П.В. Философы России
XIX-XX столетий. Биографии, идеи, труды (3-е изд., перераб. и доп. М, 1999);
История русской философии. М, 2001, и др.
480
лософия отражает «прежде всего человеческую личность в ее
глубочайшем размышлении о мире, а личностей может быть бесконечное
множество». И хотя различные понимания реальности «могут быть
собраны в небольшое число основных типов», «не может быть среди
них одно единое, более верное, чем другие. Критерия ясного и
определенного для этого нет и быть не может».
Этим, по Вернадскому, философия отличается от «единой науки»,
хотя для последней очень важно разумное, понятийное мышление, в
развитии которого философия играет большую роль. Поэтому
«ученый не может не считаться с работой философа, должен
использовать его достижения». Вместе с тем, «обращаясь к реальному
проявлению философии в культуре человечества, мы должны считаться с
существованием множества более или менее независимых,
разнообразных, сходных и несходных, противоречащих философских
систем и концепций». Учитывая специфику философского знания и
печальный опыт насильственного внедрения «единой философии, для
всех обязательной» в Советском Союзе в конце 30-х гг.,
замечательный мыслитель приходит к выводу, который, на наш взгляд, звучит
чрезвычайно актуально: «Сила философии в ее разнородности и в
большом диапазоне этой разнородности»1. Разумеется, эта сила
философии предполагает культуру философского мышления,
основанную на всей предшествующей истории этого мышления и
позволяющую отличать оригинально-творческую философскую концепцию от
бреда душевнобольного.
Существующий в современной русской философии плюрализм и
диалог различных направлений дает основание надеяться на ее
дальнейшее плодотворное развитие, в ходе которого появятся результаты
философского мышления, сопоставимые с высшими достижениями
мировой и отечественной философии.
1 Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. М., 1991. С. 100,
102, 103.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абеляр Пьер - 434
Аввакум Петрович - 24, 28, 86
Августин Аврелий - 236, 433, 434, 440
Авенариус Рихард - 359, 461, 472-474,
478
Аверинцев Сергей Сергеевич - 409
Авраам, ветхозаветный патриарх-13,14,
125
Аксаков Александр Николаевич - 289
Аксаков Иван Сергеевич - 117, 131
Аксаков Константин Сергеевич - 75, 85,
87-89, 109, ПО, 117,128, 129,131
Аксаков Сергей Тимофеевич - 128
Аксельрод (псевд. Ортодокс) Любовь
Исааковна - 454,459
Аксельрод Павел Борисович - 450,454,472
Александр I - 46, 52, 59,78
Александр II-60, 132,151, 181
Алексеев Петр Васильевич - 480
Алексей Михайлович - 101
Аллен Луи- 152
Альтман Моисей Семенович - 353
Анаксимандр - 9
Андерсен Ханс Кристиан - 332
Аничков Дмитрий Сергеевич - 44,45,53
Анненков Павел Васильевич - 89,97,450
Анненский Иннокентий Федорович - 349
Антонович Максим Алексеевич - 144
Анциферов Николай Павлович - 408
Апухтин Алексей Николаевич - 343
Аристотель - 9,14,20,21,35,38,45,85,
136,241,317,336,337,413
Артемий Троицкий - 19-21, 27
Аскольдов (Алексеев) Сергей Алексеевич
- 250, 259, 363
Асмус Валентин Фердинандович -165
Ахматова (Горенко) Анна Андреевна -
229, 353, 365, 374,444
Бабёф Гракх (наст, имя Франсуа Ноэль)
-107,448
Базаров (Руднев) Владимир
Александрович - 450
Байрон Джордж Ноэл Гордон - 61, 96,
145, 324, 352
Бакунин Михаил Александрович - 87,89,
92,94,103,450,456,460,469
Балтрушайтис Юргис - 315
Бальзак Оноре де - 6
Бальмонт Константин Дмитриевич - 341,
343, 361
Баратынский Евгений Абрамович - 6,61,
65-69,111
Барма, зодчий - 27
Баумгартен Александр Готлиб - 40
Бахтин Михаил Михайлович - 153,
38(М01,40&, 411,477,479
Башмаков А. А. - 428
Белинский Виссарион Григорьевич - 8,
71,75,76,87-103,130,133,135,143,
154,157,196,199,307,333,449,450,
453,456,460
Белобоцкий А. X. - 21
Белый Андрей (Борис Николаевич
Бугаев) - 227,284,295-297,315,316,338,
341,343,344,353-364,371,401,406,
444,479
Бёме Якоб - 46,232
Бенкендорф Александр Христофорович
-113
Бергсон Анри - 118, 249, 302, 456
Бердяев Николай Александрович - 7, 8,
24, 25, 145, 152, 153, 157, 159, 165,
168,169,176,195,205,210,224-237,
239,243,244,249,261,263,267,268,
283,288,296,298,329,338,341,345,
355,362,363,391,400,401,412,421,
422,436-439,451,452,462,473,476,
479
Беркли Джордж - 75
Бетховен Людвиг ван - 199,376
Бибихин Владимир Вениаминович - 407-
409
Библер Владимир Соломонович - 386
Бисмарк Отто фон Шёнхаузен - 299
Благова Татьяна Илларионовна - 123
482
Бланки Луи Огюст - 460
Блок Александр Александрович - 63,301,
341,344,352,357,358,361,363,367,
444
Богданов (Малиновский) Александр
Александрович - 195, 196,447,450,
461^*73,477-479
Бонецкая Наталья Константиновна - 392
Борис Годунов - 27
Боткин Василий Петрович - 87, 89, 92,
95,96,98,99,157
Бочаров Сергей Георгиевич - 393,395,396
Брандес Георг - 237
Брик Осип Максимович - 373
Бруно Джордано - 218
Брюсов Валерий Яковлевич - 341, 343,
361,369,371
Бубер Мартин - 239, 392
Бубнов Николай Николаевич (Николай
фон)-295
Бугаев Николай Васильевич - 353
Будда (Сиддхартха Гаутама) - 126,167
Букшпанн - 298
Булгаков Сергей Николаевич -7,12,161,
163,192,195,205-209,212,213,217,
226,233,239,243,244,250,263,283,
329, 391,400,412,435,438,451,473
Бунин Иван Алексеевич - 301
Бурлюк Давид Давидович - 369,371
Бурлюк Николай Давидович - 369
Буслаев Федор Иванович - 333
Бутлеров Александр Михайлович - 289
Бутягина Варвара Дмитриевна - 333
Бухарин Николай Иванович - 468, 471,
472
Бычков Виктор Васильевич - 28
Бэкон Фрэнсис -102
Бюхнер Людвиг -147
Валентинов Н. (Николай Владиславович
Вольский) - 460
Валицкий Анджей - 304, 305
Валъцелъ Оскар - 375, 376
Ванеев К. К. -219
ВасилийШ-П, 19
Васнецов Аполлинарий Михайлович -
364
Вассиан Косой (Василий Иванович
Патрикеев)-^, 19
Введенский Александр Иванович - 3, 9,
259,282,284-290, 383, 391, 392
Вейдле Владимир Васильевич - 435
Вейнингер Отто - 338
Велланский (Кавунник) Данило
Михайлович-70, 71, 73
Веневитинов Алексей Владимирович -
119
Веневитинов Дмитрий Владимирович -
61,62,69,72,73,119
Вернадский Владимир Иванович - 178,
480,481
Вильмонт (Вильям-Вильмонт) Николай
Николаевич- 152
Винделъбанд Вильгельм - 220,259,284,
291,294,296,297, 300, 302, 306,456
Винер Норберт - 468
Винокур Григорий Осипович - 373
Витберг Александр Лаврентьевич -102,
103
Владимир I Святой - 11-14, 25, 174
Владимир И Мономах - 22-24
Владимиров Иосиф - 28
Владиславлев Михаил Иванович - 284
Волошин (Кириенко-Волошин)
Максимилиан Александрович - 341, 362,
444
Волошинов Валентин Николаевич - 383,
394, 395
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) - 29, 30,
34,49, 50, 96, 168, 239
Вольф Христиан - 37, 39,41
Вундт Вильгельм - 259
Выготский Лев Семенович - 377, 378
Вышеславцев Борис Петрович -311,363,
435
Вяземский Петр Андреевич - 62, 85,112
Гааг Луиза Ивановна - 101
Гагарин Павел Иванович - 174
Гадамер Ханс Георг - 314
Гайденко Пиама Павловна - 255
Галактионов Анатолий Андрианович - 3
Галилей Галилео - 37
Галич (Говоров) Александр Иванович -
63,64,66,69,283
Гамсун (Педерсен) Кнут - 458
Ганслик Эдуард - 375
Гартман Николай - 228, 296
Гартман Эдуард - 197
Гаршин Всеволод Михайлович - 343
Гауе (Гаусс) Карл Фридрих - 137
Гачева Анастасия Георгиевна - 4
Гегель Георг Вильгельм Фридрих - 7, 9,
63, 66, 68, 73, 74, 76, 83, 87-89, 94-
96,100,103,104,111,116,118,120,
121,128,129,133,135,148,167,180,
182,191,197,216,241,244,251,252,
280,281,283,287,304,309,324,327,
335,355,393,403,411,413-418,421,
440,447,455,456,469
483
Гейне Генрих -145
Геккель Эрнст - 467
Гельвеций Клод Адриан - 41,46, 50, 53
Георгиевский Петр Егорович - 62
Гераклит - 9, 68
Гербарт Иоганн Фридрих - 359
Гердер Иоганн Готфрид - 49, 53, 54, 60
Герцен Александр Иванович - 8, 71, 85,
87-89,97,98,100-110,120,128-130,
136,142,144,146,147,180,323,411,
448,449,450,456,479
Гершензон Михаил Осипович -118,239,
315,351,352,363
Герье Владимир Иванович - 246, 315,
333
Гессен Иосиф Владимирович - 301
Гессен Сергей Иосифович - 295-297,
301-307,311
Гёте Иоганн Вольфганг - 6,66,145,209,
211,212,243,342,346,363
Гизо Франсуа - 112
Гильдебранд Адольф фон - 375
Гиппиус Зинаида Николаевна - 341,343,
344,421
Гирцель Рудольф - 392
Гитлер (Шиклырубер) Адольф - 278,
299,344,431,437
Гоббс Томас - 9
Гоголь Николай Васильевич - 6, 74, 90,
93,95,98-100,125,133,145,154,361,
370, 374,423
Гоготишвили Людмила Арчиловна - 408
Голлербах Эрих Федорович - 334,336
Голосовкер Яков Эммануилович - 152
Гольбах Поль Анри - 46, 53, 463
Гомер- 14, 84,402
Гончаров Иван Александрович -100,133,
143, 342, 346
Гончарова Наталия Сергеевна- 365,369
Городецкий Сергей Митрофанович - 366
Горчаков Александр Михайлович - 62
Горький Максим (Алексей Максимович
Пешков)-195,347,381,402,458,476,
477
Грановский Тимофей Николаевич - 86,
89, 97, 130
Гревс Иван Михайлович - 433-435
Грибоедов Александр Сергеевич - 62,78,
80,90,94,96,133,145,352,378
Григорий Палама - 18
Григорий Синаит - 18
Григорович Дмитрий Васильевич - 100
Григорьев Аполлон Александрович -91,
131,155
Громов Михаил Николаевич - 12
Грот Николай Яковлевич - 249
Гулыга Арсений Владимирович - 3
Гумилев Николай Степанович - 365-367
Гуревич Любовь Яковлевна - 413
Гуссерль Эдмунд - 203, 217, 228, 239-
241,311-314,316,317,327,391,403,
404,409,410,413,414,447
Густав II Адольф - 59
Даватц (Давац) В. X. - 422
Давид - 85
Давид, архимандрит Афонский - 407
Давыдов Иван Иванович - 72
Даль Владимир Иванович - 5,100
Даниил Заточник - 23, 24, 26
Данилевский Николай Яковлевич - 131,
162, 193
Данте Алигьери - 6, 145, 222,434
Дарвин Чарлз Роберт - 196
Дейч Лев Григорьевич - 454
Декарт Рене - 9, 21, 31, 33, 35, 37, 44,
60, 89, 102, 116, 189, 216, 241, 336,
384
Демокрит - 9, 251
Державин Гавриил (Гаврила) Романович
-6,31,58
Десницкий Семен Ефимович - 43,44
Джемс (Джеймс) Уильям - 249
Джоберти Винченцо -217
Дзержинский Феликс Эдмундович - 227,
421
Дидро Дени - 9,29,49, 50, 53
Диккенс Чарлз - 324
Дильтей Вильгельм - 322
Диоген Синопский - 55, 56, 358
Дионисий (Псевдо-Дионисий) Ареопагит
-280
Добролюбов Николай Александрович -
8,141-145,152,199,258,333
Достоевский Михаил Михайлович -155
Достоевский Федор Михайлович - 6,98,
100,124,131-133,145,152-163,165,
168,173,174,180,182,188,191,193-
195,197,199,228,231,235,236,242,
277,294,301,306,329,331,337,342,
345,346,352,369,370,381-384,386-
390,393-395,399,408,421,423,447,
477
Дружинин Александр Васильевич - 89
Дувакин Виктор Дмитриевич - 383, 391
Евдокия Федоровна (урожд. Лопухина),
первая жена Петра 1-46
Евклид - 9,252
Евлампиев Игорь Иванович - 3, 4
484
Егоров Борис Федорович - 398
Екатерина II - 29, 36, 45,49-51
Елагин Алексей Андреевич - 111
Елъцова К. (Екатерина Михайловна
Лопатина) - 248
Емельянов Борис Владимирович - 3
Ермолова Мария Николаевна - 301
Есенин Сергей Александрович - 444
Еше Готлоб Беньямин - 59
Жегин Л. Ф.-211
Жид Андре - 239
Жирмунский Виктор Максимович - 373,
376, 377
Жуковский Василий Андреевич - 60,86,
94,111,112
Завадовский Петр Васильевич - 52
Зайцев Борис Константинович - 301
Замалеев Александр Фазлаевич -3,12
Заратуштра (Зороастр) - 126
Засулич Вера Ивановна - 450,454
Зеньковский Василий Васильевич - 3, 8,
30,56,61,123,134,148,225,258,261,
262, 268,278,281, 327,401,421,435
Зернов Николай Михайлович - 124,153,
436
Зиммель Георг - 413
Зиновьева-Аннибал Лидия Дмитриевна -
347
Зощенко Михаил Михайлович - 229,444
Ибсен Генрик - 342, 346,458
Иван IVГрозный - 19, 20, 27,435
Иванов Всеволод Вячеславович - 444
Иванов Вячеслав Всеволодович - 362,
380
Иванов Вячеслав Иванович - 227, 239,
301,341,346-353,355,358,361,367,
401,406,477
Иванов-Разумник (Разумник Васильевич
Иванов) - 363
Игнатов В. Н. - 454
Иисус Христос-13-16,18,21,28,46,63,
81, 99, 123, 155, 157-161, 165, 166,
168-173,175,176,181,185-187,203,
213,231,234,242,243,263,275,283,
299,330,339,340,344,350,351,357,
408,419,421,422,432^35,442
Иларион Киевский - 6, 12-14, 24, 25
Ильин Владимир Николаевич - 192,435
Ильин Иван Александрович - 7,296,311,
313,401,412^32,438,444
Ингарден Роман - 314
Иоанн Богослов, апостол - 14, 439
Иоанн Дамаскин - 20
Иоанн Златоуст - 21
Иосиф Волоцкий (Иван Санин) -17,18,22
Исаак, ветхозаветный патриарх- 13
Истомин Карион - 23
/Гобэ(Кабе)Этьен-107
Кавелин Константин Дмитриевич - 89,
130, 131
Каган Матвей Исаевич - 383, 384, 391
Калиниченко Владимир Валентинович -
328
Кальвин Жан - 32
Каменев (Розенфельд) Лев Борисович -
227
Камю Альбер - 6, 245
Канаев И. И. - 383
Кандинский Василий Васильевич - 362,
364, 365
Кант Иммануил - 9,29,43,54,55,59,60,
62-64, 69, 70, 75, 83, 87,95,111, 116,
118,122,137,148,152, 166-168,170,
180, 182,189,197,202,203, 205,214,
216,217,241,251,252,259,280,283-
288, 300, 305, 309, 312, 315, 327, 332,
336,355, 375, 391,413,415,455,461
Кантемир Антиох Дмитриевич -21,31,
34-36, 58
Кантемир Дмитрий Константинович -
34
Кантор Владимир Карлович - 87
Карамзин Николай Михайлович - 59,60,
283
Кареев Николай Иванович - 479
Карийский Михаил Иванович - 314
Карл 1-53
Каронин С. (Николай Елпидифорович
Петропавловский) - 458
Карсавин Лев Платонович -192,217-224,
267, 338, 363,402
Карсавин Платон К. - 217,433
Карсавина Анна Иосифовна - 218
Карсавина Тамара Платоновна - 217
Карташев Антон Владимирович - 433,
435
Корякин Юрий Федорович - 152
Кассирер Эрнст - 284, 384, 391,406
Катков Михаил Никифорович - 87, 89,
164
Кауфман Илларион Игнатьевич - 450
Качалов (Шверубович) Василии
Иванович-315
Кейзерлинг Герман - 228
Кеплер Иоганн - 37
Керенский Александр Федорович - 436
485
Киреевский Иван Васильевич - 62,66,72,
85,109-122,128,352,456
Киреевский Петр Васильевич - 62, 111,
128
Кирилл (Константин Философ) - 12
Кирилл Туровский - 15,16, 26
Кистяковский Богдан (Федор)
Александрович - 296, 462
Климент Смолятич - 14
Ключевский Василий Осипович - 246,
333
Коган Леонид Александрович - 322
Коген Герман - 284, 294, 309, 384, 391
Кожевников Владимир Александрович -
174
Козельский Яков Павлович - 41, 42, 48
Козлов Алексей Александрович - 248,
259,261,289
Козлов Никита Степанович - 12
Колумб Христофор - 70
Кольцов Алексей Васильевич - 88
Комиссаржевская Вера Федоровна - 301
Конкин Семен Семенович - 395
Конкина Лариса Семеновна - 395
Константин I Великий Флавий Валерий
- 14, 163
Конт Опост - 136, 147, 149, 181, 182,
187, 196
Конфуций (Кун-цзы) - 166, 170
Коперник Николай - 31, 33, 34, 102, 158
Корелина Надежда Петровна - 250
Котрелев Н. В. - 352
Кошелев Александр Иванович - 72,109
Крафт-Эбинг Рихард - 338
Кромвель Оливер - 53
Кронеберг Иван Яковлевич - 74
Кронер Рихард - 295
Кропоткин Петр Алексеевич - 479
Кроче Бенедетто - 296
Крупп фон Болен Густав - 217
Крученых Алексей Елисеевич - 369
Кузмин Михаил Алексеевич - 353,365
Кузнецов Валерий Григорьевич - 328
Курбский Андрей Михайлович - 20
Кутузов Александр Михайлович - 50
Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил
Илларионович - 172
Кьеркегор Серен -118,236,240,242,244,
245
Кюхельбекер Вильгельм Карлович - 72,
120, 378
Лавров Петр Лаврович - 136, 147-152,
323,411,450,454,457,479
Лаговский И. А. - 435
Ламетри Жюльен Офре де - 46
Лао-цзы - 166
Лапшин Иван Иванович - 282, 283, 285,
289-294, 383, 392
Ларионов Михаил Федорович - 365,369
Ласк Эмиль - 302, 359
Лаут Райнхард - 152
Левицкий Сергей Александрович - 3,225,
281
Лейбниц Готфрид Вильгельм - 31,37,45,
118, 248, 251, 258,259, 261, 327, 353
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич - 164,
165,195,196,371,372,379,402,410,
418,450,452,459-464,466,468,477-
479
Леонардо да Винчи - 209
Леонов Леонид Максимович - 298,444
Леонтьев Константин Николаевич- 131,
159-165,173,180,182,193,199,337,
340
Лермонтов Михаил Юрьевич - 61, 62,
71,74,90,95,96,99,378
Лесгафт Петр Францевич - 259
Лесевич Владимир Викторович - 464
Лессинг Готхольд, Эфраим - 49
Лец Станислав Ежи - 280,331
Либкнехт Вильгельм - 258
Лившиц Бенедикт Константинович - 369-
371
Лихачев Дмитрий Сергеевич - 23,24
Лобачевский Николай Иванович - 137,
252
Локк Джон - 37
Ломоносов Михаил Васильевич -21,30,
36-^1,57,58
Лопатин Герман Александрович - 450
Лопатин Лев Михайлович -192,200,201,
202,210,215,246-257,400
Лопухин Иван Владимирович - 46,47,49,
53
Лосев Алексей Федорович - 3,8,185,187,
188,192,202,213,248,311,338,394,
40(М11,479
Лосева Валентина Михайловна - 407
Лосский Владимир Николаевич - 207,
263
Лосский Николай Онуфриевич - 3,8,131,
148,192,207,208,220,222,224,225,
246,248,250,257-271,277,278,281,
283,285,288,294,296,307,311,329,
340,357,363,383,392,401,404,406,
412,423,437
Лот Фердинанд - 435
Лотман Юрий Михайлович - 52,54,55,
64, 380, 398
486
Лотце Рудольф Герман - 359
Лукан Дьердь (Георг) - 296
Лукреций (Тит Лукреций Кар) - 6, 251
Луллий Раймунд - 21
Луначарский Анатолий Васильевич -
195,196,347,351,353,371,372,376,
381, 447, 450, 459, 460, 462, 463,
472^178
Лютер Мартин - 32, 96, 240, 242, 345
Мабли Габриель Бонно де - 50
Магомет (Мухаммед) - 85, 170, 283
Майков Валериан Николаевич - 101
Макарова Анна - 301
Максим Грек (Михаил Триволис) -19,20
Максимович Михаил Александрович -
71
Малевич Казимир Северинович - 365
Малиновская Анна Александровна - 473
Малларме Стефан - 349
Мальро Андре - 239
Мандельштам Осип Эмильевич - 353,
363,365-367
Манн Томас - 6,239
Марат Жан Поль - 96
Маринетти Филиппо Томмазо - 368,371
Маритен Жак - 228
Марк, евангелист -14
Маркс Карл - 9, 98, 151, 158, 205, 207,
268,270,326,359,396,410,432,438,
447-455,460,462^65,472,473
Марсель Габриель - 228,236
Масарик Томаш - 307
Мах Эрнст-461,465,478
Махлин Виталий Львович - 396
Маяковский Владимир Владимирович -
177,362,369-371,373,444
Медведев Павел Николаевич - 383,394-
398
Мейер Александр Александрович - 363,
433
Мейерхольд Всеволод Эмильевич - 298,
363
Мелис Георг - 295
Мендельсон Мозес - 54
Менжинский Вячеслав Рудольфович -
227
Мережковский Дмитрий Сергеевич -165,
195,227,239,338,341, 342-348,357,
358,361,406
Мерзляков Алексей Федорович - 61, 62,
72,91,111
Мефодий-12
Минский (Виленкин) Николай
Максимович-341, 343, 345
Минц 3. Г - 344, 380
Митюшин Александр Александрович -
327
Михайловский Николай Константинович
- 151, 226, 238, 258, 329, 331, 452,
456
Моисеев Никита Николаевич - 468
Моисей - 84, 283
Молешотт Якоб - 147
Монтескье Шарль Луи - 34, 41, 49
Моррис Уильям - 448
Мочульский Константин Васильевич - 435
Муравьев Михаил Николаевич - 164
Муравьев Никита Михайлович - 78
Муравьев-Апостол Матвей Иванович - 78
Муравьев-Апостол Сергей Иванович -
78
Муссолини Бенито -371,428
Мюллер Георг Элиас - 259
Надеждин Николай Иванович - 74-77,
87,90-93,100,129,139
Надсон Семен Яковлевич - 343
Наполеон I (Наполеон Бонапарт) - 172,
173
Наторп Пауль - 284, 384, 391
Наумов Николай Иванович - 458
Невский Владимир Иванович (Феодосии
Иванович Кривобоков) - 464,468
Некрасов Николай Алексеевич - 100,
143-145,155,453
Никандров Петр Федотович - 3
Николай/-80, 102, ПО, 112, 154
Николай Кузанский (Николай Кребс) -
219,221,276,277,280
Николюкин Александр Николаевич - 340
Никон (Никита Минов) - 28
Нил Сорский (Николай Майков) -17-19,
27
Ницше Фридрих - 6, 118, 152, 162, 191,
200,219,236-239,242,269,332,347,
349,350,352,355,356,358,456,473,
474,476
Новгородцев Павел Иванович -195,250,
412,415,418
Новиков Авраам Израилевич - 3
Новиков Николай Иванович - 29,46-51
Нусинов Исаак Маркович - 379
Ньютон Исаак - 31, 35,37,38
Огарев Николай Платонович - 87,89,97,
102, 107
Одоевский Александр Иванович - 72,120
Одоевский Владимир Федорович - 70,
72-74
487
Окен (Оккенфус) Лоренц - 70, 71
Островский Александр Николаевич -
133,155
Оуэн Роберт - 448
Павел, апостол - 14,241
Павел I- 46,49, 50, 52, 59
Павлов Михаил Григорьевич - 70-73,87
Панаев Иван Иванович - 89
Парамонов Борис Михайлович - 236
Паскаль Блез - 118, 170, 236,242
Пастернак Борис Леонидович -154,177,
284, 298, 362, 370,444
Пастернак Евгений Борисович - 284
Пастернак Леонид Осипович - 173
Пестель Павел Иванович - 78,102
Петерсон Николай Павлович - 174
Петр, апостол - 14,422
Петр I Великий - 29-31, 33, 34, 36, 37,
87,101,113,115,120
Петр Могила (Могила Петр
Симеонович) - 20
Петрашевский (Буташевич-Петрашевс-
кий) Михаил Васильевич - 154,158
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич - 363
Печерин Владимир Сергеевич - 456
Пешкова Екатерина Павловна -381,402
Пильняк (Вогау) Борис Андреевич - 444
Пирожкова Вера - 299
Писарев Дмитрий Иванович - 132, 139,
140,143-147,152,173,180,199,258,
333
Пифагор - 35
Платнер Эрнст - 50
Платон -6,9,14,20,37,56,83,146,167,
170,191,200,203,215-217,240,283,
284,304,308,312,327,336,401,403,
404,407,413
Платон (Петр Егорович Левшин) - 6,50
Платонов Андрей Платонович- 177
Плеханов Георгий Валентинович - 35,86,
107,258,302,364,447,450,452-^61,
463, 464,466,473,474,477
Ялотин-242,401,407
Победоносцев Константин Петрович -
163
Поваров Геллий Николаевич - 468
Погодин Михаил Петрович - 72
Покровский Михаил Николаевич - 372
Поливанов Евгений Дмитриевич - 373
Поливанов Лев Иванович - 247
Поливанов Михаил Константинович -
315
Померанц Григорий Соломонович - 152
Поповский Николай Никитич - 40
Посник (Постник), зодчий - 26
Пристли Джозеф - 53
Протагор - 148, 327
Пугачев Емельян Иванович - 48, 51, 52,
422
Пумпянский Лев Васильевич - 383, 384
Пуфендорф Самуэль - 33
Пушкин Александр Сергеевич - 6,29,32,
36, 52, 55, 61-66, 72, 74, 77, 79-85,
90,95, 111, 112, 133, 143, 145, 182,
191,283,294,298,301,329,334,346,
347,352,361,369,370,378,384,423,
437,441
Пятигорский Александр Моисеевич -
380
Рабле Франсуа - 381-383, 389, 396
Радищев Александр Николаевич - 8,29,
30,48, 50-55, 58, 180,294,456
Радлов Эрнест Леопольдович - 3, 225,
252, 264, 296, 363
Раздольский В. С. - 408
Разин Степан Тимофеевич - 422
Райнов Тимофей Иванович - 312
Рашковский Евгений Борисович - 192
Ремизов Алексей Михайлович - 462
Рерих Елена Ивановна - 7
Рерих Николай Константинович - 7
Риккерт Генрих - 220,259,284,294-296,
300,302,303,305,306,320,355,358,
359,391,413,456
Риман Бернхард - 252
Римский-Корсаков Николай Андреевич
-294
Робеспьер Максимильен - 53,421
Розанов Василий Васильевич -161,162,
185,239, 329-340, 345, 346,411,479
Розберг Михаил Петрович - 74
Розмини-Сербати Антонио - 217
Россиянский С. С. - 268
Рубинштейн Моисей Матвеевич - 250
Рублев Андрей-27, 124, 125,213
Руге Арнольд - 449
Рулье Карл Францевич - 71
Руссо Жан Жак - 41, 46, 49, 50, 52, 68,
166,168,413
Рылеев Кондратий Федорович - 120
Рюккерт Генрих -193
Савинков Борис Викторович - 462
Салтыков (Салтыков-Щедрин) Михаил
Евграфович - 155
Самарин Юрий Федорович - 75, 85, 86,
108-110,128-131
Сартр Жан Поль - 6, 236
488
Северянин Игорь (Игорь Васильевич
Лотарев) - 369
Сеземан Василий Эмильевич - 296
Семенова Светлана Григорьевна - 4
Сенека Луций Анней - 64,170
Сен-Симон Клод Анри де Рувруа - 107
Сервантес Сааведра Мигель де - 342,
346
Сильвестр, священник - 23
Симеон Полоцкий (Самуил Емельянович
Петровский-Ситнианович) - 20, 21,
27,28
Скобцова Елизавета Юрьевна (мать
Мария)-436, 437
Сковорода Григорий Саввич - 30, 55-
58,180,216
Смит Адам - 43
Сократ-20,52,55,56,84,110,167,170,
174,178,203,216,240,241,279,280,
283
Соллертинский Иван Иванович - 383
Соловьев Владимир Сергеевич - 5, 7, 8,
12,119,124,131,134,152,153,159,
162,163,173-176,178,180-207,210-
216,219,233,235,237,240-242,246-
248,258,259,267,288,289,297,299,
300,314,329,336,338,341,343,347,
351,355,356,364,391,400,401,403-
407,411,413,426,457
Соловьев Михаил Сергеевич - 355
Соловьев Сергей Михайлович (отец В. С.
Соловьева) - 134, 180, 246
Соловьев Сергей Михайлович (племянник
В. С. Соловьева) - 247
Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич -
341,361,371
Соломон- 167, 185
Сорокин Питирим Александрович - 479
Спафарий Николай Гаврилович
(Николае Спэтарул Милеску) - 28
Спенсер Герберт - 196,469, 472, 473
Сперанский Михаил Михайлович - 59
Спиноза Бенедикт (Барух) - 9, 83, 116,
135,136,167,168,180,240,241,308,
327, 336
Сталин (Джугашвили) Иосиф
Виссарионович - 411,437,461
Станиславский (Алексеев) Константин
Сергеевич - 293, 298, 413
Станкевич Николай Владимирович -71,
75, 87-89, 92, 94, 103, 128
Степун Федор Августович - 227,230,249,
295-302, 307, 311, 329,363,421,438
Столович Леонид Наумович - 220, 266,
320, 360, 386,410,446,448,479
Страхов Николай Николаевич - 337
Строганов Сергей Григорьевич - 83
Струве Петр Бернгардович - 195, 196,
205,226,250,269,283,330,423,438,
451,452,472
Суворов-Рымникский Александр
Аркадьевич - 144
Сулла Луций Корнелий - 53
Сумароков Александр Петрович - 58
Суслова Аполлинария Прокофьевна -
333
Сю Эжен (наст, имя Мари Жозеф) - 97
Татищев Василий Никитич - 30-34
Тацит Публий Корнелий - 64
Теплое Григорий Николаевич - 39,40
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс -
242
Тихон (Василий Иванович Белавин) - 208,
435
Ткачев Петр Никитич - 151,456, 460
Толстой Алексей Николаевич - 381
Толстой Лев Николаевич - 6,45,46,133,
164-174,180,237-239,246,294,301,
329,339,342,346,354,369,370,374,
378, 379,419,423,447,456,458
Томашевский Борис Викторович - 373
Топоров Владимир Николаевич - 68,380
Торквемада Томас - 421
Тредиаковский Василий Кириллович - 58
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович -
210,375,376,378,461
Трубецкая Александра Ивановна - 73
Трубецкой Евгений Николаевич - 26,182,
185,192,195,196,199-205,210,247,
250,283,401,412,413,418
Трубецкой Петр Николаевич - 182
Трубецкой Сергей Евгеньевич - 199
Трубецкой Сергей Николаевич -182,192,
195-200,203,205,210,211,215,217,
249,314,413
Туган-Барановский Михаил Иванович -
205,451,472
Тургенев Александр Иванович - 81, 82
Тургенев Иван Сергеевич - 89, 100, 132,
133,143-145,155,342,346
Тургенев Николай Иванович - 78
Тынянов Юрий Николаевич - 373, 378,
379
Тютчев Федор Иванович - 6,61,62,67-
69,131,182,246,348
Ульянова Мария Ильинична - 402
Успенский Борис Андреевич - 380
Успенский Глеб Иванович - 458
489
Ушаков Симон Федорович - 28
Ушаков Федор Васильевич - 50
Фалес - 9
Федин Константин Александрович - 444
Федоров Николай Федорович - 173-180
Федотов Георгий Петрович - 412,431-446
Фейербах Людвиг -7,9,97,121,133,135,
149,447,455,465,476
Феофан Прокопович - 21, 31, 32, 39, 58
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич
-145,191
Филипп (Федор Степанович Колычев) -
435
Филонов Павел Николаевич - 365
Философов Дмитрий Владимирович -
345
Филофей, игумен, старец - 17,24
Фихте Иоганн Готлиб - 69,70,75,83,87,
94, 95, 116, 180, 197, 280, 309, 355,
413,414
Фишер Куно - 285
Флобер Постав - 342,346
Флоренский Павел Александрович - 7,
12, 27, 192, 207, 209-215, 217, 233,
276,287,338,340,341,401,406,407,
409,412
Флоренский Павел Васильевич - 409
Флоровский Георгий Васильевич -3,18,
176,177,179,207,346,351,381,391,
435,437
Фома, апостол - 14,16
Фома, пресвитер - 14
Фонтенель Бернар Ле Бовье де - 34, 35
Фофанов Константин Михайлович - 343
Фохт Карл - 147
Франк Семен Людвигович - 7, 192, 195,
205,217,227,242,246,250,267-281,
283,287,296-298,311,315,322,329,
338, 363, 391,401,404,412, 438,451
Фрейд Зигмунд- 119, 153, 338, 396
Фридлендер Георгий Михайлович - 152,
399
Фридрих II-30
Фриз Якоб Фридрих - 359
Фурье Шарль - 448
Хагемайстер М. - 179, 403
Хайдеггер Мартин - 228, 236, 239, 314
Хлебников Велимир (Виктор
Владимирович) - 353, 362, 369, 370, 371
Хомяков Алексей Степанович - 85, 109,
110,111,113,115,117,119-129,131,
153,197-199, 207, 218, 223,456
Хомяков Федор Степанович - 119
Хоружий Сергей Сергеевич - 18, 131,
211,222,224,228,406,407
Христиансен Бродер - 375
Цветаева Марина Ивановна - 362
Циолковский Константин Эдуардович -
178
Цицерон Марк Туллий - 158
Чаадаев Петр Яковлевич - 62,66,75,78-
86, 112, 113, 129, 180,307,352,456
Чебышев Пафнутий Львович - 246
Челпанов Георгий Иванович - 250, 285,
315,400
Чернышевский Николай Гаврилович - 8,
76, 133-144, 146-149, 152, 156, 180,
182, 191,448,456,457,459,474
Чехов Антон Павлович - 343
Чехов Михаил Александрович - 362
Чичерин Борис Николаевич - 136
Чубарое Игорь Михайлович - 4
Шад Иоганн Баптист - 70
Шакья-Муни - см. Будда
Шанявский Альфонс Леонович - 315
Шварц Иван Григорьевич (Иоганн Георг)
-46,49,53
Шевченко Александр Васильевич - 369
Шевырев Степан Петрович - 72,85
Шедо-Ферроти (Ф. И. Фиркс) - 144
Шекспир Уильям - 145, 158, 237, 242,
250, 324, 342
Шелер Макс - 228, 239, 314, 317
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф - 7,
63, 66, 68-71, 73-76, 79, 83, 87, 92,
100,102,111,118,119,120,133,135,
167,180,197,280,283,335,355,403,
413,447
Шестов Лев (Лев Исаакович
Шварцман)- 7, 152,236-245,267,280,311,
312,315,329,401,412
Шефтсбери Антони Эшли Купер - 30
Шиллер Иоганн Фридрих - 61,152,159
Шишков Александр Семенович - 109
Шкловский Виктор Борисович - 330,363,
370, 372-375, 378-380
Шлегель Фридрих - 297, 301
Шлейермахер Фридрих Даниель Эрнст -
414
Шмелев Иван Сергеевич - 428
Шопенгауэр Артур - 122, 166, 167, 170,
180,197-199,355
Шпенглер Освальд - 228, 298, 442
Шпет Густав Густавович - 3,8,106,239,
250, 311-328, 355, 384,401,411,472
490
Шпет Марцелина Осиповна - 315
ШпеттЯ. Г. Б. -315
Штейнберг Аарон Захарович -152,363,
387
Штейнер Рудольф - 355, 362, 363
Штирнер Макс (Каспар Шмидт) - 414
Щеголев Павел Елисеевич - 462
Щербатов Михаил Михайлович - 42,43,
48, 53, 78
Щукин Василий Георгиевич - 87
Эврипид (Еврипид) - 342
Эйнштейн Альберт - 408
Эйхенбаум Борис Михайлович - 373-376,
378
Экхарт Иоганн (Мейстер Экхарт) - 275
Энгельс Фридрих -9,151,396,447^51,
453-456,460,464,465
Эпикур-9, 64, 83,85,251
Эрберг Константин (Константин
Александрович Сюннерберг) - 363
Эренбург Илья Григорьевич - 372
Эрн Владимир Францевич - 192, 215—
217,250,296,297,315,391
Эсхил -401
Юдина Мария Вениаминовна - 383
Юм Дэвид -43, 75, 116,315
Юнг Карл Густав - 119
Юркевич Памфил Данилович - 289,323,
479
Юшкевич Павел Соломонович - 464
Языков Николай Михайлович - 111,
119
Якобсон Роман Осипович - 325, 373
Яковенко Борис Валентинович - 225,296,
297,302,306-314,479
Яковлев Иван Алексеевич - 101
Якубинский Лев Петрович - 373
Якушкин Иван Дмитриевич - 78
Ярослав Мудрый - 12,14
Ясперс Карл - 228, 236
Составитель В: М. Персонов
СОДЕРЖАНИЕ
ОТ АВТОРА 3
ВСТУПЛЕНИЕ.
ФИЛОСОФИЯ
КАК ЛЮБОМУДРИЕ.
О СВОЕОБРАЗИИ
ФИЛОСОФИИ
В РОССИИ
Философия и мудрость 5
Философия и другие формы
сознания 6
Оригинальна ли русская
философия? 7
Материализм или идеализм? 8
ФИЛОСОФСКАЯ
МЫСЛЬ
НА РУСИ
(XI-XVII вв.)
Источники философской мысли
Древней Руси 11
Философия в богословии 12
Этические взгляды 21
Эстетические воззрения 25
ФИЛОСОФИЯ
В «ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(XVIII в.)
«Век Просвещения» в России
Философские взгляды
«ученой дружины» Петра I
М. В. Ломоносов и становление
светской философии
Н. И. Новиков
А. Н. Радищев
Г. С. Сковорода
Ш
ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX ВЕКА
Эстетический гуманизм
H. М. Карамзин
А.Ф. Мерзляков
А. И. Галич
А. С. Пушкин
Поиски отечественного
любомудрия
Е. А. Баратынский
Ф. И. Тютчев
Д. М. Велланский и М. Г. Павлов
Д. В. Веневитинов и В. Ф.
Одоевский
Н. И. Надеждин
29
31
36
47
50
55
59
59
61
63
64
65
65
67
70
72
74
492
IV
ЗАПАДНИКИ
И СЛАВЯНОФИЛЫ
П. Я. Чаадаев
«Западничество»
Н. В. Станкевич
В. Г. Белинский
А. И. Герцен
Славянофилы
И. В. Киреевский
А. С. Хомяков
К. С. Аксаков
Ю. Ф. Самарин
V
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРИНЦИП В ФИЛОСОФИИ
И СОЦИАЛЬНЫЙ
РАДИКАЛИЗМ
Н. Г. Чернышевский
Н. А. Добролюбов
Д. И. Писарев
П. Л. Лавров
78
86
87
89
101
109
111
119
128
129
133
141
143
147
УШ
РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ
ВСЕЕДИНСТВА
В ТРУДАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В. С. СОЛОВЬЕВА
С. Н. Трубецкой
Е. Н. Трубецкой
С. Н. Булгаков
П. А. Флоренский
В. Ф. Эрн
Л. П. Карсавин
196
199
205
209
215
217
VI
ПОИСКИ ИДЕАЛЬНОГО
НАЧАЛА
IX
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ
Экзистенциальный персонализм
Н. А. Бердяева
Жизненный путь философа
Верующий вольнодумец
Философия свободы
Учение о личности
Философия творчества
Экзистенциальный
иррационализм Льва Шестова
«Философия трагедии» и
«апофеоз беспочвенности»
Революция и жизнь в эмиграции
225
225
230
231
233
234
237
238
239
Ф. М. Достоевский
К. Н. Леонтьев
Л. Н. Толстой
Н. Ф. Федоров
vn
ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА
В. С. СОЛОВЬЕВА
Вл. Соловьев о предмете и
задачах философии
Метафизика всеединого и
всеединства
Учение о Софии и Богочелове-
честве
Этика и эстетика
152
160
164
173
182
183
185
188
Экзистенциальная философия
Льва Шестова
х
ИДЕАЛ-РЕАЛИЗМ
Конкретный спиритуализм
Л. М. Лопатина
Жизненный путь философа
О типологии философских
направлений
Философия конкретного
спиритуализма
Спиритуалистическое
обоснование нравственной жизни
240
246
246
250
252
255
493
Конкретный идеал-реализм
H. О. Лосского
На пути к философии
Интуитивизм Лосского
Метафизика конкретного идеал-
реализма
Условие абсолютного добра
257
258
259
261
264
ХШ
ФИЛОСОФИЯ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО
Философия В. В. Розанова
Феномен Розанова
Абсолютный реализм
С. Л. Франка
От марксизма к христианскому
миропониманию и идеализму
От теории познания ко
всеединству
О структуре всеединства
Вопрос о смысле жизни
Бог и мир
Проблема зла
Постижение непостижимого
XI
РУССКОЕ
НЕОКАНТИАНСТВО
Кантианство в России
«Академическое
неокантианство»
А. И. Введенский
И. И. Лапшин
267
269
270
271
274
275
278
279
282
284
284
289
Неакадемическое кантианство 294
Ф. А. Степун 297
С. И. Гессен 301
Б. В. Яковенко 306
хп
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИСКАНИЯ
Феноменологическая
философия в России 311
Мировоззрение Г. Г. Шпета 314
329
329
Начало
литературно-философской деятельности. Трактат о
понимании 333
Философия пола и отношение к
христианству 337
Философия русского
символизма 341
Символизм и «новое
религиозное сознание» Д. С.
Мережковского 341
Дионисийский символизм
Вячеслава Иванова 346
Теория символизма Андрея
Белого ^ 353
Постсимволистская эстетическая
теория 364
Акмеизм 365
Футуризм и авангард 368
Формальная школа 372
XIV
ФИЛОСОФИЯ И ЭСТЕТИКА
Эстетическая философия
M. М. Бахтина
Феномен Бахтина
He-алиби в бытии и в
человечестве
Философия диалога
Диалог с предшественниками и
современниками
Полифонический плюрализм
Философия и судьба
А. Ф. Лосева
Феномен Лосева
Лосевский
«идеал-реалистический символизм»
Поздний Лосев
381
381
383
386
391
398
400
400
403
407
494
XV
РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
И ПОЛИТИКА
Духовный национализм
И. А. Ильина
Начало философской деятельности
Интерпретация философии Гегеля
Как сопротивляться злу?
Текущая политика и «аксиомы
религиозного опыта»
Концепция русского духовного
национализма
«Социальное христианство»
Г. П. Федотова 431
От социал-демократического
марксизма к православной
церковности 432
Философия истории 438
Философия культуры 441
Идеал «социального
христианства» 444
412
412
414
418
423
426
XVI
ИЗ ИСТОРИИ МАРКСИЗМА
В РОССИИ
О проникновении марксизма
в Россию
Г. В. Плеханов
А. А. Богданов
А. В. Луначарский
449
452
461
472
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
479
482
ЛЕОНИД НАУМОВИЧ
столович
ИСТОРИЯ
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Очерки
На переплете помещена репродукция картины
А. М. Васнецова «Горное озеро на Урале» (1895).