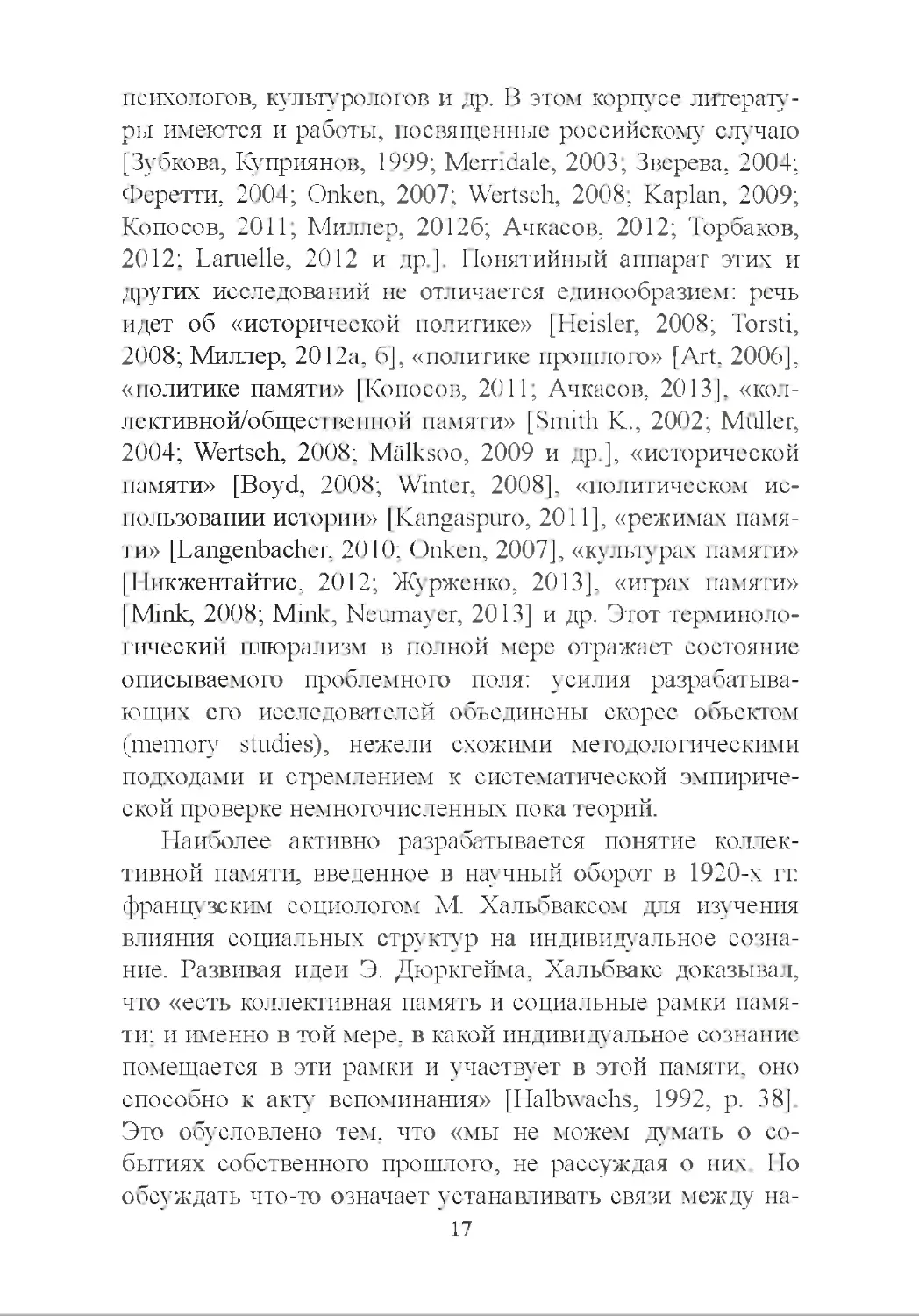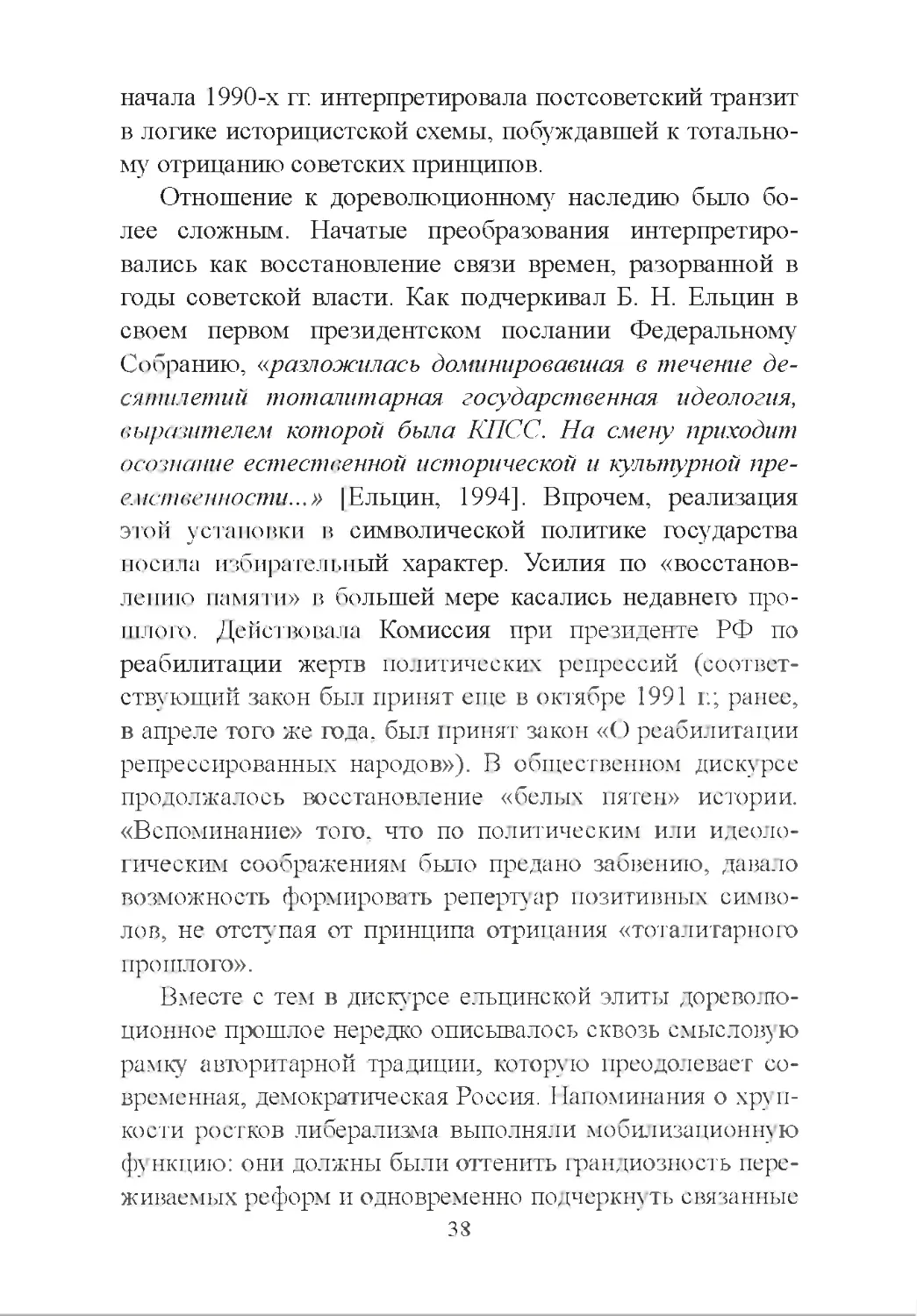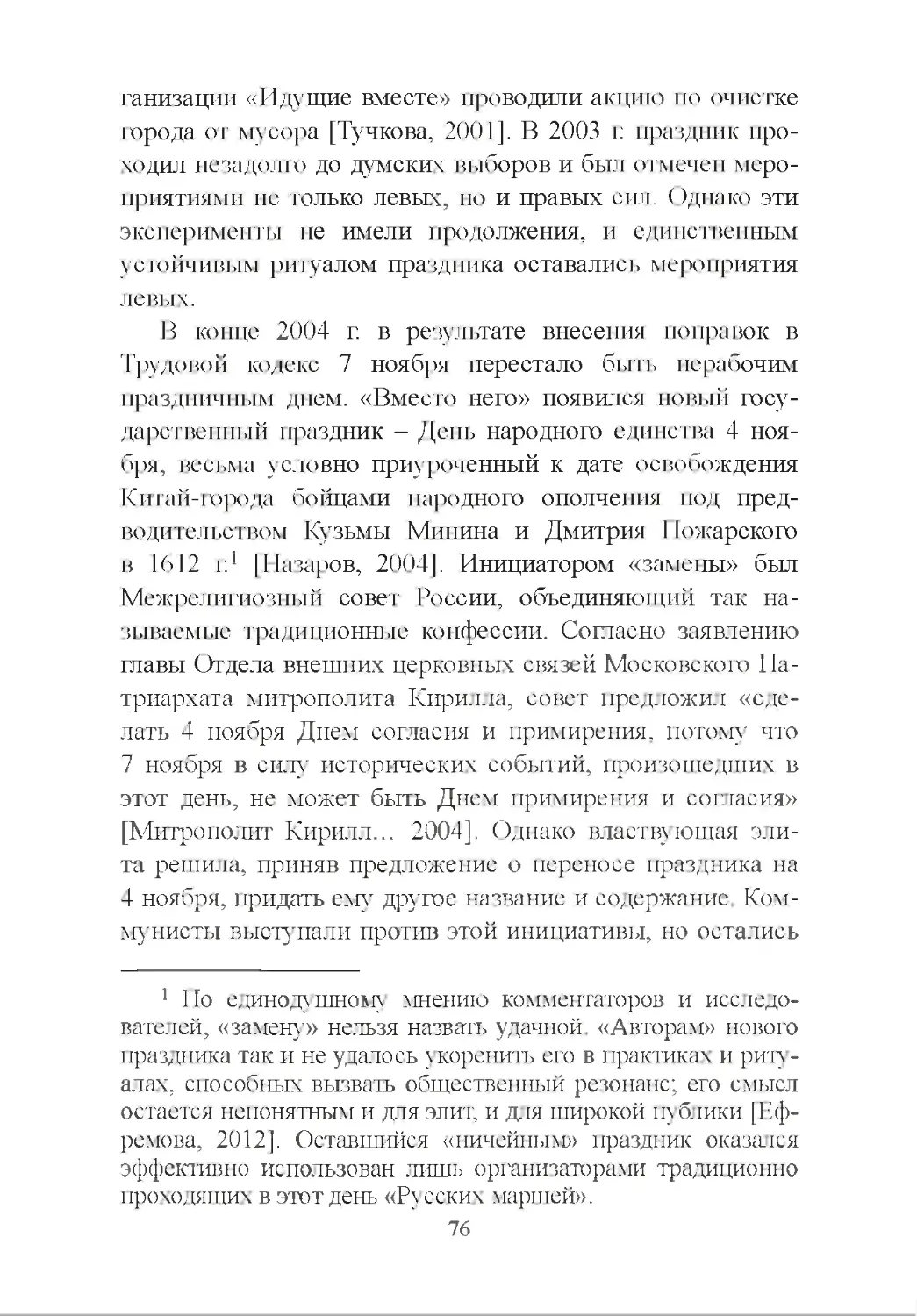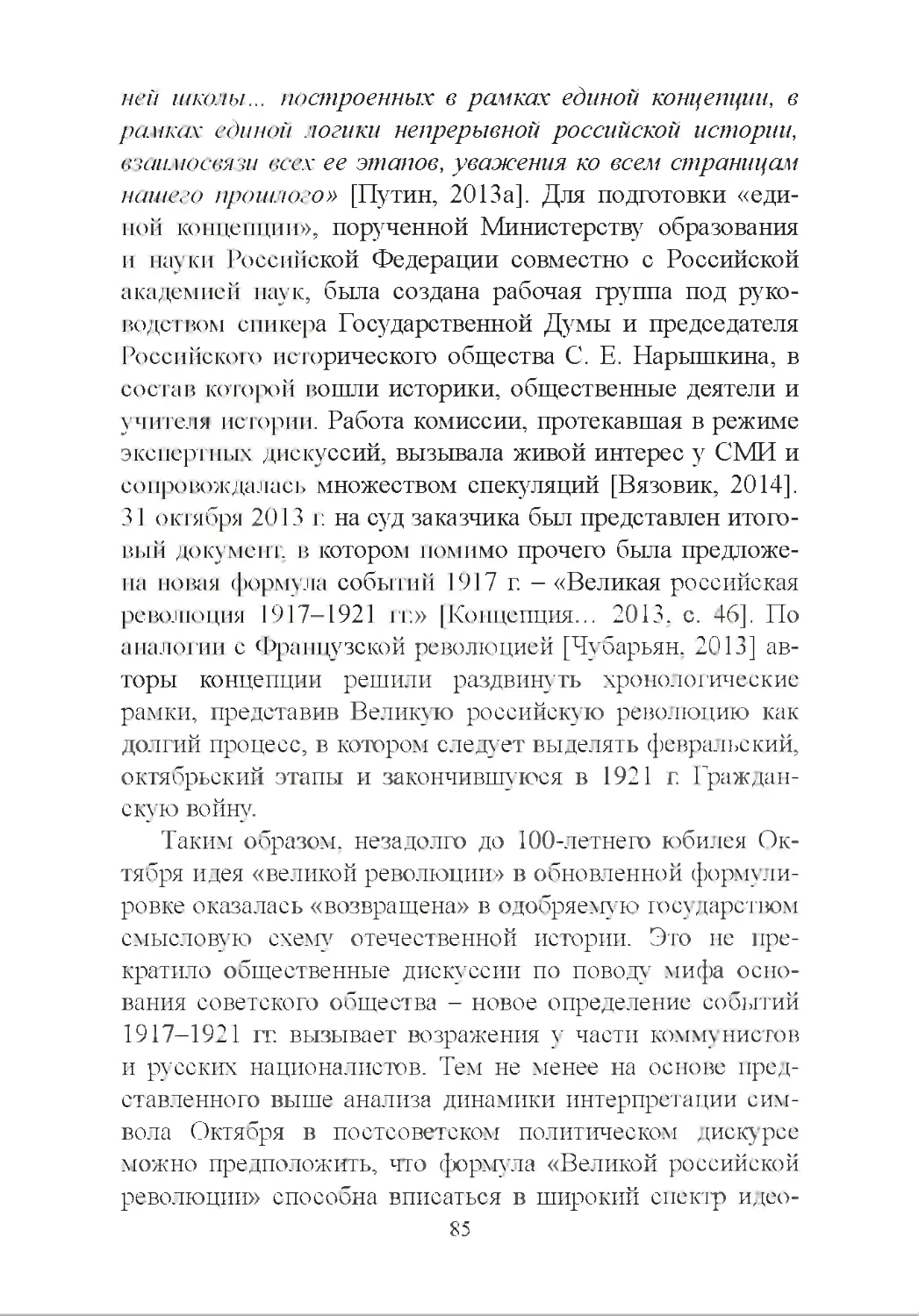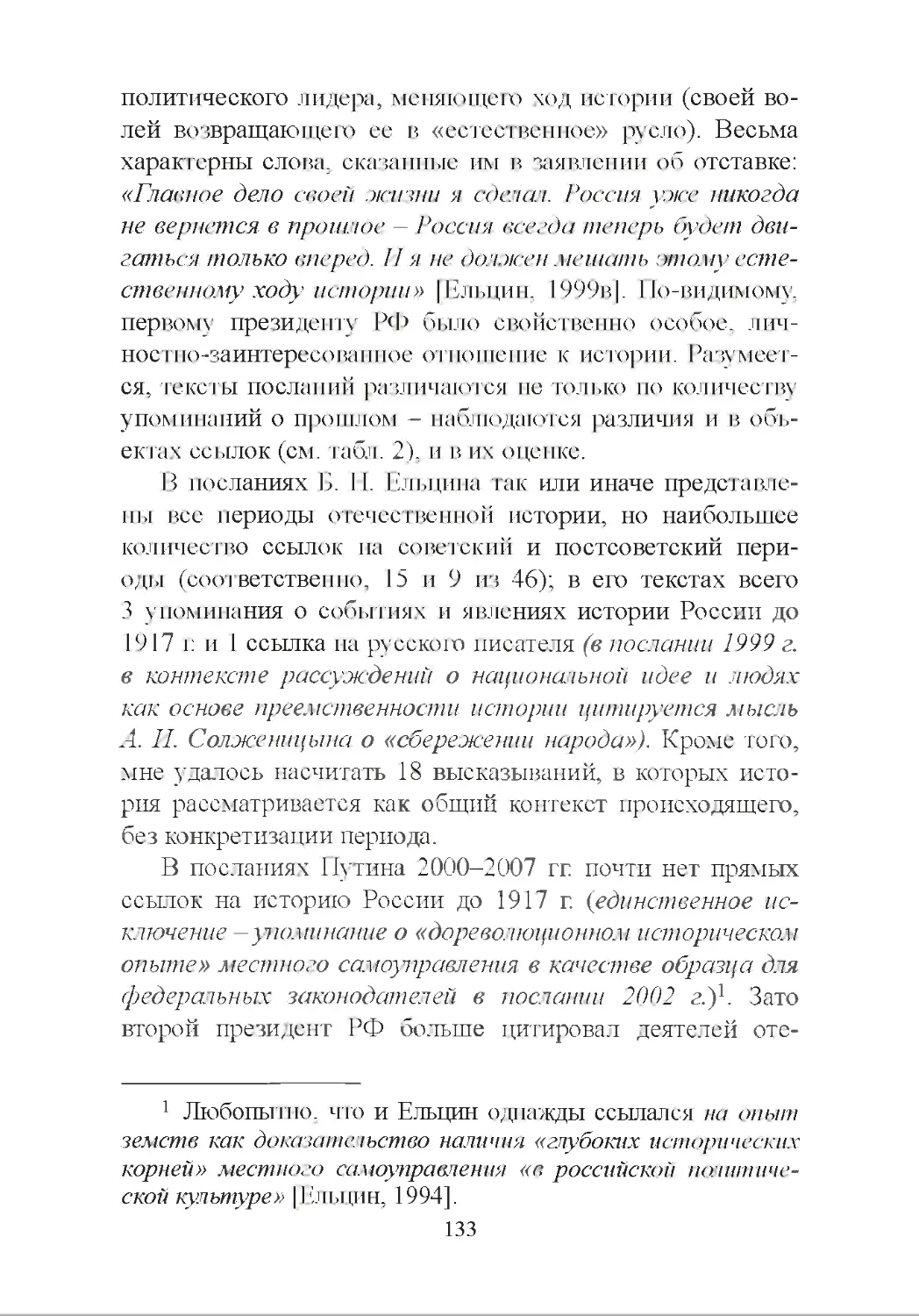Автор: Малинова О.Ю.
Теги: внутренняя политика внутреннее положение политика история россии обществоведение
ISBN: 978-5-8243-1952-1
Год: 2015
Текст
УДК 323
ББК 66.3
М19
Публикация подготовлена и издание
осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ), проект № 11-03-00202а
Рецензенты: д-р истор. неук А. И. Миллер,
д-р полит, наук И. С. Семененко
Малинова О. Ю.
Ml 9 Актуальное прошлое: Символическая политика
властвующей элиты и дилеммы российской иден¬
тичности / О. Ю. Малинова. — М. : Политическая
энциклопедия, 2015. — 207 с. — (Россия. В поисках
себя...).
ISBN 978-5-8243-1952-1
Книга посвящена изучению одного из аспектов политики иден¬
тичности в постсоветской России — эволюции подходов властвующей
элиты к использованию национального прошлого в меняющемся поли¬
тическом и идеологическом контексте. На основе анализа нормативных
актов РФ, публичных выступлений президентов РФ и других политиков,
занимавших ключевые позиции в федеральной исполнительной и за¬
конодательной власти, а также материалов СМИ прослеживаются эта¬
пы формирования «официального» исторического нарратива. Особое
внимание уделяется реинтерпретации двух центральных событий со¬
ветского периода: Октябрьской революции 1917 г и победы в Великой
Отечественной войне, - а также изменению репертуара используемого в
политических целях прошлого.
Книга предназначена для специалистов-обществоведов, а также для
всех, кто интересуется проблемами политики и истории в современной
России.
УДК 323
ББК 66.3
ISBN 978-5-8243-1952-1 © Малинова О. Ю., 2015
© Политическая энциклопедия,
2015
Оглавление
Современные практики политического использования
прошлого как предмет исследования 5
Прошлое как ресурс и объект современной
политики 12
Проблема понятийного аппарата 16
Политическое использование прошлого
как составляющая символической политики 22
1. Переосмысление символа Октябрьской
революции в постсоветской России 32
«Главное событие XX века» в идеологических
битвах начала 1990-х гг. 36
Несостоявшееся «согласие и примирение» 56
Память о революции и репрезентация
политических изменений 62
«Нормализация» советского прошлого: технологии
символической политики 2000-х гг. 68
«Октябрьский переворот» или «Великая
российская революция»? 84
2. Политическое использование символа
Великой Отечественной войны 88
1990-е гг: в поисках новых подходов
к политическому использованию памяти
о войне 91
2000-е гг: память о Великой Отечественной войне
как «универсальный» символический ресурс 100
«Фальсификации истории» и другие вызовы
официальной версии памяти о Великой Победе ... 115
3
3. Репертуар политически актуального прошлого
в риторике президентов РФ (1991-2014) 128
Использование национального прошлого
для легитимации действующей власти
(анализ посланий президентов РФ
Федеральному Собранию РФ, 1994-2012 гг.) 130
Тематический репертуар памятных речей
президентов РФ (2000-2014 гг.) 156
Заключение. Эволюция символической политики
и дилеммы российской идентичности 175
Литература и источники 185
Современные практики политического
использования прошлого как предмет
исследования
«Общепринятые» представления о прошлом являются
одной из главных опор идентичности современных поли¬
тических сообществ. То, что иногда называют «публичной
историей» в отличие от «формальной» или «профессио¬
нальной» - репрезентации и интерпретации прошлого,
адресованные широкой аудитории неспециалистов, - ока¬
зывает существенное влияние на формирование представ¬
лений о Нас и мобилизацию групповой солидарности.
Прошлое служит «строительным материалом» для кон¬
струирования разных типов социальных идентичностей,
однако особое значение оно имеет для воображения наций.
Большинство исследователей национализма согласятся
с утверждением Д. Белла: «Чтобы сформировать... чув¬
ство единства с другими людьми, принадлежащими к той
же нации, необходимо, чтобы индивид мог отождествлять
себя с разворачивающимся во времени нарративом», в ко¬
тором нации «отводится центральная и позитивная роль»
[Bell, 2003, р. 69]. Не случайно в рамках сложившейся
(и трудно поддающейся изменению) традиции именно на-
ции/государства стали главными объектами историографи¬
ческого описания.
После распада СССР все бывшие союзные республики
столкнулись с необходимостью формирования новых на¬
ционально-государственных идентичностей на основе на¬
личных символических ресурсов. В случае России задача
осложнялась множеством факторов как структурного, так
и агентивного (субъектного) характера. С одной стороны,
приходилось принимать в расчет ограничения, заданные
контекстом: факт трансформации внутренних админи¬
стративных границ в государственные; плоды советской
5
политики институционализации этничности; декларацию
правопреемства по отношению к СССР, затруднявшую
четкое разграничение российского и советского [см.: Мо¬
розов, 2009; Каспэ, 2012]; особенности сложившейся
историографической традиции, вплетавшей русский/рос-
сийский национальный нарратив1 в историю строитель¬
ства империи [см.: Миллер, 2010; Maiorova, 2010 и др.].
Эти и иные обстоятельства, список которых может быть
продолжен, задают рамки возможного для конструиро¬
вания новой/старой российской идентичности. С другой
стороны, «неопределенность» коллективного прошлого
усугублялась острыми идеологическими спорами, в боль¬
шинстве которых акторы, выступавшие от имени госу¬
дарства, предпочитали не занимать четких позиций. По
мнению одних исследователей, стремление властвующей
элиты отложить решение проблем, связанных с содержа¬
тельным наполнением новой макрополитической иден¬
тичности2, является существенным препятствием для ее
1 Национальный нарратив понимается здесь как смысло¬
вая схема исторического повествования, которая описывает
и «объясняет» генеалогию сообщества, полагаемого наци¬
ей, устанавливая связи между событиями. Такого рода схемы
задают шаблоны для интерпретации конкретных эпизодов
прошлого [Wertsch, 2008], выступая в качестве важнейше¬
го механизма социального конструирования идентичности
[Somers, 1994].
2 Макрополитическая идентичность - это аналитическая
категория, указывающая на совокупность различных способов
идентификации с сообществами, «стоящими за» современны¬
ми государствами [Политическая идентичность... 2012, с. 76].
В случаях, когда вопрос о том, можно ли называть такое сооб¬
щество нацией, вызывает споры - как это имеет место в Рос¬
сии, - понятие «макрополитическая идентичность» позволяет
учитывать различные основания идентификации, представ¬
ленные в публичном пространстве, и анализировать возника¬
ющие между ними конфликты [см.: Малинова, 2010].
6
конструирования [Каспэ, Каспэ, 2006, с. 17; Гудков, Дубин,
2007, с. 21; Дробижева, 2008, с. 74; Малинова, 2010; Торба-
ков, 2012, с. 93]. Другие же полагают, что «неспособность»
русской политической элиты «четко сформулировать наци¬
ональные интересы» в некотором смысле оказалась «спа¬
сительной», поскольку до поры до времени она смягчала
острые углы в отношениях с партнерами на постсоветском
пространстве [Зевелев, 2009, с. 92]. Так или иначе, едва ли
можно сомневаться, что комплекс социальных и менталь¬
ных сдвигов, часто именуемый «кризисом идентичности»,
обусловлен не только необходимостью переосмысления
представлений о Нас с учетом новых географических, по¬
литических и социальных границ, но и возникающими в
этой связи идеологическими конфликтами.
Настоящая книга посвящена изучению одного из аспек¬
тов политики идентичности в постсоветской России - эво¬
люции подходов властвующей элиты к использованию
национального прошлого в меняющемся политическом и
идеологическом контексте. Объект моего исследования -
слова и действия политиков, которые наделены полномо¬
чиями выступать от имени государства и играют особую
роль в конструировании новой макрополитической иден¬
тичности. Анализируя нормативные акты РФ, публичные
выступления президентов и других политиков, занимав¬
ших ключевые позиции в федеральной исполнительной
и законодательной власти, а также материалы СМИ, я по¬
пытаюсь проследить, как менялся репертуар используе¬
мого в политических целях прошлого и каким образом в
условиях непрекращающихся споров о природе нового
макрополитического сообщества формировался и эволю¬
ционировал официальный нарратив. Поиски смысловой
схемы отечественной истории, способной заменить преж¬
нюю, советскую, несомненно важны для легитимации ны¬
нешнего российского режима. Эта задача имеет не только
историографическую, но и политико-идеологическую со¬
ставляющую, т. к. конструирование нарратива, призванно-
7
го объяснить, каким образом из коллективного прошлого
вырастает настоящее и будущее, сопряжено с выбором из
множества вариантов, представленных в публичном про¬
странстве и отражающих точки зрения разных социальных
групп. Такой выбор имеет определенную политическую
цену, что нередко превращает его в дилемму: решения,
кажущиеся логичными с точки зрения желаемых перспек¬
тив, могут быть связаны с неприемлемыми издержками.
Поэтому при анализе практики использования прошлого
властвующей элитой необходимо принимать во внимание
политический контекст, а также позиции других участни¬
ков публичных дискуссий.
Переоценка коллективного прошлого с учетом изме¬
нившегося контекста - в первую очередь задача профес¬
сиональных историков. Однако и политики выполняют
свою часть работы: они не только апеллируют к прошло¬
му, участвуя в его интерпретации, но и имеют возможность
формировать «инфраструктуру» коллективной памяти.
К примеру, регулировать содержание школьных программ
и учебников, вносить изменения в календарь праздников
и памятных дат, учреждать государственную символику и
награды, регламентировать официальные ритуалы и проч.
При этом «работа над прошлым» далеко не всегда воспри¬
нимается в качестве отдельной задачи и ведется целена¬
правленно. Она может протекать как в проактивном, так и
в реактивном режиме. Поэтому политическое использова¬
ние истории - категория, более широкая, чем историческая
политика1. Согласно определению финского политолога
1 Историческая политика - особая конфигурация методов,
практикуемых политическими элитами некоторых европей¬
ских стран, общим для которых является «использование го¬
сударственных административных и финансовых ресурсов в
сфере истории и политики памяти в интересах правящей эли¬
ты» (Миллер, 2012а, с. 19). Авторы, работающие с этим поня¬
8
М. Кангаспуро, под эту категорию попадают все случаи
«осознанного и преднамеренного использования истории
в качестве инструмента политической аргументации», а
также «попытки обрести власть над историей, добиваясь
гегемонии определенной ее интерпретации» [Kangaspuro,
2011, р. 295]. Символические эффекты действий полити¬
ков часто являются побочными результатами решения за¬
дач, которые субъективно не связаны с конструированием
идентичности. В силу этого исследование практик полити¬
ческого использования прошлого требует инструментария,
позволяющего различать символически значимые слова
и действия политиков, даже если они не укладываются в
последовательную стратегию, поскольку отсутствие тако¬
вой - тоже факт, нуждающийся в объяснении.
В политической риторике, как и в историографии, ос¬
новным форматом репрезентации прошлого является
нарратив - сюжетно оформленное повествование, пред¬
лагающее связную картину цепи исторических событий.
Связность достигается за счет генеалогического принципа
изложения. По определению С. Зенкина, нарратив име¬
ет ((перспективную структуру - когда событие отсылает
к каким-то своим будущим последствиям (именно к по¬
следствиям, а не к причинам)» [Зенкин, 2003]. Тем самым
нарратив «объясняет», апеллируя к связям, которые пред¬
положительно прослеживаются «в самой истории». От¬
бор, в результате которого формируется смысловая схема
нарратива, происходит имплицитно. В силу этого нарратив
чрезвычайно удобен для трансляции неявных идеологиче¬
ских сообщений [там же; Gill, 2011; Gill, 2013 и др.].
тием, подчеркивают активный и целенаправленный характер
исторической политики, использующей прошлое под углом
политических интересов и целей настоящего (Torsti, 2008,
р. 24).
9
Исторические нарративы имеют сложно-составную
структуру: они складываются из событий-фрагментов, ко¬
торые могут быть развернуты в самостоятельные сюжет¬
ные повествования. «Объяснение» отдельных фрагментов
определяется общей сюжетной линией (при этом одни и
те же события могут встраиваться в разные нарративы).
Согласно концепции польского историка Ежи Топольски,
связывание отдельных эпизодов (narrative wholes), образу¬
ющих горизонтальную проекцию нарратива, происходит
на трех уровнях: 1) информации, опосредованной вооб¬
ражением историка; 2) риторики, т. е. средств убеждения
аудитории в правдоподобности смысловой схемы; 3) «по¬
литики», или «теоретико-идеологических оснований»,
включающих ценностно-мировоззренческие установки
авторов нарратива [Topolski, 1999, р. 202]. В политиче¬
ском дискурсе, в отличие от профессионального истори¬
ческого, нарративы коллективного прошлого редко имеют
развернутый вид. Тем большее значение приобретает их
соответствие тому, что Топольски называет «чувством оче¬
видного» реципиентов [ibid., р. 205-206].
В этом смысле можно сказать, что «политика памя¬
ти» работает с мифами - разделяемыми членами поли¬
тического сообщества, упрощенными и эмоционально
окрашенными нарративами, сводящими сложные и проти¬
воречивые исторические процессы к редуцированным и
удобным для восприятия схемам. По мысли Р. Барта, миф
создается на основе ранее существовавшей семиологиче-
ской цепочки и представляет собой вторичную семиоло-
гическую систему, которая трансформирует изначальный
смысл символа. «Его задача - “протащить” некую поня¬
тийную интенцию» [Барт, 2010, с. 289]. Таким образом,
миф - это не обязательно «искажение исторических фак¬
тов, которое может быть опровергнуто историческими
исследованиями». По определению А. Ассман, это «куль¬
турная конструкция, оказывающая существенное воз-
10
действие на настоящее и будущее» [Ассман, 2014, с. 39].
Политики, с одной стороны, используют, а с другой -
конструируют и трансформируют мифы о коллективном
прошлом. Антропологи и исследователи наций и нацио¬
нализма накопили значительный опыт изучения и типо-
логизации мифов, выполняющих определенные функции
в конструировании и поддержании политических сооб¬
ществ, который может быть полезен для анализа публич¬
ных репрезентаций прошлого.
Обращаясь к прошлому в своей риторике, политики ре¬
шают конкретные задачи - стремятся легитимировать или
делегитимировать существующий порядок, оправдать или
подвергнуть критике принимаемые решения, мобилизо¬
вать поддержку, стимулировать солидарность сообщества,
создать образ «врага» и т. п. Соответствующие эффекты
достигаются за счет использования фреймов - устойчивых
когнитивных структур, которые обеспечивают метаком¬
муникативное определение ситуации, задавая смысловые
рамки для ее репрезентации и понимания. Фреймирова-
ние является важным механизмом «коллективного вспо¬
минания» [Irwin-Zarecka, 1994]: интерпретируя прошлое,
люди оперируют культурно доступными смысловыми ша¬
блонами, которые формируются в том числе и усилиями
политиков.
Вместе с тем было бы неверно сводить политическое
использование прошлого исключительно к риторике; дан¬
ный вид социальной практики включает в себя широкий
спектр действий, направленных на достижение гегемонии
определенной интерпретации прошлого, которые включа¬
ют распоряжение публичными ресурсами, а также право¬
вое регулирование и принуждение.
Прошлое как ресурс и объект современной
политики
Хотя стремление рассматривать прошлое как важный
ресурс, который необходимо держать под контролем, мо¬
жет считаться константой современной политики, нель¬
зя не признать, что в XX веке - и особенно во второй его
половине - практики обращения с этим ресурсом заметно
эволюционировали. Главные причины изменений нужно
искать в самой истории прошедшего столетия, трагиче¬
ские события которой - невиданного прежде масштаба
войны, революции, перевороты, перекраивание государ¬
ственных границ, массовые убийства и этнические чист¬
ки - затронули миллионы простых людей. Такая степень
вовлеченности ведет к размыванию границ между исто¬
рией и массовой индивидуальной памятью участников
событий и их потомков [Winter, 2008, р. 6-7]. Новейшая
история становится значимой частью личного опыта для
многих людей. Можно сказать, что «пришествие масс» в
политику в результате расширения избирательных прав
и «историзация» массового сознания происходили одно¬
временно. Последней способствовали многие «новше¬
ства» XX в. С распространением массового образования
систематизированное знание о прошлом стало неотъем¬
лемой частью социализации индивидов. Развитие инфор¬
мационных технологий - фотографии, кинематографа,
телевидения - «визуализирует» историю, помогая зрите¬
лям ощущать себя виртуальными участниками событий
[Heisler, 2008, р. 19; Kattago, 2009, р. 381]. Не меньшее
влияние оказали новейшихе электронные технологии сбо¬
ра и воспроизводства данных. По словам американского
политолога Ж.-В. Мюллера, обусловленный ими фунда¬
ментальный переворот в «мнемонических технологиях»
«по своему значению, возможно, равен изобретению пе¬
чатного станка и угасанию устной памяти... после эпохи
12
Возрождения» [Muller, 2004, р. 12]. Трагические и герои¬
ческие события XX века стимулировали развитие соци¬
альной «инфраструктуры» памяти: музеев, мемориалов,
выставок, книг, документальных фильмов, ритуалов и др.,
которые побуждают индивидов к «вспоминанию» коллек¬
тивного прошлого и участию в его коммеморации. Все это
меняет отношение к истории. Не удивительно, что в XX в.
вопросы, связанные с интерпретацией ключевых истори¬
ческих событий, оказались в числе «фундаментальных
проблем», которые легко становятся предметами публич¬
ных дебатов. В том числе и потому, что «не требуется осо¬
бой подготовки, чтобы сформировать собственное мнение
по этим проблемам» [Art, 2006, р. 3]. Следовательно, про¬
шлое оказывается не только одним из риторических ресур¬
сов легитимации власти, но и частью самой политики.
В конце XX в. вопросы, связанные с публичной ин¬
терпретацией прошлого и урегулированием его послед¬
ствий - наказанием виновных, реабилитацией жертв,
восстановлением справедливости, - заняли значимое ме¬
сто в политических повестках многих государств мира.
С проблемой переоценки прошлого столкнулись не только
страны, вынужденные менять оценки собственной исто¬
рии после краха коммунистических режимов. Поистине
тектонические изменения режимов памяти, наблюдаемые
в последние десятилетия во многих регионах мира, свя¬
заны с очень разными политическими и социальными
процессами.
Современный «бум памяти» - одно из очевидных след¬
ствий третьей волны демократических транзитов. Как
верно заметил Э. Лангербахер, «память не может не вы¬
двигаться на передний план в любой стране, страдавшей
от диктаторского режима или социальной травмы, которой
затем удалось восстановить мир и демократическую си¬
стему» [Langenbacher, 2010, р. 16]. Для Аргентины, Чили,
Уругвая, Сальвадора, Испании, Греции, Южной Африки,
13
Камбоджи и др. проблема «трудного прошлого» стала од¬
ним из принципиальных моментов трансформации авто¬
ритарных режимов, причем решалась она по-разному [The
Politics of Memory, 2001]. Опыт посткоммунистических
стран Восточной Европы в какой-то степени может ин¬
терпретироваться как часть этого тренда: демократизация
политического режима делает возможной публичную арти¬
куляцию версий коллективного прошлого, которые прежде
подавлялись и замалчивались; при этом «возрожденная
память» нередко оказывается удобным ресурсом для реше¬
ния актуальных политических задач [Mink, 2008]. Кроме
того, в процессе трансформации жестких авторитарных
режимов встает вопрос о восстановлении нарушенных
прав и наказании виновных (transitional justice). Здесь
стоит отметить, что современные практики обращения с
прошлым в политических контекстах следуют междуна¬
родным правилам, сложившимся после Второй мировой
войны. Действия союзников, направленные на наказание
виновных в военных преступлениях и дискредитацию гер¬
манского нацизма и японского милитаризма, создали пре¬
цедент обращения с прошлым, на который продолжают
ориентироваться спустя десятилетия [Ash, 2004; Маколи,
2011 и др.].
Вместе с тем история оказывается предметом полити¬
ческих споров не только в странах, переживающих смену
режимов. Актуализацию прошлого в посткоммунистиче¬
ских и постсоветских странах с не меньшим основанием
можно связать с некоторыми региональными процессами,
в частности с европейской интеграцией, которая на протя¬
жении последних десятилетий является весьма значимым
фактором, определяющим национальные режимы памяти в
Европе [Muller, 2004; Judt, 2004; Karlsson, 2010; Торбаков,
2012 и др.]. С канонизацией памяти о холокосте, сыграв¬
шей решающую роль в изменении фокуса с «истории по¬
бедителей» на «историю жертв» [Irwin-Zarecka, 1994; Judt,
14
2004; Kattago, 2009 и др.]. Или с динамикой «проработки»
памяти о травматическом опыте Второй мировой войны,
которая отчасти отражает поколенческие сдвиги, а отчасти
является следствием внутриполитических и региональ¬
ных процессов, о которых шла речь выше [Rousso, 1991;
Mink, 2008; Kattago, 2009; Malksoo, 2009 и др.]. Наконец,
во многих посткоммунистических странах свою лепту в
политизацию прошлого вносят свежие травмы недавних
этнополитических конфликтов [Zakosek, 2007].
Превращению истории в предмет политики в немалой
степени способствовало изменение подходов к политиче¬
ской адаптации этнокультурных, расовых, религиозных и
гендерных различий, обобщенно называемое мультикуль-
турализмом, который также стимулирует разработку новых
исторических нарративов, отражающих игнорировавший¬
ся прежде опыт подчиненных групп и ставит под сомнение
моральные основания доминировавших ранее концепций
[Heisler, 2008, р. 17-19]. При этом зачастую речь идет не
только о символическом признании, но и о материальной
компенсации групповых травм, причиненных в прошлом.
Наконец, некоторые исследователи связывают со¬
временную «историзацию» политики со структурными
изменениями интеллектуального контекста, в котором
воображаются современные общества, принципиально
новым отношением к прошлому, обусловленному исчезно¬
вением традиционных обществ, «основанных на памяти»
[Nora, 1996]; распадом «больших нарративов», опирав¬
шихся на идеологии-мировоззрения, которые определяли
политическую картину мира в XIX в. и на протяжении зна¬
чительной части XX в.1 [Mink, 2008; Копосов, 2013]
1 Правда, некоторые авторы считают возможным говорить
о развитии нового «большого нарратива» - нарратива глоба¬
лизации, который, впрочем, пока мало затронул практику
15
Очевидно, что в каждом конкретном случае склады¬
вается особая комбинация факторов, способствующих
политической актуализации прошлого. Однако необходи¬
мо учитывать и кумулятивные эффекты «историзации»
политики в качестве глобальной тенденции: во-первых,
опыт политической работы с прошлым поддается перено¬
су и иногда начинает восприниматься как норма, к кото¬
рой апеллируют участники дискуссий в других странах1
[Fiimemore, Sikkink, 1998, р. 893—894]; во-вторых, кон¬
фликты «памятей» нередко имеют международный ха¬
рактер; в-третьих, все описанные выше факторы так или
иначе влияют на изменение ментальных «систем коорди¬
нат», в которых укоренены современные политические
практики. Поэтому, несмотря на очевидную специфику
российского случая, было бы неправильно рассматривать
его в отрыве от региональных и мировых тенденций.
Проблема понятийного аппарата
Вопросы, связанные с использованием и интерпрета¬
цией прошлого в политических контекстах, в последние
годы стали предметом пристального внимания представи¬
телей разных социальных наук - историков, социологов,
политологов, исследователей международных отношений,
историописания, если не считать интереса к мировой истории
[Strath, 2006, р. 33-34].
1 В качестве примеров можно привести Нюрнбергский
процесс, создавший прецедент наказания виновных в военных
преступлениях; институционализацию памяти о холокосте
в Европе в 1960-1980-х гг., оказавшую существенное влия¬
ние на паттерны реализации социальной роли жертвы; опыт
«пакта Монклоа» в Испании и «проработки прошлого» в ФРГ
(начиная с 1960-х гг.), который нередко рассматривается в ка¬
честве успешных моделей преодоления «трудного прошлого»,
способных служить ориентирами для других стран.
16
психологов, культурологов и др. В этом корпусе литерату¬
ры имеются и работы, посвященные российскому случаю
[Зубкова, Куприянов, 1999; Merridale, 2003; Зверева, 2004;
Феретти, 2004; Onken, 2007; Wertsch, 2008; Kaplan, 2009;
Копосов, 2011; Миллер, 20126; Ачкасов, 2012; Торбаков,
2012; Lamelle, 2012 и др.]. Понятийный аппарат этих и
других исследований не отличается единообразием: речь
идет об «исторической политике» [Heisler, 2008; Torsti,
2008; Миллер, 2012а, б], «политике прошлого» [Art, 2006],
«политике памяти» [Копосов, 2011; Ачкасов, 2013], «кол-
лекгивной/общественной памяти» [Smith К., 2002; Muller,
2004; Wertsch, 2008; Malksoo, 2009 и др.], «исторической
памяти» [Boyd, 2008; Winter, 2008], «политическом ис¬
пользовании истории» [Kangaspuro, 2011], «режимах памя¬
ти» [Langenbacher, 2010; Onken, 2007], «культурах памяти»
[Никжентайтис, 2012; Журженко, 2013], «играх памяти»
[Mink, 2008; Mink, Neumayer, 2013] и др. Этот терминоло¬
гический плюрализм в полной мере отражает состояние
описываемого проблемного поля: усилия разрабатыва¬
ющих его исследователей объединены скорее объектом
(memory studies), нежели схожими методологическими
подходами и стремлением к систематической эмпириче¬
ской проверке немногочисленных пока теорий.
Наиболее активно разрабатывается понятие коллек¬
тивной памяти, введенное в научный оборот в 1920-х гг
французским социологом М. Хальбваксом для изучения
влияния социальных структур на индивидуальное созна¬
ние. Развивая идеи Э. Дюркгейма, Хальбвакс доказывал,
что «есть коллективная память и социальные рамки памя¬
ти; и именно в той мере, в какой индивидуальное сознание
помещается в эти рамки и участвует в этой памяти, оно
способно к акту вспоминания» [Halbwachs, 1992, р. 38].
Это обусловлено тем, что «мы не можем думать о со¬
бытиях собственного прошлого, не рассуждая о них. Но
обсуждать что-то означает устанавливать связи между на-
17
шими мнениями и мнениями других людей нашего круга
внутри единой системы идей» [ibid., р. 53]. Таким образом,
именно членство в группе и участие в ее дискурсе фор¬
мируют социальные рамки памяти, не только «оформляя»
индивидуальные воспоминания, но и позволяя «помнить»
о событиях, в которых мы не участвовали непосредствен¬
но. Концепция коллективной памяти рассматривает пред¬
ставления о прошлом не столько как достояние индивидов,
сколько как производное от символов и нарративов, до¬
ступных в публичном пространстве, а также социальных
средств их сохранения и передачи. Очевидно, что это по¬
нятие имеет избыточный объем, охватывая широкий круг
явлений: от воспоминаний участников событий и устной
истории до традиций, мифов, дискурсов, ритуалов ком-
меморации и в некотором смысле даже языка и культуры.
Оно конкурирует с другими понятиями, описывающими те
же явления в других теоретических ракурсах, такими как
историческое сознание, миф, политическая культура и др.
В меньшей степени эта конкуренция проявляется по от¬
ношению к «истории»: следуя традиции, заложенной еще
М. Хальбваксом [Хальбвакс, 2005], большинство исследо¬
вателей не смешивают эти понятия1.
1 Классическое обоснование различения истории и па¬
мяти дал французский историк Пьер Нора. По мысли Нора,
«память и история - это далеко не синонимы, они во многих
отношениях противоположны друг другу» [Nora, 1996, р. 3].
Представление о дистанции между «целостной памятью» тра¬
диционных обществ, «всемогущей, спящей, бессознательной,
ориентированной на настоящее... бесконечно циклически
воспроизводящейся», и нашей современной формой памяти,
«которая есть не что иное как история, вечно меняющаяся и
производящая отбор» [ibid., р. 2], лежит в основе его концеп¬
ции «мест памяти». В отличие от памяти, которая является
«живым», спонтанным и нерефлексивным процессом, исто¬
рия - это реконструкция того, чего больше нет, рациональная
18
Эта всеохватность, возможно, способствовала тому, что
«коллективная/социальная память» стала одной из клю¬
чевых категорий «культурного поворота» в гуманитарных
науках, спровоцировавшего в последние десятилетия на¬
стоящий бум исследовательской литературы. Как заме¬
тил один из авторов, «категории “память” и “культура”...
теснят понятия “общество” или “класс”» [Kattago, 2009,
р. 378]. Однако у данного подхода есть немало критиков,
которые указывают, что разрастающаяся на глазах сфе¬
ра исследований социальной памяти представляет собой
«трансдисциплинарное предприятие, лишенное центра и
собственной парадигмы» [Olick, 1999, р. 338]. Что, безус¬
ловно, справедливо.
В этой связи некоторые авторы призывают отказаться
от излишне широкого понятия, заменив его более точными
инструментами анализа. По мнению одного из таких ре¬
визионистов, Дункана Белла, «рассуждая о “коллективной
памяти”, мы смешиваем целый ряд разных, хотя и взаи¬
мосвязанных когнитивных процессов. Это ведет не только
к семантической путанице, но и маскирует очень важное
политическое явление - роль, которую коллективные вос¬
поминания могут играть в изменении того, что будет обо¬
значено как “главный миф” нации» [Bell, 2003, р. 65]. Белл
предлагает различать феномен памяти, который суще¬
ствует исключительно в индивидуальном сознании, и то,
для чего он вводит термин mythscape - мифологическое
пространство, т. е. «дискурсивную сферу, где происходит
борьба за контроль над памятью людей и имеет место бес¬
конечное формирование, оспаривание и ниспровержение
националистических мифов» [ibid., р. 66].
репрезентация прошлого, основанная на критическом отбо¬
ре. Принцип различения истории и памяти разделяют и обо¬
сновывают многие исследователи [Rousso, 1991; Smith, 2002;
Muller, 2004; Wertch, 2008 и др.].
19
Другие критики сложившейся исследовательской прак¬
тики признают, что в подходе, при котором «разные фор¬
мы мнемонической деятельности и обращения к истории
рассматриваются во взаимосвязи», «безусловно что-то
есть» [Olick, 1999, р. 345], и пытаются преодолеть кон-
цептные натяжки, дифференцируя различные проявления
коллективной памяти. Многие авторы идут по пути, пред¬
ложенному Беллом, не отказываясь от термина «память»:
они предлагают различать коллективную (социальную,
национальную) память как «организационный принцип,
который мыслящие в национальных категориях индивиды
используют, организуя свою историю» [Snyder, 2004, р. 38]
и массовую индивидуальную память людей1 [Muller, 2004,
р. 20-21]. Другие же пытаются разработать таксономии,
позволяющие дифференцировать различные проявления
коллективной памяти. Примеры такого подхода - клас¬
сификация четырех форматов памяти (индивидуальной,
социальной, политической, культурной), предложенная
А. Ассман [Assmann, 2004; Ассман, 2014, с. 29-34], уже
упоминавшаяся концепция режимов памяти Э. Лангенба-
хера [Langenbacher, 2010] или обобщение опыта изучения
социальной памяти «сверху» и «снизу» в работе Е.-К. Он-
кен [Onken, 2010]. В целом нужно признать, что посте-
1 Еще раньше сходное решение было предложено Джеф¬
фри Оликом. Продемонстрировав, что в рамках исследова¬
тельской традиции, предложенной М. Хальбваксом, термин
«коллективная память» фактически используется в логике
двух разных онтологий и методологий, он обосновал не¬
обходимость разделения двух категорий - собирательной
(collected) памяти, ориентированной на методологический ин¬
дивидуализм, и коллективной (collective) памяти, опирающей¬
ся на принцип холизма. Во втором случае предметом изучения
должны быть идеи и институты, развитие которых не зависит
от интересов, способностей или действий индивидов [Olick,
1999].
20
пенно формируется определенный теоретический аппарат
для комплексного исследования феноменов социальной
памяти.
Однако это не снимает методологические проблемы,
которые возникают при попытке обнаружить связи между
разными ипостасями коллективной/социальной памяти - в
чем, собственно, и заключается смысл сохранения обще¬
го понятия. Есть множество работ, посвященных анализу
публичных дискурсов о прошлом, которые, как предпо¬
лагается, конструируют социальные рамки памяти. И есть
постоянно прирастающий массив социологических иссле¬
дований, отражающих динамику массовых оценок исто¬
рических событий и личностей. Но трудно установить
эмпирически достоверную связь между первым и вторым
Лишь в немногих проектах ставилась задача проследить
каналы передачи, распространения и восприятия «памя¬
ти». Тем не менее и они по большому счету уязвимы для
критики, поскольку невозможно зафиксировать все много¬
образие коммуникаций, в которых живет и меняется кол¬
лективная память, в рамках одного исследования.
Одна из первых попыток такого рода - классическая
работа французского историка Анри Руссо «Синдром
Виши. История и память во Франции с 1944 г.» [Rousso,
1991 (на франц. яз. - в 1987 г.)]. Ее автор не только просле¬
дил эволюцию доминирующих версий памяти о трудном
для национального самовосприятия периоде фашистской
оккупации, но и попытался проанализировать динами¬
ку их распространения и восприятия на основе данных о
продаже книг и просмотре фильмов с соответствующей
тематикой, писем в газеты и опросов общественного мне¬
ния. Однако эта методика подверглась критике. В статье,
посвященной разбору недостатков концепции коллектив¬
ной памяти, Алон Конфино небезосновательно упрекнул
автора «Синдрома Виши» в том, что его подход приводит
к заранее запрограммированным выводам: начиная иссле-
21
дование с анализа конструирования дискурса и просле¬
живая его восприятие, он обнаруживает подтверждения
искомых изменений, потому что ищет именно их [Confino,
1997, р. 1396-1397]. Еще одна претензия Конфино к рабо¬
там Руссо и других авторов, занимающихся изучением по¬
литического использования прошлого, связана с редукцией
сложного социального феномена памяти к его политиче¬
ским аспектам. По его словам, «память, будучи определя¬
ема в терминах политики и политического использования,
становится иллюстрацией или отражением политическо¬
го развития и зачастую сводится к идеологии» [Confino,
1997, р. 1393]. Формально Конфино прав: действительно,
рассматривая память о Виши «сверху вниз», т. е. концен¬
трируясь на дискурсе политиков и интеллектуалов, Руссо
изолирует ее от «широких паттернов исторической мен¬
тальности французского общества» [ibid., р. 1394]. Однако
для изучения первого и второго требуются разные подхо¬
ды. В таком случае, возможно, продуктивнее исследовать
«политику памяти» и представления о коллективном про¬
шлом, обнаруживаемые в массовом сознании, с помощью
разных аналитических инструментов. По-видимому, иссле¬
довательское поле, обозначаемое термином социальной/
коллективной памяти, слишком разнородно, чтобы можно
было рассчитывать на построение общих теорий. Более
строгая методологическая рефлексия возможна в рамках
его специализации и сопряжения с теоретическими под¬
ходами, разрабатываемыми отдельными социальными
науками (что не отменяет коммуникации поверх дисципли¬
нарных границ, но делает ее более осмысленной).
Политическое использование прошлого
как составляющая символической политики
Мне, как политологу, представляется перспективным
изучение практики политического использования прошло-
22
го в качестве одного из центральных элементов символи¬
ческой политики. Опираясь на концепцию символической
борьбы П. Бурдье [Бурдье, 2007 и др.], под этим термином
я понимаю деятельность, связанную с производством раз¬
личных способов интерпретации социальной реальности и
борьбой за их доминирование в публичном пространстве.
Рассматриваемая таким образом символическая политика
является не противоположностью, а скорее специфиче¬
ским аспектом «реальной» политики [Малинова, 2012; Ма-
линова, 2013].
Данный подход к исследованию проблематики соци-
альной/коллективной памяти разделяют многие политоло¬
ги, работающие во области memory studies. Именно в этом
ключе выполнено фундаментальное исследование Кэтлин
Смит о мобилизации коллективной памяти российскими
политическими элитами в 1990-х гг [Smith К., 2002], про¬
должением которого отчасти является настоящая книга.
Рассматривая «символическую деятельность как основу
авторитета, который позволяет осуществлять власть в со¬
временных государствах без применения силы», Смит под¬
черкивает, что исследование представлений о прошлом,
развиваемых элитой, - это не то же самое, что исследо¬
вание коллективной памяти. Тем не менее анализ конку¬
ренции потенциально приемлемых представлений о том,
что значит быть членом нации, - это один из существен¬
ных аспектов формирования национальной идентичности
[ibid., р. 6, 8].
Сходный подход применяет и Дэвид Арт в сравнитель¬
ном исследовании политических споров о нацистском про¬
шлом в Германии и Австрии [Art, 2006]. По мнению Арта,
публичные дебаты являются важным инструментом обще¬
ственных изменений, ибо они «формируют новые фреймы
для интерпретации политических проблем, меняют идеи и
интересы политических акторов, трансформируют струк¬
туру отношений между ними и переопределяют границы
легитимного политического пространства» [ibid., р. 14].
23
Сравнивая динамику дискуссий о нацистском прошлом
в Германии и Австрии, на примере судеб правых партий
в этих странах он пытается показать, как публичный дис¬
курс меняет политическую среду.
Та же логика лежит в основе упоминавшейся выше
концепции мифологического пространства (mythscape)
Д. Белла, которая предлагает рассматривать национальные
исторические нарративы как динамический результат на¬
личных отношений власти и доминирования [Bell, 2003,
р. 73-74]. Подобный поход применяют и авторы коллек¬
тивной монографии «История, память и политика в Цен¬
тральной и Восточной Европе: Игры памяти»: действия
акторов, использующих «историзирующие стратегии»
ради достижения тех или иных политических эффектов,
рассматриваются как реакция на процессы, протекающие
на внутриполитических и международных аренах [Mink,
Neumayer, 2013].
Сходная теоретическая основа в работах Джеймса Уэрт-
ша [Wertsch, 2002; Wertsch, 2008] и Грема Гилла [Gill, 2011;
Gill, 2013], посвященных анализу российского материала.
Дж. Уэртш попытался взглянуть на официальные истории,
производимые современными государствами, свозь при¬
зму концепции «сообществ текстов» (textual communities) -
коллективов, мышление и действие которых опосредованы
общими текстовыми ресурсами, формирующими то, что
принято называть коллективной памятью. Рассматривая
постсоветскую Россию как «уникальную естественную ла¬
бораторию для изучения динамики коллективной памяти»
[Wertsch, 2008, р. 87], он попытался выявить факторы ее
«преемственности в разгар великих перемен» [ibid., р. 88].
Один из таких факторов Уэршт усматривает в том, что но¬
вые концепции русской истории (в частности, включенные
в школьные учебники 1990-х гг) воспроизводят традици¬
онный нарративный шаблон «победы-над-враждебными-
силами». В свою очередь Г. Гилл в двух последовательно
изданных монографиях исследовал формирование и рас-
24
пад того, что он называет «советским метанарративом»,
т. е. совокупности дискурсов, объясняющих настоящее и
проектирующих будущее. По мысли австралийского иссле¬
дователя, выступая в качестве упрощенной формы офици¬
альной марксистско-ленинской идеологии, метанарратив
был «главным культурным посредником между режимом
и народом» [Gill, 2011, р. 3]. Анализируя широкий корпус
текстов, он пытается найти причины, по которым постсо¬
ветской политической элите пока не удается сконструиро¬
вать новый «символический нарратив», опирающийся если
не на формальную идеологию, то на систему символов,
способных «объяснить распад советского эксперимента
и то, почему постсоветский режим является его более до¬
стойной заменой» [Gill, 2013, р. 7]. Несмотря на очевидные
различия терминологии и методик, эти работы объединяет
стремление понять механизмы трансформации коллектив¬
ной памяти, связанные с конкуренцией ее интерпретаций и
борьбой за гегемонию.
В качестве инструментов символической политики
выступают не только вербально оформленные «идеи»
(принципы, концепции, доктрины, программы и т. п.), но
и невербальные способы означивания (образы, жесты, гра¬
фические изображения и др.). Она выражается не только
в «словах», но и в «делах», поэтому для ее изучения тре¬
буется сочетать приемы анализа дискурсов, политических
стратегий и технологий. Предлагаемый подход ориенти¬
рует не только на изучение совокупности действий кол¬
лективных акторов - государства, политических партий,
церкви и т. п. (т. е. на анализ symbolic policy). Он также
побуждает фокусировать внимание на процессе взаимо¬
действия (конкуренции, поддержки, сопряжения и др.)
между разными способами интерпретации социальной ре¬
альности, который в логике различения, имеющего место в
английском языке, можно обозначить как symbolic politics.
Наконец, данный подход нацелен на изучение специфи¬
ческих механизмов, обусловливающих наблюдаемые ре-
25
зультаты такого взаимодействия - доминирование одних
способов интерпретации социальной реальности и марги¬
нализацию других, трансформацию дискурсов под влияни¬
ем конкуренции и т. и.
Объектом моего исследования является использование
и интерпретация коллективного прошлого в символиче¬
ской политике, проводимой от имени современного Рос¬
сийского государства. Не будучи единственным актором
данного поля, государство занимает на нем особое по¬
ложение [Wertsch, 2002, р. 67-72], поскольку обладает
возможностью навязывать поддерживаемые им способы
интерпретации социальной реальности путем властного
распределения ресурсов, правовой категоризации, прида¬
ния символам «официального» статуса, а также благодаря
способности представлять Нас на международной арене и
т. п. В связи с этим публичные высказывания акторов, вы¬
ступающих от имени государства или участвующих в при¬
нятии властных решений, имеют особое значение и, как
правило, становятся объектами соотнесения для других
участников коммуникации. Вместе с тем доминирование
интерпретаций, артикулируемых властвующей элитой, не
предрешено: даже если «нужная» нормативно-ценностная
система навязывается насильственными методами, у инди¬
видов остается возможность «лукавого приспособления»1
и двоемыслия. Оспаривание существующего социального
порядка - не менее важная часть символической полити¬
ки, чем его легитимация. При этом конфигурация публич¬
ной сферы оказывает значимое влияние на символические
стратегии и возможности различных игроков данного поля
[Идейно-символическое... 2011, с. 259-283].
1 Сотасно концепции Ю. А. Левады, советские идеоло¬
гические практики, навязывавшие индивидам универсальную
нормативно-ценностную систему, формировали «человека лу¬
кавого», соташавшегося с предписываемыми установками и
одновременно искавшего способы их обойти [Левада, 2000].
26
К числу акторов той области символической полити¬
ки, которую иногда называют «политикой памяти», обыч¬
но относят политиков, судей, журналистов, религиозных и
социальных лидеров, публичных интеллектуалов, предста¬
вителей творческих профессий и историков, участвующих
в производстве и артикуляции интерпретаций коллектив¬
ного прошлого, адресованных широкой публике [Art, 2006,
р. 14; Mink, 2008, р. 478; Langenbacher, 2010, р. 31; Миллер,
2012а, с. 14; Копосов, 2011, с. 44]. Большинство исследо¬
вателей признают, что участие в «политике памяти» - удел
элит, которые располагают символическим капиталом, при¬
дающим авторитет их высказываниям, и имеют доступ к
инструментам коммуникации. Предполагается, что в ходе
публичных дискуссий формируются и консолидируются
фреймы, способные влиять на политическое поведение и
становиться устойчивыми элементами политической куль¬
туры [Art, 2006, р. 1]. Разумеется, это не единственный
канал формирования фреймов коллективной памяти: как
справедливо подчеркивает польско-канадский социолог
И. Ирвин-Зарецка, последние могут складываться под вли¬
янием разных источников информации, в том числе и без
целенаправленных усилий элит, под влиянием социальных
трансформаций [Irwin-Zarecka, 1994, р. 4, 7]. Как мы уже
убедились, в этом заключается главная трудность изучения
«коллективной памяти». Однако вряд ли можно сомневать¬
ся, что общественные споры дают ценный материал для из¬
учения символической политики как сферы конкуренции
разных интерпретаций социальной действительности.
Д. Арт предложил полезную концептуализацию данно¬
го формата коммуникации. Под общественными спорами
(public debates) он предлагает понимать «серию обменов
между политическими акторами, принадлежащими к элите,
которые отражаются СМИ». Чтобы выделить дискуссии,
способные иметь значимые последствия для обществен¬
ного сознания, он вводит три дополнительных критерия:
широту (наличие широкого круга участников, представляю-
27
щих разные части спектра, а также собственно дискуссии,
т. е. реакций на высказывания других акторов), продол¬
жительность (не менее года) и интенсивность (частоту
отражения дискуссии в СМИ - этот критерий зависит от
редакционной политики конкретных изданий) [Art, 2006,
р. 30-33]. Модель, разработанная Аргом, позволяет уточ¬
нить круг основных участников споров о прошлом с учетом
«веса» их высказываний и таким образом установить акто¬
ров символической политики в значении politics.
Сложнее определить круг лиц, определяющих симво¬
лическую политику в смысле policy, т. е. в качестве сово¬
купности мер, осуществляемых от имени коллективного
актора - например, государства. Хотя в некоторых случаях
формальные полномочия лиц, принимающих решения, за¬
креплены правовыми актами, реальный процесс выработки
таковых, как правило, скрыт от таз публики. Например,
факт внесения законопроекта конкретным депутатом не
обязательно указывает на круг его действительных иници¬
аторов (правда, результаты голосования позволяют опре¬
делить его сторонников и противников). В подготовке
официальных речей, с которыми выступают высшие долж¬
ностные лица государства, как правило, участвует аппарат
помощников и спичрайтеров. Процесс выбора темы и со¬
держания выступления, равно как и авторство конкретных
идей - в том числе тех, которые вызывают общественную
реакцию и оказываются поворотными точками дискур¬
са, - носит непубличный характер. Хотя видимыми акто¬
рами государственной символической политики являются
уполномоченные органы и должностные лица (глава го¬
сударства, правительство, парламент), в каком-то смысле
ее можно рассматривать как результат коллективной дея¬
тельности властвующей элиты, точнее, той ее части, кото¬
рая участвует в подготовке и принятии соответствующих
решений.
Продвигая или поддерживая определенные интерпрета¬
ции коллективного прошлого, представители властвующей
28
элиты преследуют политические цели, которые не всег¬
да связаны собственно с «исторической политикой» в том
значении, которое ей придает А. Миллер [Миллер, 2012а]:
они стремятся легитимировать собственную власть, укре¬
пить солидарность сообщества, оправдать принимаемые
решения, мобилизовать электоральную поддержку, по¬
казать несостоятельность оппонентов и проч. Возможно¬
сти использования прошлого для реализации этих целей
зависят от уже сложившегося репертуара исторических
событий и фигур, которые известны широкой аудитории
и способны вызвать ожидаемую реакцию. Вместе с тем
властвующая элита располагает существенными ресур¬
сами для трансформации этого репертуара, причем не
только за счет риторической реинтерпретации. Она имеет
эксклюзивные возможности как для номинации событий
прошлого в целях политического использования (в форме
установления национальных праздников и практик офи¬
циальной коммеморации, государственных наград, симво¬
лической реорганизации пространства и проч.), так и для
трансляции определенных версий коллективной памяти
(путем регулирования школьных программ, государствен¬
ных инвестиций в культуру и др.). В то же время симво¬
лические действия власти - легкая мишень для критики
оппонентов: опыт многих стран свидетельствует, что они
часто становятся предметом публичных дебатов (в том
числе и потому, что, по мнению Д. Арта, «не требуется
особой подготовки, чтобы сформировать собственное мне¬
ние по этим проблемам» [Art, 2006, р. 3]). Другими слова¬
ми, для властвующей элиты «актуализированное» прошлое
выступает и как ресурс, применение которого сопряжено с
определенными выгодами и рисками, и как объект симво¬
лических инвестиций.
Второй аспект представляется особенно важным, когда
на повестке дня стоит конструирование новой макрополи¬
тической идентичности, как это происходит в современ-
29
ной России. Очевидно, что ее «тысячелетняя история»1
представляет собой хотя и богатый, но трудный ресурс,
который требуется целенаправленно адаптировать к но¬
вым обстоятельствам. События, память о которых настой¬
чиво культивировалась в советский период, впоследствии
подверглись переоценке. В то же время многое из того,
что служило опорой идентичности до революции, в СССР
оказалось «репрессировано» и предано забвению. Кон¬
струирование постсоветского нарратива, связывающего
прошлое с настоящим и будущим, предполагает исполь¬
зование разных стратегий: что-то требуется «вспомнить»,
что-то - попытаться «забыть», что-то - пересмотреть и
переоценить. При этом, особенно вначале, основной упор
приходилось делать на трансформацию и/или подавление
исторической памяти, «актуализированной» прежним ре¬
жимом- не только потому, что на «активизацию» «допол¬
нительных» ресурсов требовалось время, но и потому, что
необходимо сформировать новые смысловые рамки для
«памяти» о сравнительно недавнем прошлом, основатель¬
но укорененном в «инфраструктуре», доставшейся в на¬
следство от СССР.
Этим обстоятельством определяется логика настояще¬
го исследования. Я начну свой анализ политического ис¬
пользования прошлого российской властвующей элитой с
опыта реинтерпретации двух центральных событий совет¬
ского нарратива - Октябрьской революции 1917 г. и побе¬
ды в Великой Отечественной войне. Как точно подметил
1 Именно так наследие коллективного прошлого позици¬
онируется в современном политическом дискурсе. Вместе с
тем очевидно, что это - условная конструкция: историописа-
ние событий, имевших место на современной территории Рос¬
сии, существует и для более отдаленных периодов, а выбор
«точки отсчета» для генеалогии современного государства -
это политическое решение, всегда уязвимое для критики.
30
А. Руссо, «событийно ориентированный подход полезен
тем, что позволяет в должной мере отразить противоречия,
скрывающиеся за всякой, казалось бы, “коллективной”
репрезентацией прошлого» [Rousso, 1991, р. 4]. В данном
случае он позволит оценить слова и действия политиков,
выступавших от имени государства, в контексте симво¬
лического взаимодействия с другими акторами. Характер
этого взаимодействия - резко конфликтный в первом слу¬
чае и основанный на консенсусе относительно значимости
события во втором - во многом объясняет выбор исполь¬
зуемых властью стратегий и технологий. Затем, чтобы из¬
учить эволюцию репертуара используемого «актуального
прошлого» на протяжении постсоветского периода, я обра¬
щусь к анализу риторики президентов РФ. Наконец, опи¬
раясь на собственные наблюдения и исследования других
авторов, я попытаюсь показать, каким образом эволюция
практики использования прошлого политиками, выступаю¬
щими от имени государства, связана с ключевыми дилем¬
мами современной российской идентичности.
В заключение хотелось бы поблагодарить коллег, чья
помощь и критика были чрезвычайно полезны для моей
работы: А. И. Миллера, М. Липман, В. Н. Ефремову,
Ю. Шерер, И. Торбакова, а также М. Кангаспуро, М. Ки-
винена, Ю. Лассило, Т. Журженко и других исследователей
из Александровского института (г. Хельсинки), краткое
пребывание в творческой атмосфере которого способство¬
вало кристаллизации замысла этой книги. Особые слова
признательности - Российскому гуманитарному научному
фонду, благодаря поддержке которого был реализован этот
проект.
1. Переосмысление символа
Октябрьской революции
в постсоветской России
Великая Октябрьская социалистическая революция
была ключевым элементом советского исторического нар¬
ратива, мифом основания Советского государства1. Собы¬
тия, выполняющие такую функцию, не только знаменуют
поворотный момент в истории сообщества, но и символи¬
зируют вектор его развития. В силу этого в политических
дискурсах они фигурируют в качестве центральных пун¬
ктов нарративов, описывающих генеалогию современных
макрополитических сообществ, и одновременно - в роли
символов, способных порождать различные цепочки ас¬
социаций. Без реинтерпретации событий октября 1917 г.
было невозможно сконструировать новую смысловую схе¬
му, объясняющую связь между коллективным прошлым,
настоящим и будущим. Поэтому изучение адаптации сим¬
вола Октября к новому контексту позволяет увидеть мно¬
гие проблемы, с которыми сталкивалась символическая
политика власти в постсоветской России.
Советская власть с самого начала уделяла большое
внимание коммеморации Октябрьской революции, и к мо¬
менту распада СССР память о ней была основательно за¬
креплена не только в школьных учебниках истории, но и в
названиях городов, улиц, заводов и колхозов, в символах и
ритуалах, памятниках и музеях, художественной литерату¬
1 Миф основания (foundation myth) - это история о мо¬
менте «начала» группы, политической системы или какой-то
области деятельности, который открывает перспективу опре¬
деленного будущего. Мифы этого типа несут в себе идею, что
«потом» все будет по-другому (лучше) и что новая система
избавлена от того, что было неприемлемо в старой [Schopflin,
1997, р. 33].
32
ре, фильмах, произведениях изобразительного искусства,
песнях и даже в анекдотах. Разумеется, официальный нар¬
ратив не оставался неизменным: он трансформировался
по мере того, как менялось видение перспективы «строи¬
тельства коммунизма», корректировался в свете сталин¬
ских чисток и хрущевской борьбы с культом личности,
достраивался с учетом новых событий - победы в Великой
Отечественной войне, возникновения мировой социали¬
стической системы и т. п. [Неег, 1971; Gill, 2011, ch. 3-4;
Копосов, 2011, гл. 3 и др]. Но вплоть до конца 1980-х гг
эти изменения не затрагивали центральный сюжет нарра¬
тива, определявший интерпретацию событий 1917 года:
победа Великой Октябрьской социалистической револю¬
ции рассматривалась как начало триумфального движе¬
ния к социализму, выводящего нашу страну в авангард
социального прогресса. Начатая в 1985 г. перестройка
открыла путь для более радикального пересмотра офи¬
циального нарратива и тем самым - для переоценки Ок¬
тябрьской революции.
Инновации особенно очевидны при сравнении
двух юбилейных докладов генеральных секретарей ЦК
КПСС - Л. И. Брежнева в 1977 г. и М. С. Горбачева в
1987 г. Доклад, посвященный 60-летию Октября, рисо¬
вал картину славного прошлого и блестящего будуще¬
го Советской страны, оставляя «за кадром» неудобные
подробности политической истории XX в. В частности,
характеристика 1920-1930-х гг. сводилась к простой кон¬
статации: «В исторически минимальные сроки огромная
отсталая страна превратилась в страну высокоразвитой
индустрии и коллективизированного сельского хозяйства».
Основное внимание в докладе 1977 г уделялось концепции
«развитого социализма» и достижениям СССР как страны,
«занимающей достойное место на... самых передовых ру¬
бежах» прогресса и лидера мировой социалистической си¬
стемы [Брежнев, 1977].
33
Юбилейный доклад 1987 г. резко контрастировал
с этой беспроблемной картиной советского прошлого.
Стремясь найти в советском мифе основания аргументы,
подкрепляющие идею перестройки как «придания соци¬
ализму нового качества» [Горбачев, 1987, с. 4], М. С. Гор¬
бачев предложил новую интерпретацию «ленинского»
периода советского нарратива, основанную на противо¬
поставлении творческого подхода вождя революции (бла¬
годаря которому «за короткий срок мы проделали то, на
что другим понадобились столетия»), «догматизму» «ста¬
линского» периода («тогда уверовали в универсальную
эффективность жесткой централизации, в то, что ко¬
мандные методы - самый короткий... путь к решению лю¬
бых задач» [там же, с. 3]). Перестройка представлялась как
возвращение к ленинской концепции строительства соци¬
ализма. Однако, признавая недостатки сталинской «адми¬
нистративно-командной системы», лидер КПСС не только
оставлял без изменений основную сюжетную линию офи¬
циального нарратива («Ни грубейшие ошибки, ни допу¬
щенные отступления от принципов социализма не могли
свернуть наш народ, нашу страну с того пути, на кото¬
рый она встала, сделав выбор в 1917 году» [там же]), но
и решительно отвергал сомнения в правильности выбран¬
ного на рубеже 1920-1930-х гг курса на ускоренную инду¬
стриализацию. Таким образом, корректируя официальный
нарратив, Горбачев шел по пути, сложившемуся после
XX съезда партии. Говоря словами американского истори¬
ка, он продолжал «писать Гамлета в отсутствие главного
героя» - «создавал образ партии как непогрешимого кол¬
лектива... и не позволял дискредитировать систему, в ко¬
торой он процветал» [Неег, 1971, р. VIII]. Октябрь 1917-го
сохранял значение мифа основания - по крайней мере в
официальном дискурсе.
Однако по мере того как с расширением гласности сни¬
мались запреты на обсуждение «белых пятен истории» и
критическое осмысление советского опыта, становилось
34
ясно, что сохранение верности идее социализма требует
более решительного пересмотра нарратива коллективно¬
го прошлого: нужно было объяснить, как получилось, что
в СССР оказался построен «не тот социализм». Поначалу
«перестроечный» дискурс развивался именно по такому
пути1: не ставя под сомнение верность выбора, сделан¬
ного в Октябре, а авторы многочисленных публикаций
вновь и вновь анализировали историю в поисках момен¬
та, когда «что-то пошло не так». Рано или поздно эти со¬
мнения должны были коснуться и Октябрьской революции
как начальной точки «советского эксперимента». Пытаясь
скорректировать распадающийся официальный нарратив,
26 ноября 1989 г. М. С. Горбачев опубликовал в «Правде»
статью «Социалистическая идея и революционная пере¬
стройка», в которой полемизировал и со сторонниками
сохранения «командно-административной системы», и с
чересчур ретивыми ее критиками, которые утверждали,
что «прошлый путь якобы полностью опрокинул выбор
Октября» [Горбачев, 1989, с. 1]. По-прежнему настаивая,
что революция была «всемирно-историческим прорывом
в будущее», в 1989 г. Горбачев фактически признавал, что
заложенный ею путь не привел к «настоящему» социа¬
лизму. Он писал: «Социализму еще предстоит осознать
себя адекватно, в соответствии с глубинным смыслом,
заложенным в нем как идее изначально» [там же, с. 1].
Перестройка представлялась как революционный процесс
1 Например, знаменитая статья экономиста Н. Шмелева
«Авансы и долги», критиковавшая «административную си¬
стему» управления советской экономикой, завершалась харак¬
терным выводом: «Не эта система свойственна социализму,
как еще считают многие, - наоборот, в нормальных условиях
она противопоказана ему» [Шмелев, 1987, с. 144]. Примеча¬
тельно, что Горбачев тоже использовал в своем юбилейном
докладе термин «административно-командная система», рож¬
денный в «перестроечной» публицистике.
35
исправления недостатков, мешающих проявлению истин¬
ной сути социализма. Это означало существенную коррек¬
тировку смысловой схемы истории XX в.: получалось, что
строительство социализма, начатое в результате Октябрь¬
ской революции, оказалось не столь уж «триумфальным» и
спустя 70 лет стране вновь предстоит пережить «длитель¬
ный процесс революционного обновления». Более того,
критика «административно-командной системы» и при¬
знание преимуществ «рыночной системы» косвенно стави¬
ли под сомнение притязания СССР на место в «авангарде
прогресса».
Из приведенных примеров видно, что распад смысло¬
вой схемы, определявшей рамки памяти о «главном со¬
бытии XX века» на протяжении советских десятилетий,
имел место еще в конце 1980-х гг. Он стал следствием
не только политики гласности, сделавшей «актуальным»
принудительно забытое коллективное прошлое, но и из¬
менений в официальном дискурсе. Как хорошо показал
Г. Гилл, пытаясь облечь перестройку в традиционные со¬
ветские символы, Горбачев наделял их новыми смыслами,
чем разрушал связи между элементами и без того уже из¬
рядно «расшатавшегося» советского «метанарратива» [Gill
2013, р. 15-17]. Казалось бы, после распада СССР это от¬
крывало хорошие перспективы для трансформации фрей¬
мов коллективной памяти об Октябре 1917 г. Властвующей
элите новой России требовалось только подхватить усилия
своих предшественников и развить их «успех». Однако в
1990-х гг. этого не произошло.
«Главное событие XX века»
в идеологических битвах
начала 1990-х гг.
В первые годы существования нового Российского го¬
сударства интерпретация национального прошлого в пу¬
бличной риторике властвующей элиты была подчинена
36
задаче оправдания радикальной трансформации совет¬
ского «тоталитарного» порядка. Цели реформ, начатых в
1992 г, формулировались в духе неозападнического анти¬
коммунистического дискурса, который сложился еще в
годы перестройки [Малинова, 2009, с. 95-108]. Казалось,
что победа «демократов» в августе 1991 г, предотвратив
«возврат к административно-командной системе», откры¬
вает перед Россией перспективу превращения в «нормаль¬
ную» демократическую страну с рыночной экономикой.
По образному выражению министра иностранных дел в
правительстве Ельцина - Гайдара А. В. Козырева, «найм
"сверхзадача” - буквально за волосы себя втащить... в
клуб наиболее развитых демократических держав. Только
на этом пути Россия обретет столь необходимое ей на¬
циональное самосознание и самоуважение, встанет на
твердую почву» [Козырев, 1994, с. 22]. Эта «сверхзадача»
воспринималась элитой первого ельцинского призыва как
радикальное изменение траектории исторического разви¬
тия. Примечательно, что многие «демократы» рассужда¬
ли о грядущих переменах как о волевом акте, требующем
чрезвычайных усилий1. Отталкиваясь от идеологических
оппозиций времен «холодной» войны, властвующая элита
1 Ср. «мюнхгаузеновский» образ Козырева («втащить
себя за волосы») с рассуждениями оппозиционера Ю. Афа¬
насьева («Необычность... нынешней ситуации... в том, что
на эти коренные реформы, на превращение, на прорыв в ци¬
вилизацию должны найти в себе силы мы сами - такие, ка¬
кие мы есть...» [Афанасьев, 1992, с. 11]. В терминах выбора
между двумя стратегиями модернизации - традиционным
(«перенимать не экономические структуры, а результаты,
обеспечивать рост, выжимая из общества все ресурсы») и
новым («взрастить на российской почве институты, подоб¬
ные западным», «укоротить» государство) - описывал позд¬
нее миссию своего правительства и Е. Гайдар [Гайдар, 1995а,
с. 143-144].
37
начала 1990-х гг. интерпретировала постсоветский транзит
в логике историцистской схемы, побуждавшей к тотально¬
му отрицанию советских принципов.
Отношение к дореволюционному наследию было бо¬
лее сложным. Начатые преобразования интерпретиро¬
вались как восстановление связи времен, разорванной в
годы советской власти. Как подчеркивал Б. Н. Ельцин в
своем первом президентском послании Федеральному
Собранию, «разложилась доминировавшая в течение де¬
сятилетий тоталитарная государственная идеология,
выразителем которой была КПСС. На смену приходит
осознание естественной исторической и культурной пре¬
емственности...» [Ельцин, 1994]. Впрочем, реализация
этой установки в символической политике государства
носила избирательный характер. Усилия по «восстанов¬
лению памяти» в большей мере касались недавнего про¬
шлого. Действовала Комиссия при президенте РФ по
реабилитации жертв политических репрессий (соответ¬
ствующий закон был принят еще в октябре 1991 г; ранее,
в апреле того же года, был принят закон «О реабилитации
репрессированных народов»), В общественном дискурсе
продолжалось восстановление «белых пятен» истории.
«Вспоминание» того, что по политическим или идеоло¬
гическим соображениям было предано забвению, давало
возможность формировать репертуар позитивных симво¬
лов, не отступая от принципа отрицания «тоталитарного
прошлого».
Вместе с тем в дискурсе ельцинской элиты дореволю¬
ционное прошлое нередко описывалось сквозь смысловую
рамку авторитарной традиции, которую преодолевает со¬
временная, демократическая Россия. Напоминания о хруп¬
кости ростков либерализма выполняли мобилизационную
функцию: они должны были оттенить грандиозность пере¬
живаемых реформ и одновременно подчеркнуть связанные
38
с ними риски1. Думается, однако, что стремление элиты
начала 1990-х противопоставлять «демократическую»
Россию как «советской», так и «царской» было связано
не только с политической прагматикой. Оно опиралось на
представления, сформированные советским нарративом
о дореволюционном прошлом, стержнем которого была
история революционно-освободительной борьбы с само¬
державием, увенчавшейся Октябрьской революцией. Кри¬
тическая реинтерпретация «главного события XX века»
меняла оценки с плюса на минус, не пересматривая связи
событий, заданные прежним нарративом. Это логически
вело к выводу о закономерности «тоталитарного» режима
на отечественной почве2. Хотя представители ельцинской
элиты не делали подобных умозаключений публично, они
конструировали образ новой, демократической, России,
противопоставляя настоящее (авторитарному и тоталитар¬
ному) прошлому; идея преемственности с отечественной
1 Вот пример подобной аргументации, взятый из высту¬
пления Ельцина: «Россия хорошо знает, что такое право
силы. Осознать силу права только предстоит... Тем самым
зреет опасное для нашего развития явление: права личности,
никогда в отечественной истории не считавшиеся практи¬
ческим государственным приоритетом, рискуют и впредь
остаться декларативными» [Ельцин, 1995в].
2 Вот характерный пример подобных рассуждений, взя¬
тый из публицистики тех лет: «То, что первый тотали¬
тарный режим XV в. возник именно у нас, неудивительно:
традиция древняя, при Пеане Грозном уже во всех основных
чертах сложившаяся. Бедное население, слабая экономика,
требующая постоянных расходов большая армия, отчасти
расселенная по слободам на подножный корм. Странная при
отсталости страны спесь, мессианство религиозное (по¬
том - коммунистическое), болезненное недоверие к “западу"
при склонности к компромиссам с “востоком"...» [Голованов,
1996].
39
демократической традицией использовалась в их риторике
крайне редко.
Главным объектом критики, безусловно, было со¬
ветское прошлое. Разумеется, память о нем нельзя было
стереть - ее надлежало переосмыслить, вписав в новые
нарративы. Этот процесс приобретал разные формы, что
хорошо видно на примерах двух событий истории XX в.,
игравших центральную роль в конструировании советской
идентичности - Великой Октябрьской революции и Вели¬
кой Отечественной войны.
Значение революции в официальном дискурсе
1990-х гг подверглось радикальной переоценке. То, что в
советское время интерпретировалось как исторический
рывок, позволивший России стать лидером прогресса (по
коммунистической версии), трансформировалось в «ка¬
тастрофу», прервавшую «нормальный» путь развития
страны. Действия реформаторов представлялись как воз¬
обновление демократического проекта, прерванного Ок¬
тябрьской революцией. Именно такую смысловую схему
событий XX в. Б. Н. Ельцин предложил, выступая перед
участниками Конституционного совещания - конференции
представителей органов государственной власти, местного
самоуправления и общественных организаций, созванной
им в июне 1993 года для завершения подготовки «прези¬
дентского» проекта новой Конституции Российской Феде¬
рации, альтернативного проекту, который был подготовлен
Конституционной комиссией Съезда народных депутатов.
Обосновывая необходимость «демократической» консти¬
туции, решительно порывающей с советскими традици¬
ями, Ельцин возводил ее генеалогию к событиям 1917 г:
«С принятием Конституции завершится учреждение под¬
линной демократической республики в России, - утверждал
он. - Судьбе было угодно, чтобы этот процесс растянул¬
ся на многие десятилетия. Республика в нашей стране
была провозглашена 1 сентября 1917 г. декретом Времен-
40
ного Правительства. Ее становление было сразу прервано
Октябрьской революцией, которая провозгласила Респу¬
блику Советов. Сейчас рождается новая республика -
Федеративное демократическое государство народов
России» [Ельцин, 1993а]. Непригодность проекта, подго¬
товленного Конституционной комиссией Съезда народньтх
депутатов, он объяснял «недемократической» природой
последнего: «Именно советский характер нынешних пред¬
ставительных учреждений породил парадоксальное, но в
общем-то закономерное явление. Они вместо того, чтобы
стать средоточием цивилизованного согласования инте¬
ресов, направляют свои разрушительные усилия на испол¬
нительную власть и Президента» [там же]. Апеллируя к
послеоктябрьской истории, Ельцин доказывал нелегитим¬
ность противостоящего ему Верховного Совета: «Советы
разогнали в 1918 г. Учредительное собрание, а оно было
сформировано в ходе демократических выборов. Нынеш¬
ние представительные органы избирались на основе со¬
ветского избирательного закона, а значит, они остаются
продолжателями захваченной силой власти. В демократи¬
ческой системе они не легитимны» [там же]. Позже, когда
кризис, вызванный противостоянием двух ветвей власти,
был преодолен силовым путем и повторно созванное Кон¬
ституционное совещание завершило работу над Консти¬
туцией, в своем выступлении по центральным каналам
телевидения Ельцин доказывал преимущества нового Ос¬
новного закона, противопоставляя его советскому прошло¬
му: «Нам нужен порядок, - говорил он. - Но не страшный
репрессивный порядок сталинских лагерей. Не “железная
рука", а демократическая государственная власть обе¬
спечит движение к нормальной и достойной жизни граж¬
дан, к процветанию единой, целостной России» [Ельцин,
1993в].
В феврале 1996 г, во время фактически уже начав¬
шейся президентской избирательной кампании, Ельцин
41
включил в свое ежегодное послание Федеральному Со¬
бранию РФ большой фрагмент, излагавший официальный
нарратив истории XX в. (мы еще будем возвращаться к
этому тексту). В нем уже не было речи о преемственно¬
сти между Февралем 1917 г. и новой, демократической,
Россией, зато подробно описывались катастрофические
последствия «особого пути», начатого Октябрем. Напо¬
миная, что в XX в. другие «государства отказывались от
авторитарных форм правления, переходили к демократии,
к поиску разумных сочетаний свободы и справедливости,
рынка и социальных гарантий государства», Ельцин при¬
знавал, что «царская Россия, обремененная грузом соб¬
ственных исторических проблем, не смогла выйти на эту
дорогу» [Ельцин, 1996]. Если в июне 1993 г. президент
апеллировал к демократическим традициям дореволю¬
ционной России1, то в феврале 1996 г. он утверждал, что
именно отсутствие таковых в совокупности с «глубиной
1 Вот как выглядел фрагмент ельцинского выступления,
содержавшего описание демократической традиции, на кото¬
рую может опираться «новая» Россия: «Нам есть что взять в
завтрашний день России из настоящего, из нашего противо¬
речивого прошлого. У нас за спиной славные традиции воль¬
ного Новгорода, опыт уникальных преобразований Петра
Великого и /Александра Второго. Именно Россия внесла в ми¬
ровую сокровищницу демократии опыт земства, опыт са¬
мой передовой для своего времени судебной реформы. Мы не
властны над прошлым, но будущее в наших руках. Уверен, де¬
мократическая государственность не противопоказана тра¬
дициям России, самобытности ее народов. Наоборот, только
с ее помощью они и могут быть сохранены» [Ельцин, 1993в].
Большая часть того, что попало в этот список, была слабо
подкреплена унаследованной от СССР «инфраструктурой»
памяти. Конструируя образ «новой» России, порывающей с
прошлым, властвующая элита 1990-х не спешила восполнить
этот пробел. К сожалению, тем самым она недальновидно ли¬
шала себя полезного символического ресурса.
42
общественных противоречий» предопределили «радика¬
лизм российского революционного процесса, его стреми¬
тельный срыв от Февраля к Октябрю». В свою очередь,
Октябрьская катастрофа стала разрушительным фактором,
лишившим Россию накопленного культурного достояния
{«Этим разрушительным радикализмом - "до основанья, а
затем ” - объясняется тот факт, что в ходе ломки преж¬
них устоев оказалось утрачено многое из достижений
дореволюционной России в сфере культуры, экономики,
права, общественно-политического развития» [там же]).
Ельцин крайне негативно характеризовал предложенную
большевиками «сверхжесткую мобилизационную модель
развития» и демонстративно отказывался от позитивной
оценки того, что прежде ставилось в заслугу советскому
режиму: он подчеркивал, что «превращение России в мощ¬
ную военно-индустриальную державу было достигнуто
надрывом сил народа, за счет колоссальных людских по¬
теръ» и полностью исключил из своего пересказа поли¬
тической истории России тему Великой Отечественной
войны [там же]. В контексте избирательной кампании, в
которой его тавным противником был кандидат от народ¬
но-патриотического блока Г. А. Зюганов, Ельцину важно
было показать, сколь гибелен путь, на который призывают
вернуться его оппоненты1. Поэтому он настойчиво подчер¬
кивал негативные аспекты советского прошлого, описывая
1 Хотя комментаторы справедливо подчеркивают, что
выбор в пользу «антикоммунистической» стратегии в прези¬
дентской избирательной кампании 1996 г. был сделан не сразу
[см.: Smith, 2002, р. 142-146], а лишь после прихода к руко¬
водству кампанией А. Б. Чубайса. Содержание озвученного
еще в феврале послания показывает, что если не на уровне из¬
бирательных технологий, то на уровне выработки легитими¬
рующего нарратива оправдание действий власти по принципу
контраста с предшествующими периодами изначально играло
ключевую роль.
43
его с помощью популярной в публицистике того периода
концепции тоталитаризма: «Важно до конца осознать,
что трагические последствия коммунистического экс¬
перимента были закономерны... И массовые репрессии, и
жесткий политический монополизм, и классовые чистки,
и тотальное идеологическое ’’прореживание” культуры,
и отгороженность от внешнего мира, и поддержание
атмосферы враждебности и страха - все это родовые
признаки тоталитарного режима. И все это означает,
что путь назад - это путь в исторический тупик, к не¬
избежной гибели России» [там же]. Таким образом, логика
политической борьбы укрепляла стремление властвующей
элиты конструировать образ «новой» России по принципу
контраста, подчеркивая негативные оценки прошлого.
Вместе с тем в начале 1990-х гг события Октября
1917 г. часто фигурировали и в выступлениях политиков, и
в публицистике. У многих современников было ощущение,
что «в России сегодня делается не политика, а история, ре¬
ализуется исторический выбор, который определит жизнь
нашу и новых поколений» [Гайдар, 1994], и это побуждало
мысленно возвращаться к мифу основания «старого режи¬
ма» и проводить параллели с событиями 1917 г. Сначала
объектом сравнения был Август 1991 г. [Третьяков, 1991;
Моравский, 1993]. Затем Октябрь 1917-го стали сравни¬
вать с октябрем 1993-го. Примечательно, что и первые
лица государства, говоря о современных политических
кризисах, настойчиво возвращались к событиям 1917 г.
Так, Ельцин в интервью газете «Штерн», данном в день
расстрела Белого дома, оправдывая действия правитель¬
ства, говорил: «...Намудалось избежать худшего -угроза
гражданской войны отведена от России». И далее про¬
водил прямую параллель с опытом революции: «Расчет
делался на молниеносные действия: на вооруженный за¬
хват ключевых точек столицы - мэрии, средств массо¬
вой информации, Кремля - по сценарию Октября 1917 г.»
44
[Ельцин, 1993в]. Очевидно, что и исполнительная власть
действовала, помня про этот хрестоматийный сценарий,
знакомый по курсу истории КПСС.
Год спустя, накануне думских выборов, Е. Гайдар де¬
лился с журналистом своими историческими ассоциаци¬
ями: «День 19 августа 1991 г. поразительно напоминал
ситуацию 28 февраля - 1 марта 1917-го. Реально пред¬
ставляю себе этот день, когда старый набор институ¬
тов, казавшийся вечным и неизменным, данным навсегда,
вдруг развалился подобно карточному домику. И оказалось:
огромная страна, в общем-то, абсолютно неуправляема.
Это понимают, к сожалению, не все. Когда перечитыва¬
ешь стенограммы заседаний Временного правительства,
видишь массу параллелей с реалиями августа-91. Эта
картина меня всегда преследовала, когда мы только на¬
чинали работать. 11 все время думал: не дай Бог вот так
же взять - и все бездарно проиграть, как проиграли тог¬
да. Точно так же связаны у меня ассоциации Октября
17-го с октябрем 93-го. И такая же небольшая кучка хо¬
рошо организованных, знающих, чего они хотят, готовых
прорваться к власти экстремистов пыталась опрокинуть
страну при непротивлении слабой, вялой, не понимающей,
что от нее требуется и что следует делать, власти.
К счастью, этого не захотело подавляющее большинство
общества. Думаю, на этом прямые параллели и заканчи¬
ваются. Сегодня мы уже вышли из реалий 1917 г., потому
что основные угрозы приобрели избирательный харак¬
тер. Ныне логичнее искать сходство с ситуацией 1927 г.
НЭП... Все искренне убеждены, будто он всерьез и надол¬
го... То есть полное непонимание того, как быстро все мо¬
жет бытъ демонтировано и свернуто при определенном
сценарии развития событий» [Долганов, 1995]. Из этих
высказываний видно, что представления о событиях 1917—
1927 гг не просто использовались в риторике первых лиц
45
государства, но были частью когнитивных схем, на основе
которых они принимали решения.
В официальном нарративе, оформившемся к середине
1990-х гг, Октябрьская революция интерпретировалась
как трагедия, последствия которой Россия с большим тру¬
дом исправляет сегодня1. Демонстративно отказавшись
от советских идеалов, новая власть видела свою задачу в
том, чтобы избавиться от последствий «советского экспе¬
римента» и вернуть страну в «нормальное» состояние. Это
касалось не только политической системы, но и экономики
(именно в таких терминах описывал ее траекторию в XX в.
Е. Гайдар [Гайдар, 1994]).
С распадом СССР перестроечный дискурс, рассма¬
тривавший реформы как движение к «настоящему» со¬
циализму, утратил актуальность. Тем не менее и после
поворота в сторону «рынка» теоретически существовала
возможность таких способов переосмысления Октябрь¬
ской революции, при которых она продолжала бы рассма¬
триваться в качестве хотя и трагического, но «великого»
события отечественной и мировой истории. Например, в
логике «социал-демократической» парадигмы, нацеленной
на удержание позитивных достижений социализма при
переходе к «рынку и демократии», или в контексте «обще¬
гуманитарной» постановки проблемы, связанной с при¬
1 См. характерный образец риторики, использующей эту
аргументацию, взятый из статьи в «Российской газете»: «То,
что делалось и делается реформаторами вплоть до сегод¬
няшнего дня... так или иначе направлено на создание социаль¬
но-экономической базы принципиально нового на нашей Земле
государства, которое в исторической перспективе должно
обеспечить нам то качество жизни, которым пользуются
граждане с развитой рыночной экономикой и демократиче¬
ской системой... Многие десятилетия спустя реформато¬
ры вынуждены исправлять трагическую ошибку Октября»
[Кива, 19976].
46
знанием вклада СССР в решение проблемы социальной
справедливости. Оба подхода были представлены в публи¬
цистике тех лет. Однако они не вписывались в выбранную
властвующей элитой стратегию легитимации политическо¬
го курса: представляя начатые реформы как радикальное
изменение советского уклада1, «команда Ельцина» пошла
по пути критики и «демонтажа» мифа основания «старого
режима». Позже оказалось, что это был неудачный выбор:
отказываясь от попыток адаптации к новому контексту
исторического символа, основательно укорененного в сло¬
жившейся инфраструктуре памяти, властвующая элита тем
самым оставляла его в безраздельное пользование оппо¬
нентов режима.
Переопределение Октября в качестве «трагедии» и
«катастрофы» означало резкую трансформацию смыслов:
то, что прежде воспринималось через фрейм «националь¬
ной славы», теперь стало рассматриваться согласно логи¬
ке «коллективной травмы». Это должно было повлечь за
собой радикальное переформатирование сложившихся
практик коммеморации и инфраструктуры памяти2: нуж¬
1 В этом виделось преимущество: радикализм россий¬
ских реформ противопоставлялся нерешительности союзного
руководства (См. у Ельцина: «Оценивая сейчас результаты
реформ и цену, заплаченную обществом за спасение страны,
необходимо учитывать и цену многолетней нерешительно¬
сти союзного руководства, топтавшегося на месте и при¬
ведшего себя к гибели, а государство - к распаду» [Ельцин,
1996]).
2 Следует отметить, что на локальном уровне попытки из¬
менить практики коммеморации Октября имели место: после
августа 1991 г. по всей стране прошла волна сноса памятни¬
ков героям революции, стихийно складывались новые риту¬
алы для по-прежнему праздничного 7 ноября (см. описание
празднований 7 ноября в начале 1990-х в работе Кэтлин Смит
[Smith К., 2002, р. 81-83]). Однако федеральная власть не
предпринимала шагов для поддержки этих инициатив.
47
но было не только перенести акцент с «героев» (которые
перестали быть героями) на «жертв», но и воздать по за¬
слугам «палачам». Эта работа требовала ресурсов и была
сопряжена со значительными политическими рисками.
И дело не только в том, что выяснение «истинных» ро¬
лей «героев», «палачей» и «жертв» в обществе, прошед¬
шем через гражданскую войну, - неизбежно болезненный
процесс. Столь резкое изменение смысла исторического
события, выполнявшего функцию мифа основания, затра¬
гивает всю конструкцию коллективной идентичности. За¬
менить «национальную славу» «коллективной травмой» не
так просто: сплачивающие эффекты данных когнитивных
моделей опосредованы разными социально-психологи¬
ческими механизмами1. Кроме того, эта процедура может
оказаться вообще неосуществимой в конкретном куль¬
турном контексте - на это указывают не только результа¬
ты отдельных исследований2, но и острые противоречия в
оценках советского прошлого.
1 В данном отношении большой интерес представляет
работа Стивена Мока, исследовавшего роль символов пора¬
жения в конструировании национальных идентичностей. Мок
утверждает, что «любое общество нуждается в коммеморации
жертв», однако миф поражения - «не единственный инстру¬
мент, с помощью которого современный социальный кон¬
структ нации выполняет эту функцию» [Mock, 2012, р. 260].
Он полагает, что в силу своих структурно-смысловых особен¬
ностей миф поражения не работает в постимперском контек¬
сте (что демонстрируют примеры США, Китая и России) и в
случаях «безгосударственных» наций [ibid., р. 261-268].
2 В частности, наблюдения Дж. Уэртша относительно рас¬
пространенности в российской историографии нарративного
шаблона «победы-над-враждебными-силами» [Wertsch, 2002]
могут рассматриваться как эмпирическое свидетельство зна¬
чимости фрейма «национальной славы» для конструирования
русской/советской/российской идентичности.
48
Трудно сказать, имела ли шансы на успех попытка
столь радикального замещения фреймов коллективной па¬
мяти о некогда «главном событии XX века». Однако она не
только не была поддержана достаточными ресурсами, но и
столкнулась с весьма успешным контрдискурсом, который
в отличие от символической политики властвующей эли¬
ты опирался на менее рискованную стратегию частичной
трансформации привычного нарратива.
Распад СССР и начало экономических реформ превра¬
тили приверженцев коммунистической идеологии из за¬
щитников статус-кво (или его критиков справа) в «левую
оппозицию»1, чем способствовали обновлению их дискур¬
сов. Эта метаморфоза наиболее заметна в идеологии Ком¬
мунистической партии Российской Федерации, созданной
в феврале 1992 г на основе первичных организаций КП
РСФСР. Изначально взяв курс на соединение социалисти¬
ческих и патриотических ценностей, КПРФ весьма твор¬
чески подошла к идеологическому наследию КПСС: она
изменила отношение к частной собственности, отказалась
от атеизма, ухитрилась соединить формальную привер¬
женность пролетарскому интернационализму с держав¬
ным патриотизмом и дополнила марксизм «полезными»
теоретическими новшествами - например, цивилизацион¬
ным подходом в духе С. Хантингтона. Благодаря такому
обновлению репертуара и унаследованным остаткам ор¬
ганизационных ресурсов КПСС КПРФ стала лидером
альянса левых и национал-патриотических организаций,
выступавшего в 1990-х гг. в роли основного политическо¬
го противника «действующей власти»2. Поскольку моя за¬
1 Впрочем в начале 1990-х эта терминология еще не усто¬
ялась: с учетом того, что идеалы коммунистов были связаны с
прошлым, их нередко называли правыми.
2 КПРФ и ее союзники имели значительное представи¬
тельство в Государственной думе. Однако в логике разделения
49
дача - проанализировать смысловую схему истории XX в.,
которая в контексте политической борьбы 1990-х оказалась
главной альтернативой складывающемуся официальному
нарративу, я буду рассматривать высказывания представи¬
телей этого альянса как общий дискурс, отвлекаясь от осо¬
бенностей отдельных идеологических позиций.
Если практика использования прошлого властвующей
элитой начала 1990-х направлялась потребностью легити¬
мировать реформы, направленные на демонтаж советской
системы, то главной смысловой доминантой дискурса
«народно-патриотической оппозиции» были распад СССР
и «разбазаривание» ее достижений. Октябрьская рево¬
люция, формально сохраняя значение мифа основания
исчезнувшей страны, превращалась в удобный для поли¬
тических манипуляций символ утраты - тем более, что
сохранение за 7 ноября статуса праздничного дня давало
повод для ежегодной коммеморации. При этом распад
СССР и конец «холодной» войны позволяли по-новому
интерпретировать Октябрьскую революцию. Например, в
1994 г. Г. А. Зюганов - на тот момент председатель Пре¬
зидиума ЦИК КПРФ, а в будущем бессменный предсе¬
датель ее ЦК - представлял Октябрь 1917 г. как эпизод
цивилизационного противостояния Запада с Россией,
выступающей в роли «последнего противовеса» его геге¬
монизму. По словам Зюганова, «предпосылки российской
революции зрели давно и последовательно, являясь в рав¬
ной мере следствием ошибок русского правительства во
внутренней политике и внешнего, разлагающего влияния
западной цивилизации» [Зюганов, 1994, с. 143]. Однако
«надежды Запада на избавление от своего главного гео¬
политического конкурента... оказались тщетными», ибо
властей, сложившегося после принятия Конституции 1993 г,
понятие «власть» связывается с президентом и фактически
подотчетным ему правительством.
50
«революция ие разрушила, а, напротив, обновила и укре¬
пила российскую государственность, очистив ее от из¬
живших себя феодально-буржуазных реформ» [там же,
с. 144].
В рамках такой смысловой схемы Октябрь лишался
части своего героического ореола и становился одним из
эпизодов многовекового «столкновения цивилизаций». Од¬
новременно он приобретал новое качество, превращаясь из
события, разделяющего прошлое на «до» и «после», в свое¬
образную кульминацию «русского духа» и даже в символ
его преемственности1. Классовая парадигма заменялась
националистической2. При этом в новом дискурсе об Ок¬
тябрьской революции соседствовали две темы, каждая из
которых подавалась в националистической аранжировке.
Во-первых, развивалась тема национально-освободитель¬
ной борьбы против гегемонии Запада. Октябрь представ¬
лялся как спасение «от колониального порабощения, от
развития по капиталистическому пути, а в религиозном
смысле - от превращения в общество “практического
атеизма” (как определял капитализм Бердяев) - предше¬
ственника “нового мирового порядка и будущего царства
Антихриста”» [Россия сегодня... 1994, с. 53]. В заслугу
социализму ставилось «сохранение целостности госу¬
дарства... и превращение его в могущественную держа¬
ву» [Зюганов, 1995, с. 6]. Во-вторых, утверждалась идея
1 Согласно концепции Зюганова, «Советская власть...
унаследовала у исторической России как нравственные идеа¬
лы, так и ее державный опыт в постройке мощного государ¬
ства», что и привело к ее небывалому подъему в XX в. [там
же, с. 144].
2 Если первая предполагает, что прошлое рассматривается
сквозь призму классовой борьбы как главной движущей силы
истории, то вторая сосредоточена на генеалогии сообщества,
считающегося «нацией».
51
о соответствии принципов советского строя русскому
национальному духу. По словам (на тот момент) члена
Конституционного суда В. Зорькина, «коммунисты суме¬
ли удержаться у власти целых семьдесят лет потому
что... привели свою идейную платформу в соответствие
с характерными особенностями русского самосознания»
[Зорькин, 1994, с. 29]. Таковые усматривались не только
в тяге русского народа к социальной справедливости (Ок¬
тябрь как «мощный порыв широких слоев народа к правде
и справедливости, как они это понимали, протест про¬
тив фарисейства “господ ” и стремление утвердить но¬
вые, братские отношения между людьми, правда, только
между трудящимися» [Россия сегодня... 1994, с. 53]), но
и в «сочетании идей соборной демократии и личной свобо¬
ды с сильной и ответственной государственной властью»
[Зорькин, 1994, с. 28]. Путь, начатый Октябрем, представ¬
лялся как триумф национального духа, обогатившего ком¬
мунистическую идею «истинно русскими» принципами
коллективизма, соборности и общинности. Таким образом,
и в дискурсе «народно-патриотической» оппозиции со¬
ветский нарратив отечественной истории XX в. подвергся
трансформации, менявшей смысловое наполнение символа
Октябрьской революции.
Строго говоря, акцентирование преемственности оте¬
чественной истории в духе националистической пара¬
дигмы ставило под сомнение ее прежнюю функцию, ибо
миф основания требует противопоставления «до» и «по¬
сле». Однако, поскольку революция продолжала рассма¬
триваться как событие, причинно связанное с успешной
модернизацией, победой над фашизмом, превращением
России в великую державу, созданием справедливой си¬
стемы распределения (пусть и при не вполне эффективной
экономике) и др. достижениями, знакомыми по совет¬
скому канону, сохранялась возможность использования
52
прежнего смыслового репертуара1. В конце концов, Ок¬
тябрьская революция оставалась центральным элементом
коммунистической мифологии, что позволяло опирать¬
ся на богатую «инфраструктуру» коллективной памяти,
унаследованную от СССР, включая традицию ежегодной
коммеморации. Как показала К. Смит, начиная с 1991 г
ритуалы празднования 7 ноября менялись, приспосабли¬
ваясь к новому контексту: в отличие от критиков Октя¬
бря, которым не удалось закрепить практику гражданских
антикоммунистических контрдемонстраций (они были
действительно массовыми лишь в 1991-1992 гг.), его сто¬
ронники вполне успешно совершенствовали свои празд¬
ничные ритуалы, осваивая новые места памяти [Smith К.,
2002, р. 81-83]. Благодаря удачно найденной стратегии
трансформации советского нарратива коммунисты и их
союзники сумели воспользоваться доставшимися по на¬
следству символическими ресурсами, ценность которых
усиливалась по мере роста ностальгии по утраченной
«стабильности». Правда, у них было мало возможностей
«инвестировать» в их дальнейшее развитие, но на первых
порах они получили значительное преимущество перед
противниками.
Таким образом, попытки властвующей элиты предста¬
вить революцию как трагедию наталкивались на стрем¬
ление «народно-патриотической» оппозиции превратить
ее в одну из несущих опор национальной идентичности.
В силу этого в 1990-х гг. переоценка Октябрьской револю¬
ции происходила по принципу игры с нулевой суммой.
1 Следует оговориться, что не все представители нацио-
нал-патриотической оппозиции разделяли безусловно по¬
ложительную оценку Октябрьской революции. В русском
национализме существует традиция критики советского ин¬
тернационализма, жертвующего интересами русского народа.
Эту точку зрения выражали и некоторые союзники КПРФ.
53
Тема «октябрьской катастрофы» активно использова¬
лась во время избирательной кампании Б. Н. Ельцина в
1996 г. Представляя выбор между действующим президен¬
том и его главным противником - лидером коммунистов
Г. А. Зюгановым как вопрос жизни и смерти для новой
России, члены властвующей элиты пытались мобилизо¬
вать массовые представления об ужасах большевистской
революции и ее последствиях, сформированные благо¬
даря потоку разоблачительных публикаций в СМИ конца
1980-х - начала 1990-х гг Как подчеркивалось в статье,
напечатанной «Российской газетой» за подписью действу¬
ющего тогда руководителя администрации президента
Н. Д. Егорова, «нам придется снова выбирать между про¬
должением демократических реформ и поворотом вспять.
Но назад дороги нет, сзади - пропасть. Еще одной раз¬
рушительной революции Россия просто не выдержит»
[Егоров, 1996]. Еще более определенно ту же мысль сфор¬
мулировал мэр Петербурга А. А. Собчак: «После того,
что пережила Россия в течение заканчивающегося сто¬
летия, она просто не выдержит еще одного диктатора,
еще одной революции, которая может оказаться самой
кровавой в ее истории» [Собчак, 1996]. Для маргинализа¬
ции политических оппонентов также активно использо¬
валась тема «красно-коричневой угрозы»: обыгрывалась
ассоциация между двумя типами тоталитарных режимов в
XX в. и современным союзом коммунистов и национал-па¬
триотов (к анализу практики использования ссылок на фа¬
шизм для борьбы с политическими оппонентами в начале
1990-х гг мы еще вернемся в следующей главе).
После выборов, продемонстрировавших готовность
значительной части избирателей поддержать кандидата от
КРПФ, властвующая элита начала принимать меры к смяг¬
чению конфронтации. 7 ноября 1996 г, за год до 80-летия
Октябрьской революции, Б. Н. Ельцин издал указ, вводив¬
ший новую формулу праздника, оставшегося в наследство
54
от советской власти, - День согласия и примирения и объ¬
являвший 1997 год Годом согласия и примирения. В том
же указе было предусмотрено проведение конкурса по
созданию памятников, увековечивающих память жертв ре¬
волюций, гражданской войны и политических репрессий1
[О Дне... 1996]. Как вспоминала потом Л. Пихоя, идея
переименования праздника возникла в октябре 1996 г. на
одном из совещаний у руководителя президентской ад¬
министрации А. Чубайса: «Сама идея заключалась в сле¬
дующем: в конце концов, после Великой Октябрьской
революции прошло более 70 лет и можно изменить сим¬
волику. Почему бы не переименовать праздник Великой
Октябрьской революции в праздник, объединяюгций всех,
в День согласия и примирения? То есть Октябрьская ре¬
волюция всех разделила, но мы не отменяем этот празд¬
ник, а переименовываем» [Соколова, Яковлева, 2004].
По-видимому, решение действительно было подготовлено
спонтанно. Ельцин подписал указ через день после опера¬
ции на сердце, как потом злословили оппоненты, «не при¬
ходя в сознание после наркоза».
Существовали и другие сценарии решения проблемы:
накануне 59-летней годовщины революции бывший со¬
ратник М. Горбачева А. Н. Яковлев опубликовал в «Рос¬
сийской газете» статью «Если большевизм не сдается»2,
1 Эта инициатива так и не была реализована. В 2011 г. в
предложениях об учреждении общенациональной государ¬
ственно-общественной программы «Об увековечении памяти
жертв тоталитарного режима и о национальном примирении»,
подготовленных рабочей группой Совета при президенте Рос¬
сии по развитию гражданского общества и правам человека,
вновь говорилось о необходимости создания «как минимум
двух общенациональных мемориально-музейных комплек¬
сов рядом с обеими столицами и монументального памятника
жертвам в центре Москвы» [Предложения... 2011].
2 Статья отражала основные идеи изданной тогда же бро¬
шюры, в которой А. Н. Яковлев помимо прочего предлагал
55
в которой доказывал, что «путъ к торжеству свободы
в России может бытъ прерван в любой день, если не по¬
ставитъ вне закона большевистскую идеологию человеко¬
ненавистничества». Автор статьи обращался к президенту
России, Конституционному суду, правительству, Генераль¬
ной прокуратуре, Федеральному Собранию с призывом
«возбудитъ преследования фашистско-большевистской
идеологии и ее носителей» [Яковлев, 1996]. Однако Ельцин
и его окружение не захотели играть на обострение.
Несостоявшееся «согласие и примирение»
В период второго президентства Б. Н. Ельцина наме¬
тились очевидные сдвиги в символической политике, ко¬
торые определялись, с одной стороны, новым раскладом
сил, а с другой - потребностью в консолидации расколо¬
того политического класса и «стабилизации» конфликтов,
которые во время избирательной кампании намеренно обо¬
стрялись. Не случайно использованное для переопределе¬
ния праздника слово «согласие» заняло центральное место
в риторике президента. Государство перешло от квазине¬
вмешательства в «свободный рынок» идей к продвиже¬
нию идеи национального консенсуса. Наиболее заметным
проявлением этого сдвига стал призыв к разработке но¬
вой «национальной идеи», озвученный Ельциным через
месяц после выборов [ИТАР-ТАСС, 1996]. Хотя после¬
довавшая за этим дискуссия, несомненно, внесла ожив¬
ление в общественную повестку и привлекла внимание
переименовать 7 ноября в День скорби и покаяния. По его
словам, «в этот день семьи не должны ходитъ на демонстра¬
ции - пусть уж лучше сидят дома. Этот день нужен для
того, чтобы граждане вспомнили о тех своих родственниках,
которые погибли из-за войн и репрессий. И просто выпили за
них рюмочку» [Владимиров, 2003].
56
многих политиков, журналистов, специалистов и просто
рядовых граждан, она не привела к искомому результа¬
ту - установка политического класса на взаимодействие
по принципу игры с нулевой суммой оказалась сильнее
призывов к единению. Как показал в своем исследова¬
нии М. Урбан, несмотря на то что дискурсы коммунистов/
патриотов, демократов и государственников в этой дис¬
куссии имели структурное сходство и все участники при¬
нимали общую цель - сформулировать эксплицитно идею
сообщества и превратить ее в государственную идеологию,
острота конфликтов по поводу содержания последней не
позволяла сосредоточить дискуссию на поиске моментов
согласия [Urban, 1998, р. 985]. С учетом прежнего совет¬
ского опыта закрепления «государственной идеологии»
ставки казались слишком высокими, чтобы решать пробле¬
му «принципов» на пути компромисса.
Это в полной мере касалось и проблемы интерпре¬
тации коллективного прошлого: в понимании «демокра¬
тов», оппонировавших власти справа, идея «согласия и
примирения» не отменяла необходимости «покаяния» в
преступлениях советского режима, в то время как «на¬
родно-патриотическая» оппозиция изображала попытки
переписать историю советского периода как стремление
правящего «преступного режима» «унизить русский на¬
род». В таком контексте идея переименования праздни¬
ка 7 ноября - даже если бы ее реализацией занимались
всерьез - едва ли могла сработать. Возможно, у нее было
больше шансов на успех в 1991-1992 гг., когда развивались
гражданские инициативы коммеморации жертв революции
и гражданской войны. Однако с началом экономических
реформ подъем, вызванный августовскими событиями,
пошел на спад. В 1993 г празднование 7 ноября должно
было проходить спустя почти месяц после расстрела Бело¬
го дома, и Правительство Москвы своим постановлением
решило не принимать уведомления об организации меро-
57
приятии в честь Октябрьской революции и в память жертв
гражданской войны и политических репрессий. Правда,
коммунисты все же провели сбор, хотя и немногочислен¬
ный) [ИТАР-ТАСС, 1993]. Октябрьский кризис и начавша¬
яся в декабре 1994 г. война в Чечне спровоцировали раскол
в лагере поддерживавших Ельцина «демократов», что ска¬
залось на их способности к коллективному действию. По¬
лучилось, что, не поддержав своевременно гражданские
инициативы, власть упустила момент для трансформации
практики коммеморации Октябрьской революции.
Кроме того, как справедливо заметила К. Смит, «пере¬
работка прошлого в форме примитивного переименования
старого праздника не меняет содержания празднования.
Чтобы стать эффективными средствами коммуникации,
общественные праздники нуждаются в сценариях и риту¬
алах» [Smith К., 2002, р. 99]. Однако ни в 1997 г, ни позже
попыток сформировать такие сценарии и ритуалы для Дня
согласия и примирения не наблюдалось [Пинскер, 1997]
(как мы увидим в следующей главе, совсем иначе обстояло
дело с коммеморацией победы в Великой Отечественной
войне).
Во время празднования 80-летия Октябрьской рево¬
люции Ельцин воздержался от комментариев по поводу
юбилейной даты. В своем традиционном радиообращении,
прозвучавшем незадолго до праздника, он ограничился
призывом не участвовать в осенних мероприятиях оппо¬
зиции, а заняться домашними делами: квасить капусту,
утеплять окна и вообще готовиться к зиме [Драгунский,
1997]. Таким образом, юбилейная дискуссия о значении
революции происходила на фоне демонстративного отказа
главы государства обсуждать данную тему.
Хотя спустя пять с лишним лет после распада советско¬
го режима и произошла определенная перестановка акцен¬
тов в оценках мифа его основания, объявленное «согласие
и примирение» так и не наступило. В юбилейных публи-
58
кациях можно обнаружить широкий разброс оценок. На
одном полюсе были те, кто вспоминал об Октябре 1917 г.
как о трагедии, последствия которой приходится исправ¬
лять сегодня1. На другом - коммунисты и их союзники.
Г. А. Зюганов к юбилею Октября опубликовал большую
статью в «Советской России», в которой доказывал, что
«Октябрьская революция была... единственным реаль¬
ным шансом для России на национально-государственное
самосохранение»2. На этот раз он не апеллировал к «столк¬
новению цивилизаций», а сосредоточился на внутренних
причинах Октябрьской революции. Представляя действия
большевиков, восстановивших «сильную власть», как
«акт в высшей степени патриотический и государствен-
нический», он утверждал, что социалистический ха¬
рактер революции был не следствием «субъективного
идеала революционеров», а ответом на «объективную
общественную потребность». По словам лидера КПРФ,
«итог Октябрьской революции и гражданской войны -
это победа революционно-демократического способа
1 Вот характерный пример такой оценки, взятый из статьи
в «Российской газете» - официального печатного органа Пра¬
вительства РФ: «Нужно ли еще кому-то доказывать, что наш
прежний общественный и государственный строй привел нас
на гранъ катастрофы и мы как нация, так или иначе взра¬
стившая его, потерпели исторический крах? II то, что мы
сейчас переживаем не лучший период в своей истории, есть
не что иное, как расплата за прошлые грехи? <... > Большеви¬
ки, опираясь на поддержку> широких слоев народа, направили
страну по ложному пути развития...» [Кива, 1997а].
2 Ср. со статьей в «Правде», красноречиво озаглавленной
«Не катастрофа, а спасение»: «Если трезво, без предубежде¬
ний взглянутъ на события и процессы, развивавшиеся в Рос¬
сии на протяжении 1917 г. и нескольких последующих лет,
то нельзя не признать, что Октябрьская революция спасла
страну от национальной катастрофы» [Бушуев, 1997].
59
спасения и собирания России над способом реакционно-бю¬
рократическим» [Зюганов, 1997]. Однако у его оппонентов
была прямо противоположная точка зрения на этот счет:
«Советский строй в конечном счете не разрешил ни од¬
ного из породивших его кризисов. Таков итог Октября для
России», - писал один из «демократов» первого призыва,
бывший мэр Москвы Г. Попов [Попов, 1997]. Между от¬
рицанием Октября как «катастрофы» и его апологетикой в
духе государственнического национализма располагались
позиции тех, кто пытался отнестись к нему критически,
не отрицая его статуса великого события. Так, по опреде¬
лению Горбачева, «Октябрьская революция выражала по¬
требность России вырваться на новый, цивилизованный,
уровень развития. РІ прорыв этот был сделан. Он оказал
огромное влияние на всю историю XX в., на развитие всего
мирового сообщества. Но средства для реализации идей,
которые помогли осуществитъ прорыв, оказались неадек¬
ватными. Они потом и загубили эти идеи, дискредитиро¬
вали их» [Горбачев, 1997; ср.: Бовин, 1997 и др.].
Однако, несмотря на столь очевидное расхождение
оценок, были два пункта, по которым наблюдалось уди¬
вительное согласие. Во-первых, большинство коммен¬
таторов признавали бесспорным значение Октябрьской
революции для трансформации капитализма в других
странах. Как сформулировал это А. Бовин, «парадокс, гу¬
бительный для одних и спасительный для других, состоит
в том, что минусы Октябрьской революции сконцентри¬
ровались в России, а ее плюсы проявились по большей ча¬
сти за пределами “лагеря " социализма» [Бовин, 1997]1.
1 Ср. у Зюганова: «Октябрьская революция не перерос¬
ла в мировую, но она сильнейшим образом стимулировала
мировую реформу, в ходе которой трудящиеся развитых ка¬
питалистических стран добились весьма существенных соци¬
альных завоеваний» [Зюганов, 1997].
60
Разумеется, этот тезис был далек от прежней перспективы
«триумфального шествия социализма, выводящего Рос¬
сию в авангард прогресса», тем не менее он мог служить
основой для реинтерпретации Октябрьской революции как
великого события XX в. В 1990-х гг парадокс, о котором
писал Бовин, часто интерпретировали в духе чаадаевского
«урока саморазрушения»1. Однако в случае отказа от то¬
тального отрицания советского прошлого и его тщатель¬
ной критической «проработки» тезис о мировом значении
опыта СССР мог бы стать важной составной частью об¬
новленных фреймов коллективной памяти о революции.
Во-вторых, представители разных политических сил схо¬
дились в том, что главный урок революции - «не повто¬
рить эпидемии насилия и безумства»2 [Тарасов, 1997]. Как
я попытаюсь показать ниже, представление о пагубности
революций, прочно ассоциируемых с насилием, стало
своеобразным общим местом дискурсов российских по¬
литических элит, влияя на репрезентацию актуальных и
предполагаемых политических изменений.
1 Как сформулировал это автор одной из статей, «с точки
зрения мирового прогресса русская революция сыграла, без¬
условно, благую роль. А вот самой России принесла бесчис¬
ленные беды, поскольку была заведомо обречена, семена ее не
дозрели до нужных кондиций» [Розенталь, 1998; ср. Голова¬
нов, 1996; Бовин, 1997; Попов, 1997].
2 Ср. этот вывод, взятый из вкладки новой «партии вла¬
сти» «Наш дом - Россия» в «Российской газете» со словами
Зюганова: «...Если социалистическая революция 1917 г. мог¬
ла быть совершена как мирным, так и немирным путем, то
сегодня мы прямо ставим национально-государственное вы¬
живание и возрождение России в зависимость от сохранения
гражданского, межнационального и международного мира»
[Зюганов, 1997].
61
Память о революция я репрезентация
полятяческях изменений
В советском дискурсе прилагательное «революци¬
онный» имело положительные коннотации. Подразуме¬
валось, что «революционный путь» решения назревших
общественных проблем лучше «реформистского», по¬
скольку он надежно искореняет «пережитки прошлого»,
открывая более широкие возможности для дальнейшего
развития. Эта презумпция имела место и в случае интер¬
претации Октябрьской революции: считалось, что в силу
«половинчатости» буржуазно-демократических револю¬
ций 1905-1907 гг и Февраля 1917 г большевики были
вынуждены решать задачи, не решенные на предыдущих
этапах революционно-освободительного движения (как
мы видели выше, в несколько трансформированном виде
этот тезис воспроизводил и Зюганов). Следуя этой логике,
Горбачев представлял перестройку как «процесс револю¬
ционного обновления общества»; заглавие его юбилейной
статьи - «Октябрь и перестройка: революция продолжа¬
ется» - говорит само за себя [Горбачев, 1987]. Позже это
сослужило плохую службу для ретроспективной оценки
инициированных им перемен. Одним из результатов бур¬
ных общественных дискуссий по поводу вновь открытых
«белых пятен истории» стала негативная переоценка «ре¬
волюции». Данное понятие стало ассоциироваться с ра¬
дикальным изменением общественного строя на основе
умозрительных схем, которое неизбежно приобретает на¬
сильственные формы. Воспроизводя этот новый фрейм,
член Конституционного суда и активный деятель лево-па¬
триотической оппозиции В. Зорькин писал в 1994 г, объе¬
диняя в один ряд современные, «гайдаровские», реформы,
перестройку и Октябрьскую революцию: «Особенно опас¬
но в таком утопическом догматизме то, что, встречая
естественное сопротивление консервативной и малопо¬
движной общественной среды, он легко приобретает
62
агрессивные, а порой и откровенно террористические
формы. Оглянитесь! Так было после революции 1917 г.,
так развиваются события и сегодня, особенно с тех пор,
как пресловутая “перестройка ” приобрела революционные
черны...» [Зорькин, 1994, с. 25; ср.: Зюганов, 1995, с. 30].
Негативная коннотация слова «революция» закрепи¬
лась настолько прочно, что, когда властвующая элита уже
новой, независимой, России начала осуществлять гораздо
более радикальную по сравнению с перестройкой транс¬
формацию экономической системы, ее с самого начала
стали называть «реформой». Как комментировал это во
время избирательной кампании 1995 г. председатель «пра¬
вительства реформ» Е. Гайдар, «либералам, демократам
никогда не нужны великие потрясения. Потрясения - пи¬
тательная среда авантюристов. Но если бы в 1989-90 гг.
демократы ограничились такими словами, они бы слука¬
вили. Надо было сменить отжившую себя систему. За¬
дача была демонтировать ее мирным путем, с помощью
эволюции, а не революции, но очевидно, что полностью из¬
бежать здесь потрясений было невозможно в принципе».
Признавая, таким образом, хотя и «мирный», но все же
скорее революционный характер перемен, он продолжал:
«Теперь - иное. При всех недостатках, при всех тенденци¬
ях к застою и разложению новая система в принципе жиз¬
неспособна, она дает стране возможность развиваться.
Мы действительно против любых острых потрясений,
действительно за плавную эволюцию, при сохранении ста¬
бильности. Это не просто лозунг, это точная констата¬
ция» [Гайдар, 19956]. Как мы видим, Гайдар стремился
создать возглавляемой им партии «Выбор России» имидж
принципиальной противницы «великих потрясений», объ¬
ясняя радикализм имевших место перемен исключительно
стечением обстоятельств. Той же логики придерживался
и Б. Н. Ельцин. Он тоже списывал крайности реформ на
чрезвычайные обстоятельства, возникшие по вине союз¬
ного руководства (страна «стояла перед угрозой полного
63
разрушения экономики. Ее либерализация в начале 1992 г.
была не плановой хирургической операцией, а срочной ре¬
анимацией» [Ельцин, 1996]), и подчеркивал мирный ха¬
рактер перемен {«...Нельзя не признать - это первые в
истории России преобразования такого масштаба, осу¬
ществляемые без подавления и уничтожения политиче¬
ских противников» [там же]). Таким образом, не отрицая
радикализма «реформ» (но подчеркивая его вынужденный
характер), властвующая элита делала упор на то, что они
не были сопряжены с насилием. Конечно, дело обстояло не
совсем так, ибо имел место штурм Белого дома и иници¬
ированная федеральной властью первая чеченская война.
Однако нельзя не признать, что трансформация советского
режима не повлекла за собой полномасштабную граждан¬
скую войну и политический террор - в немалой степени
потому, что опыт XX в. побуждал властвующую элиту
помнить об этой опасности.
Все это не мешало оппонентам использовать слово
«революция» как обвинение против реформаторов. Разде¬
ляя «систему координат», в которой «реформа» наделялась
положительным содержанием, а «революция» - отри¬
цательным, они не сводили различие между ними к
степени радикальности перемен и фактору насилия, а трак¬
товали его шире. Например, авторы коллективного анали¬
тического документа «Россия сегодня - реальный шанс»,
опубликованного в одном из ведущих журналов «народно¬
патриотической оппозиции», доказывая, что происходящее
в СССР и России с конца 1980-х гг. является революцией,
а не реформой, писали: «Но реформы тем и отличаются
от революций, что они проводятся с согласия общества, в
условиях общегражданского мира, в обстановке стабиль¬
ности и порядка... Когда общество проводит реформы,
каждый что-то теряет, но и приобретает; в революции,
напротив, одни приобретают, а другие только теряют.
В реформах заинтересованы самые разные слои обще¬
ства, а революции совершаются в интересах какого-то
64
класса или клана, выдающих свой частный интерес за все¬
общий». Из этих соображений делался вывод, с которым,
как мы видели выше, был вполне согласен и Е. Гайдар:
«Проблема сегодня состоит в том, чтобы идущий рево¬
люционный процесс ввести в русло эволюционного и циви¬
лизованного развития, в строго правовые рамки» [Россия
сегодня... 1994, с. 44]. Очевидно, что введение процесса
в «эволюционное и цивилизованное» русло оппоненты
видели по-разному. Как мы помним, властвующая элита
тоже охотно использовала «революционную» тему во вре¬
мя президентской кампании 1996 г, убеждая избирателей,
что приход к власти Зюганова неизбежно ввергнет страну
в «еще одну разрушительную революцию».
Вместе с тем некоторые критики власти из лагеря
«демократов» находили ее действия недостаточно «ре¬
волюционными». Так, в 1994 г, анализируя ход реформ,
Ю. Буртин с сожалением констатировал, что на настоящую
революцию реформаторы так и не решились. Он писал:
«В 1917 г. социалистическая революция отключила два
могучих средства развития общества, два главных мото¬
ра прогресса, каковьши являлись в экономической сфере
рынок на основе частной собственности и конкуренции,
в социально-политической - демократия... Чтобы заново
включить те же моторы, нужны были преобразования,
соизмеримые по глубине и решительности с Октябрьской
революцией, но, так сказать, с обратным знаком. Нужна
была новая революция, но теперь уже антисоциалистиче¬
ская, демократическая. Могла ли у нас произойти такая
революция? Вполне. Благодаря августовской победе наро¬
да над силами коммунистической реакции вероятность
подобного развития событий была в тот момент очень
высока». Однако российское руководство предпочло за¬
ключить «своего рода сепаратное соглашение с прежним
правящим слоем» и «предприняло все, чтобы... не дать
революции приобрести настоящую глубину. Результатом
явилась ситуация, где упомянутые средства развития
65
хотя вроде бы и существуют, но настолько ограничены
в своем действии, что не могут стать сколько-нибудь
сильными пружинами общественного прогресса» [Буртин,
1994]. Нетрудно различить в этих аргументах знакомое
представление о предпочтительности «революционного
пути». Однако к тому времени его разделяли немногие.
Постфактум некоторые публицисты из «демократи¬
ческого» лагеря находили нежелание власти признать ре¬
волюционный характер «реформ» ошибкой. Как писал
Л. Опенкин, «миф о реформах деморализовал общество.
Искажая шкалу оценок, он породил такие надежды и
ожидания, которых... не должно быть при трезвом взгля¬
де на то, что реально происходит в стране», т. к. «люди
невольно проникаются надеждой, что реформирование
общества сделает его в самое ближайшее время еще бо¬
лее совершенным, способным изменить жизнь к лучшему.
<... > Пора перестать лукавитъ и честно признать: мно¬
гочисленные российские катаклизмы последних лет - это
естественное, причем далеко не самое худшее, состояние
обіцества, неминуемо возникающее в моменты революци¬
онных переворотов» [Опенкин, 1996]. Активный участник
процесса подготовки новой конституции М. Краснов, ана¬
лизируя события 1993 г, впоследствии находил, что этот
«трагический конфликт» был отчасти обусловлен тем, что
«все молчаливо согласились наложить табу даже на само
слово “революция”»: «В силу непонимания или нежелания
понимать глубинный смысл событий, - писал он, - так и
не произошла естественная для любой революции череда
действий: официальный разрыв с предшествующей госу¬
дарственной системой; роспуск законодательных орга¬
нов, сформированных в принципиально иных политических
и идеологических условиях и сохранивших все родовые при¬
знаки прежней системы; выборы учредительного органа
(Учредительного собрания, Конституционного конвента
и т. п.); наконец, принятие этим учредительным органом
66
Конституции России и проведение на ее основе всеобщих
выборов всех органов власти. Вместо этого в государ¬
ственно-правовой сфере процесс приобрел по форме эво¬
люционный характер... который, естественно, вошел в
противоречие с революционным содержанием - сменой го¬
сударственного и общественного строя» [Краснов, 2001].
Эти наблюдения, безусловно, справедливы: действи¬
тельно, определение начатых преобразований в качестве
«реформ»1 имело не только позитивные символические
последствия. Однако нельзя сотаситься, что выбор этого
термина был ошибкой. При наличии столь впечатляющего
негативного консенсуса относительно «революции» вряд
ли можно было использовать это понятие для мобилизации
поддержки и без того обреченного на непопулярность по¬
литического курса. Напротив, обещание хотя и болезнен¬
ных, но быстрых «реформ» имело шансы на успех - по
крайней мере вначале. Тем не менее этой символической
мерой нельзя было предотвратить последующее переопре¬
деление «реформ»: когда постфактум они были признаны
«революцией», это повлекло за собой перенос негативных
коннотаций слова, закрепившихся в конце 1980-х - начале
1990-х гг
Как ни странно, «лихие девяностые» прошли под зна¬
ком риторического неприятия «революции». В этом от¬
ношении властвующая элита и оппозиция были вполне
едины - что, однако, не мешало им использовать данное
1 Как верно заметил Б. Г. Капустин, «революция» - «это
культурный конструкт». Его определение зависит как от «про¬
извола наблюдателей, провозгласивших себя “экспертами”»,
так и от «устойчивых историко-культурных традиций», в
рамках которых мыслится это понятие. Поэтому «борьба за
“символическую власть” есть то, что релятивизирует концепт
“революции”» [Капустин, 2008, с. 13]. Рассматриваемый здесь
случай - хорошая тому иллюстрация.
67
понятие как инструмент критики друг друга. Поэтому ког¬
да председатель правительства и без пяти минут и. о. пре¬
зидента России В. В. Путин написал в своей программной
статье: «Россия исчерпала свой лимит на политические и
социально-экономические потрясения, катаклизмы, ра¬
дикальные преобразования. Только фанатики или глубоко
равнодушные, безразличные к России, к народу политиче¬
ские силы в состоянии призывать к очередной революции»
[Путин, 19996], - он посылал обращение, способное вы¬
звать поддержку практически во всех сегментах политиче¬
ского спектра1. Идея была не нова - ее, как заклинание, не
раз высказывали политики, стоявшие по разные стороны
идеологических баррикад. Тем не менее то, что до сих пор
служило средством самопрезентации или дискредитации
противников, в исполнении «преемника» уходящего пре¬
зидента было воспринято как настоящий манифест ли¬
берального консерватизма. Смена политического лидера
побуждала рассматривать «рубеж тысячелетий» как новый
этап, разделяющий историю постсоветской России на «до»
и «после», что создавало предпосылки для политической
«перезагрузки».
«Нормализация» советского прошлого:
технологии символической политики
2000-х гг.
Действительно, приход В. В. Путина к власти со¬
провождался изменениями в символической политике.
Не будучи в отличие от своего предшественника связан
принадлежностью к политико-идеологическим лагерям
1 Примечательно, что буквально теми же словами об этом
говорил и другой, уже бывший кандидат на роль «преемника»,
С. Степашин [Иванов, 1999].
68
1990-х гг, он мог себе позволить использовать идеи и
символы из репертуара «народно-патриотической оппо¬
зиции», казавшиеся абсолютно не приемлемыми для Ель¬
цина. Первым шагом в этом направлении стало принятие
в 2000 г федеральных конституционных законов о госу¬
дарственных символах России, утвердивших трехцветный
романовский флаг, взятый на вооружение «демократиче¬
скими» силами в дни августовского путча 1991 г, герб с
двуглавым орлом - символ империи Романовых и гимн с
новыми словами, положенными на «старую», советскую,
мелодию. Аргументируя этот компромисс, Путин осуждал
позицию тех, кто «предельно идеологизирует» эти симво¬
лы государства и связывает с ними исключительно «мрач¬
ные стороны в нашей истории». По словам президента,
«если мы будем руководствоваться только этой логикой,
тогда мы должны забыть и достижения нашего народа
на протяжении веков. Куда мы с вами тогда поместим
достижения русской культуры? Куда мы денем Пушки¬
на, Достоевского, Толстого, Чайковского? Куда мы денем
достижения русской науки - Менделеева, Лобачевского и
многих, многих других? А их имена, их достижения тоже
были связаны с этими символами. II неужели за советский
период существования нашей страны нам нечего вспом¬
нитъ, кроме сталинских лагерей и репрессий? Куда мы
тогда с вами денем Дунаевского, Шолохова, Шостакови¬
ча, Королева и достижения в области космоса? Куда мы
денем полет Юрия Гагарина? А как же блестящие победы
русского оружия со времен Румянцева, Суворова и Куту¬
зова? А как же победа весной 1945 г. ? Я думаю, что если
мы подумаем обо всем этом, то мы признаем, что мы не
только можем, но и должны использовать сегодня все ос¬
новные символы нашего государства» [Путин, 2000д].
Приведенный Путиным список национальных до¬
стижений, которые не должны быть забыты, складывался
из трех категорий: а) заслуги великих соотечественников
на почве культуры и науки, получившие мировое призна-
69
ние; б) военные победы прошлого, в ряду которых особое
место занимает победа в Великой Отечественной войне;
в) достижения в области освоения космоса. Все эти ка¬
тегории соответствуют фрейму «национальной славы».
Однако, будучи «взяты» из разных исторических эпох,
которые в существовавших до сих пор официальных нар¬
ративах (разных версиях советского и ельцинском) опи¬
сывались соласно логике противопоставления друг другу,
они не были связаны «очевидной»1 смысловой схемой. То
же можно было сказать о наборе утвержденных по инициа¬
тиве Путина государственных символов. Как заметил один
из комментаторов, «Путин, по существу, провозгласил док¬
трину тотальной преемственности, в которой должны со¬
единиться и царские, и советские, и “демократические”
ценности» [Васильков, 2000]. «Доктрина тотальной пре¬
емственности», несомненно, знаменовала новый подход
к политическому использованию прошлого: вместо реше¬
ния дилемм, с которыми неизбежно связано конструирова¬
ние целостного нарратива, был взят курс на выборочную
«эксплуатацию» исторических событий, явлений и фигур,
соответствующих конкретному контексту. Такой поход
1 Анализируя алгоритм конструирования исторических
нарративов, Е. Топольски пришел к выводу, что историки
используют не только знание фактов, но и воображение, по¬
могающее им создавать логически последовательные обра¬
зы прошлого, которые доступны восприятию аудитории, т. е.
отвечают «чувству очевидности». «Это не значит, - уточня¬
ет он, - что реципиент должен соглашаться с предлагаемой
историком интерпретацией, но они должны распознавать
нарратив как разумный и заслуживающий принятия во
внимание» [Topolski, 1999, р. 205]. По-видимому, это на¬
блюдение с еще большим основанием можно отнести к нар¬
ративам, являющимся элементами политической риторики,
поскольку их сжатый формат оставляет мало возможностей
для аргументации.
70
позволял успешно выполнять тактические задачи (что в
условиях жесткой идеологической конфронтации было не¬
маловажно), однако он не решал стратегической проблемы
замещения «советского метанарратива» новой смысловой
схемой, объясняющей связь между прошлым, настоящим
и будущим. Как сформулировал это А. Миллер, «возникла
крайне противоречивая конструкция, которая держалась...
на умолчании о проблемах и ответственности» [Миллер,
20126, с. 331]. Кроме того, как я попытаюсь показать в тре¬
тьей главе, выбранный подход плохо стимулировал стра¬
тегические «инвестиции» в развитие «инфраструктуры»
коллективной памяти.
Роль интегратора положительных символов, способ¬
ных служить опорой коллективной идентичности, стала
играть идея великодержавности, проецируемая на всю
«тысячелетнюю историю» России. В новом официальном
дискурсе именно государство (вне зависимости от меняв¬
шихся границ и политических режимов) стало представ¬
ляться в качестве ценностного стержня, скрепляющего
макрополитическую идентичность. Идея «сильного госу¬
дарства» как основы былого и будущего величия России
была ясно сформулирована Путиным в 2003 г: «Хотел бы
напомнить: на всем протяжении нашей истории Россия
и ее граждане совершали и совершают поистине исто¬
рический подвиг, - говорил он в послании Федеральному
Собранию. - Подвиг во имя целостности страны, во имя
мира в ней и стабильной жизни. Удержание государства
на обширном пространстве, сохранение уникального со¬
общества народов при сильных позициях страны в мире -
это не только огромный труд. Это еще и огромные
жертвы, лишения нашего народа» [Путин, 20036]. Впро¬
чем, тема «сильного государства» присутствовала в речах
Путина и раньше [Петров, 2006].
Естественным следствием этих изменений в модели
коллективной идентичности, поддерживаемой властью,
71
стала переоценка советского прошлого. Путин опреде¬
лил свою позицию на этот счет уже в начале своей первой
президентской кампании. В упоминавшейся выше ста¬
тье «Россия на рубеже тысячелетий» он писал: «Было бы
ошибкой не видеть, а тем более отрицать несомненные
достижения того времени», - а ниже в духе «демокра¬
тического» дискурса 1990-х гг. добавлял: «Как ни горь¬
ко признаваться в этом, но почти семь десятилетий мы
двигались по тупиковому маршруту движения, который
проходил в стороне от столбовой дороги цивилизации»
[Путин, 19996]. Таким образом, принимая ельцинский нар¬
ратив, он отказывался от принципа тотального отрицания
советского опыта, определявшего символическую полити¬
ку начала 1990-х гг.
Как я попытаюсь показать в третьей главе, новая
смысловая схема коллективного прошлого оформлялась
постепенно. Решительный разрыв с прежней, ельцин¬
ской, моделью обозначился лишь в начале второго прези¬
дентского срока Путина, когда в послание Федеральному
Собранию 2005 г были включены известные слова о рас¬
паде СССР как «крупнейшей геополитической катастро¬
фе века» [Путин, 2005а]. Они явно противоречили оценке,
многократно озвученной Ельциным (ср.: «Советский Союз
рухнул под тяжестью всеобъемлющего кризиса, разодран¬
ный на куски экономическими, политическими и социаль¬
ными противоречиями» [Ельцин, 1996]). Интерпретация
распада СССР (который де-факто стал актом рождения но¬
вого Российского государства) как случайной катастрофы,
спровоцированной действиями злонамеренных политиков,
хорошо вписывалась в концепцию «тысячелетней» вели¬
кой державы. Однако она полностью противоречила преж¬
нему официальному нарративу, который представлял крах
«тоталитарного» коммунистического режима как истори¬
ческую необходимость и подчеркивал принципиальную
новизну выбора, сделанного в начале 1990-х гг
72
Вместе с тем «реабилитация» советского в официаль¬
ной символической политике происходила избирательно:
наиболее одиозные моменты были исключены из реперту¬
ара «используемого» прошлого. В выступлениях Путина
можно обнаружить немало критических замечаний в адрес
советского опыта; описываемые изменения дискурса не
означали тотальной апологии. История СССР оказалась
«политически пригодной» прежде всего как история вели¬
кой державы, которая, несмотря на все трудности, смогла
осуществить (пусть и не вполне совершенную) модерниза¬
цию и превратиться в ведущего актора мировой политики.
Тоталитарные практики и репрессии были «вынесены за
скобки». Как заметил И. Калинин, мы имеем дело с «по¬
литикой, направленной на перекодирование ностальгии
по советскому прошлому в новую форму российского
патриотизма, для которого “советское”, будучи лишено
исторической специфики, рассматривается как часть ши¬
роко понимаемого... культурного наследия» [Kalinin, 2011,
р. 157]. Примечательно, что сходная редукция «актуаль¬
ной» памяти имела место в массовом сознании. Согласно
наблюдениям социологов Левада-Центра, «символическое
примирение» с советским прошлым в конце 1990-х - на¬
чале 2000-х гг. сопровождалось «декоммунизацией» совет¬
ских символов, которые «теперь связаны в общественном
сознании не с коммунистической партией, ее руковод¬
ством, тоталитарной пропагандой и т. п., а с идеализиро¬
ванным образом коллективного существования “всего
народа”» [Дубин, 2011, с. 18-19]. Очевидно, что такая
трансформация коллективной памяти - следствие времени.
В этом контексте теоретически были возможны разные
подходы к работе с символом Октябрьской революции: как
мы видели на примере «народно-патриотического» дис¬
курса, потенциал «великого события» вполне мог быть
использован в качестве строительного материала для «го-
сударственнического» нарратива - особенно с учетом
73
вышеупомянутой операции перекодирования. В публици¬
стике того времени не было недостатка в предложениях
именно такого варианта «использования» Октября. Одни
авторы подчеркивали международный потенциал этого
символа: «Впервые Россия (СССР явился лишь временной
формой ее существования) в огромной степени влияла на
умонастроения в глобальном масштабе. Она предлагала
свою модель развития (именно российскую, а не интерна¬
ционально-коммунистическую) в качестве образца всему
миру. Впервые был брошен нешуточный вызов абсолютной
ценности западноевропейского опыта для остального че¬
ловечества» [Никонов, 1999]. Другие интерпретировали
Октябрьскую революцию как событие, предотвратившее
«распад России» и способствующее сохранению «стату¬
са великой державы, а не “чистого листа бумаги ”, как
того хотел в 1918 г. американский президент Вильсон,
сводивший в то время границы России “к среднерусской
возвышенности”» [Константинов, 2000]. Многие высту¬
пали с предложением вернуть прежнее название праздни¬
ка. Как писал один из авторов «Российской газеты», «нам
нет резона стыдиться этого вселенского потрясения,
которое в последнее время кое-кто низводит до уровня
“большевистского переворота"», поэтому те, кто «пред¬
лагает забытъ о нем, как о некой беспричинной семей¬
ной склоке, объявив годовщину Октябрьской революции
“Днем согласия и примирения ”», лишают Россию ее исто¬
рии [Васильков, 2000; ср.: Константинов, 2000]. Эти и
другие подобные публикации были ответом на изменения
символической политики, обозначенные первыми шага¬
ми Путина на посту президента: казалось, что признание
«несомненных достижений» советской эпохи открывает
возможность для изменения официальной интерпретации
Октября.
Собственно, реализуя «доктрину тотальной преем¬
ственности», путинская властвующая элита шла по сто-
74
пам КПРФ, которая в начале 1990-х трансформировала
советский нарратив, сделав историю СССР своеобразной
кульминацией «тысячелетней истории» русского народа.
Правда, сама по себе версия, разработанная «народно-па¬
триотической оппозицией», не подходила на роль офи¬
циального нарратива, поскольку она была построена по
модели мифа об утраченном «золотом веке» [Schopflin,
1997; Smith А., 1999], т. е. воспроизводила смысловую схе¬
му, в которой печальное настоящее противопоставлялось
прекрасному прошлому, чтобы мобилизовать сообщество
на перемены ради светлого будущего. Такая схема была
удобна для оппозиции, но не для властвующей элиты, ко¬
торой было важно оправдать настоящее. Тем не менее
пересказывание советского прошлого «патриотическим
языком общего наследия» [Kalinin, 2011, р. 159] в принци¬
пе позволяло не только «забыть» о его «неудобных» стра¬
ницах, но и переосмыслить символ Октября как пусть не
кульминационный, но все же «великий» эпизод «тысяче¬
летней истории». Это не слишком выбивалось бы из об¬
щей эклектической конструкции «тысячелетней истории».
Однако этого не произошло, новая властвующая эли¬
та предпочла продолжить демонтаж «инфраструктуры»
коллективной памяти о революции, отменив в 2004 г. по¬
священный ей праздник. В начале 2000-х гг. федеральные
и московские власти пытались экспериментировать с фор¬
матами празднования 7 ноября, именовавшегося теперь
Днем согласия и примирения. В 2000 г. в этот день поми¬
мо традиционных демонстраций и митингов левых сил на
Васильевском спуске прошла молодежная акция движения
«Идущие вместе», посвященная президенту Владимиру
Путину, а на Ордынке открыли памятник Анне Ахмато¬
вой [Закатнова, 2000]. В 2001 г. 7 ноября проходил тор¬
жественный парад на Красной площади, посвященный
60-летию парада 1941 г; а во второй половине дня того же
дня члены общероссийской молодежной общественной ор-
75
ганизации «Идущие вместе» проводили акцию по очистке
города от мусора [Тучкова, 2001]. В 2003 г праздник про¬
ходил незадолго до думских выборов и был отмечен меро¬
приятиями не только левых, но и правых сил. Однако эти
эксперименты не имели продолжения, и единственным
устойчивым ритуалом праздника оставались мероприятия
левых.
В конце 2004 г. в результате внесения поправок в
Трудовой кодекс 7 ноября перестало быть нерабочим
праздничным днем. «Вместо него» появился новый госу¬
дарственный праздник - День народного единства 4 ноя¬
бря, весьма условно приуроченный к дате освобождения
Китай-города бойцами народного ополчения под пред¬
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
в 1612 г.1 [Назаров, 2004]. Инициатором «замены» был
Межрелигиозный совет России, объединяющий так на¬
зываемые традиционные конфессии. Согласно заявлению
главы Отдела внешних церковных связей Московского Па¬
триархата митрополита Кирилла, совет предложил «сде¬
лать 4 ноября Днем согласия и примирения, потому что
7 ноября в силу исторических событий, произошедших в
этот день, не может быть Днем примирения и согласия»
[Митрополит Кирилл... 2004]. Однако властвующая эли¬
та решила, приняв предложение о переносе праздника на
4 ноября, придать ему другое название и содержание. Ком¬
мунисты выступали против этой инициативы, но остались
1 По единодушному мнению комментаторов и исследо¬
вателей, «замену» нельзя назвать удачной. «Авторам» нового
праздника так и не удалось укоренить его в практиках и риту¬
алах, способных вызвать общественный резонанс; его смысл
остается непонятным и для элит, и для широкой публики [Еф¬
ремова, 2012]. Оставшийся «ничейным» праздник оказался
эффективно использован лишь организаторами традиционно
проходящих в этот день «Русских маршей».
76
в меньшинстве. Позже, 6 июля 2005 г, по предложению
думского комитета по труду и социальной политике были
внесены изменения в Федеральный закон «О днях воин¬
ской славы и памятных датах России», и 7 ноября стало
памятной датой с официальным названием «День Октябрь¬
ской революции 1917 года». Кроме того, этот день оста¬
ется и днем воинской славы - Днем проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве в ознамено¬
вание двадцать четвертой годовщины Великой Октябрь¬
ской социалистической революции (1941 год) [ФЗ от
13 марта 1995 г. № ЗІ-ФЗ]. Таким образом, в итоге рефор¬
мы праздничного календаря 7 ноября вновь стало Днем
Октябрьской революции (правда, уже не «великой» и «со¬
циалистической»), а ельцинский вариант названия празд¬
ника оказался отвергнут1.
Возникает вопрос: почему в середине 2000-х гг, как
и в начале 1990-х, властвующая элита предпочла «отбро¬
сить» символ Октябрьской революции, вместо того чтобы
работать над его трансформацией? Казалось бы, взятый
на вооружение принцип «тотальной преемственности» от¬
крывает возможность для интеграции этого по общеприня¬
тым меркам «великого» события, несомненно значимого с
точки зрения конструирования российской идентичности,
в обновленный национальный нарратив. Мне представля¬
ется весьма правдоподобным объяснение В. Иноземцева,
который обратил внимание на то, что решение о «замене»
праздника было принято 29 декабря 2004 г. - через три
дня после завершения украинской оранжевой революции.
1 Впрочем, эти переименования 7 ноября остались не за¬
меченными широкой публикой. Забавно, что в 2012 г. жур¬
налист «Новых известий» уверял читателей, что эта дата
«последние 16 лет считается не Днем Великой Октябрьской
социалистической революции, как в советское время, а Днем
согласия и примирения» [Кузнецов, 2012]. Большее символи¬
ческое значение имела «замена» праздника.
77
«Смысл, судя по всему, заключался в том, - пишет Ино¬
земцев, - что любая революция - это плохо и даже ужасно,
любое противостояние коварным замыслам Запада - это
хорошо и обнадеживающе, а единение народа с последу¬
ющим избранием самодержца и основанием новой ди¬
настии - и вовсе замечательно...» [Иноземцев, 2012]. Это
объяснение подкрепляется и приведенными выше наблю¬
дениями относительно использования слова «революция»
российской политической элитой.
Возможно, сыграли свою роль и личные взгляды
В. В. Путина, который никогда не выказывал особой при¬
верженности Октябрьской революции. В 1999 г, еще в
ранге председателя правительства, он выступил в МГУ
с актовой речью, посвященной урокам завершающегося
XX в. В этом выступлении, носившем не программный,
а скорее «тренировочный» характер (недавно назначен¬
ный премьер набирал очки в публичных коммуникациях),
Путин говорил о революции как о событии, которое учит,
чего следует избегать ответственным политикам: «Почему
в стране произошла революция 1917 г., или, как ее еще на¬
зывают, октябрьский переворот? - спрашивал он. - Да
потому, что было утрачено единство власти... А также
потому, что материальное благосостояние основной мас¬
сы населения опустилось ниже низшего предела» [Путин,
1999а]. Разделяя, по-видимому, негативное отношение
к «революциям», свойственное значительной части по¬
литической элиты 1990-х гг., Путин ни слова не сказал о
значении Октября для истории XX в., хотя тема к этому,
казалось бы, располагала. В дальнейшем, в своих публич¬
ных выступлениях уже в качестве президента, он предпо¬
читал не вспоминать о революционных истоках советского
опыта.
Судя по всему, квалификация событий 1917 г как «ок¬
тябрьского переворота» не противоречит личным пред¬
ставлениям Путина. Во всяком случае, именно в таком
78
духе он рассуждал на встрече с членами Совета Федера¬
ции 4 июля 2012 г, отвечая на предложение подумать о
коммеморации 100-летия начала Первой мировой войны.
Горячо поддержав эту инициативу, Путин, видимо, экс¬
промтом стал объяснять, почему эта война оказалась «за¬
бытой». По его версии, это произошло «не потому, что ее
обозвали империалистической», а потому, что «тогдаш¬
нее руководство страны» предпочитало не вспоминать о
собственном «национальном предательстве», определив¬
шем ее исход для России [Путин, 2012в]. Как известно, в
условиях начавшейся Гражданской войны большевистское
руководство подписало с де-факто проигравшей войну
Германией сепаратный мир в Брест-Литовске. Некоторые
историки усматривают в действиях большевиков, обеспе¬
чивших досрочный вывод России из войны, выполнение
обязательств перед германским правительством, которое -
это документально известно - оказывало им финансовую
помощь. Однако Путин не стал развивать конспирологиче¬
скую версию; он усмотрел «национальное предательство
тогдашнего руководства страны» в действиях, которые
привели к потере огромных территорий и принесли ущерб
интересам страны. Правда, он тут же оговорился: больше¬
вистское руководство «искупило свою вину перед страной
в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной)Г 11 Лидер коммунистов Г. А. Зюганов опроверг на партий¬
ном сайте заявление Путина о «национальном предательстве»
большевиков, предложив свою версию событий, согласно ко¬
торой в неудачах России в Первой мировой войне и падении
империи виноват «кризис царизма и вырождение династии
Романовых». Большевики, по мнению Зюганова, не имеют от¬
ношения к распаду страны - напротив, «Гражданская война...
быстро приобрела характер национально-освободительной»,
и, победив, «они буквально в считаные годы заново собрали
воедино подавляющую часть государства Российского, обес¬
печив ему такое экономическое, социальное и культурное
79
[там же]. Очевидно, что при такой постановке вопроса Ок¬
тябрьская революция вряд ли может рассматриваться как
«великое событие», которым следует гордиться, - скорее
это момент трагического «срыва», «исправленный» после¬
дующим ходом истории.
Отмена праздника 7 ноября способствовала пониже¬
нию актуальности этого события в репертуаре политиче¬
ски используемого прошлого, однако не прекратила споры
о бывшем «главном событии XX века». По мере увеличе¬
ния временной и семантической дистанции между «со¬
ветским» и «постсоветским» символ Октября все реже
используется в режиме прямых ассоциаций. Включаясь в
обсуждение событий 1917 г (как правило, по случаям уже
не ежегодных, а юбилейных коммемораций), политики
озабочены конструированием «удобных» для них смысло¬
вых схем коллективного прошлого; символ революции уже
не столь актуален в качестве инструмента оправдания или
критики текущего политического курса.
Следствием этого стало очевидное расширение спектра
интерпретаций Октябрьской революции как «великого со¬
бытия», выполненных с разных идеологических позиций.
Эта тенденция особенно заметна при сравнении юбилей¬
ных публикаций политиков и публичных интеллектуалов
в 2007 г и 1997 г. Если «коммунистическая» версия не
претерпела особых изменений - большая часть юбилей¬
ного выступления Г. Зюганова в 2007 г. была дословным
повторением его текста 1997 г. [Зюганов, 2007], - то «со¬
циал-демократическая» получила развитие благодаря по¬
явлению претендующей на эту идеологическую нишу
«Справедливой России». Лидер этой партии С. М. Миро¬
нов опубликовал в «Российской газете» большую статью,
в которой критиковал и коммунистов, и либералов, и ано-
единство, которого наша страна никогда не знача прежде»
[Зюганов, 2012].
80
нимных представителей власти, которым хочется, «чтобы
общество забыло об Октябре 17-го». Отвергая мнение, что
революция была «исключительно детищем большевиков»,
он доказывал, что она была частью глобального процесса,
«самым крупным из социальных катаклизмов» той эпохи.
Миронов представлял Октябрьскую революцию как вы¬
нужденный ответ на вызов глобализации, поставивший
многие страны перед выбором: «либо находить способы
догоняющего развития, форсированной модернизации
и политической трансформации, либо смириться с про¬
игрышем, со своей второстепенной ролью» [Миронов,
2007]. Выводя «уроки» из предпосылок революции {«ког¬
да жизнь требует заниматься модернизацией страны,
крайне опасно затягивать этот процесс, откладывать на
потом», опасно накапливать культурный и социально-эко¬
номический разрыв между «правящим слоем» и народом и
т. «.), лидер «Справедливой России» вместе с тем не раз¬
делял негативной оценки Октября. Интерпретируя рево¬
люцию с точки зрения истории народа, а не государства,
он утверждал: «...Отнюдь не тоталитарный режим был
главным источником всех лучших достижений советской
эпохи, которыми мы можем и должны гордиться сегод¬
ня. Этим источником была именно энергия “разжавшейся
пружины ”, народного порыва к достойной и справедливой
жизни» [там же]. Отмечая несомненные достижения со¬
ветского режима в деле модернизации, он признавал, что
«цена всего этого в результате деятельности тотали¬
тарного режима оказалась ужасной» и что в конечном
счете «режим... завел страну в новые тупики» [там же].
Этот нарратив идеально соответствовал задаче обоснова¬
ния заявленной политической цели возглавляемой Миро¬
новым партии - движению к «социализму XXI века».
Вместе с тем и на «патриотическом» фланге сопер¬
ничали разные интерпретации, ставящие во главу угла
«русский народ» или «государство». Примером первого
81
подхода может служить позиция Н. Нарочницкой, которая
призывала «отделить рассмотрение революции от анали¬
за советского периода истории», «проект» - от «итога
приспособления этого проекта к русской почве». Рассма¬
тривая историю XX в. с позиций русского национализма,
Нарочницкая предлагала «признать огромную драматиче¬
скую значимость советского периода истории», отделяя
его от Октябрьской революции, которая «была сознатель¬
ным чудовищным погромом русской государственности
“до основания”». Согласно ее интерпретации, «дух Мая
1945-го... в значительной мере обезвредил разрушитель¬
ный и антирусский пафос ниспровержения. Великая Оте¬
чественная война востребовала национальное чувство,
подорванное “пролетарским интернационализмом ”, и вос¬
становила, казалось бы, навек разорванную нить русской
и советской истории» [Нарочницкая, 2007]. Нельзя не за¬
метить, что эта смысловая схема вполне соответствовала
официальной практике коммеморации советского прошло¬
го: как мы увидим дальше, упорно отказываясь работать с
символом Октября 1917 г, властвующая элита стремилась
превратить в «миф происхождения» современной России
Великую Отечественную войну, нагружая этот символ но¬
выми смыслами.
Впрочем, как показала дискуссия, апология Октября
была возможна и в рамках «националистической» версии
«патриотического» подхода. Если исходить из того, что ре¬
волюция предотвратила «втягивание страны в мировую ка¬
питалистическую систему на правах периферийной зоны»,
а советский проект рассматривать как способ вырваться
из этой «исторической ловушки», то в большевиках мож¬
но увидеть силу, «выбранную» (в «мистическом» смысле)
народом и «в наибольшей степени соответствующую его
убеждениям», как это предлагал делать С. Кара-Мурза [Ка¬
ра-Мурза, 2007].
82
С точки же зрения «государственнической» версии
«патриотического» подхода возвеличивание революции и
вовсе не представляло трудности при условии, что больше¬
вики представляются политической силой, ответственной
за «восстановление» России, а не за ее распад (вина за по¬
следний возлагается на царя и Временное правительство).
Например, согласно образной интерпретации главного ре¬
дактора газеты «Завтра» А. Проханова, «Октябрьская рево¬
люция - это промыслителъный рывок, которым гибнущая
в пучине Россия была выхвачена из бездны и возвращена в
историю, пусть в виде “красного проекта ”, в образе Ста¬
линской Империи. Вершиной этой Империи была Победа
сорок пятого года, небывалая точка в эволюции человече¬
ства, сравнимая с Рождеством Христовым» [Проханов,
2007]. Менее красочно ту же схему воспроизводил и Г. Зю¬
ганов [Зюганов, 2007; Тукмаков, 2007].
Были и публикации, предлагавшие более взвешенный
подход, сочетающий критическую оценку Октября с при¬
знанием его величия. Как писал, к примеру, В. Третьяков,
«это была Великая революция. Великая абсолютно по всем
параметрам и по всем своим последствиям», поэтому к ее
оценке нельзя подходить с позиций тотальной апологетики
или огульной критики. По словам главного редактора «Мо¬
сковских новостей», «большой террор хоть, безусловно, и
значительно обесценивает Великую революцию, но не мо¬
жет обессмыслить ее полностью» [Третьяков, 2007].
Но были и публикации, интерпретировавшие события
1917 г как «переворот». Например, в редакционной статье
«Независимой газеты» бесстрастный перечень несчастий
и достижений СССР завершался констатацией финальной
неудачи «дела Октября» («Стало очевидно, что революция
17 г. на самом деле была переворотом. Ведь принципы на¬
стоящей революции, подобно Французской, необратимы»
[90 лет... 2007]).
83
Таким образом, и в 2007 г. разброс оценок Октябрьской
революции сохранялся. Однако страсти заметно поутихли,
и стало заметно больше интерпретаций, встраивающих
данный символ в нарративные схемы разной идеологиче¬
ской направленности. Примерно такую же картину зафик¬
сировал в 2007 г опрос Левада-Центра: более половины
опрошенных высказались о результатах революции по¬
ложительно (31 % согласились, что она «дала толчок со¬
циальному и экономическому развитию народов России»,
24 % подтвердили, что она «открыла новую эру в истории
народов России»), Вместе с тем 19 % респондентов на¬
звали ее катастрофой [Есть разные мнения... 2011]. Ана¬
логичный разброс мнений показали и опросы ВЦИОМ в
2012 г: 27 % опрошенных полагают, что революция дала
толчок социальному развитию (против 34 % в 2002 г.),
21 % - что она открыла новую эру в истории России (про¬
тив 25 % в 2002 г). Однако доля тех, кто считает события
октября 1917 г. катастрофой для нашей страны, составила
18 %, а доля рассматривающих ее как препятствие на пути
социально-экономического развития - 17 % [Революция...
2012].
«Октябрьский переворот»
или «Великая российская революция»?
В 2012-2013 гг. тема революции вновь стала предме¬
том общественных дискуссий - не только из-за июльской
полемики Путина и Зюганова о «национальном преда¬
тельстве» большевиков и отмечавшегося в 2012 г. 95-ле-
тия Октября, но и в связи с подготовкой концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной исто¬
рии. Ее разработка была инициирована В. В. Путиным в
феврале 2013 г. на заседании Совета при президенте РФ
по межнациональным отношениям. Президент предложил
«подумать о единых учебниках истории России для сред-
84
ней школы... построенных в рамках единой концепции, в
рамках единой логики непрерывной российской истории,
взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам
нашего прошлого» [Путин, 2013а]. Для подготовки «еди¬
ной концепции», порученной Министерству образования
и науки Российской Федерации совместно с Российской
академией наук, была создана рабочая группа под руко¬
водством спикера Государственной Думы и председателя
Российского исторического общества С. Е. Нарышкина, в
состав которой вошли историки, общественные деятели и
учителя истории. Работа комиссии, протекавшая в режиме
экспертных дискуссий, вызывала живой интерес у СМИ и
сопровождалась множеством спекуляций [Вязовик, 2014].
31 октября 2013 г. на суд заказчика был представлен итого¬
вый документ, в котором помимо прочего была предложе¬
на новая формула событий 1917 г. - «Великая российская
революция 1917-1921 гг.» [Концепция... 2013, с. 46]. По
аналогии с Французской революцией [Чубарьян, 2013] ав¬
торы концепции решили раздвинуть хронологические
рамки, представив Великую российскую революцию как
долгий процесс, в котором следует выделять февральский,
октябрьский этапы и закончившуюся в 1921 г. Граждан¬
скую войну.
Таким образом, незадолго до 100-летнего юбилея Ок¬
тября идея «великой революции» в обновленной формули¬
ровке оказалась «возвращена» в одобряемую государством
смысловую схему отечественной истории. Это не пре¬
кратило общественные дискуссии по поводу мифа осно¬
вания советского общества - новое определение событий
1917-1921 гг. вызывает возражения у части коммунистов
и русских националистов. Тем не менее на основе пред¬
ставленного выше анализа динамики интерпретации сим¬
вола Октября в постсоветском политическом дискурсе
можно предположить, что формула «Великой российской
революции» способна вписаться в широкий спектр идео-
85
логических конструкций, представленных на современном
«рынке идей». В конечном итоге «успех» данной иннова¬
ции у взрослой аудитории зависит от того, насколько си¬
стематически она будет использоваться и продвигаться
политической, медийной и культурной элитой. И здесь
многое будет определяться готовностью «авторов» госу¬
дарственной символической политики и лично президента
Путина воспринять инновацию, предложенную созданной
по его инициативе комиссией.
Судя по недавним речам президента, определенности в
данном вопросе пока не достигнуто. С одной стороны, на
встрече с авторами концепции нового учебника истории
16 января 2014 г, ставя задачу подготовки к празднова¬
нию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и
100-летия Февральской и Октябрьской революций, Путин
отмечал: «Эти даты имеют большое общенациональ¬
ное значение, причем все из них, какие бы оценки мы им
ни давали, но это факт» [Путин, 2014а]. С другой сто¬
роны, выступая 1 августа 2014 г на открытии памятника
героям Первой мировой войны, президент фактически вос¬
произвел озвученную им двумя годами ранее историю об
«украденной победе» и «национальном предательстве»
тех, «кто призывал к поражению своего Отечества, своей
армии, сеял распри внутри России, рвался к власти, пре¬
давая национальные интересы», т. е. большевиков [Путин,
2014д]. Очевидно, что в контексте украинского кризиса
и санкций со стороны Запада тема борьбы с «националь¬
ными предателями» приобретает особую актуальность.
Таким образом, пока трудно сказать, чему будет отдано
предпочтение - политической конъюнктуре или страте¬
гической задаче формирования репертуара исторических
символов, способных служить основой национальной
идентичности.
Ретроспективный анализ опыта политического ис¬
пользования Октябрьской революции в постсоветском
86
контексте позволяет сделать вывод, что стратегия частич¬
ной реинтерпретации события, игравшего центральную
роль в «старом» нарративе коллективного прошлого и ос¬
новательно укоренившегося в сложившейся «инфраструк¬
туре» памяти, имеет гораздо больше шансов на успех,
нежели стратегия его радикальной переоценки и пониже¬
ния символического статуса. Последняя не только требует
единства воли и привлечения значительных ресурсов (что
сложно обеспечить в условиях столь масштабной транс¬
формации), но и создает дополнительные политические
риски, отдавая «готовый» к употреблению символический
ресурс в безраздельное пользование оппозиции. Как я по¬
пыталась показать, возможность использования первой
стратегии теоретически существовала (хотя с учетом осо¬
бенностей векторов символической политики и обще¬
го политического контекста, в 1990-х гг. реализовать ее
было сложнее, нежели в 2000-х гг). Однако она не была
взята на вооружение властвующей элитой. Причины это¬
го, по-видимому, следует искать, с одной стороны, в осо¬
бенностях идеологических конструкций, служивших для
легитимации принимаемых решений, а с другой - в субъ¬
ективных предпочтениях лиц, принимавших решения.
Вместе с тем если в 1990-х гг. переоценка символа Ок¬
тябрьской революции происходила в условиях жесткого
противостояния власти и оппозиции, то в 2000-х гг. сфор¬
мировался более широкий спектр позиций, т. е. появилось
множество новых возможностей для его интеграции в на¬
циональный нарратив в качестве «великого» и драматиче¬
ского события, которое не может оцениваться однозначно.
Этому способствовал не только естественный процесс из¬
бирательного «забывания» советского прошлого, но и по¬
литические изменения 2000-х гг - ослабление оппозиции,
установление частичного контроля над СМИ и «нормали¬
зация» советского прошлого.
2. Политическое использование
символа Великой Отечественной войны
Совершенно иначе сложилась практика политического
использования второго события, игравшего центральную
роль в советском нарративе коллективного прошлого, - Ве¬
ликой Отечественной войны. По мнению некоторых ис¬
следователей, миф о войне1 еще в советское время - при
Н. С. Хрущеве и Л. И. Брежневе - стал «затмевать» собой
Октябрьскую революцию, приобретая функции мифа ос¬
нования [Gill, 2011, р. 198-199, ер.: Копосов, 2011, с. 102—
105]. Подтверждение этой гипотезы требует специального
исследования, однако не вызывает сомнений, что Великая
Отечественная война превратилась в ключевое звено офи¬
циального нарратива, придавая определенность его глав¬
ной сюжетной линии: советский строй, рождавшийся в
ходе Октябрьской революции, Гражданской войны, нэпа,
индустриализации, коллективизации и борьбы с «классо¬
выми врагами», доказал свою силу, обеспечив Победу над
фашизмом. Несомненное величие Победы оправдывало
все «издержки» выбора, сделанного в Октябре. Коммемо-
рация Великой Отечественной войны опиралась на солид¬
ную «инфраструктуру» коллективной памяти, созданную
1 Память современников о Великой Отечественной войне,
как и о любом историческом событии, затрагивающем судь¬
бы миллионов людей, плюралистична и противоречива. В ее
формировании и трансформации существенную роль играли
коллективно разделяемые фреймы, которые в значительной
степени были продуктом целенаправленной «идеологической
работы». Мифический (т. е. «спрямленный» и «очищенный»
от неудобных подробностей) нарратив о войне, удобный для
политического использования, формировался уже в ходе са¬
мой войны и в ближайшие послевоенные годы [Копосов,
2011, с. 90-94].
88
отчасти в хрущевский, но главным образом в брежневский
период1.
Данное обстоятельство сыграло свою роль в том, что
после распада советского нарратива Великая Отечествен¬
ная война оказалась элементом коллективного прошлого,
наиболее удобным для политического использования. Бу¬
дучи основательно закреплена в предыдущие периоды,
память о войне транслируется через разные каналы соци¬
ализации, в силу чего отличается уникальной органично¬
стью. При этом она обладает значительной символической
«поливалентностью» и может быть вписана в широкий
спектр культурно одобряемых фреймов (национальная сла¬
ва, героизм, борьба за свободу, коллективная жертва и др.),
благодаря чему удобна для конструирования положитель¬
но окрашенного образа Нас в разных контекстах. Наконец,
хотя нарратив о Великой Победе с течением времени не¬
избежно подвергается реинтерпретации, ни одна серьез¬
ная политическая сила в России не ставит под сомнение
значение памяти о войне в отличие, например, от Украи-
1 При Сталине практики публичной коммеморации войны
не отличались особым размахом. Исследователи объясняют
это опасениями за судьбу режима, на который могла быть воз¬
ложена ответственность за масштаб потерь, и послевоенным
«закручиванием гаек» [Копосов, 2011, с. 93]. Однако воз¬
можно и еще одно объяснение - травмы, нанесенные войной,
были слишком свежи, чтобы растравливать их пышными пу¬
бличными коммеморациями. В таких случаях «терапевтиче¬
ское» забвение является весьма распространенной практикой.
Так или иначе, при Сталине после 1945 г. День Победы не
отмечался парадом на Красной площади, и с 1948 по 1965 г.
он не был выходным днем. Об эволюции практики полити¬
ческого использования Великой Отечественной войны в со¬
ветский период впоследствии писали многие исследователи
[Тшпагкітт, 1994; Копосов, 2011, с. 90-105; Gill, 2011, р. 198
200 и др.]
89
ньг, где оценка событий Второй мировой войны является
предметом острых споров [Shevel, 2011; Журженко, 2013].
Благодаря этому символ Великой Отечественной войны
оказался чуть ли не единственным элементом актуализиро¬
ванного прошлого, способным служить опорой современ¬
ной российской идентичности - причем вне зависимости
от менявшегося подхода к конструированию национально¬
го нарратива.
Наличие широкого общественного консенсуса отно¬
сительно значимости Великой Победы не означает от¬
сутствия конкуренции разных интерпретаций войны и
предшествовавших ей, а также вытекавших из нее собы¬
тий. Привычные образы приходилось корректировать с
учетом нового негативного знания о советском прошлом,
ставшего достоянием гласности в годы перестройки, и
этот процесс происходил не без борьбы. Как справедливо
заметил испанский исследователь М. Васкес Линьян, ис¬
пользование символа Великой Отечественной войны вле¬
чет за собой необходимость «так или иначе заниматься
вещами, выходящими за рамки победы “без контекста”» -
в частности, ролью И. Сталина в победах и поражениях,
репрессиями, политикой СССР в Европе до и после войны
и др. [Vazquez Linan, 2012, р. 22]. Хотя великое значение
Победы является предметом безусловного консенсуса,
многие события, прямо или косвенно связанные с войной,
до сих пор вызывают острые споры, что стимулирует по¬
литическое использование символа Великой Победы, но
затрудняет его интеграцию в общую смысловую схему
коллективного прошлого. В символической политике, осу¬
ществляемой от имени государства, в 1990-х и 2000-х гг.
эта проблема решалась по-разному.
90
1990-е гг.; в поисках новых подходов
к политическому использованию памяти
о войне
Несмотря на общий критический тон репрезентации
советского прошлого в начале 1990-х гг., «команда Ельци¬
на», по-видимому, сознавала ценность памяти о войне и
искала новые способы политического использования этого
богатого ресурса. Это проявлялось в ревизии сложившихся
ритуалов празднования, поиске новых символов, новаци¬
ях в официальной риторике 1990-х гг. и др. Власть стре¬
милась вписать войну в «критический» нарратив истории
XX в., представляя ее как подвиг народа, а не коммунисти¬
ческой партии и советского государства. При этом она в
некотором смысле развивала опыт «исправления» офици¬
альной истории войны после XX съезда КПСС [Копосов,
2011, с. 98-100]. Однако, если в период оттепели сталин¬
ские репрессии интерпретировали как «отдельные пере¬
гибы», а Победу рассматривали как триумф и оправдание
социалистического строя, то в начале 1990-х переоценка
«советского эксперимента» позволила акцентировать стра¬
дания народа, оказавшегося жертвой не только жестокого
врага, но и бесчеловечного режима. Это придавало особое
звучание теме героизма и патриотизма советского народа,
одержавшего победу не столько благодаря, сколько вопре¬
ки «системе».
Стремление найти новые формы коммеморации Вели¬
кой Отечественной войны отчетливо просматривается в
ревизии сложившихся практик празднования Дня Победы.
Принято считать, что центральным элементом позднесо¬
ветского канона был военный парад на Красной площади
с участием высшего советского и партийного руководства,
стоящего на трибуне мавзолея В. И. Ленина. В действи¬
тельности военные парады на Красной площади 9 мая
проводились не так часто: после 1945 г их не устраива-
91
ли вплоть до 1965 г, а в дальнейшем парадом отмечались
юбилеи Победы (ежегодные парады проходили 7 ноября).
Ежегодные парады - это «изобретенная» в постсоветский
период традиция. То обстоятельство, что этот празднич¬
ный ритуал отложился в памяти многих современников,
говорит о его символической значимости - он не толь¬
ко отсылал к славной истории парадов военного периода
(ноябрьского парада 1941 г., проходившего в осажденной
фашистами Москве, и парада Победы 1945 г), но и под¬
черкивал связь между победой над нацистской Германией
и Великой Октябрьской революцией1. Последний совет¬
ский парад 9 мая состоялся в 1990 г, в ознаменование 45-й
годовщины Победы.
С 1993 г. празднества в честь Дня Победы попытались
перенести в новый мемориальный комплекс на Поклонной
горе. Идея сооружения на западе Москвы памятника Побе¬
де советского народа в Великой Отечественной войне воз¬
никла еще в 1950-х гг. (в 1958 г. был установлен памятный
гранитный знак и заложен парк). Сооружение комплекса
растянулось на долгие годы, строительные работы нача¬
лись лишь в 1984 г, и в 1993-1995 гг мемориал поэтапно
вводился в строй. В 1993 и 1994 гг. торжества по случаю
Дня Победы проходили на Поклонной горе. Новое место
не было связано с советскими ритуалами, но имело па¬
триотические коннотации (согласно легенде, где-то здесь
в 1812 г. Наполеон ждал делегацию «с ключами древнего
Кремля»). Однако новые форматы празднования не уда¬
лось закрепить. В условиях развертывающегося конфликта
между президентом и Верховным советом перенос офици¬
альных мероприятий на Поклонную гору оказался неудач¬
1 Еще один символ этой связи - Вечный огонь на моги¬
ле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, зажженный
от Вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде, который, в
свою очередь, увековечивает память о жертвах революции.
92
ным решением: тем самым пространство в центре города,
традиционно ассоциировавшееся с властью, предостав¬
лялось в распоряжение лево-патриотической оппозиции,
которая проводила в этот день «альтернативные» меропри¬
ятия [Smith, 2002, р. 89].
В 1995 г, при подготовке к празднованию 50-летия
Победы, администрация Ельцина приняла меры к исправ¬
лению этого символического просчета. Торжества готови¬
лись в разгар военной кампании в Чечне и в преддверии
выборов в Государственную думу. И то, и другое препят¬
ствовало демонстрации единства, подобающего для столь
важного события1. Кроме того, бурная реакция на данное
Б. Н. Ельциным в конце 1994 г. обещание вернуть Герма¬
нии трофейные культурные ценности [Smith, 2002, ch. 4]
показала, что значительная часть общества не разделя¬
ет стремления властвующей элиты «десоветизировать»
память о войне и частично отказаться от ее моральных и
материальных «результатов» только потому, что они были
получены не вполне «праведными» методами. В этих ус¬
ловиях правящая элита сочла за благо вернуть некоторые
элементы советского ритуала - «исторический» парад на
Красной площади, речь президента с трибуны мавзолея и
1 О том, каким диссонансом чеченская война вторгалась
в торжественную подготовку праздника, свидетельствует за¬
рисовка журналиста С. Кондрашова о телерепортажах с двух
войн, соседствовавших в выпусках новостей «Останкино»:
«Одни кадры были черно-белые, другие - цветные. На первых
наши войска все ближе подходили к Берлину, сокрушая сопро¬
тивление немцев. На вторых внуки победителей штурмовали
российский город Грозный. В год пятидесятилетия Великой
Победы вдруг ворвалась в программу празднования война на
собственной территории, бросая бесславный отсвет на се¬
годняшний день, на минувшие полвека и на весь трагический
советско-российский век» [Кондрашов, 1995].
93
Знамя Победы, участвовавшее в торжествах наряду с трех¬
цветным государственным флагом.
Этот символический жест многими был воспринят
как отступление от курса на «десоветизацию» военного
нарратива. Выступая на канале ОРТ, Ельцин был вынуж¬
ден опровергать предположение, что власть поддержала
настроение «ностальгии по тому общественному строю,
который победил». Отвечая на прямой вопрос корреспон¬
дента, он заявлял: «Не согласен с этим. Категорически
не согласен/ <...> А при каком строе победил народ при
Александре Невском на Чудском озере, а при каком строе
Дмитрий Донской победил? А при каком строе Наполео¬
на разбили? При крепостном строе. Так что, выходит,
крепостной строй тогда решил победу народа и нашей
страны? II сейчас то же самое. Нет, не строй, а народ,
наш народ, его характер... вот что решило» [Ельцин,
19956]. Таким образом, несмотря на возвращение отдель¬
ных элементов советской символики, власть деклариро¬
вала приверженность критике старого режима. В свою
очередь оппозиция не отказалась от организации «аль¬
тернативных» юбилейных мероприятий: от Белорусского
вокзала к Лубянской площади прошел «марш обиженных
ветеранов», в котором, по разным оценкам, приняли уча¬
стие от 35 до 500 тыс. человек [Красников, 1995]. И власть,
и оппозиция использовали символ Великой Победы для
мобилизации политической поддержки, встраивая ее в соб¬
ственные версии нарративов истории XX в. При этом они
конкурировали за связанные с этим символом ресурсы, но
не оспаривали его значимость.
Прямое отношение к памяти о войне имела и другая
распространенная в тот период практика - эксплуатация
темы фашистской угрозы для борьбы с политическими
противниками. Ельцин и его окружение охотно взяли на
вооружение выражение «красно-коричневые», родивше¬
еся в «демократическом» дискурсе начала 1990-х гг. Этот
94
термин, указывавший на общую «тоталитарную» природу
коммунизма и фашизма, употребляли, чтобы подчеркнуть
опасности, грозящие России в случае прихода к власти ко¬
алиции левых и националистов. «Красно-коричневым пут¬
чем» впоследствии стали называть события августа 1991 г
[Янаев, 1992]. В 1992-1993 гг. сторонники президента го¬
ворили о «красно-коричневой партийности» Верховно¬
го совета [21 сентября... 1993]. Заказывались соцопросы,
чтобы изучить, верят ли граждане в реальность «красно¬
коричневой опасности»1. В октябре 1993 г, когда Ельцин
в своем обращении к гражданам России назвал расстрел
Белого дома подавлением «вооруженного фашистско-ком¬
мунистического мятежа в Москве» [Ельцин, 19936; ср.:
Лужков, 1993], термины «красно-коричневые», «коммуно-
фашизм» уже имели широкое употребление в СМИ. Они
использовались не только для стигматизации политических
противников и легитимации их подавления, но и в качестве
аргумента для Запада, от которого ждали экономической
поддержки реформ [Пархоменко, 1992], а также для моби¬
лизации электоральной поддержки [Долганов, 1995]. В ре¬
зультате такого рода пропаганды противники власти справа
и слева представлялись в качестве единой и опасной силы,
которой необходимо противостоять любыми средствами.
В свою очередь, оппоненты пытались контратаковать, рас¬
суждая о «растущей угрозе демофашизма» [Остапчук,
Красников, 1992; ЕІуйкин, 1995]. При этом обе стороны,
используя понятие «фашизм» для конструирования обра¬
зов противников, обращались с ним весьма вольно2. Когда
1 Согласно данным опроса ВЦИОМ, в июле 1992 г. 42 %
опрошенных москвичей заявили, что верят в существование
«красно-коричневой опасности» (37 % утверждали, что не ве¬
рят, 21 % затруднились с ответом) [Опрос ВЦИОМ, 1992].
2 Практика применения термина «фашизм» для неугод¬
ных политических сил в других странах широко применялась
и в советской пропаганде. Явление того же ряда - выражение
95
во второй половине 1990-х гг. потребовалось найти юри¬
дические основания для ограничения деятельности ради¬
кальных националистических организаций вроде «Русского
национального единства» А. Баркашова, выяснилось, что
термин «фашизм» сложно использовать в качестве строго¬
го квалифицирующего понятия в силу неопределенности
его смыслового ядра в российском контексте. Выступая в
качестве воплощения «абсолютного зла», данное понятие
не связывалось с конкретным набором идей и практик, су¬
ществовавших на отечественной почве. Как констатировал
действующий тогда министр юстиции П. Крашенинников,
«получилось так, что когда мы столкнулись с угрозой появ¬
ления фашизма в собственной стране и даже с элементами
его проявления, то оказались безоружными» [Никто не хо¬
чет называться фашистом, 1998].
В преддверии парламентских и президентских вы¬
боров 1995-1996 гг. интерпретация советского прошлого
оказалась предметом острой политической борьбы. Это
побудило Ельцина и его сторонников уделить более се¬
рьезное внимание обоснованию нового исторического нар¬
ратива. Как уже отмечалось в предыдущей главе, данной
теме была посвящена значительная часть ежегодного по¬
слания Федеральному Собранию, зачитанного 23 февраля
1996 г. Призывая соотечественников найти верную шкалу
для оценки трудного периода начала 1990-х гг, первый
президент РФ попытался оправдать тяготы реформ необ¬
ходимостью выживания после краха коммунистического
проекта, «не выдержавшего испытания на большой исто¬
рической дистанции» [Ельцин, 1996]. Примечательно, что
в своем экскурсе в политическую историю XX в. Ельцин
полностью обошел вниманием тему Великой Победы,
которая в советском нарративе рассматривалась как под-
«нацистско-бандеровская банда», используемое для дискреди¬
тации лидеров украинского Майдана [Липский, 2014].
96
тверждение «правоты» и косвенное оправдание «переги¬
бов» коммунистического режима. В пространном тексте
послания имелось лишь одно упоминание о войне, и оно
относилось к людям, а не к государству и строю. Заканчи¬
вая выступление, Ельцин говорил: «Верю в свое поколение,
мужавшее в годы войны и тяжелой мирной жизни, кото¬
рое не сломить под грузом нынешних проблем» [там же].
Хотя патриотический мотив веры «в наше государство с
его нелегкой, но великой тысячелетней историей» рефре¬
ном проходил через текст послания, его авторы настойчиво
стремились подчеркнуть, что все достижения (в том числе
и советского периода) - это «заслуга народа, сумевшего со¬
хранить, несмотря ни на что, свои лучшие национальные
черты и качества...» [там же]. Таким образом, Великая
Отечественная война вписывалась в представленный Ель¬
циным «критический» нарратив как подвиг народа, а не
государства и строя.
Стремясь трансформировать «инфраструктуру» памя¬
ти о войне в соответствии с таким подходом, властвующая
элита экспериментировала не только с практиками комме-
морации. Той же цели, по-видимому, служила и попытка
«канонизации» фигуры маршала Г. П. Жукова. Как извест¬
но, выдающийся советский военачальник, командовавший
рядом решающих операций Великой Отечественной войны,
включая оборону Москвы и Ленинграда и взятие Берлина,
после войны оказался в опале. На Октябрьском пленуме
ЦК КПСС 1957 г. Жукова обвинили в «нарушении ленин¬
ских принципов» руководства вооруженными силами и
вывели из состава Президиума ЦК и ЦК КПСС, а затем ос¬
вободили и от должности министра обороны. Несмотря на
это, он продолжал пользоваться авторитетом у ветеранов,
а опубликованные им в 1969 г. мемуары считались источ¬
ником «правды о войне». В 1994 г. Ельцин издал указы о
сооружении памятника выдающемуся военачальнику на
Красной площади и учреждении медали и ордена Жукова.
97
В коммеморации опального маршала можно усмотреть не
только стремление реабилитировать «репрессированную»
память о войне, но и попытку создать «альтернативу» фи¬
гуре Сталина. Как писал один из современников, «когда к
50-летию Победы улицы городов украсились гигантскими
репродукциями коринского парадного портрета марша¬
ла Жукова, увешанного бесчисленными орденами, трудно
было отделаться от впечатления, что в этой культово-
сти Жуков лишь заменяет кого-то другого, маршал - ге¬
нералиссимуса» [Соколов, 1996]. Однако «замена» вряд ли
могла быть успешной: типичный представитель советской
властной элиты 1930-1940-х гг и сторонник принципа по¬
беды «любой ценой», Жуков явно не годился на роль героя
«антисталинского» нарратива о войне [там же; Полянов-
ский, 1995].
Как отмечалось в предыдущей главе, в 1996 г в сим¬
волической политике ельцинской элиты наметились не¬
которые изменения, призванные продемонстрировать
ее готовность к «единению и согласию». В отсутствие
внутриэлитного консенсуса относительно модели новой
коллективной идентичности оказалось невозможно про¬
должать линию на радикальную переоценку коллективного
прошлого. Коммеморация Великой Отечественной войны
была наиболее благодатной почвой для уступок: последние
можно было представить как дань уважения ветеранам,
т. е. людям, а не режиму. В 1996 г. «советские» символы
Дня Победы, возрожденные ad hoc во время празднования
50-летнего юбилея, получили постоянный статус. Было
принято решение о ежегодном проведении 9 мая военного
парада на Красной площади1. Кроме того, 15 апреля 1996 г.
1 Очевидно стремление Ельцина уравновесить закрепле¬
ние «возвращенных» (а в действительности изобретенных,
т. к. парады стали ежегодными с 1996 г.) советских традиций
символическими новациями. Например, 9 мая 1996 г. после
98
Ельцин подписал указ, утверждавший использование Зна¬
мени Победы (и его копии) наряду с государственным
флагом РФ по случаям государственных праздников, в дни
воинской славы и при проведении воинских, а также мас¬
совых мероприятий, связанных с боевыми победами рос¬
сийского народа [Указ, 1996]. С 1996 г этот символ занял
полноправное место в новом российском арсенале.
Эти изменения не означали, что Ельцин и его окруже¬
ние отказались от идеи «переформатирования» памяти
о наиболее «политически пригодном» событии истории
XX в. Официальное введение новой памятной даты - Дня
памяти и скорби, 22 июня1, дня начала Великой Оте¬
чественной войны, - можно рассматривать как попыт¬
ку создать дополнительный «повод» для политического
использования памяти о войне, не столь обремененный
советским идеологическим наследием, как 9 мая. Меро¬
приятия и риторика этого дня в меньшей степени связаны
с темой национальной славы и в большей - с памятью о
жертвах и страданиях народа. Годовщина «вероломного
нападения гитлеровской Германии на Советский Союз» от¬
мечается также в Белоруссии и Украине, что делает День
памяти и скорби удобным поводом для демонстрации
«единства» трех народов.
парада на Красной площади он полетел в Волгоград, что¬
бы приветствовать ветеранов войны на Мамаевом кургане.
Бесспорно, это было сделано не только в расчете на голо¬
са избирателей, но и в качестве демонстрации отступления
от «возрождаемого» советского ритуала празднования Дня
Победы: первые лица СССР предпочитали ограничиваться
участием в столичных мероприятиях. 9 мая 2014 г. примеру
Ельцина последовал В. В. Путин, отправившись после парада
на Красной площади в недавно присоединенный к России Се¬
вастополь для участия в торжествах, которые были приуроче¬
ны к 70-летию освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков.
1 Введен Указом Б. Н. Ельцина от 8 июня 1996 г.
99
С середины 1990-х гг. Б. Н. Ельцин и его спичрайтеры
пытались найти новый ракурс интерпретации Великой По¬
беды, стремясь максимально использовать символический
потенциал этого события и вместе с тем - не отступить от
принципа «отрицания тоталитарного прошлого». Анализ
выступлений президента по случаю Дня Победы показы¬
вает, что Ельцин неизменно интерпретировал это событие
как «символ мужества, патриотизма, самоотверженности»
людей, но не заслугу государства и «советского строя», в
отличие от В. В. Путина, который стал говорить о Великой
Победе с точки зрения преемственности советской и рос¬
сийской государственности. Вместе с тем Ельцин охотно
использовал символ Победы, чтобы подчеркнуть единство
бывших союзных республик, напомнить Западу о былом
сотрудничестве союзников по антигитлеровской коалиции
и указать на необходимость преодоления «взаимного недо¬
верия и страха», порожденного эпохой «холодной» войны
[Ельцин, 1995а], а также чтобы призвать к «национально¬
му согласию и единству» «независимо от убеждений и
политических пристрастий» [Ельцин, 19996]. Таким об¬
разом, многие из анализируемых ниже фреймов памяти о
Великой Отечественной войне, используемых в ритори¬
ке В. В. Путина и Д. А. Медведева, использовались еще
Б. Н. Ельциным.
2000-е гг .: память о Великой
Отечественной войне как «универсальный»
символический ресурс
Путинский курс на частичную «реабилитацию» со¬
ветского наследия в рамках «тысячелетней истории» от¬
крывал более широкие возможности для использования
символа победы по сравнению с ельцинской формулой
«заслуги нашего народа, но не советского строя». Новый
подход к репрезентации коллективного прошлого позволял
100
выстраивать генеалогию современного Российского госу¬
дарства по принципу меню а la carte: в отсутствие дета¬
лизированной смысловой схемы, связывающей отдельные
эпизоды общим сюжетом, наиболее очевидным принци¬
пом риторического использования истории оказывалась
апелляция к отдельным событиям. И здесь основательно
укорененный в массовом сознании и несущий безусловно
позитивные коннотации символ Великой Победы оказы¬
вался уникальным ресурсом. Не случайно в 2000-х гг. он
стал широко использоваться в различных политических
контекстах. Однако, поскольку новый подход не предпола¬
гал «проработки трудного прошлого», с вписыванием вой¬
ны как сложного и противоречивого комплекса событий в
общий нарратив возникали сложности. С одной стороны,
«критический» нарратив 1990-х не был официально де¬
завуирован, и в выступлениях В. В. Путина и Д. А. Мед¬
ведева можно обнаружить немало негативных оценок
советского прошлого. С другой стороны, активное исполь¬
зование (положительно окрашенного) символа Великой
Победы побуждало настороженно относиться к любым по¬
пыткам его критической интерпретации.
Анализ содержания официальных выступлений пре¬
зидентов В. В. Путина и Д. А. Медведева по случаю Дня
Победы, доступных на портале «Президент России», на¬
глядно демонстрирует последовательную диверсификацию
символической нагрузки данного события (см. табл. 1).
Объектами изучения стали речи, произнесенные во время
празднований Дня победы1 в 2000-2014 гг. Для их анали¬
за я использовала метод анализа фреймов, широко при¬
1 Установившийся в 2000-е гг. канон празднования Дня
Победы включал выступления главы государства на военном
параде на Красной площади и на торжественном приеме в
Кремле; в некоторые годы к этому добавлялись встречи с ве¬
теранами и др. мероприятия. Предметом анализа были все
101
меняемый в исследованиях политических коммуникаций.
Понятие фрейма было введено в научный оборот И. Гоф¬
маном [Гофман, 2004] для изучения влияния коллективно
разделяемых когнитивных моделей на восприятие инди¬
видами социальных ситуаций и их поведение. Исходя из
данного подхода, следует предположить, что сообщения,
содержащиеся в публичных выступлениях политиков,
«сконструированы таким образом, чтобы вызывать вполне
определенные ассоциации» [Simon, Xenos, 2000, р. 367].
Это означает, что спикеры сознательно стремятся подчерк¬
нуть определенные аспекты, смыслы и интерпретации
исторических событий, которые кажутся им значимыми в
данном контексте. Репертуар фреймов отражает, с одной
стороны, преемственность практики интерпретации сим¬
вола Великой Победы, а с другой стороны - его смысловое
обновление. Я попыталась выделить основные фреймы,
использовавшиеся для репрезентации памяти о войне. Це¬
лью анализа было зафиксировать факты использования тех
или иных фреймов и таким образом проследить динамику
смыслового репертуара; задача подсчета частоты высказы¬
ваний не ставилась.
Как видно из таблицы 1, есть четыре темы, которые
неизменно находят отражение в официальных речах по
случаю Дня Победы: это дань памяти жертв войны и пере¬
житых страданий (фрейм 1), благодарность ветеранам, не¬
редко подкрепляемая заявлениями о мерах материальной
поддержки (фрейм 2), рассуждения о преемственности
поколений (фрейм 3) и констатация политических уроков
войны (фрейм 15). Все эти фреймы с некоторыми вариа¬
циями продолжают традиции выступлений советского ру¬
ководства. Преемственность особенно очевидна в случае
«уроков войны»: хотя соответствующий раздел речи пер¬
вого лица каждый раз пишется применительно к контексту,
речи, произнесенные в рамках празднования очередной годов¬
щины Победы в Великой Отечественной войне.
102
его основной идеей является подтверждение значимости
неких международных принципов, ратуя за которые, Рос¬
сия предстает в роли хранительницы исторического опыта,
выстраданного в годы войны1.
Что действительно является новым в речах путинско-
медведевского периода, так это настойчивое стремление
использовать память о Великой Отечественной войне для
конструирования идентичности сообщества, стоящего за
новым Российским государством. Тенденция к «национа¬
лизации» памяти о войне2 отчетливо прослеживается на
примерах фреймов 4-8: удачные находки тиражируются,
превращаясь в устойчивые риторические формулы. И Пу¬
тин, и Медведев продолжили ельцинскую тему Дня
Победы как праздника национального единства, сплачива¬
ющего россиян независимо от поколенческих и идеологи¬
ческих различий (фрейм 4)3. Вместе с тем интерпретация
1 Это могут быть рассуждения о важности поддержания
мира, отхода от «идеологии конфронтации и экстремизма»
или о необходимости «строгого соблюдения международных
норм» и «уважения государственного суверенитета». Суще¬
ственно в данном случае то, что ну нас есть великое мораль¬
ное право - принципиально и настойчиво отстаивать свои
позиции, потому что именно наша страна приняла на себя
главный удар нацизма, встретила его героическим сопротив¬
лением, прошла через тяжелейшие испытания, определила
сама исход той войны, сокрушила врага и принесла освобож¬
дение народам всего мира» [Путин, 2012а].
2 По определению Т. Журженко, «национализация памяти
связана с реинтерпретацией советского нарратива о Великой
Отечественной войне, переоценкой ее основных событий,
действующих лиц и основных итогов в процессе конструи¬
рования постсоветскими элитами новых национальных иден¬
тичностей и национальных “культур памяти”» [Журженко,
2013, с. 94].
3 Ср.: «...сегодня праздник Победы объединяет росси¬
ян независимо от убеждений и политических пристрастий»
103
символа Великой Отечественной войны в контексте «ты¬
сячелетней истории» открывает широкие возможности и
для его использования в рамках двух других лейтмотивов
национализма, выделенных Э. Смитом, - национальной
идентичности и национальной автономии [Смит, 2004,
с. 343]. В речах Путина и Медведева война стала пред¬
ставляться как триумф национального характера. Так,
9 мая 2000 г. В. В. Путин говорил: «Дорогие фронтовики,
с вами мы привыкли побеждать. Эта привычка вошла нам
в кровь, стала залогом не только военных побед. Еще не
раз она выручит в мирной жизни, поможет нашему по¬
колению выстроитъ сильную, процветающую страну,
высоко поднимет российское знамя демократии и сво¬
боды...» [Путин, 2000а]. В этом контексте призыв к «реа¬
билитации» советского наследия звучал по-человечески
органично: «Тот, кто пытается отнять у нас память о
большой и могучей стране, тот пытается отнятъ у ве¬
теранов их весну и их молодость, полную жизненных
танов и надежд. Для них это была эпоха послевоенного
обретения себя... Это действительно была эпоха нашего
возрождения» [Путин, 20006]. Освобожденная от бремени
коммунистического наследия и представленная под сугубо
«человеческим» углом, память о войне становилась цен¬
нейшим материалом для конструирования национальной
идентичности в новых геополитических границах1, но на
основе «тысячелетней» преемственности.
[Ельцин, 19996]; «Сегодня мы отмечаем самый народный
праздник. И гордимся тем, что у нас есть такой день, день
нашего национального единения» [Путин, 2004а]; праздник,
«который уже навеки стал символам нашего национального
единства» [Медведев, 2008а].
1 «Человеческое» измерение Победы служило удобным
мостиком и к теме «национальной автономии». См. например,
ее развитие в речи Д. А. Медведева: «Есть вещи, которыми
нельзя поступаться ни при каких обстоятельствах, - это
104
С разными вариациями тема Победы как проявления
российского национального характера (фрейм 5) и в даль¬
нейшем звучала в официальных речах Путина и Медведе¬
ва. «До сих пор мы удивляем мир силами нашей Родины,
удивляем своей стойкостью и мощью, - говорил второй
президент РФ, связывая тему войны с идеей «сильного
государства». - Но, собственно говоря, в этом нет ниче¬
го удивительного... Этот дух, эта вера достались нам от
вас, дорогие наши ветераны. Ваша судьба и ваши подви¬
ги... пример для тех, кто поднимает наше новое сильное
государство. Россия испокон веку была страной-побе-
дительницей. Страной мирной, но уважающей и себя, и
свое национальное достоинство. Такой она останется и
впредь>Э [Путин, 20006]. 9 мая представлялось как «вер¬
шина нашей славы» [Путин, 2004а], день, «который объ¬
единяет сейчас всех граждан России» [Путин, 2012а], а
война - как событие, которое «сделало нас сильной наци¬
ей» [Медведев, 2010в].
Война стала рассматриваться как кульминацион¬
ная точка нарратива о «тысячелетней истории» России
(фрейм 6). В разные годы, стоя на трибуне мавзолея, Пу¬
тин и Медведев рассуждали о том, что парад происходит
«на исторической Красной площади, <... > исхоженной
ратниками разных времен...» [Путин, 2000в]; что «люди,
прошедшие войну, за короткое время подняли страну из
руин, <...> первыми прорвались в космос...» [Медведев, 1свобода людей, достоинство страны и покой родного дама.
Это дорого каждому и делает нас единой, сильной нацией»
[Медведев, 2011а].
1 Ср. аргументацию Д. А. Медведева в программной ста¬
тье «Россия, вперед!»: «Народ, победивший жестокого и
очень сильного врага в те далекие дни, должен, обязан сегод¬
ня победить коррупцию и отсталость. Сделать нашу страну
современной и благоустроенной» [Медведев, 20096].
105
2011в]; что ветераны Великой Отечественной «черпали
силы в славных традициях русского воинства» [Путин,
2012а] и др.
В речах третьего президентского срока В. В. Путина
особое значение уделяется теме «всепобеждающей силы
патриотизма» (фрейм 7), что, по-видимому, неудивитель¬
но, учитывая высокий статус этого «ключевого слова» в
современном дискурсе властвующей элиты. Примечатель¬
но, однако, что в более ранних речах тема патриотизма
участников Великой Отечественной войны специально не
педалировалась. Она становится частью риторики празд¬
ничных мероприятий в 2010-2011 гг., но скорее в практи¬
ческом ракурсе: в последние два года своего президентства
Д. А. Медведев накануне Дня Победы проводил встречи с
ветеранами, посвященные военно-патриотическому воспи¬
танию. Иное звучание «патриотизм» приобретает в речах
В. В. Путина: он настойчиво предлагает видеть в Дне По¬
беды «святой символ верности Родине, который живет в
каждом из нас» [Путин, 20136]; «праздник, когда торже¬
ствует всепобеждающая сила патриотизма, когда все мы
особенно остро чувствуем, что значит быть верным Ро¬
дине и как важно уметь отстаивать ее интересы» [Пу¬
тин, 2014в] и т. п.
Любопытно, что, конструируя новую идентичность по
лекалам политкорректности, заданным советской нацио¬
нальной политикой, спичрайтеры президентов РФ время
от времени использовали формулу «победы как общего
достояния братских народов СССР» [которая теперь от¬
носилась к «внешнеполитическим» разделам выступле¬
ний (фрейм 9)] в том числе для того, чтобы подчеркнуть
единство «многонационального» российского народа
(фрейм 8). 9 мая рассматривается теперь как «общий
праздник народов России и стран Содружества Независи¬
мых Государств» [Путин, 2004а], вновь и вновь подчерки¬
вается, что «в те грозные годы плечом к плечу сражались
106
с врагом люди самых разных национальностей» [Мед¬
ведев, 2008а], что «война лишила жизни десятки милли¬
онов людей, граждан многих возрастов, многих стран,
национальностей, вероисповеданий» [Медведев, 2010в];
судьба ветеранов рассматривается как «пример для всех
поколений нашей большой, многонациональной страны»
[Путин, 20126], патриотизм представляется как фактор,
который «и сегодня сплачивает народы России» [Путин,
2013в] и др. В 2014 г в речах по случаю Дня Победы
впервые параллельно с рассуждениями о «сплоченности
многонационального, многоконфессионального народа»
[Путин, 20146] появилась также тема географии большой
страны, причем не только в связи с присоединением Кры¬
ма1. В речи на торжественном приеме Путин, вспоминая о
подвигах в тылу, перечислял регионы, ставшие «для тысяч
эвакуированных... родным домом»: Поволжье, Урал, Си¬
бирь, Дальний Восток, а также республики Средней Азии
и Закавказье [Путин, 20146].
Переформатирование коснулось также внешнеполи¬
тических проекций темы Великой Отечественной войны.
День Победы традиционно использовался как повод на¬
помнить о символических границах, объединяющих или
разделяющих Нас и Других. В праздничных речах пре¬
зидентов РФ нередко присутствовала тема нерушимости
«братства и сотрудничества» бывших советских респу¬
блик, скрепленных общей памятью о войне (фрейм 9).
При этом спичрайтеры виртуозно жонглировали идеей
«единства памяти», применяя ее то ко всему Советскому
Союзу, то лишь к Содружеству Независимых Государств,
чтобы «застолбить» границы там, где это представлялось
политически целесообразным. Например, в год празднова-
1 Выступая в Севастополе, Путин подчеркивал «огромный
нравственный вклад» ветеранов «в то, что Крым и Севасто¬
поль возвратились в родную страну» [Путин, 2014г].
107
ния 60-летия Победы, омраченного международными скан¬
далами в связи с отказом глав Прибалтийских государств
участвовать в торжествах, Путин, рассуждая о тяжести
потерь, понесенных «всеми народами и республиками
Советского Союза», заключал: «И потому 9 Мая - свя¬
щенная дата для всех стран Содружества Независимых
Государств». Таким образом, очерчивая круг тех, с кем у
нас «единая скорбь, единая память и единый долг перед
грядущими поколениями», он демонстративно исключал из
него прибалтийские государства [Путин, 20056].
Нужно отметить, что традиция представлять память о
Победе как общее достояние, сплачивающее страны СНГ,
была заложена еще Ельциным. Например, в 1995 г. в День
Победы он поздравлял «фронтовиков, живущих во всех
странах Содружества Независимых Государств и за
их пределами» [Ельцин, 19956]. Однако различие между
двумя юбилейными речами очевидно. Слова первого пре¬
зидента России обращены к людям, разделенным государ¬
ственными границами, но объединенным общей памятью.
Путинская же формулировка относится к странам, кото¬
рые общая память побуждает укреплять символические
границы, передавая потомкам «дух нашего историческо¬
го родства» [Путин, 20056]. Прибалтийские государства,
настаивающие на собственной интерпретации событий
Второй мировой войны, кардинально не совпадающей с
нарративом, преобладающим в России, оказались в числе
Других, которые демонстративно не подлежат упомина¬
нию в торжественный момент праздника.
Стоит отметить, что та же формула умолчания исполь¬
зовалась применительно к другим посткоммунистическим
странам. Обязательные для речей советского времени
упоминания об успехах народной демократии как одном
из благотворных последствий победы Красной армии над
фашизмом по понятным причинам стали неактуальны. Од¬
нако и переработки данного аспекта официальной версии
108
нарратива о войне не произошло. Поэтому тема памяти о
войне применительно к Восточной Европе скрыта за об¬
щими упоминаниями об «освобожденных народах Евро¬
пы» и «подвигах антифашистского сопротивления»1.
Зато, также следуя давней традиции, в своих обраще¬
ниях 9 мая президенты России систематически вспомина¬
ли о союзниках по антигитлеровской коалиции, используя
эту возможность не только для того, чтобы подтвердить
приверженность традициям сотрудничества и обозна¬
чить новые проблемы, требующие совместного решения2
(фрейм 12), но и для того, чтобы покритиковать западных
партнеров (фрейм 13), апеллируя к политическим урокам
войны3 (фрейм 15). Впрочем, эти фреймы едва ли могут
1 Примечательно, что в 1995 г., когда «войны памяти» еще
не начались, Ельцин, перечисляя тех, чей вклад в победу «мы
всегда будем помнить», наряду с «народами Соединенных
Штатов, Великобритании, Франции, Китая» называл Польшу
и Югославию [Ельцин, 1995а].
2 Например, в 2005 г. Путин говорил об опасностях экс¬
тремизма и расизма, «которые не менее безжалостны, чем
нацизм» [Путин, 2005г]; в 2007 г. вспоминал о неких «новых
угрозах», которые обусловлены «все тем же презрением к че¬
ловеческой жизни, теми же претензиями на мировую исклю¬
чительность и диктат», что и во времена «третьего рейха»
[Путин, 2007] и т. п.
3 Этот фрейм особенно настойчиво использовал
Д. А. Медведев, который вынужден был опираться на память
о войне для легитимации своей позиции в конфликте с Грузи¬
ей в августе 2008 г. Выступая на параде 9 мая 2009 г. он осо¬
бо подчеркивал, что урок войны «актуален и сегодня, когда
вновь находятся те, кто идет на военные авантюры» [Мед¬
ведев, 2009а]. В 2010 г, делая прозрачные намеки на США,
президент РФ говорил: «Война показала, к какой страшной
черте могут подвести претензии на мировое господство. На¬
сколько опасны попытки силового давления на свободные на¬
роды, на суверенные государства» [Медведев, 2010в].
109
рассматриваться как новшество: прямая или завуалиро¬
ванная критика союзников под флагом воспоминаний об
успехах былого сотрудничества вставлялась в празднич¬
ные речи первых лиц еще с советских времен. Одна из
причин, по которым победа над фашизмом так важна для
советской и российской идентичности, заключается в том,
что это событие имеет огромный символический потенци¬
ал для репрезентации Нас как равных и даже в некоторых
отношениях морально превосходящих Значимого Другого,
традиционно именуемого «Западом». Не удивительно, что
руководители России и СССР не упускали случая восполь¬
зоваться этим преимуществом.
Выступления в День Победы не могли обойтись и без
упоминаний о бывшем враге (фрейм 10). Очевидно, од¬
нако, что пассажи о «преступных злодеяниях» фашистов
вставлялись в тексты речей российских президентов не
для того, чтобы проецировать образ врага из прошлого в
настоящее, а с целью подчеркнуть масштаб предотвращен¬
ной катастрофы, тяжесть страданий и величие героизма
«нашего народа». В некоторых случаях напоминания о со¬
бытиях войны дополнялись рассуждениями о значимости
«исторического примирения между Россией и Германией»
[Путин, 2005г] и позитивной оценкой «сбалансированной
позиции» руководства ФРГ в вопросах политики памяти
[Медведев, 2011а].
В этой связи обращает на себя внимание отсутствие
упоминаний не только о Германии и партнерах по антигит¬
леровской коалиции, но и о братских народах СНГ в речах
2013-2014 гг.
Наконец, тема Победы открывала широкие возмож¬
ности для артикуляции «общечеловеческих» принци¬
пов. Представляя современную Россию защитницей
либеральных ценностей (фрейм 16), президенты РФ и их
спичрайтеры стремились вписать российскую память о
войне в европейский нарратив «освобождения», который
связывал победу во Второй мировой войне «с идеей де¬
мократии, воплощением которой явилось восстановление
110
демократического порядка в той части Европы, которая
была очищена от “коричневой чумы” войсками западных
союзников» [Торбаков, 2012, с. 106]. Ключевыми идея¬
ми здесь были справедливость1, свобода2, права человека
и прочный мир. Однако «либеральной» реинтерпретации
подвергалось советское прошлое. И здесь особенно очеви¬
ден контраст с подходами 1990-х. В 1995 г, когда Ельцин
говорил о том, что завершение «холодной» войны позволя¬
ет в полной мере воспользоваться плодами победы 1945 г,
превратив Европу в «единое сообщество демократических
наций», общность ценностей связывалась с будущим, в ко¬
торое «человечество войдет, навсегда отринув страшные
понятия: “тоталитаризм”, “национальная ненависть”,
“мировая война”» [Ельцин, 19956]. Когда же Путин спустя
десять лет рассуждал о том, что «победа 45-го высоко под¬
няла ценность и самой жизни, призвала к истинному ува¬
жению к личности и правам человека», он отождествлял
с этими либеральными формулами советский опыт, «за¬
бывая» про те его аспекты, которые в них не вписывались
[Путин, 2005г].
1 В праздничных речах часто присутствовала тема По¬
беды как «справедливости». См. у Путина: «В этот день
свершилась величайшая справедливость в мировой истории.
Победа стала главной наградой за пережитое в годы вой¬
ны... » [Путин, 2003а]; «9 мая 45-го г. свершилась величайшая
справедливость» [Путин, 2005г].
2 Например, в выступлении на торжественном приеме в
2005 г, имевшем место в разгар международного конфликта
по поводу интерпретации 9 мая, Путин развил тему свободы
словами: «В борьбе с нацизмом были отвоеваны права людей
на свободу, на саму жизнь, на самостоятельный выбор пути
развития...» [Путин, 2005г]. Последняя фраза, формально
продолжая ряд либеральных ценностей, в действительности
означала поддержку традиционной советской интерпретации
событий 1944-1945 гг., против которой официально выступи¬
ло руководство государств Прибалтики и Полыни.
111
Таблица 1. Репрезентации символа Великой Отечественной войны
в официальных выступлениях В. В. Путина
иД. А. Медведева по случаю Дня Победы (2000—2014)
Фреймы репре¬
зентации символа
Великой Отече¬
ственной войны
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
00
о
о
(N
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Память о павших;
война как исто¬
рия страданий
и жертв (1)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Благодарность
ветеранам (2)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Преемственность
поколений (3)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Праздник, который
всех объединяет (4)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Война как выраже¬
ние национального
характера(5)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Война как часть
нарратива на¬
циональной
истории (6)
X
X
X
X
X
X
X
X
Война как де¬
монстрация силы
патриотизма (7)
X
X
X
X
X
Война как общее
дело «много¬
национального
народа РФ» (8)
X
X
X
X
X
X
X
X
Общее достояние
народов СНГ (9)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Память о враге (10)
X
X
X
X
X
X
Сотрудничество
с Германией в об¬
ласти «политики
памяти» (11)
X
X
Опыт солидарно¬
сти с партнерами
по антигитлеров¬
ской коалиции (12)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
112
Окончание табл. 1
Фреймы репре¬
зентации символа
Великой Отече¬
ственной войны
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ОО
О
О
С-4
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Критика западных
партнеров(13)
X
X
X
Задача укрепле¬
ния Вооружен¬
ных Сил (14)
X
X
X
X
X
X
Политические
уроки войны (15)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Война как напо¬
минание о фунда¬
ментальных «обще¬
человеческих»/
«европейских»
ценностях(16)
X
X
X
X
X
Подводя итоги анализа официальных праздничных вы¬
ступлений можно констатировать, что в 2000-х гг. имело
место не только активное использование символа Великой
Победы с политическими целями, но и существенное рас¬
ширение его репертуара за счет изобретения новых фрей¬
мов. Инновации были связаны с артикуляцией ключевых
тем «дискурса о нации» - национальной идентичности,
автономии и единства, а также с возможностью репрезен¬
тировать Россию как «равную» и «подобную» «Западу»1.
1 В 2000-2007 гг. в речах В. В. Путина достаточно по¬
следовательно воспроизводилась новая модель коллективной
самоидентификации по отношению к Другому, традиционно
именуемому «Западом», которая сочетала «западническое»
представление об общности целей и ценностей России и «За¬
пада» с «почвенническим» акцентом на самобытный способ
их реализации и которая пытается представитъ Россию как
актуально (а не только потенциально) подобную и равную
Значимому Другому и даже способную служить ему образцом
в осуществлении общих ценностей [Малинова, 2008].
113
И то, и другое стало возможным за счет изменения подхо¬
да к работе с советским прошлым: отказавшись от крити¬
ческого нарратива 1990-х гг., властвующая элита сделала
выбор в пользу избирательного использования «удобных»
фрагментов коллективного прошлого на основе весьма
схематично очерченной идеи «тысячелетней истории»
становления России в качестве «великой державы». В от¬
сутствие детально проработанного нарратива память о
Великой Отечественной войне оказалась наиболее «при¬
годным» для политического использования ресурсом,
поскольку она была хорошо укоренена в массовом созна¬
нии, отличалась символической «поливалентностью» и
не подвергалась серьезному оспариванию. Не случайно
Н. Е. Копосов высказал предположение, что миф о вой¬
не в постсоветской России выполняет функцию «мифа
происхождения»1, которую в силу резкого расхождения
оценок не могут выполнять события, связанные с распа¬
дом СССР. На мой взгляд, правильнее было бы говорить
о стремлении властвующей элиты придать символу Вели¬
кой Победы значение «мифа происхождения» в отсутствие
целостного нарратива коллективного прошлого, который,
собственно, и должен определять смысл(ы) конкретных
событий. Вместе с тем очевидно, что память о Великой
Отечественной войне благодаря ее интенсивной «эксплуа¬
тации», с одной стороны, и укорененности в массовом со¬
1 «Миф происхождения» (myth of origin) - это фундамен¬
тальный миф об историческом моменте, когда «нация» кри¬
сталлизировалась в своей «современной» форме [Schopflin,
1997, р. 33-34; СоаЫеу, 2007, р. 542-543]. По мнению Коло¬
сова, миф о войне в каком-то смысле изначально имел такие
функции, ибо легитимировал новые советские формы соци¬
альной организации, прошедшие «проверку» войной. В со¬
временных условиях «миф о войне в концентрированном виде
выражает историческую концепцию нового режима» [Копо¬
сов, 2011, с. 163-164].
114
знании, с другой, выступает в качестве едва ли не тавнои
узловой точки современной российской идентичности.
«Фальсификации истории» и другие вызовы
официальной версии памяти
о Великой Победе
Данное обстоятельство побуждает властвующую эли¬
ту особенно ревниво относиться к попыткам ревизии
развиваемого ею нарратива о Великой Отечественной
войне. Между тем превращение символа Великой Побе¬
ды в тавную опору постсоветской российской идентич¬
ности совпало с трансформацией режимов памяти1 в
Европе. Причины и характер этого процесса достаточно
обстоятельно описаны в литературе [Judt, 2004; Kattago,
2009; Malksoo, 2009; Торбаков, 2012; Mink, Neumayer,
2013 и др.]. Считается, что вплоть до 1989 г европейская
«мнемоническая карта» определялась безусловным до-
1 Концепция «режима памяти» была разработана Эриком
Лангенбахером в качестве аналитического инструмента для
изучения коллективной памяти как динамического элемента
политической культуры. По мысли американского исследо¬
вателя, «не всякая потенциально разделяемая память имеет
одинаковое влияние или одинаковую власть. Плюрализм по¬
тенциальных памятей ограничен, что ведет к формированию
их иерархии» [Langenbacher, 2010, р. 33]. Последняя является
одним из наиболее важных компонентов актуального режима
памяти. К сожалению, автор не дает определения вводимого
им понятия, ограничиваясь выделением его компонентов, к
числу которых он относит (1) доминирующую социальную
память, (2) стоящую за нею систему ценностей («уроки»),
(3) поддерживающие первое и второе морально-этические
дискурсы, а также большие исторические нарративы, описы¬
вающие (4) главное историческое событие, породившее па¬
мять и (5) историю самой памяти [ibid., р. 30].
115
минированием «нарративов победителей»: советского в
Восточной Европе и западных союзников - в Западной.
Несмотря на существенные различия, общим в них было
то, что в качестве единственной виновницы войны рас¬
сматривалась нацистская Германия, фашизм объявлялся
главным злом, а победа над ним представлялась как дости¬
жение широкой коалиции, к которой примыкали движения
сопротивления в оккупированных странах. Эта интерпре¬
тация существенно упрощала реальные события 1939—
1948 гг, поощряя «коллективную амнезию» относительно
«неудобных» фактов - довоенной политики умиротворе¬
ния агрессора, коллаборационизма, местного антисеми¬
тизма, выгод от войны, полученных некоторыми группами
населения оккупированных стран, и геополитических при¬
обретений в результате послевоенного урегулирования.
Впрочем, «нарративы победителей» не оставались не¬
изменными. В 1970-1980-х гг. главным элементом памяти
о Второй мировой войне в Западной Европе стал холо¬
кост, в силу чего «освободительный нарратив» со време¬
нем был дополнен темой коллективной вины европейцев,
допустивших это зло. А в СССР в тот же период проис¬
ходила консолидация «брежневской» версии нарратива о
Великой Победе, прославлявшей героический подвиг со¬
ветского народа, принесшего мир и свободу Европе. Пере¬
смотрев ельцинскую концепцию «новой России» в пользу
«тысячелетней истории великой державы» и отказавшись
от «проработки трудного прошлого» ради формирования
позитивного образа Нас, В. В. Путин и его единомышлен¬
ники фактически сделали выбор в пользу «брежневской»
смысловой схемы, акцентирующей роль советского наро-
да-освободителя, но оставляющей в тени события 1939-
1941 гг, а также роль Красной армии в формировании
послевоенной политической карты Восточной Европы.
Хотя «реабилитация» советского опыта носила избира¬
тельный характер, именно миф о Великой Победе в силу
его значимости в качестве опоры российской идентично-
116
сти и основания для притязаний России на статус великой
европейской державы приобретал значение «последнего
бастиона», который необходимо защищать любой ценой.
Изменения геополитической карты Европы после
1989 г. - падение коммунистических режимов, объедине¬
ние Германии и последующее расширение ЕС - повлекли
за собой «размораживание» альтернативных версий памя¬
ти о войне, которые в послевоенный период успешно по¬
давлялись. В условиях трудного посткоммунистического
транзита реинтерпретация трагической истории XX в.
стала одним из главных инструментов легитимации но¬
вых политических режимов в Восточной Европе. Критика
позднесоветского военного нарратива была наиболее оче¬
видным способом решения этой проблемы, поскольку она
позволяла переложить вину за издержки коммунистиче¬
ских режимов на Советского Другого. Кроме того, для но¬
вых независимых государств, унаследовавших территории,
включенные в состав СССР в 1939 г, миф о «советской
оккупации» был центральным элементом историй о воз¬
рождении утраченной национальной государственности.
Таким образом, память о Великой Отечественной / Второй
мировой войне оказалась наиболее важным ресурсом сим¬
волической политики не только в России, но и в соседних
странах; при этом объектами коллективного «вспомина¬
ния» или «забывания» оказывались разные аспекты обще¬
го прошлого. Каждая из сторон стремилась навязать свою
версию мифа о войне, рассматривая ее как опору нацио¬
нальной идентичности и инструмент борьбы за статус на
международной арене.
Следует заметить, что восточноевропейский «контр¬
нарратив» оспаривал не только российский, но и запад¬
ноевропейский режим памяти, т. к. стремление поставить
на одну доску преступления нацистского и сталинского
режимов шло вразрез с представлением об уникальности
злодеяний нацизма и исключительности холокоста. По¬
следний, по словам С. Каттаго, стал «особым элементом
117
современной европейской истории», поскольку служит не
только аргументом в пользу защиты прав человека, но и
«своего рода негативным основанием обновления Европы
после Второй мировой войны» [Kattago, 2009, р. 384-385].
«Конфликт нарративов» не случайно вступил в открытую
фазу именно в 2005 г, при подготовке к празднованию
60-летия - первой юбилейной коммеморации, проходив¬
шей после расширения НАТО и ЕС. Эстонский полито¬
лог М. Малксо не без оснований усматривает в попытках
Польши и прибалтийских стран добиться признания соб¬
ственной версии нарратива о Второй мировой войне «иде¬
ологическую деколонизацию», т. е. стремление оспорить
«намерения Западной Европы выступать в качестве моде¬
ли для всей Европы». Такая линия поведения стала воз¬
можной лишь по завершении периода вступления в НАТО
и ЕС, когда «определенные моменты их прошлого созна¬
тельно вытаскивались на поверхность в контексте, не до¬
пускавшем особой рефлексии» [Malksoo, 2009, р. 656].
«Игры памяти» позволяют восточноевропейским полити¬
ческим элитам «набирать очки» как на национальной, так
и на европейской политической арене [Mink, 2008, р. 481].
Однако наиболее острая коллизия возникала именно
с российским нарративом Великой Победы. Как точно за¬
метил И. Торбаков, «новые исторические споры вокруг
характера “освобождения” Восточной Европы Советским
Союзом и “равной преступности Сталина и Гитлера” не¬
избежно подрывают статус России как “освободителя Ев¬
ропы” и подвергают эрозии тот символический капитал,
на который она могла бы опереться в своих претензиях на
“европейскость”» [Торбаков, 2012, с. 106].
Этим можно объяснить резкую реакцию российской
власти и общества на международный скандал, вызванный
попыткой политических элит стран Балтии и Польши вос¬
пользоваться организацией празднования 60-летия Победы
в Москве, чтобы обратить внимание международного со¬
общества на неоднозначность итогов Второй мировой вой-
118
ны для их стран1. Как известно, в Европе День Победы во
Второй мировой войне отмечается 8 мая; несовпадение дат
коммеморации, обусловленное формально соображения¬
ми географического времени, но тавным образом - поли¬
тическими причинами2, и в советское, и в постсоветское
время использовалось, чтобы привлечь к участию в торже¬
ствах в Москве лидеров зарубежных стран. Это позволяло
подчеркнуть особую роль СССР/России в освобождении
Европы от нацизма. Однако в 2005 г. подготовка торжеств
оказалась омрачена дискуссиями, которыми приглашение
на празднование в Москве было встречено в ряде соседних
стран. В результате президенты Эстонии и Литвы демон¬
стративно отказались от участия в праздновании 9 мая, а
лидеры Латвии и Польши, приняв приглашение В. В. Пу¬
тина, использовали его для заявлений, ставивших под
сомнение правомерность доминирующего нарратива об ос¬
вобождении3. Под благовидным предлогом не приехал на
1 История празднования 9 мая 2005 г. обстоятельно
описана в литературе [Onken, 2007; Torsti, 2008; MMksoo,
2009; Torbakov, 2011; Миллер, 20126]. Показателен и срав¬
нительный анализ двух юбилеев Победы - 2005 и 2010 гг.
[Kangaspuro, 2011].
2 Напомню, что акт о капитуляции Третьего рейха в Рейм¬
се был подписан советским представителем при союзном
командовании генерал-майором И. А. Суслопаровым 7 мая,
когда еще шли бои за Берлин (акт вступил в силу 8 мая в 23:01
по среднеевропейскому времени). Будучи крайне недоволен
этим обстоятельством, Сталин поручил Г. К. Жукову принять
общую капитуляцию представителей видов вооруженных сил
нацистов в Берлине. По московскому времени берлинский акт
капитуляции был подписан 9 мая в 0:43.
3 Как писала в статье, опубликованной в «Вашингтон
Пост» накануне празднований, президент Латвии В. Вике-
Фрайберга, в мае 1945 г. свободу получила лишь часть Евро¬
пы, поскольку «с полного согласия западных союзных держав
Латвия, Литва и Эстония были заново оккупированы и ан¬
119
празднования и только что пришедший к власти на волне
«оранжевой революции» президент Украины В. Ющен¬
ко. Комментируя свое решение ехать в Москву, президент
Латвии В. Вике-Фрайберга, выразила уверенность, что
«все демократические нации должны побудить Россию
осудить преступления советской эры, совершенные во имя
коммунизма» [Vike-Freiberga, 2005].
В свою очередь В. В. Путин в интервью германским
телеканалам АРД и ЦДФ категорически отверг эту идею.
Он критически отозвался о политике прошлого, признав,
что «союзники как бы разделили сферы влияния», а СССР
строил свою политику в отношении ближайших соседей
«по своему образу и подобию», т. е. не на «демократиче¬
ских принципах». Однако, рассуждая о настоящем, Путин
упорно апеллировал к концепции «новой России», под¬
черкивая, что «наша страна сделала свой выбор в нача¬
ле 90-х гг. и, собственно говоря, способствовала именно
тому, чтобы страны Восточной Европы почувствовали
себя свободными». Он доказывал, что Россия не должна
нести ответственности за действия СССР: по словам пре¬
зидента, извинения имели бы смысл, «если бы эти люди
были гражданами Российской Федерации хоть когда-ни¬
будь» [Путин, 20056]. Получалось, что, провозглашая «но¬
вую Россию» наследницей «тысячелетнего государства»
и пытаясь опереться на его славные страницы, властвую¬
щая элита отказывалась от ответственности за сомнитель¬
ные действия прежних режимов. Впрочем, следует иметь
в виду, что в контексте международной практики восста¬
новления исторической справедливости, сложившейся в
XX в., признание такого рода ответственности имеет не
только символическую, но и материальную сторону.
нексированы Советским Союзом, а еще дюжина стран Цен¬
тральной и Восточной Европы перенесли новое угнетение и
десятилетия тоталитарного правления, став сателлитами
Советской империи» [Vike-Freiberga, 2005].
120
Международный «конфликт памятей» лишь укрепил
значимость символа Великой Победы в качестве марке¬
ра современной российской идентичности. По стечению
обстоятельств именно в 2005 г в рамках акции, иниции¬
рованной РИА «Новости» и РООСПМ «Студенческая об¬
щина», возник символ, призванный олицетворять «память
поколений», - георгиевская ленточка. Полосатые оран¬
жево-черные ленточки, имитировавшие традиционный
биколор Георгиевской ленты - геральдического элемента
дореволюционных наград за солдатскую доблесть, участ¬
ники акции бесплатно раздавали желающим. Идея ока¬
залась успешной - акция получила продолжение, в том
числе и при финансовой поддержке со стороны централь¬
ных и региональных властей; в последующие годы при
содействии российских внешнеполитических ведомств
она была распространена и на некоторые страны ближне¬
го и дальнего зарубежья. Нельзя не признать, что данная
инициатива получила весьма широкую поддержку. Как и
любой символ, обозначающий принадлежность к опреде¬
ленному сообществу памяти, в разных контекстах геор¬
гиевская ленточка способна нести различные смыслы. По
определению А. Миллера, «это и “некоммунистическая”
реакция на “исторический ревизионизм”, бросающий вы¬
зов мифу Великой Отечественной войны, и способ про¬
демонстрировать солидарность с Россией, и политическая
идентификация в конкретном политическом ландшафте»
[Миллер, 2012в, с. 167-168]. Успех этой сравнительно не¬
давно изобретенной традиции свидетельствует не только
об эффективности выбранной политической технологии -
знаки, которые можно прикреплять к одежде и иным
предметам во многих странах «широко применяются как
удобный и необременительный способ демонстрации под¬
держки различным общественным и политическим кампа¬
ниям» [там же, с. 165], но и о действительной значимости
121
памяти о Великой Отечественной войне для современной
российской идентичности.
Между тем стремление ряда соседних стран подверг¬
нуть ревизии «нарративы победителей», которое прояв¬
ляется не только в изменении их собственных практик
коммеморации (в частности, в попытках героизации дея¬
телей «национального освобождения», запятнавших себя
сотрудничеством с нацистами и преступлениями против
местного населения, демонтаже памятников советским во-
инам-освободителям и т. п.), но и в символических демар¬
шах на международной арене, стало системным вызовом
для российской политики памяти. В январе 2006 г. Парла¬
ментская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла ре¬
золюцию о «необходимости международного осуждения
преступлений тоталитарных коммунистических режимов»
(Резолюция 1481), которая вызвала волну протестов со сто¬
роны российских политиков и СМИ. Обсуждение предше¬
ствовавшего ей доклада вылилось в бурные дискуссии, в
результате которых была скорректирована первоначальная
формулировка об осуждении «преступлений коммунизма».
Усилиями российской стороны параллельно была иници¬
ирована работа над резолюциями, осуждающими деяния
режима Франко в Испании и о недопущении возрождения
нацизма (приняты соответственно в марте и апреле того
же года). Таким образом, порицание ПАСЕ оказалось рас¬
пространено на любые тоталитарные режимы. Болезнен¬
ная реакция российского истэблишмента на эти события
свидетельствовала о его неготовности распространять на
миф о Великой Победе критическую оценку советского
«тоталитаризма», приверженность которой официально со¬
хранялась (хотя и не часто артикулировалась). Одно дело
использовать туманные намеки на «красно-коричневую
угрозу» в борьбе против внутренних политических про¬
тивников, и совсем другое - признать «равенство вины»
нацизма и коммунизма. Миф о Великой Победе, выступав-
122
ший в качестве важной опоры новой российской идентич¬
ности, столкнулся с серьезными внешними вызовами.
Данное обстоятельство в совокупности с рядом дру¬
гих факторов - «цветными революциями» на постсовет¬
ском пространстве, ростом напряженности в отношениях
с США и НАТО - побудило властвующую элиту перейти
к более активным мерам, направленным на утверждение
поддерживаемого ею способа интерпретации прошлого,
которые А. Милллер называет «исторической политикой»
[Миллер, 20126, с. 341]. В 2006 г. была предпринята пер¬
вая попытка «упорядочить» преподавание истории в шко¬
ле с помощью разработки принципиально нового набора
учебников1. Первым итогом этих усилий стали учебник
«История России. 1945 2007» и методическое пособие
для учителей по периоду 1900-1945 гг., в которых, в част¬
ности, декларировался отказ от концепции тоталитаризма
в пользу более «нейтральной» теории модернизации. Тог¬
да же заговорили о принятии «мемориальных» законов,
устанавливающих наказание за «неправильные» выска¬
зывания об истории Второй мировой войны и роли в ней
СССР [Колосов, 2011, с. 228-255]. А в мае 2009 г. указом
Д. А. Медведева была учреждена Комиссия по противодей¬
ствию попыткам фальсификации истории в ущерб инте¬
ресам России при президенте РФ, просуществовавшая до
февраля 2012 г. [Нарышкин, 2011]. Ее создание сопрово¬
ждалось множеством спекуляций относительно ужесточе¬
ния контроля государства над общественным дискурсом и
исторической наукой, и можно сказать, что символический
эффект оказался намного значительнее практических по¬
следствий. Впрочем, как показал А. Миллер, «историче¬
ская политика» второй половины 2000-х гг имела спады и
подъемы. В 2010 г. на фоне «перезагрузки» российско-аме¬
1 Этот эпизод достаточно обстоятельно описан в литера¬
туре, см.: [Kaplan, 2009; Миллер, 20126 и др.].
123
риканских отношений наметилась тенденция к «разрядке»
напряженности в отношениях с некоторыми соседними
странами [Миллер, 20126, с. 342-350]. Свою лепту в этот
процесс внесла авиакатастрофа под Смоленском, в которой
погибла польская официальная делегация, летевшая на ме¬
мориальное мероприятие в Катыни; открытая и искренняя
реакция российской политической элиты на это событие
способствовала развитию диалога о «трудном» прошлом.
На этом фоне празднование 65-летия Победы в 2010 г. про¬
шло гораздо спокойнее, чем в 2005 г [Kangaspuro, 2011].
Однако разнонаправленность векторов символической по¬
литики России и ее ближайших соседей, по-видимому, еще
долгое время будет раздражающим фактором для россий¬
ской «исторической политики».
Не менее сложной проблемой оказывается сопряже¬
ние символа Великой Победы с нарративом о советском
прошлом: если относительно значимости первого суще¬
ствует более или менее устойчивый консенсус, то по пово¬
ду содержания второго имеет место борьба диаметрально
противоположных позиций. Отражением этой проблемы
являются бесконечные споры о включении в официальный
канон коммеморации Победы фигуры И. В. Сталина. В то
время как для коммунистов и части националистов кажет¬
ся «странным», что «на официальных празднествах в честь
Дня Победы... не только нельзя увидеть портретов Вер¬
ховного главнокомандующего, но и услышать в его адрес
хоть одно теплое слово» [Зюганов, 2008; ср. Сталинград...
2013], люди либеральных и демократических убеждений
считают морально неприемлемым «публично восхвалять
или пропагандировать Сталина» [Преодоление сталиниз¬
ма, 2013, с. 14]. Выразив в начале 2000-х гг. готовность
частично «реабилитировать» советское прошлое, власть
оказалась перед необходимостью реагировать на периоди¬
чески возникающие запросы о возвращении в коммемора-
тивный канон имени Сталина.
124
Позиция Путина на этот счет с самого начала была
уклончивой. С одной стороны, он неоднократно соглашал¬
ся обсуждать эту «трудную» тему, выражая тем самым по¬
нимание позиции тех, кто ее поднимает. Так, в 2002 г во
время прямого теле- и радиоэфира он сам выбрал вопрос о
переименовании Волгограда. Отметив, что он задан не по
адресу - переименование населенных пунктов относится к
компетенции региональных властей и федеральной законо¬
дательной власти, - Путин счел нужным сформулировать
собственное мнение по данному вопросу. Подтверждая,
что Сталинградская битва войдет в мировую историю
«как один из ярчайших эпизодов Второй мировой войны»,
он подчеркнул, что город был переименован «не нами».
С другой стороны, доказывая, что обратное переимено¬
вание нежелательно, поскольку может породить «какие-
то подозрения в том, что мы возвращаемся к временам
сталинизма» [Путин, 2002а], президент демонстрировал,
что разделяет озабоченность противников такого хода со¬
бытий. В том же духе Путин высказывался по вопросу о
переименовании Волгограда и в 2009 г. в качестве пре¬
мьер-министра, и в 2014 г.
Более определенную позицию относительно «воз¬
вращения Сталина» в праздничный канон занял в 2010 г
Д. А. Медведев. Вероятно, реагируя на слухи о возможном
использовании плакатов с изображением генералиссимуса
во время празднования в Москве 65-летия Победы, рас¬
пространявшиеся СМИ, президент в предпраздничном
интервью газете «Известия» счел нужным дать «государ¬
ственную оценку» фигуре генералиссимуса: «Сталин
совершил массу преступлений против своего народа, - за¬
явил Медведев. - II, несмотря на то что он много рабо¬
тал, несмотря на то что под его руководством страна
добивалась успехов, то, что было сделано в отношении
собственного народа, не может бытъ прощено» [Медве¬
дев, 2010а].
125
Очевидно, что тема Сталина не относится к той части
советского исторического наследия, которое вполне удобно
для включения в апологетический нарратив «тысячелетне¬
го государства»: официально сохраняя приверженность де¬
мократическим ценностям, современная российская власть
не может открыто героизировать политика, совершившего
«массу преступлений в отношении собственного народа».
Вместе с тем было бы неправильно говорить о полном
согласии на этот счет в рядах властвующей элиты: пред¬
ложения о «возвращении» имени Сталина в разные годы
встречали публичную поддержку у мэра Москвы Ю. Луж¬
кова, спикера Совета Федерации В. Матвиенко, вице-пре¬
мьера Д. Рогозина и других федеральных политиков.
Изменения в курсе символической политики, наметив¬
шиеся с возвращением В. В. Путина в кресло президента
в мае 2012 г, - в частности, крен в сторону «патриотизма»
и антизападничества - способствовали усилению борьбы
с «фальсификаторами» истории Великой Отечественной
войны. В апреле 2014 г. после нескольких неудачных по¬
пыток в России все-таки был принят закон, дополняющий
Уголовный кодекс РФ статьей, карающей за «реабилита¬
цию нацизма» [Колосов, 2014]. Работа над ним активизи¬
ровалась после скандала с телеканалом «Дождь», который
в январе 2014 г. провел опрос мнений зрителей по вопро¬
су «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни
тысяч жителей?». Опрос вызвал критическую реакцию в
СМИ и социальных сетях; многие кабельные каналы от¬
казались от сотрудничества с «Дождем», тем самым поста¬
вив этот телеканал на грань выживания. Вновь принятый
закон вводит уголовную ответственность за «отрицание
фактов», установленных Нюрнбергским трибуналом, и
одобрение установленных им преступлений, а также за
«распространение заведомо ложных сведений о деятель¬
ности СССР в годы Второй мировой войны, совершен¬
ные публично» [ФЗ, 2014, № 128-ФЗ]. Трудно сказать, как
126
сложится практика применения данного закона. Однако
очевидно, что он задуман в качестве инструмента устра¬
шения, ограничивающего распространение интерпретаций
истории военного периода, альтернативных официально
одобренным.
Как будет показано в следующей главе на основе систе¬
матического анализа выступлений президентов РФ, память
о Великой Отечественной войне оказалась наиболее «при¬
годным» для политического использования элементом кол¬
лективного прошлого. Все лидеры постсоветской России
стремились опереться на символический потенциал побе¬
ды над нацистской Германией для легитимации собствен¬
ной политики. Но делалось это по-разному. Б. Н. Ельцин
пытался вписать память о войне в «критический» нарра¬
тив, противопоставляющий «новую» Россию «старой»,
советской; в этой логике победа над нацистской Герма¬
нией представлялась как подвиг народа, совершенный
скорее вопреки, чем благодаря коммунистическому режи¬
му. Однако эта интерпретация не стала предметом обще¬
ственного «согласия». В начале 2000-х гг. «критический»
нарратив был пересмотрен в пользу концепции, подчер¬
кивающей преемственность «тысячелетнего» Российского
государства; победа в Великой Отечественной войне и пре¬
вращение СССР в мировую сверхдержаву стали централь¬
ными элементами новой смысловой схемы отечественного
прошлого. При этом символ Победы был «отделен» от
негативной памяти о сталинском режиме (массовых ре¬
прессиях, ошибках первого периода войны, непомерно
высокой цены некоторых военных успехов и т. п. ). Это
делает возможной его «смысловую инфляцию», но одно¬
временно затрудняет его вписывание в общий нарратив.
Кроме того, в условиях радикальной трансформации евро¬
пейских режимов памяти «апологетическая» версия Вели¬
кой Победы оказывается уязвима перед вызовами извне.
3. Репертуар политически
актуального прошлого в риторике
президентов РФ (1991—2014)
Современные макрополитические сообщества мыс¬
лятся по модели нации, которая предполагает долгую пре¬
емственность во времени [Smith А., 1999; Coakley, 2007 и
др.]. Отчасти в силу этого, а также по причине того, что
идея истории вообще выступает в качестве фундаменталь¬
ного принципа воображения социального порядка в эпоху
Модерна [Копосов, 2011, с. 15-20], апелляция к прошло¬
му является неотъемлемым атрибутом политической ри¬
торики. Когда речь идет о легитимации и делегитимации
существующего режима, политическом целеполагании,
мобилизации поддержки, критике оппонентов и т. п., от¬
сылки к «коллективной памяти» оказываются весомыми
аргументами. Предполагается, что они подкрепляют нор¬
мативные и причинные утверждения «эмпирическим»
опытом многих поколений. Используя этот ресурс, публич¬
ные политики участвуют в символической борьбе за ин¬
терпретацию прошлого.
При этом они оперируют наличным репертуаром исто¬
рических событий и фигур, которые известны широкой
аудитории и способны вызывать ожидаемую реакцию.
Чтобы быть политически «пригодными», символы про¬
шлого должны быть закреплены не только в параграфах
школьных учебников, но и в художественной литературе,
кинематографе, документальных фильмах, музеях, памят¬
никах, топографии публичного пространства, националь¬
ных праздниках и ритуалах, личном опыте индивидов,
передаваемом через живое общение и др. Имеет значение
и то, какой смысл приписывается соответствующим эпи¬
зодам прошлого, как они используются разными акторами
и в какой мере их оценки совпадают. Будучи ограничены
128
репертуаром уже «актуализированного» прошлого, пред¬
ставители политической элиты могут располагать суще¬
ственными ресурсами для его трансформации, причем не
только за счет риторической реинтерпретации. Те из них,
кто участвует в принятии соответствующих властных
решений, имеют эксклюзивные возможности не только
для номинации событий прошлого с целью политическо¬
го использования (в форме установления национальных
праздников и практик официальной коммеморации, госу¬
дарственных наград, символической реорганизации про¬
странства и проч.), но и для трансляции определенных
версий коллективной памяти (путем регулирования школь¬
ных программ, принятия «мемориальных» законов, госу¬
дарственных инвестиций в культуру и др.). Вместе с тем
символические действия власти - легкая мишень для кри¬
тики оппонентов: опыт многих стран свидетельствует, что
они часто становятся предметом общественных дискуссий.
Другими словами, для властвующей элиты «актуализи¬
рованное» прошлое выступает и как ресурс, применение
которого сопряжено с определенными выгодами и ри¬
сками, и как объект символических инвестиций. Второй
аспект представляется особенно важным, когда в повест¬
ке дня стоит конструирование новой макрополитической
идентичности. Однако эту долгосрочную стратегическую
цель приходится сопрягать с более насущными текущими
задачами.
Анализ репертуара событий национального прошло¬
го, «задействованных» в официальной риторике, позволя¬
ет выявить особенности подходов властвующей элиты к
трансформации и использованию этого ресурса. Поскольку
практика публикации речей президентов РФ менялась - вы¬
ступления Б. Н. Ельцина освещались исключительно в пе¬
чатных СМИ, причем достаточно фрагментарно, тогда как
тексты его преемников в полном объеме доступны на пор-
129
тале «Президент России»1, - я начну с рассмотрения прези¬
дентских посланий Федеральному Собранию РФ, на основе
которых можно систематически проследить эволюцию
практики использования национального прошлого в кон¬
тексте легитимации политического курса с 1994 по 2014 г.2
А затем дополню полученные наблюдения анализом памят¬
ных речей В. В. Путина и Д. А. Медведева, посвященных
различным историческим датам, которые не только дают
более полное представление о репертуаре «актуализиро¬
ванного» прошлого, но и позволяют зафиксировать важные
тенденции, связанные с принципами его отбора.
Использование национального прошлого для
легитимации действующей власти
(анализ посланий президентов РФ
Федеральному Собранию РФ, 1994—2012 гг.)
Выбор в качестве объекта исследования ежегодных
посланий президентов РФ определяется их жанровыми
особенностями: это тексты программного характера, при¬
званные дать оценку результатов проводимого политиче¬
ского курса и определить задачи на перспективу, а также
оправдать действия властей, увязав их с целями и цен¬
ностями, которые предположительно значимы для обще¬
ства. То, что послания готовятся ежегодно и затрагивают
примерно одинаковый круг вопросов, делает их удобны¬
1 http://www.kremlin.ra; с 31 декабря 1999 г. по 7 мая
2008 г. - http://archive.kremlin.ra
2 Результаты первого этапа этого исследования были опу¬
бликованы в журнале Pro et Contra (Том 15, № ЗМ (52), май-
август 2011) [Малинова, 2011] © 2011, Carnegie Endowment
for International Peace. Воспроизводится с разрешения Мо¬
сковского Центра Карнеги.
130
ми объектами для сравнительного анализа1. По сложив¬
шейся традиции, эти программные документы тщательно
готовятся, и, хотя подробности этого процесса скрыты от
глаз публики, очевидно, что формулировки, включенные
в тексты обращений президентов к Федеральному Собра¬
нию, являются продуктом коллективного обсуждения. На¬
конец, их ключевые идеи тиражируются многочисленными
комментаторами, что усиливает их публичный резонанс.
В силу указанных особенностей содержание ежегодных
президентских посланий позволяет проследить эволюцию
подходов властвующей элиты к работе с прошлым в кон¬
тексте легитимации действующей власти.
С помощью контент-анализа и дискурс-анализа прези¬
дентских посланий я попыталась выяснить, какие аспек¬
ты национальной истории привлекаются для обоснования
текущего политического курса и каким образом исполь¬
зуется этот символический ресурс. Объектами изучения
стали фрагменты президентских посланий, которые со¬
держат прямые или косвенные упоминания о событиях,
явлениях, процессах или действующих лицах отечествен¬
ной истории, как давней, так и современной. В качестве
классифицирующих категорий для анализа репертуара
используемого прошлого была взята привязка к конкрет¬
ным историческим периодам: история России до 1917 г,
история советского периода, постсоветская история, исто¬
рия вообще, т. е. все, что предшествовало настоящему
моменту. Единицами подсчета выступали упоминания про¬
шлого, т. е. связные и законченные фрагменты текста, со¬
державшие ссылку на конкретные исторические события,
1 Не случайно послания Федеральному Собранию поль¬
зуются популярностью у исследователей политического дис¬
курса. [Гаврилова, 2003; Гаврилова, 2004, Гаврилова, 2005;
Гаврилова, 2012; Мартьянов, 2007; Старцев, 2007; Панов,
2008; Малинова, 2011 и др.]
131
явления, процессы, действующих лиц или на коллективное
прошлое вообще. Количество слов в высказывании и его
доля в тексте не учитывались, поскольку в данном случае
был важен сам факт номинации. Целью дискурс-анализа
было выявление функций ссылок на прошлое в контексте
легитимации текущих политических решений.
Отсылки к национальной истории1 имеются во всех
президентских посланиях, хотя их количество и функции
варьируются. Больше всего упоминаний о прошлом со¬
держалось в посланиях Б. Н. Ельцина2. Правда, его про¬
граммные речи были в 2—4 раза длиннее аналогичных
выступлений его преемников3. Но думается, что количе¬
ство отсылок к прошлому определялось не только раз¬
мерами текстов: Ельцин действительно видел себя как
1 Отражение в программных выступлениях президентов
событий и действующих лиц всеобщей истории - это само¬
стоятельная тема [Согрин, 2008].
2 В шести его обращениях к Федеральному Собранию
удалось обнаружить 46 ссылок на события, явления и про¬
цессы российской истории, в восьми посланиях двух первых
президентских сроков В. В. Путина - 22, в четырех посланиях
Д. А. Медведева - 21, в трех посланиях третьего президент¬
ского срока В. В. Путина - 28 (поскольку один из фрагментов
послания 2012 г. содержит ссылки на события XX в., имевшие
место как до, так и после 1917 г, в контент-анализе этот фраг¬
мент фигурировал сразу в трех категориях).
3 Тексты президентских посланий различаются по объему.
Наиболее пространными были послания Ельцина [от при¬
мерно 12,6 тыс. слов (в 1996 г.) до почти 21 тыс. (в 1999 г.)],
наиболее сжатыми - послания двух первых сроков Путина
[в среднем около 5 тыс. слов, за исключением более развер¬
нутого итогового послания 2007 г. (около 8 тыс. слов)]. Объ¬
ем посланий Медведева колебался между 6,4 и 9,8 тыс. слов.
Однако наиболее развернутый анализ настоящего на фоне
прошлого дан в самом коротком из ельцинских посланий, за¬
читанном накануне выборов в 1996 г.
132
политического лидера, меняющего ход истории (своей во¬
лей возвращающего ее в «естественное» русло). Весьма
характерны слова, сказанные им в заявлении об отставке:
«Главное дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда
не вернется в прошлое - Россия всегда теперь будет дви¬
гаться только вперед. И я не должен мешать этому есте¬
ственному ходу истории» [Ельцин, 1999в]. По-видимому,
первому президенту РФ было свойственно особое, лич¬
ностно-заинтересованное отношение к истории. Разумеет¬
ся, тексты посланий различаются не только по количеству
упоминаний о прошлом - наблюдаются различия и в объ¬
ектах ссылок (см. табл. 2), и в их оценке.
В посланиях Б. Н. Ельцина так или иначе представле¬
ны все периоды отечественной истории, но наибольшее
количество ссылок на советский и постсоветский пери¬
оды (соответственно, 15 и 9 из 46); в его текстах всего
3 упоминания о событиях и явлениях истории России до
1917 г и 1 ссылка на русского писателя (в послании 1999 г.
в контексте рассуждений о национального идее и людях
как основе преемственности истории цитируется мысль
А. И. Солженицына о «сбережении народа»). Кроме того,
мне удалось насчитать 18 высказываний, в которых исто¬
рия рассматривается как общий контекст происходящего,
без конкретизации периода.
В посланиях Путина 2000-2007 гг почти нет прямых
ссылок на историю России до 1917 г. (единственное ис¬
ключение -упоминание о «дореволюционном историческом
опыте» местного самоуправления в качестве образца для
федеральных законодателей в послании 2002 г.)1. Зато
второй президент РФ больше цитировал деятелей оте-
1 Любопытно, что и Ельцин однажды ссылался на опыт
земств как доказательство наличия «глубоких исторических
корней» местного самоуправления «в российской политиче¬
ской культуре» [Ельцин, 1994].
133
чественной культуры {всего 6 ссыпок: 2 - на И. Ильина
(в 2005 и 2006 гг.), 2 - наД. С. Лихачева (в 2006 и 2007 гг.),
по 1 - на Л. Петражицкого (2005 г.) и А. И. Солженицына
(в 2006 г. Путин тоже говорил о «сбережении народа»)).
Начиная с 2005 г ссылки на имена и идеи великих соотече¬
ственников ежегодно вставляются в тексты обращений к
ФС РФ, что дает заметное «приращение» их исторической
составляющей. Послания 2000-2007 гг содержат 4 упо¬
минания о советском периоде, 4 фрагмента, посвященных
достижениям и ошибкам 1990-х гг. и 7 общих ссылок на
прошлое.
Д. А. Медведев продолжил традицию обращения
к именам деятелей отечественной культуры (послание
2008 г. содержит ссылки на П. А. Столыпина, Б. Н. Чиче¬
рина и Василия Леонтьева; в тексте 2010 г. упоминаются
имена Н. Некрасова, А. Чехова, Ю. Гагарина и А. Ахмато¬
вой как третьих детей в семье - в контексте обсуждения
демографической проблемы; в 2011 г. - Д. С. Лихачева).
За исключением этих имен, в его обращениях нет упо¬
минаний об истории России до 1917 г; есть 4 ссылки на
историю советского периода (3 из них на Великую Отече¬
ственную войну и 1 - на опыт советской модернизации),
2 общих упоминания о «тысячелетней истории» нашего
народа и 7 ссылок на новейшую, постсоветскую историю.
В посланиях третьего президентского срока В. В. Пу¬
тина национальному прошлому уделено заметно больше
внимания (за два с половиной года - 30 упоминаний). По-
видимому, это прямо связано с изменениями в курсе сим¬
волической политики: в 2012 г. едва ли центральное место
в этом программном выступлении занимала проблема «де¬
фицита духовных скреп», в 2014 г. отсылки к прошлому
использовались для обоснования «воссоединения Крыма
и Севастополя с Россией» и позиции последней в отноше¬
нии украинского кризиса и западных санкций. Обращают
на себя внимание некоторые изменения в подходе к хро¬
нологии. Отступая от традиционного деления истории на
134
«до» 1917 г. и «после» СССР, Путин говорил о прошлом в
масштабе XX и XXI вв. Первый связывался с драматиче¬
скими событиями1, второй - с благополучным разрешени¬
ем проблем, доставшихся в наследство2. В этом контексте
и «70-летний советский период», и 1990-е гг. оказывались
составными частями неблагополучного XX в. В послани¬
ях 2012-2014 гг 8 ссылок на новейшую историю, 5 - на
советский период и 4 - на дореволюционный (т. е. столько
же, сколько за предыдущие 20 лет), 4 цитаты (Л. Гумилева,
А. Солженицына, Н. Бердяева и И. Ильина) и 9 упомина¬
ний о национальном прошлом без привязки к конкретному
периоду.
1 «На протяжении только одного XX в. Россия про¬
шла через две мировые и гражданскую войны, через рево¬
люции, дважды испытала катастрофу распада единого
государства. В нашей стране несколько раз коренным обра¬
зом менялась вся система жизнеустройства. В результате в
начале XXI в. мы столкнулись с настоящей демографической
и ценностной катастрофой, с настоящим демографическим
и ценностным кризисом» [Путин, 2012г].
2 «За первые 12 лет нового века сделано немало. Огром¬
ный по важности этап восстановления и укрепления стра¬
ны пройден. Сейчас наша задача - создать богатую и
благополучную Россию» [там же]; «...Впервые за всю новей¬
шую историю нашей страны мы пять месяцев подряд фик¬
сируем естественный прирост населения: рождаемость
наконец стала превышать смертность» [там же]. Напротив,
период, захватывающий 1990-е гг. («предыдущие 15-20 лет»),
репрезентировался как источник сегодняшних проблем: «На
улицах наших городов и поселков мы видим сегодня результа¬
ты того, что происходило в государстве, в обществе, в шко¬
ле, в СМИ, да и в наших головах в последние, в предыдущие
15-20 лет. Это и понятно. Тогда были отброшены все идео¬
логические штампы прежней эпохи. Но, к сожалению, тогда
же были утрачены и многие нравственные ориентиры. Мы в
известном смысле вместе с грязной водой и ребенка выплес¬
нули» [там же].
135
Таблица 2. Упоминания событий, процессов, явлений
и действующих лиц отечественной истории в посланиях
президентов РФ Федеральному Собрания РФ, 1994—2014 гг.
Б. Н. Ельцин,
1994-1999
В. В. Путин,
2000-2007
Д. А. Медведев,
2008-2011
В. В. Путин,
2012-2014
Всего
высказываний
% от общего
числа
высказываний
Дореволюционный период
3
1
0
4
8
7
Советский период
15
4
4
5
28
23
Постсоветский период
9
4
4
8
25
21
Отечественная исто¬
рия вообще
18
7
5
9
39
33
Фигуры историче¬
ских деятелей
1
6
8
4
19
16
Всего
46
22
21
30
119
100
В целом структура «исторической» составляющей в
символическом репертуаре президентских посланий вы¬
глядит следующим образом: в общей массе упоминаний
о прошлом события и явления дореволюционной истории
составляют 7 % (этот показатель существенно «улучшили»
выступления 2012-2014 гг.), 16% - ссылки на деятелей
отечественной культуры, 21 % - оценки постсоветского
периода, 23 % - воспоминания о советской эпохе и 33 % -
рассуждения общего характера (см. табл. 2). Таким об¬
разом, прошлое чаще используется «обобщенно», образ
«тысячелетней России» в президентских посланиях слабо
конкретизирован, в качестве объектов конкретных ссылок
чаще выступают события новейшей истории - советской и
постсоветской.
С одной стороны, это объяснимо: в силу особенно¬
стей советской исторической политики память о событиях
XX в. была лучше закреплена в символических практиках.
Одновременно она была наиболее очевидным предметом
136
политического манипулирования и оспаривания. Поэтому
конструирование новой идентичности не могло обойтись
без переоценки недавнего прошлого. С другой стороны,
отвергая прежние схемы репрезентации прошлого, полити¬
ческая элита отказывалась и от связанных с ними позитив¬
ных элементов образа Нас. Без компенсации этой потери
трудно было рассчитывать на формирование прочных уз
солидарности внутри нового макрополитического сообще¬
ства. Разумеется, эту задачу можно решать различными
способами - не только за счет «славного прошлого», но и
апеллируя к достижениям настоящего и перспективам бу¬
дущего. Однако в том, что касается ретроспективы, наи¬
более очевидный ресурс символической политики - это
именно «тысячелетняя история» России, не ограничиваю¬
щаяся «проблематичным» XX в. Возникает вопрос: почему
авторы президентских посланий так редко обращались к
событиям дореволюционного прошлого? И почему в поис¬
ках аргументов для обоснования текущего политического
курса они так настойчиво возвращались к травмам недав¬
ней истории? Изучение функций высказываний о прошлом
в президентских посланиях отчасти дает ответы на эти
вопросы.
При обосновании политической стратегии ссылки на
прошлое, как правило, даются в контексте сопоставления с
настоящим и/или будущим. В зависимости от соотношения
оценок можно выделить различные функции исторических
примеров в контексте легитимации политического кур¬
са - и, соответственно, разные фреймы (см. табл. 3). Упо¬
минания о прошлом могут символизировать позитивную
преемственность с настоящим (легитимация традицией),
указывать на отличие настоящего от прошлого с целью
продемонстрировать сегодняшние достижения и преиму¬
щества современного политического курса (в этом случае
прошлое оценивается критически). Негативная оценка
истории может фигурировать и в высказываниях, оправ-
137
дывающих современные трудности и неудачи наследием
прошлого или обосновывающих необходимость реформ
(функция оправдания критически оцениваемого настоя¬
щего). Прошлое может использоваться как источник мо¬
рального опыта, «уроки» которого позволяют обосновать
современные принципы. Наконец, целью высказывания
может быть политическая оценка самого прошлого, арти¬
куляция позиции власти по отношению к тем или иным
событиям или периодам. Некоторые фрагменты могут со¬
ответствовать сразу нескольким фреймам; в таком случае
при классификации выбиралась интерпретация, которую
исходя из контекста высказывания можно считать основ¬
ной. Многие упоминания об истории связаны с общими
суждениями о значении темпоральной преемственности
(«мы остро нуждаемся в историческом понимании про¬
исходящего...» [Ельцин, 1996]; «сегодня, когда мы идем
вперед, важнее не вспоминать прошлое, а смотреть в
будущее» [Путин, 2000г[; «преемственность поколений»
[Медведев, 20 Юг]). Как эти функции прошлого представ¬
лены в ежегодных президентских обращениях Б. Н. Ельци¬
на, В. В. Путина, Д. А. Медведева и снова В. В. Путина?
Таблица 3. Функции ссылок на национальное прошлое
в посланиях президентов РФ Федеральному
Собранию РФ, 1994 2012 гг.
Функции / смысловые фреймы
репрезентации прошлого
Б. Н. Ельцин,
1994-1996 гг.
Б. Н. Ельцин,
1997-1999 гг.
В. В. Путин,
2000-2003 гг.
В. В. Путин,
2004-2007 гг.
Д. А. Медведев,
2008-2011 гг.
В. В. Путин,
2012-2014 гг.
Легитимация традицией /
позитивная преемственность
7
2
2
3
5
п
Демонстрация достижений/пре-
имуществ современного курса
8
2
1
1
6
3
Оправдание критически оцени¬
ваемого настоящего трудностя¬
ми, обусловленными прошлым
6
1
1
1
-
5
138
Окончание табл. 3
Функции / смысловые фреймы
репрезентации прошлого
Б. Н. Ельцин,
1994-1996 гг.
Б. Н. Ельцин,
1997-1999 гг.
В. В. Путин,
2000-2003 гг.
В. В. Путин,
2004-2007 гг.
Д. А. Медведев,
2008-2011 гг.
В. В. Путин,
2012-2014 гг.
Подкрепление современных
политических принципов
ссылками на «уроки про¬
шлого» / авторитет извест¬
ных соотечественников
3
2
-
5
9
10
(Пере)оценка прошлого
как политический акт
12
1
-
7
-
1
Иное
2
1
1
Всего высказываний
38
8
5
17
21
30
В посланиях Б. Н. Ельцина упоминания о прошлом
служили задаче оправдания курса на радикальную транс¬
формацию советского «тоталитарного» порядка. С одной
стороны, начатые под руководством Ельцина реформы
представлялись как восстановление связи времен, разо¬
рванной в годы советской власти {«Разложилась до¬
минировавшая в течение десятилетий тоталитарная
государственная идеология, выразителем которой была
КПСС. На смену приходит осознание естественной исто¬
рической и культурной преемственности...» [Ельцин,
1994]; ср. в последнем итоговом послании: «Завершает¬
ся десятилетие, ознаменованное возвращением России
на магистральный путъ мирового развития» [Ельцин,
1999а]). Восстановление исторической истины рассматри¬
валось как одно из условий успеха совершающихся пре¬
образований {«Мы все еще плохо знаем свою историю,
оттого так много легковерных людей и низка политиче¬
ская культура, так быстро распространяются мифы»
[Ельцин, 1996]). Ельцин делал особый упор на «воссое¬
динение двух ветвей нашей культуры - существовавшей
в советских условиях и зарубежной» [Ельцин, 1996] и
139
представлял новый политический режим гарантом сво¬
боды исторического познания {«Никогда больше в России
не должно быть порядков, позволяющих скрывать правду,
фальсифицировать историю, внедрять беспамятство»,
[Ельцин, 1996]).
С другой стороны, в посланиях Ельцина обнаружива¬
ется множество высказываний, в которых оправдываемое
или положительно характеризуемое настоящее противо¬
поставляется критически оцениваемому прошлому. По
моим подсчетам, таких высказываний - 16 из 46; еще в
6 высказываниях (относящихся к хрущевской оттепели
и перестройке) отмечаются как положительные, так и от¬
рицательные аспекты прошлого. В целом в ельцинских
посланиях пафос превосходства настоящего по от¬
ношению к прошлому выражен гораздо заметнее, не¬
жели в обращениях его преемников1. Первый президент
РФ подчеркивал, что «за всю тысячелетнюю историю
России культура и ее деятели не имели столько свободы
творчества и политической независимости, как теперь»
[Ельцин, 1994], что сегодня как никогда у россиян «расши¬
рились возможности приобщения к подлинным ценностям
национальной и мировой культуры» [Ельцин, 1995в], что
«время борьбы регионов с “центром ” за свои права ухо¬
дит в историю» [Ельцин, 1994], что проводимые рефор¬
мы - «первые в истории России преобразования такого
масштаба, осуществляемые без подавления и уничтоже¬
ния политических противников» [Ельцин, 1996] ит. п.
1 Для сравнения, в посланиях Путина 2000-2007 гг. вы¬
сказываний, оценивающих прошлое критически, - 4, от¬
мечающих одновременно его плюсы и минусы - 3 (из 22);
соответственно, в посланиях Медведева - 4 и 1 (из 21) Дру¬
гими словами, у Ельцина фрейм оправдания по контрасту за¬
метно преобладал над фреймом легитимации традицией. Как
я покажу ниже, та же тенденция характерна для посланий тре¬
тьего срока В. В. Путина.
140
При этом критика, разумеется, относилась прежде все¬
го к наследию советского прошлого, которому вменялись
в вину «сверхжесткая мобилизационная модель разви¬
тия, концентрировавшая все силы в руках государства»,
«косная экономическая система» и уничтожение «граж¬
данского общества, зачатков демократии и частной соб¬
ственности» [Ельцин, 1996]. С учетом этого распад СССР
представлялся как историческая закономерность («Совет¬
ский Союз рухнул под тяжестью всеобъемлющего кризиса,
разодранный на куски экономическими, политическими и
социальными противоречиями» [Ельцин, 1996]). Пробле¬
мы советского общества представлялись Ельциным в каче¬
стве, с одной стороны, аргумента в пользу необходимости
реформ, а с другой стороны - фактора, предопределившего
их радикальный, болезненный характер. Настойчивое об¬
ращение первого президента РФ к недавнему прошлому
во многом было обусловлено стремлением оправдать соб¬
ственную политику, списав часть ответственности на счет
«проблем, доставшихся России по наследству» [Ельцин,
1996]. В частности, разделить ее с союзным руководством,
«многолетняя нерешительность» которого привела его
«к гибели, а государство - к распаду» [Ельцин, 1996] (Не
столь радикальные реформы, по мнению Ельцина, «надо
было начинать намного раньше») [там же]. Отсюда - пре¬
обладание критики над позитивными оценками в репре¬
зентации хрущевских реформ и особенно перестройки.
Однако, как мы видели на примере Октябрьской ре¬
волюции, корни многих современных проблем усма¬
тривались и в досоветской истории. В 1996 г. Ельцин
констатировал, что «царская Россия, обремененная грузом
собственных исторических проблем, не смогла выйти»
на дорогу демократии, что предопределило «радикализм
российского революционного процесса, его стремитель¬
ный срыв от Февраля к Октябрю» и в конечном сче¬
те обусловило разрыв исторической традиции («Этим
141
разрушительным радикализмом - “до основанья, а за¬
тем ” - объясняется тот факт, что в ходе ломки преж¬
них устоев оказалось утрачено многое из достижений
дореволюционной России в сфере культуры, экономики,
права, общественно-политического развития») [Ельцин,
1996]. В 1995 г, в контексте чеченской войны, он ссылал¬
ся на имперское наследие как причину региональных дис¬
пропорций, ставших «родимым пятном нашей истории и
экономики» {«Российская история распорядилась таким
образом, что суверенитет государства простирается на
огромную территорию и охватывает многочисленные на¬
роды» [Ельцин, 1995в]). Тогда же Ельцин сетовал на тра¬
дицию правового нигилизма {«Россия хорошо знает, что
такое право силы. Осознать силу права только предсто¬
ит») и неуважения к правам личности, которые «никогда
в отечественной истории не считались практическим
государственным приоритетом» [там же]. В 1999 г, кри¬
тикуя практику формирования внебюджетных фондов, он
вспоминал об «известной из российской истории “систе¬
ме кормления”» [Ельцин, 1999а] и т. д. В 1998 г. говорил
о недостатках свойственного России «мобилизационного»
типа развития {«История доказала: рывки, организуемые
“сверху", но не поддержанные обществом, могут прино¬
ситъ успех, но не бывают долговременными, ведут к ново¬
му спаду и отставанию» [Ельцин, 1998]).
Иными словами, принцип легитимации по контрасту
использовался применительно не только к советскому, но
и к дореволюционному прошлому. В логике «критическо¬
го» нарратива, наиболее систематически изложенного в
предвыборном послании 1996 г, Россия конца XX в. пред¬
ставлялась не в качестве общего знаменателя «пяти разных
Россий», выделенных когда-то Н. А. Бердяевым1, но как
1 Бердяев, как известно, утверждал, что русский народ
развивался «катастрофическим темпом, через прерывность и
142
шестая, новая, Россия, отличающаяся от прежних. Вновь
формулируемые политические задачи мыслились скорее
как изменение традиции, нежели как ее продолжение. При
этом список «проблемных» аспектов национального про¬
шлого выглядел достаточно конкретно и внушительно.
Какие же аспекты унаследованных традиций оцени¬
вались положительно? В посланиях первого президента
России мне удалось обнаружить не так много фрагментов,
в которых обсуждаются конкретные факты или события
российской истории, способные служить залогом успеха
современных преобразований. Во-первых, Ельцин связы¬
вал надежды на будущее с тем, что Россия не раз доказы¬
вала свою способность справляться с выпадавшими на ее
долю трудностями {«Несмотря на тяжелые испытания,
которые принес России XX в., наше Отечество выстояло.
Россия была и остается великой страной» [Ельцин, 1996];
«России удавалось собраться и в несравнимо более труд¬
ные времена» [Ельцин, 1998]). Во-вторых, он стремился
разделить политический режим и великий российский на¬
род с его неисчерпаемым потенциалом {все достижения
советского периода - это «заслуга народа, сумевшего
сохранить, несмотря ни на что, свои лучшие националь¬
ные черты и качества, результат его труда и таланта»
[Ельцин, 1996]; несмотря на семидесятилетнее засилье
государственного атеизма, «вековые народные устои не
были до конца разрушены» [Ельцин, 1994]; «пессимизм
не в традициях нашего народа» [Ельцин, 1999а] и др.).
В-третьих, источником оптимизма служила «российская
многонациональная культура», способная «вселитъ уве¬
ренность, датъ мощный импульс возрождению и процве¬
изменение типа цивилизации»; он насчитал «пять разных Рос¬
сии: Россию киевскую, Россию татарского периода, Россию
московскую, Россию петровскую, императорскую и, наконец,
новую советскую Россию» [Бердяев, 1990, с. 7].
143
танию Отечества» [Ельцин, 1999а]. Удивительно, что
Ельцин и его окружение почти не пытались номинировать
для политического использования символы, связанные
с демократическими и либеральными началами в отече¬
ственном прошлом. Эта тема лишь однажды была прямо
затронута в президентском послании, когда в 1996 г. Ель¬
цин вспомнил о «традиции народоправства», присущей
российскому народу, и о либеральных идеалах, которые
«наши самые выдающиеся соотечественники отстаива¬
ли веками» [Ельцин, 1996]). В этом же смысле можно ис¬
толковать и приведенную выше ссылку на опыт земств в
контексте обсуждения современной реформы местного
самоуправления [Ельцин, 1994]. Однако этим и исчерпыва¬
ются попытки использовать «демократическое наследие»
прошлого в посланиях первого президента РФ.
Таким образом, призывы Ельцина к восстановлению
исторической и культурной преемственности не были
подкреплены номинацией конкретных исторических сим¬
волов, на которые могла бы опираться новая Россия. Уста¬
новка на противопоставление прошлого настоящему явно
превалировала в его посланиях над стремлением найти
корни нового политического курса в наследии отечествен¬
ной истории. Новый официальный нарратив воспроиз¬
водил сложившийся культурный алгоритм прерывания
традиции через отрицание целей и ценностей предыдуще¬
го исторического этапа1.
Тема преемственности и изменения традиции получи¬
ла продолжение в посланиях В. В. Путина 2000-2007 гг,
хотя отсылок к истории в них существенно меньше. В по-
1 Классическое описание этого алгоритма - концепция
дуализма русской культуры, разработанная Ю. Лотманом и
Б. Успенским на материале до XVIII в. [Лотман, Успенский,
1994], которую многие авторы считают релевантной и для
объяснения более поздних процессов.
144
слании 2000 г. Путин даже особо отметил: «Сегодня, ког¬
да мы идем вперед, важнее не вспоминать прошлое, а
смотреть в будущее» [Путин, 2000г]. И действительно, в
четырех посланиях первого президентского срока мне уда¬
лось обнаружить не более 5 высказываний, обращающих¬
ся к прошлому. Тем не менее, отчитываясь за первый год
своего президентства, Путин счел нужным вписать предла¬
гаемый им принцип «стабильности» как основы для «на¬
зревших перемен» в исторический контекст, подчеркнув
его нетипичность для российской политической практики
{«Конечно, общественные ожидания и опасения [по по¬
воду перемен. - О. А/.] появляются не на пустом месте.
Они основаны на известной логике: за революцией обычно
следует контрреволюция, за реформами - контрреформы,
а потом и поиски виновных в революционных издержках и
их наказание, тем более что собственный исторический
опыт России богат такими примерами. Но пора твердо
сказать: этот цикл закончен, не будет ни революций, ни
контрреволюций» [Путин, 20016]). Таким образом, пу¬
тинская «стабилизация» противопоставлялась не только
«лихим девяностым», но и прочим отечественным револю¬
циям и реформам.
Если для Ельцина основным объектом соотнесения
при обосновании политического курса был советский пе¬
риод (с двумя смысловыми доминантами - «тоталитаризм»
и «перестройка как неудачная попытка реформ»), то для
Путина таковым стали 1990-е гг. (из 9 ссылок в посланиях
2000-2007 гг, имеющих отношение к конкретным перио¬
дам прошлого, 4 относятся именно к данному этапу). И это
неудивительно: проводимую им политику «стабильно¬
сти» Путин противопоставлял радикализму 1990-х;
данное обстоятельство особенно заметно в посланиях вто¬
рого срока пребывания в должности президента. В 2004 г
Путин включил в ежегодное обращение целый пассаж,
посвященный анализу постсоветской трансформации. До-
145
статочно критически оценивая 1990-е гг., он, тем не менее,
определял их как начальный этап долгого и трудного про¬
цесса - «демонтажа прежней экономической системы» и
«расчистки завалов, образовавшихся от разрушения “ста¬
рого здания”», - и подчеркивал, что только «сейчас мы
имеем и достаточный опыт, и необходимые инструмен¬
ты, чтобы ставить перед собой действительно долго¬
срочные цели» [Путин, 2004в]. Таким образом, несмотря на
критику {«ломка привычного уклада жизни»; «не все реше¬
ния, которые принимались в те годы, имели долгосрочный
характер»), в послании 2004 г преобладала установка на
преемственность между 1990-ми и 2000-ми.
Однако начиная с 2005 г. критика предшествующего
этапа стала более резкой, причем объектами оценки ока¬
зались не проблемы, с которыми столкнулось общество, а
действия власти {«накопления граждан были обесценены»,
«многие учреждения распущены или реформировались
на скорую руку», «целостность страны оказалась нару¬
шена террористической интервенцией и последовавшей
хасавюртовской капитуляцией», «олигархические группи¬
ровки... обслуживали исключительно собственные кор¬
поративные интересы» и т. д. [Путин, 2005а]). Впрочем,
завершая этот критический пассаж, Путин опровергал
мнение тех, кто считал 1990-е «окончательным крахом»
российской государственности, и определял эти годы как
время поисков «собственной дороги к строительству де¬
мократического, свободного и справедливого общества
и государства» [там же]. Представляя 2000-е как время,
когда Россия твердо «встала на этот путь» и теперь, как су¬
веренная страна, «сама будет решать, каким образом - с
учетом своей исторической, геополитической и иной специ¬
фики - можно обеспечить реализацию принципов свободы
и демократии» [там же], второй президент РФ подтверж¬
дал верность идеалам, выбранным в 1990-е. Однако он вся¬
чески подчеркивал различие в методах осуществления этих
146
идеалов тогда и теперь. В выступлении 8 февраля 2008 г. на
расширенном заседании Государственного совета, которое
можно рассматривать как подведение итогов второго срока,
Путин особо отмечал, что, разрабатывая «план вывода Рос¬
сии из системного кризиса», он руководствовался «главным
принципом: восстановление России нельзя вести за счет
людей, ценой дальнейшего ухудшения условий их жизни.
В трудные 90-е гг. на их долю вътало слишком много бед и
испытаний» [Путин, 2008 ]
Другое важное изменение, которое прослеживается в
посланиях второго срока1, связано с частичной переоцен¬
кой советского прошлого. В 2005 г. Путин сделал сенса¬
ционное заявление, назвав «крушение Советского Союза
крупнейшей геополитической катастрофой века» [Путин,
2005а], что полностью противоречило оценкам, многократ¬
но озвученным Ельциным. В том же послании получило
новые оттенки значение победы в Великой Отечественной
войне2, 60-летие которой предстояло отметить две недели
спустя: Путин придал этому событию особый гуманисти¬
ческий смысл, назвав его «днем торжества цивилизации
над фашизмом», а солдат Великой Отечественной - «сол¬
датами свободы».
В посланиях 2000-2007 гг. можно обнаружить и кри¬
тическую оценку советского опыта (так, в 2006 г. Путин
предостерегал от повторения ошибок Советского Союза,
1 Хотя в посланиях 2000-2004 гг. нет прямых упомина¬
ний событий и явлений этого периода, Путин недвусмысленно
продемонстрировал готовность брать на вооружение некото¬
рые символы советской эпохи, поддержав в 2000 г. принятие
«компромиссных» законов о государственной символике.
2 Следует отметить, что Великая Отечественная война -
историческое событие, наиболее часто упоминаемое в пре¬
зидентских посланиях: в 1995 и 1999 г. - у Ельцина, в 2005
и 2006 гг. - у Путина (и снова в 2012 и 2014 гг.), в 2009 и
2010 гг. - у Медведева.
147
решавшего «вопросы военного строительства в ущерб за¬
дачам развития экономики и социальной сферы» [Путин,
2006]). Однако общее количество упоминаний об этом пе¬
риоде в путинских посланиях 2000-2007 гг. невелико (их
всего четыре; три остальных касаются войны).
В восьми посланиях второго президента РФ удалось
обнаружить еще 7 ссылок на прошлое, не имеющих при¬
вязки к определенному периоду и относящихся к истории
как продолжающейся традиции. Какие аспекты этого на¬
следия оказались значимыми для обоснования политиче¬
ского курса 2000-х гг?
Во-первых, это идея «сильного государства» как ос¬
нования величия России, наиболее ярко прозвучавшая в
2003 г, когда Путин, выступая с посланием Федеральному
Собранию, назвал «историческим подвигом» «удержа¬
ние государства на обширном пространстве, сохранение
уникального сообщества народов при сильных позициях
страны в мире» [Путин, 20036]. Как известно, огромная
территория нередко рассматривается не только как залог
величия России, но и как проблема, в частности как фак¬
тор, определяющий «мобилизационный» тип развития
страны, сопряженный со многими издержками1. Выска¬
зывание Путина, идентифицирующее Россию с удержи¬
ваемым ею пространством {«...Таков тысячелетний
исторический путь России. Таков способ воспроизводства
1 Например, о проблемах, обусловленных обширной
территорией, в контексте первой чеченской войны говорил
Б. Н. Ельцин: «Российская история распорядилась таким об¬
разом, что суверенитет государства простирается на огром¬
ную территорию и охватывает многочисленные народы».
И далее: «Таким крупным странам, как Россия, естествен¬
ным образом присущи большие внутренние различия между
регионами». Их следствие - «диспропорции регионального
развития», ставшие «родимым пятном нашей истории и эко¬
номики» [Ельцин, 1995в].
148
ее как сильной страны» [там же]) и призывающее ценить
плод «огромного труда» многих поколений людей, - без¬
условно заявка на вполне определенную позицию в спо¬
ре об историческом пути развития России. Вместе с тем
функция данного высказывания очевидна: оно призвано
оправдать курс на «усиление государства», укоренив его в
«тысячелетней» традиции.
Во-вторых, ссылки на прошлое активно использова¬
лись Путиным для подкрепления ключевой для него идеи
единства, которая призвана определить рамки полити¬
ческой конкуренции. В этом отношении примечательно,
что в первом же путинском послании подчеркивалось:
«Единство России скрепляют присущий нашему народу
патриотизм, культурные традиции, общая историческая
память». А далее уточнялось: «При всем обилии взглядов,
мнений, разнообразии партийных платформ у нас были
и есть общие ценности» [Путин, 2000г]. Завершая свой
второй президентский срок, Путин повторил ту же мысль,
проецируя ее в будущее: «...Политические партии обя¬
заны сознавать огромную ответственность за будущее
России, единство нации, за стабильность развития на¬
шей страны. Какими бы острыми ни были политические
баталии, какими бы неразрешимыми ни казались межпар¬
тийные противоречия, они никогда не стоят того, что¬
бы ставить страну на грань хаоса» [Путин, 2008]. В этих
словах можно усмотреть намек на опыт 1990-х и стрем¬
ление оправдать собственную политику «стабилизации»
политической системы. Подводя итоги анализа посланий
2000-2077 гг, отметим, что, хотя количество упоминаний
о прошлом в них невелико, многие из приведенных выше
фрагментов обращали на себя внимание и вызывали обще¬
ственный резонанс, поскольку отчетливо указывали на
«пункты несотасия» второго президента РФ с символиче¬
ской политикой его предшественника.
149
Использование прошлого в посланиях Д. А. Медведева
хотя и продолжало подходы его предшественника, отлича¬
лось рядом особенностей. Обращает на себя внимание, что
третий президент РФ стремился демонстрировать крити¬
ческое и избирательное отношение к традициям. На¬
пример, в программной статье «Россия, вперед!» он особо
подчеркивал, что традиции «не все полезны» и от некото¬
рых «следует избавляться самым решительным образом».
При этом он называл и конкретные прецеденты «пре¬
одоления» негативных явлений прошлого {«...Когда-то и
крепостничество, и повальная неграмотность казались
неодолимыми. Однако же были преодолены» [Медведев,
2009г]). Тот же подход представлен и в некоторых прези¬
дентских посланиях Медведева. Так, в 2008 г. он сетовал,
что «в России на протяжении веков господствовал культ
государства и мнимой мудрости административного
аппарата. А отдельный человек с его правами и свобода¬
ми, личными интересами и проблемами воспринимался
в лучшем случае как средство, а в худшем - как помеха
для укрепления государственного могущества» [Медве¬
дев, 20086]. Примечательно, что этот пассаж завершался
цитатой П. А. Столыпина, подкрепляющей высказанную
мысль, - тем самым критика традиции «укоренялась» в са¬
мой традиции, признание гетерогенности прошлого давало
возможность подчеркнуть преемственность по отношению
к положительно оцениваемой части исторического насле¬
дия и одновременно - желание дистанцироваться от того,
что представляется «недостатком» или «проблемой». Та¬
кой подход можно считать удачной находкой: он позволяет
более гибко решать проблему преемственности/прерыв-
ности по отношению к прошлому. К сожалению, успешно
апробированный в послании 2009 г. и предварявшей его
статье «Россия, вперед!», прием критики прошлого с опо¬
рой на позитивные моменты в самом прошлом не получил
развития в двух последующих обращениях Медведева к
Федеральному Собранию.
150
Подобно своим предшественникам, Медведев апел¬
лировал к «тысячелетней истории» с целью легитимации
наиболее трудных и принципиальных своих решений. Так,
в послании 2008 г, говоря о «понимании», с которым были
встречены действия власти во время войны с Грузией и
первые антикризисные меры, он отмечал: «По-другому и
не должно быть, когда речь идет о народе с тысячелет¬
ней историей, освоившем и цивилизовавшем огромную
территорию», «создавшем неповторимую культуру» и
«мощный экономический и военный потенциал» [там же].
Примечательно, что в качестве положительно оценива¬
емых достижений российского народа указываются не
только общепризнанная «неповторимая культура», но и
«территория» и «военный потенциал», которые в совре¬
менном публичном дискурсе ассоциируются с «имперским
наследием». Здесь очевидна перекличка с путинским по¬
сланием 2003 г. Вместе с тем любопытно сравнить этот
список с близким по смыслу пассажем из статьи «Рос¬
сия, вперед!», где перечисляются составляющие «боль¬
шого наследства», на которое мы можем опереться: «Мы
располагаем гигантской территорией, колоссальными
природнъши богатствами, солидным промышленнъш по¬
тенциалом, впечатляющим списком ярких достижений
в области науки, техники, образования, искусства, слав¬
ной историей армии и флота, ядерным оружием, - пишет
Медведев. - Авторитетом державы, игравшей значи¬
тельную, а в некоторые периоды и определяющую ролъ в
событиях исторического масштаба» [Медведев, 20096].
Отметим, что список позитивно маркированных элемен¬
тов прошлого, на которые можно опереться, заметно рас¬
ширился по сравнению с тем, что нам удалось выделить
в ельцинских посланиях, главным образом - за счет осу¬
ществленной еще Путиным переоценки наследия «великой
державы»
Медведеву также не чуждо было стремление обосно¬
вывать собственный политический курс по контрасту с
151
прошлым (преимущественно, хотя и не исключитель¬
но, недавним). Наиболее ярко оно проявилось в послании
2009 г, в котором вновь провозглашенный политический
курс представлялся как «первый в нашей истории опыт
модернизации, основанной на ценностях и институтах
демократии» [Медведев, 2009г]. В этом контексте глав¬
ным объектом соотнесения оказывался советский опыт
модернизации, который оценивался, с одной стороны, по¬
ложительно {«Ценой неимоверных усилий аграрная, фак¬
тически неграмотная страна была превращена в одну
из самых влиятельных по тем временам индустриальных
держав»), а с другой - критически {«В условиях закрыто¬
го общества, тоталитарного политического режима эти
позиции невозможно было сохранить») [там же]. Та же
мысль ранее была высказана в статье «Россия, вперед!»,
причем сравнение проводилось не только с советской, но
и с петровской (имперской) модернизацией, и подчеркива¬
лось, что обе они были «оплачены разорением, унижени¬
ем и уничтожением миллионов наших соотечественников»
[Медведев, 2009а]. Таким образом, подобно Ельцину и
Путину, Медведев, обосновывая собственный курс, стре¬
мился подчеркнуть не только преемственность, но и «точ¬
ки разрыва» с прошлым, при этом предметом мягкого
отрицания стал опыт не только 1990-х, но и 2000-х гг: в
сентябре 2009 г. третий президент РФ утверждал, что сде¬
ланного его предшественниками недостаточно, т. к. преж¬
ние решения «лишь воспроизводят текущую модель, но
не развивают ее. Не изменяют сложившийся уклад жизни.
Сохраняют пагубные привычки» [там же]. Таким образом,
обоснование текущего курса путем более или менее рез¬
кого противопоставления настоящего прошлому можно
считать устойчивым элементом программных выступле¬
ний всех президентов РФ.
Эта тенденция отчетливо проявилась и в первых трех
посланиях нового президентского срока В. В. Путина. Мне
152
удалось насчитать в них 8 фрагментов, в которых прошлое
оценивалось критически и противопоставлялось настоя¬
щему; кроме того, в одном случае положительная харак¬
теристика события (Первой мировой войны) сочеталась с
негативной оценкой факта его «незаслуженного забвения»
по «политическим, идеологическим соображениям» [Пу¬
тин, 2012г]. Позитивная оценка прошлого имела место в
13, нейтральная - в 7 из выделенных 30 фрагментов (еще
три фрагмента относились к истории взаимодействия с
Западным Другим - это новый фрейм, о котором я скажу
ниже). Таким образом, с точки зрения способов исполь¬
зования прошлого в контексте объяснения/оправдания
политического курса послания 2012-2014 гг. ближе к рито¬
рической практике 1990-х, нежели 2000-х гг.
Вместе с тем в программных выступлениях третьего
срока несколько больше внимания уделялось конкретиза¬
ции символического репертуара «тысячелетней истории».
Путин трижды (в 2012 и 2014 гг) вспоминал Первую ми¬
ровую войну. В 2013 г он доказывал, что «именно раз¬
витие местного самоуправления в свое время позволило
России совершитъ рывок, найти грамотные кадры для
проведения крупных прогрессивных преобразований. В том
числе для аграрной реформы Столыпина и переустрой¬
ства промышленности в годы Первой мировой войны»
[Путин, 201 Зг]. А в 2014 г. подчеркивал значение «вос¬
соединения Крыма и Севастополя с Россией», ссылаясь
на легенду о крещении князя Владимира в Корсуни {«Для
России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь
имеют огромное цивилизационное и сакральное значение.
Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто ис¬
поведует ислам или иудаизм» [Путин, 2014ж]). Примеча¬
тельно, что на этапе принятия решений этот аргумент не
использовался; президент впервые привел его на встрече
с молодыми историками в ноябре 2014 г. [Путин, 2014е].
Очевидно, он был включен в послание, чтобы подтвердить
153
легитимность «воссоединения» мифом, отсылающим к
«древним корням» православной духовности (правда, этот
аргумент звучал двусмысленно, учитывая, что «крещение
всей Руси» началось в Киеве. Ведь, по этой логике, Крым
имеет «сакральное и цивилизационное значение» для со¬
временной Украины ничуть не меньше, чем для России).
Наконец, несомненной новацией послания 2014 г.
можно считать экскурсы в историю взаимоотношений с
«Западом» с целью продемонстрировать, что причины со¬
временного кризиса коренятся в фундаментальных уста¬
новках «наших оппонентов», которые «десятилетиями,
если не столетиями», проводили политику сдерживания в
отношении России («Всякий раз, когда кто-то считает,
что Россия стала слишком сильной, самостоятельной,
эти инструменты включаются немедленно»), в начале
1990-х «практически в открытую поддерживали у нас
сепаратизм» и были готовы «пустить нас» «по югослав¬
скому сценарию распада и расчленения» [Путин, 2014ж].
Хотя и прежде в посланиях президентов звучала критика в
адрес «Запада»1, она - по-видимому, умышленно - относи¬
лась к поведению Другого, а не к неизменным качествам,
присущим ему «от природы» [Малинова, 2008]. Апелляция
к недружественному поведению «Запада» в прошлом сви¬
детельствует о радикальном изменении его репрезентации.
Завершая анализ президентских посланий, отмечу не¬
которые особенности использования прошлого для оправ¬
дания осуществляемого политического курса. Как было
показано выше, все президенты РФ апеллировали к дав-
1 Примечательно, что в посланиях 2000-2011 гг. термин
«Запад» не использовался; обозначаемый им Другой вводился
через указание на некие качества, которые Россия также мог¬
ла разделять - как «сообщество самых развитых государств»,
«страны с высокоразвитой экономикой», «сильные, экономи¬
чески передовые и влиятельные государства мира» и т. д.
154
ней и недавней истории как с целью «укоренить» свои
действия в национальной традиции, так и для того, чтобы
оправдать их за счет критической оценки прежнего опыта.
Причем если объектами критики оказывались конкрет¬
ные события, действия или явления преимущественно не¬
давнего прошлого, то позитивно окрашенные ссылки на
историю чаще имели обобщенный характер и относились к
«вековым народным устоям», «тысячелетней истории Рос¬
сии», «нашей великой культуре» и т. п. В силу этого «про¬
блемные» черты образа прошлого оказались представлены
в президентских посланиях более выпукло и детально, не¬
жели «то, чем мы вправе гордиться».
Конечно, разработка нарратива(ов) национального про¬
шлого - это прежде всего задача профессиональных исто¬
риков, однако и политическая элита должна выполнять
свою часть работы, включая в публичный оборот символы,
связанные с событиями прошлого, и участвуя в их реин¬
терпретации. Однако до недавнего времени при подготов¬
ке президентских посланий задача расширения репертуара
политически пригодного прошлого, по-видимому, не ста¬
вилась. Очевидно, что разработчики текстов посланий со¬
знавали важность этого символического ресурса - можно
проследить, как год за годом оттачивались приемы его
риторического использования. Но столь же очевидно их
стремление ограничиться теми событиями и явлениями
отечественной истории, оценка которых не вызывает раз¬
ногласий, а таких в стране «с непредсказуемым прошлым»,
переживающей масштабную социальную трансформацию,
оказалось немного. Результатом такого подхода - скорее
всего, непреднамеренным - стало то, что «проблемные»
страницы отечественной истории (преимущественно не¬
давней) представлены в президентских посланиях гораздо
более ярко и конкретно, нежели образ «нашего славного
прошлого», который должен служить источником оптимиз¬
ма и опорой для решения текущих задач. Единственный
155
систематически используемый позитивный символ - это
Великая Отечественная война.
Впрочем, составителям президентских посланий нель¬
зя отказать в рациональности: ведь обращение к исто¬
рии - лишь один из возможных способов легитимации
политического курса, и для решения задач, связанных с
оправданием действий власти, не обязательно углублять¬
ся в проблемы национальной истории. Правда, без этого
не обойтись, если иметь в виду долгосрочные цели - фор¬
мирование национальной идентичности, укрепление
гражданской солидарности, повышение коллективной са¬
мооценки и т. п. Логично предположить, что эти цели в
большей мере учитываются при подготовке других высту¬
плений главы государства, например речей по случаям го¬
сударственных праздников, юбилеев и памятных дат.
Тематический репертуар памятных речей
президентов РФ (2000—2014 гг.)
Выступления такого рода принадлежат к особому жан¬
ру, который предполагает использование определенных ри¬
торических приемов и дискурсивных стратегий. Памятные
(commemorative) речи обычно произносятся в дни офици¬
альных праздников, а также годовщин и юбилеев важных
общественных событий. По определению лидеров школы
критического дискурс-анализа Р. Водак и Р. Де Чиллиа,
они призваны «вернуть прошлое в настоящее» [Wodak, De
Cillia, 2007, р. 346]. Разумеется, эта процедура имеет из¬
бирательный характер: прошлое «возвращается», чтобы
послужить современным политическим целям - конструи¬
рованию идентичности, определению границ между Нами
и Другими, укреплению групповой солидарности и т. п.
Памятные речи относятся к классу эпидейктической рито¬
рики, основной функцией которой является восхваление
156
или порицание (в данном случае - деяний прошлых поко¬
лений). Считается, что эпидейкгическая риторика служит
средством самопрезентации спикеров: она демонстрирует
их ораторские таланты и способность эмоционально воз¬
действовать на слушателей. По мнению Водак и Де Чил-
лиа, она «также имеет “воспитывающую” функцию, т. е.
стремится передать определенные политические ценно¬
сти и убеждения, дабы создать общие характеристики и
идентичности, сформировать консенсус и дух сообщества,
который, в свою очередь, должен служить моделью для
будущих политических действий адресатов» [ibid., р. 346~
347]. В отличие от программных выступлений памятные
речи не ставят непосредственной целью легитимацию
действий власти. Их функции скорее представительские:
официальное лицо от имени государства высказывает одо¬
брение (или порицание) группе/сообществу, соответству¬
ющим образом оценивая ее деяния и качества. Это дает
более широкие возможности для актуализации прошлого,
«полезного» не только с точки зрения текущих задач (па¬
мятные речи связаны с графиком встреч и поездок главы
государства; они нередко преследуют дипломатические
цели), но и для выстраивания долгосрочной «политики
идентичности».
Памятные речи можно исследовать под разными угла¬
ми зрения [ibid.; Joesalu, 2012]. В частности, они дают
много информации о формировании коллективной иден¬
тичности, включении или невключении в категорию Нас
отдельных групп, конструировании смысловых схем важ¬
ных исторических событий, а также об особенностях офи¬
циального нарратива коллективного прошлого. В данном
случае меня интересует эволюция их тематического ре¬
пертуара, отражающая изменение представлений властву¬
ющей элиты о том, какие эпизоды отечественной истории
следует «актуализировать» для политического использо¬
вания. Памятные речи произносятся по определенным
157
поводам. Как правило, это повторяющиеся из года в год
государственные праздники, посвященные конкретным
историческим событиям, и официальные памятные дни,
а также юбилейные даты. Выступление первого лица го¬
сударства придает событию особый статус. Вместе с тем
очевидно, что не все потенциальные поводы могут быть
использованы: чтобы оценить диапазон возможностей, до¬
статочно заглянуть в официальный список дней воинской
славы и памятных дат России (не говоря уже о неофици¬
альных календарях юбилейных и памятных дат). Включе¬
ние памятных речей в рабочий график президента - это
результат выбора, который определяется не только пред¬
ставлениями о важности события или его «полезности» в
качестве повода для артикуляции определенных идей, но
и соображениями политической целесообразности, а так¬
же пространственно-временными возможностями. Тем
не менее в рамках более или менее длительных периодов
тематику памятных выступлений можно рассматривать
как отражение стратегического подхода властвующей эли¬
ты к работе с символическим ресурсом национального
прошлого.
Как уже упоминалось, в этой части главы будут пред¬
ставлены результаты анализа выступлений В. В. Путина
и Д. А. Медведева с 2000 по 2014 г. по случаям: 1) офи¬
циально установленных праздничных нерабочих дней,
связанных с историческими событиями - Дня защитника
Отечества, Дня Победы, Дня России, Дня народного един¬
ства, Дня Конституции1, 2) памятных дней, памятных дат и
1 На протяжении рассматриваемого периода статус этих
общественных событий менялся. В частности, День защит¬
ника Отечества стал нерабочим с 2002 г. (соответствующая
поправка в Трудовой кодексе РФ была внесена в декабре
2001 г). 24 декабря 2004 г. была принята новая редакция ста¬
тьи о нерабочих праздничных днях, на основании которой с
2005 г. стал отмечаться День народного единства. Тогда же
158
дней воинской славы (победных дней) России1, 3) юбилеев
исторических событий, а также 4) открытия памятников,
музеев, мемориальных досок и т. п. Выступления, имею¬
щие отношение к национальному прошлому, но не соот¬
ветствующие жанру памятной речи (различные встречи,
выступления в рамках церемоний награждения, по случа¬
ям профессиональных праздников, беседы при посещении
музеев и выставок, интервью, статьи и др.), в выборку не
включались.
Как и предполагалось, тематический репертуар вы¬
ступлений такого рода несколько отличается от набора
символов прошлого, «задействованного» в президентских
посланиях (см. рис. 1): он существенно шире, и события
дореволюционной истории занимают в нем более замет¬
ное место. Тем не менее наиболее частым поводом для
мемориальных обращений главы государства служат со¬
бытия советского периода: к этой тематической категории
можно отнести 53 % памятных речей Путина в период
его первого срока, 54 % - в период второго, 50 % - в те¬
чение первых двух с половиной лет третьего срока, а так¬
же 55 % аналогичных выступлений Медведева. Примерно
треть рассмотренного массива текстов посвящены Вели¬
кой Отечественной войне, причем этот показатель оста¬
ется практически неизменным применительно ко всем
рассмотренным периодам. Таким образом, советское про¬
шлое остается наиболее востребованным символическим
ресурсом, а Великая Отечественная война - наиболее «ис¬
пользуемым» событием. По-видимому, это отчасти опреде¬
ляется тем, что с советским периодом связан жизненный
опыт значительной части граждан, отчасти же объясняет-
День Конституции перестал быть «нерабочим и празднич¬
ным» и приобрел статус памятного дня.
1 Определены Федеральным законом «О днях воинской
славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ,
в который многократно вносились поправки.
159
ся наследием прежней символической политики, надежно
закрепившей память о политически актуальном прошлом
в институционализированных практиках1. Впрочем, «ре¬
абилитация» советского прошлого в официальной симво¬
лической политике 2000-х гг. происходила избирательно:
как будет показано ниже, история СССР оказалась «по¬
литически пригодной» прежде всего как история великой
державы, которая, несмотря на все трудности, смогла пре¬
вратиться в ведущего актора мировой политики.
Рисунок 1. События дореволюционной, советской
и постсоветской истории в памятных
речах президентов РФ, 2000—2014 гг.
■ Отечественная история
до 1917 г.
■ Советская история
■ Постсоветская история
1 Примером тому может служить не только институцио¬
нализация памяти о Великой Отечественной войне (динамика
этого процесса подробно описана Копосовым [Колосов, 2011,
с. 91—104]), но и День Советской Армии и Военно-Морского
флота, трансформированный в День защитника Отечества.
Этот праздник ежегодно служит поводом для выступления
главы государства о роли армии в жизни Российского государ¬
ства в прошлом и настоящем. Центральной темой таких вы¬
ступлений является Великая Отечественная война.
160
Вторая тенденция, особенно очевидная при сравнении
выступлений первых двух президентских сроков В. В. Пу¬
тина, - это последовательное сокращение доли постсо¬
ветского прошлого в символическом репертуаре главы
государства, сопровождавшееся частичным отказом от
введенных ранее практик коммеморации событий, свя¬
занных с историей новой России. В результате реформы
праздничного календаря, проведенной в декабре 2004 г,
День Конституции утратил статус государственного празд¬
ника и стал памятной датой1. С этого времени он перестал
служить поводом для обращений главы государства (за
исключением юбилейных 2008 и 2013 гг.). Кроме того, в
2006-2008 гг. Путин не произносил речей и по случаю Дня
России (эта традиция была восстановлена Медведевым и
позже стала поддерживаться Путиным). Доля поводов для
памятных речей, связанных с событиями постсоветского
периода, сократилась с 31 % от общего числа таких высту¬
плений в течение первого срока Путина до 11 % в течение
второго и 14 % - в первые два с половиной года третьего
срока; у Медведева она составила 18 %.
На материале памятных речей отчетливо видно стрем¬
ление Путина и его спичрайтеров уйти от символиче¬
ского противопоставления «новой» и «старой» России,
характерного для риторики Б. Н. Ельцина. Это особенно
заметно при сопоставлении путинских выступлений по
случаям «постсоветских» праздников. Темпоральная схе¬
ма первой путинской речи в День принятия Декларации о
государственном суверенитете России - оценка недавне¬
го прошлого с высоты настоящего: этот исторический акт
представлялся как «событие, завершившее эпоху», «из¬
менившее природу российской государственности и рос-
1 Соответствующее изменение в ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России» было сделано в июле 2005 г.
[Справка о нерабочих праздничных днях...].
161
сийского политического строя» и определившее «новый
вектор страны». Вместе с тем с позиций сегодняшнего
дня («Теперь мы знаем, как тяжело реформировать эко¬
номику, социальную сферу, создавать демократические
институты») иллюзии 1990-х оценивались как «роман¬
тичные» и «наивные». Накопленный опыт интерпретиро¬
вался как залог будущих успехов {«Мы вместе должны
сделать Россию единой, сильной и уважаемой») [Путин,
2000в]. Примерно в том же ключе были выдержаны и
речи по «постсоветским» историческим поводам в после¬
дующие два года: Путин говорил о принятии документов,
оформивших новую российскую государственность, - Де¬
кларации о государственном суверенитете и Конститу¬
ции - как об актах, «открывших дорогу к новой стране», и
подчеркивал успехи на пути «освоения основ демократии
и рыночной экономики». Он признавал, что реформы «ока¬
зались очень тяжелым испытанием для большинства» и
заверял, что «перемены, которые мы выстрадали, должны
начинать давать отдачу» [Путин, 20026]. Речь по случаю
Дня России в 2002 г. содержала также заявление о необ¬
ходимости адекватного признания со стороны мирового
сообщества: «Россия не претендует на какой-то особый
путь, - утверждал Путин. - Но она претендует на то
место в мире и на такое отношение к себе, которое со¬
ответствует и нашей богатой истории, и творческому
потенциалу нашего народа, и огромным размерам нашей
великой страны» [Путин, 20026]. Утрата новой Россией,
строящей «поистине демократическое общество», прежне¬
го международного авторитета воспринималась как серьез¬
ная проблема.
С конца 2002 г принцип построения путинских речей
по случаям «постсоветских праздников» стал меняться.
Выступая на приеме по случаю Дня Конституции, пре¬
зидент говорил: «Вот уже более десяти лет мы произ¬
носим ставшие привычными слова “новая Россия”. Но
162
если вдуматься, то мы так говорим о стране с тысяче¬
летней историей, о стране, которая знала много приме¬
ров как ничем не ограниченной власти государства, так
подчас и его неэффективности, слабости. Мы говорим
о стране, в которой демократия и свобода личности в
полном смысле выстраданы обществом» [Путин, 2002в].
При такой постановке вопроса, во-первых, акцентирова¬
лась идея преемственности Конституции по отношению
к «тысячелетнему» прошлому (важно не то, что она «из¬
менила природу российской государственности», а то,
что она «выстрадана» предшествующими поколениями);
во-вторых, принятие Конституции, не вполне однозначно
оцениваемое современниками, рассматривалось не с точки
зрения его сегодняшней (отнюдь не очевидной) «отдачи»,
но по контрасту с еще более неблагоприятным прошлым
Изменение темпоральной схемы (взгляд на недавнее про¬
шлое не с точки зрения проблем ныне живущих поколе¬
ний, а «на фоне веков») открывало широкий диапазон
риторических возможностей.
Новый подход был быстро взят на вооружение, и уже
в следующем году, выступая на торжестве по случаю Дня
России на Красной площади, Путин объяснял смысл это¬
го праздника «из далекой перспективы»: «В этот день мы
чествуем нашу Родину - страну с тысячелетней исто¬
рией и уникальным наследием. Страну, соединившую на
огромном пространстве множество народов, терри¬
торий, культур» [Путин, 2003в]. Начиная с 2003 г День
России стал интерпретироваться не столько как напоми¬
нание о событии, послужившем прологом к рождению
современного государства, сколько как повод заявить о
преемственности «тысячелетней истории» и единстве
«многонационального народа».
Однако фактура события, положенного в основу этого
праздника, не вполне соответствовала такому способу его
использования. Декларацию о суверенитете России можно
163
было рассматривать как этап демократической трансфор¬
мации «тоталитарного» наследия, доставшегося от Совет¬
ского государства, распад которого был актом рождения
новой России. Но как только скоро стержнем официаль¬
ного нарратива становилась не «новизна», а «преемствен¬
ность», ценность Декларации становилась сомнительной.
Не случайно после учреждения Дня народного единства,
который изначально интерпретировался как «победа курса
на укрепление государства за счет объединения, централи¬
зации и соединения сил» [Путин, 2005д], президент пере¬
стал выступать с речами в День России: новый праздник
более точно отражал идею «тысячелетней государственно¬
сти», ставшую стержнем его символической политики.
К сожалению, это была весьма абстрактная идея. С од¬
ной стороны, запас узнаваемых символов «тысячелетней
истории», уже закрепленных в практиках общественной
коммеморации, был невелик (советская символическая
политика поддерживала память о дореволюционном про¬
шлом весьма избирательно). Чтобы эффективно исполь¬
зовать этот ресурс, необходимо было целенаправленно
заниматься «изобретением традиций», не рассчитывая при
этом на быстрые результаты. С другой стороны, эту рабо¬
ту сложно проводить в условиях, когда многие узловые
моменты национального прошлого являются предметом
острой символической борьбы. Предпочитая не вмеши¬
ваться в эту борьбу, вплоть до недавнего времени властву¬
ющая элита работала с ресурсом прошлого по принципу
произвольного выбора подходящих по случаю символов.
Вместе с тем очевидно, что с середины 2000-х гг. пред¬
принимались определенные усилия по расгиирению акту¬
ального репертуара «тысячелетнего прошлого», хотя эта
работа не отличалась особой системностью. Это третья
тенденция, которую можно зафиксировать в результате
нашего анализа. Если в течение первого срока Путина со¬
бытия отечественной истории до 1917 г. давали всего 16 %
164
поводов для памятных речей, то в 2004-2008 гг их доля
возросла до 35 %; в массиве аналогичных выступлений
Медведева она составила 28 %, а в первые два с половиной
года третьего срока Путина вернулась к 36 %.
Более детальный анализ тематического репертуара
риторики президентов позволяет выявить характерные
особенности поводов, выбранных для коммеморации «да¬
лекого» прошлого (см. табл. 4). Помимо празднуемого
с 2005 г. Дня народного единства1 наиболее частым ос¬
нованием для обращения к событиям дореволюционной
истории были юбилейные даты субъектов РФ, торжества
в честь которых лоббировались региональными элитами:
в 2003 г. праздновалось 300-летие Санкт-Петербурга2, в
2005 г. - 1000-летие Казани и 750-летие города Калинин¬
града, в 2007 г - 860 лет со дня основания Москвы (не
вполне круглая дата) и 450-летие вхождения Башкирии в
состав России, в 2009 г. - 1150-летие Великого Новгорода,
в 2010 г. - 150-летие Владивостока и 1000-летие Ярослав¬
ля, в 2012 г. - 1000-летие единения мордовского народа с
народами Российского государства. Как ни странно, пово¬
ды, связанные с историей отечественной культуры, госу¬
1 В 2005 г. Путин выступал с разъяснениями по поводу
нового праздника даже дважды: вечером на торжественном
приеме и днем перед учащимися московских вузов и курсан¬
тами военных училищ после возложения цветов к памятнику
Минину и Пожарскому.
2 Весьма характерны рассуждения Путина относительно
«пользы» данного события: «Это лишний повод вспомнить о
величии нашего государства, об истоках величия России. Мы
должны использовать так же, как используют и в других стра¬
нах, это событие общенационального уровня для развития и
Петербурга, и всей страны...» [Путин, 2001а]. Другие регио¬
нальные юбилейные даты также «использовались» как повод
«вспомнить о величии» и привлечь бюджетные средства для
«развития». Приезд главы государства в регион для участия в
торжествах сам по себе был значительным бонусом.
165
дарственных и военных институтов и даже военных побед,
несмотря на их богатый символический потенциал, ис¬
пользовались лишь эпизодически, нередко - в контексте
зарубежных поездок1.
Вместе с тем и Путин, и Медведев с заметной ре¬
гулярностью участвовали в юбилейных мероприя¬
тиях силовых структур2, государственных корпора¬
1 Путин выступал по случаям юбилеев Большого театра,
Мариинки, Московского университета, а также Эрмитажа.
В 2006 г. он произносил речь на торжественном приеме, по¬
священном 100-летию российского парламентаризма. Он так¬
же выступал на юбилейных мероприятиях Конституционного
(2001 г.) и Верховного суда (2003 и 2013 гг.) и на 10-летии ар¬
битражных судов в России (2002 г). Кроме того, в 2002 г. он
участвовал в торжествах по поводу 200-летия образования
в России министерства экономики, а в 2006 г. и в 2012 г. - в
празднованиях 100-летия подводного флота и Военно-воз¬
душных сил России. 200-летие Бородинского сражения и от¬
крытие памятника Героям Первой мировой войны - редкие
случаи торжеств по поводу победы русской армии до 1917 г.,
устроенных в России. К данной категории можно также от¬
нести зарубежные выступления Путина на торжественной
церемонии, посвященной 125-летию освобождения Болгарии,
и Медведева на аналогичном мероприятии в честь 210-летия
альпийского похода Александра Суворова.
2 Официальные речи произносились по случаям 85-летия
и 90-летия Службы внешней разведки, 70-летия Воздушно-
десантных войск. Кроме того, и Путин, и Медведев регулярно
выступали не только в День защитников Отечества, но и в дни
профессиональных праздников - Военно-Морского флота, ми¬
лиции / сотрудников ОВД России и работников государствен¬
ной безопасности (выступления по двум последним поводам
при подсчете не учитывались, поскольку в символизме про¬
фессиональных праздников коммеморативная составляющая
не является основной; исключение составляет День Военно-
Морского Флота, который с 2006 г. является памятной датой
Вооруженных Сил РФ [Указ, 2006]).
166
ций1 и Русской православной церкви2. С учетом этого
можно предположить, что на график памятных выступле¬
ний главы государства влияют не только идеологические
соображения, но и лоббистские усилия ведомств. Скла¬
дывается впечатление, что значительная часть календаря
юбилейных выступлений президентов, призванных «на¬
помнить» отдаленное прошлое, формируется ad hoc. До
недавнего времени исключение составлял лишь День на¬
родного единства, целенаправленно учрежденный для
коммеморации идеологически подходящего события «ты¬
сячелетней истории». Хотя этот праздник не стал мас¬
совым, и смысл его пока остается непонятным как для
обычных граждан, так и для лидеров мнений [Ефремова,
2012], он ежегодно служит поводом для официальных сим¬
волических акций (а также традиционным днем для про¬
ведения «Русских маршей», что едва ли входило в планы
его «авторов»).
1 Президенты РФ регулярно принимают участие в празд¬
новании юбилеев «Газпрома». Путин выступал с речами по
случаям 80-летая плана ГОЭЛРО и 70-летия Днепрогэс, а
также на Первом железнодорожном съезде (в честь 170-летия
РЖД).
2 Хотя собственно памятных речей, посвященных истории
РПЦ, было немного (в 2007 г. Путин выступал на встрече с
иерархами Русской православной церкви по случаю 90-летия
восстановления патриаршества, в 2008 г. Медведев произно¬
сил речь в храме Христа Спасителя в связи с началом празд¬
нования 1020-летия крещения Руси, в 2013 г. Путин принимал
участие в конференции, посвященной 1025-летию крещения
Руси в Киеве, а в 2014 г. выступал на праздновании 700-летия
преподобного Сергия Радонежского), мероприятия, связанные
с РПЦ, занимают значительное место в графике российских
президентов. Они нередко имеют отношение к отечественной
истории, однако их анализ - предмет самостоятельного иссле¬
дования. В 2013 г. Путин также выступал на торжественном
собрании, посвященном 225-летию Центрального духовного
управления мусульман России.
167
Таблица 4. Тематический репертуар памятных
речей президентов РФ, 2000-2014 гг.
Период, тип события
В. В. Путин,
2000-2004
В. В. Путин,
2004-2008
Д. А. Медведев,
2008-2012
В. В. Путин,
2012-2014 г.
Всего
выступлений
Отечественная история
до 1917 г., в т. ч.
7
іб
ii
15
49
история органов государственной
власти и силовых структур
2
35
0
1
6
юбилейные даты субъектов
РФ / история империи
2
4
4
2
12
память о государствен¬
ных деятелях России
1
0
0
1
2
история войн и побед
1
0
1
2
4
история отечественной культуры
1
4
0
1
6
история религий
0
0
1
3
4
День народного единства
0
4
4
3
11
День Героев Отечества
0
0
0
2
2
иные поводы
0
1
1
0
2
Советская история, в т. ч.
24
25
22
21
92
Великая Отечественная /
Вторая мировая война
14
13
13
12
52
День защитника Отечества
4
4
4
3
15
история экономических достижений
2
0
0
1
3
история органов государствен¬
ной власти и силовых структур
2
1
2
2
7
история освоения космоса
0
2
1
0
3
история отечественной культуры
0
1
0
1
2
память о героях
2
0
0
1
3
День памяти жертв поли¬
тических репрессий
0
0
1
0
1
иные поводы
0
4
1
1
6
Постсоветская история, в т. ч.
14
5
7
6
32
День России
5
2
4
3
14
168
Окончание табл. 3
Период, тип события
В. В. Путин,
2000-2004
В. В. Путин,
2004-2008
Д. А. Медведев,
2008-2012
В. В. Путин,
2012-2014 г.
Всего
выступлений
День Конституции
5
0
i
i
7
история органов государствен¬
ной власти и силовых структур
2
0
i
i
6
память о государственных деятелях
0
2
i
0
3
история государственных корпораций
1
1
0
1
3
иные поводы
1
0
0
0
1
Всего выступлений
45
46
40
42
173
Некоторые изменения в подходе к работе с националь¬
ным прошлым наметились в 2011 г: в преддверии выборов
члены властного «тандема» стали более активно исполь¬
зовать символический потенциал исторических событий,
прежде обделенных их вниманием. Примером тому может
служить выступление президента Д. А. Медведева по слу¬
чаю 150-летия отмены крепостного права на конференции
в Санкт-Петербурге, проводившее параллели между Ве¬
ликими реформами XIX в. и современной модернизаци¬
ей [Медведев, 2011 в]. В свою очередь премьер-министр
В. В. Путин накануне старта думской кампании попы¬
тался приспособить к «политическому моменту» юби¬
лей П. А. Столыпина, выступив с предложением собрать
средства на памятник этому государственному деятелю.
Благодаря провозглашению 2012 года Годом истории и
подготовке юбилейных празднований 1150-летия Русской
государственности, 200-летия победы в Отечественной
войне 1812 года и 400-летия событий Смутного времени
был подготовлен целый ряд поводов для памятных речей,
посвященных «тысячелетней истории». Однако, задуман¬
ные «под Медведева», они не были в полной мере реали-
169
зованы Путиным. В частности, президент не участвовал
в юбилейных торжествах в Великом Новгороде по слу¬
чаю 1150-летия Русской государственности; федеральная
власть была представлена его полпредом по Северо-Запад¬
ному округу.
Тем не менее тенденция к расширению репертуара
политически «актуального» прошлого в период третье¬
го президентского срока В. В. Путина получила дальней¬
шее развитие. Очевидно, президент и его администрация
рассматривают «историческую политику» как едва ли не
основной инструмент решения проблемы «дефицита ду¬
ховных скреп». Видимым следствием этого стал не только
рост количества памятных речей, посвященных событиям
до 1917 г, но и стремление расширить набор поводов для
коммеморации. Так, в 2013 и 2014 гг устраивались торже¬
ственные приемы по случаю введенного еще в 2007 г. Дня
Героев Отечества [№ 32-ФЗ] - памятного дня, посвящен¬
ного чествованию Героев Советского Союза, Героев Рос¬
сийской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия
и ордена Славы. В 2014 г. В. В. Путин открыл памятник
героям Первой мировой войны и памятник Александру I в
Москве. В 2013 г. он участвовал в празднованиях 1025-ле-
тия крещения Руси и 225-летия Центрального духовного
управления мусульман России. Регулярными стали встре¬
чи президента с историками и музейными работниками.
Благодаря более активному использованию символи¬
ческих ресурсов «тысячелетнего прошлого» с середины
2000-х гг. суммарная доля выступлений, посвященных со¬
бытиям дореволюционной истории, стала расти. Ее доля
в общем массиве памятных речей составляет 28 %. Тем не
менее основная «нагрузка» по легитимации современной
государственной политики авторитетом прошлого ложится
на советское наследие. Какие его аспекты оказались наи¬
более востребованными в годы путинской «стабилизации»,
медведевской «модернизации» и на современном этапе?
170
Наиболее часто используемым символом отечествен¬
ного прошлого была и остается Великая Отечественная
война: на ее долю приходится 27 % всех памятных речей
(почти столько же, сколько на весь дореволюционный пе¬
риод) и 57 % речей, посвященных советскому периоду.
Вторая по частоте использования в памятных речах
«советская» тема - это история ныне действующих госу¬
дарственных органов и силовых структур (сюда же мож¬
но отнести и ежегодные речи по случаю Дня защитника
Отечества). Регулярные обращения к данной теме хорошо
вписываются в контекст «укрепления государства», по¬
строенного из «узлов» советской сборки. В то же время
на удивление мало внимания в коммеморативной рито¬
рике уделено достижениям советской науки и культуры1,
освоению космоса2 и истории экономических успехов, не¬
смотря на то что эти темы могли бы оказаться близки пред¬
ставителям старших поколений, трудом которых они были
созданы.
Памятные речи президентов РФ редко касались «труд¬
ных» страниц отечественной истории. Тем примечательнее
немногие исключения из этого правила. К числу таковых
1 К этой категории можно отнести выступления Пути¬
на на встречах с творческой интеллигенцией, посвященной
100-летию со дня рождения Дмитрия Лихачева (2006 г.) и с
творческим коллективом газеты «Комсомольская правда» по
случаю ее 80-летия (2005 г), а также его речь на торжествен¬
ной церемонии по случаю празднования 75-летия со дня нача¬
ла отечественного телевещания (2006 г.).
2 К этой теме первые лица РФ обращались на протяжении
рассматриваемого периода трижды: Путин в 2005 г. выступал
на торжественном собрании, посвященном 50-летию со дня
основания космодрома Байконур, и в 2007 г. на торжествен¬
ном вечере, посвященном 100-летию со дня рождения Сергея
Павловича Королева, а Медведев в юбилейном 2012 г. произ¬
нес речь в День космонавтики.
171
следует отнести, во-первых, выступление Путина на со¬
брании, посвященном Дню памяти воинов-интернацио-
налистов (2004 г). Президент не только использовал этот
повод, чтобы косвенно осудить действия США в Ира¬
ке {«Афганская война подтвердила, что никто не име¬
ет права вмешиваться в жизнь другой страны и что ни
коммунизм, ни демократию, ни рынок нельзя насаждать
силовъши решениями»), но и по-человечески отдал дань
уважения тем, кто, «следуя присяге», прошел через Афган¬
скую войну, а по возвращении столкнулся «с непонимани¬
ем, равнодупшем и даже с осуждением» [Путин, 20046].
Во-вторых, следует упомянуть видеоблог Медведева, вы¬
ложенный в 2009 г. в День памяти жертв политических
репрессий, в котором президент с несколько неожидан¬
ной стороны подошел к теме фальсификации истории. Он
сказал: «Мы... почему-то зачастую считаем, что речь
идет только о недопустимости пересмотра результа¬
тов Великой Отечественной войны. Но не менее важно не
допуститъ под видом восстановления исторической спра¬
ведливости оправдания тех, кто уничтожал свой народ».
Слова Медведева о том, что «память о национальных тра¬
гедиях так же священна, как память о победах» [Медве¬
дев, 2009в], а также высказанная им в 2010 г. в интервью
«Известиям» «государственная оценка» фигуры Сталина
[Медведев, 2010а] - это редкие случаи, когда первое лицо
государства занимало однозначную позицию, не уходя от
оценки «трудных» страниц отечественной истории. При¬
мечательно, что в обоих случаях это было сделано не в
речи перед «живой» аудиторией, а опосредованно, через
СМИ. Напомню, что в 2007 г, когда отмечалось 70-ле-
тие начала массовых расстрелов, Путин также совершил
символический жест в День памяти жертв политических
репрессий, посетив вместе с Патриархом Алексием II
бывший полигон НКВД в Бутово. Однако президент не
произносил по этому случаю памятных речей, он просто
172
«почтил память святых новомучеников и всех “за веру и
правду пострадавших”» [В день памяти...]. Это был акт
соболезнования страданиям погибших, а не оценки госу¬
дарственной политики прошлого.
Эти немногочисленные исключения лишь подчерки¬
вают правило: советское прошлое, составляющее основу
актуального символического багажа власти в рассматрива¬
емый период, использовалось весьма избирательно. Наи¬
более востребованными его элементами были Великая
Отечественная война и история государственных орга¬
нов и силовых структур, которые остаются частью совре¬
менной государственной машины. В гораздо меньшей
степени был «задействован» символический потенциал до¬
стижений советской науки и культуры, многие их которых
постсоветской России не удалось удержать. Первые лица
государства крайне редко говорили о наиболее трудных
страницах истории XX в., вызывающих острые разногла¬
сия в обществе.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что советское
прошлое представляло интерес для властвующей элиты
«нулевых» годов в той мере, в какой его можно было ис¬
пользовать в технике коллажа для иллюстрации образа
«тысячелетнего» «сильного государства», выполняющего
роль стержня официальной версии современной россий¬
ской идентичности. Преобладание этого символического
ресурса в коммеморативной риторике президентов, на наш
взгляд, следует объяснять не столько «ностальгией» по
СССР, сколько тем, что благодаря живому опыту населения
и наследию уже институционализированной памяти его
легко актуализировать для решения современных задач.
Представленный выше анализ памятных речей пока¬
зывает, что акторы, определяющие государственную сим¬
волическую политику, не только используют имеющийся в
наличии репертуар «актуализированного» прошлого (пре¬
имущественно советского), но и предпринимают опре-
173
деленные усилия для его развития, прежде всего с целью
конкретизации «тысячелетней истории» России. Однако
этим усилиям до недавнего времени недоставало систем¬
ности, которая особенно важна, учитывая что при со¬
ставлении рабочих графиков президентов приходится
принимать в расчет множество факторов. Анализ поводов
для «юбилейных» выступлений первых лиц заставляет
предположить, что на их выбор заметное влияние оказы¬
вают соперничающие группы интересов. При этом ведом¬
ства, отвечающие за образование, науку и культуру, явно
уступают по своим лоббистским возможностям силовым
структурам, государственным корпорациям и отдельным
регионам.
Вместе с тем в результате смены курса символиче¬
ской политики в начале 2000-х гг. оказались частично
демонтированы практики коммеморации событий но¬
вейшей российской истории, складывавшиеся в преды¬
дущее десятилетие. Представляется, что это не слишком
дальновидно с точки зрения формирования идентичности
макрополитического сообщества, стоящего за современ¬
ным Российским государством, которое во многих отно¬
шениях является новым: институционализируемая в виде
праздников, традиций и ритуалов память о недавнем про¬
шлом - это символическая инвестиция, с которой нужно
продолжать работать в расчете на «отдачу» в более дале¬
кой перспективе. В конце концов, новейшая история Рос¬
сии - это тоже часть ее «тысячелетнего прошлого».
Заключение.
Эволюция символической политики
и дилеммы российской идентичности
Практика политического использования прошлого
властвующей элитой в полной мере отражает дилеммы, с
которыми сопряжено конструирование идентичности со¬
общества, стоящего за современным Российским государ¬
ством. Демонтаж советского режима облегчался распадом
поддерживавшего его идеологического «метанарратива»,
который произошел еще в конце 1980-х гг. [Gill, 2013].
Однако для мобилизации поддержки трудных реформ
требовалось найти какие-то «замещающие» конструкции.
В отсутствие готовой «теории посткоммунистической
трансформации» наиболее очевидным способом построе¬
ния такого рода конструкций стала переоценка опыта «За¬
пада» и собственного прошлого.
Отвергнув коммунистическую идеологию и про¬
возгласив в качестве официальной цели развитие рын¬
ка и демократии, Россия стала идентифицировать себя
с ценностями, которые в логике «холодной» войны при¬
писывались «Западу». Казалось, это открывает перспек¬
тиву для пересмотра прежних моделей идентификации
в системе координат Восток - Запад. Однако трудности с
продвижением реформ и недостаток признания со сто¬
роны Западного Другого сделали новые ценностные
основания коллективной идентичности постоянным ис¬
точником противоречий. С одной стороны, очевидная не¬
способность отвечать «западным» стандартам побуждает
российскую элиту прибегать к «почвеннической» страте¬
гии, предполагающей оценку по «нашим собственным»
критериям. С другой стороны, в новой конфигурации
мировой политической системы сохранение хотя бы фор¬
мальной приверженности ценностям свободы, демокра-
175
тии и рынка является условием притязаний на желаемый
международный статус. В силу этого российская поли¬
тика идентичности колеблется между полюсами «запад¬
ничества» и «почвенничества», оппозицию которых пока
не удается преодолеть. Во многом формальный характер
декларируемых ценностей является главным препятстви¬
ем для конструирования нового исторического нарратива,
способного связать прошлое с настоящим и будущим.
В не менее значительной степени поиски ценностных
оснований постсоветской идентичности опирались на
переосмысление отечественной истории. Однако и здесь
действия акторов символической политики наталкивались
на очевидные ограничения. С одной стороны, критика со¬
ветского прошлого была главным инструментом легитима¬
ции реформ, начатых новым режимом. С другой стороны,
общество, вступившее в период трудной и болезненной
трансформации, отчаянно нуждалось в позитивных сим¬
волах, способных служить опорой для образов желаемого
будущего. Стоит отметить, что «критический» нарратив
не был изобретением ельцинской властвующей элиты - он
достался ей в наследство от перестройки. В большинстве
стран, прошедших через подобные системные трансфор¬
мации, «проработка прошлого» откладывалась «на по¬
том». В России начала 1990-х гг. эти задачи пришлось
совмещать, и опыт оказался неудачным. Вместе с тем по¬
строение нового нарратива коллективного прошлого, спо¬
собного «заменить» распавшийся советский, невозможно
без критической «проработки» и моральной оценки траги¬
ческих страниц истории.
Не меньшие трудности возникают с выбором «лекал»,
по которым должна строиться новая макрополитическая
идентичность. В силу ряда причин России сложнее, не¬
жели другим постсоветским государствам, сделать выбор
в пользу доминирующей в современном мире модели на¬
ции. Это обусловлено не только советским способом реніе-
176
ния «национального вопроса», вследствие которого любые
шаги по пути нациестроительства рассматриваются сквозь
призму конкуренции за символические ресурсы, связан¬
ные со статусом «нации». Проблема еще и в конфигура¬
ции «материала», из которого строится новая российская
идентичность, в частности в особенностях закрепления
прошлого в историографии и «инфраструктуре» коллек¬
тивной памяти. Как верно подметил В. Морозов, одной
из ключевых проблем конструирования новой российской
идентичности по модели нации стало отсутствие в нача¬
ле 1990-х гг. «альтернативного имперскому исторического
нарратива, который мог бы послужить основой для само¬
идентификации России как нового национального госу¬
дарства» [Морозов, 2009, с. 580]. Кроме того, империи
оставляют в «наследие» политические и культурные ре¬
сурсы, делающие возможным воображение макрополити¬
ческого сообщества в наднациональной/цивилизационной
системе координат [Малинова, 2013, с. 349-369]. И хотя
исторически строительство многих современных на¬
ций имело место именно в «ядрах» империй [Миллер,
2008, с. 26-35], трудно отрицать, что «выкраивание» на¬
ционального нарратива из «ткани» имперского прошло¬
го - это задача непростая как в интеллектуальном, так и в
политическом отношении. Подобная переоценка прошло¬
го чревата ослаблением не только «опор» коллективной
идентичности, но и международного статуса. Вместе с тем
сохранение «имперской» парадигмы тоже сопряжено с не¬
гативными последствиями, поскольку создает почву для
фрустрации и ностальгии по утраченному «величию».
Эти и другие дилеммы определяли рамки возможного
для постсоветской политики идентичности. Векторы по¬
следней не раз менялись то более, то менее существенно.
Обобщая результаты этого и других исследований, можно
выделить четыре этапа эволюции символической полити¬
ки, проводившейся от имени государства.
177
1990-е гг. прошли под знаком острой конфронтации
между сторонниками и противниками Б. Н. Ельцина. На
начальном этапе символическая политика исполнитель¬
ной власти развивала критический нарратив, продолжав¬
ший переоценку отечественной истории, начатую в годы
перестройки. Риторика президента и его соратников была
всецело подчинена оправданию курса на радикальную
трансформацию «тоталитарного» порядка (формулиров¬
ки целей имели отчетливые коннотации с идеологемами
холодной войны), что влекло за собой критику советского
опыта. Отношение к дореволюционному наследию было
более сложным. С одной стороны, начатые преобразования
интерпретировались как «восстановление связи времен»,
разорванной в годы советской власти. С другой стороны,
корни многих современных проблем усматривались в до¬
революционной истории: в высказываниях самого Ельци¬
на и представителей его «команды» можно обнаружить
немало критических высказываний в адрес наследия про¬
шлого, затрудняющего движение к желанным целям. «Вос¬
становление связи времен» требовало кропотливой работы
по переосмыслению интерпретации отечественной исто¬
рии, покоившейся на идеологических схемах, доставших¬
ся в наследство от советского времени (и, в свою очередь,
впитавших многое из дореволюционного нарратива геро¬
ического «революционно-освободительного движения»).
Здесь трудно было ожидать быстрых результатов, однако
важно было поставить соответствующие цели. К сожа¬
лению, понимание важности этой задачи пришло лишь в
начале 2010-х гг. А в начале 1990-х символическая полити¬
ка властвующей элиты была всецело подчинена решению
текущих проблем. Казалось, что главное - сделать пост¬
советский переход необратимым, остальное «само собой
устроится». Российская идентичность конструировалась
на основе новых «демократических» ценностей и по кон¬
трасту с прошлыми эпохами. В этой связи было бы логич-
178
но формировать «инфраструктуру» памяти о ключевых
событиях новейшей истории; однако в условиях жесткого
противостояния с оппонентами в законодательной власти
исполнительная власть не предпринимала систематиче¬
ских усилий в этом направлении. Вместе с тем, пытаясь
адаптировать для использования в новом контексте отдель¬
ные элементы советского наследия (прежде всего - память
о Великой Отечественной войне), Ельцин и его соратники
были вынуждены конкурировать с «народно-патриотиче¬
ской оппозицией», использовавшей более удобную страте¬
гию частичной трансформации прежнего нарратива.
О второй половине 1990-х гг. можно говорить как о
самостоятельном этапе, поскольку в этот период имела
место частичная корректировка официальной символи¬
ческой политики: на смену принципиальному отрицанию
«тоталитарного прошлого» пришла установка на «прими¬
рение и согласие». Она отчетливо проявилась после вы¬
боров 1996 г. (приглашение к разработке «национальной
идеи», переименование 7 ноября в День примирения и со-
тасия, история с перезахоронением останков членов цар¬
ской семьи и др.), однако первые признаки нового подхода
обозначились уже во время подготовки к празднованию
50-летия Победы. Одним из его результатов стало закре¬
пление постсоветского ритуала празднования Дня Победы
(ежегодные военные парады на Красной площади, Красное
Знамя Победы в качестве официального символа и др.).
Впрочем, политика «примирения» скорее носила деклара¬
тивный характер: главной целью властвующей элиты ель¬
цинского призыва оставалась легитимация непопулярных
решений, принимавшихся под лозунгом «борьбы с тотали¬
тарным режимом», и это обстоятельство не позволяло уйти
от практики использования прошлого по принципу контра¬
ста с настоящим. Вместе с тем более отдаленное прошлое
в политической практике 1990-х гг. использовалось мало,
что можно объяснить, с одной стороны, отсутствием «го-
179
тового» нарратива, который позволял бы связать наследие
доимперского и имперского периода с современными зада¬
чами конструирования макрополитической идентичности,
а с другой стороны - недостатком ясности в отношении
оснований, границ и ценностно-смыслового содержания
последней. Во всяком случае, заказ на разработку нарра¬
тива, пригодного в новом контексте, сформулирован не
был. Не разделяя в полной мере интерпретацию коллек¬
тивного прошлого, предложенную в конце 1980-х - начале
1990-х гг. «демократами», власть по прагматическим сооб¬
ражениям вынуждена была ее придерживаться, что делало
артикулируемые ею идеи абсолютно неприемлемыми для
«народно-патриотической оппозиции».
С приходом к власти В. В. Путина в практике полити¬
ческого использования прошлого произошли изменения,
знаменовавшие наступление третьего этапа государ¬
ственной символической политики. В 2000-е гг. сложил¬
ся новый принцип построения официального нарратива:
новая Россия была объявлена законной наследницей «ты¬
сячелетнего государства», таким образом, во главу угла
ставилась преемственность. Не будучи в отличие от свое¬
го предшественника связан принадлежностью к политико¬
идеологическим лагерям 1990-х гг, В. В. Путин мог себе
позволить использовать идеи и символы из репертуара
«народно-патриотической оппозиции», казавшиеся абсо¬
лютно неприемлемыми «демократам». Однако инновации
заключались не только в избирательной «реабилитации»
советских символов. Был найден новый стержень симво¬
лической политики - им стала идея великодержавности,
проецируемая на всю «тысячелетнюю историю» России.
В новом официальном дискурсе именно государство (вне
зависимости от менявшихся границ и политических режи¬
мов) стало представляться в качестве ценностного стерж¬
ня, скрепляющего макрополитическую идентичность.
180
Это было удобное технологическое решение, позво¬
лявшее избирательно использовать советское прошлое,
исключая при этом из репертуара наиболее одиозные мо¬
менты (примечательно, что аналогичные изменения в от¬
ношении к советскому прошлому социологи отмечают с
начала 2000-х гг. и на уровне массового сознания). Вместе
с тем это было использование прошлого в технике колла¬
жа. символическая политика двух первых президентских
сроков В. В. Путина отличалась принципиальной эклек¬
тичностью, совмещение элементов противоположных
смысловых систем не сопровождалось их содержатель¬
ной реинтерпретацией, хотя объектами официальной но¬
минации оказывались взаимоисключающие - в логиках
прежних «символических битв» - идеи и символы. Это
особенно очевидно в дискуссии о «суверенной демокра¬
тии» : ее участники спешили заполнить контуры «удобной»
в функциональном отношении схемы путем механиче¬
ского соединения элементов разных дискурсов. При этом
они мало заботились о правдоподобности аргументов:
вырванным из контекста устоявшихся нарративов симво¬
лам прошлого приписывались совершенно новые смыслы
[Сурков, 2006; Сурков, 2007]. Такая технология позволяла
обозначить контуры модели коллективной идентичности,
предлагаемой властвующей элитой, однако она не могла
обеспечить формирование связных и устойчивых представ¬
лений о коллективном прошлом, настоящем и будущем,
ибо исходно не была на это нацелена
Символическая политика Д. А. Медведева может рас¬
сматриваться как продолжение и развитие путинской
эклектики, хотя в ней наблюдались и новые тенденции, ко¬
торые были связаны как с изменением внешнего контекста
(«войны памяти»), так и с некоторыми инновациями спич¬
райтеров и личностными особенностями лидера.
Подводя итоги символической политики 1991-2011 гг,
можно отметить две ее характерные особенности. Во-
181
первых, государственным решениям, направленным на
формирование «инфраструктуры» коллективной памяти,
очевидно, недоставало целостной стратегии, а зачастую -
элементарной последовательности. Вместе с тем симво¬
лическая политика требует системности: чтобы закрепить
интерпретацию в массовом сознании, требуются время,
ресурсы и целенаправленная работа по разным каналам -
образование, СМИ, официальная риторика, литература,
кинематограф, ритуалы и т. п. Кроме того, формирование
«подходящего» исторического нарратива предполагает
выстраивание смысловых связей между символами про¬
шлого; работа с ними в технике коллажа - паллиативное
решение. Во-вторых, как я попыталась показать в третьей
главе, следствием такого подхода является узость реперту¬
ара символов, событий, фигур прошлого, пригодных для
мобилизации национальной солидарности. Если первое
обстоятельство обусловлено нерешенностью множества
фундаментальных вопросов и противоречивостью про¬
двигаемой властью модели идентичности, то второе -
следствие неготовности властвующей элиты работать с
«трудным» прошлым, занимая определенную «позицию» в
спорах, которые не прекращаются в обществе.
В 2011-2012 гг. на фоне президентской избирательной
кампании, сопровождавшейся протестным движением
в ряде крупных городов, наметились определенные из¬
менения в символической политике, которые позволяют
говорить о начале следующего, четвертого, этапа1. Его
1 Применительно к политике памяти А. И. Миллер счита¬
ет возможным начинать современный этап с 2010 г, аргумен¬
тируя это переключением дискуссий с внешнеполитических
«фронтов» на внутрироссийские, что было обусловлено,
с одной стороны, спадом активности в спорах с Польшей,
Украиной, Молдовой и прибалтийскими республиками, и
с другой - стремлением разных политических игроков ис¬
182
характерная особенность - более пристальное внимание к
политике идентичности, что выразилось не только в ряде
программных заявлений В. В. Путина (в том числе - в
предвыборной статье про «национальный вопрос», кон¬
статации «дефицита духовных скреп» в послании 2012 г,
«валдайской речи» 2013 г, неоднократных встречах с исто¬
риками и музейщиками и др.), но и в отмеченном выше
заметном расширении тематического репертуара «акту¬
ального» прошлого. Пожалуй, наиболее красноречивым
свидетельством повышенного внимания к исторической
политике стала инициированная президентом кампания
по подготовке Концепции нового учебно-методическо¬
го комплекса (УМК) по отечественной истории. Все это
дает основание полагать, что именно в последние два-три
года наметившееся еще в 2000-х гг. стремление расши¬
рить репертуар политически «пригодных» событий, ил¬
люстрирующих «тысячелетнюю историю» России, стало
приобретать признаки более систематической стратегии.
Вместе с тем и первые результаты применения такой
стратегии, и используемые при этом технологии вызыва¬
ют противоречивые оценки. С одной стороны, можно со¬
гласиться с выводом А. И. Миллера: власть стремится не
только определять повестку дня в области политики па¬
мяти, но и контролировать общественные дискуссии о
прошлом с помощью созданных по ее инициативе квази-
экспертных центров - Ассоциации школьных учителей
истории и обществознания (2010 г), Российского исто¬
рического и Российского военно-исторического обществ
(2012 г). С другой стороны, по его же справедливому за¬
ключению, эти центры «не только опосредовали» полити¬
ку власти, «но и (отчасти) выступали как площадки для
пользовать тему прошлого для «набирания очков» в условиях
политической неопределенности перед президентскими выбо¬
рами 2012 г. [Миллер, 2013, с. 120].
183
артикуляции экспертного и общественного мнения» [Мил¬
лер, 2013, с. 122-124], что, казалось бы, создает условия
для взаимодействия профессиональных сообществ и вла¬
сти «в режиме диалога и даже согласия» [Миллер, 2014,
с. 49]. Тем не менее решения, принятые в 2014 г. на фоне
украинского кризиса, - «мемориальный» закон, устанавли¬
вающий уголовную ответственность за «распространение
заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы
Второй мировой войны, совершенные публично» [ФЗ,
2014, № 128-ФЗ], заявление министра культуры В. Ме¬
динского о нецелесообразности принятия программы по
увековечению памяти жертв политических репрессий
(позднее под давлением президентского Совета по разви¬
тию гражданского общества и правам человека дезавуиро¬
ванное В. В. Путиным) и другие меры, более подробный
анализ которых можно найти в статье Миллера [там же] -
свидетельствуют о стремлении части властвующей элиты
свернуть начатые дискуссии о «трудных моментах» исто¬
рии и авторитарно навязать апологетический нарратив на¬
ционального прошлого. Едва ли нужно говорить, что это
крайне тревожная тенденция.
Литература и источники
Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культу¬
ра и историческая политика / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.:
Новое литературное обозрение, 2014.
Афанасьев Ю. Прошел год // Год после Августа. Горечь и
выбор. М.: Литература и политика, 1992. С. 7-12.
Ачкасов В. А. Роль политических и интеллектуальных
элит посткоммунистических государств в производстве «по¬
литики памяти» // Символическая политика: Вып. 1. Констру¬
ирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.:
ИНИОН РАН, 2012. С. 126-148.
Ачкасов В. А. «Политика памяти» как инструмент кон¬
струирования постсоциалистических наций // Журнал социо¬
логии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI. № 4 (69).
С. 106-123.
Барг Р. Мифологии / пер. с фр., вступ. ст. и коммент.
С. Зенкина. М.: Академический Проект, 2010.
Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.:
Наука, 1990.
Бовин А. Великая революция // Известия. 1997. № 211
(25064). 5 ноября. С. 4.
Брежнев Л. И. Великий Октябрь и прогресс человечества.
Доклад на торжественнм заседании ЦК КПСС, Верховного
Совета СССР и Верховного Совета РСФСР // Правда. 1977.
№ 307 (21642). 3 ноября. С. 2-3.
Бурдье П. Социология социального пространства / пер. с
франц.; отв. ред. перевода Н. А. Шматко. М.: Институт экспе¬
риментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007.
Буртин Ю. Новый строй: виды на будущее // Московские
новости. 1994. № 54. 9 ноября.
Бушуев В. Не катастрофа, а спасение // Правда. 1997.
№ 167 (372). 6 ноября. С. 1-2.
В день памяти жертв политических репрессий Святей¬
ший Патриарх Алексий и президент России посетили Бутов¬
ский полигон // Официальный сайт Московского Патриархата.
URL: http://www.patriarchia.m/db/text/314768.html
185
Васильков Ю. Третий путь в XXI век // Российская газе¬
та. 2000. № 241 (2605). 22 декабря.
Владимиров Д. Александр Яковлев: Есть только правда
между прошлым и будущим // Российская газета. 2003. № 244
(3358). 2 декабря.
Вязовик Т. П. Версия прошлого как государственный
миф (к вопросу написания единого учебника отечественной
истории) // Символическая политика. Вып. 2: Споры о про¬
шлом как проектирование будущего. М.: ИНИОН РАН, 2014.
С. 82-98.
Гаврилова М. В. Контент-анализ послания президента
Федеральному собранию // Политический анализ. Доклады
Центра эмпирических политических исследований СПбГУ.
Вып. 4. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 64-82.
Гаврилова М. В. Когнитивные и риторические основы
президентской речи (на материале выступлений В. В. Путина
и Б. Н. Ельцина). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004.
Гаврилова М. В. Композиция программной политической
речи (на примере послания президента Федеральному собра¬
нию России) // Политический анализ: Доклады Центра эмпи¬
рических политических исследований СПбГУ Вып. 6. СПб.:
Изд-во СПбГУ, 2005. С. 40-54.
Гаврилова М. В. Президент как субъект политической
коммуникации // Политическая коммунитивистика: теория,
методология и практика / под ред. Л. Н. Тимофеевой. М.:
РОССПЭН, 2012. С. 256-268.
Гайдар Е. Двуглавый орел и золотой теленок // Известия.
1994. № 216 (24323). 10 ноября.
Гайдар E. Т. Государство и эволюция. М.: Евразия, 1995а.
Гайдар Е. От выборов нельзя уйти или спрятаться. Их
надо выиграть // Известия. 19956. № 64 (24423). 7 апреля.
Голованов Л. Мифы, которые мы выбираем // Общая газе¬
та. 1996. №21. 30 мая.
Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: Революция про¬
должается//Правда. 1987. № 307 (25294). 3 ноября. С. 2-5.
Горбачев М. С. Социалистическая идея и революционная
перестройка//Правда. 1989. № 330 (26048). 26 ноября. С. 1-3.
186
Горбачев М. С. История не фатальна // Московские ново¬
сти. 1997. № 43. 28 октября.
Гофман И. Анализ фреймов. Эссе об организации повсе¬
дневного опыта. М.: Институт социологии РАН; Институт
Фонда «Общественное мнение», 2004.
Гудков Л., Дубин Б. Посттоталитарный синдром: «управ¬
ляемая демократия» и апатия масс // Пути российского пост¬
коммунизма: Очерки / под ред. М. Липман и А. Рябова. М.:
Изд-во Р. Элинина, 2007. С. 8-64.
Долганов В. Егор Гайдар: у коммунистов есть два вариан¬
та сажать и воевать //Куранты. 1995. № 155. 20 октября.
Драгунский Д. Октябрь уж отступил // Итоги. 1997. № 43.
Дробижева Л. М. Процессы гражданской интеграции в по¬
лиэтничном российском обществе (Тенденции и проблемы) //
Общественные науки и современность. 2008. № 2. С. 68-77.
Дубин Б. Символы возврата вместо символов перемен //
Pro et contra. 2011. № 5 (53). С. 6-22.
Егоров Н. Д. Июньские выборы: за стабильность и за по¬
трясения? // Российская газета. 1996. № 53. 29 марта.
Ельцин Б. Н. О демократической российской государ¬
ственности и проекте новой Конституции // Обозреватель -
Observer. 1993а. № 15. С. 4.
Ельцин Б. Н. К гражданам России. Обращение президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина 4 ноября 1993 г. // Обо¬
зреватель - Observer. 19936. № 25 (29). С. 9.
Ельцин Б. Н. Лишь бы сила аргументов не подменялась
силой оружия. Ответы на вопросы журнала «Штерн» // Рос¬
сийская газета. 1993в. № 206 (822). 4 ноября. С. 1.
Ельцин Б. Н. «Вчера завершилось дело огромной важ¬
ности для нашей страны, для каждого из нас. Подготовлен
проект Конституции Российской Федерации». Выступление
Б. Н. Ельцина по I и II каналам телевидения 9 ноября 1993 г. //
Российская газета. 1993г. № 210 (826). Юноября.С. 1.
Ельцин Б. Н. Послание Президента России Бориса Ельци¬
на Федеральному Собранию РФ: «Об укреплении Российско¬
го Государства». 1994. URL: http://www.intelros.ru/2007/02/04/
poslanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_
sobranijujrf^l994_god.html (дата обращения 11.11.12).
187
Ельцин Б. Н. Фрагмент выступления президента России
Б. Н. Ельцина 9 мая на приеме в Государственном Кремлев¬
ском дворце // Российская газета. 1995а. № 90. 11 мая.
Ельцин Б. Н. Мы должны чтить свою Конституцию. Ин¬
тервью президента России Б. Н. Ельцина Общественному
российскому телевидению // Российская газета. 19956. № 101.
26 мая.
Ельцин Б. Н. Послание Президента России Бориса Ель¬
цина Федеральному Собранию РФ: «О действенности го¬
сударственной власти в России». 1995в. URL: http://www.
intelros.ni/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_
federalnomu_sobranijii_rf_o_dejjstvennosti_gosiidarstvennojj_
vlasti_v_rossii_1995_god.html (дата обращения 11.11.12).
Ельцин Б. Н. Послание Президента России Бориса Ель¬
цина Федеральному Собранию РФ: «Россия, за которую мы в
ответе». 1996. URL: http://www.intelros.ra/2007/02/05/poslanie_
prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_
rossija_za_kotoraju_my_v_otvete_1996_god.html (дата обраще¬
ния 11.11.12).
Ельцин Б. Н. Послание Президента России Бориса Ель¬
цина Федеральному Собранию РФ: «Порядок во власти - по¬
рядок в стране». 1997. URL: http://www.intelros.ru/2007/02/05/
poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_
rfjporjadok vo vlasti poijadok_v_strane_l 997_god.html (дата
обращения 15.03.10).
Ельцин Б. Н. Послание Президента России Бориса Ельци¬
на Федеральному Собранию РФ: «Общими силами - к подъ¬
ему России». 1998. URL: http://www.intehos.ru/2007/02/05/
poslaniejprezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_
rf_obshhimi_silami__k_podeinii_rossii_1998_god.html (дата об¬
ращения 15.03.10).
Ельцин Б. Н. Послание Президента России Бориса
Ельцина Федеральному Собранию РФ: «Россия на рубе¬
же эпох». 1999а. URL: http://www.intehos.ru/2007/02/05/
ро slanie jprezidenta_ro sii_borisa_elcma_federalnomu_sobranij u_
rf_rossija_na_rabezhejepokh_1999_god.html (дата обращения
11.11.12).
188
Ельцин Б. Н. Великий День Победы нашей. Выступление
Президента РФ Б. Н. Ельцина на параде, посвященном 54-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне // Россий¬
ская газета. 19996. № 90. 12 мая.
Ельцин Б. Н. Заявление 31.12.1999в. URL: http://archive.
kremlin.ru/appears/1999/12/31/0003_type82634_119554.shtml
(дата обращения 15.03.10).
Есть разные мнения о том, что принесла Октябрь¬
ская революция народам России // Сайт Левада-Центра.
Опубликовано 8.09.2011. URL: http://www.levada.ru/archive/
pamyatnye-daty/est-raznye-nmeniya-o-tom-chto-prinesla-
oktyabrskaya-revolyutsiya-narodam-ross
Ефремова В. Н. День народного единства: Изобретение
праздника // Символическая политика. Выл. 1: Конструиро¬
вание представлений о прошлом как властный ресурс. М.:
ИНИОНРАН, 2012. С. 286-261.
Журженко Т. «Общая победа»? «Чужая война»? Национа¬
лизация памяти о Второй мировой войне в украинско-россий¬
ском приграничье // Пути России. Историзация социального
опыта. М.: Новое литературное обозрение, 2013. Т. XVIII.
С. 93-125.
Закатнова А. День примирения и согласия прошел без экс¬
цессов // Независимая газета. 2000. 9 ноября.
Зверева В. История на ТВ: конструирование прошлого //
Отечественные записки. 2004. № 5 (20). С. 160-169.
Зевелев И. А. Будущее России: нация или цивилизация? //
Россия в глобальной политике. 2009. № 5. С. 88-102.
Зенкин С. Критика нарративного разума // Новое литера¬
турное обозрение. 2003. № 59. URL: http://magazines.russ.ru/
nlo/2003/59/zen.html
Зорькин В. Строительство новой России // Обозреватель -
Observer. М., 1994. № 16-17. С. 24-31.
Зубкова Е. Ю., Куприянов А. И. Возвращение к «Русской
идее»: Кризис идентичности и национальная история // Оте¬
чественная история. 1999. № 4. С. 4-28.
Зюганов Г А. Взгляд за горизонт // Обозреватель -
Observer. М., 1994. № 18. С. 139-156.
189
Зюганов Г. А. Россия и современный мир. М.: Информпе¬
чать, 1995.
Зюганов Г. А. Смысл и дело Октября // Советская Россия.
1997. № 130. 6 ноября.
Зюганов Г. А. Дело Октября снова побеждает! // Правда.
2007. № 122. 2 ноября.
Зюганов Г. А. Сталин и современность. М.: Молодая гвар¬
дия, 2008. URL: http://www.politpros.eom/library/9/223/
Зюганов Г. А. «Не Ленин со Сталиным» // Персональный
сайт Г. А. Зюганова. Опубликовано 24.07.2012. URL: http://
www.zyuganov.kprf.m/news/ne-lenin-so-stalinym
Иванов В. Сергей Степашин: Лимит на революции исчер¬
пан//Российская газета. 1999. №225. 13 ноября.
Идейно-символическое пространство постсоветской Рос¬
сии: динамика, институциональная среда, акторы / под ред.
О. Ю. Малиновой. М.: РАИН, РОССПЭН, 2011.
Иноземцев В. Раздвоение сознания // Независимая газе¬
та. 2012. № 232 (5719). 7 ноября. С. 2.
ИТАР-ТАСС. 7 ноября митингов и демонстраций не бу¬
дет//Российская газета. 1993. 5 ноября. С. 1.
ИТАР-ТАСС. Кто мы? И что нас объединит? // Российская
газета. 1996. № 131. 13 июля.
Капустин Б. Г. О предмете и употреблениях понятия «ре¬
волюция» // Логос. 2008. № 6. С. 3^17.
Кара-Мурза С. Это была патриотическая революция.
Профессор Сергей Кара-Мурза в диалоге с обозревателем
«Правды» Виктором Кожемяко // Правда. 2007. № 116. 19-
22 октября. URL: http://www.gazeta-pravda.ru/2007/pravda %20
116.html#
Кара-Мурза С. Г. «Это была патриотическая революция».
Профессор С. Кара-Мурза в диалоге с обозревателем «Прав¬
ды» В. Кожемяко //Правда. 2007. № 116. 19-22 октября.
Каспэ И., Каст С. Поле битвы - страна. Nation-building и
наши нэйшнбилдеры // Неприкосновенный запас. 2006. № 6
(50). С. 15-32.
Каспэ С. И. Политическая теология и nation-building: об¬
щие положения, российский случай. М.: РОССПЭН, 2012.
190
Кива А. Россия после коммунизма // Российская газета.
1997а. № 180. 17 сентября.
Кива А. После коммунизма, накануне Октября // Россий¬
ская газета. 19976. №212. 31 октября.
Козырев А. В. Преображение. М.: Международные отно¬
шения, 1994.
Кондрашов С. В. В Женеве спустя эпоху // Известия. 1995.
№ 2 (24381). 4 февраля.
Константинов С. Октябрьская революция была неизбеж¬
на // Независимая газета. 2000. № 211 (2273). 5 ноября.
Концепция нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории. М., 2013. URL: http://mshistory.org/
wp-content/uploads/2013/11/2013.10.3І-Концепцияфинал.рсЦ'
Копосов Н. Е. Память строгого режима. История и поли¬
тика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
Копосов Н. Е. Исторические понятия в мире без будуще¬
го // Как мы пишем историю? / отв. ред. Г. Гаррета, Г. Дюфо,
Л. Пименова. М.: РОССПЭН, 2013. С. 57-93.
Копосов Н. Е. Память в законе // Русский журнал.
2014. 8 апреля. URL: http://www.mss.ru/Mirovaya-povestka/
Pamyat-v-zakone
Красников Е. Оппозиция // Независимая газета. М., 1995.
№ 79. 11 мая.
Краснов М. Мы проснулись в другой стране // Российская
газета. 2001. № 160 (2772). 18 августа.
Кузнецов А. Загадочный выходной. Россияне не пони¬
мают, что они отмечают 4 ноября // Новые известия. 2012.
№ 198. 1 ноября.
Левада Ю. А. Человек лукавый: двоемыслие по-
российски // Левада Ю. А. От мнений к пониманию. Со¬
циологические очерки 1993-2000. М.: Московская школа
политических исследований, 2000. С. 508-529.
Липский А. Не надо играть со словом «фашизм»! // Но¬
вая газета. 2014. 29 марта. URL: http://www.novayagazeta.ru/
politics/62 934 .html
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моде¬
лей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) //
Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1. М.: Гнозис, 1994.
С. 219-253.
191
Лужков Ю. М. «В мирное время Москва не знала таких
потерь». Интервью газете «Московские новости» // Москов¬
ские новости. 1993. 10 октября.
Маколи М. Историческая память и общество сограждан //
Pro et contra. 2011. Т. 15. № 1/2 (51). С. 134-149.
Малинова О. Ю. Образы России и «Запада» в дискурсе
власти (2000-2007 гг): попытки переопределения коллек¬
тивной идентичности // Образ России в мире: становление,
восприятие, трансформация / отв. ред. И. С. Семененко. М.:
ИМЭМО РАН, 2008. С. 86-106.
Малинова О. Ю. Россия и «Запад» в XX веке: Транс¬
формация дискурса о коллективной идентичности. М.:
РОССПЭН, 2009.
Малинова О. Ю. Символическая политика и конструиро¬
вание макрополитической идентичности в постсоветской Рос¬
сии//Полис. 2010. №2. С. 90-105.
Малинова О. Ю. Тема прошлого в риторике президентов
России// Pro et contra. 2011. № 3^1. С. 106-122.
Малинова О. Ю. Символическая политика: контуры про¬
блемного поля // Символическая политика. Выл. 1: Констру¬
ирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.:
ИНИОН РАН, 2012. С. 5-16.
Малинова О. Ю. Конструирование смыслов: Исследова¬
ние символической политики в современной России / РАН
ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. по¬
лит. науки. М., 2013.
Мартьянов В. С. Идеология В. В. Путина: концептуализа¬
ция посланий президента РФ // ПОЛИТЭКС, 2007. № 1. URL:
http://www.politex.info/content/view/322/30/
Медведев Д. А. Выступление на Военном параде в честь
63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне //
Портал «Президент России». 2008а. 9 мая. URL: http://www.
kremlin.ru/transcripts/30
Медведев Д. А. Послание Федеральному Собранию
Российской Федерации // Портал «Президент России».
20086. 5 ноября. URL: http://www.kremlin.ru/appears/2008/ll/
05/1349Jype63372type63374type63381type82634_208749.shtml
192
Медведев Д. А. Выступление на военном параде в честь
64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне //
Портал «Президент России». 2009а. 9 мая. URL: http://news.
kremlin.ru/transcripts/4015
Медведев Д. А. Россия, вперед! // Интернет-изда¬
ние «ra3era.Ru». 20096. 10 сентября. URL: http://gazeta.ru/
comments/2009/09/10_a_3258568.shtml
Медведев Д. А. Память о национальных трагедиях так же
священна, как память о победах. Новая видеозапись в блоге
Дмитрия Медведева в День памяти жертв политических ре¬
прессий // Портал «Президент России». 2009в. 30 октября.
URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/5862
Медведев Д. А. Послание Федеральному Собранию Рос¬
сийской Федерации // Портал «Президент России». 2009г.
12 ноября. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/5979
Медведев Д. А. «Нам не надо стесняться рассказывать
правду о войне - ту правду, которую мы выстрадали» // Из¬
вестия. 2010а. 7 мая. URL: http://www.izvestia.ru/pobeda/
article3141617/
Медведев Д. А. Выступление Президента России на пара¬
де, посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне // Портал «Президент России». 20106. 9 мая. Режим до¬
ступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/7685
Медведев Д. А. Выступление на приеме от имени Прези¬
дента России по случаю 65-летия Победы в Великой Отече¬
ственной войне // Портал «Президент России». 2010в. 9 мая.
Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/7688
Медведев Д. А. Послание Президента Федеральному Со¬
бранию // Портал «Президент России». 2010г. 30 ноября. Ре¬
жим доступа: http://www.kremlin.ra/transcripts/9637/work
Медведев Д. А. Выступление на конференции «Великие
реформы и модернизация России» // Портал «Президент Рос¬
сии». 2011а. 3 марта. Режим доступа: http://news.kremlin.ra/
transcripts/10506
Медведев Д. А. Встреча с ветеранами Великой Отече¬
ственной войны и представителями военно-патриотических
организаций // Портал «Президент России». 20116. 8 мая. Ре¬
жим доступа: http://news.kremlin.ra/transcripts/11191
193
Медведев Д. А. Выступление на военном параде, посвя¬
щенном 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне // Портал «Президент России». 2011в. 9 мая. Режим до¬
ступа: http: //news.kremlm.ru/transcripts/1 1196
Медведев Д. А. Послание Президента Федеральному Со¬
бранию // Портал «Президент России». 2011г. 22 декабря. Ре¬
жим доступа: http://kxemlin.ru/tianscripts/14088/work
Миллер А. И. Нация как рамка политической жизни // Pro
et contra. 2007. Т. 11, № 3 (37). С. 6-20.
Миллер А. И. История империй и политика памяти // На¬
следие империй и будущее России. М.: Новое литературное
обозрение, 2008. С. 25-58.
Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. М.:
Новое литературное обозрение, 2010.
Миллер А. И. Историческая политика в Восточной Евро¬
пе начала XXI века // Историческая политика в XXI веке / под
ред. А. Миллера, М. Липман. М.: Новое литературное обозре¬
ние, 2012а. С. 7-32.
Миллер А. И. Историческая политика в России: новый по¬
ворот? // Историческая политика в XXI веке / под ред. А. Мил¬
лера, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
С. 328-367.
Миллер А. И. Политические символы и историческая по¬
литика // Символическая политика: Выл. 1: Конструирование
представлений о прошлом как властный ресурс. М: ИНИОН
РАН, 2012в. С. 164-174.
Миллер А. И. Роль экспертных сообществ в политике па¬
мяти в России //Политая. 2013. №4 (71). С. 114-126.
Миллер А. И. Политика памяти в России: Год разрушен¬
ных надежд // Политая. 2014. № 4 (75). С. 49-57.
Миронов С. Октябрь 17-го: уроки без забвения // Россий¬
ская газета (Федеральный выпуск). 2007. № 4506. 31 октября.
Режим доступа: http://www.rg.ru/2007/10/31/oktyabr-mironov.
html
Митрополит Кирилл считает духовной, а не полити¬
ческой инициативу отмечать День согласия и примирения
4 ноября // Православное информационное агентство «Рус¬
ская линия». 2004. 28 октября. Режим доступа: http://rask.ra/
st. php? idar=712217
194
Моравский Н. Россия и демократия // Независимая газе¬
та. 1993. № 31 (455). 18 февраля.
Морозов В. Е. Россия и Другие: идентичность и границы
политического сообщества. М.: Новое литературное обозре¬
ние, 2009.
Назаров В. Что будут праздновать в России 4 ноября
2005 года // Отечественные записки. 2004. № 5 (20). С. 85-99.
Нарочницкая Н. Революция: до основанья, а зачем? Интер¬
вью Б. Кроткова с Н. Нарочницкой // Российская газета. (Не¬
деля). 2007. № 4508. 1 ноября.
Нарышкин С. Е. Современный мир: история не оста¬
ется безучастной. Интервью редакции журнала «Вестник
МГИМО-Университета» // Сайт МГИМО-Университет. Опу¬
бликовано 25.11.2011. Режим доступа: http://www.mgimo.ru/
news/university/document213204.phtml
Никжентайтис А. Модели памяти и культурных воспоми¬
наний: Польша, Литва, Россия, Германия // Слово.ру: Балтий¬
ский акцент. 2012. № 3. С. 17-32.
Никонов В. Российский век // Известия. 1999. 28 декабря.
Никто не хочет называться фашистом // Независимая газе¬
та. 1998. № 116. 1 июля.
Нуйкин А. Берегись, фашисты, Бабурин идет! // Куран¬
ты. 1995. № 100. 1 июня.
О Дне согласия и примирения. Указ Президента РФ // Рос¬
сийская газета. 1996. № 214 (1574). 10 ноября. С. 2.
Опенкин Л. Река времени вспять не течет // Российская га¬
зета. 1996. № 107. 7 июня.
Опрос ВЦИОМ // Московские новости. 1992. № 29.
19 июля.
Остапчук А., Красников Е. В Москве прошел единый по¬
литдень//Независимая газета. 1992. №27. 11 февраля.
Панов П. В. Конституирование образа России в официаль¬
ном политическом дискурсе 1990-2000-х гг. (по материалам
ежегодных Посланий Президента РФ) // Образ России в мире:
становление, восприятие, трансформация. М.: ИМЭМО РАН,
2008. С. 107-117.
Пархоменко С. «Мы расстаемся при полной взаимно¬
сти» // Независимая газета. 1992. № 27. 11 февраля.
195
Петров К. Е. Доминирование концептуальной многознач¬
ности: «сильное государство» в российском политическом
дискурсе//Полис. 2006. № 3. С. 159-183.
Пинскер Д. Год, которого не было // Итоги. 1997. № 43.
Политическая идентичность и политика идентичности.
М.: РОССПЭН, 2012. Т. 1: Словарь терминов и понятий / отв.
ред. И. С. Семененко. 208 с.
Поляновский М. Мы за ценой не постояли // Известия.
1995. 23 июня. № 114 (24473). С. 5.
Попов Г. Месяц Скорпиона, год Красной Змеи // Известия.
№ 212 (25065). 6 ноября. М., 1997. С. 4.
Предложения об учреждении общенациональной государ¬
ственно-общественной программы «Об увековечении памяти
жертв тоталитарного режима и о национальном примирении».
Подготовлены Рабочей группой Совета по исторической
памяти и переданы Президенту РФ на встрече 1 февраля
2011 года в Екатеринбурге. URL: http://www.president-sovet.
ni/stmcture/group_5/materials/proposals_at_a_meeting_in_ekb/
index, php
Преодоление сталинизма. M.: РОПД «Яблоко», 2013.
Проханов А. Великая Октябрьская Владимиропутинская
революция // Завтра. 2007. № 45 (729). 7 ноября.
Путин В. В. Куда двигаться дальше. Из актовой лекции
председателя Правительства В. В. Путина в МГУ // Россий¬
ская газета. 1999а. № 171. 13 ноября.
Путин В. В. Россия на рубеже тысячелетий // Неза¬
висимая газета. 19996. 30 декабря. URL: http://www.ng.ru/
politics/1999-12-30/4_nullenium.html
Путин В. В. Выступление на параде, посвященном 55-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне // Портал
«Президент России». 2000а. 9 мая. URL: http://archive.kremlin.
ru/appears/2000/05/09/0001_type82634typel22346j28722.shtml
Путин В. В. Выступление на торжественном приеме, по¬
священном 55-й годовщине Победы в Великой Отечествен¬
ной войне // Портал «Президент России». 20006. 9 мая. URL:
http://archive.kremlin.ru/appears/2000/05/09/0002_typel22346_
28725.shtml
196
Путан В. В. Выступление на торжественном приеме по
случаю Дня принятия Декларации о государственном сувере¬
нитете России 12 июня 2000 г. // Портал «Президент России».
2000в. URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2000/06/12/0002_
typel22346_28767.shtml
Путан В. В. Послание Федеральному Собранию Россий¬
ской Федерации // Портал «Президент России». 2000г. 8 июля.
URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2000/07/08/0000 type633
72type63374type82634 28782.shtml
Путан В. В. Не жечь мостов, не раскалывать общество //
Российская газета. 2000д. № 233 (2597). 6 декабря.
Путан В. В. Вступительное слово на заседании Го¬
сударственной комиссии по подготовке к празднованию
300-летия Санкт-Петербурга // Портал «Президент России».
2001а. 13 января. URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2000/
01/13/1334_type63378 121182. shtml
Путан В. В. Послание Федеральному Собранию Россий¬
ской Федерации // Портал «Президент России». 20016. 3 апре¬
ля. URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2001/04/03/0000 type
63 372type63374type82634_28514. shtml
Путин В. В. Стенограмма прямого теле- и радиоэфира
(«Прямая линия с Президентом России») // Портал «Прези¬
дент России». 2002а. 19 февраля. URL: http://archive.kremlin.
m/appears/2002/12/19/1700_type82634typel46434_29647.shtml
Путин В. В. Выступление на приеме по случаю Дня Рос¬
сии // Портал «Президент России». 20026. 12 июня. URL:
http://archive.kremlin.ru/appears/2002/06/12/0001_type82634
typel22346_28953. shtml
Путин В. В. Выступление на приеме по случаю Дня Кон¬
ституции // Портал «Президент России». 2002в. 12 декабря.
URL: http://archive.kremlm.ru/appears/2002/12/12/1637_type633
74type82634typel22346_29631 .shtml
Путин В. В. Выступление на приеме по случаю 58-й го¬
довщины Победы в Великой Отечественной войне // Портал
«Президент России». 2003а. 9 мая. URL: http://archive.kremlin.
ra/appears/2003/05/09/0002_type 122 346_44367. shtml
Путан В. В. Послание Федеральному Собранию Россий¬
ской Федерации // Портал «Президент России». 20036. 16 мая.
197
URL: http://archive.kremlin.ra/appears/2003/05/16/125 9 type6 3 3
72type63374type82634 44623. shtml
Путин В. В. Выступление на торжествах по случаю Дня
России // Портал «Президент России». 2003в. 12 июня. URL:
http://archive.kremlm.ru/appears/2003/06/12/1419jype82634
type 122346 47092. shtml
Путин В. В. Выступление на военном параде, посвя¬
щенном 59-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне // Портал «Президент России». 2004а. 9 мая. URL:
http: //archive, kremlin. ru/appears/2004/05/09/1239jype82634
type 122346 6423 9. shtml
Путин В. В. Выступление на собрании, посвященном
Дню памяти воинов-интернационалистов // Портал «Пре¬
зидент России». 20046. 14 февраля. URL: http://archive.
kremlin.ru/appears/2004/02/15/1615_type63374type63376ty
ре122346_159652.shtml
Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Россий¬
ской Федерации //Портал «ПрезидентРоссии». 2004в. 26 мая.
URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2004/05/26/0003jype633
72type63374type82634_71501 .shtml
Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Рос¬
сийской Федерации // Портал «Президент России».
2005а. 25 апреля. URL: http://arcliive.kremlm.ra/appears/
2005/04/25/1223Jype63372type63374type82634_87049.shtml
Путин В. В. Интервью германским телеканалам АРД и
ЦДФ // Портал «Президент России». 20056. 5 мая. URL: http://
archive.kremlin.ru/appears/2005/05/05/2243_type63374type6337
7type63379_87570.shtml
Путин В. В. Выступление на Военном параде в честь 60-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне // Пор¬
тал «Президент России». 2005в. 9 мая. URL: httpV/archive.
kremlin.ru/appears/2005/05/09/1100_type63374type82634ty
ре 122 346_87819. shtml
Путин В. В. Выступление на приеме, посвящен¬
ном 60-й годовщине Великой Победы // Портал «Прези¬
дент России». 2005г. 9 мая. URL: http://archive.kremlin.ru/
appears/2005/05/09/1444_type63374type82634typel22346_
87849.shtml
198
Путин В. В. Выступление на торжественном приеме, по¬
священном Дню народного единства // Портал «Президент
России». 2005д. 4 ноября. URL: http://arcliive.kremlin.ru/
appears/2005/ll/04/1615_type82634typel22346_96690.shtml
Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Россий¬
ской Федерации // Портал «Президент России». 2006. 10 мая.
URL: http://archive.kremhn.ru/appears/2006/05/10/1357_type633
72type63374type82634_105546.shtml
Путин В. В. Выступление на военном параде в честь 62-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне // Пор¬
тал «Президент России». 2007. 9 мая. URL: httpV/archive.
kremlin.ru/appears/2007/05/09/1127_type63374type82634ty
ре122346_127658.shtml
Путин В. В. Выступление на расширенном заседании
Росударственного совета «О стратегии развития России до
2020 года» // Портал «Президент России». 2008. 8 февраля.
URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/24825
Путин В. В. Выступление на военном параде в ознамено¬
вание 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой¬
не // Портал «Президент России». 2012а. 9 мая. URL: http://
news.kremlin.ru/transcripts/15271
Путин В. В. Выступление на тожественном приеме в честь
67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне //
Портал «Президент России». 20126. 9 мая. URL: http://news.
kremlin.ru/transcripts/15272
Путин В. В. Ответы на вопросы членов Совета Федера¬
ции // Портал «Президент России». 2012в. 27 июня. URL:
http://www.kremlin.ru/transcripts/15781/work
Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Россий¬
ской Федерации // Портал «Президент России». 2012г. 12 де¬
кабря. URL: http://www.kremlin.ru/news/17118
Путин В. В. Выступление на заседании Совета по меж¬
национальным отношениям // Портал «Президент России».
2013а. 19 февраля. URL: http://www.kremlin.ru/news/17536
Путин В. В. Выступление на военном параде в ознамено¬
вание 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой¬
не // Портал «Президент России». 20136. 9 мая. URL: http://
kremlin.ru/transcripts/18089
199
Путин В. В. Выступление на торжественном приеме в
честь 68-й годовщины победы в Великой Отечественной вой¬
не // Портал «Президент России». 2013в. 9 мая. URL: http://
kremlin.ru/transcripts/180 92
Путин В. В. Послание Президента Федеральному Собра¬
нию // Портал «Президент России». 2013г. 12 декабря. URL:
http://www.kremlin.ni/news/l 9825
Путин В. В. Выступление на встрече с авторами концеп¬
ции нового учебника истории // Портал «Президент России».
2014а. 16 января. URL: http://www.kremlin.ru/news/20071
Путин В. В. Выступление на торжественном приеме в
честь 69-й годовщины победы в Великой Отечественной вой¬
не // Портал «Президент России». 20146. 8 мая. URL: http://
www.kremlin.ru/transcripts/20988
Путин В. В. Выступление на военном параде в ознамено¬
вание 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой¬
не // Портал «Президент России». 2014в. 9 мая. URL: http://
www.kremlin.ru/transcripts/20989
Путин В. В. Выступление на военно-морском параде //
Портал «Президент России». 2014г. 9 мая. URL: http://www.
kremlin.ru/transcripts/20992
Путин В. В. Выступление на открытии памятника геро¬
ям Первой мировой войны // Портал «Президент России».
2014д. 1 августа. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/46385
Путин В. В. Выступление на встрече с молодыми учены¬
ми и преподавателями истории // Портал «Президент России».
2014е. 4 ноября. URL: http://www.kremlin.ru/news/46951
Путин В. В. Послание Президента Федеральному Собра¬
нию // Портал «Президент России». 2014ж. 4 декабря. URL:
http://kremlin.ru/news/47173
Революция: вчера, сегодня... завтра?! // Сайт ВЦИОМ.
Пресс-выпуск № 2158. Опубликовано 06.11.2012. URL: http://
wciom.m/index.php?id=45 9&uid= 113319
Розенталь Э. «Божий бич, приветствуем тебя!» Была ли
Октябрьская революция великой? // Независимая газета. 1998.
№ 208 (1779). 6 ноября. С. 3.
Россия сегодня: реальный шанс // Обозреватель -
Observer. М., 1994. №21-24. С. 29^179.
200
Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор
современных теорий наций и национализма. М.: Праксис,
2004.
Собчак А. А. Мы начинали реформы, не рассчитывая на
аплодисменты // Российская газета. 1996. № 95. 2 мая.
Согрин В. Российская политическая элита и американский
опыт // Общественные науки и современность. 2008. № 1.
С. 81-91.
Соколов М. Бей, барабан, и военная флейта громко сви¬
сти на манер снегиря // Коммерсантъ-Daily. 1996. № 206.
30 ноября.
Соколова М., Яковлева Е. Прибавление смуты. Что мы бу¬
дем праздновать 4 ноября // Российская газета (Федеральный
выпуск). 2004. № 3621.4 ноября.
Справка о нерабочих праздничных днях, профессиональ¬
ных праздниках и памятных датах (подготовлено эксперта¬
ми компании «Гарант»), URL: http://base.garant.ra/4029129
#block_lll
Сурков В. Ю. Национализация будущего [параграфы pro
суверенную демократию] // Суверенная демократия: От идеи
к доктрине. М.: Европа, 2006. С. 27^14.
Сурков В. Ю. Суверенитет - это политический синоним
конкурентоспособности. Стенограмма выступления замести¬
теля Руководителя Администрации Президента РФ перед слу¬
шателями Центра партийной учебы и подготовки кадров ВПП
«Единая Россия» // PRO суверенную демократию. М.: Европа,
2007. С. 33-61.
Сталинград - государственная идея России. Декларация
Изборского клуба // Завтра. 2013. № 46 (1043). 14 ноября.
URL: http://zavtra.ra/content/view/stalingrad-gosudarstvennaya-
idey a-ro ssii-2/
Старцев Я. Ю. Политическая система в зеркале дискур¬
са: опыт реконструкции логики президентских посланий //
ПОЛИТЭКС. 2007. № 1. URL: http://www.politex.info/content/
view/321/30/
Тарасов А. Ты за какой Октябрь? // Дом и Отечество. 1997.
№ 38 (76). 1-7 ноября. С. I, III.
201
Торбаков И. Б. «Непредсказуемое» или «неопределенное»
прошлое? Международные отношения и российская истори¬
ческая политика // Символическая политика. Выл. 1: Констру¬
ирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.:
ИНИОН РАН, 2012. С. 91-125.
Третьяков В. Уроки Октябрьского (1917) и августовского
(1991) переворотов // Независимая газета. 1991. № 140. 7 но¬
ября. С. 1.
Третьяков В. 1917, 1937, 1957, 2007, 2017 // Московские
новости. 2007. № 43. 2 ноября. С. 3.
Тукмаков Д. Красный рай // Завтра. 2007. № 45 (729).
7 ноября.
Тучкова А. Примирение и согласие не только для левых //
Независимая газета. 2001. № 208 (2518). 6 ноября. URL: http://
www.ng.ru/events/2001-ll-06/6_november.html
Указ Президента Российской Федерации о Знамени Побе¬
ды // Российская газета. 1996. № 73. 17 апреля.
Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта
1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах
России» (с изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ.
URL: http://base.garant.ra/1518352/#ixzz38 YvyM4Ii
Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая
2014 г. № 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако¬
нодательные акты Российской Федерации» // Российская га¬
зета. 2014. Федеральный выпуск № 6373. 7 мая. URL: http://
www.rg.ru/2014/05/07/reabilitacia-dok.html
Феретги М. Обретенная идентичность. Новая «офици¬
альная история путинской России» // Неприкосновенный за¬
пас. 2004. № 4 (36). URL: http://magazines.russ.ni/nz/2004/4/
fell.html
Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Не¬
прикосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41). С. 8-27. URL:
http://magazines .russ.ru/nz/2005/2/ha2. html
Чубарьян А. О. Как школьные учебники переведут в
новый стандарт? Интервью с А. Чубарьяном // Сайт га¬
зеты «Коммерсантъ». 2013. 31 октября. URL: http://www.
kommersant.ru/doc/2332034
202
Шмелев Н. Авансы и долги // Новый мир. 1987. № 6.
С. 142-158.
Яковлев А. Н. Если большевизм не сдается // Российская
газета. 1996. № 199. 17 октября.
Янаев Е. Антисоветский митинг демократов // Коммер¬
сантъ. 1992. № 117. 27 апреля.
21 сентября в Доме российской прессы состоялась пресс-
конференция членов парламентской фракции «Коалиция ре¬
форм» //Известия. 1993. № 180. 22 сентября.
90 лет Октябрьскому перевороту // Независимая газета.
2007. № 237 (4199). 7 ноября. С. 2.
Art D. The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria.
Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Ash T. G. Trials, purges and history lessons: treating a
difficult past in post-communist Europe // Memory and Power
in Post-War Europe. Studies in the Presence of the Past / ed. by
J.-W. Muller. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press,
2004. P. 265-282.
Assmann A. four Formats of Memory: From Individual to
Collective Constructions of the Past // Cultural Memory and
Historical Consciousness in the German-Speaking World Since
1500 / ed. by C. Emden, D. Midgley. Frankfurt: Peter Lang, 2004.
P. 19-37.
Bell D. S.A. Mythscapes: memory, mythology, and national
identity // British Journal of Sociology. 2003. Vol. 54, № 1.
P.63-81.
Boyd С. P. The Politics of History and Memory in Democratic
Spain // The Annals of the American Academy of Political and
Social Science. 2008. № 617. P. 133-148.
Coakley J. Mobilizing the past: Nationalist images of history //
Nationalism and Ethnic Politics. 2007. Vol. 10, № 4. P. 531-560.
Confino A. Collective memory and cultural history: Problems
of method // American Historical Review. 1997. Vol. 105, № 5.
P. 1386-1412.
Fiimemore M., Sikkink K. International Norms Dynamics and
Political Change // International Organization. 1998. Vol. 52, № 4.
P. 887-917.
203
Gill G. Symbols and Legitimacy in Soviet Politics.
Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Gill G. Symbolism and Regime Change in Russia. Cambridge:
Cambridge university Press, 2013.
Halbwachs M. On Collective Memory / ed., transl. and with
an introd. by L. A. Coser. Chicago: University of Chicago Press,
1992.
Heer N. W. Politics and History in the Soviet Union.
Cambridge, Mass.; London: The MIT Press, 1971.
Heisler M. O. The political currency of the past: History,
memory, and identity // The Annals of the American Academy of
Political and Social Science. 2008. Vol. 617, № 1. P. 14-24.
Irwin-Zarecka I. Frames of Remembrance. The Dynamics of
Collective Memory. New Brunswick etc.: Transaction Publishers,
1994.
Joesalu K. The Role of the Soviet past in post-Soviet memory
politics through examples of speeches from Estonian presidents //
Europe-Asia Studies. 2012. Vol. 64, № 6. P. 1007-1032.
Judt T. The past is another country: myth and memory in post¬
war Europe // Memory and Power in Post-War Europe. Studies in
the Presence of the Past / ed. by J.-W. Muller. 2nd ed. Cambridge:
Cambridge University Press, 2004. P. 157-183.
Kalinin I. Nostalgic Modernization: the Soviet Past as
‘Historical Horizon’ // Slavonica. 2011. Vol. 17, № 2. P. 156-166.
Kangaspuro M. The Victory day in history politics // Between
utopia and apocalypse. Essays on social theory and Russia / ed. by
E. Kahla. Jyvaskyla: Bookwell, 2011. P. 292-304.
Kaplan V. The Vicissitudes of Socialism in Russian History
Textbooks // History and Memory. 2009. Vol. 21, № 2. P. 83-109.
Karlsson K.-G. The Uses of History and the Third Wave of
Europeanization // A European Memory? Contested History and
Politics of Remembrance / ed. by M. Parker, B. Strath. N. Y.; etc.:
Berghahen books, 2010. P. 38-55.
Kattago S. Agreeing to disagree on the legacies of recent
history. Memory, pluralism and Europe after 1989 // European
Journal of Social Theory. 2009. Vol. 12, N2 3. P. 375-395.
Langenbacher E. Collective Memory as a Factor in Political
Culture and International Relations // Power and the Past.
204
Collective Memory and International Relations / ed. by
E. Langenbacher, Y. Shain. Washington: George Town University
Press, 2010 P. 13^49.
Laraelle M. Public memories, or public memory?
Discussing the Kremlin’s attempts to fight against a pluralism of
remembrance in Russia. Paper presented at the Association for the
Study of Nationalities 2012 World Convention, New York, April,
19-21,2012.
Maiorova O. From the Shadow of Empire. Defining the
Russian Nation through Cultural Mythology, 1855-1870.
Madison: University of Wisconsin Press, 2010.
Malksoo M. The Memory Politics of Becoming European:
The East European Subalterns and the Collective Memory of
Europe // European Journal of International Relations. 2009.
Vol. 15, № 4. P. 653-680.
Mink G. Between Reconciliation and the Reactivation of Past
Conflicts in Europe: Rethinking Social Memory Paradigms //
Czech Sociological Review. 2008. Vol. 44, № 3. P. 469^190.
Mink G., Neumayer L. Introduction // History, Memory and
Politics in Central and Eastern Europe: Memory Games / ed. by
G. Mink, L. Neumayer. Basingstoke etc.: Palgrave Macmillan,
2013. P. 1-20.
Mock S. Symbols of Defeat in the Construction of National
Identity. N. Y, etc.: Cambridge University Press, 2012.
Merridale C. Redesigning History in Contemporary Russia //
Journal of Contemporary History. 2003. Vol. 38, № 1. P. 13-28.
Muller J.-W. Introduction: the power of memory, the memory
of power and the power over memory // Memory and Power in
Post-War Europe. Studies in the Presence of the Past / ed. by
J.-W. Muller. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press,
2004. P. 1-35.
Nora P. General Introduction: Between Memory and History //
Realms of Memory. Rethinking the French Past. Vol. 1. Conflicts
and Divisions / under the Direction of P. Nora; Transl. by
A. Goldhammer. New York: Columbia University Press, 1996.
P. 1-23.
Olick J. Collective Memory: Two Cultures // Sociological
Theory. 1999. Vol. 17, JM° 3. P. 333-348.
205
Onken E.-C. The Baltic States and Moscow’s 9 May
Commemoration: Analyzing Memory Politics in Europe //
Europe-Asia Studies. 2007. Vol. 59, № 1. P. 23^16.
Onken E.-C. Memory and Democratic Pluralism in the
Baltic States - Rethinking the Relationship // Journal of Baltic
Studies. 2010. Vol. 41, № 3. R 277-294.
Rousso El. The Vichy Syndrome. History and Memory in
France since 1944 / transl. by Arthur Goldhanmier. Cambridge
(Mas.); London: Harvard University Press, 1991.
Schopflin G. The Functions of Myth and a Taxonomy of
Myths // Myths and Nationhood / ed. by G. Hosking, G. Schopflin.
New York: Routledge etc., 1997. P. 19-35.
Shevel O. The Politics of Memory in a Divided Society: A
Comparison of Post-Franco Spain and Post-Soviet Ukraine //
Slavic Review. 2011. Vol. 70, № 1. P. 137-164.
Simon A., Xenos M. Media Framing and Effective Public
Deliberation // Political Communication. 2000. Vol. 17.
P. 363-376.
Smith A. Myths and memories of the nation. Oxford: Oxford
University Press, 1999.
Smith К. E. Mythmaking in the New Russia. Politics
and Memory during the Yeltsin Era. Ithaca; London: Cornell
University Press, 2002.
Snyder T. Memory of sovereignty and sovereignty over
memory: Poland, Lithuania and Ukraine, 1939-1999 // Memory
and Power in Post-War Europe. Studies in the Presence of the
Past / ed. by J.-W. Muller. 2nd ed. Cambridge: Cambridge
University Press, 2004. P. 36-58.
Somers M. R. The Narrative Constitution of Identity: a
Relational and Network Approach // Theory and Society. 1994.
Vol. 23, № 5. P. 605-649.
Strath B. Ideology and History // Journal of Political
Ideologies. 2006. Vol. 11, № 1. P. 23^12.
The Politics of Memory and Democratization: Transitional
Justice in Democratizing Societies / ed. by A. B. de Brito et al.
Oxford: Oxford University Press, 2001.
206
Topolski J. The Role of Logic and Aesthetic in Constructing
Narrative Wholes in Historiography // History and Theory. 1999.
Vol. 38, № 2. R 198-210.
Torsti R Why do history politics matter? The case of the
Estonian Bronze Soldier // The Cold War and Politics of History /
ed. by J. Aunesluoma, P. Kettunen. Helsinki: Edita Publishing
Ltd., 2008. P. 19-35.
Tumarkin N. The living & the dead: the rise and fall of the cult
of World War П in Russia. New York, N. Y: Basic books, 1994.
Urban M. Remythologizing the Russian State // Europe-Asia
Studies. 1998. Vol. 50, № 6. P. 969-992.
Vazquez Linan M. Modernization and Historical Memory
in Russia. Two Sides of the Same Coin // Problems of Post-
Communism. 2012. Vol. 59. № 6. P. 15-26.
Vike-Freiberga V. Rights and Remembrance // The
Washington Post. 2005. May 7. URL: http://www.washingtonpost.
com/wp-dyn/content/article/2005/05/06/AR2005050601217.html
Wertsch J. V. Voices of Collective Remembering. Cambridge:
Cambridge University Press, 2002.
Wertsch J. V. Blank Spots in Collective Memory: A Case
Study of Russia // The Armais of the American Academy of
Political and Social Science. 2008. № 617. P. 58-71.
Winter J. Historical Remembrance in the Twenty-First
Century // The Armais of the American Academy of Political and
Social Science. 2008. № 617. P. 6-13.
Wodak R., De Cillia R. Commemorating the past: the
discursive construction of official narratives about ‘Rebirth of
Second Austrian Republic’ // Discourse & Communication. 2007.
Vol. 1, № 3. P. 337-363.
Zakosek N. The Heavy Burden of History: Political Uses of
the Past in the Yugoslav Successor States // Politicka misao. 2007.
Vol. XLIV, № 5. P. 29^13.
Научное издание
Россия. В поисках себя...
Малинова Ольга Юрьевна
Актуальное прошлое
Символическая политика властвующей
элиты и дилеммы российской идентичности
Ведущий редактор Н. А. Волыпчик
Редактор Е. Д. Щепалова
Художественный редактор А. К. Сорокин
Технический редактор М. М. Ветрова
Компьютерная верстка Т. Т. Богданова
Корректор Е. Л. Бородина
Л.Р. № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 00.00.2015
Формат 70 100 / 32. Печать офсетная. Уел. печ. л. 6,5.
Тираж 00 экз. Заказ
Издательство «Политическая энциклопедия»
127018, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1
Тел.: 8(499) 685-15-75 (общий, факс),
8(499)709-72-95 (отдел реализации)