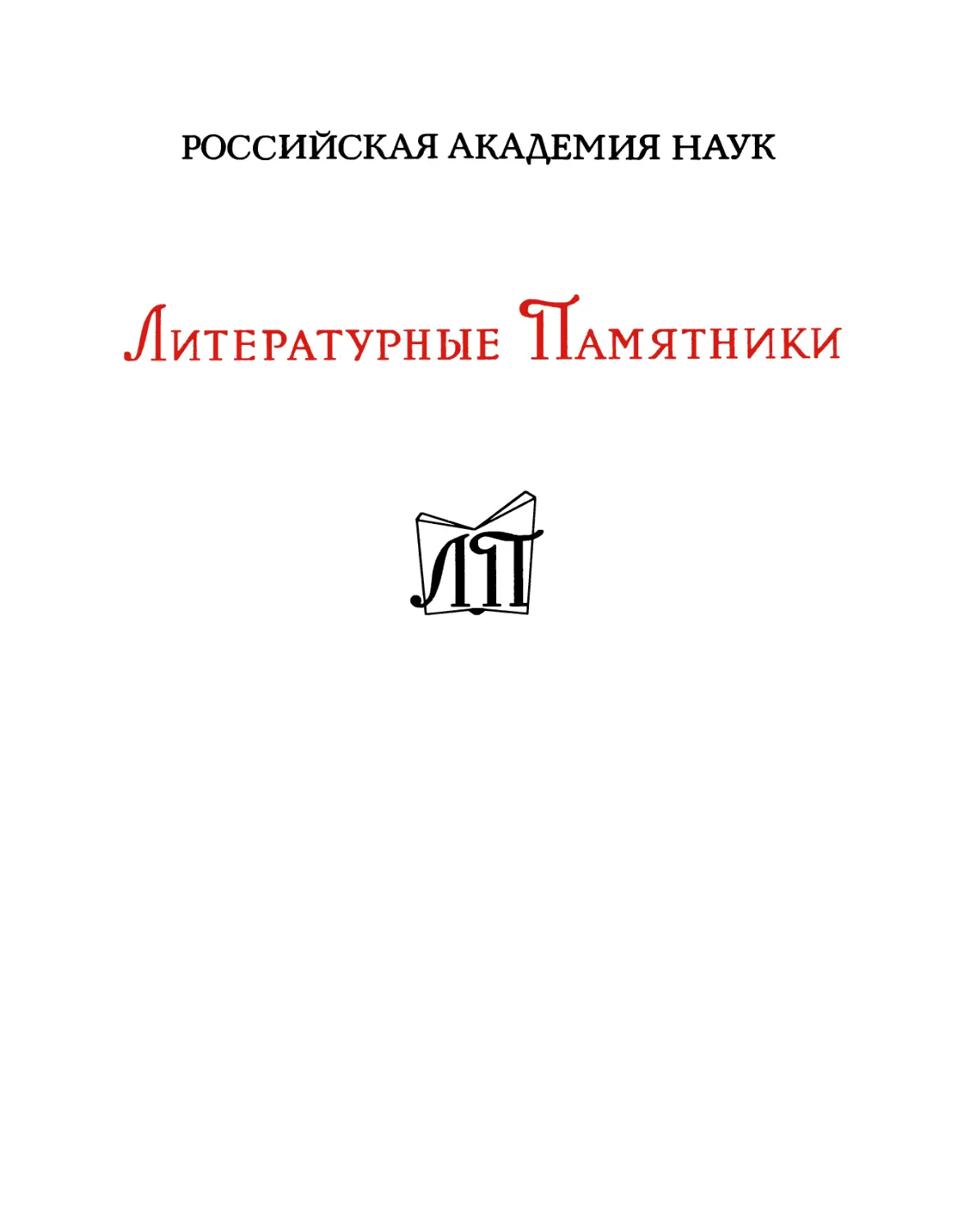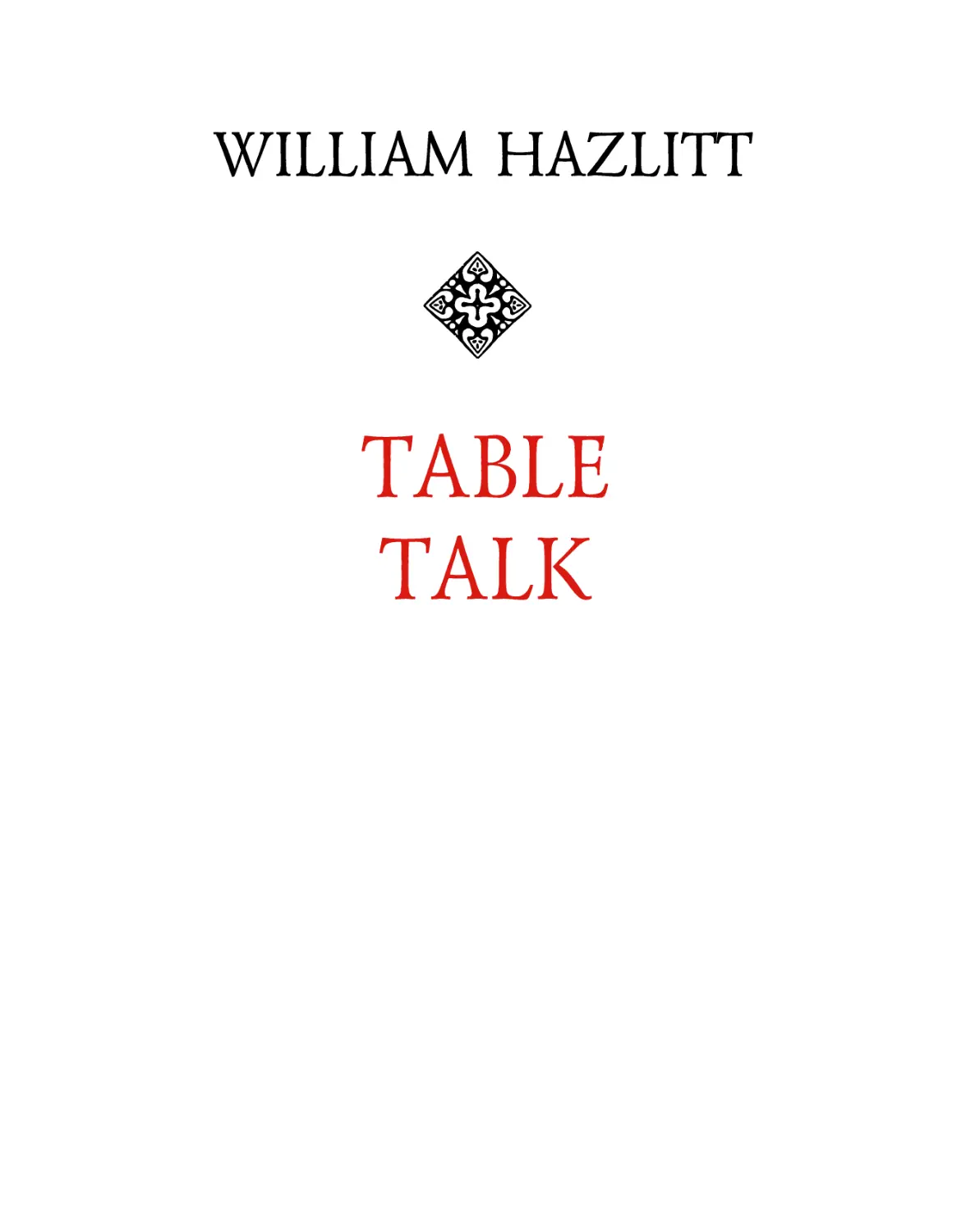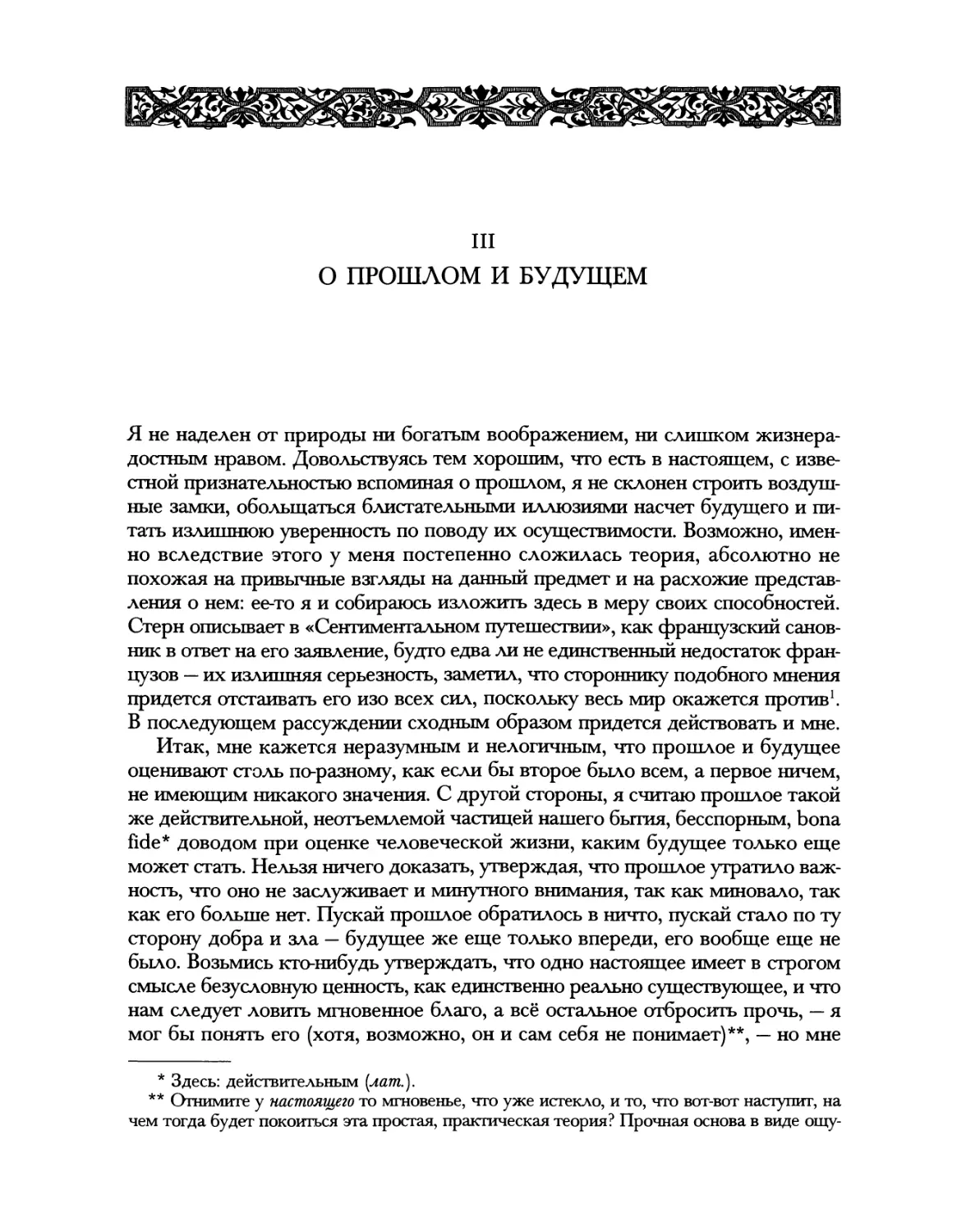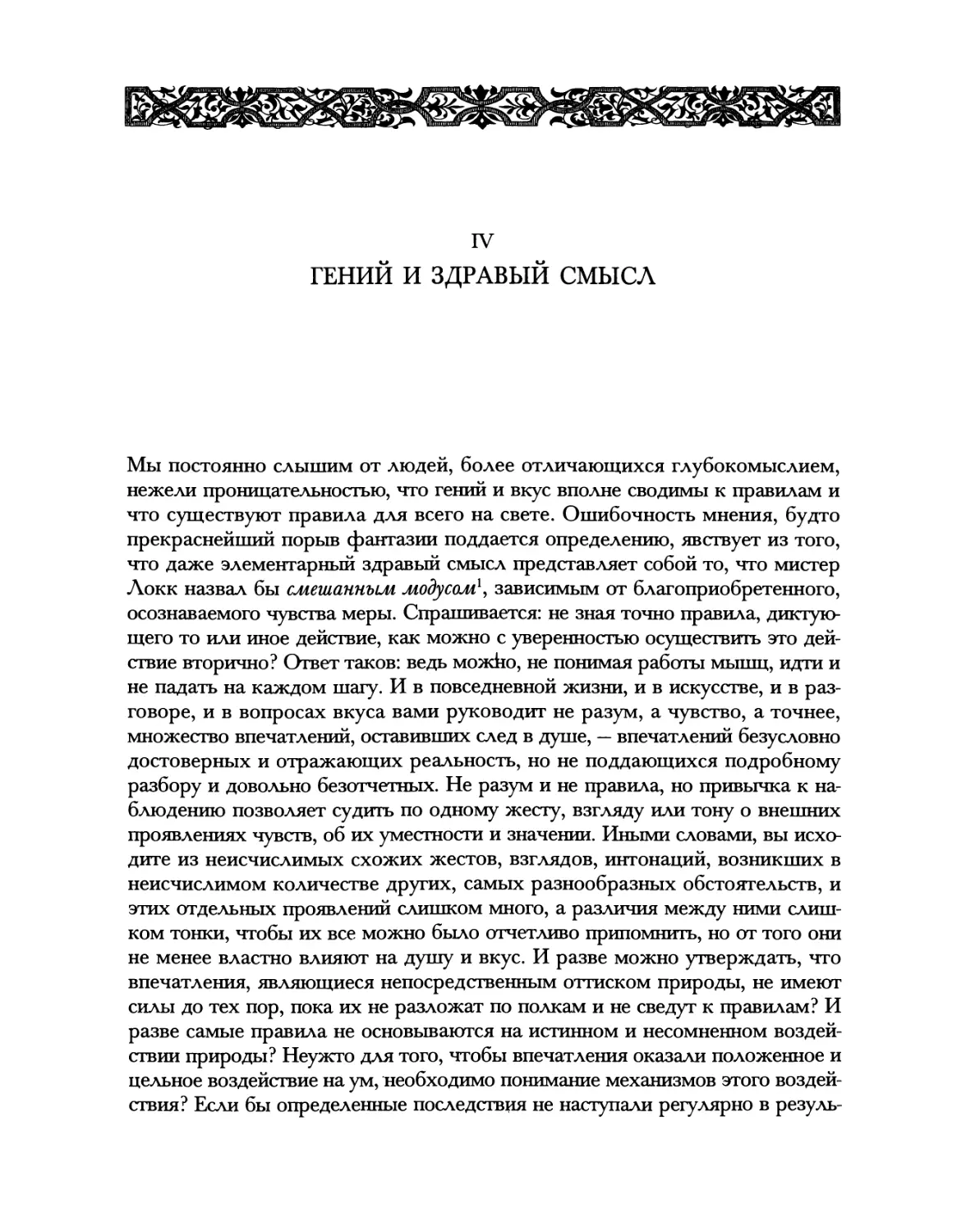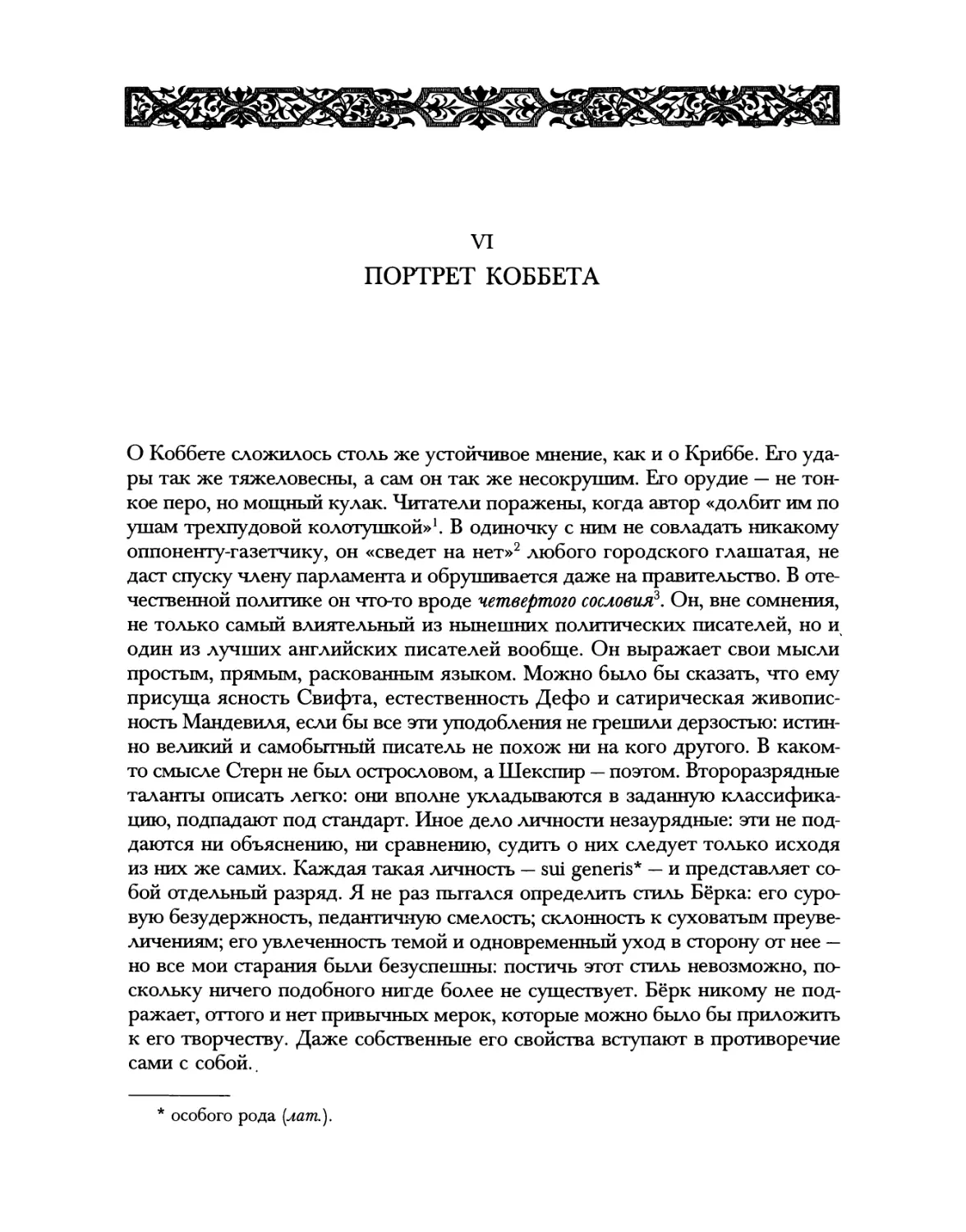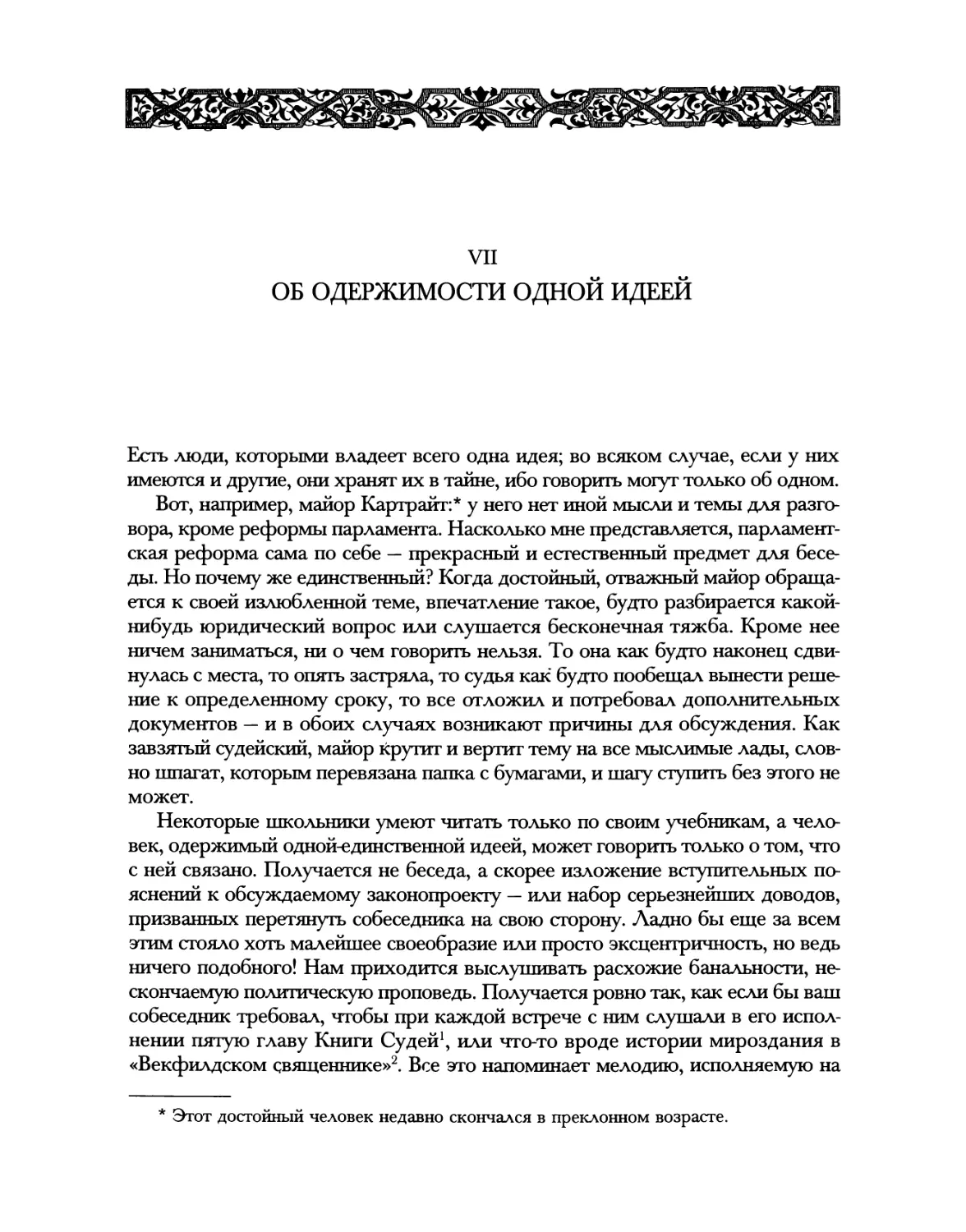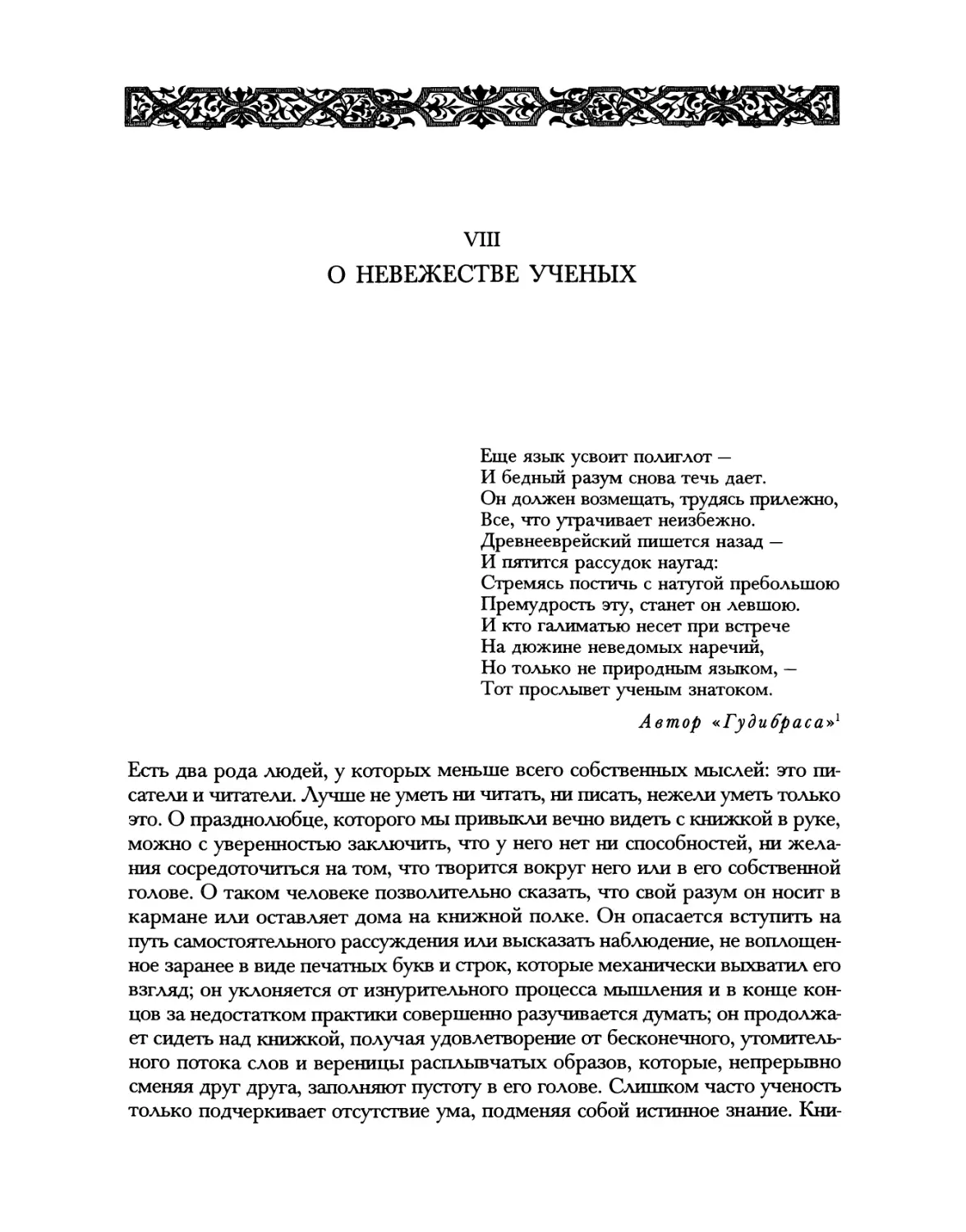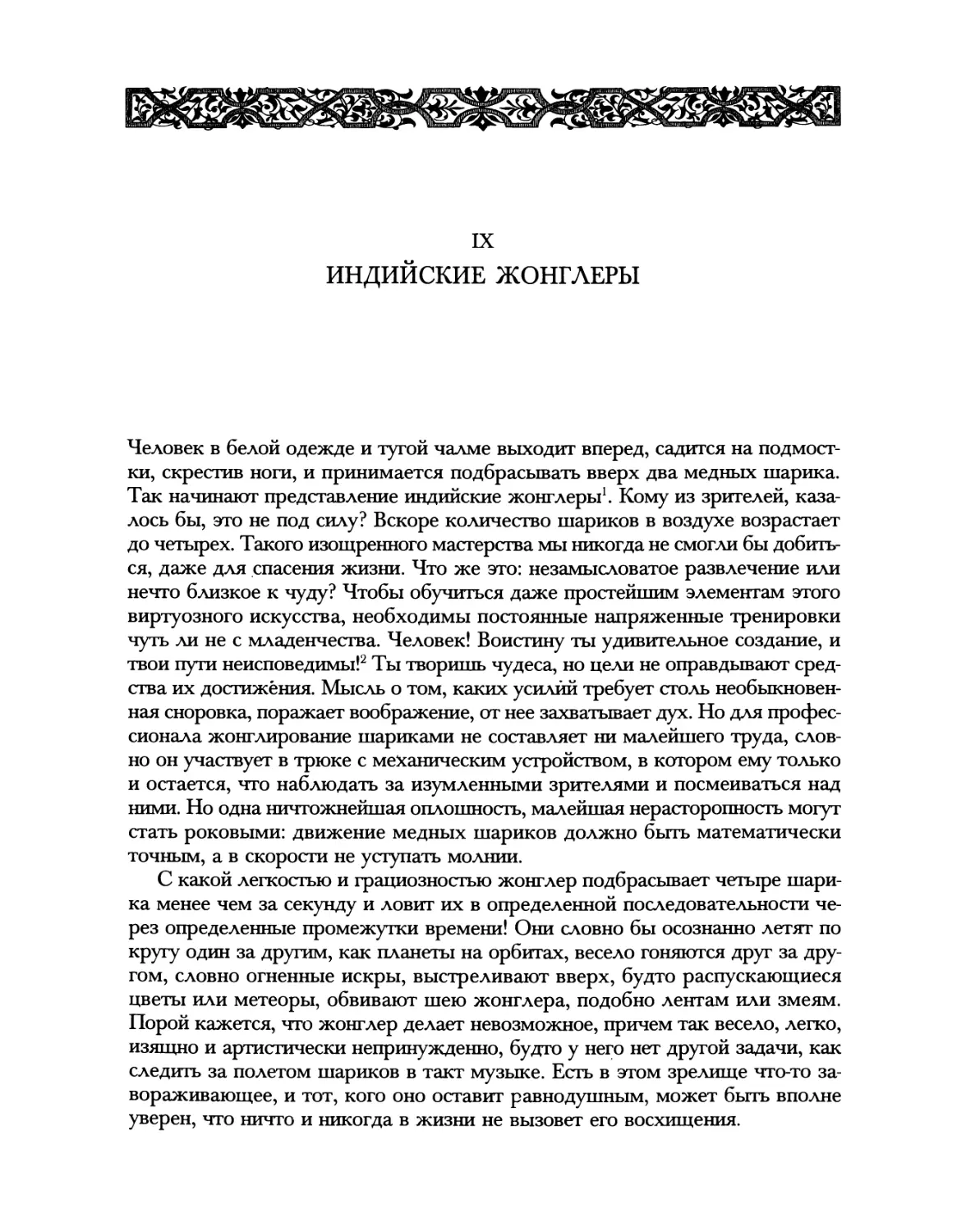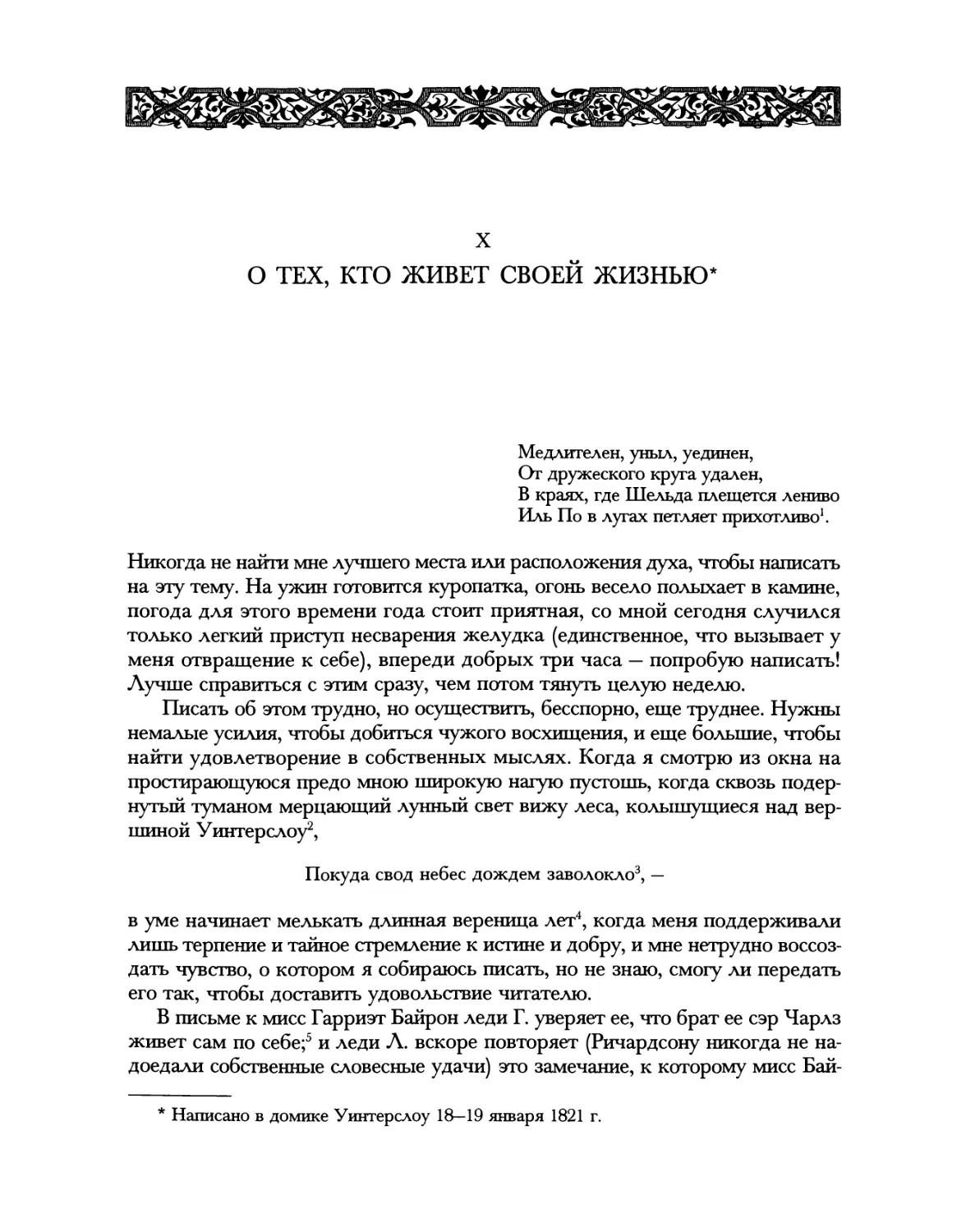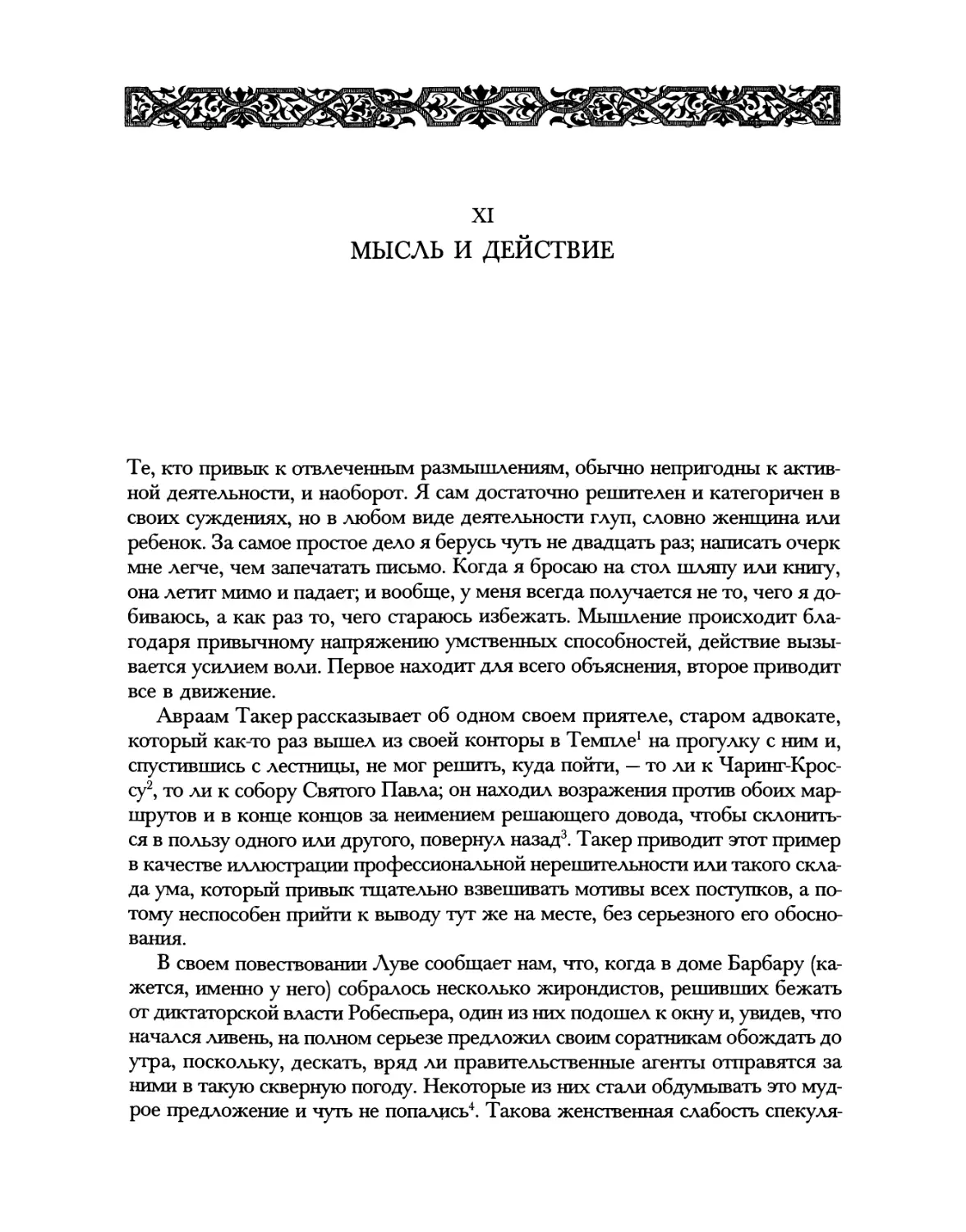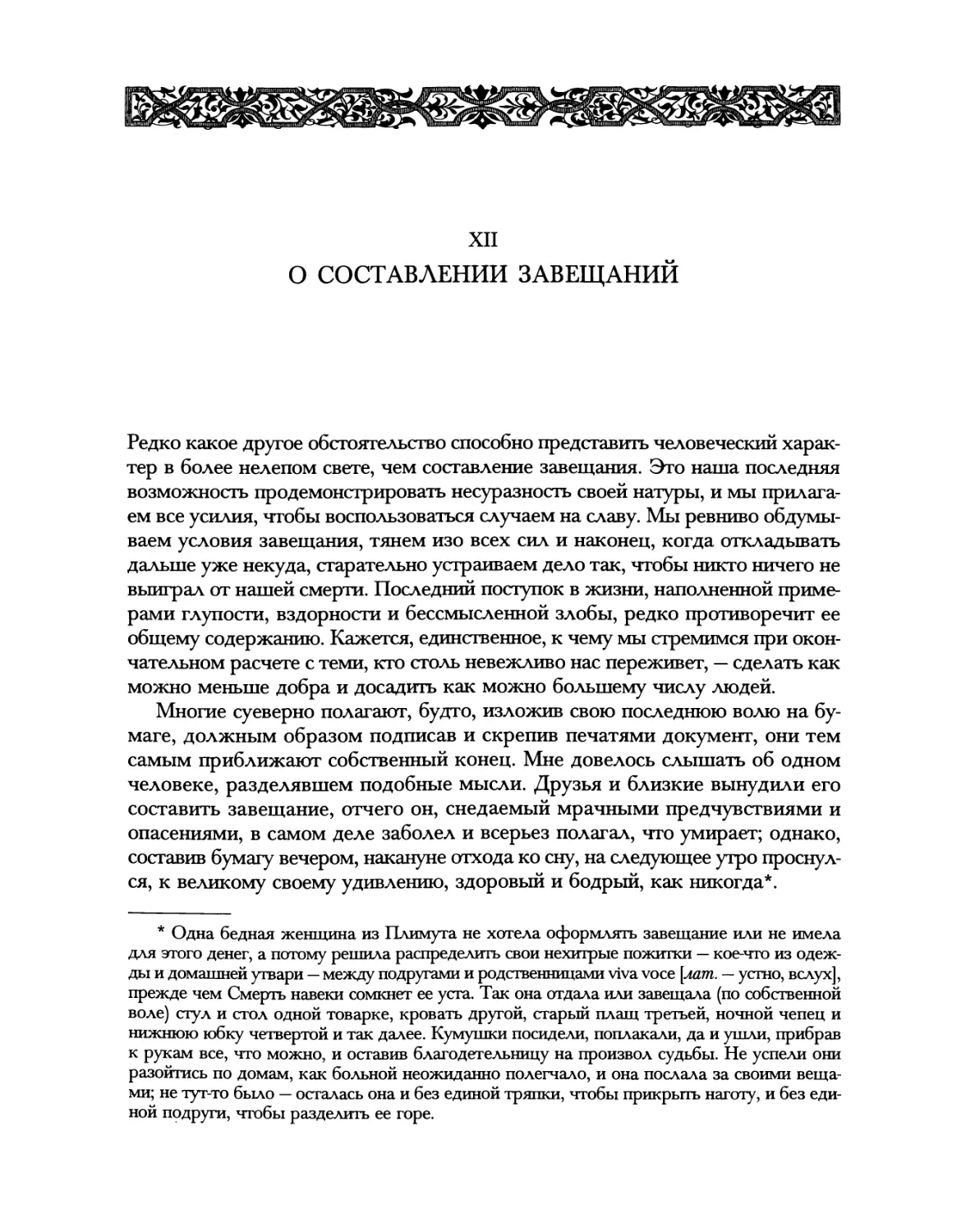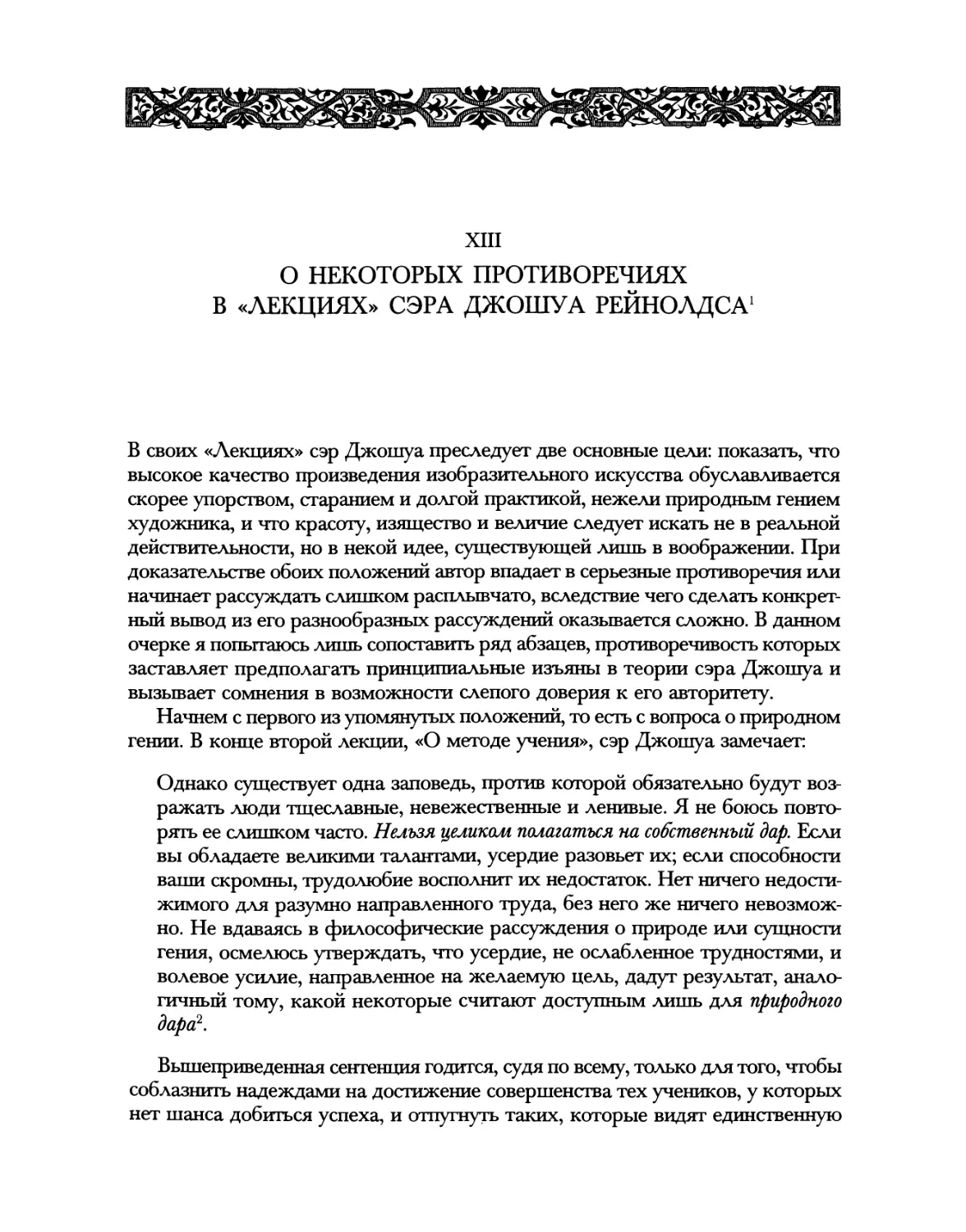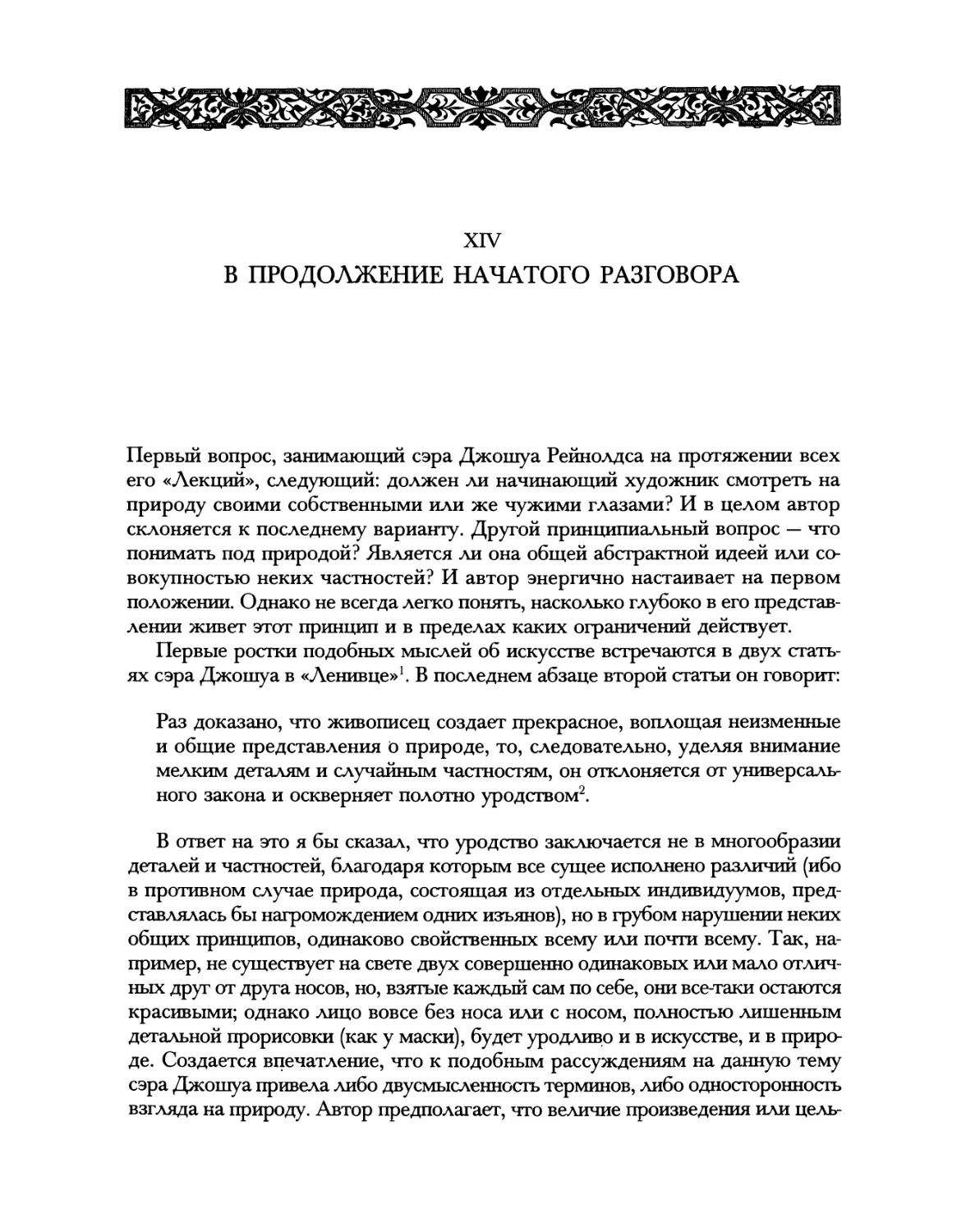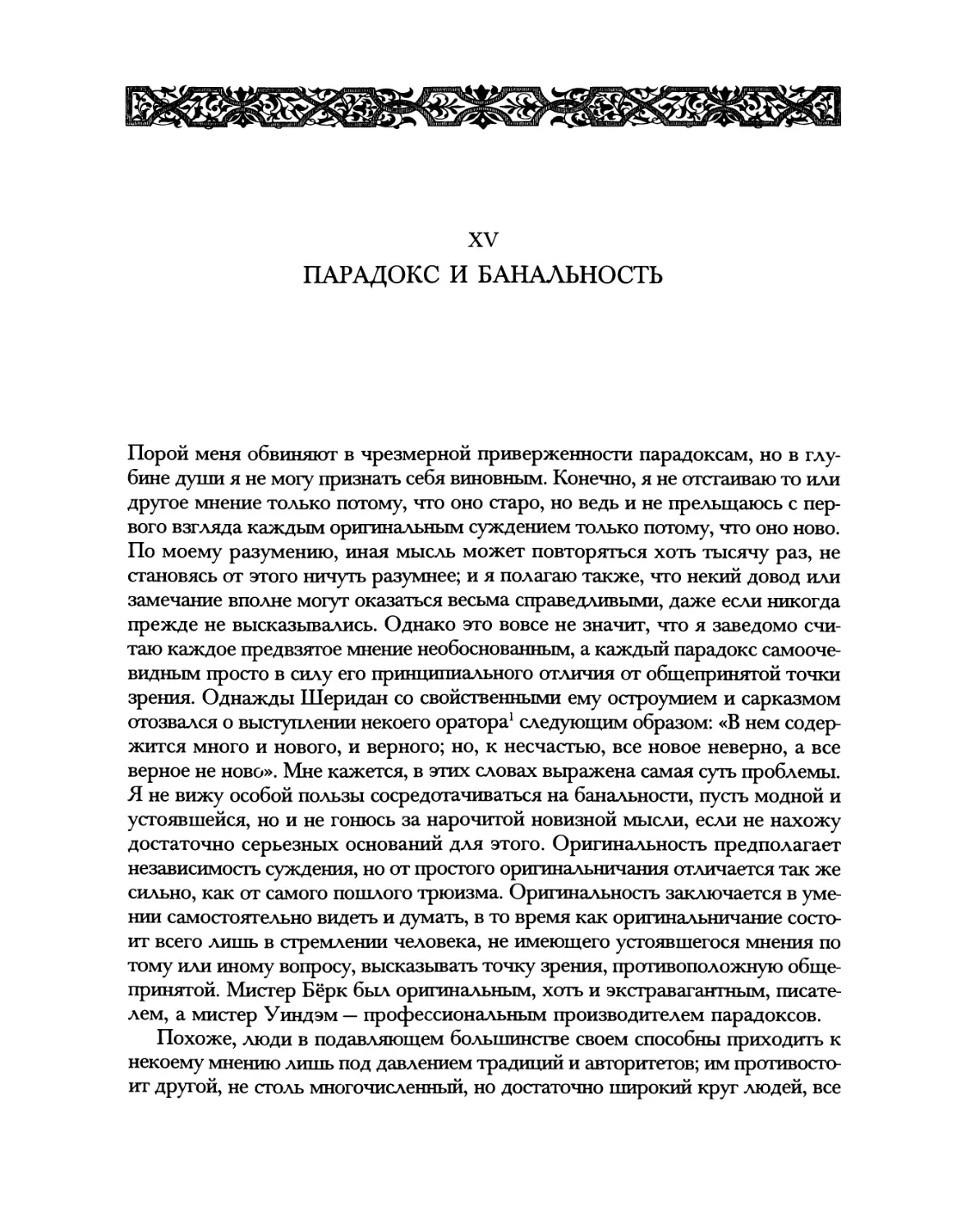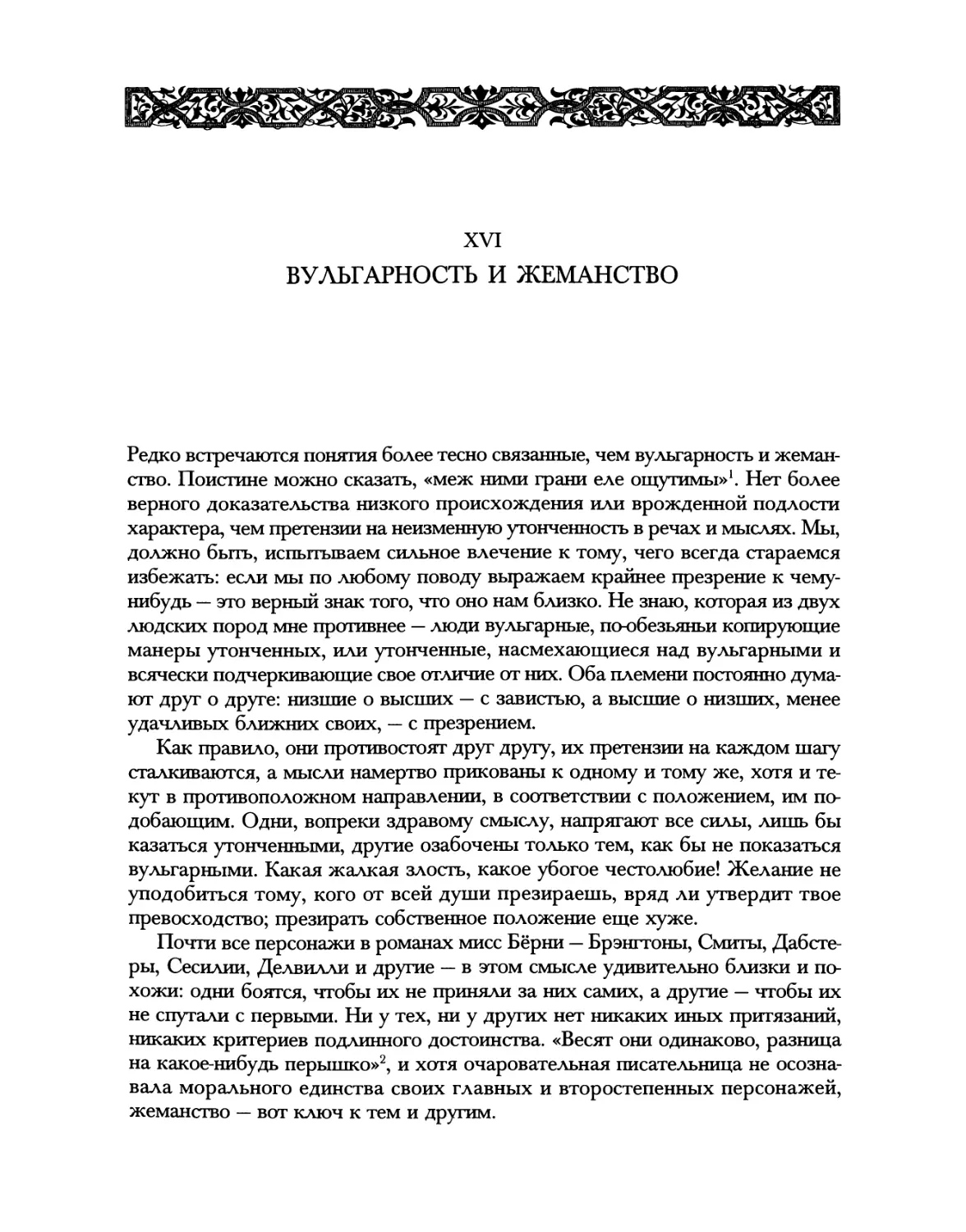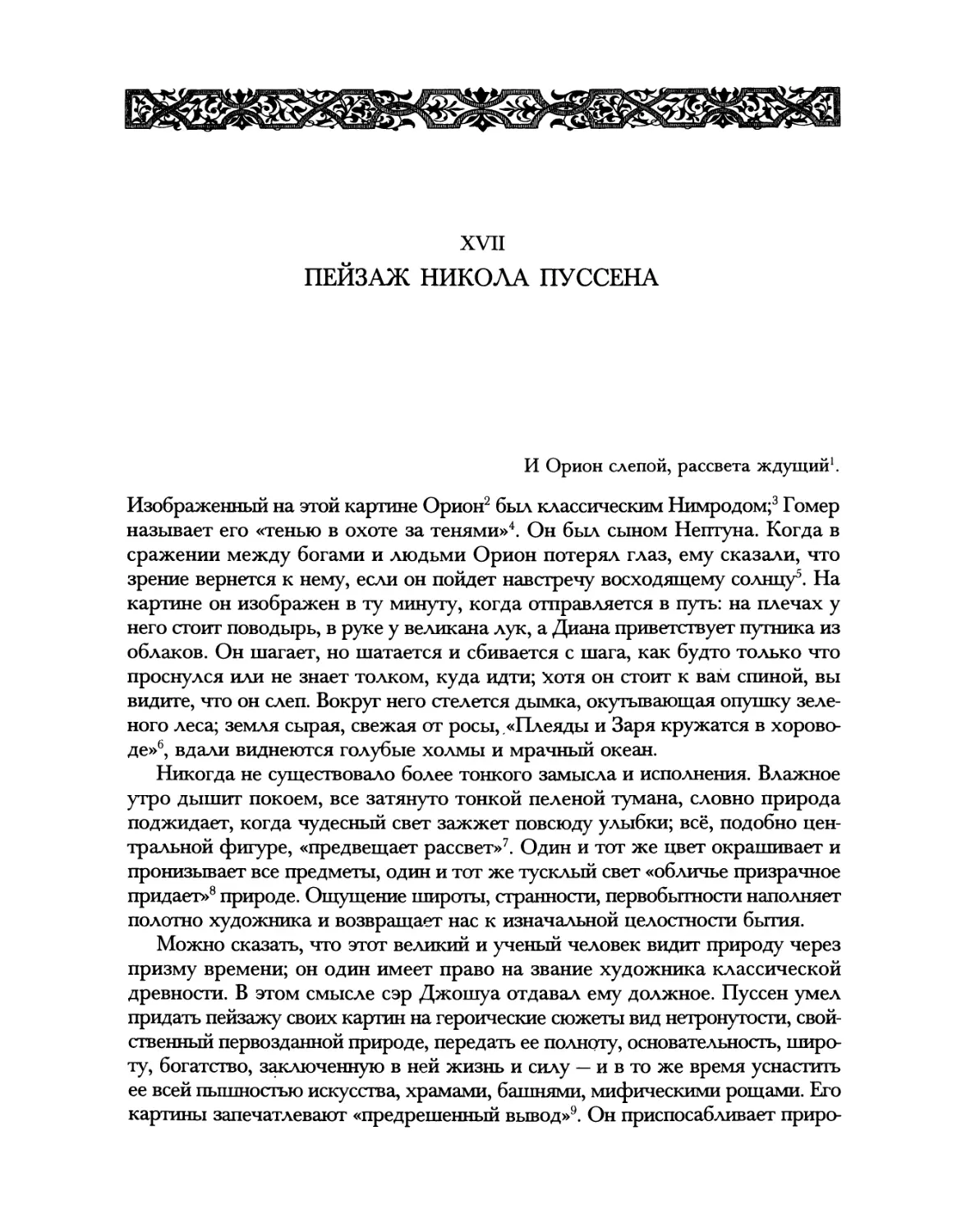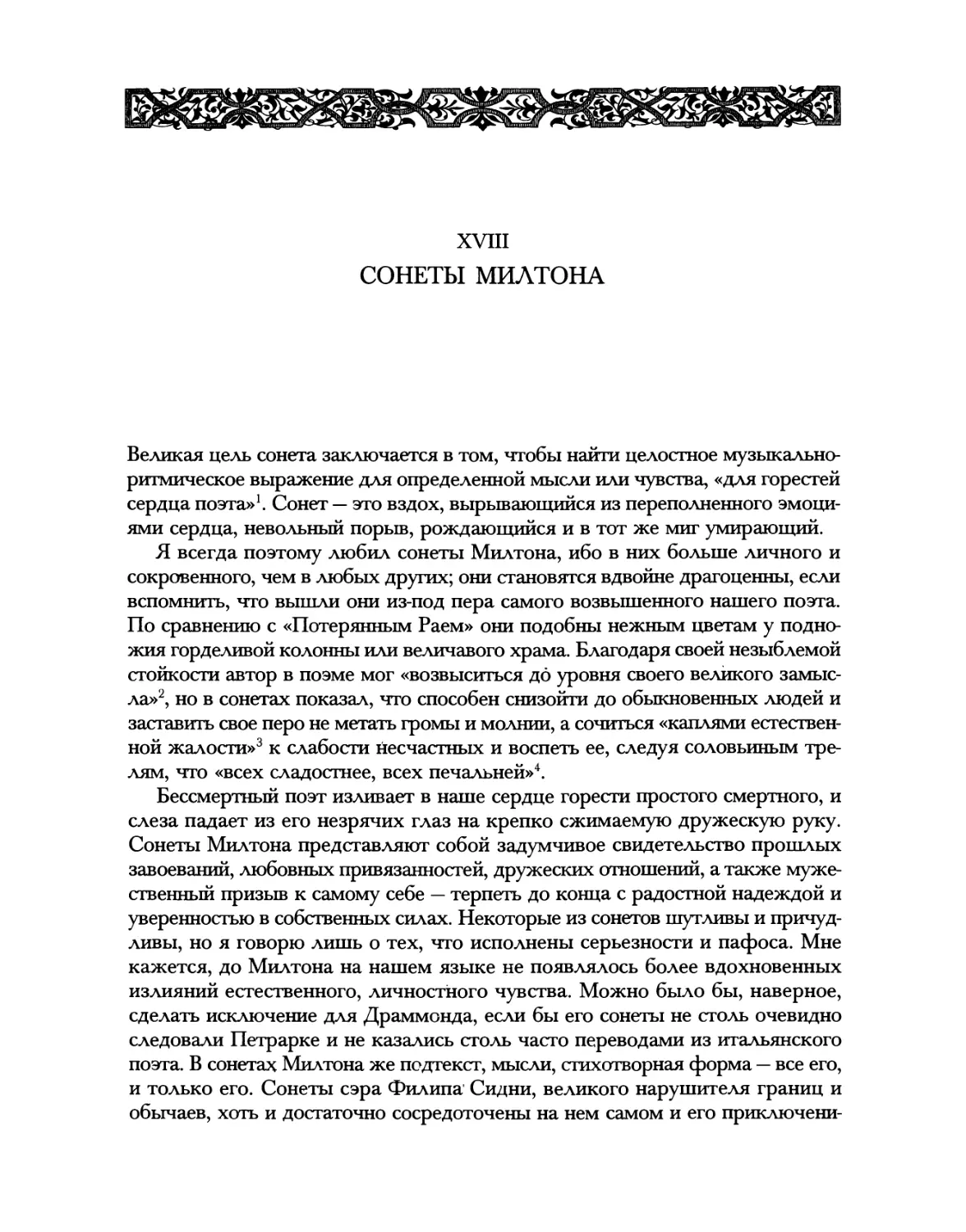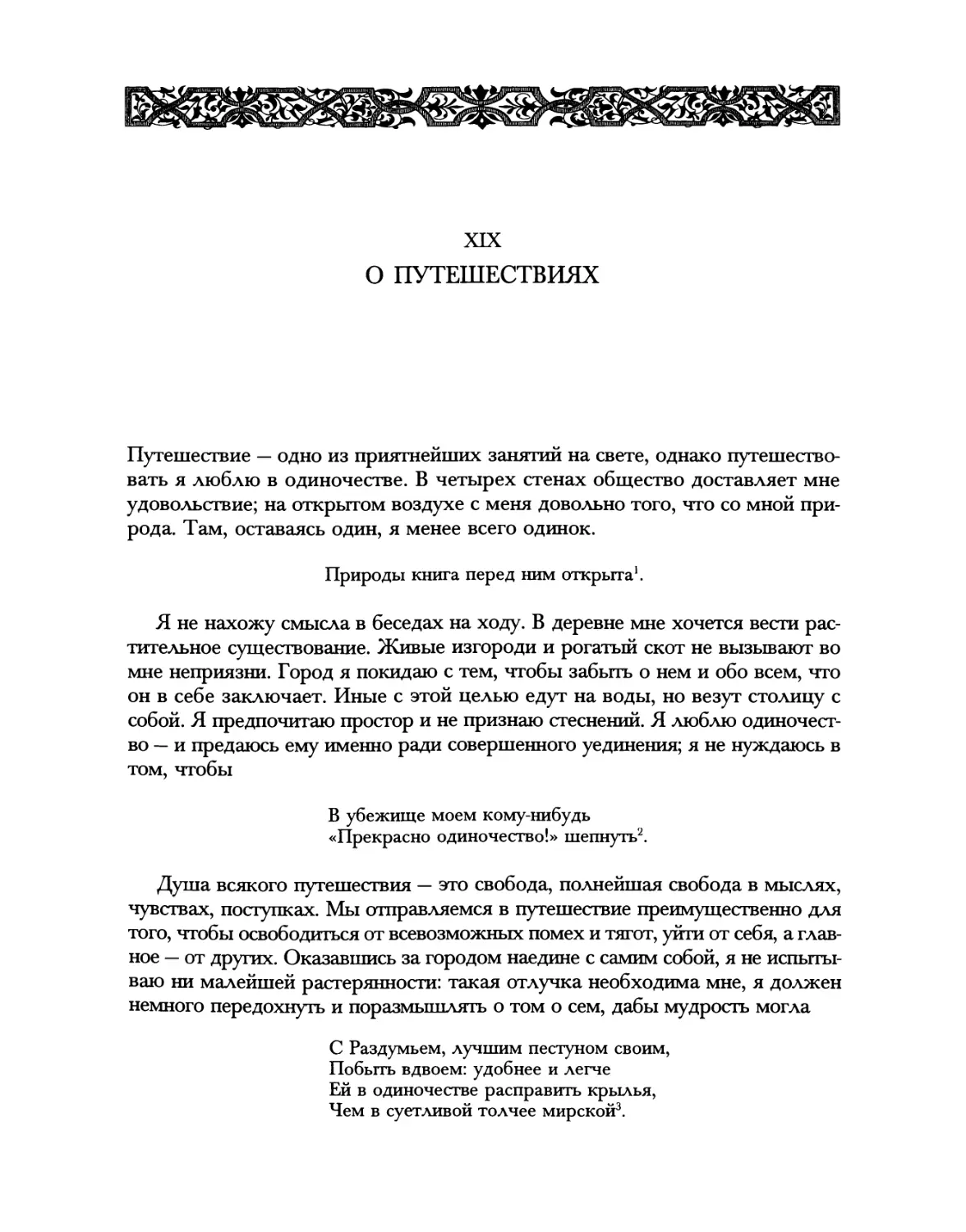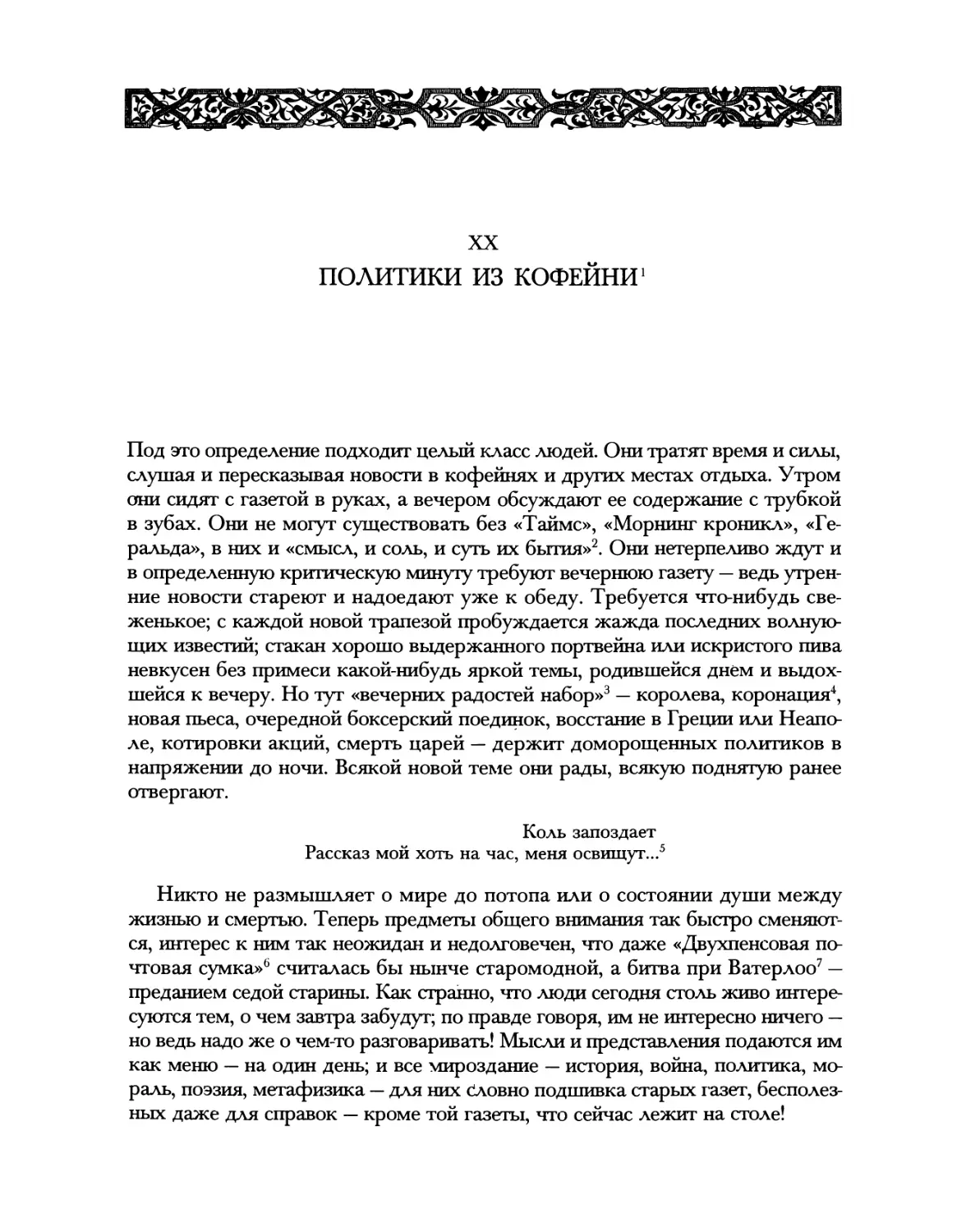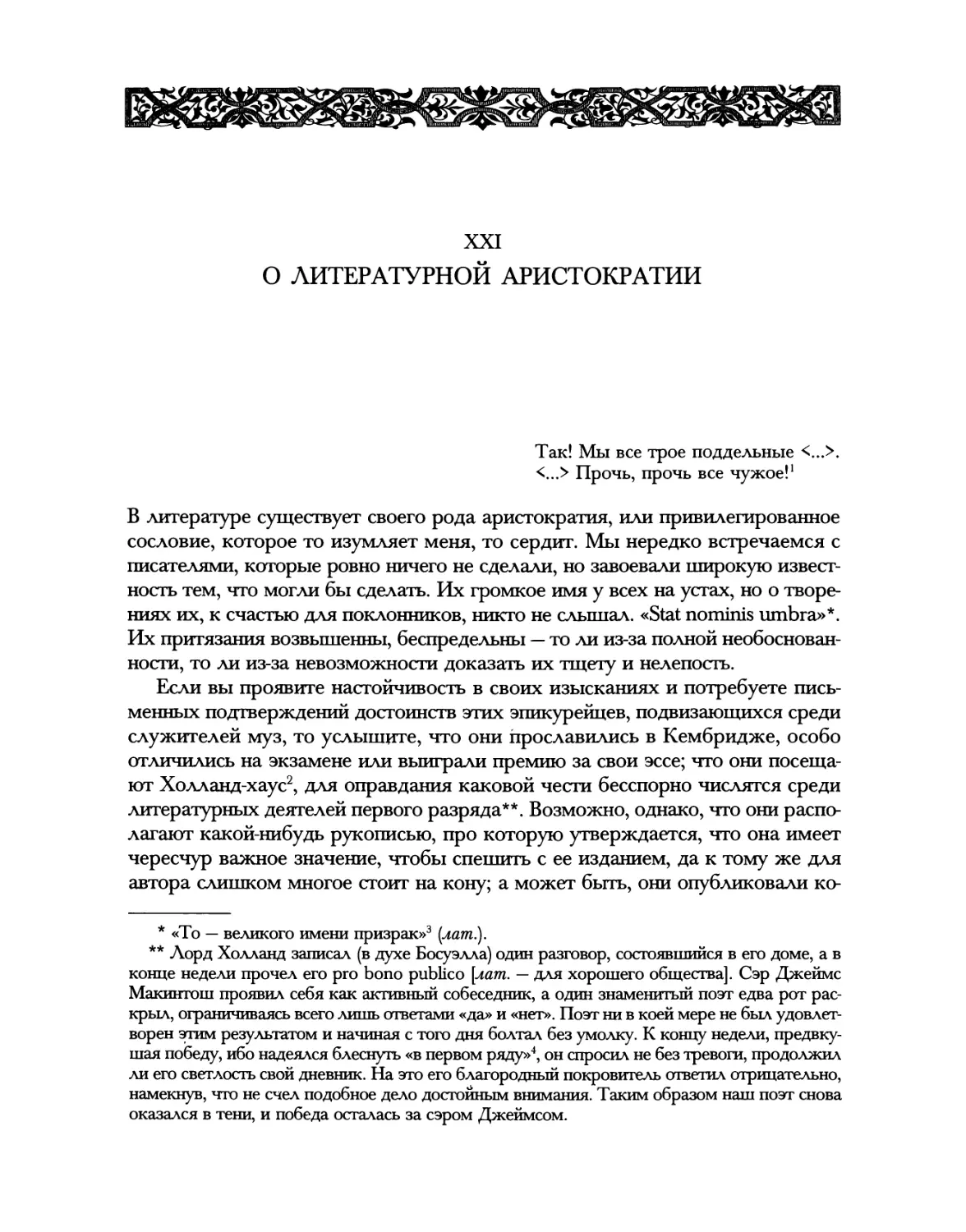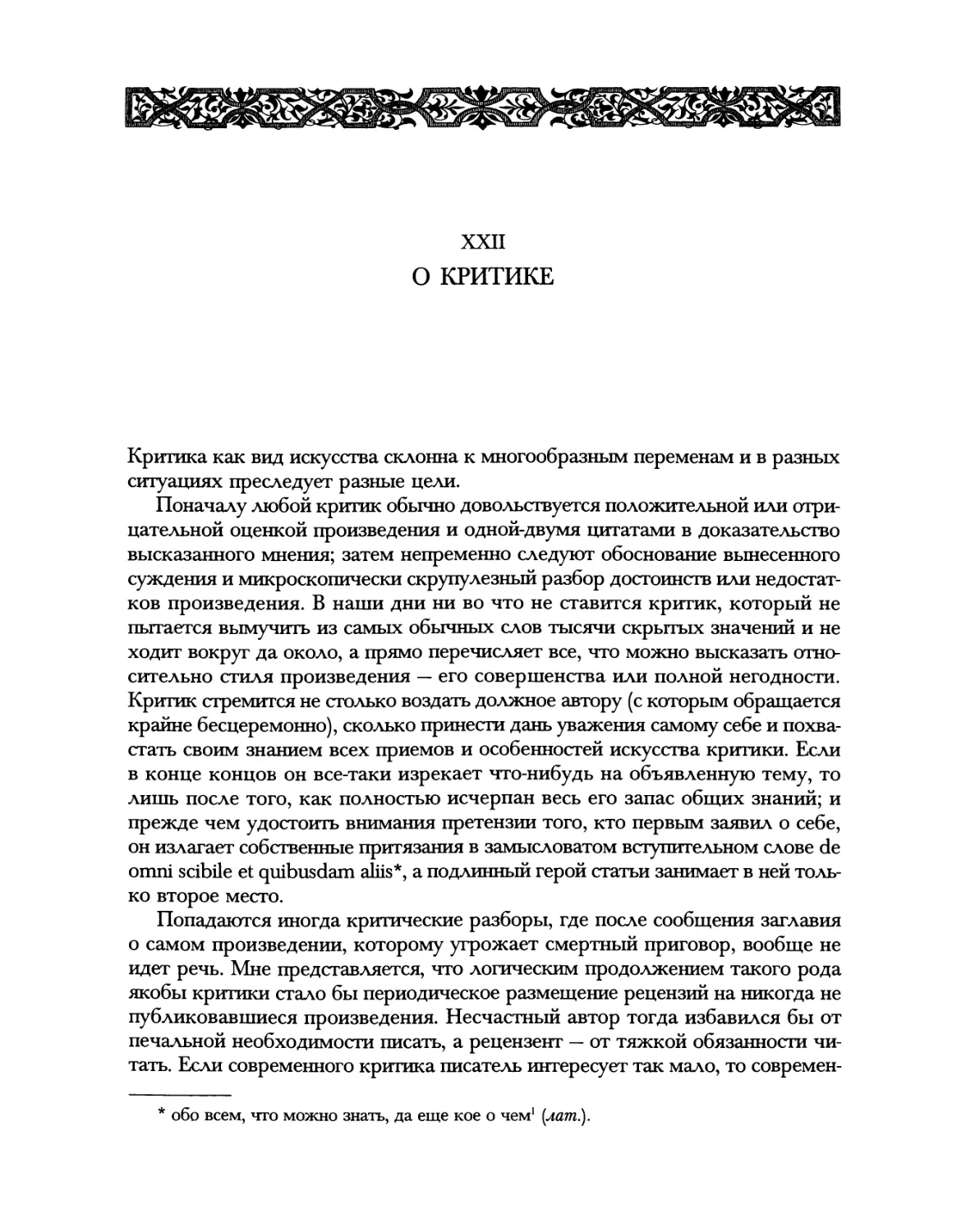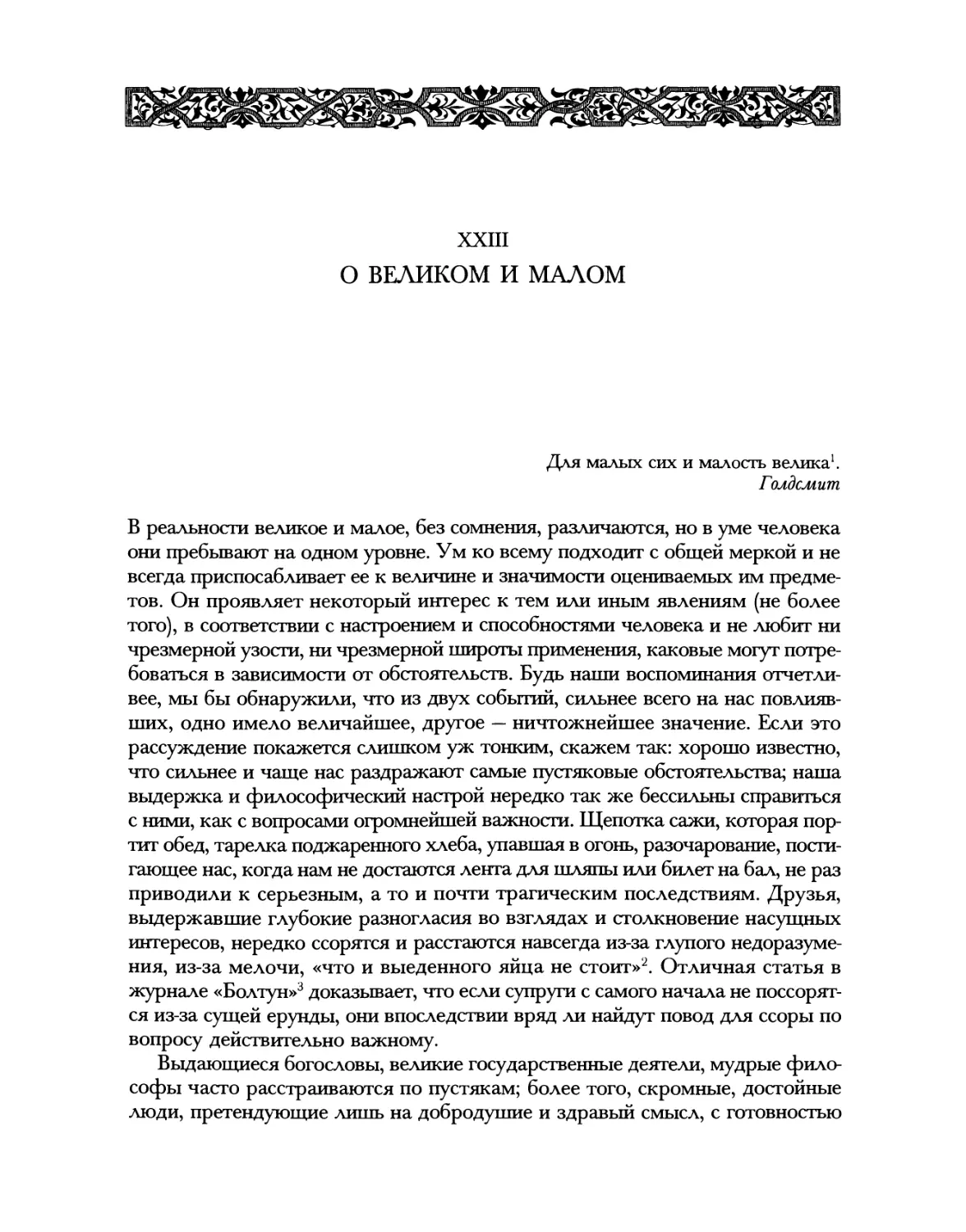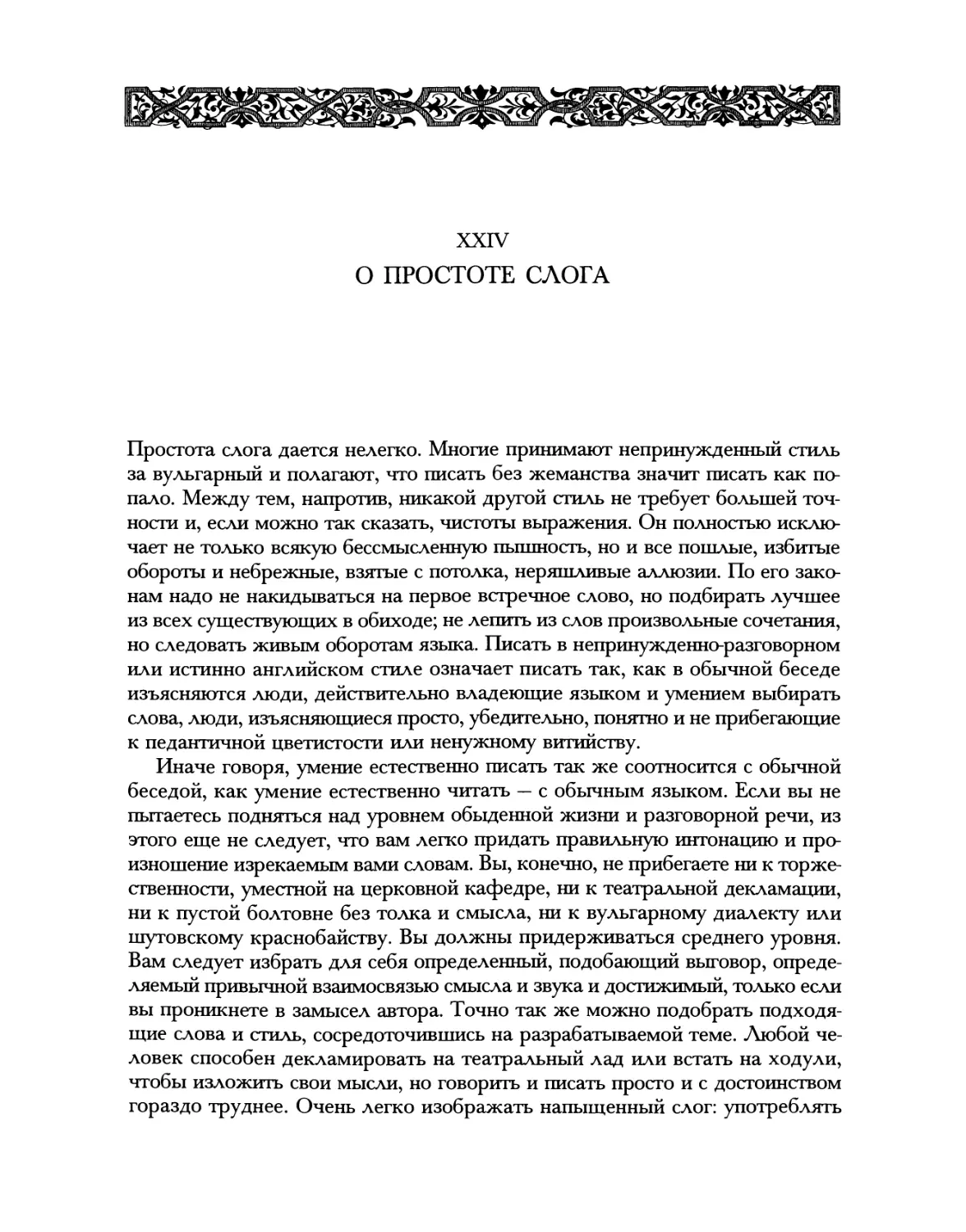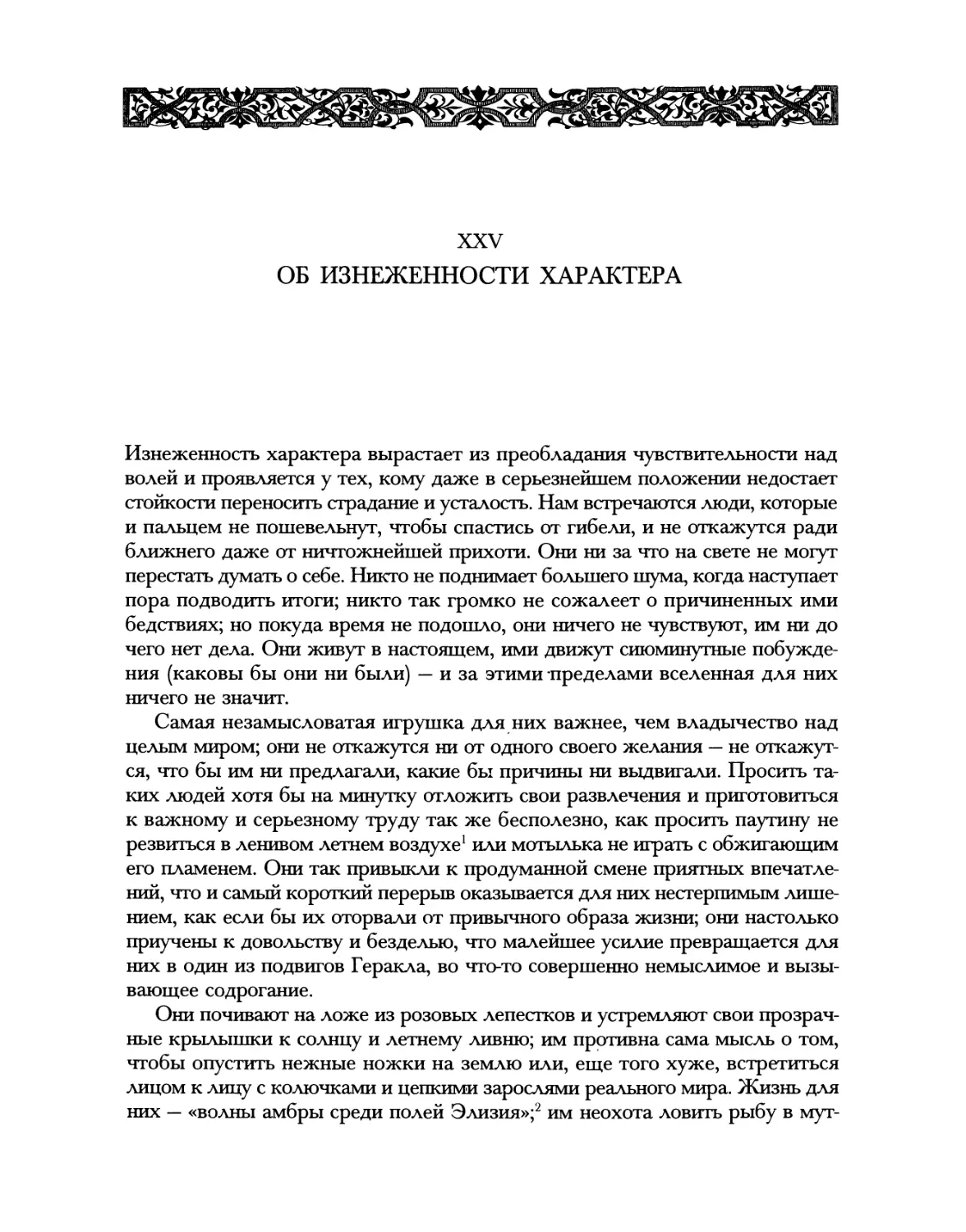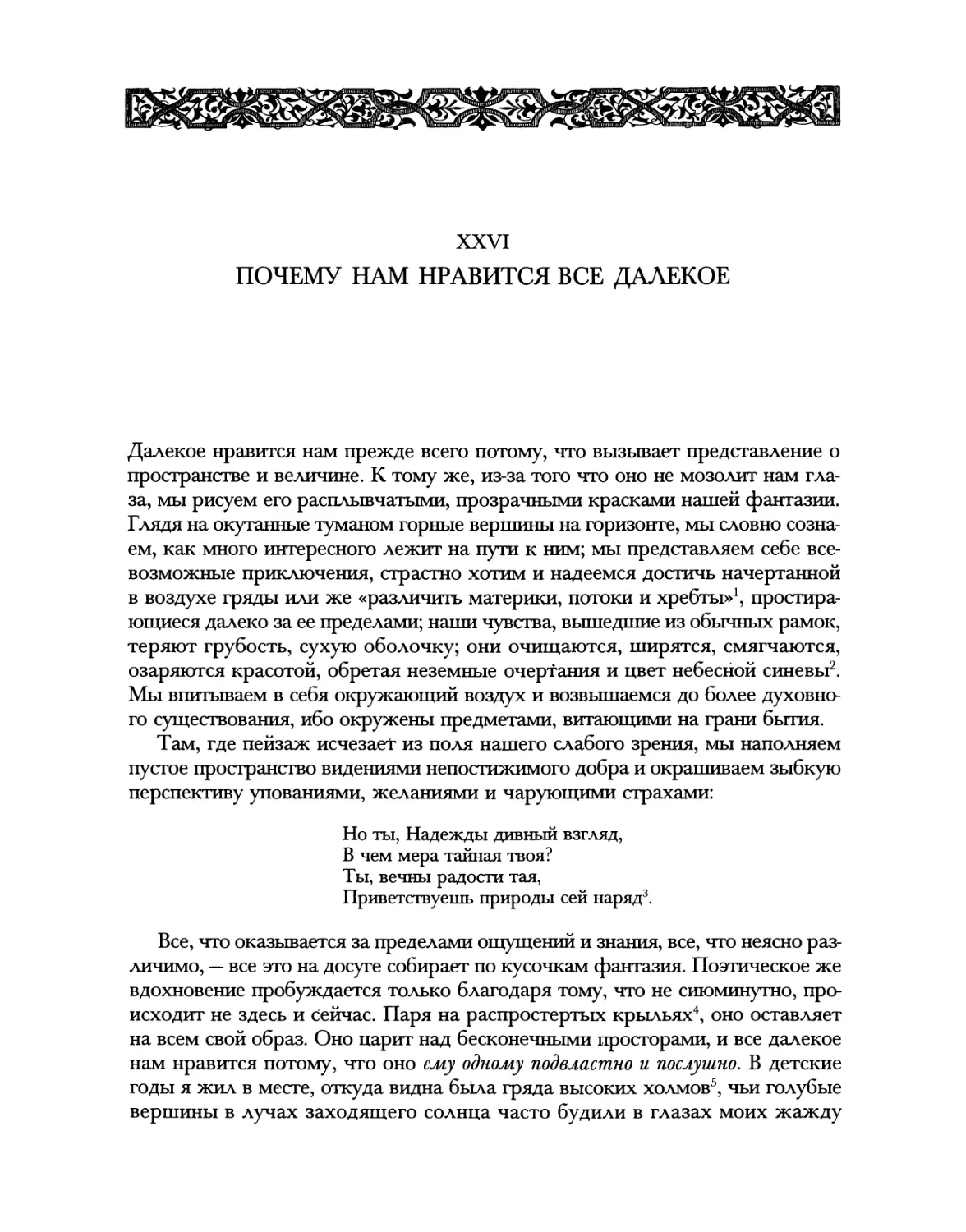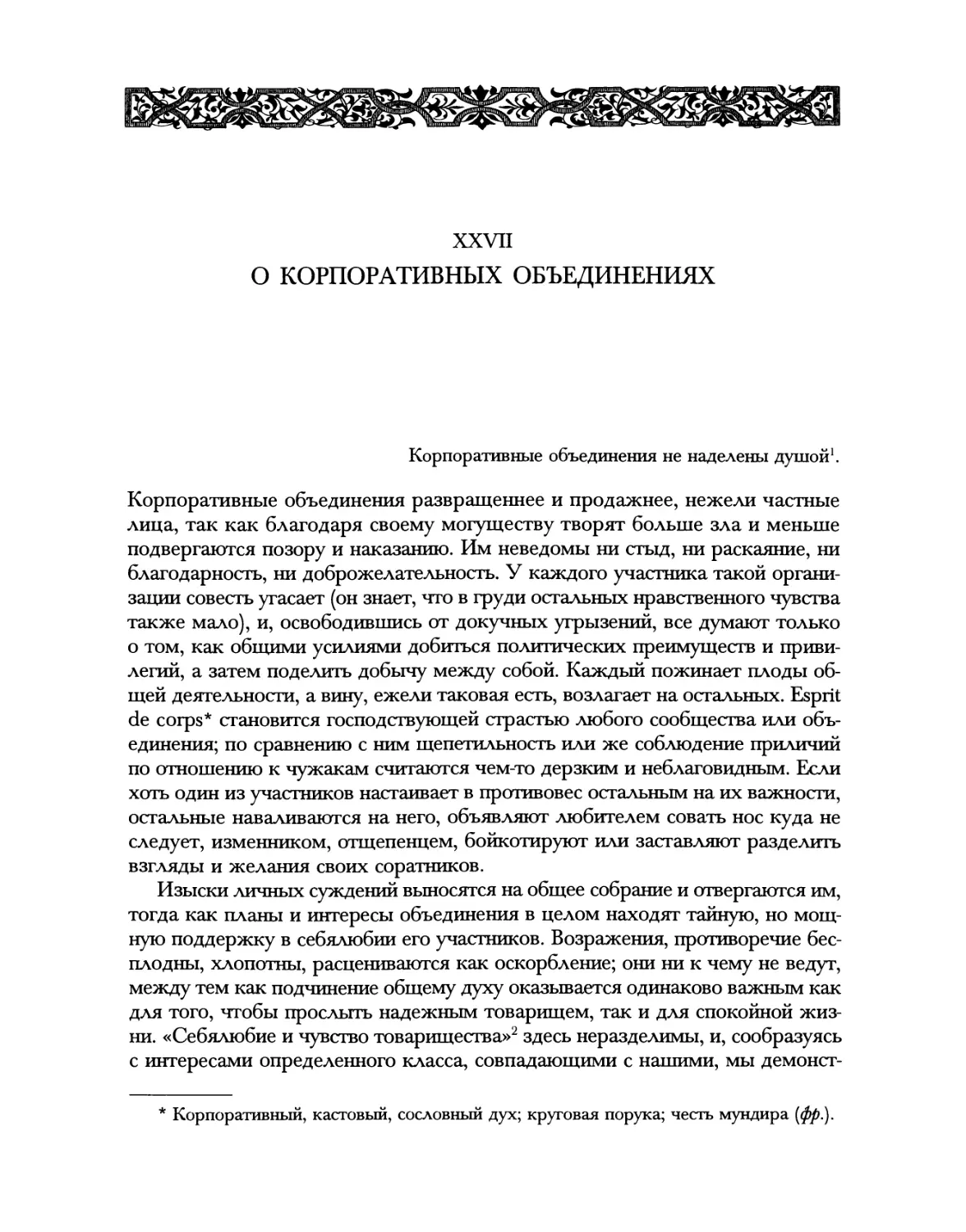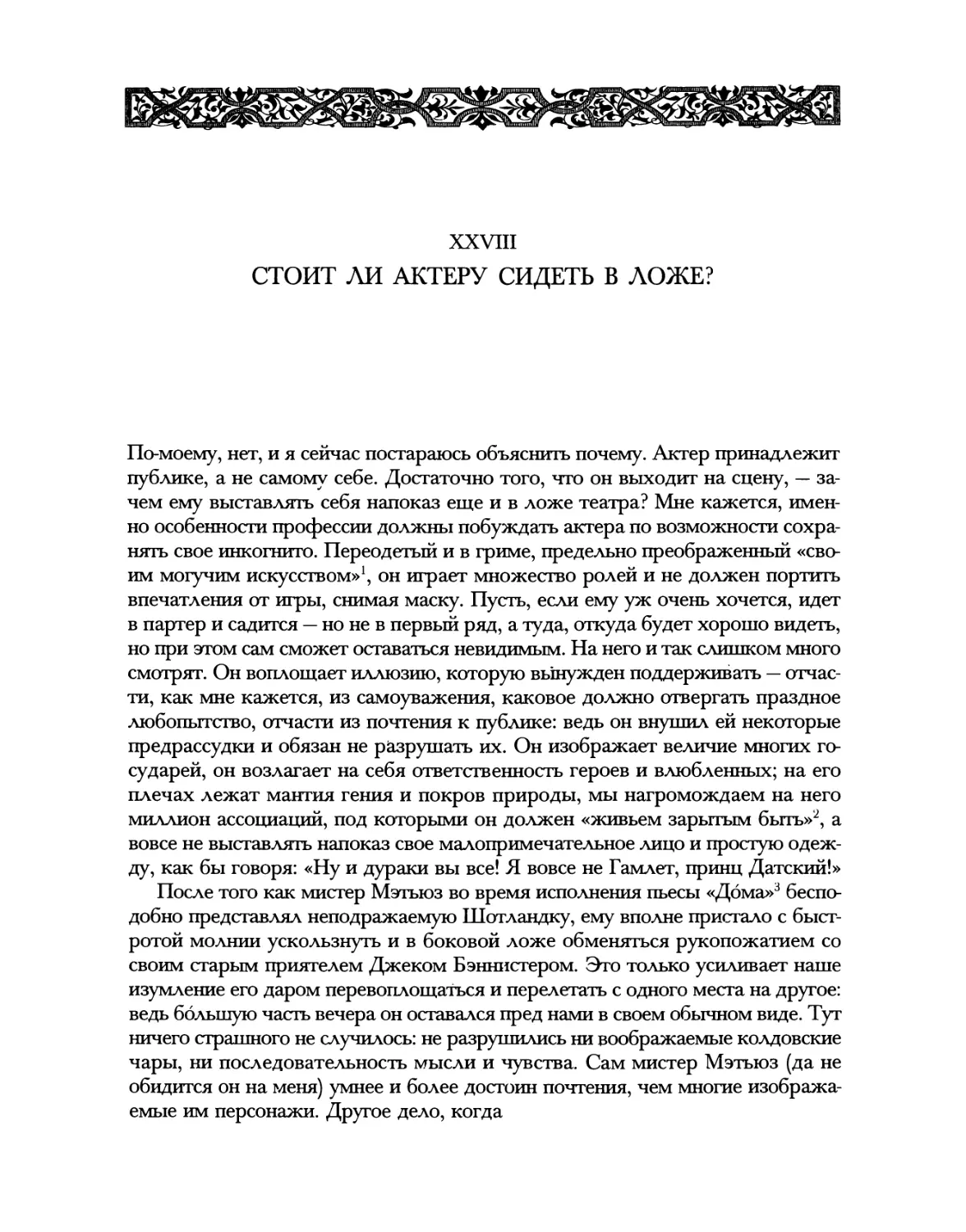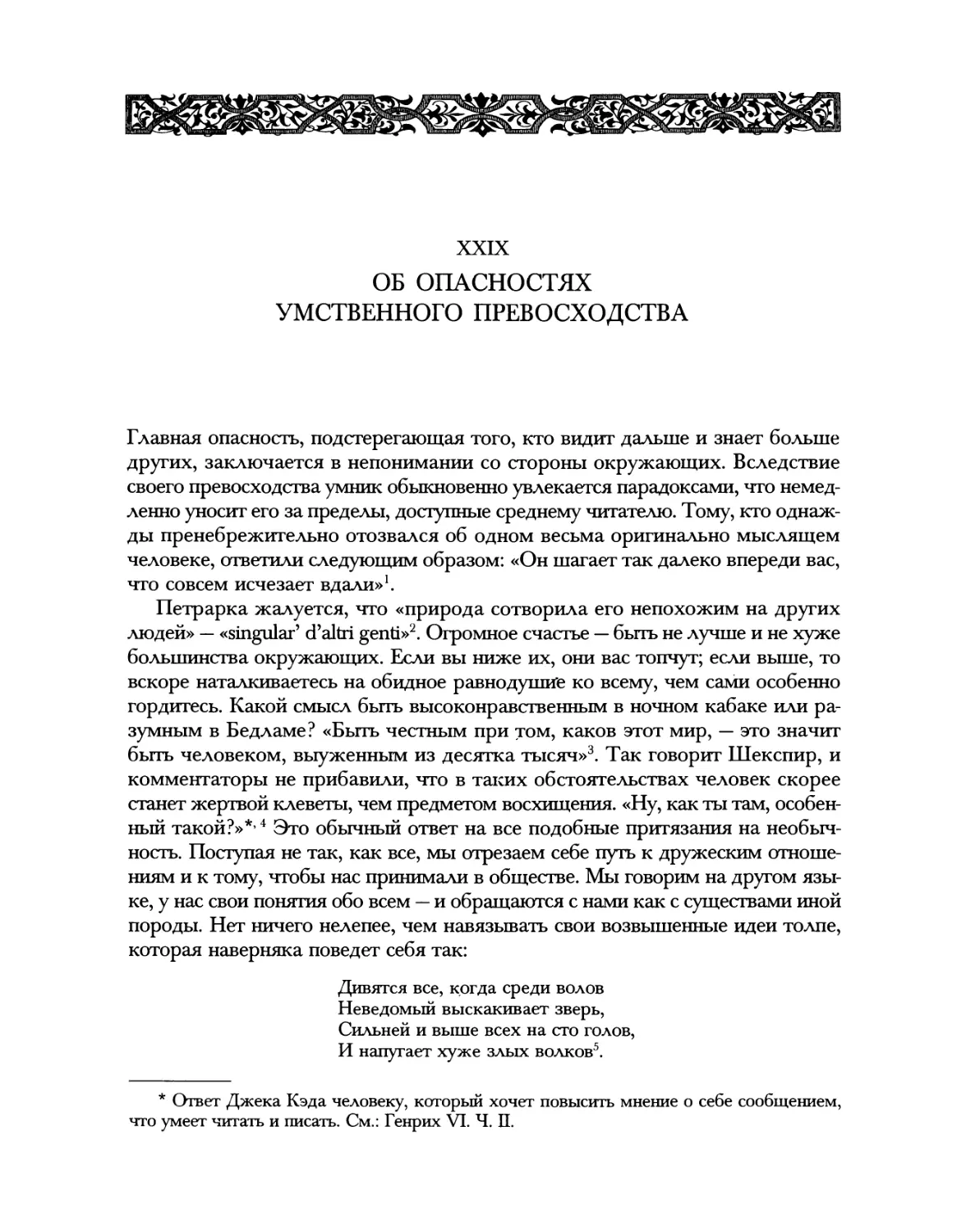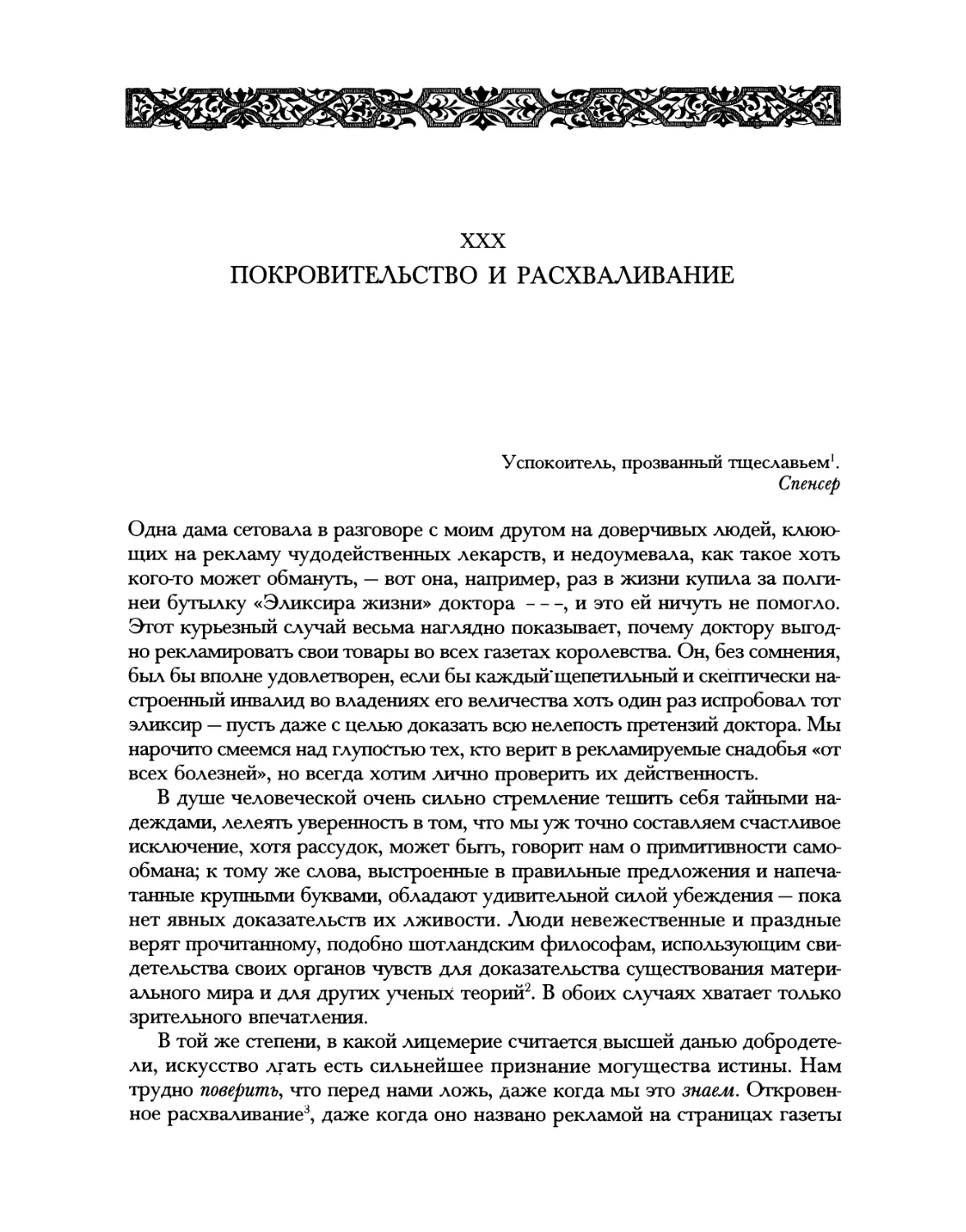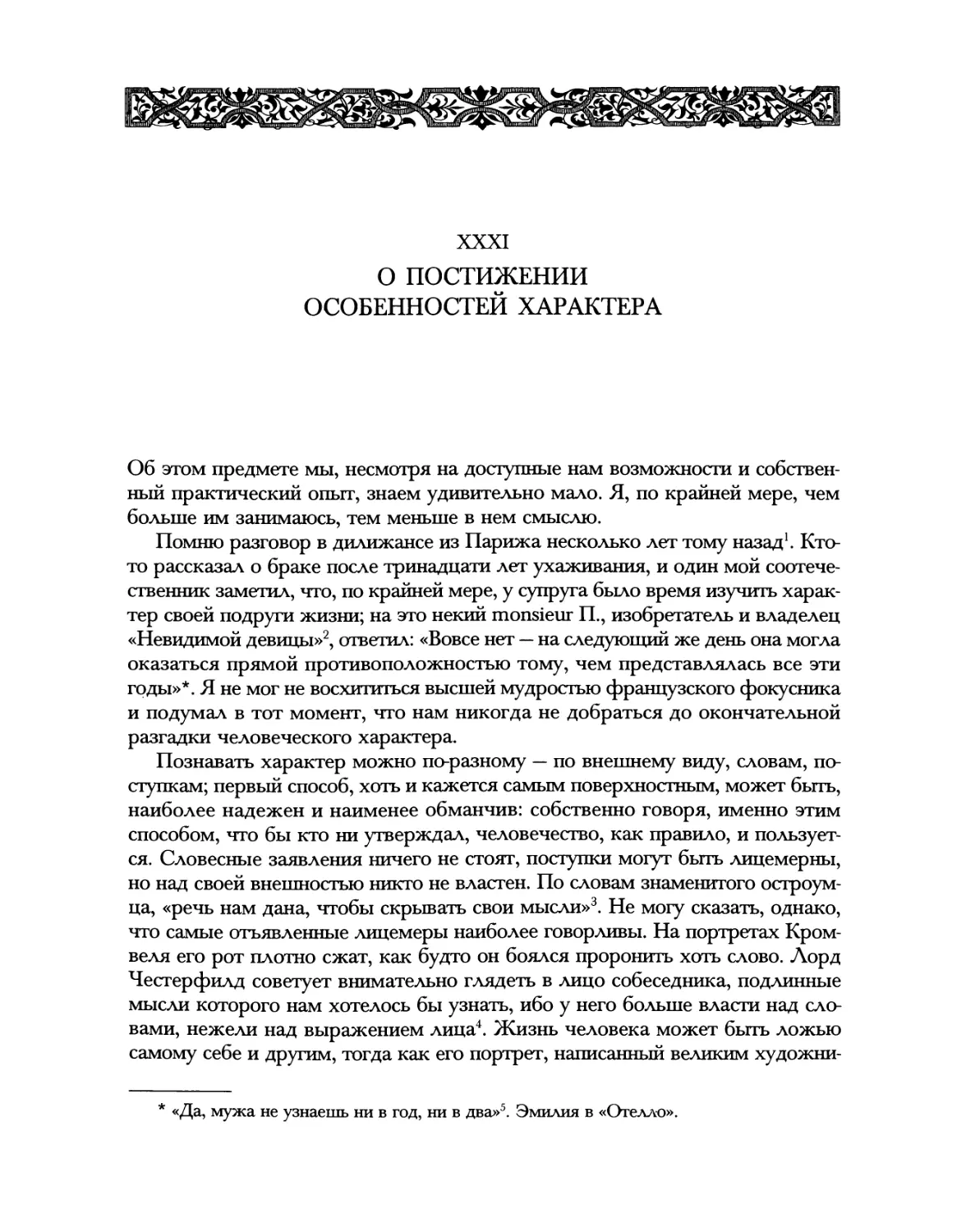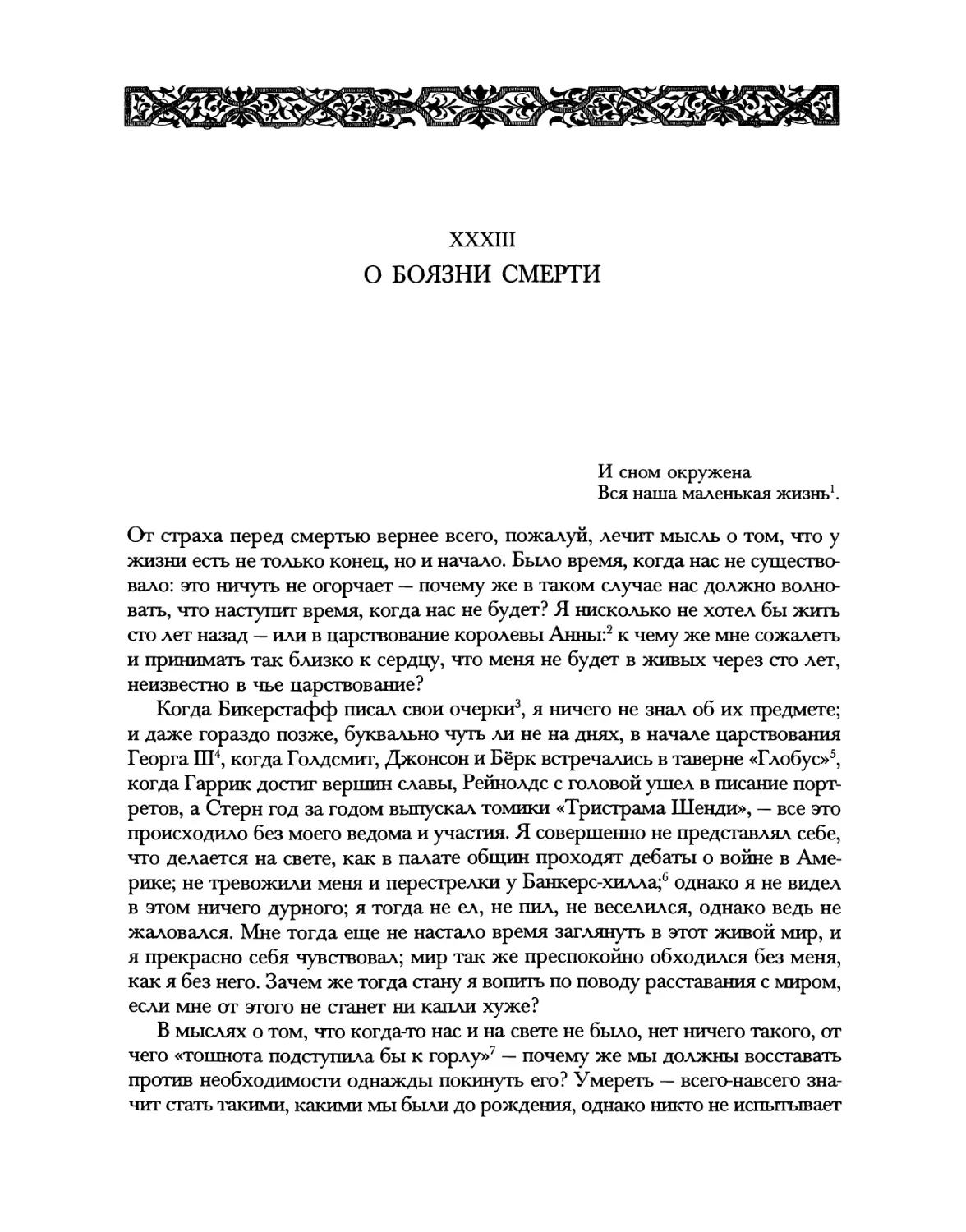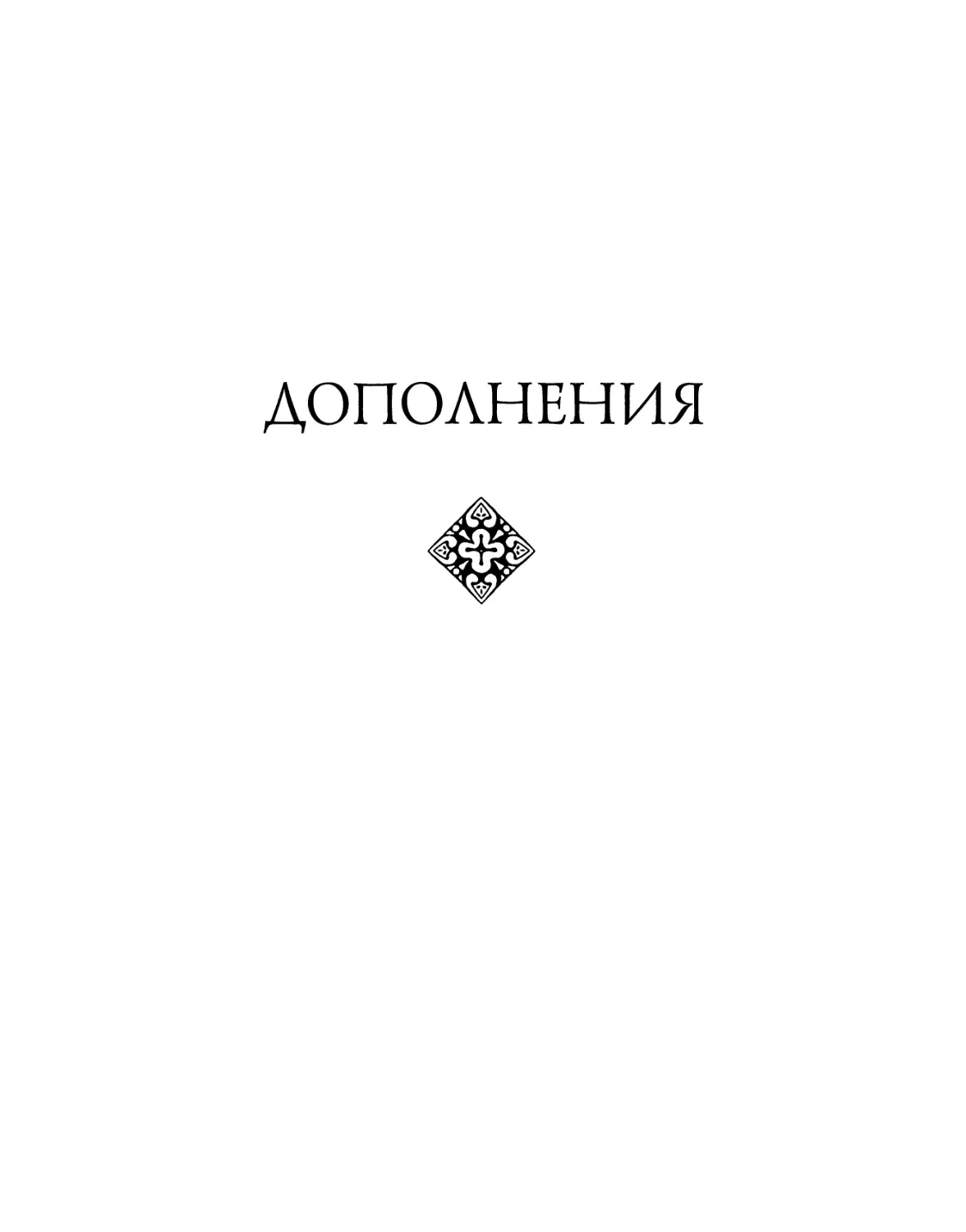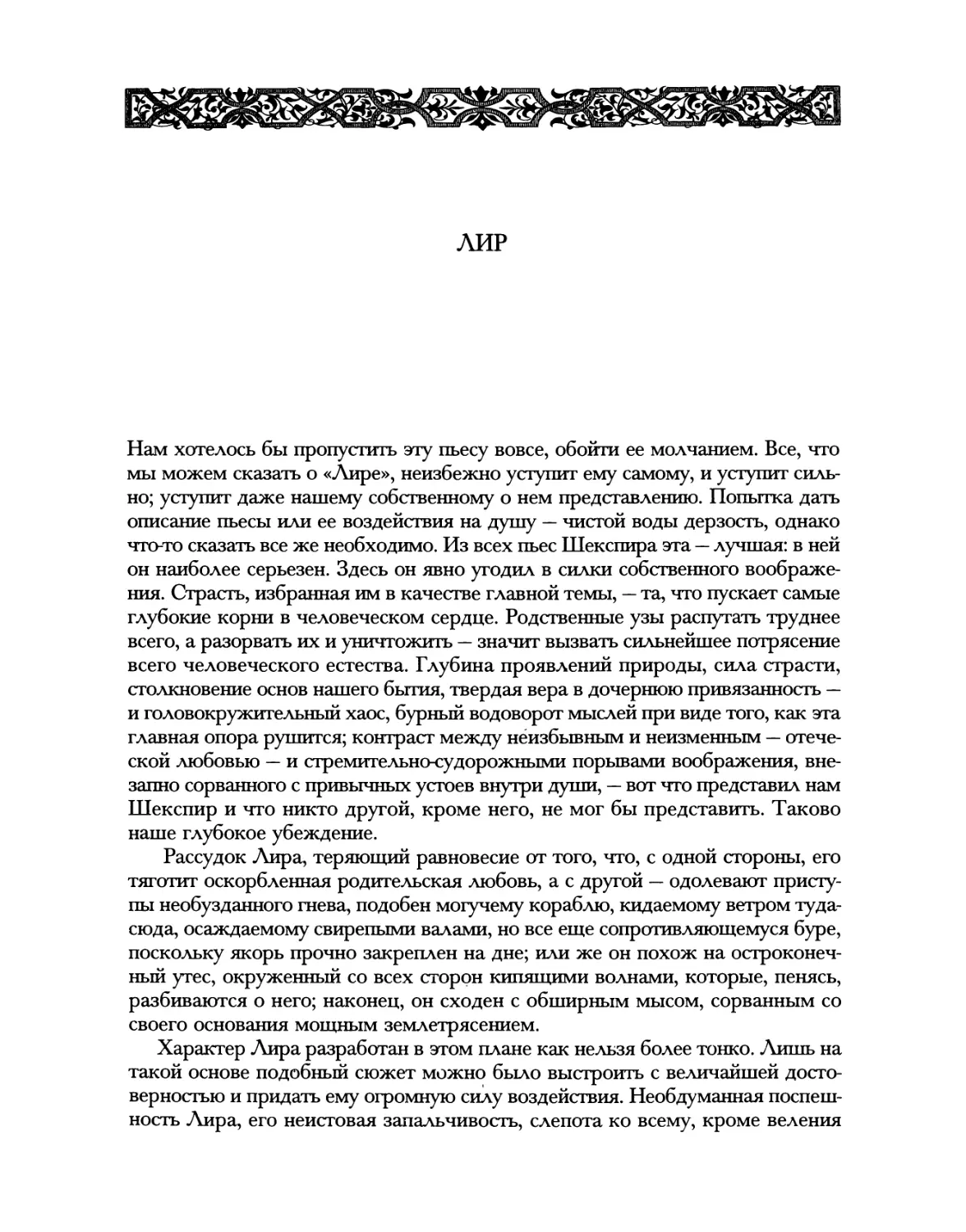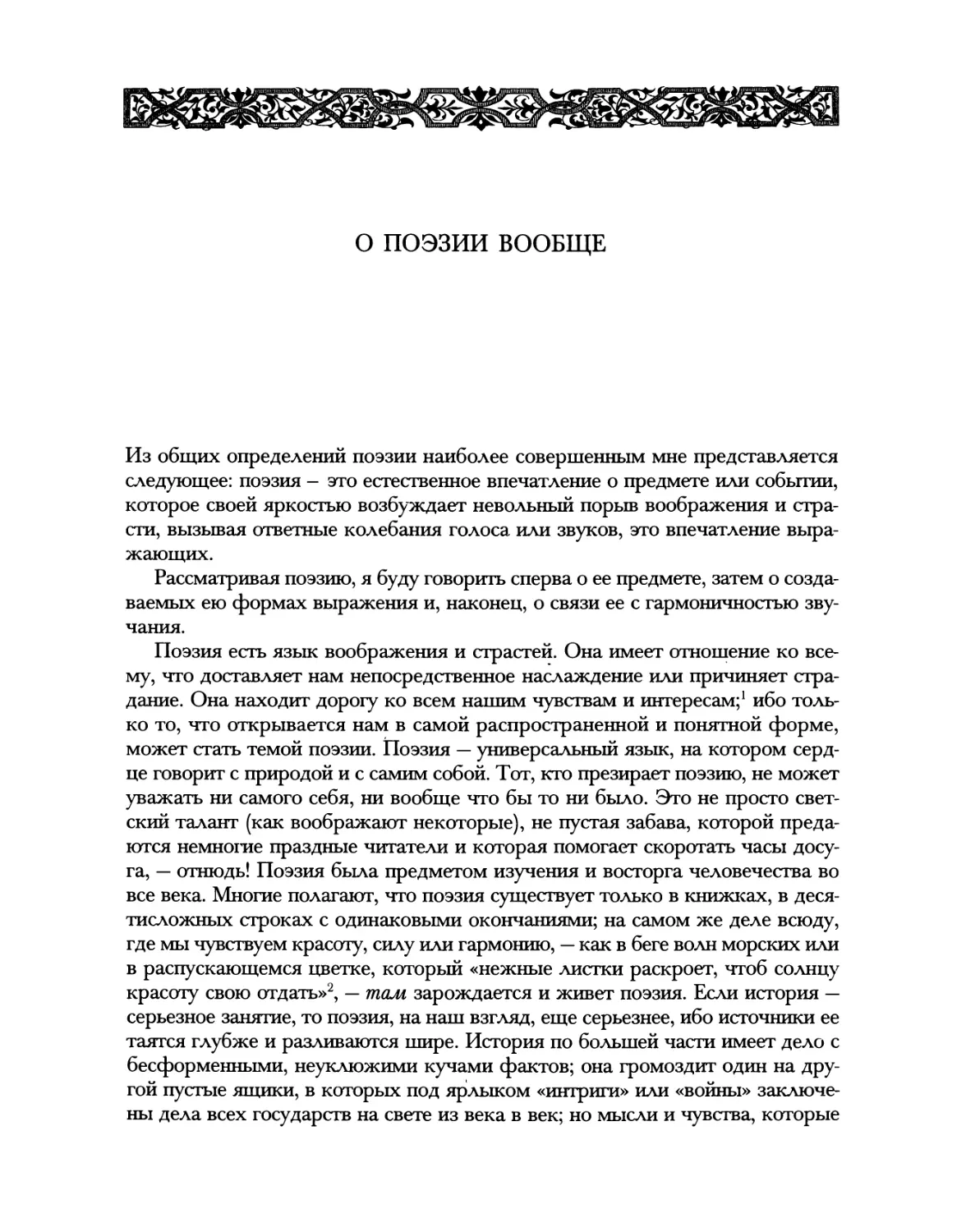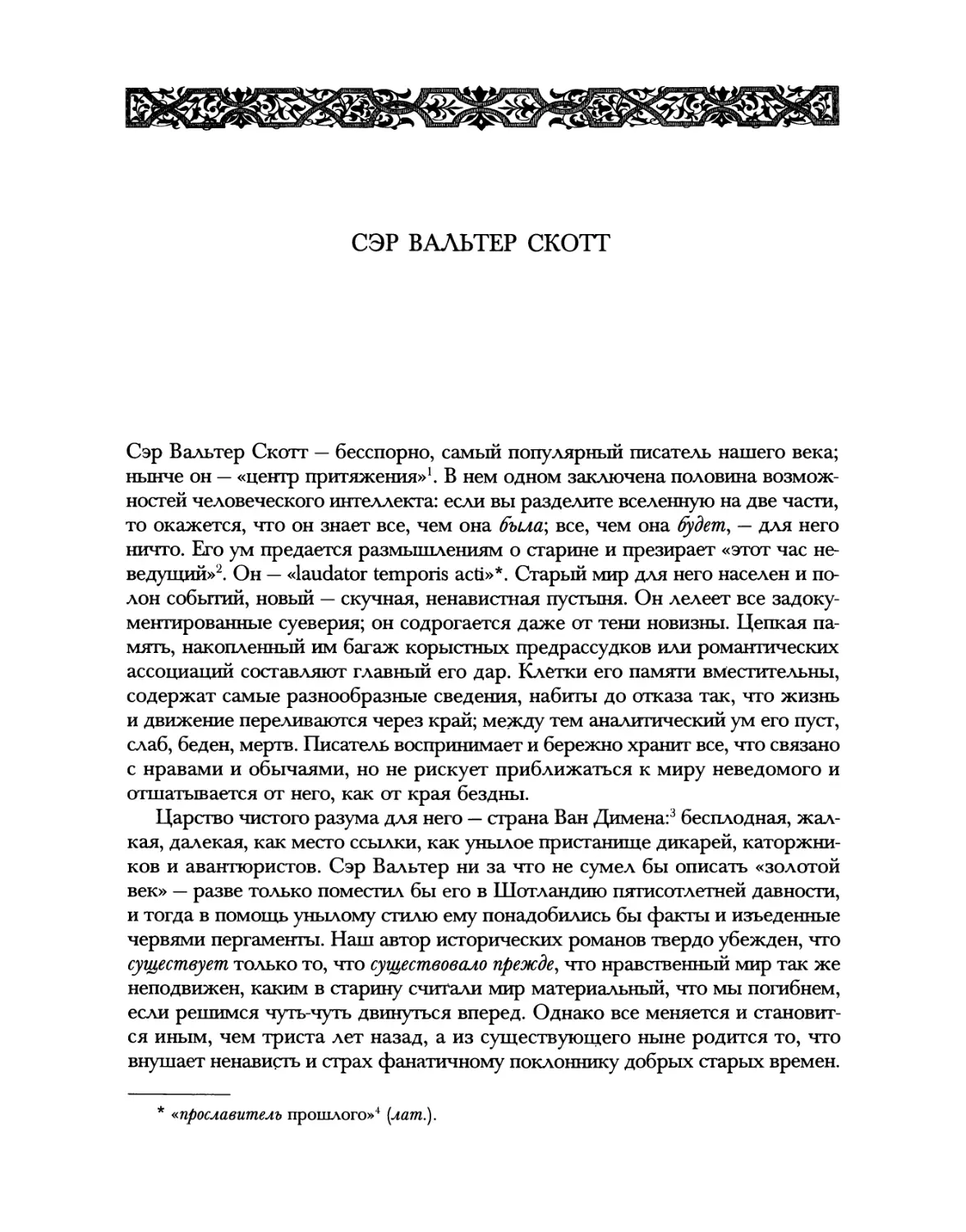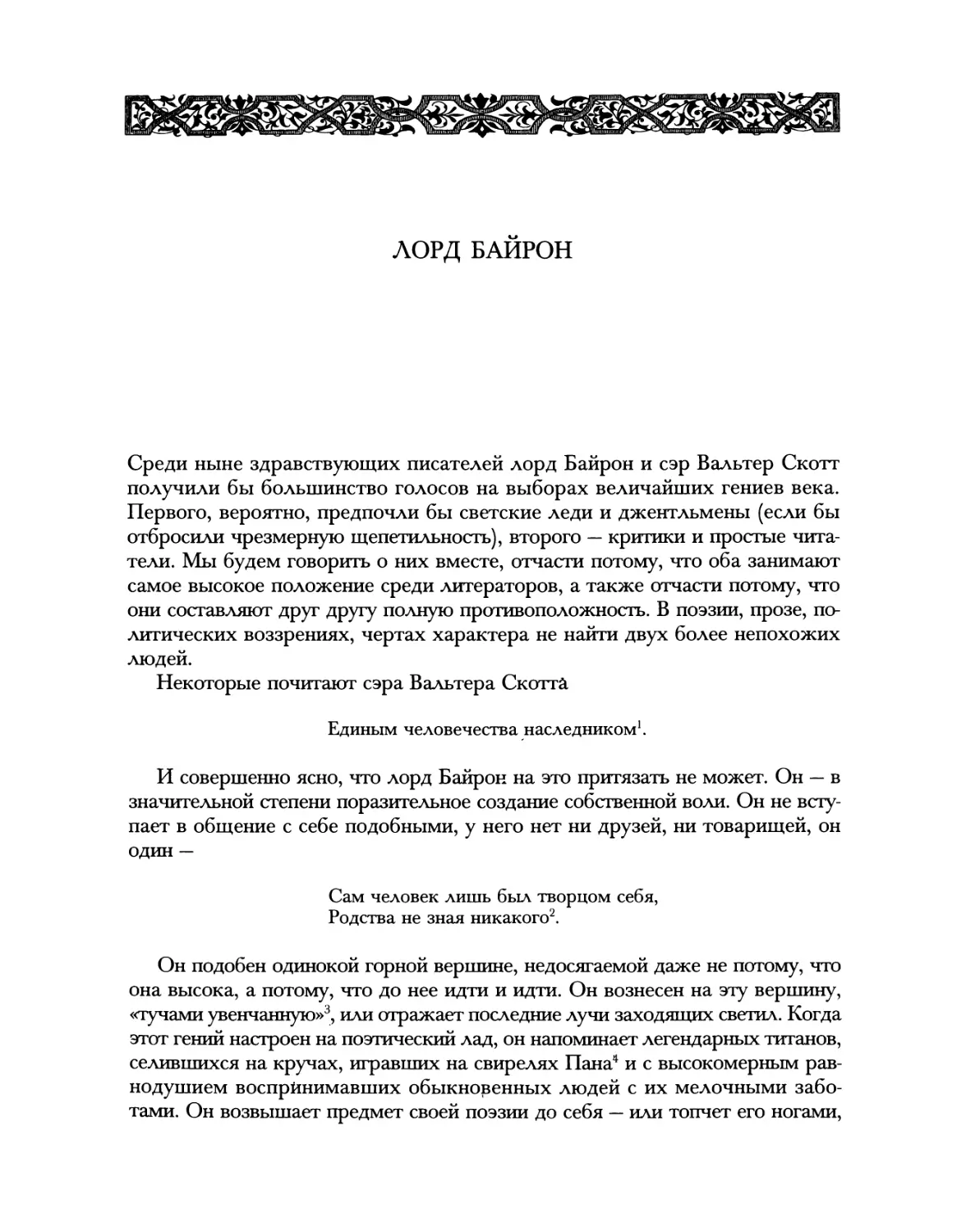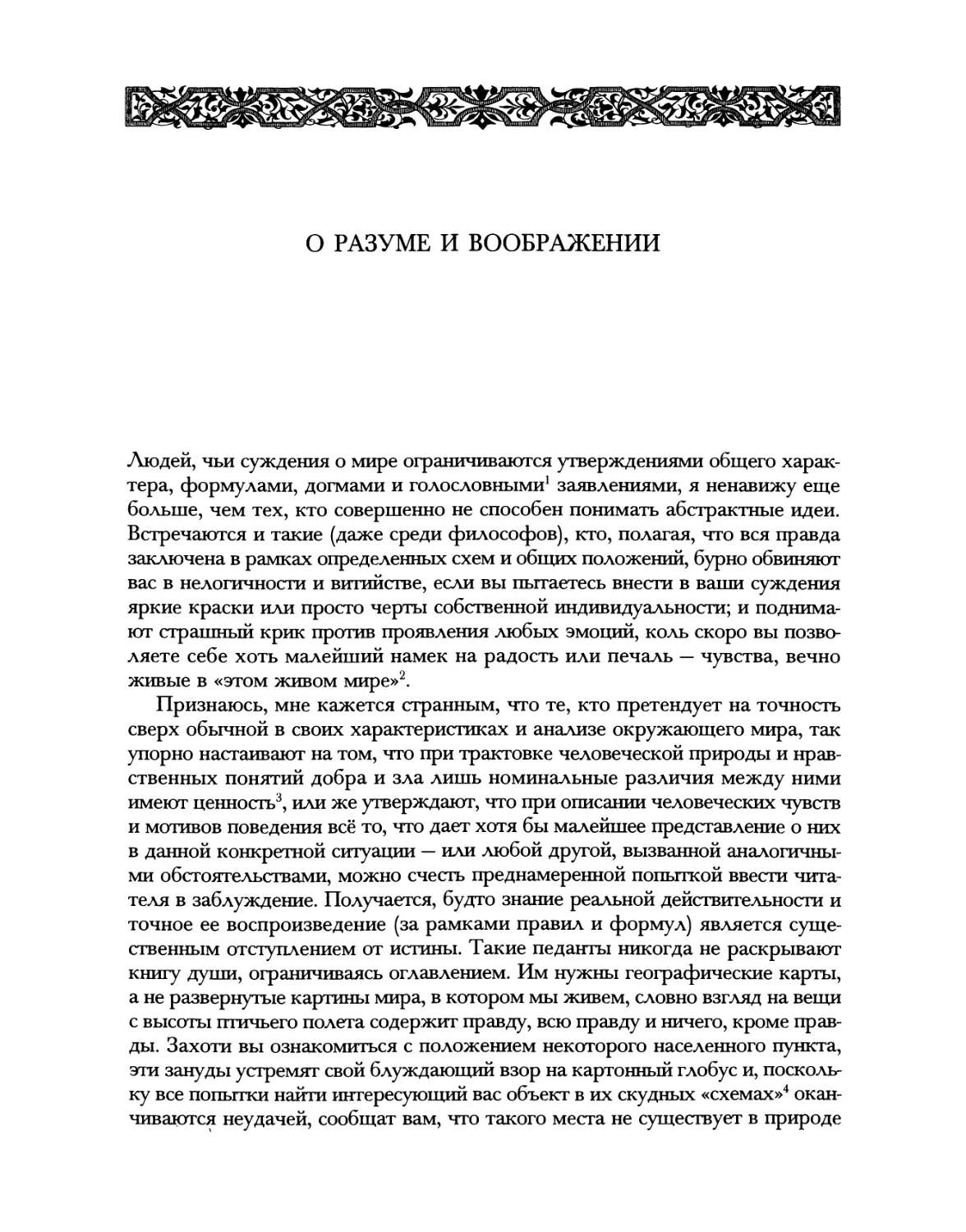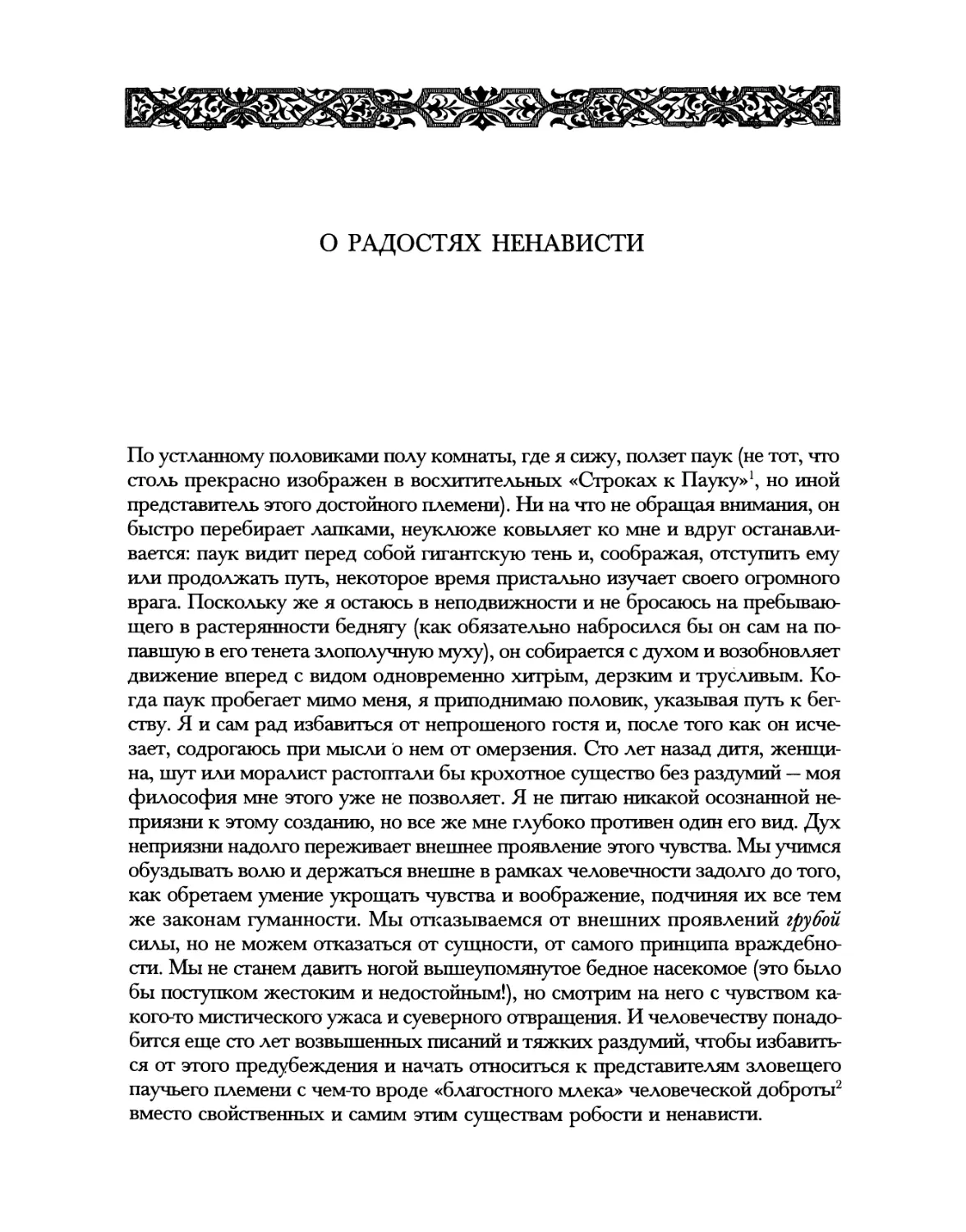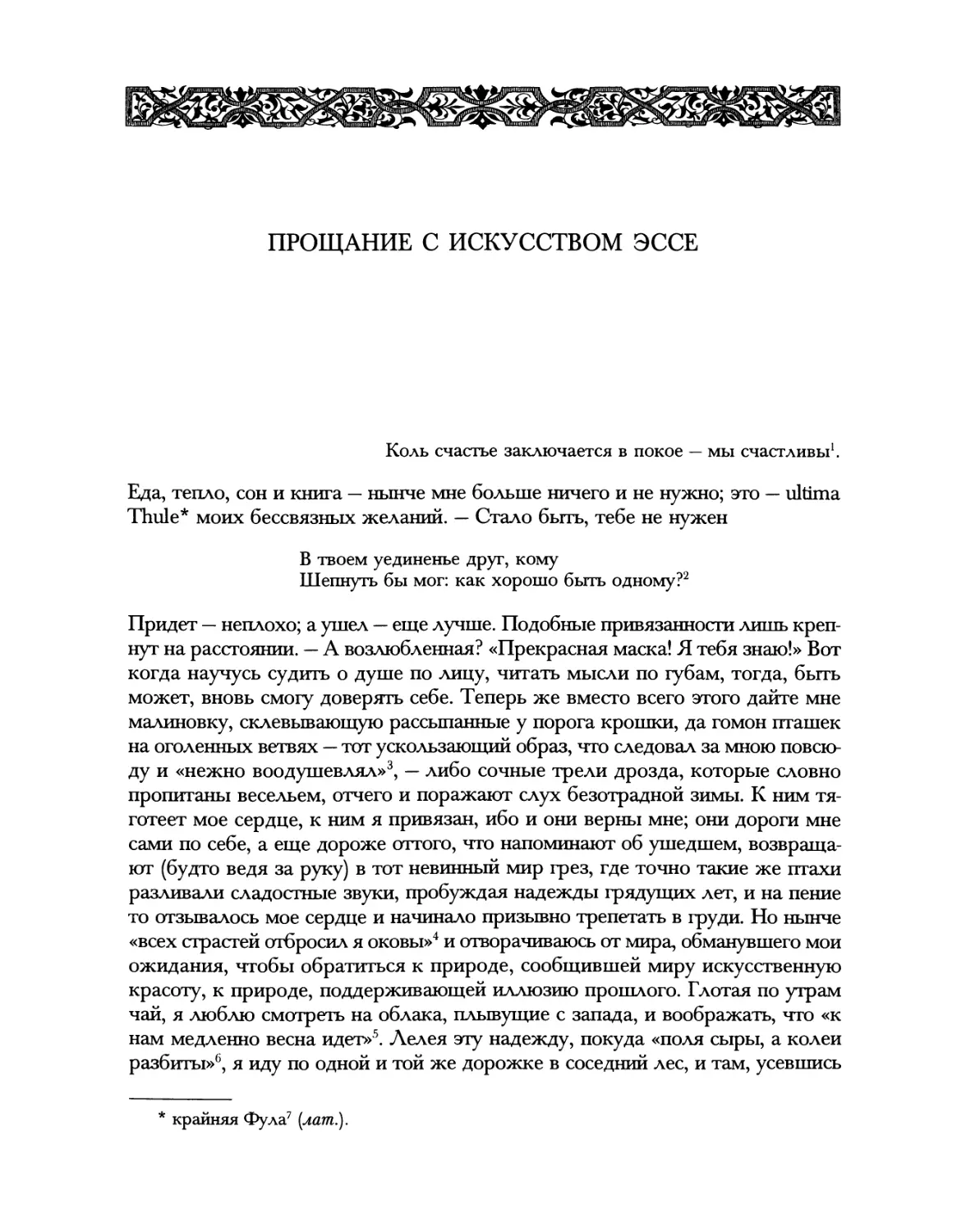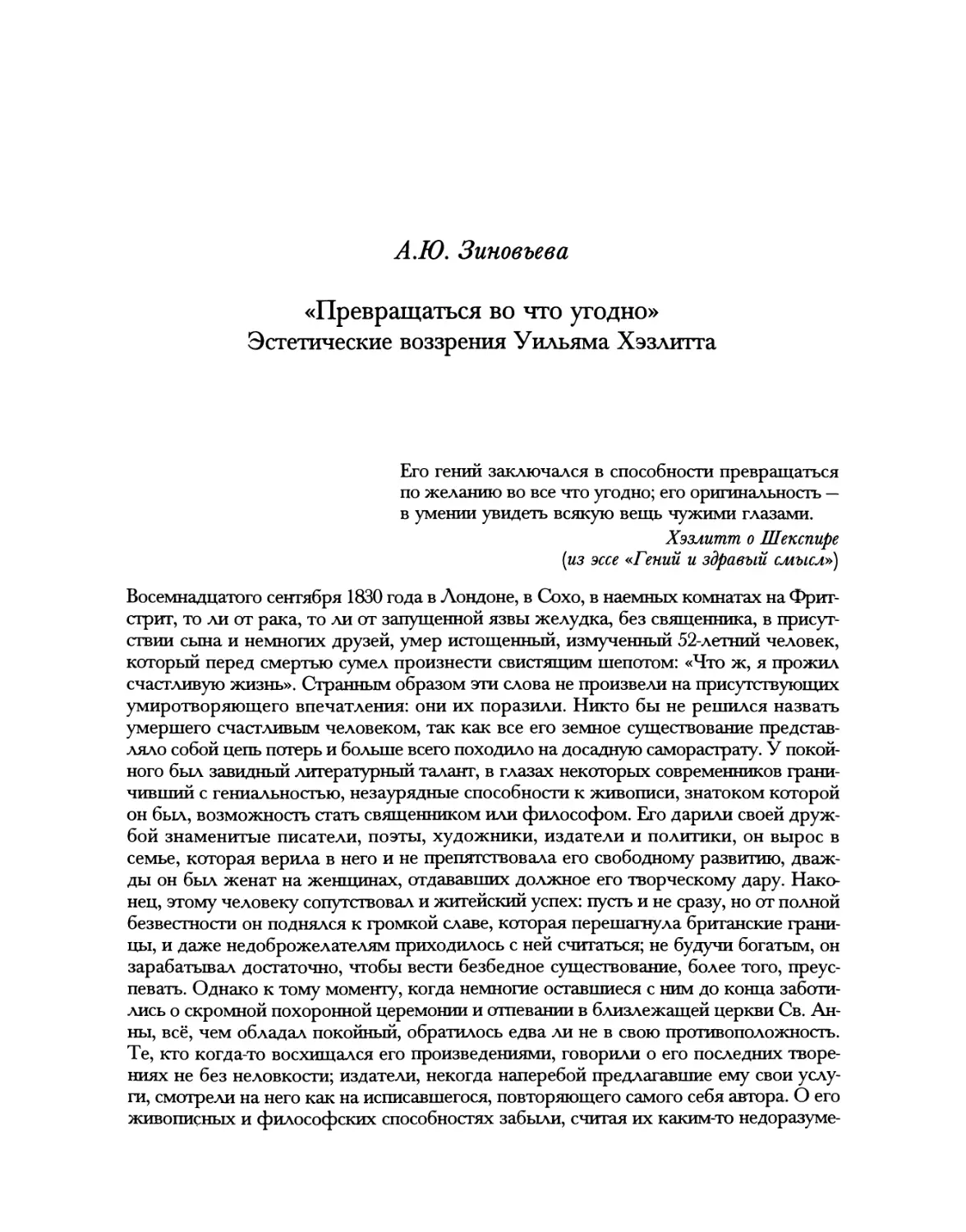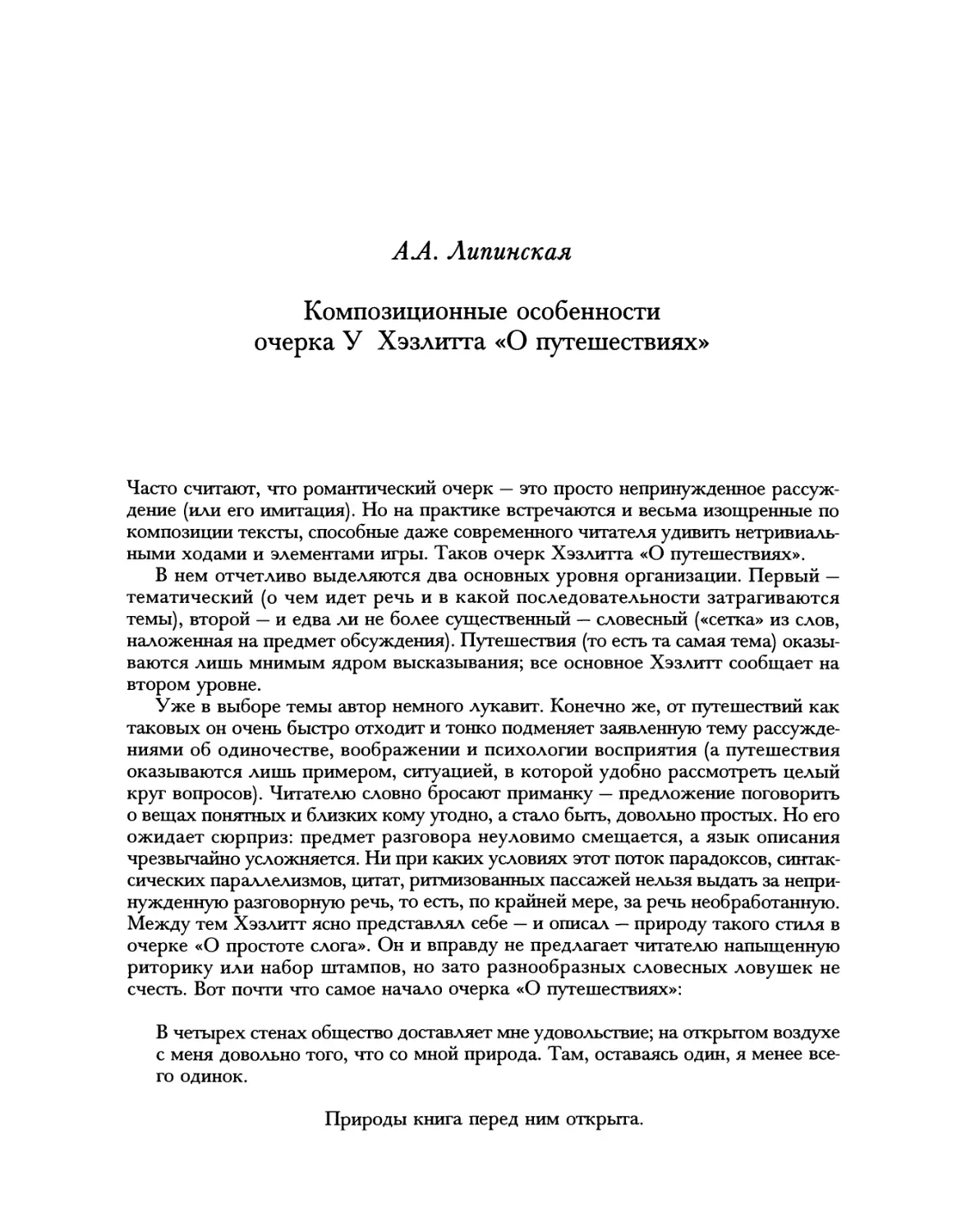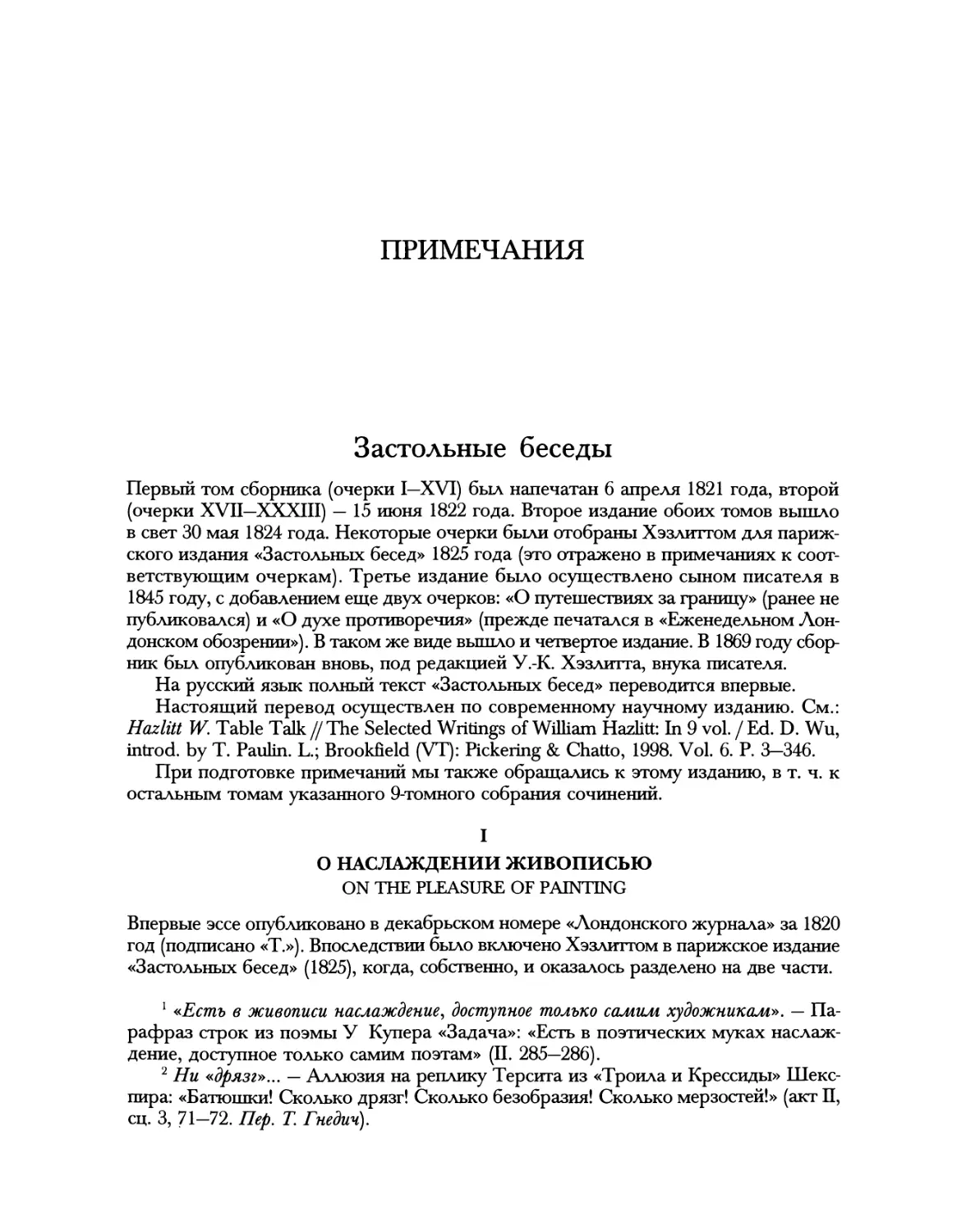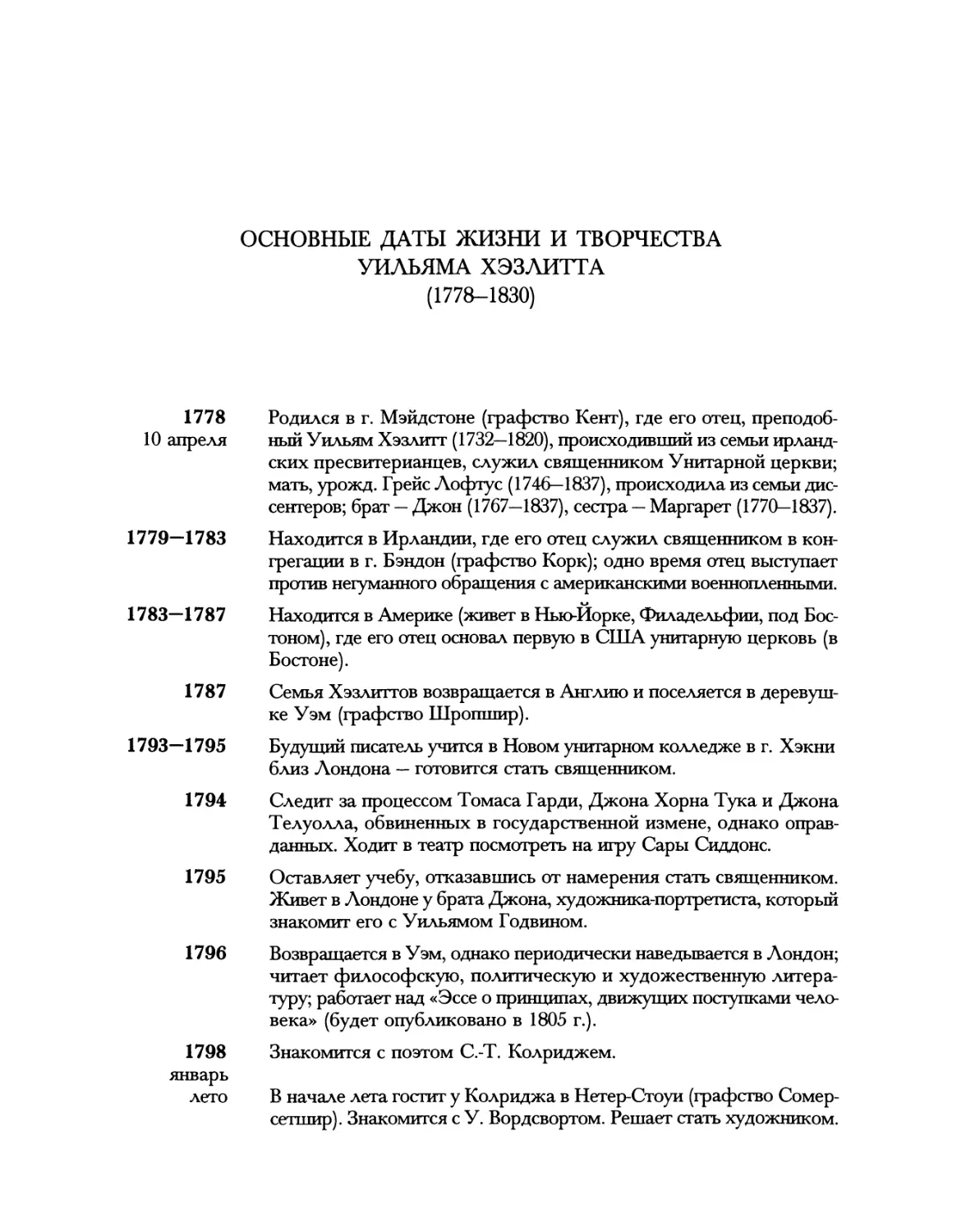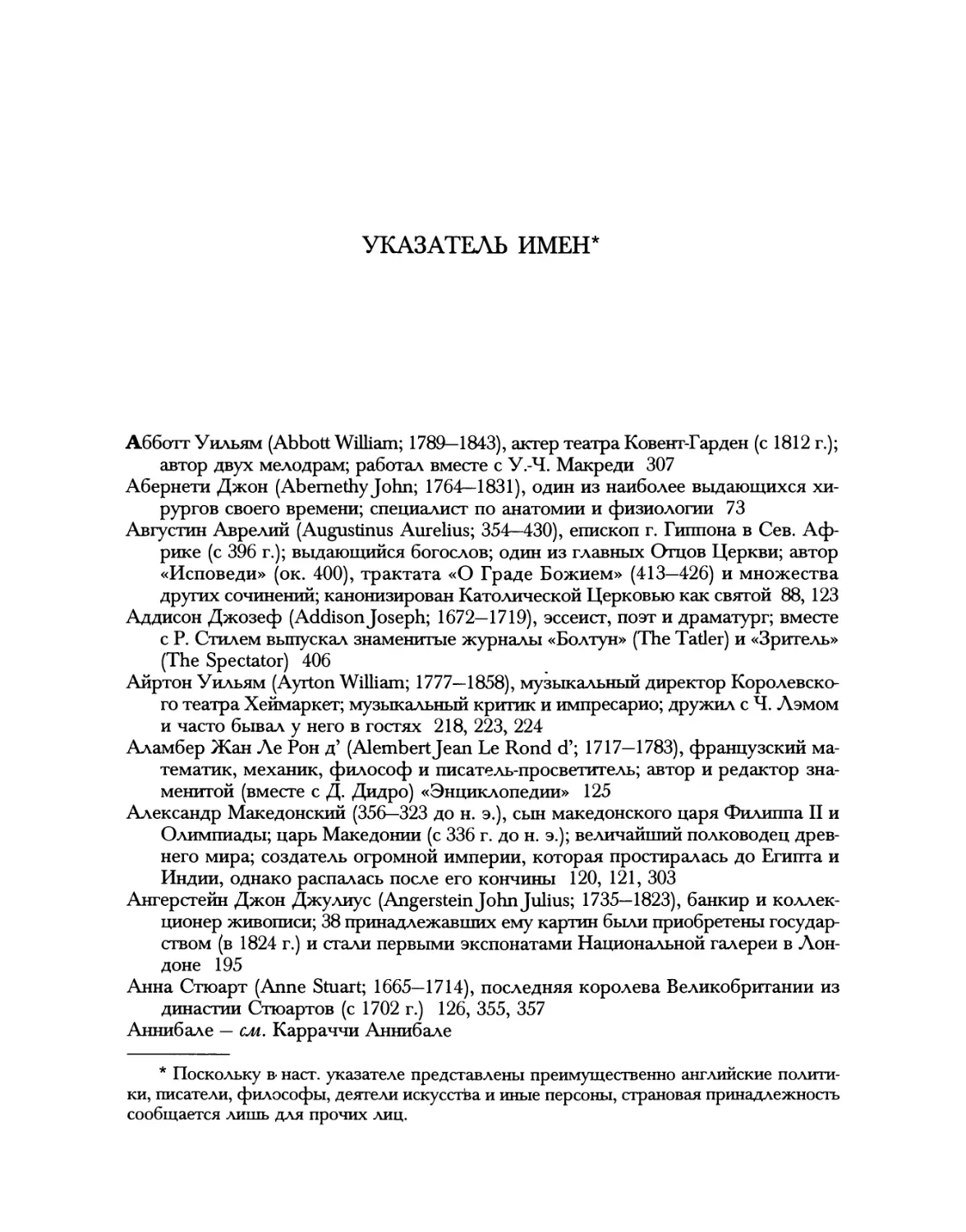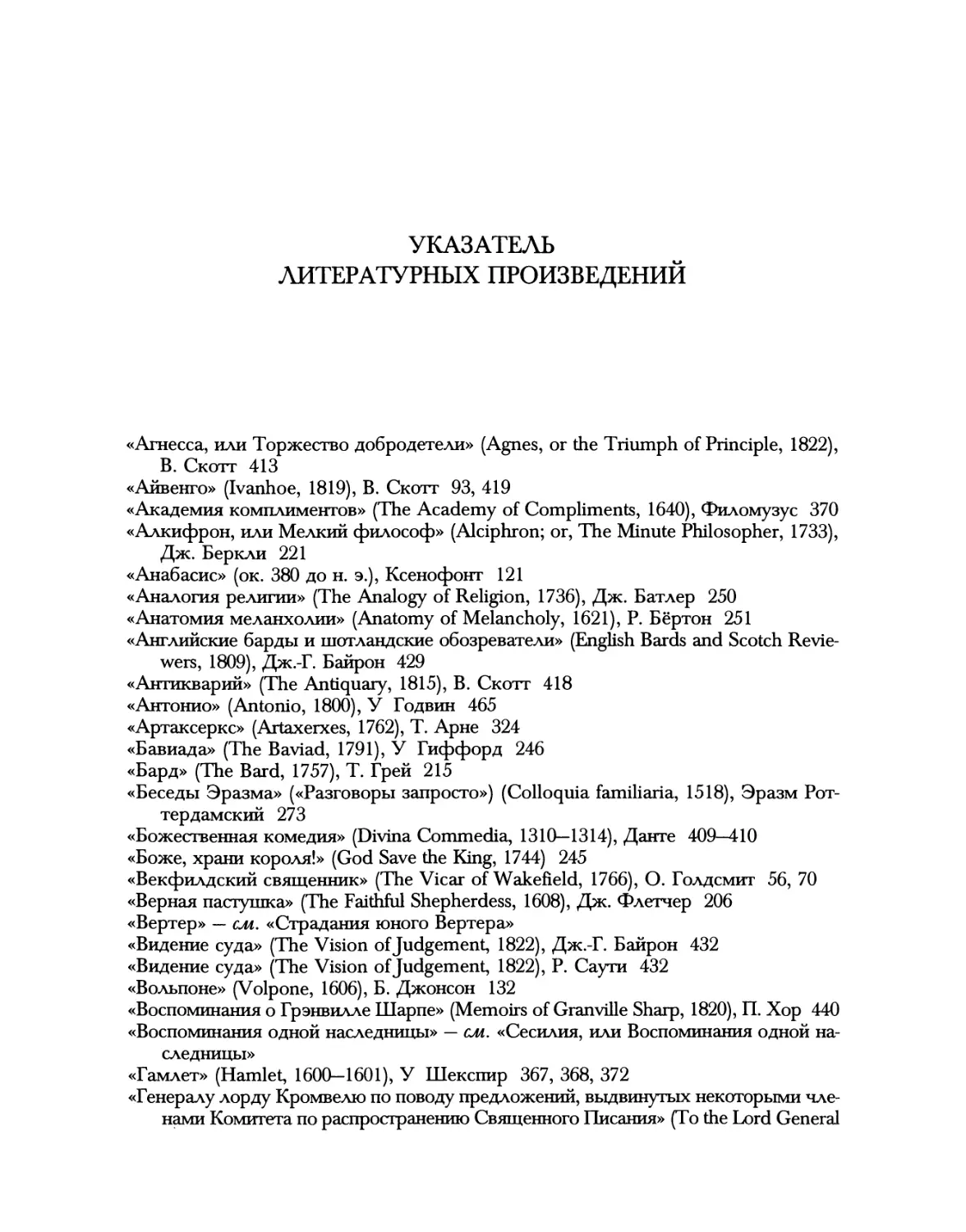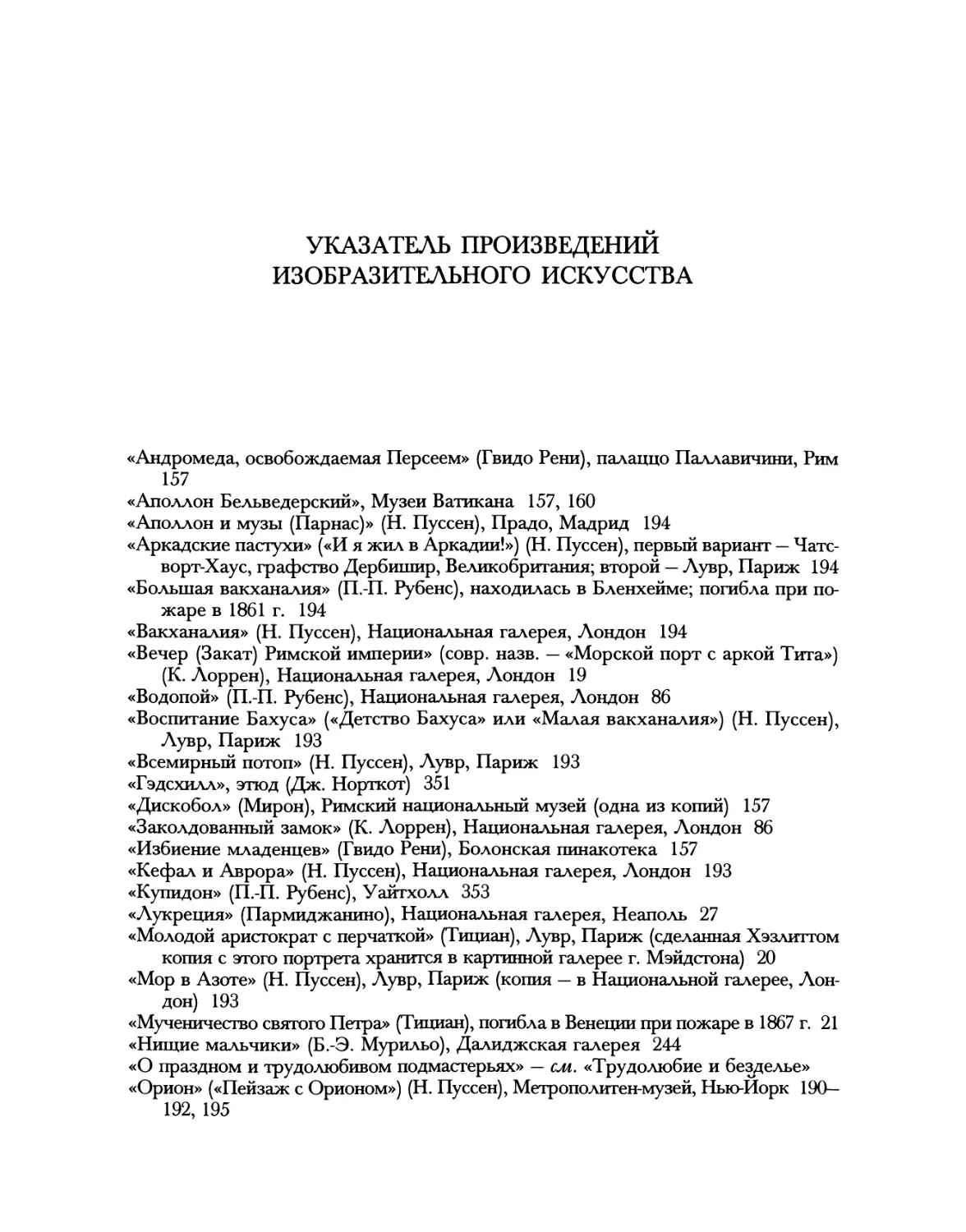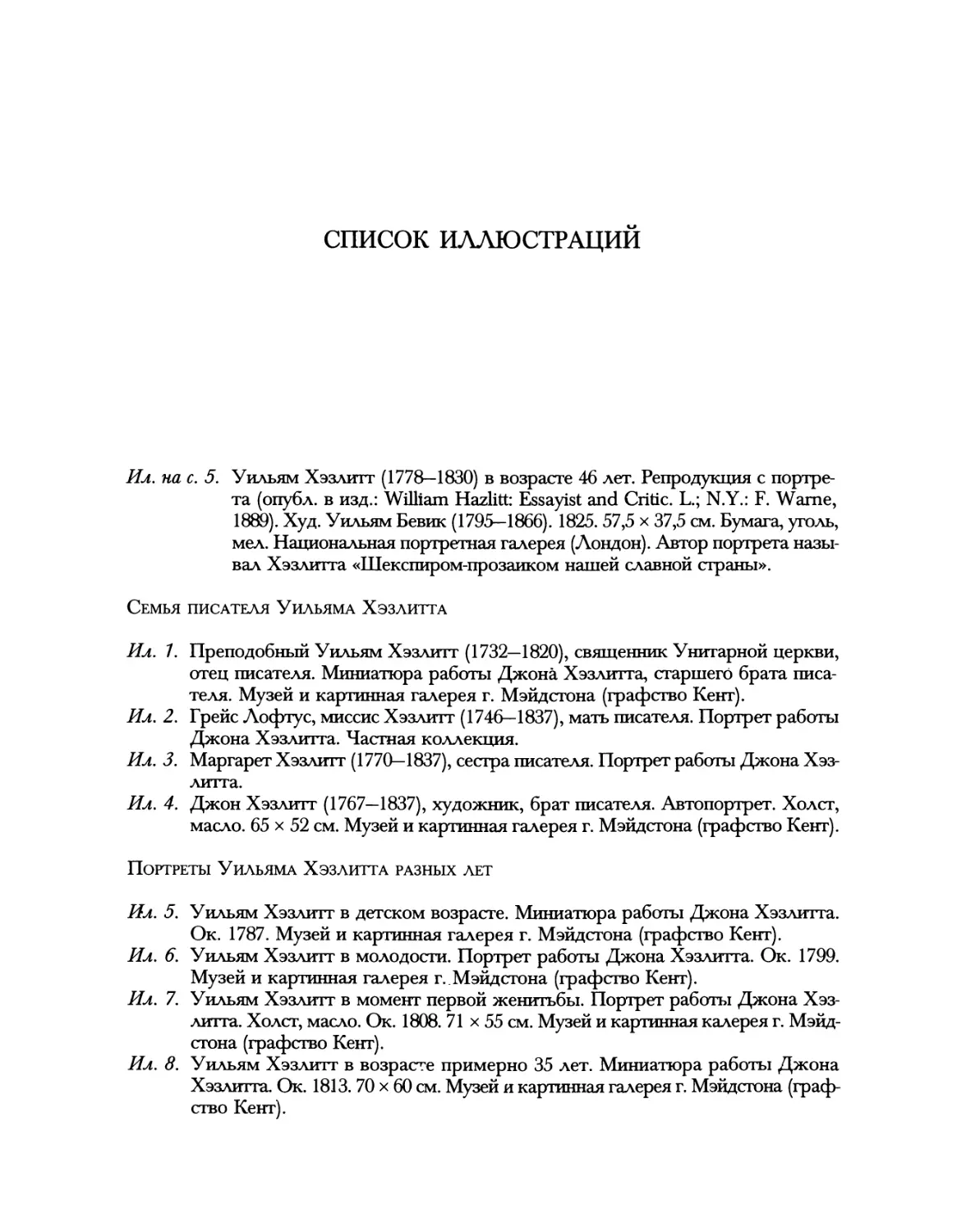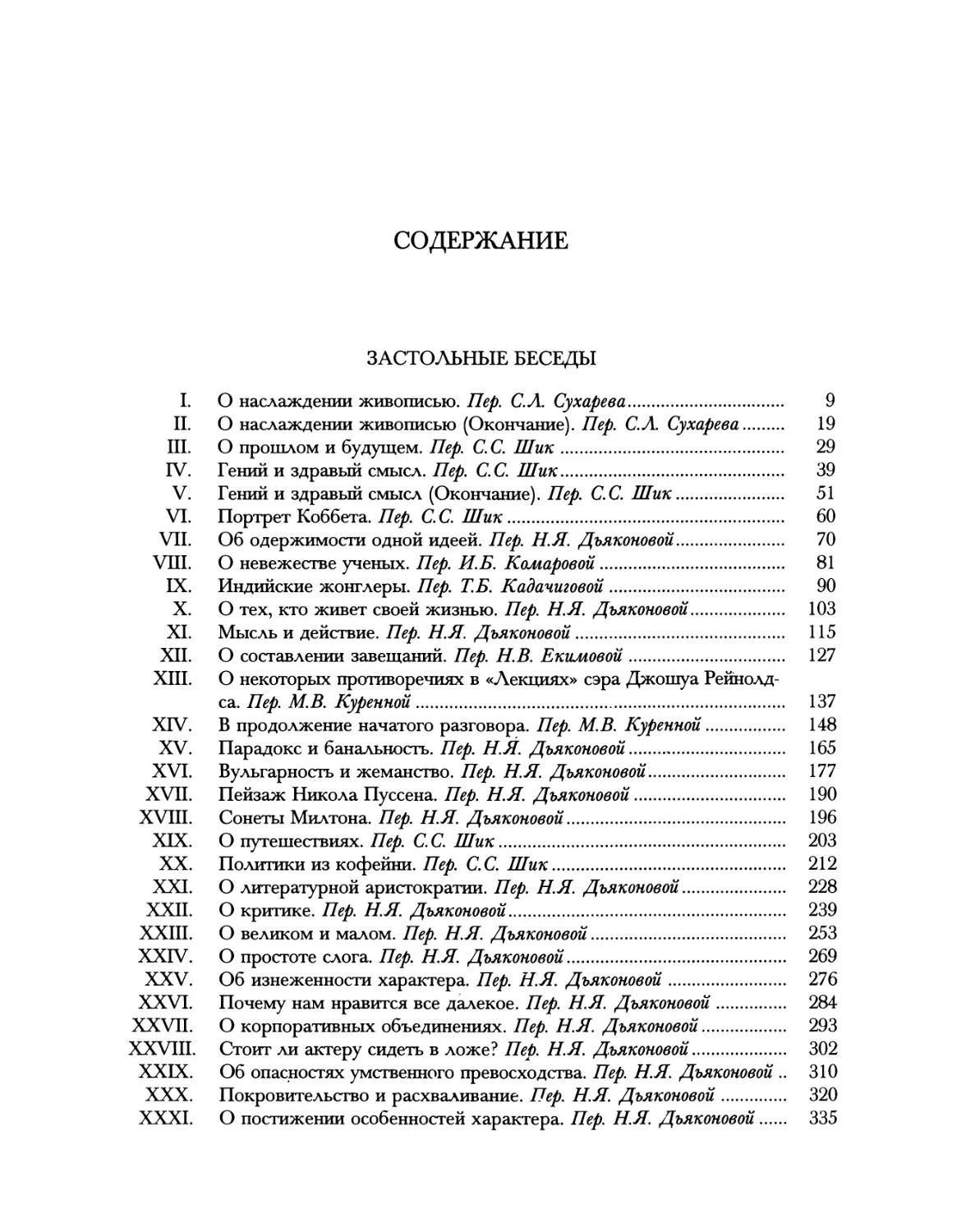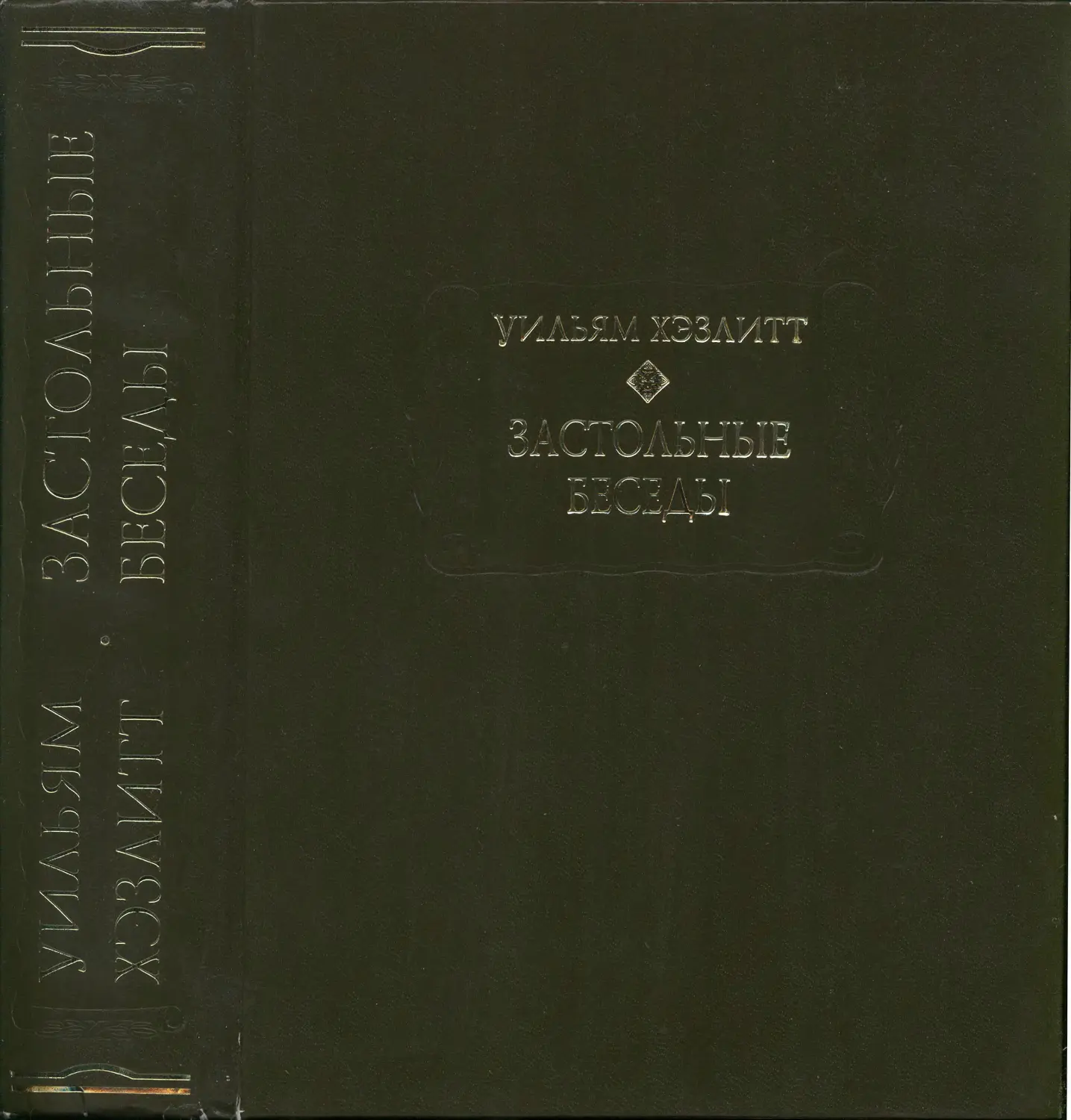Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Литературные TL
ИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
WILLIAM HAZLITT
TABLE
TALK
УИЛЬЯМ ХЭЗЛИТТ
ЗАСТОЛЬНЫЕ
БЕСЕДЫ
•
Издание подготовили
Н.Я. ДЬЯКОНОВА, А.Ю. ЗИНОВЬЕВА,
A.A. ЛИПИНСКАЯ
Научно-издательский центр
«Ладомир»
«Наука»
Москва
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
В.Е. Багно, В.И. Васильев, А.Н. Горбунов, Р.Ю. Данилевский,
Н.Я. Дьяконова, Б.Ф. Егоров (заместитель председателя), H.H. Казанский,
Н.В. Корниенко (заместитель председателя), Г.К. Косиков, А.Б. Куделин,
A.B. Лавров, И.В. Лукьянец, А.Д. Михайлов (председатель), Ю.С. Осипов,
М.А. Островский, И.Г Птушкина, Ю.А. Рыжов, ИМ. Стеблин-Каменский,
Е.В. Халтрин-Халтурина (ученый секретарь), А.К. Шапошников,
СО. Шмидт
Ответственный редактор
Н.Я. Дьяконова
© Н.Я. Дьяконова, перевод, статья, 2010.
© А.Ю. Зиновьева, статья, 2010.
© Ю.Б. Корнеев, наследники, 2010.
© A.A. Липинская, статья, примечания, указатель имен,
2010.
© С. Маршак, наследники, 2010.
© Л.А. Сифурова, перевод, указатели, 2010.
© Переводы, 2010, см. содержание.
© Научно-издательский центр «Ладомир», 2010.
ISBN 978-5-86218-481-5 © Российская Академия наук. Оформление серии, 1948.
Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом
без договора с издательством запрещается
Уильям Хэзлитт
(1778-1830)
ЗАСТОЛЬНЫЕ
БЕСЕДЫ
I
О НАСЛАЖДЕНИИ ЖИВОПИСЬЮ
«Есть в живописи наслаждение, доступное только самим художникам»1.
Пишущий вступает в противоборство с миром людей, удел художника —
дружественное соревнование с природой. Стоит вам приступить к работе — и вы уже
счастливы. Взяв карандаш, вы вглядываетесь в лицо природы, и сердцем
вашим овладевает умиротворенность. Гнев и волнение не препятствуют
размеренному ходу занятий: рука тверда, взор не омрачен; вам не досаждает
необходимость оспаривать нелепые мнения, идти на вынужденные уступки,
сокрушать противника, отделываться от глупца — никто вас не пугает и ни перед
кем не нужно заискивать. Ни «дрязг»2, ни мудрствования, ни козней, ни
лжесвидетельств, ни попыток выдать черное за белое и наоборот; вы всецело
отдались во власть могущественной природы, дабы с простодушием ребенка и
рвением энтузиаста
...с радостью вкусить
Ее манеру, стиль познать с восторгом3.
Вы погружены в раздумье, но оно безмятежно. Дело находится и для руки,
и для глаз. Наблюдение над зауряднейшими предметами, будь то куст или
простой пень, поминутно доставляет вам новое. Вы вдруг подмечаете неожиданные
различия и открываете сходство там, где и не подозревали ничего подобного.
Вы пытаетесь запечатлеть увиденное, но обнаруживаете ошибку и беретесь ее
исправлять. Не надо ловчить или намеренно себя обманывать: сколько ни
старайтесь, а до цели всегда будет далеко. Упорные поиски идеала порождают
терпеливость — источник подлинного, неиссякаемого наслаждения. Лепесток
цветка, прожилки листа, оттенок облака, неотчетливые пятна на старинной
стене или поседевшей от времени руине — все это жадно присваивается
восприятием как spolia opima* такого рода душевной борьбы и заполняет труда-
* Букв.: доспехи, снятые с неприятельского полководца; здесь: трофеи (лат.).
10
Застольные беседы
ми остаток дня. Часы текут незаметно: вы не испытываете ни сожаления, ни
усталости — и совсем не желали бы провести время иным образом.
Безобидность занятия умножает усердие, удовольствие сочетается с пользой, и ум —
не обремененный серьезными размышлениями и не вьшашивающий пагубных
затей — сполна вкушает награду*.
Писание этих очерков не доставляет мне особой радости, впрочем, как и
перечитывание их впоследствии, хотя должен сознаться, что порой
натыкаюсь на фразу, которая мне нравится, или на мысль, которая кажется
справедливой. Берясь же за перо, я думаю только о том, как бы поскорее добраться
до конца, и отнюдь не уверен, что мне это удастся: я редко представляю себе
заранее, о чем будет следующая страница или даже следующее предложение;
когда же будто чудом справляюсь с задачей, готовое произведение уже мало
меня волнует. Иногда приходится переписывать набело, необходимо также —
во избежание опечаток — держать корректуру; так что к тому времени,
когда труд обретает наконец осязаемую форму и поддается пристальному
изучению, с оглядкой на мнение читающей публики, он уже утрачивает блеск и
прелесть и становится утомительней, чем «выслушанный дважды, в унылый
сон вгоняющий рассказ»4. Чтобы упоенно перечитывать собственные строки,
надо сначала выкинуть из головы их авторство. Близкое знакомство
неминуемо родит презрение. Перечитывание самого себя сходно, по существу, с
любованием чистым листом бумаги: от многократного повторения слова утра-
* На одной из страниц «Вертера» содержится дивная иллюстрация к данной
выкладке. Вот этот отрывок: «Приблизительно в часе пути" от города находится деревушка,
называемая Вальхейм. Она очень живописно раскинулась по склону холма, и, когда идешь к
деревне поверху, пешеходной тропой, перед глазами открывается вид на всю долину.
Старуха, хозяйка харчевни, услужливая и расторопная, несмотря на годы, подает вино, пиво,
кофе; а что приятнее всего — две липы своими раскидистыми ветвями целиком укрывают
небольшую церковную площадь, окруженную со всех сторон крестьянскими домишками,
овинами и дворами. Уютнее, укромнее я редко встречал местечко; мне выносят столик и
стул из харчевни, и я посиживаю там, попиваю кофе и читаю Гомера.
Первый раз, когда я в ясный полдень случайно очутился под липами, площадь была
совсем пустынна. Все работали в поле, только мальчуган лет четырех сидел на земле и
обеими ручонками прижимал к себе другого, полугодовалого ребенка, сидевшего у него на
коленях; так что старший как будто служил малышу креслом, и хотя черные глазенки его
очень задорно поблескивали по сторонам, сидел он не шевелясь.
Меня позабавило это зрелище: я уселся на плуг, напротив них, и с величайшим
удовольствием запечатлел эту трогательную сценку. Пририсовал еще ближний плетень,
ворота сарая, несколько сломанных колес, все, как было расположено на самом деле, и,
проработав час, увидел, что у меня получился стройный и очень интересный рисунок, к
которому я не добавил от себя ровно ничего. Это укрепило меня в намерении впредь ни в чем
не отступать от природы. Она одна неисчерпаемо богата, она одна совершенствует
большого художника. Много можно сказать в пользу установленных правил <...>, [но]
[Строгие правила только обуздывают, подрезают буйные побеги...» [Гёте И.-В. Страдания
юного Вертера. Книга первая. Письмо от 26 мая 1771 г. Пер. Н. Касаткиной).
I. О наслаждении живописью
11
чивают всякий смысл, обращаются в пустой звук, и только наше тщеславие
заявляет на них имущественное право как на нечто обладающее
вещественной значимостью. Мои мысли доставляют мне большую отраду, когда не
приходится сообщать их другим: для передачи того или иного впечатления
читателю слова необходимы, однако они скорее ослабляют или даже
затуманивают мои воспоминания о пережитом, нежели яснее их очерчивают. Хотя я
и мог бы воскликнуть вместе с поэтом: «Мой ум — вот царствие мое!»5, но у
меня нет честолюбивого стремления «воздвигнуть трон или министерское
кресло, дабы править умами людей»6. Самым дорогим для нас идеям
вольготнее всего обретаться в области призрачной отвлеченности — «нетронутыми в
уголках души»:7 являясь всеобщему взору, они не прибавляют в силе и не
становятся притягательнее. С такими идеями знакомство установлено
издавна, и любая в них перемена, вызванная привнесенными в стиль или внешний
облик украшениями, мало идет им на пользу. Написал на какую-то тему — и
выбросил ее из головы: все мои чувства, с ней связанные, перелились в
слова и забылись. Я, если можно так сказать, разгрузил память от долгих
привычных вычислений, происходивших внутри души, подвел итог испытанным
ощущениям — и стер этот итог начисто. В дальнейшем он продолжает
существовать только для окружающих.
Однако же, исходя из собственного опыта, я не могу утверждать, что тот
же процесс имеет место при переносе наших идей на холст: в ходе этого
механического преобразования они больше приобретают, чем теряют. От
занятий живописью нельзя устать: вы кладете на полотно не уже известное
вам, а только что вами открытое. В сочинительстве чувства переводятся в
слова, в живописи — наименования в предметы. Из ничего непрерывно
создается нечто. С каждым мазком кисти разворачивается новое поле для поисков,
возникают новые трудности, а преодоление их сулит новые победы.
Сравнивая изображение с оригиналом, вы видите сделанное и осознаете, как много
еще предстоит сделать. Зрительное восприятие устраивает проверку более
суровую, нежели воображение, и этот избыток строгости обуздывает даже
самообман, на который толкает нас себялюбие. Одна часть картины постыдно
уступает другой, и вы, коль скоро не в состоянии сравняться с природой,
решаетесь писать на свой страх и риск. Всякий предмет озаряется светом,
который отбрасывает на него зеркало искусства — и мы, с помощью кисти,
можем словно бы прикасаться к предметам, предстающим нашему взору, и
осязать их. Бесплотные видения, парящие на грани бытия, облекаются на
холсте в телесные формы; образ красоты обретает субстанцию: грезы и
величие мироздания становятся «и чувством осязаемы, и зреньем»8. И вот
взгляните-ка! Окруженная влажным облаком радуга является на полотне во всей
своей царственности, как если бы ее призрачную арку низвели с небес.
Пейзаж, будто блестками, переливается каплями росы после дождя. «Шерстис-
12
Застольные беседы
тые тупицы»9 освещены лучами заходящего солнца. В прохладном вечернем
воздухе разливаются прощальные трели пастухов, наигрывающих на дудочке.
И это многокрасочное зрелище возникло на унылой пустой поверхности,
подобно мыльному пузырю, отражающему все могущественное строение
вселенной! Кто бы вообразил саму возможность рождения на свет этого дива
через посредство рубенсовской кисти?10 Кто, однажды увидев это чудо, не
вознамерился бы потратить остаток жизни на попытку его повторить?
Посмотрите, какое щемящее впечатление производят тучные пашни, опустелое
жнивье, скудный урожай в пейзажах Рембрандта! Как часто вглядывался я
в них и в природу, силился сделать подобное, до тех пор пока не «тускнел
свет»11 и в воздухе не разливался землистый привкус.
В этом направлении совершенствованию искусства, передающего
природу, предела нет. В надежде одним-единственным мазком перенести на холст
все необозримое пространство можно всматриваться в смутно мерцающий
горизонт, покуда не затмится взор, а воображение не утратит силу. Уилсон
говорил о своих стараниях изобразить пылинки, пляшущие в лучах солнца
на закате. А в другой раз в его мастерскую зашел приятель и заметил
художнику, развалившемуся на полу в меланхолической позе, что картина, дескать,
напоминает ему пейзаж, омытый ливнем. Уилсон вскочил в неописуемом
восторге и откликнулся: «Именно такого эффекта я и добивался, но думал,
что потерпел неудачу». Уилсона не замечали, а со временем он и сам махнул
рукой на искусство и пристрастился к выпивке. Рука его сделалась нетвердой:
не с первого раза ему удавалось теперь достигать цели и добиваться
желаемого результата; немного поработав над картиной, он говорил первому же
знакомому, которому случилось к нему заглянуть: «На сегодня я поработал
вдоволь, пойдемте прогуляемся».
Иное дело Клод: он в жизни не оставлял своих картин или живописных
штудий на берегу Тибра ради других удовольствий; не отрывая глаз от
залитых ослепительным солнцем долин и возвышающихся вдалеке холмов,
упиваясь сверканием незамутненных тонов и дивными образами природы, он
наносил их кистью на чистый холст, дабы запечатлеть навеки.
Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни — то чудесное лето12,
когда по вечерам я обычно шел на прогулку, стараясь захватить последние
отблески заката, осыпавшего зеленые склоны или рыжеватые пажити
драгоценными камнями и золотившего то дерево, то башню; лазурное небо тем
временем постепенно разгоралось золотом и пурпуром — и, подергиваясь по краям
сероватым сумраком, простиралось над местностью будто необъятная мозаика
из мрамора — каким мы видим его на полотнах великого мастера итальянского
пейзажа. Однако довольно общих рассуждений: займемся частностями.
Первым портретом, который я попытался написать, был портрет старухи13,
чью верхнюю часть лица затенял капор; за работу я конечно же принялся с
I. О наслаждении живописью
13
величайшим усердием, сеансов позирования потребовалось множество. Этот
портрет и сейчас при мне: порой я взглядываю на него не без удивления,
задумываясь над тем, сколько усилий затрачено — и сколь ничтожен результат;
однако же старался я не совсем попусту, хотя бы потому, что эта работа
научила меня усматривать благое в каждом явлении, позволила мне понять, что
в природе, если проницать ее взором науки или подлинного искусства, нет
ничего пошлого и вульгарного.
Тонкость души создает красоту повсюду: если наблюдатель обнаруживает
в предмете одно лишь низменное, виной тому низменность самого
наблюдателя. Как бы то ни было, я не жалел стараний, всячески стремясь показать, на
что способен. Если искусство вечно14, то и жизнь тогда представлялась мне
вечной. Уже в первый день мне удалось уловить общее впечатление:
собственный успех и подивил меня, и обрадовал. Дальнейшее представлялось
вопросом времени — недель, пусть даже месяцев (коли понадобится) терпеливого
труда и вдумчивой, тщательной отделки. В Берли-хаусе15 я видел портрет
старухи работы Рембрандта — и если бы мог создать нечто похожее за год или
за целую жизнь, то большей славы, величия, блаженства и богатства не мог
бы и желать! Увиденное мною в Берли было точнейшим, удивительным
подобием природы, и я вознамерился также (в меру собственных сил) изготовить
точнейшую копию живого лица. Я не соглашался тогда с сэром Джошуа, да
и поныне расхожусь с ним во мнении, что высшее искусство заключается в
передаче общего внешнего образа, без индивидуальных примет16, и полагаю
необходимым наделять общее индивидуальными особенностями. Ведь в
противном случае можно было бы считать, что я завершил работу в первый же
день. Однако помимо схваченного общего впечатления я увидел в модели
нечто большее и посчитал своим долгом передать это в картине. Речь идет о
поразительном сочетании света и тени — chiaroscuro:* оно отличалось
нежностью и вместе с тем редкой насыщенностью, различия в оттенках были едва
заметны глазу. Мне предстояло изобразить переход от яркого света к
глубокому сумраку, сохраняя насыщенный цвет в основных элементах, но
постепенно приглушая краски в промежуточных. Так диктовала натура, трудность
заключалась в точном ее копировании. Я делал попытки — одну за другой, и все
они оказывались тщетными; я напряг силы до предела — и, как мне
почудилось, преуспел. Морщины на полотне Рембрандта не выглядели жестко
проведенными линиями: они были изломаны и перепутаны. Эти же особенности
я видел на лице моей модели и всячески старался их передать. Когда мне
удавалось за пару утренних часов снять это ощущение резкости и наполнить
старческие морщины отраженным светом, я считал, что день прошел не зря. Под
высохшей пергаментно-желтой кожей там и сям проглядывали кровяно-крас-
* светотени (um.).
14
Застольные беседы
ные прожилки: их я вознамерился запечатлеть во что бы то ни стало — и
беспрестанно сравнивал оригинал с копией, без устали переводя ревнивый,
пристально-зоркий взгляд с модели на холст и обратно, пока не достиг предела,
доступного моему разумению и способностям. Какая уйма поправок!
Сколько попыток ухватить выражение, виденное накануне! Сколь часто хотелось
вернуть прежнюю позу, дождаться былого освещения! Тень от капора не
скрывала поджатых губ, настороженной сосредоточенности взгляда — признаков
немощи и подозрительности, свойственных преклонному возрасту: все эти
черточки, после множества проб и некоторых пререканий, нам в конце
концов удалось передать более или менее сносно. Портрет остался
незавершенным, и я мог бы трудиться над ним и по сей день*. Обычно по окончании
рабочего дня я ставил портрет на пол и, заливаясь слезами, ощущал, как
рождаются у меня новые надежды; взору распахивался новый мир предметов и
явлений.
Так художник учится смотреть на природу другими глазами. Раньше он
видел ее «как бы сквозь тусклое стекло, а теперь лицом к лицу»17. Он
уясняет фактуру и смысл зримого мироздания, «проникает в суть вещей»18 — не с
помощью механических орудий, но через совершенствование своих
способностей, через сокровенную общность с природой. От художника не
ускользает ни одна подробность, даже мельчайшая: она важна для него сама по себе,
ведь он движим не только тщеславием, корыстью или беспокойством о том,
как общество оценит его труды. Даже если объект наблюдения не отличается
красотой и лишен всякой пользы — а бывало.ли иначе? — правда жизни тем
не менее налицо и сполна вознаграждает уже только тем, что будит
стремление познавать и подталкивает ум к деятельности. И самый незаметный
художник — истинный ученый, причем лучший из ученых — он исследователь
и знаток природы. Что до меня, то настоящее удовольствие и отраду я
испытал бы не на месте знаменитейшего законника-казуиста или величайшего
среди филологов, а если бы судьба даровала мне родиться Яном Стеном или
Герардом Доу. Художник взирает на мир не сквозь туман иль «пелену,
привычную для богословов глоссу»19, но применяет к любым предметам одну и
ту же меру истины, внося в свои поиски дух бескорыстной пытливости. Он
постигает форму, распознает свойства. Он читает души людей и страницы
книг посредством интуиции. Он не только знаток, но и критик. Сделанные им
выводы ясны и убедительны, поскольку вытекают из сути вещей.
Художнику чужды фанатизм, самообольщение, рабство: привычка судить всё
окружающее, исходя из собственного восприятия, располагает его и к трезвому суду
* В настоящее время портрет покрыт толстым слоем масляной краски и лака
(недолговечный материал художников английской, школы), напоминающим оболочку
изготовленного золотобитом листа; изображение на нем различить трудно.
I. О наслаждении живописью
15
над собой. Наиболее здравомыслящие люди из числа мне известных — это
художники (если взять их как отдельный класс людей): именно они живее
других воспринимают происходящее вокруг — и они же несравнимо
пристальнее следят за тем, что происходит внутри их самих. По роду занятий
художникам, как правило, доводится больше вращаться в свете, нежели писателям,
и если художникам недостает запаса накопленных знаний, они вынуждены
больше полагаться на собственную понятливость. Я мог бы назвать имена
Опи, Фюзели, Норткота, которые славились поразительным даром описания
и знакомством с тончайшими черточками человеческого характера*. В
обществе людей среднего, невысокого ранга или же совсем низкого уровня, когда
ценность творческой личности никому не ведома, а окружающие обращаются
с художником равнодушно или пренебрежительно, он подчас ведет себя
заносчиво, подчеркивая тем самым свою независимость; однако вину в таких
случаях справедливее возложить на окружающих. Следует помнить и о том,
что далеко не все художественные натуры получают систематическое
воспитание. Ричардсон, упорно настаивавший на том, что профессия художника
должна быть окружена почтительностью, приводит рассказ о Микеландже-
ло20, который поссорился с Папой Юлием П,
сочтя обидным для себя непочтительность, якобы выказанную
понтификом. Некий епископ привел его к Папе и из желания услужить
художнику выставил главным основанием для примирения довод о невежестве,
обычно сопутствующем этому ремеслу и лишающем тех, кто им
занимается, всякого достоинства. Его Святейшество, возмущенный словами
епископа, ударил его жезлом и назвал болваном, ибо не кто иной, как епископ,
оскорбил человека, которого сам Папа ничем не желал задеть; прелата
изгнали из папских покоев, а Микеланджело получил от Папы благословение
вкупе с подарками. Епископ пошел на поводу у широко
распространенного предубеждения, за что и заслужил выговор.
Орудовать кистью — значит не только занимать ум, но и упражнять тело.
Это одновременно и механическое занятие, и умственное. Всякая работа —
вырыть ли яму, посадить капусту, поразить мишень, управлять ткацким
станком, сплести узор — словом, любое усилие, направленное на достижение
результата и увенчавшееся успехом, заключает в себе нечто такое, что возна-
* Деловые люди, могущие за ошибку поплатиться состоянием и потому приучившие
себя предельно четко определять свои исходные позиции перед тем, как связать себя
некими обязательствами, нередко выказывают поразительный навык без проволочки
выносить разумное суждение. Художники сходным образом обязаны вполне ясно сознавать,
чего хотят достичь, задолго до того, как настанет момент воплотить результаты
наблюдений в конкретном художественном произведении.
16
Застольные беседы
граждает стремление властвовать и всецело поглощает
неутомимо-деятельное человеческое сознание. Праздность восхитительна, однако и тягостна: нам
необходимо что-то делать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Действие и
размышление равно важны для врожденного склада нашего существа:
творчество художника непременно сочетает в себе и то и другое*. Рука подвергает
зоркость глаза практическому испытанию; глаз, получив соответствующее
наставление, выдвигает перед ней новые задачи, требующие усердия и
мастерства. Каждый очередной мазок помогает выверить степень достигнутой
правдивости; каждое свежее наблюдение в ту же минуту подтверждается
движением кисти, подчиненной порыву воли. Каждый шаг приближает нас
к желаемому, и вместе с тем объем незавершенного неизменно возрастает.
Сколько бы я ни восторгался легкостью, порхающим изяществом,
мимолетными переливами оттенков — всеми теми приметами, что свойственны
кисти Рубенса или Ван Дейка, я не так завидую их могуществу, как медленному,
терпеливому, тщательному исполнению полотен Корреджо, Леонардо да
Винчи или Андреа дель Сарто: здесь каждое прикосновение кисти словно бы
свидетельствует об осознанности цели, жажде истины и стремлении
старательного художника к четкости, чтобы зритель
Воскликнуть мог бы: «Мыслил этот холст!»21
В одном случае кажется, будто краски легли на холст по волшебству, в
один чудесный миг; в другом они представляются инкрустацией, вделанной
в саму фактуру полотна, стоившего художнику многих лет непрерывного
труда и упоительно-нескончаемого продвижения к совершенству**. Кому
захотелось бы нанести на подобную картину последний мазок — и уже не
задерживаться на ней, не возвращаться к ней снова и снова, не быть
связанным с нею до последнего? Рубенс, с его пышным, стремительным стилем,
сокрушался, что, едва он овладел мастерством, пришла пора умирать. Век
Леонардо, творившего без спешки, оказался достаточно долог.
Занятие живописью, в отличие от писательства, не предполагает, что
называется, сидячего образа жизни. Художественное творчество требует вовсе
не силы, а длительного и постоянного напряжения мышц. Нехватка
физической силы восполняется предельно рассчитанной точностью и изяществом
ручной работы: так, для поддержания равновесия канатный плясун должен
ежесекундно напрягать каждый мускул. Проведенное за мольбертом утро
* Прославленный Шиллер признавался, что, на его взгляд, величайшее в жизни счастье
сводится, в сущности, к машинальному исполнению какой-либо обязанности.
** Щедро наложенные густые мазки Тициана и Джорджоне соединяют преимущества
той и другой манеры — непринужденность первой со скрупулезностью второй, и потому,
пожалуй, их манера заслуживает предпочтения.
I. О наслаждении живописью
17
вызывает у вас аппетит не менее превосходный, чем прогулка верхом через
Бэнстед-Даунс22 у старого Авраама Такера. Сэр Джошуа Рейнолдс, как о нем
пишут, «весь свой моцион совершал у себя в мастерской» — то есть,
подразумевает автор, отходя назад для лучшего обзора картины и вновь
приближаясь к ней; однако сам процесс творчества — наложить краски в нужную
точку в нужном количестве — отнимает гораздо больше энергии, нежели
попеременное удаление от картины и возвращение к ней. Подобные прогулки как
раз не в тягость: это, скорее, способ отвлечься и передохнуть.
Неудивительно, что такой художник, как сэр Джошуа, находивший большую отраду в
физической, практической стороне своего призвания, не мог не чувствовать
себя горько обойденным, когда расстройство зрения помешало ему в
последние год-два жизни предаваться любимому занятию — «источнику», согласно
его собственным словам, «тридцатилетнего неиссякаемого наслаждения и
благоденствия»23. Ведь ennui* неведома только тем, кто не привык утруждать
голову, и тем, кто приохотился к однообразным размышлениям на
отвлеченные темы.
Еще пример — и я покончу с этими хаотичными рассуждениями. Одна из
первых моих проб — портрет отца:24 тогда он, стоя на пороге старости, еще
сохранял бодрость. Резкие черты лица, изрытого оспинами, заливал яркий
дневной свет; склонив голову, отец читал сквозь очки книгу —
«Характеристики» Шефтсбери, в дивном старинном переплете, с гравюрами Грибелина25.
Отец охотно взялся бы и за любую другую книгу: чтение давало ему ни с чем
не сравнимое удовольствие, «богатства без числа»26. Набросок показался
удачным — и я принялся за отделку, намереваясь не жалеть ни времени, ни
усилий. Отец не возражал позировать столько, сколько мне заблагорассудится:
желание служить моделью для собственного портрета вполне естественно —
быть предметом пристального внимания, увековечить свое изображение;
однако, помимо удовлетворения картиной, отец не скрывал и того, что в
известной мере гордится и художником, хотя гораздо больше радовался бы,
напиши я проповедь, а не сравняйся в искусстве с Рембрандтом или
Рафаэлем. Те зимние дни, когда в окна часовни лились солнечные лучи, из
нашего сада доносились трели малиновки («что на исходе зимних бурь вещает»)27,
а моя дневная работа шла к концу, относятся к счастливейшим в моей
жизни. Если я добивался желаемого эффекта в той части картины, для которой
смешивал краски; если мне удавалось ловким касанием кисти передать
неровную поверхность кожи и чистый жемчужный перелив прожилок или
здоровый румянец на затененной стороне лица, я почитал себя на вершине успеха —
и даже, более того, мечтал о том, что когда-нибудь смогу воскликнуть
вместе с Корреджо: «Я тоже художник*»28 Праздные фантазии, ребяческое тще-
* скука [фр).
18
Застольные беседы
славие29 — но моего тогдашнего счастья они не умаляли. Я часто ставил
картину на стул и любовался ею долгими вечерами и даже не раз возвращался,
чтобы проститься с ней перед сном. Помню, как у меня колотилось сердце,
когда я отправлял портрет на выставку; какое волнение испытывал при виде
его бок о бок с полотном достопочтенного мистера Скеффиштона (ныне сэр
Джордж). Никакого сходства между работами не было, кроме того, что обе
представляли собой портреты людей самых благодушных. Думаю, хотя и не
очень уверен, что этот портрет (или же впоследствии еще один) я закончил в
тот самый день, когда пришла весть о битве при Аустерлице;30 возвращаясь
домой вечером после прогулки, я взирал на вечернюю звезду над хижиной
бедняка, охваченный мыслями и чувствами, которые вряд ли когда-нибудь
посетят меня снова. О, если бы великий платонический год31 совершил полный
цикл, дабы те времена могли наступить вновь! Я бы с огромным
удовольствием проспал промежуток, составляющий триста шестьдесят пять тысяч лет!
Портрет заброшен; стол, стул, окно, у которого я делал грамматические
разборы текстов Ливия; часовня, где произносил проповеди мой отец32,
остаются на прежнем месте; но сам он почил вечным сном33, прожив долгую
жизнь, преисполненную веры, надежды и милосердия.
II
О НАСЛАЖДЕНИИ ЖИВОПИСЬЮ
Окончание
Живописец восторгается не только природой: новый, изысканный источник
удовольствия открыт ему в изучении и созерцании произведений искусства —
там, где
Лоррен холста касался кистью нежно,
Буянил Роза иль Пуссен вникал прилежно1.
Художник обращает жадный взор к загородным имениям знатных особ,
полагая найти там настоящие сокровища. Особая аура витает вокруг поместья
лорда Рэднора2, таящего в себе два полотна Клода — «Утро» и «Вечер Римской
империи»; вокруг Уилтон-хауса3, где находится фамильный портрет Пем-
бруков кисти Ван Дейка; вокруг Бленхейма4 — там хранится выполненный им
же портрет детей герцога Бэкингема, а также богатейшее в мире собрание
картин Рубенса; вокруг Ноусли5, где на стене есть надпись, начертанная рукой
самого Рембрандта; и вокруг Берли6 — там имеется несколько головных
изображений ангелов, сотворенных Гвидо. Молодой художник совершает
паломничества к этим местам, с томящимся сердцем взирает издали на усадьбу, «что
прячется в зарослях по грудь»7, и испытывает жгучий интерес, который
владельцу едва ли ведом. Пришелец ступает по превосходно выметенным
дорожкам парка, минует гулкие сводчатые арки и входит в дом, где его ведут по
анфиладам комнат, обшитых дубовыми панелями, ему показывают мебель,
дорогие драпировки, гобелены, массивное столовое серебро и наконец вводят
в помещение, где обретается его сокровище, его кумир — какой-нибудь
выразительный портрет или дивный пейзаж. Холст запечатлевается в мозгу
художника — и отныне пребудет там ключом к познанию природы, пробным камнем
мастерства. Палаты своего сознания художник уберегает от разрушительных
набегов времени, отбирая и помещая лучшее туда, где оно будет всего
сохраннее — поближе к сердцу. Покидая имение, он стал богаче — богаче самого
владельца; он лелеет надежду когда-нибудь вернуться сюда вновь, когда ему,
20
Застольные беседы
быть может, удастся свершить нечто подобное, а в случае неудачи — научиться
испытывать еще больший восторг перед истиной и гением.
Мое посвящение в таинства живописи произошло в Орлеанской галерее:8
именно там сформировались мои вкусы — и такими остались, а посему я
бесповоротно принадлежу к старой школе. Меня ошеломили выставленные там
картины: я взирал на них в изумленном упоении. Туман, застилавший зрение,
рассеялся; с глаз спала пелена. Меня охватили новые чувства: передо мной
предстали новое небо и новая земля. Я узрел душу, наделенную даром речи:
«десницу, что державный жезл сжимала»9 в минувшие века величия;
Нависшую скалу, иль горный кряж,
Иль синеватый мыс, поросший лесом.
Так воздух нам обманывает зренье10.
Былое отомкнуло свою сокровищницу — и Слава стояла у входа
привратницей. Всем нам известны имена Тициана, Рафаэля, Гвидо, Доменикино,
братьев Карраччи — однако встретиться с ними лицом к лицу, оказаться в
одном пространстве с их бессмертными произведениями было событием,
равносильным снятию неких колдовских чар, почти что магическим актом!
С той поры я жил в мире картин. Казалось, что в битвах, осадах,
парламентских речах «много и шума и страстей, но смысла нет»11, в сравнении с
могущественными творениями и грозными именами их создателей, что говорили
со мною среди вечного безмолвия мысли. Происшедшее тем более
примечательно, что еще совсем незадолго до того дня я не только отличался полным
невежеством в области искусства, но и совершеннейшим равнодушием к его
красотам. Вот пример: помнится, как однажды я с невероятным
наслаждением читал «Раздраженного супруга»;12 прямо перед глазами у меня зеленел
лесной пейзаж Рейсдала или Хоббемы, на который я взглядьшал, время от
времени отрываясь от книги, в недоумении относительно того, а чем,
собственно, образчик живописи способен восхитить или ублаготворить ум; и я
задавался вопросом — чисто гипотетическим: пробудится ли во мне когда-нибудь
интерес к живописи, хоть сколько-нибудь близкий тому, какой я питал к
комедиям Ванбру и Сиббера?
Я несколько продвинулся в живописи, когда учеником посещал Лувр;13 но
продолжения так и не последовало. Никогда не забуду, с какой жадностью
впился я в каталог, которым друг14 снабдил меня, перед тем как я
отправился в музей. Названия картин, имена художников, казалось, таяли у меня во
рту. Среди работ Тициана был указан портрет возлюбленной за туалетом15.
Краски, которыми художник озарил ее волосы, нимало не превзошли
красотой те чудные золотые переливы, что играли вокруг меня и мучительно
томили фантазию еще до того, как я увидел картину воочию. Описание двух
других тициановских полотен — «Молодого аристократа с перчаткой»16 и
П. О наслаждении живописью. Окончание
21
второго холста, составлявшего пару первому, — я со сладостным
предвкушением перечитывал вновь и вновь, наделяя воображаемый образ изяществом
и достоинством, какие только способен был представить, а также старинным
полнокровием мастерства — и оригинал ничуть не обманул моих ожиданий.
Имелось в списке и «Преображение». С каким благоговейным трепетом
созерцал я эту картину умственным взором, покуда надо мной реял дух
самого художника! Не испытать разочарования позже, перед самими этими
произведениями, — вот высшая восторженная оценка, какую я могу дать их
непреходящему совершенству. Смутное, однако ничуть не обманувшее надежд
представление об этих полотнах я составил на основе знакомства с другими
работами тех же великих творцов.
При первом посещении Лувра я на какое-то время вынужден был
задержаться во французском выставочном зале — и уже начинал думать, что не
смогу увидеть старых мастеров. Мне удалось только глянуть на них одним
глазком через приотворенную дверь (презренная преграда!) — и это походило
на то, как если бы я взирал на рай из чистилища: от проникновенно-нежных
пейзажей Пуссена я устремил взгляд туда, где развевался яркий стяг Рубенса,
и далее — к неясно мерцавшей веренице несметных драгоценностей Тициана
и всей итальянской школы. Наконец, после долгих назойливых домогательств,
я добился разрешения войти — и немедля воспользовался дарованной мне
привилегией. Это был un beau jour*'17 для меня. Преисполненный восторга
перед открывшимся мне мирозданием — настоящей вселенной искусства, я
прошагал не менее четверти мили среди величественнейших достижений
человеческого гения. Я прошел сквозь строй всех изобразительных школ снизу
доверху, и в итоге меня допустили во внутреннее помещение, где
реставрировались некоторые знаменитые картины. «Преображение», «Мученичество
святого Петра» и «Святой Иероним» Доменикино стояли на полу, словно бы
преклонив колена, подобно верблюдам, опустившимся на землю, дабы
сложить свои богатства к ногам зрителя. Чуть поодаль, с мольберта, Ипполито
Медичи (портрет работы Тициана), с копьем в руке для охоты на вепря,
пронизывал всех таким острым взором, что приходилось отводить глаза в
сторону; здесь же грудами лежали пейзажи, принадлежащие той же кисти:
идиллические зеленые холмы и долины, где под сенью цветущих дерев пастушки
наигрывают песенки своим кротким подружкам. «Читатель, коли ты не бывал
в Лувре, гореть тебе в аду!»18 — ибо ты не лицезрел наилучшие образцы
искусства: во всяком случае, не лицезрел все собрание их в великолепии
взаимоотражения. Умолчу о скульптуре: я мало в ней разбираюсь, и любая статуя
оставляла меня равнодушным до тех пор, пока не увидел я мраморы
Элгина...19 И вот там, четыре месяца кряду, бродил я по залам, предаваясь прилеж-
* прекрасный день [фр.).
22
Застольные беседы
ным занятиям, и слышал изо дня в день предупреждающее бормотание
смотрителя с нескладным провинциальным выговором: «Quatre heures passées, il
faut fermer, citoyens»* (о, и зачем только им понадобилось менять обращение?);
и уносил с собой разрозненные эскизы и наброски, с которыми принужден был
расстаться20, будто с каплями животворной крови в обмен на «твердый
металл»21. И как же часто, о необитаемый дворец божественного величия, как
часто с тех пор мое сердце совершало к тебе паломничество!
Задают вопрос: кто — художник или же обыкновенный человек, от
природы наделенный вкусом и восприимчивостью, — извлекает большее
наслаждение при созерцании произведений искусства? Полагаю, на этот вопрос легче
всего ответить в виде experirnenturn crucis** встречным вопросом, а именно:
кто-нибудь из «рати без числа»22 рядовых зрителей и дилетантов, посетивших
Париж в упомянутые мною годы, проявил ли такой же интерес к
удивительным творениям мастеров, испытал ли перед ними столько же гордости,
насладился ли ими в той же мере, что и самый скромный ученик, еще только
начинающий постигать азы художественного мастерства? Для заезжего
посетителя первое посещение Лувра — всего лишь веха его путешествия, не более;
отнюдь не такое событие в жизни, которое неизменно вспоминается
впоследствии с благодарностью и ностальгией. Такой зритель, чуждый любовной
восторженности художника, осматривает Лувр с тем же бессмысленным
любопытством и праздным интересом, что и королевские регалии в Тауэре
или образцы растений в Jardin des Plantes*** в Тюильри. Да и с какой стати
должно быть иначе? Его участь — предаваться
безлюбой, безотрадной
Усладе мимолетной23.
Художник, напротив, связан с живописью неразрывными узами: это его
возлюбленная, его королева, кумир его души. Ей художник доверил все, что
у него есть — славу, время, удачу, душевное спокойствие, юношеские
надежды, утеху в старости, — и разве не закономерно, что он куда сильнее увлечен
искусством, нежели какой-нибудь обычный праздношатающийся бездельник?
Одна только врожденная восприимчивость, без непрерывного занятия одним
и тем же предметом, занятия, поглощающего ум и душу, не позволит простому
любителю вникнуть во все тонкости красоты и таланта в создании, скажем,
Тициана или Корреджо. Только тот, кто следует за ними по пятам, глубоко
вникая в особенности их мастерства и непревзойденного изящества, способен
оценить достоинства их работ во всей полноте. Знание не только дает силу24,
* «Уже четыре часа, граждане, пора закрываться» (фр.).
** испытания крестом (лат.).
*** Ботаническом саду (фр.).
П. О наслаждении живописью. Окончание
23
но и приносит наслаждение. Никому, кроме художника, изучающего
природу и вступающего в борьбу с трудностями ремесла, недоступно очарование
искусства и упоение страстью к живописи. Кто не посвятил всю свою жизнь
творческим исканиям и не вложил в них всю душу, того не охватит восторг,
какой испытывает художник при виде ярчайших творений и высочайших
триумфов кисти. Где хранятся сокровища, туда тянется и сердце. Семнадцать
лет минуло с тех пор, как я предавался штудиям в Лувре (и давным-давно
оставил всякие помыслы о художественном поприще), но еще очень долго
после возвращения мне грезилось, и даже и по сей день я вижу порой во сне,
будто снова попал туда: спрашиваю, где старые картины, и не нахожу их; или
же, обнаружив, что они выцвели или переменились до неузнаваемости,
просыпаюсь в слезах! Случается ли нечто подобное спустя столь длительный срок
с кем-нибудь из обыкновенных любителей живописи? Иными словами, у кого,
кроме истинных художников, увиденные полотна вызьшали столь же пылкий
интерес и оставили в душе воистину неизгладимый след?
Утверждают, впрочем, и следующее: если человек, наделенный от природы
таким же тонким вкусом, как и художник, и овладевший не меньшими
знаниями, свободен, однако, от мелочных побуждений и не обременен знакомством
с различными техническими приемами, то созерцание замечательного
портрета, чудесного пейзажа и так далее доставит ему большее, ничем не
замутненное удовольствие. Здесь даже не о чем спорить, поскольку требуется
невозможное: нельзя глубоко вникнуть в результат, не имея понятия о средствах, с
помощью которых он достигнут; нельзя питать любовь к искусству, равную по
силе любви художника, без постоянной и безграничной, всепоглощающей
преданности искусству. Художниками, безусловно, нередко движет ревность,
пристрастность взгляда и своекорыстная сосредоточенность только на том, что они
полагают в живописи небесполезным для самих себя. Уилки, по свидетельству
очевидцев, так пристально и подолгу изучал фактуру голландских холстов
малого формата, что переставал видеть картину как таковую. Однако это
следует счесть проявлением извращенности и чрезмерного педантизма,
противоположных подлинному духу художнического призвания. Если бы Уилки не
видел ничего иного, кроме мастичного лака и способов нанесения мазков, он
никогда не сумел бы вложить жизнь и душу в созданные им полотна.
Приводится и еще один довод: необходимые орудия и расходные
материалы для живописи — краски, растворители, кисти — тягостны и неприятны,
а посему осознание трудностей и хлопот, преграждающих путь к
совершенству, должно отравлять наслаждение, сопряженное с процессом
вдохновенного живописания. Это, однако, служит лишь еще одним доказательством
того, что призвание дарует художнику великую отраду: предметы, которые
считают помехой, уничтожающей интерес к произведениям искусства, ничуть
его не смущают; художник и не вспоминает о них, обуреваемый стремлени-
24
Застольные беседы
ем к высокому; его внимание целиком поглощено конечной целью, оно не
рассеивается на средства ее достижения: он захвачен не трудностями, но
победой над ними. Как в случае ученого-философа, не замечающего многих
частностей в страстной погоне за отвлеченной истиной,'или алхимика,
который, роясь в золе и воспламеняя свои тигли, уносится в область золотых грез,
так и здесь — второстепенное уступает место главному. Утверждают, однако,
что художник, возможно, готов мириться с непривлекательной стороной
профессии лишь ради грядущей славы или преследуя выгоду. Настолько
далеко отстоит это мнение от реального положения вещей, что я рискну
подтвердить сказанное выше примером из жизни: один мой друг25 недавно
значительно преуспел в важном художественном начинании, однако ни громкая
известность, которую он благодаря ему снискал, ни огромные деньги, которые
он получил от тысяч восхищенных зрителей, ни газетная шумиха, ни даже
хвалебный отзыв в «Эдинбургском обозрении» — все это, вместе взятое, ни
на миг не принесло ему того неподдельного и безоговорочного
удовлетворения, какое он испытывал в любую минуту из проведенных им за
вдохновенным и благодарным трудом у мольберта — удачно, на его взгляд,
вырисовывая ногу, или руку, или просто-напросто складки драпировки. Каково
душевное состояние художника, когда он увлечен работой? В это время он занят
воплощением возвышеннейших представлений о величии и красоте; он
постигает и облекает в физическую форму лучшее из того, что доступно его
пониманию и пристрастиям — иначе говоря, он всецело и безраздельно обладает
источником высшего для него счастья и упоительнейшего волнения мысли.
В заключение коротко опишу случай, происшедший со мной на днях. Один
мой друг приобрел оттиск «Возлюбленной» Тициана — той самой картины, о
которой я упоминал выше, — и поспешил продемонстрировать его мне. Я
сказал, что гравюра выполнена не без вдохновения, однако по сравнению с
оригиналом выглядит иначе. Друг, по-видимому, счел мой отзыв придиркой, но
при мне был черновой эскиз, который я ему и показал. Едва бросив взгляд на
эскиз, друг заявил, что теперь в точности уяснил смысл моих слов, и тотчас
убрал купленную гравюру с глаз долой, уже навсегда. Моему другу достало
здравого разумения, чтобы уловить разницу в данном конкретном случае, но
человек, ближе знакомый с манерой Тициана и искусством живописи в целом,
то есть наделенный более развитым и утонченным вкусом, понял бы, что
перед ним дурная гравюра, сразу, не сличая ее непосредственно ни с какой
другой копией. С первого же взгляда такой знаток интуитивно ощутил бы
жесткую приземленность этой гравюры, лишенной той мягкой, всепроникающей
и неуловимой выразительности, которая всегда отличает самые прославленные
работы Тициана. Всякий, кому знаком тот или иной портрет, ни за что не
примирится с его гравированным оттиском; для несведущего разницы между
ними нет. В глазах толпы холст Гвидо или пачкотня дилетанта, грошовый
П. О наслаждении живописью. Окончание
25
оттиск, бездарный набросок или законченный шедевр — одно и то же. Иными
словами, все совершенство мастерства, заключенное между двумя
крайностями, — во всяком случае, тот уровень умения, которьш отличает талант от
посредственности, все, что составляет истинную красоту, гармонию, подлинное
изящество и великолепие, — заурядному наблюдателю недоступно. Но
именно отсюда для настоящего адепта живописи открывается нескончаемое
блаженство. Профану какой-нибудь пустячньш рисунок придется по вкусу
больше, нежели искушенному знатоку, но именно поэтому первьш не в состоянии
оценить в должной мере высшие образцы искусства. От неопытного взора
ускользают не только тонкости исполнения, но и сама достоверность в
изображении природы и реальной действительности. Изысканные колебания цвета
в окраске неба у Клода профанами не воспринимаются, а следовательно, не
существует д\я них и гармонии целого. Без осознанного восприятия нет
осознанного наслаждения. Восхищение при первом знакомстве с
произведениями искусства может быть вызвано неведением и новизной, однако исгинньш,
неослабевающий восторг порождается развитым вкусом и осведомленностью.
«Глазами я с вами не стал бы меняться», — благодушно заметил один из
посетителей выставки некоему критику, находившему недостатки в картине, в
которой сам он не видел ни малейшего изъяна. В чем тут суть?
Довольствоваться убогой поделкой знатоку не позволяло неразлучное с ним возвышенное
представление об истине и красоте — неиссякаемьш источник радующих душу
размышлений о высоком. Все может быть иначе, когда речь идет о внешних
эффектах и о границах непосредственного чувственного восприятия, но идея
совершенства, подстегивающая развитие ума, всегда выступает необходимой
спутницей, служит опорой и горделивым утешением.
В своих незаслуженно мало известных «Опытах» Ричардсон приводит ряд
поразительных примеров счастливых и несчастливых судеб художников —
как в плане жизненных обстоятельств, так и в отношении творчества.
Говоря об определении почерка, он восклицает:
Рассматривая какой-нибудь холст или рисунок, думаешь одновременно о
том, кем он создан: щедро одаренный необыкновенными телесными и
умственными способностями — и вместе с тем чрезвычайно капризным
нравом, этот художник* удостоился высоких почестей при жизни и
посмертно, почив на руках одного из величайших властителей той эпохи —
французского короля Франциска I, который любил его как друга. Еще один
художник** прожил долгую и счастливую жизнь, любимый императором
Карлом V и многими другими из могущественных европейских монархов.
* Леонардо да Винчи.
'* Тициан.
26
Застольные беседы
Берясь за третий рисунок, мы непременно вспомним о том, что его автор*
преуспел в трех видах изобразительного искусства, и достигнутой им
степени совершенства в каждом достаточно дая обретения бессмертия;
кроме того, он дерзнул вступить в спор со своим повелителем (с Папой
Римским — человеком непревзойденного высокомерия) и сумел достойно
выйти из затруднительного положения. А вот перед нами еще работа: этот
художник**, не располагая никакими внешними преимуществами и
движимый единственно собственной гениальностью, обладал способностью к
возвышенным полетам воображения, которые и запечатлел с равной
силой, — однако жил и умер он в безвестности. Создатель следующего
произведения*** возродил живопись, когда она пришла едва ли не в полный
упадок; искусством он снискал почести, но, с цинической заносчивостью
отвергая и презирая величие, вызвал такое к себе отношение, которое
соответствовало вылепленному им самим образу, однако не отвечало
внутренней ценности его творчества, и это обстоятельство, не воспринятое им
с философским равнодушием, надорвало ему сердце. А вот это полотно
принадлежит тому4*, кто, напротив, сделался настоящим аристократом;
жил, окруженный блеском и роскошью; принимал почести от
собственного монарха и чужеземных государей; был придворным, государственным
деятелем, художником — и настолько полно выражал себя в каждой из
этих ипостасей, что именно она казалась его призванием, а прочие —
простым развлечением.
Когда размышляешь подобным образом, помимо удовольствия,
испытываемого при виде красоты и совершенства работ гениальных мастеров,
помимо благородных представлений об окружающем, которые они
внушают, все описанное выше приносит еще одну отраду. О, как велика радость
знатока и поклонника искусства, взирающего на картину или рисунок и
говорящего себе: вот рука, вот мысли того, кто несопоставим ни с кем по
утонченной изысканности и редкостной доброте; кого любили и кому
помогали лучшие умы и наиболее влиятельные особы в тогдашнем Риме; кто
вкусил при жизни громкую славу, почести и великолепие; чья кончина
была горько оплакана всеми и каждым; кто лишь несколько месяцев не
дожил до кардинальской шапки; к кому питали особое уважение и кого
осыпали милостями два римских первосвященника, занимавшие при его
жизни престол святого Петра26 — единственные, сходные величием с этим
святым апостолом, — говоря коротко, того, кто мог бы заменить собой и
* Микеланджело.
** Корреджо..
** Аннибале Карраччи.
4* Рубенс.
П. О наслаждении живописью. Окончание
27
Леонардо, и Микеланджело, и Тициана, и Корреджо, и Пармеджано, и
Аннибале, и Рубенса, и кого угодно другого, — однако никто из них не мог
бы заменить собой Рафаэля (С. 251).
Тот же автор прочувствованно описывает перемены в стиле различных
художников в зависимости от прихотей фортуны; и, поскольку эти
подробности мало известны, я приведу отрьшок, в котором речь идет о двух
итальянских мастерах:
От царственного преизбытка богатства (справедливого вознаграждения за
ангельские творения его кисти) Гвидо Рени опустился до положения
наемного слуги у господина, который платил ему за работу условленную
сумму; одержимый страстью к игре, Гвидо проигрывал огромные деньги;
заработанное в неволе за день он, бывало, терял к утру — и ничто не могло
излечить его от проклятого наваждения. Нетрудно, следовательно,
предположить, что работы, выполненные Гвидо в эту несчастную для него
пору, отличаются по стилю от прежних картин, на которых лица
обладают бесподобным, только ему удававшимся выражением — почти что
неземным. Но ни к чему приводить множество примеров. Одному
Пармеджано свойственны все возможные перепады стиля и все ступени
мастерства—от низкого уровня к среднему вплоть до предельного совершенства.
Можно с легкостью привести наглядные доказательства тому, выстроив
произведения в некое подобие пирамиды: всякий согласится, что и то, и
другое, и третье, возможно и даже вероятно, принадлежит одной кисти —
и таким образом художник то восходит вверх, то спускается вниз, подобно
ангелам по лестнице Иакова, стоявшей на земле, а верхом касавшейся
неба27
И этого великого человека настигла превратность судьбы: он
помешался на поисках философского камня, вследствие чего почти забросил
живопись и рисование. Судите сами, чем это обернулось, и изменилась ли его
художественная манера по сравнению с полотнами, написанными тогда,
когда им еще не завладел бес. Кредиторы предприняли попытку изгнать
злого духа, что принесло некоторую пользу, ибо Пармеджано вновь взялся
за работу; но если приобретенный мною набросок головы Лукреции
служит эскизом для последней его картины, как, вероятно, оно и есть в
действительности (Вазари высказывается на этот счет вполне определенно)28, то
это очевидное свидетельство упадка его таланта: рисунок, в сущности,
очень неплох, но лишен изящества, обычно свойственного работам
Пармеджано; именно так я всегда и думал — еще до того, как узнал или
предположил, что рисунок сделан в пору угасания его творческого гения
(«Наука знатока». С. 153).
28
Застольные беседы
У нас в стране у двух художников участь оказалась столь же тяжкой, сколь
и своеобразной. Гэнди в начале прошлого столетия писал портреты, по слухам,
мало уступавшие рембрандтовским; по стилю он бесспорный предшественник
сэра Джошуа Рейнолдса. Однако имя Гэнди мало кто слышал: известность
художника, вместе с его работами, не перешагнула пределов родного ему
графства29. Что думал он о себе и о славе, ограниченной столь узкими
рамками? Воображал ли себя настоящим художником? И чем его самосознание
отличалось от пошлых претензий бездарнейшего пачкуна? Из работ Гэнди
наиболее известен портрет олдермена из Эксетера30, хранящийся в одном из
общественных зданий этого города.
Бедный Дэн. Стрингер! Сорок лет тому назад уверенностью руки и
зоркостью взгляда он превосходил любого из современных ему художников: его
портреты и рисунки не посрамили бы и более славный период в истории
изобразительного искусства. Однако он (подобно Бёрнсу) пал жертвой общества
сельских джентльменов, да еще и таких, что едва ли считали его ровней.
Прошло немало времени с тех пор, как я его видел: он пренебрежительно
отзывался о принесенных им мастерских набросках (в особенности о том, где
изображалась группа горожан из Шекспира, «глотающих вести от портного»)31
как об «ублюдках своего гения, а не о своих детях»32 — и, казалось, оставил все
помышления о творчестве. Не могу сказать, умер он или жив: мир даже и не
подозревает о том, что он вообще когда-то жил!
Ill
О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ
Я не наделен от природы ни богатым воображением, ни слишком
жизнерадостным нравом. Довольствуясь тем хорошим, что есть в настоящем, с
известной признательностью вспоминая о прошлом, я не склонен строить
воздушные замки, обольщаться блистательными иллюзиями насчет будущего и
питать излишнюю уверенность по поводу их осуществимости. Возможно,
именно вследствие этого у меня постепенно сложилась теория, абсолютно не
похожая на привычные взгляды на данный предмет и на расхожие
представления о нем: ее-то я и собираюсь изложить здесь в меру своих способностей.
Стерн описывает в «Сентиментальном путешествии», как французский
сановник в ответ на его заявление, будто едва ли не единственный недостаток
французов — их излишняя серьезность, заметил, что стороннику подобного мнения
придется отстаивать его изо всех сил, поскольку весь мир окажется против1.
В последующем рассуждении сходным образом придется действовать и мне.
Итак, мне кажется неразумным и нелогичным, что прошлое и будущее
оценивают столь по-разному, как если бы второе было всем, а первое ничем,
не имеющим никакого значения. С другой стороны, я считаю прошлое такой
же действительной, неотъемлемой частицей нашего бытия, бесспорным, bona
fide* доводом при оценке человеческой жизни, каким будущее только еще
может стать. Нельзя ничего доказать, утверждая, что прошлое утратило
важность, что оно не заслуживает и минутного внимания, так как миновало, так
как его больше нет. Пускай прошлое обратилось в ничто, пускай стало по ту
сторону добра и зла — будущее же еще только впереди, его вообще еще не
было. Возьмись кто-нибудь утверждать, что одно настоящее имеет в строгом
смысле безусловную ценность, как единственно реально существующее, и что
нам следует ловить мгновенное благо, а всё остальное отбросить прочь, — я
мог бы понять его (хотя, возможно, он и сам себя не понимает)**, — но мне
* Здесь: действительным (лат.).
** Отнимите у настоящего то мгновенье, что уже истекло, и то, что вот-вот наступит, на
чем тогда будет покоиться эта простая, практическая теория? Прочная основа в виде ощу-
30
Застольные беседы
не уразуметь, каким образом, сравнивая достоверное и ощутимое с
отдаленным и эфемерным, можно обосновать преимущество будущего над прошлым,
ведь и то, и другое представляют собой идеальные сущности, абсолютное
ничто и только вследствие того, что видимы внутренним взором, способны
затронуть наши сердце и разум. Да нет, одно из них даже более призрачное,
причудливое творение нашего мозга, чем другое; интерес наш к нему куда
менее отчетлив и обоснован, потому что будущее, которое мы так
превозносим, быть может, вовсе не наступит, не воплотится в действительность, тогда
как прошлое уже бесспорно существовало однажды, получило отпечаток
истины и оставило после себя определенный образ. В нем уже нельзя
усомниться, или, как сказал поэт,
Те радости судьбе уж не подвластны2.
Нельзя, однако, отрицать, что, хотя в настоящем мы не испытываем
непосредственного интереса к будущему, тем не менее само по себе оно имеет
огромное значение и огромный интерес для человека, ибо в нас уже теперь
живет идея реальности, которой со временем предстоит сбыться. В конце
концов, прошлого ведь также нет в действительности, мы перестали его
ощущать, непосредственный интерес к нему миновал, но некогда оно бъш, и мы
все еще способны оживить его в памяти; следовательно, по аналогии, нельзя
сказать, что оно совершенно ничтожно само по себе, да и нам не может быть
абсолютно безразлично, существовало ли оно вообще. О нет, ни в коем
случае! Не будем же опрометчиво отказываться от нашей власти над прошлым
теперь, когда, быть может, мало что еще осталось из того, что привязьшает
нас к жизни. Можно ли считать бывшее ничтожным, а с ним былые
радости и горести? Неужто не имеет никакого значения, был я таким или другим?
Обманываю ли я себя, предаюсь ли пустым грезам, гоняюсь ли за
призраками, расцвеченными праздным и прихотливым воображением, призраками,
которые не имеют подобия в повседневной действительности и не вписаны в
скрижали истины, когда с пылким восторгом или щемящим сожалением
оглядываюсь на то, что некогда было всем для мепя, когда воскрешаю
сверкающие образы ярчайшей реальности,
Той, что вовек из сердца не избыть3?
Неужели в мыслях моих ничто, в глазах моих ничто, когда возвращаюсь
я в мечтах к «солнцу дальнему и небесам»4, которые сияли над тропой моей
юности? Разве ничто не дорого мне в размышлениях обо всем, что случалось
щения и реальности сузится до острия булавки, до тончайшей, как волосок, линии, на
которой нашим мастерам моральной эквилибристики будет нелегко удержаться, не
свалившись в ту или другую сторону.
III. О прошлом и будущем
31
со мной, занимало меня? Или, говоря языком прекрасного поэта (который сам
издавна живет в моих не самых безмятежных воспоминаниях):
Что некогда лучилось и сверкало,
Навек отныне с глаз моих пропало,
И дивное цветов благоуханье
Исчезло, как ушедших дней дыханье5.
Однако можно ли сказать, что я жертва насмешки и обмана, когда
вспоминаю об этом? Разве не дышу и не упиваюсь я вновь воздухом божественной
истины, когда «готов ее хотя бы слабый отсвет созерцать, моленья ей
воссылать издалека»?6 Я не повторю за тем же поэтом:
А позади растаял свет —
Улыбка краткого мгновенья7, —
ибо именно прошлое доставляет мне наибольшую радость и ощущение
подлинности бытия. «Исповедь» Руссо более всего очаровывает меня
неоднократным возвращением к этому переживанию. Истекшие мгновения своей
жизни он сливает, будто капли медовой росы, чтобы приготовить из них
изысканный напиток; сменявшие друг друга радости и горести перебирает, будто
четки, набожно молясь над ними; он разбивает цветник надежд и иллюзий,
что познал в годы юности.
«И у a aujourd'hui, jour des Pâques Fleuries, cinquante ans depuis que j'ai premier
vu Madame [de] Warens»*, — так начинает он последнюю из «Прогулок
одинокого мечтателя», и какая душевная тоска скрывается в этой короткой фразе!
Неужели всё, что случилось с ним, всё, что он передумал и перечувствовал в
то печальное для него время, может быть сочтено ничем? Неужели та
длинная, смутно различимая ньше, тающая вдали вереница лет, счастливых и
несчастливых, всего лишь чистый лист? Разве не увлажняются его глаза, не
сжимается сердце, когда он пытается схватить всё то, что некогда заполняло его
душу, а потом исчезло, так как не могло иметь продолжения в будущем? Разве
не прав был Руссо, интересуясь минувшим более, чем предстоящим
полувеком, который он не прожил, а если бы и прожил — что с того? Стоят ли эти
непрожитые пятьдесят лет того, чтобы размышлять о них, в сравнении с
годами его юности, когда он впервые встретил мадам де Варане? С теми
годами, о которых он рассказьшает с таким неподдельным и чистым восторгом «на
страницах сердца»?8 Когда «душа из жизни упорхнула»9, не пережил ли он
заново раннюю, лучшую пору, опять став таким, каким был когда-то? Вы, леса,
осенившие одинокое, ясное чело Норман-Корта!10 Не оттого ли я так часто
* «Сегодня, в Вербное воскресенье, исполнилось ровно пятьдесят лет с того дня, как
я впервые встретился с г-жой де Варане» (фр.). Пер. Д. Горбова.
32
Застольные беседы
возвращаюсь к вам, ощущаю ваше целительное присутствие, что ваши
раскачиваемые ветром вершины напоминают мне о часах и годах, которые
улетели навсегда; что в вашем бесконечном шепоте я слышу рассказ о лелеемых
надеждах и горьких разочарованиях; что в ваших пустынных дебрях я
блуждаю и теряюсь, как блуждаю и теряюсь в пустыне собственного сердца; что,
подобно тому, как громкий шелест ваших ветвей устремляется вниз к
безлюдным долинам, так и мысли мои от воспоминаний о минувшем с терпеливой
мукой устремляются к унынию моего одиночества. Если бы не бледный, как
первоцвет, лик11 в гиацинтовых локонах, являющийся будто во сне, вечно
ускользающий, неизменно преследующий меня и насмехающийся над моими
мыслями; если бы не улыбка, которую я не в силах забыть; если бы не темные,
сияющие глаза, которые всё еще глядят на меня, затягивая душу в свой омут,
словно в пучину любви; если бы не имя, трепещущее в моем воображении;
если бы не дивный облик, ускользающий от меня, как ореада12 или дриада13
в сказочных рощах, — что бы делал я, как бы смог пережить свинцовую
поступь времени, равнодушного к моим переживаниям? Волнуйтесь же,
волнуйтесь, леса Тюдерлея, возносите к небу ваши вершины; мои клятвы и вздохи,
повторенные вашим таинственным голосом, вливают в меня прежнее бытие
и позволяют выносить себя таким, каким я стал теперь!
Что позволяет нам выдержать бремя наших привязанностей, что
помогает спокойно дожидаться грядущей участи, как не опыт, накопленный в
лучшие дни? Будущее предстает перед нами, словно глухая стена или густой
туман, за которыми ничего не увидишь; в прошлом всё живет и движется;
огорчало или радовало нас оно, интерес к нему не увядает. В самом деле, к
чему обращаемся мы, о чем думаем, говорим чаще всего? Не о неведомом дая
нас будущем, но о богатом событиями прошлом. Отелло, венецианский мавр,
забавлял и себя, и своих слушателей в доме сеньора Брабанцио
воспоминаниями о прожитом «от детских дней»14 и «часто слезы исторгал у них
рассказом о печалях юных лет»15. Ему не удалось бы понравиться дожу, будь
прошлое похоже на старый альманах, который давно пора выбросить и забыть.
Предстоящие несколько тысячелетий — пустые страницы для разума, но
сравните их с теми, что уже истекли! Что поражает воображение, что вызьшает
интерес к величественному? Только то, что уже бъио*.
* «Трактат о наступлении Царствия Божьего на земле»16 нудноват, но чтобы
кому-нибудь когда-либо наскучивало чтение мифов о «золотом веке», — об этом слышать не
приходилось. Когда я как-то однажды заметил, что хотел бы родиться Клодом, кто-то Сказал,
что вот он как раз не хотел бы, ведь тогда к ньшешнему моменту его бы уже не было на
свете — будто вообще имеет значение, когда жить (за исключением текущего мгновения),
или будто ценность человеческой жизни повышается или понижается с течением столетий.
Коли б дело обстояло таким образом, тогда было бы лучше, если бы наша жизнь
пришлась на какой-нибудь отдаленный период в будущем или если 6 мы могли откладывать
наше существование век за веком ad infinitum [лат. — до бесконечности].
Ш. О прошлом и будущем
33
Ни само по себе, следовательно, ни как предмет для созерцания будущее
не имеет перевеса над прошлым. Однако, вспомнив о менее возвышенных
чувствах и устремлениях, мы будем судить иначе. Для сознания и
воображения прошлое столь же зримо, столь же реально, столь же значимо, столь же
ценно, сколь и будущее; но человеческим умом движет и иная сила: воля и
стремление к действию; над ними прошлое не властно — они всецело
принадлежат будущему. Мощный рычаг привязанности в огромной степени
управляет нашими чувствами относительно прошлого и будущего и грубо нарушает
естественный ход ассоциаций. Мы сожалеем об утраченных благах и
страстно предвкушаем новые; радуемся, что удалось избежать беды — «Posthaec
meminisse juvabit»* — и страшимся грядущих напастей. В этом смысле всё, что
было хорошего в прошлом, подобно растраченным деньгам: службу свою они
сослужили, и о них нечего беспокоиться. Всё хорошее в будущем, напротив,
похоже на еще не тронутые припасы и сулит неограниченные удовольствия.
Важно не то, что было, но то, чему предстоит произойти. Отчего же так? Да
попросту оттого, что будущее еще в нашей власти, а прошлое уже нет; что
усилием воли мы пытаемся приблизить или предотвратить то или иное
событие, и это увеличивает его притягательность либо неприятие; оттого, что в
трудах и заботах возрастает интерес к делу, постоянное стремление к цели
усиливает пыл ожиданий, и вместо отвлеченного, праздного безразличия
возникает истинная страсть. Сожаления, тревоги, пожелания бесполезны для
прошлого, но, отстаивая значимость будущего, мы укрепляем свою
решимость и удваиваем старания.
Если будущее не зависело бы от нас, как не зависит прошлое; если бы
меры предосторожности, радужные замыслы, упования, страхи были
одинаково бессмысленны; если бы заранее не смягчалось наше сердце, предвкушая
удовольствие, и не укреплялась стойкость духа в предчувствии беды; если бы
все проплывало мимо, будто развеянная солома или сплавляемый по реке лес,
если бы воля спала, а мы не способны были бы повлиять на будущее, как не
можем удержать прошлое, — и то и другое стало бы для нас равно
безразлично, — иначе говоря, мы воспринимали бы их как впечатления, волнующие
воображение и разум, — порой одобряя, порой сожалея, но без напряжения
воли и побуждения к действию; страсти, предубеждения теснились бы на
одной чаше весов, а другая оставалась бы пустой. Когда беда близка, мы
готовимся к ней; раздумываем, как бы ее предотвратить или ослабить силу
удара; вооружаемся терпением, дабы перенести то, чего нельзя избежать, и
терзаемся при этом множеством бесполезных тревог; но коль скоро удар
нанесен, страдания заканчиваются, бороться дальше нет смысла, и мы
стараемся не изводить и не мучить себя попусту. Это происходит не потому, что
* «Будет нам впредь об этом сладостно вспомнить!»17 (лат.)
34
Застольные беседы
несбывшееся принадлежит будущему, а сбывшееся — прошлому, но потому,
что одно относится к миру деяний, тревожных опасений и сильных страстей,
а другое всецело перешло туда, где «радости спокойны, как страданье»*' ш.
Предстоящая через год пытка вызывает озабоченность оттого, что есть
надежда избежать ее; но никто не станет прыгать как на иголках, вспоминая
о мучениях, пережитых год назад. Надежда подвигает к пусть и тщетной, но
изнурительной борьбе с роком, к каждодневной пытке воображения.
События отдаленные или не зависящие от нашей воли не требуют немедленного
действия, опрокидывают всякие попытки вмешаться в их ход и волнуют нас
не многим более, чем если бы они уже свершились или предстояли бы в
другой сфере бытия либо кому-то чужому. Как показывают наблюдения,
преступники испытывают сильное волнение до вынесения приговора, но после того,
как судьба их решена, смиряются и, как правило, крепко спят в ночь перед
казнью.
В пользу моей теории свидетельствует, в частности, следующее:
предпочтение отдается прошлому или будущему в зависимости от того, насколько
люди вовлечены в деятельную жизнь, в водоворот событий. Те, кто гонится
за богатством или добивается высокого положения и власти, мало
задумываются о прошлом, ибо оно не слишком способствует их целям; чье
единственное занятие — размышление, заняты прошлым не менее, чем будущим.
Созерцание прошлого доставляет столько же удовольствия, как ожидание
будущего, и позволяет осязать его не менее явственно. Пора надежд и упований
имеет свой конец, но воспоминание о ней остается. Прошлое по-прежнему
живет в памяти у тех, кто на досуге имеет возможность оглянуться на
пройденный путь и выхватить в минувшем «мимолетные впечатления,
скрашивающие им одиночество»19. Бурная деятельность и беспокойные желания
принадлежат будущему; лишь в безмятежной невинности пастухов и пастушек,
в простоте пастушеского века был найден могильный камень с надписью «И
я жил в Аркадии!»20.
Хотя я отнюдь не думаю, что сила присущей нам обыкновенно
привязанности к жизни вполне соразмерна с ценностью этого дара, тем не менее не
отношусь к тем вечно недовольным людям, которые всячески подчеркивают,
что дар сей вообще не обладает никакой ценностью. Que peu de chose est la vie
humaine!** — восклицают моралисты и философы, но я не могу с ними
согласиться. Да, жизнь значит мало, она коротка, она не стоит того, чтобы жить, —
* Точно так же, когда нам известно, что где-то далеко от нас произошло то или иное
событие, мы, покуда не ведаем о его исходе, места себе не находим и мучаемся
неизвестностью, словно событию еще только предстоит случиться, однако, как только дело
проясняется, наше нетерпение и раздражительность улетучиваются, мы покоряемся судьбе
и всеми силами стараемся смириться с тем, как все обернулось.
** Какой пустяк — человеческая жизнь!21 (фр.)
Ш. О прошлом и будущем
35
если взять последний час и выпустить всё, что ему предшествовало, — однако
такой взгляд на предмет представляется однобоким. Те, кто производит подобн
ные подсчеты, как представляется, утверждают: жизнь — ничто, когда она
закончена, и в каком-то смысле так оно и есть. Если бы древнее правило — Res-
pice finem* — возвели в абсолют и никого нельзя было бы объявить
счастливым вплоть до его смертного часа, мало при таких условиях нашлось бы
среди нас тех, чья участь оказалась бы завидной. Но так смотреть на вещи
неверно. Жизнь человека включает в себя все его существование, а не последний
едва мерцающий огарок свечи; и жизнь, говорю я, — дело значительное, а вовсе
не пустяк, вне зависимости от того, что мы станем рассматривать, —
удовольствия ее или горести. Брюзгливо заключить противоположное, основываясь на
наших отживших желаниях или исходя из того факта, что мы забываем о том,
к чему утрачиваем интерес, столь же разумно, как утверждать, что старик
никогда не был молодым и что мертвый никогда не жил.
Нельзя судить ни о длительности или приятности путешествия по
нескольким последним шагам, ни о размерах здания — по величине последнего
камня. Не первый и последний час, но то, что было между ними; не выход
на сцену и уход с нее, но всё, что пережито, перечувствовано, передумано,
должны мы учитывать, вынося приговор. Легко показать, что само
пространство человеческой жизни, бесконечный ряд происходящих в ней
событий, противоречивые и зыбкие интересы, меняющиеся обстоятельства,
проходящие в хлопотах часы, месяцы, годы, иными словами, длительность
нашего существования и наполняющие его происшествия — это нечто такое,
что мы не в силах полностью воспринять, и они выскальзывают из памяти,
без остатка растворяясь вдалеке... Перед нами необъятная громада, а мы
говорим, что она ничтожна! Да, нам кажется, что все виденное нами — всего
лишь песчинка, пятнышко, но каково должно быть полотно, чтобы
удержать эти поразительные сочетания, эту бесконечность предметов! Жизнь
невесома, будто пустопорожнее тщеславие, но если все огорчения, все
тревоги ума и сердца слить в единую боль, — какой стойкостью надо было бы
обладать, чтобы ее превозмочь? Какая необъятная, «огромная, немая
глыба»22 сложилась бы из желаний, помыслов, чувств, переживаний и надежд,
радостей, привязанностей любовных и дружеских!.. Сколько серьезных,
ярких мыслей возникает в голове, сколько глубоких, сильных чувств
зарождается в сердце за один только день, проведенный за чтением или в
размышлениях! А сколько таких дней в году, сколько лет на протяжении долгой
жизни! Наш интерес не угасает: мы храним старые впечатления,
продолжаем решать давнишние вопросы, осознавая власть над былым и заново
переживая «порыв борьбы, успеха торжество»23, ибо разум сосредотачивается
* Смотри в конец24 [лат.).
36
Застольные беседы
исключительно на том, что способно его занять, и впадает в приятное
возбуждение либо проявляет живую озабоченность в зависимости от
потребностей, продиктованных его собственной природой.
Тщательное разделение карты жизни на составные части блестяще
произведено королем Генрихом VI:
О Боже! Мнится мне, счастливый жребий —
Быть бедным деревенским пастухом,
Сидеть, как я сейчас, на бугорке
И наблюдать по солнечным часам,
Которые я сам же смастерил
Старательно, рукой неторопливой,
Как убегают тихие минуты,
И сколько их составят целый час,
И сколько взять часов, чтоб вышел день,
И сколько дней вмещается в году,
И сколько лет жить смертному дано.
А сосчитав, я разделил бы время:
Вот столько-то часов пасти мне стадо,
И столько-то могу отдать покою,
И столько-то могу я размышлять,
И столько-то могу я забавляться;
Уж столько дней, как в тягости овечки,
Чрез столько-то недель ягниться им;
Чрез столько лет я буду стричь ягнят.
Так дни, недели, месяца и годы
Текли бы к предопределенной цели,
Ведя к могиле седину мою25.
Я не король и не пастух; книги — мое тонкорунное стадо, мысли — мои
подданные. Мне всегда было чем заняться в прошлом, будет над чем
поразмыслить и в будущем.
Отрасти сжимают и искажают естественный ход жизни. Они убивают всё,
что не подчиняется их тиранической власти и не служит их прихотям. Как
разнятся между собой невинное смеющееся детство, радостная юность и
брюзгливая старость! Бремя забот подобно тягостям вины: деловой человек,
будто преступник, постоянно пребывает в смятении, беспокойстве, вечно куда-
то спешит. Житейская мудрость и дурные примеры разрушают свободу и
простоту мысли. В ранние годы душа, еще не перегруженная впечатлениями, с
безыскусной искренностью воспринимает окружающее. Немногие радости и
печали легко сменяют друг друга; чувства еще свежи, незамутненны. Именно
в эту пору «сквозь слезы улыбается душа»26. С годами крепнет наша воля, мы
обзаводимся предрассудками, начинаем потакать своим прихотям. Все наши
мысли устремляются порой к какой-либо одной цели, и мы не успокаиваем-
III. О прошлом и будущем
37
ся, пока не добьемся своего. Мы цепляемся за свои мнения, выдумки,
предубеждения, и это подрывает здравость наших суждений и живость,
безмятежность нашего чувства. Цепи обычая, будто змея, обвиваются вокруг сердца,
гложут и душат его. Теряя детскую мягкость и податливость, оно грубеет,
черствеет, покрывается безобразными язвами и рубцами. Неодолимые и
извращенные страсти постепенно заглушают природную чувствительность и
стремление творить добро, и мы принуждаем себя добиваться того, что не
приносит ни радости, ни пользы. За горячкой суеты неминуемо наступает
разочарование, и так проходит жизнь. Мало-помалу мы привыкаем к этому
болезненному состоянию души; обыкновенные удовольствия и легкодоступные
развлечения приносятся в жертву демону непомерных притязаний, алчности
или распущенности. Машина утомляется; жар в крови иссушает цветы
Любви, Надежды и Радости. Освобождение от пытки наслаждениями, которой мы
подвергнуты, и даже любое временное избавление от нее кажется нам еще
невыносимее, чем одолевающие нас муки. Мы колеблемся между
мучительными желаниями и ужасом ennui*. Воля делается неуправляема, точно колеса
повозки, несущейся под гору; напрасно возница, Разум, пытается остановить
ее или замедлить ход, натягивая поводья. Одна мысль или фантазия
полностью завладевает нашим умом и, как бы ни была смешна, тревожна,
разрушительна, преследует нас всю жизнь.
Сказанное выше о чрезмерной суетливости касается не только наших
бурных страстей и устремлений, но даже таких занятий наукой и
творчеством, которые подрывают жизненный покой и счастье. Жажда воплотить
замысел значительно превосходит удовлетворение достигнутым. Ум
напрягается, пока мы добиваемся цели, но ему не хватает легкости и
жизнерадостности для наслаждения победой. Возбуждение, подвигающее к действию, не
угасает; как бы ни тяготил нас труд, справившись с ним, мы ищем, за что
бы снова приняться. Наш ум не предается ни радости, ни покою. Отсюда
потребность в сильных stimuli** у людей, до крайности напрягающих
умственные способности: они ищут возможности ослабить чрезвычайное волнение
и успокоиться. Как отмечает Спенс в «Заметках о Поупе»27, поэты,
именуемые improvisatori***, не могут уснуть после выступлений, когда
демонстрируют свое уникальное, трудное искусство. Стихи продолжают возникать у
них в голове помимо воли, не давая предаться отдыху. Ремесленники и
рабочие не знают, куда себя девать по воскресеньям, несмотря на то, что ждут
не дождутся выходного в течение недели, а после него бодрее возвращаются
к работе.
* скуки (фр.).
г* стимулах (лат.).
* импровизаторами [um.).
38
Застольные беседы
Сэр Джошуа Рейнолдс всегда тосковал по своей мастерской, находясь вне
ее, и умер от огорчения, сожалея, что не мог творить до последних дней своей
жизни. Он говорил, что способен работать над картиной без конца, покуда она
стоит на мольберте, но едва стоило ей покинуть дом, как он был уже не в
силах смотреть на нее. А один остроумный художник нашего времени
утверждал, что, если он угодит в когти к дьяволу, ему наверняка придется копировать
собственные старые картины.
Так, с самодовольным, безмятежным спокойствием глядя на прожитые
годы и со страстным ожиданием и тревогой вперив глаза в предстоящие, мы
считаем прошлое ничем, а будущее всем. Мы опасаемся оглядываться на
прошлое, дабы не замедлилось наше продвижение вперед, — беззаботное
существование губительно для мастерства. Стремясь добиться успеха в
жизни, мы упускаем из виду истинную цель бытия!
IV
ГЕНИЙ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Мы постоянно слышим от людей, более отличающихся глубокомыслием,
нежели проницательностью, что гений и вкус вполне сводимы к правилам и
что существуют правила для всего на свете. Ошибочность мнения, будто
прекраснейший порыв фантазии поддается определению, явствует из того,
что даже элементарный здравый смысл представляет собой то, что мистер
Локк назвал бы смешанным модусом1, зависимым от благоприобретенного,
осознаваемого чувства меры. Спрашивается: не зная точно правила,
диктующего то или иное действие, как можно с уверенностью осуществить это
действие вторично? Ответ таков: ведь можно, не понимая работы мышц, идти и
не падать на каждом шагу. И в повседневной жизни, и в искусстве, и в
разговоре, и в вопросах вкуса вами руководит не разум, а чувство, а точнее,
множество впечатлений, оставивших след в душе, — впечатлений безусловно
достоверных и отражающих реальность, но не поддающихся подробному
разбору и довольно безотчетных. Не разум и не правила, но привычка к
наблюдению позволяет судить по одному жесту, взгляду или тону о внешних
проявлениях чувств, об их уместности и значении. Иными словами, вы
исходите из неисчислимых схожих жестов, взглядов, интонаций, возникших в
неисчислимом количестве других, самых разнообразных обстоятельств, и
этих отдельных проявлений слишком много, а различия между ними
слишком тонки, чтобы их все можно было отчетливо припомнить, но от того они
не менее властно влияют на душу и вкус. И разве можно утверждать, что
впечатления, являющиеся непосредственным оттиском природы, не имеют
силы до тех пор, пока их не разложат по полкам и не сведут к правилам? И
разве самые правила не основываются на истинном и несомненном
воздействии природы? Неужто для того, чтобы впечатления оказали положенное и
цельное воздействие на ум, необходимо понимание механизмов этого
воздействия? Если бы определенные последствия не наступали регулярно в резуль-
40
Застольные беседы
тате определенных причин духовного или материального свойства, нельзя
было бы говорить о том, что на сей счет существует какое-то правило.
Природа не следует правилам, но подсказывает их. Разум — всего лишь
толкователь и исследователь природы и гения, но не законодатель им и не судья.
Поистине жалок тот, чьи жизненные убеждения почти никогда не выходят
за пределы осмотрительной рассудочности, кто чувствует и познает не более,
чем способен разъяснить. Здесь кроется разница между красноречием и
мудростью, между оригинальностью и здравым смыслом.
Один умеет искусно обосновывать свою точку зрения, но при этом
остается обыкновенным софистом2, видящим только одну сторону вопроса. Иной,
напротив, воспринимает проблему в целом, ни одна мелочь не ускользает от
его внимания, однако может оказаться не способным ни объяснить, каким
образом проблема влияет на него, ни извлечь из тайников мысли
убедительные доводы. Таков мудрец, но не логик и не ритор. Голдсмит — простак
против доктора Джонсона в научной дискуссии, то есть в том, что касается
приведения доказательств в пользу высказанных мнений, но доктор Джонсон —
простак по сравнению с Голдсмитом в отношении тончайшего чувства меры
и неуловимой интуитивной способности, едва скользнув по поверхности
вещей, приходить неосознанно к окончательным выводам. Здравый смысл —
итог всей совокупности подобных неосознанных впечатлений, возникающих
в обычных жизненных обстоятельствах, сохраняющихся в памяти и при
необходимости из нее извлекаемых. То же можно сказать о гениальности и
вкусе, хотя проявляются они более причудливым образом и в более
возвышенных сферах.
Пространная цитата из «Лекций» сэра Джошуа Рейнолдса3 защитит меня,
надеюсь, от обвинения в надуманности или странности моих воззрений по
этому вопросу, который нередко обсуждают, но плохо понимают, ибо сия
цитата в полной мере отвечает этой цели и убедительно подтверждает мою
точку зрения. Вот что он говорит:
По моим наблюдениям, основополагающей общей особенностью всех
искусств, которые мы хоть как-то затрагиваем в этой «Лекции», является то,
что они обращены только к двум свойствам нашего ума — воображению
и чувствительности.
Все теории, которые пытаются направлять или контролировать
искусство, основываясь на каких угодно принципах, ложно именуемых
рациональными (а рациональное, как мы полагаем, является целью или
средством искусства), и считая, вопреки очевидному, что искусство не зависит
от изначальных внешних впечатлений, следует признать ошибочными и
построенными на заблуждении. И хотя, может быть, утверждение,
чересчур смелое, но я все же отважусь сказать, что, ежели воображение отве-
IV. Гений и здравый смысл
41
чает на внешние впечатления, наш вывод верен; в противном случае
рассуждение ошибочно, ибо цель не достигнута: ведь следствие является
единственным критерием истинности и действенности средств.
И в быту и в искусстве существует некая мудрость, нимало не
противоположная здравому рассудку, но превосходящая его во всех случаях,
пускай он ее и вытесняет. Мудрость эта позволяет словно бы по наитию
сразу прийти к выводу, не обращаясь к медлительному процессу
умозаключений. Человек, наделенный такой способностью, ощущает и
распознает истину, хотя не всегда может обосновать ее и воспроизвести
обстоятельства, заставившие его думать так, а не иначе, — ведь множество
весьма запутанных соображений могут примешиваться к первопричине, даже
состоящей из незначительных и ничтожно малых частей, которая
включена или опирается на сложнейшую взаимосвязь вещей, забываемых со
временем, но оставляющих верный отпечаток в душе. Эти впечатления —
плоды опыта, накапливаемого в течение всей жизни порой непостижимым
для нас образом. Вне зависимости от того, как они были приобретены,
внушительный массив совокупных наблюдений должен быть сильнее
рассудка: как бы он ни изощрялся в той или иной ситуации, ему вряд ли
постичь предмет целиком. И в жизни и в искусстве мы, как правило,
руководствуемся или должны руководствоваться этой врожденной интуицией:
счастье, что мы имеем возможность припасть к таким источникам. Если бы
мы были обязаны предварять каждый свой шаг теорией, жизнь зашла бы
в тупик, а искусство оказалось бы неосуществимо.
Вот отчего мне кажется (продолжает сэр Джошуа), что наши первые
мысли, или, точнее говоря, первые впечатления, с особой силой западают
в душу именно потому, что они первые, и в дальнейшем никогда не
забываются. Эти первые впечатления нужно тщательно хранить и беречь. В
противном случае художник может впасть в заблуждение, поверяя
холодным разумом живые образы, являющиеся ему не по прихоти или
безрассудству (как ему может показаться впоследствии), но вследствие избытка
впечатлений и чувств, почерпнутых из богатых запасов разнообразных
виденных им или рожденных в его голове новинок. Эти представления
вплетаются в творческий замысел без какого-либо сознательного усилия со
стороны художника, но если он не отнесется к ним бережно, то станет
передумывать и исправлять их, пока не сведет все к тривиальности.
Мне хотелось бы предостеречь причастных к творчеству от
необоснованного недоверия к чувству и воображению, от увлечения узкими,
ограниченными, пристрастными, спорными теориями и от применения подобных
принципов к своему замыслу. Нельзя недооценивать мощного влияния
впечатлений на фантазию, влияния, в котором и проявляется истинный
здравый смысл, по сути своей более глубокий и значительный, чем лежащее на
42
Застольные беседы
поверхности банальное ощущение. Разум, вне сомнения, в конечном счете
должен определять всё и, в частности, подсказывать нам, в каких случаях
он должен уступать место чувству (Лекция ХШ. Том 2. С. 113—117).
Мистер Бёрк, кем были, вероятно, внушены вышеизложенные
рассуждения4, отстаивал сходные идеи и в довольно искаженном виде представил их
в разных частях «Размышлений о революции во Франции». Уиндэм в одной
из своих речей сжато выразил эти мысли в афоризме: «Нет ничего истинней
привычки»5. Здравый смысл, снова скажу я, — это бессловесный разум.
Совесть — такое же безмолвное ощущение правильного и неправильного, или
запечатленный в душе нравственный опыт и связанные с ним опасения.
Поскольку этот опыт работает неприметно, но верно, мы иногда считаем его
инстинктом, коренящимся в душе, — подобно тому, как объясняем бурные
страсти, источник или причина коих нам непонятны, влиянием дьявола.
ДгЛя более углубленного изучения вопроса я приведу здесь несколько
примеров и иллюстраций.
Один из тех ослушников, кто вызвал неудовольствие правительства в 1794
году6 и был включен в список лиц, обвиненных в государственной измене,
вскоре после того переехал в Уэльс, намереваясь приступить к написанию
эпической поэмы, а заодно вкусить радости сельской жизни. Странствуя по
чудесным местам, он прибыл однажды утром на постоялый двор в деревушке
Лланголен7, расположенной в одноименной романтической долине. Он
заказал завтрак и сидел у окна в праздном ожидании. На улице мелькнуло чье-
то лицо, на которое он, впрочем, не обратил в тот момент ни малейшего
внимания, однако, когда ему вскоре принесли завтрак, он почувствовал, что
аппетит у него пропал, а день утратил свою свежесть — душой скитальца
овладела тревога, настроение испортилось, без видимой причины всё кругом
для него переменилось. Пока он пытался разобраться в этих странных
обстоятельствах, то же лицо появилось снова — это был шпион по фамилии
Тейлор. Теперь уже нетрудно было разобраться в случившемся. Мимолетного
впечатления, беглого взгляда на профиль в окне оказалось недостаточно,
чтобы вызвать отчетливое воспоминание, однако чувства, более быстрые и
острые, насторожились; была задета одна струна, а звуки отозвались во всем
существе и взволновали его, хотя он никак не мог уразуметь, что с ним
происходит. Летучий, неуловимый, едва различимый профиль, проскользнувший
за окном, непостижимым образом оказался неразрывно связан с длинной
вереницей впечатлений, оставленных когда-то тем человеком, и в один миг
в туманной, неразборчивой скорописи сознания наш путешественник заново
пережил речи генерального прокурора и его заместителя; долговязая
фигура мистера Питта встала перед ним во весь рост; стены тюрьмы обступили
его, он почувствовал, как приближаются руки палача, — и все это неосознан-
IV Гений и здравый смысл
43
но, пока потрясенные и пришедшие в расстройство нервы не довели до его
разума, что внутри у него творится что-то неладное.
Сходное состояние души было вызвано всего лишь одной из цепи
ассоциаций, которые возникли в свое время под влиянием целого ряда
обстоятельств — хотя как это состояние возникло, постичь сразу представлялось
невозможным. Иными словами, чувство удовольствия или страдания, добра
или зла возникает и оказывает мгновенное воздействие на душу прежде, чем
мы успеваем припомнить конкретные объекты, первоначально эти чувства
вызвавшие*. Очевидно, случай, описанный здесь, относится к разряду явлений,
называемых учеными ассоциацией идей. А впрочем, всё, что разумеют под
чувствами или здравым смыслом, — не что иное, как различные случаи
ассоциации идей, более или менее соответствующих впечатлениям от исходных
обстоятельств, поскольку и действие разума начинается с формального
прослеживания этих обстоятельств или с объяснения различных случаев ассоциации
идей. Отсюда все же не следует, что немые призывы чувства, хотя порой и
даже довольно часто они вводят в заблуждение, менее правдивы, чем их
болтливый толкователь, и что не надо подчиняться их велениям, не прибегнув к
авторитету разума. И чувства, и разум несовершенны, хотя по-своему
полезны. Они взаимно дополняют друг друга, направляют и подтверждают. Из
этого не вытекает, что в приведенном выше случае внезапные впечатления
души были плодом суеверия или выдумки, хотя и могли быть приняты за
таковые, если бы последующие события не доказали, что за впечатлениями
этими стоят реальные физические и моральные причины. Не появись тот
человек снова, сомнения никогда бы не рассеялись; чувство недоумения
сохранилось бы навсегда, а может, вскоре бы и забылось. По закону ассоциации, как
утверждают физиологи, одно впечатление способно вызвать любое другое из
того же ряда без соблюдения первоначальной последовательности: душа
опускает промежуточные звенья, стремительно и будто украдкой переходя к
более сильным переживаниям наслаждения или боли, естественно лучше ей
запомнившимся. Привычно и ловко сортируя разнообразные впечатления и
обстоятельства, с которыми знакомит нас опыт, душа рождает цепи непред-
* Чувство имеет те источники, что указаны выше. Так, Ranz des vaches [фр. —
пастушеский мотив], звуки которого производят такое сильное впечатление на швейцарских
крестьян, не только воскрешает для них образ их страны, но вызывает тысячи
безотчетных мыслей, ассоциируется с бесчисленными примерами сердечной привязанности,
юношеских надежд, романтических приключений, национальной гордости, которые бурным
потоком сливаются с нежными воспоминаниями, вызывая томительную тоску по дому
или желание погибнуть за родину. Человеческое сердце — поистине тонкий инструмент!
Кому дано тронуть его? Кому дано постичь его? Кто «изучит весь его диапазон, от
нижних нот до верхних?»8 Кто переберет его струны и объяснит своеволие его музыки?
Только тронутое состраданием сердце дрожью своею ответит на ее тайное значение.
44
Застольные беседы
намеренных заключений едва ли не обо всем на свете, заключений
справедливых и готовых к употреблению. Здравым смыслом, таким образом, именуют
непритязательную житейскую мудрость, однако на самом деле он
представляет собой непредвзятый, инстинктивный итог достоверного восприятия жизни
и наблюдения за природой. В силу этого здравый смысл способен вынести
проверку самым что ни на есть суровым и терпеливым рассуждением.
Собственно, без такой проверки он остается несовершенен. Вот почему «для
уверенности вящей»9 мы соединяем рассудок и чувство:
Последним камнем замыкают арку —
Триумфа знак возвысился: народ
Дивится мощи, высоте ворот;
Под сводами, всё разузнав, гуляет:
На что ни погляди, всё изумляет10.
Разум, не занятый ни истолкованием природы, ни совершенствованием
здравого смысла и усвоением опыта, представляет собой по большей части
здание без фундамента. Разум может быть сколь угодно суров в своей критике
здравого смысла, но должен при этом быть и столь же терпелив. Запальчивый,
догматический, самодовольный разум хуже, чем праздные фантазии или
фанатические предрассудки. Нарочито упорствуя в заблуждении, он
перекрывает пути знанию и «захлопывает врата мудрости перед человечеством»11.
Недостаточно признать какое-либо явление необъяснимым,
необоснованным. Если отношение большинства и невольное предубеждение склоняют нас
к определенному мнению насчет причины этого явления, если, несмотря ни
на что, возникает тайное подозрение в. пользу наших первых впечатлений,
следует продолжать поиски и помнить, что истина сильнее нас.
Так, если мы, предлагая определение того или иного предмета, вдруг
смутно почувствуем, что упустили какие-то факты или обстоятельства, следует
испросить больше времени на размышление, а не прекращать дело
самонадеянным заявлением относительно спорного вопроса. Здравый смысл, стало
быть, служит механизмом проверки софистической аргументации и
удерживает от опрометчивых или поверхностных суждений. С другой стороны, если
всё определенно говорит не за, но против какой-либо точки зрения и мы
способны объяснить, почему — в силу то ли неведения, то ли подчинения
авторитету, то ли из корыстного интереса, то ли еще по какой-нибудь причине —
преобладает то или иное мнение, тогда мы имеем право заключить, что
ошибочно приняли предубеждение за инстинкт либо спутали ложное,
одностороннее впечатление со справедливыми и неоспоримыми выводами,
вытекающими из общих наблюдений.
По мнению мистера Бёрка, не следует отказываться от всякого
предубеждения, но надлежит отделять от шелухи предрассудка спрятанное в нем зер-
IV. Гений и здравый смысл
45
но истины12. До некоторой степени так оно и есть. Однако навряд ли он прав,
когда настаивает, что мы должны лелеять наши предрассудки только
«потому, что они предрассудки»13, и, поскольку они достаточно укоренены, не
доискиваться до их источников и сферы применения. Всякий, кто построит свои
рассуждения на предрассудках, пусть даже разобранных и обработанных в
духе мистера Бёрка, почти наверняка примет за драгоценное зерно истины
какую-нибудь гадкую личинку или червоточину; такова, собственно, и была
участь нашего софиста от политики.
Ничто не различается так отчетливо, как здравый смысл и расхожие
мнения. Здравый смысл судит только о том, что повсеместно наблюдается или
непосредственно связано с практическими делами и чувствами людей14. В этом
суть его действия, первооснова его притязаний. Он опирается на простейшие
движения чувства и находит зацепку в опыте. Он не является и не может
являться мерилом отвлеченных, умозрительных идей. Однако половина понятий
и предрассудков человечества, а именно те, которые оно наиболее
решительно одобряет или же внушенные ему под угрозой серьезных санкций, как раз
из этого последнего разряда, то есть это не такие представления, которые люди
обдумали, познали или хоть капельку прочувствовали, — нет, они были
навязаны им принуждением или обманом, и за эти понятия люди продолжают
держаться, не прибегая к совету ни здравого смысла, ни разума, даже тогда, когда
их жизни, собственности, доброму имени угрожает опасность.
Ultima ratio regum* исходит из иных принципов. Здравый смысл — не
предписания священников и не государственная политика. Однако тут возникает
«трудность и причина того, что несуразности так долговечны»15, то, что дает
философам-скептикам преимущество над нами. Пока природа, не
развращенная, как это часто бывает, политическими жуликами и болтунами, развивается
естественно, бесполезно просить у нее защиты от ошибок и причуд разума.
Когда мы рассуждаем о здравом смысле, нас упрекают в банальной
пристрастности и вопрошают, как нам удается отличать одно от другого; но на
самом деле широко распространенные и общепринятые взгляды — всего лишь
«компостная куча»16 примитивных представлений, порожденных гордыней и
страстями, да и сам разум — раб или вольноотпущенник тех же надменных,
одуревших от власти господ, раб, влачащий невольничьи цепи или
предающийся всевозможным разнузданным вольностям сатурналий17, едва только
почувствует себя свободным от этих цепей.
Когда десять миллионов англичан, пылая неистовым гневом, затевают
праведную, по их понятиям, войну против тридцати миллионов французов,
а французы, в свою очередь, считают их вечно неправыми, и те и другие
находятся во власти примитивных национальных предрассудков, поскольку два
* Последний довод королей18 (лат.).
46
Застольные беседы
противоположных мнения не могут диктоваться здравым смыслом;
возможно, виной тому безумная политика одного или обоих правительств, намеренно
разжигающих вражду между подданными двух стран.
Когда всего лишь несколько столетий назад вся Европа верила в
непогрешимость Папы, люди подчинялись не велениям здравого смысла и не его
заблуждениям, но попросту принимали на веру то, что говорили священники.
Англия нынче разделилась на вигов и тори, сторонников официальной
Церкви и инаковерцев; и те, и другие имеют много приверженцев, но верность
своей партии и здравый смысл — две разные вещи. Секты и ереси держатся
отчасти благодаря тому, что их идеи разделяют, а отчасти благодаря любви
к противоречию; при отсутствии инакомыслия все подобные объединения
распались бы сами по себе.
Когда при дворе все говорят одно и то же, это вовсе не доказывает, что
именно так они и думают, но значит лишь одно: так говорит тот, кто
возглавляет двор. Если толпа в какой-то момент дружно выкрикивает некий клич,
я не принимаю это за проявление sensus communis* — она просто повторяет
то, что слышала от других.
Но когда огромное множество угнетенных, больных, жалких,
презираемых, нуждающихся в пище, одежде, крове, сплотившись во взаимном
сочувствии, становятся как бы одним голосом, одним сердцем и единодушно
поднимают руки в подкрепление своих требований, — это я назову велением
здравого смысла, воплем природы.
В заключение этой части рассуждения мне остается лишь добавить, что,
на мой взгляд, для наставления человечества лучше было бы не указьшать на
его заблуждения, но учить его правильно мыслить о нейтральных предметах,
чтобы люди терпеливо слушали, желая позабавиться, и не воспринимали
какое-нибудь определение или силлогизм как величайшую личную обиду.
Для выразительности не существует правил. Ее добиваются либо силою
чувства, то есть по принципу ассоциации идей, либо повторяя проверенные
удачные приемы в других ситуациях — разумеется, с необходимыми
изменениями. Предположим, например, что было замечено: некое выражение лица
явно свидетельствует об определенном настроении или черте характера, и
теперь мы связываем с внешним обликом то же самое значение и при виде
этого выражения, даже если оно не столь ярко проявилось, испытываем,
соответственно, удовольствие или неудовольствие, хотя нам трудно описать и
то первоначальное выражение, и произошедшие в нем изменения. При
наличии общего тона конкретное проявление отдается на откуп воображению:
выражение может видоизменять основное впечатление — усиливать или
ослаблять — в зависимости от обстоятельств. Замечателен портрет Оливера Кром-
* полного согласия, единодушия [лат.).
IV. Гений и здравый смысл
47
веля, написанный :19 полуопущенные веки — будто занавес перед
неподвижным, испытующим взглядом; слегка раздутые ноздри; губы, сжатые так
плотно, что едва не препятствуют дыханию, — все это так же ясно
свидетельствует о характере человека, метящего высоко и вынашивающего серьезные
замыслы, как если бы было написано словами.
Каким же образом нам удается расшифровать выражение лица? Прежде
всего при помощи чувств. Но как же мы чувствуем? Разумеется, не по
заранее предписанным правилам, а согласно инстинкту аналогии, принципу
ассоциации, который действует столь же тонко и безошибочно, сколь изменчиво
и неуловимо. Самые ничтожные, казалось бы, обстоятельства способны
полностью поменять восприятие выражения или поступка; а меняют они это
восприятие так радикально потому, что самой своей незначительностью
показывают могущество общего принципа, проявляющегося через свои ответвления
и в самом малом. Вот почему тонкое, неуловимое — не то же, что мелкое.
Мелкое или привычное в определенных условиях может указывать на
действие огромной силы. Тишина иногда является результатом потрясения, с
которым нельзя совладать, а за молчанием порой стоит чувство столь
мучительное, что нет никакой возможности его выразить. Мелкое, банальное,
скучное ничтожно само по себе — как ничтожны его причины и следствия; тонкое
и неуловимое только на первый взгляд кажется незначительным и
недолговечным, но в конце концов приводит к важному итогу, достойно завершающему
целое, к тайному смыслу, недоступному ни зрению, ни слуху.
Мы порой сетуем на мелочность голландских полотен, битком набитых
отдельными незначительными предметами и деталями, за которыми ничего
не стоит. Этого не скажешь о небесах, написанных Клодом, где один тон
незаметно переходит в другой, где обширный купол небесный составляет
чередование перетекающих друг в друга оттенков золота и лазури и где
неисчислимое множество мельчайших, едва приметных частиц смешиваются
между собой и растворяются во всемирной гармонии.
Утонченность и изысканность Шекспира, решительно во всем
проявляющаяся, всегда выступает орудием для передачи страсти и лепит характеры.
Жест человека, надвигающего шляпу на лоб, сам по себе мало что
выражает и, вообще говоря, может означать что угодно или вообще ничего. Однако
в обстоятельствах, в которых оказывается Макдуф, этот жест нельзя назвать
ни незначительным, ни двусмысленным.
Друг, шляпу на глаза не надвигай.
И далее следует единственно возможное толкование:
Пусть боль себя в стенаньях изливает:
Немая скорбь нам сердце разрывает20.
48
Застольные беседы
Эпизод в той же пьесе, в котором впервые появляющийся Дункан и его
спутники любуются замком Макбета и прилегающими к нему
окрестностями21, часто вызывал похвалу критиков за разительную контрастность по
отношению к следующим сценам, хотя сам по себе эпизод изображает сцену
вполне будничную.
В различных обстоятельствах один и тот же взгляд может выражать
совершенно разные чувства. Если человек косится на вас, не поворачивая
головы, это обыкновенно подразумевает лукавство или подозрительность; в
сочетании же с поднятыми веками или сведенными бровями, как на полотнах
Тициана, взгляд говорит о спокойной задумчивости или мудрой
проницательности, без тени подлости или страха. В иных же случаях такой взгляд
выражает только ленивую, влекущую чувственность, как на женских портретах
Лели. Томность и расслабленность век придают глазам выражение
влюбленности. Можно ли заранее вывести общие правила для множества вечно
меняющихся явлений, едва постижимых разве только в своем воздействии на
душу? Правила пригодны для абстракций, тогда как всякое выражение
конкретно и индивидуально. Мы понимаем, что означает то или иное выражение
лица или последовательная смена выражений, но как предусмотреть
правила для всевозможных сочетаний, не предугадьшаемых заранее, да еще с
учетом всех оттенков и обстоятельств? Впрочем, и предугадав их, мы не
продвинулись бы ни на шаг, то есть вывели бы только правило о том, что судить надо
без правил, опираясь на воображение и чувство момента. Нелепость
попытки свести выразительность к искусственной системе нигде, наверное, столь не
очевидна, как в картине «Суд царя Соломона», созданной таким большим
мастером, как Пуссен. Прозвучал приговор. Женщины — по одну сторону от
царя — охвачены ужасом, в то время как мужчины, сгруппированные на
противоположной стороне полотна, очевидно, разгадали замысел мудреца.
Некоторые критики одобряют это полотно, отмечая мастерство и
изобретательность художника, расположившего персонажей таким образом. Однако
природа ни создает, ни размещает свои творения в правильном порядке.
Я слышал, как некто сказал о своем знакомом: «Глаза у него, как у
норовистой лошади». Прекрасное уподобление! Все мы, я думаю, замечали, как
смотрит лошадь, когда собирается лягнуть или укусить. Но кто способен
описать, что именно представляет собой этот взгляд? Тот же остроумный
наблюдатель сказал о болтливом и самонадеянном учителе музыки: «Он обо всем
судит с листа» — точная характеристика, намекающая на профессию.
Трудно было сказать верней. С тем, как сей джентльмен самоуверенно брался
объяснять явления, в которых менее всего смыслил, не могло сравниться
ничто, кроме nonchalance* музыканта, который садится за клавикорды, чтобы
* беспечности (фр.).
IV. Гений и здравый смысл
49
исполнить незнакомую пьесу. Мой друг-физиономист не нашел бы этот образ,
не знай он о профессии человека, ставшего объектом его критики; однако, зная
о ней, он тут же предположил ее «верный след»22. Поведение музыканта
говорило само за себя, и образ исполнителя, собирающегося играть пьесу с листа,
скрытый до поры в душе моего друга, немедленно возник под воздействием
впечатления от собеседника. Чувство характера и счастливая находка,
помогающая объяснить его, дополнили друг друга. Первое было так возбуждено и
переливалось через край, что перейти ко второму не составило труда.
Ричард в исполнении мистера Кина, потеряв меч в последнем сражении
с победившим его противником, стоит, простирая руки, «как если бы его
волю нельзя было разоружить, но самое отчаяние обрело губительную
власть»23. В ответ на похвалы актер сказал, что заимствовал этот жест,
наблюдая за последними усилиями Пейнтера в схватке с Оливером24.
Подражание, разумеется, не уменьшает достоинства сценической находки. Оно
присуще тем, кто наделен истинным гением. Чувство правды уже обитает в
их сердце, а взор всегда обращен на природу в стремлении понять, как она
себя выражает.
Знание предмета облегчает перевод с одного языка на другой. Рафаэль,
драпируя фигуру волхва Климы25, как бы распространяет идею слепоты даже
на его одеяние. Сделано ли это намеренно? Скорее всего нет, просто возникло
ощущение, которое и подсказало этот прием, воплощенный в картине потому,
что он отвечал тому ощущению. Сильная страсть, переполняя душу, оставляет
след во всех ее уголках. Вот почему я не считаю, что изобретательность, в
лучшем смысле этого слова, обособлена от чувства, как представляется
некоторым. Источник чистого чувства поднимается и наполняет сосуды фантазии,
приспособленные для его восприятия. В хорошо выполненных картинах
могут возникнуть поразительные совпадения; так, например, испещренные
красным и голубым сорняки на переднем плане перекликаются с красным или
синим цветами драпировки, с оттенками, напоминающими цвета тела или
небес. Здесь нет ни преднамеренности, ни следования правилам — в противном
случае это выглядело бы нарочитым и нелепым; просто художник, когда его
зрение насыщено определенным тоном, стремится повторять его в различных
вариациях, следуя природному чувству гармонии, тайному неизбьшному
влечению к красоте, которая успокаивает и радует глаз, хотя причина этого не
всегда осознается.
Чувство меры, изящества — не что иное, как полное осознание чувств, не
отделимых от определенных ситуаций, страстей и т. д. и, следовательно,
ощущение малейшего присутствия или проявления этих чувств в других
ситуациях, страстях и т. п. Поразительный пример такого дара являет история,
случившаяся с лордом Шефтсбери, который приходился дедом автору
«Характеристик»26.
50
Застольные беседы
Он обедал с леди Кларендон и ее дочерью, тайно обвенчавшейся с
герцогом Йоркским, будущим Яковом П. Возвращаясь домой с одним вельможей,
лорд неожиданно повернулся к нему и сказал: «Не сомневайтесь, герцог
женат на дочери Хайда». Так как собеседник ничего не понял, он пояснил: «Мать
ведет себя по отношению к дочери с подчеркнутым вниманием и оказьшает
уважение, которое иначе никак объяснить нельзя. Я в этом уверен».
Его предположение скоро подтвердилось. Провидческая сторона
здравого смысла раскрылась здесь с наибольшей полнотой.
V
ГЕНИЙ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Окончание
Гений, или самобытность, — как правило, ярко выраженное свойство души
открывать новые, примечательные качества в природе, на проявления коих оно
отзывается.
Воображение, строго говоря, состоит в способности перемещать некое
чувство в иные ситуации, что лучше всего удается в зависимости от силы
воздействия этого чувства на душу*. Новые, непривычные сочетания постигаются
через сопереживание, а не по правилам; однако не может быть
сопереживания там, где нет страсти, нет первоначального интереса. Личный интерес
порой подчиняет себе и ограничивает воображение, как, например, у Руссо, но
чаще всего сила и постоянство воображения зависят от яркости и глубины
чувства, и редко даже тот, кто наделен гениальностью, способен сделать
более, чем перенести собственные чувства и наклонности либо какие-нибудь
заметные и преобладающие страсти в вымышленные, необычные ситуации.
Милтон посредством аллюзий воплотил едва ли не большую часть событий
своей политический и личной жизни в образы и перипетии «Потерянного Рая».
Он, конечно, удивительно переделал и возвысил их, но основа осталась та же:
пристрастия и взгляды человека можно проследить в творении поэта.
Шекспир — едва ли не единственный гений, выходящий за рамки
определений гениальности. «Родившись общим наследником всего человечества»1,
он, «всё перестрадав, как будто не страдал»;2 он находился в ладу со всем на
свете и всему был чужд; он не искажал природу, не приспосабливал ее к
собственным целям, он «понимал все свойства духом просвещенным»3, вместо
того чтобы судить о них согласно собственным наклонностям. Он был скорее
* Я не говорю здесь о фигуральных, фантастических проявлениях воображения,
заключающихся в поисках поразительного образа, который бы мог раскрыть значение
других образов.
52
Застольные беседы
«дудкой, на которой Муза играла все, что ей заблагорассудится»4, чем
человеком, стремящимся создавать характеры по своему вкусу или выдвигать
собственные претензии. Его гений заключался в способности превращаться по
желанию во все что угодно; его оригинальность — в умении увидеть всякую
вещь чужими глазами. Он Протей5 человеческого интеллекта.
Гений, как правило, не столь податлив и изменчив. Он разборчив,
своенравен, странен и причудлив. Его превосходство в чем-то одном достигается
за счет беспомощности во всем остальном, за счет слепоты к любым
выдающимся достоинствам, кроме своих собственных. Гений — противоположность
хамелеона: он не занимает, а передает свою окраску всему вокруг или подобно
светляку разливает дивное сияние в сумерки, в полумраке, среди обступившей
его ночи разума. Таков Рембрандт. Все, что говорят о гениях, подходит к нему
в полном смысле этого слова. Обладая собственным миром, он открывал его
для других и поэтому может считаться первооткрывателем нового взгляда на
природу. Он ничего не искал за ее пределами, не посещал выдуманные или
волшебные страны, не отправлялся на Луну,
Стремясь на шаре пестром различить
Материки, потоки и хребты6,
но увидел в природе то, чего до него никто не замечал, и научил смотреть
других. Торжество истинной самобытности проявляется не в рассказе о том,
чего не было и что поэтому даже во сне не могло присниться, но в умении
заставить нас увидеть то, что предстает взору и лежит под ногами, то, о чем
мы не догадываемся из-за недостатка интуиции или проницательности,
позволяющей воспринимать и помнить. Рембрандт одерживал победы не над
идеалам, а над реальностью. Он не изобрел новых сюжетов или характеров, но
мы обязаны ему знанием chiaroscuro*, важнейшего элемента искусства и
природы, составляющего одну пятую живописи. Благодаря ясности и
твердости ума и зрения Рембрандту удалось выдержать потрясение «от резких
перемен»7 света и тени, примирить глубокий мрак и ослепительный блеск, слив
их в совершенной гармонии; он первым отважился перенести все это на холст,
в полной мере осуществить в живописи то, что видел сам и чем
наслаждался. Стиль свободных, поразительных контрастов был сродни его собственным
чувствам: его ум пытался разрешить такие проблемы, которые позволяли
наилучшим образом проявиться его талантам; движимый сильными
естественными побуждениями, художник действовал дерзко и смело.
Самобытность, таким образом, не что иное, как отраженные в сознании
природа и чувства. Сознательно ее никто не добивается; человек проявляет
* светотени (um.).
V. Гений и здравый смысл. Окончание
53
самобытность помимо своей воли, часто даже не подозревая об этом. Можно
сказать, что выдающийся художник, о котором идет речь, имел особый орган
цвета. Его глаз, воспринимая цвет как ощущение, скорее пытался овладеть
им как некой сущностью, нежели наблюдать за ним как видимым предметом.
Текстура пейзажей Рембрандта «от земли, земная»8, облака влажные,
тяжелые, неповоротливые; тени — «ощутимый мрак», «осязаемая тьма»;9 свет —
потоки льющегося великолепия. В этом кроется нечто большее, нежели плод
замысла или случайности: Рембрандт не из тех, кого создают два-три
правила или наставления относительно способа стать гением.
Боюсь, мне едва ли удастся столь же удовлетворительно описать характер
мистера Вордсворта, хотя он так же, как и Рембрандт, наделен даром
создавать нечто из ничего, а точнее говоря, из себя самого, благодаря особенностям
его зрения, облекающим наготу в одеяние. Мистер Вордсворт — последний, кто
«всматривается во всеобщее»10, как если бы гений только в этом
заключался; поэт всматривается также в себя и остается «доволен богатством без
числа»11. В противном случае, если б он мог довериться только способностям
общего характера, он был бы «беден, как зима»12. Вордсворт — самый
великий, то есть самый оригинальный, поэт современности только потому, что
более других сосредоточен на себе. Он «погружен в себя, но не мрачен»13. Он
обитает в сердцевине собственного бытия и оттуда «наслаждается светом
дня»14, не теряя времени на мысли о других. Все, что не касается
исключительно его и не относится всецело к нему, чуждо его взглядам. Он
созерцает собственный портрет во весь рост, обегает взглядом непрерывную линию,
очерчивающую его личность. Он пренебрегает всеми прочими объектами,
презрительно и нетерпеливо отказывается от всех иных интересов, чтобы
замкнуться на собственном бытии; оттуда он черпает бесценные сокровища
ума, всегда обращенного к самому себе. Гений поэта проистекает из его
индивидуальности. Она оставляет свой отпечаток на всем, что бы ни
встретилось. Любой предмет оказывается важен лишь постольку, поскольку дает
пищу для размышления, влечет за собой давние ассоциации. Не будь во всей
вселенной более ни души, поэзия мистера Вордсворта осталась бы
неизменной. Если бы на земле не существовало ни любви, ни дружбы, ни
честолюбия, ни удовольствий, ни деловых связей, автор «Лирических баллад»15,
нимало не переменясь, по-прежнему бы «тихо шел своею тропой»16 и,
уединяясь в святилище своего сердца, благословлял празднество собственных
раздумий. Не выказывая сочувствия страстям, устремлениям и фантазиям
других людей, он
Находит голоса в лесных деревьях
И книги в ручейках, и поученья
В громадных камнях, и добро во всем17
54
Застольные беседы
Его душа, отвратившаяся от внешнего мира и сосредоточенная на
собственной внутренней жизни, познает ценность мыслей и чувств, вызванных самыми
незначительными событиями прожитых лет. Песенка кукушки звучит в его
ушах как голос из прошлого; на расцветающих маргаритках лежит отблеск
мальчишеского восторга, лучащегося из умудренных опытом глаз поэта;
радуга простирается в небесах великолепной аркой в ознаменование перехода
от детства к юности, а старый терновник клонится под бременем
воспоминаний и, как изящно выразился сам поэт,
Цветок скромнейший думы вызывает,
Сокрытые от торопливых слез18.
Душа и талант мистера Вордсворта поразительно проявляются в умении
проникнуться обыденным и, не задевая ничьей гордости и не возбуждая
страстей, проявить интерес к тому, что ненавязчиво требует внимания и
становится звеном в ассоциации идей.
Такие поэты, как Уитер, Берне и другие, обладали сходным, но меньшим
даром чувства, и поэтому стихи их не звучали так вдохновенно и не стали
образцом нового стиля19, не легли в основание новой поэтической школы20. Как
порой бывает, сила Вордсворта происходит от избытка слабости. Однако он
открыл новые пути к человеческому сердцу, исследовал тайные уголки и
прибежища природы — «святые для поэтов и обреченные на непреходящую
славу»21. В сравнении с его стихами строфы Байрона напыщенны и банальны,
а поэзия Вальтера Скотта (я исключаю прозу) — устаревшие побасенки*.
Никто не разочаровывал меня сильней, чем Вордсворт; ни с кем не возникало у
меня таких разногласий по определенным вопросам; однако сама причина их —
моя любовь к истине и справедливости — не позволит мне отрицать его
заслуги. Каковы бы ни были его поступки, в самобытности ему не откажешь. В его
поэзии нет ничего подражательного или рабского. Пока кукушки прилетают
весной, пока маргаритки расцветают на солнце и радуга восстает над бурей —
Гленкерн, мне не забыть тебя
За все, что для меня ты сделал22.
Сэр Джошуа Рейнолдс пытается доказать, что не существует такого
явления, как самобытность, или, иными словами, одухотворенность, которая,
излившись из души, светится в произведениях художника. Для этого он
прослеживает в творчестве Рафаэля ряд образов, заимствованных у Мазаччо и
других живописцев. Подобные выкладки малоубедительны. Если Рафаэль
* Мистер Вордсворт не должен бы' говорить об этом сам, но я не уверен, что он
промолчит.
V Гений и здравый смысл. Окончание
55
заимствует, как можно хвалить его за оригинальность даже в том смысле,
который придает этому понятию сэр Джошуа? Плагиат, в той степени, в
какой он плагиат, не может отличаться оригинальностью. Сальватор многими
расценивается как великий гений. Его называют неправильным гением. Мои
представления о гении не совсем такие. Спрашивают также, не больше ли
гениальности в «Трех деревьях» Рембрандта, чем во всех пейзажах Клода
Лоррена, вместе взятых? Право, не знаю, однако для Лоррена довольно и
того, что он прекрасный пейзажист.
Способность и гений — разные вещи. Способность соотносится с
количеством знаний, независимо от путей их приобретения; гений — с качеством
знания и методом его приобретения. Способность распоряжается готовыми
идеями и их сочетаниями; гений добывает новые, не подчиненные очевидным или
точным правилам. Способности бывают самые разные; гений отличается от
них тем, что всегда нов. Цепкая память, ясный рассудок — способность, но не
гений. Несравненный Крайтон обладал удивительными способностями, однако
нет никаких доказательств (на мой взгляд), что в нем была хоть капля
гениальности. Те стихи его, что сохранились23, вялы и безжизненны. Он все
досконально разузнавал о предмете, мог делать вслед за другими что угодно, если
ему показывали как. Удивительно, но не более. Хорошо играть в шахматы
может только очень способный человек, однако в конечном счете это дело
сноровки, но не гения. Что ни говорите, а рассудок движется по проторенным
тропам — быстрее или медленнее, с большим или меньшим пониманием и
присутствием духа. И самый большой мастер ничего не черпает из
собственных данных; природа игры четко определена и установлена; в том, как вы
ставите противнику мат, нет ничего великого или поэтического. Гений же —
там, где неизвестность и неопределенность. Открытие теоремы бинома —
результат работы гения24, но его нет в умении Бакстона перемножать в уме
девятизначные числа. Если бы он вместо них перемножал девяностозначные, его
усилия были бы столь же бесполезны*.
Способный человек просто обладает значительными интеллектуальными
богатствами, гениальный находит и разрабатывает новую жилу.
Самобытность позволяет видеть природу не так, как все, однако не искажая ее истин-
* Мне довелось услышать только один пример, говорящий о положительной стороне
удивительной памяти этого человека. Один джентльмен как-то сказал, что его однажды
послали в Лондон посмотреть игру Гаррика. Когда он вернулся домой, его спросили, как
ему понравились актер и пьеса. Он сказал, что затрудняется с ответом; он видел только
маленького человечка, который шагал по сцене и произнес 7956 слов. Мы все рассмеялись,
но какой-то человек, сидевший в углу комнаты, приложил руку ко лбу и с явным
восторгом воскликнул: «Правда? И что, он оказался прав?» Этот вопрос был продиктован
практическим, деловым любопытством. Подсчет слов, проделанный Джедидией Бакстоном,
был вполне бессмыслен, но нашелся желающий подсчитать их снова и проверить
правильность решения. «Здесь тупость к крайнему пределу подошла!»25
56
Застольные беседы
ных черт. Самобытность заключается не в странности или нарочитости, а в
открытии не известных прежде ценностей. Порою люди не постигают в
полной мере значения того, что находится у них перед глазами. Привычка
оборачивается слепотой по отношению к одному, близорукостью по отношению
к другому. Нельзя считать ум обыкновенного человека мерилом истины. В
природе имеются и выступы, и темные расщелины. Она темна, бесконечна и
непостижима26. Только души, глубоко ею потрясенные, способны проникнуть
в ее храмы и поднять завесу над святая святых. Только впитавшие в себя дух
природы дерзают поведать ее сокровенные тайны другим или обладают
талантом делать это.
Природа имеет множество сторон, и один человек может раскрыть лишь
одну из них. Тот, кому это удается, — гений. Один покажет ее мощь, другой —
изящество, третий — гармонию, четвертый — неожиданность контрастов,
пятый — красоту форм, шестой — великолепие красок. Каждый осуществляет
то, к чему предназначен своим гением, то есть особым свойством души
воспринимать наиболее глубоко и радостно, охватывать и как можно полнее
постигать родственное ей качество предмета, чтобы затем вновь исторгнуть
его из себя, ибо оно слишком глубоко проникло в сознание ученика природы.
Воображение выводит на свет божий то, что прежде поглотило в силу
духовного родства, что притянуло к себе и превратило в часть самого себя —
подобно тому как магнит притягивает железо и сообщает ему магнитные свойства.
Крупица самобытности желаннее и дороже, чем самое великое, но
приобретенное мастерство, так как она проливает на вещи новый свет и
свидетельствует об индивидуальности. Приобретенное знание банально и доступно
всякому в любом количестве.
О ценности произведения следует судить по степени его оригинальности.
Даже самая малость ее — уже большое дело. Не создай Голдсмит ничего,
кроме двух-трех начальных глав «Векфилдского священника» и образа
деревенского учителя27, и этого было бы достаточно, чтобы считать его гением.
Редакторов энциклопедий обычно не называют среди первых литераторов
эпохи. Составленные ими труды переполнены знаниями, словно сундуки или
склады с добром, которое им не принадлежит. С таким же успехом мы
могли бы восхищаться библиотечными шкафами: они имеют внушительный вид
и приносят пользу. Как-то раз, в пору материальных затруднений, мне
предложили написать статью для одной энциклопедии;28 предмет отличался
сложностью, и мне посоветовали не спеша подумать, как изложить его
систематически, в научной форме; изучить все имеющиеся о нем сведения и
воспроизвести их ясно и методично. Я ответил, что привык все делать не спеша; что
в течение двадцати лет непрерывно обдумывал различные вопросы;* что у
* Когда у сэра Джошуа Рейнолдса спросили, как долго писал он одну из своих картин,
он ответил: «Всю жизнь».
V. Гений и здравый смысл. Окончание
57
меня нет ни особых знаний по данной теме, ни умения их упорядочить и что
я смогу разве что сделать некоторые замечания на полях готовой научной
статьи, содержащей систематическое описание предмета, вставить свои, не
взятые из других энциклопедий, замечания или примеры, предложить какое-
нибудь более удачное определение.
Существует два вида сочинительства. Первый — компиляция:
собираются и как можно лучше излагаются уже известные сведения с целью
просветить неискушенного читателя. Автор в данном случае — ученый переписчик
чужих мыслей.
Второй вид основан на совершенно ином принципе. Вместо того чтобы
довести свой отчет о собранных знаниях до места, которого достиг
предшественник, автор двигается дальше и, рассчитывая на осведомленного
читателя, заполняет пробелы и пропуски исходя из собственных размышлений. Он
отвергает проторенный путь в поисках новых тропинок для наблюдений и
новых источников чувств. Нельзя считать стиль такого автора сбивчивым,
невыдержанным, неровным. Перед нами всего лишь ряд отдельно изданных
дополнений и поправок к трудам других ученых или к общему запасу
человеческих знаний. Ожидаете ли вы связности от примечаний к книге? В них
опускают всё избитое, банальное и общеизвестное и касаются только
затруднительных или заслуживающих удивления мест, не замеченных в прежних
изданиях. Совершенно новую точку зрения на предмет нельзя излагать
связно и упорядоченно: писателя всегда могут обвинить либо в парадоксальности
или банальности, либо в сухости или аффектации. Однако мы не вправе
требовать от автора более того, на что он претендует. Конечно, во всем
существует некая золотая середина, но сочетать в себе противоположные достоинства —
задача обыкновенно невыполнимая для смертного. Тот, кто достиг
намеченной цели либо оказался среди первых на любом пути к совершенству, может
считать, что ему весьма повезло.
Несправедливо порицать стиль энциклопедии за недостаточную
занимательность и за тяжеловесность, а стиль эссе за легкость и блеск, за то, что оно
не caput mortuum*. Довольно странно сетовать, что какое-то произведение
целиком состоит из «блистательных пассажей»: во всяком случае, сочинений
с таким недостатком сыщется немного, и книгу следует простить ввиду ее
исключительности. Данное критическое замечание могло бы выглядеть как
ловкая лесть, если бы не касалось автора, которого вообще любое замечание
способно сделать непопулярным и выставить в смешном виде. Я согласен, что
лучше всего сочетать основательность с эффектностью, содержательность с
оригинальностью. Таков образец совершенного стиля, однако я не притязаю
на место в ряду совершенных писателей. В конце концов мы ведь не изгоня-
* Букв.: бесполезные вещества, остающиеся в колбе после химической реакции [лат.);
здесь: нечто ненужное, пустое.
58
Застольные беседы
ем легких французских вин из наших застолий, не отвергаем искристое
шампанское за то, что оно по вкусу не похоже на старый, выдержанный портвейн.
К тому же не думаю, что скука — это преимущество или что какое-то
наблюдение поверхностно только потому, что производит яркое впечатление.
Посредственность, бесцветность, отсутствие индивидуальности — вот
худший недостаток.
Mediocribus esse poetis
Non Dii, non homines, non concessere columnae*.
Для тех, кто нынче пишет прозу, эта привилегия позволительна не в большей
степени, чем для поэтов в прежние времена.
Не острота восприятия, не масштаб способностей составляют, стало быть,
гениальность и рождают изысканнейшие произведения искусства, — но восторг
чем-нибудь прекрасным или какой-нибудь отличительной чертой природы.
Слабые, ограниченные умы вместо гениальности довольствуются
чувствительностью и интересом к тем или иным предметам либо явлениям. Как
определенные орудия предназначены вьшолнять определенную работу, так и
некоторые умы устроены таким образом, чтобы производить определенные chefs-
d'œuvre** литературы и искусства, и, безусловно, лучшего применения им не
найти.
Человек, в мастерской которого есть все возможные инструменты, но
которому в данный момент не хватает одного, бесспорно предпочтет его
второму набору всех остальных. С ними он сделает только то, что ему удавалось
и раньше, а без того единственного ранее начатая работа, возможно, останется
незавершенной. Вот почему, если кто-нибудь может делать что-нибудь
лучше, чем кто бы то ни было другой, его репутация будет целиком зависеть от
достоинств сделанного; способность же делать сотню вещей лишь не хуже
прочих не изменит репутацию и не прибавит уважения. Напротив, когда
человеку многое удается, это наверняка помешает в осуществлении того
единственного, в чем никто с ним не сравнится, и тем самым окажется помехой
на его пути, обернется недостатком, минусом. Обилие талантов и претензий
хуже, чем полное отсутствие таковых. Примеры тому я уже приводил в
другом месте. Возможно, в некотором отношении трагедии Шекспира были бы
лучше, если бы он вообще никогда не писал комедий. Он бы мог обойтись и
без них — пусть и к нашему сожалению. Расин, как говорят, мог бы
превзойти Мольера в комедии, но пренебрег комическим даром, дабы всецело
посвятить себя трагической музе, вследствие чего, считают французы, и достиг
* «А поэту ни люди, ни боги, / Ни столбы не прощают посредственность»29 [лат.).
** шедевры (фр.).
V. Гений и здравый смысл. Окончание
59
совершенства в трагедии. Это лучше, чем если бы он писал комедии как
Мольер, а трагедии как Кребийон. И все же я считаю глупцами тех, кто
сожалеет о неуспехе Хогарта в серьезных жанрах. Разделение труда —
превосходный принцип и в делах вкуса, а не только в механике. Без него, как
сказано у Адама Смита, мы бы и булавки не сделали с достаточной степенью
совершенства30. Разнообразие жанров, коими овладел художник, количество
его работ, скорость их исполнения не занимают тех, кто придерживается
разумных критических принципов. «Спасенной Венеции» вполне достаточно
для славы Отвея. И я ненавижу нелепые истории о Лопе де Вега, который
якобы умудрялся сочинять по пьесе по утрам до завтрака31. Думаю, и после
завтрака у него хватало для этого времени.
Если человек оставляет после себя труд, который служит образцом для
других, мы не вправе задаваться вопросом, как он сумел его осуществить,
сколько у него ушло на это времени и мог бы он сделать еще что-нибудь.
Талант, не нужный для поддержания на должном уровне существующего в
мире совершенства, идет прахом, бесцелен и может сдаваться в наем. Один
умный человек сказал, что хотел бы уметь делать что-то одно лучше, чем
другие, а все прочее — так же, как другие.
Зачем человеку делать что-то еще, помимо того, к чему он предназначен?
Это проявление тщеславия и томления духа. Любые дарования, не имеющие
прямого отношения к главному таланту, вызывают ревность и зависть у
окружающих: во-первых, потому, что они избыточны, а во-вторых, потому, что
возникает подозрение, а не окажутся ли они вредны. Зачем, спрашивается,
мистер Кин проделывает все эти клоунские штуки: зачем поет, пляшет,
машет шпагой? Говорят, это дает ему дополнительный заработок32. А я скажу:
это не идет на пользу его репутации. Да, Гаррик и впрямь одинаково ярко
блистал в комедиях и трагедиях, однако он показывал первоклассную игру
и в тех, и в других, без малейшей тени посредственности.
Самая отъявленная дерзость — выяснять, насколько человек умен, когда не
занят своим ремеслом. Я слыхал, что кое-кто предпринимал попытки устроить
чуть ли не перекрестный допрос миссис Сиддонс. С тем же успехом можно
было бы попытаться втянуть в ученый спор одну из статуй, привезенных
Элгином33. Добродушие и здравый смысл — непременные качества для всех людей,
однако каждому отдельному человеку вполне довольно обладать либо
стремиться обладать одной исключительной особенностью, достойной похвалы.
VI
ПОРТРЕТ КОББЕТА
О Коббете сложилось столь же устойчивое мнение, как и о Криббе. Его
удары так же тяжеловесны, а сам он так же несокрушим. Его орудие — не
тонкое перо, но мощный кулак. Читатели поражены, когда автор «долбит им по
ушам трехпудовой колотушкой»1. В одиночку с ним не совладать никакому
оппоненту-газетчику, он «сведет на нет»2 любого городского глашатая, не
даст спуску члену парламента и обрушивается даже на правительство. В
отечественной политике он что-то вроде четвертого сословия*. Он, вне сомнения,
не только самый влиятельный из нынешних политических писателей, но и
один из лучших английских писателей вообще. Он выражает свои мысли
простым, прямым, раскованным языком. Можно было бы сказать, что ему
присуща ясность Свифта, естественность Дефо и сатирическая
живописность Мандевиля, если бы все эти уподобления не грешили дерзостью:
истинно великий и самобытный писатель не похож ни на кого другого. В каком-
то смысле Стерн не был острословом, а Шекспир — поэтом. Второразрядные
таланты описать легко: они вполне укладываются в заданную
классификацию, подпадают под стандарт. Иное дело личности незаурядные: эти не
поддаются ни объяснению, ни сравнению, судить о них следует только исходя
из них же самих. Каждая такая личность — sui generis* — и представляет
собой отдельный разряд. Я не раз пытался определить стиль Бёрка: его
суровую безудержность, педантичную смелость; склонность к суховатым
преувеличениям; его увлеченность темой и одновременный уход в сторону от нее —
но все мои старания были безуспешны: постичь этот стиль невозможно,
поскольку ничего подобного нигде более не существует. Бёрк никому не
подражает, оттого и нет привычных мерок, которые можно было бы приложить
к его творчеству. Даже собственные его свойства вступают в противоречие
сами с собой..
* особого рода [лат.).
VI. Портрет Коббета
61
Коббет не так труден. Его сопоставляют с Пейном. В самом деле, нет двух
других писателей, более близких по тематике творчества и внутренним
ресурсам, на которые они опираются; влияние их произведений одинаково
широко; к тому же оба писателя одинаково приспосабливаются (хотя в данном
случае это не слишком подходящее слово) к восприятию своих читателей.
Однако, когда мы обращаемся к «Здравому смыслу» или «Правам человека»
Пейна, нас поражает и, можно даже сказать, в какой-то степени освежает
разница. Пейн гораздо более афористичен, нежели Коббет. Едва ли не на
любой странице лучших, ранних сочинений Пейна непременно встретишь
максиму, меткую антитезу или изречение, западающее в память: они служат
отправной точкой полемики и вместе с тем целью, к которой автор
возвращается. У Коббета нет ни единого bon mot*, ни единой сентенции, которую
бы хоть раз воспроизвели снова. Если что-то из него и цитируют, то либо
оскорбительный эпитет, либо обидное прозвище. В подобного рода
изобретательности он непревзойденный мастер — поистине «особенная способность»4.
Как великолепно он изводил Эрскина, из года в год неизменно именуя его
вторым титулом — барона Клакманнана!5 Коббет явно чересчур
неравнодушен к таким фразам, как «сыновья и дочери коррупции»6. Пейн старался
свести вещи к первоосновам, провозгласить самоочевидные истины. Коббет не
интересуется ничем, кроме подробностей и конкретных обстоятельств. Пейн
как будто решал для себя все заранее, заблаговременно составлял мнение и
видел свою задачу только в подыскании наиболее сжатых и отточенных
выражений для его изложения. Его последователь, напротив, не имеет, похоже,
ни путеводных нитей, ни готовых ответов, ни основополагающих принципов.
Может показаться даже, что он ранее вообще не задумывался над вопросом,
о котором взялся писать; однако на нас обрушивается нескончаемый поток
сырых фактов и предварительных материалов — во всей их силе и остроте,
оттого, что автор не приложил ни малейшего старания их упорядочить,
разбить на части или перетасовать, дабы подогнать под теорию. Коббет
неистощим в описаниях, в нескончаемом нагромождении примеров и иллюстраций;
вместе с тем общеизвестному он умеет придать всю силу новизны; его знания
не выходят за рамки описьшаемого предмета, а стиль свидетельствует о
безошибочном интуитивном постижении избранного вопроса, который
поглощает его целиком. Коббет имеет дело с логическими посылками и говорит об
очевидном. Суммирование выводов, подведение итогов (в чем forte** Пейна)
у него происходит в более ограниченных масштабах. Коббет был бы не в
состоянии сочинить простейший трактат о политике в качестве руководства для
широкого круга читателей, а Пейн, по всей вероятности, вряд ли сумел бы
* острого словца, остроты (фр.).
'* сильная сторона (um.).
62
Застольные беседы
издавать на протяжении ряда лет еженедельный журнал, выдерживая номера
в едином духе, сообщая им неизменный интерес, настойчиво и
последовательно проводя определенную линию. Труды Пейна — что-то вроде введения в
политическую арифметику на новый лад; Коббет пишет дневник и обстоятельно
заносит в него все происшествия и животрепещущие проблемы целого года.
Коббет, с его невероятной старательностью и широкой осведомленностью, в
высшей степени наделен даром внятно разъяснять читателю свою мысль, но
производит впечатление человека, который никогда не начнет с начала и
никогда не доберется до конца вопроса, какой ни возьми. Пейн же при
помощи немногих коротких фраз, в своей обычной безапелляционной манере, «раз
и навсегда решительно избавляется от всех возможных противоречий —
прошлых, настоящих и будущих»7. Пейн глядит на мир с птичьего полета.
Коббет рассматривает его вблизи, исследует составные элементы сущего и
крепко держится даже за ничтожно малые извлекаемые из них блага. Или, да
простят мне пасторальную метафору, Пейн заключает мысли в овчарню ради их
безопасности и отдыха, тогда как Коббет позволяет им разбрестись по всей
равнине как стаду овец: пусть насыщаются и жиреют. Коббета с
удовольствием читают и те, кто с ним не согласен: он менее догматичен, чаще обращается
к общеизвестным истинам и пользуется доказательствами, к которым
прибегают и прочие. Его писания беспорядочнее и бессвязнее, но разнообразнее:
очевидно, что его занимает не столько сиюминутный вывод, сколько
стремление двигаться вперед под воздействием сиюминутных убеждений. Вот
почему его терпят все партии, хотя он по очереди успел досадить каждой. Его
читают даже те, на кого он нападает. Реформаторы читали его, когда он стоял
на стороне тори, а тори читают теперь, когда он примкнул к реформаторам.
Для вигов он, впрочем, оказался слишком изысканным блюдом*.
По части поэзии и метафизики Коббет уступает своему прославленному
предшественнику, но зато он более драматичен и живописен. Его
бесчисленные, но всегда уместные описания захватывают своими naïveté** и
жизненностью, изобилием мельчайших деталей, коих рассыпано полной мерой через
край, однако они вовек не наскучивают — nunquam sufflaminandus erat***. Он
из тех писателей, что не приедаются ни читателю, ни самим себе, так как
всегда «исполнены мыслей»8. Он никогда не истощается, не делится с нами
глухими отзвуками былой славы, не становится «докучным, тусклым и
ненужным»9. Он вновь и вновь отправляется в путь, устраняя старые помехи и
отливая новые формы. Его сосредоточенность на собственной персоне привлекает
своей естественностью. Коббет рассказывает о себе не потому, что больше не
* Покойный лорд Терлоу говорил, что Коббет — единственный писатель,
заслуживающий имени политического мыслителя.
** простодушием, наивностью (фр.).
*** его никогда не приходилось урезонивать10 (лат.).
VI. Портрет Коббета
63
о чем писать: просто события из собственной жизни он использует как
наилучшую иллюстрацию к затронутой теме, ибо он не такой человек, чтобы
отказаться от превосходной иллюстрации из-за болезненной щепетильности; для
этого он слишком увлечен и собой, и предметом своих наблюдений. При этом
он не выставляет себя напоказ, не требует выражений восторга от
окружающих, но, помещая нас рядом с собой, заставляет видеть то, что видит сам.
Автор не играет с читателем в жмурки, не прибегает к обдуманным намекам,
не занимается неуклюжим чревовещанием, не демонстрирует свое
превосходство или безрассудное самоупоение вне всякой связи с обсуждаемым
предметом, не вворачивает будто бы к месту истории о восхвалениях собственной
особы другими лицами: во всем у него полнейшая ясность и прямота. Перед
нами — Уильям Коббет собственной персоной, со всей подноготной, в том
завидном для многих облике, в каком явился на свет: одним словом, его
сосредоточенность на самом себе исполнена неповторимой индивидуальности и
почти не оставляет места тщеславию. Приступая к чтению, мы с
удовольствием потираем руки и подвигаемся поближе к огню: нам опять предстоит
знакомство с чем-то новым и хорошо описанным, мужественным и простым, а отнюдь
не пресный надоевший рассказ о самом себе. Мы садимся с автором за стол,
уставленный разнообразными яствами — мясом, рыбой, дичью: нас
действительно хотят угостить; приглашение не пустой звук, как в случае с Бармеки-
дом в арабских сказках, который отделывался от гостей, предлагая им
несуществующие изысканные блюда и свое общество в придачу11. Мистер Коббет
не принадлежит к числу тшсзтелей-притворщиков — этого не посмеет сказать
о нем и злейший враг. Еще менее Коббет заслуживает обвинения в
вульгарности; так способен считать разве что ничтожный, заурядный критик. Путевые
заметки, присланные Коббетом из Америки, необыкновенно выразительны:
что за трансатлантический аромат!., какой естественный местный привкус!.,
удивительный sauce piquante* — презрение, коим они приправлены! Если бы
Коббет уселся перед зеркалом полюбоваться собой — вместо того чтобы
озираться вокруг наподобие Адама в раю12, стиль его статей не был бы столь
превосходен. Что за блистательное описание первого по прибытии в
Америку завтрака! Его с избытком хватило бы на месяц. Ни в какой комедии не
найти сцены смешнее! А как замечательно живописует он золотистые и ярко-
красные хохолки американских птиц; как трогательно сокрушается о том, что
леса его родины не так богаты птичьими голосами! Рощи Огайо, загубленные
под топором, «оживают на его страницах»13, а турнепсы, которые он
пересадил из Ботли, «зеленеют»14 в прозе. Как хорошо ему удались бедные овечки,
бьющиеся на земле в предсмертных муках от укуса клеща! Чем не картина в
манере Бевика, в которой проявляются сила, непритязательность и красота
* пряный соус (фр.).
64
Застольные беседы
чувства, присущие этому великому натуралисту? А как достается от Коббета
доктору Парру с его завитым париком15 и мистеру 16, непоколебимому
приверженцу партии вигов! «Грамматика» Коббета17 занимательна не менее,
чем сборник новелл. Он чересчур придирчив к чужому стилю, однако порой
излишне снисходителен к своему собственному.
Как политический боец Коббет не знает себе равных. Подобно великану
Отчаяние в «Пути паломника», он, размахивая дубинкой, крушит черепа
противников18. Не только отдельные политики, но и сама порочная система
в целом не в силах противостоять его мощным, упорным атакам: однако тем
же оружием, молотя им как цепом, он, наряду с оппонентами, повергает
наземь и своих соратников, приводя их в состояние hors de combat*. Эта
скверная наклонность, этот никуда не годный принцип политической тактики
довольно широко распространен. Будь удары Коббета постоянно направлены на
одну и ту же цель, любой утративший популярность министр давно бы
сложил оружие: вместо этого наш вояка крушит направо и налево всех подряд,
без разбора и жалости, и, расчистив для себя площадку, тут же покидает ее
как раз тогда, когда ему следовало бы закрепиться на ней намертво. Он
бодает противника в живот, лишая того всякой охоты сопротивляться; бьет
правых и виноватых, сражается с целым светом и, если вы приходите к нему
на помощь, желая закрепить достигнутый перевес, ставит вам подножку,
опрокидывает ниц и от души колотит лежачего, как янгуасские погонщики
некогда лупили палками Росинанта19. «В фигуре прыг-скок он лучше всех в
Иллирии»20. Единым духом Коббет оплачивает счета старой дружбы и только что
завязавшейся вражды; ведет залповый огонь, обрушивает «разящий ливень
стрел»21, обмакивая перо в чернильницу. Ничуть не заботясь о собственной
репутации и о возможных пагубных последствиях для дела, за которое
воюет, он выбивает оружие из рук любого противника — и возможного
помощника. Он, в сущности, не переносит никакого успеха, даже если это будет успех
его собственных воззрений, его единомышленников: стоило бы хоть одной из
его идей сделаться популярной, как он тут же восстал бы против нее.
Короче говоря, где бы ни объявилась какая-то сила, он тут как тут: бьет тревогу,
бодает все препятствия, подобно единорогу, устремляющемуся к дубу22, и
утверждает себя только в противоборстве с мнениями и желаниями всего
света. Плыть по течению, соглашаться с другими — не в духе Коббета. Если
бы ему удалось добиться парламентской реформы, можно с уверенностью
сказать, что очень скоро он выступил бы против нее и постарался очернить
дело собственных рук. Разлад с детищами пера у него наступает, едва
только они входят в моду — и теряют свободу. Причиной тому, как я думаю, не
суетность и не легкомыслие, но воинственность, заставляющая нашего авто-
* выбывших из строя (фр.).
VI. Портрет Коббета
65
pa идти наперекор всему и только в таком неизменном противостоянии
находить удовлетворение. Не будь этого, он уже сокрушил бы и башни, и «гнилые
местечки»23 на всей земле тараном неумолимых доводов; в действительности
же, как только он бы увидел их близкое падение, так сам принялся бы
укреплять их, назло собственным сторонникам. Он никогда не соглашается с
устоявшимися понятиями и ничего не сделает для утверждения на их месте новых.
Против всего устоявшегося он вступает в борьбу, ибо оно угнетает его или, по
крайней мере, так ему кажется. Он не успокоится, пока его не сокрушит, после
чего можно будет искать новые поводы для выступлений. Движущая сила
Коббета — отпор, основное свойство характера — противоречие. Идя всему
наперекор, он как подлинный сын Измаила остался без единого друга24. В
политике он постоянно играет в пятнашки, стараясь задеть первого, кто
попадется под руку. Хотите, чтобы он отступился от своей точки зрения,
воспылал к ней непреодолимой ненавистью? Встаньте рядом и непрерывно
долбите ему о ней прямо в уши. Находясь в Англии, он без устали обвиняет
торговцев «гнилыми местечками» и высмеивает систему в целом; в Америке его
раздражают свобода и республика. Если бы он задержался там еще немного,
то наверняка превратился бы в верноподданного приверженца Его Величества
короля Георга IV. Коббет писал памфлеты против Французской революции,
когда миллионы приветствовали ее как зарю свободы. Когда же революцию —
отчасти, разумеется, не без его содействия — удалось очернить в глазах почти
всех англичан, он тут же, с двумя-тремя единомышленниками, обернулся
стойким бонапартистом. Коббет всегда на стороне борющейся, но еще не
победившей партии: неизменно обнаруживая благородную отвагу, он, однако,
зачастую оказывается не прав. Ему недостает принципиальности: он не
раболепен и не корыстолюбив, но становится жертвой собственного своеволия.
Крушить и ломать — вот его главное желание; на прочее он не способен. Об
этом нельзя не сожалеть: с такими талантами Коббет мог бы творить великие
дела, если бы упорно двигался к какой-либо важной цели, тщательно работал
над каким-нибудь вопросом или со всей страстью отстаивал ту или иную точку
зрения. Он меняет взгляды, как меняет друзей — как правило, по тем же
мотивам. Он не выносит устоявшихся мнений: стоит им только утвердиться
в его душе, как он тут же затевает с ними ссору. В вечной погоне за истиной
он любит схватить, потрепать и уничтожить какой-нибудь вопрос, чтобы
затем отшвырнуть его как раздавленное насекомое; потом затеять очередную
игру с преследованием и, обретя новое дыхание, мчаться по кустам и болотам,
в то время как возбужденная толпа вопит у него за спиной, а ее
предводители то и дело сбиваются со следа. Это Коббет называет королевской охотой.
Он одобряет ее, так же как игру в палки, или фехтование, или любое другое
занятие, которое разгоняет скуку. Ему нравится сам процесс спора: резкие
выпады и удары, броски и падения, разящие уколы аргументов. К выгодам
66
Застольные беседы
мирного разрешения поединка он безразличен: едва только вопрос
благополучно улажен, забава теряет для него всякий смысл.
К сказанному выше добавлю, что существует и другая сторона медали.
Мистера Коббета можно было бы назвать честнейшим, но при этом
абсолютно беспринципным человеком. Данный парадокс объясняется
следующим образом.
Коббет предельно искренен в том, что заявляет в конкретный момент
времени, в той роли, которую на себя берет. Однако в этой роли им движет
исключительно упрямство, прихоть, он гонится за новизной и руководствуется
скорее собственным болезненным самолюбием, нежели непоколебимым
уважением к истине или привычной тягой отстоять свою правоту. Он не похож
на продажного, изворотливого приспособленца (никто не мог бы писать так,
как он, не преисполнившись искренней верой в написанное), но ум его
обманут и порабощен сиюминутными, необузданными, не знающими покоя
страстями. Он не отстаивает какое-либо мнение «предумышленно или ради денег»25,
но поддается первому же брошенному вызову, первому капризу, который
возникает в его голове. Он смотрит на вещи сквозь жар чувства, не соотнося их
ни с какими основополагающими принципами. Система его мышления
нарушается под влиянием любого предмета, которьш поражает его
воображение или ввергает в уныние. Вероятно, одна из причин описанного явления —
недостаток у Коббета систематического образования. Он — самоучка, и
связанные с этим достоинства и недостатки бросаются в глаза и ошеломляют.
Признаётся, что редактор журнала «Политический вестник» («двухпенсовая
чепуха»26, как его называли, пока после принятия парламентом одного закона
цена не поднялась до шести)27 — не «ученый и джентльмен»28, хотя и
обладает свойствами, благодаря которым, при чуть большем благоразумии,
заслуживал бы (в глазах публики) обоих званий. Коббету недостает знаний о том, что
было открыто до него, недостает вех, по которым он мог бы
ориентироваться, общих принципов, которые помогли бы ему в конкретных случаях. Не
обладая представлениями, необходимыми для сравнительного анализа или
выявления философских основ различных взглядов, он полагается на
собственную прозорливость или непосредственные наблюдения. Он видит вещи
не в широком масштабе и не в перспективе, пусть даже отдаленной и скрытой
туманом, а так, как они возникают перед ним, — близкие, ощутимые,
доступные. Его открытия всецело принадлежат ему одному, и он не знает ничего
иного, кроме того, что открыл сам. Он весь в постоянной спешке и горячке
замыслов; в его мозгу беспрерывно кипят все новые и новые проекты. Каждое
прозрение рождает новую систему; заря нового мира без конца занимается для
него. Он то и дело превосходит самого себя; возникшее последним мнение для
него единственно истинное. Сегодня он мудрее, чем вчера, так почему же
завтра не станет еще мудрее, чем сегодня? Люди ученые не так остроумны, как
VI. Портрет Коббета
67
наделенные умом, но не получившие образования, однако лучше знакомы со
способами удерживать интеллектуальное равновесие; может, они и глупее, но
основательнее; существует меньше вероятности, что самонадеянность
мудрости и нетерпеливость поздно и трудно обретенной образованности уведут их
в сторону. Они не влюбляются с первого взгляда в показную экстравагантность
и не принимают за девственницу затасканную гипотезу только потому, что не
знакомы с порядками, существующими на свете. Они не кидаются на все
новое, как на добычу, но избегают грубого подлога, стараясь не превзойти
мудростью тех, кто шел впереди, а просто проявляя мудрость в той же мере.
Пейн однажды заметил: «Что я написал, то написал»29, как бы сочтя
ненужным дальнейшее провозглашение своих принципов. Иное дело мистер Коб-
бет. Написанное им ранее вовсе не определяет его дальнейшие труды.
Каждый день он узнает что-то новое; и каждую неделю занимает позицию,
чтобы отстаивать мнения, возникшие у него в предыдущие семь дней, в схватке
и с другом, и с врагом. Неистовая непоследовательность, упорное
непостоянство, сознательное отсутствие всяческих правил и методов — не они ли
помогают ему действовать с неиссякающим воодушевлением, разнообразием и
задором? Он никогда не повторяется. Что ни выпуск журнала, то новые виды
на будущее. Его рассудок чурается пут и оков, не терпит никаких
обременении; его понятия ничем не скованы и совершенно свободны. Если бы он
попал в стесненные обстоятельства, ему пришлось бы, как многим другим, стать
обыкновенной наемной лошадкой. Он же может позволить себе
«пространства волю и предел широкий»30. Противоположные стороны вопроса он
защищает с одинаковой стойкостью. Если никто не в силах выступить против него,
тогда он сам для себя — весьма достойный противник. Защищает ли он
реформу (как теперь), нападает ли на нее (как раньше) — всякий раз он делает это
лучше других. Где бы он ни оказался, начинается борьба; его аргументы
вески, обвинения неотразимы. Коббет не из тех, чьему дару грозит опасность
иссякнуть. Он «неуклюже мечется и бросается из стороны в сторону»;31 устав
лежать на одном боку, тут же поворачивается на другой. Происходящая
время от времени перемена точки зрения не просто вносит разнообразие и
расширяет круг его тем («Политический вестник» сделался арсеналом, в котором
хранятся всевозможные виды припасов и оружия, необходимых в
политической борьбе), но и сообщает дополнительную живость и остроту его манере
обращения с ними. Мистер Коббет ни одно свое доказательство не считает
окончательным; он не занимается изготовлением справочников. Мы видим,
как идеи его закладываются, бродят и переливаются через край вместе с вновь
вскипевшей концепцией. Наблюдая в живую этот процесс, мы
непосредственно постигаем основы и источники его оптимистических, неустоявшихся
заключений. Он не позволяет нам произвести пробу и оценить ход рассуждений,
но выливает всю массу с осадком.
68
Застольные беседы
Речь изобильна и ясна, как день:
Писал так Шиппен и старик Монтень32.
В этом-то и кроются сила и доходчивость его произведений.
Доказательства не застывают и не путаются у него в голове, но сразу же переносятся на
бумагу. Идеи он подает, как оладьи, прямо с пылу с жару. Свежесть теорий
придает ему смелости. Словно юный сильный новобрачный, он по утрам
покидает прежнюю приглянувшуюся гипотезу, чтобы вечером вступить в союз
с другой. Ни в коем случае не будет он хранить верность своим мыслям — не
на такого напали. Среди всех его точек зрения нет ни одной миссис Коббет.
Он сполна использует последнюю из встретившихся ему на пути идей: хватает
ее железной хваткой, грубо треплет и мнет, как ему заблагорассудится,
осуществляет над ней свою злую волю, пресыщается и отбрасывает прочь.
Погоня нашего автора за новыми мыслями не столь удивительна: куда
примечательнее его способность забывать старые. Он не стремится к постоянству,
подобно мистеру Колриджу, а откровенно порывает все связи с самим собой.
Не чувствуя ни малейшей личной ответственности, он и от принципов, и от
друзей отказывается с тем же категорическим безразличием, с каким Анти-
фол Эфесский не признал Эгеона Сиракузского33. Проделывает он это с
удивительной легкостью. Только однажды Коббет проявил себя романтиком —
когда привез из Америки останки Томаса Пейна, чтобы проделать с ними
путь по регионам, более других недовольных правительством. Сразу же после
высадки в Ливерпуле он покинул прах великого человека на произвол
судьбы и отправился в Лондон, где поспешил заявить, что никогда не разделял
политических и богословских взглядов Пейна, но высоко чтит покойного
кумира за финансовые спекуляции и за предсказание судьбы бумажных
денег. Мы могли бы поверить в искренность его слов, если бы он воздвиг в честь
усопшего скромных размеров золотую статую; однако, для того чтобы
объявить человека святым покровителем и великомучеником и, выкопав его
«зарытые в земле святые кости»34, выставить их для поклонения на показ черни,
необходимо нечто более возвышенное и одухотворенное, нежели одобрение
его опытности в делах, касающихся подсчета фунтов, шиллингов и пенсов!
Ясно, что Коббет предал собственный замысел как недостаточно созревший.
Мужество покинуло его, восторг угас — и отречение осуществилось. Пиетет
Коббета недолговечен, и неистощим наш автор лишь в презрении и
негодовании.
Я привел только один пример его зависимости от обстоятельств. Коббет
имеет дурную привычку пророчествовать и не прекращает это занятие,
невзирая на беспрестанные промахи. Пророчества не идут к стилю мистера
Коббета. Он называет конкретные имена, места, даты грядущих событий.
Согласно его предсказаниям, реформа в парламенте должна была произойти в мар-
VI. Портрет Коббета
69
те 1818 года. Но ничего подобного не случилось, и с тех пор мы об этом
более не слышали. Не вспоминая о несбьшшихся предсказаниях, он с
уверенностью принимается за новые — так деревенские жители продолжают искать в
альманахе35 прогноз погоды на следующую неделю, хотя все предыдущие
прогнозы не оправдались.
Мистер Коббет велик в нападении, но не в защите. Он не вступает в
трудные, продолжительные битвы, не терпит далее малейших поражений. Если
кто-то на него нападает (правда, на такое отваживаются немногие), он тут же
пускается наутек. Подобно школьнику-переростку, он привык
своевольничать — и не расположен ни соперничать, ни бороться за превосходство. Как
всякий трус и забияка, Коббет хочет наносить удары, но не принимать их. Биг-
Бен в политике36, он способен обрушиться на врага и подмять его под себя, но
устоять долго не в силах и начинает шататься от немногих ловких ударов.
Стоит кому-то насесть на него, он тут же ускользает от полемики.
Несколько лет тому назад «Эдинбургское обозрение» вцепилось в него, что
называется, мертвой хваткой37. Мистер Коббет ограничился рассуждением о том,
сколь аккуратнее английские огороды выглядят по сравнению с
шотландскими. Однажды я зашел в книжную лавку на Флит-стрит, чтобы спросить
«Обозрение». За прилавком стоял молодой шотландец. На мое замечание о том,
что мистер Коббет не останется в долгу, северный бритт поинтересовался не
без тревоги: «Не думаете ли вы, сэр, что мистер Коббет способен причинить
вред шотландской нации?» Я ответил, что имел в виду всего лишь умение
мистера Коббета обороняться. Однако писатель не стал себя защищать, зато
проникся с тех пор к «Эдинбургскому обозрению» глубокой неприязнью.
Теперь для него этот журнал еще ненавистнее, чем «Ежеквартальное
обозрение». А для меня — нет*.
* Мистер Коббет говорит почти так же хорошо, как пишет. Один только раз я видел
его38, и он показался мне очень приятным человеком — доступным, приветливым, с ясной
головой, мягкими непритязательными манерами, обдуманной и спокойной речью, хотя и не
лишенной неправильных оборотов. Сам он высокий, дородный, с добрым умным лицом; у
него полные румяные щеки, небольшие серые глаза, тяжелый квадратный лоб, волосы
седые или напудренные. На нем был алый поплиновый жилет с длинными клапанами на
карманах — по обычаю сельских джентльменов прошлого столетия или как на портретах
членов парламента времен царствования короля Георга I. Безусловно, после встречи с
мистером Коббетом мое мнение о нем не изменилось к худшему.
VII
ОБ ОДЕРЖИМОСТИ ОДНОЙ ИДЕЕЙ
Есть люди, которыми владеет всего одна идея; во всяком случае, если у них
имеются и другие, они хранят их в тайне, ибо говорить могут только об одном.
Вот, например, майор Картрайт:* у него нет иной мысли и темы для
разговора, кроме реформы парламента. Насколько мне представляется,
парламентская реформа сама по себе — прекрасный и естественный предмет для
беседы. Но почему же единственный? Когда достойный, отважный майор
обращается к своей излюбленной теме, впечатление такое, будто разбирается какой-
нибудь юридический вопрос или слушается бесконечная тяжба. Кроме нее
ничем заниматься, ни о чем говорить нельзя. То она как будто наконец
сдвинулась с места, то опять застряла, то судья как будто пообещал вьшести
решение к определенному сроку, то все отложил и потребовал дополнительных
документов — и в обоих случаях возникают причины для обсуждения. Как
завзятый судейский, майор крутит и вертит тему на все мыслимые лады,
словно шпагат, которым перевязана папка с бумагами, и шагу ступить без этого не
может.
Некоторые школьники умеют читать только по своим учебникам, а
человек, одержимый одной-единственной идеей, может говорить только о том, что
с ней связано. Получается не беседа, а скорее изложение вступительных
пояснений к обсуждаемому законопроекту — или набор серьезнейших доводов,
призванных перетянуть собеседника на свою сторону. Ладно бы еще за всем
этим стояло хоть малейшее своеобразие или просто эксцентричность, но ведь
ничего подобного! Нам приходится выслушивать расхожие банальности,
нескончаемую политическую проповедь. Получается ровно так, как если бы ваш
собеседник требовал, чтобы при каждой встрече с ним слушали в его
исполнении пятую главу Книги Судей1, или что-то вроде истории мироздания в
«Векфилдском священнике»2. Все это напоминает мелодию, исполняемую на
* Этот достойный человек недавно скончался в преклонном возрасте.
VIL Об одержимости одной идеей
71
шарманке. Вечная тема — не что иное как средство для поддержания
разговора, который подобные люди затевают когда им угодно, не тратя при этом
ни сил, ни труда. Такое свойство нельзя оправдать ссылкой ни на
профессиональный педантизм, ни на узаконенное шарлатанство. Одержимый одной
темой, которую навязывает своим слушателям, смыслит в ней не больше, чем
вы сами. Отсюда и вся безнадежность положения.
Когда фермер толкует вам о своих поросятах или курах, врач — о
пациентах, юрист — о своей практике, деловой человек — о ценных бумагах, писатель —
о самом себе, — вам понятны их побуждения: подобная слабость свойственна
всем. Вы просто смеетесь над ними — и делу конец. Но тут перед вами
человек, которьш изо всех сил старается вести себя по-дурацки и надоедает
романтическими потугами на великодушие. Ему не скажешь: «Вам, быть может, все
это и интересно, но мне до этого дела нет» — от него так легко не
отвертишься. Он возразит вам латинским изречением «Nihil humanuni a me alienum pu-
to»*. Он завладел темой, которая представляет выдающийся, всеобщий
интерес (не просто «горе одной груди»)3 — и на этом основании может держать вас
за пуговицу сколько ему заблагорассудится. Он наслаждается своими
разглагольствованиями о том, что его никак не касается, — как же тогда вы
можете отказаться слушать то, что нисколько вас не занимает? Время никого не
ждет. Государственные дела не терпят отлагательства. Всеобщее
избирательное право и ежегодные выборы в парламент — всегда первый вопрос на
повестке дня и рассматривается прежде всего. Всякий другой вопрос, серьезный
или легкомысленный, считается проявлением нахальства — и отметается с
негодованием. Любое дело оказывается помехой для обсуждения
наиважнейшей темы, развлечения уводят от нее в сторону. В любом обществе, где бывает
майор (а оно немедленно превращается в комитет, занятый обсуждением
одной темы), решение этого вопроса непрерывно откладывается, и считается, что
тем временем никакой другой обсуждаться не может; такое положение вещей
дает неутомимому борцу возможность распространяться на излюбленную
тему вплоть до смертного часа.
Как говорит о своих ученых занятиях Цицерон, они следуют за ним в
деревню, не покидают его дома, сидят с ним за завтраком и сопровождают его
на обед4. Увлекающая майора тема становится частью его одежды,
внешнего облика, без нее он не знал бы, чем заняться. Если он встречает вас на улице,
то обращается к вам с этим вопросом вместо приветствия; если вы пришли
к нему домой, предполагается, что другой цели у вас нет и быть не может.
Коли вам случится заметить: «Сегодня прекрасная погода» или «Какие
толпы кругом», считается, что вы впали во временное отступничество от главного
вопроса, и вас подозревают в беспринципности.
* «Не чуждо человеческое мне ничто»5 [лат.).
72
Застольные беседы
Когда Санчо упрекнули в том, что он вспомнил своего смиренного
любимца на кухне в доме Герцога, он сказал в свою защиту: «Так ведь я там подумал
о своем Сером и там заговорил о нем»6. Точно так и наш верный борец за
реформу не упускает случая ввернуть словечко о ней, где бы ни оказался. Милую
его сердцу Реформу он будет славить на холодном севере, да и под
полуденным африканским солнцем не сможет говорить ни о чем, кроме Реформы, ее
нежных улыбок и ласковых обещаний, уже сорок лет ею расточаемых.
Dulce ridentem Lalagen [amabo],
Dulce loquentem*.
Тема, у которой только один законный хозяин, может считаться
пожизненным владением, свободным от всякого обременения — в виде остроумия,
мысли, изучения; вы пользуетесь ею, как постоянным доходом, и надеяться
изгнать вас из него в мир здравого смысла и разумных доводов можно с тем
же успехом, как выставить из вашего собственного поместья. У каждого его
дом — его крепость, и у каждого привычный ему быт — это твердыня, из
которой он выглядьшает и посмеивается над шумом и жаром споров на
легкомысленные и надоевшие темы. «И мир звенит от суеты!»7 А избавить нас от
этого и всякого другого зла могла бы только реформа парламента, и так мы
вечно ходим по кругу и неизменно возвращаемся к началу своего пути.
Почему эта разновидность трезвого безумия раздражает больше безумия
истинного? Да потому, что у восторженного теоретика ум так же набекрень,
так же порабощен одной идеей, как у настоящего сумасшедшего, с той лишь
разницей, что у первого даже минутных просветлений не бывает! Когда
такой помешанный идет по улице, ровно так же понятно, о чем он думает и что
дальше скажет, как понятен нам тот, кто вообразил себя заварным чайником
или русским царем. Оба одинаково недоступны разумению: один бредит,
другой несет чушь.
Некоторые считают источником всех бедствий хлебный закон8, другие
винят во всех несчастьях обычай кутать детей в ночные рубахи во время сна
или путешествий. Эти люди часами напролет ораторствуют о первом и до
посинения толкуют о втором. Даже когда вы прекращаете спор, они
упорствуют и начинают все сначала: «Разве вы не понимаете?..» При всей своей
занимательности и оригинальности эти отклонения от нормы преходящи и
недолговечны. Они захватывают человека на несколько месяцев раз в год или раз
в два года. В пылу нового открытия он не станет говорить с вами ни о чем
другом, но он не всегда один и тот же и нередко, сам того не замечая,
занятен. Он не похож на звон колоколов в полночный час.
* «Лалаги моей разлюблю ль я голос / Или улыбку?»9 (лат.).
VII. Об одержимости одной идеей
73
Те, кто изводит вас до смерти своей преданностью одной-единственной идее,
как правило, мыслят о ней весьма своеобразно, наперекор всему свету. Ими,
в сущности, движет желание от всех отличаться. Так, человек, известный своей
приверженностью к вегетарианству, за обедом непременно силится занять вас
нападками на мясную пищу. Один из этих самоотверженных героев, который
даже непритязательную растительную пищу советует есть в сыром виде, как-
то раз, скорбя о смерти пациентки, обращенной в его веру, выразил свое
разочарование грустным шепотом: «Она, конечно, тайком ела мясо!»
Не очень-то приятно (хотя от некоторых вы готовы это терпеть), чтобы вас
при каждой встрече спрашивали, бросили ли вы пить, и, в зависимости от
вашего ответа, положительного или отрицательного, восхищались бы вами
или бросали сочувственные взгляды. Абернети считает свои пилюли
вернейшим спасением от всех болезней. Когда больной однажды пожаловался
своему врачу, что назначенное лечение не помогает, врач стал убеждать, что на
свете нет лучшего средства, и в доказательство сообщил: «У меня от такой
же болезни один господин лечится по этой методе шестнадцать лет!»
Я знавал людей, всецело поглощенных проблемами вроде отмены
работорговли, восстановления в правах евреев или развития Унитарной церкви10. Я
сам одно время яростно нападал на учение о праве помазанников Божьих11 и
еще не излечился от своих предубеждений на сей счет. Как много
прожектеров совершенно свихнулись оттого, что вечно дудели в одну дуду: то это было
открытие философского камня, то установление долготы, то погашение
национального долга. Недуг в конце концов ведет к роковому кризису, но задолго
до этого, пока больные еще расхаживали среди нас и разговаривали с нами на
свой обычный манер, доходящие до умопомешательства порьшы их буйной
фантазии одерживали верх, происходила постепенная утрата способности
направлять свои мысли и отвлекаться от единственного занимающего их
предмета, что подтачивало разум, выбивало его из колеи. Насколько я знаю, член
городского совета Вуд ни о ком, кроме королевы, за последние полгода нигде
не говорил12.
Счастливчик Вуд! У одних любимой темой является определение глагола,
у других — стенографическая система, у третьих — лечение сыпного тифа, у
четвертых — способ предупредить подделку банкнот — на их взгляд, самый
лучший, да и вообще единственно возможный способ. Есть и такие люди,
которые уверяют, что во всем мире было только три великих человека — и
предоставляют вам возможность добавить четвертого. Иной, побывавший в
Германии, может рассуждать только о всем немецком; шотландец непременно
заговорит о собственной стране. Некоторые заводят нескончаемую
кантилену о философии Канта. Есть в Лондоне один самовлюбленный тип, который
всюду и всегда твердит13 только о ней. Кантовы категории висят у него на шее,
как ожерелье; он играет первичными и трансцендентальными качествами14,
74
Застольные беседы
будто кольцами на своей руке. Он разглагольствует о системе Канта, когда
танцует; он толкует о ней за обедом; он рассказывает о ней своим детям,
подмастерьям, покупателям. Он и ко мне зашел, чтобы обратить меня в свою
веру, и заявил, что только пара-тройка пустяковых предубеждений мешают
мне обрести ее. Между тем он знает об этом учении не больше, чем дверной
косяк. Почему же тогда он поднимает весь этот дурацкий шум? Не потому, что
эта идея засела у него в голове, а потому, что у него нет никакой другой.
Болван может с полной безнаказанностью толковать о Кантовой философии, но
заикнись он о чем-нибудь другом — его сразу бы поймали. Некая француженка
вышла замуж за молчаливого англичанина и в качестве извинения за его
немногословие объясняла, что он всегда думает о Локке и Ньютоне.
Всегда можно проскочить, если идешь следом за великими мира сего! Я
как-то встретил на улице своего приятеля15, и он с необычным оживлением
сказал мне: «У нас продается! Продается!» Я подумал, что речь идет о доме.
«Нет, — сказал он. — Разве вы не видели объявления в газетах? Я говорю о
двадцати пяти экземплярах "Эссе"16». Этот труд, благообразный объемистый
том, посвященный непостижимым метафизическим проблемам, занимал его
много лет, и он был уверен, что я могу думать только о том, о чем думал он
сам. Вероятно, я едва ли не единственный, кто прочел его книгу и мог
притязать на понимание ее. Ведь это своеобразный и чрезвычайно оригинальный
труд, почти столь же непонятный, сколь своеобразный, и столь же странный,
сколь оригинальный. Ежели автор поглощен только мыслями, что бродят в
его голове, и никакими другими, он, безусловно, в своем праве, ибо таких
мыслей нигде нельзя найти — иная из них сделала бы честь даже какому-
нибудь Беркли. Ловкий плагиатор чрезвычайно прославился бы, сумей он
изложить эти мысли общедоступным языком.
Те, кто всю жизнь твердил наизусть лишь чужие слова, мало, удивительно
мало знают о душевных муках, трудах, тоске и сомнениях, без которых
оригинальная идея невозможна даже в зародыше, без которых ее нельзя откопать
в скрытых тайниках мысли и природы, вьшесги ее, робкую,
сопротивляющуюся, искореженную на свет божий — и отыскать слова и доходчивые символы
дая доселе не вообразимого или не выразимого. Это то же самое, как если бы
немой впервые заговорил, как если бы вещи сами могли выразить себя, с
трудом преодолевая несовершенство наших органов чувств. Как бы я хотел,
чтобы кто-нибудь из наших развязных ловких краснобаев, огромный словесный
запас которых покрывает отсутствие мысли, поделился своим умением с таким
писателем! Если бы он, «бедный, неоперившийся», «едва вылетевший из
гнезда»17, мог найти способ выразить свои мысли, тайные истины обрели бы язык.
Мистер Ферн проживал в глухих лесах Индостана. В часы досуга,
свободные от дел и охоты на тигров, он вздумал заглянуть внутрь своего сознания.
Неожиданная прихоть, странная фантазия подобно легкой дымке то и дело
VII. Об одержимости одной идеей
75
являлись ему, возбуждая любопытство; но вскоре исчезали, подобно следу
дыхания на стекле. Он не думал о них, но те же осознанные чувства
возвращались, и то, что сперва казалось случайным или инстинктивным, стало
привычным. Несколько совершенно не известных ему ранее соображений о
законах сознания овладели им, но, будучи не слишком сведущим в этих вопросах,
он не знал, высказывались ли эти соображения его учеными
предшественниками. Он поехал в столицу полуострова, купил Локка, Рида, Стюарта,
Беркли и, вернувшись домой, изучил их с жадным любопытством, но не обнаружил
того, что искал. Он сел за работу сам и через несколько недель набросал свои
мысли и наблюдения вчерне на бумаге из бамбука. Настойчивость исканий и
тяготы климата подорвали его здоровье, и он вынужден был вернуться на
родину. Свои метафизические труды, бамбуковую рукопись он погрузил в
лодку и, спускаясь вниз по Гангу, сказал себе: «Если я останусь жив, и она
будет жить; если умру, никто о ней не услышит». Что слава по сравнению с
такими чувствами? Бормотание идиота! Он привез свой труд домой и
дважды напечатал. Пусть первый вариант его писаний оказался малопонятен, но он
был уверен, что усовершенствованное издание не может не дойти до
читателя. Однако и оно не снискало успеха. Как говорил о себе Голдсмит, весь мир
словно сговорился не обращать на него внимания18. С тех самых пор на долю
путешественника доставались только разочарования, огорчения и — самое
болезненное — непонимание окружающих.
Мистер Ферн говорил мне, что один из авторов «Ежемесячного
обозрения», умный человек, понимает все значение книги и прямо об этом
заявляет. Но других примеров я не знаю. Тем не менее в этом труде, всеми пре-
небрегаемом и осмеиваемом, есть мысли, приводящие к таким любопытным
и утонченным рассуждениям о некоторых из наиболее трудных и
вызывающих наибольшее число споров вопросах из области теории
человеческого сознания (в частности, о таких, как взаимоотношение, абстракция и т. д.),
каких уже шестьдесят лет, со времен Юма, никто не высказывал, ибо
после него и не появлялось в стране философа, достойного так называться.
Между тем Юм утверждает, что «Трактат о природе человека»
совершенно не был никем замечен19. Так знание пробивает себе путь вперед, а
известность сильно отстает. Впрочем, по-моему, истина важнее, чем мнение о ней.
Что же касается двух отпечатанных, но нераспроданных изданий «Эссе о
сознании», тут я скажу: «Honi soit qui mal y pense!»*
* Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает!20 [старофр.)
Поэтические произведения раскупают не лучше, чем метафизические. Однажды я
зашел в книжную лавку на Патерностер-роу в поисках строчек из «Прогулки» мистера Вордс-
ворта, дабы оживить ими свою прозу; я обратился к владельцу и попросил экземпляр
«Прогулки». Мне ответили: «Прогулку в какую страну, сэр?»
76
Застольные беседы
У дядюшки Тоби21 в голове были две мысли: одна — о его зеленом луге,
а другая — о вдове Водмен. Простим ему — пускай думает о них. Приведу еще
одну историю в доказательство теории о человеке во власти одной идеи —
причем чаще всего такой идеей является он сам. Одному знаменитому поэту22
случилось оказаться в небольшой компании, которая только что получила
роман «Роб Рой», написанный автором «Уэверли»23. Эпиграф на титульном
листе был заимствован из стихотворения этого поэта24. Подобного намека для
умного человека было достаточно25. Он тут же подошел к книжной полке в
соседней комнате, взял томик своих стихов, с явным самодовольством
зачитал вслух все стихотворение целиком, поставил книгу на место и ушел,
позабыв и о Роб Рое, как будто такого человека никогда не существовало, и о
новом романе, как будто его автором не был знаменитый писатель, которому
не помешало бы ответить любезностью на любезность. А впрочем, этот поэт
не признает никаких заслуг, кроме собственных*.
Мистер Оуэн известен как человек, преданный единственной мысли: о себе
и ланаркских хлопчатобумажных фабриках26. С этой идеей он без устали
носится из Глазго в Лондон и обратно, надеясь увидеть ее одинаково
безупречной и совершенной в обоих городах. Его отважное путешествие обретает
необыкновенную стремительность и непостижимость. Бесполезно
противиться ему, пока в голове его продолжают стучать колеса почтовой кареты.
Не страшат его Альпы и Апеннины,
Не страшит крепостной редут27.
Внезапность наскока подчинила власти мистера Оуэна даже такой
мощный паровоз, как газета «Тайме»; а кроме того он напечатал десять тысяч
гравюр задуманных им селений28, которые должны были убедить любого в
осуществимости его программы. С видом школьного учителя и доктора-шар
латана в одном лице он тащит к вам какой-нибудь из своих документов,
весьма участливо интересуется, как вы себя чувствуете, и, услышав, что все еще
неважно, из-за несварения желудка, немедленно оборачивается и замечает:
«От всего этого излечит мой план. Слишком много внимания обращают на
* Эти эксцентричные поэты напоминают одного глупого звонаря в Плимуте, о котором
рассказал Норткот. Звонаря просто распирало от гордости за свое искусство, а
мальчишки, обожавшие подтрунивать над его причудой, бывало, забирались к нему на колокольню
и давай спрашивать: «Ну, так что, Джон, сколько у нас в Плимуте хороших звонарей?» —
«Два», — неизменно отвечал он не колеблясь. «Да ну?! И кто же это?» — «Ну как же,
вот я — это раз, а потом еще, потом еще...» — «Ну кто же еще?» — «Ну как, еще есть,
еще есть... Слушайте, никого, кроме себя, я и не припомню». «Мы говорим о молодом
синьоре Ланчелоте»20. В той истории речь идет о Звонарях, но подходит она ко всякому
тщеславному, ограниченному, самовлюбленному пустозвону, чем бы он ни занимался.
VII. Об одержимости одной идеей
77
душу и слишком мало — на тело»; в программе, которая недавно им
пересмотрена в лучшую сторону и вскоре найдет повсеместное одобрение, он
продумал и то и другое; он давно считает: духовное начало целиком подчинено
физическому, и если последним пренебрегают или оно приходит в
расстройство, то и духовная сторона страдает и лишается бодрости; поэтому
тренировка составляет важную часть его системы, которая дает полную свободу для
всестороннего развития тела и души. А еще он сообщает, что против его
новой концепции общества выдвигались два возражения: она, дескать, не
предусматривает ни достаточного отдохновения от трудов, ни достаточного
разнообразия. На первое обвинение, он полагает, уже ответил, ибо там, где силы
души и тела действуют без ограничений, свобода, ясное дело, проявляется в
высшей степени; что же касается второго обвинения — в монотонности,
неизбежной при регулярном выполнении плана всеобщей кооперации, — он
считает, что в своих трактатах «Новый взгляд»30 и «Обращение к высшим
классам»31 доказал: рекомендованная им кооперация не может не привести к
всестороннему совершенствованию ума и способностей, а значит, не к
недостатку, но, напротив, к избытку разнообразия.
Произнеся все это и закончив свою набитую банальностями лекцию, как
если бы читал афишу или аптекарское объявление, сей опытный, но
импульсивный оратор берет шляпу и спускается по лестнице на улицу. А если вдруг
вы остановите его у двери и для поддержания беседы вставите словечко
насчет того, что мистер Саути, кажется, приветствует этот план в своем
недавнем «Письме к мистеру Уильяму Смиту»32, он посмотрит на вас с
сочувственной улыбкой — ввиду бесполезности всякого сопротивления и
бессмысленности всякой поддержки. Люди, которые раздувают свои бездарные планы до
немыслимой важности, — по-моему, жертвы водянки в голове, причем в
сильно запущенной форме. Хотя они, быть может, несмотря на все это, вполне
достойные люди, но собеседники скверные, да и мыслители никудышные.
Том Мур где-то рассказывает о ком-то, что тот «сует руки в брючные
карманы, словно крокодил»33. Загадочная фраза, но о мистере Оуэне и ему
подобных можно сказать, что они силятся решать проблемы общественного
совершенствования и реформирования столь же непостижимым способом.
Я не выношу никаких излишеств, даже самых сладостных. Не хочу быть
вечно привязанным к одному вопросу, как будто других в целом свете нет.
Мне нравятся люди более широких взглядов.
И я не прочь потолковать
С заезжим моряком34.
Я не за тайный сговор, а за обмен идеями35. Интересно бывает
прислушаться к чужим мнениям по самым разным вопросам. Я не хочу вечно дышать
78
Застольные беседы
одной и той же спертой атмосферой, мне нравится менять обстановку, делать
небольшой перерыв и получать глоток свежего воздуха где-нибудь вне дома.
Педантизм, сосредоточенность на собственной персоне, самомнение всегда
таятся неподалеку, как бы мы ни старались их стряхнуть; и для этого даже
не надо крепко запираться в закрытом пространстве, где процветают эти
бесценные свойства, чтобы думать только о своих чудесных открытиях и
слышать только звуки собственного голоса. Ученые, подобно государям,
могут кое-чему научиться, соблюдая incognito*.
Тем не менее встречаются люди, которые ни в книжной лавке, ни в
почтовой карете и пяти минут не могут выдержать, не сообщив вам, кто они такие.
Они повсюду носят свою славу, как улитка раковину, и замыкаются в ней,
презирая все вокруг. Я этого совершенно не понимаю. К чему вечно
вращаться вокруг собственной оси? Этак наверняка и самому себе надоешь, да и всем
вокруг. Один известный писатель храбро выразил следующую мысль:
«Любой лорд заперт в Бастилии собственного имени и потому не может дорасти
до человека»;36 я знавал и талантливых людей, попавших в точно такое
положение.
Зачем автору постоянно бормотать собственные стихи, строфу за строфой
сравнивая себя с Милтоном и рассматривая каждую строчку в свете
посмертной славы? Это свидетельствует об отсутствии и здравого смысла, и
воображения. Разве нет у него иных идей, кроме тех, которые он уже вложил в свои
стихи? Идей, которые разделяют его слушатели? К чему непременно считать,
что единственным доказательством учености, «сохранившейся
добродетелью»37 является признание его творений, а без них «люди превращаются в
скотов»?38 Почему нужно неприязненно отвергать всякое искусство, всякую
красоту, всякую мудрость, ежели они не исходят из глубины его сознания? И
зачем воображать, что нет на свете ничего прекрасного, кроме поэзии, и ни
одного поэта, кроме него? Это никуда не годится. Поэзия прекрасна, но есть
на свете кое-что и кроме нее. Всему свой черед. Разве разумный человек
может надеяться расширить свой горизонт, сосредоточившись всецело на себе,
или рассчитывать, что им будут восхищаться те, чьи вкусы и пристрастия он
презирает, обличает и преследует? В таком случае он либо превратно судит о
себе, либо не ведает ничего о мире, в котором живет. Хватит с нас и одного
сословия людей, рожденных с мыслью, будто вселенная создана для них!
Одержимые одной идеей, по-видимому, лишены спокойствия, уверенности
в своих силах и твердой веры в истинные достоинства человека, ежели все
время лезут вперед, как будто боятся пословицы: «С глаз долой — из сердца вон».
Неужели такой автор полагает, что никто бы не подумал о его стихах, если бы
он не навязывал их всем и не твердил их без конца и края? Неужто он счита-
* инкогнито [лат.).
VII. Об одержимости одной идеей
79
ет, что всякое соревнование с ним, всякое признание чужих достоинств
смертельно опасно для его поэзии? Неужели он, подобно Муди в «Деревенской
девушке»39, должен держать своих почитателей в невежестве, запирать от них
все прекрасное — живопись, музыку, классическую древность — из страха, что
окажется ими покинут?
Мне кажется, такое поведение не говорит о его высокой оценке ни
чужого вкуса, ни собственных талантов, оно недостойно и неприлично. В самом
деле, если кто-нибудь действительно уверен в своих способностях, он вполне
может потерпеть, чтобы о них не говорили каждую минуту. Если он знает о
своем несомненном превосходстве в чем бы то ни было, он не станет
переживать, если не все его знакомые об этом осведомлены, или впадать в крайнее
волнение, если услышит о достижениях соперников.
Один из лучших современных математиков и знатоков древности говорил,
что счел за комплимент, когда его кузина, школьница, сказала о нем:
«Знаете, Маннинг — очень славный молодой человек, но в нем нет ничего
необыкновенного». Л.Х.40 однажды заявил мне: «Удивительно, вы никогда ничего на
эту тему не говорили, а между тем, по-видимому, очень много ее изучали». Я
ответил: «Так ведь у нас и без того было о чем поговорить».
Есть люди, хоть и не заслуживающие обвинения в описываемом пороке,
но тем не менее «повинные в столь же великом грехе»:41 правда, они не
скучны и не однообразны, но в разговоре живость их отдает искусственностью и
крайней степенью самолюбования42. Хотя они весело перебирают множество
тем, удовольствие доставляет им только одна — они сами. На какой бы
странице вы ни открыли книгу, на вас всегда смотрит их большой портрет. Они,
будто Зеленый Джек*3, щеголяют лавровой веточкой, кистью и головешкой,
но всегда выкидывают всякие фокусы и ни секунды не сидят на одном
месте, лишь бы добиться внимания и хоть капли одобрения. Не важно, о чем
заходит речь — о городе или деревне, поэзии или политике, — все сводится к
одному и тому же. Если они толкуют с вами о городе и его развлечениях, «его
дворцах, и улицах, и дамах»44, то всегда выясняется, что главным его
украшением и достоинством выступают именно они сами. А если описывают
прелесть деревни, то не вспоминают ни о каком определенном месте, о его
особом очаровании — важно только, что они там были.
В беседах с ними всё мы забываем —
Что место, время года, их чреда?45
Они иногда сорвут листок или цветок и покровительственно дадут вам
полюбоваться им, но не укажут в нем ничего, в чем проявляется красота или
величие, способные отнять пальму первенства у них самих. Их описания
сельской местности представляют собой лишь пейзаж, служащий фоном для их
80
Застольные беседы
изображения на переднем плане в обольстительной позе46. Они не
наблюдают окружающее и не наслаждаются им; они только церемониймейстеры
природы и законодатели изящного47 для всего человечества. Если они
пускаются в рассказ о любви прекрасной принцессы48, совершенно ясно, что именно
они-то и есть главные герои истории. Если рассуждают о поэзии, их похвалы
сосредоточены на чем-то приятном и безыскусном — на их собственном
стиле; если погружаются в политику, вам дают понять, что одного их намека
властителям Европы достаточно, чтобы решить все вопросы49. Короче
говоря, подобно тому, как влюбленный, о чем бы вы ни пытались с ним
заговорить, на каждом шагу вспоминает свою милую, так и эти люди стремятся
привлечь ваше внимание к одной и той же дорогой их сердцу теме: ведь они
влюблены в самих себя, а влюбленных надо оставлять наедине.
VIII
О НЕВЕЖЕСТВЕ УЧЕНЫХ
Еще язык усвоит полиглот —
И бедный разум снова течь дает.
Он должен возмещать, трудясь прилежно,
Все, что утрачивает неизбежно.
Древнееврейский пишется назад —
И пятится рассудок наугад:
Стремясь постичь с натугой пребольшою
Премудрость эту, станет он левшою.
И кто галиматью несет при встрече
На дюжине неведомых наречий,
Но только не природным языком, —
Тот прослывет ученым знатоком.
Автор «Гудибраса»1
Есть два рода людей, у которых меньше всего собственных мыслей: это
писатели и читатели. Лучше не уметь ни читать, ни писать, нежели уметь только
это. О празднолюбце, которого мы привыкли вечно видеть с книжкой в руке,
можно с уверенностью заключить, что у него нет ни способностей, ни
желания сосредоточиться на том, что творится вокруг него или в его собственной
голове. О таком человеке позволительно сказать, что свой разум он носит в
кармане или оставляет дома на книжной полке. Он опасается вступить на
путь самостоятельного рассуждения или высказать наблюдение, не
воплощенное заранее в виде печатных букв и строк, которые механически выхватил его
взгляд; он уклоняется от изнурительного процесса мышления и в конце
концов за недостатком практики совершенно разучивается думать; он
продолжает сидеть над книжкой, получая удовлетворение от бесконечного,
утомительного потока слов и вереницы расплывчатых образов, которые, непрерывно
сменяя друг друга, заполняют пустоту в его голове. Слишком часто ученость
только подчеркивает отсутствие ума, подменяя собой истинное знание. Кни-
82
Застольные беседы
ги лишь изредка играют роль волшебных стекол, помогающих лучше
разглядеть природу2, — сплошь и рядом они превращаются в шоры, заслоняющие
от ее яркого света и переменчивых красок слабые глаза изнеженных
бездельников. Книжный червь оплетает себя паутиной словесной премудрости и
вместо действительных вещей видит лишь зыбкие тени, отраженные от
чужого ума. Природа ставит его в тупик. Реальные предметы, представая перед
ним во всей наготе, без привычных покровов в виде слов и пространных,
приблизительных описаний, действуют на такого человека как
сокрушительный удар; их разнообразие сбивает его с толку, быстрое чередование вьшодит
из равновесия; от толчеи, шума, сияния и круговерти внешнего мира (за чьими
причудливыми изменениями его глаз не в силах уследить и чьи строгие
законы его ум не в состоянии постичь) он спасается бегством в спокойный,
застывший мир мертвых языков, где взамен сплетения событий встретит лишь
сочетания букв, не таящие в себе опасных неожиданностей и более доступные
его разумению. Прекрасно, все это просто прекрасно. «Дай мне покой»3 —
таков девиз спящих и усопших. Напрасно призьшать парализованного
вскочить с кресла на колесиках и отбросить в сторону костыль или, без всякого
чуда, «взять постель свою и идти»4, — ваши слова не возымеют действия; столь
же бессмысленно обращаться к ученому любителю чтения с призывом
бросить книжку и начать думать самостоятельно. Он цепляется за книгу, ища в
ней умственной и духовной подпорки; он боится остаться наедине с самим
собой, и эта боязнь сродни страху перед пустотой. Он способен дышать лишь
книжной атмосферой — она для него то же; что для прочих людей чистый
воздух. Он берет мысли взаймы. У него нет собственных идей, и ему волей-
неволей приходится жить за счет чужих, Обыкновение заимствовать идеи из
посторонних источников «лишает мысль ее внутренней силы»5, — так
привычка пропускать стаканчик-другой нарушает нормальное пищеварение.
Умственные способности, коль скоро пребывают в покое — из-за косности их
обладателя или под давлением внешних обстоятельств, — мало-помалу
цепенеют и затухают, человек разучивается мыслить и действовать. Нужно ли
удивляться той апатичности и вялости, которую мы наблюдаем в людях,
ведущих учено-праздный и невежественный образ жизни, не видящих ничего,
кроме печатных строк и слогов, в такой же незначительной степени
способных пробудить интерес или живую мысль, как если бы то были буквы
совершенно незнакомого языка? А между тем человек просиживает над ними до
тех пор, пока утомленный глаз не перестает различать строчки и книга не
выпадает из ослабевшей руки! Я бы скорее согласился быть дровосеком или
самым последним батраком, который «весь день в сиянье Феба трудится, а
ночью... спит в Элизии»6, нежели проводить дни свои в этом неопределенном
состоянии, на полдороге между сном и явью. Ученый писатель отличается от
ученого читателя одним: именно он сам пишет то, что другой только читает.
VIII. О невежестве ученых
83
Первый — не более чем литературный поденщик. Если толкнуть его на путь
самостоятельного творчества, у него начинает кружиться голова, он теряет
почву под ногами. Неутомимый потребитель книг похож на ремесленника,
который всю жизнь пишет копии с чужих картин; стоит ему приняться
творить свое, как он обнаруживает, что глаз недостаточно быстр, рука
недостаточно тверда, краски недостаточно ярки для того, чтобы воссоздать на
холсте живые формы природы.
Тот, кто прошел через все обычные этапы классического образования и
при этом не превратился в идиота, может считать, что счастливо отделался.
Давно уже замечено, что юноши, блиставшие в школе, редко добиваются
чего-то значительного, когда покидают школьные стены и вступают в жизнь.
И точно: чтобы успевать в школе, мальчик обязан заучивать то, на что
уходит далеко не самая главная и не самая нужная часть его умственных сил.
Основное, что от него требуется, — это память, причем самого
примитивного свойства: чтобы долбить и зубрить наизусть правила грамматики, древние
языки, географию, арифметику и тому подобное; поэтому мальчик, более
всех остальных наделенный этой чисто технической памятью и наименее
увлекающийся другими вещами, столь естественными и заманчивыми в юном
возрасте, будет всегда примерным учеником. Вся эта белиберда вроде
определения частей речи, правил сложения и вычитания или системы спряжения
греческих глаголов может заинтересовать десятилетнего ребенка, лишь когда
его заставляют выполнять задания либо когда у мальчика нет никаких
источников развлечения и забавы вне стен классной комнаты. Подросток хилова-
того сложения и не слишком развитый умственно, только и умеющий, что
усваивать веленное, но недостаточно сообразительный или изобретательный
для того, чтобы самому выбрать себе занятие либо потеху по душе, как
правило, будет образцовым учеником. Напротив, репутация лентяя обычно
сопутствует здоровому, жизнерадостному мальчишке, который твердо
держится на ногах и умеет пустить в ход кулаки, у которого есть голова на плечах,
который чувствует, как у него в жилах пульсирует кровь, а в груди бьется
сердце, который единым духом и смеется и плачет, который будет охотнее
гоняться за мячом или бабочкой, подставлять лицо свежему ветру, глазеть на
поля и на небо, пробираться извилистой лесной тропкой или живо вникать во
все мелкие дела и споры, занимающие его сверстников, чем клевать носом
над заплесневелыми прописями, повторять вслед за учителем варварские
дистихи, корпеть часами, как пришпиленный, за партой — и за все это
потерянное время и невозвратимые удовольствия юности два раза в год, на
Рождество и летом, получать награду в виде жалких медалей за отличные
успехи и примерное поведение! Бывают, конечно, так называемые тупые дети,
которые не учат уроков и которым никогда не заслужить медалей — этих
миниатюрных прообразов академических почестей. Однако то, что принима-
84
Застольные беседы
ют в подобных случаях за тупость, нередко объясняется недостатком интереса
к учебе, отсутствием какой бы то ни было побудительной причины, которая
подвигла бы ребенка собраться и скрепя сердце засесть за зубрежку сухих и
бесполезных предметов, составляющих основу школьного образования.
Наиболее одаренные дети настолько же выше требований школьной рутины,
насколько наименее одаренные — ниже этих требований. Известно, что
величайшие умы не удостаивались высоких оценок за успеваемость в школе и
университете:
Фантазия привыкла бить баклуши...
Такой прихотливостью характера и своеволием отличались, к примеру,
Коллинз и Грей. Люди подобного склада не ждут, что строгая школьная
дисциплина принесет им когда-нибудь завидные плоды, и не находят нужным
раболепно стеснять ее рамками бьющее через край воображение. Существует
некий вид интеллекта, который плохо воспринимает окружающее, но
склонен выражать себя в слове. Люди весьма средне одаренные, с неустойчивым,
подверженным влияниям характером, представляют собой ту идеальную
почву, на которой произрастают самые блестящие авторы очерков на
заданную тему и сочинители греческих эпиграмм в подражание древним. Нелишне
будет напомнить, что наименее уважаемый из нынешних политических
деятелей8 в свое время был первым учеником в Итоне.
Ученость состоит в знании того, что неизвестно большинству, иначе
говоря, в знании, приобретенном из вторых рук — почерпнутом из книг или
других искусственных источников. Знание же того, что рядом с нами или вокруг
нас, что вызывает в нас ту или иную реакцию, заставляет призывать на
помощь свой опыт, воздействует на наши чувства, руководит нашими
поступками, — словом, всего того, что оказывает непосредственное влияние на
эмоциональную или деловую сторону нашей жизни, — такое знание не есть
ученость. Ученость заключается в знании того, что известно одним ученым.
Ученый муж — это тот, кто обладает наиболее обширными познаниями в
области, наиболее удаленной от повседневной жизни и наименее доступной
наблюдению; в области, имеющей самое ничтожное практическое значение
и не подлежащей никакой проверке опытом; в той области, где знания,
передаваясь из поколения в поколение, прошли через множество этапов,
породивших только неопределенность, противоречия и неразбериху. Ученость
состоит в том, чтобы смотреть чужими глазами, слушать чужими ушами и
всецело полагаться на чужое разумение. Ученый муж кичится знанием имен и дат,
но не людей и вещей. Он не имеет понятия (да и не желает иметь) о своих
ближайших соседях, однако в совершенстве изучил по книгам быт и нравы
индусов и калмыкских татар*. Он способен заблудиться на соседней улице, а
VT!!. О невежестве ученых
85
при этом точно знает, какую площадь занимает Пекин или Константинополь.
Он не сможет сказать, что за человек его стариннейший знакомый — дурак
или плут, но прочтет вам торжественную лекцию о любом знаменитом
историческом деятеле. Он не сумеет определить, черный предмет или белый,
круглый или квадратный, — и тем не менее считает себя знатоком законов
оптики и правил перспективы. Он толкует о вещах, в которых смыслит
ровно столько, сколько слепой от рождения смыслит в красках. Он никогда не
даст вразумительного ответа на простейший вопрос; доведись ему высказать
мнение по поводу какого-нибудь события, свидетелем которого он был, — он
наверняка попадет пальцем в небо; а между тем объявляет себя
непререкаемым авторитетом в таких делах, где ни он, ни любой другой смертный не
могут пойти дальше лишь самых робких догадок. Он слывет затоком всех
мертвых и большинства живых языков, но не умеет ни свободно говорить, ни
прилично писать на своем собственном.
Один такой ученый, признанный в свое время вторым по образованности
специалистом в классической филологии, как-то взялся вылавливать
отступления от правил грамматики в латинских сочинениях Милтона;9 между тем
в собственном его комментарии трудно найти хотя бы одно предложение,
написанное пристойным английским языком. Таков был доктор Бёрни. Таков
теперь доктор Парр. Не таков, однако, был Порсон. Он представлял собою
исключение, которое только подтверждает правило, — это был человек,
сумевший соединить талант и знания с ученостью и тем самым еще нагляднее
показать различие между ними.
Человек, всецело посвятивший себя книжным занятиям и не знающий
ничего, кроме книг, по сути дела, не понимает и их. «Книги не учат нас
извлекать пользу из книг»10. Да и как может разобраться в сочинении читатель,
понятия не имеющий о его предмете? Ученый педант чувствует себя среди
книг как дома лишь постольку, поскольку книги составлены на основе
других книг, а те, в свою очередь, были произведены из каких-то еще — и так
далее, без конца. Он как попугай твердит то, что ранее уже повторяли за кем-
то другие. Он может перевести слово на десяток разных языков, но не
знает ничего о том, что за этим словом стоит. Он забивает себе голову
авторитетами, покоящимися на других авторитетах, цитатами, извлеченными из
других цитат, — и запирает на замок свои чувства, разум и сердце. Он совершенно
не знаком с житейской мудростью и правилами общежития; в душе своего
ближнего он плутает, как в темном лесу. Он не воспринимает ни красот
природы, ни красоты искусства. Ему недоступен «могучий мир ушей и глаз»;11 все
источники знания, кроме одних врат, для него «закрыты навек»12. Его
высокомерие не отстает от невежества, а самомнение растет по мере того, как
увеличивается круг предметов, которым он не знает цены и которые
вследствие этого отвергает как недостойные внимания. Он ничего не смыслит в
86
Застольные беседы
живописи — для него не существует «колорита Тициана, грации Рафаэля,
чистоты Доменикино, корреджистости Корреджо, познаний Пуссена,
пластичности Гвидо, вкуса Карраччи или смелого рисунка <Микел>Анджело»13, —
иными словами, для него закрыты те высоты итальянской и чудеса
фламандской школы, которыми по сей день восторгается человечество и которым
посвятили свою жизнь тысячи усердных исследователей и безуспешных
подражателей. Любая из этих картин для него — мертвая буква, пустой звук; и
немудрено — ведь и в самой природе он неспособен ни разглядеть, ни
постигнуть того, что вдохновляло живописца. На стене в его комнате могут
месяцами висеть литографии Рубенсового «Водопоя» или «Заколдованного замка»
Клода — он и не подумает взглянуть на них; а если вы попробуете привлечь
к ним его внимание, он равнодушно отвернется. Язык природы, равно как и
язык искусства (которое есть разновидность природы), ему непонятен.
Правда, он козыряет именами Апеллеса и Фидия, потому что они упоминаются у
древних авторов, и превозносит их творения, потому что они до нас не
дошли; если же показать ему коллекцию великолепнейших образцов античной
скульптуры, вывезенных графом Элгином из Афин14, он заинтересуется ими
лишь постольку, поскольку они могут послужить предлогом для ученого
диспута и в конечном счете (что, собственно, одно и то же) для
препирательства по поводу значения какой-нибудь ничтожной греческой частицы15.
Полный невежда он и в музыке — он «не может взять ни одной ноты»:16 его
не тронет ни гармония божественного Моцарта, ни напев простой пастушьей
дудки. Его уши пригвождены к книжным переплетам; его слух парализован
гудением латыни и греческого; в голове у него, словно грохот кузнечного
молота, не умолкает гул школьной зубрежки.
Может быть, он лучше разбирается в поэзии? Да, он назовет вам число
стоп в стихе и действий в пьесе; но о душе, о духе поэзии он не имеет ни
малейшего представления. Он может перевести греческую оду на английский
или переложить латинскую эпиграмму греческим стихом, но литературные
достоинства оригиналов оставляет на суд критикам.
Тогда, быть может, он больше смыслит в практической, нежели в
теоретической стороне жизни?17 Ничего подобного! Он не владеет никаким
ремеслом, никакой профессией, не играет ни в какие азартные игры — а
следственно, не может прокормиться ни трудом, ни ловкостью своих рук. Ученость «не
сильна в хирургии»18 и столь же неискусна в земледелии, зодчестве, работе
по дереву и металлу; она не может изготовить ни одного орудия труда и не
может воспользоваться уже готовыми; она не знает, как взяться за плуг или
лопату, резец или молоток; она не знает, что такое псовая или соколиная
охота, рыбная ловля, стрельба по мишени, что такое лошади и собаки,
фехтование и танцы; она ничего не смыслит ни в борьбе, ни в кеглях, ни в
картах, ни в теннисе, да и ни в чем вообще. Профессор, знаток всех искусств и
VTIL О невежестве ученых
87
наук, практически ни одним из них не владеет, хотя о любом способен
написать ученую статью в энциклопедию. Он не владеет даже собственными
руками и ногами: не умеет ни бегать, ни ходить пешком, ни плавать. Ко всем
же, кто может свободно распоряжаться своим телом или искусен в каком-
нибудь ремесле либо занятии, он относится свысока, как к тупому и
малоразвитому простонародью, — хотя овладеть каким бы то ни было уменьем в
совершенстве нелегко: для этого требуется и время, и навык, и природные
задатки, и определенный склад ума. Ведь, по существу, те же требования
предъявляются и к нашему ученому мужу — с той лишь разницей, что он
убивает свое время, дабы получить вожделенную докторскую степень и
должность в университете, а затем до конца дней своих только есть, пить и спать!
Что еще можно сказать? Круг явлений, в которых люди разбираются по-
настоящему, весьма ограничен: он включает их будничные дела, их
повседневный опыт; иначе говоря, лучше всего люди знают то, с чем
сталкиваются непосредственно и что интересует их практически. Все остальное —
притворство и очковтирательство. Простолюдину нужны умелые руки: они его
кормят. Люди из народа знают свое дело и знают тех, с кем по жизни
сталкиваются: без этого им не прожить. Они достаточно красноречивы, когда им
приходится отстаивать свои интересы, и достаточно остроумны, когда хотят
выставить кого-нибудь на посмешище. Естественность их речи не отягощена
заимствованными изречениями и устаревшими оборотами; присущее им
чувство юмора самобытно, а живые проявления его не имеют ничего общего с
остротами, извлеченными из сборников афоризмов великих людей.
Путешествуя на империале19 из Лондона в Оксфорд, вы услышите гораздо больше
занимательного, чем если бы провели целый год в этом самом знаменитом
университете в обществе студентов-старшекурсников или даже профессоров.
Точно так же я поручусь, что во время шумной перепалки в пивной можно
набраться больше житейских истин, нежели при посещении официальных
прений в палате общин. Любая пожилая кумушка в деревне, как правило,
отлично знает человеческую натуру и охотно сопроводит свои наблюдения
множеством поучительных и забавных историй, основанных на том, что
творилось, говорилось и передавалось шепотом в округе за последние пятьдесят
лет; при этом ее вьшоды наверняка будут справедливее и глубже тех, к
которым смогла бы прийти самая блестящая из ученых женщин века, перечитав
все вышедшие за это же время нравоописательные романы и сатирические
поэмы. Поистине горожанам катастрофически не хватает умения
разбираться в людях; человеческий характер в их понимании похож скорее на поясной
портрет, чем на портрет во весь рост. Напротив, в деревне люди обычно не
только знают всю подноготную своего соседа, но и могут указать
первоисточники всех его добродетелей или пороков — точно так же, как прослеживают
черты фамильного сходства — в истории его семьи, известной им на протяже-
88
Застольные беседы
нии многих поколений; и какое-нибудь противоречие в его поведении вдруг
станет ясным, если вспомнить, за кого в свое время вышла замуж его
прабабка. Ученый, живи он в городе или в деревне, никогда этому не научится.
Наконец — и это самое главное, — основная масса людей, составляющих
общество, обладает здравым смыслом, которого как раз и недостает ученым
всех времен. Чернь права, когда полагается на собственный разум, и
совершает непоправимую ошибку, доверяясь своим слепым проводникам.
Однажды добрые прихожанки Киддерминсгера20 чуть не забросали камнями
знаменитого богослова-нонконформиста Баксгера, провозгласившего с кафедры,
будто бы «ад вымощен черепами младенцев»; но, опираясь на схоластические
аргументы и цитаты из Отцов Церкви, достопочтенный проповедник в
конце концов сумел переубедить сомневавшихся и тем самым одержал победу
над здравым смыслом и гуманностью.
Вот в каких целях используется иногда ученость. Кажется, что люди,
возделывающие виноградник науки, задались целью поставить всё с ног на голову
и вывернуть наизнанку понятия добра и зла, повторяя во всеуслышание
устаревшие афоризмы и руководствуясь предвзятыми мнениями, абсурдность
коих с течением времени становится все очевиднее. По любому вопросу они
способны нагромоздить целые горы гипотез, так что докопаться до сути дела
оказывается просто немыслимо. Им бы взглянуть на вещи как есть, а они
выискивают, что там пишут в книгах; при этом «моргают и заслоняются от
сомнений»21, чтобы случайно не натолкнуться на какой-нибудь факт, который
раскрыл бы им глаза и выявил абсурдность и предвзятость их суждений. Глядя
на них, можно предположить, что высшая человеческая мудрость состоит в
умножении противоречий и в поклонении бессмыслице. Нет такой догмы,
даже самой глупой и жестокой, к которой ученый не приложил бы свою
печать, которую не постарался бы вбить в голову своим ученикам и
последователям, преподнося как волю Божию, облекая в религиозные покровы, а
инакомыслящих устрашая вечными муками22. Как редки попытки направить
людской разум на поиски того, что полезно и истинно! Сколько остроумия и
красноречия тратится понапрасну на защиту верований и философских
систем! Сколько времени, сколько талантов пропало зря в богословских спорах,
в препирательствах юридических и политических, в словесных перебранках,
в судебной казуистике, в поисках секрета изготовления золота! Что толку в
писаниях какого-нибудь Лода или Уитгифта, епископа Булля или епископа
Уотерленда, в комментариях Придо к Ветхому и Новому завету, в
сочинениях Бособра, Кальме, святого Августина, Пуфендорфа, Ваттеля или в
литературно более интересных, но столь же педантичных и сухих трудах Скалиге-
ра, Кардана, Шоппия? Сколько рациональных зерен содержится в тысяче
таких фолиантов? Чего лишится мир, если завтра все эти книги бросить в
огонь? Впрочем, разве они и без того не преданы забвению, «покоясь мирно
VIII. О невежестве ученых
89
в склепе Капулетти»?23 А между тем все перечисленные авторы были в свое
время общепризнанными оракулами, и если бы вы или я — с позиций
здравого смысла и человеческой природы — посмели вступить с ними в спор, то
навлекли бы на себя их высочайшее презрение. Сегодня наш черед смеяться.
Остается добавить лишь немногое. Из всех, с кем приходится сталкиваться
в обществе, самыми умными следует признать людей деловых и людей
светских: они исходят лишь из того, что сами видят и знают; они не подменяют
реальную действительность глубокомысленными хитроумными
соображениями насчет того, какою она должна быть. При этом женщины зачастую в
большей мере, чем мужчины, бывают наделены так называемым здравым
смыслом. Они не столь честолюбивы, меньше увлекаются разного рода
теориями, а о вещах судят преимущественно по первому, непосредственному
впечатлению, то есть более правильно и естественно. Они не могут
рассуждать ошибочно, ибо не рассуждают вообще. Они говорят и думают без
оглядки на правила, и поэтому их высказываниям, помимо здравого смысла,
присущи обычно выразительность и остроумие. Дар речи, остроумие и здравый
смысл — все это помогает им почти всегда держать мужчин под каблуком.
Наконец, свойственный женщинам непринужденный слог, образцы
которого можно найти в их письмах к приятельницам (не в сочинениях,
предназначенных для печати!), я ставлю выше стиля большинства нынешних авторов.
Люди малообразованные начисто лишены предрассудков; у них больше
простора для активной работы мысли, не стесненной никакими рамками. Ум
Шекспира не был обременен образованием:24 об этом свидетельствует и
непосредственность его воображения, и разнохарактерность суждений; у Мил-
тона, напротив, ум был схоластический, что явствует из всей совокупности
мыслей и чувств, воплощенных в его произведениях. Шекспира в школе не
заставляли писать сочинения на заданную тему, в которых голословно
превозносится добродетель или осуждается порок. Этому спасительному
обстоятельству мы обязаны тем, что в основе его пьес всегда лежит естественная и
здоровая мораль. Ежели вы хотите познать величие человеческого гения, читайте
Шекспира. Если желаете убедиться в ничтожестве человеческой учености,
изучайте его комментаторов.
IX
ИНДИЙСКИЕ ЖОНГЛЕРЫ
Человек в белой одежде и тугой чалме выходит вперед, садится на
подмостки, скрестив ноги, и принимается подбрасывать вверх два медных шарика.
Так начинают представление индийские жонглеры1. Кому из зрителей,
казалось бы, это не под силу? Вскоре количество шариков в воздухе возрастает
до четырех. Такого изощренного мастерства мы никогда не смогли бы
добиться, даже для спасения жизни. Что же это: незамысловатое развлечение или
нечто близкое к чуду? Чтобы обучиться даже простейшим элементам этого
виртуозного искусства, необходимы постоянные напряженные тренировки
чуть ли не с младенчества. Человек! Воистину ты удивительное создание, и
твои пути неисповедимы!2 Ты творишь чудеса, но цели не оправдывают
средства их достижения. Мысль о том, каких усилий требует столь
необыкновенная сноровка, поражает воображение, от нее захватывает дух. Но для
профессионала жонглирование шариками не составляет ни малейшего труда,
словно он участвует в трюке с механическим устройством, в котором ему только
и остается, что наблюдать за изумленными зрителями и посмеиваться над
ними. Но одна ничтожнейшая оплошность, малейшая нерасторопность могут
стать роковыми: движение медных шариков должно быть математически
точным, а в скорости не уступать молнии.
С какой легкостью и грациозностью жонглер подбрасывает четыре
шарика менее чем за секунду и ловит их в определенной последовательности
через определенные промежутки времени! Они словно бы осознанно летят по
кругу один за другим, как планеты на орбитах, весело гоняются друг за
другом, словно огненные искры, выстреливают вверх, будто распускающиеся
цветы или метеоры, обвивают шею жонглера, подобно лентам или змеям.
Порой кажется, что жонглер делает невозможное, причем так весело, легко,
изящно и артистически непринужденно, будто у него нет другой задачи, как
следить за полетом шариков в такт музыке. Есть в этом зрелище что-то
завораживающее, и тот, кого оно оставит равнодушным, может быть вполне
уверен, что ничто и никогда в жизни не вызовет его восхищения.
IX. Индийские жонглеры
91
Искусство жонглеров заключается в преодолении трудностей и в
торжестве красоты над мастерством. Когда сложности преодолены, кажется,
будто сами собой возникают легкость и грациозность и будто для преодоления
требуется лишь не прилагать никаких усилий. Однако малейшая неловкость,
недостаточная гибкость или потеря самообладания могут испортить весь
номер. Тут и детская забава, и чародейство.
Не менее любопытны и удивительны такие виды жонглерского искусства,
как удерживание на весу искусственного дерева и имитация подстреливания
птичек с каждой ветки. Вас волнует исход эксперимента, и вы радуетесь его
удачному завершению. Но жонглирование медными шариками своей
легкостью и изяществом вызывает такой искренний безудержный восторг, какой
не сопровождает ни один трюк. Каким бы потрясающим ни было то или иное
зрелище, оно не занимает меня, если не доставляет удовольствия. Так,
глотание шпаг, на мой взгляд, должно быть запрещено полицией. Когда я
смотрел выступление индийского жонглера, вокруг его обнаженных ступней как
будто сами по себе вращались большие кольца.
Моего доброго мнения о самом себе не умаляет даже речь члена палаты
общин или благородного лорда. Нудная и запинающаяся, набитая до отказа
банальностями, которые мог произнести кто угодно, она не трогает меня
ничуть. А вот индийские жонглеры смущают и заставляют сгорать от стыда.
Я спрашиваю себя: что я могу делать так же хорошо, как они? И отвечаю —
ничего. Чем же я всю жизнь занимался? Разве я бездельничал и все мои
труды и старания пропали зря? Или я только и делал, что переливал из пустого
в порожнее, катил камень в гору и обратно3, пытаясь доказать свои доводы
вопреки фактам, ища истину во тьме и не находя ее?4 Есть ли хоть одна
область, в которой я мог бы смело бросить вызов соперникам, в которой моя
работа, лишенная малейшего изъяна, могла бы служить примером
безукоризненной точности? Верх моих дерзаний — описать то, что происходит перед
глазами. Могу я написать и книгу: однако это может сделать и тот, кто так
и не научился правильной орфографии. И эти очерки — какой провал!
Сколько ошибок, неудачных переходов, жалких аргументов и неубедительных
заключений! Как мало сумел я выразить, да и то как дурно! Однако на лучшее
я не способен. Я стараюсь объединить все свои наблюдения и размышления
о каком-нибудь предмете и выразить их как можно точнее. Вместо того
чтобы писать одновременно на четыре разные темы, самое большее, что мне
удается, — это следить, чтобы нить словесного рассуждения не терялась и не
запутывалась. У меня предостаточно времени, чтобы уточнить свои взгляды
и отшлифовать речь, но первое я сделать не могу, а второе не хочу.
Мне нравится полемизировать, но победить противника я способен
только ценой огромных усилий, даже если он ничего особенного собой не
представляет. Простой фехтовальщик в мгновение ока обезоружит противника,
если тот не стоит на одном с ним уровне. Всплеск остроумия иногда произво-
92
Застольные беседы
дит подобный эффект в споре, но логические рассуждения лишены такой
сокрушительной силы. Невозможно привести пример того, что можно
назвать эталоном совершенства в этой области, и вы вряд ли отличите
знатока от дерзкого притворщика или попросту шута*.
Я всегда с сожалением замечал, что в области интеллекта совершенство
достигается гораздо медленнее, чем при овладении механическими
навыками. Много лет прошло с тех пор, как я видел Ричера5, известного канатоходца,
выступавшего в Сэдлерз-Уэллз6. Он не имел себе равных и демонстрировал
свое искусство с необыкновенной простотой и естественным обаянием.
Я тогда снимал копию с поясного портрета сэра Джошуа Рейнолдса7 и был
крайне неудовлетворен работой. Одна часть оказалась крайне плохо
написана, другая отличилась грубостью и неряшливостью красок. Я не мог
удержаться и сказал себе: «Если бы канатоходец допустил столько оплошностей,
он давно бы сломал себе шею и я бы никогда не увидел такой пластичности
мышц и отточенности движений». Что же, выходит, на канате плясать — дело
сравнительно простое?8 Пусть тот, кто так думает, убедится в этом сам. А
штука вот в чем: что поначалу нам вообще никак не удается, в том мы
впоследствии достигаем совершенства. Постараюсь объяснить это явление.
Механическая ловкость достигается повторением одного и того же приема до тех
пор, пока вы не чувствуете, что добились совершенства, а совершенство
заключается именно в успешном вьшолнении определенного приема. Постоянно
практикуясь, вы движетесь к поставленной цели и непременно добьетесь
успеха, так как цель ваших усилий не зависит от чьего-либо вкуса, мнения или
воображения, а является результатом вашего собственного эксперимента,
который вам либо удается, либо нет.
Если перед человеком с луком и стрелой поставлена мишень,
совершенно ясно: ему предстоит попасть в нее или промахнуться. Продолжая стрелять
и бить мимо цели — то близко, то далеко, — он не может обманывать себя и
воображать, что делает успехи. Разница между правильным и неправильным,
истиной и ложью здесь очевидна, и нужно либо получше прицеливаться, либо
продолжать сознательно упорствовать в своем заблуждении, для чего не
существует ни оправданий, ни искушения. Если человек беззаботно, кое-как
учится танцевать на канате, он сломает себе шею. После этого он напрасно
будет убеждать нас, будто не сделал ни одного неверного шага. Он в другом
положении, нежели учитель, персонаж Голдсмита:
В искусстве спора очень искушен.
Он спорит, даже если побежден9.
* Знаменитый Питер Пиндар (доктор Уолкот) первым открыл талант покойного
художника мистера Опи и высказался о нем. Последний был бедным корнуолским
мальчиком и работал в поле, где поэт и нашел его: «Итак, мой мальчик, принеси-ка мне свою луч-
IX. Индийские жонглеры
93
Опасность — хороший учитель и воспитывает столько же способных
учеников, как и позор, поражение и презрительные насмешки. Они не оставляют
ни места, ни времени для самообмана, безделья, шуток, капризов,
предрассудков. Нужно всегда держаться начеку (иначе придется отвечать за последствия).
Если бы индийский жонглер стал играть тремя столовыми ножами,
сохраняющими свое положение, подобно листьям шафрана на ветру, то поранил бы
себе пальцы. Мне случается приводить не слишком удачные
противопоставления, однако пальцы мои остаются целы. Ритмика стиля куда
неоднозначнее и сложнее, чем траектория полета обоюдоострых инструментов. Если бы
жонглеру сказали, что, бросившись под колесницу Джаггернаута10 в
праздничный день, когда торжественно выезжает идол, он немедленно попадет в
рай, тот мог бы в это поверить и никто бы его не разубедил. Брамины могут
твердить что угодно об этом, бесконечно нагромождать догмы и нагнетать
таинственность, избегая при этом разоблачения, однако их искусный
соотечественник не сможет убедить постоянных посетителей театра «Олимпия»11
в том, что совершает потрясающие трюки, если не представит тому явных
доказательств.
Чтобы добиться подобной ловкости рук, необходимо вначале постоянной
тренировкой и повторными упражнениями развить свою мускульную силу, а
затем точно оценить, какого умения и в каком объеме еще недостает. С этой
целью надо повысить физическую нагрузку и точность выполнения задачи и
тем самым проверить надежность ее решения.
Мускулы усердно работают, инстинктивно подчиняясь привычке.
Определенные движения рук и глаз, одновременно и многократно повторяемые,
бессознательно и неизбежно сливаются все теснее и теснее. Достаточно
привести конечности в движение не раз отработанным способом; тогда вы одним
усилием воли с математической точностью пускаете в ход пружины
механизма и можете соперничать с самим Локсли из «Айвенго» в стрельбе по
мишени — «с оглядкой на ветер»12.
К тому же то, что мы понимаем под совершенством в области
механических упражнений, — это на самом деле не более чем безукоризненно точное
выполнение неких действий, не требующее выхода за пределы возможностей.
Вы задаетесь некой целью, для достижения которой требуется только
человеческое усердие и умение, но не определяете себе отвлеченные и
независимые эталоны сложности или качества за гранью возможностей. Таким
тую работу». Юный художник опрометью сбегал за картиной, которую считал шедевром.
Незнакомец молча смотрел на нее, и юноша, подождав немного, взволнованно спросил:
«Что вы думаете об этом?» — «Думаю об этом? — сказал Уолкот. — Я думаю, тебе должно
быть стыдно, что, умея писать так хорошо, ты не пишешь гораздо лучше». Эти слова,
обращенные к одному из ранних творений художника, могут быть также отнесены к
последним его работам.
94
Застольные беседы
образом, жонглер, манипулирующий четырьмя шариками, владеет этим
приемом в совершенстве, но не сможет удержать одновременно пять и при
каждой попытке потерпит поражение. Выходит, исполнитель с
механическими навыками ставит задачу повторить самого себя, а не соперничать с
другими*. Художник же стремится подражать другому художнику или природе,
а это, по-видимому, труднее, ибо он должен целиком и безупречно повторить
то, что его окружает или представляется ему в виде «дивных лиц людских»13.
Это оказывается задачей более сложной, нежели одновременное
подбрасывание четырех шариков, ибо жонглеру достаточно навыка и упорства, а
художнику этого всегда было и будет мало. Из сказанного следует, что
Рейнолдс вызывает у меня большее уважение, чем Ричер, — ибо в любом случае
на одного художника, подобного сэру Джошуа, найдется немало искусных
канатоходцев. По сравнению с канатными плясунами Рейнолдс не столь
хорошо освоил свое ремесло, это так, но зато ему приходилось угождать гораздо
более суровому, своенравному господину, невнятные желания и приказания
которого непросто было воплотить на практике. Здорового ребенка можно
отдать в обучение акробату или канатоходцу и спокойно надеяться на успех,
но в живописи у вас ничего не выйдет: шансов на удачу будет один на
миллион. В самом деле, вы можете получить на выходе столько живописцев,
сколько учеников поместите в машину14, но среди них не окажется ни
одного Рейнолдса с его изяществом, великолепием, мягкостью, умением тонко
передать настроение и мимику15 — разве что вам удастся переделать
человека заново. Недосягаемая для искусства рейнолдсовская изысканность16 и есть
та вершина, на которой заканчиваются механические способности и
начинается настоящее искусство. Нежные краски души, безмолвное, но живое
красноречие, «вперенный в небо взор»17 и пребывающие в вечном движении
проявления неизменного начала, которое открывается нам лишь на мгновение,
но оставляет в сердце неизгладимый след, и для восприятия которого
необходимо сильное тайное сопереживание, могут быть освоены благодаря
природе и гению, а не прилежанию и верности правилам. Лишь чувство18, но
отнюдь не тщательное микроскопическое исследование может дать ключ к
пониманию искусства, ибо в поисках его во внешнем мире мы теряем
гармоничную связь с ним внутри себя: пытаться отыскать суть искусства в
материальном — значит утратить самый его дух. Короче говоря, из всего
многообразия окружающих нас предметов в поле зрения истинного художника попадает
лишь та часть, которая, согласно его вкусу и воображению, пробуждает в
душе чувство красоты, удовольствия и силы и благодаря этим возвышенным
ощущениям предстает перед его взором во вновь открытой внутренней
сущности. У природы свой язык общения. Предметы, как и слова, также имеют
* В какую бы игру ни играли двое, один из них неизбежно терпит поражение.
IX. Индийские жонглеры
95
смысл, и настоящий художник сумеет растолковать этот язык, только зная
его применение в тысяче других ситуаций. Глаз — не слишком зоркий
проводник, чтобы распознать холодный или теплый тон безоблачного голубого неба,
но другое чувство помогает ему не допустить ошибки. Цвет осенних листьев
ничто в сравнении с сопровождающим его ощущением, благодаря которому
они лежат на холсте поблекшими, унылыми, сморщенными от зимних
ветров;19 так созерцание становится таким же достоверным, как прикосновение20.
И, как виденье, каждый нежный лист
Из сочной зелени ветвей глядит21.
Восприятие природы при посредстве чувств и страстей есть наиболее
эфемерное, мимолетное, изысканное и возвышенное проявление искусства;
каждая частица природы — символ сердечных привязанностей и звено в
цепочке Hainero бесконечного существования. Разгадывание этого таинственного
сплетения мыслей и чувств, ясное осознание каждого из постоянно
сменяющихся впечатлений, которые «вибрируют по нервам, в складках прячутся»22,
доступно исключительно власти той трепетной восприимчивости, что
именуется даром муз.
Гениальность, воображение, чувство или вкус — не валено, как назвать эту
силу, но способ ее воздействия на разум и душу не может ни вписываться в
рамки абстрактных правил, как, например, в науке, ни подтверждаться
постоянно повторяемыми опытами, как в случае механических действий.
Мастерство голландских живописцев более всего похоже на то, что в
изобразительном искусстве считается идеальным владением механическими навыками.
Одинаково достойны восхищения и достоверность рисунка, и легкость его
рождения. До определенной степени здесь все безупречно. Рука и глаз
сделали свое дело, а вот гениальности и вкуса не хватает. Входя в этот
очарованный мир, человеческий разум, словно оказавшись на неизведанном пути или
в густом тумане, слабеет, чахнет, окутывается мраком и многократно
пытается продвинуться хоть немного вперед — но безуспешно; только лучшим из
нас удается одержать победу, да и то лишь частичную. Неопределенное и
воображаемое — это полные сомнений и трудностей области, которые мы, как
Сатана, должны пройти «где лётом, где пешком»23. Предмет восприятия
между тем реален, а умение изображать приходит с практикой.
Талант подразумевает некоторую наклонность и способность к
определенной деятельности, способность, которая зависит не столько от силы и
настойчивости, сколько от особой изворотливости и находчивости, как, например,
при сочинении каламбуров или эпиграмм, стихотворных импровизаций,
пародий на кого-либо или что-либо и так далее. Талант — это либо живость и
остроумие, либо нечто, требующее ловкости рук, как, скажем, сбрасывание
стакана со стола так, чтобы он упал набок, либо, наконец, хитроумие, как при
96
Застольные беседы
разгадке, к примеру, секретной пружины в часах. То или иное умение —
привнесенная извне способность, перенятая у других; такие умения охотно
выставляются напоказ и легко завоевывают восхищение окружающих. Это
такие благоприобретенные декоративные навыки, как танцы, верховая езда,
фехтование, музицирование и другие. Владение ими пристало лишь тем, кто
спокоен душой и располагает состоянием. Я знаю человека24, который, родись
он с пятитысячным годовым доходом, стал бы самым идеальным
джентльменом своего века. В обществе он был бы предметом восторга и зависти. Его
манеры изысканно дополняли бы благородство, исходящее из его открытой
души. Он флиртовал бы с женщинами, спорил с мужчинами, рассыпал
комплименты, писал милые письма, играл бы в пикет или наигрывал на
клавикордах, проникновенно читал или пел бы свои стихи — «nugae canorae»*. Чем
не Рочестер — без пороков — или современный Серрей? Однако при
нынешнем положении того человека все эти великолепные способности ему только
мешают. Он чересчур разносторонен для представителя свободной
профессии, недостаточно скучен для политикана, слишком весел, чтобы быть
счастливым, слишком беспечен, чтобы стать богатым. Ему не хватает
восторженности поэта, суровости прозаика, предприимчивости делового человека.
Талантом мы называем способность делать то, что требует
настойчивости и прилежания, как, например, писание критических статей,
произнесение речей, изучение закона; талант отличается от гениальности, как
сознательная сила от бессознательной. Изобретательность — это гениальность в
мелочах, а величие — гениальность в начинаниях большого значения.
Умный или изобретательный человек может выполнить любое дело хорошо,
даже если оно не оправдывает его усилий. Великий человек сумеет
выполнить то, что в конечном счете приобретет огромную важность. Фемистокл
сказал, что не умеет играть на флейте, но может превратить самый
обычный город в великий25. Думаю, эта фраза как нельзя лучше разъясняет суть
обсуждаемых различий.
Величие — великая сила, вызывающая великие последствия. Нужно не
просто обладать ею, а показать всему миру ее значение, бесспорность и тем
самым посеять определенную идею в общественном сознании. У меня нет
другого представления о величии, кроме того, что великое рождается из
великой внутренней энергии. В видимом мире великим называется то, что
занимает много места в пространстве; в сознании оно должно быть связано и
с пространством, и с временем. Величие не может ограничиваться рамками
человеческой жизни — оно проходит испытание временем. Истинное величие
беспредельно и не может соседствовать с величием еще более очевидным.
Рожденное быстротечной, пустой славой, по сути грубо и вульгарно. Едва ли
* «...звучно блестя пустяками»26 (лат.).
IX. Индийские жонглеры
97
можно считать великим лорда-мэра. Патриот на час или уличный оратор,
достигнув предела своих желаний, только продемонстрируют, сколь далеки они
от истинного честолюбия. Популярность — не слава и не величие. Король сам
по себе — необязательно великий человек. Да, он обладает немалой властью,
но не как личность, а как король. Он лишь управляет рычагами
государственной машины, а это под силу даже ребенку, круглому дураку или
сумасшедшему. Мы оцениваем короля как официальное лицо, а не как человека. В
такой ситуации любой стал бы объектом низкопоклонства и любопытства.
Мы смеемся над деревенской девушкой, которая, увидев короля,
разочарованно воскликнула: «Боже мой, да ведь он просто обыкновенный человек!» Тем
не менее сами бежим поглядеть на короля, словно надеясь увидеть
сверхчеловека. И величайшая власть, не направленная на великие дела, не имеет
ничего общего с понятием величия. Уметь просунуть ячменное зерно через
игольное ушко, перемножить в уме два девятизначных числа — значит
проявить чрезвычайную физическую ловкость и умственные способности, но не
более того. Такие действия требуют необычайных усилий, но результат им
не соразмерен и не увлекает воображение. Чтобы внушить представление о
мощи другим людям, необходимо каким-то образом заставить их
прочувствовать ее путем либо постепенного обогащения их знаниями, либо
полного подчинения их воли и вселения в них чувства покорности и благоговения.
Устойчивое и продолжительное восхищение не может достаться легко или
возникнуть благодаря сознательному усилию; оно должно основьшаться на
неопровержимых доказательствах. Математик, решающий сложные задачи, и
поэт, создающий новый образ красоты, передают свои знания и мощь другим;
на этом зиждятся, в этом заключаются и величие и слава. Джедидия Бакстон
будет забыт, а логарифмы Нэпьера останутся навсегда. Законодатели,
философы, основатели религиозных течений, завоеватели и герои, изобретатели
и гении искусства и науки велики потому, что их деятельность приносит
человечеству либо неоспоримое благо, либо огромное бедствие. У нас были
Шекспир, Ньютон, Бэкон, Милтон, Кромвель. Их великие дела и мысли до
сих пор не преданы забвению. Поистине нужно быть возвышенной
личностью, чтобы твоя тень простиралась до отдаленных потомков. И великий
комический писатель может быть великим человеком, ведь Мольер был
великим сочинителем комедий. Велик, на мой взгляд, и автор «Дон-Кихота»;
таких примеров много. А вот выдающегося шахматиста нельзя назвать великим
человеком, ибо он покидает мир таким же, каким нашел его, когда родился.
Никакое действие, совершенное ради самого действия, не является великим.
Этот тезис можно отнести ко всем кратковременным, единичным
проявлениям силы и таланта, не оставляющим за собою следа или образа.
Получается, стало быть, что и актер не может оказаться великим человеком из-за того,
что «умирает, не оставив миру отпечатка»?27 Я вынужден сделать исключение
98
Застольные беседы
для миссис Сиддонс — или отказаться от своего определения величия. Тот, кто
достигает вершин в избранной области деятельности, еще не великий человек.
Он не более чем знаток своего дела — до тех пор, пока не проявит черты
высокоразвитого интеллекта, по которым мы распознаем воодушевляющие его
идеи и движущие пружины, побуждающие его идти вперед. Все остальное —
либо мастерство, либо тайна. Джон Хантер был великим человеком, это
может понять любой, даже не сведущий в хирургии человек. Его стиль
мышления и поведения выдает большую личность. Он мог бы оперировать кита
с таким же вдохновением, с каким Микеланджело вытесывал мраморный
монолит. Лорд Нельсон был великим флотоводцем, но я, по правде говоря,
не очень высокого мнения о мореплавании. Сэр Хамфри Дэви — великий
химик, однако я не уверен, что он великий человек. Я понятия не имею о каких-
либо его открытиях и не встречал никого, кто знал бы о них хоть что-нибудь28.
Особенность величия в том и заключается, что оно распространяет
представление о себе, подобно тому, как волна погоняет волну в едином
кругообразном движении. Если мы назовем великим человеком самодовольного
франта, то позволим себе недопустимую путаницу понятий. У истинно
великих людей мысль устремлена ввысь, за пределы собственного «я». Мне
случалось встречать увлеченных полемикой сектантов или журналистов,
которые высшее восхищение выражали словами: «В свое время он был
значительным человеком». Однако всякое новое толкование вопроса отвергает
прежнюю интерпретацию, и «память о великом ученом переживет его на
полвека — не более»29.
Богач ни для кого не велик, кроме тех, кто живет за его счет, и своего
управляющего. Величие лорда заключено в нашем представлении о его
происхождении и, возможно, о его личных достоинствах, если мы не знаем о нем
ничего, кроме титула. Мне довелось слышать рассказ о двух епископах,
посетивших собор Св. Петра в Риме. Войдя в него, первый сначала ощутил
благоговейный страх, но затем, продвигаясь дальше, почувствовал, как душа
его словно начала расширяться и расти, пока не заполнила собою все здание,
а другой, напротив, чем больше видел, тем сильней ему казалось, будто он с
каждым шагом становится все меньше, покуда не превратился в ничто. Это
прекрасная иллюстрация великого и ничтожного ума — ибо великое
притягивает великое и совершенно подавляет ничтожное. Первый епископ смог бы
стать новым Вулси, второй годился только в нищенствующие монахи, а
епископом был назначен, наверное, по каким-то политическим соображениям.
Французы в целом не производят на меня впечатление людей значительных,
но они подарили миру трех великих людей — Мольера, Рабле и Монтеня.
Пора закончить отступление и завершить очерк. Примером
исключительной механической ловкости может служить ныне покойный Джон Кавана,
которого я неоднократно видел. Его смерть отмечалась в статье газеты «Экза-
IX. Индийские жонглеры
99
минер» (от 7 февраля 1819 года), написанной полушутя-полусерьезно30.
Поскольку она соответствует теме нашего разговора и совпадает с моими
рассуждениями по этому вопросу, позволю себе здесь ее процитировать.
В своем доме на Бербедж-сгрит, квартал Сент-Джайлз31, скончался
известный игрок в мяч32 Джон Кавана. Когда умирает не превзойденный в своей
области человек, о достижениях которого многим суждено лишь мечтать,
это большая потеря для общества. Вероятно, пройдет немало лет, прежде
чем покойный Кавана дождется столь же блистательного преемника.
Можно возразить, что есть дела поважнее, нежели бить мячом по стене, —
например, вести войну и заключать мир, произносить речи и отвечать на них,
писать стихи и зачеркивать их, зарабатывать деньги и сорить ими; во всем
этом еще больше шума и так же мало толка. Однако игра в мяч ни у кого
из когда-либо в нее игравших не вызьшает презрения. Она прекрасно
тренирует тело и дает хороший отдых голове. Римский поэт сказал: «Забота
усаживается на коня за спиной всадника и цепляется за его одежду»33. Но
это замечание никоим образом не относится к игре в мяч; всякий
занявшийся ею вдвое молодеет; для него не существуют ни прошлое, ни «сейчас
грядущее»34. Ни долги, ни налоги, «ни тайный бунт, ни внешний враг — ничто
его не тронет»35. Как только игра началась, его не посещают никакие
мысли и желания, кроме одного: бить по мячу, направлять его в нужную
точку, забивать очки. Кавана умел это безупречно. Стоило ему коснуться мяча,
как исход битвы был предрешен. Верный глаз, точный удар и неизменное
самообладание позволяли ему делать все, что он хотел, и он твердо знал,
чего хочет. Кавана предвидел весь ход поединка и разыгрывал его как по
нотам, мгновенно обращал слабости противника себе на пользу, словно
чудом или по велению внезапной мысли возвращал такие мячи, которые
все вокруг считали безнадежными.
Он в равной степени обладал силой и мастерством, стремительностью
и рассудительностью. Он умел и тонко перехитрить соперника, и просто
пересилить его. Порой, когда казалось, что Кавана вот-вот бросит мяч со всего
размаха, от плеча, он умел легким поворотом кисти уронить его на
расстоянии дюйма от края поля. Слетевший с его руки мяч, будто посланный
ракеткой, неизменно двигался строго горизонтально, исключая всякую
попытку овладеть им. Подобно великому оратору, который не просто не лезет за
словом в карман, но мгновенно находит наиболее подходящее слово,
Кавана всегда был точен, рассчитывая силу и направление своих ударов. Он
играл с невероятной легкостью, не прикладывая большего труда, чем
требовалось. Когда другие изнуряли себя чуть ли не до смерти, он оставался
хладнокровен и собран, будто бы только что вышел на корт. Он владел
необыкновенным стилем игры и достиг высокой степени виртуозности. Ли-
100
Застольные беседы
шенный жеманства и манерности, Кавана никогда не бросал игру ради
эффектной позы или эксперимента. Как хороший, разумный, отважный
игрок, он использовал все свои отменные способности — такие, о которых
соперники его могли только мечтать. Его удары были решительны и
безошибочны — в них не было ни тяжеловесности, свойственной эпической
поэзии мистера Вордсворта, ни неуверенности, присущей лирической
прозе мистера Колриджа, его мячам не случалось падать, не долетев до цели,
в отличие от речей мистера Брума, или проноситься мимо нее, как
шуткам мистера Каннинга, он никогда не играл с нарушением правил, как
«Ежеквартальное обозрение», и не пускал незасчитпываемых мячей, как то
характерно для «Эдинбургского обозрения». Кавана — это Коббет и Юни-
ус в одном лице. Самый лучший игрок в мире, он никогда не падал духом
и оставался самим собой или превосходил себя, даже когда ему неожиданно
случалось играть с четырнадцатилетним противником. Как не мог он
проиграть по причине небрежности или самодовольства, так же не способен он
был сделать это из лени или из-за недостатка мужества. Отличительная
особенность его игры заключалась в том, что Кавана никогда не отбивал мяч
на лету, а давал ему попрыгать, и едва тот отрывался на дюйм от земли,
надежно завладевал им. В своем искусстве он не знал не только равных,
но и близких себе. Говорили, что Кавана мог победить, даже отдав
партнеру пол-игры или пуская в ход левую руку. У него были потрясающие
подачи. Однажды ему случилось состязаться одновременно с двумя
лучшими в Англии игроками, Вудвардом и Мередитом, на площадке на улице
Св. Мартина. Просто неслыханно, но только с подач он двадцать семь раз
пробил навылет. В другой раз он встречался с Перу, которьш считался
первоклассным игроком, и сыграл с ним матч из пяти партий. В первых трех,
решивших, разумеется, исход игры, Перу получил только одно очко.
Кавана был ирландцем по происхождению и маляром по профессии.
Однажды, сменив рабочую одежду на свой лучший костюм, он пошел
прогуляться в свое удовольствие по направлению к таверне «Ветка
розмарина»36. К нему подошел какой-то молодой человек и предложил поиграть с
ним в мяч. Они договорились играть по полкроны на партию и за
бутылку сидра. Началась первая партия. Семь, восемь, десять, тринадцать,
четырнадцать очков — и Кавана выиграл. Во второй партии все повторилось. Они
продолжали играть, и Кавана почти не встречал сопротивления. «Вот, —
воскликнул ничего не подозревавший партнер, — вот удар, которьш не смог
бы отразить далее сам Кавана. Никогда в жизни я не играл лучше, а ни
одной партии не выиграл. Не понимаю, что происходит». Однако они вновь
приступили к борьбе, и вновь Кавана побеждал в каждой партии. Вокруг
собрались зрители; они попивали сидр и без конца хохотали. После
двенадцатой партии, когда Каване было забито четыре мяча, а незнакомцу — три-
IX. Индийские жонглеры
101
надцать, к ним подошел человек и сказал: «Как, ты здесь, Кавана?!» Едва
услышав эти слова, ошарашенный соперник уронил мяч и воскликнул:
«Что?! Я все это время надрывался, чтобы победить самого Кавану?» — и
отказался играть дальше. «Однако ж, — не без гордости вспоминал потом
Кавана, — даю слово, я играл, ни разу не разжав кулака». Он часто
наведывался в таверну «Копенгаген-хаус»37, играя там на пари или за обед. Стена,
которую использовали во время игры, поддерживала дымоход из кухни, и,
когда удары в стену были громче обычного, повара замечали: «Это удар
ирландца!» — и бараньи ноги тряслись на вертелах. В то время как Голд-
смит тешил себя мыслью, что тоже кое-где имеет успех38, Кавана был
всеобщим кумиром на любой площадке. Когда знаменитый мистер Пауэлл
устраивал матчи с участием Каваны на площадке улицы Св. Мартина, он
обычно заполнял все места на галерке, продавая их за полкроны
любителям игры и почитателям любых талантов. В каком бы уголке Англии
Кавана ни оказался, его тотчас окружали любопытные зрители, пытаясь
обнаружить, в какой именно части его тела сокрыт непревзойденный талант.
Точно так же политики дивятся, когда видят, что равновесие в Европе
зависит от выражения лица лорда Каслри, или восхищаются завоеваниями
Британского флота, сокрытыми под хмурым челом мистера Крокера.
Кавана был не менее красив, чем благородный лорд, и гораздо красивее
достопочтенного министра. У него было чистое, открытое лицо и взгляд,
который никогда не уклонялся от взгляда собеседника, как это
свойственно книготорговцу мистеру Меррею. Кавана был благоразумным, веселым
и мужественным юношей. Рассказывают, что однажды, поссорившись с
лодочником у Хангерфордской лестницы39, он разделался с ним, словно с
мячом, в присущем ему стиле. Словом, сегодня сотни людей с восхищением
уверяют, что от начала времен мир, пожалуй, не знал лучшего игрока и
никогда не мог представить себе подобного мастерства. Кавана при жизни
услышал шумные крики почитателей, вместо того чтобы удостоиться
хвалы потомков, которую нельзя услышать. Покойный Джон Дэвис, игравший
ракеткой, был, пожалуй, единственным, пусть и из другой области, чей
успех не уступал успеху Каваны. В его игре замечательно было то, что,
казалось, будто не он следовал за мячом, а, наоборот, мяч следовал за ним.
Он уверенно попадал мячом даже в стену шириной в один фут. Его
лучшими соперниками были четыре игрока: Джек Спайнс, Джем. Хардинг, Ар-
митедж и Черч. Дэвис мог дать каждому из них пол-игры форы, а ведь
любой из четырех названных, когда бывал в ударе, мог предоставить
лучшему из нынешних лондонских игроков те же преимущества. В любом
ремесле, в любом искусстве существует иерархия таланта. Однажды Дэвис
победил четырех сильнейших противников в одновременной игре. Кроме
того, он был первоклассным теннисистом и отличным игроком в мяч. В
102
Застольные беседы
состязаниях на площадках тюрьмы Флит и тюрьмы при Верховном суде он
мог бы выступить против самого Пауэлла, некогда непревзойденного
мастера игры на открытой площадке. Последний в настоящее время владеет
собственной площадкой, и мы могли бы посоветовать ему следующую
рекламную вывеску: «Войди сюда, и ты забудешь всё — себя, отечество,
друзей»40. И прекраснее всего то, что ни одно, ни другое, ни третье, если
взвесить их недочеты, не заслуживает нашей памяти.
Кавана умер от разрыва кровеносного сосуда, который мешал ему
играть последние два-три года. Он не раз жаловался, что тяжело переносит
разлуку с кортом. Он только начал поправляться, когда, к сожалению всех
своих поклонников, скоропостижно скончался.
Как мистер Пиль одобрительно отметил, что мистер Мэннерз Саттон,
нынешний спикер палаты общин, зарекомендовал себя
высоконравственным человеком, так и мы скажем, что Джек Кавана был ревностным
католиком, непреклонно отказывавшимся есть мясо в пятницу, — а именно
в пятницу его и настигла смерть. Мы воздали должное его памяти.
Никто из нас не оскорбит
Могилу, где герой лежит. Hic jacet*-41.
* Здесь покоится (лат.).
X
О ТЕХ, КТО ЖИВЕТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ*
Медлителен, уныл, уединен,
От дружеского круга удален,
В краях, где Шельда плещется лениво
Иль По в лугах петляет прихотливо1.
Никогда не найти мне лучшего места или расположения духа, чтобы написать
на эту тему. На ужин готовится куропатка, огонь весело полыхает в камине,
погода для этого времени года стоит приятная, со мной сегодня случился
только легкий приступ несварения желудка (единственное, что вызьшает у
меня отвращение к себе), впереди добрых три часа — попробую написать!
Лучше справиться с этим сразу, чем потом тянуть целую неделю.
Писать об этом трудно, но осуществить, бесспорно, еще труднее. Нужны
немалые усилия, чтобы добиться чужого восхищения, и еще большие, чтобы
найти удовлетворение в собственных мыслях. Когда я смотрю из окна на
простирающуюся предо мною широкую нагую пустошь, когда сквозь
подернутый туманом мерцающий лунный свет вижу леса, колышущиеся над
вершиной Уинтерслоу2,
Покуда свод небес дождем заволокло3, —
в уме начинает мелькать длинная вереница лет4, когда меня поддерживали
лишь терпение и тайное стремление к истине и добру, и мне нетрудно
воссоздать чувство, о котором я собираюсь писать, но не знаю, смогу ли передать
его так, чтобы доставить удовольствие читателю.
В письме к мисс Гарриэт Байрон леди Г. уверяет ее, что брат ее сэр Чарлз
живет сам по себе;5 и леди Л. вскоре повторяет (Ричардсону никогда не
надоедали собственные словесные удачи) это замечание, к которому мисс Бай-
* Написано в домике Уинтерслоу 18—19 января 1821 г.
104
Застольные беседы
рон так часто возвращается в письмах к обеим сестрам: «Ведь вы знаете, сэр
Чарлз живет сам по себе», — что в конце концов оно становится поговоркой
в переписке прекрасных героинь романа6. Тем не менее я не так понимаю
выражение «сам по себе», ибо, хотя сэр Чарлз Грандисон действительно
постоянно думал о себе, но для меня эта фраза означает как раз, что человек
никогда не думает о себе, а ведет себя так, будто такой личности вообще на
свете нет. Человек того типа, о котором я говорю, менее всего сосредоточен
на себе, меж тем как любимец Ричардсона целиком предан собственной
особе. Некий насмешливый критик изобразил, как этот персонаж склоняется в
раю над увядшей рукою леди Грандисон (бывшей мисс Байрон); однако
лучше бы он изобразил, как тот склоняется над собственной рукой, ибо сэр Чарлз
никогда никем не восхищался, кроме как самим собой, и был для себя
единственным предметом поклонения.
«Жить своей жизнью» — это, по-моему, не значит ни удалиться в пустыню,
где бы вас, как святых и мучеников в давние времена, сожрали дикие звери,
ни спуститься в пещеру, чтобы прослыть отшельником, ни взобраться на
вершину столба или скалы и предаться отчаянному раскаянию на виду у всего
света.
«Жить своей жизнью» — это, на мой взгляд, означает жить в мире, но
словно вне его, как если бы никто не знал, что есть такой человек, а вы бы
и не хотели, чтоб узнали; это означает быть молчаливым зрителем
великого спектакля жизни и, не будучи предметом внимания или любопытства,
созерцать с живым интересом и волнением все происходящее на свете, не
испытывая ни малейшего желания вершить судьбы мира или вмешиваться в
его дела.
Такую жизнь может вести лишь чистый духом, и только он способен
проявить подлинное внимание к делам людским: внимание спокойное,
созерцательное, пассивное, отстраненное, проникнутое жалостью к страданиям
людей и озаренное лишенной горечи улыбкой по поводу их безумств, внимание,
сочетающееся с умением разделять их привязанности, не поддаваясь их
страстям, не добиваясь их внимания, не завладевая их помыслами. Тот, кто
мудро живет сам по себе, по законам собственного сердца, смотрит на суетный
мир из уединения7 и не хочет участвовать в сражении — «тревоге света
молча внемлет»8, но не властен поправить его дела. Вокруг слишком много
занимательного, чтобы побудить такого человека выступить вперед и
постараться обратить на себя всеобщее внимание. Такие попытки обречены на
неудачу. Он разглядывает облака, изучает звезды, следит за сменой времен года,
за осенним листопадом, за ароматным дыханием весны; вздрагивает от
восторга, заслыша пение дрозда в роще неподалеку; сидит у огня, внимая стону
ветра; задумывается над книгой и то старается беседами скрасить застывшие
в неподвижности часы, то, уносясь в радостных мыслях, обращает часы в
X. О тех, кто живет своей жизнью
105
минуты. И все это время он, в сущности, занят чем угодно, но не самим
собой. Он восхищается стилем читаемого автора, но сам и не думает браться за
перо. Он любит смотреть на копию со старинной картины, но ему и в
голову не придет заняться ее воспроизведением. Он не терзает себя до смерти
попытками перестать быть самим собой и начать совершать невозможное. Он
едва ли знает пределы своих способностей, и ему совершенно безразлично,
займет ли он важное место в этом мире. Он чувствует правдивость строк:
И тот,
Чей взгляд самим собой лишь поглощен, —
Всех меньше, худший из живых существ.
У мудреца он мог бы вызвать то
Презрение, что мудростью самой
Считается запретным9.
Он из своего внутреннего мира видит всю ширь природы и, выходя за
пределы своих ограниченных интересов, с любопытством наблюдает человечество.
Он свободен, как воздух, и независим, как ветер. Горе ему, если он начнет
думать о том, что говорят о нем другие! Пока человек доволен собою и тем,
что ему отпущено, все идет прекрасно. Как только он берется играть роль на
сцене и стремится убедить всех вокруг думать о нем больше, чем они
думают о себе, он попадает в колею, где не найдет ничего, кроме бурьяна и
терновника, досады и разочарования. Об этом мне есть что сказать. Много лет
я только и делал, что размышлял. У меня не было другого дела в жизни, как
решать замысловатые задачи, или погружаться в чтение мудреного писателя,
или глядеть в небо, или бродить по каменистому берегу морскому,
Смотреть, как дети бегают на берегу
И как волна вдогонку шлет волну10.
Мне все было нипочем. Я ничего не хотел. Не спеша я обдумывал все, что мне
приходило в голову, и не торопился на всякий вопрос дать изощренный
ответ — меня ведь не ждал наборщик! Я тогда писал страницу или две за
полгода и, помню, от души посмеялся над знаменитым экспериментатором Ни-
колсоном, который уверял меня, что из написанного им за двадцать лет
получилось бы триста томов среднего размера. Я не был великим писателем, но
зато с вечно новым наслаждением читал, «никогда не кончая и вечно
начиная»11, и не считал своим долгом писать критическую статью о прочитанном.
Пусть я и не умел рисовать, как Клод, однако мог во время прогулки
восхищаться «волшебством нежно-голубого неба»12 и радоваться испытываемому
удовольствию. Если мне было скучно, я не очень этим тяготился; если
становилось весело, веселился вовсю. Я желал всему миру только добра и старался
106
Застольные беседы
дать ему самую благоприятную оценку. Подобно иностранцу в чужой земле,
я осматривался вокруг с изумлением, любопытством и восторгом, не ожидая
ответного внимания. Я не имел никакого отношения к государству, у меня не
было никаких обязанностей и никаких связей с окружающими. Я тогда не
завел ни друга, ни любовницы, ни жены, ни ребенка, я сохранял преданность
не действию, а созерцанию.
Что может быть лучше, чем подобная жизнь в мечтах? Тот, кто покидает
ее в поисках реальности, меняет, как правило, отдохновение на множество
разочарований и тщетных сожалений. Он не распоряжается ни временем
своим, ни мыслями, ни чувствами. Отныне природные явления не предстают
перед ним в своем истинном свете — он прищурясь смотрит на них,
прикидывая, как бы обратить их в орудия своего честолюбия, корысти или
удовольствия; он утрачивает искренность, бесхитростность, простодушие и
становится желчным, мрачным, двуличным; великие общественные потрясения
занимают его лишь в той ничтожной мере, в какой он принимает в них участие;
вместо того чтобы открыть свои чувства, разум, сердце навстречу
великолепию вселенной, он ставит перед собой кривое зеркало, дабы восхищаться
только собой и собственными притязаниями, и только поглядывает искоса,
разделяют ли другие его восхищение. Он живет не приглушенными и несколько
подавленными привычным созерцанием впечатлениями от «прекрасного
разнообразия вселенной»13, но характерным для выскочек лихорадочным
ощущением собственной значимости. Стремясь к определенности, он превращается
в раба господствующих мнений. Он инструмент, деталь никогда не
останавливающейся машины и испытывает тошноту и головокружение от вечного ее
движения. Ничто не удовлетворяет его, кроме отражения его облика в глазах
или повторения звуков его имени в ушах общества. При этом он во все
вмешивается и все портит. Неужели Бонапарту не надоедала буква N,
изображенная повсюду на стенах Лувра и по всей Франции?14 Известно, что Голдсмит,
будучи в Голландии, вышел на балкон с красивыми англичанками и в ответ
на раздавшиеся аплодисменты обернулся и брюзгливо заметил: «И мною кое-
где восхищаются»15. Жадное писательское тщеславие никогда, ни на день не
покидало его. Я однажды видел, как один из самых блестящих ораторов
нашего времени16 побледнел и вышел из комнаты, когда вошла эффектная
девушка и на мгновение отвлекла внимание его слушателей.
Бесконечны огорчения, вызванные попытками выйти из мрака
неизвестности, бесчисленны неудачи — но еще сильнее и больнее злоключения и муки,
сопровождающие успех.
Путь к славе — путь к паденью;
Так скользок он, что страх упасть страшней
Паденья самого!17
X. О тех, кто живет своей жизнью
107
Когда Оливеру Кромвелю досаждал парламент, он нередко восклицал:
«Боже, да лучше б мне было остаться в краю лесов и пасти овец, чем править
тут в такой обстановке!»18 А когда Бонапарт садился в карету, отправляясь в
поход в Россию, он небрежно вертел перчатку и напевал: «Мальбрук в поход
собрался»19, не думая о том, что ему предстоит пережить ошеломляющее
падение, после которого, кроме него, никто бы не оправился. Чаще всего мы
слышим рассказы о любимцах фортуны и муз: великих полководцах,
первоклассных актерах, знаменитых поэтах. Они всюду первые: мы поражены
блеском и заметносгью их положения и жаждем успеха им под стать. И не
думаем при этом, сколько унылых, бедных лейтенантов всю жизнь тщетно
ждут продвижения по службе и вынуждены терпеть «заносчивость властей
и оскорбленья, чинимые безропотной заслуге»;20 сколько голодных
странствующих актеров обречены в нищете, в лохмотьях прозябать в провинции,
мечтая до последнего о приглашении в Лондон; сколько жалких пачкунов
дрожат и трепещут в лихорадке надежд, сменяющихся страхами, тоскуют и
изнывают от осознания того, что талант сходит на нет — или же
превращаются в учителей рисования, в чистильщиков картин или газетных критиков;
сколько несчастных стихотворцев вотще взывали к музе, не находя своим
излияниям иного места, кроме «Уголка поэта» в сельской газете, и жадным,
печальным взором все глядели и глядели на завистливый горизонт,
зажимающий их славу пределами провинции! Предположим, что, к примеру, актер,
переживший «тоску и тысячу природных мук, наследье плоти»21, на самом
деле достигнет вершин — он не может терпеть соперника у трона; быть вторым
или даже равным кому бы то ни было — значит быть ничем; он вздрагивает
при мысли о преемнике и судорожно хватается за бутафорский скипетр: быть
может, в ту самую минуту, когда он приготовится захватить первое место,
которого так долго домогался, откуда ни возьмись, его опередит неведомый
соперник и утащит добычу, предоставляя бедняге начать свой нудный путь
сначала. Он впадает в тревогу при появлении или даже слухе о появлении
нового актера: даже «мышка, что в кошачьем ухе поселится»22, и та по
сравнению с ним живет в мире и спокойствии; он страшится малейшего намека
на возражение и менее всего склонен извинить похвалу, смешанную с
критикой: сомнение оскорбляет, выделение достоинств и недостатков унижает; он
не решается заглянуть в рецензии, если только кто-нибудь не убедился
заранее, что в них нет ничего обидного. Если его спектакли не собирают каждый
вечер полный зал, он теряет сон и аппетит; а если все эти бедствия
преодолены и он «вкусить свой ужин мирно может»23, он быстро пресыщается
аплодисментами и чувствует, как мало удовлетворен своей профессией: он
стремится к чему-то другому, к известности писателя, коллекционера, ученого,
человека осведомленного; он взвешивает каждое свое слово и готов
отказаться от него, еще не произнеся ни звука, — из страха, как бы малейшая оговор-
108
Застольные беседы
ка не дала повода для пересудов, что мистер годится только в актеры.
Если тщеславие доставляет человеку больше радости, чем страдания, говорит
Руссо, этот человек всего-навсего дурак24. Некий джентльмен из Тонтона25 всю
жизнь извел на изготовление сотен жалких копий второразрядных картин;
после его смерти их приобрел один из соседей, баронет26, которому «шепнул
злой демон — ты купи их, Летбридж»27. Маленькая картина Уилсона в
темном углу ускользнула от внимания этого ценителя искусства, и ее купил за три
гинеи один бристольский делец, тогда как жалкие копии хозяина дома
(вместе с рамами) принесли по тридцать, сорок, шестьдесят, сто монет за штуку.
Один мой приятель нашел чудесную картину Каналетто в ужасном
состоянии: верхний край неба был замазан и нелепо перекрыт чисто английскими
облаками. Когда он спросил владельца, не трогал ли кто эту картину, тот
ответил, что один господин, великий художник, живший по соседству,
частично переписал ее на свой лад. Вот уж поистине увлекся! Однако из этого
кандидата в мастера кисти мог бы наверняка получиться веселый охотник или
почтенный мировой судья, если бы он только шел по пути,
предназначенному ему судьбой и природой. Никто не может убедить мисс покинуть
сцену театра в Солсбери28, небольшого городка на западе Англии. Ее
жалованье сократили, ее высмеивают, игру объявили негодной, но ей все нипочем: она
твердо решила быть актрисой и презрела прежнее ремесло — модистки.
Стоит ли продолжать? У одного из актеров той же труппы случился сильный
припадок, и когда пришедший к нему лекарь спросил его хозяйку, каков
образ жизни больного, та ответила, что бедный джентльмен очень тихий,
никогда никого не беспокоит, на обед, как правило, съедает тарелку картофельного
пюре и почти всегда лежит в постели, разучивая роль.
Молодые влюбленные, очень милые и порядочные, собирались вступить
в брак, и офицеры расквартированного в городке полка заказали в местном
театре спектакль, доходы от которого должны были возместить цену
брачной лицензии и обручальных колец; однако расчеты не оправдались, денег
оказалось слишком мало, и, я боюсь, влюбленные «сохранили
девственность»29. Ах, если бы Хогарт или Уилки взялись изобразить комический дар
актеров в , как они стоят, выстроившись в ряд, в пьесе «Тайный брак»;30
при этом надо еще бросить coup d'oeil* на партер, ложи, галерку — и тем
излечиться навек от пристрастия к идеалу, от желания сиять и блистать в
глазах других и вместо этого уйти в себя и таить внутри свои желания и мысли!
Даже в обычных бытовых делах, в любви, дружбе, браке, какой
опасности мы подвергаемся, когда доверяем свое счастье другим! В большинстве
случаев друзья, как я наблюдал, превращались в злейших врагов или
холодных знакомых, испытывающих при встрече неловкость. Старые приятели
* взгляд (фр.).
X. О тех, кто живет своей жизнью
109
подобны слишком часто подаваемым кушаньям, не доставляющим ни
удовольствия, ни пользы. Тот, кто взирает на красоту с восхищением и
обожанием, кто читает о ее чудотворной силе в романах, поэмах, пьесах, тот не
лишен мудрости; но мужчина ни в коем случае не должен влюбляться, ибо
тогда он становится «игрушкою девчонки»31. Я люблю повторять такие строки
из пьесы «Мирандола»:32
С такой свободою она идет
По коридору. Как похожа на оленя!
Но величавей. Чу! Ни звука, даже тихого,
Ни эха отклика, когда она ступает,
Но каждое движение ее как будто
Молчанием освящено33.
Однако, как ни прекрасно описание, сохрани меня Боже от встречи с
оригиналом!34
Мухи от патоки
Враз погибнут;
Познавшие женщин
Смерть повстречают35.
Это песенка Гэя, а не моя, и она полна сладкой горечи. Как мало из
бесчисленного множества тех, кто женится и выходит замуж, венчаются с теми,
кто им дороже всего на свете! Гораздо больше тех, кого соединяет расчет,
случай, совет друзей и даже нередко — сам страх перед браком, отвращение
или какое-то роковое притяжение. И, однако, узы эти вечны, разорвать их
может лишь позор или смерть; человек живет уже не сам по себе, но
превращается в тело (и сознание), прикованное к другому, вопреки себе самому —
Как жизнь и смерть, они несовместимы36.
Так Милтон, быть может на основании собственного опыта37, вкладывает
следующее восклицание в уста обуреваемого отчаянием Адама:
...муж
Подругу подходящую вовек
Не обретет, довольствуясь женой,
Которую просчет и неуспех
Ему дадут; желанную добыть
Ему удастся редко, по вине
Ее непостоянства; узрит он,
Что легкомысленница предпочла
Не столь достойного; а если даже
по
Застольные беседы
Взаимностью ответит на любовь, —
Ей воспрепятствуют отец и мать;
Иль поздно он избранницу найдет,
Цепями брака скованный с другой,
Жестокой, ненавистной и позор
Навлекшей на него. Отсюда жизнь
Людская будет горестей полна
Несметных и разбит семейный мир!38
Если бы любовь с первого взгляда была взаимной или могла стать ответом
на добрые деяния; если бы за самую нежную привязанность не платили и не
обдавали так часто равнодушием и презрением; если бы столь многие
воздыхатели до и после Дон-Кихота «не боготворили статую, не гонялись за ветром
и не издавали вопли в пустыне»;39 если бы дружба не угасала; если бы
заслуги даровали признание, а признание влекло за собой здоровье, богатство и
долголетие; если бы свет уважал действительные ценности и истинное
стремление к совершенству, а не его ярко намалеванные внешние приметы — тогда,
быть может, я и поверил бы, что лучше жить для других, а не ради самого
себя. Однако по тому, как обстоит дело сейчас, я склоняюсь к отрицательному
мнению по этому вопросу*.
Как мир — со мной, так враждовал я с миром,
Вниманье черни светской не ловил,
Не возносил хвалы ее кумирам,
Не слушал светских бардов и сивилл,
В улыбке льстивой губы не кривил,
Не раз бывал в толпе, но не с толпою,
Всеобщих мнений эхом не служил,
И так бы жил — но, примирясь с судьбою,
Мой разум одержал победу над собою.
Я с миром враждовал, как мир — со мной.
Но, несмотря на опыт, верю снова,
Простясь, как добрый враг, с моей страной,
Что Правда есть, Надежда держит слово,
Что Добродетель не всегда сурова,
Не уловленьем слабых занята,
Что кто-то может пожалеть другого,
* Шенстон притворялся, что живет сам по себе, а Грей действительно так жил. Грей
избегал внимания (он даже не хотел, чтобы его портрет появился в собрании его
сочинений), уходил в собственные думы и праздные размышления. Шенстон прикидьшался
любителем одиночества для того, чтобы его искали почитатели. Один искал уединения,
дабы наслаждаться досугом и покоем, а другой кокетничал с уединением, желая только,
чтобы его прервали непрошеные гости или лесть далеких друзей.
X. О тех, кто живет своей жизнью
111
Что есть нелицемерные уста,
И Доброта — не миф, и Счастье — не мечта40.
Мелодичные стихи смягчают дух мрачной мизантропии, но горе низкому
прозаику, который посмеет таким образом противопоставить себя миру или
резко обличать его фальшь и лицемерие.
Если бы у меня был серьезный повод для нападок на публику, подобных
тем, что позволяет себе в прологах к своим пьесам Бен Джонсон, думаю, я
нашел бы для этого четкие слова вроде следующих. Публика — вот самое
подлое, глупое, трусливое, жалкое, эгоистическое, злобное, завистливое,
неблагодарное животное на свете. Нет трусливей ее, потому что она боится
самой себя. Несмотря на свои колоссальные размеры, она страшится
любого сопротивления и дрожит, как желатин, при малейшем прикосновении. Она
пугается собственной тени, как человек в горах Гарца41, и вскидывается при
одном упоминании собственного имени. У нее львиная пасть, заячье сердце,
настороженные уши и бессонные глаза. Она «прислушивается к собственным
страхам»42. Она до того трепещет перед собственным мнением, что вообще
ни к какому не приходит и хватается за первые попавшиеся праздные слухи
из опасения запоздать со своей оценкой — и повторяет эти слухи на все лады,
пока не глохнет от звуков собственного голоса. Мысль о том, что подумает
публика, начисто лишает публику умения думать и парализует частное
суждение. В результате уши публики оказьшаются во власти первого попавшегося
наглого претендента, которому заблагорассудится набить их громогласными
утверждениями, лживыми домыслами или тайным нашептыванием.
Что сказано одним, слышат все; одно предположение, будто весь мир знает
это, заставляет весь мир в это верить, и гулкое повторение смутных слухов
заглушает «тихий, спокойный голос»43 разума. Мы можем считать или даже
знать, как далеко от истины то, что все твердят, но мы знаем (или
воображаем), что другие верят в это, и не смеем противоречить им или же ленимся
спорить, а потому отказываемся от своего внутреннего и, как кажется, нам
одним свойственного убеждения ради пустых звуков, ничем не доказанных
и часто бессмысленных. Более того, мы можем полагать и знать не только,
что то или иное утверждение ложно, но что и другие знают об этом, что они,
так же как и мы, посвящены в тайну подлога и видят пляску марионеток,
понимают природу действующего механизма, но тем не менее если кто-то
окажется настолько ловок или силен, чтобы добраться до управления этим
механизмом, он завладеет ухом публики, придумав какое-нибудь ходячее
словцо или прозвище, и, действуя с упорной наглостью, заставит весь мир
поверить в то, что все почитают за ложь, и повторять ее. Слух проворнее
способности рассуждать. Мы знаем о том, что говорят, знаем, что это само
по себе воздействует на воображение других; и мы, просто сочувствуя им и
ничего больше, из-за отсутствия смелости, необходимой для того, чтобы пойти
112
Застольные беседы
наперекор мнению большинства, угождаем предрассудкам публики.
Общественное мнение отнюдь не покоится на широкой и прочной основе, которую
составляла бы совокупность бытующих в обществе чувств и мыслей, а
потому отличается ничтожностью, мелочностью, чрезвычайной изменчивостью и
напоминает мыльный пузырь; поэтому мы с уверенностью можем сказать, что
публика не рождает общественное мнение, а становится его жертвой.
Публика труслива и малодушна, ибо слаба. Она отлично сознает собственную
глупость и собственную податливость чужим мнениям. Однако она не хочет
предстать идущей на поводу, а, напротив, желает, чтобы ее решения
считались мудрыми и вескими. Она спешит избрать себе любимцев и еще более
спешит отвергнуть их, чтобы ее не заподозрили в недальновидности. Она
обычно делится на две могущественные партии, каждая из которых
отказывает другой в здравом смысле и порядочности. Она читает как
«Эдинбургское», так и «Ежеквартальное обозрение», и верит обоим, а в случае
сомнения склоняется к тому, какое сильнее злобствует. Тейлор и Хесси говорили
мне, что за три месяца распродали почти два издания «Героев
шекспировского театра», но после рецензии на книгу в «Ежеквартальном обозрении» не
продали ни одного экземпляра. Просвещенная публика, вероятно, понимала
смысл нападок на книгу не хуже тех, от кого они исходили. Стало быть, не
невежество толкнуло публику отказаться от собственного мнения, а трусость.
Команда злобных критиков из Эдинбурга закрепила эпитет «кокни» за од-
ним-двумя писателями, родившимися в столице44, и все жители Лондона
перестали даже заглядывать в их произведения из страха, как бы и их не
обвинили в принадлежности к кокни. О, доблестная публика! Этот эпитет
буквально погубил одного из заклейменных писателей и пронзил его сердце, как
острая стрела.
Бедный Ките! Город веселился, а он умирал. Молодой, чувствительный,
тонкий, он был
Как червяком прокушенная почка,
Которая не выгонит листа
И солнцу не откроет сердцевины45.
Не в силах вынести гнусных воплей и дурацкого смеха, он испустил
последний вздох в чужих краях46. Публика столь же завистлива и
неблагодарна, сколь невежественна, глупа и малодушна —
Неблагодарности чудовище огромное47.
Она читает, восхищается, хвалит вовсе не из интереса к теме и не из любви
к автору, а следуя моде. Она возвеличивает или уничтожает вас
исключительно по прихоти или легкомыслию. Если вы угодили ей, то даже ее собственное
X. О тех, кто живет своей жизнью
113
невольное признание ваших достоинств вызывает у нее ревность, и она
хватается за первый попавшийся ничтожный предлог, лишь бы поссориться и
разделаться с вами. Каждого жалкого буквоеда она возводит в судьи,
каждому сплетнику верит без доказательств. Каждое ничтожество, которое вслед
за окружающими с изумлением пялило на вас глаза, радуется, когда вы, как
ему представляется, оказываетесь с ним на одном уровне. Ведь это значит, что
в конечном счете писатель — отнюдь не существо высшего порядка.
Восхищение публика выражает через силу — оно противно ее натуре; а поношение с
ее стороны искренне и неподдельно: всякий ощущает свою причастность к
нему. Связанным по рукам и ногам вас отдают во власть ваших обвинителей.
Попытка самозащиты рассматривается как нарушение закона, проступок,
неуважение к суду, высшая наглость. Даже если вы докажете
безосновательность всех обвинений, публика никогда не подумает исправить свои ошибки
и не попытается загладить несправедливость. Она считает, что это унизит ее
достоинство; она себя самое считает оскорбленной и в вашей невинности
видит пятно на своей репутации непогрешимого судьи. Когда знаменитый Бебб
Доддингтон утратил расположение суда, он сказал, что не будет оправдываться
перед своим государем: недовольство — дело Его Величества, а его — признать
себя неправым. Публика теперь такой скромностью не отличается. Уже
начинают поговаривать, что шотландские романы перехвалили. Разве
обыкновенные писатели могут в таком случае долго оставаться на плаву? Как правило,
все те, кто живет за счет публики, голодают и к тому же превращаются в
притчу во языцех, в предмет ходячих шуток. Потомки нисколько не лучше
(ничуть не более образованны и свободны от предрассудков); разница
только в том, что вы уже не в их власти, а сложившееся общественное мнение
спасает их от необходимости определить справедливость ваших претензий.
Нынешняя публика состоит из потомков Шекспира и Милтона. Наши
потомки станут публикой для будущих поколений. Когда писатель умирает, в гроб
ему кладут деньги, в честь него возводят памятники и отмечают годовщину
его рождения положенными речами. А обратили бы они на него внимание,
ежели бы он был жив? Нет! Я пожаловался на такой порядок вещей
шотландцу, участвовавшему в торжественном обеде, где вспоминали Бёрнса, и в
подписке на памятник поэту. Он ответил, что охотнее пожертвовал бы
двадцать фунтов на памятник, чем дал бы Бёрнсу эти деньги при жизни, так что,
если бы поэт вдруг воскрес, он обращался бы с ним точно так же, как с ним
обращались в его время. Это был честный шотландец. Как он сказал, так бы
поступили и все его друзья.
Однако довольно: душа моя, отвратись от них48. Позволь мне вновь
обрести милую моему сердцу безвестность и покой «вдали от шумных и позорных
сцен»49 в каком-нибудь потаенном уголке или в далекой стране. В последнем
случае я бы взял с собой в утешение то место из Болингброковых «Размыш-
114
Застольные беседы
лений об изгнании»50, где автор в ярких красках изображает свойственные
каждому и от него неотъемлемые внутренние возможности:
Поверьте мне, Провидение установило такой порядок вещей, при
котором только наименее ценное в нашей душе может пасть жертвой
чужой воли. Все лучшее в нас — в полнейшей безопасности, лежит за
пределами власти человеческой и не может быть ни подарено, ни отобрано.
Таков наш мир, великое и прекрасное творение природы. Таково наше
сознание, созерцающее мир, восторгающееся миром, благороднейшей
частью которого оно является. Мир вокруг нас и осознание его
неразлучны, и, пока мы пребываем в одном, будем наслаждаться и другим. Так
пойдемте же отважно, куда поведет нас случай. Куда бы ни увлек он нас,
в какие бы края ни привел, мы не окажемся там совершенными
чужестранцами. Мы будем ощущать ту же смену времен года, и те же
солнце и луна* будут вести нас круглый год. Тот же лазурный свод, усеянный
звездами, будет расстилаться над нашей головой. Нет такого уголка
света, откуда мы не могли бы наблюдать планеты, подобно нашей,
движущиеся по разным орбитам вокруг единого солнца; откуда не могли бы
поглядеть на еще более ошеломляющее зрелище — легион неподвижных
звезд, повисших в необозримых пространствах вселенной, бесчисленные
солнца, чьи лучи освещают и лелеют непознанные миры, вращающиеся
вокруг них. И покуда я восторгаюсь созерцанием их, покуда душа моя
тем самым возвышается до небес, что за дело мне до того, по какой
земле я ступаю51.
* Плутарх. Об изгнании. Он сравнивает тех, кто не в силах жить вдали от своей
страны, с простодушньшш, которые считают, что в Афинах луна прекраснее, чем в Коринфе52.
Labentem caelo quae ducitis omnum.
[«Вы, что по кругу небес ведете бегущие годы»03 [лат.)]
XI
МЫСЛЬ И ДЕЙСТВИЕ
Те, кто привык к отвлеченным размышлениям, обычно непригодны к
активной деятельности, и наоборот. Я сам достаточно решителен и категоричен в
своих суждениях, но в любом виде деятельности глуп, словно женщина или
ребенок. За самое простое дело я берусь чуть не двадцать раз; написать очерк
мне легче, чем запечатать письмо. Когда я бросаю на стол шляпу или книгу,
она летит мимо и падает; и вообще, у меня всегда получается не то, чего я
добиваюсь, а как раз то, чего стараюсь избежать. Мышление происходит
благодаря привычному напряжению умственных способностей, действие
вызывается усилием воли. Первое находит для всего объяснения, второе приводит
все в движение.
Авраам Такер рассказывает об одном своем приятеле, старом адвокате,
который как-то раз вышел из своей конторы в Темпле1 на прогулку с ним и,
спустившись с лестницы, не мог решить, куда пойти, — то ли к Чаринг-Крос-
су2, то ли к собору Святого Павла; он находил возражения против обоих
маршрутов и в конце концов за неимением решающего довода, чтобы
склониться в пользу одного или другого, повернул назад3. Такер приводит этот пример
в качестве иллюстрации профессиональной нерешительности или такого
склада ума, который привык тщательно взвешивать мотивы всех поступков, а
потому неспособен прийти к выводу тут же на месте, без серьезного его
обоснования.
В своем повествовании Луве сообщает нам, что, когда в доме Барбару
(кажется, именно у него) собралось несколько жирондистов, решивших бежать
от диктаторской власти Робеспьера, один из них подошел к окну и, увидев, что
начался ливень, на полном серьезе предложил своим соратникам обождать до
утра, поскольку, дескать, вряд ли правительственные агенты отправятся за
ними в такую скверную погоду. Некоторые из них стали обдумывать это
мудрое предложение и чуть не попались4. Такова женственная слабость спекуля-
116
Застольные беседы
тивно-философского темперамента в сравнении со стремительностью и
энергичностью практического. Вот на таких неравных условиях
утонченно-романтические мыслители, рассуждающие о добре и зле, вступают в бой со своими
безжалостными соперниками, обладающими стальными нервами, — результат
всем известен. Теоретики, как правило, нерешительны, склонны к сомнениям
и скептицизму и в конце концов уступают самому слабому побудительному
мотиву, как наиболее созвучному их душевной слабости*.
Некоторые люди уподобляются машинам. Они движутся по накатанной
колее, везя телегу своего ремесла, — словно прикованы к колесам фортуны.
Они тащатся вперед со своей ношей и добиваются успеха. Не они ведут дела,
а дела ведут их. Им ни о чем не надо думать — только полагаться на волю
случая и не сходить с проторенной дороги. Иной фермер без каких-либо
необыкновенных способностей продолжает свое дело на том же месте и по тем
же правилам, что и многие поколения его предков. Доказательство, почему
надо поступать так, а не иначе, — так делается во всех графствах и приходах
британского королевства. От фермера требуется только одно: не стараться
быть умнее своих ближних. Если он хотя бы на грош сообразительней или
проницательнее, чем они, если его тщеславие хоть на пол-аршина опередит
его жадность, если он когда-нибудь думал или читал что-либо о своем деле,
он почти наверняка разорится, после чего станет теоретиком сельского
хозяйства или ударится в какие-нибудь эксперименты.
Мистер Коббет, человек достаточно трезвый и практический, знающий
почем фунт лиха, из книги Талла о земледелии5 составил некое
представление о способе сеять репу, от которого не отступит ни на йоту — скорее уж
пожертвует чем угодно: не только собственным имением в Ботли, но и всем
родным ему графством Хэмпшир. «Тихо! Неужто можешь ты отнять у
человека его причуды?»6 Вот почему тот, кто не хочет разориться из-за своих
причуд, должен быть вял и флегматичен, чтобы никаких причуд не заводить;
ему не нужно знать «тех призраков, видений, которыми забота мозг наш
мучит»7. Ведь, в сущности, нет человека, чья оригинальность или
рассудительность превзошла бы те же качества всего света, взятые в совокупности, — то
есть плод ума и опыта человечества в целом. Даже тогда, когда человек
окажется прав в том или ином частном случае, он будет склонен преувеличивать
значение собственных открытий — во вред своим делам. Любая деятельность
требует совместных усилий, и, если вы восстанете против обычая, люди вос-
* Когда Бонапарт покидал палату депутатов перед началом своей последней битвы,
оказавшейся для него роковой8, он посоветовал не обсуждать формы государственного
устройства, покуда враг стоит у ворот. Иначе мыслил Бенжамен Констан. Он предпочел
играть в кошки-мышки с республиканцами и роялистами — и проиграл. Ему было все
равно — главное, он помешал человеку, способному добиться больше, чем он сам.
XI. Мысль и действие
117
станут против вас. Они понятия не имеют, правы вы или неправы, но знают,
что вы повинны в претензиях на превосходство над ними, и это им не
нравится. Человек, который двести лет назад предвидел бы и попытался внедрить
в практику получившие наибольшее распространение современные методы
успешного хозяйствования, нанес бы, без всякого сомнения, смертельный удар
своему авторитету и материальному благополучию. Вот почему, хотя
эксперименты и усовершенствования, время от времени предлагаемые
отдельными частными лицами, постепенно обогащают всеобщий запас знаний и
способствуют реформам в разных областях деятельности, чаще всего
новаторство приводит к разорению этих лиц, ибо они принимают часть за целое и
придают больше значения тому единственному заблуждению, в которое
впали остальные, нежели всему прочему, в чем те в основном правы в силу
давности обычая.
Стало быть, по-видимому, главным требованием для успешного ведения
дел в коммерции следует считать отсутствие воображения, а также любых
мыслей, кроме самых заурядных, ограниченных мыслей о выгоде.
Поскольку делами нашего мира занимаются, естественно, весьма обыкновенные его
обитатели, нельзя не усмотреть в таком порядке вещей мудрости
Провидения. Если бы арендовать пустой клочок земли мог только гениальный
изобретатель механических приспособлений, если бы за прилавком могли стоять
только люди широкой души, во что превратились бы торговля и сельское
хозяйство нашей великой (некогда процветавшей) страны? Не надо меня
толковать в том смысле, что нет такого понятия, как коммерческий гений, то есть
сочетание из ряда вон выходящих деловых способностей, расторопности,
сообразительности, умения проникнуть в чужую душу, знакомства с великим
множеством конкретных обстоятельств, запаса разнообразных средств для
достижений тех или иных целей — и здравого смысла, позволяющего
прийти к правильному решению. Все это я допускаю (в Ливерпуле и Манчестере
вас бы убедили, что нет истинных джентльменов и ученых, кроме торговцев
и промышленников); тем не менее, даже допуская разительное отличие
свободомыслящего торговца от жалкого лавочника, я сомневаюсь в том, что
благодаря перечисленным необычайным талантам можно добиться очень
крупного успеха, а также в том, что человек, заработавший полмиллиона, тем
самым доказал свою способность мыслить. Гораздо чаще этот успех
объясняется способностью неуклонно направлять все помыслы и желания к единой
цели. Коль скоро хочешь добиться успеха, думай только об успехе.
Баловень судьбы должен положиться на волю судьбы. Если строишь
слишком много планов, нередко попадаешь впросак; чрезмерно доверяясь своему
умению соображать и просчитывать, можно оказаться во власти критических
размышлений, которые в игре, зависящей не столько от умственной
одаренности, сколько от случая и непредвиденной удачи, в конечном итоге обора-
118
Застольные беседы
чивают дело против нас. В каждом коммерческом предприятии главное
правило одно: захватить что можешь и удержать что захватил; иначе говоря,
самые полезные и надежные качества коммерсанта — это стремление
использовать все возможные пути для отстаивания собственных интересов и
неутомимое усердие и трудолюбие, позволяющее наиболее выгодным образом
воспользоваться достигнутыми преимуществами. Наш мир — это либо книга,
где далеко не последнее место принадлежит «непредвиденному стечению
обстоятельств»9, либо машина, которой в значительной мере надо
предоставить вращаться на свой лад. Человек деловой хватки не придумает ничего
лучше, чем стоять у таможенного контроля в ожидании непредвиденной
удачи. Истинный служитель денежного культа ждет даров фортуны, как поэт
ждет вдохновения от муз, — и не полагается опрометчиво на ее милости. Он
не должен давать волю капризам и упрямству. Я знавал втянувшихся в
предпринимательство людей, у которых развилось столь обостренное чутье на
выгоду, что они хватались за малейший шанс получить доход, считая его
стопроцентным, и поэтому из-за чрезмерной склонности к стяжательству и
ростовщических замашек допускали не меньше ошибок, чем и самые
беззаботные расточители.
Нередко приходится слышать негодующие возгласы о неразумии гениев.
Дело тут не в неразумии, а в том, что всего прочего у них в избытке. Они
заблуждаются осознанно, они слепы намеренно. Разум тут ни при чем.
Глубокая рассудительность, которой гордятся серьезные люди, в сущности,
сводится к недостатку страсти и воображения. Надо хоть чем-нибудь их
заинтересовать, или увлечь, или затронуть главную слабость, чтобы увидеть, как
легко одурачить и их. Только расшевелите их чувства — и прощай
благоразумие.
Разум побуждает к действию, только если молчат страсти. При мне людей,
склонных чересчур увлекаться, упрекали в том, что они держат пари самые
невероятные, ничуть при этом не взвешивая свои шансы, и я видел, что те же,
кто упрекал их, поступали точно так же, как только оказывались задеты их
тщеславие или предрассудки. Никто не совершает поступков невероятнее и
фантастичнее, нежели утратившие хладнокровие автоматы. Есть ли страсть
более бессмысленная и неразумная, чем жадность? Голландцы сходят с ума
по тюльпанам10, а по любви.
Вернемся к сказанному несколько ранее. Возникает такой вопрос: если
мысль обнимает целый круг вещей и явлений, а для коммерции достаточна
лишь небольшая часть их — а именно знание собственного положения дел и
способов сколотить состояние, — не будет ли правильно сказать так: деловые
таланты объясняются узостью и примитивностью мысли, ибо тогда ничто не
отвлекает человека от его интересов и забот о том, что он может осознать и
в полной мере постичь?
XI. Мысль и действие
119
Для делового человека весь мир, кроме биржи, небылица; для охотника
за деньгами реально только то, что он может осязать, назвать своей
собственностью, «измерить линейкой в два локтя и сосчитать на десяти пальцах»11.
Недостаток мысли и воображения прямиком ведет практического человека
к реальной действительности; для поэта и философа реально и интересно все,
что истинно или возможно, все, что может быть важно для других или стать
предметом пытливых размышлений для него самого.
Если это так, то правильно ли будет судить о поступке по количеству
заключенной в нем мысли и порицать созерцателя за пассивность? Ведь у
всего на свете есть свои источники и движущие силы, которые и надобно иметь
в виду, отвлекаясь от механизмов, лежащих в основе других вещей и явлений.
Тот, кто добивается успеха в каком угодно занятии, в котором другие терпят
неудачу, по-видимому, обладает качествами, коих иные лишены. Пусть он не
блистает остроумием, зато наделен здравым смыслом; пусть ему недостает
тонкости ума, зато он энергичен и тверд в своих намерениях; пусть у него
всего лишь горстка талантов, зато ему может хватить скромности и
осмотрительности, чтобы наилучшим образом этой малостью распорядиться. Чувство
соразмерности, уместности — вот чрезвычайно важное качество в жизни,
хотя, подобно изяществу осанки, оно с трудом поддается определению и
наблюдению; оно вырастает из душевного равновесия и придает своему
обладателю тайную власть и очарование.
Quicquid agit, quoquo vestigia vertit,
Componit furtim, subsequiturque decor*.
Свойства ума могут раскрываться самыми разными путями. Ни слова, ни
мысли, к ним сводимые, не выражают крайних пределов человеческих
способностей. Человек — не просто говорящее или рассуждающее животное. Так
оценим же его таким, каков он есть, и не будем «лишать даров природы
дивных»12, дабы подогнать под предвзятые представления. Великими, бесспорно,
могут быть и деятели и мыслители. Существуют герои и мудрецы,
законодатели и основатели религий, историки и одаренные государственные деятели,
полководцы, изобретатели полезных ремесел и орудий, исследователи
неведомых стран, а также писатели и читатели книг. Нельзя отмахнуться от них
всех под предлогом чересчур придирчивого и педантического выявления
различий.
Сравнения несносны, ибо дерзки и приводят лишь к тому, что вследствие
использования одинаковых критериев при оценке явлений совершенно
разных, не имеющих между собой ничего общего, обнаруживаются недостатки.
* «Что б ни творила она, куда бы свой путь ни держала,
Следом скользит Красота и наряжает ее»13 (лат.).
120
Застольные беседы
Если бы мы, как кто-то предлагал, взялись исследовать, кто более велик,
Милтон или Кромвель, Бонапарт или Рубенс, то на одной стороне оказались
бы писатели и художники, а на другой — военные и дипломаты, и все они
принялись бы рвать на части кумиров своих соперников; чем дольше
продолжался бы спор, тем меньше каждому участнику нравился бы его любимец,
хотя он ни за что бы не согласился признать заслуги кого угодно другого.
Наш ум не приспособлен к одновременному восприятию нескольких
видов совершенства и постижению нескольких замечательных личностей. Нас
смущает и оглушает порой противоречивое разнообразие предлагаемых нам
образцов. Как бы ни восхищал нас тот или иной человек, каким бы
несравненным в своем роде ни казался, но если сопоставить его с личностями
совершенно иного типа, то есть если оценивать не присущие ему черты, а те, что
в нем отсутствуют, тогда окажется, что он вообще ничто. Мы не принимаем
в расчет достоинства и той и другой стороны, так как это примирило бы нас
и положило бы конец сопоставлению; нет иного способа возвысить своего
любимца, как ценою унижения его предполагаемых соперников, и потому
ради великолепных красок Рубенса, высоких идеалов Милтона,
глубокомысленной политики и осторожной смелости Кромвеля, ослепительных подвигов
и рокового честолюбия современного властителя14 поэт превращается в
педанта, художник опускается до механика, политик оказьшается обыкновенным
негодяем, а герой возвышается до безумца.
Победить противника в споре с помощью легкомысленных и
односторонних доводов просто, а вот в полной мере воздать должное его аргументам —
трудно. Когда меня спрашивают, кто самый великий из всех великих
(великих в разных областях), я отвечаю: тот, о ком я сейчас думаю, так как в эту
минуту большего величия не могу себе представить. Если обыватели
склонны преувеличенно восхищаться удалью героев и удачными предприятиями
дельцов, то те, кто усматривает славу только в сочинении книг, в силу
естественного предубеждения слишком часто расположены приписывать все
таланты и заслуги одним лишь творениям пера — или, по крайней мере, тем
произведениям, которые дают искусственное, абстрактное представление о
вещах и передаются от поколения к поколению, будучи признаны
образцовыми в своем жанре. Это неизбежно, но вряд ли справедливо.
Наши поступки уходят в прошлое и забываются, а живут только в своих
последствиях: завоеватели, государственные деятели, правители живы, только
если их имена запечатлены в истории. Юм справедливо замечает, что о
Вергилии и Гомере думают чаще и больше, чем о Цезаре или Александре15.
Племя поэтов живет дольше героев: первые глубже вдыхают воздух
бессмертия. Цельность их мыслей и поступков лучше сохраняется. У нас есть все, что
сотворили Вергилий или Гомер, как если бы мы жили в одно с ними время;
мы можем держать их произведения в руках, укладывать на подушку или
XI. Мысль и действие
121
подносить к губам. А от многих государственных мужей и полководцев едва
ли остался след на земле, различимый невооруженным глазом.
Умершие писатели еще живы; они по-прежнему дышат и движутся в
своих произведениях. Завоеватели мира — всего лишь прах в погребальной урне.
Собственно говоря, связь между мыслью и мыслью теснее и важнее, чем связь
между мыслью и действием. Мысль соединяется с мыслью, как пламя
разгорается в пламя; дань восхищения, принесенная героизму прошлых лет,
подобна воскурению ладана у подножия мраморного памятника. Слова, идеи,
чувства с течением времени приобретают материальность; вещи, тела, действия
растворяются, превращаются в пустой звук, в воздух. Однако, хотя
средневековые ученые больше спорили о текстах Аристотеля, чем о сражении при
Арбеле16, быть может, во времена Александра его военачальники восхищались
учеником не менее, чем учителем, и были больше к нему привязаны. Ведь со
смертью блекнут и уходят не только поступки человека — его добродетели и
благородные качества умирают вместе с ним; только разум его, бессмертный
и неизменный вовек, завещается потомству. Только слова живут вечно.
Тем не менее, хотя власть слова и знания тем длительнее, чем
отвлеченнее и утонченнее, все же она не так непосредственна и ослепительна, как
власть действия; хотя писатели после смерти так же хороши, как при жизни,
зато при жизни они ничем не отличаются от мертвецов; к тому же если
говорить о способностях, то, вопреки мнению, внушаемому нам педантами,
создание книги — не единственное доказательство, что человек наделен
вкусом, умом, духом. Сделать хорошо что угодно — написать картину, дать
сражение, изготовить плуг или молотилку — требует, как нам кажется, не
меньшего искусства и сообразительности, чем умение рассуждать о картине,
сражении, орудии или описать их.
Слова имеют общее, всем понятное значение, но не они одни существуют
на свете. Разве Юлию Цезарю потребовалось меньше таланта, когда он
возглавлял походы, чем когда сочинял свои «Записки»? Что совершеннее —
отступление Десяти тысяч под командованием Ксенофонта или его
произведение под этим названием?17 Разве Ловелас18, если бы он действительно
существовал и по внезапному наитию пустил в ход все придуманные им уловки,
не был бы так же умен, как Ричардсон, хладнокровно их измысливший? Если
вершиной авторского честолюбия следует считать создание и изображение
героического персонажа, вряд ли можно допустить, что жить и вести себя
ровно так, как описывает изощренный ум, дело пустяковое.
Подчинять средства цели; приводить все в движение; управлять
общественными механизмами; подчинять других своей воле; управлять людьми
более одаренными, чем ты сам, пользуясь тем, что слабость и безрассудство
перевешивают их мудрость; рассчитывать, какое сопротивление твоим
намерениям окажут невежество и предубеждения и как обратить их в свою пользу;
122
Застольные беседы
заранее предвидеть длинную вереницу переплетенных между собой и с
трудом поддающихся осмыслению событий, возможностей и путей к успеху;
распутывать паутину чужой политики и ткать свою; судить о последствиях
тех или иных явлений не отвлеченно, а с учетом всех связей, возможных
осложнений и препятствий; глубоко проникать в души человеческие;
угадывать скрытые таланты и затаившихся предателей; распознавать истинную
цену людям и обращаться с ними по заслугам; всегда видеть перед собой цель
и идти к ней, сметая все преграды; господствовать над другими и быть
верным себе — все это требует силы и знания, нервной и умственной энергии.
Именно такими талантами блистали самые великие актеры на всемирной
сцене. Великие свершения требуют, мне кажется, великой решимости, а
великие замыслы — незаурядного ума. Честолюбие — это своего рода
гениальность. Хотя я бы охотней отдал жизнь обсуждению какой-нибудь широкой
темы умозрительного характера, нежели интригам в борьбе за место члена
районного суда или за голоса в каком-нибудь обезлюдевшем избирательном
округе, все-таки, думаю, что и самый возвышенный философ-эпикуреец19
может иной раз снизойти до поддержки великого принципа или
слабеющего государства. Так в старину поступали законодатели и основатели империй,
и долговечность их установлений доказывает твердость принципов, коими
они руководствовались. Трагедия в стихах ничего не теряет от хорошего
исполнения на сцене, а если не выдерживает этого испытания, значит, в ней
отсутствует подлинная мужественность. Хорошо продуманные планы
проходят проверку опытом. Великие мысли, преломленные в действие, рождают
великие поступки. Великие поступки вырастают из великих событий, а
великие события — из великих принципов, в корне меняющих общество. Тем не
менее я считаю, что гениальная способность к действию больше зависит, в
сущности, от силы воли, чем от разума, что премудрые расчеты причин и
следствий вытекают из первопричины, а именно из энергии воли, приводящей
в движение все вокруг и предвидящей результаты своих действий; разумность
этой энергии заключена в активности, с радостью превозмогающей
трудности и риски, а мудрость — в мужестве, позволяющем не бояться опасностей,
но удваивать усилия, нужные для их преодоления. Гуманность, если она
велика, проявляется в великодушии к побежденным, в упоении властью — без
склонности к злоупотреблению ею, в здравом смысле, позволяющем
осознавать переменчивость фортуны, и в заботе о своем добром имени.
Критерием для решения поставленной нами проблемы может служить
следующее соображение: недостаток способности к отвлеченному мышлению
в сочетании с большой силой воли и достигнутым благодаря ей жизненным
успехом порой удивляет нас не меньше, чем нередко встречающееся
отсутствие воли и полная неспособность к практическим делам вкупе с высокой
умственной одаренностью. Иной раз «быть мудрым значит быть упрямым»20.
XI. Мысль и действие
123
Если вы глухи к голосу разума, но упорно стремитесь к своей цели, то вы
замучаете окружающих и заставите их думать по-вашему. Своеволие и слепые
предрассудки — лучшая защита власти и ее исключительных привилегий. Лоб
покойного короля21 не выдавал замечательного мыслителя, но нижняя часть
лица говорила о свойственных монарху сильных страстях и решительности. У
Чарлза Фокса были живые, умные глаза и прекрасный выразительный лоб22
(а также нос, свидетельствовавший о тонком вкусе), но черты нижней
половины лица отличались слабостью, неопределенностью, подвижностью,
отсутствием точки опоры, в них крылась тайна поражения вигов. Как прекрасно,
словно из железа, было отлито лицо Бонапарта! Какой у него был чувственный рот!
Какой бдительно-проницательный взгляд! Какой гладкий, невозмутимый лоб!
У мистера Питга глаза были маленькие и глубоко запавшие, высокий, покатый
лоб и нос, выдававший гордость и завышенное самомнение; именно эти
качества (прошу извинения) позволяли покойному премьер-министру диктовать
решения палате общин и играть с оппозицией как ему заблагорассудится.
У лорда Каслри наблюдается скорее недостаток, нежели избыток слов и
тем. Как говорил Лафонтен о св. Августине, он не такой великий остроумец,
как Рабле23, и не такой великий философ, как Аристотель, но что-то говорит:
с ним шутки плохи. На лице у него благородная маска человека красивого и
воспитанного, но маска расслабленная, сонливая, невыразительная. И вот с
такими чертами он решается произносить речи в парламенте. Он хорошо
знает людей, знает и членов парламента. Он принимает на свой щит удары,
которые не в силах отразить, и весь излучает — под шквалом ругани —
«спокойствие и улыбки»;24 знает, когда уместной похвалой решить колебания
соперника; поддерживает слабеющий дух своих слушателей или произносит
исполненную негодования речь; понимает, что подчинить себе парламент
можно, лишь попеременно пуская в ход то лесть, то запугивания. При
большом запасе неопределенных намерений (следствие темперамента слишком
вялого для совершения мыслительной работы и слишком буйного для
бездействия) ему всегда хватает упорства и гибкости, чтобы добиться своего. В
способности властвовать (о принципах тут не может быть и речи!) я больше
хотел бы уподобиться лорду Каслри, чем мистеру Каннингу: последний просто
многоречивый софист, который все время выходит за грань благоразумия и
не способен предусмотреть, какое воздействие окажут его слова, разве что
знает: цветистые банальности неизменно бьют точно в цель. Мистер Колридж
считает, что Бонапарт принадлежит скорее к разряду людей действия, чем
мысли25, а Каули оставил оскорбительно-несправедливую, но великолепную
хвалу Кромвелю, основанную на таком же сопоставлении. По его словам,
что может быть удивительней, чем человек, у которого, несмотря на
бедность, низкое происхождение и отсутствие физических и умственных до-
124
Застольные беседы
стоинств, нередко (а то и часто) возносящих к высочайшему положению,
хватает мужества попытаться осуществить (и везения добиться в нем
успеха) столь невероятный замысел, как разрушение одной из старейших и
прочнейших монархий на свете? Откуда взялись у него сила и дерзость
обречь своего государя и повелителя на публичную и бесславную казнь;
изгнать все его многочисленное семейство, связанное родственными узами
с могущественными династиями; проделать все это от имени парламента;
растоптать и его членов по своей прихоти и разогнать, когда они ему
наскучили; из их праха сотворить новое, неслыханное чудовище; задушить его
во младенчестве и самому возвыситься над всем, что составляло в Англии
верховную власть; подавить оружием своих врагов, а затем хитростью —
своих друзей; терпеливо служить какое-то время всем партиям и
победоносно повелевать ими впоследствии; завладеть землями трех народов, вплоть
до последнего уголка, и с одинаковой легкостью управиться с богатством
юга и бедностью севера; внушить страх и преклонение всем чужеземным
владыкам и стать приемным братом земным божествам; росчерком пера
созвать парламент и разогнать его одним слетевшим с уст дуновением;
добиться, чтобы его ежедневно со смирением умоляли стать за два миллиона
в год господином тех, кто прежде нанял его в слуги; распоряжаться
имениями и жизнями в трех королевствах, оказавшихся в таком же полном его
распоряжении, как маленькое именьице его отца; благородно и
великодушно расточать их и в заключение (ибо нет конца проявлениям его торжества)
единым словом завещать все это потомству; почить в мире на родине и
обрести славу за ее пределами; быть погребенным среди королей, с
торжественностью, превосходящей королевскую; оставить после себя имя,
которое не угаснет до конца света? А мир теперь так же мал для того,
чтобы превознести великого человека, как прежде не смог бы вместить все
его победы, если бы краткость земной жизни могла быть преодолена для
осуществления бессмертных замыслов26.
Кромвель был скверным оратором и еще худшим писателем. Милтон
составлял для него послания изящным и ученым латинским слогом, и перо его,
подобно шпаге Кромвеля, было «колким и нежным»27. Нынче не встретишь
сочетания героя и литератора в одном человеке, что было распространено
среди древних. Юлий Цезарь и Ксенофонт описали свои деяния ясно и
скромно28. Герцог Веллингтон (не такой удачливый, как Кромвель) вынужден
поручить свое жизнеописание мистеру Мадфорду29. Софокл, Эсхил и Сократ
среди современников отличались военной доблестью, но теперь помнят только их
поэзию и философию. Цицерон и Демосфен, величайшие ораторы
древности, были, по-видимому, трусами; Гораций тоже как будто не создал
благоприятного впечатления о своих воинских подвигах30. Однако в целом среди
греков и римлян не существовало того разделения между умственным и физиче-
XI. Мысль и действие
125
ским трудом, какое появилось у нас то ли с развитием цивилизадии, то ли из-
за постепенного ослабления и замедления деятельности разных частей тела.
Французы, например, по-видимому, лучше нас сочетают разные таланты,
в частности, литературные и светские. Среди нас ученый — это просто другое
обозначение педанта или дурака. А их философы и остроумцы вращались в
свете и знались с прекрасными дамами. Доказательством тому служит
выразительная гравюра, на которой Мольер читает великим французским
литераторам комедию в присутствии знаменитой Нинон де Ланкло31. Д'Аламбер,
один из лучших математиков своего века, был острословом, светским
человеком и литератором. У нас же ученый муж поглощен собой и своими
занятиями и ни о чем другом не помышляет. В самом телосложении его есть что-
то аскетическое и немощное, напоминающее описание монаха у Спенсера:
И всякого труда он избегал
Во имя созерцания32.
Быть может, огромное значение, придаваемое религиозным
установлениям, равно как и отвлеченный, туманный характер положений вероучения,
привели в наше время к тому, что разрыв между мыслью и действием лишь
еще сильнее углубился.
Честолюбие более возвышенно и героично, чем скупость. Его цели
благороднее, а пути к ним не столь однообразны.
Уж лучше царствовать над богачами,
Чем быть богатыми — увы, рабами33.
К честолюбию зовет жажда власти; скупость же подстегивается у одних —
боязнью обеднеть, у других — сильным стремлением потворствовать своим
желаниям. Существует два вида накопителей богатств: тощие, изнуренные на
вид бедолаги — и весельчаки, твердо решившие овладеть благами мира, ибо
хотят наслаждаться жизнью. Перед первыми всегда маячат призраки голода
и богадельни; вторые, отличаясь крепким сложением и отменным здоровьем,
казалось, являют собой идеал владельца имения, богатых угодий,
откормленных бычков, просторного поместья, дорогой одежды, филея и индейки,
отборных вин и всего прекрасного, что отвечает их потребностям и аппетитам.
Такие люди привлекают удачу сытым видом и приятной округлостью своих
честных лиц, тогда как первые отпугивают бедность худобой и изможденностью.
Голодая, они достигают богатства трудами и заботами, а вторые едят, пьют,
спят — и так находят путь к благам жизни.
Большинство состоятельных людей Сити отличаются добродушием и
жизнерадостностью. Поглядите на сэра Уильяма Кертиса. На лице его
написано «черепашина». Он купает свою неуклюжую тушу в волнах
черепахового супа34. Сколько оленьих окороков носит он на спине! Он лопается от дел
126
Застольные беседы
и контрактов, под завязку набит банкнотами и приглашениями пообедать, так
что весь раздувается от них. Его лицо — словно вызов неудаче, жуликоватая
искринка в его глазах, соблазняющих половину Сити и напрочь затмевающих
олдермена 35, — это отражение блеска где-то запрятанной груды золота.
Природа и фортуна вполне сходятся во мнении об этом человеке. Если мы
получаем удовольствие от ниспосланных богами благ, значит, заслуживаем
их. Природа предназначила ему стать рыцарем, старшим членом городского
совета, вести дела в Сити, а фортуна засмеялась при виде такого
благообразного преуспевающего человека*. Я не свободен от некоторых давних
предрассудков; меня не восхищают внешние проявления богатства (поклонников у них
и без меня хватает!), но, признаюсь, в старых банкирских домах на Ломбард-
стрит, в заляпанных грязью задних дверях, в угрюмо и молчаливо
распахивающихся парадных подъездах, в полном отсутствии всяких претензий, в
темноте и мраке, в лампочках, мерцающих днем, «подобно тени, что неверный
свет бросает»36, — во всем этом воплощается поэтический образ пещеры Мам-
моны у Спенсера37, где пыль и паутина скрывали колонны и крыши из чистого
золота, — и разум приходит в расстройство. В силу того же контраста мне
всегда казался романтическим рассказ о том, как сколотил состояние
основатель больницы Гэя38. Он содержал лавочку и на свои сбережения покупал
Библии и комиссионные свидетельства моряков, служивших в войнах времен
королевы Анны. Так он накопил 200 000 фунтов. Эта история отдает
волшебством и напоминает чудеса «Тысячи и одной ночи».
* Если человек абсолютно пригоден для достижения какой-то цели, средства к ней
отыщутся сами собой. Где хотение — там умение. Истинная страсть, безоглядная преданность
делу всегда венчаются успехом. Воображение и сила желания ведут к его исполнению, к
устранению всех препятствий и угрызений совести. Тот, кто несчастлив в любви, может
сколько угодно сетовать: он сам виноват. Он полоумный слабак. Быть может, его любовь и
впрямь так велика, как он изображает, но она не стала главной страстью в его жизни.
Пересиливали страх, гордость, тщеславие. Только если душа полностью поглощена страстью,
если не позволяет думать ни о чем другом, если ничто не отвлекает, не охлаждает, не
пугает, если идеальное чувство становится реальным, целиком овладевает умом, сердцем,
повадкой, если те же сладостные надежды и желания, что руководят поступками в
присутствии возлюбленной, волнуют воображение в ее отсутствие, — только тогда могу я
поручиться за успех. Но я не поручусь в этом случае за успех какой-нибудь «размазни»39.
Что до меня, то я всегда мог проникнуть на выставку прекрасных картин, если очень
хотел. Самые угрюмые швейцары, самые дерзкие лакеи были бессильны меня удержать.
Пред моим внутренним взором стоял портрет кисти Тициана, и ничто не могло подавить
мою решимость. Если бы этот портрет втайне не глядел на меня, покуда я пробивал себе
дорогу в зал, я бы разозлился или огорчился и ушел, но стремление к цели побеждало
щепетильность или отвращение к средствам. Никогда я так не понимал характера
шотландцев, которые никогда не мирятся с отрицательным ответом. Коль скоро я бы захотел
места на государственной службе или в правительстве Индии, моя настойчивость
проложила бы мне путь.
XII
О СОСТАВЛЕНИИ ЗАВЕЩАНИЙ
Редко какое другое обстоятельство способно представить человеческий
характер в более нелепом свете, чем составление завещания. Это наша последняя
возможность продемонстрировать несуразность своей натуры, и мы
прилагаем все усилия, чтобы воспользоваться случаем на славу. Мы ревниво
обдумываем условия завещания, тянем изо всех сил и наконец, когда откладывать
дальше уже некуда, старательно устраиваем дело так, чтобы никто ничего не
выиграл от нашей смерти. Последний поступок в жизни, наполненной
примерами глупости, вздорности и бессмысленной злобы, редко противоречит ее
общему содержанию. Кажется, единственное, к чему мы стремимся при
окончательном расчете с теми, кто столь невежливо нас переживет, — сделать как
можно меньше добра и досадить как можно большему числу людей.
Многие суеверно полагают, будто, изложив свою последнюю волю на
бумаге, должным образом подписав и скрепив печатями документ, они тем
самым приближают собственный конец. Мне довелось слышать об одном
человеке, разделявшем подобные мысли. Друзья и близкие вынудили его
составить завещание, отчего он, снедаемый мрачными предчувствиями и
опасениями, в самом деле заболел и всерьез полагал, что умирает; однако,
составив бумагу вечером, накануне отхода ко сну, на следующее утро
проснулся, к великому своему удивлению, здоровый и бодрый, как никогда*.
* Одна бедная женщина из Плимута не хотела оформлять завещание или не имела
для этого денег, а потому решила распределить свои нехитрые пожитки — кое-что из
одежды и домашней утвари — между подругами и родственницами viva voce [лат. — устно, вслух],
прежде чем Смерть навеки сомкнет ее уста. Так она отдала или завещала (по собственной
воле) стул и стол одной товарке, кровать другой, старый плащ третьей, ночной чепец и
нижнюю юбку четвертой и так далее. Кумушки посидели, поплакали, да и ушли, прибрав
к рукам все, что можно, и оставив благодетельницу на произвол судьбы. Не успели они
разойтись по домам, как больной неожиданно полегчало, и она послала за своими
вещами; не тут-то было — осталась она и без единой тряпки, чтобы прикрыть наготу, и без
единой подруги, чтобы разделить ее горе.
128
Застольные беседы
Другой пожилой джентльмен, обладатель изрядного состояния,
одержимый вышеупомянутым предрассудком, обнаружив, что здоровье его сильно
пошатнулось, всерьез озаботился судьбой своих наследников; но, когда дошло
до дела, решимость изменила ему, все прежние нервические фантазии
нахлынули с новой силой — даже на смертном одре он медлил, испытывая
непреодолимое отвращение к документу, который казался ему равносильным
смертному приговору; и, лишь при последнем издыхании, окруженный друзьями
и родственниками, взиравшими на него с тревогой и молчаливым
неодобрением, нашел он в себе силы протянуть слабеющую руку, взять перо и, при
поддержке близких, нацарапать подпись — и тут же откинулся назад и умер!
Если составить завещание нужно безотлагательно, то есть ежели ясность
в вопросе наследования может избавить кого-либо от тревожной
неуверенности в будущем или серьезно поправить чьи-то финансовые дела, старые и
немощные (которые обычно не терпят вмешательства в свои дела)
обязательно воспользуются всякой возможностью, чтобы оттянуть решающий поступок
до последнего, иной раз до тех пор, пока не окажется слишком поздно; или
же, зная, сколь многих постигнет разочарование, когда будет оглашена
последняя воля, ухитрятся ускользнуть от своих друзей, ничем не выдав выне
сенного в их пользу окончательного решения. Когда богатый родственник
долгое время заставляет какого-нибудь несчастного (возможно, нарочно для
этой цели избранного) томиться неизвестностью, в особенности если данное
завещание — его последняя надежда, можно едва ли не со всей
определенностью поручиться, что никакого завещания-не будет вовсе; не найдут ни
следа, ни признака намерений умершего завещать состояние тому, кого он так
долго мучил, равно как и причин, объясняющих, почему передумал, коль
скоро такое намерение у него все же было. Именно так заручаемся мы
уверенностью, что чужие помыслы и фантазии обязательно постигнет
разочарование после нашей смерти и что те, кто носится с ними, никуда в
предвкушении мзды не денутся из числа наших прихлебателей.
Одна известная красавица, блиставшая в середине прошлого века,
разыскала на склоне лет родственницу, подругу и спутницу своей юности, — все
сорок лет, прошедшие со времени их разлуки, та жила в весьма стесненных
обстоятельствах, явно нуждавшихся в улучшении. Дважды встречались они
после стольких лет: в первый раз бедная родственница навестила богатую в ее
великолепном семейном особняке, в другой раз та пересекла всю страну,
чтобы погостить в скромном жилище своей первой и единственной оставшейся в
живых подруги. С какой же целью? Хотелось ли ей вновь разглядеть образ
собственной юности в бледной и изможденной женщине? Или
продемонстрировать свои увядающие прелести и напомнить о былых победах той, которая
одна могла засвидетельствовать их ныне? Желала ли гордо предъявить
остатки прежней красоты тем, кто еще помнил или слышал о том, какой она бы-
XII. О составлении завещаний
129
ла, — кожу, сухую, точно шелушащийся алебастр, черты лица, будто
изваянного искусною рукой природы, а ныне болезненно исхудавшего, глаза,
по-прежнему сверкающие, словно бриллианты, когда мимолетная улыбка зажжется
на ее лице, оттенок нежного румянца, еще заметный среди морщин? Может
быть, вспомнить прошлое: кружева, оборки и парчу прошлого века, балы на
скачках в 1762 году, толпы влюбленных, что умирали от страсти у ее ног? Или
рассчитывая вновь свести с ума целые графства одним лишь напоминанием
о былой красоте? Поэтому ли или потому, что хотела оставить что-нибудь
своей подруге (чего та на самом деле ожидала, и, надо признать, не без
основания), никто не знает — сама она ни разу не обмолвилась на сей счет ни
словом и умерла, не оставив завещания. Та, что была законченной кокеткой в
двадцать и не знала большей радости, чем подарить надежду и тут же
похоронить ее, обещать блаженство взглядом и тут же охладить пыл словом, в
семьдесят не нашла лучшего занятия, чем постараться оживить воспоминания
о юношеской привязанности, поддержать угасающую надежду своей
родственницы — д,ля того только, чтобы убить их снова, на этот раз окончательно и
бесповоротно. Так наслаждаемся мы, дразня и мучая близких напрасными
упованиями, с утонченной жестокостью играя на чувствах любви и дружбы.
Когда же имущество все-таки завещано, то, коль скоро завещатель, ввиду
конкретных обстоятельств или следуя бытующему в обществе обычаю,
распорядился своим добром исключительно по собственному усмотрению, доли
наследников сплошь и рядом оказываются распределены совершенно
бессмысленно. Тот, у кого и без того много, получает еще больше; нуждающийся
получает мало или вовсе ничего. Бедность вызывает своего рода сострадание и
жалость, которые выражаются в виде небольшого денежного
вспомоществования, нищета — лишь презрение и пренебрежение; богатство же
притягивает и приманивает еще большее богатство — то ли вследствие естественной
ассоциации идей, то ли в результате врожденной склонности человека к
неравенству и несправедливости. Людям нравится складывать деньги в большие
груды при жизни; еще больше тешит их фантазию мысль о том, как после
смерти накопленная ими груда соединится с другой. Всю жизнь они
стараются заграбастать как можно больше денег, но не для того, чтобы использовать
их себе во благо, а чтобы положить в кубышку, запереть на ключ, превратить
в идола, которому следует поклоняться в одиночестве. Неужели же вы
полагаете, что они способны расстаться со своим кумиром ради чужого блага (пусть
даже и на смертном одре), что они испытывают к своим наследникам больше
любви, чем к себе самим? Неужто те, кто добровольно урезал и ограничивал
себя во всем, постыдятся отобрать у закадычных друзей и ближайших
родственников то, что чрезвычайно бы тем пригодилось? О нет! Уж лучше
передать груды золота и серебра в столь же жадные руки близких по духу людей,
чтобы те умножали его, чтобы оно оставалось неприкосновенным и бесполез-
130
Застольные беседы
ным для кого-либо, чтобы лишь пестовало алчность и гордыню, сверкало в
непомерных фантазиях своих бдительных стражей, порождало сонмы
неутоленных и неотступных желаний — еще одно жертвоприношение святилищу
Маммоны, их бога. С точки зрения таких завещателей, это и есть надлежащее
и разумное применение капитала, в этом и заключается священный,
нерушимый долг, исполнение которого скрашивает им близящееся одиночество
могилы и даже смягчает неумолимый взор самой Смерти. Нельзя и помыслить
о том, чтобы разделить богатство на мелкие части, бездарно растратить его на
нужды благотворительности или спустить на удовлетворение пустых
общественных потребностей, — ведь тогда ничего не останется от того
величественного монумента, что богачи соорудили себе еще при жизни, монумента, на
котором должно значиться их имя; а решиться на такое на пороге смерти, in
articulo mortis* — да это же безумие, напрасная трата, расточительность,
нечестивость! Так думает, сам того не сознавая, человек, поглощенный земными
интересами; а когда ему кажется, будто он в поте лица трудится ради себя
самого или какого-нибудь безмозглого наследника, своего alter idem**, на
самом деле он превращается в марионетку, жертву излюбленной навязчивой
идеи, этого призрака, который, то появляясь перед внутренним взором, то
вновь исчезая, требует воплощения (все равно какого) и оставляет здравого
смысла и понимания ровно настолько, чтобы богач мог сохранять верность
своей причуде.
Некоторое время тому назад эта тенденция складывать в груды,
стремление лелеять абстрактную страсть к накопительству примечательным образом
отразились в завещании некоего Теллусона1. Согласно этому документу,
большая часть довольно крупного состояния не могла использоваться
законными наследниками и ближайшими родственниками покойного, но должна
была оказаться помещена под сложные проценты таким образом и в течение
такого срока, чтобы в конце концов заработать капитал, достаточный для
покупки территории, равной целому графству. Проценты, нарастающие от
помещенного в государственные бумаги капитала и сдаваемых в аренду
земель, следовало периодически употреблять на приобретение других угодий,
парков и поместий по соседству или где-либо еще, так, чтобы земельное
владение, которое когда-нибудь в будущем унаследует еще не родившийся
повелитель акров, росло и ширилось, точно море, которое, поднимаясь,
затопляет все новые и новые луга, пашни, рощи и леса, — до тех пор пока не
истощатся силы разума и воображение не замрет, пораженное собственной дерзостью.
Вот наглядный пример сказочно-романтического плана накопления богатства
и закладывания основ будущего величия семьи, план, можно даже сказать,
* в момент смерти, при смерти (лат.).
* другого я (лат.).
XII. О составлении завещаний
131
вполне бескорыстный. Неопределенность и масштаб поставленной цели,
отдаленная перспектива ее достижения, решительное принесение ей в жертву
всех непосредственных и явных преимуществ настоящего окутывают план
таинственным покровом абстрактной идеи, придают ему сходство с
вымыслом, с сюжетом романа. В нем — пример того, что можно назвать
проявлением посмертной алчности, по аналогии с жаждой посмертной славы. В нем
мало от эгоизма — не больше, чем если бы завещатель предназначил ту же
самую сумму на постройку пирамиды, сооружение акведука, учреждение
больницы или достижение какой-нибудь другой патриотической либо просто
фантастической цели. В туманной дымке грядущих лет ему виделась целая
груда добра (миллионы акров земли); но не ради себя или тех, с кем его
связывали узы любви и крови, стремился он сложить ее, а лишь для
удовлетворения прихоти своего ума, пустякового каприза разыгравшегося
воображения*. И все же ради осуществления своего плана он, вероятно, всю жизнь
трудился не покладая рук, ограничивал себя в отдыхе, еде, удовольствиях,
приятной компании, не допускал послаблений и упорно шел к заветной цели
с терпением и самоотверженностью мученика. Я тем более настаиваю на
последнем соображении, что оно позволяет показать, как много
умозрительного, нереального заключается в страстях и устремлениях даже тех, чья цель —
отнюдь не общее благо, и как мало оснований имеют сии почтенные
граждане и строители воздушных замков считать людей, бесконечно гоняющихся за
славой, обрекших себя на поношение и преследование ради свободы и
истины или принесших свою жизнь в жертву интересам отчизны во имя правого
дела, мечтателями и фантазерами, которые не понимают собственной
выгоды и способов обеспечить личные интересы. Человек — не рассудочное и
эгоистичное животное; и даже в тех видах деятельности, что напрямую связаны
с этими двумя свойствами, он руководствуется не столько ими, сколько
воображением, обычаем, страстью, капризом или настроением.
Мне довелось слышать о престранном завещании, составленном
человеком, который всю жизнь испытывал неодолимую тягу ко лжи2. Он так
прославился этим своим пристрастием (лгал он не по злобе или хитрости, а из
бескорыстного стремления упражнять фантазию), что, с той поры, когда он
был еще ребенком, окружающие привыкли не верить ни единому его слову.
Он стал посмешищем и притчей во языцех в школе, поскольку все знали, что
доверять ему нельзя. Не разрушил закрепившейся за ним репутации и
последний поступок в его жизни. Человек этот уехал за границу, где его здоровье
пошатнулось настолько, что врачи порекомендовали ему немедленно
вернуться домой. Он отдал все, что у него было, за проезд, взошел на борт корабля
* Ту же природу имеет и право первородства — желание увековечить ощутимое и
очевидное доказательство богатства и власти.
132
Застольные беседы
и провел оставшиеся несколько дней своей жизни за составлением завещания,
в котором отписал богатые поместья в разных концах Англии, деньги в
ценных бумагах, богатые украшения, кольца и всякие прочие дорогостоящие
вещи своим старым друзьям и знакомым; те, не подозревая, как далеко
может зайти сила привычки, некоторое время не могли уразуметь, что все это
неожиданно свалившееся на них сказочное богатство никогда не
существовало нигде, кроме как в праздном воображении покойного лжеца,
отчеканившего больше вымышленного капитала, чем иной монетный двор настоящих
денег! Чем еще можно объяснить чрезвычайную цельность такого характера,
как не наличием у его обладателя врожденного, органически присущего ему
легкомыслия, делавшего его абсолютно безразличным к истине и
превращавшего серьезность, с коей относились к ней окружающие, в мишень для
постоянных шуток и насмешек!
Главное в искусстве составления завещаний — суметь обмануть ожидания
назойливых наследников. Не вижу особого греха в том, чтобы таким образом
наказать и выставить на посмешище подобострастие и себялюбие. Это как раз
тот самый случай, о котором говорят: «Нашла коса на камень»;3 состязание в
ловкости между охотником за завещанием и завещателем — кто кого
надует. Траурное кольцо и упоминание вскользь в документе, выражающем
последнюю волю, — плата, пожалуй, достаточно высокая за многолетнюю
угодливость низкопоклонствующего льстеца и надоедливого сплетника; и,
думается мне, библиотека — еще слишком непомерная награда для Жиля Бласа
с его фатовскими претензиями4.
В «Вольпоне» Бена Джонсона есть прекрасные сцены, изображающие
нравы охотников за наследством и различные способы отделаться от них при
помощи отговорок и ложных обещаний. Завещателю, однако, едва ли
пристало открыто поощрять столь низкое, бесстыдное поведение, если он не
намеревается воздать за него; так, бессердечная кокетка не имеет права бросить
влюбленного, с которым заигрывала. Лесть и повиновение — точно такой же
товар, как и всякий другой, они имеют свою цену и негоже приобретать их
обманом. Если уловки жалкого создания, пытающегося сыграть на нашей
доверчивости, насквозь видны и вызывают лишь отвращение, мы всегда можем
избавиться от него и отказаться от его услуг; если же нас тешит эта пародия
на дружбу и уважение, почему бы и не заплатить ему, как платят любому
поденщику или актеру, который играет угодную нам роль? Однако зачастую
разочарования, преднамеренно доставляемые претендентам на наследство,
столь же несправедливы, сколь жестоки, и сопровождаются к тому же
оскорблениями и унижениями, соразмерными величине предполагаемого
наследства. Как только будущий наследник начинает подозревать, а тем более
демонстрировать уверенность, что упомянут в завещании, завещатель
немедленно ощущает соблазн вычеркнуть его оттуда; малейший намек на обязанность,
XII. О составлении завещаний
133
особенно если сам завещатель осознает ее как таковую, заставит его
приложить все усилия, дабы избежать признания своего долга в официальной
форме. Родственников обычно лишают наследства за вполне простительные
ошибки, отнюдь не за низкие поступки: мы наказываем, чтобы выместить обиду,
расквитаться за причиненное нам разочарование, за непослушание в мелочах;
каким бы скоропалительным и поспешным ни было наше решение, мы
твердо его придерживаемся и готовы вдвойне настаивать на исполнении нашей
воли в делах, вмешиваться в которые не имеем ни малейшего права.
Взыскания заслуживает не запятнанная репутация легкомысленного обидчика, но
рана, нанесенная нашему самолюбию. Преступления, пороки могут остаться
безнаказанными и даже незамеченными, но насмешку над нашими
слабостями или отказ потакать нашим прихотям мы будем помнить вечно. И будем
вечно мстить — не за чужую ошибку, а за свой собственный просчет. Это себя
не можем мы простить, а не кого-то другого. Из напечатанного в «Болтуне»
завещания Николаса Джимкрэка5, собирателя диковин, мы, среди всего
прочего, узнаем, что его старший сын лишен наследства, если не считать одной-
единственной ракушки, за непочтительное поведение, выразившееся, в
частности, в насмешках над заспиртованной отцом младшей сестренкой.
Другому родственнику досталась коллекция кузнечиков — по мнению завещателя,
такая награда — вполне достаточное признание его заслуг. В целом же
завещание упомянутого Николаса Джимкрэка, эсквайра, являет собой не только
любопытный документ, но и вполне достоверную картину ума достойного
собирателя редкостей, ныне почившего, чьи разнообразные причуды, мелкие
грешки и странные капризы разложены по полочкам столь же заботливо и
любовно, как крылья бабочек, ракушки и блошиные скелеты в стеклянных
шкафах*.
Завещание — последний штрих на полотне нашей жизни, а потому
зачастую именно оно навек запечатлевает для потомства наши ошибки и слабости.
Их сердце милый глас в могиле нашей слышит;
Наш камень гробовой для них одушевлен;
Для них наш мертвый прах в холодной урне дышит,
Еще огнем любви для них воспламенен6.
* Приведем этот документ полностью:
ЗАВЕЩАНИЕ СОБИРАТЕЛЯ РЕДКОСТЕЙ
Я, Николас Джимкрэк, пребывая в здравом уме, но страдая телесной немощью, своей
последней волей завещаю принадлежащие мне личные вещи и движимое имущество
следующим образом:
Imprimis [лат. — в первую очередь], моей дорогой супруге —
одну коробку бабочек,
один ящик ракушек,
134
Застольные беседы
Не стану говорить здесь о тех непомерных требованиях, которые иные
беспринципные люди предъявляют к своим потомкам, заставляя их
приводить в исполнение мстительные и зловещие планы, выношенные завещателем
при жизни: столь велико наше желание продолжать фарс (если не трагедию)
жизни, что, сходя со сцены, мы всеми правдами и неправдами стремимся
найти себе дублера. Так наши прихоти обретают бессмертие, странности
входят в пословицу. Вот потому-то завещатели порой требуют, чтобы
наследники приняли вместе с состоянием имя и титул прежнего владельца,
добиваясь в результате того, что имя продолжает звучать, и передают наследникам
свои имения, дабы имя произносилось с должным уважением. Весь сюжет
«Воспоминаний одной наследницы»7 строится на приписке к завещанию
дядюшки, в которой тот настаивает, чтобы будущий муж героини принял ее
женский скелет,
сушеного василиска.
Item [лат. — далее], моей дочери Элизабет —
рецепт сохранения дохлых гусениц,
а также весь запас майской росы8 и маринованных эмбрионов.
Item, моей младшей дочери Фанни —
три крокодильих яйца.
А при рождении ее первого ребенка, буде она выйдет замуж с согласия матери, она
получает гнездо колибри.
Item, моему старшему брату, в благодарность за земли, завещанные моему сыну
Чарлзу, я оставляю мою прошлогоднюю коллекцию кузнечиков.
Item, его дочери Сюзанне, единственной наследнице отца, завещаю я
гербарий английских сорняков на больших листах бумаги,
а также фолиант индийской капусты. <...>
Племянника моего Исаака я полностью обеспечил, передав €му несколько лет тому
назад
рогатого скарабея,
кожу гремучей змеи и
мумию египетского царя,
а посему согласно нынешнему завещанию вышеозначенный племянник не получает
ничего.
Моего старшего сына Джона за неуважительные речи о младшей сестре, которую я
держу подле себя в винном спирте, а также за многие другие случаи непочтительного ко
мне отношения я лишаю наследства и из всего принадлежащего мне имущества передаю
ему одну-единственную раковину моллюска.
Моему среднему сыну Чарлзу я завещаю и передаю в полное и единоличное владение
все мои цветы, травы, минералы, мхи, раковины, камни и окаменелости, жуков, бабочек,
гусениц, кузнечиков и гадов, за исключением вышепоименованных; а также всех моих
чудищ, как сушеных, так и заспиртованных; кроме того, назначаю упомянутого Чарлза моим
единственным душеприказчиком и вменяю ему в обязанность выделить вышеназванным
наследникам их долю имущества в течение шестимесячного срока после моей кончины.
Настоящим отменяю все прочие завещания, когда-либо прежде мною составлявшиеся.
(Tader. Vol. 4. № 216)
XII. О составлении завещаний
135
фамилию Беверли. Бедная Сесилия! Сколько неприятностей доставила ей
дядюшкина опрометчивость; какое множество бесконечных переживаний
смогла изобразить благодаря этому затруднению прекрасная романистка, к
вящему мучению читателя!
Во времена правления Карла II жил некий сэр Томас Дайот, который
завещал целый ряд домов по Дайот-стрит9 и ее окрестностях в Сент-Джайл-
зе10 на одном-единсгвенном недвусмысленно выраженном условии — что они
будут и впредь использоваться для тех же самых целей и тем же классом
людей. Их право занимать вышеупомянутые строения и по сей день никем не
оспаривается. Правда, на днях улица получила более благородное
наименование Джордж-стрит11, что заставляет опасаться возможного отчуждения
собственности. Сдается мне, сэра Томаса Дайота можно было бы причислить
к героям нации: он человеколюбив, щедр и, раз забрав себе что-либо в
голову, обязательно настоит на своем. Личность в своем роде незаурядная, он
лучше всех прокомментировал евангельский текст: «Лисицы имеют норы, и
птицы небесные — гнезда; а сын человеческий не имеет, где преклонить
голову» (Мф. 8: 20).
Одни демонстрируют оригинальность в выборе способа своего будущего
погребения, другие — места. Так, лорд Кэмелфорд завещал похоронить свои
останки под ясенем на склоне горы в Швейцарии; а сэр Фрэнсис Буржуа
соорудил для себя небольшой мавзолей в Далиджском колледже12, где ему
случилось однажды провести приятный денек в обществе профессоров и
служителей*. Такого рода просьбы, без сомнения, следует уважить, если,
конечно, нет никаких серьезных причин, не позволяющих выполнить
завещание покойного; ибо, не сдержав слово, данное умирающему, мы рискуем
подорвать доверие к нам живых. Есть и еще более сильный аргумент в пользу
исполнения завещаний: мертвым мы сочувствуем не меньше, чем живым, и
связывают нас с ушедшими навсегда самые священные узы — наше
собственное невольное сострадание ко всем людям.
Воры в качестве прощального дара оставляют друзьям добрый совет,
врачи — рецепт тайного снадобья, писатели — рукопись, повесы — исповедь своей
веры в добродетельность женщин, и все они на смертном одре несут
околесицу, свидетельствующую об их самовлюбленности и наглости. Казалось бы, что,
как не приближение смерти и не размышления о ней, может пробудить в
человеке разум и помочь ему постигнуть самого себя? Ничуть не бывало: мыс-
* Келлерман завещал похоронить свое сердце на поле близ Вальми, где в 1792 г.
произошла первая значительная битва, в которой союзники потерпели поражение13. О, если
бы сие благородное сердце могло дать побег, из которого вновь выросло бы и
распустилось пышным цветом древо Свободы, как куст базилика рос все выше и выше из
драгоценной головы возлюбленного Изабеллы!14
136
Застольные беседы
ли о смерти лишают его и той крохотной толики рассудка, что отпущена ему
природой, окончательно превращая в жертву собственных заблуждений и
близорукости. Одни полагают, что, раз уж им суждено быть повешенными, то
они имеют полное право разглагольствовать о системе поощрений и наказаний
в будущем. Другие до самого конца продолжают потакать своим причудам
или цепляться за предрассудки. И все и каждый отчаянно пытаются избежать
умственной работы, хватаясь за первый попавшийся каприз или нелепую
фантазию или же всецело отдаваясь во власть старых привычек и
привязанностей.
Старость — второе детство: на смертном одре человек вновь оказывается
в безраздельной власти своего семейства. Да у него и нет выбора: ведь воля
его ограничена набором избитых пословиц да приверженностью стародавним
обычаям. Так собственность, унаследованная нами от родственников,
потихоньку к ним же и возвращается. Противиться этому процессу — значит
нарушать как обычай, так и естественный закон. Понятие частной
собственности или совместного владения чем-либо не уживается с понятием дружбы, но
зато неотделимо от родственных отношений. Мы обязаны платить той же
монетой, даже когда не чувствуем признательности за оказанную нам
услугу, — и отписьшаем наше добро ближайшим родичам так же машинально, как
кладем голову на подушку, прежде чем покинуть этот мир в состоянии такого
же тупого изумления, в каком вступили в него!.. Caetera desunt*.
* Букв.: прочее отсутствует [лат.); здесь: На этом рукопись обрывается.
XIII
О НЕКОТОРЫХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ
В «ЛЕКЦИЯХ» СЭРА ДЖОШУА РЕЙНОЛДСА
В своих «Лекциях» сэр Джошуа преследует две основные цели: показать, что
высокое качество произведения изобразительного искусства обуславливается
скорее упорством, старанием и долгой практикой, нежели природным гением
художника, и что красоту, изящество и величие следует искать не в реальной
действительности, но в некой идее, существующей лишь в воображении. При
доказательстве обоих положений автор впадает в серьезные противоречия или
начинает рассуждать слишком расплывчато, вследствие чего сделать
конкретный вывод из его разнообразных рассуждений оказывается сложно. В данном
очерке я попытаюсь лишь сопоставить ряд абзацев, противоречивость которых
заставляет предполагать принципиальные изъяны в теории сэра Джошуа и
вызывает сомнения в возможности слепого доверия к его авторитету.
Начнем с первого из упомянутых положений, то есть с вопроса о природном
гении. В конце второй лекции, «О методе учения», сэр Джошуа замечает:
Однако существует одна заповедь, против которой обязательно будут
возражать люди тщеславные, невежественные и ленивые. Я не боюсь
повторять ее слишком часто. Нельзя целиком полагаться на собственный дар. Если
вы обладаете великими талантами, усердие разовьет их; если способности
ваши скромны, трудолюбие восполнит их недостаток. Нет ничего
недостижимого для разумно направленного труда, без него же ничего
невозможно. Не вдаваясь в философические рассуждения о природе или сущности
гения, осмелюсь утверждать, что усердие, не ослабленное трудностями, и
волевое усилие, направленное на желаемую цель, дадут результат,
аналогичный тому, какой некоторые считают доступным лишь для природного
дара2.
Вышеприведенная сентенция годится, судя по всему, только для того, чтобы
соблазнить надеждами на достижение совершенства тех учеников, у которых
нет шанса добиться успеха, и отпугнуть таких, которые видят единственную
138
Застольные беседы
основу и источник подлинного мастерства в страстном стремлении и порыве
природного дара. Ничем не подкрепленное трудолюбие может породить
только посредственность, а посредственность в искусстве не стоит трудов и
стараний. Гений, мощные природные силы породят и трудолюбие, и энтузиазм в
достижении объекта своих устремлений, но лишь в том случае, если вы не
отвлечете их с истинного пути в глубокую рутину механического труда. Ибо
таким образом можно свести на нет всю индивидуальность и сделать из
болвана педанта, а из гениально одаренного человека — убогого поденщика. Чего,
например, можно добиться, убедив Хогарта или Рембрандта не полагаться на
собственный гений, а посвятить все силы общему изучению различных видов
искусства и родов мастерства (с вероятностью успеха прямо
пропорциональной сумме усилий, приложенных в неверном направлении), кроме одного —
уничтожить обоих этих великих художников? «Отымая подпоры те, которыми
мой дом весь держится, вы целый дом берете!»3 Вы подрываете все здание
искусства, когда ударяете по главной его колонне: доверию и преданности
природе. Мы можем с таким же успехом посоветовать человеку не
разрабатывать обнаруженную им в своем имении серебряную или свинцовую залежь,
а обыкновенному фермеру — перекопать каждый акр арендуемой им земли
в надежде отыскать якобы зарытые там сокровища, как порекомендовать
человеку, наделенному подлинным даром, пожертвовать им ради изучения
правил искусства и подражания другим мастерам, а того, кто не обладает
незаурядными способностями, попытаться убедить в возможности восполнить
нехватку последних усердием и прилежанием.
Вскоре после вышеприведенных наставлений, в третьей лекции, обращаясь
к понятиям «вдохновение», «гений», «вкус», используемым критиками и
ораторами в разговорах об изобразительном искусстве, сэр Джошуа продолжает:
Таков пыл, с каким и в древности, и сегодня говорят о божественном
принципе искусства; но, как замечено мной ранее, восторженное восхищение
редко способствует развитию мастерства. Возможно, ободренный такой
похвалой ученик и загорится желанием пойти по этой великой стезе,
сосредоточит свое внимание на подобной цели. Но возможно и обратное:
сказанное с целью подвигнуть начинающего художника к работе может и
отпугнуть его. Внимательно исследовав свой ум, он не обнаруживает там
ничего похожего на то божественное вдохновение, которое, как ему
известно, сопутствовало столь многим творцам. Он же никогда не взмывал
к небесам в поисках новых идей и, следовательно, является обладателем
единственно тех достоинств, которые возникают из элементарной
наблюдательности и здравого рассудка. И вот начинающий художник мрачнеет
среди блеска образного красноречия и признает безнадежность попыток
преследовать цель, лежащую, по его разумению, за пределами
человеческих возможностей4.
XIII. О некоторых противоречиях в «Лекциях» сэра Джошуа Рейнолдса 139
Тем не менее очень скоро сэр Джошуа добавляет:
Четко определить составляющие этого великого искусства непросто, как
непросто описать словами верные средства для достижения вершин
мастерства — если допустить, что человека в принципе возможно научить
совершенству. Коль скоро существовала бы возможность обучить
художественному чутью или гениальности, они бы перестали быть
художественным чутьем и гениальностью5.
То есть здесь сэр Джошуа ставит под вопрос самую возможность
научиться совершенству в искусстве, хотя в отрывке, процитированном выше,
утверждал, что добиться результатов, какие обычно считаются доступными
природному дарованию, возможно при упорном прилежании и страстном
стремлении к желаемой цели. Или теория, которую автор пытается внедрить, — не
более чем обман, произвольное допущение? Сперва сэр Джошуа объясняет
безнадежность ученических попыток подняться к высотам мастерства
обескураживающим влиянием определенных метафоричных и натянутых
выражений, а затем тут же сомневается в самой принципиальной возможности
достигнуть совершенства в искусстве. Значит, автор призывает
начинающего художника надеяться вопреки очевидной безнадежности? Если последний,
«внимательно исследовав свой ум, не обнаружит там ничего похожего на
божественное вдохновение, которое, как ему известно, сопутствовало столь
многим творцам», но которого сам он не испытывал никогда и,
следовательно, для создания величайших произведений, рожденных гением и
воображением, имеет в своем распоряжении «единственно те достоинства, которые
возникают из элементарной наблюдательности и здравого рассудка», то
ведь он сразу же может отказаться от «вознесения на яркий небосвод
воображенья»;6 если сама идея божественной природы искусства отпугивает
художника, вместо того чтобы вдохновлять; если энтузиазм, с каким другие
говорят о ней, гасит пламя в его собственном сердце, то ему лучше просто не
вступать в соревнование, для успеха в котором ему не хватает главного:
смелости устремлений и надежды на победу. Он должен понимать свою
непригодность к данному поприщу. Самого сэра Джошуа не потрясли с первого
взгляда шедевры классической школы живописи, и создается впечатление,
что свою теорию он принял бессознательно с целью показать, что и сам мог
бы вполне преуспеть в высоком искусстве, когда бы не недостаток
должного прилежания. Его гипотеза призвана внушить заурядным читателям, что им
доступно всё доступное гению, и убедить гениального человека в том, что он
не может подняться выше уровня, достигаемого благодаря систематическим
занятиям и следованию механическим правилам. Это не вполне реальная
программа, и к тому же сэр Джошуа недостаточно ясен и точен в своих
рассуждениях в ее поддержку.
140
Застольные беседы
Говоря о Карло Маратти, он весьма примечательным образом признает
несостоятельность своей доктрины:
Карло Маратти добился больших успехов, нежели упомянутые мной выше
художники, и, думаю, превосходством своим он обязан широте взглядов:
кроме своего учителя, Андреа Сакки, художник подражал Рафаэлю, Гви-
до и обоим Карраччи. Да, действительно, в произведениях Карло
Маратти нет ничего особенно пленительного, но это результат недостатка,
целиком восполнить который нельзя ничем: я говорю о недостаточности его
дарования. В этом люди, конечно, неравны. Человек может приобрести
товары только в количестве, соразмерном капиталу, с которым он
отправился на рынок. Благодаря усердию Карло всё выжал из отпущенных ему
талантов; но художник этот, несомненно, отличается некой
тяжеловесностью, от которой в равной мере страдают и его воображение, и манера
письма, и рисунок, и цветовая гамма, и общий вид полотен. Ни в одной
своей картине Маратти не сравнялся ни с одним из выбранных кумиров
и привнес в искусство слишком мало собственной индивидуальности7.
Таким образом здесь Рейнолдс практически сдает свои позиции. В конце
концов, Карло попросту тяжеловесен; и всё его усердие, и все попытки
максимально реализовать свои силы не могли возместить недостаток
«природного дарования». В конкретном случае здравый смысл сэра Джошуа подсказал
ему истину, хотя иногда туманные общие теории сбивали его с толку.
Воздействие ложного принципа, однако, так велико, что в сознании художника
возникает явная тенденция искать для гения помощи и поддержки в творчестве
других мастеров, вместо того чтобы довериться собственному дару и
развиваться самостоятельно. Так, рассматривая в двенадцатой лекции способ
воспитания великих художников, сэр Джошуа вновь почти возвращается к
первому положению своей теории:
Каждодневную пищу и питание для ума художник должен находить в
великих творениях предшественников. Иного способа самому достичь
вершин мастерства для него не существует. Serpens, nisi serpentem comederit,
non fit draco*. По свидетельству современников, Рафаэль тщательно
изучал работы Мазаччо, и, конечно, никто другой (кроме Микеланджело,
которому он также подражал)** не был достоин столь пристального
внимания: пусть манера письма Мазаччо суховата и жестковата, композиция
* Змея должна пожрать другую змею, чтобы стать драконом8 (лат.).
** Как настойчиво даже в оброненном вскользь замечании сэр Джошуа исподволь
внушает читателю мысль о зависимости великого гения от творчества других мастеров,
словно без них он не достиг бы ничего!
XIII. О некоторых противоречиях в «Лекциях» сэра Джошуа Рейнолдса 141
формальна и, согласно обычаю мастеров раннего Возрождения,
недостаточно разнообразна, — тем не менее работам его присущи то величие и
простота, которые сопутствуют правильности и суровости манеры, а
иногда и прямо связаны с нею. Мы должны принять во внимание варварское
состояние искусства предшествующей эпохи, когда навыки рисунка были
так слабо развиты, что лучшие из художников даже не могли нарисовать
ступню в перспективном сокращении — в результате чего все фигуры
изображались словно стоящими на носках; при этом жестко выписанные узкие
складки одеяний придавали последним вид туго обмотанных вокруг тела
веревок. Мазаччо первым ввел просторную драпировку, ниспадающую
свободными и естественными складками; по-видимому, это и впрямь
первый художник, открывший путь ко всем высотам, коих искусство
живописи достигло впоследствии, и он по справедливости может быть признан
одним из великих отцов современного искусства.
Хотя в разговоре об этом великом художнике я уже сделал более
длинное отступление, чем намеревался, все же не могу не упомянуть о другом
особо выдающемся и ярком его достоинстве: он столь же выделялся среди
своих современников усердием и трудолюбием, сколь природными
свойствами ума. По свидетельству знавших его, все его внимание было поглощено
любимым искусством, и за полное равнодушие к своей одежде,
внешности и всем обыкновенным заботам и тревогам жизни он получил ласковое
прозвище Мазаччо9. Безусловно, творчество этого художника являет нам
показательный пример того, какого совершенства разумно направленное
усердие может достичь в самое короткое время: мастер прожил всего двадцать
семь лет, но за этот недолгий срок продвинул искусство живописи так
далеко по сравнению с его прежним состоянием, что является для своих
преемников выдающимся образцом для подражания. Вазари приводит
длинный список художников и скульпторов, которые формировали свои
вкусы и учились искусству живописи по работам Мазаччо; среди них он
называет Микеланджело, Леонардо да Винчи, Пьетро Перуджино,
Рафаэля, Бартоломео, Андреа дель Сарто, Россо и Пьерино дель Вага10.
Здесь сэр Джошуа снова колеблется между двумя точками зрения.
Перечисляя имена художников, сформировавшихся под влиянием стиля
Мазаччо, он не говорит нам, под чьим влиянием происходило формирование
самого Мазаччо. С одной стороны, природные свойства его ума были столь
же замечательны, сколь и трудолюбие; с другой — он являет всего лишь
показательный пример того, какого совершенства разумно направленное
усердие может достичь в самое короткое время. Потом, опять-таки, «это
первый художник, открывший путь ко всем высотам, коих искусство
живописи достигло впоследствии», хотя пример его творчества призван доказать,
142
Застольные беседы
что «каждодневную пищу и питание для ума художник должен находить в
творениях предшественников». Все эти рассуждения, конечно, весьма
неопределенны и неудовлетворительны.
В другой части работы сэр Джошуа делает попытку примирить и
обосновать эти противоречия с помощью парадоксального софизма, который, как
мне думается, обращается против него самого. Он говорит:
Я, напротив, убежден, что только подражанием (под которым, как он
только что объяснил, подразумевается изучение наследия других мастеров. —
Примеч. У. Хэзлитта) можно достичь разнообразия и оригинальности
замысла. Я пойду в своем утверждении еще дальше: даже гений — по
меньшей мере то, что называется этим словом, — есть дитя подражания. Но,
поскольку это положение противоречит общему мнению, мне придется
объяснить свою точку зрения, прежде чем настаивать на ней.
Под гением подразумевается умение создавать совершенные
произведения, не подчиняющиеся общепринятым правилам искусства, — умение,
которому не могут научить никакие наставления и которого нельзя
достигнуть никаким усердием.
Данная мысль о невозможности искусственно приобрести прекрасные
свойства, которые отмечают художественное полотно печатью гения,
кажется более твердо доказанной, нежели есть на самом деле; предполагается
также, что всегда существовало полное единодушие относительно того,
какие черты должны считаться характерными для гения. Но дело-то в том,
что степень совершенства, свидетельствующая о гении, в разные времена и
в разных странах неодинакова, подтверждением чему является то, как
часто человечество меняет свою точку зрения по этому вопросу.
На ранней стадии развития искусства одним из величайших достоинств
художника считалось достижение элементарного сходства изображаемого
предмета с реальным. Простые люди, не знакомые с принципами
искусства, и поныне придерживаются такого мнения. Но когда выяснилось, что
этому — и гораздо большему — может научиться любой человек, знакомый
с определенными правилами и приемами рисования, имя гения поменяло
свое значение и стало даваться только тому, кто наделял изображаемый
предмет неким своеобразием; тому, чьи творения отличались фантазией,
выразительностью, изяществом, величием — короче, теми свойствами или
достоинствами, научить которым не могут никакие известные и
возведенные в ранг закона правила.
Мы глубоко убеждены, что красота изображаемых форм, сила страсти,
искусство композиции, даже умение придать произведению общий дух
величия в настоящее время подчинены правилам живописи. До сих пор
перечисленные особенности рассматривались как свойственные лишь гению —
Х1П. О некоторых противоречиях в «Лекциях» сэра Джошуа Рейнолдса 143
и это верно, если показателем гениальности считать не вдохновение, но
тонкую наблюдательность и опыт работы11 (Лекция шестая).
Сэр Джошуа начинает со стремления доказать, что «гений есть дитя
подражания», но в конце концов приходит к тому, что показателем гениальности
является не вдохновение, а «тонкая наблюдательность и опыт». Общий смысл
этого утверждения как будто противоречит тому, что намеревался сказать
автор, ибо совершенно очевидно следующее: сущность гения целиком и
полностью заключается в оригинальности. Изображения одних и тех же
предметов гениальны или негениальны в зависимости от того, порождены они
собственной фантазией автора или возникли в силу простого подражания. В той
мере, в какой работа оригинальна, поскольку не имеет аналогов в прошлом, она
заслуживает название гениальной; когда же неоригинальна — то есть носит
признаки подражания или бездумного следования общепринятым правилам
живописи, — она гениальной не является и такого названия не заслуживает. Это
не вполне отвечает гипотезе о гениальности как о традиционном и
второстепенном качестве. Ежели, например, не особенно одаренный человек может
скопировать картину Микеланджело — следует ли отсюда, что в
оригинальной картине нет таланта или что создатель ее и копировщик равны по своим
способностям? Если, конечно, как пытается доказать сэр Джошуа, простое
подражание образцам и послушное следование установленным законам могут
дать результаты, равные тем, что доступны природным дарованиям; если
прогресс искусства как ученой профессии является постепенным, но непрерывным
накоплением индивидуальных совершенств, вместо того чтобы быть сперва
внезапным и почти сверхъестественно чудесным взлетом к высочайшей
красоте и величию, а потом неуклонным снижением до среднего уровня, — тогда,
конечно, вопрос о различии между гением и подражателем не стоит
разговоров и споров. Причины могут быть разными, результаты будут одинаковыми
или, вернее, умение использовать в своих целях некие внешние преимущества
окажется более важным и действенным, чем богатейшие внутренние ресурсы
художника. Но, как известно, все великие произведения искусства были
порождены тем или иным гением-одиночкой — либо опередившим общество по
уровню развития, либо проложившим себе особую дорогу; все остальное — лишь
напрасный труд. Каждый раз в поисках идеала или поучительного примера мы
возвращаемся к оригинальным мастерам, а не к их подражателям, якобы
совершенствовавшимся на высоких образцах. А если кто-либо из последователей
великих художников однажды и достиг высот мастерства или даже превзошел
своих предшественников, то это случилось не потому, что он слепо копировал
достоинства последних, но потому, что проявил новые, утонченные
собственные дарования, которые раскрываются благодаря силе ума конкретного
человека, а не под воздействием внешнего стимула, коим послужил пример пред-
144
Застольные беседы
шесгвенника и общие познания в области теории. Подражая, можно
действительно избежать крупных ошибок, но великого совершенства не достичь
никогда. Если гипотеза сэра Джошуа о поступательном развитии мастерства в
искусстве не сводится к пустому софизму, то почему возвращается он к Микел-
анджело как к глубоко почитаемому божеству; почему упрекает Карло Марат-
ти в тяжеловесности? Или почему заявляет столь же недвусмысленно, сколь
справедливо, что, «пребывая продолжительное время в пассивном состоянии,
воображение постепенно теряет способность к активному действию»?
Дабы еще раз обратить внимание читателя на непоследовательность
представлений сэра Джошуа о свойствах природного гения и искусственного
обучения, приведем его рекомендацию относительно предметов, достойных
честолюбия молодого художника:
Коротко говоря, совет мой заключается в следующем: основное внимание
уделяйте высшим образцам художественного мастерства. Овладев ими —
пусть даже ничем больше — вы уже станете первоклассным художником.
Можно будет сожалеть о ваших многочисленных недостатках; работы
ваши могут быть весьма несовершенны — но при этом вы все равно
останетесь несовершенным художником высочайшего порядка12.
Это в пятой лекции. В седьмой же автор как будто колеблется и бросает
тень сомнения на предыдущий тезис, отчего последний «несколько тускнеет»:13
Конечно, совершенство во второстепенном жанре разумно предпочесть
посредственности в высших сферах искусства. Пейзаж Клода Лоррена*
можно предпочесть историческому полотну Луки Джордано; но для того
чтобы судить о степени близости произведения искусства к идеалу,
необходимо глубокое знание сущности и задач каждого жанра14.
По мере продвижения вперед, однако, автор смелеет и в конце концов
начисто отвергает собственное положение об оценке художника по
значимости жанра, в котором тот работает. «Но все человечество единодушно, —
продолжает он, — предпочитает совершенство во второстепенном жанре
искусства ничтожеству и безвкусице в высшем». Это в разговоре о Гейнсборо.
Вся эта часть работы превосходна и, полагаю, решительно противоречит
теории безликого, искусственно созданного стиля живописи, на котором автор
так упорно настаивает во многих других случаях.
* Если бы сэр Джошуа получил предложение обменять Луку Джордано из своей
коллекции на Клода Лоррена, он бы недолго колебался, решая, какому из художников отдать
предпочтение.
ХШ. О некоторых противоречиях в «Лекциях» сэра Джошуа Рейнолдса 145
На этом основании, сколь бы ненадежным оно ни казалось, я возьму на
себя смелость предсказать, что двое из последних выдающихся
художников той страны — а именно Помпейо Баттони и Рафаэль Менгс, сколь бы
громко ни звучали их имена для нашего слуха в настоящее время*, —
очень скоро сползут в категорию художников, подобных Империалю,
Себастьяну Конча, Плачидо Констанце, Мазаччо и прочим своим
непосредственным предшественникам, чьи имена, хоть и столь же прославленные
при жизни, ныне, по сути, канули в полное забвение. Я не утверждаю, что
вышеназванные художники не превосходили мастера, о котором идет
речь** (и кончину которого мы ныне оплакиваем), в определенных
технических навыках письма, вызывающих у неискушенного зрителя
представление о продуманной композиции и некоем поверхностном сходстве с
работами их великих предшественников. Все это я прекрасно знаю; но
знаю я и то, что тот, кто стремится к истинной и долгой славе, должен
отказаться от банального метода, столь заметного в работах названных
выше живописцев. Меня лично, признаюсь, гораздо больше занимает и
пленяет мощная выразительность природы и характера, которую Гейнс-
боро передает в своих портретах и пейзажах, и привлекательная
незамысловатость и изящество его простых нищих детей, нежели любые работы
упомянутой школы со времени Андреа Сакки или, скажем, Карло Марат-
ти — двух художников, которых с полным правом можно назвать ultimi
romanorum***.
Я прекрасно понимаю, как сильно подставляю себя упрекам и
насмешкам академиков, предпочитая скромные попытки Гейнсборо работам
служителей великого исторического жанра. Но все человечество единодушно
предпочитает совершенство во второстепенном жанре искусства ничтожеству
и безвкусице в высшем15.
Однако всего только несколькими страницами ранее блестящий художник
и критик говорил в подтверждение своей теории:
По этой причине я прошу позволения изложить вам несколько мыслей на
затронутую тему, сделать мимоходом несколько намеков, способных
привести ваши умы к заключению (которое я признаю верным), что живопись
не просто не должна рассматриваться как имитация, построенная на
обмане, но что во многих отношениях она, строго говоря, вовсе не является и не
должна быть подражанием внешней природе. Возможно, живопись должна
* Писано в 1778 г.
** Гейнсборо.
*** последними римлянами [лат.).
146
Застольные беседы
так же далеко отстоять от пошлой идеи имитации, как далеко воспитанное
цивилизованное общество, в котором мы живем, отстоит от грубого
природного состояния. И о тех, кто не развил свое воображение (то есть о
подавляющем большинстве человечества), можно сказать, что они в своих
суждениях 66 искусстве остаются на том же низком уровне развития.
Такие люди предпочтут подражание (подражание природе. — Примеч. У. Хэз-
литта) совершенству, обращенному к иным свойствам ума, которыми они
не обладают, но живописец не должен оглядываться на этих людей, как не
должны мы в спорных вопросах морали и правил приличия ссылаться на
мнения обитателей берегов Огайо или Новой Голландии16.
Вопреки приведенному здесь утверждению, что «во многих отношениях,
строго говоря, живопись вовсе не является и не должна быть подражанием
внешней природе», в другом месте не менее выразительно сказано:
В природе надлежит видеть единственный неиссякаемый источник, из
которого рождаются все совершенства художника17 (Лекция четвертая).
Я не в силах примирить такое количество противоречий и считаю, что
начинающему художнику нелегко составить представление о простом и
разумном способе овладения искусством из всех этих противоречивых
авторитетных заявлений и отрывочных намеков.
Сэр Джошуа словно усвоил от других (Бёрка или Джонсона) ложное
метафизическое представление о превосходстве искусства над природой и
учености над гениальностью; против этого представления постоянно восставали его
здравый смысл и практические наблюдения, но освобождается он от него
только на миг, чтобы тут же снова впасть в прежнее заблуждение*. Заключение
двенадцатой лекции является, однако, торжествующим и неоспоримым
опровержением его собственного любимого парадокса о целях и задачах искусства.
Те художники (говорит сэр Джошуа с красноречивой правдивостью),
которые отказались от служения природе (то есть, если вдуматься, от
полной свободы) и доверились неизвестно какой капризной и фантастической
госпоже, которая заворожила их и полностью завладела их сознанием,
госпоже, из-под чьей власти нет никакой надежды их вызволить (ибо
* Сэру Джошуа самому не хватало академического мастерства и спокойствия в
деталях творчества. Из-за этих недостатков его, по-видимому, попеременно отталкивали
всякие теории и школы искусства, как простые и естественные, так и усложненно-научные. И
в раздражении против них всех сэр Джошуа постоянно ввергается в сплетения
противоречий, распутать которые весьма непросто.
ХП1. О некоторых противоречиях в «Лекциях» сэра Джошуа Рейнолдса 147
каждый абсолютно доволен своим положением и не сознает его
безнадежности), подобны ряженым из свиты Комоса, которые
Не замечают своего уродства,
Собой гордятся более, чем прежде18.
По-моему, человек, нашедший столь короткий путь, не имеет причин
жаловаться на краткость жизни и бесконечность искусства, поскольку жизнь
намного длиннее, чем необходимо для его совершенствования или для
претворения в действительность любого представления о совершенстве*.
Напротив, тот, кто постоянно возвращается к природе, с каждым разом
обновляет свои силы. Он наверняка не забудет правил искусства: их мало
и они просты. Но природа совершенна и изысканна, ее бесконечное
разнообразие выходит за пределы возможностей и способностей человеческой
памяти — вот почему необходимо постоянно обращаться к ней. В этом
общении становлению художника не будет конца: чем дольше он живет, тем
ближе подходит к истинной и абсолютной идее Искусства19.
* Перед этим автор говорил о Буше, директоре Французской академии, который
сказал ему, что «в молодости, изучая живопись, признавал необходимость использовать
модели, но теперь вот уже много лет, как от них отказался».
XIV
В ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАТОГО РАЗГОВОРА
Первый вопрос, занимающий сэра Джошуа Рейнолдса на протяжении всех
его «Лекций», следующий: должен ли начинающий художник смотреть на
природу своими собственными или же чужими глазами? И в целом автор
склоняется к последнему варианту. Другой принципиальный вопрос — что
понимать под природой? Является ли она общей абстрактной идеей или
совокупностью неких частностей? И автор энергично настаивает на первом
положении. Однако не всегда легко понять, насколько глубоко в его
представлении живет этот принцип и в пределах каких ограничений действует.
Первые ростки подобных мыслей об искусстве встречаются в двух
статьях сэра Джошуа в «Ленивце»1. В последнем абзаце второй статьи он говорит:
Раз доказано, что живописец создает прекрасное, воплощая неизменные
и общие представления ö природе, то, следовательно, уделяя внимание
мелким деталям и случайным частностям, он отклоняется от
универсального закона и оскверняет полотно уродством2.
В ответ на это я бы сказал, что уродство заключается не в многообразии
деталей и частностей, благодаря которым все сущее исполнено различий (ибо
в противном случае природа, состоящая из отдельных индивидуумов,
представлялась бы нагромождением одних изъянов), но в грубом нарушении неких
общих принципов, одинаково свойственных всему или почти всему. Так,
например, не существует на свете двух совершенно одинаковых или мало
отличных друг от друга носов, но, взятые каждый сам по себе, они все-таки остаются
красивыми; однако лицо вовсе без носа или с носом, полностью лишенным
детальной прорисовки (как у маски), будет уродливо и в искусстве, и в
природе. Создается впечатление, что к подобным рассуждениям на данную тему
сэра Джошуа привела либо двусмысленность терминов, либо односторонность
взгляда на природу. Автор предполагает, что величие произведения или цель-
XIV В продолжение начатого разговора
149
ность вызванного им впечатления достигается пренебрежением частностями,
которые порой абсолютно лишены величия или способности впечатлять, и
поэтому он считает общее и частное понятиями совершенно не
совместимыми и взаимоисключающими. Это крайне неудачное рассуждение. Если бы
величие произведения заключалось в простом отказе от изображения деталей,
тогда высокое мастерство было бы доступно каждому: в таком случае
величайший холстомаратель мог бы считаться величайшим художником. Маляр
или рисовальщик вывесок моментально вошли бы в список гениев наряду с
Микеланджело и стали бы свысока посматривать на сухую и жесткую
манеру письма Рафаэля, внимательного к деталям. На самом же деле величие
творения зиждется на неком особом внутреннем принципе, а не на отрицании
составных частей; величия нельзя достичь отказом от изображения деталей,
и оно вполне совместимо с тончайшей их прорисовкой. Художник, вообще
говоря, может тщательнейшим образом проработать одну за другой мелкие
частности какого-то предмета, но при этом полностью пренебречь
пропорциями, композицией, соотношением цветов, света и тени, более
непосредственно влияющими на впечатление от целого; или же, не погрешив в последнем,
то есть в соблюдении верных пропорций, расположении основных фигур и
распределении света и тени на холсте, может наметить изображаемые предметы
лишь простыми цветовыми пятнами, грубыми широкими мазками,
имеющими вид поспешно намалеванного фона. Художник может сделать либо первое,
либо второе — или же сочетать тонкую проработку деталей с правильным их
размещением в плоскости картины и сохранением должной подчиненности
частностей общей массе полотна и производимому им впечатлению. Если бы
величие целой композиции обуславливалось исключением из нее частностей
и степень величия находилась бы в прямой зависимости от полноты
исключения и от степени сходства туманного, неопределенного, затененного и
лишенного конкретики изображения с tabula rasa*, тогда не было бы никакой
опасности завести предложенный принцип слишком далеко, никакой опасности в
безоговорочном следовании теории сэра Джошуа во всех ее положениях. Но
ни одно из высказанных предположений нельзя признать верным. Самое
впечатляющее величие может преспокойно сосуществовать с совершеннейшей,
даже микроскопической точностью деталей — как мы часто наблюдаем в
природе; крайняя же небрежность и аляповатость едва ли наполнят очертания
предметов и цветовую гамму холста духом величия. Попытаюсь пояснить свою
мысль на примерах. Мне доводилось и видеть, и копировать портреты кисти
Тициана, в которых брови были изображены крохотными штришками
толщиной с волос, собственно, были воспроизведены даже отдельные составляющие
их волоски — но разве подобная прорисовка этих деталей исказила истинную
* чистой доской (лат.).
150
Застольные беседы
форму бровей или нарушила огромное впечатление от работы? Величие,
характер модели, выражение лица сохранились в полной мере, ибо общая
форма — дуга или прямая линия — осталась ненарушенной, как было бы и в том
случае, если бы брови изображались просто двумя широкими мазками кисги.
Тонкая прорисовка составляющих деталей и проработка текстуры только
добавили изящества и достоверности к поразительному общему впечатлению от
картины. Да, с помощью определенного числа как попало разбросанных
крохотных точек или штрихов можно изобразить круг или квадрат, но при этом
круг или квадрат (то есть большая фигура) все равно останутся кругом и
квадратом, независимо от того, прерывиста линия их контура или непрерывна —
как это видно на гравюрах, где общие контуры, черты и массы черного, белого
и серого остаются неизменными при всем разнообразии типов гравюр: меццо-
тинто, точечных или линейных. Если бы Тициан при прорисовке отдельных
волосков нарушил форму и очертания бровей, то он погрешил бы против
истины, но, полностью сохранив и первое и второе, художник только еще
лучше передал оригинал. Так что при распределении света и тени многообразие
изобразительных приемов, нежная прозрачность и зыбкие переливы
оттенков не исключают величайшей свободы композиции и смелости контрастов.
Если, например, одна сторона лица модели ярко высвечена, а другая
погружена в густую тень, то не помешает проявить скрупулезность при
проработке различных характерных деталей — как в рисунке, так и в цвете, — и если
только не отступить слишком явно от природы, подобная точность письма не
уничтожит и не может уничтожить силу и гармонию композиции. Добившись
решительного контраста между затененной стороной лица и освещенной, вы
вольны прорисовать второстепенные подробности в любом количестве и с
любой степенью точности. Представьте себе изображение леопарда в солнечный
день. Неужели ради свободы композиции и размаха кисти придется
отказаться от изображения пятен на шкуре зверя — или же необходимый эффект
достигается как раз посредством прорисовки пятен с одной стороны шкуры так,
как они видны на свету, а с другой — так, как они выглядят в естественной
тени? Таким образом соотношение света и тени полностью сохраняется и нет
никакого отступления от истины и природы. Во всем остальном правильное
распределение света и тени достигается за счет цвета предметов. Игра
светотени, величие существуют и в реальной природе с присущими ей
локальными различиями цветовых оттенков. И однако, сэр Джошуа утверждает, по-
видимому, что величие и сила впечатления от целого объекта исходят из
общей идеи, живущей в человеческом сознании, а все ничтожное и частное
свойственно природе. Это принципиально ошибочный взгляд на положение
вещей. В природе великое и общее всегда сочетается с мелкими деталями, то
есть с тем, что наш теоретизирующий резонер определяет как «ничтожное и
частное»; так же должно быть и в искусстве — пока оно благоразумно и с
XIV В продолжение начатого разговора
151
пользой следует природе. В чем недостаток манеры Деннера?3 Да в том, что
художник не дает верного соотношения разных качеств и представляет
односторонний взгляд на природу; в том, что он не связывает отдельные
частности и искусную доводку произведения, своеобразие внешних черт с общим
результатом, с правдивостью и характером целого, за тончайшей
прорисовкой каждой детали полностью забывая о куда более важном и значительном
общем виде изображаемого объекта, как он существует в природе. Деннер
скрупулезно выписывает каждую деталь портрета, но при этом форма лица,
его выражение, распределение света и тени в целом ошибочны и крайне
далеки от естественного. Он выдает бесконечное разнообразие оттенков, но они
не похожи на оттенки человеческой кожи и не подчиняются никаким
законам светотени. В этом принципиальное отличие Деннера от Рембрандта или
Тициана. Английской школе живописи, следующей теории сэра Джошуа, не
свойственны ни тщательная прорисовка отдельных частей, ни целостность
общего впечатления; ее работы представляют собой некие бесформенные
нагромождения объектов, где нельзя ничего разобрать или постичь смысл.
Художники английской школы пишут не так, как Деннер, и полагают, что
писать не так, как он, уже значит писать как Тициан или Рембрандт. Не знаю,
сочтут ли английские художники за комплимент предположение о том, что
они подражают природе. Надо признать, кое-кто из живописцев недавнего
прошлого «пытался до некоторой степени изжить сей недостаток. О, пусть
они изживут его окончательно!»4 Я уверен, они бы так и сделали, если б
могли; но не вполне уверен, что могут.
Прежде чем вернуться к рассмотрению вопроса о зависимости красоты и
величия от выбора формы, процитирую несколько абзацев из сэра Джошуа,
в которых идет речь об изображении конкретных объектов
действительности. В третьей лекции автор замечает:
Здесь надо добавить, что сама действительность не должна
воспроизводиться на холсте с излишней точностью. <...> Простой подражатель
природы никогда не сможет создать ничего великого, никогда не сможет
возвысить и расширить представления о мире или согреть сердце зрителя.
Стремление подлинного художника должно простираться дальше: вместо того
чтобы забавлять зрителей скрупулезной точностью и детальностью своих
имитаций, он должен пытаться облагородить человеческую душу
величием своих идей; вместо того чтобы искать похвал, обманывая неразвитый
вкус зрителя, он должен стремиться к славе, пленяя воображение5.
Из приведенного отрывка, похоже, следует, что в природе нельзя найти
ничего, кроме незначительных частностей и поверхностного впечатления; в
ее школе ничего великого нет, поскольку следующий за природой художник
152
Застольные беседы
не в состоянии сотворить ничего великого, ничего способного «расширить
представления о мире или согреть сердце зрителя».
Адам суровый! Как твои уста
Столь горькие слова произнесли?6
Всё истинно великое и совершенное — плод воображения,
бессодержательное создание из «ничего», чистый результат пренебрежения
незначительными частностями природных объектов, презрения к этим частностям.
И снова сэр Джошуа безапелляционно заявляет:
Красота и величие искусства заключаются в способности подняться над
всеми единичными формами, местными традициями, характерными
особенностями и деталями любого рода7.
Тем не менее на странице 82 мы наталкиваемся на совершенно иную
точку зрения:
Я с готовностью допускаю (пишет автор об историческом жанре в
живописи), что некоторые мелкие детали и характерные черты нередко
привносят в произведение дух истины и способны привлечь самое пристальное
внимание зрителя. Следовательно, такие художественные подробности нельзя
полностью отвергать; но если в Искусстве и есть что-то, требующее особой
тонкости чутья, так это умение верно расположить упомянутые частности,
которые, в зависимости от разумности отбора, могут оказаться как
чрезвычайно полезны для придания произведению правдивости, так и крайне
пагубны для его величия8.
Это правда, но бурный выпад против всех «характерных особенностей и
деталей любого рода» явно уже забыт автором. Неопределенность позиции
сэра Джошуа в вопросе о несовместимости целого и частного ярко проявилась
в двух коротких отрывках, следующих один за другим через две страницы.
Рассуждая о некоторых картинах Паоло Веронезе и Рубенса, отмеченных
величайшим мастерством и единством стиля, наш автор добавляет:
Этим, и только этим, механическая мощь облагораживается и
поднимается намного выше своего естественного уровня. И мне кажется, что она
приобретает подобный характер по справедливости, как пример того
превосходства, которое ум имеет над материей, заключая в единое целое
разнородные творения природы9.
Отсюда напрашивается вывод о том, что принцип единства и целостности
существует только в человеческом сознании, тогда как природа есть скопле-
XIV. В продолжение начатого разговора
153
ние разрозненных, не связанных между собой частностей, хаос единиц и
атомов. Но буквально страницей далее мы встречаем следующее суждение:
Поскольку живопись является искусством, они (невежды) считают, что
наслаждение их тем сильнее, чем больше это искусство выпирает, и,
следовательно, предпочтут точность, искусную отделку и яркую расцветку
произведения правде, простоте и целостности природы10.
Прежде точность и искусная отделка признавались нужными лишь для
передачи «ничтожного и частного» в природе; здесь же характерными
чертами природы выступают правда, простота и целостность. Вскоре вслед за
этим сэр Джошуа говорит:
Очень жаль, если все вышесказанное будет понято как некое стремление
поощрить ту небрежность, которая свидетельствует о незавершенности
работы. Я ничего не хвалю за недостаток точности, но хочу просто указать,
какого рода точность предпочтительна и какая может считаться
единственно ценной11.
Подобная точность, как уже сообщил нам сэр Джошуа, заключается в
способности подняться над всеми «характерными чертами и деталями
любого рода». И еще одно утверждение:
Напрасный труд — добиваться разнообразия оттенков, если при этом не
выдерживается общий тон; или отделывать с предельным тщанием какие-
то части полотна, если не соблюдено соотношение света и тени или
недостаточно хорошо скомпоновано целое12.
Совершенно верно. Но к чему обязательно предполагать, что две эти
способности художника между собой не согласуются?
В те времена манера Тициана была новой для мира, но благодаря
лежащей в ее основании непоколебимой правдивости она стала образцом для
всех последующих поколений художников; и при исследовании тайны его
мастерства выясняется, что оно заключалось в силе обобщения, в
небольшом наборе и простоте выразительных средств13.
На самом же деле совершенство Тициана заключается одновременно и
в силе обобщения, и в индивидуализации. Если бы художника отличала
только первая особенность, было бы трудно объяснить заблуждение,
отмеченное сэром Джошуа непосредственно вслед за вышеприведенным. В
следующем же абзаце он пишет:
154
Застольные беседы
Многие художники, как замечает в том числе и Вазари, невежественно
воображали, что подражают стилю Тициана, когда не меняют первичные
цвета и пренебрегают прорисовкой деталей; но, не соблюдая принципов,
которыми руководствовался в своем творчестве великий мастер, они
создавали, как он их называл, goffe pitture — то есть нелепые, глупые картины14.
Многие художники тоже воображали, что следуют наставлениям сэра
Джошуа, когда поступали точно так же, а именно пренебрегали детальной
прорисовкой и создавали в результате такие же бессодержательные
банальности, нелепые, глупые картины.
Приведу еще только два коротких отрывка и покончу с этой частью
темы. Мне хочется противопоставить идеям сэра Джошуа его собственное
авторитетное суждение:
Сейчас меня больше всего волнует обоснование преимуществ данного
метода рассмотрения объектов (как целого). В то же время я не забываю, что
художник должен обладать даром как сужения, так и расширения
взгляда на вещи, ибо тот, кто вовсе не выражает частного, не выражает
ничего. Могут все же утверждать с полной определенностью, что тонкое
выявление незначительных черт целого и педантичная, пусть и превосходная,
их прорисовка (я не стремлюсь умалить ее значение) никогда не сделают
из художника подлинного Гения15.
А на странице 53 мы находим следующее высказывание:
Нет такой человеческой фигуры, животного или даже неодушевленного
предмета — сколь бы малоприглядным ни казался их внешний вид, —
которые кисть гениального художника не могла бы возвысить, в которые не
могла бы вдохнуть благородство, наделить чувством и заставить волновать
зрителя. О Вергилии говорили, что, даже удобряя навозом землю, он
сохранял благородное достоинство16, и эти же слова можно целиком
отнести к Тициану: любой попавший в поле его зрения объект — пусть
незначительный по роду своему и привычно знакомый — он самым волшебным
образом наделял величием и глубоким смыслом17.
Нет, не с помощью волшебства, но посредством поиска и выявления в
индивидуальной природе изображаемого объекта (наряду с деталями
любого рода) того изящества, величия и целостности, которые сэр Джошуа считает
не более чем порождением ума живописца. Тициану было свойственно,
полагаю, передавать общее впечатление, но при этом наделяя объект
индивидуальными чертами и особенностями. Теория сэра Джошуа слишком часто
и настойчиво стремится разделить общее и конкретное как противоположные
друг другу понятия и тем самым исключить или поставить под вопрос воз-
XIV. В продолжение начатого разговора
155
можность сочетания силы воздействия с детальной точностью сходства,
сочетания, в котором заключается смысл здорового искусства (в той мере, в
какой это касается имитации).
Далее. Поскольку сэр Джошуа обнаруживает склонность жертвовать
деталями конкретного объекта ради общего эффекта, постольку он намерен
свести всю красоту и величие естественных объектов к усредненной форме
или абстрактной идее определенного рода, с тем чтобы исключить все
особенности и отклонения от выбранного стандарта как нечто недостойное кисти
художника и оскверняющее его холст уродством. Если изложенный выше
принцип разрушает любую точность, цельность в изображении отдельных
объектов — то этот уничтожает все разнообразное, непохожее и характерное
в широчайшем масштабе действительности. В природе существует принцип
соответствия или общности черт среди множества особей одного класса, но
также действует и принцип контраста (различия и тождества), который не
менее важен в системе мироздания и в структуре наших представлений о
природе и искусстве. Едва ли сэр Джошуа стал бы сводить все оттенки радуги
к грязно-серому цвету как к среднему или усредненному. Зачем же тогда
сводить все черты, формы и т. п. к скучному однообразию? Конечно, автор
сознает невозможность применить свою теорию к вопросам цвета, но
упорно настаивает на ее состоятельности в области форм и концепций искусства, —
в области, в которой познания его довольно скромны, а авторитет более чем
сомнителен. Не стану доказывать здесь несостоятельность теории средней
формы (как эталона вкуса и красоты) в применении к чертам
человеческого лица и фигуры или к другим объектам органической природы, хотя,
полагаю, и в этих случаях тяготение к средней форме является лишь одним из
многих принципов или условий красоты. Хочу, однако, заметить, что сия
теория вовсе не соотносится с другими важными характерными чертами
живописного произведения, то есть с цветовым решением, общим
настроением, выразительностью и величием замысла. Сэр Джошуа сам утверждает, что
«среди всего разнообразия представителей одного вида прекрасна средняя, или
усредненная, форма особи», и заявляет, что величие — то же самое
воплощение общего в индивидуальном. Отсюда напрашивается вывод об
идентичности понятий красоты и величия, но вывод этот противоречит истине, а
следовательно, истине противоречит и вышеприведенное положение. По моему
мнению, величие должно предполагать нечто возвышающее и расширяющее
сознание, то есть главным образом мощь или значительность. Красота же есть
нечто смягчающее и умиротворяющее душу, и кроется она в определенной
гармонии, мягкости форм, в их плавном перетекании друг в друга,
закономерном для наших привычных ассоциаций или традиционных представлений, но
не вполне независимом от многих других факторов. В разговоре о Микелан-
джело (рассматриваемом как образец великого, возвышенного стиля) наш
критик сам признает:
156
Застольные беседы
<...> его герои принадлежат к высшей породе существ; ни в них самих, ни
в образе их действий, осанке и манерах, ни в сложении, ни в чертах лица
нет ничего, что напоминало бы о принадлежности к нашей породе.
Воображение Рафаэля не столь возвышенно: его персонажи не так сильно
выпадают из нашей ничтожной породы, хотя идеи его чисты, благородны и
полностью согласуются с вызвавшими их субъектами. Работы Микелан-
джело замечательны силой, своеобразием и резким отличием от всех
иных; они словно целиком и полностью рождены умом художника — умом
настолько богатым и щедрым, что он никогда не искал посторонней
помощи и как будто бы пренебрежительно относился к ней. Сюжеты же
Рафаэля в основном заимствованы, хотя благородством своих полотен он не
обязан никому18 (Лекция пятая).
Как согласуется вышеприведенное утверждение с любимой теорией автора
о том, что величие, красота и совершенство заключаются в приближении к
усредненной форме или привычным представлениям среднего зрителя,
отклонение от коих рождает уродство и убожество? Персонажи Микеланджело
вознесены над жалким родом человеческих существ, однако, по общему
признанию, являют собой некий стандарт возвышенности для внешнего
облика человека. В этом случае величие, стало быть, допускает выход за
пределы наших обычных представлений, и «сила, своеобразие, особенность,
каковые Микеланджело придал своим творениям», этого величия не
подрывают. Таковы факты вопреки доктрине. Я бы скорее согласился с мнением сэра
Джошуа о достоинствах и отличительных особенностях той или иной
картины, нежели принял его абстрактную метафизическую теорию. Наш мастер
также постоянно говорит о предметах искусства высоких и низких. Однако
согласно его положению о том, что эталон красоты заключается в
максимальной близости к усредненной форме данного вида и что сами по себе все виды
одинаково прекрасны, никакого разграничения между высоким и низким
существовать не может. Художник, специализирующийся в рисовании цветов,
морских раковин или чего угодно другого, может быть поставлен наравне с
Рафаэлем или Микеланджело при условии, что он соблюдает родовую или
традиционную форму изображаемого предмета; остальное, как следует из
вышеприведенного определения, совершенно не важно. Стало быть, должно
существовать нечто помимо усредненной или привычной формы, нечто,
позволяющее говорить о достоинстве, о высоком и низком стилях в природе и
искусстве. Как известно, фигуры Микеланджело необычайно величественны;
почему же, согласно тому же правилу, фигуры Рафаэля нельзя назвать
необычайно прекрасными, наделенными необычайной мягкостью, симметрией
и грацией? Еще меньше внимания данная теория уделяет характерному и
выразительному. Все характерное объясняется отступлением от обычной фор-
XIV В продолжение начатого разговора
157
мы, а выразительность, без колебаний заявляет сэр Джошуа, уничтожает
красоту. Потому он и говорит:
Если вы намерены сохранить самую совершенную красоту в ее самом
совершенном состоянии, вы не должны изображать на холсте страсти, любая
из которых так или иначе исказит и изуродует самое прекрасное лицо19.
И продолжает:
Из-за неумения приспособить сюжет к своим представлениям и
способностям или из-за попыток сохранить красоту там, где сохранить ее было
невозможно, Гвидо очень мало преуспел в этом отношении. Его
персонажам зачастую не хватает выразительности, необходимой по сюжету;
впрочем, его Юдифь и Олоферн20, дочь Иродиады с головой Крестителя21,
Андромеда22 и даже некоторые из Матерей Невинных23 чуть более
выразительны, нежели Венера, которую одевают Грации24.
Какая критика творчества Гвидо! И какое осуждение собственной теории,
стремящейся свести все действительно великое и достойное восхищения в
искусстве к пресному, безжизненному стандарту, отбрасывая как не имеющее
права на существование все, что не соответствует средней, усредненной
форме! Однако о Хогарте сэр Джошуа судит как о художнике, отклоняющемся
от упомянутого стандарта, а не как о преуспевшем в изображении
индивидуальных черт, каковое наш критик допускает и терпит лишь в той мере, в
какой индивидуальное отмечено печатью общего; и он может порицать Ми-
келанджело и Рафаэля — одного за величие, другого за выразительность, ибо
ни один из них не отвечает его представлению о подлинном совершенстве.
Здесь я хочу остановиться и заметить, что в разговоре о характерности и
выразительности греческих статуй сэр Джошуа занял весьма странную позицию.
В одном месте он пишет:
Не могу закончить обсуждение статуи Аполлона, не высказав замечания,
касающегося характерной особенности представленной фигуры.
Предполагается, что Аполлон только что выпустил стрелу в Пифона25 и теперь,
судя по легкому наклону головы к правому плечу, внимательно наблюдает
за ее полетом. Хочу обратить внимание на различие между выражением
лиц Аполлона и Дискобола — последний тоже наблюдает за полетом
своего диска. Изящество, небрежность и оживленность одной скульптуры,
сопоставленные с обыкновенным пылом другой, дают нам пример тонкого
понимания древними скульпторами различий в изображаемых характерах.
Обе фигуры в равной мере соответствуют действительности и в равной
мере восхитительны26.
158
Застольные беседы
После нескольких замечаний об ограниченности изобразительных средств
в скульптуре и об игнорировании древними мастерами практически всего,
кроме формы, автор предлагает нашему вниманию следующее размышление:
Полагающие, что скульптура способна выразить больше, чем мы
признаем, могут спросить, каким образом мы с первого взгляда постигаем
характер, представленный в бюсте, камее или гемме? Полагаю, тот, кто
решительно отказывается видеть больше, чем видит на самом деле, при
ближайшем рассмотрении обнаружит, что фигуры скорее можно различить
по неким вещественным признакам, нежели по разнообразию форм и
видов красоты. Отнимите у Аполлона его лиру, у Вакха — жезл и
виноградные лозы, у Мелеагра27 — голову вепря — и между ними останется мало
различий или вовсе никаких. При изображении Юноны, Минервы или
Флоры замысел художника, по всей видимости, не идет дальше
воплощения совершенной красоты с последующим дополнением скульптурного
изображения необходимыми атрибутами при полном безразличии к
индивидуальности каждого персонажа.
(Куда же делось «тонкое понимание различий в изображаемых характерах»,
за которое наш автор только что хвалил античных мастеров?)
Так, по завершении скульптурной композиции, которая изображает
молодого человека, держащего на руках девушку, и лежащего у его ног
старика, Джованни да Болонья собрал своих друзей, с тем чтобы они помогли
ему придумать название для скульптуры, и с общего согласия она была
названа «Похищение сабинянок»; эта знаменитая скульптура ныне стоит
перед Старым дворцом28 во Флоренции. Составляющие ее фигуры
отличаются тем самым общим выражением, характерным для большинства
античных статуй, и тем не менее вполне вероятно, что будущие критики
найдут в нем тонкую выразительность, каковую художник и не
подразумевал в процессе творчества, и зайдут так далеко, что усмотрят в лице
старика точно переданное его чувство к девушке, которую у него как будто
отнимают29.
Похоже, теория сэра Джошуа покоится на некой наклонной плоскости и
всегда рада предлогу соскользнуть от суровости правды и природы в более
мягкие и спокойные области пустоты и бессодержательности. Прошу
прощения за эти слова, но уж такое у меня создается впечатление.
Признаюсь, мне представляется самоочевидной истиной, что разнообразие
или контраст — столь же существенный принцип в искусстве и природе, как
и единообразие, и не менее необходим для гармонии мироздания и
удовлетворенности человеческого сознания. Кто захочет уничтожить переменчивость
XIV. В продолжение начатого разговора
159
и подвижность света и тени, резкое, живое противопоставление разных
цветов в пределах одного или нескольких предметов — прожилки цветка или
испещренный пятнами кусок мрамора — дабы свести все это многообразие к
одному мертвому цвету, нейтральному, усредненному оттенку? Но ведь
именно исходя из этого принципа сэр Джошуа хочет избавиться от разнообразия,
выразительности, характерности и живописности художественных форм или
по меньшей мере определять ценность или ненужность их в соответствии со
степенью приближенности этих форм к заданному или среднему стандарту.
Безусловно, природа куда свободнее, а искусство куда шире теории сэра
Джошуа. Допустим на минуту, что все формы сами по себе нейтральны и что,
следовательно, красота или приятность форм могут возникнуть только из
привычных представлений или из соответствия среднему стандарту, к
которому все они тяготеют, — однако это правило оказывается неприменимо к
другим вещам. Предположим, что форма воздействует на сознание только в
случае ее тождественности традиционным представлениям, — но этого нельзя
сказать о понятиях силы или величия. Никто не может отрицать, что понятие
силы воздействует на сознание, внушая ему благоговение и восхищение. Иначе
говоря, силу и слабость, величие и убожество нельзя назвать нейтральными
сущностями, высшее проявление которых состоит в среднем значении двух
противоположных понятий. И выразительность опять-таки не является
качеством самим по себе нейтральным, ценность или интерес которого
обуславливаются его соответствием среднему стандарту. Кто станет усреднять
выражение удовольствия и боли? Или скажет, что человеческие страсти — жалость,
любовь, радость, печаль и т. п. — интересны для воображения и достойны
внимания художника лишь постольку, поскольку тот может свести их к
некоему двусмысленному состоянию, которое не сводимо ни к приятному, ни к
болезненному, ни к одной крайности, ни к другой? Кто бы отказался от
высшей степени утонченности, точности и силы в обрисовке этих состояний?
Идеальное выражение не может быть нейтрально, оно отличается крайней
напряженностью. Характер же художественного произведения определяется
его своеобразием, поразительными контрастами, отличительными
особенностями, а не монотонностью. Это утверждение, разумеется, противоречит
исключительной теории сэра Джошуа, однако безусловно дает пищу для
любопытных и интересных размышлений. Живое, одухотворенное своеобразие —
вот источник наслаждения для любителя природы и искусства — источник,
которого не было бы, когда бы вся правда и совершенство состояли в
отбрасывании индивидуальных черт. Идеальное по характерности произведение — не
какое-нибудь общее место, но последовательно представленная в виде
исторической картины или портрета совокупность согласных меж собою черт.
Историческая правда живописного полотна заключается в придании чертам лица
и мускулам тела движения, логичного для конкретной ситуации.
160
Застольные беседы
Живописность при этом зависит от особенностей и качеств объекта,
отклоняющихся от средней линии красоты и привлекающих взор зрителя.
Однако я не намеревался самолично пускаться в теоретические рассуждения, а
лишь хотел подтвердить ощущения, подсказанные здравым смыслом в
отношении вопросов искусства, ссылаясь на разбросанные в разных местах
собственные признания сэра Джошуа. В десятой лекции, говоря о некоторых
недостатках статуи Аполлона, сэр Джошуа изрекает следующие
замечательные слова:
Что касается последнего возражения (заключающегося в том, что нижняя
часть туловища длиннее, чем допускается традиционными пропорциями),
надо помнить, что Аполлон представлен здесь в минуту, когда проявляется
одна из главных его способностей, а именно стремительность движений;
поэтому здесь соблюдена та пропорция, которая наилучшим образом
отражает эту особенность. В данном приеме скульптора не больше
неправильности, чем в наделении Геркулеса чрезвычайно развитой и мощной
мускулатурой30.
Следовательно, сила и движение не зависят от средней формы; ею
приходится жертвовать при изображении этих способностей. Таким образом, в
античной и классической школе искусств характерности дозволяется не
только быть неотъемлемой частью произведения, но даже оттеснять в сторону
отвлеченную идею красоты и превосходить ее по важности. Точно так же
можно оправдать Хогарта, который с мрачной решимостью утверждал, что,
доведись ему ваять Харона, он сделал бы тому ноги колесом, так как
моряки обычно кривоноги. Очень просто рассуждать об отвлеченной идее
человека или бога, но когда вы оказываетесь перед попыткой вразумительного ее
воплощения, вам необходимо либо конкретизировать и уточнить данную
идею, либо вовсе ее отвергнуть.
Сэр Джошуа довольно пространно размышляет на эту тему в третьей
лекции:
Против выдвинутого мной принципа, гласящего, что понятие красоты в
пределах каждой породы существ является величиной неизменной,
можно возразить, что в каждой конкретной породе существует множество
усредненных форм — весьма отличных друг от друга и совершенно
самостоятельных — которые, несмотря на это, считаются бесспорно
прекрасными; можно сказать, что для человеческой фигуры, например, красота
Геркулеса — это одно, а красота Гладиатора, а тем более Аполлона — совсем
другое, из чего вытекает множество разных представлений о прекрасном.
Действительно, каждая из этих фигур (хотя и отличается от других
характером и пропорциями) в своем роде совершенна, но все же являет собою
XIV. В продолжение начатого разговора
161
не единичный пример, а целый класс. И так же как для всего
человеческого рода существует один средний тип, так и для каждого из названных
выше классов существует одно общее представление, являющееся
абстрактным воплощением разнообразных индивидуальных форм этого класса. И
хотя все дети и все взрослые внешне сильно различаются между собой,
существует некий общий образ ребенка и общий образ взрослого
человека, которые тем более совершенны, чем меньше содержат частных
особенностей. Но далее следует добавить, что хотя наиболее совершенные
формы любого из общих типов человеческой фигуры идеальны и являются
высшими для каждой отдельной формы данного класса, ни одна из них
не воплощает высшего совершенства человеческой фигуры. Оно не явлено
ни в Геркулесе, ни в Гладиаторе, ни в Аполлоне — но присутствует в той
форме, которая сочетает в себе заимствования у всех трех: энергию
Гладиатора, изящество Аполлона и физическую силу Геркулеса. Ибо
совершенная красота любого вида должна сочетать в себе все характерные
черты, признанные прекрасными для данного вида. Совершенство не
может выражаться в одном характерном свойстве в ущерб другим, и,
следовательно, ни одна из черт не может ни преобладать над остальными, ни
оказаться недостаточно развитой31.
Здесь сэр Джошуа предполагает, что разнообразие классов и характеров
обязательно должно согласовываться с ведущей общей идеей средней формы.
Средняя форма не должна сводить возраст, пол, обстоятельства к огульной
абстракции; мы обязаны ограничивать общую идею определенными
специфическими различиями и характерными чертами, относящимися к
второстепенным уровням и подразделениям внутри каждого класса. Достаточно показать,
что наравне с абстракцией от произведений искусства, как от самой природы,
неотделим принцип индивидуальности. Один человеческий образ следует
отличать от другого: женщину от мужчины, взрослого от ребенка,
задумчивость от веселости, силу от нежности. Перечислять можно до бесконечности.
Но сэр Джошуа в том же самом абзаце противоречит себе, говоря:
Нет, мы должны объединить силу Геркулеса с изяществом Аполлона, ибо
красота любого вида должна сочетать в себе все характерные черты,
признанные прекрасными для данного вида.
Но если наделенные этими чертами существа прекрасны сами по себе, то
почему бы не предоставить им возможность существовать самостоятельно в
их наиболее замечательных проявлениях, вместо того чтобы сглаживать их
характерные черты и сводить образы к некой нейтральной форме,
результатом чего является компромисс, а не гармоничный союз различных
совершенств. Если любой избыток красоты и любое яркое проявление считаются
162
Застольные беседы
изъяном, следовательно, их надо довести до уровня остальных свойств. Но
если физическую силу, энергию и изящество признать по отдельности
чертами прекрасными, тогда полное их совершенство, то есть высочайшая степень
выражения каждой из перечисленных черт, достигается лишь при условии
меньшей развитости остальных по сравнению с главной. Но давайте
посмотрим, что по этому поводу говорит сам сэр Джошуа в другой части «Лекций»:
Некоторые прекрасные черты тяготеют к гармоничному объединению,
в котором достоинства их становятся более заметными; другие же по
природе своей ни с чем не совместимы, и все попытки объединить их
создают только дисгармоничную совокупность несравнимых и
несочетающихся начал. Попытки объединить противоположные совершенства
(например, совершенство форм)* в одной фигуре непременно породят
некий чудовищный образ, разве только вследствие сознательного ослабления
экспрессивности, отказа от своеобразия не возникнет нечто безжизненное и
неинтересное.
Сколь ни очевидны вышеприведенные замечания, множество
художественных критиков, не будучи профессиональными творцами и,
следовательно, не имея представления о дозволенном и недозволенном в
искусстве, крайне щедро рассыпают абсурдные похвалы любимым
произведениям. Они всегда находят в них то, что намеревались найти. Они
восхваляют совершенства практически взаимоисключающиеся и превыше всего
любят подробнейшим образом описывать выражение смешанных страстей
на лицах изображаемых персонажей, каковое мне кажется совершенно
недостижимым для современного искусства**.
Таковы многие прочитанные мною результаты изысканий по поводу
этюдов и других живописных работ Рафаэля32, — исследования, в которых
критики описывают в основном свои собственные фантазии; правда,
великий мастер в попытке изобразить страсти, лежащие за пределами
возможностей искусства, порой писал нечетко и несовершенно — и тем самым
оставил место для любых домыслов наравне с возможностью выявить и его
истинный замысел. Задачи искусства чрезвычайно сложны; нельзя
постигнуть и уже сделанное; нас не должна унижать и обескураживать
невозможность полностью реализовать задумки романтически настроенного
воображения. У искусства есть свои границы, а вот у воображения их нет. Мы,
подобно древним римлянам, легко можем вообразить Юпитера —
наделенного всеми теми достоинствами и совершенствами, которыми по отдель-
* Это подлинные слова сэра Джошуа.
** Я этого не знаю; но не думаю, что можно выразить две страсти, либо не выражая
ни одну из них, либо выражая некое среднее между ними чувство.
XIV. В продолжение начатого разговора
163
ности обладали все подчиненные ему божества. Но при попытке воплотить
образ Юпитера в произведении искусства древние художники
ограничивали его характерную особенность одним лишь величием. Поэтому
Плиний (которому мы все-таки должны быть чрезвычайно благодарны за
сведения, касающиеся работ античных мастеров) нередко ошибается в своих
рассуждениях, по стилю очень близких современным знатокам искусства.
Он замечает, что в статуе Париса, изваянной Эфранором, можно
обнаружить три разных характера: судьи трех богинь33, возлюбленного Елены и
победителя Ахилла34. Скульптура, способная соединить в себе
благородное достоинство, юношеское изящество и суровую доблесть воина,
наверняка не может обладать ни одним из перечисленных свойств в сколько-
нибудь значительной степени.
Отсюда ясно, что попытки сочетать в одном объекте несколько
качеств, которые, возникая в разных точках, естественным образом
развиваются в разных направлениях, столь же трудны, сколь опасны35.
Признаюсь, я не в силах ответить на вопрос: каков же истинный метод
овладения искусством? Какие разумные принципы оценки может извлечь
начинающий художник из этих противоречивых утверждений? Каким
образом можно примирить очевидные несоответствия предложенной теории? Как
мне кажется, все разнообразие природы в бесконечном множестве свойств,
сочетаний, особенностей, выражений, обстоятельств и так далее возникает в
определенных точках или центрах и должно развиваться в определенных
направлениях, в то время как формы, присущие разным видам, должны
подчиняться отдельным стандартам — каждая своему. Задача искусства
заключается в том, чтобы выявить полную силу, чистоту и точность разных форм,
а не слить их в расплывчатую, бессодержательную, лишенную
индивидуальности идеальную концепцию, которая якобы объединяет, но на самом деле
разрушает. Теория сэра Джошуа ограничивает природу и парализует искусство.
Согласно его утверждениям, средняя форма и усредненный итог
разнообразных впечатлений являются источником, откуда происходят красота,
удовольствие, интерес, воображение. Я же, напротив, настаиваю на том, что именно
разнообразие ценно само по себе. Я также не согласен со словами сэра
Джошуа о том, что вся природа, как она существует в действительности, —
абсолютное ничто, тогда как созерцания мудреца достойно лишь идеальное
совершенство, никогда не существовавшее ни в реальности, ни на холсте, — и
ничего больше. В системе сэра Джошуа есть нечто изощренное и болезненное.
Его принципы вкуса слишком часто строятся на отрицаниях; в них
недостает позитивных утверждений. Его теория раскрывает красоту только
античного искусства, да и то лишь отчасти. Действительно, достоинства Хогарта
отличаются от достоинств греческих статуй, но судить о Хогарте по критериям
164
Застольные беседы
античного искусства или согласно теории средних форм сэра Джошуа нельзя:
Хогарт умеет и поучать, и развлекать зрителя — и эти его достоинства,
«возникая в разных точках, естественным образом развиваются в разных
направлениях» и полностью выполняют свое предназначение. Вряд ли кто-нибудь
станет обвинять комедию в отсутствии в ней трагического пафоса или
эпического величия. Если бы теория сэра Джошуа была верна, то трагедия
доктора Джонсона «Ирена»36 считалась бы лучше любой шекспировской.
Представленные в «Лекциях» положения, полагаю, несовершенны в
следующих частностях:
1. Теория утверждает, что общий эффект художественных произведений
достигается за счет пренебрежения деталями — хотя на самом деле самые
крупные масштабы и самые общие контуры не исключают высшего изящества
в прорисовке частностей.
2. Теория не делает различия между красотой и величием, но относит
оба эти понятия к идеальной, или средней, форме, усредненному итогу
различных форм внутри одной породы, и при этом непоследовательно
объясняет величие микеланджеловского стиля сверхчеловеческим обликом его
пророков и апостолов.
3. В теории нигде не говорится ни о силе или величине объекта как о
безусловном источнике возвышенного (хотя нечаянно, ненамеренно это
признается по отношению к Микеланджело и ряду других гениев), ни о мягкости и
симметричности формы как о безусловном источнике красоты, независимом,
хоть и связанном с другим ее источником, который возникает из наших
традиционных представлений о каждой отдельно взятой породе.
4. Теория сэра Джошуа не оставляет места для характерного начала, но
отвергает его как аномалию.
5. Она не указывает на источник выразительности, но считает ее
враждебной красоте; все же в конце концов автор признает, что средняя форма,
доведенная до теоретического предела, лишенная характерности и не насыщенная
страстью, не произведет ничего, кроме невразумительных, пресных,
бессодержательных произведений.
Короче говоря, я не могу считать предложенную теорию ясной,
удовлетворительной и последовательной; не могу считать, что она объясняет
разнообразные совершенства в искусстве исходя из немногих простых принципов. Я не
могу признать метод, которого придерживается сэр Джошуа в трактовке
предмета, «методой простым и честным» (как он сам выражается). Боюсь,
предложенная доктрина больше рассчитана на то, чтобы сбить начинающего
художника с толку и поставить в тупик, нежели дать ему четкие представления о
цели подлинного искусства и вдохновить его на борьбу за ее достижение.
XV
ПАРАДОКС И БАНАЛЬНОСТЬ
Порой меня обвиняют в чрезмерной приверженности парадоксам, но в
глубине души я не могу признать себя виновным. Конечно, я не отстаиваю то или
другое мнение только потому, что оно старо, но ведь и не прельщаюсь с
первого взгляда каждым оригинальным суждением только потому, что оно ново.
По моему разумению, иная мысль может повторяться хоть тысячу раз, не
становясь от этого ничуть разумнее; и я полагаю также, что некий довод или
замечание вполне могут оказаться весьма справедливыми, даже если никогда
прежде не высказывались. Однако это вовсе не значит, что я заведомо
считаю каждое предвзятое мнение необоснованным, а каждый парадокс
самоочевидным просто в силу его принципиального отличия от общепринятой точки
зрения. Однажды Шеридан со свойственными ему остроумием и сарказмом
отозвался о выступлении некоего оратора1 следующим образом: «В нем
содержится много и нового, и верного; но, к несчастью, все новое неверно, а все
верное не ново». Мне кажется, в этих словах выражена самая суть проблемы.
Я не вижу особой пользы сосредотачиваться на банальности, пусть модной и
устоявшейся, но и не гонюсь за нарочитой новизной мысли, если не нахожу
достаточно серьезных оснований для этого. Оригинальность предполагает
независимость суждения, но от простого оригинальничания отличается так же
сильно, как от самого пошлого трюизма. Оригинальность заключается в
умении самостоятельно видеть и думать, в то время как оригинальничание
состоит всего лишь в стремлении человека, не имеющего устоявшегося мнения по
тому или иному вопросу, высказывать точку зрения, противоположную
общепринятой. Мистер Бёрк был оригинальным, хоть и экстравагантным,
писателем, а мистер Уиндэм — профессиональным производителем парадоксов.
Похоже, люди в подавляющем большинстве своем способны приходить к
некоему мнению лишь под давлением традиций и авторитетов; им
противостоит другой, не столь многочисленный, но достаточно широкий круг людей, все
166
Застольные беседы
суждения которых возникают в равной мере под влиянием новизны и суетного
тщеславия. Предвзятости первых противостоит парадоксальность вторых; и
глупость, «кладя на одну чашу весов невежество, а на другую — самомнение»,
можно сказать, «восхищенно улыбается при виде вечного равновесия»2.
Честный и смелый дух познания вряд ли станет бездумно следовать прецедентам
или окажется ослеплен внезапными вспышками света. Природа всегда
неизменна; это хранилище вечной истины и неистощимого разнообразия; и тот, кто
смотрит на нее пристальным и натренированным взглядом, найдет в ней
достаточно предметов для самого глубокого размышления, независимо от того,
видел их кто-нибудь до него или нет. Как ни странно, но для познания
какого-нибудь предмета истинный философ изучает сам этот предмет как таковой,
вместо того чтобы обратиться к другим людям и выяснить, что они думают,
говорят или слышали о нем, или же подчиниться требованиям собственного
тщеславия, вздорности и изощренного ума, дабы сформулировать некое
мнение, идущее вразрез с общераспространенным, и тем самым доказать
умственное превосходство над окружающими. Из-за неправильного подхода к
исследованию силы и ресурсы ума растрачиваются и истощаются в конфликтах
мнений и страстей, в противоборстве упрямства и непостоянства, фанатизма
и самомнения, традиционных злоупотреблений и безрассудных нововведений,
скучной, тяжеловесной, устаревшей тупости и новомодной глупости,
обыденных житейских интересов и своевольного самолюбования, неисправимых
предрассудков старости и безудержных прихотей молодости — в то время как
истина лежит посредине и не видна с обоих полюсов. Как давно сетовал Лютер:
«Ум человеческий подобен пьяному седоку: подсади его с одной стороны, так
он свалится с другой»3. Одни во всем следуют примерам, авторитетам, моде,
соображениям удобства и выгоды; для других своеобразие, стремление
выделиться, простой каприз, необузданность, героическое пренебрежение
последствиями своих действий, беспокойство и неуравновешенность, постоянное
желание испытывать внезапное сильное возбуждение и получать новые
игрушки для воображения являются «верховными правителями»4 и на каждом шагу
утверждают свое превосходство над разумом, истиной, природой, здравым
смыслом и чувством. С точки зрения одних, все уже существующее
правильно, а с точки зрения других — неправильно. Первые готовы проглотить любую
старомодную нелепость, вторые увлекаются всякой новой скороспелой идеей —
и пребывают в одинаковом восторге и от велосипедов, и от Французской
революции. Одни, связанные по рукам и ногам застывшими формулами и
мертвыми традициями, остаются глухи ко всему, что не вбивалось в головы им и
их предкам с незапамятных времен, и не воспринимают ничего, помимо одних
и тех же навязших в зубах старинных изречений и маловразумительных фраз;
другие же изъясняются на собственном жаргоне, некоем вавилонском
диалекте5 — неоформленном, сыром, грубом, неблагозвучном, полностью лишенном
XV. Парадокс и банальность
167
для посторонних и смысла и интереса. Последние и слышать не хотят ни о
каких обычаях, убеждениях, общественных институтах, существующих более
одного дня, почитая оные за порождения фанатизма, суеверия и варварского
невежества, под свинцовым бременем которых могут оцепенеть и закоснеть
их стремительные, подвижные, «восприимчивые и изобретательные умы»6.
Сегодняшняя точка зрения вытесняет вчерашнюю; завтрашняя, соответственно,
вытеснит сегодняшнюю. Мудрость древних, теории ученых, законы народов,
расхожие нравственные представления — для них все равно что связка старых
ежегодников. Как современный политик всегда спрашивает сегодняшнюю
газету, так современный дилетант всегда требует свежего парадокса. Инстинкт
он почитает за старого дурака, природу — за перевертыша, а здравый смысл —
за пустое расхожее словечко, утратившее всякое значение. Если обыватель
считает истинным любое общераспространенное мнение, то гражданин мира
придерживается противоположной точки зрения. Для первого представители
большинства, «власти предержащие»7 всегда правы во все века и в любом
месте, пускай они резали друг другу глотки и от начала времен своими
распрями и спорами переворачивали мир с ног на голову; второй же считает
безусловно ошибочным любое суждение, в котором сошлись хотя бы два
человека. Легковерный фанатик содрогается при мысли о каком-либо изменении в
структуре «освященных веками»8 институтов и под прикрытием этой
ханжеской фразы заставляет себя мириться с любой глупостью, с любым обманом,
с инквизицией, церковным елеем, правами помазанника Божьего и так далее.
А утонченный скептик рассмеется вам в лицо в ответ на предложение
сохранить что-либо, отмеченное порочной печатью традиции, и выскажется за
уничтожение всех прецедентов, «всех суетных записей»9 и всей структуры и
ткани общества в целом, как некоего досадного недоразумения. Разве не подобны
фанатик и скептик паре всезнаек, взаимно друг друга дополняющих? Один
упорно отстаивает свою религию и свое правительство; другой с невыразимо
презрительной улыбкой отвергает все религии и все правительства. Один ни
под каким видом не сойдет с широкой проторенной дороги; другой то и дело
круто сворачивает в сторону и теряется в лабиринтах собственного
невежества и самонадеянности. Один никогда не примкнет ни к кому, другой всегда
встает на сторону сильнейшего. Один никогда не подчинится никакому
установленному порядку; другой охотно поддержит любую процветающую
систему. Один — раб привычки, другой — игрушка собственных капризов.
Первый похож на прикованного к постели больного, второй — на человека,
страдающего пляской св. Витта — он не в силах спокойно стоять на месте и не в
силах удовлетвориться никаким окончательным выводом. «Не правый
никогда, всегда обязан правым быть»10.
У автора «Прометея освобожденного»11 (если уж обращаться к
конкретному примеру второго типа) пылающий взор, горячая кровь, прихотливый
168
Застольные беседы
ум и возбужденная речь — что обличает в нем философствующего
фанатика. У него лихорадочный румянец на лице и пронзительный голос. Как
нередко бывает с религиозными ревнителями, он страдает нехваткой
жизненных сил и тело у него слабее духа. Податливый и уступчивый по
характеру, он, похоже, не в состоянии ни за что крепко ухватиться, не может
противоборствовать окружающему миру, но устремляется прочь от него
подобно реке:
Смертельным уязвленьям их тела
Текучие не более чем воздух
Подвержены...12
Случайное потрясение или авторитетное суждение не оказывают никакого
влияния на его мнения, которые отлетают прочь невесомым перышком и
остаются благодаря внутреннему стержню невредимыми при любом
столкновении с противоположными. Он не скован никакой скучной системой
реальности, не связан никакими земными чувствами и укоренившимися
предрассудками — ничем, что принадлежит мощному стволу и жесткой скорлупе
природы и привычки, — но легко и неудержимо взмывает в сферы чистого
умозрения и фантазии, воздуха и огня, где его восторженный дух парит в
«жемчужном океане и янтарных облаках»13. Для него не существует никакого
caput mortuum* шаблонного, избитого опыта, который загромождал бы
балластом его ум; последний, являясь интеллектуальным подобием летучей соли
винного камня, отказывается сочетать свою эфемерную
легковоспламеняющуюся сущность с чем-либо прочным или долговечным. Реальны для него
только мыльные пузыри: дотронься до них — и они исчезнут. Единственная
характерная черта его ума — любознательность; несмотря на зрелость
интеллекта, в своих чувствах он остается ребенком и потому помещает каждую
идею в плавильный тигель метафизического умствования, самостоятельно
судит о ней и, словно объект интересного опыта, демонстрирует ее другим, не
подвергнув предварительно испытанию здравым смыслом и не
прочувствовав сердцем. Когда склонность теоретизировать наобум по всем вопросам
чрезмерно развита, но не подкреплена знаниями, она может ненароком
причинить много вреда, подобно не по возрасту крупному ребенку,
обладающему силой взрослого мужчины. Мистера Шелли обвиняют в тщеславии; на мой
же взгляд, он заслуживает упрека в крайнем легкомыслии, но это
легкомыслие настолько велико, что едва ли он сам сознает его последствия. Он
стремится ниспровергнуть все устоявшиеся мировоззрения и системы — просто он
так устроен. Он опережает самые экстравагантные мнения, но только пото-
* Букв.: «мертвая голова» (лат.) — так называли остававшиеся в алхимическом тигле
бесполезные для дальнейших опытов продукты; здесь: бесполезного, ничтожного.
XV Парадокс и банальность
169
му, что для него не существует препятствий в виде сострадания или обычая.
Он пускается в рассуждения на самые отвратительные темы, но не столько
потому, что наслаждается неприятным запахом порока, сколько потому, что
заворожен излучаемым ими фосфорическим интеллектуальным светом.
Может показаться, что он хочет не убедить или просветить, а скорее
шокировать читателей содержанием своих произведений; но я подозреваю, что
мистер Шелли главным образом стремится потрясти самого себя своими
похожими на опыты с электричеством экспериментами в области нравов и
философии; и хотя означенные опыты могут превратить других людей
буквально в головешки, для него они просто невинное развлечение, сверкание
Северной Авроры14, которое «увлекает ум, не проникая в сердце»15. Все же я
искренне желаю упомянутому автору положить конец беспрестанному
тревожному пульсированию своей гальванической батареи. Присущей ему
страстью, талантом и воображением он принес бы больше добра и причинил
меньше вреда, когда бы отказался от своих дичайших теорий и находил меньше
удовольствия в ощущении, как его сердце бьется в такт с исполненным самых
дурных предчувствий сердцем читателя. Такого рода люди не пытаются
укрепить полезные и общепризнанные истины, дабы тем самым способствовать
прогрессу науки и распространению нравственности, но не успокаиваются,
пока не поднимут двусмысленные и неприятные вопросы,
компрометирующие и позорящие сами понятия науки и морали. Такие люди согласны вести
ум человеческий к высоте, с которой открывается перспектива общественного
совершенствования, только в том случае, если, предварительно проведя по
скользким тропам к последнему пределу возможного, могут столкнуть его в
пропасть в тот самый миг, когда он достигает долгожданной вершины Фас-
ги16. Они не видят необходимости в путеводной звезде, указующей дорогу и
предупреждающей об опасности, если она одновременно не пугает публику,
подобно зловещей комете. Они с готовностью проповедуют одиозные
принципы, если благодаря им могут снискать себе дурную славу. Привлечение
общественного мнения на свою сторону честными способами кажется им
пресной и пошлой разновидностью известности; они либо навяжут свою точку
зрения с помощью грубой силы, либо соблазнят пьянящими напитками.
Нарциссизм, раздражительность, распущенность, неустойчивость принципов,
откуда бы эти пороки ни происходили, отвратительны в любом человеке, но
более всего в философствующих реформаторах. Гуманность, мудрость
всегда остаются у них где-то «за горизонтом»17. Любая новая идея, сколь угодно
отвлеченная или сомнительная, может уверенно рассчитывать на сердечную
встречу в кругу таких людей — тем более сердечную, чем она новее, чем
неосуществимее, чем сомнительнее ее желательность и необходимость вообще.
Сразу после окончательного поражения Французской революции, по
завершении последнего ее акта, когда законопослушные граждане восклицали:
170
Застольные беседы
«Фарс окончен, теперь давайте ужинать!»18, резонеры, бросающие вызов всему
и вся, выдвинули бойкое предложение об учреждении в нашей стране
правительства наиров19 в противовес преуспевающим торговцам мандатами
«гнилых местечек»20. Любой практически осуществимый проект для таких типов
всегда антипод идеала; и подобно визионерам другого рода, они датируют
эпоху Второго Пришествия или Нового Порядка Вещей от года реставрации
Бурбонов21. «Красивыми речами сыт не будешь» — гласит пословица. «Пока
вы толкуете о свадьбе, я подумываю о виселице», — говорит капитан Макхит22.
Самые невыносимые из всех людей те, кто призывает вас надеяться в самой
пучине отчаяния, кто, сосредоточившись исключительно на своих
собственных безрассудных оптимистических утопиях, за отсутствием всяких шансов
на успех, никогда не видит особых причин для смятения и уныния и кто,
огульно предавая проклятию и анафеме всё не задевающее их праздного
воображения — королей, священников, религию, правительство,
злоупотребления государственной властью или личные нравственные установки, —
делает всё возможное для объединения всех партий в общей борьбе против них
и для воспрепятствования всякому, кто ступит хоть на шаг дальше в своих
попытках достичь практических улучшений, нежели они сами в стремлении
к воображаемому и недостижимому совершенству.
Кроме того, весь этот неуместный пыл и скороспелость мысли зачастую
свидетельствуют о разложении и упадке. Я сам лично помню несколько
примеров такого рода неограниченной разнузданности мнений и лихорадочного
возбуждения чувств в первый период Французской революции. Крайности
сходятся: наиболее ярые анархисты с тех пор заделались самыми
отъявленными ренегатами. Среди первых я могу упомянуть нынешнего
поэта-лауреата и некоторых из его друзей23. Прозаики (например, мистер Годвин, мистер
Бентам и др.) в этом смысле не столь резко изменили взгляды; они как
будто сохраняют верность прежним убеждениям (пусть не всегда разумным) и
в целом придерживаются своих первоначальных принципов. Но «поэты (как
уже было сказано) обладают столь кипящим умом24, что склонны вечно
соваться не в свое дело и все портить. Из них получаются плохие философы и
еще худшие политики*. Большей частью они живут в собственном вымыш-
* «К слову о политике: я считаю, что поэты по натуре своей тори (которые
предположительно по натуре поэты). Любовь к отдельной личности или династии, на протяжении
многих поколений стоявшей у власти, в большей степени присуща племени мечтателей. С
другой стороны, математики, абстрактные теоретики — никоим образом не привязанные
к конкретным личностям (по крайней мере, к живущим ныне), но в высшей степени
преданные идеям добродетели, свободы и прочего — являются в основном вигами. В согласии
с вышеприведенной максимой оказывается, что виги в большинстве своем весьма
расположены к умному, трудолюбивому, непоэтичному народу — голландцам» (Письма Шен-
стона, 1746 год)25.
XV Парадокс и банальность
171
ленном мире — и было бы прекрасно, когда бы они в нем и оставались.
Свойственные им полеты воображения и игры фантазии вызывают восхищение и
у них самих, и у окружающих; но реальная действительность самым
непостижимым образом в сознании поэтов искажается — и коль позволить им
участвовать в общественной жизни, так они вскоре вывернут все наизнанку. Эти
люди предаются только собственным розовым мечтаниям или суеверным
предубеждениям и сотворяют идолов или жупелы из любого подручного
материала, столь же мало заботясь об истории и конкретных фактах, сколь
об общей логике рассуждений. Из них получаются опасные лидеры и
ненадежные сторонники. Непомерное тщеславие увлекает таких людей во
всевозможные крайности, а обыкновенно присущая им изнеженность выводит их
из крайностей любой ценой. Подобные авторы, потворствующие лишь
собственной жажде острых ощущений и желанию поразить окружающих,
единственную свою цель видят в том, чтобы тем или другим способом
произвести драматический эффект: повергнуть читателя в ужас или привести в
восторг; причем к последствиям своих творений они, по-видимому, безразличны,
будто мир — лишь сцена, на которой они могут представлять фантастические
фокусы, заставляя поклонников рыдать. Не видя разницы между славой и
дурной славой, одинаково романтичные и в рабской покорности, и в дешевой
независимости, они жаждут лишь отличиться, а какими средствами — им все
равно. Якобинцы или антиякобинцы — яростные защитники анархии и
вседозволенности или пламенные сторонники политических гонений — всегда
агрессивные и пошлые в своих убеждениях, они совершают головокружительные
и тошнотворные кульбиты от одной нелепости к другой и заглаживают
безумства юности бездушными пороками зрелости. Никто, кроме них, не доведет
всякий парадокс до его наиболее отвратительной и нелепой крайности, никто
не явит в собственном своем обличье столь точную карикатуру на все
характерные черты господствующей философии! В эпоху блаженной новизны,
конечно, философы крались по их следам, словно охотничьи псы; в то
время как сами крайние политики ястребами бросались на свою жертву, всегда
выбирая самую низменную добычу, с готовностью вдыхая самую гнилостную
и смрадную вонь, теша тщеславие способностью переваривать яды и делая
напоказ заявления, призванные ниспровергнуть ходячие предрассудки*. Не-
* Хочу представить современному читателю un petit aperçu [фр. — небольшой очерк]
того, в каком тоне протекал литературный диспут двадцать пять — двадцать шесть лет
назад. Однажды, находясь в обществе, где присутствовало множество мужчин, женщин и
детей, я оказался свидетелем того, как два человека с замечательной искренностью и
остроумием доказывали (с таким упорством и рвением, словно им за это платили), что любая
молитва есть попытка диктовать Всевышнему свою волю и высокомерное посягательство
на превосходство. Один присутствовавший там джентльмен с величайшим простодупшем
и naïveté [фр. — наивностью] заметил, что существует молитва, по его мнению, не попадаю-
172
Застольные беседы
удивительно, что эти люди, по глупости своей ищущие возбуждающей
новизны в отвлеченной истине и шумного успеха, подобного успеху театрального
представления, в чистом разуме, в конце концов прониклись отвращением к
собственным устремлениям — и в результате сей радикальной перемены
самые закоренелые предрассудки и самые жестокие мнения стремительно
выступили на передний план, дабы заполнить пустоту, возникшую вследствие
уничтожения здравого смысла, мудрости и человечности»26.
До сих пор я несколько сурово отзывался о поэтах и реформаторах. Дабы
отвести от себя подозрения в особой к ним неприязни, постараюсь принести
им amende honorable*, обратившись к фрагменту из сочинений человека,
который ни поэт, ни реформатор и никогда не претендовал на эти звания, но
является полной противоположностью и первому, и второму. Сей
безукоризненно светский человек, придворный и острослов пытался развить
упомянутую тему применительно ко всем фантастическим проектам
совершенствования и всем планам практических преобразований, сделав нижеследующее
заявление. Само по себе оно представляет собой законченную банальность и
может служить доказательством того, что в подобного рода гладких
рассуждениях, не вызывающих никаких возражений в силу своей неспособности
возбуждать умы, содержится по определению столько же нелепости,
сколько и в самом диком парадоксе. В заключение своей ливерпульской речи
мистер Каннинг говорит:
Вся моя судьба связана с британской монархией. При ней я жил; при ней
видел расцвет своей-родины;** при ней наблюдал, как страна моя достигла
такого высокого уровня благосостояния, счастья и славы, какой, на мой
щая в данную категорию, и на вопрос, что это за молитва, ответил: «Молитва
Самаритянина: "Боже, прости меня, грешного!"»27 Такое заявление никоим образом не поколебало
скептического догматизма двух спорщиков. Вскоре возражавший удалился, после чего
один из ораторов заметил с явным удовлетворением и торжеством: «Боюсь, мы
пошатнули предубеждения этого джентльмена». В то время мне так не показалось, а случилось это
в 1794 году28.
Дважды железо пронзало мне душу. Дважды ее топтала трусливая, хвастливая,
продажная толпа: один раз, когда они шли вперед как завоеватели, с единственной целью
завоевать, заявляя, что на их стороне разум, словно поблескивая обнаженными мечами,
топча предрассудки и бесстрашно прокладывая путь к возрождению; а второй — когда
возвращались назад, пятясь подобно быкам Кака29, словно влекомые за шиворот обратно в логово
легитимизма30 — «за рядом ряд, объятые смятеньем»31 — с должностями и пенсиями, с
торчащими из карманов номерами «Ежеквартального обозрения», с криками «Свободу
человечеству!»32, готовые встретить «второе, наихудшее грехопадение человека»33. Все же я
выжил после всех этих хождений взад-вперед через мою голову поэтов, философов и
политиков, выжил, подобно «ромашке, которая разрастается тем гуще, чем больше ее топчут»34.
Но, клянусь небом, больше я такого не вынесу!
* публичное покаяние [фр).
** Troja fuit [лат. — Троя была]35.
XV. Парадокс и банальность
173
взгляд, недостижим в обществе, устроенном как-нибудь иначе. И я не
готов жертвовать или рисковать плодами многовекового опыта,
многовековой борьбы и установленной более столетия назад свободы, плодами,
подобных которым не знала доселе ни одна страна на земле, ради
призрачных планов идеального совершенствования, ради сомнительных
экспериментов, пусть даже направленных на возможные улучшения. (Речь
мистера Каннинга, произнесенная в Ливерпуле на обеде, данном 18 марта
1820 г. по случаю его переизбрания. Издание четвертое, пересмотренное и
исправленное.)
Таково банальное заявление мистера Каннинга; и вряд ли, ознакомившись
с моим ответом на него, читатель сможет обвинить меня в том, что я впадаю
в экстравагантный и вызьшающий тон парадоксальных рассуждений,
который сам уже столько критиковал.
Приведенный фрагмент, в котором решительно отрицается
необходимость любого рода перемен, нововведений и усовершенствований, на каждом
шагу противоречит излюбленным принципам мистера Каннинга. Он «не
готов жертвовать или рисковать плодами многовекового опыта, многовековой
борьбы и установленной более столетия назад свободы, плодами, подобных
которым не знала доселе ни одна страна на земле, ради призрачных планов
идеального совершенствования». Итак, налицо многие века опыта и многие
века борьбы, отданные ради одного столетия свободы; и тем не менее,
согласно совету мистера Каннинга, нам не следует ставить никаких экспериментов
или ввязываться в борьбу ради будущего совершенствования общества или
возвращения утерянных благ и преимуществ. Человек (как навязчиво
внушается нам каждой следующей строчкой, каждой очередной сентенцией) всегда
должен поворачиваться спиной к будущему, лицом к прошлому. Он должен
считать недостижимым и нежелательным всё, помимо установлений, уже
существующих в обветшалых общественных институтах и укоренившейся
системе злоупотреблений. Его рассудок должен быть скован и задавлен
господствующим мировоззрением, а сам он превращен в политический
механизм, в ходунок для суеверия и предубеждений, который не может двинуть
ни рукой, ни ногой, если его не дергают за скрытые пружинки и ниточки
государственные фокусники, законные хозяева и распорядители спектакля.
Сила воли, мысль и способность действовать должны быть парализованы;
человек обязан действовать по указке и находить существующее положение
вещей единственно возможным. Вероятно, мистер Каннинг скажет, что
людям надлежало экспериментировать и вести решительную борьбу в прежние
времена, а сейчас настала пора отказаться от собственного мнения и своих
прав в его пользу. Но интересно знать, в какую историческую эпоху система
политической мудрости превратилась в шаблон, подобный «золоту против
174
Застольные беседы
бумаги» мистера Коббета36, шаблон, не допускающий никаких дальнейших
изменений и улучшений или исправления ошибок, допущенных при его
отливке? Когда это опыт человечества стал настолько незыблемым и реакционным,
что в своих действиях мы должны руководствоваться устарелыми
умозаключениями из прошлого, а не насущными требованиями текущих обстоятельств,
совокупностью знаний и плодов раздумья, накопленных за многие века
вплоть до настоящего момента, которые естественным образом двигают нас
вперед, а не увлекают назад в прошлое? Неужели мистер Каннинг никогда не
слышал и никогда не обдумывал следующее изречение лорда Бэкона:
«Древними являются те времена, в которые мы живем, а не те, которые мы
называем древними, ведя отсчет назад от сего дня, "ordine retrogrado"»?*'37
Позднейшие периоды истории неизбежно имеют преимущество перед более
ранними в виде суммы накопленного за предыдущие века опыта и суммы
человеческих мыслей, появившихся в ходе приобретения данного опыта или
попыток понять суть природы и исторического процесса, мыслей, которые
величаво вершат свой ход во времени, а не порхают в пустом пространстве
фантастических умозрений и не отделяют нас многовековой пропастью от
давно сформулированных принципов, руководствуясь коими мы должны
мыслить и действовать. Мистер Каннинг не может утверждать вслед за
мистером Бёрком, что в области политических наук не случилось никаких
открытий и что политические институты не подверглись никаким
прогрессивным преобразованиям38, ибо, согласно самому мистеру Каннингу, по
истечении многих веков опыта и борьбы мы всё же пришли к одному столетию
свободы. Неужто это означает, что развитие мира закончилось? Мистер
Каннинг достаточно хорошо понимает, что мир постоянно развивается и вечно
изменяется, но ему хотелось бы видеть в обществе лишь движение от
свободы к рабству, постепенное разложение, а не восстановление и обновление. Не
далее как в этом году два периода, пришедшиеся на ноябрь и январь
(говорит он в упомянутой речи), явили нам такой глубокий контраст в положении
страны, какой могут явить две эпохи в ее истории, ничем друг на друга не
похожие и предельно отдаленные. Что ж, неужели в таком случае нашим
усилиям и накоплению опыта положен конец? Нет, говорит мистер Каннинг,
«близится критический момент, когда каждый человек должен будет либо встать
на сторону институтов британской монархии, либо выступить против них».
Сам он уже принял решение, «но знай, к Добру стремиться он не станет»39.
Он будет всеми способами предостерегать от любых возможных
преобразований и стремиться на веки вечные сохранить в неприкосновенности любые
возможные злоупотребления. Ради каких бы то ни было сомнительных
экспериментов он не поступится плодами многовекового опыта и борьбы, равно
* в обратном порядке (лат.).
XV. Парадокс и банальность
175
как и плодами по меньшей мере одного столетия свободы, прошедшего со
времени революции 1688 года40. Мы достигли последнего предела опыта,
борьбы и свободы — и отныне должны до скончания времен стоять на якоре
в гавани пассивной покорности и непротивления. Мы (английский народ)
скажем мистеру Каннингу откровенно, что думаем о его благородном и
многообещающем решении. Отчасти мы разделяем такую точку зрения, как
разделяло ее человечество во все века существования мира. Никакой народ
ни в какие времена никогда не отвергал прошлого опыта и не отказывался от
современных благ ради призрачных планов, направленных на достижение
идеального совершенства. Именно знание прошлого и реальные нужды
настоящего служат причиной всех изменений, нововведений и улучшений — отнюдь
не некое (как порой утверждают) химерическое предвидение возможных
выгод, а невыносимое давление давно укоренившихся, печально известных,
разросшихся и продолжающих набирать силу злоупотреблений. Именно опыт
чудовищных, отвратительных злоупотреблений и морального разложения
папской власти вызвал к жизни Реформацию. Именно опыт притеснений и
гнета феодальной системы явился причиной уничтожения последней в
результате нескольких веков страданий и борьбы. Именно опыт своевольной
тирании монарха привел к появлению Великой хартии вольностей на Руннимед-
ском лугу41. Именно опыт произвола и наглых злоупотреблений королевской
властью во времена Тюдоров и первых Стюартов вызвал сопротивление в
эпоху царствования Карла I и Великий мятеж42. Именно опыт неизменной
слепой преданности тех же Стюартов папизму и рабству, наряду с
многочисленными проявлениями с их стороны жестокости, предательства и
фанатизма, вызвал революцию43 и послужил причиной возведения на престол Браун-
швейгского дома44. Именно возраставшее со временем понимание
неисправимо порочной природы любого злоупотребления, побеждавшее в конце концов
упрямую приверженность старым традициям и предрассудкам, —
приверженность, от которой можно избавиться только получив многочисленные и
неоспоримые доказательства ее бессмысленности, но никак не по собственной
прихоти или по ознакомлении с некой отвлеченной теорией, — помогало
уничтожать все препятствия и вызьшать к жизни нововведения, революционные
преобразования и реформы. Именно опыт злоупотреблений, разнузданности
и бесчисленных притеснений со стороны прежнего правительства во Франции
повлек за собой Французскую революцию. Именно готовность британского
кабинета министров оскорблять, угнетать и грабить вызвала революцию в
Соединенных Штатах45. Так оставим же тогда жалкое нытье, порицающее
фантастические теории, оставим обращение к устоявшемуся опыту! Люди
никогда не действуют вопреки своим предрассудкам, если их не побуждают к тому
их собственные чувства и потребности, — а теории они строят в соответствии
с практическими убеждениями и изменчивыми обстоятельствами жизни. Так
176
Застольные беседы
распорядилась природа, и мистер Каннинг, демонстрируя риторическую
прыть, «подпрыгивая, щебеча и давая прозвища божьим созданиям»46, не в
силах изменить существующий порядок вещей, предать забвению историю
прошлого или воспрепятствовать наступлению будущего. Общественное
мнение есть результат общественных событий и общественных чувств;
правительство должно прислушиваться к этому мнению или противостоять ему с мечом
в руке. Мистер Каннинг, конечно, не согласится с тем, что движение
общественной машины в любом случае должно происходить в направлении,
отличном от прежнего, ибо «в противном случае она сорвется в пропасть и
разобьется вдребезги»47. Такие предупреждения о возможной национальной
катастрофе и низвержении в политическую пропасть заставляют вспомнить о
зловещих предостережениях Эдгара, обращенных к Глостеру:48 когда их читаешь,
волосы встают дыбом от ужаса; но бедный старик, как и бедная старая
Англия, не мог пасть ниже, чем уже пал. Когда мистер Монтгомери —
оригинальный милый поэт, просидевший полтора года в одиночном заключении за пуб-
ликацию письма герцога Ричмонда по поводу реформы49, — впервые вышел на
узкую тропинку в прилегающем к тюрьме поле, его охватил страх
оступиться и сорваться с нее вниз, как будто он шел по краю обрыва. Автор
верноподданнической речи, произнесенной на обеде в Ливерпуле, так долго
находился в темной одиночной камере своих предрассудков, интересов и тщеславия,
что из боязни разбиться вдребезги не смеет сделать ни единого неверного шага
вправо или влево от своего опасного и извращенного политического курса. Что
касается его самого, то он, безусловно, останется глух к любому совету,
который я могу здесь дать. А что же до родины мистера Каннинга, то он,
похоже, твердо вознамерился ее уничтожить. Однако если означенному
джентльмену недостаточно «устрашающих и предостерегающих»50 доказательств
бесполезности всех его проектов и общих рассуждений, пусть он обратит свой
взор на Испанию и на досуге оправится от недоверчивости и потрясения.
Испания, как Фердинанд, как монархия, пала со своей пагубной высоты,
чтобы никогда уже не подняться вновь51. Испания как Испания, как испанский
народ, восстала из гробницы свободы, чтобы уже никогда (надо надеяться) не
склониться под ярмом ханжи и угнетателя!
XVI
ВУЛЬГАРНОСТЬ И ЖЕМАНСТВО
Редко встречаются понятия более тесно связанные, чем вульгарность и
жеманство. Поистине можно сказать, «меж ними грани еле ощутимы»1. Нет более
верного доказательства низкого происхождения или врожденной подлости
характера, чем претензии на неизменную утонченность в речах и мыслях. Мы,
должно быть, испытываем сильное влечение к тому, чего всегда стараемся
избежать: если мы по любому поводу выражаем крайнее презрение к чему-
нибудь — это верный знак того, что оно нам близко. Не знаю, которая из двух
людских пород мне противнее — люди вульгарные, по-обезьяньи копирующие
манеры утонченных, или утонченные, насмехающиеся над вульгарными и
всячески подчеркивающие свое отличие от них. Оба племени постоянно
думают друг о друге: низшие о высших — с завистью, а высшие о низших, менее
удачливых ближних своих, — с презрением.
Как правило, они противостоят друг другу, их претензии на каждом шагу
сталкиваются, а мысли намертво прикованы к одному и тому же, хотя и
текут в противоположном направлении, в соответствии с положением, им
подобающим. Одни, вопреки здравому смыслу, напрягают все силы, лишь бы
казаться утонченными, другие озабочены только тем, как бы не показаться
вульгарными. Какая жалкая злость, какое убогое честолюбие! Желание не
уподобиться тому, кого от всей души презираешь, вряд ли утвердит твое
превосходство; презирать собственное положение еще хуже.
Почти все персонажи в романах мисс Бёрни — Брэнгтоны, Смиты, Дабсте-
ры, Сесилии, Делвилли и другие — в этом смысле удивительно близки и
похожи: одни боятся, чтобы их не приняли за них самих, а другие — чтобы их
не спутали с первыми. Ни у тех, ни у других нет никаких иных притязаний,
никаких критериев подлинного достоинства. «Весят они одинаково, разница
на какое-нибудь перышко»2, и хотя очаровательная писательница не
осознавала морального единства своих главных и второстепенных персонажей,
жеманство — вот ключ к тем и другим.
178
Застольные беседы
Жеманство, то есть претензия на изысканность, — всего лишь более
привередливый и искусственный вид вульгарности. Оно существует, только если
подражает. Оно наводит красоту — и расцветает на почве наивных претензий
большинства человечества. О ценности всего сущего оно судит исходя из
названия, моды, общего мнения и потому, в силу вполне осознаваемого
отсутствия у себя истинных достоинств и, как следствие, неудовлетворенности
собой, основывает свое высокомерное, фантастическое самодовольство на
убожестве и недостатках других.
Сильные антипатии всегда подозрительны — они выдают внутреннюю
близость. Различие между вульгарными личностями высокого и низкого
пошиба3 по большей части сводится к внешним обстоятельствам.
Самодовольный фат осуждает одежду клоуна, подобно тому, как педант придирается к
грамматическим ошибкам не учившегося грамоте или ханжа возмущается
падением своей слабохарактерной знакомой. Тот, кто лишен внутренних
ресурсов, естественно, ищет пищи для своего себялюбия на стороне. Самые
невежественные люди больше других находят поводы для насмешки над
чужаками; сплетни и клевета более всего процветают в сельской местности,
а склонность высмеивать ничтожнейшие или наиболее явные отклонения от
одобряемого нами поведения пропадает с воцарением здравого смысла и
порядочности*.
Подлинно достойный человек не радуется недостаткам и ошибкам других;
точно так же истинно утонченный отводит взор от мерзости и уродства, но
не предается низкому торжеству над ними. Рафаэля не испугала бы просьба
нарисовать вывеску, а Гомер не задрал бы нос, очутившись в обществе
уличного певца. Подлинная сила и подлинное совершенство не нуждаются в
посредственности для контраста, не боятся запачкаться, соприкоснувшись с
грубостью и безобразием, ибо остаются верными самим себе и одинаково
свободными и от злобы, и от жеманства.
Между тем мнимый аристократизм есть именно воплощение злобы и
жеманства — деланного восторга по поводу собственных мнимых достоинств
и невыразимого презрения к невольным ошибкам или случайным промахам
тех, кого почитает нижестоящими. Так, модная барышня хихикает и готова
лопнуть от смеха при виде нескладной шляпки или неуклюжего (в духе
* «Представим себе европейца, сбрившего бороду, надевшего парик или завязавшего
собственные волосы в крупные жесткие узлы, как можно более протавоестественные, а
затем закрепившего с помощью кабаньего жира и посыпавшего мукой, которая с помощью
особой машины ложится исключительно ровными рядами. И вот он в таком виде выходит
на улицу и встречает индейца чероки, который потратил на свой туалет не меньше
времени и с такой же тщательностью раскрасил в желто-красные цвета свой лоб и щеки. Из этих
двух истинный варвар — тот, кто первым засмеялся и выказал презрение к другому за
следование моде родной страны» [Сэр Джошуа Рейнолдс. Лекции. Т. I. С. 231—232)4.
XVI. Вульгарность и жеманство
179
Джини Динз)5 реверанса деревенской девушки, которая пришла наниматься
в прислуги к ее мамаше. Однако вполне очевидно, как мало причин у нее
столь истерически выражать восхищение собственной особой и презрение к
невежественной селянке: ведь та же шляпка встретила бы самый теплый
прием, будь она преподнесена как новомодное изделие французской
модистки, и через неделю барышня и горничная сблизились бы настолько, что
часами напролет болтали бы на равных про шляпки, ленты и кружева.
Разница между ними только в их положении: одна на кухне, другая в гостиной.
Окажись они в сходных обстоятельствах, они были бы неотличимы. Какова
хозяйка, такова и служанка. Их разговоры, мысли, мечты, предпочтения в
точности совпадают. Барышня не думает ни о чем, кроме нарядов и
украшений, и служанка тоже; барышня мечтает ездить в карете, запряженной
шестерней, — и служанка тоже, да только это не в ее власти! У идеального
возлюбленного, по мнению барышни, глаза черные, а щеки румяные — в точности как
у возлюбленного служанки: обеим нравятся элегантные мужчины, но
служанке нужен лакей, а барышне — его хозяин. Обеим по душе красивая мебель,
богатые дома, обе повторяют словечки «противный» и «ужасный» по поводу
одних и тех же предметов и лиц, обе без ума от балов, спектаклей,
развлечений, сборников песен и любовных историй; обеим по вкусу свадьбы и
крестины, и обе пожертвовали бы мизинцем, только бы увидеть коронацию, — с той
лишь разницей, что барышня еще может надеяться на приглашение, а
служанка знает, что такой надежды у нее нет, и умирает от зависти.
Поистине коронация есть церемония, одинаково восхищающая и
величайшего монарха, и нижайшего его подданного — подонка из черни. Однако эта
вершина аристократизма, воплощение высшего внешнего отличия и
великолепия мне представляется вульгарной церемонией. В самом деле, какая
степень утонченности, одаренности, добродетели требуется от героя, столь
высоко возносимого? Что нужно, дабы он мог наслаждаться праздничным и
пышным обрядом, выставляющим напоказ его персону? Он что — радуется
царственной колеснице и позолоченной обшивке? Но точно такое же
удовольствие получает и распоследний бедняк! Или его поражает энергия, красота и
симметричное расположение восьми молочно-белых лошадей? Так ведь этим
зрелищем восторгается и всякий из тех бесчисленных зевак, что валят
толпами полюбоваться на процессию, будь он из города или деревни, из
бедного лондонского квартала или богатого, стар или молод, благородного или
низкого происхождения. Восхищается гвардейцами, воинским эскортом,
дамами, символами верховной власти — королевской короной, жезлом
маршала, судейской мантией — стройными рядами, шествующими впереди и за ним,
переполненными народом улицами, окнами, из которых глазеют
любопытные? Однако не меньше увлечена и чернь, ибо у нее «есть глаза, которые
видят»6. Нет такой природной или благоприобретенной особенности тела или
180
Застольные беседы
души, которая не была бы в равной мере присуща как главному
действующему лицу, так и самому последнему и самому презренному участнику
церемонии. Сгодилась бы и восковая фигура — ведь лорд-мэр Лондона может
похвастаться не меньшим обилием мишуры. Мне хотелось бы увидеть такого
короля, который способен сделать то, на что у других не хватит ни сил, ни
великодушия, или сказать то, на что ни у кого другого недостанет мудрости,
или просто оказаться красивее, задумчивее, благожелательнее всех
обитателей своих владений; но мое мнение о монархе не становится выше оттого, что
из появления короля делают зрелище. Если спектакль обошелся бы без него,
значит, и он может обойтись без спектакля. О королях нередко говорят, что
они «любители простецкой компании»7, так как находят в ней меньше
сопротивления своим желаниям; однако это изречение имеет и другое обоснование,
связанное с общим ходом моих рассуждений, а именно: в такой компании они
чаще встречают людей со сходными вкусами.
Безголовые невежды — вот кто более всех восхищается дорогими
побрякушками — внешними атрибутами богатства и власти, красочностью и
шумом, составляющими радость и неотъемлемое право королей. Глупейший из
рабов боготворит самое кричащее безвкусие тирана. Примитивнейшие
раздражители больше всего говорят примитивному восприятию, льстят гордости
вышестоящих и возбуждают раболепие зависимых; более высокий уровень
моральной и интеллектуальной утонченности побуждает людей тщетно
искать более веские доказательства истинного достоинства и нравственного
величия у тех, кому они поклоняются, и отсутствие у последних
божественной сути приводит к досаде и разочарованию обеих сторон. Только крики
толпы помогают отличить короля от его подданных. И если он лишится этих
криков и вынужден будет безнадежно уповать только на поддержку мудрых
и праведных, он превратится в несчастнейшего из людей. Но довольно об
этом.
«Она (имеется в виду опера) мне нравится, — говорит мисс Брэнгтон* в
романе "Эвелина"8, — потому что в ней нет вульгарности». Это значит, что
опера нравится ей не достоинствами своими, а потому, что обыкновенные
зрители не могут ни понять, ни одобрить ее. Янус Уэзеркок, эсквайр,
презрительно высмеивает, язвительно порицает и совершенно осуждает9 мою
театральную критику в «Лондонском журнале» по столь же изысканной
причине; поэтому я должен разделаться с ним in terrorem** всех подобных сверх-
* Значащееся в рукописи имя Броутон превратилось по ошибке наборщика в Брэнгтон.
Однако имя Брэнгтон показалось подходящим к случаю и было оставлено. «Можете
погрузить его в океан,.— как говорит у Стерна цирюльник о локоне парика, — все равно он
будет держаться»10.
** для устрашения (лат.).
XVI. Вульгарность и жеманство
181
критиков. Он обрушивается на меня и объявляет мой вкус вульгарным,
потому что я посещаю «Сэдлерз-Уэллз»11 — он «слыхал о нем»12 — о Господи, сэр,
потому что я заметил барышень Деннетт, любимиц обитателей Уайтчепела13,
хвалю мисс Валанси, игривую Коломбину в Эшли14 «и всяких этаких местах»,
как сообщил ему цирюльник15 (неужто он не может проникнуться к себе
уважением без того, чтобы позлорадствовать по поводу неграмотности своего
цирюльника?). И наконец, он громит меня потому, что я признаю достоинства
театров Кобург и Суррей16, при одном упоминании о которых он
многозначительно выкрикивает «Фу!», как если бы у него были какие-то личные
причины питать к ним отвращение, хотя считается, что он никогда в них не
заглядывал — это ему как хорошо воспитанному критику не подобает. C'est beau
ça*. Ну а мне такой образ мыслей представляется весьма примитивным,
дурацким, огульным, неразборчивым и вульгарным. Он предполагает
поспешное осуждение всего скопом, по названию, адресу, разряду, без оценки
подлинной сущности настоящих достоинств и индивидуальных особенностей. В
таком подходе нет ни продуманности, ни правдивости, ни тонкости.
Напускное невежество голословно объявляется мудростью и признаком
превосходства. Какая откровенная наглость! Какое циничное самодовольство! Никак
иначе об этом не скажешь.
Осуждать только потому, что толпа восхищается, по сути, так же
вульгарно, как восхищаться оттого, что она восхищается. Ни в том, ни в другом
случае не проявляется ни вкус, ни рассудительность, и там и там нет и намека
на здравый смысл, но я, пожалуй, предпочел бы более добродушный вариант.
Я так же готов согласиться с моим цирюльником, как и разойтись с ним во
мнениях, а раз так, почему я должен непременно стремиться опровергнуть
приговор обитателей Уайтчепела? И как может повлиять на мою оценку
актера Кобургского или Суррейского театра вопрос о том, какого рода
публика их посещает?17 Такие критерии ведут к поспешным, упрощенным,
грубым и механическим суждениям.
Не составляет труда решать вопросы вкуса с помощью карты Лондона или
доказывать широту своих взглядов, опираясь на географические различия.
Янус — великий мастер путаницы. Доведись ему увидеть мистера Кина в
провинциальном театре, в Эксетере18 или Тонтоне19, он почел бы хвалу ему
вульгарной; но когда тот удостоился одобрения в Лондоне, Янус именно
своим умением следовать моде, несомненно, продемонстрировал бы
проницательность и тонкость понимания характеров и страстей. Барышни Деннетт
для него всего лишь «девочки в форменной одежде»20 — только потому, что
танцевали в одном из маленьких театров; но как только они возвысятся до
подмостков Оперы, как только красотки и модницы сезона встретят их гро-
* Как прелестно [фр).
182
Застольные беседы
мом восторженных аплодисментов, они сразу окажутся для Януса много
выше, чем Милани21 и ее «огненные ножки»22. Его тошнит при одном
упоминании некоторых районов города, но все, что принято в других, «глотает он,
не глядя, вместе с шелухой»23. Это не вкус, а глупость. Если так смотреть, то
кучер, который возит Януса, или конь его Помощник (которого он
представил читателям в качестве разборчивого персонажа) знают ровно столько же,
сколько он сам.
Одним словом, ответ на все эти обвинения и дает определение
вульгарности. По-моему, суть ее в том, чтобы тупо перенимать манеры, поступки,
слова, мнения у других, не обращая внимания на собственные чувства и не
подвергая наблюдаемое критической оценке. В этом проявляется грубость или
поверхностность вкуса, определяемая отсутствием тонкости и чрезмерной
самоуверенностью и самодовольством, внушенными чужим примером или
возникшими под влиянием толпы. Рабское подражание более или менее
очевидным недостаткам тех, с кем мы себя ассоциируем, с целью заручиться их
поддержкой, можно назвать проституцией тела и души.
Щеголять жестами, мнениями, выражениями только потому, что они
увлекают многих, или, напротив, негодовать по их поводу только потому, что
другие, вряд ли более образованные, отвергают их из желания отличаться от
первых, в любом случае равно вульгарно и нелепо. Ничто нельзя назвать
вульгарным только потому, что оно распространено или свойственно всем. Всем
свойственно дышать, видеть, чувствовать, жить. Ничто естественное,
непосредственное, неизбежное не вульгарно. Грубость не вульгарна, невежество
не вульгарно, неуклюжесть не вульгарна, но они становятся вульгарными,
если их выставляют напоказ, если кичатся ими, следуя чужому примеру, моде
или представлениям, господствующим среди своих. Калибан24 груб, но уж
точно не вульгарен. С тем же успехом мы могли бы растоптать, назвав
вульгарным, ком земли под ногами. Коббет довольно груб, но опять-таки не
вульгарен. Он не принадлежит к стаду. Истинное, оригинальное никогда не
вульгарно, но подражатель Коббета показался бы мне вульгарным. Йоркширец в
исполнении Эмери25 вульгарен, потому что он йоркширец, в котором гнездятся
фарисейство и дичь, хитрость и пошлость низших классов определенной
местности; на нем стоит «особая провинциальная печать»26. Он мог бы
«лопотать бессмысленно»27 — и при этом избежать обвинения в вульгарности, если
бы его не «выдавала речь»28, если бы не служил последней уликой его
диалект, как жаргон выдает праздношатающихся гуляк с Бонд-стрит29. Не
имело бы совершенно никакого значения, будь он просто обыкновенным
болваном, но ведь он считает себя докой по меркам и обычаям тех, с кем он вырос,
и эти мерки, думает он, пригодны на все случаи жизни. Одним словом, такой
тип — не талантливое, пусть и неотесанное, создание природы, а порождение
скверных привычек; он воплощенное невежество и самодовольство, да еще
XVI. Вульгарность и жеманство
183
с примесью жаргона. Всякий жаргон вульгарен, но в простой разговорной
английской речи никакой вульгарности нет.
Простота не вульгарна — вульгарны претензии на несуществующую
изысканность. Кокни — это вульгарная личность, чье воображение не выходит за
окраину столичного города; то же можно сказать о человеке, который
неспособен думать ни о чем, кроме эдинбургской Хай-стрит30, — но мы не знаем,
каким словом его обозначить. Вульгарны взгляды, пропитанные дурно
пахнущим дыханием черни, но они не становятся чище и возвышеннее, пройдя
через хорошо вычищенные зубы двора. Вульгарно, не имея собственного
мнения о предмете, опираться исключительно на грубые, слепые,
безрассудные, стадные представления, возникшие под влиянием толпы — или
привередливого меньшинства, столь же не восприимчивого к истине и столь же
безразличного ко всему, кроме своих ничтожно мелких претензий.
Высшие классы не разумнее низших, потому что полны решимости быть
непохожими на них. Светских людей от несветских отличает только
принадлежность к свету. По-настоящему вульгарны лишь «servum pecus irnitatorum»* —
стадо притязателей на несвойственные им чувства и на все им чуждое, как в
высшем, так и в низшем свете. Принадлежность к любому классу, вращение
в любом кругу общества сами по себе не выделяют человека среди ему
подобных и не являются признаком утонченности. В любом классе люди
утонченные будут исключением, а не правилом, и встретиться это исключение может
как в одном, так и в другом классе.
Король — это всего-навсего наследный титул. Лицо благородного звания —
только один из членов палаты лордов. Звание рыцаря или олдермена, по
общему мнению, вульгарно. Король на днях произвел сэра Вальтера Скотта
в баронеты31, но всей власти трех сословий не хватит, чтобы сотворить еще
одного автора «Уэверли». Государи, герои — зачастую вполне заурядные
люди. Гамлет не вульгарен как персонаж, Дон-Кихот тоже. Быть автором,
быть художником — ничто. Это фокус, ремесло.
Быть автором? Какая выше честь?
Удачников по пальцам можно счесть!32
Да что там — быть членом Королевской академии или Королевского
общества — всего лишь вульгарная привилегия, но родиться Вергилием, Милто-
ном, Рафаэлем, Клодом можно только один раз за всю историю человечества.
Вот они, по-моему, не были вульгарны, между тем как первый камергер33
может быть очень вульгарен — а может и не быть — мне об этом ничего не
известно. Таковы, собственно говоря, мои представления о вульгарности и
утонченности.
* «подражатели, скот раболепный»34 (лат.).
184
Застольные беседы
Толпа может быть и плохо и хорошо одета — и все равно она мне
одинаково противна. «Odi profanum vulgus, et arceo»*. Пустозвонное жеманство
хорошо одетой толпы мне еще несноснее, чем грубая наглость и жестокость
плохо одетой. Простые парни шумят, ругаются и горлопанят, чтобы показать
свое презрение к окружающим, тогда как светские франты тошнотворно
жеманны и изнеженны, чтобы доказать свою идеальную благовоспитанность.
Первые руководствуются своими чувствами, пусть примитивными и дурно
направленными, вторые же заботятся только о соблюдении внешних
приличий, каковые не могут служить критерием ни счастья, ни добродетели.
В своих гравюрах Хогарт неопровержимо показал точное соотношение
претензий отъявленного негодяя и soi-disant** безупречного джентльмена. Что
бы там ни утверждалось в изысканных письмах лорда Чесгерфилда и
рыцарственных монологах Бёрка, из назидательных изображений Хогарта не
явствует, что порок, утративший грубость, становится наполовину менее опасен35. В
действительности он делается более презренным, но не менее отвратительным.
Что общего между красавчиками и красотками, повесами и кокетками
Хогарта и мужчинами и женщинами, подлинно героическими и идеальными
персонажами Рафаэля? Светские люди у Хогарта стоят на одном уровне с его
низменными, эгоистическими, неидеальными характерами, созданными с точки
зрения, противоположной Рафаэлю; в сущности, те и другие одинаковы,
разве только меняются местами. Если люди низкого звания движимы завистью
и отсутствием милосердия по отношению к высшим, то у последних едва ли
есть какие-либо чувства, кроме гордости, презрения и неприязни к низшим.
Бедняки хотели бы стащить богачей с высот, чтобы захватить их добро, а
богачи хотели бы пропустить бедняков через пресс и выжать последний
шиллинг из их карманов и последнюю каплю крови из их жил. Коль скоро нас
шокируют бурное своеволие и беспорядочная суматоха в пивной, то что
сказать о нарочитой неискренности, скучном отсутствии здравого смысла,
черством равнодушии, господствующих в гостиных и будуарах?
По-моему, откровенное, неприкрашенное выражение обычных
человеческих чувств (а они, в сущности, всегда одни и те же) лучше, чем их
подавление, удушение и полная консервация под блестящей маской гладкой,
холодной мнимой утонченности и общепринятой вежливости. В первом случае
возможно совершенствование при более высоком уровне знания и культуры,
во втором — перед нами неисправимая, упрямая, бессердечная
развращенность. Не могу описать словами, какое питаю презрение и отвращение к тону
так назьшаемого хорошего общества, его прилизанному, елейному,
лощеному, улыбчивому утверждению своего превосходства над всеми принципами
человечности и порядочности; все это в высшем свете рассматривается как
* «Противна чернь мне, чуждая тайн моих»36 (лат.).
** так назьшаемого (фр).
XVI. Вульгарность и жеманство
185
часть этикета, умственное и нравственное сопровождение застолья, причем
любое изъявление терпимости или расположения к нижним слоям общества,
то есть к массе себе подобных, считается нарушением приличий и гармонии
правильно устроенного общества.
Короче говоря, по мне, клетка с медведями лучше логова гадюк, или,
выражаясь еще сильнее, я охотнее вытерплю присутствие личности крайне
примитивной, оскорбляющей собою достоинство человека, чем обезьян, которые
«корчат рожи и гримаски»37, глядя на сумасбродства, ими самими вызванные.
Я лучше переношу жестокость — так принято говорить — толпы, чем
бесчеловечность королевских дворов. Толпа бушует, как огонь, а двор своей коварной
политикой ударяет так, что превосходит роковую неотвратимость чумы.
Медленно действующий яд деспотизма хуже судорожных схваток
анархии. «Из всех зол, — говорит Юм, — анархия — самое кратковременное»38. Она
может взбурлить, «как яростный разлив реки весною»39, в то время как
политика двора, защищенного священной тайной своего положения, идет
невидимыми путями, на целые века подрывает благополучие царств, таится во
впалых щеках неимущих и глядит вам в лицо их жуткими глазами, полными
горя и отчаяния. Страшен шум и гам толпы, доведенной до бешенства
несправедливостью и подстегнутой сочувствием; но еще ужаснее думать об улыбках,
на которые отвечают другие вежливые улыбки, о шепоте, на который
отзывается одобрительный шепот, обрекающий толпу сперва на отчаяние, а потом
и на уничтожение. Ярости народа соответствует раболепие двора. От
первого можно опасаться любого насилия, а второй обдуманно дает добро на
любое беззаконие, не оглядываясь на справедливость и порядочность. Фраза
некоего царя «Иди, и ты поступай так же»40 заставляет замереть самые
храбрые сердца; правда и честь отступают перед ней*. Да, у черни есть свои
лозунги, но ведь и высший свет тоже имеет набор избитых фраз,
подобострастный, бессмысленный жаргон. Мне ненавистны и те, и другие.
Возвратимся теперь к вопросу о личных, частных манерах. Превосходной
иллюстрацией нелепо выпячиваемой, поддельной утонченности является
образ Гертруды в старинной комедии «Эй, на восток!»41, написанной
совместно Беном Джонсоном, Марстоном и Чапменом. Считается, что именно эта
пьеса подсказала Хогарту сюжет его гравюр о праздном и трудолюбивом
подмастерьях; во всяком случае, некое Хогартово начало явственно ощущается
в том, как изображены в этой пьесе люди и простые, и утонченные.
Особенно удался авторам неподражаемый образ Гертруды, героини пьесы. Смесь
тщеславия и низости, внутренняя ничтожность и внешние претензии,
невежество деревенщины и повадки знатной дамы, опьянение новизной и одержи-
* Когда знатную даму спросили об известном своими любовными похождениями
царствующем лице: «Следующая очередь, видимо, будет ваша?», она ответила: «Надеюсь, что
нет, — ведь вы знаете, отказать нельзя».
186
Застольные беседы
мость гордыни — все это больше похоже на сказку или роман, чем на
реальную жизнь. Золушка со своей хрустальной туфелькой банальна по сравнению
с этой женщиной. В отличие от Милламант42 (столетие спустя), Гертруда не
изящная светская дама, но только притязает на щегольство и аристократизм,
ей приписываемые. Она изображена во время своего медового месяца, на
пике безрассудства. Быть женой, притом женой обладателя рыцарского
звания, быть леди — для нее удовольствие, «сверкающее новизной»43, и она с
беспредельным восторгом взирает на обе стороны своего положения. С
двором ее связывает не давнее знакомство, а новизна. Из низин городской
жизни она воспарила к высотам изысканности и порхает среди них с
неописуемым восторгом бабочки, которая только что была гусеницей. Обращение
«миледи» пьянит ее, кружит голову и почти сводит с ума. Ради него одного
она готова выставить за дверь отца и мать, а с братом и сестрой обращается
крайне пренебрежительно и жестокосердно.
По мнению некоторых мыслителей, современная философия убила или
извратила естественные привязанности, тогда как в обществе стародавних
времен, до появления абстрактных идей и злокозненных тонкостей
литературы, безраздельно властвовали простота и пасторальная невинность нравов,
Царили сердобольность и участье44.
Упомянутая пьеса решительно, хотя и вполне деликатно, опровергает эту
теорию. Тщеславие героини сравнимо только с ее невежеством, а
беспринципность превосходит то и другое, вместе взятые. Она мечтает и помышляет
только о том, чтобы любоваться в зеркале собой и своими украшениями, чтобы ее
считали и называли леди, стоящей выше жены простого горожанина*. Она так
* Гертруда. Если хочешь увидеть образец терпения, подожди сэра Петронела. Он до
того добрый, тонкий, деликатный — пожалуйста, скажи мне, когда он придет. Сестричка
Милл, хотя мой отец всего-навсего торговец, я должна быть леди и благодарю Бога, что
моя мать должна называть меня мадам. Что, он идет? Скорей сними с меня это платье,
пусть мой рыцарь не видит меня в обыкновенном городском наряде! Срывай его с меня!
Рви его! Черт с ним! Он идет! (Поет.) «Пусть спит она, пока о ней скорблю я».
Милдред. Господи, с каким нескромным нетерпением и гадким презрением
сбрасываешь ты, сестрица, свой городской наряд! Мне грустно видеть, что ты считаешь
справедливым несправедливое отношение к тому, что создало нас обеих.
Гертруда. Я уже сказала тебе. Я не выношу этого. Я должна быть леди, а ты, если
хочешь, ходи в шляпке с лондонской этикеткой, в юбке с двумя застежками, в своем
дурацком платье с наколкой и бархатными кружевами! А я должна быть леди и буду! Кое-какие
привычки городских дам мне нравятся: есть фунт черешни за гроши — хорошо!
Перекрашивать пурпуровый цвет в черный — очень мило; прошить платье бархатными нитками —
сносно, но все твое кривлянье, украшеньица, салфеточки, нижние юбочки, серебряные
шпильки — ей же богу — раз я буду леди, я не стану терпеть все это.
Милдред. Ну что ж, сестрица. Кто презрел свое гнездо, того крылья подведут.
Гертруда. Глупости! Увы, бедная Милл, когда я стану леди, я буду искренне мо-
XVI. Вульгарность и жеманство
187
жаждет роскоши, что верит в чудо, которое ей эту роскошь принесет, и ждет,
когда же феи ее доставят*. Наша дама выше мыслей о том, чтобы выговорить
литься за тебя и снизойду до того, чтобы называть тебя сестрой, хотя вряд ли ты станешь
леди, как я; однако ты — божье творенье и, может быть, дождешься спасения вместе со
мной. Он идет? (Поет.) «И песня звонкая слышней, слышней».
Милдред. Что за глупая обезьяна пришла, миледи!
Входят сэр Петронел Флэш, мистер Тэчстоун и миссис Тэчстоун.
Гертруда. Пришел мой рыцарь? О Господи, где моя повязка? Сестрица, как у меня
щеки? Дай мне легкую пощечину, чтобы вид был такой, как если бы я покраснела. Вот,
вот, так, так. Вот он! Радость моя! Боже, боже! Ну, как мой рыцарь поживает?
Тэчстоун. Побольше бы скромности!
Гертруда. Скромности! Я не горожанка! Скромности! Разве я не выхожу замуж?
Вы должны охранять мою скромность, раз я скоро стану леди!
Сэр Петронел. Смелость — это прекрасная мода и близка двору.
Гертруда. Да, надеюсь, она к лицу леди, живущей в своем поместье. А почему вы
раньше не приходили, баронет?
Сэр Петронел. По правде, я ужасно был занят делами с неким графом Эперно-
ном, валлийским баронетом, а потом у нас было состязание в игре в мяч с лордом
Вакуумом, на четыре кроны.
Гертруда. А когда мы женимся, баронет?
Сэр Петронел. Я для этой церемонии и явился: ваш отец может назвать
бедного баронета своим зятем.
Миссис Тэчстоун. Да, он баронет, и я знаю, откуда он достал деньги, чтобы
заплатить церемониймейстерам и герольдам. Да, он баронет, и ты мог бы быть баронетом,
кабы не был таким же ослом, как некоторые твои приятели. Если бы я думала, что тебя
не собираются посвящать в рыцари, то я, как честная женщина, сама бы посвятила —
благо, есть на что. Что же касается тебя, дочь моя...
Гертруда. Да, мама. Завтра я должна стать леди и с твоего разрешения, мама (я
говорю это не от себя, а по праву мужа моего), я должна занять твое место, мама.
Миссис Тэчстоун. Конечно, леди-дочка, и карета у тебя будет, как у меня.
Гертруда. Да, мама, но мои лошади должны занять место твоих лошадей.
Тэчстоун. Пора, пора, день клонится к концу, время ужинать. Сэр, питайте
уважение к моей дочери — ради вас она отказывалась от брака с состоятельными,
порядочными, заведомо хорошими людьми.
Гертруда. Господи, да ведь это были обыкновенные граждане! Дорогой рыцарь,
как только мы поженимся, увезите меня из этого противного города. Чтобы я не
чувствовала угольного запаха Ньюкасла45 и не слышала звона колоколов Боу46. Умоляю тебя,
увези меня скорее ради бога (акт I, сц. I)47
Помешательство на всем показном (включая звуки) характерно для этого времени
(см. «Новый способ платить по старым долгам» и т. п.); как будто при грубости чувств
и отсутствии тем для интеллектуальных бесед, отвлеченных мыслей и рассуждений,
принятых теперь, люди не могли противиться обаянию звуков собственного имени в
сочетании с титулом и представлению о себе, облаченному в старомодно роскошные одежды.
Эффект, несомненно, усиливался также благодаря большему, чем в наши дни,
контрасту между характерной для того времени нуждой и бедностью, с одной стороны, и
экстравагантностью роскоши и искусственной изысканности, с другой.
* Гертруда. Подумать только, что в наши дни нет фей, Син.
Синдефай. Зачем они, мадам?
Гертруда. Затем, чтобы творить чудеса и доставлять дамам деньги. Ведь если б
188
Застольные беседы
себе вдовью часть наследства, определенную сумму на расходы или даже на
булавки. Она всю дорогу принимает желаемое за действительное и так
оглушена вульгарным, невежественным представлением о значении ранга и
титула (как о чем-то реальном, чего нельзя подделать), что становится жертвой
собственной тонкой стратегии и выходит замуж за болвана, дурака,
жалкого авантюриста, принимая его за истинного джентльмена. Ее убожество — под
стать глупости и гордыне (большей не бывает), но она долго держится за свои
первоначальные претензии и играет роль выскочки с внушительной
последовательностью и убедительностью. Безрассудства и капризы героини сродни
извращенности больного воображения; еще один поворот колеса фортуны —
и она окажется в сумасшедшем доме среди «Чудесниц» Хогарта48 или
кокеток Деккера49.
Другие части пьесы напоминают грустно-меланхолический подветренный
берег, подобный мысу Рогоносца в Эссексе, где и происходит заранее
подготовленное кораблекрушение, завершающее пьесу. Такой конец характерен
для того времени и служит контрастом легкомысленному, фальшивому
характеру главной героини. Если верить Хогарту как нравоописателю, то мы
весьма недалеко продвинулись за годы, истекшие со времени действия пьесы,
до того периода, когда он творил. Зато какие удивительные успехи у нас
сейчас! Не входя в подробности, упомяну только одну область, где, по-моему,
произошли разительные перемены к лучшему — домашнее хозяйство. Я имею
в виду отношения хозяек и прислуги. Замужней женщине старой школы
кроме визитов и нарядов оставалось только распоряжаться по хозяйству.
Удовлетворить свою жажду власти она могла, лишь увещевая слуг и
помыкая ими. Современное образование вытесняет старомодную систему
кухонного краснобайства и распорядительства. Воспитанная женщина теперь редко
ходит на кухню приглядывать за прислугой, тогда как прежде образцовыми
хозяйками и примерными распорядительницами считались только такие,
мы жили в чистом доме, они бы поселились у нас. Я попробую сегодня подмести комнату
и поставить воду на огонь. Может быть, придет фея и принесет жемчужину или бриллиант.
Мы ведь ничего не знаем, Син: может быть, во дворе спрятан горшок с золотом. Было бы
у нас только чем выкопать его! А почему мы не можем встать рано утром, Син, пока никого
на улице нет, и найти драгоценностей на сто фунтов? Разве не может важная придворная
дама выглянуть в окошко кареты, возвращаясь с пышного празднества, и на полном ходу
потерять такую драгоценность — и мы бы ее нашли!
Синдефай. Какие милые мечты!
Гертруда. А разве ростовщик не может спьяну оставить мешок с деньгами на
прилавке? Ради бога, Син, встанем завтра на рассвете и поищем. Право же, если бы у меня
было столько денег, сколько у олдермена, я бы рассыпала хоть немного для бедных леди,
у которых рыцари вышли из игры. Вот я вспомнила свою «Песенку о золотом дожде».
Почему ко мне не может прийти такое богатство? Спою ее, и, может быть, она принесет мне
счастье (акт V, сц. 1).
XVI. Вульгарность и жеманство
189
которые днем и ночью круглый год охотились за служанками, не давая им ни
отдыха, ни срока. Теперь служанкам позволяют спокойно работать, не мучая
ни подозрениями, ни назойливым вмешательством, ни замечаниями на
каждом шагу, и благодаря этому они только лучше работают. Поговорки о том,
что за прислугой нужен глаз да глаз, ушли в прошлое. Те самые женщины,
у которых привычка к дозору и взысканиям превратилась в такую неуемную
страсть, что они безостановочно бранили своих служанок полсотни лет
кряду, теперь слишком заняты, ибо уступают соблазну прочесть последнюю
поэму или новый роман, чтобы было о чем поговорить во время следующего
визита. /Хая всех сторон благо неисчислимо!
XVII
ПЕЙЗАЖ НИКОЛА ПУССЕНА
И Орион слепой, рассвета ждущий1.
Изображенный на этой картине Орион2 был классическим Нимродом;3 Гомер
называет его «тенью в охоте за тенями»4. Он был сыном Нептуна. Когда в
сражении между богами и людьми Орион потерял глаз, ему сказали, что
зрение вернется к нему, если он пойдет навстречу восходящему солнцу5. На
картине он изображен в ту минуту, когда отправляется в путь: на плечах у
него стоит поводырь, в руке у великана лук, а Диана приветствует путника из
облаков. Он шагает, но шатается и сбивается с шага, как будто только что
проснулся или не знает толком, куда идти; хотя он стоит к вам спиной, вы
видите, что он слеп. Вокруг него стелется дымка, окутывающая опушку
зеленого леса; земля сырая, свежая от росы, «Плеяды и Заря кружатся в
хороводе»6, вдали виднеются голубые холмы и мрачный океан.
Никогда не существовало более тонкого замысла и исполнения. Влажное
утро дышит покоем, все затянуто тонкой пеленой тумана, словно природа
поджидает, когда чудесный свет зажжет повсюду улыбки; всё, подобно
центральной фигуре, «предвещает рассвет»7. Один и тот же цвет окрашивает и
пронизывает все предметы, один и тот же тусклый свет «обличье призрачное
придает»8 природе. Ощущение широты, странности, первобытности наполняет
полотно художника и возвращает нас к изначальной целостности бытия.
Можно сказать, что этот великий и ученый человек видит природу через
призму времени; он один имеет право на звание художника классической
древности. В этом смысле сэр Джошуа отдавал ему должное. Пуссен умел
придать пейзажу своих картин на героические сюжеты вид нетронутости,
свойственный первозданной природе, передать ее полноту, основательность,
широту, богатство, заключенную в ней жизнь и силу — и в то же время уснастить
ее всей пышностью искусства, храмами, башнями, мифическими рощами. Его
картины запечатлевают «предрешенный вывод»9. Он приспосабливает приро-
XVII. Пейзаж Никола Пуссена
191
ду к своим целям, трактует ее в соответствии со своим образом мыслей,
воплощает поэтический вымысел; когда осуществлен первый замысел, из него
будто бы растут и с ним словно бы сливаются все остальные, следуя вечным
законам деятельного воображения. Подобно своему Ориону, художник
обозревает все вокруг и, по-видимому «считает острова порошинками и для
равновесия добавляет землю»10. Ценою напряженного труда и мощных усилий,
направленных на понимание предмета, Пуссен придает природе идеальные,
античные очертания. Среди художников он, как никто другой, был тем же,
чем Милтон был среди поэтов. Им обоим свойственны одинаковая
педантичность, непреклонность, возвышенность, одинаковое величие, сочетание
природы и искусства, богатство заимствований, цельность. Ни поэт, ни художник не
принижали изображаемый предмет, но силою фантазии наполняли его
очертания реальным содержанием, придавали ему могущество и тем самым не
просто удовлетворяли, но и далеко превосходили ожидания зрителя и
читателя. А в этом и заключается триумф и совершенство произведения искусства.
Одобрения и похвалы заслуживает тот, кто умеет показать природу такой,
какой мы ее видим, но еще более высокой похвалы и горячего одобрения
заслуживает тот, кто покажет природу такой, какой мы никогда не видели,
но хотели бы увидеть. Лишь тот, кто умеет воссоздать мир в его нагом
первозданном великолепии, в ореоле фантазии, «года расцвета»11, передать
значение истории, запечатленной в горделивых памятниках канувших в Лету
царств, кто «силой своей магии»12 может воскресить прошлое, унести нас в
дальние края и соединить мир воображаемого (еще одно завоевание) с миром
реальным, кто показывает нам природу не только такой, как она есть, а
какой была и может быть, и делает это просто, правдиво, возвышенно — тот
властелин природы и ее возможностей; его душа вырастает до размеров
мироздания, э искусство превращается в абсолют.
Во всем этом ничего «сверхъестественного»13 не было бы, если бы можно
было убедить критиков думать так же. Художник, пишущий исторические
полотна, не пренебрегает природой и не вступает с ней в спор, но следует за
нею к ее фантастическим вершинам и в ее тайные убежища. Он показывает,
какой она могла бы быть в тех или иных предполагаемых обстоятельствах.
«Воздушному "ничто" дает и обиталище, и имя»14. От одного его
прикосновения слова приобретают образность, мысли — материальность. Он придает
грезе, призрачному видению цвет, очертания и благотворные признаки
реальности. Его искусство — просто вторая природа, но не иная, отличная от первой.
Бытует мнение, что путь к совершенству подразумевает отказ от
подражания природе. Те, кто бессилен нарисовать увиденные предметы, воображают,
будто способны воплотить в картине невидимые идеи. Однако потерпеть
неудачу в последнем, более сложном, стиле изобразительного искусства столь
же легко, сколь и в первом, более простом. Правда, в последнем случае ра-
192
Застольные беседы
зоблачить обман не так легко, поскольку под рукой нет предметов для
сравнения и, следовательно, остается больше места для ложных претензий и
самообмана. Такие художники выбирают эпическую тему или сюжет и
полагают, что дух в картине появится сам собой. Они пишут посредственные
портреты, плаксивые, безжизненные, лишенные выражения лица, в которых
нельзя найти ни черточки, ни капли, ни частицы природы, и воображают, что
тем самым возвысились до исторической правды. Они унижают и опошляют
все, что дорого и свято, и полагают, что таким образом прибавляют
достоинства своему ремеслу. Они изображают лица, в которых будто никогда не
было проблеска ни мысли, ни чувства, и хотят уверить вас, что им удалось
передать то самое возвышенное выражение, что воодушевляло лица героев
или полубогов в те давние времена, когда восторг и муки достигали
верхнего предела. На пейзажах таких горе-художников никогда не светит солнце,
а они говорят вам, что не изображают современность и что именно так
выглядела земля, когда Титан впервые бросил на нее свои лучи15. Однако это
нельзя назвать истинным идеалом. Так можно только повредить и испортить
существующие в уме формы для отливки образов, но никак не наполнить их
подходящим материалом; с такого рода умениями не то что не превзойти
убогие представления, существующие в сознании толпы, а даже и не
дотянуться до них. Подобные картины не должны висеть рядом с «Орионом»*.
Из всех художников Пуссен был наиболее поэтичен. Он изображал идеи.
Никто никогда не рассказывал и вполовину так хорошо, не понимал так ясно,
что может передать кисть. Он схватывал и необыкновенно точно, изящно
выражал именно ту точку зрения, которая вероятнее всего способна захватить
зрителя. Никакой другой художник не вкладывал столько осознанного
значения в свое творчество (иногда это оказывается пороком, но чаще добродетелью).
* Всегда можно догадаться, как развивался великий художник. Никто, пожалуй, так
явно не избегал прямого подражания, как Никола Пуссен. Он изучал древность, но он
изучал и природу. Виньюэль де Марвиль, знавший его в поздние годы, говорил: «Я часто
восхищался его любовью к искусству. Я видел, как он, будучи уже стариком, среди развалин
древнего Рима, или в Кампанье16, или на берегах Тибра набрасывал понравившийся ему
вид; нередко встречал его, когда он шел домой с платком, полным камней, мха и цветов,
чтобы потом рисовать их с натуры. Однажды я спросил его, как он достиг такой степени
совершенства и такого высокого положения среди великих художников Италии. Он
ответил: "Я никогда ничего не упускал!"» (Смотри его недавно опубликованное
жизнеописание17.) Очевидно, он никогда не впадал в распространенное ныне заблуждение, согласно
которому природа гению только мешает. В противоположность приведенной истории могу
рассказать иную: помню, как один пожилой господин в Британском музее спросил
мистера Уэста, бывал ли тот в Афинах. На это президент ответил: нет, и особенно не стремится
ехать туда, так как считает, что не хуже представляет себе этот город по каталогу, чем если
бы прожил там много лет. Что бы он сказал тому, кто сообщил бы ему, что так же
хорошо представляет себе его картину по каталогу, как если бы повидал ее в подлиннике?
Однако ответ ярко иллюстрирует природу дарования Уэста.
XVII. Пейзаж Никола Пуссена
193
Поневоле думается, что его великаны, сидящие на вершинах скалистых
гор, таких же громадных, как они сами, и лениво играющие на свирели
Пана18, просидели здесь уже три тысячи лет и знают начало и конец
собственной истории. Судьба Бахуса и Юпитера очевидна уже во младенчестве19. У
Пуссена даже немые, неодушевленные существа и предметы говорят на
своем особом языке. Змеи, вестники судьбы, наделены у него человеческим
умом, деревья растут и простирают ветви, радуясь дождю, любуясь солнцем
и живо ощущая ветра небесные. На картине Пуссена «Мор в Азоте»20 даже
здания словно застыли от ужаса. Его картина «Всемирный потоп»21 — быть
может, самый лучший исторический пейзаж на свете. Перед вами бескрайний
водный простор, бледное, тусклое солнце медленно движется по небесному
своду, мрачные свинцовые тучи давят на глаза зрителя, небо и земля
сливаются в одно бесформенное целое. Чересчур явная печать22 подобного
ощущения лежит порой и на изображенных Пуссеном фигурах. Они слишком много
жестикулируют, застывшее выражение их лиц слишком близко к
механистическому или карикатурному стилю. В этом смысле они противоположны
персонажам Рафаэля, о которых никогда не подумаешь, что они позируют,
или сознают, что на них смотрят, или вообще созданы художником.
Напротив, на картинах Никола Пуссена всё как будто в сговоре с
художником: даже «камни сообщают, откуда они происходят»23. У каждого
предмета есть свое место и назначение, в зависимости от общей композиции.
Именно сознательная гармония, своего рода внутренний замысел определяет
своеобразие произведений художника.
Год или два тому назад в Британском музее выставляли картину
«Аврора»24. Она была вся залита золотистым светом. Богиня, облаченная в
одежды шафранного цвета, казалось, только что поднялась с угрюмого ложа
старого Тифона. Даже ее молочно-белые кони золотились в сиянии зари. То
было воплощение утра. Классические сюжеты удавались Пуссену лучше, чем
библейские. Последние в его исполнении тяжеловеснее, словно вымученны,
полны резких цветовых контрастов — красного, синего, черного цветов, лица,
на них изображенные, лишены истинного пророческого вдохновения.
Между тем в языческих аллегориях и мифах мастер совершенно как дома.
Смесь легкости и серьезности, присущая ему как французу, в сочетании с
итальянским пейзажем и налетом античности даже краскам Пуссена придавала
своего рода ученую основательность. С одной стороны, ему недостает
изящества, оформленносги, выразительности, но зато у него в избытке ощущается
смысл и значение, он идеально передает стиль одежды, благопристойность.
Персонажи Пуссена всегда характерны для того сословия или разряда, из
которого вышли, и для той эпохи, которая изображается, и исключительно
сведущи в занимающем их деле. Его гротески, особенно те, где есть нимфы
и фавны, превосходят даже гротески Рубенса, по крайней мере, в том, что
194
Застольные беседы
касается стиля; они скорее заимствованы непосредственно из мифа. Сатиры
и вакханки Рубенса более жизнерадостны и чувственны, сильнее
опьяняются наслаждением, в них брызжет через край животный инстинкт и
необузданные порывы, они хохочут, и прыгают, и «скачут, словно козлики весной»25. В
персонажах Пуссена просвечивает ум, а порочность их кажется обдуманной
и преследующей определенную цель. Персонажи Рубенса — благородные
представители своего класса, а у Пуссена они — аллегорические абстракции
этого класса; телом они менее изнеженны, но душою тайно более
развращены. Группы вакхических фигур фламандского художника считаются,
однако, шедеврами композиции — свидетельством тому чудеса цвета, характера,
выразительности на картине в Бленхейме26.
Однако в более целомудренном и утонченном воспроизведении
классических мифов Пуссен не знал соперников. Рубенс хоть и мог с ним поспорить
в изображении дикой, живописной природы, но не мог претендовать ни на
изящество и чистоту мысли, что видны у пуссеновского Аполлона, который
подает поэту кубок с водой27, ни на изысканность замысла при изображении
нимфы, розовыми пальчиками выжимающей сок из кисти винограда; этот
сок течет прямо в рот толстенького младенца28. Но превыше всего, как
найти достойные выражения для похвального слова полотну, где пастухи из
долины Темпе29 в одно прекрасное утро отправляются на прогулку и приходят
к могиле30 с надписью: «Ет ego in Arcadia vixi»*. Жадное любопытство
одних, испуганное изумление других, свежее дуновение, играющее ветвями
тенистых деревьев, «долины, где гуляет ветерок»31, уходящая вдаль
непрерывная залитая солнцем перспектива — все это говорит (и вечно будет говорить)
о прошлых-веках для веков грядущих**.
Картины подобны набору избранных образов, потоку приятных мыслей.
Развесить их по стенам наших комнат — роскошь; но ничуть не меньшая
роскошь, если картинная галерея разместится в нашем сознании, позволяя нам
размышлять о ценностях античного искусства, таящихся «в ума палатах без
примеси материй низких»32 (если только такое бывает). Проводить жизнь
среди картин, изучая искусство и предаваясь любви к нему, — все равно что
наслаждаться счастливым тихим сном или, вернее, пребывать в состоянии
между грезами и бдением, ибо тогда нам открывается вся «ясность светлая
блаженства наяву»33 и романтическое сладострастие отвлеченного и
воображаемого бытия. Картины — яркое, совершенное воплощение сути вещей, «и,
кто себе такие наслажденья нечасто позволяет, тот — мудрец»34.
* «И я жил в Аркадии»35 (лат.).
** Пуссен несколько раз возвращался к этой теме и, видимо, наслаждался ее
волшебными чарами. Я уже говорил об этом и, наверно, еще скажу. Как грустно, что нам не
позволено задерживаться, сколько хочется, на своих радостях, — в то время как неприятное так
часто возвращается само по себе помимо нашей воли.
XVII. Пейзаж Никола Пуссена
195
«Орион», о котором я здесь, воспользовавшись случаем, говорил,
принадлежит к коллекции замечательных картин, составляющих часть того
собрания старых мастеров, что с недавних пор украшает Британский музей на
радость публике. Какие оттенки красок — красок самой природы, смягченных
временем, — встречают нас при входе! Какие формы, остающиеся навечно в
нашей памяти! Какие взгляды, передать которые могут только ответные
взгляды зрителей! Какое богатство мыслей дарит нам ежегодно
сокровищница старинного искусства! Произведений много, а имена все те же — множество
Рембрандтов, хмуро глядящих с потемневших стен, веселые краски
групповых портретов Рубенса, редкие, роскошные полотна Тициана, всегда
изысканные, порой ни с чем не сравнимые Клода, бесконечная приторная сладость
Гвидо, академичность Пуссена и братьев Карраччи и, венец всему,
царственное великолепие Рафаэля.
Мы читаем буквы и слоги каталога, и при первом же волшебном звуке
известного имени пред нами возникает чудо мастерства и красоты. Можно
подумать, что одна щедрая выставка идеальных творений исчерпает труды
целой жизни, но на другой год и еще на третий мы видим новый урожай,
доставляемый великому собирателю искусства теми же бессмертными руками.
И старый Гений их швейцаром был,
Впускал и выпускал он их, как мог36.
Творения великих мастеров вечны, как слава их; они бесчисленны и
совершенны, и их тем больше, чем сильнее мы жаждем их видеть — словно
дыхание славы сообщает им жизненную силу, а сами имена ее великих
наследников «звучат все чаще»37. Как хорошо, что можно каждый год ждать такой
выставки, еще раз задержать на ней долгий взгляд. Картины, словно
нечаянные дары38, разбросаны по свету, и, пока они есть, на земле по-прежнему
остается немного позолоты, не стертой, не опозоренной, не испорченной.
В нашей стране немало образцовых произведений хранится в Бленхейме,
Берли39, в коллекциях мистера Ангерстейна40, лорда Гровнора41, маркиза
Стаффорда42 и других. Они еще долгие годы будут радовать любителей
искусства. Тем более желательно появление нового привилегированного
святилища этого рода, где глаза и сердце смогут вволю насладиться такими
картинами, как «Орион» Пуссена, — ведь Лувр лишился завоеванных сокровищ43,
а искатель величия и славы, собравший их, дабы сияли они как драгоценные
каменья в его железной короне, сам превратился в тень44.
XVIII
СОНЕТЫ МИЛТОНА
Великая цель сонета заключается в том, чтобы найти целостное музыкально-
ритмическое выражение для определенной мысли или чувства, «для горестей
сердца поэта»1. Сонет — это вздох, вырьшающийся из переполненного
эмоциями сердца, невольный порыв, рождающийся и в тот же миг умирающий.
Я всегда поэтому любил сонеты Милтона, ибо в них больше личного и
сокровенного, чем в любых других; они становятся вдвойне драгоценны, если
вспомнить, что вышли они из-под пера самого возвышенного нашего поэта.
По сравнению с «Потерянным Раем» они подобны нежным цветам у
подножия горделивой колонны или величавого храма. Благодаря своей незыблемой
стойкости автор в поэме мог «возвыситься до уровня своего великого
замысла»2, но в сонетах показал, что способен снизойти до обыкновенных людей и
заставить свое перо не метать громы и молнии, а сочиться «каплями
естественной жалости»3 к слабости несчастных и воспеть ее, следуя соловьиным
трелям, что «всех сладостнее, всех печальней»4.
Бессмертный поэт изливает в наше сердце горести простого смертного, и
слеза падает из его незрячих глаз на крепко сжимаемую дружескую руку.
Сонеты Милтона представляют собой задумчивое свидетельство прошлых
завоеваний, любовных привязанностей, дружеских отношений, а также
мужественный призыв к самому себе — терпеть до конца с радостной надеждой и
уверенностью в собственных силах. Некоторые из сонетов шутливы и
причудливы, но я говорю лишь о тех, что исполнены серьезности и пафоса. Мне
кажется, до Милтона на нашем языке не появлялось более вдохновенных
излияний естественного, личностного чувства. Можно было бы, наверное,
сделать исключение для Драммонда, если бы его сонеты не столь очевидно
следовали Петрарке и не казались столь часто переводами из итальянского
поэта. В сонетах Милтона же подтекст, мысли, стихотворная форма — все его,
и только его. Сонеты сэра Филипа Сидни, великого нарушителя границ и
обычаев, хоть и достаточно сосредоточены на нем самом и его приключени-
XVni. Сонеты Милтона
197
ях, все же так изысканно прихотливы и замысловаты, что более
напоминают загадки. Они «вполне правильны, но непереносимы»5.
Сонеты Шекспира, которые лица более сведущие, чем я, провозглашают
«божественными, несравненными, как ни суди»6, на мой взгляд,
перегружены образами, монотонны, а их подспудный смысл мне решительно
непонятен — не говоря уже о том, что в них чаще всего отсутствует соль, ведущая,
главная мысль. Некоторые из них, признаюсь, восхитительны до потери
сознания, сладки, как жимолость, и не менее изящны и великолепны. Вот один
из них:
Нас разлучил апрель цветущий7, бурный,
Все оживил он веяньем своим,
В ночи звезда, тяжелая Сатурном,
Смеялась и плясала вместе с ним.
Но гомон птиц, и запахи, и краски
Бесчисленных цветов не помогли
Рождению моей весенней сказки,
Не рвал я пестрых первенцев земли.
Раскрывшиеся чаши снежных лилий,
Пурпурных роз душистый первый цвет,
Напоминая, мне не заменили
Ланит и уст, которым равных нет.
Была зима во мне, а блеск весенний
Мне показался тенью милой тени.
Лишь значительно позже Милтона, то есть с появлением Уортона и
оживлением интереса к итальянской, а также нашей ранней литературе,
возникли сонеты, достойные упоминания, на мой взгляд. В дни, когда бушевало
пристрастие к французским образцам, сонетами занимались мало. Ведь
значение их целиком определяется выразительностью, а без нее французский
искусственный стиль легко обходится, ибо передает только неопределенные
банальности общего характера, не задерживаясь ни на чем конкретно.
Сонеты Уортона бесспорно изысканны по стилю и содержанию; они
представляют собой поэтичные философские излияния достойных восхищения
чувств, но мысли, в них выраженные, хотя прекрасны и глубоки, не
сливаются, в отличие от милтоновских, воедино с личностью автора и потому не
пробуждают столь сильного интереса.
Сонеты мистера Вордсворта тоже отличаются благородством замысла и
возвышенностью звучания. Их торжественность посвящена свободе8.
Восклицание Брута «Я долго верил в бытие твое, о добродетель, но узрел лишь тень
твою»9 рассматривалось не как похвала, а как горький сарказм. Красота же
198
Застольные беседы
сонетов Милтона — в их искренности, в одушевляющем их поэтическом
патриотизме. В этом отношении упрека достоин либо Милтон, либо ныне
здравствующий певец. Милтон не написал сонета на реставрацию Карла П; а Вордс-
ворт не создал сонета, равного сонету «барда смелого, хоть и слепого»10 «На
недавнюю резню в Пьемонте»11. Признать мистера Вордсворта хотя бы
наполовину достойным Милтона как поэта и человека — уже значит воздать ему
немалую хвалу. У него нет ни высокого, разностороннего воображения
предшественника, ни его глубоких, твердых принципов. Милтон не боготворил
восходящее светило и не поворачивался спиной к проигранному делу.
Отступником он стать не захотел12.
Мистер Саути счел возможным поместить автора «Потерянного Рая» на
небеса, при само собой разумеющемся условии, что «он отныне трону не
враждебен»13. Но Милтон при жизни не дал повода предполагать, будто его
взгляды претерпели подобное изменение; со стороны поэта-лауреата довольно
самонадеянно следовать за покойным врагом Сальмазия на тот свет и петь
ему дифирамбы, исходя из неустойчивости собственных воззрений.
Удивительно еще, что он не сообщил в примечании, будто Милтон отвел его в
сторонку и шепнул ему на ушко, что собственному белому стиху предпочитает
новый английский гекзаметр!
Первый среди поэтов был в ряду первых людей. Его пример служил
веским доказательством того, что быть поэтом не значит быть рабом власти и
моды, как художники и музыканты; у этих нет собственных мнений и лишь
одна забота: принять участие в сегодняшних пышных зрелищах и
празднествах. Среди людей скромного звания многих одолевает такое жадное
любопытство, такое неуемное восхищение суетой и роскошью, что ради участия в
какой-нибудь торжественной церемонии они готовы надеть лакейскую
ливрею, лишь бы постоять за креслами великих мира сего. Другие настолько не
выносят даже краткого отлучения от грандиозного карнавала, где правят бал
гордыня и глупость, что добьются приглашения даже ценою своей репутации
наряду с согласием облачиться в маскарадный костюм.
Милтон был не из их числа. Человека с сильно развитыми идеалами,
высокими помыслами и принципами, осознававшего свои душевные силы и
достоинство, не могли соблазнить столь ничтожные приманки. У некоторых
современных писателей найдется сколько угодно песнопений и славословий по
поводу победы над собственными воззрениями и принципами, но нет у них
ни одного гимна терпеливой покорности перед поражением, которую
поддерживают и питают понимание справедливости своего дела и неколебимая
порядочность.
Я не собираюсь ни защищать тон политических произведений Милтона (он
был заимствован у участников богословских споров), ни отстаивать правоту его
XVIII. Сонеты Милтона
199
взглядов. Я говорю только, что он был последователен и не каялся в своих
ошибках; он был последователен, невзирая на опасности и поношения, «на
злые дни и злые языки»14, а потому он отмечен печатью честности, и
потомкам за него стыдиться не приходится. Он смело избрал свою стезю и
мужественно ее держался, с набожной стойкостью встретил превратности судьбы,
находя утешение в богатствах собственной души и воспоминаниях о прошлом,
вместо того чтобы попятиться перед наступлением новых времен и укрыться
от них. Для примера возьмем один из лучших его сонетов, более других
любимый — сонет о своей слепоте, обращенный к Сайриэку Скиннеру:15
Друг Сайриэк, уже четвертый год
Мои глаза не различают света,
Хоть вчуже нелегко заметить это.
Напрасно я вперяюсь в небосвод —
Не видны мне ни звездный хоровод,
Ни золотое солнце, ни планеты.
Но дух мой тверд, надеждой грудь согрета,
Меня несчастье с курса не собьет.
Ты спросишь, где, слепец, беру я силы?
В сознанье, что огонь моих очей
Служение свободе угасило —
О ней я возвещал Европе всей16.
И этой мыслью волю закалила
Мне вера, поводырь в юдоли сей.
Что может превзойти кроткий, сдержанный тон этого сонета или
поразительное величие заключительной мысли? Любопытно отметить черты характера,
проглядьшающие в первых двух строках. По тому, как Милтон сообщает
читателю, что со стороны («вчуже») нелегко заметить, что «глаза не различают
света», можно сделать вывод, что он все еще думает о своей наружности —
чувство вполне естественное для человека, в молодости удивительно красивого.
Его политические (или, иначе говоря, государственные) сонеты,
обращенные к Кромвелю17, Ферфаксу18 и младшему Вейну19, полны возвышенных
похвал и исполненных достоинства советов. В них нет ни фамильярности, ни
подобострастия. Автор умеет воздавать должное власти и славе. Он ощущает
подлинное, ненапускное равенство в величии. Он приносит дань восхищения
величию достигнутого и указывает пути к похвале еще более высокой. Сонет
Кромвелю доказывает, что поэт в общении с властителями полностью
сохранял прямодушие и твердость рассудка. Такой комплимент поэт мог
преподнести завоевателю и главе государства, не теряя самоуважения:
Наш вождь, неустрашимый Кромвель20, тот,
Кто с мудростью и верой неизменной
Стезей добра сквозь мрак страды военной
200
Застольные беседы
И тучу клеветы нас вел вперед,
Не раз сподобил Бог своих щедрот
Тебя в борьбе с фортуною надменной:
Ты рать шотландцев сбросил в Дарвен пенный21,
Под Данбаром побед умножил счет22
И в Вустере стяжал венок лавровый23.
Но и в дни мира ждут тебя бои:
Вновь на душу советчики твои
Надеть нам тщатся светские оковы.
Не дай же им, продажным псам, опять
У нас свободу совести отнять24.
Самый яркий, страстный, воодушевленный своего рода пророческим
неистовством сонет называется «На недавнюю резню в Пьемонте»25.
Господь, воздай савойцу за святых,
Чьи трупы на отрогах Альп застыли,
Чьи деды в дни, когда мы камни чтили,
Хранили твой завет в сердцах своих.
Вовеки не прости убийце их
Мук, что они пред смертью ощутили,
Когда их жен с младенцами схватили
И сбросили, глумясь, со скал крутых.
Их тяжкий стон возносят к небу горы,
Их прах ветра в Италию несут —
В край, где царит тройной тиран26, который
Сгубил невинных. Пусть же все поймут,
Узрев твой гнев, что призовешь ты скоро
Блудницу вавилонскую27 на суд.
В девятнадцатом сонете, также «О своей слепоте»28, мы видим, как
ревниво Милтон печется о правильном применении своих высоких дарований, и
восхищаемся сделанным им выводом о том, что добродетельные мысли и
намерения составляют не последнее из угодных Всевышнему подношений:
Когда подумаю, что свет погас
В моих глазах среди пути земного
И что талант, скрывающийся в нас,
Дарован мне напрасно, хоть готова
Душа служить Творцу и в должный час
Отдать отчет, не утаить ни слова, —
«Как требовать труда, лишая глаз?» —
Я вопрошаю. Но в ответ сурово
Терпенье мне твердит: «Не просит Бог
Людских трудов. Он властвует над всеми.
Служа ему, по тысячам дорог
Мы все спешим, влача земное бремя.
XVIII. Сонеты Милтона
201
Но, может быть, не меньше служит тот
Высокой воле, кто стоит и ждет».
Сонеты мистеру Генри Лоузу (о его музыке)29 и мистеру Лоренсу30
вызывают безграничное восхищение. В них воплощена сама душа музыки и
дружбы. Оба исполнены нежного, задумчивого очарования, их легкость в
сочетании с неизъяснимой жалобной грустью напоминает звуки, рожденные
эоловой арфой. Сонет «Мистеру Лоренсу» рисует день, проведенный в уединении
и посвященный изысканному отдохновению от серьезных занятий. Вместе с
поэтом мы сидим за столом и из его уст узнаем о его дружеских чувствах.
Пускай огонь в камине разведут31,
Чтоб мы теперь, когда дожди полили,
С тобой, мой Лоренс, теплый кров делили,
В беседах коротая время тут,
Покуда дни ненастья не пройдут
И вновь зефир не колыхнет воскрылий
Весеннего наряда роз и лилий,
Которые не сеют, не прядут32.
Здесь есть все то, что тонкий вкус прельщает:
Свет, яства и вино; здесь, наконец,
Под лютню иль орган нас восхищает
На дивном языке тосканском пенье;
И кто себе такие наслажденья
Нечасто позволяет, тот — мудрец.
В последнем сонете, «О покойной жене»33, прекрасно упоминание об Алке-
сгиде;34 оно показывает, насколько изысканное толкование античных образов
помогло поэту углубить и отточить свою мысль, а античная история, в свою
очередь, обогатилась благодаря страстному описанию реальных чувств и
персонажей. Именно это редкое сочетание придает такое неповторимое
достоинство и трогательную чистоту нарисованному Милтоном женскому образу:
Во сне моя усопшая жена
Ко мне вернулась35, словно Алкестида,
Которую у смерти сын Кронида36
Для мужа отнял в оны времена.
Библейской роженицы, что должна
Очиститься37, была бескровней с вида
Она, святая, чья до пят хламида
Спадала, белоснежна и длинна.
Я разглядеть не мог сквозь покрывало
Ее лицо, хоть взор духовный мой
Прочел, что, как и встарь, оно сияло
Любовью, бесконечной и немой.
202
Застольные беседы
Но ах! Шагнув ко мне, она пропала,
Проснулся я — и свет сменился тьмой.
Нет большей ошибки и несправедливости, чем утверждение, будто
по-настоящему талант Милтона проявлялся только в разработке возвышенных тем,
а в изображении обыкновенных жизненных обстоятельств быта его мысль
оказывалась неуклюжей, не способной к воссозданию прелести и изящества,
равнодушной к невинным радостям. Такое мнение опровергается
содержанием его небольших сочинений, хотя как раз они и цитируются в
подтверждение. Это представление порождено горечью — или неистовостью —
полемических произведений Милтона и при всей своей ложности и бессмысленности
существует до сих пор.
Письма Милтона Донату38 и другие замечательны не только страстностью
ученого, но и явленной в них мягкостью характера. Они «в защите юной
доблести суровы»39. В прозаических сочинениях поэта (в частности, в «Трактате
об образовании»)40 поражает его чрезвычайная открытость приятным
внешним впечатлениям и готовность им отдаться. Автор говорит:
Но, возвращаясь к нашему замыслу, — кроме постоянного обучения дома,
есть возможность приобрести опыт приятного времяпрепровождения вне
дома. В весеннее время года, когда воздух тих и приятен, мы бы обидели и
огорчили природу, если бы не выгили из дому, дабы насладиться ее богатствами и
участвовать в ее ликовании вместе с небом изелллею. Я должен поэтому
призывать весной не к серьезным занятиям, а к выездам во все уголки земли
в сопровождении разумных, спокойных наставников.
Можно привести и многие другие отрывки, в которых поэт
высвобождается из оков прозы под влиянием естественной щедрости и неудержимого
восторга и радости. Предположить, что какой-то поэт недоступен
удовольствию или не интересуется отдельными предметами или чувствами, — значит
предположить, что он не поэт; это значит исходить из часто применявшейся
к поэзии и изобразительному искусству ложной теории, согласно которой
целое отнюдь не состоит из заключенных в нем частей.
Если бы наш автор мог воспевать только возвышенные эпические
сюжеты, следуя мнению доктора Джонсона41, он был бы не самим собой, а
превратился во второго сэра Ричарда Блэкмура. В заключение я бы хотел упомянуть
о своем всегдашнем сожалении, что Милтон не дожил до революции 1688
года42. Он был бы достоин такого торжества и заслужил бы его силой своей
надежды и веры. Он, правда, был бы уже стар, но не зря бы дождался
такого события и, может быть, воспел бы его в еще одной бессмертной поэме.
XIX
О ПУТЕШЕСТВИЯХ
Путешествие — одно из приятнейших занятий на свете, однако
путешествовать я люблю в одиночестве. В четырех стенах общество доставляет мне
удовольствие; на открытом воздухе с меня довольно того, что со мной
природа. Там, оставаясь один, я менее всего одинок.
Природы книга перед ним открыта1.
Я не нахожу смысла в беседах на ходу. В деревне мне хочется вести
растительное существование. Живые изгороди и рогатый скот не вызьшают во
мне неприязни. Город я покидаю с тем, чтобы забыть о нем и обо всем, что
он в себе заключает. Иные с этой целью едут на воды, но везут столицу с
собой. Я предпочитаю простор и не признаю стеснений. Я люблю
одиночество—и предаюсь ему именно ради совершенного уединения; я не нуждаюсь в
том, чтобы
В убежище моем кому-нибудь
«Прекрасно одиночество!» шепнуть2.
Душа всякого путешествия — это свобода, полнейшая свобода в мыслях,
чувствах, поступках. Мы отправляемся в путешествие преимущественно для
того, чтобы освободиться от всевозможных помех и тягот, уйти от себя, а
главное — от других. Оказавшись за городом наедине с самим собой, я не
испытываю ни малейшей растерянности: такая отлучка необходима мне, я должен
немного передохнуть и поразмышлять о том о сем, дабы мудрость могла
С Раздумьем, лучшим пестуном своим,
Побыть вдвоем: удобнее и легче
Ей в одиночестве расправить крылья,
Чем в суетливой толчее мирской3.
204
Застольные беседы
Позвольте мне хоть раз обойтись в дилижансе без назойливого
попутчика, с которым я, в угоду нелепым условностям, был бы вынужден
обмениваться дорожными впечатлениями и перетолковывать на все лады давно
избитые темы. Дайте мне ясное голубое небо над головой, расстелите
зеленеющий дерн под ногами, проложите впереди извилистую тропинку, предоставьте
три часа прогулки до обеда — и возможность думать свободно! На безлюдной
пустоши трудно удержаться и не затеять какой-нибудь веселой игры. Меня тут
же разбирает смех, я принимаюсь бегать, скакать, пою от радости4. С
плывущего в вышине облака я ныряю в свое прошлое и блаженно купаюсь в нем: так
смуглый индеец смело бросается в волны вниз головой, и они несут его к
родимому берегу. Давно позабытые воспоминания, будто «судов обломки с
россыпью сокровищ»5, вспыхивают пред моим жаждущим взором; я начинаю
чувствовать, мыслить — и вновь обретаю себя. Неловкому молчанию, которое
то и дело прерывают, пытаясь сострить либо повторяя набившие оскомину
общие места, я предпочитаю ничем не возмущаемое молчание сердца —
красноречивее коего не найти. Каламбуры, аллитерации, антитезы, доказательства
и разборы — никто не любит их так, как я, но порою они мне кажутся
лишними. «Ах, оставьте, оставьте меня в покое!»6 То, что занимает меня теперь,
покажется вам праздной забавой, но я это «долгом совести считаю»7. Не правда
ли, та дикая роза прекрасна без пояснений? И разве не забьется мое сердце от
радости при виде маргаритки в изумрудном платьице? Попытайся я
растолковать вам, что побудило меня так проникнуться к ней всей душой, вы бы
только улыбнулись. Не лучше ли, если я буду держать при себе все, что
служит мне пищей для размышления — начиная отсюда до вон тех скалистых
вершин и далее, до самого дальнего окоема? Из меня в этом случае выйдет
плохой собеседник, а потому лучше всего мне пребывать в одиночестве. Мне
доводилось слышать, будто даже в компании можно в приливе задумчивости
подолгу идти или ехать, углубившись в свои грезы. Однако это выглядит как
нарушение приличий, как пренебрежительное отношение к окружающим, и
вы постоянно озабочены, не пора ли присоединиться к остальным. «Нет уж,
товарищество вялое — долой!»8 — скажу я. Я предпочитаю что-нибудь одно:
либо всецело принадлежать себе, либо — без остатка — другим; выбираю
между беседой и молчанием, прогулкой и покоем, обществом и уединением. Мне
по душе следующее замечание мистера Коббета: «Запивать обед или ужин
вином — дурной французский обычай; англичанину не следует браться за два
дела сразу». Так и я не способен одновременно беседовать и размышлять, то
вдруг замыкаться в меланхолических раздумьях, а то неожиданно вступать
в оживленный разговор. «В дороге мне необходим спутник, — признается
Стерн, — хотя бы только для того, чтобы обменяться впечатлениями о том,
как удлиняются тени, покуда солнце клонится к западу»9. Красиво сказано, но,
по-моему, непрерывное сопоставление наблюдений мешает непосредственно-
XIX. О путешествиях
205
сти восприятия и вредит чистоте ощущений. Если вы попытаетесь передать
впечатления посредством мимики, это будет выглядеть плоско, а ежели
пуститесь в объяснения, удовольствие превратится в обузу. Нельзя читать книгу
природы, не беря на себя вечный труд истолковать ее на пользу окружающим.
Синтезу впечатлений во время путешествия я отдаю предпочтение перед
анализом: поначалу запасаюсь идеями, а потом уже принимаюсь тщательно их
разбирать и изучать. Пусть мои неясные мысли плывут, словно пушинки по
ветру, и не запутываются в колючих зарослях полемики. Во всяком случае,
подчиняться они должны только моей прихоти, а это невозможно, пока не
останешься в одиночестве или не попадешь в общество, не слишком для тебя
желанное. За спором и рассуждениями можно скоротать время в пути, если
перед вами двадцать миль и ровная дорога, — но удовольствия в этом мало.
Вы говорите об аромате цветущих бобов на окрестных полях, но ваш
попутчик лишен обоняния. Вы указываете на предметы вдалеке, а он близорук, и
ему приходится доставать очки. Некое ощущение, разлитое в воздухе,
особенный оттенок облака поражают ваше воображение, но почему — объяснить вы
не в силах. О взаимопонимании тогда не может быть и речи: неловкие
попытки его наладить то и дело выливаются в разочарование, а заканчиваются
почти неизбежно взаимным нерасположением. Зато сам с собой я никогда не
ссорюсь; все до единого собственные выводы принимаю на веру и не обсуждаю
до тех пор, пока не сочту нужным защитить их от возражений. Дело не
только в том, что у всех нас свой, не похожий на других взгляд на вещи и явления —
они вдобавок вызывают множество ассоциаций слишком тонких,
воспоминаний слишком хрупких, чтобы ими можно было с кем-нибудь поделиться. Но
как раз именно их мне нравится лелеять и подолгу иной раз не отпускать от
себя, когда удается убежать от толпы. Если вы обнаружите свои чувства
перед посторонними, вас сочтут склонным к претенциозности чудаком; с другой
стороны, по любому поводу открывать тайные уголки своего существа, внушая
людям равный к ним интерес (а иначе занятие это лишено смысла) — задача
не каждому по плечу. «Пусть держится в уме, но с языка не сходит»10. Мой
старинный друг Колридж умел, однако, делать и то, и другое. На ходу летним
днем он пускался в самые очаровательные толкования пейзажа, превращая
холмы и долины в назидательную поэму или оду в духе Пиндара. «Его
беседа пенье затмевала»11. Если бы и я умел облекать свои мысли в мелодичные
потоки слов, возможно, мне бы понадобился слушатель, чтобы восхитить его
высокопарностью темы, но еще отрадней было бы для меня услышать
подхваченный эхом голос поэта в лесах Олл-Фоксдена12. Слова его были полны «того
прекрасного безумия, что свойственно нашим первым поэтам»;13 сыгранные на
каком-нибудь редком инструменте, они звучали бы так:
Пусть будут здесь зеленые леса,
И свежее Зефира дуновенье
206
Застольные беседы
Над гладью вод, и легкое скольженье
Потока; всюду пестрые цветы —
Весны щедроты — сколько хочешь ты;
Там жимолость над холодом стремнины,
Источники, пещеры и лощины —
Где по сердцу, усядемся вдвоем;
Из трав навью колец; спою о том,
Как Феба, увидав Эндимиона,
Охоту позабыла, как влюбленно
Глядела и бледнела от тоски;
И, маками убрав ему виски,
Перенесла неслышно чрез пучину
На Латмоса скалистую вершину,
Где по ночам над горною грядой
Свет брата разливает золотой,
Чтоб там свою отраду целовать14.
{«Верная пастушка»)
Будь мне подвластны слова и образы, подобные этим, я бы дерзнул
пробудить мысли, что покоятся на золотистых краях вечерних облаков, — но увы: при
виде природы мое скудное воображение поникает и свертьшает лепестки,
словно цветок перед заходом солнца. Мгновенно, сразу я бессилен постигнуть
окружающее: мне требуется время, чтобы собраться с мыслями и сосредоточиться.
Вообще удачное словцо неуместно на вольном просторе: его стоит
приберечь для застольной беседы. Вот почему Л.15,-на мой взгляд, худший из
спутников на прогулке, ибо он — наилучший собеседник дома. Если же о чем и
приятно порассуждать в пути, по мере приближения к ночлегу, так только о
предстоящем ужине. Открытый воздух, способствуя обострению аппетита,
пробуждает словоохотливость и весьма оживляет дружеские споры по
данному предмету. С каждой очередной милей яства, ожидающие нас в конце пути,
представляются все более и более заманчивыми. Как чудесно с наступлением
темноты добраться до какого-нибудь старинного городка, обнесенного стеной
с башенками, или войти в широко раскинувшуюся деревушку, где в вечернем
сумраке горят огоньки, и, справившись о наилучшем пристанище в данной
местности, «спокойно вздремнуть в трактире!»16. Эти дивные мгновения нашей
жизни, наполняющие сердце счастьем, слишком драгоценны и значительны,
чтобы разбрасываться ими ради кого-то, с кем нет полного взаимопонимания.
Я приберегаю их для себя и осушаю до последней капли; когда-нибудь потом
расскажу о них или напишу. Напившись чаю и сидя перед опустевшей чашкой
Напитка, веселящего без дурмана17,
аромат которого обволакивает мозг, сколь восхитительно раздумывать о том,
что именно заказать на ужин: яйца с ветчиной, тушенного с луком кролика
XIX. О путешествиях
207
или же превосходнейшие телячьи котлеты! Однажды Санчо, в сходной
ситуации, остановился на говяжьем студне;18 и выбор его, хоть и вынужденный,
заслуживает внимания. Вы покамест разглядываете картины, предаваясь
шендианским размышлениям19, и тут до вас доносится наконец беспокойная
возня на кухне. «Procul, О procul este profani»!* Эти священные часы
безмолвных раздумий должны бережно сохраняться в памяти, дабы впоследствии
подпитывать источник отрадных мыслей. Я не желал бы впустую
растрачивать их на праздные толки, но коли суждено кому-то вторгнуться в
нерушимый приют моего воображения, то пусть это будет кто-нибудь чужой,
нежели близкий друг. Незнакомец заимствует внешние черты у времени и места:
он кажется предметом обстановки того постоялого двора, где вы с ним
повстречались. Окажись он квакером20 или жителем Вест-Райдинга в
Йоркшире — тем лучше. Я даже не пытаюсь разделять его чувства: он для меня ни то
ни се. С моим попутчиком ничего не связано, кроме окружающих предметов
и мимолетных событий, а его неосведомленность о моих делах помогает и мне
словно забыть о них. В присутствии же приятеля невольно припоминается
былое, оживают старые огорчения, и впечатление отрешенности разрушается.
Он не слишком учтиво вторгается между нами и нашим воображаемым
обликом. В разговоре возникают намеки на ваш род занятий и образ жизни; из-
за осведомленности приятеля наименее возвышенные факты вашей
биографии становятся, как вам кажется, достоянием всех. Вы более не гражданин
мира: вашу «жизнь вольную, бездомную заключили в тесные границы»21.
Одна из самых замечательных привилегий — быть в гостинице инкогнито,
«господином Сам-с-усам, не обремененным именем»22. О, как дивно освободиться
от пут света и общественного мнения, растворить мучительно неизбывное,
докучное личное начало в природных стихиях и стать творением минуты,
созданием, свободным от всех и всяческих уз; держать связь с мирозданием
только посредством блюда с жареными потрошками и быть должником
только за ужин в гостинице; не искать более шумных похвал, сталкиваясь при
этом с пренебрежением, а именоваться не иначе, как «джентльмен из
отдельного кабинета»* В этом романтическом состоянии неизвестности
относительно ваших действительных притязаний можно притвориться любым
персонажем, каким вам заблагорассудится, и снискать почет и уважение незнамо за
какие заслуги. Неуязвимые для догадок и предвзятых мнений, мы становимся
интересны не только окружающим, но даже и самим себе. Мы перестаем
быть ходячей банальностью, каковой предстаем в свете: так постоялый двор,
возвращая нас к природе, заставляет рассчитаться с обществом!
Поистине завидны часы, которые мне довелось провести под трактирной
крышей. То я, всецело предоставленный самому себе, пытался разрешить
* «Ступайте, / Чуждые таинствам, прочь!»23 (лат.)
208
Застольные беседы
некую философическую задачу, как, например, в Уитэм-Коммон24, где мне
удалось доказать, что сходство не относится к области ассоциации идей; то
оказывался в комнате с картинами, как, помнится, в Сент-Неотсе25, где я
впервые познакомился с гравюрами этюдов Грибелина26, и они сразу же
покорили меня; а в маленькой гостинице на границе с Уэльсом случилось висеть на
стене нескольким рисункам Уэстолла, которые я не без торжества сравнил
с девушкой, что перевозила меня через Северн, стоя в лодке на фоне
гаснущих сумерек (торжествовал я по поводу одной из своих теорий, а вовсе не
замечательного мастера).
Нередко вспоминается мне и упоение книгами: читая «Поля и Виргинию»27
в гостинице Бриджуотера28, я засиделся далеко за полночь — а перед тем
целый день мок под дождем; там же я одолел два тома «Камиллы» мадам д'Арб-
ле29. А 10 апреля 1798 года я сидел с томиком «Новой Элоизы» в гостинице
Лланголлена30 над бутылкой хереса и холодным цыпленком. В выбранном
мною письме Сен-Пре описывает чувства, охватившие его при первом
взгляде на окружающую местность с вершин Юра в кантоне Во31. Эту книгу я
принес с собой в качестве bonne bouche* для достойного завершения вечера. То
был день моего рождения — и я, живя по соседству, впервые навестил эти
очаровательные места. По дороге на Лланголлен есть поворот между Черком
и Врексхэмом; миновав его, вы сразу оказываетесь в долине, которая
открывается в виде амфитеатра: громады пустынных холмов величаво
вздымаются с обеих сторон, «луга средь мирных гор оглашают бубенцы»32 стад,
пасущихся внизу, а река Ди грохочет на каменистом ложе посреди скал. Долина в ту
пору «блистала зеленью в потоках солнца»33, и распускающийся вяз окунал
свои нежные ветви в ревущий поток. С какой гордой радостью шествовал я
вдоль реки по горной дороге, откуда открывается чудесный вид, и повторял
только что приведенные строки из стихотворений мистера Колриджа! Если
моим глазам представал расстилавшийся внизу, подо мною пейзаж, то
внутренним взором я обнимал иные, незримые просторы — небесное видение, где
Надежда огромными — соответственно своим возможностям — буквами
начертала четыре слова: свобода, гений, любовь, добродетель; с тех пор они
потускнели при свете будней и только изредка дразнят мой рассеянный взгляд:
Прекрасное ушло и больше не вернется34.
И все же я хочу возвратиться когда-нибудь в тот зачарованный край, но
возвратиться один. Да и найдется ли второе «я», с кем можно было бы
разделить весь этот наплыв сожалений и восторгов, обрьшки которых я едва могу
вызвать в сознании: они настолько разрозненны и стерты, что стали неузнава-
* десерта, закуски (фр.).
XIX. О путешествиях
209
емы. Стоя на высоком уступе, я мог бы обозревать пропасть лет, отделяющих
меня от того, каким я был тогда. В то время я как раз собирался навестить
названного выше поэта. Где он теперь? Переменился не только я сам: мир,
который был тогда нов для меня, сделался непоправимо стар. И все же
мысленно я вернусь к тебе, о Ди, река среди лесов, вернусь в радости и веселье,
к такой, какою ты была в те времена, и ты навек останешься для меня
райским потоком, из которого я буду свободно черпать животворную влагу!
Что, как не путешествия, так ясно выявляют близорукость и непостоянство
воображения? С переменой места меняются наши взгляды, мнения и далее
чувства. Мы можем сделать усилие и перенестись в давно забытые времена;
старые образы оживут в нашей душе, но тогда из памяти исчезнет все
окружающее. Видимо, отчетливо ощущать нам дано только одно место за раз.
Полотно фантазии ограниченно — и, нанося на него одно изображение, мы тем
самым стираем все прочие. Мы не можем расширить наши представления —
разве что слегка переместить точку обзора. Нашему восхищенному взору
открывается какой-то ландшафт: мы обнимаем его всей душой — и как будто
утрачиваем способность вообразить иное воплощение прекрасного и
величественного. Однако затем идем дальше и забываем об увиденном: горизонт
заслоняет прежний пейзаж от нашего взора и вычеркивает из памяти, как
сновидение. Путешествуя по дикой, бесплодной местности, я не в состоянии
представить себе лес и возделанные поля. Весь мир видится мне пустошью,
подобно той, что меня окружает. В деревне мы не помним города, а в городе
пренебрежительно отзываемся о деревне. По замечанию сэра Финта Фата,
«пустыня — все, что за пределами Гайд-парка»35. Области на карте, на которые мы
не смотрим, — белые пятна. В нашем восприятии мир не больше ореховой
скорлупы. Один пейзаж не переходит, расширяясь, в другой; графство не
сливается с графством, королевство с королевством, а суша — с морем, дабы
создать образ необъятных далей; нет, разум не в состоянии нарисовать себе
пространство более обширное, нежели то, какое мгновенно способен окинуть
взгляд. Все остальное для нас — только географические наименования и
арифметические выкладки. Что, например, означает на самом деле огромная
территория с гигантским народонаселением, известная нам под названием Китай?
Квадратный дюйм картона на деревянном глобусе, дюйм, в котором смысла
не более, чем в китайском апельсине! Вещи вокруг нас видятся в их
подлинном масштабе, но на расстоянии они уменьшаются до размеров, доступных
нашему пониманию. Мы меряем вселенную по себе, и даже собственное
существование воспринимаем не целиком, а частями. Благодаря этому, однако, мы
помним бесчисленное множество вещей. Рассудок подобен музыкальной
шкатулке, которая исполняет самые разнообразные мелодии, но исполняет
последовательно. Одна мысль влечет за собой другую, однако исключает все
прочие. Пытаясь оживить в памяти былое, мы не в силах развернуть всю ткань
210
Застольные беседы
нашего бытия, а принуждены выдергивать из нее отдельные нити.
Путешествуя к местам, где прежде жил, к местам, с которыми связаны сокровенные
воспоминания, всякий непременно обнаружит, что по мере приближения к
цели чувства оживают и обостряются от одного только ожидания предстоящей
встречи: мы припоминаем обстоятельства, ощущения, людей, лица, имена, о
которых и думать не думали долгие годы... Но в это время весь остальной мир
забыт нами совершенно!
Вернемся, однако, к теме, от которой я отклонился.
По причинам противоположным тем, что были изложены ранее, я
охотно соглашусь посетить в компании или вдвоем с другом развалины, древние
акведуки или картинную галерею. Достопримечательности поддаются
логическому осмыслению и вполне могут служить темой для разговора.
Вызванные ими чувства скрывать незачем: они слишком явны, и о них легко
поведать собеседнику. Солсбери-Плейн не подлежит обсуждению, а вот Стоун-
хендж36 преспокойно выдержит дискуссию о древности и о живописном —
дискуссию философского толка. Собираясь развлечься на природе, мы
прежде всего решаем, куда отправиться; предпринимая одинокую прогулку,
задаемся вопросом, что именно встретится нам в пути. «Тогда твоя душа
становится собой»37 — и завершить путешествие мы не спешим. Сам я могу равно
отдавать должное и произведениям искусства, и достопримечательностям.
Однажды мне с немалым éclat* довелось сопровождать одну компанию в
Оксфорд:38 я показал им издали прибежище муз,
Город многобашенный, в лучах
Восхода, золотящего шпили
И купола сверканьем заревым39,
воспел насыщенный ученостью воздух, который разлит по заросшим травою
тамошним дворам, исходит от каменных стен учебных зданий; чувствовал
себя как дома в Бодлианской библиотеке;40 а в Бленхейме41 совершенно затмил
напудренного чичероне42, который сопровождал нас с указкой, тщетно желая
привлечь внимание к захваленным красотам непревзойденных полотен.
Вторым отступлением от вышеизложенных правил следует считать
путешествия за границу. Я не смогу чувствовать себя уверенно, оказавшись в
чужой стране без спутника. Там я нуждался бы в том, чтобы время от
времени слышать звучание родного языка. К тому же англичанин испытывает
невольную неприязнь к иноземным нравам и понятиям, и ему необходимо
общение с единомышленником, дабы от нее избавиться. Чем дальше от дома,
тем отраднее и желаннее становится подобная опора, бывшая поначалу
роскошью. Всякий, кто окажется в песках Аравии один, без друзей и земляков,
* блеском (фр.).
XIX. О путешествиях
211
начнет задыхаться; Афины и Рим наверняка вызовут в душе потребность
обменяться впечатлениями, а мощь египетских пирамид, полагаю, слишком
велика для того, чтобы созерцать их в одиночку. В подобных ситуациях, когда
ход мыслей разительно отличается от обыденного, ощущаешь себя одинокой
особью, конечностью, оторванной от тела общества, — если тут же к тебе не
явится кто-нибудь, готовый предложить дружескую поддержку и помощь.
Однако же я вовсе не ощущал настоятельной потребности в попутчике,
когда впервые ступил на веселый берег Франции. Кале был полон новизны
и восторга. Неясный гул занятого делами города вливался мне в уши
подобно маслу и вину; не показалось мне чуждым и пение моряков,
доносившееся на закате со старой посудины, стоявшей в гавани. Я дышал воздухом,
общим для всего человечества. С гордо поднятой головой бродил довольный
«по холмам под лозой и веселым французским долинам»43, ибо образ
человека не был там низвергнут и прикован к подножиям самовластных тронов.
Я не страдал от незнания языка, ибо язык всех великих школ живописи был
мне доступен. Нынче прошлое исчезло бесследно. Картины, герои, слава,
свобода — все растаяло, словно тень. Остались одни только Бурбоны — и еще
французский народ!
Путешествуя за границей, вы испытываете совершенно особое приятное
ощущение по сравнению с теми, что могут охватить вас дома; правда,
впоследствии оно теряет остроту. Далекое от наших привычных переживаний,
оно припоминается с трудом и, подобно сну о других мирах, не
укладывается в рамки обыденной жизни. Это живое, но мимолетное, обманчивое
видение. Ради него мы силимся сменить наше реальное существо на идеальное и
должны встряхнуться от удобств и уз настоящего, дабы прошлые порывы
воскресли для нас зримо и ярко. Наша романтическая, скитальческая сущность
не поддается приручению. Доктор Джонсон заметил, как мало пребывание
за границей способствует усовершенствованию таланта собеседника44. Дни,
проведенные там, приносят удовольствие и известную пользу, но они словно
отрезаны от сути нашего внешнего бытия и естественным образом никак с
ним не соединимы. Все то время, покуда мы находимся за пределами
отчизны, мы не похожи на самих себя, мы другие и, может быть, более достойны
зависти. Мы потеряны как для себя, так и для друзей. Как несколько
причудливо говорит поэт,
Я родину покинул и себя45.
Если хотите забыть о печалях — покиньте на время все, что о них
напоминает; но помните: только там, где мы родились, осуществляется наше
предназначение. Я с готовностью провел бы всю жизнь, путешествуя по чужим
странам, — ежели бы в запасе у меня была еще одна, чтобы провести ее дома!
XX
ПОЛИТИКИ ИЗ КОФЕЙНИ
Под это определение подходит целый класс людей. Они тратят время и силы,
слушая и пересказывая новости в кофейнях и других местах отдыха. Утром
они сидят с газетой в руках, а вечером обсуждают ее содержание с трубкой
в зубах. Они не могут существовать без «Тайме», «Морнинг кроникл»,
«Геральда», в них и «смысл, и соль, и суть их бытия»2. Они нетерпеливо ждут и
в определенную критическую минуту требуют вечернюю газету — ведь
утренние новости стареют и надоедают уже к обеду. Требуется что-нибудь
свеженькое; с каждой новой трапезой пробуждается жажда последних
волнующих известий; стакан хорошо выдержанного портвейна или искристого пива
невкусен без примеси какой-нибудь яркой темы, родившейся днём и
выдохшейся к вечеру. Но тут «вечерних радостей набор»3 — королева, коронация4,
новая пьеса, очередной боксерский поединок, восстание в Греции или
Неаполе, котировки акций, смерть царей — держит доморощенных политиков в
напряжении до ночи. Всякой новой теме они рады, всякую поднятую ранее
отвергают.
Коль запоздает
Рассказ мой хоть на час, меня освищут...5
Никто не размышляет о мире до потопа или о состоянии души между
жизнью и смертью. Теперь предметы общего внимания так быстро
сменяются, интерес к ним так неожидан и недолговечен, что далее «Двухпенсовая
почтовая сумка»6 считалась бы нынче старомодной, а битва при Ватерлоо7 —
преданием седой старины. Как странно, что люди сегодня столь живо
интересуются тем, о чем завтра забудут; по правде говоря, им не интересно ничего —
но ведь надо же о чем-то разговаривать! Мысли и представления подаются им
как меню — на один день; и все мироздание — история, война, политика,
мораль, поэзия, метафизика — для них Словно подшивка старых газет,
бесполезных даже для справок — кроме той газеты, что сейчас лежит на столе!
XX. Политики из кофейни
213
Все они окажутся в крайне затруднительном положении, если им заранее
не подскажут их роль на сегодня8. Глядя на все пустыми, лишенными
выражения глазами, они интересуются: «У вас есть что-нибудь новенькое?» — и,
услышав отрицательный ответ, не могут сказать ничего. А заговорите с ними
о выборах в Вестминстере9, об ассоциации Бридж-стрит10 или письме
мистера Коббета Джону Кропперу из Ливерпуля11 — и они сразу оживятся. За
пределами последних суток или узкого, привычного круга общения они
абсолютное ничто, напрочь лишены каких бы то ни было мыслей, чувств, интересов,
опасений; если же вы обнаружите какие-то знания, кроме нудных данных о
вторых изданиях или сведений, полученных из первых рук от какой-нибудь
важной особы, они сочтут вас тупицей, не сведущим в делах мира сего и в
том, что имеет практическую ценность.
Один из таких любителей свежих новостей бранит Джона Кэма Хобхауса
за то, что тот так часто вспоминает о греках и римлянах, как будто ему не
хватает разговоров о своей стране; другой пристает к вам с вопросом,
неужели в наши дни полководец не может навести мост через реку, не прочитавши
«Записки» Цезаря;12 а третий не понимает, какой толк в изучении древних
языков, так как заметил, что самые большие их знатоки весьма несловоохотливы
и испытывают больше затруднений в разговоре, чем обыкновенные люди.
Настоящему политику из кофейни общее образование только мешает: при
отсутствии мысли, воображения, чувства он тянется к наиболее близкой ему
банальности и отлично, без малейших затруднений, не отвлекаясь на
постороннее, ориентируется в избранных темах для шумных бесед и пустой молвы.
Если вам встретятся «любые шесть из этих молодцов в клеенчатых плащах»13,
то все шестеро непременно зададут вам один и тот же вопрос и сообщат один
и тот же ответ: где-то, то ли из печати, то ли от какого-то городского оракула
они узнали это сегодня утром, и чем скорее выскажут свое мнение, тем
лучше, ибо долго это мнение у них не сохранится. Подобно билетам в театр на
сегодняшний спектакль, их мнения должны идти в ход немедленно, иначе
упадут в цене; цель состоит в том, чтобы найти желающих выслушать это
мнение (и посмотреть спектакль), что, в сущности, нетрудно: те, у кого нет
собственных мыслей, рады послушать, что говорят другие; точно так же тот,
у кого нет контрамарки на представление, охотно воспользуется случайностью.
Иной раз со смешанным чувством меланхолически наблюдаешь
кого-нибудь из лучших представителей этого класса политиков; не лишенный
таланта и образованности, он пятьдесят лет кряду поглощен самой волнующей
темой дня; он вскакивает на нее для упражнения и демонстрации своих
способностей, будто на лошадь в школе верховой езды; и после короткой,
неспешной и неутомительной прогулки спешивается почти на том же месте,
откуда отправляется; парит через границу в постоянном оцепенении на
крыльях всех газет, размахивая рукой будто двигая рычагом насоса — в знак веч-
214
Застольные беседы
ной переменчивости — и извергая потоки грязных политических слухов;
оставаясь глух ко всему, кроме государственных интересов, он будто не стареет
и не умнеет с возрастом, оставаясь удивительно восторженным и глупо
романтичным, и привести его в движение не может ничто, кроме механизма
распространения газетных сплетен*.
Как восклицает Бомонт в стихах Бену Джонсону: «И чего только мы не
видали в "Русалке"»!
Теперь, когда летает вольно
Над нами шуточек довольно,
Осталось нам лишь восклицать:
«Всем можно только глупости болтать!»14
Не могу сказать того же о кофейне «Сауггемптон»15, которая находится в
классическом месте и которую устная традиция связывает с великими
именами елизаветинской эпохи16. Как низко мы с тех пор пали! Тогдашние наши
предки не просто на двести лет старше и соответственно мудрее и остроумнее
нас — однако от них не осталось ни следа, ни даже воспоминания о былом. А
как бы уставился на меня мой друг Маунси, упомяни я имя своего еще более
близкого друга, старого честного синьора Фрескобальдо, отца Беллафронта17.
А ведь, может статься, имя было придумано и сцены с его участием, в
которых никто не мог с ним соперничать, в первый раз читались зачарованным
слушателям ровно на этом самом месте. Да кто теперь читает Деккера? Если
* Не так давно я видел двух священников-диссентеров18 (Ultima Thule [лат. — Крайняя
Фула]19 оптимистов и мечтателей в политике). Они набивали трубки сушеными
смородиновыми листьями, называя их радикальным табаком, и, зажигая свое курево через
увеличительное стекло, воображали, будто каждым клубом дыма подрывают позиции
торговцев «гнилыми местечками» — подобно тому, как Трим взрывал армию, воюющую против
союзников!20 Они обманули Сенат21. Мне чудится, что я и сейчас вижу, как они
презрительно насмехаются над падением правов.
Блаженные, мечтайте!
Еще счастливей были б вы, когда бы знали
О счастье вашем и при этом знали,
Что больше знать не надо22.
Реформы, о которых вы грезите, живут, подобно материальному миру в философии
Беркли, только в вашем сознании; и да пребудут они там на веки вечные. Те же священ-
ники-диссентеры (я имею в виду потомков прежних пуритан) до сих пор остаются в
стране своего рода защитниками пятой монархии; они очень буйные ребята и, по-моему,
совершенно неисправимые, а по мнению других, — хорошо бы их для спасения Церкви и
государства повесить где-нибудь от греха подальше без судей и присяжных. Но к чему вешать?
Им можно предоставить возможность умереть естественной смертью — они и так уже
почти все вымерли и вряд ли могут причинить еще сколько-нибудь зла или добра.
XX. Политики из кофейни
215
кто-нибудь случайно коснется струн этой старой лиры и вздрогнет от
восторга, услышав их прерывистую, бурную музыку, разве не обвинят его в зависти
к ныне живой музе? Что бы подумал торговец льняными товарами из Холбор-
на, если бы я спросил его о клирике собора Святого Андрея, бессмертном, но
забытом Вебстере? Никто не вспоминает ни имя, ни труды его: хотя последние
запечатлены алмазным пером «на сердца глиняных табличках»23, слава
автора «писана на воде»24. Так бренно имя гения, так быстротечно время, так
неустойчиво знание и так далеко от истины утверждение, будто люди вечно
стремятся к совершенству и утонченности.
Напротив, всякое современное знание есть могила прошлого знания; в то
время как легковесный и негодный материал плавает на поверхности,
твердый высшей пробы идет ко дну и навсегда зарывается в водоросли и песок.
Поразительный пример краткосрочности славы был явлен нам в кофейне
«Саутгемптон», когда мы затеяли высокоученый, заумный спор о
сравнительных достоинствах лорда Байрона и Грея. Джентльмен из сельских мест,
случайно к нам заглянувший, захотел покрасоваться своими познаниями в
лондонском обществе и пустился в высокохвалебный панегирик поэме Грея
«Бард» — по его убеждению, самому возвышенному из произведений на
английском языке. Это утверждение, однако, прозвучало как анахронизм, хотя,
по-видимому, было в моде тридцать лет назад, во время последнего
пребывания нашего собеседника в Лондоне. После некоторого замешательства один
из нас решился выразить чувство более современное и тоном, в котором
уверенности было не меньше, чем сомнения, спросил: «Но разве Грея-поэта
можно поставить в один ряд с лордом Байроном, сэр?» Тут все вступили в
неразрешимый спор; одни сочли Грея поэтом, не пригодным для нынешних
читателей, а защитник его объявил творения Благородного Барда не более чем
словесными потоками дня сегодняшнего и заговорил о поэтах, которые
удостоятся восхищения и через тридцать лет — на более длительный срок его
воображения не хватало. Противник же его и на такое оказался неспособен.
То был самый романтический из наших споров, и мы к нему в дальнейшем
не возвращались.
Вообще говоря, ни у кого в названной кофейне нет ни малейшего
представления о том, что происходило, о том, что говорили, думали, делали во
времена за пределами его памяти. Бесполезно прислушиваться к «сшибкам
остроумий»25, к «смелым делам подлунного мира»26, которыми занимались и
увлекались Бомонты и Бены прежних времен; но мы можем счастливо предаться
скуке, плыть с потоком благоглупостей и доводить себя до приятного
головокружения, прислушиваясь к бесконечным перепалкам, — при условии, что мы
не станем встревать в путаные споры и предпринимать попытки в них
разобраться, они довольно забавны и поучительны. Здесь можно перенять любой
вид мнимого остроумия и сомнительной аргументации. Что бы вам ни при-
216
Застольные беседы
шлось услышать, это уже звучало в похожем месте в сходной ситуации. В
иных беседах нет ничего, кроме обрывков чужих фраз и где-то подхваченных
толков, — так же как в иных книгах содержатся лишь ссылки на другие книги.
Этим обстоятельством объясняются противоречия, коими часто изобилует
речь людей, выросших и вымуштрованных исключительно в кофейнях. В
подобных разговорах нет ничего устойчивого и обоснованного, «ничего, кроме
суеты, беспорядочной суеты»27. Посетители слышат в «Глобусе»28 что-нибудь
непонятное, а потом в «Радуге»29 нечто прямо противоположное — и за
неимением времени примирить одно с другим вываливают и первое и второе в
таверне «Митра»30. Через полчаса, если посетители не законченные тупицы, они
наверняка окажутся сторонниками противоположных взглядов. Вот это как
раз ужасно противно. Похоже, люди беседуют не для того, чтобы
обменяться мнениями, но отстаивают некое мнение ради поддержания беседы.
Среди политиков из кофейни не встретишь ни смиренность невежды, ни
прилежное стремление к знанию. Они хватают знания урывками и чересчур
в больших количествах, чтобы как следует переваривать. В их речах нет ни
искренности, ни логики. У них хватает смелости выдвинуть первое
попавшееся примитивное утверждение, а затем защищать его как придется, — в
основном скверно. «Не думаете ли вы, — говорит Маунси, — что мистер очень
разумный, образованный человек?» — «Да нет, — отвечаю я, — по-моему, у него
совершенно нет своих мыслей; он только дожидается, что скажут другие,
чтобы тут же броситься им возражать. Вряд ли этот путь ведет к истине! Не хочу,
чтобы меня сбивали с толку лишь для того, чтобы дать ему возможность
вылезти со своими претензиями недоучки». — «А как насчет ?» — «Он мог
бы вдвое короче и сэкономив половину зря затраченных сил сказать все, что
у него есть за душой. Зачем ходить вокруг да около? Он как будто сочиняет
речи, чтобы поупражняться и подготовиться к участию в дискуссионном
клубе — куда как высоко метит! Кроме того, по тому, как он цедит слова и
заполняет фразы намеками и оговорками, совершенно очевидно, что он, пока
говорит, принимает решение, на чью сторону стать. Он слагает предложение, как
типограф набирает текст — буква за буквой. Его красноречие уж точно не
придерживается принципа излагать лишь самую суть. Он подыскивает
слова, не задумываясь о смысле. Он не беседует, а репетирует роль.
Люди образованные и светские справляются со всем этим гораздо лучше.
Они знают, что хотят сказать, и сразу переходят к делу, тогда как ваш
политик из кофейни колеблется между тем, что недавно услышал, и тем, что
собирается произнести. Смутно понимая суть вопроса, он пытается отделаться
длинными, обстоятельными предложениями и тянет время, стремясь избежать
ложного шага. Этот джентльмен слышал, как кого-то хвалили за точность и
богатство языка, и поздравляет себя с тем, что за целый вечер не допустил ни
одной грамматической или стилистической ошибки. Он — теоретический
XX. Политики из кофейни
217
quidnunc*, упорный, но осторожный в споре, гнет свою линию, легко
расправляется с возражениями, отвечает с помощью неловких шуток, а когда терпит
полное поражение, сочиняет разящие каламбуры, используя имя своего
противника, если оно пригодно для подобных сомнительных толкований».
Прилизанный лакей** любуется умением Джорджа31 сохранять
присутствие духа во время спора. Всякий другой заметил бы, что скрытая
причина его побед — не терпеливое отношение к противнику, а восхищение
собственной особой. Думаю, что неколебимое самодовольство, высокомерное,
вежливое, жеманное равнодушие неприятней, чем самая крайняя резкость
и раздражительность. Последняя показывает, что вы не совсем
безразличны противнику и что его вообще-то можно сбить со своих позиций, а первое —
что ни одно ваше слово не может ни на йоту поколебать его мнение, что он
заранее обдумал все ваши возможности и во всех отношениях умнее и
талантливее вас.
Такие люди со взрослыми говорят так же покровительственно и
снисходительно, как с детьми. Привычное для них выражение «я вам объясню»
выдает их убежденность в том, что разногласия между вами и ими вызваны
только вашим непониманием их слов. А если вы обнаружите у них
фактическую ошибку (обвинение в недостатке остроумия и логики только вызвало бы
у них снисходительную улыбку), они исправят ваше исправление и тем самым
снова возьмут над вами верх, ибо окажутся более правы, чем вы, решившийся
их поправить. Если вы замечаете у них какой-нибудь очевидный промах, они
уверяют, будто заранее знали все, что вы собираетесь сказать, и предвидели
ваше возражение еще до того, как вы успели его произнести. «Так их
дальновидность предупредит ваше признание»32. Когда вы правы, вы не
заслуживаете похвалы, когда же заблуждаетесь, то хотя бы удостаиваетесь их
жалости или презрительной насмешки. Иной раз любопытно взглянуть на
избранных наших городских мудрецов33, обсуждающих на пари труднейший вопрос
о том, был ли словарь доктора Джонсона первоначально издан в половину
или в четверть печатного листа. Безапелляционные утверждения, осторожно
высказанные предложения, срок для проведения изысканий, необходимых в
целях установления фактов, точное определение условий штрафа за
проигрыш — и оговорок, с помощью которых можно в конце концов его
избежать, — все ведет к нескончаемым запутанным спорам.
* Букв.: что теперь (лат.); здесь: сплетник или всезнайка, тот, кто знает (или
притворяется, что знает) все текущие происшествия.
** Уильям, наш лакей, аккуратно одет в черное, выписывает «Тиклер»34 (в который
любят заглядывать и многие джентльмены); в воротничке его рубашки бриллиантовая
булавка; музыкант приходит учить его играть на флажолете за два часа до
пробуждения горничных; он жалуется на необходимость сидеть в четырех стенах и на хрупкое
телосложение — и по-своему совершеннейший мастер Стивен35.
218
Застольные беседы
Джордж Киркпатрик был настолько убежден, что «Скорбящую невесту»36
написал Шекспир, что очертя голову бросился в ловушку: пари заключили,
пунш выпили. Он хорошо умеет считать и редко тратит больше семи пенсов.
У него когда-то был брат — не Микеле Кассио, не великий арифметик:37
Роджер38 был удивительный человек, наделенный сильным чувством юмора и
безупречным тактом, имевший бесконечный запас хитростей, уверток и
отборных выражений, отличавшийся способностью поразительно похоже
передразнивать. Мне кажется, и я не лишен физиогномических умений, но ему
нередко было довольно одного взгляда, чтобы растолковать мне характеры
тех из моих знакомых, в ком я больше всего ошибался. Итог его наблюдений
не всегда бывал очень уж лестным. Как тонко, как верно, как весело он
описывал нашу компанию в «Саутгемптоне»! По сравнению с его замечаниями
мои очерки жалки и слабы. Он словно глядел в camera obscura* — вслед за
ним вам виделись лица и слышались разговоры, рисовались плавающие
кольца дыма, вас ослеплял свет, деревянная обшивка стен блистала полировкой;
пред вами был старый Сарратт, высокий и худой, с двустишиями из Поупа
и делом в гражданском суде первой инстанции, и Маунси, разглядьшающий
форточку в окне и поджидающий момента, когда можно будет подвести
резюме, и Хьюм с Айртоном, выпивающие последний дружеский бокал39.
Все эти и многие другие удачные портреты Роджер передавал мыслью,
словом, действием. Помню, однажды он рассказывал мне и Мартину Бёрни о
трех типах — о директоре провинциального театра, о трагическом и
комическом актерах; мы едва не свалились на пол от хохота — так рассмешили нас
причудливость их замашек и мастерство Роджеровых подражаний внешнему
и внутреннему миру его героев. Представление было таким ярким, что
Бёрни потом рассказал, как, проснувшись поутру, силился вспомнить, с какими
тремя забавными чудаками провел вечер. Мы испытывали истинное
наслаждение, когда Роджер описывал, как любитель созерцать Мадфорд из
«Курьера» — тот, что написал ответ на «Целебса»40, — входит в комнату, снимает
пальто, вынимает томик карманного издания, кладет его на стол и погружается в
размышления, с мрачным самодовольством почесывая ногу, а когда
кто-нибудь прерывает его мечтания, вздрагивает и издает неподражаемо
бессмысленное восклицание «Ой!». Мадфорд похож на человека, сделанного из
ворсистого трикотажа, а Роджер был худ и тощ, «как ребристый песок»41.
Несмотря на это, он умел добиваться удивительного сходства с человеком, которого
изображал толстым, развязным и тупым. Я давно не видал его:
Бежал наш Киз, и пуст приют унылый42.
* Букв.: темная комната (лат.); прибор, напоминающий современные аппараты для
демонстрации слайдов.
XX. Политики из кофейни
219
Но вспомнил о нем на днях, когда пришло известие о смерти Бонапарта43,
которого мы оба любили по прямо противоположным причинам: он — за то,
что тот усмирил подонков из народа, я — за усмирение подонков из королей.
Быть может, это событие пробудит его там, где он прячется, будто лис Ренар,
«челом поникнув в притворном сне»*'44.
Я совсем позабыл о таверне «Саутгемптон». Некоторое время мы
принимали К.45 за адвоката, потому что у него был пронзительный голос, длинная
шея и неизменная готовность пошутить и посмеяться над собой. Когда же
навели справки, он оказался продавцом патентованных снадобий, который,
однако, обладая в годы ученичества досугом и способностями, принялся
изучать Блэксгоуна^и свод законов. Осведомившись о мнении Мартина по этому
поводу, он лаконично сказал: «Я не очень-то люблю право; здешним
джентльменам оно, похоже, по сердцу, но с меня хватает его в суде». В местах,
подобных нашей таверне, можно много узнать о нравах и настроениях самых
разных людей и по характерам угадать, какие у них взгляды.
Есть, например, некто Э.47. Он всегда ошибается и во всех случаях
пускает в ход силу вместо права. Он закоренелый тори и способен только на такие
мысли, кагорые внушены ему властью и обычаем; он всегда на стороне силь-
* Потрясающ рассказ Роджера о докторе Уиттле — о его мистической мудрости, о
глазах, выпуклых и диких, как у зайца, улепетьшающего от преследователей, о его ловком
переезде из Сити, дабы заманить нужных ему пациентов в Уэст-Энд, о горстке чая,
купленной с расчетом в качестве изысканного угощения для гостя, об узкой винтовой лестнице,
с высот которой он в безопасности созерцал воображаемый приход должников. То был
крупный, некрасивый, белолицый проповедник из Моравии, превратившийся в лекаря, —
честный человек и, сам не зная почему, самодовольный.
Однажды он наблюдал за Сарраттом, игравшим в шахматы не глядя на доску.
После долгого, изумленного молчания он внезапно повернулся ко мне и сказал: «Знаете ли
вы, мистер Хьюм, что и я кое-что умею?» — «Что же?» — «Вы, наверно, не догадались бы,
но, по-моему, я умею танцевать. Да я почти уверен, что танцую не хуже, чем Вестрис».
Сарратт, человек многих талантов и наделенный богатой фантазией, затем обнажил его
руку, дабы продемонстрировать силу мышц врачевателя, а миссис Уиттл вышла из
комнаты с другой дамой и сказала: «Вы знаете, мадам, доктор — великий прыгун!» Мольер
не смог бы перещеголять эту сцену. Никогда не забуду, как доктор снял сюртук, чтобы
съесть не меньше бифштексов, чем Мартин Бёрни. Жизнь коротка, но была бы полна
веселья и развлечений, если бы мы не забывали так быстро, над чем смеялись, —
смеялись, может быть, для того, чтобы не помнить, о чем плакали.
Шахматист Сарратт был человек совершенно необычайный. Его цепкие таланты в
других областях не отличались от шахматных, и от своих прочих мыслей он так же
плохо умел отдельшаться, как от мыслей о фигурах на шахматной доске. Он страстно
любил читать, но в силу тирании памяти был начисто лишен вкуса и разборчивости. Он мог
прочесть наизусть всего Оссиана, не отличая лучшие строки от худших, и никогда не
замечал, что надоедает вам до смерти долгими рассказами о породе, воспитании и нравах
бойцовых собак. Чувство реальности стирало для него разницу между приятным и
мучительным. Его философия носила механистический характер.
220
Застольные беседы
ного; вечный говорун, он то раздраженно командует, то жалобно скулит, как
побитый школьник. Он великий защитник Бурбонов и национального долга48.
О первых он говорит, что они — выбор французского народа, а последний
считает необходимым для спасения нашего королевства. Этого не может
понять некий безобидный джентльмен, известный среди нас мрачным
выражением лица и упрощенностью своих понятий.
«Скажу вам, сэр... Я изложу все так ясно, что вы моментально убедитесь
в справедливости моих наблюдений. Подумайте, сэр, сколько ремесел
оказалось бы не у дел, если покончить с национальным долгом; что бы, например,
сталось без него с производством фарфора?» Если бы иностранец подслушал
эти прения, он поклялся бы, что англичане не в ладах с логикой. Им чужды
логические доводы и построения. Они не полагаются на книги. Они приходят
к тем или иным заключениям под влиянием предрассудков и из духа
противоречия.
После победы в споре мистер Э. предлагает собравшимся посмотреть на
любопытный, экзотический цветок из его сада, с которым, уверяет он,
никакой другой в нашем королевстве и сравниться не может; затем рассуждает о
своих гвоздиках, о своем загородном доме, о старинном английском
гостеприимстве, но никогда не приглашает друзей к воскресному обеду в своей
резиденции. Он скуп, но любит пускать пыль в глаза, он отличается наглостью и
подобострастием, никак не может решить, обращаться ли с собеседниками как
с носильщиками или как с покупателями; в душе он как был, так и остается
подмастерьем, и воображение его витает между его усадьбой в и
работным домом.
Противостоит ему, да и всем другим, К.49 — радикал, реформатор,
безупречный логик, который легко расправляется с налогами и национальным
долгом, реформирует правительство в соответствии с изначальными
принципами устройства вещей, одним ударом уничтожает Священный союз50,
стирает в порошок перспективы нынешнего общества и видит начало всех начал
в произошедшей двадцать пять лет назад Французской революции, как
будто этот урок еще только предстоит пройти. Его ничего не интересует, кроме
формального соответствия между посылками и выводами, не останавливают
его ни препятствия на пути, ни возможные конечные последствия. Если бы у
каждого вопроса имелась только одна сторона, он был бы всегда прав.
Он превосходно выстраивает одну графу своего расчета, но абсолютно
забывает и отбрасывает другую. Мысли размещены в его мозгу как квадратные
куски дерева, притом расположены перпендикулярно, под прямым углом, по
жесткому архитектурному принципу. Им неведомы ни повороты, ни
разнообразие, ни коринфские капители, ни изящные украшения. Он не в
состоянии принять два суждения подряд, a àa один раз — даже половинку суждения.
Его суровая любовь к истине отступает только перед любовью к спору. Он
XX. Политики из кофейни
221
похож на одного из упомянутых в «Мелком философе» Беркли51 многоумных
политиков и завсегдатаев кофеен, которые ничего не могли разобрать у
таких старомодных личностей, как Платон или Аристотель.
Свет новизны поражает его с такой силой, что его крепкими лучами он
сбивает с ног окружающих. Он отрицает, что почерпнул некоторые из своих
идей у Коббета, хотя и признает, что у того попадаются порой отличные
мысли. Нельзя не пожалеть, что безоговорочная, восторженная любовь к истине
сопровождается такой строгой экономией в расходах и таким повышенным
вниманием к собственным интересам. Он приносит с собой пучок редиски
бережливости ради и дает оркестру один пенни при входе, заявляя, что их
исполнение нравится ему больше, чем визг оперных певцов. Такие поступки
внушают недоверие, чтобы не сказать презрение, к его суровым политическим
принципам. Он хочет отмены национального долга во имя личной экономии,
но возражает против пенсии для мистера Каннинга, потому что она, быть
может, каждый год извлекает грош из его собственного кармана.
Аналогичное чувство оказывается источником многих радикальных теорий.
К. нередко обращает свои нудные рассуждения к Мартину52, для
которого все эти формулы и диаграммы — не больше, чем семя, упавшее на
каменистую почву:53 пока на него «нисходит манна небесная»54, он хлопает ушами,
а в краткие перерывы во время спора вставляет свои возражения и требует
еще полпинты пива. Я иногда говорил ему: «Если сюда зайдет кто-нибудь из
тех, кто тебя не знает, он примет тебя за самого отъявленного спорщика на
свете, потому что ты вечно хоть с кем-нибудь да непременно споришь». На
самом деле Мартин добродушный, воспитанный человек; кто бы к нему ни
обратился, он не пропустит ни одного нелепого, несправедливого замечания
без возражений; поэтому он стал своего рода мишенью для тех, кто любит
прочесывать чужие мозги на манер мастеров, прочесывающих шерсть.
Мартин, конечно, краса и гордость таверны; он самый старый ее
посетитель и задерживается обычно дольше остальных; он образован, ненавязчив —
из стойких англичан прежних времен, поборников истины и справедливости.
Никогда не защищал он бесчестность и нетерпимость. Ни лесть, ни угрозы не
могут принудить этого искреннего и правдивого человека проявить
неоправданную снисходительность. Сидя со стаканом в руке, он не глазеет по
сторонам, а глядит только прямо; думаю, не ошибусь, если скажу, что никогда в
жизни он не ставил перед собой никакой дурной цели.
Миссис Бэттл (так записано в ее «Суждениях о висте») никак не могла
решиться сказать: «Идите»55. После долгой практики Мартин преодолел
данную трудность и постоянно произносит это слово. Не важно, какое
дополнение следует за этими презренными слогами, — приветствуется любая
жидкость, появляющаяся им вослед. Хотя Мартин не самый разговорчивый из
людей, лучшего собеседника я не знаю. Общительность у него в крови. Ко-
222
Застольные беседы
гда ему нечего сказать, он пьет за ваше здоровье, а если вы не всегда
можете разобрать его быструю и небрежную речь, то все равно с полным
доверием соглашаетесь, так как знаете, что намерения у него самые лучшие.
Любимая присказка Мартина: «В каждом из нас есть что-то фатовское»;
в нем же самом ничего подобного нет. Не обменявшись с ним и
полудюжиной фраз, я обнаружил, что он знает некоторых старых моих знакомых
(начало само по себе отличное, ибо ничто так не красит и не укрепляет дружбу,
как обсуждение характеров и слабостей общих друзей) — и, более того,
последние двадцать лет был близок со многими острословами и известными в
Лондоне людьми. Он знавал Тобина, Вордсворта, Порсона, Уилсона, Пейли,
Эрскина и многих других. Он рассказывает о шутках Пейли, о его скромных
манерах и очень живо описывает обильные возлияния и изобилующие
цитатами излияния Порсона в «Сидровом погребке»56. Однако в такого рода
учености он сильно сомневается. Когда я сказал, что только раз видел
преподавателя греческого языка в библиотеке Лондонского института57 (на нем был
старый, линялый черный сюртук, на полах которого болталась паутина; на
носу ученого мужа была прилеплена полоска жесткой оберточной бумаги; и
хотя он был необыкновенно похож на пьяного плотника, разговаривал с
одним из владельцев он чрезвычайно любезно, почти снисходительно), Мартин
не мог не высказать некоторого беспокойства по поводу чести классической
литературы. «Мне кажется, сэр, — сказал он, — что главное — это здравый
смысл. Какой толк от гения и учености, если они не пригождаются в
обыденной жизни?»
Мартин из тех, кто любит предутренние часы, когда в кофейне или таверне
остаются, подобно звездам на рассвете, двое-трое избранных, и разговоры да
эль «становятся все чудесней»58. Однажды вечером, кроме Уэллса, Мартина
и меня, никого не осталось. Мы просидели вместе несколько часов и нисколько
друг другу не надоели. Зашла речь о красавицах при дворе Карла П в
Виндзоре, а от них перешли к графу Граммону, их галантному и веселому
историку59. Мы по очереди вспоминали любимые эпизоды; один предпочитал рассказ
о деревенском кузене Киллигрю60, который, получив решительный отказ на
предложение руки и сердца одной из фрейлин королевы (мисс Уорминсгер),
вдруг узнал, что она только-только родила; тогда он упал на колени и
возблагодарил Бога в надежде, что теперь-то она сжалится над ним.
Другой уверял, что гораздо лучше история о том, как кавалер Гамильтон
и леди Чесгерфилд условились о свидании и как она продержала его всю ночь
в старом холодном флигеле61. Не забыли и об отваге Джейкоба Холла62, и
историю подвязок мисс Стюарт63. Я начал описывать изящное endroit* о том,
как мисс Черчилль была впервые представлена ко двору и в свой черед под-
* местечко (фр.).
XX. Политики из кофейни
223
верглась осаде со стороны герцога Йоркского64, галантного и полного
религиозных предрассудков. Он, однако, вскоре стал проявлять меньше рвения —
как говорили, оттого, что лицо у нее было бледное и худое. Но однажды,
когда они вместе ехали верхом на охоте, юная леди упала с лошади и, когда
ее подняли, долго не обнаруживала признаков жизни. Собравшийся по
этому случаю двор не мог надивиться, как такая прекрасная фигура сочетается
с таким лицом* — ибо округлостью форм она являла превосходный образец
женской красоты. И судьба герцога была решена. Я уверял, что эта история
поразительно трогательна, возвышенна, величественна — вершина
повествования о любви, — и заявил, что не могу представить себе ничего прекраснее,
чем образ молодой женщины, осознающей божественную симметрию
своего сложения, но вынужденной подавлять гордость по этому поводу, ибо
ощущает равнодупше или презрение к своей внешности и укрыта от восхищения
и обожания со стороны мужчин такими «прислужницами всех женщин», как
робость и излишняя щепетильность65.
Так я сказал тогда, так думаю и теперь: в похвалах этому фрагменту язык
мой обрел такую резвость, что я побил всех конкурентов. Уэллс затем
заговорил о Луции Апулее и его «Золотом осле», в котором рассказана история
Амура и Психеи и много других, тоже необыкновенных и забавных, и
перешел к роману Гелиодора «Феаген и Хариклея»66. По его словам, последний
открывается описанием пасторального пейзажа, не уступающего картинам
Клода, а на этом фоне во всей красе нетронутой силы, молодости,
изящества появляются в венках боги любви и вина, окруженные общим
поклонением.
Ночь убывала, бокалы наши сверкали жемчужинами греческих мифов.
Виночерпий прикорнул в уголке, в бледном свете полупогасшей лампы, как
новый Эндимион67, и, вскочив, когда услышал требование принести еще
напитков, стал браниться, мол, время позднее, и не уступил нашим мольбам.
Мартин, с лихорадочным румянцем на лице, сидел в шляпе, пока еще
теплилась какая-то надежда, но, как только мы встали, с быстротой молнии
бросился вон, лишь бы не уйти последним.
Несколько дней спустя я сказал лакею, что мистер Мартин не из
трусливых. «Вам бы знать его раньше, сэр, — ответил тот, — когда здесь бывали
мистер Хьюм и мистер Айртон. Теперь он совсем не тот и редко
задерживается после часа или двух». — «А они что ж, оставались еще позже?» —
«Конечно, да еще и распевали разные песенки». — «Как, мистер Мартин тоже распе-
* «Us ne pouvoient croire qu'un corps de cette beauté fut de quelque chose au visage de
Mademoiselle Churchill» (Mémoires de Grammont. Vol. IL P. 254) [фр. — «Они не могли
поверить, что такое прекрасное тело имеет хоть какое-то отношение к лицу мадемуазель
Черчилль» (Мемуары Граммона. Т. П. С. 254)].
224
Застольные беседы
вал песенки?» — «Он пел вместе с другими и был всех веселей. Всегда был
приятный джентльмен».
Хьюм и Айртон потерпели поражение в этой борьбе. Айртон был
суховатым шотландцем, а Хьюм — добродушным, дружелюбным англичанином. Я
не хочу сказать, что таковы характеры всех шотландцев и англичан. Хьюм
служил (довольно удачно) в казначействе и до последних дней, когда бывал
навеселе, любил говорить о вдове на лужайке68. «К чему вспоминать о них
теперь?» — спросил деловой человек. «Право, не знаю, — ответил собеседник;
он выпил еще один стакан игристого пива, и огонь заискрился, заиграл у него
в глазах и на лысине (у него была голова, которая у сэра Джошуа получилась
бы приятной и добродушной). — Право, не знаю, но эти темы доставляли
удовольствие, и мне по-прежнему приятно говорить и думать о них». Таков\
говоря словами Оселка, «прирожденный философ»69, и в девяти случаях из
десяти его философия самая лучшая.
Я мог бы еще расширить этот очерк, каков он ни есть, но без конца
разводить скуку не столько нудно, сколько невыгодно.
Я очень люблю сидеть и слушать беседы на темы, мне совершенно
незнакомые — при условии, что останусь молчаливым слушателем и зрителем;
поддерживать же разговор мне хочется, только если придутся по нраву его
предмет и участники. В компании необходимо взаимопонимание. Д/я наблюдения
же достаточно разнообразия лиц, настроений, взглядов; для общения
требуется не только разнообразие, но и взаимное согласие. На вопрос: «Что нужно
дая хорошей компании?» — я отвечаю: «Чувство товарищества». При различии
темпераментов и характеров ни душевная близость, ни даже приятные
поверхностные знакомства немыслимы без сходства вкусов, навыков, занятий.
Когда получается хороший вечер? Когда собирается некое число людей с
неким числом общих представлений, «хотя бы в чем-то и различных»70, и
говорят на те или другие темы, ими всеми изученные, с самых разнообразных
точек зрения: и пользы, и занимательности. Иначе говоря, самый приятный
разговор получается тогда, когда слушателям предлагают что-нибудь
интересное, да еще и рассказывают это добродушно и с юмором. Дамы, влюбленные,
щеголи, остроумцы, философы, светские и простые люди составляют друг
другу отличную компанию. У Рэндалла71 лучше всего сидится боксерам, у
Лонга72 — лордам и праздношатающимся гулякам73.
Из собеседников, по мне, лучше всего, пожалуй, Хант, так как у него
знакомые темы сверкают невиданными красками, предстают в совершенно
новом свете, отражающемся от его личности. Элия, серьезный и остроумный,
высказывает мысли, непревзойденные по сути, но по форме трудные, не
столь облегчающие мне душу. Кто-то решил, что он не может быть
хорошим сотрапезником, так как после обеда в Ричмонде шел по берегу Темзы
XX. Политики из кофейни
225
passibus iniquis*. Замечание несерьезно. Однако я готов признать, что Элия
самый скверный участник дурной компании, коль скоро будет признано, что
он едва ли не самый лучший из всех возможных участников хорошей
компании. Он один из тех, о ком говорят: «Скажи мне, с кем водишь знакомство, и
я скажу тебе, кто ты». Он очень нуждается в сочувствии и оправдывает
любое ваше мнение о нем. Он неспособен преодолеть критерии людей своего
круга и неизменно ведет себя в полном соответствии с их оценками степени
его приземленности или утонченности. Ему, по-видимому, приятно
преувеличивать чужие предубеждения против себя — и гордиться своим умением
оправдать расположение друзей. Какова бы ни была оценка его умственных
способностей, он умеет проявить такую остроту ума или такую глупость,
каких другим на всю жизнь хватит. Если он покажется вам чудаковатым или
смешным, то вы увидите, как в нем с каждой минутой растет à la folie** то и
другое, пока он не превратится в чудовище всем на страх. А поставьте его
рядом с человеком остроумным и схватывающим все на лету, и он
заблистает все ярче и ярче:
...подобно стали, что приемлет
Тепло и свет, но отражает сразу
И облик солнца, и его тепло74.
Мы как-то проводили приятный вечер у Барри Корнуолла.
Присутствовавший при том молодой книготорговец ушел в восхищении элегантностью
застолья и с восторгом рассказывал о слуге в зеленой ливрее и об
оригинальном светильнике. Мне же казалось, что прелесть вечера заключалась в беседе
о Бомонте и Флетчере и старинных поэтах, в которой все с удовольствием
участвовали, а также в осознании того, что мы и в самом деле порадовали
нашего хозяина, говоря об области знаний, в которой он преуспел, и хваля
авторов, которым он с чувством и приятностью подражал.
Думаю, следовало бы установить такое правило: хорошая компания — та,
где соблюдается определенное соотношение ораторов и слушателей. В этом
смысле Колридж хороший собеседник. Куда бы он ни пришел, он немедленно
устанавливает принцип разделения труда: без всякой предварительной
договоренности он берет на себя роль оратора, а остальные — роль слушателей,
стада Цирцеи75. Добавлю также, что хорошая компания немыслима без
полного отсутствия жеманства и принуждения. Если безудержное проявление
чувств или нелицеприятное высказывание мнений ведет к оскорбительной
фамильярности, это плохо; но ничем не лучше ситуация, когда люди воздер-
* неровными шагами [лат).
:* с бешеной быстротой (фр.).
226
Застольные беседы
живаются от обидных замечаний лишь потому, что держатся официально и
напускают на себя почтительный вид.
Думаю, что вне Лондона нельзя даже говорить о подобии общества, и вот
почему: во-первых, везде, кроме Лондона, есть понятие соседства — случайные
или неизбежнее знакомые либо соединены по прихоти судьбы, либо растут
вместе, как деревья, но самому составить себе компанию можно только в
Лондоне. Там вы встретите как раз тех самых людей почти любого круга
(или, по крайней мере, из числа занимающихся умственным трудом), с
которыми вы более всего хотели бы общаться. Из миллиона людей нетрудно
найти полдюжины вам по душе. Город так велик, что отдельные люди в нем
чувствуют себя заблудившимися, но именно поэтому вы можете оказаться на
расстоянии всего двух-трех миль от тех, кто при иных обстоятельствах мог
бы жить за сотни миль от вас.
Во-вторых, Лондон — единственный город, в котором компания друзей с
каждым обращается только соответственно его ценности для этой компании.
В любой другой части королевства репутация не зависит от ума и светских
талантов. В Ливерпуле или Манчестере все знают, у кого сколько земли и
денег, у кого какие связи и виды на будущее, поэтому в провинции во всех
отношениях господствуют раболепие или чванливость, корыстолюбие или
наглость. Там смеются не потому, что собеседник остроумен, а потому, что
богат; там думают не о том, против чего, а против кого возражают. Весомость
сказанного зависит от величины состояния, а степень внимания к словам — от
размеров земельных владений.
В столице на такие расчеты, не имеющие отношения к делу, нет ни
времени, ни охоты. Общество принимает каждого в соответствии с
проявленным им умом, остроумием и воспитанностью. Член парламента очень скоро
обнаруживает свой потолок как узколобый мещанин; торговец и
промышленник не находят здесь сбыта своим товарам; крупный землевладелец из
хозяина сотен акров снижается до уровня приятного собеседника или
зануды. Когда гость приходит или уходит, никто не спрашивает, богат он или
беден, живет во дворце или на чердаке, ездит в собственной или наемной
карете; интересуются только, приятны ли его лицо и манеры, умница он или
тупица.
Именно эти обстоятельства определяют, какое вы производите
впечатление на общество и какой достойны оценки. В провинции рассуждают о том,
участвуете ли вы в следующих выборах и можете ли кого-нибудь куда-нибудь
пристроить; там измеряют вашу способность поучать или развлекать по
величине ваших карманов и кредита в банке. Личные заслуги в провинции и в
грош не ставят. Я очень люблю деревню, когда хочу побыть в одиночестве,
но Лондон — единственное место для общества равных, где можно, не подвер-
XX. Политики из кофейни
227
гаясь оскорблениям, высказать умную мысль и честно выразить свое
мнение — даже если не кладешь прежде на стол свой кошелек, дабы подтвердить
обоснованность своих претензий на талант и независимость. Знаю это по
своему опыту*.
* В молодости я подолгу жил в Ливерпуле и Манчестере76 и, признаюсь, предпочитаю
последний. Там вас угнетала только аристократия богачей, а в Ливерпуле — вдобавок еще
и аристократия литераторов. Чувство было такое, что некоторые из тамошних великих
людей были писателями из торговцев — и торговцами среди писателей. Их бутерброд,
таким образом, был намазан маслом с двух сторон, и вы по сравнению с ними в любом
случае оказывались в проигрыше. Манчестерские хлопкопрядильщики, напротив, гордились
только своими станками и с сердечным добродушием принимали любые сведения об иных
вещах или проявления оригинальности в иных областях.
Помню, как однажды недалеко от Ливерпуля меня представили видному
покровителю искусств и многообещающих молодых художников; я был принят чрезвычайно
вежливо и приветливо, пока разговор не коснулся итальянской литературы. Наш хозяин
заметил, что на английском языке еще не научились передавать строгость итальянской оды, и
исключение составляют разве что «Пир Александра» Драйдена и «Святая Цецилия»
Поупа. Тут уж я не мог удержаться от желания прихвастнуть своими скромными
познаниями в области литературы и заявил, что, по-моему, оде Поупа далеко до подлинной
строгости стиля. Я скоро понял, что натворил. Из-за этого мне и приходится сейчас писать
«Застольные беседы». Увы! Я и теперь не преуспел в знании света — как и прежде, ничего не
понимаю, кроме абстрактных определений.
XXI
О ЛИТЕРАТУРНОЙ АРИСТОКРАТИИ
Так! Мы все трое поддельные <...>.
<...> Прочь, прочь все чужое!1
В литературе существует своего рода аристократия, или привилегированное
сословие, которое то изумляет меня, то сердит. Мы нередко встречаемся с
писателями, которые ровно ничего не сделали, но завоевали широкую
известность тем, что могли бы сделать. Их громкое имя у всех на устах, но о
творениях их, к счастью для поклонников, никто не слышал. «Stat nominis umbra»*.
Их притязания возвышенны, беспредельны — то ли из-за полной
необоснованности, то ли из-за невозможности доказать их тщету и нелепость.
Если вы проявите настойчивость в своих изысканиях и потребуете
письменных подтверждений достоинств этих эпикурейцев, подвизающихся среди
служителей муз, то услышите, что они прославились в Кембридже, особо
отличились на экзамене или выиграли премию за свои эссе; что они
посещают Холланд-хаус2, для оправдания каковой чести бесспорно числятся среди
литературных деятелей первого разряда**. Возможно, однако, что они
располагают какой-нибудь рукописью, про которую утверждается, что она имеет
чересчур важное значение, чтобы спешить с ее изданием, да к тому же для
автора слишком многое стоит на кону; а может быть, они опубликовали ко-
* «То — великого имени призрак»3 [лат).
** Лорд Холланд записал (в духе Босуэлла) один разговор, состоявшийся в его доме, а в
конце недели прочел его pro bono publico [лат. — дая хорошего общества]. Сэр Джеймс
Макинтош проявил себя как активный собеседник, а один знаменитый поэт едва рот
раскрыл, ограничиваясь всего лишь ответами «да» и «нет». Поэт ни в коей мере не был
удовлетворен этим результатом и начиная с того дня болтал без умолку. К концу недели,
предвкушая победу, ибо надеялся блеснуть «в первом ряду»4, он спросил не без тревоги, продолжил
ли его светлость свой дневник. На это его благородный покровитель ответил отрицательно,
намекнув, что не счел подобное дело достойным внимания. Таким образом наш поэт снова
оказался в тени, и победа осталась за сэром Джеймсом.
XXI. О литературной аристократии
229
гда-то в «Эдинбургском обозрении» статью, вызвавшую всеобщий восторг и
хранимую ими с тех пор как своего рода грамоту о признании заслуг и
бесспорное доказательство оных.
В отличие от писателей с Граб-стрит5, которым платят постранично, эти
пишут не ради хлеба насущного. Их считают обладателями мудрости и
остроумия, которые они не хотят расточать публике, подобно скупердяям,
набивающим сундуки добром. «Воздерживающиеся от проявления чувств в
значительной степени обладают ими»6, — изрек видный философ, и нужно признаться,
что такие писатели превосходно умеют владеть собой, когда распоряжаются
дарованными им запасами света и знания. Над ними нависает восточное
проклятие: «Пусть враг мой книгу напишет!»7 Ничем себя не связывая, они не
возбуждают ни злобу света, ни ревность друзей и сохраняют сложившуюся
репутацию благодаря не осторожному вычеркиванию, а полному отказу от
писательства.
Кто-то сказал Шеридану, который вечно был занят каким-нибудь новым
произведением, но неизменно топтался в нем на одном месте, что он просто-
напросто не смеет писать, так как боится автора «Школы злословия». Так и
эти лодыри с кучей претензий боятся сравнения с самими собой в том, чего
никогда не создавали, но что молва им приписывает. Они не приобретают
славу, они присваивают ее и избегают разоблачения, никогда не высовывая
носа из своего внушительного и таинственного инкогнито. Они не
унижаются до повседневной работы; появиться в печати для них есть превышение
долга, как бывает у владетельных лордов и королей; подобно богатым
землевладельцам, они живут устоявшейся репутацией и не делают ничего (или
как можно меньше), чтобы прибавить себе известности или не попасть в
забвение. Вряд ли можно себе представить большее надувательство.
Считается, например, что один мой знакомый уже много лет занят переводом Фуки-
дида. Хотя ни одного слова из этого перевода никто и в глаза не видел, он тем
не менее отлично поддерживает ложно-высокое мнение об авторе. Чем
дольше задерживается издание этого труда, чем дольше его хранят в
неприкосновенности, подальше от глаз толпы, тем больше возрастает его
воображаемое значение, ведь вложенные в такую работу усилия и старания не
поддаются измерению; к тому же в невыполненном переводе нет ошибок. Безупречны
только писатели, ничего не написавшие!
Другой мой знакомый считается непререкаемым авторитетом по части
вкуса и классической древности только потому, что (по его словам) раз в год
перечитывает Цицерона, дабы поддержать чистоту своей латыни. А третий
господин непристойность своих изысканий выдает за необыкновенную глубину и
высокую нравственность;8 в конце концов его заявление о том, что в
прекраснейших образцах античного искусства нет ничего стоящего, показало всем, по
чистой случайности, что в действительности ничего стоящего нет в нем самом.
230
Застольные беседы
Сохраняя серьезность и невозмутимость, можно добиться всего; у того, кто
достаточно слабохарактерен, чтобы обманывать себя, хватит ума, чтобы
провести публику, — особенно если он сможет внушить ей, как сильно она
заинтересована в том, чтобы ее обвели вокруг пальца пустым бахвальством,
и притом умудрится не ранить ее самолюбия неподдельными талантами. Уж
не думаете ли вы, что мнимый перевод Фукидида ничего не стоит его
предполагаемому автору? Избранная компания друзей и почитателей раз в
неделю обедает с ним в великолепном городском особняке или в еще более
изящном и живописном деревенском жилище. Они отдают должное Горацию и
старому вину, а иногда с необыкновенной искренностью рассуждают о
недостатках в произведениях современных писателей,
произведениях-однодневках, являющихся порождениями спешки и нужды.
Древние языки, между прочим, — готовый пропуск для тех, кто ищет ни на
чем не основанной раздутой репутации. Они незамедлительно возносят
человека до небесных светил, до знаков зодиака (так сказать) и до высоких сфер
вдохновения, откуда он, пребывая в праздности, глядит с презрением на тех,
кто влачится где-то далеко внизу и зарабатывает хлеб в поте ума своего9. Если
прошедшие эту школу снисходят до выражения своих мыслей по-английски,
то это считается infra dignitatem:* подобные легковесные, непривычные для них
писания не соответствуют тяжеловесной серьезности их пера; представить себя
в выгодном свете и в полной мере добиться своего они могут, лишь следуя в
кильватере древних авторов. Родной язык кажется им чужим, неизящным,
неуклюжим, грубым. Они «не могут вытянуть из него никакой гармонии. На это
им не хватает умения»10. Справедливо, но высказьшание такого суждения
влечет за собой тяжкое наказание в виде крайнего неудовольствия педантов и
болванов. Не кощунствуйте по адресу привилегированных сословий,
литературной аристократии. Как?! Уж не хотите ли вы сказать, что глубокий знаток
латыни, ученый муж, в совершенстве овладевший греческим, неспособен
написать хотя бы одну разумную и грамматически правильную страницу?
Разве из всех уставов университетов и учредительных документов
грамматических школ не вытекает, что лицо, способное изъясняться на мертвом языке,
a fortiori** сведуще в своем собственном? Ведь большее всегда подразумевает
меньшее. Тот, кто постиг все науки и искусства, не может не владеть
простейшими формами разговорной речи. Если же обнаружится, что это заявление
не выдерживает критики, тогда говорят, что наш ученый неумеха не подлежит
обыкновенной проверке талантов — «ведь извинением ему служит отсутствие
практики; однако неужто вы не заметили, как изящно он изъясняется на
латыни? Вот эта фраза наверняка станет классической и будет изучаться». Так
* ниже [их] достоинства (лат.).
* тем более (лат.).
XXI. О литературной аристократии
231
недостатки «загоняются»11 в достоинства; поклонники прячут своего кумира от
посторонних, а от вас со страшными угрозами требуют почтения к
какофоническим фразам и страдающим отсутствием логики критическим очеркам, и
все потому, что автор заслужил репутацию первого или второго в королевстве
знатока латыни либо греческого. Если вы клятвенно не подтвердите
подлинность его подложных грамот, значит, вы невежественный злобный шарлатан
и бумагомаратель — и схвачены flagrante delicto!*
Таким образом, человек, который умеет лишь читать и толковать какого-
нибудь древнего автора, стоит на голову выше любого ныне
здравствующего писателя и, по логике рассуждения, даже выше самих древних авторов:
талантливый и оригинальный прозаик и поэт, в силу обычая, «перед ученым
дураком пасует»12. Или, как отлично сказал автор «Гудибраса»,
Сумей бессмыслицы и глупости
На многих языках преподнести,
Тебя скорей прославят мудрецом,
Чем если б говорил ты на своем13.
Чудовищные, ни на чем не основанные претензии педантов на первенство
в республике словесности14 исходят от них самих, но весьма охотно
поддерживаются другими и чуть ли не обрели официальный статус; они отчасти
объясняются традиционными предрассудками: было время, когда,
понахватавшись кое-каких знаний, можно было избежать обвинений в невежестве и
когда не существовало общедоступной английской литературы. К тому же в
таком благоприобретенном знании, как и во вновь обретенном богатстве, есть
нечто ощутимое, конкретное, понятное людям из толпы. Одно то, что кто-то
понимает смысл знаков, в которых они сами ровно ничего не смыслят, для
них и нечто само собой разумеющееся, и предмет бесконечного изумления.
Знание языков — словно одежда, которая ярче выделяет человека и
отличает от других, нежели ничем не прикрытое тело. Себялюбие побуждает нас
больше ценить тех, кто прямо или косвенно заимствовал свои представления
на стороне, чем таких, у кого они сложились самостоятельно и изначально
принадлежат им одним, — тогда их достоинства и подразумеваемое
превосходство над нами не так велики. Знания есть некий внешний придаток или
собственность, допускающая передачу:
Мое, его, а впрочем, чье угодно15.
Талант и ум составляют суть человека, неотъемлемую часть его личности,
и право на них тем труднее признается, чем труднее его определить. Мало кто
* на месте преступления (лат.).
232
Застольные беседы
решился бы отрицать, что Порсон лучше знал греческий, чем они сами (этот
факт легко было доказать и трудно оспорить), но и самый скромный
посетитель таверн «Сидровый погребок» или «Дырка в стенке» охотно поспорил бы
с Порсоном о пальме первенства по части остроумия и здравого смысла и
наверняка попытался бы возместить урон, нанесенный собственному
самодовольству проявленным к учености уважением, для каковой цели он стал бы
многозначительно намекать друзьям и случайным посетителям, что у самых
великих людей, когда узнаёшь их поближе, обнаруживается не меньше
слабостей, чем у обыкновенных.
Добавлю здесь, что педанты разговаривают с простыми людьми как
наставники со школьниками — с само собой разумеющимся чувством
превосходства и снисходительностью, а потому едва ли сильно пополняют свои знания
о человеке или окружающем мире. Покуда они воображают, что
приспосабливаются к убогим способностям окружающих или же с важным видом
взирают на них, окружающие на самом деле потешаются над ними. Истинное
превосходство может вырасти только на почве равенства; нет развития без
свободного обмена мнениями и их сопоставления. Вот почему королям и
знати очень мало благ сулит общество, построенное на подчинении одной
стороны и снисходительности другой. Разум высекает истину в результате
столкновения, как сталь высекает искру от удара о кремень!
Некоторые от рождения принадлежат к классическим семействам и
вносятся в славные анналы геральдической палаты по праву кровного родства.
Литературная одаренность — такое же врожденное свойство, как знатность.
Вот, например, семья Бёрни. Нет конца ей и ее претензиям. Она производит
«рати без числа»16 острословов, ученых, романистов, музыкантов,
художников. Их имя само по себе — пропуск в Храм Славы. Носителям этого имени
по праву рождения открыт доступ на Парнас. Основатель рода17 сам был
историком и музыкантом, но еще более — царедворцем и светским
человеком. Тайна его успеха, быть может, раскрывается в следующем отрывке из
его сочинений. О трех видных исполнителях на разных инструментах он
говорит: «Эти прославленные персоны были представлены к императорскому
двору», и так далее; он говорит о них так, как если бы они были послами
иностранного государства или принцами крови, — таким образом
возвеличивая себя и свою профессию.
Подобное стремление затмить всех и вся сметает почти любые
препятствия и многих вводит в заблуждение. Надо только выставить всё в
наилучшем свете — а там пусть разбираются, что к чему. Тот, кто называет трех
музыкантов персонами, сам всю жизнь будет персоною — и достигнет своей
главной цели. По поводу приведенного отрьшка сэр Джошуа Реинолдс
заметил: «При всем огромном уважении к моей профессии мне бы и в голову не
пришло применять к ней эпитеты, предназначенные исключительно для обо-
XXI. О литературной аристократии
233
значения высокого ранга и заслуг». Нельзя не признать, что у мадам д'Арб-
ле хватило запасов ума на целую семью; благодаря ей несколько ее кузенов
и кузин прослыли острословами и знатоками искусства. Остальные18,
насколько мне известно, ничем не отличились, но поддерживают славу фамилии.
Самый знаменитый из современных авторов19 писал анонимно и получил
рыцарское звание за неподписанные произведения. Лорд Байрон заметил, что
Хоресу Уолполу не воздали должное — во-первых, потому, что он был
джентльменом, и, во-вторых, потому, что он был дворянином20. Благородный лорд
испытывает, по крайней мере, одно из названных затруднений, однако его
самого оценили по заслугам — и даже несколько сверх того. Звание пэра
возносит его высоко над собратьями. Если поэт и служит славе дворянина, то
дворянин возвращает ему долг с лихвой. Годовой доход в десять тысяч и титул
прекрасно дополняют гордые притязания современного барда. Под такой
аккомпанемент его имя у всех на устах; его повторяют не сотни, а тысячи раз,
потому что читатель, коему известны сочинения поэта, может, как ему
кажется, притязать на знакомство с лордом.
И если лорд поэму сочинит,
В ней ярче ум и лучше стих звучит21.
Лорд Байрон улыбается высокопарной похвале и пустяковым придиркам
ничтожных людишек. Нарушает ли он при этом те самые внешние приличия,
которые Милтон ставил во главу угла?22 В любом случае его поддерживает
фамильный герб, и ничто не запятнает его поэтического герба. Если он
скучен и навязывает публике чепуху, ему никто не вменяет это в вину, никто не
считает недостатком, который он должен искупить, дабы не растерять своих
поклонников. Благородный лорд не отвечает за небрежность, нелепые
выходки или причуды своей музы. Его «зачарованная репутация не поддается
нападкам»23, в отличие от репутации людей низкого происхождения, поэтому он
едва ли уязвим для критиков. Двойной барьер привилегий сдерживает их
слабые, робкие наскоки. Сорвите несколько запятнанных листков в его
лаврах — и покажется сверкающая корона пэра; верните их на место, и она
заблистает сквозь них еще ярче.
В сущности, слава его милости сияет так ярко именно благодаря его
рангу и месту в обществе. Он играет две высокие и внушительные роли, и,
чтобы нам было легче восхищаться им, не оставив «задорин и заплат»24, уравняем
две его ипостаси и будем исходить из того, что гений так же высоко возносит
его над другими людьми, как и происхождение. Или, для более понятного
решения загадки, скажем, что поэт и пэр согласились почтить друг друга
приветствием по случаю попадания на брега Славы и иногда ловко обольщают
город совместно сочиненными напевами.
234
Застольные беседы
Право же, при всех своих привилегиях лорд Байрон мог бы и не писать
странного письма о Поупе25. Я, по бедности, не мог бы себе этого позволить.
Почему он, обрядившись в мантию, заявляет ex cathedra*, что Купер не
поэт?26 Купер был джентльменом и из знатного семейства, как и его критик.
Он был не только певцом природы, но и проповедником нравственности, чего
нельзя сказать о его милости. Джон Гилпин27 будет жить так же долго, как
Бегаю28, а стихи «К Мэри29» не менее трогательны, чем «Прощай»30. Решись
я на такое утверждение, мне бы пришлось хуже, чем когда я обнаружил
заимствованную строчку в «Радостях надежды»31.4
Нет существа более беспомощного и презренного, чем автор, лишенный
каких-либо внешних преимуществ, вроде происхождения, воспитания или
богатства, которые помогли бы ему проложить путь в жизни. Драгоценный
металл таланта или учености, прежде чем выйти в обращение, должен
получить пробу. Писателем почитают только того, кто писатель постольку
поскольку, то есть богатого торговца, банкира, лорда или пахаря.
Восхищаются писателем только за черты, чуждые ему как писателю: с их помощью он
обретает раболепных почитателей и вызывает зависть толпы. А что делать
таким, как мы, «пресмыкающимся между небом и землей»32,
«перечеканивающим сердце на монету»33, то палимым солнцем, то дрожащим от ветра, то
щеголяющим в блеске нового и лучшего наряда, подобно ласточкам весной,
то становящимся «грустнее ноября»?34
Самые умные, так же как и самые красивые, люди живут беспокойной
жизнью, кое-как перебиваясь: сперва в них видят зерна таланта, обещающие
расцвести пышным цветом, а как только они начинают оправдывать
ожидания, их отшвыривают прочь за старомодность; на долю их выпадают и
незаслуженные ласки, и безнаказанные оскорбления. Их преследуют прихоти,
злоба и грубая лесть великого стража — Публики, и в конце концов они
кончают плохо, как все те, кто расточает человечеству милости и рассчитывает
на его благодарность.
Вместо всей своры писак с Граб-стрит, вместо литературного canaille**,
вместо толпы попрошаек, вместо оборванной армии гениев, что просят
милостыню на углу, in forma pauperis***, пусть лучше будет ученый джентльмен,
с прочной крышей над головой и обильным столом, с «вином изысканного
вкуса»35, который может пригласить друзей и не ведает ни горя, ни нужды.
Наполните кубки искрящимся вином, подайте побольше увенчанных розами
десертов, принесите свеженькую, только что отпечатанную поэму, рукописи
на пергаменте, медали, папки с рисунками, геммы — вот подлинный образчик
* Букв.: с кафедры (лат.); здесь: свысока, наставительно.
'* сброда (фр).
* в облике нищих (лат.).
XXI. О литературной аристократии
235
жизни человека, наделенного вкусом и virtu;* именно обладатели (отнюдь не
изобретатели!) всего этого — истинные благодетели человечества и
украшение словесности.
Загляните туда — и среди серебряных приборов и сияющих канделябров
вы увидите гения на законном месте — ковьпэяющим в зубах и жеманно
цедящим слова; преклоняясь перед богатством, он под защитой своего
положения являет вам портрет поэта в раме, под стеклом, освещенный ярким светом.
Это вам не еле пробивающийся росток обычной травы, вырванный и
затоптанный, не бедный уличный мальчишка, но напудренный франт,
экзотическое растение, взлелеянное под герметически запаянным стеклянным
колпаком, которое прячется,
Спасаясь от неистового зноя,
Когда в зените Сириус горит,
От грома и от молнии спасаясь36,
чей пестрый наряд ни моль не тронет, ни тля не истребит37.
Поэт Ките не имел такой защиты — он был во власти непогоды, змея
ужалила его, и древо яда уронило капли на этот западный цветок; когда
продажная шайка презренных негодяев напала на него, он не мог предъявить им
родословной; не располагал и имущественным доходом, посредством
которого мог бы заплатить им за похвалу; не состоял в свите великого человека, не
служил шутом и марионеткой лорду; он мог предложить лишь
«прелестнейшие цветы этой поры — гвоздики и пестрые левкои»38, да еще «рута для
памяти и анютины глазки — для дум»38. Но какое дело мерзавцам до поэта и его
дара? Они разорвали его в клочья с хохотом и гнусными воплями.
А сына Муза не могла спасти40.
Писателю, у которого нет собственного имения и который не числится
среди домочадцев важного лица, вряд ли дозволят писать по-английски и
даже выводить собственное имя. Если ему хочется услышать о себе доброе
слово, он должен встать под чьи-либо знамена, должен принадлежать к
определенному coterie**. На его стороне должен стоять esprit de corps;*** он
обязан иметь наготове поручительство от литераторов. Вот так и
подпирают друг друга дурные головы в лавке Меррея41 и с такой же быстротой, как
ложные утверждения, распространяется их мнимая слава. Крокер
заявляет, что у Гиффорда бойкое перо, а Гиффорд — что Крокер изысканно вос-
* умением разбираться в искусстве, любовью к искусству [um.).
* кругу Щ.
* сословный, корпоративный дух [фр).
236
Застольные беседы
питан; Дизраэли сообщает, что Джейкоб мудр, а Джейкоб — что Дизраэли
добродушен.
Если вы захотите вступить в игру, то как минимум член парламента
должен поручиться, что вы не опасны и не глупы. Чтобы добиться внимания к
себе, вы должны начать с прислужничества; если же вы независимы, не
имеете никаких связей, вас ни в грош не будут ставить. Ах, вы честно
высказываете свое мнение? Но тогда десять против одного, что оно невыгодно. — Да,
но, по крайней мере, это мое собственное мнение! — Тем хуже, ибо свет
думает иначе. В этом смысле Томас42 — весьма удобный барометр. Он ничего
не знает, но все слышит и в точности повторяет услышанное. По этому
круглолицему эху вы можете довольно легко угадать, что говорят другие!
Почти все держится на внешних впечатлениях и на допущениях:
«Правда ведь, язык мистера Бёрни очень изящен?» (А мне показалось, что он очень
низко поклонился.) — «Вы не считаете, что у него прекрасные манеры?» (А все
потому, что он был замечательно одет.) «А манеры мистера Крокера разве
не вкрадчивы?» (Хотя он ни слова не сказал.) «Но вы, по крайней мере,
согласитесь, что друг его обо всем превосходно осведомлен?» (А этот болтал на все
темы без разбора.) Эти фразы, произнесенные в соответствующих случаях,
довольно точно передают тон так называемого хорошего общества. Значение
здесь имеет только то, что лежит на поверхности, до сердцевины никто не
добирается. Оправа ценится дороже, чем сам драгоценный камень. Разве то
же самое нельзя сказать обо всем, а не только о литературе? Разве
какой-нибудь член Королевской академии не считается более великим деятелем в
своей области, чем любой другой, не столь отмеченный регалиями? По
сравнению с членами этого непревзойденного сообщества Рафаэль был
нарушителем всех и всяческих правил, Клода нельзя причислить к классикам, а Ми-
келанджело следовало бы терпеть лишь из милости. Что такое врач без
жалованной грамоты? Олдермен, не посвященный в рыцари? Актер, чье имя не
печатается на афишах большими буквами? Все они обманщики, людишки,
«лишенные достоинств и заслуг»43. Вот именно поэтому северные шакалы так
жаждут доказать, что меня выгнали из «Эдинбургского обозрения»44.
Не достоинство моих статей вызвало их злобу, а само появление этих
статей во влиятельном журнале. Моим стилем критиканы не занимались,
мыслями не интересовались. Они знали только, что я пишу для «Обозрения», а
потому утверждали, что не пишу.
Есть особый род людей, которые от природы явно лишены способности
преуспеть в любом своем начинании. Непригодность их обнаруживается сразу
же по тому, как они берутся за дело. Простое утверждение «Что этот
человек говорит, я сделаю» не всегда может считаться надлежащей проверкой
умений. Напротив, есть люди, одни претензии которых ничуть не хуже, а то
и лучше реальных дел, осуществленных другими. Так, например, никто не
XXI. О литературной аристократии
237
признаёт сделанное мною за доказательство того, что я еще смогу сделать.
Между тем я часто наблюдаю, как люди в доказательство своей пригодности
к выполнению любой задачи (и причем им верят на слово!) приводят то, чего
никогда не делали, и вполне серьезно уверяют тех, кто склонен им доверять,
что их таланты в точности такие, какие нужны для той или иной должности,
а все потому, что таланты эти прямо противоположны тому представлению,
какое о них сложилось.
Один с виду так же похож на издателя, как другой на дворецкого или
швейцара в хорошей семье. образец такого типа;45 ему свойственны
деловой вид, подозрительный взгляд (который сходит за мудрость) и внешняя
задумчивость, которую принимают за рассудительность. Если сам он
таланта ни в чем не проявляет, из этого заключают, что он будет беспристрастен
и искренен, стараясь найти применение чужим талантам.
Некто Бриттон — ответственный руководитель нескольких изданий,
известных вкусом и эрудицией; однако видит Бог — у него ни об одном из них
нет и тени собственной мысли. Ученость досталась ему из вторых рук, а
успех вырос из глупости чистой воды. Получи он хоть отдаленное
представление об отданных под его руку отраслях знаний, он бы выдал себя из желания
блеснуть, но сейчас он просто предоставляет другим делать за него всю
черную работу. Он помещает свое имя на титульной странице или под
какой-нибудь виньеткой, и никто не подозревает ошибки. Этот поставщик полезной
орнаментальной литературы однажды предложил мне две гинеи за «Жизнь
и творчество Шекспира» и пригласил на свои conversazioni*.
Я однажды сходил туда. Там сошелся ученый сброд46 — лексикографы,
антиквары и другие «знаменитые неизвестности»47, и я уже решил, что
потратил время зря, когда появился Джек Тейлор из «Солнца» (кто бы посмел
отрицать, что он был «солнцем» за нашим столом)48, и мне ничего не оставалось,
кроме как слушать и смеяться. Мистер Тейлор знает почти все
занимательные истории, какие рассказывались в столице за последние тридцать лет, а
особенно удачно изображает нравы и чудачества своего старого приятеля
Питера Пиндара. Он пересказал многие анекдоты, и каждый последующий
был лучше предыдущего, так что вместе они составили великолепный
бурлеск, пусть и грешили неточностями; взрывы смеха сопровождали его
монолог, хотя не обошлось и без кислых физиономий. Когда же он завел разговор
об одном розыгрыше, устроенном Питером, некий мистер (не помню его
имя) назвал все это шуточное представление безнравственным. Тогда наш
хозяин, до тех пор вполне уверенный, что все идет отлично, счел необходимым
вмешаться, дабы изменить направление разговора, и сказал: «Ну что ж,
джентльмены, все, что мы только что слышали из уст нашего друга, было безус-
* Букв.: беседы (um.); здесь: литературные вечера.
238
Застольные беседы
ловно занимательно и по-своему очень мило, но, быть может, уже довольно
говорить о восхитительном, приятном, веселом и беспечном. Не лучше ли
переменить тему и побеседовать о степенности, нравственности, трудолюбии
и других похвальных чертах — поговорим о мистере Томкинсе, мастере пера!»
Это потрясло и самых серьезных среди нас; обед наш прервался, и мы
пошли наверх пить чай. Таково действие нравоучительного пафоса одного из
главных наших проводников в прекрасном царстве современного вкуса и
великого изготовителя литературы. Он обнаружил, что серьезность никогда
не подводит в трудную минуту — но на сей раз шутка не удалась, и мистер
Томкинс, мастер пера, сохранился только на портрете работы сэра Джошуа49.
Чтобы класс природных литературных аристократов сложился
окончательно, нам не хватает только Королевского общества писателей!
XXII
О КРИТИКЕ
Критика как вид искусства склонна к многообразным переменам и в разных
ситуациях преследует разные цели.
Поначалу любой критик обычно довольствуется положительной или
отрицательной оценкой произведения и одной-двумя цитатами в доказательство
высказанного мнения; затем непременно следуют обоснование вынесенного
суждения и микроскопически скрупулезный разбор достоинств или
недостатков произведения. В наши дни ни во что не ставится критик, который не
пытается вымучить из самых обычных слов тысячи скрытых значений и не
ходит вокруг да около, а прямо перечисляет все, что можно высказать
относительно стиля произведения — его совершенства или полной негодности.
Критик стремится не столько воздать должное автору (с которым обращается
крайне бесцеремонно), сколько принести дань уважения самому себе и
похвастать своим знанием всех приемов и особенностей искусства критики. Если
в конце концов он все-таки изрекает что-нибудь на объявленную тему, то
лишь после того, как полностью исчерпан весь его запас общих знаний; и
прежде чем удостоить внимания претензии того, кто первым заявил о себе,
он излагает собственные притязания в замысловатом вступительном слове de
omni scibile et quibusdam aliis*, а подлинный герой статьи занимает в ней
только второе место.
Попадаются иногда критические разборы, где после сообщения заглавия
о самом произведении, которому угрожает смертный приговор, вообще не
идет речь. Мне представляется, что логическим продолжением такого рода
якобы критики стало бы периодическое размещение рецензий на никогда не
публиковавшиеся произведения. Несчастный автор тогда избавился бы от
печальной необходимости писать, а рецензент — от тяжкой обязанности
читать. Если современного критика писатель интересует так мало, то современ-
* обо всем, что можно знать, да еще кое о чем1 (лат.).
240
Застольные беседы
ного читателя он занимает едва ли больше. Нужно честно признаться, что,
продравшись сквозь дюжину напечатанных мелким шрифтом страниц,
полных утонченной метафизики или торжественно-назидательной декламации,
где лишенные истинного содержания разрозненные принципы всех наук и
искусств, сваленные в одну кучу, в изобилии пропльшают перед мысленным
взором читателей, последние уже с раздражением и равнодушием взирают
на эти самые науки и искусства, превратившиеся в уродливые экспонаты
кунсткамеры, и на безнадежные попытки бедного автора применить в своем
сочинении чудесный ученый жаргон, в результате чего автора предают
расправе, столь же несправедливой, сколь безжалостной. «Когда уходит милый
всем актер, скучая смотрим на того, кто вслед идет»2. Так и здесь. Не берусь
определить, можно ли считать такое положение дел в печати серьезным
злоупотреблением и грубым посягательством на законы, существующие в респубн
лике словесности3.
Истина заключается в том, что никто не в состоянии прочесть все, что
выходит из печати. У публики должны быть испытатели, наделенные
известными правами принимать решения, заставить как следует отчитаться за которые
им нелегко. Чем авторов больше, тем менее они значимы и тем более
презренны. Без помощи критиков их бы не знали и не выделяли из толпы, и все
жалобы авторов на дурное обращение — пустой звук. Для критика авторы —
прихлебатели, ждущие, когда он кинет им от своих щедрот хоть крошку
похвалы; он или оттачивает на них свое остроумие, или изливает желчь либо
использует их как предлог для изложения своих излюбленных идей и
мнений — причем таким способом он может излагать оные, не опасаясь, что кто-
либо его осудит или оспорит. Критик видит в своем литературном protégé*
(как Питер Паунс в пасторе Адамсе) своего рода смиренного товарища (или
досадную помеху на пути к славе), товарища, которого он взял с собой
чисто из любезности и которым может пренебрегать или грубо помыкать — а то
и, когда заблагорассудится, выгнать на большую дорогу4.
Власть естественным образом превращает критика в деспота. Постепенно
он начинает требовать все пространство сцены для себя одного — и вести себя
так, будто держит монополию на остроумие, ученость и мудрость:
Подъемлет скиптр,
Что твой Зевес,
И мнит — подвигнул свод небес5.
К тому же подобная высокомерная манера чрезвычайно впечатляет
публику. Публика в точности не знает, правы вы или не правы, но если вы
прямо заявите о своих трудностях или проявите уважение к чужим чувствам,
* протеже [фр).
XXII. О критике
241
сочтет вас круглым дураком или попросту самозванцем. Решительное,
безапелляционное утверждение кладет конец всякому спору и решает вопрос раз
и навсегда. Вот почему критику хотя бы для самозащиты нужен резкий,
категоричный, надменный, поучительный тон. Если вы колеблетесь, изрекая
великие истины, как может свет принять их с безоговорочным доверием?
Люди читают, чтобы у них было о чем поговорить, чтобы внушить другим,
«будто они знают то, чего вовсе не знают»6. Следовательно, в рецензии не
может быть слишком много философских и спорных вопросов, слишком
много напыщенности и парадоксальности. Возвышать и изумлять — вот
лучший способ вызвать драматический или критический эффект. Чем больше
вы поразите читателя, тем легче сможет он поразить своих знакомых целой
серией эффектных интеллектуальных потрясений. Самое популярное наше
обозрение7 перенасыщено такого рода взрывчатым материалом, который
регулярно демонстрируется таким образом, чтобы вызвать небывалую
сенсацию и огромное удивление у публики. Собственные достоинства того или
иного автора имеют лишь второстепенное значение при оценке произведения;
гораздо важнее снабдить город достаточным количеством серьезных или
веселых тем на ближайшие три месяца!
Решительный, властный тон критики — порождение нынешнего века; он
не был в моде в тот спокойный, мирный период, когда «Ежемесячное
обозрение»8 «обладало непоколебимой абсолютной властью»9 над всеми
литературными произведениями. Хотя нельзя сказать дурного слова относительно
респектабельности и полезности этого издания в тот длительный период, когда
оно оставалось практически единственным фаворитом публики, однако
принятый в нем критический стиль современному читателю кажется
легковесным и неудовлетворительным. Тогдашние критики не стремились
«перещеголять любую мегеру, переиродить любого Ирода»10, они были излишне
щепетильны и педантичны, излишне кротки, искренни и скромны:
Во всем они покорны, как девицы!*' п
Тогда не было распространенной теперь манеры вести себя наподобие
Дрокансера12, с авторов не снимали скальпов, их «Жизнь и мнения» не
рвали на части — не считая того, что, как и следовало ожидать, обошлись
довольно гнусно с «Жизнью и мнениями Тристрама Шенди, джентльмена»13. При
этом все демонстрировали вежливость и хорошие манеры. Сатира преподно-
* Главными столпами упомянутого стиля долгие годы служили некий мистер Роуз и
преподобный доктор Киппис. Я слышал от отца, что миссис Роуз составляла каталог для
«Ежемесячного обозрения». В нем иногда чувствуется острый женский язычок. Об
«Элегии» Грея говорится: «Эта небольшая поэма, при всей скромности ее притязаний, не
лишена достоинств и изящества»14. Пророк и критик не всегда сочетаются в одном лице.
242
Застольные беседы
силась искусно и словно исподтишка, похвала высказывалась коротко и
любезно. Тогда не встречались ни догматические теории, ни глубокий разбор
принципов, ни безжалостное разоблачение малейшего от них отклонения.
Считалось вполне достаточным дать общую положительную оценку, вроде
«Очень приятная книга» или «Труд, содержащий много сведений и
результатов научных изысканий», затем сообщить название книги, оглавление и без
дальнейших предисловий перейти к отрывкам, как правило отвечающим
взглядам критика, время от времени для вида вставляя возражения — для
вящего утверждения собственной власти.
Такое поверхностное выражение одобрения или несогласия намеками
показалось бы нынче весьма бледным. Дабы заткнуть рот всем придирам,
нам теперь нужно не только заявление: «Это приятное (или талантливое)
сочинение» — но и подробное пояснение, в чем именно заключается
приятность либо талантливость; автора же нужно непременно отнести к
определенному классу, у всех покойных и живых представителей которого надлежит
четко и ясно обозначить характерные черты, отличающие одного от другого;
ценность данного типа произведения должна быть определена и
сопоставлена с другими типами; принципы вкуса, особенности человеческих ощущений
и дарований — всё должно быть тщательно изучено и выверено.
Короче говоря, современная, или философская, школа критики
подразумевает, что вопрос «Почему?» повторяется в конце каждого суждения, а
ответ на него порождает бесчисленные споры и обсуждения. Прежний
лаконический стиль критики был хорош для тех, кто желал только сведений о
характере и теме произведения, прежде чем приступить к чтению; нынешний
полезнее тем, чья цель — не столько прочитать, сколько обсудить
произведение и его достоинства в компании, а для этого нужно прийти туда,
вооружившись всеми как оборонительными, так и наступательными средствами из
арсенала критики.
В настоящее время мы недалеко ушли от сухого, скуповатого
анатомического стиля, которому следовали Драйден, в своих предисловиях*, и критики
французской школы сто лет назад, стремившиеся разобрать произведение по
косточкам, вместо того чтобы передать его животворное начало. Настоящая
критика, как я ее понимаю, должна отразить свет и тень, тело и душу,
цветовую гамму произведения — в нынешней же критике ничего этого нет, кроме
описания поверхностного плана и фасада, как если бы поэма была
абсолютно правильным архитектурным сооружением. Нам что-то сообщают о
сюжете и его развитии, о морали, о соблюдении или нарушении трех единств —
времени, места и действия, и еще, быть может, добавляют два-три слова о
* Это порицание требует оговорок. Его великолепное сопоставление Овидия и
Вергилия15, его характеристика Шекспира принадлежат к истинным шедеврам в своем роде.
XXII. О критике
243
достоинстве персонажей или скудости стиля, но по прочтении этих
самодовольных tirades* мы не больше узнаем о сути произведения, о бурлящих в нем
страстях, об искусности автора, о том, как он толкует и развивает тему, чем
если бы знакомились с содержанием проповеди или читали газету. Нам
совершенно ничего не говорят о том, какие чувства — радость или боль —
пробуждает талант автора и каковы пути его воздействия на воображение; нам
досконально известно, насколько произведение соответствует избитым правилам
сочинительства, но ничего не говорится о его влиянии на основы хорошего
вкуса. Мы узнаем о произведении всё — и ничего. Критик всячески старается
не мешать игре читательской фантазии, а потому не раскрывает заранее
целей автора. Правда, произведения, сопровождаемые подобными
комментариями, нередко вполне их достойны: с формальной точки зрения, они
порождены воображением, но в них нет ни жизни, ни силы, поэтому, сообщив о
количестве актов, составляющих такое произведение, либо об использованном в
нем стихотворном размере, либо о положенном в его основу сюжете,
остается мало что о них сказать.
Забавно, что для критиков этого типа «Потерянный Рай» — все равно что
бочка для кита16, — они никак не могут в нем разобраться: «Он весь
перекошен, вне всяких правил, и ни один из его четырех углов нельзя назвать
прямым»!17 Такие критики не ищут и безо всякой радости воспринимают его
поэтическую суть. Так же как в полемике на религиозные темы, они
отвергают сущностные стороны художественной литературы ради внешней
формы и спорных тем. Они расходятся с гением и природой в вопросе о том,
каким путем и в какой одежде следует вступить в святилище муз. И мы
обнаруживаем соответственно, что Драйден мог принять претензии Милтона на
эпический стиль, только переложив его неправильное произведение
рифмованным стихом и снабдив его драматическим диалогом**'18. Иные знатоки
расскажут вам о теме, распределении персонажей, перспективе, сообщат все
технические сведения, касающиеся картины, но ни звука не проронят о том,
что именно все это значит. Просто дело в том, что одно они понимают, а дру-
* тирад (фр.).
** В наше время есть критики, которые ничего не понимают в сочинявших трагедии
драматургах елизаветинской эпохи (кроме Шекспира, который проходит экзамен
благодаря тому, что обычай закрепил за ним особые права) и бывают чрезвычайно озадачены,
когда пытаются низвести их «великую и неуправляемую»19 силу до уровня собственных
суждений, полных пренебрежения и эффектных банальностей. По правде говоря, лучше
бы они отказались от попытки примирить такие противоречивые понятия, как
искусственный вкус и прирожденный гений, и спокойно радовались стихам, чей аромат исходит от
розовых лепестков, вложенных между страницами книги, а гладкость отделки — от
бумаги, на которой они напечатаны. Такие критики, с одной стороны, и писатели, подобные
Деккеру, Вебстеру, Бомонту, Флетчеру, Форду, Марло — с другой, вращаются в разных
интеллектуальных сферах и никогда не сойдутся.
244
Застольные беседы
roe — нет. Существует особая порода людей, не способных найти лучшее
применение своим силам, чем составить инвентарь произведений искусства — для
более высоких устремлений у них недостает талантов; точно так же, словно
нарочно для подобных знатоков, существуют особые произведения искусства.
В этих так называемых произведениях не найти непостижимой,
невыразимой красоты, недоступной взору пошлых глупцов, не найти «недосягаемой
для искусства изысканности»20, не найти ничего, кроме того, что и самый
непритязательный критик может занести в свою записную книжку, описав
увиденное четкими фразами, не отступив ни на шаг от непосредственного
впечатления. Поставьте малообразованных, недостаточно подготовленных
зрителей перед большим полотном, где в натуральную величину изображено
множество фигур, занятых каким-нибудь сложным делом, — полотном,
название которого и все детали зрителям известны, — и они непременно
разразятся бурей восторга, которому не будет конца.
Они возвышаются до изображенного, взлетают к небесам фантазии,
откуда видят зрелища и слышат откровения, каковые с пылким рвением доносят,
сопровождая категоричными суждениями, до всех, кто расположен внимать
их восторгам. Они парят в вышине на распростертых крыльях, описывая
круги; они меряют полотно большими шагами, удостаивая внимания лишь
группы фигур или гигантские фигуры. Лица на полотне их не интересуют или
же, поскольку лицо, согласно установленным правилам композиции,
составляет лишь шестую или восьмую часть человеческой фигуры, то и занимает
подобных ценителей ровно в такой же степени. Укажите на божественный
портрет кисти Тициана, а рядом с ним на голову ангела, написанную Гвидо, —
они посмотрят, но не обратят на них внимания. Что им до «взоров,
устремленных в небесный простор»21, или до души, что проглядывает в чертах лица?
Только иным, внутренним чувством можно их постигнуть. Зато для разбора
тригонометрии живописи эти критики хорошо подготовлены.
Они настаивают на различии между портретом и историческим полотном,
и тут они словно околдованы. Можете сколько угодно втолковывать им, что
настоящее историческое полотно невозможно без портретного искусства, что
художник должен начать с азов, а затем постепенно переходить на более
высокий уровень, что сотни скверно написанных голов не могут создать
хорошей исторической картины — и они не поверят вам, как ни очевидно это
даже для самого примитивного ума. Их понятия всегда направлены к
периферии и никогда не сосредотачиваются в центре. По их мнению, искусство
должно быть масштабным; целое важнее, чем часть, и большее непременно
подразумевает меньшее. С этой точки зрения, общий контур — ровно то же
самое, что его наполняет, а «бренные прикрасы речи»22 составляют ее смысл.
Те же люди, сами не зная почему, резко противопоставляют темы низкие
и высокие. Скажите им, что для вас «Нищие мальчики» Мурильо в Далидж-
XXII. О критике
245
ской галерее23 не хуже любой другой картины на свете, то есть что именно ее
вы бы предпочли десятку других (если бы выбор был за вами), и они
примутся твердить вам, что низменный предмет изображения никогда не
сравняется по значению с возвышенным. Напрасно вы станете толковать о самой
картине — они же будут талдычить о разряде, классе, жанре, к которому она
принадлежит. У них есть глаза, но они не видят24. Исходя из своего
изысканного вкуса они бы столь же справедливо судили о достоинствах картины и
вовсе не видя ее, сколь верно оценивают, имея сомнительное преимущество
ее созерцать. Ведь они знают, о чем она, по каталогу*.
Однако не прав и лорд Байрон, когда утверждает, что исполнение — всё,
а род произведения, тема — ничто25. Хорошо исполненные произведения на
высокие темы (это, впрочем, редко случается) лучше всех других. Однако
сила исполнения, манера восприятия природы могут оказаться настолько
совершенны (если только вы способны судить об этом), что сумеют
преодолеть любые недостатки темы. Аисты Рафаэля, которые на картине о
чудесном улове рыбы26 обрадованы этим событием, прекраснее, чем могла бы быть
голова Христа в исполнении любого другого художника. Ханжеская
критика придерживается иной точки зрения, потому что исполнение зависит от
степени одаренности художника, а понимание этого — от интенсивности
чувства зрителя и от того, насколько он разбирается в искусстве; но если
художник или знаток начинают прямо с высокого стиля, не обращая внимания на
свою подготовленность, то первому достаточно только выбрать предмет
изображения, а последнему — непоколебимо уверовать в возвышенность
исполнения, чтобы с невыразимым презрением взирать свысока на тех, кто
изображает низменные сюжеты, и тех, кто восхищается ими.
Помню, некий молодой шотландец однажды пытался доказать мне, что
миссис Диконс поет лучше, чем мисс Стивене, потому, что, в отличие от нее,
прекрасно исполняет духовную музыку. В таком разе, если верно, что
исполнение духовной музыки само по себе дарует первенство, то мисс Огивенс надо
только начать исполнять духовную музыку, дабы превзойти самое себя и
сравняться со своей соперницей, поскольку согласно этой теории вся
духовная музыка одинаково хороша и потому превосходит любую другую. Я
согласен, что мадам Каталани лучше поет священные гимны, чем мисс Стивене —
мелодии старых баллад, — просто потому, что она вообще лучше поет, и
океан звуков изумляет больше, чем обыкновенный поток сладких созвучий.
Когда не так давно г-жа Каталани исполняла гимн «Боже, храни короля!», ее
голос в последнем куплете воспарил над беспорядочным шумом оркестра,
будто орел, рассекающий облака, и «благозвучным громом»27 сразил
слушателей, объятых изумлением и восхищением.
Некоторые виды критики так же несносны присущей им бесцветностью,
как другие — своей категоричностью. Очень трудно сочетать целенаправлен-
246
Застольные беседы
ность с основательностью, воодушевление со сдержанностью и искренностью.
Одни видят в произведениях только достоинства, другие — только
недостатки. Одни приедаются вам своей слащавостью, источают «благостное млеко»28
щедрости душевной и изливают струи приторных панегириков, другие
радуются, когда отравляют вам всякое удовольствие и вызьшают у вас
разочарование едва ли не во всех попадающихся им под руку авторах. Первые часто
движимы дружескими чувствами, вторые — зашедшей далеко политической
враждой. К последней разновидности критики относится и политическая. В
основе стиля таких критиков — caput mortuum* бессильной ненависти и
тупоумия, который дремлет без движения, пока его не покроют тиной раболепия
и не возродят к жизни ядом неистового фанатизма.
Выдающиеся представители этого отряда пресмьжающихся сперва просто
пребывают не в духе и изливают свою желчь в кратких междометиях и
исковерканных фразах — вроде «Фу!» в случае удачи и «Гм!» при неудаче,
острят по поводу недостатков чужой внешности, насмехаются над «униженной
красавицей на костылях»29, начинают биться в конвульсиях, услышав имя
соперника, в ужасе отшатываются при малейшем посягательстве на их
патологические претензии; подобно страдающему подагрой судье Вудкоку30,
похищают цветы школы Делла Круска31 и в качестве образцов приятного
пасторального стиля вместо них предлагают вам «Стихи к Анне» — их вы
увидите в примечаниях к «Бавиаде» и «Мевиаде»32. Все это похоже на басню о
«Котенке и листьях»33.
Однако, заполучив медный ошейник и начиная отбивать служебные
склянки34, они выпрямляются во весь рост, подобно огромному Котищу Салоеду35,
и бросаются на окружающих людей и предметы. Горе всякому
неосторожному писателишке, который посмеет выползти на их дорогу без пропуска из
Бюро контроля! Они в один миг проглотят его, а потом будут долго
облизывать губы, поглаживать усики и позванивать колокольчиками над
воображаемыми останками обреченной добычи — на страх и удивление всему
выводку литературной, философской и революционной нечисти, обосновавшейся
в стране при каком-то там принце Оранском и некоем курфюрсте
Ганноверском сто лет назад**.
Когда один из этих избалованных, лощеных, «притворно застенчивых
зеленоглазых критиков, с острыми коготками и бархатными лапками»36,
сколачивает во имя Короля и Отечества компании для подобной разновидности
литературной охоты, шансов ускользнуть целым и невредимым, если он схва-
* Букв.: мертвая голова (лат.) — так у алхимиков назывались оставшиеся в тигле
бесполезные для дальнейших опытов отходы химической реакции; здесь: нечто мертвое,
бессмысленное, лишенное практической значимости.
** Сообразительному читателю будет приятно распознать здесь скрытый намек на
многозначительную фразу сквайра Вестерна о ганноверских крысах37.
XXII. О критике
247
тит жертву, не много. Вероломство для таких критиков становится движущей
силой, злой умысел — совестью, то есть средством пропитания. Они не
только проваливают произведение, но еще поносят и унижают автора, а вместо
разумных доводов и иронических замечаний прибегают к лживой и злобной
клевете. Создание популярного произведения угрожает автору утратой
репутации, а может быть, и жизни, если только он не стоит на стороне
сильнейших. Уничтожая противника, эти критики не обвиняют его во всевозможных
прегрешениях, не преувеличивают его реальные недостатки, — они просто
начисто отрицают какие бы то ни было заслуги, и прежде всего заслуги
единодушно признанные. Они клятвенно заверяют, что из целого тома
сочинений данного автора не понимают ни единой фразы, и если несчастный не
готов подписаться под всеми их заявлениями, скажут, что он неспособен и
имя-то свое написать. Для них речь идет не о литературном споре, а об
объявлении противника вне закона; с их точки зрения, беспощадность к
сторонникам противоборствующей партии есть признак лояльности и патриотизма. Их
ответ на доводы — брань; они вкладывают в чужие уста слова и мнения,
никогда не высказывавшиеся, и почитают предателем всякого, кто признает, что
писателю-либералу знакомы здравый смысл и английский язык. Положить
конец таким несправедливым гонениям можно только ценой ответных
действий в порядке предостережения для остальных. Придворная партия
гордится, что в ее рядах есть писатели, дорожащие своим добрым именем и не
желающие стать мишенью грубых ругательств и грязных оскорблений.
Замаскированная батарея «Блэквудского журнала» замолчала потому, что в
некоторых критических замечаниях по поводу этого журнала был упомянут сэр
Вальтер Скотт38 (честь, к коей этот необыкновенный человек, по-видимому,
не стремился), но другие джентльмены, причастные к этому достославному
изданию, гордились и радовались возможности стоять «высоко на
подмостках у позорного столба»39.
Я недавно пожаловался, что продажная литературная критика — особая
примета наших времен, но мне сказали, что ничуть не лучше обстояли дела
и во времена Поупа и Драйдена — в сущности, даже хуже, поскольку сейчас
среди нас нет ни Поупа, ни Драйдена, которых ханжи и болваны противной
стороны могли бы обзывать, превращать в пугала и сажать живьем на кол.
Я не уверен в правоте своего наблюдения: англичане (надо признаться) —
нация, весьма обожающая сквернословие.
Кроме временных и случайных предубеждений такого рода, в вопросах
вкуса и критики, по-видимому, распространены секты и партии (с
надлежащим набором боевых кличей); они ровесники искусства и будут жить,
покуда сохраняются первоначальные расхождения между умами разных людей.
Одни горячо ратуют за стиль изысканный, другие восхищаются простотой.
Последние видят образец английской прозы в сочинениях Свифта и считают
248
Застольные беседы
стиль всех прочих авторов излишне замысловатым, а их самих — пустым
местом; первые предпочитают блестящие, цветистые пассажи Юниуса или
Гиббона. Бесполезны все попытки добиться взаимопонимания между этими
противоположными направлениями, порожденными естественным
различием темпераментов и складов ума. Одним никогда не понравятся вечные
антитезы и блестки нарочито искусственного стиля в прозе, другие с таким же
постоянством сочтут худосочным и избитым простой, не вывернутый
наизнанку английский язык. В лучшем случае можно надеяться на взаимную
терпимость, но никак не на единство мнений; не боясь упреков в безвкусии и
непоследовательности, обе стороны могут признать, что каждый из писателей
прекрасен на свой лад.
Здесь уместно заметить, что эпитет «изящный» малоупотребителен в
современной критике. Он вышел из моды, вероятно, после появления «Озерной
школы», словарь которой, боюсь, обходится без этого обозначения.
Последним поэтом, к кому его относили в порядке комплимента, был, по-моему,
мистер Роджерс. В настоящее время это слово (так же, как «хорошенький»
или «причудливый») было бы сочтено уничижительным по отношению к
поэту и, соответственно, изгнано словесностью haut ton*. Может быть, в
будущем оно еще окажется востребовано вновь.
Опять же, до сих пор не решен и никогда не будет решен спор между
поклонниками Гомера и Вергилия: всегда найдутся читатели, кому мастерство
Вергилия будет ближе, а потому доставит больше радости и удовольствия,
чем искусство Гомера, — и наоборот. И те и другие будут правы,
предпочитая то, что им более по нраву — тонкость и аристократичность одного или
масштабность и величие другого. Вкусы почитателей так же различны, как и
характер дарования их любимцев. Примирение между французской и
английской теорией трагедии тоже недостижимо, пока французы не станут
англичанами или англичане — французами**. Обе школы правы в своем восхищении,
обе неправы в осуждении другой за предмет ее восхищения.
Мы видим недостатки Расина, они видят изъяны Шекспира — и те, и
другие преувеличивают. Но можно с уверенностью сказать, что если мы видим
только грубость и варварство — или бесцветность и многоречивость — у
писателя, ставшего в своей стране божеством, перед которым все
преклоняются, это значит, что нам здесь, а не им там недостает подлинного вкуса и
чувства. К этому в общем-то сводится и спор вокруг Поупа и школы, ему
противостоящей40, в нашей собственной поэзии. Правильность, гладкость и другие
черты Поупа превосходны и достойны похвалы. Но не следует ожидать или
* высокого тона,, класса, разряда [фр).
** Более вероятно второе. Мы поносим их на чем свет стоит — и подражаем им. Они же
над нами смеются, но подражать нам не торопятся.
XXII. О критике
249
даже желать такой же большой дозы этих качеств у других — во исключение
любых иных свойств. Ежели вы всему на свете предпочитаете правильность
и гладкость — они ждут вас у Поупа. Коль скоро вам дороже другое —
например, сила и величие, то вы знаете, где их искать.
Зачем тревожить Поупа или любого другого автора в поисках того, чего
у них нет и на что они не притязают? Вряд ли можно с полной серьезностью
отнестись к мнению, будто Поуп, наряду с присущими ему одному
изысканными преимуществами, обладал также всеми достоинствами Шекспира или
Милтона. А потому не считаю, что отсутствие этих достоинств лишает его
звания поэта. Не следует с помощью словесной эквилибристики валить в одну
кучу свойства разных поэтов или пытаться примирить противоположные
совершенства посредством крайней нетерпимости. Мы вольны сколько душе
угодно рвать Поупа на части за то, что он не Шекспир и не Милтон, равно как
брюзжать на этих двоих за то, что они не Поуп, — из всего этого не
получится поэт, равный трем сразу.
При всем пристрастии к определенному стилю или манере мы должны
держать свое мнение при себе и предоставить другим свободу вкуса. Если мы
отличаемся широтой взглядов и любим разнообразные проявления красоты
и совершенства, то находим их в избытке вокруг нас — в богатстве книг и
мыслей, не скованных прихотью или произволом правил. Те же, кто хотел бы
изгнать всё не соответствующее тому или иному стандарту воображаемого
идеала, руководствуются не соображениями высокого вкуса или широтой ума,
а желанием уничтожить, «сковать, связать и подавить»41 все радости и
взгляды, кроме своих собственных.
Одни люди отличаются устоявшимся и оригинальным вкусом, другие —
более усредненным и переменчивым. Мне иногда приходило в голову, что из
людей с умом острым и оригинальным получаются скверные критики. Они
воспринимают все в чересчур своеобразном преломлении. Что не
укладывается в рамки их наклонностей и творческих привычек, кажется им избитым
и надуманным. Ленивыми, пустыми глазами, «мутным взглядом»42 взирают
они на все, что не попадает в поле их непосредственных наблюдений.
Чрезвычайная сила их первичных личных впечатлений по сравнению со
слабостью вторичных, из чужих рук, опрокидывает их мировосприятие и нарушает
умственное равновесие. Люди менее одаренные от природы и вынужденные
чаще черпать из общей сокровищницы мудрости скорее привыкают ценить
то, чем обязаны другим. Их вкус не страдает от эгоцентризма и тщеславия,
они обогащают свой ум, непрерывно пополняя его из чужих запасов величия
и красоты.
Воспользуюсь случаем заметить, что никогда не знал человека с более
утонченным и разносторонним вкусом, чем друг моей юности, покойный
Джозеф Фосетт. Он был едва ли не первым из литераторов, с кем я свел
250
Застольные беседы
знакомство, и, пожалуй, самым искренним и бесхитростным. Он глубоко
изучил все стили и точно проводил грань между различными видами и
степенями совершенства, возвышенного или прекрасного, от «Потерянного Рая»
Милтона до «Пасторальной баллады» Шенсгона, от «Аналогии» Батлера до
«Хамфри Клинкера»43. Если у вас был любимый автор, то оказывалось, что
он тоже его читал и знал наизусть лучшие отрывки, разные тонкости,
детали, наиболее удачные штрихи. «Вы любите Стерна?» — «Конечно, — отвечал
он, — меня следовало бы повесить, если бы не любил!»
Когда он своим благородным, низким, мягким голосом читал отрывки из
«Комоса» — особенно строки «Часто слышал / Я трех сирен и мать мою
Цирцею»44 и так далее, когда затем восторженно комментировал их — это был
истинный праздник для слуха и души. Он читал Милтона с тем же жаром и
увлечением, с каким другие читают собственные вирши45. Я не раз слышал
его слова: «Нет большей отрады, чем любовь к совершенству, все равно к
чьему». В этом отношении слово у него не расходилось с делом. Дурные
побуждения были ему чужды, а судил он о других по тому, что чувствовал сам.
В ясном зеркале его сознания не было ни изъянов, ни пятен. Он был
восприимчив к новым впечатлениям и усердно хранил их в своей памяти. Ему было
совершенно не важно, о ком идет речь — о старом или новом писателе, о
прозаике или поэте. Ему нужен был такой, который давал пищу для
размышлений. Он говорил: «На мой взгляд, большинство людей похожи на
расстроенные музыкальные инструменты. Только коснитесь клавиш, и они
дребезжат, создают с вами резкий диссонанс. Большинство любит "Жиля Бласа"46,
но не находит ничего смешного в "Дон-Кихоте" Они обожают Ричардсона и
не выносят Филдинга». Фосетту они все нравились. Он не делал исключений,
а сердечно принимал самых разных писателей, лишь бы они были лучшими
в своем роде. Он не любил подделок и дубликатов. Собственный его стиль
отличался тяжеловесностью и нарочитостью, хотя человеком Фосетт был
необыкновенно искренним, простодушным и открытым.
Фосетту не единственному среди моих знакомых приходилось что-то
преодолевать в себе, прежде чем появиться перед публикой; как и многие
другие, он не замечал, что, избавляясь от того, что считали врожденной
слабостью, они лишают себя по-настоящему сильных качеств и преимуществ. Я
никогда не знал друга сердечнее и критика честнее. По контрасту с ним я
чувствовал недостаток подлинной искренности и великодушия у некоторых
из тех, с кем потом встречался. Он убедил меня (если вообще нужны были
какие-то доказательства) в правдивости слов Священного Писания: «Будь у
меня даже все мыслимые знания и говори я на языке ангелов, все равно без
милосердия я был бы ничем»47. Я бы предпочел скорее обладать всеохватным
вкусом и широкими взглядами, чтобы видеть и распознавать истину и
красоту, где бы ни обрел их, нежели отличаться более сильным и оригинальным
XXII. О критике
251
талантом, но при этом ненавидеть, завидовать и отрицать любые достоинства,
кроме своих, — вернее, кроме той жалкой крохи совершенства, которую сам
же и породил!
Существует еще одна порода критиков40, которых можно обозначить как:
vere adepti* оккультной школы. Они различают только скрытые от
поверхностного наблюдателя красоты и не замечают всего того, что очевидно
толпе простых смертных. Их искусство заключено в преобразовании стилей. Бла-
гополучно проводя в уме алхимический опыт , они превращают шлак в
золото, а золото — в мишуру. Они обладают сверхъестественной
проницательностью. Неудобочитаемого писателя они могут штудировать вечно, восторгаясь
запутанностью стиля и постигая тайны произведения. Они предпочитают сэра
Томаса Брауна «Скитальцу» доктора Джонсона50, а «Анатомию меланхолии»
Бёртона — всем писателям века Георгов. Они относятся к гениальным
творениям, как скряги — к спрятанному сокровищу: ценность оно обретает только
тогда, когда принадлежит им одним. Разделить с другом книгу для них так
же немыслимо, как любовницу. Если бы они заподозрили, что излюбленные
их книги радуют кого-то еще, то немедленно вычеркнули бы их из своего
списка. Эти милые их сердцу тома похожи на престарелых красавиц,
прикованных к постели, всеми покинутых, давно ставших ведьмами, похожими на
«ночной кошмар»51. Преклоняющимися перед ними почитателями движет не
зависть, не притворство, но врожденная склонность к необычному, любовь к
странному, из ряда вон выходящему. Удовольствие должно доставаться им
с трудом, а восхищение — подкрепляться неловким чувством, что они служат
предметом насмешек и вообще не похожи на других. В художественном
произведении они презирают все очевидное и общедоступное. Им приятна
монополия на хороший вкус и противно разбазаривание интеллекта,
проявляющееся в популярных изданиях. Точно так же они выбирают друга или
превозносят любовницу лишь за серьезные недостатки и терпят прелестный голос
актрисы только за некрасивость ее лица. Радости в чистом виде, по их
убеждению, пресны и безвкусны:
За каплю кислого все сладкое отдам52.
Им годится только то, что для толпы слишком уж изысканно53. Они едят
оливки и читают готический шрифт. Тем не менее в них чувствуется гений,
за который никаких денег не жаль хотя бы оттого, что очень редко его
встретишь.
В заключение упомяну критиков-буквоедов, охотников за словами, из тех,
кто вьжовыривает одно слово из предложения и одно предложение из цело-
* истинные последователи (лат.).
252
Застольные беседы
го тома и говорит вам, что они неправильны*. Эти ученые мужи заранее
знают, что вы никуда не годитесь — не можете правильно написать некоторые
слова или соединить именительный падеж с глаголом. И все потому, что
именно в этом они видят верх своих мечтаний и, конечно, должны поставить
вас ниже самих себя. Они унижают, опуская вас до уровня собственных
притязаний, ибо достоинства, в которых они вам отказывают, или недостатки,
против которых выступают, настолько незначительны, что вы будете
вдвойне смешны, ежели начнете доказьшать, в какой мере обладаете этими
достоинствами и свободны от тех недостатков. Ничтожность — их стихия, и они
низводят до состояния убожества все, к чему прикасаются. Они ползают,
жужжат и пачкают. Этих противных мошек гораздо легче раздавить, чем
поймать; а когда они оказываются в вашей власти, самоуважение
вынуждает вас к пощаде. Порода эта почти вымерла, но один или два еще порой
копошатся на страницах «Ежеквартального обозрения».
* Одной из разновидностей этой породы присвоено название ультракрепидариев54.
XXIII
О ВЕЛИКОМ И МАЛОМ
Для малых сих и малость велика1.
Голдсмит
В реальности великое и малое, без сомнения, различаются, но в уме человека
они пребывают на одном уровне. Ум ко всему подходит с общей меркой и не
всегда приспосабливает ее к величине и значимости оцениваемых им
предметов. Он проявляет некоторый интерес к тем или иным явлениям (не более
того), в соответствии с настроением и способностями человека и не любит ни
чрезмерной узости, ни чрезмерной широты применения, каковые могут
потребоваться в зависимости от обстоятельств. Будь наши воспоминания
отчетливее, мы бы обнаружили, что из двух событий, сильнее всего на нас
повлиявших, одно имело величайшее, другое — ничтожнейшее значение. Если это
рассуждение покажется слишком уж тонким, скажем так: хорошо известно,
что сильнее и чаще нас раздражают самые пустяковые обстоятельства; наша
выдержка и философический настрой нередко так же бессильны справиться
с ними, как с вопросами огромнейшей важности. Щепотка сажи, которая
портит обед, тарелка поджаренного хлеба, упавшая в огонь, разочарование,
постигающее нас, когда нам не достаются лента для шляпы или билет на бал, не раз
приводили к серьезным, а то и почти трагическим последствиям. Друзья,
выдержавшие глубокие разногласия во взглядах и столкновение насущных
интересов, нередко ссорятся и расстаются навсегда из-за глупого
недоразумения, из-за мелочи, «что и выеденного яйца не стоит»2. Отличная статья в
журнале «Болтун»3 доказывает, что если супруги с самого начала не
поссорятся из-за сущей ерунды, они впоследствии вряд ли найдут повод для ссоры по
вопросу действительно важному.
Выдающиеся богословы, великие государственные деятели, мудрые
философы часто расстраиваются по пустякам; более того, скромные, достойные
люди, претендующие лишь на добродушие и здравый смысл, с готовностью
254
Застольные беседы
жертвуют счастьем всей жизни, лишь бы не отказаться от мнения, давно и
наверняка совершенно случайно усвоенного. Не реальная ценность предмета
спора, а сам факт, что нам перечили и возражали, наносит нестерпимую
обиду и непростительное оскорбление. Не потому ли, что мы презираем
мелочи и не готовы к ним, они застают нас врасплох в минуты беспечности и
выводят из себя мелкой, непрерывной комариной войной, жужжанием,
укусами, так что мы не можем ни избавиться от них, ни сразиться с ними —
между тем как собираем все свое мужество и решимость, дабы противостоять злу
в крупных масштабах? Или же потому, что существует некий поток
раздражительности, который накатывает постоянно на колеса жизни, истирая их, и
шутя играет соломинками и перышками на своем пути, но не справляется с
крупными предметами, и они либо останавливают этот поток, либо уводят его
в другую сторону, где лежат серьезные и продуманные интересы?
Попытаемся объяснить это следующим образом.
Всегда гораздо обиднее проиграть из-за одной лунки или подачи навылет,
чем тогда, когда вовсе не было шанса выиграть. Частично или главным
образом это, несомненно, объясняется тем, что близость успеха усиливает
последующее разочарование. Известны случаи, когда люди страдали и заболевали
оттого, что им выпал номер рядом с тем, по которому в лотерее полагался
выигрыш в двадцать тысяч фунтов. А это могло получиться единственно
потому, что в воображении они уже были близки к победе и казалось, что от
успеха их отделяет только тоненькая перегородка. Несмотря на явную
абсурдность этого предположения, их до полного изнеможения, не давая ни сна ни
отдыха, преследует мысль о том, почему они выбрали не счастливый номер,
а соседний, — ведь это было так легко сделать!
Там, где воле для достижения цели надо преодолеть ничтожнейшее
воображаемое препятствие, должно казаться, что для победы достаточно и
невероятно малого усилия, что воля (если бы сознавала это) легко могла бы овладеть
вожделенной наградой — и потому она заставляет человека непрерывно
терзаться, делая очевидный переход от одного номера к другому, — но слишком
поздно! Таким образом, воля действует соответственно своей воображаемой
силе, своему ощущаемому умению преодолевать видимые преграды. В делах
маловажных и несущественных человек не видит причины, почему воля не
может добиться своего, — и тем сильнее разочарование. Воля пробуждает гнев
именно из-за незначительности события и доводит человека до крайней
степени раздражения, потому что как раз в силу этой незначительности
возникает ощущение, будто на пути к цели не может возникнуть настоящих
трудностей, да и те легко преодолимы усилием воли.
Помехи и преграды нарушают душевное равновесие, возбуждают
сильнейшее волнение, и, поскольку по-прежнему кажется, будто для устранения всех
препон требуется только волевое усилие, мы все больше предаемся необуз-
XXIII. О великом и малом
255
данным чувствам и постепенно доходим в своем нетерпении до исступления.
Цель та же, но мы не те. Кровь кипит, мускулы напряжены. Тщетная
борьба до крайности взвинчивает нервы. Терпение истощается. Чем ничтожнее
цель или чинимые на пути к ней препятствия, тем больше мы злимся, что они
в состоянии нас остановить. Все это напоминает колдовство: мы воображаем
себя во власти заклятия, и потому нас задерживают соломинками и
опутывают паутиной.
Мы полагаем, что в наши дела вторгается рок. Нас очевидным образом
сознательно, нарочно терзают. Рядом с нами сидит бес, он мучает нас и
расправляется с нами даже по самому пустячному поводу. Мы видим, как он
следит за нами и издевается, а мы в ответ бушуем и скрежещем зубами.
Особенно нестерпимо то, что мы при всем желании ни в чем, даже в
мелочах, не можем добиться успеха. Нами помыкают глупость и невезение. Мы
делаем еще одно отчаянное усилие — и снова предаемся всевозможным
безумствам бессильного гнева. Наше негодование сильнее рассудка, ибо,
поскольку оно беспричинно, ничто не может сдержать его и образумить нас
напоминаниями о последствиях. Мы хватаем и рвем на части все, что попадает под
руку, подобно тому как ветер поднимает и крутит мякину и колосья.
Возбуждение играет роль деспота в великолепной трагикомедии о
лилипутских трудностях и мелких разочарованиях на его пути; ему на смену
приходят неистовая скорбь и бурная обида, он заставляет устраивать
беспричинную суету — ибо суетиться не из-за чего. И вдруг надвигающаяся катастрофа,
безвозвратная потеря мгновенно заставляют опомниться и останавливают
чересчур разбушевавшиеся страсти. В состоянии сильного возбуждения
человек способен похваляться умением играть в мяч, свирепствовать как дикий
зверь и биться головой о стену из-за пустяка — или из-за чего-то, над чем
будет в следующий миг смеяться, а через десять минут забудет навсегда. Между
тем крепкий удар мяча, весьма неприятные последствия которого он может
чувствовать потом целый месяц, успокоил бы его немедленно.
Вновь станет кроток он, как горлица,
И будет тих и молчалив4.
Истина заключается в том, что мы раздуваем мелкие неприятности до
размера больших и стараемся терпеть большие изо всех сил. Мы можем шутить
и веселиться по поводу крупных, но мелкие требуют серьезного отношения,
исключающего игривость и бахвальство в духе Пистоля5 или наглость на
манер царя Камбиза6. Мы покорны перед лицом великих бедствий, но
возмущены мелкими обидами. Однажды я потерял надежду на стофунтовый
заработок и в тот же день проиграл полкроны в теннис — и этот проигрыш
раздосадовал меня больше.
256
Застольные беседы
Длительные бедствия мы относим к будущему и откладываем
размышления о них на завтра; сиюминутную горечь поглощаем сразу, до того как она
испарится. Мелкие огорчения мы ощущаем живее и долго терзаем,
раздираем, кромсаем свою грудь тончайшим острием нашей неудачи, обрушивая на
себя ужас мщения. Малое страдание легче поддается охвату, оно более
досягаемо; мы можем волноваться и мучиться как угодно, можем придать ему
любые черты, крутить-вертеть его так и сяк: песчинка в глазу, заноза в теле
вызывают лишь местное раздражение и оставляют достаточно сил, чтобы
злиться и выходить из себя, — тогда как тяжелый удар оглушает, лишает
способности чувствовать и сопротивляться.
Великие, могучие превратности судьбы, подобно природным потрясениям,
будто бы имеют свой глубокий смысл, свое оправдание: они представляются
неизбежными, неотвратимыми, и мы безропотно принимаем их роковую
необходимость. Масштаб событий, нас случайно коснувшихся, захватывает
душу и словно выводит ее из обычных границ прямо на страницы истории.
Вместе со сценой, на которой нам предстоит играть, ширятся наши мысли и
дают нам силу пренебречь нашей ролью в происходящем.
Есть люди, равнодушные к ударам судьбы, — ведь до и после
землетрясения в воздухе всегда царит тишина. С высоты своего положения такие люди,
по привычке смотреть сверху вниз, видят себя лишь частью целого; и сила,
с какой обрушивается горе, помогает им отвлечься от его бремени. Взрыв
событий переносит их в иную сферу, далекую от их прежних мыслей, целей
и страстей. Масштабность перемен предвосхищает медленное воздействие
времени и размышлений: люди созерцают себя с огромного расстояния — и
в то же время философски изумляются достигнутой прежде высоте. Если бы
последующее падение оставляло им хоть каплю надежды, они бы страдали
еще сильнее и переносили бы его менее покорно, ибо сохраняли бы веру в
возможность справиться с его последствиями ценою новых усилий и
долготерпения. Но неизлечимо — значит безнадежно.
Именно эти причины (а также природные данные) позволили
величайшему человеку в современной истории7 перенести переворот в своей судьбе с
веселым великодушием и пережить утрату мировой империи так же
спокойно, как проигрыш шахматной партии. Однако, согласно нашей теории, это не
мешало ему приходить в бешенство, когда Талейран терзал его дурными
новостями. Он был вне себя, когда слышал невнятные предсказания
катастрофы, но ее самое принял покорно. Можно отвергать наглость, но безропотно
принимать необходимость.
Еще одно соображение помогает нам не так сильно удивляться твердости
в несчастье, проявляемой теми, кто вступает в борьбу с превратностями
судьбы: дело в том, что они посвящены в тайну ее перипетий, и в чем другие
видят случайность, для них там — неизбежность. Ясное представление обо всех
XXIII. О великом и малом
257
обстоятельствах превращает сомнение в уверенность. Они не испытывают
угрызений совести, подобно своим поклонникам, которые не могут
определить, в какой мере за то или иное событие ответственны вожди, а в какой —
непредвиденные происшествия. Сами вожди знают только одно:
случившееся было неотвратимо, а они сделали все, что могли.
...si Pergama dextra
Defendi possent, etiam hac defensa fuissent*
Только туманность и неопределенность наших представлений о
положении вещей позволяют нам думать, что события могли бы или еще могут
развиваться иначе. Точное знание предшествующего и последующего
превращает людей в сугубых практиков и философов-детерминистов. Недостаток
знаний — вот движущая сила и душа всякой азартной игры и всех игр, в которых
лишь отчасти помогает сноровка. Предполагается, что исход неизвестен и нет
верного средства его угадать. Все зависит от того, как ляжет кость или
упадет монетка; по справедливости это должна быть лотерея, где известно
только то, что уже произошло. Именно это поддерживает живейший интерес и
взвинчивает страсти чуть не до безумия.
Во время игры неопределенность заставляет волноваться, страх и
надежда, успех и неудача сменяют друг друга, пыл желания достигает пика, и
невозможно все свести к расчету, то есть подчинить нарастающее действие воли
известному правилу или удержать чрезмерно бурные проявления страстей
под контролем разума. Мы не видим причины заранее, почему бы картам не
лечь выгодным для нас образом, и не узнаем впоследствии, отчего это
расклад оказался неблагоприятен. Когда игра окончена, мы упрямо
возвращаемся к упущенным шансам, — и точно так же при отсутствии необходимых
данных легкомысленно даем волю самым нелепым ожиданиям. Ничто не
примиряет нас со свершившимся, с нашей неудачливостью — ибо именно так мы это
воспринимаем.
Мы не видим причины для постигшего нас провала (да и не было ее, как
не было причины для успеха); мы полагаем, что самое главное после разума —
воля; мы стараемся все сделать на свой лад, суетимся, мучаемся, терзаемся
тщетными фантазиями — во имя немыслимого**. Мы снова и снова
прокручиваем в уме игру и удивляемся, как это вдруг умудрились проиграть. Мы
напрягаем мозги в поисках возможных противоречий и переворачиваем все
наизнанку или, иначе говоря, пытаемся подчинить природу нашим фантасти-
* «Если 6 / Мог быть Пергам десницей спасен»8 (лат.).
** Часто проигрывающие игроки становятся отчаянными, так как непрерывное,
яростное сопротивление воли длительной череде неудач доводит человека до крайности и
побуждает порвать со здравым смыслом и всеми доводами благоразумия и расчета.
258
Застольные беседы
ческим желаниям. «Если бы было так... Кабы мы поступили так или этак...» —
мы повторяем это на тысячу ладов, но до цели нам по-прежнему далеко.
Сперва мы взывали к судьбе и случаю, а теперь, когда они обратились против нас,
не желаем сдаваться, пусть и смирились с проигрышем, и согласны
подчиниться только разуму, который ко всему этому никакого отношения не имеет.
Так, например, когда мы вытаскиваем соломинки, чтобы проверить,
которая из двух длиннее, — разве нужно непременно ошибиться в выборе, когда так
просто вытянуть другую; в сущности, в один момент мы почти так и сделали,
и если бы... — опять сознание возвращается к тому, что было так близко и так
возможно в тот момент, когда дело только решалось и когда непременно
проявились бы всякие мелкие и незначительные факторы; подобно тому как
игрок в кегли нагибается, чтобы задать траекторию шару, уже выпущенному из
рук, не учитывая простую вещь: что однажды предопределено — пусть
причинами тривиальными и преходящими — в каждом единичном случае не
подлежит изменению. Чтобы быть великим философом в жизненном, наиболее
важном смысле слова, достаточно верить в истинность изречения, которое
мудрец твердил дочери короля Кофетуа: что есть, то есть9, и всё тут.
Мы очень часто бываем несчастны оттого, что сокрушаемся, почему все не
сложилось иначе, ведь в воображении осуществимо и то, что в реальности
невозможно.
Помню, когда провалился фарс Лэма10 (бесспорно провалился!), мне потом
целый месяц снились сны (а затем я поклялся, что больше не буду
терзаться по этому поводу), будто его с большим успехом вновь поставили в одном
из небольших или провинциальных театров, будто его немного сократили и
переделали и теперь считают пригодным для Ковент-Гарденского театра. Я
слышал (это по секрету передавали Лэму), что Джентльмен Льюис
присутствовал на первом спектакле и говорил: попади этот фарс в его руки, он, с
помощью нескольких разумных сокращений, превратил бы его в самую
популярную пьесу последних сезонов.
Как часто звучал у меня в памяти гром аплодисментов в конце пролога и
хохот моего друга-острослова, наслаждавшегося собственными шутками в
первом ряду партера! Затем я с деланным благодушием говорил об удавшейся
части пьесы, затем мы вместе обдумывали, не утомила ли зрителей
предшествовавшая фарсу длинная и нудная опера «Путешественники»11, не
помешала ли им воспринять непривычную и блестящую «сшибку остроумий»12 в
диалогах; мы приходили к заключению, что фарс звучал бы хорошо после
трагедии. Исключение составлял сам Лэм — он клялся, что с самого начала ни
на что не надеялся и хорошо понимал неприемлемость имени героя. Услышав
твое имя, мистер С.13, зрители не могли не освистать тебя. Как весело
светило утреннее солнце на афиши, возвещавшие твое появление, и на улицах со
всех сторон звучали вопросы, пойдут ли собеседники посмотреть «Мисте-
XXIII. О великом и малом
259
ра С.» — и ответы, что пойдут непременно. Но еще до наступления ночи
веселость не только автора, но и его друзей и всего города увяла, ибо тебя
освистали! Будь ты без имени, ты бы, возможно, и остался жив. Но тебя постиг
безвременный конец за твои фокусы и за отсутствие более благозвучного
имени, чтобы их прикрыть.
TajoiM вот образом мы возвращаемся к критическим минутам, решающим
как нашу судьбу, так и судьбу тех, кто нам дорог; вновь прокручиваем их в
голове, уже обладая новыми знаниями и обостренной чувствительностью, и
думаем, как изменить невозвратное и облегчить хотя бы на мгновение тоску
надолго остающихся сожалений. Так, мне кажется, что если бы в игре в
теннис (сравним большое с малым)* я в такой-то момент стал закреплять свой
успех, если бы не был слишком самоуверен или чересчур взволнован, если бы
пробил мяч в тот незащищенный угол, короче, если бы действовал как
угодно, лишь бы не так, как в тот злосчастный вечер, у меня были бы все шансы
на успех.
Однако именно потому, что я не знаю, как бы все повернулось в
противном случае, я толкую все в свою пользу. Я иногда проводил ночи без сна,
стараясь в каком-нибудь интересном состязании послать решающий мяч в
конкретный угол корта (чего в действительности мне сделать не удалось из-
за разыгравшихся нервов). Теннис (скажу я несведущему читателю), как и все
другие спортивные игры, зависит от мастерства и практики, но также и от
мнения человека о самом себе, мнения, «покорного всем воздушным
колебаньям»14. Если вы думаете, что можете выиграть, то вы можете выиграть.
Для победы нужна вера в свои силы. Если вы неуверенно ударяете по мячу,
тогда — десять против одного — ваш удар не попадет в цель. Если вы
опасаетесь какой-нибудь определенной ошибки, как, например, удара мимо мяча,
то почти наверняка эту ошибку совершите. В тот момент, когда ваши мысли
заняты ошибкой, которой вы хотите во что бы то ни стало избежать, рука
ваша механически следует за самой сильной из мыслей и подчиняется
воображению больше, нежели намерению.
Несколько следующих друг за другом удач предвещают успех, и мужество
не менее важно, чем искусство. Тем не менее от волнения никто не
застрахован. Хороший игрок может вдруг оказаться не способен ни на один удар, если
на корте появляется тот, кого он особенно боится; и часто случается, что
игрок не может победить какого-то соперника, хотя запросто разделается с
другим, ему равным, и всё потому, что к первому он чувствует ревность или
некую личную неприязнь, а к последнему — нет. «Sed haec hactenus»**.
* В начале прошлого века поэты часто вводили сравнение такими словами: «Вот так
в Аравии я видел Феникса!» Признаюсь, мои примеры носят более непритязательный и
скромный характер.
** «Но довольно об этом»15 (лат.).
260
Застольные беседы
Шахматы я не понимаю и недостаточно одарен для этой игры. Но я
убежден, что, хотя успех тут в гораздо большей степени зависит от мастерства, чем
от случая и удачи, страстные игроки целые ночи напролет двигают фигуры
взад-вперед по воображаемой доске, объявляя мат обыгравшему их днем
противнику с помощью ходов, которые они в реальной игре не использовали.
Я слышал историю о двух игроках в триктрак, один из которых пришел в
такое бешенство, когда в какой-то момент стал проигрывать, что схватил
доску и выбросил ее в окно. Она упала на голову прохожего, который
поднялся к ним, требуя немедленной сатисфакции за оскорбление и полученный
ушиб. Тот, кто проигрывал, только спросил, понимает ли новый знакомый
правила триктрака, и, услышав утвердительный ответ, сказал, что если тот
при виде создавшегося в игре положения не извинит его за несдержанность,
он готов дать любое угодное тому удовлетворение. Тут же принесли столы,
объяснили положение соперников в игре, после чего обиженный джентльмен
сложил шпагу и ушел, выразив полное удовлетворение.
Одни увидят в вышесказанном отступление от темы, другие —
подтверждение отстаиваемой мною теории. Итак, степень и смысл той или иной потери
определяются не ценностью предмета, но временем и трудом, на него
затраченными. Многие занимаются только пустяками и не обладают внутренним
компасом, нужным для того, чтобы помимо мелочей и внешних деталей
заинтересоваться чем-то поистине великим и важным. Умственные способности таких
людей невелики, и их можно наградить званием взрослых детей, из тех, кто
Соломинкой довольны, рады перышку16.
Они не воспринимают крупные явления и с готовностью набрасываются
на ничтожные и малозначительные. Они изводят других и себя
непрестанными волнениями на пустом месте. Малейший изъян в одежде вызывает у них
лихорадочное беспокойство и раздражение, и они принимаются то ковырять
в зубах, то подрезать ногти, то помешивать угли в камине, то смахивать
соринку с сюртука; и если бы даже рухнул дом или весь мир, то это не вывело
бы их из состояния болезненной чувствительности к мелочам. Они даже ради
спасения жизни не могут усидеть на месте, но, коль скоро нашлось бы для них
какое ни на есть дело, они впали бы в полную неподвижность. Нервы их столь
же возбудимы, сколь вяло и бездеятельно воображение. Они страдают от
неисправимой привычки к мелочности и несговорчивости, а это исключает
любое иное побуждение к действию или размышлению, кроме повседневных
несносных, докучных, презренных, излюбленных источников тревоги и
недовольства. Ежели по характеру такие люди не меланхолики, а оптимисты, то
они превращаются в quidnunc'oB* и коллекционеров редкостей — собирают
* Здесь: всезнаек (лат.).
XXIII. О великом и малом
261
гусениц и разрозненные тома, изготовляют удочки, увлекаются цепочками
для часов. Таким путем добился бессмертной славы Уилл Уимбл17 Но не
всем выпадает такая удача.
Одним удается прославиться сочинением эпиграмм или эпитафий, другие
всю жизнь посвящают тому, что вписывают молитву «Отче наш» в
миниатюру. Некоторые поэты сочиняют музыку и поют собственные стихи18. Которым
из талантов, поэта или музыканта, хотели бы они больше поразить публику?
Величие в единстве. Попадаются и такие, которые больше гордятся, когда
запечатывают письмо печатью с изображением головы Гомера, чем гордился
сам слепой певец, читая свою «Илиаду». Одни добиваются высокого о себе
мнения без всяких оснований, между тем как другие смиренно скрывают
собственные заслуги, ибо не могут победить застенчивость. Я знаю, по крайней
мере, одного человека, который хотел бы быть скорее автором неудачного
фарса, чем снискавшей успех трагедии19. Многократные унижения породили
у него честолюбие наизнанку и заставили считать неудачу горькой проверкой
достоинств. Он не в силах поднять голову, чтобы посмотреть на сверкающий
венец славы в пределах его досягаемости, но бросает задумчивый,
сосредоточенный взгляд на растоптанные толпой скромные цветы. Случись ему в самых
благоприятных условиях поставить пьесу, имеющую все шансы на успех, он
провалил бы ее какой-нибудь неуместной, своенравной шуткой и пожертвовал
бы расположением публики, лишь бы остаться самим собой.
Шекспир говорит: «Странных товарищей по постели дает человеку
несчастье»;20 оно же превращает в изменников наши собственные мысли. Многие
верны изречению «Береги пенсы — целы будут и фунты», однако успешно
применяют его на практике только те, кто больше думает о пенсах, чем о
фунтах. Для таких крупная сумма значит меньше маленькой. Серьезные
спекуляции, огромные доходы кажутся им непомерными, немыслимыми, а
годовой доход в несколько сот фунтов —уютным и удобным. Кто привык к
скромному образу жизни без излишеств, и вообразить не может что-то более
роскошное. Когда наступают лучшие времена, такой человек, вместо того
чтобы тратить больше и щедрее, пятится назад при мысли о последствиях и
надеется преуспеть в масштабных делах с помощью скупости и экономии.
Дядюшка Тоби нередко видел, как Трим стоит за его стулом, несмотря на
приказание сесть21. Что капрал делал из уважения, другие сделали бы из
раболепия. Лакейский дух не выветривается даже за два-три поколения. Есть
люди, которых никак не выгнать из кухни, — и все потому, что из нее вышли
их бабушки и дедушки. Однажды пара бедняков проходила недалеко от Порт-
ленд-Плейс22, и муж раздраженно сказал жене: «К чему шататься по этим
шикарным улицам и площадям? Давай-ка свернем в какой-нибудь переулок!»
Он понимал, что там почувствует себя уютнее. Лэм говорил о каком-то старом
знакомом, что в юности тот хотел быть портным, но у него духу не хватило.
262
Застольные беседы
В чем ужас неравных браков? Женщинам нелегко забыть — или поверить,
что другие забыли, — об их происхождении, поэтому они, даже сознавая
превосходство своего ума и красоты, остаются в тени, хоть и испытывают при
этом мучения. Гораздо хуже получается, когда они, преодолевая чувство
неполноценности, выставляют напоказ всю наглость выскочки и мнимой
светской дамы. Однако если ты, моя Инфеличе23, осчастливишь мой дом своею
ласкою, ты так же покоришь все сердца присущей тебе кротостью, как
пробудила улыбкою мои надежды, и я покажу всему миру, каковы были
героини Шекспира!
Одни кавалеры мечтают о принцессах, другие довольствуются в грезах
знатными дамами, третьи с ума сходят по оперным певицам. Что до меня, то
я стесняюсь даже актрис и не решился бы оставить свою визитную карточку
у мадам Вестрис. Я не гоняюсь за подобным bonnes fortunes;* мне бы
смиренных красавиц — служанок, пастушек с красными локтями, жесткими
ладонями, черными чулками и чепчиками. Я бы открыл галерею не хуже, чем у
Каули24, и нарисовал бы их, по крайней мере наполовину, так же хорошо. О,
если б я мог решиться описать их поэтической прозой! Дон-Жуан позабыл бы
о своей Юлии25, а мистер Дэвисон, быть может, отпечатал бы и выпустил этот
том в свет!
Пока я согласен с Горацием и расхожусь с Монтенем26. Клементинами27 и
Клариссами28 я восхищаюсь на расстоянии; Памелы29 и Фанни30 Ричардсона
и Филдинга зажигают кровь в моем сердце. В свое время я именно таким
писал любовные письма d'un pathétique à faire fendre les rochers**, но
впечатление мои письма производили такое, как если бы я обращал их к каменным
статуям. Мои простушки только смеялись и говорили, что «так любви не
добьешься». Жаль, что для своего оправдания я не сохранил копий.
Еще сильнее мое отвращение к синим чулкам. По-моему, гроша ломаного
не стоит женщина, которая знает, кто такой писатель. Если я слышу, что она
читала хоть какие-нибудь мои писания, то тут же прекращаю с ней всякое
знакомство. Общение на литературные темы я ни во что не ставлю.
Женщина, которая приобретает критические и научные познания, по-моему, всего
лишь носит воду решетом. Я не хочу, чтобы мне рассказывали о том, что я
опубликовал ту или другую книгу: я и сам это знаю, и моя оценка
собственных сил не становится выше. Я хотел бы, чтобы роман развивался иначе, —
чтобы она читала в моей душе; она должна понимать язык сердца, должна
знать меня, как если бы была моим вторым «я». Я нравлюсь себе без
причины — пусть и ей я так нравлюсь, пусть она любит меня ради меня самого. Все
это не очень разумно. Я исключаю такие поводы для преклонения, как одеж-
* везением [фр).
"* «...пафос которых был способен сокрушить скалы»31 [фр.).
XXIII. О великом и малом
263
да, происхождение, воспитание, богатство, и не хотел бы выставлять напоказ
свои достоинства, каковы бы они ни были.
Образ прекрасного создания запечатлен в святая святых моей души, и на
этом строятся мои притязания на ее чувство, моя надежда, что она видит
глубины моего сердца так же ясно, как я всегда вижу ее перед собой. Куда
бы ни ступила она, под ногами ее распускаются бледные первоцветы,
похожие на нее лицом, весенние гиацинты, напоминающие ее чело32, музыка
звучит среди ветвей, но без нее все холодно, голо, пустынно. Так я чувствую и
так я думаю. Признался ли я ей в этом? Нет. А если бы признался, поняла бы
она меня? Нет! «Я гонюсь за ветром, я боготворю статую, я вопию в
пустыне»33. Созерцать красоту — не значит быть красивым, изнывать от любви —
не значит быть любимым.
Я всегда был склонен превозносить и преувеличивать могущество любви.
Я верил, что ее нежная власть должна проявляться лишь для того, чтобы
соединить самых красивых внешне и самых уродливых внутренне. Я верил, что
только те, в чьем внешнем и внутреннем облике светит огонь божества
любви, могут наслаждаться его торжеством. И я стоял поодаль, чувствуя себя
недостойным присоединиться к такому блистательному обществу, и ни на миг не
желал запятнать прекрасное видение своим присутствием. Я говорю, как
тогда это понимал, но Богу известно, что таково было одно из заблуждений моей
юности, ибо, приглядевшись повнимательнее, я увидел, как к трону Любви
приближаются калеки, слепые, хромые, горбатые и карлики, уродливые,
дряхлые, бессильные, легкомысленные, светские щеголи, фаты и нахалы, суетные,
глупые хвастуны, дураки и педанты, невежды и грубияны — словом, все, кто
особенно далек от того, что составляет красу и гордость человеческой жизни.
Видя их при дворе Любви, я подумал, что к толпе и я могу
присоединиться, но был отвергнут, и тогда мне пришло в голову (быть может, ошибочно),
что я не ниже, а выше обычных мерок. Я был унижен своим поражением,
хотя и стыдился этого чувства, когда увидел, что меня опережают самые
низкие из людей, отбросы и подонки общества, мерзкие ползучие твари. Я
ощутил себя существом особой породы, стал гордиться своим позором и
пришел к выводу: мое наследие в ином! Ничем прежде я никогда не гордился,
кроме того, что написал книгу «О принципах, движущих поступками
человека»34, которую ни одна женщина не читала и в жизни бы не поняла. Однако
если я не требую уважения к своим реальным заслугам, то какое у меня право
добиваться внимания к несуществующим? И почему жалуюсь на жизнь и
надеюсь отыскать виноград в колючках или фиги в чертополохе?
Мысль отменила для меня радость; этот хмурый лоб, напряженно
склонившийся в поисках истины, стал скалою, о которую разбились все мои
привязанности. И так я превращаю всю свою жизнь в один долгий вздох; никогда
(разве что слишком поздно) не видел я дорогого лица, обращенного ко мне
264
Застольные беседы
с ласкою!.. Ах нет, никогда не поздно, если это лицо, чистое, скромно
опущенное, нежное, милое, словно ангельское, не только сулит радостное будущее,
но распространяет сияние на прошлое, с улыбкой глядя сквозь слезы. Над
моею головой пурпурный свет. В комнате веет любовью. Когда я смотрю на
давно заброшенную копию «Смерти Клоринды»35, золотые лучи играют на
полотне, как в дни, когда я еще писал свою картину. Цветы радости и
надежды распускаются в моем воображении и напоминают время, когда они
расцвели впервые. Ушедшие годы стучатся в дверь и входят. Я снова в Лувре. Еще
не закатилось солнце Аустерлица. Оно по-прежнему светит в моем сердце, и
он, сын славы, еще не умер и для меня никогда не умрет. Я такой же, каким
был в начале жизненного пути. Радуга вновь раскинулась в небе; я вижу
последние мгновения минувших лет. Не напрасно я мыслил и чувствовал. Я не
такое уж бесполезное, неуважаемое существо и не ссохнусь и не умру под
бременем общего презрения. Теперь я могу сидеть на могиле Свободы и
писать гимн Любви. Ах, если я обманываюсь, то хочу и дальше обманываться.
Дозволь мне жить в раю нежных взглядов, отрави меня поцелуями, убей
улыбками, но продолжай дразнить своей любовью*.
Поэты выбирают лишенных очарования возлюбленных, чтобы сотворить
нечто из ничего. Они особенно преуспевают в вымысле и применяют то же
правило к любви. Они любую неряху превращают в богиню. Как сказал Дон-
Кихот в ответ на прозаичные уговоры Санчо, Дульсинея Тобосская так же
годится для испытания его доблести, как и самая «прекраснейшая
принцесса на свете»36. Вот почему о любой представительнице прекрасного пола
можно писать точно так же, как о другой. Поэты берут какое-нибудь неуклюжее
существо, наряжают его в прекрасные слова, как дети наряжают в красивые
платья деревянных кукол. Быть может, их поражает красивая прическа,
стройная талия или что-нибудь еще в этом роде, а все остальное они
черпают из своей фантазии. Они удивительным образом умеют находить в
кладовых воображения запасы, помогающие восполнять недостатки кумиров их
сердца. Они вскоре возносят своих возлюбленных до небес, где те
появляются, блистая короной Ариадны и локоном Береники37 Полагаю, пристрастие
к невзрачному и малопривлекательному объясняется не только стремлением
поэтов к предмету, который помог бы им проявить свой талант и выдумку,
но и их ревнивым отношением к любой претензии (даже на красоту со
стороны представительниц противоположного пола), страхом, что тогда
тщеславию самих певцов достанется меньше фимиама.
Кардинал Мазарини потерял всякое уважение к кардиналу де Рецу, когда
услышал от того, что последние тридцать лет жизни он пишет одним и тем
* Прошу читателя рассматривать предыдущие строки как образец
псевдогероического стиля, ничего общего не имеющего с реальными фактами и чувствами.
XXIII. О великом и малом
265
же пером. Некий итальянский поэт решил поднести свои стихи Папе, но,
просматривая их в карете по дороге в Рим, обнаружил одну крошечную
опечатку и чуть не умер от досады и огорчения. Еще более примечательный
случай разочарования, связанного с литературой, представляет история его
соотечественника; не могу не привести ее здесь, так как она связана с моими
рассуждениями. Антоний Кодр Урцей, необыкновенно ученый и в высшей
степени несчастный итальянец, родившийся близ Модены в 1446 году, являл,
по словам его биографа, поразительный пример страданий, навлекаемых на
нас неразумной привязанностью к пустякам. Этот ученый муж занимал
покои во дворце в Форли38. В них было так темно, что он вынужден был
зажигать свечу даже днем. Однажды он вышел из дома, не загасив свечу; в
библиотеке возник пожар, и погибли некоторые бумаги, подготовленные им для
печати. Услышав о пожаре, он в бешенстве прибежал во дворец и,
остановившись у дверей своей комнаты, закричал: «Господи Иисусе! Какое такое
страшное преступление я совершил? Кого из Твоих последователей обидел и тем
вызвал взрыв неумолимой ненависти с Твоей стороны?» Затем он обратился
к висевшему рядом образу Девы Марии. «Дева, — сказал он, — выслушай
меня, ибо я говорю обдуманно и спокойно. Если мне случится воззвать к тебе
в смертный час, смиренно прошу не слушать меня и не пускать меня на небо,
ибо я избираю вечность в аду!» Услышавшие эти кощунственные речи
пытались успокоить ученого, но все было напрасно: чувствуя себя не в силах
переносить общение с людьми, он оставил город и, подобно дикарю, удалился
в лесную чащу, где и поселился один-одинешенек. Кто-то говорит, что его там
убили негодяи, кто-то — что он умер в Болонье в 1500 году, до этого долгое
время предаваясь печали и покаянию.
Возможно, осуждение этого несчастного, выраженное в начале моего
рассказа о нем, незаслуженно сурово объявляет его ответственным за
приключившиеся с ним беды, потому что он все свои чувства неразумно
сосредоточил на пустяках. Но хотя некоторые свидетели могли так считать, для него
самого труд всей его жизни вряд ли был пустяком. Гнев ученого, вылившийся
в яростное исступление, имел причину. Ярким контрастом служит история
про сэра Исаака Ньютона: когда он вошел в свой кабинет и увидел, что
свеча, опрокинутая на стол его псом Треем, сожгла чрезвычайно важные и
ценные бумаги, он ограничился таким восклицанием: «Ах, Трей, ты и понятия не
имеешь, что натворил!» Многие не простили бы так легко даже того, кто
разлил бы чашку шоколада.
Помнится, несколько лет тому назад мне рассказали о человеке с сильным
характером и немалыми средствами, приговоренном из-за внезапных
денежных потерь к долгому мучительному заключению и пережившем его с
образцовой стойкостью. Через четыре года участие и усилия друзей принесли ему
освобождение и возможность начать жизнь сначала. Он приготовился рас-
266
Застольные беседы
статься со своим докучным жилищем и назначил определенный день для
встречи с женой и детьми на расстоянии двухсот миль от тюрьмы. Однако из-
за пропажи нужного письма подпись, необходимая для завершения дела, не
поспела вовремя, и возникшее осложнение не позволило узнику выехать
домой до следующей почты, то есть через четыре дня. Душа его не смогла
вынести отсрочки. Напряженность ожидания достигла у него высшей точки. Он
будто бы рассчитал свое терпение на известный срок, с тем чтобы потом
навеки сбросить бремя, и не в силах был вновь взвалить его на себя хотя бы
на несколько часов. В припадке мучительного страдания он положил конец
невыносимому конфликту надежды и разочарования.
Горести предвидимые и на досуге созерцаемые несколько смягчаются
благодаря тому, что растягиваются во времени и пространстве, но те, что
обрушиваются на нас внезапно, пускай и ненадолго, словно оскорбляют неожиданным,
незваным вторжением; даже сама надежда на облегчение, сперва нам
обещанная, а потом отнятая, — пусть на короткий срок и расстояние — доводит
нетерпение до исступления, изводя нас напрасными надеждами и пустыми
желаниями, и, чтобы разорвать в клочья тоненькую преграду между нами и
предметом наших вожделений, мы иной раз готовы сломать оковы самой жизни.
Насколько мне известно, никто не доказал, что для ведения крупных дел
нужны большие способности, чем для малых. Клетки мозга, как зрачки глаз,
расширяются или сокращаются для обозревания широкой или узкой
поверхности, но в обоих случаях находят достаточно разнообразные объекты
внимания. Материальный мир делим на бесконечно малые части, и то же можно
сказать о структуре человеческих дел. В зависимости от обстоятельств, мы
рассматриваем все в целом или в деталях. Мне кажется, я одинаково
успешно мог бы справиться и с бюджетом страны на текущий год, и с вопросом о
том, как свести концы с концами и вовремя внести арендную плату за жалкую
лавчонку.
Крупные предметы движутся благодаря своему весу и инерции; великая
сила сметает со своего пути мелкие препятствия, но тот, кто управляет ею, —
нередко лишь марионетка во власти обстоятельств, подобно мухе на колесе,
которая говорила: «Какую пылищу мы поднимаем!»39 Легче разрушить
королевство и непомерно раздуть свою гордость и предубеждения, чем открыть
зеленную лавку. С первым в любой момент справится даже полоумный или
сумасшедший, чье слово — закон, а кивок головы — сама судьба. Более того,
тот, чей взгляд выражает послушание, кто понимает невысказанные желания
сильных мира сего, легко может ломать шеи и растаптывать свободу великого
народа, издеваясь над его силой и ненавидя его тем больше, чем яснее
ощущает собственную низость.
Конечно, власть не есть мудрость, но она гарантирует достижение
поставленных целей. Она не требует талантов и обходится без них. Когда человек
XXIII. О великом и малом
267
создает новую власть или преобразует государство мудрыми советами и
смелыми начинаниями, — это нечто иное, нежели ниспровергать его с помощью
рычагов, врученных ему с малолетства. В общем можно сказать, что великие
дела и сложные замыслы требуют больших талантов, чем мелкие, потому что
ум должен либо охватывать изобилие разнообразных деталей при решении
более широкого круга проблем, либо лучше уметь обобщать, либо глубже
проникать в основные действующие принципы и тем самым добиваться
необходимых результатов.
Бонапарт знал все, вплоть до фамилий младших британских офицеров в
Восточной Индии, но потерпел поражение потому, что не рассчитал, какое
сопротивление варварство может оказать утонченности. Он думал, что
русские не могут сжечь Москву, потому что парижане не могут сжечь Париж.
Французы полагают, что все должно быть французским. Однако казаки, увы,
не подчиняются этикету, а суровость погоды не считается с правилами
приличия!
Некоторые художники40 усматривают признаки гения в большой
величине картин. Я согласен с этим утверждением при условии, если большая
картина содержательнее маленькой. Не величина полотна, а правдивость и
верность природе, в него вложенные, решают дело. Многие ошибочно считают,
что миниатюра — более совершенное произведение, чем картина, написанная
маслом. Напротив, миниатюра уступает ей, так как не столь совершенна, ибо
не может следовать природе в стольких индивидуальных и точных
подробностях. Доказательством может служить то, что из копии хорошего
портрета всегда выйдет вполне совершенная миниатюра (смотрите, например,
эмали мистера Боуна), между тем как из копии хорошей миниатюры,
увеличенной до натуральных размеров, получится весьма скверный портрет.
Некоторые из наших лучших художников, приверженных к изображению
крупных фигур, переиначивают это суждение на свой лад. Они рисуют
гигантские фигуры для того, чтобы дать больший простор не природе, а
собственной кисти (как если бы красили стену дома): они видят в самом размере
полотна извинение для неряшливо-торопливой манеры письма и, в сущности,
превращают свои картины в нелепо разросшиеся миниатюры, в огромные
карикатуры.
Нет никакой необходимости (ни при большом, ни при малом масштабе)
погружаться в детали, забывая об общем впечатлении и разлагая лицо на
пористые и прозрачные молекулы; так поступал Деннер, писавший все, что
видел, через увеличительное стекло. Глаза художника должны быть,
по-моему, не микроскопом, а зеркалом — ясным, чистым, прозрачным. Малое в
искусстве начинается с незначительных подробностей, не связанных с
другими частями произведения. Истинный художник рисует не материальные
частицы, а нравственные свойства. Одним словом, где в каждом мускуле, каж-
268
Застольные беседы
дой жилке проявляется чувство и выразительность, там живы величие и
изысканность.
Я хотел бы завершить мои замечания рассказом о том, как в подобных
случаях совмещали великое и малое античные скульпторы. Плиний пишет:
Никто не сомневается в том, что Фидий — самый знаменитый среди всех
народов, которые понимают славу его Юпитера Олимпийского, но для
того чтобы даже те, кто не видел его произведений, знали, что он
прославляется заслуженно, мы приведем в доказательство частности, причем
касающиеся только его изобретательности. И для этого мы не станем
обращаться ни к красоте его Юпитера Олимпийского, ни к величине созданной
им в Афинах Минервы, хотя она в 26 локтей, — состоит она из слоновой
кости и золота, — но вот на щите ее он вычеканил по выпуклой
окружности сражение с амазонками, на вогнутой стороне того же щита борьбу
богов и гигантов, а на подошвах сандалий борьбу лапифов и кентавров: до
такой степени все малейшие части произведений у него вмещали в себя
искусство (Плиний Старший. Естествознание. XXXVI. 18)41.
XXIV
О ПРОСТОТЕ СЛОГА
Простота слога дается нелегко. Многие принимают непринужденный стиль
за вульгарный и полагают, что писать без жеманства значит писать как
попало. Между тем, напротив, никакой другой стиль не требует большей
точности и, если можно так сказать, чистоты выражения. Он полностью
исключает не только всякую бессмысленную пышность, но и все пошлые, избитые
обороты и небрежные, взятые с потолка, неряшливые аллюзии. По его
законам надо не накидываться на первое встречное слово, но подбирать лучшее
из всех существующих в обиходе; не лепить из слов произвольные сочетания,
но следовать живым оборотам языка. Писать в непринужденно-разговорном
или истинно английском стиле означает писать так, как в обычной беседе
изъясняются люди, действительно владеющие языком и умением выбирать
слова, люди, изъясняющиеся просто, убедительно, понятно и не прибегающие
к педантичной цветистости или ненужному витийству.
Иначе говоря, умение естественно писать так же соотносится с обычной
беседой, как умение естественно читать — с обычным языком. Если вы не
пытаетесь подняться над уровнем обыденной жизни и разговорной речи, из
этого еще не следует, что вам легко придать правильную интонацию и
произношение изрекаемым вами словам. Вы, конечно, не прибегаете ни к
торжественности, уместной на церковной кафедре, ни к театральной декламации,
ни к пустой болтовне без толка и смысла, ни к вульгарному диалекту или
шутовскому краснобайству. Вы должны придерживаться среднего уровня.
Вам следует избрать для себя определенный, подобающий выговор,
определяемый привычной взаимосвязью смысла и звука и достижимый, только если
вы проникнете в замысел автора. Точно так же можно подобрать
подходящие слова и стиль, сосредоточившись на разрабатываемой теме. Любой
человек способен декламировать на театральный лад или встать на ходули,
чтобы изложить свои мысли, но говорить и писать просто и с достоинством
гораздо труднее. Очень легко изображать напыщенный слог: употреблять
270
Застольные беседы
слова куда значительнее, чем предмет, к которому они относятся; гораздо
труднее найти такие, что в точности ему соответствуют. Немалая тонкость и
разборчивость требуются для того, чтобы из восьми или десяти одинаково
употребительных, одинаково понятных, выражающих почти одно и то же
слов выбрать такое, чье преимущество, как будто едва заметное, имеет,
однако, решающее значение.
Стиль доктора Джонсона неприемлем для меня потому, что ему чужды
оттенки, избирательность и разнообразие; он использует одни лишь
«высокопарные, труднопонятные слова»1, заимствованные из «первого ряда»2, —
слова с наибольшим числом слогов, латинские обороты, слегка переделанные на
английский лад. Если бы совершенство стиля зависело от такого рода
произвольных притязаний, было бы справедливо судить об изысканности автора
исключительно по длине употребляемых им слов и по числу громоздких
иноязычных выражений (ничего, в сущности, не выражающих),
использованных вместо соответствующих родных*. Как легко писать величественно, не
заботясь о простоте, и напыщенно, не заботясь о смысле! Избегая низкого
стиля, неизбежно впадаешь в педантство и вычурность.
Совершенно ясно, что никак нельзя употребить вульгарное английское
слово, если вообще не употреблять просторечные английские слова.
Истинное чувство меры проявляется в том, чтобы придерживаться самых
распространенных в обиходе слов и при этом никогда не опускаться до сниженных
отталкивающими ассоциациями выражений или таких, значение которых
известно лишь представителям той или иной профессии. Подлинно
естественный или простой слог не может быть ни странным, ни вульгарным по той
причине, что применим в любых обстоятельствах и одинаково воздействует
на всех людей, тогда как странность и вульгарность проистекают из
непосредственной связи определенных слов с 1рубыми, отталкивающими или
ограниченными представлениями. Последние составляют класс так называемых
вульгарных или жаргонных выражений.
Поясним это общее положение на примере. На мой взгляд, обороты
«разрезать ножом» и «отрезать кусок дерева» абсолютно не вульгарны, поскольку
общеупотребительны, но выражение «срезать кого-нибудь» не вполне
безупречно, так как не так уж общеупотребительно и понятно и едва ли уже
вышло за пределы жаргонной фразеологии. Вот почему я, пожалуй,
обозначил бы слово в таком смысле курсивом как пример речевой вольности
выражения, которую надо воспринимать cum grano salis**. Такому порицанию под-
* Я однажды слышал об авторе, который поставил себе за правило не допускать в свои
бесцветные стихи- односложные слова. Между тем очарование и прелесть стиха Марло
нередко как раз определяются тем, что стихи его почти сплошь состоят из односложных слов.
** Букв.: с крупинкой соли3 (лат.); здесь: с иронией.
XXIV. О простоте слога
271
лежат все провинциальные или местные обороты из тех, что писатель
переносит на свои страницы прямо из уголка у камина или из какой-нибудь coterie*,
равно как и такие, которые он выдумывает для собственного употребления или
удобства. Я считаю, что слова, как деньги, ничего не теряют оттого, что
часто бывают в ходу, но только печать казначейства в одном случае и
всеобщего одобрения в другом допускает их в оборот и придает им ценность. Я очень
привередлив в этом отношении и не более позволил бы себе подделку
английских слов, чем денег. Я никогда не придумывал новых слов и не приписывал
словам иного, не принятого значения; исключение составляет только слово
«безразличный» применительно к чувствам4, да и то лишь для разъяснения
очень сложного противопоставления в одной маловразумительной
философской дискуссии. Я знаю, что меня громогласно упрекали за увлечение
вульгаризмами и ломаным английским языком. Тут мне сказать нечего, но я признаю
себя виновным разве что в сознательном употреблении принятых оборотов и
распространенных эллиптических конструкций. Не уверен, что мои критики
отличают одни от других, то есть могут найти золотую середину между
буквоедством и самыми варварскими грамматическими ошибками. Как писатель
я стараюсь употреблять простые слова и строить обыкновенные
предложения — так же как, будучи коробейником или торговцем, использовал бы
обычные гири и меры весов.
Истинная сила слов заключается не в самих словах, но в их применении.
Слово может прекрасно звучать, может быть чрезвычайно длинным, может
впечатлять ученостью и новизной и, однако, оказаться в определенном
контексте бессмысленным и неуместным. Не пышность, не претенциозность, а
соответствие мысли и способа ее выражения передает замысел автора;
точно так же не величина, не блеск отдельных деталей, но их правильное
размещение придает прочность каменной арке; и, наконец, крючки и гвозди столь
же необходимы для поддержки здания, как и крупные балки, и нужны более,
чем эффектные, но с технической точки зрения бесполезные, украшения.
Мне противно все, что зря занимает место. Мне противно, когда по улице едет
целый воз пустых картонок, и противно нагромождение высокопарных слов,
лишенных содержания.
Человек, который не придает своим мыслям ни заранее обдуманной
тяжеловесности, ни подвижной легкости, может придумать двадцать
разновидностей простого, повседневного языка, из коих каждая следующая чуть-чуть
лучше, нежели предыдущая, передает чувство, которое он желает выразить, —
и все-таки даже напоследок не найти особенного, единственного выражения,
полностью адекватного его впечатлениям и переживаниям. Это как будто
доказывает, что мистер Коббет едва ли прав, говоря, что первым на ум при-
* узкой компании (фр.).
272
Застольные беседы
ходит самое лучшее слово5. Да, оно может быть превосходным, но по зрелом
размышлении или со временем может подвернуться нечто лучшее. Оно
должно, однако, естественно и непосредственно возникнуть благодаря свежему,
живому восприятию предмета. Попытки исправить одно не удовлетворяющее
нас слово или заменить его другим редко оказываются удачны, как
бессмысленны бывают самые мучительные старания припомнить чужое имя или
название города. Упорно идя по неправильному следу, мы только
отдаляемся от истины, но нужное слово случайно и совершенно неожиданно
воскресает в памяти по ассоциации с прежними впечатлениями.
Есть люди, которые накапливают и осторожно выставляют напоказ только
цветистые и редкие словесные образцы — своего рода старинные медали,
полустертые монеты, испанские дублоны. Они несомненно весьма
диковинны, но я не принял бы такой монеты и никому не предложил бы ее в качестве
платежного средства. Отдельные блестки архаизмов нередко бывают кстати,
но массивную цепь устарелых выражений лучше хранить в сундуках памяти,
чем вывешивать на всеобщее обозрение. Не хочу сказать, что не употребляю
оборотов, вошедших в моду до середины или конца прошлого века, но я бы
не решился вставить в свою речь выражения, не употреблявшиеся с тех пор
ни одним из признанных авторов. Слова, как одежда, выходят из моды и,
когда о них надолго забывают, становятся жалкими, смешными.
Мистер Лэм — единственный подражатель старинному английскому
стилю, чьи сочинения я читаю с удовольствием: они настолько пропитаны духом
воскрешаемых им авторов, что впечатления подражательства даже не
возникает. В его чувствах и мыслях горит такой сильный внутренний огонь,
присутствует такой крепкий стержень, его интуитивное проникновение в тему так
глубоко, что исчезает всякое ощущение неловкости или странности, обычно
вызываемое старинным стилем и одеждой. Содержание целиком
принадлежит ему, лишь форма им заимствована. Быть может, его идеи настолько
индивидуальны и ярки, что для смягчения их остроты и едкости просто
необходим самобытный и в то же время традиционный стиль изложения.
Облаченные в обыкновенные одежды, эти идеи казались бы еще более
странными и из ряда вон выходящими.
Старинные английские писатели — Бёртон, Фуллер, Кориэт, сэр Томас
Браун — стали своего рода посредниками между нами и нашим
эксцентричным своенравным современником, примиряя нас с его своеобразием.
Впрочем, пока он не соблаговолит писать как мы, я не буду знать, насколько
правильно его понимаю. Признаюсь, из его сочинений, подписанных «Элия»6, мне
милее всего «Суждения миссис Бэттл о висте»;7 в нем меньше устаревших
аллюзий и оборотов, чем в других; он —
Английской речи кладезь вечно чистый8 —
XXIV. О простоте слога
273
и все равно я не в состоянии решить, какой из превосходных его очерков
назвать самым совершенным. Для всех, кто знаком с пленявшими Лэма
источниками, эссе этого оригинального, высокоодаренного автора хранят такое
же очарование и дают такое же наслаждение, как «Беседы Эразма»9 или
прекрасные образцы современной латыни для исследователей классических
произведений. Поистине мне неизвестно перо более могущественное или
умелое, нежели перо упомянутого мною должника великих.
Писать кричащим стилем без всяких мыслей так же легко, как размазать
яркие краски по палитре или намалевать зазывную афишу. «Что вы
читаете?» — «Слова, слова, слова»10. — «А в чем смысл?» — «Ни в чем», — стоило бы
ответить. Цветистый стиль — противоположность простого и
непринужденного. Последний применяется как лишенное ненужных примесей чистое
средство для выражения мыслей; к первому прибегают как к сверкающей
блестками вуали, чтобы скрыть их отсутствие. Когда нужны одни лишь слова,
ничего не стоит выбрать только самые эффектные. Пролистайте словарь и
непременно возьмите florilegium;* да, ведь есть еще tulippomania!**
Наведите румянец поярче, не думайте о естественном цвете лица. Простонародье, не
посвященное в тайну, будет восхищаться сверхъестественным здоровьем и
силой; а высший свет, для которого важен только внешний лоск, придет в
восторг от обмана.
Вы только держитесь звучных общих истин, звонких фраз — и все будет
отлично. Раздуйте бессмысленный трюизм в настоящую симфонию стиля.
Мысль, оригинальность — вот скала, о которую немедленно разбивается
вдребезги жалкий груз многословия. У таких авторов есть лишь словесное
воображение, хранящее только слова. Иногда ничтожные их мыслишки обретают
драконовы крылья, отливающие зеленью и золотом. И тогда они парят
много выше вульгарной слабости «sermo humi obrepens»*** — и даже самую
обычную свою речь непременно уснащают гиперболами — великолепными,
внушительными, туманными, непонятными, высокопарными, — набором красиво
звучащих банальностей!
Если некоторые из нас, «с честолюбием более скромным»11, слишком
старательно заглядывают во все уголки и закоулки, чтобы подобрать «мелкую
дребедень»12, то другие никогда ни к чему не устремляют глаза, не
протягивают руки, кроме как к самому роскошному, но потускневшему,
потрепанному и латаному-перелатаному набору фраз — то есть к давно выброшенным
вон нарядам поэтического сумасбродства, передававшимся от поколения к
поколению ни на что не годных самозванцев. Если они критикуют актеров и
актрис, их восприятие искажается суетливой фантасмагорией перьев, блесток,
* коллекцию цветов; сборник лучших произведений (лат.).
** тюльпаномания13 (лат.).
*** «...беседы / Низменным слогом писать»14 (лат.).
274
Застольные беседы
потоков света, океанов звука, и они описывают все это в стиле старого
Пистоля15. О достоинствах и недостатках исполнителей вы не узнаете ровно
ничего: они похоронены в изобилии варварских эпитетов и пустозвонного
витийства. Наши сверхкритики думают не о крошечных марионетках, что «час
кривляются на сцене»16, а о великих призраках слов, абстракций, родов и
видов^ необъятных предложений, периодов, объединяющих полюса, притянутых
за уши аллитераций, поражающих воображение антитез — и
Напыщенность их перья осеняет17.
Если они описывают королей и королев, у них получается пышное
зрелище на восточный манер. По сравнению с ним церемония коронации в обеих
палатах просто ничто. Перед нами четыре повторяющихся образа: занавес,
трон, скипетр и скамеечка для ног. Для них именно эти предметы —
неотъемлемая принадлежность высоких творческих помыслов, и свои
низкопоклонные дифирамбы они посвящают низменным целям. А представим себе
описание картины в их исполнении: перед нами не отражение красок и оттенков,
что создала «природы нежная, искусная рука»18, но сваленные в кучу
драгоценные камни, рубины, жемчужины, изумруды, рудники Голконды19 и вся
мыслимая геральдика искусства.
Такие авторы одурманены словами, у них мозги набекрень от блестящих,
но пустопорожних, бесплодных иллюзий. Олицетворения, заглавные буквы,
океаны солнечных лучей, видения славы, сверкающие надписи, фигуры с
афиш, Британия со щитом или Надежда, склоненная на свой якорь,
составляют весь их запас. Их можно назвать начертателями тайных знаков. В их
сознании образы ведут обособленное существование; они важны только сами
по себе, будучи лишены какой-либо общей основы — чувства и общего
контекста — воображения. Слова тоже волнуют таких авторов только своим
звучанием, то есть возможным, но не реальным соотношением с предметом
описания.
Подобных писателей увлекают первые впечатления, а о последствиях они
не задумываются. В их словах заключено только то, что доступно слуху;
понимают и чувствуют они лишь то, что попадается им на глаза. То же, из чего
соткана наша жизнь, вселенная, человеческое сердце, для них непостижимо —
ничто в душе их этому не созвучно. Они не в состоянии увидеть больше, чем
мазню фантазии или глянец сентиментальности. Предметы для них не
связаны с чувством, слова — с вещами; образы у них заходятся в великолепном
издевательском хороводе, а слова предстают в вычурных помпезных
облачениях. Главные свойства таких умов — гордыня и невежество: гордыня
проявляется в пристрастии к внешнему, показному — ему в жертву приносят всё,
а невежество — в равнодушии к истинной ценности, к скрытой сути слов и
явлений.
XXIV. О простоте слога
275
Величественное презрение ко всему простому и естественному не мешает
нашим авторам быть рабами вульгарного жеманства, выспренних фраз. Не
желая опускаться до подражания тому, что происходит в действительности,
они бессильны придумать хоть что-нибудь, высечь хоть одну оригинальную
идею. Они не списывают с природы, это правда, но они самые жалкие из всех
плагиаторов — плагиаторы слов. Все у них натянуто, искусственно, добыто
дорогой ценой, эксцентрично по теме и ассоциациям; стиль исполнения
неизменно механистичен, условен, бесцветен, сух, педантичен. Они путают
читателя и сбивают с толку странностью и невнятностью своих примеров и
убаюкивают слух монотонностью вечно повторяющихся замысловатых метафор.
Они представляют псевдошколу поэзии и прозы. Они барахтаются между
напыщенностью выражений и ложным пафосом чувства. Они дразнят
фантазию, но не трогают ни ума, ни сердца. Храм их славы — это призрачное
строение, возведенное тупостью во имя тщеславия, — или, подобно ледяному
дворцу русской императрицы20, описанному у Купера, «столь же никчемно,
сколь блестяще»:
Сияет — но тепла в нем нет21.
XXV
ОБ ИЗНЕЖЕННОСТИ ХАРАКТЕРА
Изнеженность характера вырастает из преобладания чувствительности над
волей и проявляется у тех, кому даже в серьезнейшем положении недостает
стойкости переносить страдание и усталость. Нам встречаются люди, которые
и пальцем не пошевельнут, чтобы спастись от гибели, и не откажутся ради
ближнего даже от ничтожнейшей прихоти. Они ни за что на свете не могут
перестать думать о себе. Никто не поднимает большего шума, когда наступает
пора подводить итоги; никто так громко не сожалеет о причиненных ими
бедствиях; но покуда время не подошло, они ничего не чувствуют, им ни до
чего нет дела. Они живут в настоящем, ими движут сиюминутные
побуждения (каковы бы они ни были) — и за этими пределами вселенная для них
ничего не значит.
Самая незамысловатая игрушка для них важнее, чем владычество над
целым миром; они не откажутся ни от одного своего желания — не
откажутся, что бы им ни предлагали, какие бы причины ни выдвигали. Просить
таких людей хотя бы на минутку отложить свои развлечения и приготовиться
к важному и серьезному труду так же бесполезно, как просить паутину не
резвиться в ленивом летнем воздухе1 или мотылька не играть с обжигающим
его пламенем. Они так привыкли к продуманной смене приятных
впечатлений, что и самый короткий перерыв оказывается для них нестерпимым
лишением, как если бы их оторвали от привычного образа жизни; они настолько
приучены к довольству и безделью, что малейшее усилие превращается для
них в один из подвигов Геракла, во что-то совершенно немыслимое и
вызывающее содрогание.
Они почивают на ложе из розовых лепестков и устремляют свои
прозрачные крылышки к солнцу и летнему ливню; им противна сама мысль о том,
чтобы опустить нежные ножки на землю или, еще того хуже, встретиться
лицом к лицу с колючками и цепкими зарослями реального мира. Жизнь для
них — «волны амбры среди полей Элизия»;2 им неохота ловить рыбу в мут-
XXV. Об изнеженности характера
277
ной воде повседневности. Обыкновенное существование представляется им
досадным, суетным, противоестественным. Что им до испытаний и
превратностей судьбы? Отказываясь добровольно принять страдания, труд,
опасность, смерть, они взвинчивают каждое свое ощущение до высшей степени
сладострастной утонченности, а каждое движение превращают в изящный и
элегантный жест. Они живут в бесконечном роскошном сне или «умирают от
ароматных мук, когда для мозга запах роз — недуг»3.
Вокруг них должны витать волшебные звуки, им навстречу должны всюду
попадаться улыбающиеся лица; они должны мягко ступать по ярким коврам
или гладко подстриженным лужайкам; книги, искусство, шутки, смех
заполняют все мысли и часы. Какое отношение они могут иметь к тяжкому труду,
борьбе, бедности, болезням и мукам, обычно составляющим удел
человечества? Все это непереносимо для них даже в воображении, разрушает
привычный для них очарованный мир. Из-за этого на чистой, гладкой поверхности
их существования возникают морщинки. С раздражением и досадой они
восклицают: «Ах, оставьте меня в покое!»4 Как они собираются «коротать день
зимний, хмурый, когда декабрьский ветер за стеной завоет злобно»5, как
намерены «отразить удары этой лютой непогоды»?6 Да они об этом и не
помышляют: такое им просто в голову не приходит.
Они закрывают ставни, задергивают шторы и приветствуют (или глушат)
свист приближающейся бури. Уж они-то «не думают о завтрашнем дне»7 Они
не предвидят ничего дурного. Пусть приходит, когда хочет, они не побегут
ему навстречу. Более того, они и шагу не ступят, дабы предупредить зло, и
никому не позволят этим заниматься. Даже упоминать о таких вещах
неприлично, само предположение несносно и недопустимо. Одна мысль о
неприятностях, предосторожностях, переговорах, необходимых для предотвращения
нежелательных последствий, гнетет их смертельно, чрезмерно утомляет их
расслабленное воображение. В отличие от господина Бернардина из пьесы
«Мера за меру», который не хотел встать, когда его собирались повесить8, они
не тронутся с места, чтобы спастись от повешения. Они целиком погружены
в себя, но все их себялюбие сосредоточено в текущем мгновении. Они
настолько изощрили свое утонченное пристрастие к удовольствиям, что все их
существование, каждый миг его должны состоять из этих изысканных
наслаждений — или они всё с равнодушием и презрением отвергнут.
Благополучие зиждется для них на удовлетворении сиюминутного желания. Их
чувственность, тщеславие, бездумная жизнерадостность доведены потворством
до того, что они страдают от самого незначительного сокращения привычной
порции возбуждения и охотно купят мимолетное счастье ближайших пяти
минут ценою независимости и благосостояния грядущих лет.
Они во всем хотят настоять на своем, а если не выходит, то злятся и
дуются, как избалованные дети. Они хотят немедленно завладеть всем, на что
278
Застольные беседы
положили глаз или что решили заполучить. Они, может быть, когда-нибудь
и заплатят за это, но сейчас речь о другом.
Вопреки судьбе они выхватывают себе радость и считают настоящее
священным, нерушимым, неподвластным неумолимому, жестокосердому,
скупому, неблагодарному хозяину — будущему. Их девиз — теперь или никогда. Они
до безумия преданы теперешнему пристрастию и развлечению. Их так же
мало беспокоит, что будет с ними через неделю, как то, что случится через
тысячу лет. Они откладывают размышления на потом и смеются над ними
в своей легкомысленной ветрености, будто слушают потешный рассказ. Их
жизнь — «темница неведенья»9. Их существование эфемерно, их мысли
несутся словно на крылышках мошкары, их личность гибнет вместе с капризами,
страстями и безумствами пролетевшего часа.
Только чудо может вывести таких людей из летаргического сна;
естественным путем пробуждение не произойдет, и ожидать его нельзя. Удивительное
восклицание Поупа:
Не ведал грядущего, мы сами
Живем, подвигнутые небесами...10 —
здесь едва ли применимо, в частности, когда речь идет о спасении от
очевидного зла, каковое можно предотвратить, проявив хоть каплю осторожности
или решительности. Но ничего не поделаешь! Как можно? Небольшое зло,
далекая опасность таких людей не волнуют, а от близкой они в панике
стремительно убегают. Чем отчаяннее их положение, тем меньше им охота
действовать, а чем больше усилий требуется для спасения, тем менее они на
такое усилие способны.
Сперва они ничего не хотят предпринимать, а потом уже слишком поздно.
Причины, настоятельно побуждающие их заглянуть в себя и начать
исправляться, странным образом смешиваются со свойственным им нежеланием
что-либо менять в себе. Получается почти что математическое
доказательство. Беспечность, суетность, жажда удовольствий в таких случаях
перевешивают. Как вы победите эти страсти или излечите того, кто к ним склонен?
Страхом перед жизненными тяготами, позором, страданием? Эти люди с
неприязнью отворачиваются и от них, и от вас, посмей вы только указать на
оборотную сторону недостатков. Вместо того чтобы предотвратить
критическое положение, сделав над собой мужественное усилие, проявив
самоограничение, наши слабохарактерные неженки, напротив, ускоряют его
наступление сознательным решением потворствовать недугу и не вооружаются против
него стойкостью, нужной, чтобы перенести или предупредить его последствия,
а умышленно закрывают глаза при его приближении.
Разве вы подвигнете вялого и неторопливого лодыря на докучное, но
необходимое усилие, если покажете, сколько всего ему надо сделать? От ваших
XXV Об изнеженности характера
279
просьб и уговоров он только еще больше уйдет в себя. Если он человек
жизнерадостного склада, то, может, и попытается как-то изменить жизнь, но
удовлетворится первыми признаками улучшения и станет вновь предаваться
безделью. Если же он робок и нерешителен, то безнадежность этого
начинания отпугнет его, и он остановится в отчаянии. Разве можно спасти
тщеславного человека от гибели, изобразив порицание и насмешки, неизбежно
ожидающие его, коль скоро он не изменится? Да он смеется над
фантастичностью ваших зловещих предсказаний, и чем быстрее они сбываются, тем
настойчивее стремится отделаться от оскорбительной уверенности, тем сильнее
цепляется за лесть и тем скорее устремляется навстречу гибели. Он не
пойдет на смелую и решительную попытку спасти свою репутацию, ибо это
подразумевало бы, что ее в принципе можно замарать или подорвать. Как только
ему приходит в голову очередной бесцельный замысел, он сразу же
приписывает себе честь его осуществления и с удовольствием носит незаслуженные
лавры, хотя деятельность его вообще мало кем замечена. Надежда на успех
снимает с его души опасения, и он пользуется создавшейся передышкой,
только чтобы опять поддаться своей главной слабости.
Разве можете вы оторвать человека от чувственных излишеств, толкуя об
их неизбежных последствиях? Что может быть противнее удовольствию, чем
боль? Человек, привыкший потакать своим слабостям, восстает против
страдания, а когда оно настигает, отбрасывает его от себя прочь как
бессмысленную аномалию, как несправедливость. Когда говорят, что человеку
свойственно страдать, что он обречен на страдание, ум отказывается видеть здесь
простую угрозу. Если предсказание мгновенно не исполняется, мы смеемся над
пророком зла; а ежели оно оправдывается, то ненавидим нашего советчика
сообразно размеру бедствия, еще сильнее лелеем свои пороки и тем больше
их ценим, чем дороже они нам обходятся. Разумный совет воспринимаем как
дерзкое оскорбление, а тех, кто предупреждает о грозящем нам бедствии,
рассматриваем как его виновников. Вместе с восторженным поэтом мы
восклицаем:
Хоть и умрет в печали он —
Пусть грезой тешится дотоле!
Кто ж не лелеял сладкий сон
В преддверье горечи и боли?11
О ты12, что одарил меня речью, когда я был нем, ты, благодаря кому мне
не пришлось всю жизнь ползать на брюхе, словно пресмыкающемуся, и
довелось иной раз поднять голову и ступать по эмпиреям, восстань из своего
дневного сна! Отряхни тягучую медовую росу с души своей, уже не убаюканной
чашей Цирцеи! Пусть уши твои упиваются твоими собственными мыслями!
Явись в возвещенном нам образе своем! Потряси столпы прогнившего мира!
280
Застольные беседы
Не позволяй звонкому слову твоему раствориться в воздухе! Начертай его на
мраморе! Провозгласи грядущему веку героические истины! Восстань и
разбуди эхо времени! При всем богатстве своей учености не окажись скрягой, что
унесет сокровища знаний с собой в могилу, оставив переживших его без
благословения! Пусть закат твой будет радостен и великолепен, каким был
восход! Пошли нам широкий, золотистый, цвета подсолнуха, луч света, а
прежде чем вознесешься на породившие тебя небеса, покажи нам лестницу, по
которой ты под предводительством истины и фантазии взошел к вершинам
философии, — дабы мы смогли ухватиться за твою радужную мантию и вновь
читать слова твои, дорогие нашей памяти и еще более дорогие славе!
Существует еще одна разновидность описываемого типа характера — люди
медлительные и сосредоточенные на пустяках. Такие на каждом шагу
создают препятствия и не хотят или не могут с ними справиться. Они и паутину
обмести не в состоянии и останавливаются из-за препятствий величиной с
комариное крылышко. В них глупости, пожалуй, больше, чем изнеженности.
Свойственная им нехватка энергии и решимости, в отличие от лиц,
изображенных ранее, происходит не из преобладания других чувств и
побудительных мотивов, а из привычного и неистребимого недостатка мужества и воли.
Для таких людей характерно особенное непостоянство, из-за чего почти
невозможно подвигнуть их на достижение какой-либо цели или дать им
решающий momentum* в каком бы то ни было направлении или области. Они
будто отворачиваются от всякого движения вперед, от всякого энергичного
и мужественного действия.
Им чужда целеустремленность, они боятся слишком быстро достичь цели.
Они не проявят никакого упорства или воодушевления ни в чем — ни ради вас,
ни ради самих себя. Если вы попытаетесь наметить для них некую линию
поведения или поручите им выполнить определенную задачу, они непременно
придумают какие-нибудь пустые отговорки или мнимые препятствия, а
слабохарактерность удержит их от решительного поступка в нужный момент.
Они могут быть по природе своей услужливы, добродушны, дружелюбны,
благородны, но толку от них никому нет. Они взвалят на себя вдвое больше
забот, чем вам нужно, однако не воплотят ваш замысел, а приведут его к
краху; минуя несуществующие препятствия, они упускают из виду суть дела.
Но даже оставаясь послушными вашей воле, они выбирают неудобные вам
способ и время действия. Такая робость сродни предательству, ибо
постоянное ожидание несчастья или позора позволяет бессмысленным опасениям
сбываться. Для таких людей какие-нибудь пустяки значат больше, чем нечто
действительно важное; мелкое неудобство перевешивает серьезное и
необходимое преимущество; сильнейшие пристрастия у подобных людей выраста-
* толчок (лат.).
XXV Об изнеженности характера
281
ют из самых ничтожных причин. Они так долго колеблются, каким образом
лучше всего начать какое-нибудь дело, что упускают подходящий случай, а
вопрос о том, как подойти к делу, для них важнее, чем его осуществление.
Они вычеркнут целый абзац, лишь бы не оставить ни одного
предосудительного слова, и гораздо больше, чем красота и правдивость того или иного
образа, их волнует восприятие его критиками.
Они переделывают написанное не потому, что оно неверно, но лишь
потому, что может оказаться неверным; трепеща от страха перед воображаемыми
ошибками, они совершают настоящие. При этом забавно, что вся их
осмотрительность и щепетильность ничуть не мешает им допускать серьезнейшие
просчеты. Всевозможные вздорные опасения владеют ими настолько, что они
теряют умение отличать истинные поводы для тревоги от вымышленных и
часто беспричинно наносят обиду либо неожиданной полушутливой дерзостью,
либо самонадеянной верой в свое искусство избегать бестактностей. То же
самое непонимание побудительных причин и близорукость, которые постоянно
вовлекают их в переделки, мешают им из них выбраться.
Такие люди, нередко оригинальные и впечатлительные, постоянно не в ладу
и сами с собой, и с окружающими, ничего не делают сами и не дают другим и,
независимо от успеха или неудачи, пребывают в вечном беспокойстве и
неуверенности. Они лишают собственные мысли свежести и новизны, прибегая к
противоречивым советам; и покуда они поглощены обстоятельной подготовкой
к делу с помощью друзей, вы уже двадцать раз могли бы все устроить сами.
Ничто не заслуживает большего уважения, чем мужественная твердость
и решительность. Мне нравятся люди, которые знают, чего хотят, и упорно
добиваются желаемого, которые сразу видят, как в данных обстоятельствах
следует поступить, и ровно так и поступают. Они не наводят тень на ясный
день разговорами о трудностях или оправданиями, а переходят прямо к делу
и кратчайшим, оптимальным путем достигают цели, извлекая пользу для себя
и других. Если они могут оказать вам услугу, то обязательно окажут; если нет,
то так и заявят напрямик, не томя вас напрасными ожиданиями и не налагая
на вас мнимых обязательств. Обратиться к такому человеку во имя
похвального начинания — не то что помешивать какую-нибудь «размазню»13. В нем
определенно есть сущностное начало — правильное, дельное.
Он не мечется всю жизнь, пытаясь решить, кем ему быть: либералом или
консерватором, другом или недругом, негодяем или дураком; он думает, что
жизнь коротка, и в ней нет времени для дурацких шуток, нарушения
принципов или игры с чужими чувствами. Если он пишет вам рекомендацию, то
не прибавляет оскорбительных оговорок; он не ищет у вас недостатков из
страха, что другие найдут их раньше, и не предвосхищает возражений из
опасения, что его заподозрят в ребяческой пристрастности. Его цель —
услужить вам, а не сыграть на руку вашим врагам.
282
Застольные беседы
Холодной середины друг не знает:
То гневом, то любовью он пылает14.
Мне было бы жаль не оправдать чьих-то ожиданий на мой счет, но я не
желал бы, чтобы люди отказывались от своей точки зрения, лишь бы не
услышать ее подтверждения устами злобы или глупости. Тот, кто вас хорошо знает
и к вам расположен, должен задавать тон в оценке вашей личности, а не
перенимать чужие оценки, и может варьировать свое отношение к вам в
зависимости от конкретной ситуации.
Есть люди, о которых говорят, что для них обязательство — причина
ничего не делать, и есть другие, которые неизменно поступают обратно тому,
чго от них ожидается. Первых следует назвать непрактичными, а последних
своенравными. Изнеженным характерам и манерам противостоят грубые и
жестокие. Первые ласковы и спокойны, последние в силу естественных
склонностей или просто напоказ тянутся ко всему вульгарному, буйному,
жесткому и отталкивающему в тоне, манере говорить, форме обращения, в жестах
и поведении. Так, одни всю жизнь копируют шепелявый выговор светских
дам и манерно-медлительную речь истых джентльменов, а другие
наслаждаются, присваивая себе неуклюжий жаргон, замашки и словечки каких-нибудь
неотесанных мужланов да крикливых рыночных торговок. Последние
движимы склонностью ко всему отвратительному, яростным и безудержным
стремлением нарушать приличия и оскорблять чужие чувства, ибо приходят от
этого в волнение и возбуждение. Они так же свободно сообщают горькую
правду, неприятные соображения и нежелательные факты, как другие
расточают любезности, комплименты и слова, неискренние и бесцветные.
По нашим наблюдениям, изнеженности характера в какой-то степени
соответствует изнеженность стиля. Авторы такого пошиба неутомимо правят
все, что сочиняют, переделывают ничего не значащие фразы и до смерти
мучают типографских посыльных. Под изнеженным стилем я подразумеваю
стиль цветистый, сверхутонченный, сладкий до оскомины и однообразный до
скуки. Так пишут те, кого Драйден называет «спокойными мирными
писателями»15. Они хотят только доставить читателю удовольствие и потому
никогда не оскорбляют правдивостью и не беспокоят своеобразием. Каждая мысль
должна быть прекрасна per se*, a всякое выражение изящно. Они дорожат
не вульгаризмами, но общими местами и раскрашивают малозначащие
явления во все цвета радуги.
Они не затрудняют себя размышлениями — те потревожили бы ленивого
читателя; не умеют облекать банальную мысль в обычные слова — это
оскорбило бы их собственное тщеславие. Они не жалеют мишуры, ведь она ниче-
* сама по себе (лат.).
XXV. Об изнеженности характера
283
го не стоит. Их труды следовало бы печатать (кстати, как правило, именно
так и делают) на лощеной бумаге, с виньетками на полях. Под это
определение подходит школа Делла Круска16, но она близка к концу. Лорд Байрон —
избалованный, аристократический писатель, но он не изнежен — в противном
случае на его сочинениях значилось бы не только имя издателя.
Я все время думаю о том, что стихам мистера Китса недостает
мужественной энергии17 В них необычайно много красоты, нежности, изящества, но
мало силы и содержательности. В его «Эндимионе» прелестно описаны
иллюзии юного воображения, склонность к фантазиям; перед нами цветы, облака,
радуга, лунное сияние, сладостные звуки и ароматы, нимфы и дриады, но все
невесомо, неосязаемо, неуловимо, лишено твердости духа и отчетливости
форм, свойственных античности. Он изображал собственные мысли и
характер, но не переносился в легендарное героическое прошлое. Ему не хватало
действия, энергии и воображения, но он был наделен изумительным
художественным вкусом. Все в нем мягко, податливо, не ощущаются крепкий
костяк и мышцы. Мы видим в нем юность, а не зрелость поэзии. Его гений
«дышал ликованьем вешним»18. «Подобно сыну Майи, он стоял, крылами
потрясая»19, распространяя благоухание. Он весь был напоен весной, чужд жару
лета, изобилию осени, а о зиме узнал, видимо, только когда ощутил
леденящую руку смерти.
XXVI
ПОЧЕМУ НАМ НРАВИТСЯ ВСЕ ДАЛЕКОЕ
Далекое нравится нам прежде всего потому, что вызывает представление о
пространстве и величине. К тому же, из-за того что оно не мозолит нам
глаза, мы рисуем его расплывчатыми, прозрачными красками нашей фантазии.
Глядя на окутанные туманом горные вершины на горизонте, мы словно
сознаем, как много интересного лежит на пути к ним; мы представляем себе
всевозможные приключения, страстно хотим и надеемся достичь начертанной
в воздухе гряды или же «различить материки, потоки и хребты»1,
простирающиеся далеко за ее пределами; наши чувства, вышедшие из обычных рамок,
теряют грубость, сухую оболочку; они очищаются, ширятся, смягчаются,
озаряются красотой, обретая неземные очертания и цвет небесной синевы2.
Мы впитьшаем в себя окружающий воздух и возвышаемся до более
духовного существования, ибо окружены предметами, витающими на грани бытия.
Там, где пейзаж исчезает из поля нашего слабого зрения, мы наполняем
пустое пространство видениями непостижимого добра и окрашиваем зыбкую
перспективу упованиями, желаниями и чарующими страхами:
Но ты, Надежды дивный взгляд,
В чем мера тайная твоя?
Ты, вечны радости тая,
Приветствуешь природы сей наряд3.
Все, что оказывается за пределами ощущений и знания, все, что неясно
различимо, — все это на досуге собирает по кусочкам фантазия. Поэтическое же
вдохновение пробуждается только благодаря тому, что не сиюминутно,
происходит не здесь и сейчас. Паря на распростертых крыльях4, оно оставляет
на всем свой образ. Оно царит над бесконечными просторами, и все далекое
нам нравится потому, что оно ему одному подвластно и послушно. В детские
годы я жил в месте, откуда видна бьь\а гряда высоких холмов5, чьи голубые
вершины в лучах заходящего солнца часто будили в глазах моих жажду
XXVI. Почему нам нравится все далекое
285
видеть, в ногах — стремление к странствиям. Наконец настал день, когда я
добился своего и, подойдя поближе, увидел, что вершины эти состоят не из
фантастических фигур, сотканных из мерцающего воздуха, а из гигантских
неуклюжих нагромождений бесцветной земли. Это отчасти побудило меня
отказаться от «посещения Ярроу»6 и не бередить понапрасну приятные грезы.
Расстояние во времени производит такое же действие, что и расстояние в
пространстве. Не приходится удивляться, что фантазия окрашивает будущее
в любые угодные ей цвета, — ведь она может даже стереть всё из памяти.
Время извлекает жало страдания; с течением лет наши печали
подвергаются воздействию мыслей и страстей, «ломающих их сущность»7, и от
первоначальных впечатлений остается лишь то, что мы хотим сохранить. Не только
крутой склон впереди, на который нам не доводилось взбираться, но и
неприглядные, грубые нагромождения прошлых переживаний очень скоро вновь
обретают способность нас обманывать: золотое облако опять окутывает их
макушки, а пурпурный свет фантазии8 преображает их наготу.
Так мы живем — конец и начало нашего бытия соприкасаются с
небесами. Можно сказать, что в сознании человеческом движется «мощный поток,
устремленный»9 к добру; он незаметно увлекает за собой все увиденное и
пережитое; и хотя на жизненном пути нам достаются сильные удары,
встречаются скалы и зыбучие пески, однако «в делах людей бывает миг прилива»10,
бурная, неустанная устремленность души, благодаря которой, «рангоут потеряв и
такелаж»11, изрядно потрепанный остов и отдельные обломки нашего существа
добираются до вожделенной гавани! Во всем, что затрагивает чувства, мы
принимаем желаемое за действительное, и поэтому, как только прекращается
давление неблагоприятных обстоятельств, сознание отбрасывает их власть над
собой, вновь обретает гибкость и воссоединяется с тем самым образом добра —
в сущности, лишь отражением и формой его собственной природы.
На расстоянии, в ретроспективе уходящих лет самые ничтожные события,
разросшиеся и обогащенные бесчисленными воспоминаниями, обретают
интерес, и даже самые мучительные переживания успокаиваются, когда их
смягчает и рассеивает время. Как волнует нас все, что неожиданно
пробуждает в памяти картины прошлого и связанные с ними мысли и чувства!
Какое томление возникает в душе, какое страстное желание преодолеть
пространство между ним и нами! С какой нежностью мы цепляемся за него,
пытаясь оживить прежние впечатления!
Воображенье так легко играет12.
На самом деле мы обманываем себя и сами не знаем, чего хотим. Хитрая
выдумка, странная иллюзия позволяют нам, делая вид, будто мы всё те же,
какими были в определенный момент в прошлом, оставаться такими, каки-
286
Застольные беседы
ми стали с тех пор, вернуть себе всю прожитую жизнь. Внимание наше
приковано не к крошечной, еле мерцающей, почти угасшей искорке вдали, не она
«в биенье сердца нашего трепещет»13 — на самом деле волнуют нас годов
«превратности»14, отделяющие нас от этой искры, каковая обозначает их
зыбкий предел. В этой широкой пропасти нашего существования «теснятся
нежные желания»15 и бесконечные сожаления. Именно перемены, контраст
между тем, чем мы были и чем стали, придает полуистлевшим
воспоминаниям титаническую силу и зримо возвышает наши чувства над их призрачной
основой. Созерцая крайние границы бытия, мы пересматриваем заново
карту своей жизни и прослеживаем в тревожном ожидании конца весь
пройденный путь. Как в ранней юности мы стремимся к взрослым занятиям, так,
сходя со сцены, жаждем подобрать игрушки и цветы, радовавшие нас в
беспечном детстве.
В мальчишеские мои годы отец имел обыкновение водить меня в сад
Монпелье в Уолворте16. Хожу ли я туда теперь? Нет, сад заброшен, клумбы
и газоны перерыты. Что же, разве ничто не может
вернуть часы
Сияния цветам и прелесть травам?17
Да нет, кое-что может! Я открываю шкатулку памяти и отзываю стражу
рассудка — и вот место моих детских странствий оживает в первозданной
красоте и даже обретает свежие краски. Как- во сне, на меня накатывает
новое чувство, ароматы более насыщенные, цвета более яркие; я ослеплен,
сердце опять бьется в упоении, я вновь дитя! Предо мною только блеск,
нарядность, роскошь, великолепие; мои ощущения словно покрыты сахарной
оболочкой, украшены праздничной мишурой. Я вижу клумбы яркоглазого
шпорника, высокие, красно-желтого цвета каменные дубы; оправленные в золото
огромные подсолнухи, вокруг которых жужжат пчелы; вижу заросли
гвоздики и жарко рдеющие пионы, перезрелые маки, белоснежные лилии и
бледную резеду — все это красиво рассажено и невероятно бурно растет;
самшитовые бордюры, посыпанные гравием дорожки, свежеокрашенные арки,
продавец сладостей, варенец — мне кажется, будто я и сейчас гляжу на них
сияющим взором. Или они исчезли, покуда я их описывал? Не важно, они
вернутся, когда я вовсе не буду о них думать.
Все цветы, растения, газоны, сельские радости, что я видел в жизни потом,
кажутся мне повторением «первого сада моей невинности»18, побегами и
черенками, украденными с клумбы памяти. Так дорогие нам в детстве вещицы
словно покрываются глянцем, когда мы оборачиваемся на них в более
поздние годы, и обретают сладчайший аромат благодаря первому исторгнутому
ими из сердца вздоху восторга:
XXVI. Почему нам нравится все далекое
287
...точно трепет ветра,
Скользнувший над фиалками тайком,
Чтоб к нам вернуться, ароматом вея19.
Не меньше, чем сад, и по той же причине мне нравится огород. Если я
вижу, как зреет капуста, или горох, или бобы, то всегда вспоминаю, как по
завершении дневных трудов тщательно поливал грядки в Уэме и с каким
огорчением наблюдал листья, чахнущие и сникающие на утреннем солнце.
Опять же, никогда не могу смотреть без замирания сердца на летящего
воздушного змея. Для меня он «причастен жизни»20. Я чувствую, будто меня что-
то тянет за локоть, ощущаю дрожь и волнение — в точности такие, как тогда,
когда разматывал веревку своего змея и он поднимался вверх и парил среди
облаков, а груз детских страхов и надежд взлетал вместе с ним. Змей и
сейчас остается частью моего самосознания, как и тогда, и все еще кажется мне
«веселым детищем стихий»21, товарищем моих детских игр, близнецом моих
самых ранних воспоминаний. Я мог бы еще много рассказать о ребяческих
забавах, но мистер Ли Хант так хорошо написал про это в помещенном в
«Индикаторе» очерке о столичных лавках, торгующих игрушками22, чго,
продолжай я толковать об этом, я бы прослыл подражателем оригинального и
занимательного автора, причем подражателем весьма посредственным.
Звуки, запахи, а иногда вкус запоминаются лучше увиденного и, вероятно,
лучше служат в качестве звеньев в цепи ассоциаций. Причина этого, похоже,
в следующем: они по своей природе прерывисты и сравнительно редко нам
являются, тогда как видимые предметы всегда тут и, непрерывно сменяясь,
словно вытесняют друг друга. Глаза наши постоянно открыты, и в
промежутке между тем или иным впечатлением и его повторением тысячи других
запечатлеваются в нашем восприятии и сознании. Прочие наши органы чувств
менее активны и бдительны. К ним не так часто прибегают. Слух, например,
легче привлечь тишиной, нежели шумом, а звуки, нарушающие тишину,
глубже проникают в сознание и дольше в нем задерживаются. Вот почему я
лучше и живее помню определенные запахи, звуки, вкусовые ощущения,
нежели иные зрительные образы — первые более свежи и менее изношены частым
повторением.
Если между двумя впечатлениями, как бы далеко ни отстояли они друг от
друга во времени, ничто не вклинивается, то естественным образом кажется,
будто они соприкасаются, и новое впечатление во всей полноте возвращает
прежнее, не отвлекая от него и не соперничая с ним. Даже тридцать лет
спустя во рту у меня сохраняется вкус барбарисовых ягод, висевших среди
снегов суровой североамериканской зимы23, — сохраняется потому, что за все это
время я не пробовал ничего подобного. Вкус этот существует сам по себе,
почти как воспринятый шестым чувством. Однако что касается цвета, то он
давно спутался с цветом многих других ягод, и я бы не отличил его от дру-
288
Застольные беседы
гих. Запах печи для обжига кирпича свидетельствует о ее ни на что не
похожем своеобразии, и цля меня он благодаря особым ассоциациям не
неприятен; цвет же дробленого кирпича, напротив, обыденнее и легко
смешивается с другими цветами. Даже у Рафаэля он не очень четко отличается от
телесного цвета.
Не стану утверждать, что мы лучше запоминаем человеческий голос, чем
сложную картину, назьшаемую человеческим лицом, но думаю, что знакомый
голос, внезапно услышанный, волнует и поражает больше, чем неожиданно
встреченное знакомое лицо; происходит это, быть может, оттого, что голос
мы помним лучше, чем лицо, и поэтому он скорее застает нас врасплох. Я
ничуть не уверен в том, что, вообще говоря, другие наши органы чувств столь
же точно и ярко передают образы, как зрение; просто случайные ощущения,
связанные с другими органами, сохраняются в большей чистоте и
независимости. Эта закономерность объясняет также притягательность и
романтичность музыкальных звуков. Раздавайся они постоянно, к ним не возникло бы
ничего, кроме равнодушия, подобного тому, какое вызывают неприятные
шумы, которые мы через какое-то время перестаем слышать.
Что может быть печальнее судьбы слепого скрипача, у которого осталось
только одно чувство (кроме, разумеется, пристрастия к табаку)*, да к тому же
пришибленное или оглушенное издаваемыми им же самим отвратительными
звуками.
Шекспир говорит:
Как серебристо голоса влюбленных
Звучат нежнейшей музыкой в ночи!24
В разъяснениях к этому фрагменту обычно замечают, что днем
влюбленные смотрят друг другу в лицо, а ночью различают только звуки своих
голосов. Не знаю, верно ли это, но я до недавних пор слышал в полной тишине
только один голос — «на ангельский он был похож»25, а благоуханием своим
так чаровал пронизанный лунным светом воздух, что в ответ ему трепетали
свежие листочки. Ах, если бы я мог еще раз услышать шепот, суливший
покой и надежду (тот самый шепот, что смешивался когда-то с дыханием
весны), и с нежным волнением подняться к небесам на крыльях фантазии! Но
голос замолк — или ушел туда, откуда до меня долететь не может.
Вот почему мы понимаем прелесть пастушеской свирели и слышим ее
звучание даже на картине. Уши наши во власти фантазии! Помню, однажды
в одном из глубоких долов Солсбери-Плейн бродил я по берегу реки,
окаймленной ивами и камышовыми зарослями, там, где монахи прошлых веков
возводили часовни и устраивали приюты отшельников. Неподалеку находилась
* См.: «Слепой скрипач» Уилки26.
XXVI. Почему нам нравится все далекое
289
приходская церквушка, но высокие вязы и трепещущие на ветру кусты
ольхи скрывали ее от меня. Вдруг до меня донеслось, заставив вздрогнуть,
полнозвучное грохотание органа, сопровождаемое голосами сельских певчих и
радостным хором деревенских девушек и детей. Звуки вознеслись надо мною,
«как аромат столь сладостный»27. Они, казалось, вобрали в себя росу с
тысячи мягких пастбищ; в них звенело тысячелетнее безмолвие; сердце
постигало спокойную красоту смерти; фантазия ловила эти звуки, и вера
устремлялась на них к небу. Они наполняли долину, словно туман, и лились, лились
в бесконечном пении, и теперь еще гремят у меня в ушах, погружая все мое
существо в дивное оцепенение и заглушая шумные треволнения мира!
В эссе мистера Ферна о сознании, который должен помочь мне
спуститься от бурных восторгов на твердую почву здравого смысла и
рассудительности, весьма любопытны размышления о сравнительной отчетливости наших
зрительных и иных внешних впечатлений. После замечания о том, что
неправильно считать, будто зрительные ощущения непременно запечатлеваются
ярче и живут дольше, нежели те, что возникают благодаря более
примитивным чувствам, автор приводит ряд аргументов в пользу своей теории. Вот что
он пишет:
Несмотря на перечисленные здесь преимущества зрительного восприятия,
не сомневаюсь, что всякий человек забудет знакомых и многие предметы,
что повидал в зрелости, раньше, чем у него хоть немного выветрятся
воспоминания о не столь уж интересных запахах и вкусовых ощущениях,
встреченных им в детстве или в любом более позднем возрасте.
Во время путешествий в далекие края мне не раз доводилось пробовать
такое, что ни до, ни после никогда больше не попадалось. Кое-что было
приятно на вкус, кое-что едва ли не пресно, но у меня нет оснований
думать, что я забыл или неправильно запомнил эти однократные вкусовые
впечатления, хотя сохранились они в памяти вовсе не благодаря
повторению. Ясное дело, что я не только пробовал, но и видел свои кушанья,
однако знаю твердо, что точнее помню их вкус, чем вид.
Помню, что один раз, только раз ел кенгуру в Новой Голландии28 и
лишь однажды ощущал необычайный запах булочной в Басре29. Нынче
оба эти незамысловатые впечатления так же живы, как зрительные, и дело
тут не в повторении, а в силе восприятия.
Двадцать восемь лет назад на Ямайке я попробовал (кажется, два раза)
некий плод и до сих пор очень отчетливо помню его вкус; могу привести
и другие примеры такой же давности.
У меня много доказательств того, как легко через различные
промежутки времени забывались мною те или иные зрительные впечатления,
даже очень привычные. За тридцать лет я не забыл тонкое, хотя и пустя-
290
Застольные беседы
ковое само по себе ощущение, возникавшее в ладони, когда я в детстве
пробовал и так и эдак запускать игрушку, которую мальчишки называют
«волчок», но не могу припомнить в точности оттенок коричневого
пиджака, который перестал носить на прошлой неделе. Если кто-нибудь полагает,
что способен на большее, пусть подвергнет мысленному обзору весь свой
гардероб, а потом откроет шкаф и убедится в истинности своих
представлений.
Покуда я помню такие впечатления, меня, конечно, будет нелегко
убедить, будто вкус, запах, ощущение оставляют отпечаток только в том
случае, если невнятны и смутны <...>.
Покажите лондонцу правильные модели двадцати лондонских
церквей и одновременно модели, в существенных чертах отличные от
оригиналов, и, смею думать, он не скажет вам (разве что случайно), которые
из них верны.
Архитектор, пожалуй, окажется ближе к истине, нежели
обыкновенные люди, ибо архитектор, конечно, рассматривал эти здания с большим
интересом, чем они, и только интересом можно объяснить в этом случае
более правильное запоминание.
Однажды я слышал, как некто лукаво спросил собеседника: «Сколько
деревьев на кладбище при соборе Святого Павла?» Вопрос сам по себе
показывает, что многие не могут ответить на него, в том числе и те, кто сотни
раз ходил мимо собора; потому не могут, что в людском потоке возле
Святого Павла каждый поглощен разными другими мыслями.
Как часто мы входим в знакомую квартиру или встречаем доброго
знакомого и смутно ощущаем в mix что-то новое, но никак не можем
разобрать, в чем оно заключается, пока наконец не заметим (или пока нам не
скажут), что в квартире появились новые украшения или мебель либо
исчезли или как-то переделаны старые, а приятель наш подстригся, надел
парик или еще в чем-то существенно изменился.
А иногда мы даже и не ощущаем изменений, хотя они могут быть
вполне очевидны.
Нет сомнений, однако, что когда что-то нам интересно, зрение
сохраняет довольно точные подобия впечатлений, в особенности впечатлений не
слишком сложных, вроде, например, выражения лица или очертаний
фигуры. И все же голос достовернее, чем лицо. Тот, кто может воссоздать
сходство по памяти, считается первоклассным художником и даже
незаурядным талантом. Более того, очевидным доказательством неточности
зрительных впечатлений следует считать тот факт, что строгое
воспроизведение человеческого лица, хотя бы и с натуры, требует высочайшего
мастерства, достижимого лишь благодаря многолетней практике; и даже
когда художникам удается избежать сознательного обмана, вызванного
XXVI. Почему нам нравится все далекое
291
желанием польстить, самые лучшие из них, несмотря на опыт и
заинтересованность в успехе, лишь в очень редких случаях добиваются подлинного
сходства.
Мне кажется, что обыкновенному человеку, знакомому с искусством
рисования, было бы весьма затруднительно сделать по памяти сносный
набросок столь узнаваемых предметов, как занавеси, ковер, халат, если бы
те отличались каким-нибудь необычным, затейливым узором; однако и
такой человек сразу совершенно точно почувствует, если сегодня
нюхательный табак или вино — вещества, представляющие собой смеси, — будут
отличаться от вчерашних.
И наконец, я должен отметить, что торговец мануфактурой, который
ежедневно сравнивает различные ткани, не способен и секунды удержать
в голове особый оттенок цвета и может уверенно подобрать цвет, только
если оба образца будут лежать рядом (Эссе о сознании. С. 303).
Мне хотелось бы исчерпать тему очерка одним наблюдением. По-моему,
близкое знакомство с людьми сильнее и благотворнее влияет на нас, чем
знакомство с различными местностями или предметами. Последние (в
подавляющем большинстве случаев) выглядят интереснее на расстоянии, первые,
как правило, — когда приближены к нам и лучше нам знакомы. Молва и
воображение редко возносят кого бы то ни было так высоко, чтобы мы
могли испытать сильное разочарование при встрече с этим лицом;
предубеждение и злоба постоянно преувеличивают недостатки до полного
неправдоподобия. Да что там: даже незнание рождает чудовищ и пугал; тогда как все наши
знакомые на самом деле вполне обыкновенные люди.
Дело в том, что, исходя из слухов и предположений, мы представляем себе
отвлеченные пороки и возмущаемся определенными свойствами и
поступками неприятных нам людей; между тем каждый человек — конкретное
существо, несводимое к выдуманным кличкам или прозвищам, и обладает
множеством разнообразнейших качеств, хороших, дурных или нейтральных —
наряду с резко отрицательными чертами, коими мы наделили его в придуманных
нами портретах или карикатурах. Мы вряд ли способны ненавидеть того, кого
знаем. Один тонкий наблюдатель30 жаловался, что, даже когда особенно
сильно кое-кого возненавидел и захотел это продемонстрировать, ровно в тот
момент, когда он пришел с ним потолковать, враждебность улетучилась
благодаря непредвиденным обстоятельствам. Пусть перед ним был обозреватель из
«Ежеквартального обозрения» — во всем остальном он предстал
обыкновенным человеком.
Предположим, что ваш противник оказывается страшно уродливым или
одноглазым — и вы сразу сбиты с толку: он — не то, чего вы ожидали, не
предмет отвлеченной ненависти и неумолимого отвращения. Он, быть может,
292
Застольные беседы
крайне неприятен, но он не таков, как вы думали. Если вы входите в
комнату, где сидит какой-нибудь человек, обычно на его лице обнаруживается нос.
Значит, у него есть с вами «точка соприкосновения»31. Одно это удерживает
вас от безграничного презрения. Он глуп и ничего не говорит, но, когда
смеется, в нем вроде бы что-то есть! Вы полагали, что он отъявленный виг или
тори, — а он, оказьшается, толкует о чем-то другом. Вы знаете, что он в
своих писаниях яростно поддерживал свою партию и выступал с язвительными
нападками на противников, но, выходит, сам по себе он вполне ручной
зверек — не кусается, а это уже кое-что. Словом, тут ничего не разберешь.
Даже противоположные пороки уравновешивают друг друга. Человек
может быть очень дерзким в обществе, но одновременно и очень скучным —
и вы потому не в состоянии, как ни стараетесь, искренне его возненавидеть из
одного желания оскорбить. Он негодяй. Согласен. Вы узнаете при более
близком знакомстве то, чего не знали раньше: он еще и дурак в придачу, поэтому
прощаете его. С другой стороны, он может оказаться продажным политиком
и не скрывать этого, но он сердечно жмет вам руку, добродушно
разговаривает с прислугой и содержит стариков — отца и мать. Если отвлечься от
политики, он человек очень порядочный. Вам сообщают, что у такого-то на лице
карбункулы, но ваши глаза говорят вам, что лицо у него бледное, как у
призрака, и болезненное. Это ненамного лучше, но притупляет жало насмешки
и обращает ваше негодование против того, кто измыслил ложь; он — издатель
одного шотландского журнала, так что деваться вам некуда.
Я не любитель анонимной критики, я хочу знать автора, но как только это
выясняется, я вполне удовлетворен. Даже правильно поступил бы,
сбросив маску. Ведь именно ее мы боимся и ненавидим, а в том, кто за нею
прячется, вполне может отыскаться что-нибудь человеческое.
Короче говоря, наши представления о людях, возникающие на расстоянии,
на основе пристрастных отзывов или догадок, примитивны и никак не
соответствуют действительности; представления же, извлеченные из опыта, напротив,
сложны, единственно истинны и обычно наиболее благоприятны. Вместо
обнаженного уродства или отвлеченного совершенства
Никем не виданных безгрешных чудищ32
«ткань нашей жизни сделана из смешанной пряжи — плохой и хорошей
вместе. Наши добродетели возгордились бы, если бы их не бичевали наши
пороки, а пороки наши отчаялись бы, если бы их не защищали наши
добродетели»33. Эти прекрасные справедливые слова давным-давно сказал некто, кто
знал сильные и слабые стороны человеческой природы; но смысл их еще долго
не уразумеют сторонники партий, сект и те философы, которые гордятся и
похваляются своим умением классифицировать людей по их прозвищам.
XXVII
О КОРПОРАТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Корпоративные объединения не наделены душой1.
Корпоративные объединения развращеннее и продажнее, нежели частные
лица, так как благодаря своему могуществу творят больше зла и меньше
подвергаются позору и наказанию. Им неведомы ни стыд, ни раскаяние, ни
благодарность, ни доброжелательность. У каждого участника такой
организации совесть угасает (он знает, что в груди остальных нравственного чувства
также мало), и, освободившись от докучных угрызений, все думают только
о том, как общими усилиями добиться политических преимуществ и
привилегий, а затем поделить добычу между собой. Каждый пожинает плоды
общей деятельности, а вину, ежели таковая есть, возлагает на остальных. Esprit
de corps* становится господствующей страстью любого сообщества или
объединения; по сравнению с ним щепетильность или же соблюдение приличий
по отношению к чужакам считаются чем-то дерзким и неблаговидным. Если
хоть один из участников настаивает в противовес остальным на их важности,
остальные наваливаются на него, объявляют любителем совать нос куда не
следует, изменником, отщепенцем, бойкотируют или заставляют разделить
взгляды и желания своих соратников.
Изыски личных суждений выносятся на общее собрание и отвергаются им,
тогда как планы и интересы объединения в целом находят тайную, но
мощную поддержку в себялюбии его участников. Возражения, противоречие
бесплодны, хлопотны, расцениваются как оскорбление; они ни к чему не ведут,
между тем как подчинение общему духу оказывается одинаково важным как
для того, чтобы прослыть надежным товарищем, так и для спокойной
жизни. «Себялюбие и чувство товарищества»2 здесь неразделимы, и, сообразуясь
с интересами определенного класса, совпадающими с нашими, мы демонст-
* Корпоративный, кастовый, сословный дух; круговая порука; честь мундира (фр.).
294
Застольные беседы
рируем общественную добродетель. Придирчивого, неподатливого, вечно
недовольного члена клуба или coterie* немедленно заклеймят скверным
членом общества, врагом правил и порядка, «вредоносным строптивцем»3, не
способным ни на сочувствие, ни на привязанность, ни на тесное сотрудничество
в каком бы то ни было общем деле. Таким образом, самый упорствующий
неофит в подобных начинаниях освобождается от неудобных и не сулящих
выгоды обязательств по отношению к обществу в широком смысле слова и
вливается в более близкое и дорогое ему сообщество, где находит всяческое
содействие и утешение.
Он заменяет туманное и бессмысленное наименование человека более
выразительным званием полноправного гражданина и члена городской
управы. Требования какого-то неопределенного человечества все менее и менее
стесняют его, по мере того как он все крепче и туже связывает себя новыми
обязательствами. Перепалки из-за пустяков, интриги, грызня, а также
напускная важность, которой объединение обязано, как он считает, в том числе и
ему, постепенно лишают такого деятеля всякого здравого смысла и чувств. Он
совершенно меняется и объявляет: «Общество чрезвычайно обязано мне в
последнем деле», то есть, иначе говоря, в каких-нибудь ничтожных делишках
либо попытке втихаря нарушить чужие права или продиктовать предписания
всем вокруг. Тем временем он и его дружки кутят и веселятся все вместе;
мелочную вражду и неизбежные расхождения во мнениях они смывают
волнами пива в огромных кружках, а жалобы толпы заглушаются звоном
тарелок и ревом преданных сторонников на ежеквартальных собраниях или
званых ужинах у мэра.
Городская ратуша трясется от мощного чувства собственной значимости;
даже «камни болтают»4 о торжественных шествиях; городской насос трещит
в унисон с откупориваемыми бутылками вина и бочками пива; рыночный
перекресток кажется особенно внушительным. Все обретает подозрительный,
наглый, отталкивающий вид. Внутри круга возникает другой круг, imperium
in imperio**, и задача сводится к тому, чтобы исключить из первого все
понятия, мнения, представления, интересы и притязания второго. Отсюда
проистекает не только неприятие здравого смысла и порядочности в тех областях,
где действительно происходит борьба противоположных интересов или
сталкиваются предубеждения, — нет, «облекшись краткой и ничтожной властью»5,
люди превращают в привычку и любимое развлечение не пущать,
раздражать, оскорблять и терзать других всякий раз, как только представится
малейший случай или предлог. Злобные выходки, перебранки, взаимные
обвинения, злословие, лживые выдумки, ревность, обидные прозвища оказывают-
* кружка (фр).
* империя в империи (лат.).
XXVII. О корпоративных объединениях
295
ся в порядке вещей, при том что никто и знать не знает, чего ради
городится огород. Можно подумать, что мэр, члены городского совета и лакеи
принадлежат к более высокой, избранной породе существ, чем их сограждане,
хотя отличают первых разве что мантия и жезл. В этом-то и заключается суть
esprit de corps. He очень-то приятная, прямо сказать, тема для размышлений
и обсуждения.
Государственные учреждения значительно хуже составляющих их лиц,
потому что официальное начало вытесняет нравственное. Душевные струны,
сами по себе мягкие и податливые, естественным образом отзывающиеся на
призыв о жалости, становятся жесткими, загрубелыми, когда подсоединяются
к такой машине, и отвечают полнейшим безразличием на все сторонние
обращения к ним. Вот кто-то взывает к узам личной дружбы — учреждению в
целом о них неведомо. Или, предположим, произошел случай, вызвавший
сострадание у очевидца, но ведь учреждение (или какая-нибудь депутация от
него) при том не присутствовало — и все тут!
Против этих маленьких слабостей и «укоризненных призывов природы»6
существует вполне действенная система предохранения, созданная
общественными правилами и установлениями, равно как и самим духом общества.
Человек пребывает во власти разнообразных эмоций; он игралище пороков
и добродетелей (как говорил шекспировский шут, «Нет лучше пестрой
куртки!»);7 между тем корпоративные объединения облачены в мундиры
нравственности; смешанные мотивы тут не действуют, вероломство возведено в
систему, «из недугов извлекается выгода»8. На того, кто состоит в
каком-нибудь объединении, могут повлиять в этом его качестве только такие
естественные или искренние побуждения, которые порождены коллективной совестью
тех, с кем он осуществляет совместные действия, либо связаны с интересами
сообщества (истинными или мнимыми), с его значимостью,
респектабельностью или открыто провозглашенными целями. За этими пределами
человеческие чувства скованы, а совесть притуплена — уничтожающее воздействие
громадного количества инертной материи умерщвляет лучшие чувства и
ожесточает сердца. Говорят, что смех и плач — характерные приметы
человечности. Смех довольно обычное явление в таких объединениях и составляет
контраст их напускной серьезности, но кто видел, чтобы целая организация
или целое учреждение заливались слезами? Только конкретное дело или
какое-нибудь плутовство могут помочь им сохранить серьезность и
сосредоточенность на десять минут кряду*.
* Иногда мы видим, как плачет весь зрительный зал. Однако публика в театре, хоть
и собрана вместе, не составляет организованного целого. Она не встроена в рамки
исключительных и ограниченных интересов. Каждый незначительный человек смотрит на
сцену, быть может, воображаемую и ему самому чуждую, но верную природе. Друзья,
незнакомцы встречаются на общей почве человечности, и слезы, исторгнутые из их груди, «по-
296
Застольные беседы
Таковы качества и выучка, необходимые тому, кто хочет, чтоб его
терпели, чтобы его, как цифру, как простую единицу, приняли в какое-нибудь
объединение; а если он хочет стать вождем и диктатором, то должен быть
дипломатичен в наглости и услужлив в любом грязном деле. Он обязан не
просто подлаживаться под сложившиеся предубеждения — а расстилаться перед
ними; не просто пренебрегать требованиями умеренности и справедливости —
а громко протестовать против них; не просто участвовать во всевозможных
презренных интригах и заговорах — а неутомимо разжигать их и сталкивать
всех лбами; не просто повторять — а вдобавок придумьшать лживые
утверждения. Он обязан произносить речи и писать листовки; выказывать
преданность желаниям и целям своего сообщества, быть его марионеткой, готовой
исполнять любую грязную работу, вынюхивать и выслеживать, быть рупором,
глашатаем; разбираться в судебных делах, процессуальных тонкостях,
учредительных документах, традициях, банальностях, в логике и риторике — во
всем, кроме честности и здравого смысла. Как говорил мистер Бёрк, такой
человек должен «выбросить из себя свои внутренности и натолкать туда,
сколько влезет, жалких полустертых грамот о правах»9 избранного
меньшинства. Он должен стать квинтэссенцией, хорошо отлакированным,
напудренным воплощением пороков, нелепостей, лицемерия, зависти, чванства,
категоричности и самодовольной уверенности в правоте своей партии. Благодаря
суетливой хлопотливости, важничанью и кичливости, умению беззастенчиво
льстить в лицо одним и поносить за глаза других, таланту то приспособиться
к слабостям третьих, то потакать дурным наклонностям четвертых такой
деятель сойдет в небольшом сообществе за великого человека.
С годами нравственный облик государственных учреждений отнюдь не
улучшается. Они все сильнее и сильнее цепляются за свои бестолковые
привилегии и бессмысленное превосходство. Постепенно они слабеют и становятся
упрямы. Участники их отличаются тем, что к почтенности и суеверной
святости старинных учреждений прибавляют свойственные самим этим лицам
заносчивость выскочек и склонность к крючкотворству. По всем вопросам
приличия и морали они, естественно, расходятся сперва с соседями, а потом со
всеми своими современниками. Чем дальше внешние формы отходят в прошлое,
тем больше эти люди к ним привязываются; подразумевается, что в защите
любых нелепых и несправедливых привилегий они видят свой долг по
отношению к живым и мертвым. Сохраняя букву, когда исчез дух, они
превращают некогда действительно полезные установления в фарс; усердствуют тем
рьянее, чем более вопиюща противоречивость и непоследовательность их
рождены священной жалостью»10. Зрители представляют собой смешанную толпу, в
которой общность чувства вызвана далекими от их жизни, выдуманными событиями, — но
отнюдь не объединение, скрепленное мелочными интересами и низкими эгоистическими
предрассудками.
XXVII. О корпоративных объединениях
297
невнятных рассуждений, ибо полагают, что тем самым доказывают свое
рвение, равно как приверженность абстрактному принципу, лежащему в основе
старинных учреждений, — преклонению перед непререкаемым авторитетом.
Во всех таких случаях чем больше несправедливость, тем больше
справедливость. Esprit de corps ставит себе в заслугу не поддержку того, что оправдано
в любой системе или деятельности той или иной партии, а защиту явно
вредных установлений. Первого вы можете требовать и от врага, последнее — во
власти друга. Было немало жалоб на то, например, что защитники Церкви,
достигшие высоких званий и почестей, едва ли отстаивают общие принципы
христианства. В этой роли чаще выступают те, кто добровольно вызывается
оборонять внешние укрепления и придумывает хитроумные объяснения
спорных или щекотливых моментов устоявшегося культа, то есть таких, которые
подвергаются атаке извне и которым, как полагают, грозит опасность быть
подорванными посредством какой-нибудь хитрости или взятыми с наскока.
Когда великие обители и храмы науки перестают идти в ногу с миром, они
отступают и от замыслов своих создателей. Тогда они напоминают
престарелых кокеток прошлого века, которых смешит и раздражает все, кроме того,
что было модно во времена их молодости; тем не менее они — застывшие
свидетельства поступательного развития вкуса и тщеты человеческих притязаний.
Наши университеты в значительной мере превратились во вместилища,
сохраняющие, но не распространяющие знание. Время опередило университеты в
том смысле, что после их возникновения появились новые доступные
живительные источники знания, к которым желающие жадно припадают и из
которых вдоволь напиваются; университеты же отстранены от этих источников
содержанием своих уставов, своими понятиями о достоинстве и привилегиях.
Подобно старинной знати в иных странах, университеты обеднели, питаясь
ученым наследием, в то время как народ богател за счет торговли. Они
превратились в нечто вроде арматуры для интеллекта, они преграждают дорогу
к истине или, по крайней мере (поскольку сами не движутся вперед), могут
разве что противостоять слишком поспешному и стремительному обновлению.
Они и слышать не хотят о каких бы то ни было изобретениях и теориях,
созданных за последние двести лет, либо едва обращают на них внимание — они
выше этого — и, отказываясь трогаться с места, держатся за прежние вехи. Обо
всем, что было неизвестно в ту пору, когда университеты впервые возникли,
они и посейчас пребывают в глубоком и благородном неведении.
Между тем за это время далеко вперед ушли литература, искусство и
наука — и всех их (за исключением математики, которую труднее всего
опровергнуть или оплести сетью предрассудков и варварских ipse dixitis*) ни сле-
* Букв.: сам сказал (от лат. ipse dixit); здесь: стремлений слепо идти за
догматическими утверждениями авторитетов.
298
Застольные беседы
да не найти в господствующих в двух наших университетах авторитетных
программах учебы и исследований. Неизменной целью всех ученых заведений
является не приобретение или распространение мудрости, а устранение
соперничества со стороны тех, кто может быть (или казаться) мудрее их. Другими
словами, их вечно интересует лишь одно: подавить в конце концов
стремление к познанию, скрыть истину, установив пределы для человеческого ума и
сказав гордому духу: «Доселе ты дойдешь и не перейдешь»11.
Довольно поучительным могло бы стать собрание заголовков трудов,
опубликованных преподавателями университетов на протяжении года. Если вдруг
делается попытка подлатать бездействующую систему в политике,
законодательстве или церковном управлении, то ее обязательно предпринимает кто-
нибудь из университетских; если выдвигается наспех скроенная теория,
сляпанная из старых, давно отброшенных доводов, «не ведая стыда и разуму
назло»12, автор ее непременно из университета; если возникает какой-нибудь
жалкий проектишко соединить отжившие предубеждения с современным
приспособленчеством, то он точно придуман кем-нибудь из университетских
умов. Так мы регулярно получаем запас ежегодных «Защит фонда
погашения», «Размышлений о вреде образования», «Трактатов о предназначении» и
«Похвал мистеру Мальтусу»13 — все из одного источника и одного
выходного отверстия. Если бы они поступали из другого места, никто бы и не
взглянул в их сторону, но на них стоит imprimatur*, проставленный тупостью и
властью, и мы знаем, что они совершенно безобидны. Их вывешивают в
витринах лавок и читают (в промежутке между сочинениями лорда Байрона или
шотландскими романами)14 в главных городах епархий и избирательных
округах, где у главного кандидата нет конкурентов.
Насколько я себе представляю, дело обстоит так же и в более
современных институтах, созданных для поддержки изящных искусств. Цель забыта
ради средств; правила вытесняют природу и таланты; интриги и суета,
борьба за высокое положение и первенство важнее, чем изучение искусства и
любовь к нему. Королевская академия — своего рода больница или лазарет
для отклонений в плане вкуса и мастерства — помещение, где энтузиазм и
оригинальность иссякают и коснеют, не распространяя более свое влияние; и
все это вместо того, чтобы быть школой для гениев или храмом славы.
Большинство из тех, кто добивается себе места в ней, крутясь-вертясь,
пресмыкаясь или выслуживаясь, доживает благодаря грамоте о признании заслуг до
счастливой старости, но об этих деятелях редко потом вспоминают.
Если в их ряды попадает человек подлинно талантливый, который всерьез
занимается своим делом, он среди прочих ничто; с ним не считаются на
совещаниях, при голосовании, принятии решений и произнесении речей. Коль
* санкция, разрешение, штамп [лат).
XXVII. О корпоративных объединениях
299
скоро он выступит с планами и предложениями во благо Академии и во имя
развития искусства, его немедленно обзывают мечтателем, фанатиком,
вынашивающим идеи, враждебные интересам и репутации всех членов
сообщества. Если он побуждает ученых заняться историей, это немедленно наносит
удар по доходам членов Академии, которые, по божьему соизволению, в
большинстве своем портретисты. Если он хвалит древних и высоко оценивает
старых мастеров, это приписывают его зависти к современным
отечественным художникам. Если, наконец, он утверждает, что для того, чтобы
правильно рисовать, необходимо знание анатомии, в этом видят намек на отсутствие
такового знания у самых видных наших рисовальщиков.
Все планы, предложения, доводы, поддерживающие общие принципы и
цели искусства, оспариваются, отвергаются, осмеиваются, объявляются
вредными и опасными для финансового благополучия и притязаний великого
множества уважаемых и преуспевающих художников нашей страны. Это
приводит к всеобщему разладу и недружелюбию. Упорство признанных
авторитетов вполне сопоставимо с противостоящими ему ожесточением и
экстравагантностью, и все вместе они возлагают вину на сумасбродство и
заблуждения, ими же самими порожденные или приумноженные. Сложившееся
положение рассматривается не как общественно важный вопрос, а как личная
ссора; оттого предполагается, что достоинство учреждения должно
проявляться в осуждении ошибок и оплошностей тех, кто к нему причастен, а не в
отстаивании объявленных ими общих целей.
В такого рода ничтожных tracasserie* Бэрри и Хейдоны15 бессильны
против Катонов, Таббсов и Фарриштонов16. Сэр Джошуа даже счел своим
долгом держаться от них в стороне, а Фюзели считается у них ничтожной
величиной — а то и одним из его собственных гротесков! Атмосфера в Академии,
короче говоря, не годится для гения и бессмертия; она слишком душная и
накаленная, слишком пошлая и вульгарная. Человек, погрязший в подобной
испорченной среде, становится чужд искренним порывам, стремлению к
природе и истине; ему недоступны видения идеальной красоты, мечты о
грации и величии, свойственных античности; в его возбужденном воображении
проплывают и парят не прекрасные творения искусства, а правила Академии,
уставы, вступительные речи, резолюции, принятые или отмененные,
пригласительные билеты на заседание совета или на ежегодный торжественный обед,
почетные медали и королевский диплом, провозглашающий его
джентльменом и землевладельцем.
Он «все суетные записи стирает»17, все романтические притязания, «грацию
Рафаэля, пластичность Гвидо»;18 «и в книге мозга пусть пребудут, не
смешаны ни с чем, что низменнее»19 одни только распоряжения Академии. Сомни-
* дрязгах [фр.).
300
Застольные беседы
тельно, чтобы хоть одно творение, достойное всеобщего внимания и долгой
известности, произросло на подобной почве или когда-либо появилось в недрах
любой академии. Свидетельством тому служат не просто мнение или
предубеждение, но исторические факты. Громкие имена прежних времен
возникли до появления академий, а трое наших несомненно величайших
художников — Рейнолдс, Уилсон и Хогарт — превратились в мастеров вовсе не потому,
что их «нянчили и баловали»20 в каком-нибудь институте изящных искусств.
Я не опасаюсь, что для опровержения моих аргументов могут быть
использованы имена Чантри или Уилки (как ни велик один и ни значителен другой).
Некоторые наши художники делают большие успехи, когда на время
вырываются из этого водоворота. Сэр Томас Лоренс лишь выиграл от
одно-двухгодичного отсутствия в Сомерсет-хаусе21, а мистер Доу, говорят, творит чудеса
на Севере. Когда он вернется и вновь прикажет Британии соперничать с
Грецией?22
Мистер Каннинг где-то формулирует правило, согласно которому
корпоративные объединения не могут не придерживаться корректного и строгого
поведения по одному тому, что принадлежащие к ним лица знают всё друг о
друге и ревнивой бдительностью своею влияют на характеры и побудительные
мотивы каждого, тогда как люди, собравшиеся в толпу, презирают порядок и
лишены принципов, ибо друг другу неизвестны и неподотчетны23. Это
любопытный ход мысли. Я не согласен ни с первой, ни со второй частью
утверждения. Начнем с первой — в несколько дерзком тоне, следуя предложенному нам
образцу. Мы знаем, например, что нередко толкуют о чести воров, хотя
честностью по отношению к другим они не отличаются. Их честь проявляется в
том, как они делят добычу, но отнюдь не в способе овладения ею; они не
(часто) предают друг друга, но имеют обыкновение подстерегать незнакомцев и
отправлять на тот свет путешественников; они непременно поднимут тревогу,
когда есть угроза, что в один из их притонов могут внезапно нагрянуть, и свои
нечестно добытые деньги охраняют сообща до последней капли крови.
Тем не менее они составляют особое сообщество и несут строгую
ответственность за поведение по отношению друг к другу и к своему главарю. Это
не толпа, а шайка; все они во власти друг друга и в курсе чужих тайн.
Знакомство с поступками соучастников не заставляет их, однако, ожидать или
требовать от них высокого уровня порядочности; об этом речь не идет, но они,
без сомнения, поднимутся во мнении у своих сотоварищей, совершая
всяческие грабежи, мошенничества и насильственные действия против общества
в широком смысле. Вот почему (боюсь впасть в кощунство) некоторые из
друзей мистера Каннинга могут быть по-своему очень респектабельными
людьми — «почтенные и доблестные люди»24, но их респектабельность заключена
в партийные рамки; далеко не все сочувствуют чистоте их взглядов, а
понимание между ними и публикой не вполне однозначно и вряд ли взаимно.
XXVII. О корпоративных объединениях
301
Или предположим, что шайка карманных воришек обчистила
прохожего на улице, а толпа схватила их и начинает на месте творить суд и
расправу над всеми, кто попадется под руку, — должен ли я заключить, что
жулики правы (потому что у них имеется хорошо организованная система
мошенничества, установленная с утра и регулярно проверяемая по вечерам, когда
они, бдительно следя друг за другом, должным образом оценивают мотивы,
характеры и деловые способности всех участников предприятия), а честные
люди не правы (потому что представляют собой случайное собрание
непредубежденных, не имеющих корыстных интересов личностей, произвольно
вырванных из людской толпы и действующих несогласованно и
безответственно, под влиянием сиюминутного порыва и праведного гнева)?
Из этого следует, на самом деле, что толпа почти всегда права в своих
чувствах и зачастую в своих суждениях именно потому, что, поскольку она
состоит из людей, которые друг друга совершенно не знают и совершенно
друг с другом не связаны, объединяет и сближает их только естественное и
всеми признанное чувство справедливости. При первой встрече они
прибегают не к каким-нибудь тайным символам или паролям, как франкмасоны, а
к принципам и побуждениям, свойственным всему миру. К цели их ведут
либо веления сердца, либо находящее повсеместное понимание чувство
всеобщности, — и то и другое вряд ли может быть ложным. Пламя, зажженное
сочувствием народа, пылает и поддерживается честными, хотя и простыми
средствами. Оно не разгорается из искр остроумия и софистики, не гасится
холодными расчетами своекорыстия.
Толпу можно привести в бурное движение, как то нередко происходит,
или она заходит слишком далеко в припадке ярости и разочарования; но
когда толпа предоставлена самой себе, ее гнев чаще всего оказывается
следствием явных злоупотреблений и несправедливостей. Совершаемое ею
насилие проистекает из той самой недальновидности и неупорядоченности,
каковые служат залогом искренности и честности намерений. Короче говоря,
единственная категория лиц, к которым неприменимо процитированное выше
вежливое обвинение в низменных и бесчестных побуждениях, представлена
объединением индивидов, коих в совокупности обычно именуют народом.
XXVIII
СТОИТ ЛИ АКТЕРУ СИДЕТЬ В ЛОЖЕ?
По-моему, нет, и я сейчас постараюсь объяснить почему. Актер принадлежит
публике, а не самому себе. Достаточно того, что он выходит на сцену, —
зачем ему выставлять себя напоказ еще и в ложе театра? Мне кажется,
именно особенности профессии должны побуждать актера по возможности
сохранять свое инкогнито. Переодетый и в гриме, предельно преображенный
«своим могучим искусством»1, он играет множество ролей и не должен портить
впечатления от игры, снимая маску. Пусть, если ему уж очень хочется, идет
в партер и садится — но не в первый ряд, а туда, откуда будет хорошо видеть,
но при этом сам сможет оставаться невидимым. На него и так слишком много
смотрят. Он воплощает иллюзию, которую вынужден поддерживать —
отчасти, как мне кажется, из самоуважения, каковое должно отвергать праздное
любопытство, отчасти из почтения к публике: ведь он внушил ей некоторые
предрассудки и обязан не разрушать их. Он изображает величие многих
государей, он возлагает на себя ответственность героев и влюбленных; на его
плечах лежат мантия гения и покров природы, мы нагромождаем на него
миллион ассоциаций, под которыми он должен «живьем зарытым быть»2, а
вовсе не выставлять напоказ свое малопримечательное лицо и простую
одежду, как бы говоря: «Ну и дураки вы все! Я вовсе не Гамлет, принц Датский!»
После того как мистер Мэтьюз во время исполнения пьесы «Дома»3
бесподобно представлял неподражаемую Шотландку, ему вполне пристало с
быстротой молнии ускользнуть и в боковой ложе обменяться рукопожатием со
своим старым приятелем Джеком Бэннистером. Это только усиливает наше
изумление его даром перевоплощаться и перелетать с одного места на другое:
ведь большую часть вечера он оставался пред нами в своем обычном виде. Тут
ничего страшного не случилось: не разрушились ни воображаемые колдовские
чары, ни последовательность мысли и чувства. Сам мистер Мэтьюз (да не
обидится он на меня) умнее и более достоин почтения, чем многие
изображаемые им персонажи. Другое дело, когда
XXVIII. Стоит ли актеру сидеть в ложе?
303
По сцене призрак Гамлета идет,
Отелло в гневе, Дездемона плачет,
А бедная Монимья нежно любит4.
Тогда рождается совершенно другое чувство — скорее, скорее опустите
занавес, не разрушайте этот мир фантазий. А если без этого нельзя, мы выберем
другое время и место; пусть никто не оторвет от наших уст чашу Цирцеи, не
развеет дух волшебства в самой обители волшебства. Подите, мистер , и
сядьте где-нибудь подальше. Как ужасно, например, если актер во время
спектакля неожиданно теряет какую-нибудь часть своего сценического костюма!
Какой удар5 для него самого и зрителей! Какое усилие требуется ему, чтобы
прийти в себя и преодолеть воздействие внезапного явления голой правды!
Говорят, что трагический гений Гаррика поистине торжествовал в той сцене,
где он, играя Лира, потерял соломенную корону; актер настолько слился
воедино со своим персонажем, что никто не засмеялся и даже ничего не заметил.
Да разве мог бы он после этого пренебречь вызванным им самим
волнением и, сорвав лохмотья, забрать старого безумного короля с собой в ложу,
чтоб там разыгрывать полного дурака?
Не мучь. Оставь
В покое дух его. Пусть он отходит.
Кем надо быть, чтоб вздергивать опять
Его на дыбу жизни для мучений?6
Рассказывают, что некая дама влюбилась в Гаррика, когда увидела его в
роли Ромео. Услышав об этом, он сказал, что берется полностью излечить ее
от безумной страсти — пусть только придет посмотреть на него в роли Авеля
Дреггера7. Так современный трагический актер и утонченный джентльмен
своим эффектным появлением in propria persona* и к тому же в самом
блестящем виде может легко излечить нас от пристрастия к главным персонажам
в его исполнении. «Сэр! Как вы думаете, Александр действительно так
выглядел при жизни8 или его просто изобразили так на сцене? А у Юлия Цезаря и
правда был такой нос и такое жабо, как у вас? Вы убили неведомо сколько
героев "простым кинжалом"9 — золотой булавкой, вколотой в вашу сорочку,
и испортили все прекрасные любовные признания, которые вами когда-либо
будут произнесены, — испортили тем, как неподражаемо ковыряли в зубах!»
Когда актер хорошо исполнил свою роль, ему не следует добиваться
новых знаков одобрения; он должен держаться в тени и, «словно виноватый,
удалиться»10, понимая, что истинного восхищения достоин только находясь в
своей стихии, а потому обязан тем ревнивее хранить чужое (и собственное)
* собственной персоной (лат.).
304
Застольные беседы
высокое мнение о себе, чем больше носится с ним публика. Пусть он не
может избежать чрезмерного внимания, но зачем стремиться привлечь его,
играя тусклую и незначительную роль — то есть самого себя? Какой дурной
обычай — выводить актеров на сцену и венчать их лаврами. «Omne ignotum
pro magnifico est»*.
Даже признанные критики не должны, по-моему, громко аплодировать: в
толпе зрителей любой имеет «столь же могущественный голос»11, как и
пресса, и может либо не вполне скромно выражать впечатления, либо
подтверждать свои оценки аплодисментами. Только подайте отчетливый знак, и весь
театр окажется с вами в полном согласии. Актер, как король, должен
участвовать только в событиях государственной важности. Слишком частые
появления на публике могут лишить его популярности, или, как гласит пословица:
близкое знакомство рождает презрение.
И актер, и король воплощают некую абстрактную идею, выступают в
сценических костюмах, и, «отбросив оболочку более чем тленную»12, должны
держаться подальше от публики: их собственные поступки и высказывания
не смогут поддержать наших иллюзий на их счет. Обыкновенная
обстановка не дает такого простора для проявления изящества и достоинства, как
романтические обстоятельства или подготовленные зрелища, малое
неизбежно вытеснит великое — и тому много примеров.
Девизом великого актера должно быть «Aut Caesar, aut nihil»**. He
понимаю, как он, в короне или с перьями на шляпе, может пролезть через
крошечную дверь в ложу, не согнувшись и не уронив достоинства своего персонажа.
На сцену же ведут такие высокие арки, «что актеры идут под ними, не
снимая чалмы роскошной для поклона богам»13.
За главным трагическим актером современности14 тянется слишком
длинная и роскошная свита, чтобы ей нашлось место в ложе. Ложу нужно
сильно расширить, когда он является, ибо по пятам за ним в полном одеянии
шествуют Катон, Брут, Кассий и тот, с соколиным глазом15, и Отелло, и Лир,
и горбатый Ричард, и Гамлет, принц Датский, и многие другие, и все просят
разрешения войти вслед за ним, ибо они тени, которым он один дает плоть
и кровь. «Могилы, разверзаясь, усопших изрыгают — а те нас гонят прочь»16.
У дверей кишит толпа, в фойе писк и щебет17. Свита у актера царская, она
чересчур угнетает воображение; а потому пусть он лучше незаметно
проскользнет в партер. Авторы пьес, в некотором смысле его создатели и
повелители, сидят там с полным удовольствием — почему бы и ему там не
разместиться? Скажут: «Он привык выставлять себя напоказ». Так вот именно
поэтому он и должен скрываться, когда не играет.
* «Все неведомое кажется особенно драгоценным»18 (лат.).
* «Или Цезарь, или ничто»19 (лат.).
Ил. 1. Преподобный Уильям Хэзлитт
(1732—1820), священник Унитарной
церкви, отец писателя
Ил. 2. Грейс Лофтус, миссис Хэзлитт
(1746—1837), мать писателя
Ил. 3. Маргарет Хэзлитт (1770-1837),
сестра писателя
Ил. 4. Джон Хэзлитт (1767-1837),
художник, брат писателя
Ил. 5. Уильям Хэзлитт в детском
возрасте
Ил. 6. Уильям Хэзлитт в молодости
Ил. 7. Уильям Хэзлитт в момент
первой женитьбы
Ил. 8. Уильям Хэзлитт в возрасте
примерно 35 лет
Ил. 9. Уильям Хэзлитт. Автопортрет
в юности
Ил. 10. Преподобный Уильям Хэзлитт,
отец писателя. Портрет работы
У Хэзлитта
Ил. 11. Джон Телуолл, политический
деятель. Портрет работы
Дж. Хэзлитта
Ил 12. Чарлз Лэм в костюме
венецианского сенатора. Портрет работы
У. Хэзлитта
Ил. 13. Дом приходского священника в деревушке Уэм (графство
Шропшир)
Ил. 14. Дом № 19 на Иорк-стрит
в Вестминстере
Ил. 15. Дом на Фрит-стрит в Сохо
Ил. 16. Чарлз Лэм в возрасте 51 года
Ил. 17. Ли Хант в молодости
Ил. 18. Уильям Вордсворт
Ил. 19. Сэмюэл Тейлор Колридж
Ил. 20. Роберт Саути
Ил. 21. Джон Ките на смертном одре
Ил. 22. Уильям Годвин
Ил. 23. Джордж Гордон Байрон
Ил. 26. Джеффри Чосер
Ил. 28. Джон Милтон
Ил. 29. Джон Драйден
Ил. 27. Эдмунд Спенсер
Ил. 30. Сэр Ричард Стиль
Ил. 31. Джозеф Аддисон
Ил. 32. Александр Поуп
Ил. 33. Уильям Купер
Ил. 34. Сэмюэл Джонсон
Ил. 35. Оливер Голдсмит
Ил. 36. Эдмунд Бёрк
Ил. 37. Ричард Бринсли Шеридан
Ил. 38. Томас Мур
Ил. 39. Перси Биш Шелли
Ил. 40. Фанни (Франсис) Бёрни, мадам
д'Арбле
Ил. 4 7. Роберт Берне
Ил. 42. Джон Локк
Ил. 43. Дэвид Юм
Ил. 44. Джереми Бентам
Ил. 45. Джордж Беркли
Ил. 46. Фридрих фон Шиллер
Ил. 4 7. Иоганн Вольфганг фон Гёте
Ил. 48. Фрэнсис Джеффри
Ил. 49. Джон Меррей
Ил. 50. Леонардо да Винчи
Ил. 51. Микеланджело Буонаротти
Ил. 52. Рафаэль Санти
Ил. 53. Тициан Вечеллио
Ил. 54. Андреа дель Сарто
Ил. 55. Корреджо
Ил. 56. Сальватор Роза
Ил. 57. Бартоломе Эстебан Мурильо
Ил. 58. Никола Пуссен
Ил. 59. Клод Лоррен
Ил. 60. Петер Пауль Рубенс
Ил. 61. Рембрандт Харменс ван Рейн
Ил. 62. Сэр Джошуа Рейнолдс
Ил. 63. Уильям Хогарт
Ил. 64. Ричард Уилсон
Ил. 65. Бенджамин Уэст
Ил. 66. Генри Фюзели
Ил. 67. Дэвид Гаррик с супругой
Ил. 68. Эдмунд Кин
Ил. 69. Джозеф Шеперд Манден
Ил. 70. Джон Куик
Ил. 71. Уильям Томас Льюис,
по прозвищу Джентльмен Льюис
Ил. 72. Джон Филип Кембл
Ил. 73. Сэмюэл Симмонс
Ил. 74. Чарлз Мейн Янг
Ил. 75. Чарлз Мэтьюз
Ил. 76. Джон Листон
Ил. 77. Сара Сиддонс
Ил. 78. Фанни (Анна) Брентон Мерри
Ил. 79. Кэтрин Стивене
Ил. 80. Уильям Генри Уэст Бетти,
мастер Бетти
Ил. 81. Георг, принц Уэльский, принц-регент,
будущий король Георг IV
Ил. 82. Уильям Питт (Младший)
Ил. 83. Джордж Каннинг
Ил. 84. Артур Уэллсли,
герцог Веллингтон
Ил. 85. Роберт Стюарт, виконт Каслри
Ил. 86. Сэр Роберт Пиль
Ил. 87. Генри Питер Брум
Ил. 88. Чарлз Джеймс Фокс
Ил. 89. Грэнвилл Шарп
Ил. 90. Боксерский матч, проходящий на корте для игры в мяч
Ил. 91. Корт в Лестер-Филдс (Лондон) для игры в мяч ракеткой
Ил. 92. Сомерсет-Хаус
Им 93. Театр Ковент-Гарден
Им 94. Театр Друри-Лейн
XXVIII. Стоит ли актеру сидеть в ложе?
305
Нельзя возводить привычку выставлять себя напоказ в принцип. Если бы
я увидел покойного Джентльмена Льюиса порхающим в ложах у всех на
виду, я бы недоумевал, кем его считать — Медным Капитаном20, или Бобади-
лом21, или Рейнджером22, или юным Рэпидом23, или лордом Фогашнгтоном24,
или принимать его еще за какого-нибудь из пяти десятков причудливых
персонажей, а потом мне бы полезли в голову Манден или Куик и еще куча
других, «пока мой мозг не превратился бы в вертушку, приводимую в движение
дымом из очага»;25 я бы совершенно не мог в этом разобраться. Однако если
бы увидел его в партере, то просто глядел бы с почтительным любопытством
и говорил всем: вот Джентльмен Льюис. Из этого обстоятельства мы бы
заключили, что он разумный, скромный человек, ведь мы заведомо знали, что
он вполне способен красоваться, когда ему заблагорассудится.
К одному разряду актеров, на мой взгляд, приведенное выше рассуждение
неприменимо — я имею в виду бывших актеров. Куда бы и когда бы они ни
заявились, старые друзья им всегда рады. Они имеют такое же право сидеть
в ложах, как дети во время каникул, но почему-то редко приходят. Для них
с театром связаны грустные воспоминания:
Когда-то сладкие,
Теперь печальные26.
Миссис Гаррик все еще часто посещает спектакли; в восторженных
приветствиях партера ей чудится, будто вновь и вновь аплодируют ее покойному
мужу. Если бы миссис Притчард или миссис Клайв были живы, нам, боюсь,
редко пришлось бы их видеть — с ними мы бы чувствовали себя чересчур как
дама. Миссис Сиддонс почти никогда не приходит; хотя она — едва ли не
единственное, на что стоит посмотреть!27 Никакие мои теории не должны помешать
ей прийти в театр. Она выше всех теорий и ниспровергает все правила. Там,
где она, — там изящество и величие, там воплощенная трагедия. Место ей
только на единоличном троне трагической музы. К чему ей парадные одеяния,
пышный шлейф, бутафорские украшения? Зрелость и совершенство
дарования возвышают ее над любым персонажем, когда-либо ею изображенным.
Признаюсь, я бы не испытал такого захватывающего чувства, если бы
увидел в театре Джона Кембла, перед которым на расстоянии преклоняюсь, и не
догадался бы, какую роль он исполняет — великого человека или великого
актера.
Поближе сына, но подальше друга28.
Я знаю, что на все мои попытки сохранить личность актера в
неприкосновенности можно ответить так: разве на самом деле это не распространенный
306
Застольные беседы
случаи, когда герой трагедии произносит пролог, а зарезанная или
отравленная героиня в эпилоге воскресает, выходит на авансцену и смеется? На это я
отвечу следующим образом: эпилог произносится для того, чтобы
уничтожить всякую мысль о трагедии и предотвратить ярость зрителей партера,
решивших провалить спектакль. Подобная цель тем вернее достижима, чем
нелепее задействованные для этого средства.
Однако я отрицаю, что герою трагедии или главному ее персонажу когда
бы то ни было доверяют произнесение пролога. По неписаному закону его
всегда декламирует какая-нибудь ходячая тень, неважный актеришка,
который не может даже испортить сколько-нибудь значительную роль. Для этой
цели всегда под рукою мистер Клермонт, которого покойный король
трижды подряд назвал скверным актером*.
Что общего между привычным взмахом королевской руки и треуголкой
под мышкой — и чувствами или лицами, появляющимися на авансцене?
Нельзя сказать, чтобы мы питали предубеждение против такого
безобидного актера, как мистер Клермонт; мы отродясь предубеждены только против
исполнителей прологов. Это врожденная идея, естественный инстинкт; в
нашем мозгу это предубеждение гнездится в специально отведенном участке.
Разве не все мы ненавидим импресарио? И вовсе не потому, что он нахален
или дерзок или обожает произносить дурацкие речи, и не потому, что он
хвастлив, невежествен, низок, тщеславен, а только потому, что мы видим его
в обыкновенном сюртуке, жилетке и панталонах. Сцена — это мир фантазии;
королева Мэб29 приглашает нас повеселиться, и все участники ее забав
должны носить пестрый наряд.
Наконец, из профессиональных актеров нам приятно видеть в ложе и где
угодно еще только таких, которые вообще не актеры, а скорее джентльмены
и ученые и потому вполне на своем месте и в ложе, и повсюду. Разве сам
актер, спрошу я, не чувствует себя стесненно и неловко в ложе, понимая, что
его узнают? И разве он, несмотря на это неприятное чувство, нахальные
взгляды и перешептыванье со всех сторон, не сидит там только для того, чтобы
получить свою долю восхищения? Вряд ли он приходит ради пьесы или иного
представления — с него, наверно, хватает пьес и зрелищ с его собственным
* Однажды в воскресенье мистер Манден и мистер Клермонт явились к королю в
Виндзор. Они раза два прошлись среди других посетителей; наконец покойный король различил
в толпе Мандена и подозвал его к себе. Поговорив с ним очень доброжелательно и
запросто, король спросил: «А это кто с вами?» Манден с должными ужимками и гримасами
ответил: «С позволения Вашего Величества, это мистер Клермонт, из королевского театра
Друри-Лейн». — «Ах, да, — сказал король, — я хорошо его знаю — скверный актер, скверный
актер, скверный актер!» Странно, что короли повторяют свои слова по три раза — казалось
бы, и одного довольно. С тех пор как я услышал этот анекдот, мистер Клермонт мне
всегда нравился; быть может, мой рассказ так же повлияет и на других.
XXVIII. Стоит ли актеру сидеть в ложе?
307
участием. Может быть, он хочет посмотреть на любимого актера (или
соперника) в потрясающей воображение роли? Тогда ему место в партере.
Насколько мне известно, художники всегда подходят как можно ближе
к картине, которую копируют; думается, то же нужно и актерам, дабы
вглядеться получше в структуру и механизм своего искусства. Даже театральные
критики не могут разобраться в игре актеров, когда видят их из ложи. Если
вы сидите в ложе у самой сцены, ваше внимание отвлекают другие
участники спектакля и посторонние обстоятельства. Если отодвигаетесь подальше
(чтобы избежать внимания), то перестаете хорошо слышать и видеть. Что до
меня, то для рассказа о первом выступлении актера я бы столь же охотно
выбрал место на верхушке Памятника30, как уселся бы ради этого во втором
или третьем ярусе лож.
На днях я с билетом в ложу пошел посмотреть на мисс Фанни Брентон в
роли Джульетты и на мистера Макреди, впервые сыгравшего Ромео. Хотя
один недурной знаток говорил мне, что новая Джульетта — самая изящная из
актрис на сцене, а Ромео в исполнении мистера Макреди прекрасен, клянусь
Богом, я сам ничего из этого не увидел, да и вообще плохо уразумел, что к
чему, а один раз даже принял мистера Хорребоу за мистера Абботта. Как-то
раз я посмотрел на мистера Кина в роли сэра Джайлза Оверрича31 из первых
рядов партера, а через несколько дней — из передних лож против сцены.
Впечатление совершенно поменялось! Тот самый актер, который еще недавно
представал предо мною пульсирующим жизнью, из плоти и крови,
«насыщенной... огнем»32 и духом, теперь превратился в крохотную марионетку; он
носился по сцене взад и вперед, вздрагивал, вопил и разыгрывал перед
зрителями невероятные фокусы.
В последнем случае нетрудно было понять, почему публика вокруг меня
не выражает восхищения его игрой. Ясно также, почему к мистеру Кину
скептически относятся те, кто не снисходит до партера и тем более до мест в
оркестре, откуда могли бы лучше его разглядеть. Им тогда лучше уж вообще
не приходить. Лицо Кина — живой комментарий к его игре и мирит с ним
публику. Этот комментарий помогает подготовиться к бурной внезапности
его жестов, к неожиданности его долгих пауз — необъяснимых, если они не
дополнены выражением его лица. Непрерывно меняясь, оно показывает, как
терзают и раздирают его отчаянные страсти, прежде чем нанесут решающий
удар, а молнии, которые мечут его глаза, предупреждают глухие раскаты его
громоподобного голоса.
Конечно, можно сидеть в ложе и критиковать актеров и их игру, глядя на
секундомер Стерна33, но не иначе. «А между именительным падежом и
глаголом (которые, как известно вашей милости, должны согласовываться в
лице, числе и т. д.) наступила пауза длиною в секунду и две трети». — «Но
неужели глаза молчали? Неужели взгляд ничего не высказал?» — «Я смотрел
308
Застольные беседы
только на секундомер, милорд». — «Критик хоть куда!» Если кто-нибудь из
актеров пойдет посмотреть на игру мистера Кина для того, чтобы спастись от
соблазна подражать ему, то именно в этом месте, вернее, именно таким
образом как раз впадет в соблазн, потому что из ложи заметны прежде всего его
нелепости и оплошности, а им подражать легче всего. Мистер Мэтьюз даже
огрехи Кина может перенять не без пользы, глядя на него из-за кулис.
Выдающиеся актеры, стало быть, должны, по моему разумению, ходить
в партер и тем подавать пример другим, хотя бы в собственных интересах.
Я вспоминаю пустяковый случай, в котором увидел подтверждение своей
теории, рожденной давними предрассудками и традициями*. На одном из
ранних спектаклей с участием мистера Кина я с большим риском переломать
себе все кости добрался до середины партера, когда заметил несколько позади
двух молодых людей, а вокруг них немного свободного места. Они были
одеты по последней моде, тогда еще не так широко распространенной, как
теперь: в светлые желтовато-серые сюртуки и сорочки с длинными рукавами,
манжеты которых спускались на кисти рук. Я принял их за младших
сыновей какого-нибудь старинного рода — уж никак не меньше. Один из них, очень
приятной наружности, был, мне показалось, лорд Байрон, а его спутник —
мистер Хобхаус. Казалось, они забрели на нашу планету из другого мира,
дабы извлечь как можно больше удовольствия из талантливой игры актера.
Их появление оказалось как бы последним штрихом. Они, бесспорно,
принадлежали к высшему свету и следовали моде, но вкуса у них было больше, чем
уважения к внешним приличиям. Партер ведь, в конце концов, — истинное
прибежище настоящих ценителей и почитателей искусства. Если что-то
достойно внимания, то любоваться им лучше всего оттуда; и я под влиянием
такого соседства начал расти в собственных глазах от мысли, что тоже
ценитель и критик. Рядом с молодыми людьми никто не сел — это походило бы
на нарушение этикета. Никто не произнес ни звука. А оказались эти двое
чиновниками службы снабжения!
Я хотел бы подчеркнуть: мистер Кин, или мистер Янг, или мистер Макре-
ди, или любой из тех, о которых кричат выше всякой меры34, повинны в
нарушении законов театрального мира, когда добровольно или нарочно
привлекают к себе внимание вне спекто,кля. Выставляя на всеобщее обозрение свое
человеческое, несценическое «я», они тащат нас за собой вопреки нашей воле
и тем самым наносят непоправимый удар по истинному пристрастию к
театру — важнейшему из чувств, которое надлежит свято охранять от наглого
любопытства. Ах, до конца жизни не дайте мне (из особой милости) проник-
* Я готов согласиться, что во времена «Зрителя» изготовитель сундуков сидел на
галерке за два шиллинга. Но это было во времена «Зрителя», а не мистера Смёрка и
мистера Уайетта35.
XXVIII. Стоит ли актеру сидеть в ложе?
309
нуть в гримерную! Не дозволяйте увидеть, как причесывается Цезарь и как
накладывает грим Катон! Не дайте встретить в коридоре мальчика-суфлера,
или заметить свечи, слабо горящие на голых стенах, или услышать скрип
театральной машинерии и смех скрипачей, лицезреть, как Коломбина с
печальной серьезностью репетирует свои пируэты или как физиономия
мистера Гримальди, когда он уходит с авансцены, из веселой вдруг превращается
в печальную, словно по нему пробегает тень, или присутствовать при том, как
от скуки крутят свои пальцы длиннолицые исполнители пантомимы, или
случайно углядеть того статиста, что держит свечу, изображающую лунный
свет в сцене с участием Лоренцо и Джессики!36
Пощадите меня! Не дайте мне узнать неположенные секреты. Сцена не
любовница, которую мы непременно должны раздеть. Зачем подсматривать,
что скрывается за зеркалом моды? Зачем прокалывать отражающий
вселенную мыльный пузырь и превращать его в мыльную водичку? Доверяйте хоть
немного первым впечатлениям, оставьте что-нибудь на волю фантазии. Я
заметил, что крупным марионеткам настоящей сцены, которые сами играют
значительные роли, нравится забираться в ложи над сценой, откуда они
ничего как следует не видят, а только подглядывают за происходящим, как
сорока заглядывает в мозговую кость. Это так на них похоже. Именно так они
смотрят сверху вниз на жизнь человеческую, о которой ничего не знают. Они
видят выходы и уходы актеров и подозревают, что от них это пытаются
скрыть (они всегда думают, что их обманывают); краткое зрелище мелкого
масштаба завершается в каждой сцене, без связи с финальной катастрофой,
и трагедия жизни на их глазах превращается в фарс. Такие люди громко
смеются над пантомимой и восхищаются клоунами и шутами. Все остальное
им нипочем. Ложи возле сцены порождены презрением к сцене и здравому
смыслу. Частные ложи, напротив, следует оставлять для государственных
деятелей и видных дипломатических персон, которые стремятся не столько
привлечь общественное внимание, сколько избежать его.
XXIX
ОБ ОПАСНОСТЯХ
УМСТВЕННОГО ПРЕВОСХОДСТВА
Главная опасность, подстерегающая того, кто видит дальше и знает больше
других, заключается в непонимании со стороны окружающих. Вследствие
своего превосходства умник обыкновенно увлекается парадоксами, что
немедленно уносит его за пределы, доступные среднему читателю. Тому, кто
однажды пренебрежительно отозвался об одном весьма оригинально мыслящем
человеке, ответили следующим образом: «Он шагает так далеко впереди вас,
что совсем исчезает вдали»1.
Петрарка жалуется, что «природа сотворила его непохожим на других
людей» — «singular' d'altri genu»2. Огромное счастье — быть не лучше и не хуже
большинства окружающих. Если вы ниже их, они вас топчут; если выше, то
вскоре наталкиваетесь на обидное равнодушие ко всему, чем сами особенно
гордитесь. Какой смысл быть высоконравственным в ночном кабаке или
разумным в Бедламе? «Быть честным при том, каков этот мир, — это значит
быть человеком, выуженным из десятка тысяч»3. Так говорит Шекспир, и
комментаторы не прибавили, что в таких обстоятельствах человек скорее
станет жертвой клеветы, чем предметом восхищения. «Ну, как ты там,
особенный такой?»*'4 Это обычный ответ на все подобные притязания на
необычность. Поступая не так, как все, мы отрезаем себе путь к дружеским
отношениям и к тому, чтобы нас принимали в обществе. Мы говорим на другом
языке, у нас свои понятия обо всем — и обращаются с нами как с существами иной
породы. Нет ничего нелепее, чем навязывать свои возвышенные идеи толпе,
которая наверняка поведет себя так:
Дивятся все, когда среди волов
Неведомый выскакивает зверь,
Сильней и выше всех на сто голов,
И напугает хуже злых волков5.
* Ответ Джека Кэда человеку, который хочет повысить мнение о себе сообщением,
что умеет читать и писать. См.: Генрих VI. Ч. П.
XXIX. Об опасностях умственного превосходства
311
Непонимание — уже достаточная причина для страха, а страх вызывает
ненависть: отсюда подозрительность и злоба по отношению ко всем, кто
претендует на большую утонченность и мудрость, чем их ближние. Напрасна
надежда погасить эту враждебность простотой обращения или умением снизойти
до лиц низкого звания. Чем заметнее ваше снисхождение, тем больше они
будут себе позволять; станут бояться меньше, а ненавидеть больше; и тем
сильнее разовьется в них решимость отомстить вам за превосходство,
которое им остается непонятным да и вам самим внушает немалые сомнения. В
предельном смирении они увидят только слабость и глупость. Ни о чем таком
они и слыхом не слыхивали. Они всегда стараются протолкнуться вперед и
уверяют, что и вы поступили бы точно так же, если бы действительно
обладали приписываемыми вам изумительными талантами.
Вот почему вам лучше сразу начать разыгрывать из себя великого
человека — командовать, хвастать, бренчать красивыми словами и подавлять
других высокомерным аристократизмом; тогда вы принудите их проявлять
к вам уважение (пусть и внешнее) или простую вежливость; терпимостью и
добродушием вы не дождетесь от людей низкого звания ничего, кроме
откровенных оскорблений или молчаливого презрения. Колридж всегда говорит с
людьми о том, чего они не понимают, а я пытаюсь толковать о том, что
понимают, — и вызываю у них только недоброжелательство. По их мнению, я
думаю, что они больше ни на что не способны, что я не считаю нужным,
согласно известной поговорке, бросить собаке кость. Однажды я пожаловался
Колриджу на несправедливость людского неприятия, основанного только на
том, что я не выставляю свои таланты напоказ. Он сказал: «Коль скоро вы
выступаете в определенной роли, вам надобно оправдать свое право на это.
Всякому человеку тягостно признать над собой любое превосходство, пусть
и бесспорно доказанное, но еще тягостнее такое признание, если для него нет
явных оснований».
Самую большую ошибку допускает тот, кто надеется избежать столь
распространенных в нашем мире зависти, злобы, жестокости одним
отсутствием всяких претензий. Нет людей без претензий; и чем меньше претензий у
них самих, тем труднее им согласиться с вашими, не получив ничего
ценного взамен. Чем больше у человека знаний или чем лучше он овладел каким-
нибудь предметом, тем охотнее может он представить себе и принять ваше
превосходство над ним, равное его собственному превосходству над другими.
Однако стремление к совершенству не может вырасти из низменной, тупой,
однообразной клоаки невежества и вульгарности. Вы полагаете, что отлично
ладите с чернью, что отбрасываете чопорность педантизма и
претенциозности и влезаете в шкуру простого, невзыскательного добряка. Не тут-то было.
Покуда вы проявляете добросердечие и хотите вести себя свободно, они
пытаются выбить почву из-под ваших ног. Вы можете забыть, что вы писа-
312
Застольные беседы
тель, художник и тому подобное, но они не забывают, что сами ничего из себя
не представляют, и не теряют ни капли желания поставить вас в точно такое
же неприглядное положение. Они подмечают какую-нибудь деталь вашей
одежды; ваша манера входить в комнату необычна, говорят они; вы не
едите овощей — это странно; у вас есть какая-то привычная фраза, которую они
повторяют, пока она не становится дежурной шуткой; у вас серьезный или
больной вид; вы говорите или молчите больше обычного; у вас в кармане
пусто или густо — все эти мелкие, ничтожные обстоятельства, в отношении
которых вы похожи или непохожи на других, становятся статьями
обвинительного акта, составляемого этими людьми против вас, и объясняют
многочисленные противоречия сложившегося о вас мнения. У любого другого эти
мелочи никто бы и не заметил, но в человеке, о котором все так много
наслышаны, они кажутся совершенно непонятными.
Между тем все ваши действительные заслуги для таких судей ничто, ибо
они бессильны оценить их. Они хвалят книгу, которая вам не нравится, и
потому вы молчите. Вы советуете им посмотреть на картину, в которой они
не находят почти ничего достойного восхищения. Как убедить их в своей
правоте? Ведь вы не можете передать им свое знание и тем самым показать,
что виноваты они сами, а вовсе не картина! Они едва отличают полотно Кор-
реджо от обыкновенной мазни. Может это вас хоть сколько-нибудь сблизить?
Чем сильнее вы ощущаете разницу, чем глубже ее переживаете, чем
искреннее стремитесь выразить ее, тем неизмеримее расстояние между вами, тем
меньше у вас шансов привить им взгляды и чувства, о которых у них нет ни
малейшего понятия. Вы не можете научить их видеть вашими глазами, и им
приходится составлять свое мнение.
Интеллектуальная сила не похожа на физическую. Вы найдете понимание
со стороны других, только если пробудите в них желание понять вас. В
сущности, огромный перевес в знаниях не дает вам превосходства, то есть
власти над другими людьми, а лишь отнимает последнюю возможность
произвести на них хоть малейшее впечатление. Где же тогда ваши преимущества?
Может быть, вам лично они приносят удовлетворение, но в то же время и
расширяют пропасть между вами и обществом. На каждом повороте вас
поджидают камни преткновения. Все, чем вы более всего гордитесь и
наслаждаетесь, недоступно восприятию толпы. То, что нравится ей, безразлично или
противно вам. Какое испытание проходит наше терпение, какой болезненный
удар достается нервам — видеть компанию невежд, листающих альбом с
гравюрами разных мастеров: они восторгаются какой-нибудь пустяковой
банальностью, оставляя без внимания божественные выражения лиц либо
высказывая нелепые замечания по их поводу. В таких случаях бесполезно
волноваться, спорить, протестовать. Так разве не лучше обойтись без всех этих знаний,
заставляющих относиться к людям с излишней придирчивостью, — и получать
XXIX. Об опасностях умственного превосходства
313
или не получать удовольствие, как придется, — чем по указке других дивиться
недостаткам или достоинствам первых попавшихся произведений? Я был бы
рад променять мое знакомство с картинами, книгами и уж конечно с той
частью человечества, что мне известна, на чужое невежество, был бы рад
ничего не знать о них!
В жизнеописании некоего достойного человека (запамятовал его имя)
говорилось, что он был из тех, кто любит гостеприимство и уважение. Я
притязаю на принадлежность к тому же разряду людей. Высоко ценю
вежливость. Люблю скромное угощение и беззаботную праздную болтовню. Не
желаю быть всегда разумным или даже стремиться к разумности. Мне
слишком много приходится возиться с литературными темами и интригами, с
критиками, актерами, с сочинением очерков, чтобы заниматься ими еще и на
досуге, в любой компании. В обществе мне нравится слыть весельчаком, и
доброжелательность — вот все, чего я прошу от собеседников. Я не хочу
непременно задавать себе и другим вечные вопросы о судьбе, свободе воли,
абсолютности предвидения6 и тому подобном. Мне иногда нужно
расслабиться, ни о чем не думать. Говорить мне тогда приятно только о том, какая
погода сегодня и какая скорее всего будет завтра, ясная или дождливая. Вот так,
на мой взгляд, следует наслаждаться otium cum dignitate*, каковой обязан
быть целью и привилегией жизни, отданной серьезным занятиям.
Я бы с удовольствием предался такому беззаботному равнодушию, но, по-
видимому, не умею. Я должен выдвигать определенные требования, весьма
отличные от моих желаний. Я должен всегда быть готов к обороне, вечно
принимать вызов — или совершенно выйти из игры. «Я не хвалить привык,
а придираться»7 Пока я спрашиваю себя, который час или как это я вдруг
умудрился допустить ошибку в хорошо мне известной цитате (как будто бы
ошибся нарочно), другие уже начинают думать, что я и впрямь такой
тупица, как люди иногда говорят.
Мелкий дождик барабанит в окно, напоминает мне тихий весенний дождь,
от которого я двадцать лет тому назад спрятался в маленьком кабачке
возле У эма в Шропшире8 и там, глядя, как цветы и кустарник у дверей
впитывают росистую влагу, выпил залпом стакан искрящегося пива и отправился
домой в пору вечерних сумерек, сверкавших для меня тогда ярче
нынешнего полуденного солнца. Стоит ли мне предаваться этим чувствам? Да вряд ли.
Меня спрашивают, что слышно, и удивляются, когда я отвечаю: не знаю. Если
появилась новая актриса, почему они думают, что я обязательно видел ее?
Если вышел новый роман, почему я непременно должен был его прочесть?
Одно время я ходил перекинуться в карты с приятелем, а затем мы вместе
поглощали холодную говядину, сопровождая это действие томными коммен-
* «покоем в сочетании с достоинством»9 (лат.).
314
Застольные беседы
тариями; такой отдых был мне весьма по душе; но надолго всего этого не
хватило.
Я выдвигал не так уж много притязаний, и потому у меня отобрали
право даже на эту малость. Поскольку я никогда сам и не заикался о
сочинительстве, меня постоянно им попрекали. Зная о моем трудном положении, мой
друг вознамерился забить пару очков в игре и злился, когда я оказал
сопротивление. Если выигрывал я, он был недоволен тем, что потерпел поражение
в битве с писателем; если побеждал он, то подразумевалось, что было бы
странно, ежели бы он не играл лучше меня. Когда я упоминал мою любимую
игру — теннис, наступало общее молчание, как будто речь шла о каком-нибудь
пороке. Если жаловался на болезнь, меня спрашивали, как я себя до этого
довел. Коли говорил, что такой-то актер хорошо исполнил свою роль, мне
сообщали, что в некой газете его игру оценили иначе. Ежели в разговоре
упоминали того или иного литератора, собеседники с трудом подавляли
улыбку. Когда я рассказывал смешную историю, трудно было разобрать, над чем
смеются — надо мной или над моим рассказом. Жена друга сердилась на меня
за мое некрасивое лицо, а слуги — за то, что я не всегда мог достать им билеты
на спектакль, и за то, что не понимали его смысла. Если в газете появлялась
заметка с отрицательными отзывами на какие-нибудь мои произведения, она
всегда поджидала меня на столе, и мне предстояло вновь стать мишенью для
издевательских насмешек. Я терпел это сколько мог, но потом просто
махнул на все рукой.
Одно из печальных следствий, которые влекут за собой претензии на
незаурядный ум, заключается в том, что девять из десяти ваших знакомых не
понимают: то ли вы самозванец, то ли честный малый. Я всегда боюсь, что
некоторые анонимные критические замечания на мой счет дойдут до ушей
слуг в посещаемых мною домах либо до моего сапожника или шляпника —
ведь они, естественно, не могут знать, справедливо меня бранят или нет.
Невежество окружающих бросает нас им на растерзание. Есть люди, чьим
добрым мнением и отношением вы дорожите независимо от своих
литературных претензий, и очень обидно из-за дурного отзыва (опровергнуть каковой
вам не представляется возможным) потерять репутацию, которую не
приобрести и при положительной заметке.
После отповеди по моему адресу в «Ежеквартальном обозрении»
(выписываемом джентльменом, который живет в моей прежней квартире на втором
этаже) хозяин дома приносит мне счет (довольно старый) и на предложение
оплатить его частью деньгами, а на остальное выдать вексель, отрицательно
качает головой и говорит, что вексель его вряд ли устроит. Затем входит его
дочь и на мое упоминание вскользь о расписке говорит очень серьезно, что
векселя чуть не разорили ее отца. То был удар из всех ударов злейший10.
Напрасно стал бы я объяснять, что издание, в котором меня ругают, относится к
XXIX. Об опасностях умственного превосходства
315
разряду проправительственных и служит органом одной из политических
партий. Эти люди ничего о том не ведают. Они знают только, что против
меня выдвигаются такие-то и такие-то обвинения, и, чем больше я стараюсь
опровергнуть их, тем сильнее верят, что в них есть доля истины.
Быть может, владельцы моего дома закоренелые тори — агенты
правительства. Я ли должен просвещать этих невежд? Скажи я, что однажды написал
нечто под названием «Попугай принца Мориса»11 или «Эссе о характере
королей»12, что в первом подразумевается благородный маркиз, а во втором —
лицо еще более высокого звания (говорят, меня именно так истолковали) и
что мистеру Крокеру велено покарать меня, ни владелец дома, ни его дочь
не смогут и вообразить, какова связь между мною и столь видными особами,
предметами моих нападок. Объяснение ничего не даст. Таковы страдания,
вьшадающие на долю тех, кто в своих притязаниях выходит за пределы,
доступные простым смертным, тех, кого не поддерживают всем понятные
внешние символы — богатство и высокое общественное положение.
Дерзкое восхищение почти столь же невыносимо, как демонстративное
презрение. Как-то раз человек, которого я никогда раньше не видел, во
время обеда совершенно замучил меня вопросами о том, какие статьи я написал
для «Эдинбургского обозрения». В конце концов я даже устыдился, что
приходится признаваться в своих великолепных грехах таким образом. Другие
находят какое-нибудь сочинение, вовсе и не вами написанное, и уверяют, что
никто кроме вас не мог его написать. Они, дескать, могут определить ваш
стиль по самой первой фразе. Ну а мне крайне неприятно, когда мой стиль
так легко узнают, потому что мне претит любая индивидуальность. Худшего
комплимента от этих низких подхалимов я не мог бы услышать.
Есть еще и такие, которые непременно читают все вами написанное (это
отвратительно), а другие, и это куда хуже, одалживают ваши произведения
приятелю, всякий раз, как только их получают. Они прекрасно знают, что вы
думаете о том и о сем, ибо не раз слышали ваши замечания. К тому же они
ценят вас больше как человека, чем как писателя. В обычной беседе вы
изъясняетесь гораздо лучше, чем когда стремитесь произвести впечатление. Еще
кто-то сообщает вам, какие недостатки, по слухам, обнаружились в вашей
последней книге и как он защищает ваш стиль от обвинений в туманности. А
один из моих друзей как-то сказал мне, что поссорился с близким
родственником, который не хотел признавать, что я умею правильно писать
простейшие слова. Такие утешительные доверительные сообщения часто выпадают
на долю авторов, у которых есть друзья и защитники.
Некий джентльмен однажды поведал мне, что одна дама усматривает
грамматическую ошибку в употребляемом мною слове «учёнее». Он выразил
сожаление по поводу допущенной небрежности, но предположил, что
упомянутая дама, возможно, настроена против меня, поскольку ее муж состоит на
316
Застольные беседы
правительственной службе. Я поискал это слово и нашел его в эпиграфе из
Батлера13. Замечание меня задело, и я попросил того господина передать
прелестному критику, что виноват не я, а некто гораздо более остроумный,
ученый и лояльный, чем я. А некоторые вытаскивают из ваших сочинений
самые банальные фразы и поют им безудержную хвалу — или берут самые
лучшие страницы ваших книг и говорят вам (дабы показать, сколь высоко
ценят ваше дарование), что они абсолютно неудачны.
Лэм обладает даром находить (или, он бы сказал, ощущать) вкус в самом
пресном; а Ли Хант ухитряется отвернуться от самых лакомых кусочков,
которые вы кладете на его тарелку. Иных молодцов никак не обгонишь. Как
ни лезь из кожи вон, они справляются лучше; добейся любого успеха, они все
равно полагаются только на свое мнение и ставят его выше похвалы света.
Однажды я показал одному такому спесивому человеку14 (признаюсь, с
немалым торжеством) крайне лестное письмо из Рима от знаменитого графа
Стендаля15. Он вернул его мне с равнодушной улыбкой и заявил, что сам
позавчера получил письмо из Рима от своего друга Шелли! Думаю, что это
«получилось довольно некстати»16. Годвин утверждает, что, кроме письма к Ветусу17,
все остальные мои сочинения гроша ломаного не стоят, и особенно неудачны
у меня эссе, а впрочем — всё, что невелико по объему.
Что делать в таких случаях? Хотите, я признаюсь в одной слабости?
Единственное спасение от этих обид и неудач я вижу в случайном внимании и
невольном знаке уважения со стороны незнакомца. Я чувствую силу Гораци-
ева digito monstrari* — мне приятно, когда на меня кто-то указывает на улице
или когда на площадке у мистера Пауэлла спрашивают, который тут мистер
Хэзлитт. У меня при этом такое чувство, будто я вырастаю. Повторение
вашего имени звучит как музыка, волнует кровь, как звук трубы. Вы видите,
что людям интересно взглянуть на вас, что они о вас думают и неведомо для
вас интересуются вами. Вы чувствуете, что вам есть на что опереться, и это
улучшает ваше жалкое, боязливое, скудное мнение о себе.
Ваш до крайности утомленный дух нуждается в сердечности, а голова —
в отдыхе от унылых абстрактных рассуждений. Оказьшается, вы что-то собой
представляете и благодаря тому, что занимаете место в чужих мыслях,
можете меньше презирать себя. Вы уже лучше подготовлены к тому, чтобы
противостоять предвзятым мнениям и грубой брани. Приятно, когда, чтобы
вас опровергнуть, цитируют ваши собственные мысли и охотно повторяют
ваши изречения как удачные афоризмы. Я как-то разговорился в партере с
одним умным человеком и критически высказался об исполнении мистером
Найтом роли Филча18. Мой собеседник ответил: «Эту роль должен был играть
малыш Симмонс», — и добавил: «О его игре великолепно написали в "Экза-
* Букв.: показывать пальцем (лат); здесь: ...прохожим знаком я становлюсь теперь»19.
XXIX. Об опасностях умственного превосходства
317
минере" (кажется, именно там), 4TOjy него такой вид, будто одним глазом он
смотрит на виселицу, а другим — на хорошенькую девушку»20. Я ничего не
ответил, но остаток вечера провел в отличном настроении.
Мне редко приходилось бывать там, где обсуждалась игра в мяч21, но во
время одного из разговоров об этом кто-то спросил: «Кто-нибудь видел очерк
о некоем Каване — он был опубликован не так давно во многих газетах?22
Известен ли автор?» Такие мгновения представляют собой серьезное испытание.
Однажды я одержал победу над лицом, которого не назову. Дело было так.
Я упомянул Бёрка и стал выражать безудержный восторг его талантом, когда
тот джентльмен прервал меня и сказал, что, по его мнению, Бёрка сильно
переоценивают, а затем небрежно добавил: «Вы читали его литературный
портрет в последнем номере "Эдинбургского обозрения"?»23 — «Я написал его!»
Тогда я не мог удержаться от такого заявления, но потом устыдился своей
внезапной раздражительности. Правда, меня-то никто никогда не щадит.
Мы знаем любителей разыскивать известных людей и навязываться им с
целью (как все думают) разузнать как можно больше про их слабости, с тем
чтобы потом предать их. Так обычно кажется со стороны, но истина и
подлинное знание человеческой природы отвергают подобное толкование.
Лизоблюды и подхалимы необязательно предают и изменяют с заранее
осознанным намерением. Они склонны поначалу к безмерному восхищению и, только
когда не находят достаточно пищи для удовлетворения своего болезненного
аппетита, начинают испытывать отвращение к предмету своего благоговения.
В наказание за свою доверчивость они напрягают ум, выискивая у кумира
недостатки, и радуются, когда преуспевают в этом лучше, чем в обожании.
Новое занятие «живит, веселит, полно слухов и россказней»24. Они
обнаруживают недюжинные способности — удивляться и бояться. Для проявления
первой и удовлетворения ненасытной жажды чуда требуются все новые и новые
предметы восхищения; вторая заставляет их подчиняться той власти, где в
данный момент оказалось переходящее знамя; они всячески подлизываются
к деятелям любой партии и готовы предать кого угодно по слабости или из
подобострастия. Не думаю, что такие люди преисполнены дурных намерений.
Когда дело касается меня, я могу равнодушно взирать на подобные
бесчинства. Они возмущали меня больше, когда набрасывались на других и тем
самым позволяли мне точнее оценить степень их вредоносности и выплывшие
наружу бессердечие и полную глупость.
Незаурядные умственные способности вряд ли нравятся женщинам;
встречаясь с подобным, дамы приходят в недоумение и отвлекаются от
основного вопроса. Если ученые говорят с дамами о том, что тем понятно,
слушательницы от этого нисколько не умнеют; если говорят о другом, то лишь выдают
собственную глупость. Разговор между Анжеликой и Форсайтом в пьесе
«Любовь за любовь»25 может считаться отличным образцом подобной неис-
318
Застольные беседы
товой чепухи: пока он странствует среди знаков зодиака, она на цыпочках
стоит на земле. Давно замечено, что поэты не очень удачно выбирают
возлюбленных. Думается, дело тут не в выборе, а в необходимости. Если бы им,
подобно турецкому султану, довольно было только бросить платок26, пред
нами предстали бы не смертные, а богини, и все они, припадая к стопам
стихотворцев, воскликнули бы, подобно ионийской деве лорда Байрона:
Меня всегда найдешь с тобою рядом
И в этом мире, и в другом, коль есть он27.
Но нет! Таких очаровывают и уводят к себе обыкновенные смертные, в
которых нет ничего неземного, и посему поэт, для которого любовь и
красота неразлучны, как сон и сновидения, живет в напрасной надежде на
истинное чувство и наряжает первую сжалившуюся над ним Дульсинею в яркие
одежды фантазии. Какой прок жаловаться, если иллюзий хватает на всю
жизнь и радуга все еще проглядывает сквозь облака!
Хотелось бы по возможности исправить одну ошибку. Когда литераторы,
художники и им подобные терпят неудачу в ухаживании за женщинами
высокого происхождения, они думают, что высокородные дамы пренебрегают
ими из-за бедности, и появится больше надежды на успех, стоит только
опуститься пониже, где будут ценить лишь достоинство и таланты. Нет! Дело
обстоит еще хуже. Неудовольствие дам вызывают не денежные дела
воздыхателей, а они сами — отвлеченность их мышления, рассеянность, невнятные
романтические идеи. Образованные женщины хотя бы могут уловить
проблеск их мысли, подобрать ключ к их характеру, но для всех прочих их душа
потемки.
Там, где хозяйка улыбается в ответ на галантное ухаживание поэта,
горничная громко расхохочется, выльет на него ушат воды, заставит свою
сестричку подслушивать разговоры, пошлет своего милого спросить о намерениях
новоявленного поклонника, натравит на беднягу всю деревню или целый
дом28. Ухаживание обернется фарсом, комедией, сделается неистощимым
поводом для шуток на целый год — пока секрет не узнают все. Поэтов (и
ученых) нужно под присягой, принесенной в Хайгейте29, заставить
отказаться от женщин низкого звания. Горничные и прислужницы в меблированных
комнатах им не пара. Пусть лучше попробуют завоевывать наследниц
огромных состояний или светских дам. Последние хотя бы придерживаются о себе
высокого мнения, достойного некоторых эпитетов, расточаемых пишущей
братией. Они настолько же выше обыкновенных смертных, как ваши мысли,
ученые и поэты! Зато с жизнью низших классов, с присущим им лукавством,
невежеством и хитростью у вас нет ничего общего. Если вы думаете, будто
добродушие и здравый смысл помогут вам добиться там компромисса или
XXIX. Об опасностях умственного превосходства
319
победы, то, кто бы вы ни были, лучше прислушайтесь к дружескому
предостережению и своевременно откажитесь от неравного боя.
Как я уже сказал, ученым не справиться со служанками — и точно так же
джентльменам не одолеть негодяев. Первые — люди чести, действуют без
обмана, последние извлекают из этого всевозможные выгоды и ни о каких
принципах и слыхом не слыхивали. Просто диву даешься, как быстро
человек без образования учится жульничать. Он непроницаем для лучей
свободного знания, его разум
Звезды ярчайшей луч не победит30,
но он усваивает всевозможные фокусы, уловки, мошенничество,
крючкотворство, благодаря которым рассчитывает добиться всего. Правда, миссис Пичем
говорит, что для успеха за карточным столом нужно благородное
воспитание31. Не знаю, противоречит ли этот пример моей теории. Мне
представляется бесспорным, что дельцов не надо ничему учить. Тот, у кого в голове нет
никаких посторонних мыслей, почти наверняка сумеет разбогатеть.
Университетское образование или напряженное изучение абстрактной истины не
поможет заключить сделку, кого-нибудь надуть или даже самому уберечься
от обмана.
Как говорит Шекспир, красивое лицо — плод занятий долгих, но умение
читать и писать — дар природы32. Значит, можно предположить, что жуликом
человек становится милостью судьбы, но, чтобы с выгодой корчить из себя
дурака, надобно быть ученым. Самые лучшие политики — отнюдь не те, кто
глубоко изучил математику или этику. Правила препятствуют
целесообразности. Усвоенные с ранних лет принципы нравственности многим
разрушили будущность и тем самым обрекли их на вечное сожаление. Один
проницательный человек сказал про моего отца, что ни за что не послал бы
своего сына учиться у него, ибо, научив мальчика правдивости, мой отец на всю
жизнь лишил бы его возможности заработать себе на хлеб.
Вряд ли нужно приводить примеры в доказательство того, что самые
оригинальные и глубокие мыслители необязательно добиваются успеха или
известности на поприще сочинительства. Это не просто временное затруднение:
многие великие философы не только встречали пренебрежение при жизни,
но и были забыты немедленно после смерти. Достаточно вспомнить Гоббса.
Однако не хочется углубляться в самоочевидные доводы. Мне кажется, я
сказал достаточно, чтобы устранить видимость парадокса, заключенного в
заглавии этого очерка.
XXX
ПОКРОВИТЕЛЬСТВО И РАСХВАЛИВАНИЕ
Успокоитель, прозванный тщеславьем1.
Спенсер
Одна дама сетовала в разговоре с моим другом на доверчивых людей,
клюющих на рекламу чудодейственных лекарств, и недоумевала, как такое хоть
кого-то может обмануть, — вот она, например, раз в жизни купила за
полгинеи бутылку «Эликсира жизни» доктора , и это ей ничуть не помогло.
Этот курьезный случай весьма наглядно показывает, почему доктору
выгодно рекламировать свои товары во всех газетах королевства. Он, без сомнения,
был бы вполне удовлетворен, если бы каждый* щепетильный и скептически
настроенный инвалид во владениях его величества хоть один раз испробовал тот
эликсир — пусть даже с целью доказать всю нелепость претензий доктора. Мы
нарочито смеемся над глупостью тех, кто верит в рекламируемые снадобья «от
всех болезней», но всегда хотим лично проверить их действенность.
В душе человеческой очень сильно стремление тешить себя тайными
надеждами, лелеять уверенность в том, что мы уж точно составляем счастливое
исключение, хотя рассудок, может быть, говорит нам о примитивности
самообмана; к тому же слова, выстроенные в правильные предложения и
напечатанные крупными буквами, обладают удивительной силой убеждения — пока
нет явных доказательств их лживости. Люди невежественные и праздные
верят прочитанному, подобно шотландским философам, использующим
свидетельства своих органов чувств для доказательства существования
материального мира и для других ученых теорий2. В обоих случаях хватает только
зрительного впечатления.
В той же степени, в какой лицемерие считается высшей данью
добродетели, искусство лгать есть сильнейшее признание могущества истины. Нам
трудно поверить, что перед нами ложь, даже когда мы это знаем.
Откровенное расхваливание3, даже когда оно названо рекламой на страницах газеты
XXX. Покровительство и расхваливание
321
«Тайме», требует известного внимания и уважения к возвещаемым
достоинствам, хотя мы и думаем, что человек, претендующий на благосклонное
внимание и поддержку публики, придумал (быть может) не самый оригинальный
способ представить эти достоинства миру. Все-таки что-то в этом, пожалуй,
есть, и даже при возмутительном неправдоподобии и крикливости реклама
поражает и вызывает желание разузнать побольше, ибо мы думаем, что у
автора вряд ли хватило бы наглости писать такие бесстыдные нелепости без
малейшего на то основания.
Такова сила соотношения между словами, с одной стороны, и вещами и
явлениями в нашем сознании — с другой, — наше доверие чаще оказывается
оправдано событиями, чем обмануто. Если бы половина всего, что нам
доводится слышать, была чистой выдумкой, мы бы утратили привычку без
размышлений верить в смысл воспринимаемых звуков — так же как,
повстречавшись не раз с фальшивыми монетами, начинаем подозрительно
рассматривать и настоящие. Наше безоговорочное согласие с тем, что мы слышим,
доказывает, что в отношениях между людьми, взятых в их совокупности,
больше честности и добросовестности, нежели хитрости и обмана.
«Возвысить и удивить»4 — вот где великое искусство дутой рекламы и
шарлатанства; создать в сознании живой преувеличенный образ, изумиться,
прежде чем успеем опомниться, ибо, попав в ловушку, мы уже до конца не
захотим пойти на попятный, — за всем этим стоит тайное желание утвердить
свою правоту и решимость подвергнуть ее проверке. Опишите какую-нибудь
картину словами «величественная, впечатляющая, возвышенная» — они
вызывают в нашем сознании такие же представления, как трубные звуки,
которые можно заглушить, только если мы увидим ту самую картину — и то при
условии, что будем смотреть на нее без помощи каталога, написанного самим
художником. Вряд ли бы он сам сказал такие слова о своей картине, если бы
они уже не были широко приняты; и он просто повторяет их, исходя из
этого мнимого допущения, пока с ними не согласится весь мир*.
Так репутация вращается в порочном кругу, а достоинства хромают ей
вслед, уязвленные и пристыженные собственной незначительностью. Говорят,
что проверкой славы или известности служит число повторений вашего имени
другими людьми или количество упоминаний его в течение года. Коли так, то
каждый держит свою репутацию в собственных руках и с помощью
навязчивой рекламы и прессы вполне может опередить глас потомства и поразить
непритязательный слух5 современников. Имя, которое у всех на слуху, да еще
и в сопровождении хвалебных эпитетов, заставляет вздрогнуть, как
пистолетный выстрел прямо у вашего уха. Оно поневоле действует на воображение,
* Подсчитано, что Уэст выручил несколько сот фунтов благодаря каталогам,
посвященным его великой картине «Смерть верхом на бледном коне»6.
322
Застольные беседы
хотя вы знаете, что на самом деле за ним ничего не стоит — vox et praeterea
nihil*. Поэтому, если одно и то же имя, написанное крупными буквами,
бросается вам в глаза на каждом углу, то вы невольно подумаете: владелец его,
должно быть, — великий человек, раз занимает в городе так много места.
Расчет в этих случаях делается прежде всего на то, чтобы поразить слух и
зрение, но затем это первое впечатление проникает в глубины сознания. Есть,
правда, и такие, кто обнародует собственный позор и превращает свое имя в
надоевшую всем притчу во языцех, ибо гоняется за любой, даже дурной
славой. Шарлатан может втихаря добиться, чтобы его именовали «доктор» или
«сэр»; и пусть все смеются ему в лицо, внакладе он не остается. Пароль со
своим барабаном7 может служить прообразом многих современных
авантюристов, придворных искателей незаслуженных лавров и беззастенчивых
претендентов на несправедливые почести. Из всех видов зазывной рекламы реклама
лотерей наиболее оригинальна и невинна. Собрание таких объявлений
составило бы забавный vade mecum**. Они и не похожи друг на друга и похожи:
бесконечной хитростью с самого начала убаюкивают подозрительность
читателя, затем незаметно вкрадываются в доверие, а в заключение — верным
ударом по главной страсти все наличные деньги, вопреки твердому решению,
извлекаются из карманов с помощью всем известного, набившего оскомину,
тысячу раз повторенного фокуса — «Все выигрывают, проигравших нет»8.
Обман здесь вполне очевиден, и тем не менее трудно найти более сильное
доказательство, что кое-кто умеет завораживать умы сугубо зрительными
впечатлениями. Я знаком с джентльменом, который составил значительное
состояние (у него свой выезд), печатая лотерейные афиши и плакаты
огромной величины. К другому моему приятелю (весьма способному человеку)
обратились с просьбой регулярно за неплохие деньги сочинять рекламу лотереи
для крупного игорного дома в Сити;9 когда ему вернули целый ворох
предложенных образцов — за чрезмерную сдержанность и сжатость слога, он
довольно забавно пожаловался, что скромные таланты не имеют успеха. Даже
лорда Байрона, по его собственным словам, обвиняли в сочинении рекламы
для лотерей.
Известно немало способов выставиться перед публикой и сохранять свое
имя у всех на слуху. Газеты, фонарные столбы, стены пустых домов, оконные
ставни, обложки журналов и обозрений открыты для всех. Я слышал недавно
об одном знаменитом литераторе, который сидел у себя в кабинете и писал
самому себе укоризненные письма по поводу крупных недостатков только что
опубликованной им программы образования, залежавшейся в книжных
лавках. А другой притворился мертвым, чтобы узнать, что напишут о нем в га-
* «Голос и больше ничего»10 (лат.).
* Букв.: иди со мной (лат.); здесь: путеводитель.
XXX. Покровительство и расхваливание
323
зетах, и тем самым вызвать сенсацию. Кричащий памфлет выдержал
тридцать пять изданий и таким образом обеспечил писателю «бессмертья срок»11
среди политических шарлатанов, ибо каждую очередную сотню проданных
экземпляров сопровождал новый титульный лист. Какая гадость!
Сейчас распространено ошибочное представление (я опровергну его
здесь), будто в ведущих журналах статьи о сочинителях печатаются за деньги.
Это отнюдь не так. Благоприятный отзыв о писателе, актрисе и так далее
может появиться из интереса или желания услужить другу, но это делается
исключительно по любви, а не за деньги).
Когда мне в прошлом доводилось иметь дело с такого рода
критическими приговорами12, я обычно выходил из игры, если требовалось нежное
обращение с дебютантом, имевшим связи при дворе. В отношении остальных,
отличавшихся более крепким сложением, я мог поступать по своему
усмотрению. Иногда я, конечно, пускался во всю прыть. Бедняга Пэрри! Как горько
он сетовал, что из-за моих бешеных нападок на лордов и шотландцев ему
некуда сходить пообедать! В эти минуты его лицо принимало такое жалостное
выражение, как будто он боялся, что вскоре во всем мире у него не
останется ни единого друга.
Как отчаянно мы спорили по поводу Кина и мисс Стивене, моих
единственных любимцев среди актеров! Миссис Биллингтон вообразила, что из мисс
Стивене никогда не выйдет певица, а для Пэрри (как он мне признался) мукой
всей жизни было привести двух людей к согласию хотя бы по одному
вопросу. Никогда не забуду, как принес ему свою рецензию на первое выступление
мисс Стивене в «Опере нищих»13. У меня особая причина помнить эту статью:
после нее я, пожалуй, ни одной не написал с таким живым удовольствием.
Перед тем я гостил у своих друзей недалеко от Чертей14, а на обратном пути
остановился в гостинице в Кингстоне-на-Темзе, где заполучил либретто
«Оперы нищих» и за одну ночь его прочитал. На следующий день я весело
отправился в Лондон. Стояла поздняя осень, занималось прекрасное, солнечное
утро. Напевая прелестную песенку «Весны возврат неведом нам»15, я
обдумывал свою завтрашнюю критическую статью и изо всех сил старался воздать
должное столь увлекательной теме. Я заранее гордился своей статьей. Тогда
я только начинал робко переносить свои чувства на бумагу — словно бы
переживал медовый месяц писательства. Однако вскоре после этого мои последние
надежды на личное счастье и на свободу человечества померкли почти
одновременно16, и с тех пор я ни в чем не находил отрады.
Сама любовь мне радость не несет17
Но все было не так десять лет назад (десять коротких лет, — ах, как
быстро бегут годы, уносящие нас от последних светлых мечтаний о счастье!), когда
324
Застольные беседы
я бродил в твоих зеленых рощах, о Твикенам18, и разглядывал (с
восторженным наслаждением) пестрые картины жизни, написанные одним из твоих
любимцев! После полудня я отнес рецензию на пьесу в редакцию «Морнинг
кроникл» и пошел посмотреть на мисс Стивене в роли Полли19. В те
благословенные времена она только начинала играть эту роль, только-только
появилась в «Мандане»20, где пела прелестную арию «Когда б любовь, тиран
жестокий» (ее теперь никто не может так спеть!), а также впервые выступила в
спектакле «Деревенская любовь»21, где действие открывалось появлением ее
и мисс Мэтьюз среди декораций сада с кустами роз и жимолости, и
«Надежда, желания мать»22 звенела то в одном, то в другом прелестном голосе. О,
если б слух мой еще мог хоть изредка на мгновение наполняться в мыслях и
мечтах этими сладкими звуками, напоенными ароматом юности, здоровья и
радости, я бы никогда не стал жаловаться на жизнь!
Когда я вернулся после представления, Пэрри свойственным ему
скрипучим голосом спросил участливо: «Ну, как она справилась?» — и, услышав мою
высокую оценку, сказал, что обедал со своим другом, герцогом, что разговор
коснулся этой темы, и ему кажется, что, по мнению герцога, исполнение
оставляло желать лучшего, подлинный стиль sostenuto* не был выдержан как
полагается, но раз я написал статью (он небрежно потряхивал моими
разглагольствованиями об «Опере нищих»), может быть, все и сойдет! Я заметил,
что старый плут при этом облизывается, воображая, что с помощью моей
статьи уже «в глазах народа облекся золотым нарядом славы»23. На другой
день я с удовлетворением увидел, как мисс Стивене выходит из комнаты
редактора, которого явилась поблагодарить за весьма лестный отзыв.
Меня послали посмотреть первое выступление Кина в роли Шейлока24,
когда в партере было всего около ста человек, но после его мастерского,
вдохновенного исполнения первого поразительного монолога «В такой-то день...
назвали псом»25 и т. д. я понял, что это все пустое. Так и было сказано в
«Кроникл», но Пэрри все время нападал на меня — как другие нападали на него, —
твердя, что Кина хватит ненадолго. А я держался и говорил, что надолго, и
пока что я прав. Кто-то имел глупость заявить, будто успех Кина создан в
«Кроникл». С разрешения читателей я хотел бы сказать, что ни одна газета
не создает успех или провал актера.
Писателя критики могут расхвалить и сделать заметной фигурой либо
уничтожить — потому что его книгу прочли немногие. Художника можно
переоценить или незаслуженно разбранить, потому что публика не очень
привыкла смотреть и обсуждать картины. Но актера судят равные ему —
зрители, и он торжествует или гибнет только благодаря своим достоинствам
или недостаткам.. Критик способен задать тон или даже получить решающий
* сдержанный [urn).
XXX. Покровительство и расхваливание
325
голос, когда мнения публики расходятся, но он не более властен
насильственно изменить это мнение в ту или иную сторону либо вынуть из-под него
фундамент, на котором оно создается — здравый смысл и чувство, — чем
сдвинуть с места Стоунхендж26. У мистера Кина имелись, однако, физические
изъяны, и он вызывал сильное предубеждение27, поэтому либеральная и
независимая пресса, пожалуй, в известной степени помогла ему добиться
расположения публики. Да сохранит он его надолго, не утрачивая достоинства
и твердости!*
Ковент-гарденские критики, а с ними и другие, в то время считали, что
своей популярностью мистер Кин обязан только новизне, благодаря которой
вошел в моду, что вызванные им страсти напоминают всеобщее безумие по
поводу игры мастера Бетти и так же быстро прекратятся. Это сравнение не
выдерживает критики. Игра мастера Бетти изумляла и привлекала толпы
народа только своей необычайностью для мальчика. Мистер Кин вступил на
сцену взрослым, и не было ни правил, ни законов природы, запрещающих
другим актерам соревноваться в трагическом величии с Джоном Кемблом.
К тому же игра мастера Бетти была явлением особенным и столь же
прекрасным, сколь особенным. Я видел его в роли Дугласа28, и он казался «веселым
детищем стихий»;29 его движения отличались изяществом и гибкостью
юности, а тихое эолово звучание его голоса — жалобной нежностью.
Никогда не забуду, как он повторял строку из рассказа молодого Норва-
ла о судьбе двух своих братьев:
По-моему, был счастлив тот, кто умер!30
Слова звучали словно пророчество. Может быть, зрители преувеличивали
необыкновенность его исполнения. Мальчики в том возрасте часто играют
замечательно и безусловно не лишены природного изящества, равно как
чудесного голоса. Школьники Вестминстера31 составляют лучшую актерскую
труппу, чем те, что играют в большинстве наших театров. К тому же я не
вижу ничего трудного в роли, подобной роли Дугласа. Я и сам в школьные
годы с должной выразительностью и чувством32 читал монолог по книге
Энфилда33 и примерно в том же возрасте воспринял дикое очарование чувств,
описанных в «Романе о лесе» миссис Радклиф, с такой же живостью, с какой
* Не знаю, что бы с ним стало, если бы некий мистер Мадфорд, толстый
джентльмен, которому бы вряд ли «понравился этот тощий, голодный Росций»34, продолжал
занимать место в театральном отделе газеты мистера Пэрри во время первого
выступления Кина. Меня же определили на эту должность незадолго до того, и впоследствии
спрос на скромное дарование мистера Мадфорда был невелик. Вот почему он то и дело
настойчиво сообщает читателям «Курьера», что из моих писаний никто и слова понять
не может.
326
Застольные беседы
бы воспринял его теперь. Однако неоднократные попытки повторить опыт с
другими юными исполнителями до сих пор неизменно терпели неудачу*.
Вскоре после этого Колридж вернулся из Италии35 и однажды
разразился длинной тирадой о том, что выступление Бетти — сплошной фарс, что за
границей все поражены наивной доверчивостью англичан, всегда готовых
попасться на крючок всяческих шарлатанов, и что там все недоумевают, как
люди, хоть сколько-нибудь претендующие на здравый смысл, могут даже на
мгновение предположить, будто мальчик способен исполнять роли взрослых
мужчин, не имея ни малейшего представления об их познаниях, опыте и
страстях. Мы робко пытались возражать, но напрасно. Тогда заговорили о другом,
и Колридж пустился в преувеличенных выражениях расхваливать одного
многообещающего юношу, сына английского художника, с которым
познакомился в Италии и много странствовал по Кампанье;36 его талант, уверял нас
Колридж, вызвал в Риме всеобщее восхищение, ибо даже ранние его
рисунки отличаются истинно рафаэлевскими изяществом и чистотой линий. В
конце концов один из нас прервал бесконечный рассказ несколько
раздраженным замечанием: «Ба, да вы буквально только что убеждали нас не верить
свидетельству собственных глаз и ушей о способностях юного Бетти лишь
потому, что у вас есть теория, отрицающая возможность появления
скороспелых талантов. А теперь вдруг сами придумали чудо-мальчика, о котором
кроме вас никто и знать не знает, юного художника, который, если верить
вам, может соперничать с Рафаэлем!»
На самом же деле нам приятно восхищаться чем-то и заставлять других
глазеть и изумляться, но мы хотим, чтобы открьшателями чудесного были мы
сами, чтобы кумир был создан и выставлен на обозрение нами; если другие
открывают его до нас или присоединяются к общему хору, возносящему его
до небес, тогда мы принимаемся доказывать, что они во власти примитивного
заблуждения, и в хладнокровнейшей расправе с новоявленным кумиром
демонстрируем свою мудрость и отсутствие предубеждений. Раздуваем ли мы
очередной мыльный пузырь или давим его собственными руками — за нашей
* Не так давно я имел удовольствие провести вечер с мистером Бетти, и мы, что
называется, хорошо поговорили об актерской игре в старые добрые времена. Мне хотелось
дать ему понять, что я был тогда его тайным поклонником, но все как-то не получалось
вставить это к месту. Однако, когда мы надевали внизу пальто, я решился сделать первый
шаг к более близкому знакомству словами: «Одного актера того времени мы не
вспомнили с должным уважением — я имею в виду мастера Бетти». — «Ну, — сказал он, — я об этом
давно забыл». Я ответил, что ему простительно, но мне никак нельзя забыть, с каким
удовольствием тогда его смотрел и слушал. Тут он повернулся, раскачался и, не жалея своих
легких, воскликнул: «О память, память!»37, показьшая тем самым, что чувствует всю силу
этой аллюзии. Я потом узнал, что не обидел его своими воспоминаниями, и мы собирались
на следующий вечер выпить пива, но нам помешали. Надеюсь, он сочтет, что приглашение
все еще остается в силе.
XXX. Покровительство и расхваливание
327
радостной доверчивостью или привередливым скептицизмом стоят только
тщеславие и пустое стремление отличиться. Одни всегда перенимают модные
предрассудки, другие, напротив, притязают на полную самостоятельность
взглядов во всех вопросах, где, как им кажется, им достанет ума вынести
независимое суждение.
В живописи, больше чем в какой бы то ни было другой области,
извинительны приукрашивание и приглаживание, некоторое раздувание достоинств
и известная доля шарлатанства, самореклама и просьба к другу замолвить
словечко. Живопись — наука мистическая, требующая от преподавателя
некоторой рисовки вдобавок к иронической серьезности. Причастный к
живописи должен уметь соперничать с Каттерфельто, «у которого волосы
становятся дыбом при виде собственных чудес и который творит чудеса ради куска
хлеба»38, ибо если художник не справится с этим, он может остаться вовсе без
хлеба. Пусть как угодно, любым чудачеством привлекает к себе внимание,
пусть даже, надев зеленые очки, скачет на рысистой лошади, лишь бы изо
всех сил совершенствовал свое мастерство. Если «в жизни он стал вопло-
щеньем актерства»39, то пусть дураки глазеют — лишь бы получилось у него
хоть что-нибудь толковое!
Добрый багетных дел мастер, добрый мальчик на побегушках у
наборщика, добрый расклейщик афиш, «делайте свое дело»40 без помех! Живопись
похожа на пустой щит, и понадобится немало усилий герольдов, дабы
расчертить его и разукрасить как полагается. Кладите краски погуще, не жалейте!
Кто может оценить достоинства человека, никому не известного, а как он
может стать известен, если будет держаться на заднем плане?* В искусстве
прославленное имя далеко не ведет: оно скользит по путям жизни и
застывает, если нет ничего, что оживляло бы его и придавало ему новый блеск. Слава
тут почти равна безвестности. Приходится долго ждать, прежде чем
невежественная, равнодушная толпа разберет ваше имя под всем знакомым
рисунком. Для верности потребуйте, чтобы фанфары протрубили ваше имя на всех
углах, пусть оно, как ярлык, торчит у вас изо рта, повесьте себе на спину
плакат, где оно будет значиться — иначе никому не будет до вас никакого дела
либо вас очень скоро забудут.
Один знаменитый современный художник, чьим именем подписаны
трогательнейшие образцы английского искусства, однажды пригласил к себе
мастера по изготовлению рам, который, войдя к нему, с удивлением воскликнул:
«Как, вы художник, сэр?» Живописец, в свою очередь поразившись, спросил:
«Разве вы этого не знали? Неужели вы никогда не видали моей подписи под
* Сэр Джошуа, человек отнюдь не тщеславный, купил безвкусную карету вскоре
после того, как снял дом в Лестер-Филдз, и просил сестру кататься в ней, чтобы люди
спрашивали: «Это чья карета?» — и в ответ слышали: «Она принадлежит великому художнику».
328
Застольные беседы
репродукциями?» Собеседник не мог припомнить такого случая. «Но вы ведь
торгуете рамами и гравюрами?» — «Да». — «Так каких же художников вы
тогда знаете? Вы знаете Уэсга?» — «О да!» — «Опи?» — «Да». — «А Фюзели?» —
«О да!» — «Но никогда не слышали обо мне?» — «Пожалуй, нет».
Из этого разговора ясно, что мистер Норткот недостаточно вращался
среди торговцев картинами и газетных критиков. В другой раз некий
джентльмен, сельский житель, портрет которого он писал, спросил его, отдал ли он
свои картины на выставку в Сомерсет-хаусе41. Получив удовлетворительный
ответ, джентльмен пожелал узнать названия этих картин. Художник среди
прочих упомянул «Свадьбу двух детей». Тогда джентльмен весьма удивился
и сказал, что это именно та картина, к которой всякий раз возвращается его
жена, но он никогда не обращал внимания на фамилию художника.
Если публика так жаждет развлечения и в то же время абсолютно не
интересуется теми, кто ее развлекает, невредно время от времени напоминать
ей об этом и даже научить скворцов напевать в ее сонные уши имена
художников, которым она так обязана и которых так мало ценит.
Я не могу представить никакой иной причины, зачем художникам (не
лишенным таланта и трудолюбия) так навязывать себя публике, заказывая
собственные жизнеописания и бюсты, развешивая гравюры со своими
портретами в витринах лавок, занося свои имена «среди первых в списке»42 —
рядом с именами Рубенса, Рафаэля и Микеланджело — и клясться
самолично либо устами своих поверенных, что прославленным мастерам стоило бы
покинуть обитель праведников и с немым изумлением и воздетыми к небу
руками воззриться на еще не просохшие творения великих потомков.
Ах, делайте что хотите, но только не касайтесь этой струны! Поспешившая
тронуть ее нечестивая рука да задрожит! Не оскверняйте память об ушедших
от нас великих людях, называя их рядом с именами живых, еще не
приобщенных к лику святых. Сохраните умение спасаться от громогласной
современности среди бессмертных! Не нужно подрывать собственного уважения к
общественному мнению, всякий раз превращая его в чистый обман, в эхо
вашего собственного голоса, охрипшего от криков восторга по собственному
адресу! Не надейтесь запугать потомков или заморочить современников!
Думайте не только о том, какое впечатление ваша картина произведет на
зрителей, — больше старайтесь заслужить успех, чем завоевать его.
Выписав столь много векселей на банк славы, не забудьте оплатить их
чистым золотом. Поверьте, в занятиях высоким искусством есть нечто такое,
что выходит за пределы изготовления хвалебной заметки в газете или сбора
входной платы с посетителей выставки. Почитайте искусство как искусство.
Изучайте творения других мастеров — и самой природы. Созерцайте
красоту. Добейтесь величия ценою великих трудов, а не напыщенных претензий.
Не думайте, что до вас мир был слеп к заслугам, и пусть слава гениев не
XXX. Покровительство и расхваливание
329
превращается в предлог для вашего тщеславия. Вы уже привлекли довольно
внимания — а теперь заслужите его и оправдайте все свои обещания.
Вошедшее в привычку молчаливое высокомерие представляет собой такой
же бесстыдный и беспринципный обман, как и самая наглая реклама.
Скрытым или явным порицанием всех прочих видов искусства, произведений,
притязаний, вкусов и талантов, кроме собственных, вы можете вызвать
полное опустошение интеллектуального мира, в котором останутся только вы и
ваши произведения — мощный памятник всеобщего разрушения и гибели
гения. Если снести грубую подставку и убрать обломки вокруг нее, то кумир,
вознесенный на пьедестал гордыни, будет готов без дальнейшей помощи
предстать на всеобщее обозрение. Этот способ возвеличить себя еще
непростительнее, чем расхваливание, ибо в самых ненавистных формах нарциссизм и
тщеславие убивают возможность радоваться чему бы то ни было другому и,
подобно вампиру, питаются плотью и кровью чужой репутации. Одним словом,
лучше с бессмысленной, пошлой самоуверенностью вечно толковать о себе,
чем хранить злобное, бессердечное молчание при упоминании о заслугах
соперника. Я наблюдал и то и другое, а потому могу судить справедливо.
Нет особого вреда в выдвижении каких бы то ни было претензий, если это
не превращается в озлобленность и ожесточение против других. Каждый
старается выставить себя в самом лучшем свете и завладеть всеобщим
вниманием. И в этом смысле «весь мир — театр, а люди — все актеры»43. Вся
жизнь — лишь безобидное шарлатанство. Большой дом нужен только для
того, чтобы возвестить о большом человеке, в нем живущем. Одежда, выезд,
титул, ливрейные лакеи — всего лишь жульнические объявления,
свидетельства о мнимых заслугах. Звезда, сверкающая на груди, не стоила бы ничего,
если бы не была знаком отличия, да и корона сама по себе — всего лишь
символ добродетелей, унаследованных ее обладателем от длинной череды
знаменитых предков. Как много чести и порядочности было принесено в жертву
ради титула или ленты, и как много талантов и достоинств погребены без
герба и эпитафии!
Люди богатые и знатные держат лакеев, чтобы укрепить свои претензии
на самоуважение, а талантливые иной раз собирают круг почитателей,
чтобы усилить свою популярность среди публики. Входящие в этот круг prô-
neurs*, или приспешники, повторяют удачные выражения своих патронов,
хохочут над их шутками и помнят все их непогрешимые пророчества. Такие
прихлебатели превращаются в тени или эхо. Они говорят о своих
покровителях в любом обществе и доносят им, как о них отзываются. Они
нахваливают их достоинства, подобно тому как лавочники и зазывалы навязьшают
вам свой товар. Я совершенно не понимаю подобного тщеславия из вторых
* любители петь дифирамбы, расхваливать (фр.).
330
Застольные беседы
рук; не могу также уразуметь, как подобострастные свидетельства
нижестоящих лиц («спутников моих»)44 могут служить доказательством заслуг. Они
способны усладить слух, но чтобы им удалось провести рассудок — это выше
моего понимания; а ведь есть люди, которые не могут обойтись без
постоянной свиты подобных личностей, по которым они, улыбаясь, судят о мнении
всего света, среди всевозможной злобной ругани и ненависти, — так Отон
потребовал зеркало на иллирийском поле45.
Хорошо только то, что это зло в какой-то мере само себя исцеляет: когда
стадо подхалимов почти уже довело человека до погибели, они, подобно
непутевым нахлебникам, покидают его ради более тепленького местечка, унося
с собой все сплетни, какие только сумели подобрать, и какие-нибудь
поношенные наряды. Та же страсть к низкопоклонству, которая побудила их
пресмыкаться перед прежним кумиром, заставляет расстилаться перед
восходящим светилом. Теперь они столь же щедры на клевету, как прежде на
дифирамбы; любимец и почитатель редактора теперь в свите редактора
«Блэквуда»46. У человека лакейская душа, — так не все ли равно, чью ливрею
он носит!
Советую тем, кто добровольно принимается расхваливать что-либо, идти
в этом деле до конца. Полумеры не годятся. Мажьте густо и не меньше трех
слоев — не то все пропадет зря. Раз впрягшись в эту телегу, не вздумайте
останавливаться. Пускайтесь прямо с места в карьер. Вы запряжены в
колесницу могущественного Тамерлана, который покрикивает:
Ну, ну, балованные клячи Азии,
Неужто лишь двадцать миль проедете за день?47
Вы в его власти, ибо поставили свой вкус и разум на службу его таланту. Не
сомневайтесь, что он этим непременно воспользуется. Попав в подобный
переплет, вы сможете выбраться только силою. Как бы вы ни преувеличивали
его заслуги — все будет мало. Любые попытки найти недостаток, ограничиться
обыкновенным восхищением будут приравнены к государственной измене.
Сказать, что последнее произведение вашего патрона не так хорошо, как
предыдущее, или, ежели он актер, что одну роль он играет лучше, чем
другую, — значит нанести ему непростительное оскорбление. Как-то при мне один
актер заявил, что никогда не заглядывает в газеты и журналы, потому что его
там вечно ругают; между тем в его труппе не менее трех человек взяли на
себя задачу «кричать о нем выше всякой меры»48 через эти трубопроводы
славы. Такая требовательность, право, слегка чересчур!
Модным способом завоевать известность служит покровительство. Оно
может быть продиктовано разными причинами — и истинным
добросердечием, и хорошим вкусом, и тщеславием, и гордостью. Здесь я пишу только о
притворных чувствах. Шарлатан и мнимый меценат обычно подходят друг
XXX. Покровительство и расхваливание
331
другу. Дом последнего представляет собой своего рода лавку заморских
диковинок или ménagerie*, собрание всевозможных умствующих выскочек и
чудаков: тут и музыкально одаренные дети, и диво-математики, и философы-
мистики, лекторы, accoucheurs**, мимы, алхимики, скрипачи и шуты — кто
угодно; всех их по первой же просьбе показывают бесплатно. Складные двери
распахиваются и открывают ни с чем не сравнимую коллекцию. Среди этой
толпы могут попасться несколько вполне разумных людей с твердой
репутацией, rari nantes in gurgite vasto***, остальные же представляют собой просто
свалку или лотерею. Самозваные попечители тонкостей литературы и
искусства, разочаровавшись в великих, посылают собирать по большим дорогам
увечных, хромых, слепых — всех, кто притязает на достоинства, недостатки,
странности, посылают искать все наличное в городе тщеславие и притворство
в надежде, что среди такого множества диковин случайно обнаружится
истинная жемчужина, из которой посчастливится извлечь пользу лично для
себя либо завоевать авторитет, демонстрируя ее другим. Самое главное — это
поощрить восходящий талант, обратить всеобщее внимание на сомнительные,
никем не замеченные заслуги. Тогда вокруг вас собираются новички и
начинающие; их нынешние произведения не ранят вашего себялюбия, а будущие,
может быть, сделают честь вашей удивительной, мудрой способности
разглядеть талант в зародыше. Поскольку они к тому же полностью в вашей
власти, вы вольны в любое время выгнать их и заменить очередным набором
изумленных, неумытых физиономий, новым «выводком детей»49, будущих
актеров, художников, поэтов и философов. Подобно неоперившимся
птенцам, их высиживают, выхаживают, кормят с руки; это, естественно, оставляет
полный простор для распорядительства, вмешательства, заботы,
снисходительного беспокойства; но как только выводок оперится, их выгоняют из
гнезда и выпускают в большой мир. Первое же настоящее произведение решает
вопрос о взаимоотношениях художника с покровителем, и с того момента
талант становится достоянием публики.
Таким образом череда назойливых, голодных, праздных, самоуверенных
искателей славы получает поощрение от своих изменчивых хранителей,
которые затем непременно их предают, обрекая или на голодную смерть, или на
попрошайничество, или на тоску безвестности; между тем забвение, позор и
поношения выпадают на долю достойного и порядочного человека лишь
потому, что он отказывается служить орудием; в этой системе грандиозного
жульничества и потакать роскошеству и слабостям вульгарного величия50.
Если чересчур независимый характер мрлодого художника не позволяет ему
* зверинец (фр.).
'* акушеры (фр.).
"* «Изредка видны пловцы средь широкой пучины ревущей»51 (лат.).
332
Застольные беседы
подчиняться догматам вышестоящих, если его удивительный талант слишком
быстро оправдывает их прогнозы и предсказания относительно своего
развития и позволяет не идти на поводу у патронов, а искать поддержки у публики,
обычно возникают возражения против его одежды, выговора или манер, и его
изгоняют из круга приближенных — с репутацией человека неблагодарного и
ненадежного. Долго терпят только того, кто не противоречит общему мнению
и не вызывает зависти вышестоящих. Каждый независимый шаг взывает к
публике, ненавистным, естественным врагам мнимых покровителей
искусства, и разрьшает контракт, подразумевающий показное одобрение, с одной
стороны, и подобострастную покорность — с другой. Но довольно об этом.
Оказание покровительства талантливым людям, даже если подсказано
тщеславием, нередко сопровождается великодушием и щедростью, но только
до тех пор, пока эти люди страдают под бременем трудностей и остаются в
зависимом положении; однако поскольку покровителями в данном случае
движет любовь к власти, их интерес к предмету дружеского участия угасает,
как только исчезает возможность или необходимость явно демонстрировать
власть, и как раз в ту минуту, когда несчастный protégé* вот-вот достигнет
берега и в последний раз ожидает помощи, его, к немалому изумлению,
отталкивают назад — и все ради того, чтобы позволить покровителям еще раз
спасти его от гибели в бурных волнах житейских. Вопреки вашим ожиданиям, эти
добрые друзья, после пережитой вами борьбы и всех своих усилий помочь вам,
не приветствуют вас на берегу и не торжествуют победу вместе с вами. С
вашей стороны весьма нескромно и самонадеянно разгуливать по terra fîrma:**
вы рискуете лишиться их дружбы, если не будете всю жизнь барахтаться в
бурном море, дабы они могли записать себе в актив, что бросили вам
спасительный канат или послали за вами шлюпку — при этом никогда и не думая
вытаскивать вас на берег.
Ваши успехи, вашу известность (а вы-то думали, они будут радоваться им
как оправданию своего доброго о вас мнения!) они принимают очень
холодно и смотрят на них косо, ибо, добившись того и другого, вы перестаете
зависеть от своих покровителей. Если вы в беде, то благодетели изо всех сил
стараются, чтобы вы из нее не выбрались; они так чувствительны к
изъявлениям благодарности, что не хотели бы, чтобы вашим обязательствам по
отношению к ним когда-нибудь пришел конец; они принимают меры, лишь бы
кто-нибудь другой не сделал вам одолжения. И коль скоро вы будете
вынужденно либо добровольно вечно пребывать в бедности, безвестности и
немилости, они останутся вашими добрыми друзьями и покорными слугами до конца
жизни.
* протеже (фр.).
* твердой земле (лат.).
XXX. Покровительство и расхваливание
333
Условия такого договора между хозяином и подмастерьем очень жестки.
Подобные люди добровольно лишают себя благодарности за годы дружбы
своим отказом совершить последний добрый поступок, после которого никто
наверняка у них ничего больше никогда не попросит; они одолжат вам деньги,
если у вас нет надежды вернуть долг; они замолвят за вас словечко, если
никто ему не поверит, и никогда не простят только одного: вашей попытки —
или появления у вас возможности — отплатить за оказанные вам одолжения.
Во всем этом проявляется некоторое бескорыстие, во всяком случае,
отсутствие трусливой и продажной натуры, но стоят за этим в немалой степени
высокомерие и властолюбие.
Окончательную точку в вопросе о благодетелях ставят размышления о
том, кому чаще всего покровительствуют великие мира сего и кто чаще всех
получает письменные приглашения на роскошные обеды. Признаюсь, меня
в этом списке нет, по поводу чего я не сильно огорчаюсь и совсем не
удивляюсь.
На писателей, как правило, спрос невелик. Когда доктора Джонсона
однажды спросили, почему его так редко приглашают в гости, он сказал:
«Важным лордам и леди не нравится, когда им не дают говорить»52. Гаррику эти
трудности были незнакомы: он умел забавлять светское общество, подражая
великому моралисту и лексикографу, — так же как мог довести негритенка
во дворе до приступов дикого хохота, изображая важность надутого индюка.
Это выходило ловко и забавно, но не требовало выражения мнений и не
вызывало разногласий, в которых хозяин дома мог оказаться неправ.
Актеры, певцы, танцовщики легко сходятся с высокими особами. И те и
другие любят прихорашиваться, придавать éclat* своим именам, но между
ними не бывает столкновений. Выдающихся портретистов тоже терпят,
потому что они лично общаются с сильными мира сего; скульпторы
становятся наравне с лордами, когда имеют в мастерской глыбу твердого мрамора,
способную подкрепить основательность их претензий.
Состоятельные люди и люди светские должны располагать чем-нибудь в
обмен на свое покровительство, чем-нибудь зримым и ощутимым. Чувство
принадлежит к миру воображаемого, споры могут привести к опасным
последствиям, и тем, кто склонен к тому или другому, не место в хорошем
обществе. Проложив себе туда дорогу, поэты и другие одаренные люди очень
скоро получают от ворот поворот. Они там чужие, за редким исключением.
В общении с монархами художников выручает либо прислужничество, либо
шутовство, то есть умение опуститься ниже своего уровня. Сэр Джошуа
никогда не был придворным фаворитом. Он всегда соблюдал расстояние. Зато
Бичи своей фамильярной манерой обращения с высокими покровителями
* блеск [фр).
334
Застольные беседы
добился большой милости, но лишился ее, зайдя слишком далеко*. Уэсг
также затесался в те сферы — средствами, делающими ему не больше чести, чем
его августейшему повелителю, а именно лицемерным изображением чувств,
противоположных истинным.
Говорят — не знаю, насколько справедливо, — будто короли любят низкое
общество и дурного пошиба разговоры. Говорят также, что они любят
сомнительные расхожие шутки. Если это правда, то причина такова. Привычные
к гордости и лести, они с высоты своего положения взирают на
копошащееся внизу остальное человечество и хотят, чтобы все понимали: привилегии
достались им не напрасно. В частной жизни они хотели бы сохранять такое
же почетное место, какое принадлежит им согласно этикету на парадных
церемониях. Однако исполнения этого желания они честным путем
добиться не могут, ибо умом и красноречием не превосходят обыкновенных людей.
Вот почему на остроумную реплику они отвечают грубой шуткой,
обращающей насмешку в сторону того, кто в силу подчиненного положения не в
состоянии ответить как полагается. Таким образом они пользуются привилегиями
своего статуса, чтобы бесцеремонно обращаться с приближенными и
помыкать ими, так как собственное достоинство могут поддержать только ценой
унижения всех вокруг.
* Шарп стал одним из любимцев короля при следующих обстоятельствах. Когда
король проходил по дворцу, сопровождавшие его шли впереди с возгласами: «Внимание,
внимание!»53, чтобы освободить ему путь. Мистер Шарп в комнате неподалеку готовил
краски и, услышав свое имя, столь настойчиво произнесенное несколько раз, выбежал
со всех ног и резко столкнулся с королем, как раз проходившим мимо его двери. Юный
художник свалился на пол, от чего в королевской свите возникло сильное
замешательство; король же искренне посмеялся над маленьким приключением и с тех пор уделял
незадачливому герою его много внимания.
XXXI
О ПОСТИЖЕНИИ
ОСОБЕННОСТЕЙ ХАРАКТЕРА
Об этом предмете мы, несмотря на доступные нам возможности и
собственный практический опыт, знаем удивительно мало. Я, по крайней мере, чем
больше им занимаюсь, тем меньше в нем смыслю.
Помню разговор в дилижансе из Парижа несколько лет тому назад1. Кто-
то рассказал о браке после тринадцати лет ухаживания, и один мой
соотечественник заметил, что, по крайней мере, у супруга было время изучить
характер своей подруги жизни; на это некий monsieur П., изобретатель и владелец
«Невидимой девицы»2, ответил: «Вовсе нет — на следующий же день она могла
оказаться прямой противоположностью тому, чем представлялась все эти
годы»*. Я не мог не восхититься высшей мудростью французского фокусника
и подумал в тот момент, что нам никогда не добраться до окончательной
разгадки человеческого характера.
Познавать характер можно по-разному — по внешнему виду, словам,
поступкам; первый способ, хоть и кажется самым поверхностным, может быть,
наиболее надежен и наименее обманчив: собственно говоря, именно этим
способом, что бы кто ни утверждал, человечество, как правило, и
пользуется. Словесные заявления ничего не стоят, поступки могут быть лицемерны,
но над своей внешностью никто не властен. По словам знаменитого
остроумца, «речь нам дана, чтобы скрывать свои мысли»3. Не могу сказать, однако,
что самые отъявленные лицемеры наиболее говорливы. На портретах
Кромвеля его рот плотно сжат, как будто он боялся проронить хоть слово. Лорд
Честерфилд советует внимательно глядеть в лицо собеседника, подлинные
мысли которого нам хотелось бы узнать, ибо у него больше власти над
словами, нежели над выражением лица4. Жизнь человека может быть ложью
самому себе и другим, тогда как его портрет, написанный великим художни-
* «Да, мужа не узнаешь ни в год, ни в два»5. Эмилия в «Отелло».
336
Застольные беседы
ком, наверняка запечатлеет на полотне подлинный характер и выдаст его
тайны потомству.
При жизни такие выдающиеся личности, как Карл V и Игнатий Лойола,
вызывали весьма неоднозначные оценки — отчасти из-за связанных с ними
страстей и интересов, а отчасти из-за противоречивости их поведения. Однако
тот, кто видел их портреты, выполненные Тицианом, немедленно получит о
них истинное представление. Мне бы больше хотелось оставить после
смерти собственный хороший портрет, нежели прекрасную эпитафию. Лицо, по
большей части, говорит о том, что мы передумали и перечувствовали —
остальное значения не имеет. Полустершийся, неумелый портрет Донна,
предпосланный его стихам6, дает мне более точное представление о нем, чем все
его произведения. «Записки» Цезаря не возвысили бы его в моем мнении, если
бы его бюст походил на бюст герцога Веллингтона. Мой старый приятель
Фосетт говаривал, что, будь сэр Исаак Ньютон шепелявым, даже он в его
глазах не стоил бы ничего. Так и я не могу убедить себя в том, что великий
человек может быть с виду дураком. Впрочем, тут я, быть может, неправ.
Первые впечатления часто оказываются самыми верными, и это мы
нередко дорогой ценой узнаем после того, как утратили их под влиянием
благовидных уверений или поступков. Внешность человека складывается годами,
выражение запечатлено на его лице событиями целой жизни или даже более
того — рукой самой природы; отделаться от него поэтому нелегко. Не раз
замечено, что иногда с первого взгляда нам что-то не нравится во внешности
другого, вызывает странное ощущение, но потом забывается под напором
иных обстоятельств, и, пока с нашего знакомого не будет сорвана маска, мы
не увидим четкого подтверждения своим ранним впечатлениям, таившимся
под спудом. Иногда нас первым делом внезапно поражает нечто особенное,
индивидуальное, иногда устойчивые черты и общий облик — и все это потом
теряется в незначительных, заурядных деталях.
Такого рода prima facie* свидетельства, стало быть, лучше раскрывают
человеческую личность, чем слова или поступки, ибо демонстрируют состояние
духа, неизменное при всех обстоятельствах и в любых обличиях. На это вы,
со своей стороны, скажете, что, согласно общему правилу, нельзя судить
только по внешнему виду. Вот взять, например, такого-то человека: никто его не
примет за умного, не зная, кто он. Тогда, отвечу, скорее всего он не умен, и
противоположное мнение о нем ошибочно. Вы говорите, а вот мистер 7 —
бесспорно очень талантливый человек; однако, если только не взволнован
какими-нибудь из ряда вон выходящими событиями, он кажется полумертвым. Он
при желании остроумен, но ему не хватает энергии и воодушевления. Он
способен на благородные поступки, но низость натуры будто сквозит в каждом его
* с первого взгляда [лат).
XXXI. О постижении особенностей характера
337
движении. У него жалкий вид — таков он на самом деле и есть! Первое
впечатление о его личности рождается под влиянием его собственного представления
о себе, и именно последнее, поднимаясь из глубин сознания и затуманивая
способности, пребывает подле него дома, выходит с ним на улицу и преследует
во сне. Лучшая часть его существования скучна, туманна, свинцово-тяжела;
если вдруг в его жизни рождаются искры света или бросают свой отблеск на
нее то тут, то там, они могут ослепить других, но его самого обмануть не в
состоянии. Скромность — низшая из добродетелей, признание в
действительности, что того самого свойства, о котором идет речь, человеку как раз и
недостает. Тот, кто недооценивает себя, по справедливости недооценивается
другими. Каковы бы ни были достоинства, их нейтрализует «холодная
жидкость»8 в жилах, которая гасит честолюбие, отнимает силу и энергию действия.
Что толку мне от того, что я пишу эти «Застольные беседы»? Конечно,
сделав с неохотой некоторое усилие над собой, я могу собрать кучу полузабытых
наблюдений, но они не поднимаются до поверхности моего сознания и не
пробуждают в душе ни радости, ни даже гордости. У других на них больше прав,
чем у меня: им они могут пойти на пользу, я же получил только страдание.
Если взглянуть иначе, так их будто и вовсе никогда не было в моей жизни; и
я не знал бы, что вообще когда-либо мыслил, когда бы не странность моего
вида и моя непригодность к чему-либо другому. Поглядите на Колриджа, когда
он говорит. От его слов могла бы «в груди и у костлявой хищной Смерти душа
проснуться»9. А лицо его ничего не выражает. Что же мы должны считать
истинным проводником его души? Боль, томление, туманные воспоминания —
вот беспокойные обитатели ее; губы же его шевелятся просто машинально.
Есть люди, которые нам неприятны, хотя мы давно их знаем и нам не в
чем их упрекнуть; однако, по распространенному выражению, «против них
говорит их внешность». Однако тут есть что-то еще, хотя мы не всегда можем
в этом разобраться. Обычно для такого предубеждения есть причина, ибо
природа всегда верна себе. Они, может быть, по-своему и очень хорошие
люди, и все-таки что-то с ними неладно: какая-то в них наблюдается
холодность, эгоистичность, легкомыслие, неискренность; мы не можем понять, в
каких именно словах или поступках названные качества проявляются, но они
проглядывают и во внешнем облике, и в поступках этих людей. Возможно,
как раз потому мы никак не можем по-иному оценить эти черты, что их
обладатели изо всех сил стараются скрыть свои недостатки.
По счастью, смертные наделены своего рода вторым зрением: мы
различаем неприметные, скрытые признаки характера и привычек задолго до того,
как видим их воочию. Когда-то я встречался в таверне с одним человеком —
очень вежливым, приятной наружности, но со странным взглядом, который
я никак не мог объяснить: казалось, будто он из-под своих длинных ресниц
хорошо вас видит, а вы его — нет. То был самый обыкновенный карточный
338
Застольные беседы
шулер. А величайшей лицемеркой, какую мне когда-либо довелось видеть,
была маленького роста, кроткая, хорошенькая, скромного вида девица с
робко опущенными глазами и волшебно-нежным выражением лица;10 об
истинном ее характере можно было заподозрить только по холодному, сердитому,
водянистому, застывшему взгляду, устремленному в пустоту и как будто
избегающему встречи с вашим. В блестящей, неподвижной поверхности ее глаз
я вполне мог заранее угадать поджидавшие меня зыбучие пески и скалы!
Мы не вполне свободно чувствуем себя в присутствии или дружеском
общении с лицами, наделенными какими-нибудь странностями или
физическими недостатками. Объясняется это тем, что они и сами с собой не в ладу
и склонны разыгрывать с другими те же злые шутки, какие с ними самими
сыграла природа. Впрочем, этого, возможно, лучше было бы не говорить. Я
знаю человека, которого считали непригодным для дружбы на том только
основании, что он никогда сердечно не пожимает руку11. Признаю, что это
охлаждает людей жизнерадостных и цветущих, которые охотно идут на
такие демонстрации и «внешние знаки»12. Тот самый человек, который
выражает меньше всего радости при встрече с вами, покидает вас последним; он с
готовностью ввязывается в серьезный спор и не склонен отречься от друга или
общего дела. Внешне холодный и сдержанный, он гордится своим искусством
ненавидеть и умением горячо отстаивать свои убеждения. За фасадом
крайне флегматического темперамента нередко кроется самый пылкий дух, — так
же как огонь высекается из наиболее твердого кремня.
Это еще одна причина, почему так трудно судить о характерах.
Крайности сходятся; внешние проявления душевных особенностей нередко
противоречат их сути. Любое желание, постоянно подавляемое, при первом же
удобном случае яростно вырывается наружу; бывает, что величайшая грубость
сочетается с величайшей утонченностью, причем одна словно оттеняет
другую; те, кто при первом знакомстве или в начале дружеской встречи
кажутся чрезвычайно сдержанными и равнодушными, впоследствии
раскрываются во всей приветливости и сердечности. Одни сразу исчерпывают свои
душевные силы, у других они все время растут. Некоторые с легкостью создают то
или иное впечатление, они как бы более прозрачны и открыты. В этом
отношении французы заметно отличаются от англичан.
Так, француз сразу обращается к вам со своего рода оживленным
равнодушием; англичанин держится начеку, двигается осторожно и либо в высшей
степени сдержан, либо сразу доверяет вам больше, чем обычно доверяют
незнакомцам. И еще: для француза естественно проявлять человечность,
англичанин же дружелюбен лишь по привычке. Добродетели и пороки
обходятся англичанину дороже, чем его более веселым и ветреным соседям.
Считается, что англичанин более откровенен в своих речах; это верно в тех
случаях, когда он надеется задеть вас откровенностью. Что ему до того, кого он
XXXI. О постижении особенностей характера
339
обидит своим высказыванием; между тем чужеземец обычно старается
произвести хорошее впечатление, когда говорит.
Французы, по общему мнению, обещают больше, чем могут выполнить.
Это, может быть, и верно, но они могут совершить не меньше добрых
поступков, чем англичане: ведь последним так же мало хочется выполнять, как
обещать. Уверения французов могут оказаться искренними под влиянием
сиюминутного побуждения, хотя их желание услужить вам не очень сильно
и не очень длительно. Тем не менее я не могу считать французов
несерьезным народом; более того, я полагаю, что они чаще предаются
размышлениям, чем большинство англичан. Пусть те, кто видит во французах только
легкомыслие и непостоянство, объяснит их тайну — нескончаемую,
повторяющуюся из века в век трагедию.
Англичане считаются сравнительно медлительным, работящим народом.
Но французы не только живее, они и трудолюбивее. Взгляните хотя бы на
законченность, продуманность творений их искусства! Как они стремятся к
системе и правильности в своих наиболее серьезных произведениях! «Если
есть у французов недостаток, — говорит Йорик, — так только тот, что они —
слишком серьезны»13. При их остроумии, здравом смысле, жизнерадостности,
терпении, добродушии и изысканных манерах им недостает только
воображения и твердости нравственных принципов.
Таковы некоторые противоречивые различия в характере двух наций, но
как мало их понимают! До чего, например, смешно мы преувеличиваем
чужие пороки и отрицаем свои! Причина — в сочетании предубежденности
против других и пристрастности к себе. Путешественники, отправляющиеся
в дорогу с целью составить по возвращении достоверный отчет об увиденном,
лишаются, похоже, как только попадают в чужую страну, не только
способности толковать, но даже правильно воспринимать то, что предстает их
взору. Они искажают и передергивают самые простые факты и впечатления.
Они приезжают за границу с уже сложившимися представлениями о том о
сем и, разуму вопреки, укладывают все, что им встречается, в свои
излюбленные теории. Таким образом, осознанные предубеждения становятся еще
одним препятствием на пути и без того затрудненного понимания чужих нравов
и обычаев. Неудивительно поэтому, что народы так мало знают о характере
друг друга; вековое стремление углубить разрыв между ними могло
привести лишь к тому, что малейшие разногласия раздуваются с помощью
непрерывной лжи и вздорных либо злобных преувеличений в пламя ненависти.
Незнание особенностей характера не сводится к непониманию чужих
народов; мы понятия не имеем о наших собственных соотечественниках, стоящих
чуть выше или ниже нас на общественной лестнице. Можем ли мы
претендовать на непререкаемое суждение о положительных или отрицательных
свойствах чужеземцев, если не осведомлены о чертах наших друзей, родственни-
340
Застольные беседы
ков, да и своих собственных? Во всех этих случаях мы либо слишком близки,
либо слишком далеки от объекта изучения, чтобы точно судить о нем.
Лица, принадлежащие к высшим и средним сословиям, почти ничего не
знают о нравах людей нижестоящих — слуг, жителей деревни и т. д. Я бы
хотел прежде всего сформулировать общее правило на сей счет: все
необразованные люди — лицемеры. Они заняты только одним — обманом. Им
представляется, будто они враждуют со всем миром, а на войне все средства
хороши. Судя по чувствам и взаимоотношениям, обитатели кухни и людской
всегда пребывают в описанном Гоббсом «естественном состоянии»14.
Объектами для упражнения скудной изобретательности домашней челяди и прочих
выходцев из той же среды могут служить только лица из их окружения.
Излишние электрические частички их остроумия и фантазии не уносятся
прочь такими признанными и модными проводниками энергии, как романы
и новеллы. Их способности не зарыты в книгах, они живы, ярки, находятся
в вечном движении, выпирают и топорщатся как кошачья шерсть. Их грубые
разговоры блистают «бешеной остротой, вечно новой выдумкой»15.
Лица более высокого звания изо всех сил стараются подняться над ними,
а они изо всех сил стараются низвести тех до своего уровня. Они добиваются
этого, разыгрывая небольшую комическую интермедию, повседневную
домашнюю незамысловатую драму из широкого набора разнообразных семейных
недостатков, а нехватку материала восполняют собственной фантазией. Они
выворачивают наизнанку черты своих хозяев и хозяек; подлинная доброта или
снисходительность только настраивают их против вас. Их так просто не
возьмешь, они не терпят преград своему озлоблению. Они лишь с удвоенной
энергией принимаются за работу, чтобы очернить вас и подорвать ваше
доброе имя. Они ощущают себя униженной кастой и не могут понять, как это все
обязательства выпадают на долю одних, а все выгоды — на долю других.
С ними невозможно договориться — они отвергают все ваши попытки, видя
в них коварство и неискренность, и вы не более можете надеяться на их
благодарность и доброе отношение, чем на расположение кочующих цыган или
диких индейцев. У них нет сочувствия к себе подобным, нет доверия к
классам более привилегированным. Они чувствуют вашу власть над собою и
хотят расправиться с вами, пуская в ход обман, хитрость, ложь и изворотливость.
Во всем этом они не знают удержу. Их жизнь — лишь череда уверток, уловок
и оправданий. Любовь к истине может быть жизненным принципом только
для тех, кто посвятил себя изучению ее, кто занимался искусствами или
науками, требующими большого напряжения ума, который учит гордиться
правильностью своих заключений и справедливо их оценивать. Бескорыстная
преданность истине требует поисков ее в отвлеченных и далеких от повседневности
областях; между тем невежды и обыватели заняты лишь тем, что
непосредственно затрагивает их интересы. Все их мысли заключены в местные, личные
XXXI. О постижении особенностей характера
341
рамки, а потому примитивны и эгоистичны. Они болтают только о том, что
первым в голову взбредет, и, что бы ни произошло, обращают это в свою
пользу, готовы придумать и сказать что угодно, лишь бы добиться своей цели.
Презирая любые общие принципы морали, они врут напропалую и особенно
гордятся самым откровенным, наглым враньем', чем неожиданнее
оказывается их ложь, тем более они считают ее Божьим даром. Они совершенно
бессовестны, и, если вы разгадаете их проделки, им ничуть не стыдно — они
только сердятся на вас, а в ответ на упреки смеются вам в лицо.
Ничто не связывает их с вами, кроме корысти; увольте их со службы — и они
скажут вам: «Служба не то, что наследство»16. Если они делают вид, что
честно каются и надеются на прощение, это значит лишь, что они поджидают
минуты, когда смогут одолеть вас. Люди образованные и культурные не могут
тягаться с этими варварами современной цивилизации. Ни по каким внешним
признакам, ни по знанию принципов вы не можете догадаться, что происходит
у них в голове. Между вами напрочь отсутствуют точки соприкосновения. У вас
нет ни общих тем для разговора, ни общего языка. Ваши интересы и чувства
совершенно непохожи. Вы твердо соблюдаете определенные правила
поведения, они блюдут только собственные интересы, извлекают все свои познания
только из личного опыта и лишь ждут случая ухватить кусок пожирнее,
хитрей лисы в охоте,
Смелей волков в погоне за добычей17.
Они, конечно, заботятся о своей репутации, потому что она влияет на их
заработки и продвижение по службе, но не потому, что связана для них с
представлением о порядочности. Врожденный ум и таланты они подчиняют
двойственной задаче — обмануть свою совесть и спасти репутацию. Короче
говоря, с ними никогда ничего не поймешь — словно они принадлежат к
другой породе животных; только доверься им, и они тебя обязательно
перехитрят и предадут. Вы поглощены разнообразными заботами, а они думают
только о том, как извлечь из вас выгоду. Для них не существует правила: ты —
мне, я — тебе. Вы не можете полагаться на свою умеренность и их
притворную щепетильность. Поговорив по-хорошему с лакеем в таверне, вы тут же
услышите, как он обзывает вас обидной кличкой; ежели вы подарите что-
нибудь дочери хозяев дома, где снимаете квартиру, мать ее наверняка
вспомнит, что бы еще добавить к вашему счету. Это непрекращающаяся битва.
Человеческой природе не свойственно добровольно терпеть чужое
превосходство; для нее характерно угрюмое якобинское стремление стирать память
о полученном одолжении и уничтожать мишуру внешних привилегий; когда
другие люди вступают с нами в общение, они, как правило, находят способ
установить весьма унизительное равенство между вами и собой. Старая истина
гласит: для своего лакея никто не герой. А на днях мы видели новую иллюсг-
342
Застольные беседы
рацию этого принципа. В то время как миссис Сиддонс читала Шекспира
изысканным и восхищенным слушателям в гостиной, одна из служанок
сказала в прихожей внизу: «Ну, старуха пуще прежнего шумит!» Увы, как мало
общего между разными классами общества, как непреодолимы различия в их
обычаях и знаниях!
По мнению миссис Пичем, женщины «резко и несправедливо»18 судят о
мужчинах, а те немногим лучше судят о них. Последнее видно по тому, кого
мужчины берут в жены. Согласно пословице, любовь слепа; она держится на
прихоти и фантазии. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что те, кто
пользуется успехом у лиц другого пола, менее всего любимы и уважаемы
среди своего. Я знал только одного умного мужчину, который был, что
называется, дамским угодником, но он (к сожалению, это подрывает силу моих
доводов) проявил себя и порядочным фатом и побеждал именно благодаря
этому неотразимому свойству, а вовсе не уму или иным талантам.
Женщины, по-видимому, сомневаются в своей способности правильно
разобраться в вопросах любви и всецело разделяют веру мужчин в
собственную доблесть и дарования. Жены поэтов (в большинстве своем) играют роль
мебели. Заговори с ними о талантах их мужей или об их известности — они
отвечают так, как если бы речь шла о занимаемой поэтом должности. Да и
вряд ли может быть иначе, ибо, как только начинается разговор на тему,
интересную для мужчин или позволяющую им себя показать, женщины
выходят из комнаты и занимаются чем-то своим. Таким образом, красноречие,
гений, ученость, порядочность — всё, в чем честолюбие побуждает мужчин
преуспеть и тем завоевать рукоплескания всего мира, — оказываются
бессильны покорить сердца представительниц прекрасного пола.
Не буду, однако, отрицать, что остроумие и мужество все же их
впечатляют. Молодость и красота — не единственный способ завоевать привязанность.
Как трудно к сердцу женщин путь найти,
Еще трудней дойти до цели19.
Эта тайна имеет, однако, разгадку, некую определяющую причину, ибо,
как мы видим, одни мужчины становятся любимцами женщин, другие столь
же неизменно вызывают у них отвращение. Быть может, самым
притягательным во всех обстоятельствах магнитом оказывается для женщин сильное,
нескрываемое тяготение к ним, повышенное внимание, сознательное
предпочтение их чему бы то ни было другому? Я не совсем уверен, но склонен к
такому ответу. Счастливый любовник у всех народов — это cavalier servente*.
Галантный мужчина ведет себя так, как будто назначил свидание всем
женщинам, к которым обращается. Что до меня, то, как только возникает спор,
* верный рыцарь, ухажер, дамский угодник [um).
XXXI. О постижении особенностей характера
343
он немедленно отвлекает мое внимание от самой хорошенькой из
присутствующих женщин. Поэтому в спорах мне везет больше, чем в любви!
Не думаю, что так называемая любовь с первого взгляда столь уж большая
глупость, как часто приходится слышать. Мы обычно заранее решаем, какой
должна быть та, что нам понравится, — серьезной или веселой, брюнеткой,
шатенкой, блондинкой, будут ли у нее золотистые косы или черные как
вороново крыло локоны. И когда нам встречается воплощение всего, что нас
восхищает, вопрос решается сам собой. Мы никогда не видели раньше никого
отдаленно напоминающего нашу вновь обретенную богиню, но она именно то,
что мы всю жизнь искали. Кумир, который мы коленопреклоненно
боготворим, — это образ, нам уже знакомый. Он жил в наших дневных помыслах,
являлся нам во сне подобно волшебному видению. О ты20, которая с тех самых
пор, когда я впервые увидел тебя, увлекла мою душу божественной красотой
и пленила очарованием, не думай, что победа твоя была неполной, оттого что
мгновенной, — ведь в твоем нежном облике второй Имогены21 я увидел все, что
уже давно любил, — женскую грацию, скромность, миловидность!
Не стану говорить о том понимании характера, который дает дружба,
потому что она часто зиждется на общих слабостях и предрассудках. Дружба
нередко вырастает из внезапно возникшей тяги, и потом мы видим в друге
только то, что хотим видеть. Судить о характере близких друзей мы можем
не больше, чем заклятые враги. Конечно, дружба постепенно со временем
остывает, друзья расстаются, сохраняя только вечное неудовольствие при
воспоминании о прошлых заблуждениях и промахах. В последнем случае их
свидетельство не вызывает полного доверия.
Казалось бы, близкие родственники, которые всегда жили и живут
вместе, должны хорошо знать друг друга. Однако они почти ничего не знают.
Близость затмевает все различия; родство и предубежденность отнимают
способность правильно судить. Это оказывается так же трудно, как вынести
мнение о родных лицах. Домашние божества, пенаты, всегда прикрыты. Мы
не видим черт тех, кого любим, и не имеем четкого представления об их
пороках и добродетелях. Мы воспринимаем всё скопом — оптом, а не в
розницу. Мы знаем всё, что можно знать о каждом, об их чувствах, истории,
нравах, словах, действиях, — всё; но для нас это факты, глубоко въевшиеся в
сознание, привычные впечатления, окрашенные чересчур многочисленными
ассоциациями, освященные слишком многими привязанностями, так
вплетенные в ткань нашего сердца, что мы бессильны отыскать отдельные нити,
выделить активы и пассивы или соотнести их с обычной мерой добра и зла.
Близкие родственники производят на нас впечатление слишком сильное,
слишком явственное и слишком sui generis*, чтобы мы могли их с кем-то
* своеобразное (лат.).
344
Застольные беседы
сравнивать. Мы не даем себе труда осведомиться, лучше или хуже других те,
кто нас так интересует и к кому мы так сильно привязаны. Сам по себе
вопрос звучит кощунственно. Мы знаем только, что для нас они важнее всего
на свете. Такого рода чувства укореняются в глубине нашей души, растут в
ней, и выкорчевать их оттуда усилием воли невозможно. К тому же наши
суждения заранее обусловлены, а наши интересы имеют кровное начало. Если
только возникает сомнение, если хотя бы на мгновение по воле случая
отодвинут занавес безоговорочного доверия, удар оказывается чересчур велик, будто
произошел вывих конечности, и мы отшатываемся от привычных
впечатлений. Пусть же этот занавес никогда не будет сорван, дабы не лишить нас
благоговейного трепета и веры по отношению к знакомым образам, ибо после
этого ничто уже не спасет наше сердце от полного опустошения.
Что может быть хуже, чем разное воспитание у членов одной семьи,
вследствие которого их взгляды и характеры складьшаются абсолютно
неодинаковым образом? Это зачастую проливает на умственные и душевные свойства
близких нежеланный свет, вызывая в семье раскол, холодность, неизлечимую
сердечную боль. Я иногда спрашиваю себя, не несет ли развитие общества и
распространение образованности больше отрицательных, чем
положительных последствий для человечества, ослабляя узы семейных привязанностей
и мешая тем, кому особенно важно и нужно взаимное одобрение, важно и
нужно понимать друг друга, сопереживать чувствам, обычаям, воззрениям
близкого человека.
Возьмем такой пример: отец готовит сьша в священники; он невероятно
горд и счастлив, пока сын развивается в нужном направлении. Но вдруг
интересы сьша меняются, и вот он увлекается искусством. Сразу наступает
конец всякой непринужденности в их отношениях. Молодой человек с
восторгом толкует о «Рембрандтах, Корреджо и тому подобных»22, а для его отца
все это китайская грамота, и, как бы ни был он доволен успехами сьша и как
бы ни желал ему удачи, он никак не может примириться с избранным им
новым поприщем и тоскует по тому, которое сам для него выбрал. К тому же
его собственный отец, дед молодого человека, — кальвинист и не может
преодолеть разочарование, вызванное переходом сьша на сторону унитариев23.
На этом все кончается, пока через несколько лет его внук, следуя
новейшей моде и «неутомимой деятельности своего ума»24, не начнет
сомневаться в некоторых догматах веры, ему с детства внушенной, и тогда все
начинается сначала. Таким образом богословские разногласия и назойливое
вмешательство критиков Библии вбивают между тремя поколениями клин и
делают их чужими друг другу. С другой стороны, что может быть
противнее и вульгарнее чванливых выскочек и наглых счастливчиков, которые
забывают о семейных связях и стыдятся своего происхождения? Что может
быть сложнее, чем отношения богатых и бедных родственников? Счастли-
XXXI. О постижении особенностей характера
345
вы, гораздо счастливее племена и народы, где отцы и дети принадлежат к
одной касте и ведут одинаковый образ жизни, где предрассудки
наследуются, как инстинкты, где неизменность уровня знаний и воспитания позволяет
бесчисленным поколениям сосуществовать, образуя застывшее на месте,
вневременное единство.
Близкие родственники не только сознательно и привычно слепы по
отношению к недостаткам друг друга; суждению их также мешают обилие и
противоречивость доступных им фактов и свидетельств. Подробности и
частности сплетаются в такую длинную и толстую цепь, что ее никак не поднять и
не уложить на самые проверенные этические весы. Конкретный результат не
соответствует никаким отвлеченным теориям, никаким логическим
определениям. В несчастной человеческой природе есть и черное, и белое, и серое,
и квадратное, и круглое — слишком много аномалий и слишком много
смягчающих обстоятельств, чтобы вынести о ней, такой, какова она есть,
проницательное и обобщающее заключение. Изобилие знаний мешает нам прийти
к поспешному и предвзятому решению. Мы не высказываемся по поводу
каждого поступка, потому что ему противоречит сотня других. Мы даже
совершенно отказываемся от суждения, потому что одни явления
непроизвольно уравновешивают другие; быть может, эта упрямая, упорная
нерешительность оказалась бы надежнейшим методом анализа и в других случаях,
когда мы легко разделываемся с вопросом о характере лишь из-за
недостатка оснований для суждения. Характер человека состоит из множества
элементов; реальные качества его нельзя подогнать под искусственные
теоретические критерии, они подчинены природе и тождественны сами себе. Мы
поступили бы правильно, если бы на тех, кого видим мимоходом или издали,
взирали с тем же тупым оцепенением, с каким смотрим на людей, которых
имеем возможность изучать вблизи, — и не выносили бы скороспелых и
безжалостных приговоров. Знай мы этих случайных прохожих лучше, нам бы
меньше захотелось о них толковать.
По правде говоря, нет людей совершенно недостойных, как нет и таких,
у кого вовсе не имеется недостатков или хотя бы примеси несовершенства.
Известно, что короткое знакомство с самыми скверными людьми
уменьшает отвращение к ним; и часто удивляются, что величайшие преступники
выглядят как обычные люди. Это объясняется тем, что они во многих отношениях
похожи на других. Если бы какой-то человек был только тем негодяем, о
котором мы читали и составили отвлеченное представление, то есть если бы он
был просто воплощенным представлением о преступнике перед судом, он бы,
конечно, не разочаровал зрителей, но выглядел бы тем, кем и являлся —
чудовищем! Однако у него есть и другие свойства, мысли, чувства — да, может
быть, и добродетели, и все это вполне уживается с самыми развращенными
привычками и отчаянными поступками.
346
Застольные беседы
Это сообщение необязательно ослабляет наш ужас перед преступлением,
хотя и смягчает отношение к преступнику, так как показывает его нам с
разных точек зрения, и он оказывается простым смертным, а не запятнанной
бесчестьем карикатурой на порок, за которую мы его принимали. Такой
взгляд, хоть он и проникнут милосердием, не кажется мне ни излишне
вольным, ни опасным. По-моему, ни один человек, кроме как будучи терзаем
муками совести или же в припадке раскаяния (в каковом случае он тоже, пусть
и по-иному, отводит от себя страшное обвинение), не признается себе, что
соответствует абстрактному представлению об убийцах. Он, быть может, убил
человека в порядке самозащиты, или «в ратной службе»25, или для спасения
от голодной смерти, или из мести за оскорбление, но, несомненно, убил «не
так, как все»26, а под влиянием смешанных и спорных побуждений.
Держа ответ перед самим собой, человек всегда учитывает соображения о
времени, месте и обстоятельствах и никогда не обвиняет себя в «чистейшем
назамутненном злодеянии»27, совершенном без провокации со стороны и
смягчающих обстоятельств. В настоящих преступлениях всегда есть градация: мы
рассуждаем и морализируем по поводу разных видов и названий их. Я,
безусловно, не хочу сказать, что «поистине все хорошо, что есть»28, но мы почти
всегда, бессознательно и не вполне обоснованно, склонны так думать. Вот
почему (а не только в целях секретности) изобретены жаргонные обозначения
гнусных злодеяний воров, карманных воришек и прочих преступников.
Принятые наименования вызывают у законопослушных граждан отталкивающие
ассоциации, а потому неприемлемы для тех, кто живет неправедными
доходами; они хотят утопить смысл подобных слов в специальных обозначениях.
Рассказывают, что человек, писавший признание в убийстве, остановился
и спросил, как пишется слово «убийство». Если это правда, то отчасти его
затруднение объясняется потрясением, вызванным воспоминанием о
свершившемся, а отчасти тем, что он хотел избежать словесного выражения
поступка. «"Аминь" застряло у него в глотке»29. Несколько лет тому назад,
защищаясь от обвинения в убийстве, Юджин Арам показал, что его воображение
совершенно отвергало вменяемое ему номинальное преступление: он, конечно,
мог одним ударом уложить старика, похоронить его в пещере и затем жить
на взятые из его карманов деньги, но «никаких преступных намерений, вообще
никаких»30, как говорил Пичем, у него при этом не было. Хладнокровие,
изощренность, продуманность защиты Арама (подобное мастерство не
обнаруживает ни один известный нам юридический документ) доказывают, что он
виновен в убийстве, но преступность совершенного деяния не осознал*.
* Кости убитого были извлечены из старой хижины. По этому поводу Арам заметил
(еще один пример его хитроумия): «А где же еще вы ожидали найти человеческие кости,
как не в хижине отшельника? Разве только на кладбище?» (см. Ньюгейтский календарь за
1758 или 1759 год).
XXXI. О постижении особенностей характера
347
В таком же духе и с такой же философской глубиной мистер Колридж в
трагедии «Раскаяние» заставляет своего главного героя Ордонио уклониться
от признания даже самому себе в замышляемом преступлении, вкладывая
следующий поразительный монолог в его уста:
На солнце тело если я оставлю,
Чрез месяц тысячи — десятки тысяч —
Живых созданий вылетят из трупа
На место одного. Его убил я,
Вы скажете? Но кто мне поручится,
Что новые десятки тысяч жизней
Не счастливей одной, мной устраненной,
Чтоб место рати дать неисчислимой?
(Акт II, сц. 2)31
Я вопрошаю себя, уж не у него ли заимствовал весь ход моих
рассуждений, но вполне уверен, что им это не во вред. Колридж однажды спросил
меня, думаю ли я, что члены семьи действительно так сильно привязаны друг
к другу, как принято считать. Я ответил, что их взаимоотношения лучше
всего передает слово «интерес», каковой ответ он счел правильным. Пожалуй,
я и сейчас ответил бы так же. Естественная привязанность к близким
проистекает не из удовольствия находиться рядом, не из восхищения
достоинствами друг друга, а из глубинного знания того, что радует или огорчает тех, кто
связан с нами теснейшими узами. Это беспокойное, тревожное
сопереживание им, ревнивое внимание к их доброму имени, нежное, непобедимо сильное
желание им добра. Короче говоря, наша любовь к ним больше всего похожа
на нашу любовь к самим себе. По старой поговорке, лучше дома места нет,
дома и стены помогают. Мы любим себя не за заслуги свои, а за стремление
к добру; родственников наших мы любим так же, а то и больше, потому что
хорошо знаем об их страданиях и обо всем близком их сердцу. В силу
привычки и сочувствия, их благополучие, в сущности, так же неотделимо от нас,
как и наше собственное.
Если мы преданы их интересам не менее, чем своим, значит, мы так же
мало понимаем самих себя, как наших родных, — и все по той же причине.
Мы слишком пристрастны, чтобы вынести справедливый приговор, и
слишком поглощены своими побуждениями и положением, в котором оказались,
чтобы толковать собственные поступки иначе как в положительном свете.
Мы судим себя снисходительно и откладываем окончательный вердикт на
неопределенный срок. Спешить нам некуда. Гамлет с благородным
великодушием восклицает: «Сам я — сносной нравственности. Но и у меня столько
всего, чем попрекнуть себя!»32 Даже если бы вы сумели доказать кому-нибудь,
что он негодяй, это мало повлияло бы на его мнение о самом себе, ибо
себялюбие сильнее любви к добродетели.
348
Застольные беседы
Лицемерие — это маска, нужная нам для обмана других, но не себя: только
уличите преступника в подлости, и он засмеется вам в лицо и возгордится
своими беззакониями. Так бывает всегда, за исключением тех случаев, когда
характер противоречив, когда пороки невольны и идут вразрез с
убеждениями. Трудность заключается в том, чтобы отличить явные побуждения, те,
которые мы сами признаем, от подспудных или тайных пружин поступка.
Человек, который охотно меняет свои мнения, видит в этом искренность, хотя
на самом деле это просто легкомыслие. Чаще всего в суждении о самих себе
мы неразборчивы и тупы. Как правило, мы не обращаем внимания на
собственные достоинства и недостатки, разве только тщеславие принуждает
преувеличивать одни или оправдывать другие.
Не могу понять, почему люди так влюблены в самих себя и так
восхищаются собственными достижениями, которые у всех остальных вызывают
лишь беглый интерес. Можно сказать, что в оценке своих талантов мы
совершаем двойную ошибку: с одной стороны, нянчимся с иными нашими
произведениями, как со слабеньким ребеночком, думаем о том, что досталось нам
ценою таких трудов и страданий, но вызывает отторжение; с другой стороны,
мы не ценим то, что не потребовало от нас жертв, и потому удачно. Очевидно,
лучшие произведения величайших гениев создаются почти бессознательно, и
они не понимают, что сотворили нечто выдающееся. За них это сделала
природа. Как мало Шекспир, видимо, думал о себе и своей славе! Однако если
бы, «зная хорошо другого, мы узнавали бы себя»33, тот, «кто постигал все
свойства духом просвещенным»34, должен был бы понимать и свои
притязания и характер. Взор Шекспира, по-видимому, всегда обращен вовне, на
природу, а не на самого себя.
Тот, кто высокого мнения о себе, почти наверняка ошибается. Правда,
Милтон высоко оценивал себя и был прав. Его могущество было осознанным,
а величие — обдуманным. Быть может, уверенность в собственных заслугах
была следствием рано возникшей привычки к политической полемике: он
вынужден был постоянно являться на воображаемый пристрастный суд
людей из враждебной политической группировки, опровергать чужие
предрассудки и провозглашать себя невиновным. Одни умерли, так и не узнав о своем
бессмертии, другие исчерпали ощущение его при жизни. К первым
относится Корреджо, ко вторым — Вольтер.
Ничто так не помогает человеку в жизни, как знание собственных
слабостей (сопротивление которым придает ему силы), и ничто так не
стимулирует развитие способностей, как знание пределов своих возможностей; это
позволяет сосредоточить их все для достижения какой-нибудь практической
цели. Одному человеку доступно лишь одно дело. Претензии на
универсальность кончаются ничем. Или, как пишет Батлер, избыток ума требует
такого же избытка, чтоб управлять им35.
XXXI. О постижении особенностей характера
349
Есть люди, которые, не разобравшись в себе, совсем сбились с пути, и
другие, которые вовсе не обрели свой путь. Мы знаем многих, кто
преуспевает в определенных областях, но пребывает в меланхолии и недовольстве,
ибо потерпел поражение в том, чему себя первоначально посвятил; они
подобны отвергнутым любовникам, тоскующим по презревшей их возлюбленной.
Замечу в заключение, что литераторы обычно переоценивают масштаб и
значение посмертной славы; каких пределов, нередко спрашивают, достигла
слава самого Шекспира? Вот каких: в той самой стране, что кичится его
гениальностью и честью быть его родиной, едва ли один человек из десяти хоть
раз слышал его имя или прочел хотя бы слово из написанного им!
XXXII
О ЖИВОПИСНОМ И ИДЕАЛЬНОМ
Отрывок
В предстающих нашему взору предметах естественно то, что
непосредственно воспринимается органами чувств; живописно же то, что выходит за рамки
обыкновенного и привлекает внимание какой-нибудь поразительной
особенностью; идеально то, что отвечает уже существующему в нашем сознании
представлению о красоте и любви и стремлению к ним. Живописное зиждется
главным образом на различии или контрасте, идеальное — на гармонии и
непрерывности производимого впечатления; первое удивляет, второе удовлетворяет;
первое отправляется от установленной точки, второе покоится в самом себе;
первое определяется излишком формы, второе — сосредоточенностью чувства.
Живописное может рассматриваться как некий нарост на лице природы.
Оно незаметно переходит в фантастическое и гротескное. Феи и сатиры
живописны, но едва ли идеальны. Они являют собой доведенное до крайности,
единственное в своем роде представление о неком предмете, но не таком,
который внушает восторженные или нежные мысли. Рука художника
создает образ не из любви к добру или жажды изящества и красоты, но, скорее,
наоборот: этот образ воплощает идеальное уродство, а не идеальную красоту.
Рубенс был, возможно, самым живописным, но, пожалуй, наименее идеальным
художником. Рембрандт внешне производит впечатление как самый
живописный колорист, тогда как Корреджо — самый идеальный. Другими словами,
сочетание у последнего света и тени более целостно, более согласованно и
гармонично, чем у Рембрандта, который поражает контрастами, но не
успокаивает постепенными переходами цвета. Фигуры же у Корреджо имеют
поистине живописный вид, ибо часто тяготеют (даже самые красивые из них) к
карикатурной странности. Ван Дейк, по-моему, был наименее живописным и
наименее идеальным из великих художников. Он отличался естественностью
в чистом виде, не отбирал лучшие из внешних форм, но и не добавлял
ничего из собственного воображения. Главные его качества — абсолютная
правдивость, ясность и прозрачность, и хотя его произведения, безусловно, останав-
XXXII. О живописном и идеальном. Отрывок
351
ливают внимание и удивляют даже в зале, где очень много картин, причина,
почему они поражают, заключается в их противоположности другим
полотнам и отсутствии в них каких бы то ни было искусственных добавлений. Они
производят такое же впечатление, какое в сходной ситуации произвел бы
чистый лист бумаги.
Я начал с того, что назвал живописным всё отступающее от определенного
канона и бросающееся в глаза; это в целом справедливо относительно
формы и цвета. Косматый терьер со стоящей дыбом шерстью живописен. Как
говорится, у него есть свой особый характер, доведенная до крайности
решительность. Лохматая дворняга смотрится дико и выглядит противно, в ней нет
ничего живописного — это просто сплошное безобразие. Коза с торчащими
рогами и длинной бородой живописна, а овца нет. Лошадь живописна
только когда возникают контрасты цвета, как, например, в этюде мистера Норт-
кота, изображающем Гэдсхилла:1 белая голова лошади составляет
необыкновенный контраст смуглому, хмурому мужскому лицу. Старый пень с
ободранной корой и одной-двумя торчащими ветками, низкорослая, чахлая изгородь,
повторяющая линию горизонта, жнивье, извилистая тропинка, скала на фоне
неба живописны, потому что резко выделяются и имеют особый, им одним
присущий вид. Они, говоря словами Шекспира, не предметы «без
надежного закала, без блеска, без ручательств на успех»2. Местность может быть
прекрасна, романтична, возвышенна, не будучи живописной. Озера на
севере Англии не живописны, хотя в тех краях ничего интереснее нет. Достойны
быть запечатленными на холсте пейзажи, в которых есть какие-то резкие
черты, или причудливые формы, или такие части, которые оттеняют и
подчеркивают друг друга. Должны быть выступающие точки и приметные
места, на которых взгляд может остановиться, а затем, отталкиваясь от них,
двигаться далее по расстилающемуся перед ним пространству. Ствол дерева
или развалины на переднем плане нередко создают перспективу и придают
воздушность пейзажу, без них плоскому и тяжеловесному.
Пейзажи Рембрандта были бы самыми неживописными на свете, если бы
не прямые линии и острые углы, если бы не тяжелое, вдавливающее
движение его кисти, наподобие вгрызания сохи в землю, и написанный широкими
мазками контраст неба и земли. Земля у него рыхлая и неровная, как будто
Пан ударил по ней копытом.
Живописным украшением пейзажа или картины на историческую тему
является верблюд. И дело тут не в том, что он вносит черты романтики и
экзотики, — ведь слон не производит такого впечатления и даже
превращается в неуклюжую помеху, если становится необходимой принадлежностью
пейзажа. Когда же на групповом портрете появляется негр, это, по
контрасту, не менее живописно, чем пятна на шкуре пантеры.
Именно этому принципу следовал Паоло Веронезе, когда провозгласил
правило композиции: черное на белом и белое на черном. Его суждение заслу-
352
Застольные беседы
живает доверия. Знаменитая его картина «Свадьба в Кане Галилейской» — по
всей вероятности, самое совершенное из сохранившихся произведений
искусства. Когда я увидел ее, она почти закрывала одну из стен большого зала в
Лувре (размером сорок на двадцать футов); казалось, что эта стена
отодвинулась и раскрыла перед нами широту небес, здания, мраморные колонны,
галереи, полные народа; тут были императоры, рабыни, турки, негры,
музыканты, все известные художники тех лет, столы, уставленные яствами и
кубками, а под столами собаки — сверкающее, всепоглощающее смешение всех
и вся, яркая, невообразимая реальность; недостаток был только один: перед
зрителями не совершалось никакого чуда — кроме чуда самой картины!
Один французский джентльмен, показавший мне «это торжество
живописного искусства» (так его часто называют) и увидевший, как сильно оно
поразило меня, заметил: «Мою жену восхищает здесь изящная легкость
исполнения». Я принял это доказательство единомыслия за комплимент. Говорят, что,
когда Гумбольдт, знаменитый путешественник и натуралист, был представлен
Бонапарту, император обратился к нему со следующими словами: «Vous aimez
la botanique, monsieur?»* — и, услышав утвердительный ответ, добавил: «Et ma
femme aussi»**. Нетерпимые критики, не знающие, как трудно добиться у
француженки согласия по какому бы то ни было вопросу, усмотрели в словах
императора грубость и наглость. Что до меня, то я понял это замечание
именно в таком смысле, который подразумевался, и не разочаровался ни в себе, ни
в картине, понравившейся мадам Мериме, как и мне, Monsieur PAnglois***.
Ничего дурного во всем этом, разумеется, не было. Рядом с этим полотном
висели две аллегорические картины Рубенса (в этом жанре он точно «не был
младенцем»)4*. Не помню, кто там был изображен, но текстура напоминала
то ли шерсть, то ли ситец. У Паоло Веронезе не было шерсти или ситца, но
что-то свое — воздух, живая плоть, драгоценные камни, мрамор — все, что
составляло суть разнообразных предметов и фигур, исполненных
выразительно и правдиво. Если бы фламандец видел, где висят его аллегории, он бы
бесспорно захотел убрать их оттуда подальше.
Пейзажи Рубенса кажутся мне живописными, пейзажи Клода —
идеальными. Рубенс всегда бросается в крайности, Клод во всем придерживается
середины. Рубенс доводит какое-нибудь одно отличительное свойство или
особенность природы до пределов правдоподобия, Клод тщательно и деликатно
соблюдает равновесие и гармонию всех форм и групп, так что всего
оказывается в меру и одно не подавляет другое. Радуги, ливни, проблески солнца,
* «Вы любите ботанику, месье?» (фр.)
* «Моя жена тоже [любит ее]» {фр.).
* английскому господину (фр.).
[* «И точно, Мандрикардо не младенец»3. Ариосто в переводе Харрингтона.
XXXII. О живописном и идеальном. Отрывок
353
лунный свет — вот средства, помогающие Рубенсу создать впечатление
великолепия и волшебства. У Клода нет ни радуг, ни ливней, ни внезапно
прорвавшихся сквозь тучи солнечных лучей, ни сияния лунного света. Он
воплощение мягкости и соразмерности, тогда как Рубенс — энергии и сверкающего
избытка. В пейзажах Клода две стороны взаимно уравновешены, будто на
весах красоты; у Рубенса разнохарактерные предметы объединены и
собраны в одном месте по прихоти художника. У Клода больше спокойствия, у
Рубенса — веселости и сумасбродства.
Тут возникает вопрос. Радуга — какова она: живописна или идеальна? По-
моему, и то, и другое. Она — частица природы, но одновременно и нашей
фантазии. Она волнует чувство, изумляет, но в то же время успокаивает дух,
суля ему мир. Созерцание ее вызывает блеск в глазах, но душа
возвращается к ней и тогда, когда она давно растаяла в небе. Значит, она одновременно
обладает способностью сильнейшим образом стимулировать мысль своею
странностью и вместе с тем пленять воображение силою своей красоты.
Замечу мимоходом, что идеальное описание лунного света передано в известной
строке Шекспира:
Как сладко дремлет лунный свет на горке!4
Изящество этих слов выводит образ за пределы его естественной
красоты и кажется, будто восторгу не будет конца. Идеальным пейзажем с точки
зрения композиции нам представляется такой: несколько овец подошли
напиться из прудочка, окаймленного с другой стороны тенистыми деревьями,
далее следует все стадо, а беспечный пастух с собакой поотстали. Подобная
композиция идеальна, если идеал определяется степенью интереса к
предмету описания, его способностью овладеть нашими чувствами и увлечь их за
собою на золотой цепи, вызывая у нас стремление вечно думать о нем. Идеал,
одним словом, есть вершина удовольствия, то, что внемлет и отвечает
сокровеннейшим порывам души; живописное же — просто более яркое и смелое
отражение реальности.
Утренний туман, набрасывающий тонкий покров на все вокруг,
одновременно и живописен и идеален, ибо сперва вызывает непосредственное
удивление и восхищение, а затем страх, что он слишком быстро рассеется, и
желание продлить его существование. Как назвать изображенного на потолке в
Уайтхолле Купидона, который скачет верхом на льве и, понукая его копьем,
заставляет перепрыгнуть через пропасть на фоне неба и облаков?5 Чего в нем
больше, живописного или идеального? В этой фреске сильны контраст и
драматизм ситуации, и вместе с тем от нее захватывает дух, она вызывает
предвкушение чуда и изумление. Рембрандтовский «Сон Иакова» тоже
одновременно и страшен, и воплощает высочайшие видения души. Посмотрите на два
354
Застольные беседы
лица на «Тайной вечери» Леонардо да Винчи — Иуды и святого Иоанна: в
одном — отталкивающая сила, в другом — божественная святость и
проникновенность.
Индивидуальное, характерное в живописи — это то, что приметно,
особенно; идеальное — то, во что мы хотели бы обратить все окружающее и созерцать
его без меры и конца6. Живописное есть правда, идеальное есть добро.
Первое обращается к ощущениям и рассудку, второе — к воле и чувствам.
Истинно прекрасное и великое притягивает душу инстинктивной гармонией,
поглощается душою и становится с нею неразлучно. Поглядите на любую из
мадонн Рафаэля: что определяет ее идеальный характер — неутолимая жажда
души или безмерная радость, с которой она глядит на младенца? По
сравнению с нею всякий портрет кисти Ван Дейка — воплощенное равнодушие; это
натюрморт, в нем не ощущается растущее и все еще не удовлетворенное
желание. В идеале единственный предел — это предел возможного, это
бесконечное, соотнесенное с желаниями и способностями человека7. Любовь
поэтому — идеальная страсть. Мы отдаем ей все наши упования, страхи, радости
в настоящем и отчаянно цепляемся за нее как за последнюю надежду на
счастье. Весьма авторитетный автор вложил в уста своей героини такие слова:
Моя, как море, безгранична щедрость
И глубока любовь8.
И сколько же прелестных новообращенных будут во все века повторять
эти слова шекспировской Джульетты!9
XXXIII
О БОЯЗНИ СМЕРТИ
И сном окружена
Вся наша маленькая жизнь1.
От страха перед смертью вернее всего, пожалуй, лечит мысль о том, что у
жизни есть не только конец, но и начало. Было время, когда нас не
существовало: это ничуть не огорчает — почему же в таком случае нас должно
волновать, что наступит время, когда нас не будет? Я нисколько не хотел бы жить
сто лет назад — или в царствование королевы Анны:2 к чему же мне сожалеть
и принимать так близко к сердцу, что меня не будет в живых через сто лет,
неизвестно в чье царствование?
Когда Бикерстафф писал свои очерки3, я ничего не знал об их предмете;
и даже гораздо позже, буквально чуть ли не на днях, в начале царствования
Георга Ш4, когда Голдсмит, Джонсон и Бёрк встречались в таверне «Глобус»5,
когда Гаррик достиг вершин славы, Рейнолдс с головой ушел в писание
портретов, а Стерн год за годом выпускал томики «Тристрама Шенди», — все это
происходило без моего ведома и участия. Я совершенно не представлял себе,
что делается на свете, как в палате общин проходят дебаты о войне в
Америке; не тревожили меня и перестрелки у Банкерс-хилла;6 однако я не видел
в этом ничего дурного; я тогда не ел, не пил, не веселился, однако ведь не
жаловался. Мне тогда еще не настало время заглянуть в этот живой мир, и
я прекрасно себя чувствовал; мир так же преспокойно обходился без меня,
как я без него. Зачем же тогда стану я вопить по поводу расставания с миром,
если мне от этого не станет ни капли хуже?
В мыслях о том, что когда-то нас и на свете не было, нет ничего такого, от
чего «тошнота подступила бы к горлу»7 — почему же мы должны восставать
против необходимости однажды покинуть его? Умереть — всего-навсего
значит стать такими, какими мы были до рождения, однако никто не испытьшает
356
Застольные беседы
ни раскаяния, ни сожаления, ни отвращения при мысли о том времени.
Такая мысль — скорее облегчение, своего рода разгрузка ума, как будто у нас
были каникулы, когда не требовалось выходить на сцену жизни, облачаться
в пышные одеяния или лохмотья, смеяться или плакать, оказаться
освистанным или награжденным аплодисментами; мы все это время таились, нам
было уютно, спокойно, мы проспали тысячи веков, не испытывая желания
пробуждаться; не ведая печалей и забот, мы оставались в тиши, в долгом
небытии, во сне, более глубоком и мирном, чем сон младенца, и покрывала
нас тончайшая, нежнейшая пыльца. А теперь мы страшно боимся, что
после короткого, мучительного, лихорадочного существования, пережив
напрасные надежды и праздные страхи, опять погрузимся в вечный покой и забудем
тревожный сон жизни!..
О вы, воины и рыцари-храмовники, спящие в каменных приделах
старинного храма, где глубокое безмолвие царит наверху и мертвая тишина внизу (ее
там не нарушают даже звуки органа) — разве не уютно лежится вам в месте
последнего упокоения? Неужто вы хотели бы восстать из гробниц и
отправиться на священную войну? Неужели сетуете на то, что боль и страдание навеки
покинули вас, что болезни уже сделали свое дело, что вы отдали последний
долг природе, что не слышите ничего об умножении вражеских рядов и об
увядшей любви вашей дамы; сетуете, что, покуда шар земной совершает свой
вечный круг, ни один звук никогда не проникнет к вам, не потревожит ваш
вечный покой, неизменный, как мрамор ваших надгробий, бездыханный, как
ваши могилы? А ты8, ты, к которой стремится мое сердце — и будет
стремиться, пока не утратит способность чувствовать, ты, что любила безответно и чей
первый вздох был последним, не почиешь ли и ты в мире (или будешь жалобн
но взывать ко мне со своего могильного ложа), когда твое опечаленное
сердце позабудет об унынии и когда умрет то горе, пережить которое ты и была
призвана в этот мир?
Бесспорно, мысль о предсуществовании не вызывает у нас такого
щемящего чувства, как возможность жизни после смерти. Мы вполне удовлетворены,
что начали жизнь, когда нам было суждено, не сокрушаемся в порьше
честолюбия, что не пустились в путь раньше, и чувствуем, что с нас вполне хватило
той борьбы, которая вьшала на нашу долю после рождения. Мы не можем
сказать:
Мы помним войны царя Нина,
Инаха и Ассарха-старика9.
Да и не хотим помнить! С нас довольно читать о них в исторических
книжках и молча созерцать необъятное море времени, нас от них отделяющее.
XXXIII. О боязни смерти
357
Тогда заря человечества только занималась, мир еще не достаточно
проветрился для нас; мы не жалеем, что ничего не делали в те дни. Мы не
считаем за потерянные те шесть тысяч лет, что мир существовал до нашего
рождения, и думаем о них совершенно равнодушно. Мы не скорбим и не
сетуем, что не довелось нам увидеть пышное зрелище и карнавал человеческой
жизни в прошлом, но нас почему-то уязвляет необходимость покинуть свое
место до того, как завершится шествие времени.
В объяснение того, почему наши чувства столь различны, можно сказать:
из исторических хроник и преданий мы знаем о событиях во времена
королевы Анны и даже ассирийских царей, но лишены всяческой возможности
узнать о грядущем, иначе как дождавшись его, и потому наше любопытство
и желание заглянуть в будущее тем острее, чем больше наше незнание. Это,
однако, совершенно нелогично, ибо в таком случае мы бы с тем же успехом
непрерывно стремились к первопроходческому путешествию в Гренландию
или на Луну, чего, однако, никто, в общем-то, не жаждет. Да и в тайны
будущего мы не пытались бы так уж настойчиво проникнуть, кабы не искали
предлога продлить свое существование. Не то чтобы нам хотелось прожить
еще сто или тысячу лет (ведь нет у нас желания жить сто или тысячу лет
тому назад); мы просто были бы не прочь продлить текущее мгновение
навсегда.
Пусть в угоду себе мы останемся точно такими, как сейчас, и мир тоже
пусть не меняется.
Всё, что сегодня, взор сегодня видит10.
И пока можем, хотим удерживать и сохранять всё — в любом случае нам
претит видеть, как настоящее безвозвратно уходит, не оставляя ничего
взамен. Муки расставания, ослабление хватки, разрыв тесных связей,
неисполнение каких-нибудь давно вынашиваемых планов — вот почему нам так
невыносима смерть и почему, как это часто бывает, «несчастьем долголетье
обращается»11.
О сердце сильное!
Сей договор меж миром и тобой
Нарушить ты не хочешь12.
Любовь к жизни, таким образом, — это привязанность, вошедшая в
привычку, а вовсе не абстрактный принцип. Просто существования «для
полноты довольства мало»:13 мы жаждем существовать в определенное время, в
определенном месте, в определенных обстоятельствах. Мы предпочли бы
быть сейчас, «вот здесь, на этой отмели времен»14, нежели иметь возможность
358
Застольные беседы
выбрать любой период в будущем, скажем, любые пятьдесят—шестьдесят лет
из «золотого века». Это показывает, что мы не просто привязаны к жизни или
к обеспеченной жизни, но питаем неискоренимое предрасположение к нашему
непосредственному существованию в его нынешнем виде. Так же как горец
не покинет своих скал, а дикарь — своей хижины, так и мы не откажемся от
своего теперешнего образа жизни, со всем хорошим и дурным, что в нем есть,
ради любого другого. Никто бы, по-моему, не поменялся жизнью с другим
человеком, даже очень счастливым. Мы бы охотнее согласились не быть, чем
не быть самими собой. Есть люди такой высоты духа, что желали бы жить
через двести пятьдесят лет, только бы увидеть, до каких пределов разрастется
власть Америки за этот срок и продержится ли так долго государственное
устройство Англии. Я не способен заглядывать так далеко, но, признаюсь,
хотел бы дотянуть до падения Бурбонов. Для меня это жизненно важный
вопрос, и чем скорее он разрешится, тем лучше!
В молодости никто не думает, что умрет. Можно верить, что другие
умрут, или согласиться с абстрактным положением, что «все люди
смертны», но никто не относит его лично к себе*. Молодость, бурная активность,
жизнерадостность питают крайнее отвращение к старости и смерти; в
расцвете жизни, как и в беззаботные годы детства, мы не можем даже
отдаленно себе представить, как
то, что было теплым и живым,
Вдруг превратится в ком сырой земли15
или как бодрое, цветущее здоровье и силы «увянут, станут хилыми,
седыми»16. Если, предаваясь праздным размышлениям, мы все-таки теоретически
представляем себе конец жизни, удивительно, каким далеким он нам
кажется; какой долгий, неторопливый путь к нему лежит; как резко его медленное,
торжественное приближение противостоит нашим веселым мечтам о жизни!
Мы глядим на бесконечно далекую линию горизонта и думаем о том, какое
огромное расстояние нам предстоит преодолеть к концу нашего
существования; между тем, хотя мы ни о чем не подозреваем, у ног наших
расстилается туман, а вокруг нас сгущаются тени старости. Две части нашей жизни
слились, но крайние их точки не смыкаются с разделяющим их романтическим
пространством, на которое мы рассчитывали, и вместо пышных, мрачных,
меланхолических красок старости, вместо «сухих и желтых листьев»17,
вместо тяжелых теней осеннего вечера мы видим и ощущаем лишь сырой,
холодный туман, обволакивающий все вокруг, как только нас покидает дух
молодости.
* «Для нас все смертны, кроме нас самих»18. Янг.
XXXIII. О боязни смерти
359
Ничто не побуждает нас заглядывать в будущее, и, что еще хуже, нам
неинтересно оглядываться назад на то, что стало таким обыденным и
пошлым. Радости жизни для нас поблекли, «канули в простор времен»19 или
сделались нам безразличны; страдания, накатывая снова и снова, вымотали
нас, не оставив ни желания, ни мужества пережить их в воспоминаниях. Мы
не хотим ни бередить старые раны, ни возродить свою юность, как птица
Феникс, ни прожить жизнь дважды. Хватит и одного раза! Упало дерево —
пусть лежит! Закройте книгу и подведите все итоги раз и навсегда!
Некоторые утверждают, что жизнь подобна блужданию по коридору, где
по мере нашего продвижения вперед становится все темнее и теснее, где мы
не можем повернуть назад и в конце концов задыхаемся из-за нехватки
воздуха. Со своей стороны, я не жалуюсь на то, что, приближаясь к могиле,
ощущаю усиление духоты. Я острее чувствовал ее раньше*, когда одна мысль
о смерти разрушала тысячи надежд и давила тяжким грузом. Теперь меня
больше мучает разреженность атмосферы и отсутствие дружеской
поддержки. Я протягиваю руку и не нахожу ничего: я слишком погружен в
абстракции; передо мной распростерта карта жизни, в пустоте и одиночестве я вижу,
как навстречу мне идет Смерть. В юности я не различал ее за множеством
предметов и чувств, и между нами всегда стояла Надежда со словами: «Не
обращай внимания на эту старуху!»
Если бы я действительно жил, то не боялся бы умереть. Но мне тяжело
видеть невыполненным договор, суливший наслаждение, несостоявшимся —
бракосочетание с радостью, отмененным — обещание счастья. Мои
общественные и личные надежды повержены во прах, и жалкие остатки их
насмехаются надо мной. Я хотел бы увидеть их вновь возрожденными. Я хотел бы вновь
увидеть ту веру в возможность блага для человечества, с какой началась моя
жизнь. Я хотел бы оставить после себя какой-нибудь достойный труд. Я
хотел бы, чтобы дружеская рука предала меня земле. При этих условиях я
готов, пусть и неохотно, отойти в мир иной. Тогда я напишу на своей могиле:
«Благодарен и удовлетворен!»
Однако я слишком долго мыслил и страдал и не могу согласиться с тем,
чтобы мысли и страдания мои оказались напрасны. Оглядываясь на прошлое,
я иногда думаю, что провел всю жизнь словно во сне или в глубокой тени на
склоне холма знания, где питался книгами, размышлениями, картинами и
слышал раздававшиеся далеко у подножия лишь отзвуки деловитого
топота и шум толпы. Когда меня разбудили, когда мимолетные происшествия
вывели меня из этого тусклого сумеречного состояния, я пожелал спуститься в
* Помню, в частности, как сильно было у меня это чувство при знакомстве с шиллеров-
ским «Дон-Карлосом», когда я едва не задохнулся, прочитав описание смерти героя.
360
Застольные беседы
мир реального и участвовать в общей гонке. Боюсь, правда, уже поздно, и,
пожалуй, мне лучше вернуться к книжным фантазиям и праздности. «Zanetto,
lascia le donne, et studia la matematica»*. Я подумаю об этом!
Неудивительно, что мы тем сильнее охвачены раздумьями о смерти и
страхом перед ней, чем ближе к ней подходим: мы чувствуем, как жизнь
постепенно отступает, по мере того как слабеет бодрость духа и
замедляется кровоток. Когда же видим, что все вокруг нас подвержено игре случая и
переменам, что наши силы и красота умирают, что нас покидают надежды и
страсти, друзья и привязанности — странно ли, что мы постепенно начинаем
осознавать себя смертными?
Только один раз видел я смерть — смерть младенца20. Это было давно. Он
лежал спокойно и безмятежно, лицо его было недвижимо и прекрасно. Как
будто в гробу покоилась восковая статуя, осыпанная цветами невинности.
Смерть та походила не на смерть, а на картину жизни! Из губ не вылетало
дыхания, глаза не видели, уши не слышали, биение жизни прекратилось. Я
смотрел на него и видел, что он не страдает, а как будто улыбается, оттого,
что мучения короткой жизни прекратились. Я не мог вынести мысли о том,
что гроб закроют крышкой — сразу начинал задыхаться. И все же, когда
зеленые стебли крапивы колышутся в уголке на его маленькой могиле,
желанный ветерок освежает меня и облегчает стесненную болью грудь!21
Статуя из слоновой кости или мрамора, наподобие памятника двум детям
работы Чантри22, доставляет чистое наслаждение. Почему не горюем мы и не
скорбим оттого, что в мраморе нет жизни, не думаем о том, что он не дышит?
Да потому, что он никогда не жил. Именно трудность перехода от жизни к
смерти, борьба между ними в нашем воображении сливает их в одно
мучительное целое и внушает нам веру: только что скончавшийся младенец еще
хочет дышать, смотреть по сторонам, радоваться — а лишает его всего
леденящая рука смерти, отнявшая у него восприимчивость к внешнему миру и
физические способности; и коли б он мог, то непременно посетовал бы на
горькую свою долю.
Быть может, легче всего примиряют нас со смертью религиозные
соображения, внушающие нам, что, хотя тело остается, дух улетает в мир иной. Вот
отчего к нашим размышлениям о смерти примешивается идея жизни,
создавая таким образом жуткое чудовище. Мы думаем о том, как бы
чувствовали мы, живые, а не как чувствуют мертвые:
И вопиет природа из гробниц,
И прах наш непогасший камень жжет23.
* «Дзанетто, оставь женщин и займись математикой»24 [um.).
XXXIII. О боязни смерти
361
В книге Такера «Преследуя свет природы» есть замечательное место;25 я
просто приведу его здесь, чтобы дать о нем ясное представление:
Печальное появление бездыханного тела, пристанище, уготованное для
него — темное, холодное, тесное, одинокое, — поражают воображение, но
только воображение, а не рассудок, ибо кто бы ни воззвал к нему, сразу
же увидит, что ничего ужасного в описанных обстоятельствах нет: если бы
мертвеца укутали и положили в теплую постель в жарко натопленной
комнате, он не ощутил бы приятного тепла; если бы на исходе дня зажгли
множество свечей, мертвец не нашел бы способа скоротать вечерок; если бы
его предоставили самому себе, он бы не обрел свободы; если бы компания
собралась вокруг него, она бы его не развеселила; его искаженные черты
не выражают ни страдания, ни беспокойства, ни горя. Все это знают и
подтвердят, коль скоро об этом зайдет речь, и тем не менее никто не может
смотреть на мертвых или даже думать о них без содрогания, ибо понимает,
что живой человек в таком же состоянии страшно бы страдал; поэтому
мертвецы привычно страшны, вызывают непременный ужас, усиленный
сложившимися обычаями.
К страху перед смертью сознательно добавляется еще одно, совершенно
ненужное мучение — мы старательно делаем вид, что сочувствуем горю тех,
кто переживет нас. Если бы на этом все и кончалось, то можно было бы и
успокоиться. Трогательная мольба «Не плачьте обо мне, жена и дети милые»26
в большинстве случаев тут же выполняется буквально и годится только для
деревенских надгробий. Мы не оставляем такой пустоты в обществе, как
часто воображаем, отчасти желая преувеличить собственное значение,
отчасти дабы утешить себя сочувствием. Даже в пределах одной семьи утрата не
так велика, как кажется, и рана заживает быстрее, чем рассчитывают.
Нередко нам самим предпочитают нашу комнату. На другой день после нашей
смерти люди ходят по улице точно так, как ходили, когда мы были живы, и
толпа не уменьшается. Пока мы не умерли, мир, казалось, существовал
только для нас, нам на радость и веселье, ибо умножал их. Но вот сердца наши
перестают биться, а мир живет себе дальше и думает о нас не больше, чем при
нашей жизни. Миллионы людей лишены каких-либо чувств к нам и
интересуются вами или мной ничуть не больше, чем обитателями Луны. Мы
остаемся до конца следующей недели в воскресных газетах или скромно
похоронены в некрологе в конце месяца! Неудивительно, что о нас забывают так
скоро, когда мы покидаем сцену жизни, — ведь нас едва замечают, и пока мы
выступаем на ней. Наши имена не только в Китае неизвестны — о них вряд
ли слышали и на соседней улице. Мы плоть от плоти вселенной и ждем от нее
взаимности. Это явное заблуждение. Однако если данное обстоятельство не
362
Застольные беседы
тревожит нас сейчас, то не станет тревожить и потом. Одна горстка праха не
может поссориться с другой и начать сетовать на Провидение; с тем же
успехом она воскликнула бы (если б имела разум и язык): «Иди своей дорогой,
старый мир, вечно говорливый, кружись в голубом эфире, мы с тобой более
состязаться не будем!»
Поразительно, до чего быстро забывают богатых и титулованных — даже
тех, кто обладал большой политической властью:
Немного шума, немного власти —
Вот все, что у великих было
От колыбели до могилы27.
И по истечении краткого срока даже само имя их исчезает. «Память о
великом человеке может пережить его на полгода»28 — не больше. Наследники и
потомки присваивают титулы, власть и богатство — все, что приносило
покойному почет и поклонение, а больше тот на благо и на радость миру ничего и
не оставил. Следующие поколения ни в коем случае не так бескорыстны, как
принято считать. Они выражают признательность и восхищение только в
ответ на благодеяния. Они лелеют память о тех, кому обязаны знаниями и
удовольствием, — причем лелеют в точном соответствии с полученными
благами. Чувство восхищения у них, таким образом, имеет непосредственную
первопричину и потому вполне обоснованно*.
Изнеженное пристрастие к жизни как таковой, как к общему или
абстрактному представлению, есть следствие высокоцивилизованного и искусственного
состояния общества. В прежние времена мужчины очертя голову бросались
в превратности и опасности войны или ставили все имущество на одну
карту либо рисковали им ради какой-нибудь одной страсти, и если она не была
удовлетворена, жизнь их превращалась в тяжкое бремя. Теперь наше
сильнейшее пристрастие — размышление, наша главная забава — чтение новых
пьес, поэм, романов, и мы предаемся им на досуге в тепле и безопасности, ad
infinitum**.
Если заглянуть в старинные истории и романы, написанные до того, как
belles lettres*** вытеснили подлинные дела человеческие и низвели страсть до
* Обычно крайне несправедливо поднимают шум по поводу огромных вознаграждений,
выплачиваемых певцам, актерам и тому подобным. Все, однако, сводится к нравственному
уравнению. Им платят из денег, внесенных сугубо добровольно, и если бы от этих артистов
не поступали доходы в казну, то распорядители театров их бы не приглашали.
Вознаграждение тем, кто выступает на сцене, в точности соразмерно с числом людей, которым их
исполнение доставило чрезвычайное удовольствие. Поэтому оценить талант певца, актера и
так далее можно по тому, какой доход он приносит.
** до бесконечности [лат).
*** Букв.: изящная словесность (фр.); литература.
XXXIII. О боязни смерти
363
умственной игры, то найдутся герои и героини, для которых вся жизнь их не
просто «не стоит и булавки»29, но которые прямо-таки ищут случая расстаться
с ней из чистого своенравия и непокорства духа. Они доводят свое
пристрастие к какому-нибудь любимому занятию до высшей точки, до верха безумия
и готовы заплатить любую цену за полное удовлетворение своих желаний. Все
остальное для них чепуха. Они идут на смерть как на брачное ложе и без
угрызений совести приносят себя или кого-то другого в жертву на алтаре
любви, чести, веры или иного захватившего их чувства.
Ромео бросил «свой усталый челн на скалы»30 смерти в тот же миг, как
только осознал, что потерял Джульетту, а она обнимает его в последнее
мгновение их жизни, делит с ним последние муки и спешит за любимым на тот же
роковой берег. Одна сильная идея овладевает сознанием, вытесняет все иные,
и жизнь, лишенная радостей, становится безразлична или ненавистна. В
таких поступках, по крайней мере, больше воображения, больше энергии
чувства и стремления к действию, чем в присущей нам долгой, томительной
жажде жизни, пусть и жизни самой что ни на есть никчемной.
Не лучше ли, не мужественнее ли стремиться к милой сердцу или дерзкой
цели и в случае неудачи с достоинством встретить последствия такого шага,
нежели продлевать договор на скучную, унылую, безотрадную жизнь для того
лишь, чтобы «ее утратить в грязной драке»31 по какому-нибудь пустяковому
поводу, как говорит Пьер. Разве в дерзком вызове, брошенном смерти, не
ощущается дух мученичества и нечто похожее на отчаянную энергию
варваров? Не связано ли это с религией? Безусловная вера в загробную жизнь
уменьшает ценность жизни нынешней и рождает в нашем воображении
некое бытие за ее пределами. Вот почему бывалый вояка, потерявший голову
влюбленный, доблестный рыцарь и другие им подобные могли отбросить
теперешнее существование и совершить тот прыжок в объятия грядущего, от
которого отшатывается современный скептик — более слабый, чем женщина,
несмотря на весь свой хваленый разум и суетную философию. Такое
понимание и мне не чуждо, но я уже пытался разъяснить эту мысль раньше и не
стану распространяться о ней здесь.
Деятельная, полная опасностей жизнь ослабляет боязнь смерти. Такая
жизнь не только учит нас терпеливо переносить боль, но и внушает на
каждом шагу мысль о неустойчивости земного бытия. Люди ученого склада ума,
ведущие сидячий образ жизни, особенно чувствительны на этот счет.
Примером может служить доктор Джонсон. Годы казались ему
быстротечными по сравнению с масштабами увлекавших его размышлений о времени и
бесконечности. В тихой жизни литератора нет особых причин для
перемены. Он может сидеть в кресле и вечно распивать чай. Хорошо бы, если б ему
выпало такое счастье! Самое разумное лечение от чрезмерной боязни смерти
следует искать в справедливой оценке жизни. Если мы просто хотим про-
364
Застольные беседы
длить наше пребьшание на сцене бытия, дабы предаваться своеволию своих
настроений и мукам страсти, нам лучше сейчас же покинуть свет; если же
наша привязанность к земному существованию определяется только
размерами извлекаемого нами добра, боль расставания с жизнью не будет очень
уж жестокой!32
ДОПОЛНЕНИЯ
ГАМЛЕТ
Это тот самый Гамлет, принц Датский, о котором мы читали в юности, но о
котором помним и по сей день: это он произнес знаменитый монолог «Быть
или не быть»; он давал советы актерам; ему «эта прекрасная храмина, земля»1
казалась «пустынным мысом»2, а «этот несравненнейший полог, воздух,
видите ли, эта великолепно раскинутая твердь, эта величественная кровля,
выложенная золотым огнем» — «мутным и чумным скоплением паров»;3 это его «из
людей» не радовали «ни один; нет, также и ни одна»;4 это он толковал с
могильщиками и философствовал над черепом Йорика; однокашник Розенкран-
ца и Гильденстерна по Виттенбергу; друг Горацио; возлюбленный Офелии;
он — тот самый, кто сошел с ума и был послан в Англию; он медлил с
отмщением за смерть отца; жил при дворе Горвендила за пятьсот лет до нашего
рождения, но все его мысли знакомы нам, как будто свои собственные,
поскольку мы прочитали о них у Шекспира.
Гамлет — это всего лишь имя; его слова и речи — поэтическая выдумка. Но
что из того? Разве они не реальны, как реальны наши размышления? Они
живут в сознании читателя. Гамлет — это мы сажи. В пьесе скрыта
пророческая истина, которая выше исторической достоверности. Тот, кого
повергали в задумчивость и меланхолию собственные или чужие несчастья; кто в
размышлении хмурил чело, считая, что и ему «слишком много солнца»;5 кто
видел, как золотой светильник дня затмился ревнивыми туманами,
вздымающимися из его собственной груди, и для кого окружающий мир был лишь
унылой пустошью; кто испытал «боль презренной любви, заносчивость
властей и оскорбленья, чинимые безропотной заслуге»;6 кто ощущал упадок духа
и чье сердце обволакивала, подобно недугу, печаль; чьи надежды рушились
и чью молодость потрясали странные видения; чья душа не в силах обрести
покой, покуда зло блуждает где-то рядом, подобно призраку; чью волю к
действию сковывает мысль; кому вселенная представляется бесконечной и
кто себя видит ничтожной пылинкой; кого душевная горечь побуждает не
368
Дополнения
заботиться о последствиях поступков; кто считает разыгрываемый спектакль
лучшим средством отодвинуть на задний план действительную трагедию
жизни — вот тот и есть подлинный Гамлет.
Мы настолько свыклись с этой пьесой, что разбирать ее так же трудно, как
описывать собственное лицо. Постараемся высказать такие наблюдения, какие
удастся. Из шекспировских пьес мы чаще всего думаем именно об этой — и
потому, что в ней больше всего поразительных размышлений о человеческой
жизни; и потому, что благодаря особому душевному складу Гамлета его
горести переводятся в общечеловеческий план. Все происходящее с ним мы
прилагаем к себе, поскольку сам Гамлет поступает именно так, делая свои
переживания предметом отвлеченных рассуждений. Он великий философ-
моралист, к которому стоит прислушаться, ибо философствует он по
поводу собственных чувств, собственного опыта. Гамлет — вовсе не заурядный
резонер. Если «Лир» отличается наибольшей глубиной страсти, то «Гамлет»
в высшей степени примечателен искусным, своеобразным и естественным
развитием характера. Шекспир обладал большим великодушием, нежели
любой другой поэт, и в этой пьесе проявил его сполна. С его стороны не
делается ни малейшей попытки подогреть интерес: действие развертывается
само собой сообразно времени и обстоятельствам. Внимание зрителя
удерживается без малейшего усилия; события сменяют друг друга самым
естественным образом; персонажи думают, говорят и действуют в точности так, как
поступали бы, будь они всецело предоставлены самим себе. Никакой
преднамеренности, ни малейшей натяжки. Реплики порождаются происходящим;
порывы чувств, налетев, затем стихают, подобно переливам музыки,
уносимой ветром. Вся пьеса — точная запись того, что предположительно могло
иметь место при датском дворе в далеком прошлом, когда мораль и нравы
не отличались утонченностью, присущей им ныне. Заманчиво было бы
оказаться сторонним свидетелем тогдашних событий; слышать и наблюдать все
самому. Однако в данном случае мы отнюдь не просто зрители. Мы носим не
только «обличья, виды, знаки скорби»7, но и то, что в нас «правдивей, чем
игра»8. Мы читаем язык сердца, страсть захватывает нас с самого начала, как
только возникает. Другие драматурги предлагают нам прекрасные
пересказы и толкования природы; Шекспир же, вместе со своими замечаниями,
представляет нам подлинник, дабы мы могли выносить собственные суждения. В
этом — его огромное преимущество.
Гамлет как персонаж стоит совершенно особняком. Он наделен не силой
воли или даже страсти, но обостренностью мысли и чувства. В Гамлете нет
почти ничего от героя: это юный неискушенный принц, исполненный пылкой
восторженности и обладающий душевной чуткостью; являясь игрушкой
обстоятельств, он пытает судьбу, исследует свои переживания и вынужден ввиду
необычности своего положения изменять природному внутреннему складу.
Гамлет
369
Он кажется неспособным к взвешенным действиям — и только под
влиянием минуты, когда на размышления у него нет времени, поспешно прибегает
к крайним мерам: так, например, он убивает Полония и так же
подменивает письма, которые Розенкранц и Гильденстерн везут с собой в Англию и в
которых содержится вынесенный Гамлету смертный приговор. В других
случаях, когда ему, как никогда, следовало бы действовать, он пребывает в
замешательстве, не решаясь что-либо предпринять; или скептически
оценивает свои обязанности, оттягивая их выполнение до тех пор, пока не упускает
случай, и тогда находит какой-нибудь предлог, чтобы вновь впасть в
пассивную задумчивость. Именно поэтому он отказывается убить короля, застав его
за молитвой; он обставляет кровавый умысел условиями, которые на самом
деле служат лишь оправданием недостаточной решимости, и откладывает
роковую месть до другого раза, когда король будет занят чем-нибудь, «в чем
даже тени нет спасенья»:9
<...> он на молитве;
И я свершу; и он взойдет на небо;
И я отмщен. Здесь требуется взвесить:
Отец мой гибнет от руки злодея,
И этого злодея сам я шлю
На небо.
Ведь это же награда, а не месть!
Назад, мой меч, узнай страшней обхват;
Когда он будет пьян или во гневе10.
Гамлет поглощен умозрительными выкладками — будучи не в состоянии
осуществить безупречную месть, которая соответствовала бы его
идеальному о ней представлению, он всячески от нее уклоняется. Вот почему он
колеблется, стоит ли безоговорочно принимать на веру указания призрака;
устраивает спектакль с целью добыть более верные доказательства вины своего
дяди, а затем довольствуется успехом проделанного опыта — тем, что
подозрения его подтвердились, — вместо того чтобы начать действовать. Принц,
однако, вполне сознает свою слабость, корит себя за безволие и пытается
одолеть вялость доводами рассудка:
Как всё кругом меня изобличает
И вялую мою торопит месть!
Что человек, когда он занят только
Сном и едой? Животное, не больше.
Тот, кто нас создал с мыслью столь обширной,
Глядящей и вперед и вспять, вложил в нас
Не д,ля того богоподобный разум,
Чтоб праздно плесневел он. То ли это
370
Дополнения
Забвенье скотское иль жалкий навык
Раздумывать чрезмерно об исходе, —
Мысль, где на долю мудрости всегда
Три доли трусости, — я сам не знаю,
Зачем живу, твердя: «Так надо сделать»,
Раз есть причина, воля, мощь и средства,
Чтоб это сделать. Вся земля пример;
Вот это войско, тяжкая громада,
Ведомая изящным, нежным принцем,
Чей дух, объятый дивным честолюбьем,
Смеется над невидимым исходом,
Обрекши то, что смертно и неверно,
Всему, что могут счастье, смерть, опасность,
Так, за скорлупку. Истинно велик,
Кто не встревожен малою причиной,
Но вступит в ярый спор из-за былинки,
Когда задета честь. Так как же я,
Я, чей отец убит, чья мать в позоре,
Чей разум и чья кровь возмущены,
Стою и сплю, взирая со стыдом,
Как смерть вот-вот поглотит двадцать тысяч,
Что ради прихоти и вздорной славы
Идут в могилу, как в постель, сражаться
За место, где не развернуться всем,
Где даже негде схоронить убитых?
О мысль моя, отныне ты должна
Кровавой быть, иль прах тебе цена!11
Но Гамлет по-прежнему бездействует: само это размышление
относительно собственной немощи служит лишь предлогом для того, чтобы ей
потворствовать. Медлительность вызвана отнюдь не отсутствием привязанности к
отцу или равнодушием к его убийству — просто Гамлету более по душе
занимать воображение чудовищностью злодеяния и оттачивать планы мести,
нежели безотлагательно претворить их в жизнь. Главная страсть Гамлета —
мыслить, а не действовать, и любая неясная отговорка, поощряющая эту
склонность, тотчас отвлекает его от ранее намеченных целей.
Нравственная безупречность этого персонажа ставится под сомнение, как
мы полагаем, теми, кто его не понимает. Гамлет привлекателен потому, что
выбивается из правил: он несовершенен — и в этом его обаяние. В этическом
облике этого «благородного и свободомыслящего казуиста»12 (как удачно
именуют самого Шекспира) не обнаруживается уныло-серой квакерской
морали. Пьесы Шекспира не скопированы ни с «Совокупности обязанностей
человека»13, ни с «Академии комплиментов»!14 Признаться, нас несколько
шокирует недостаток утонченности у тех, кто находит недостаток утонченно-
Гамлет
371
сти у Гамлета. Пренебрежение педантической выверенностью поведения
происходит у него от «вольностей эпохи»15 или же объясняется как раз
переизбытком интеллектуальной утонченности в личности, которая не слишком
придерживается обычных жизненных правил, да и не цепляется за
собственные понятия. Гамлет, можно сказать, подсуден только трибуналу собственных
мыслей — и слишком поглощен фантастическим миром размышлений,
чтобы придавать должное значение практическим последствиям действий и
событий. Привычные для него побудительные причины к действию вышли из
подчинения рассудку и находятся в дисгармонии с веком. Отношение Гамлета
к Офелии вполне естественно, если принять во внимание все обстоятельства.
Его суровость напускная. Она — следствие обманутых надежд, горьких
сожалений, привязанности, не вытравленной из сердца, но подавленной всем тем,
что окружает принца. Среди обступающих его ужасов, порой вне пределов
естества, не до любовных ухаживаний, по всем правилам галантности, и это
тоже вполне извинительно. Когда «отцовский призрак в латах»16, сыну
убитого короля не до сантиментов. Гамлет не может ни жениться на Офелии, ни
ранить ей душу, раскрыв причину своего отчуждения, над которой едва
позволяет поразмыслить самому себе. Ему потребовался бы не один год для
того, чтобы дойти до сути дела, которая объяснила бы ему все. В смятенном
состоянии души Гамлет едва ли способен на большее. Его поступки не
противоречат словам, которые он произносит на похоронах Офелии:
Ее любил я; сорок тысяч братьев
Всем множеством своей любви со мною
Не уравнялись бы17.
Трудно найти прощальные слова трогательнее и прекраснее тех, с какими
королева бросает цветы на могилу Офелии:
Красивые — красивой. Спи, дитя!
Я думала назвать тебя невестой
И брачную постель твою убрать,
А не могилу18.
Шекспир — истинный мастер по части изображения смешанных мотивов
человеческих поступков, и здесь он показывает нам, что королева,
преступная во многом, в чем-то другом не лишена чувствительности и сердечности.
Говорить же подробно об изысканно-трогательной Офелии нам мешает
волнение. О, роза мая19, увядшая так рано! Ее любовь, ее безумие, ее смерть
описаны с неподдельной нежностью и печалью. Этот характер так, как он
воплощен, мог создать один только Шекспир — и никто другой: смутные
очертания его отыщутся разве что в какой-нибудь старинной романтической
372
Дополнения
балладе*. Брат Офелии — Лаэрт — персонаж, мало располагающий к себе: он
слишком горяч и вспыльчив, отчасти даже бахвал. Полоний — тип,
совершенный в своем роде; утверждения относительно непоследовательности этого
персонажа несостоятельны. Считается, будто он действует крайне глупо, хотя
речи произносит весьма разумные. Обвинение беспочвенное. Опять-таки:
порой он говорит разумно, порой глупо; его советы Лаэрту превосходны, а
советы королю и королеве по поводу безумия Гамлета смехотворны.
Однако в первом случае он выступает как отец — и высказывается вполне
искренне; во втором — исключительно как придворный хлопотун и втируша, и
потому, соответственно, назойлив, болтлив и в целом непереносим. Короче
говоря, Шекспира упрекают за непоследовательную обрисовку того или иного
характера только потому, что он сохранял существующее и в
действительности различие между разумением и нравственными повадками людей, между
нелепостью их представлений и нелепостью мотивов, которые движут их
поступками. Полоний — вовсе не дурак, но ведет себя по-дурацки. Его
глупость — как в действиях, так и в речах — выражается в неуместном и
навязчивом вмешательстве.
Нам не по душе театральные постановки пьес Шекспира — и прежде
всего «Гамлета». Никакая другая пьеса не страдает так сильно при переносе ее
на сцену. Роль самого Гамлета с трудом поддается актерскому исполнению.
Отсутствие легкости и разнообразия в трактовке мистера Кембла объясняет,
почему эта роль ему не удалась — и не могла удасться. Характер Гамлета
построен из черт, напоминающих гибкую прихотливость «валов морских»20.
А мистер Кембл изображает воина в доспехах, с неколебимой решимостью
идущего к цели по прямой, не уклоняясь ни вправо, ни влево, и эта манера
столь же далека от непосредственного изящества и податливой
восприимчивости принца, сколь и те резкие броски вперед и скачки по сторонам,
которые привносит в свою игру мистер Кин. Гамлет мистера Кина чересчур
раздражителен и тороплив, Гамлет мистера Кембла слишком осмотрителен и
строг. Манера игры последнего утрированно подчеркнута. Обычным
репликам и замечаниям он придает жесткость, граничащую с едкой злобой. В
Гамлете нет ничего подобного. Он весь поглощен размышлениями — и только
думает вслух. Не следует поэтому пытаться усилить впечатление от его речей
* В описании смерти Офелии один из моих друзей21 указал на деталь,
свидетельствующую о зорком взгляде Шекспира на природу:
Есть ива над потоком, что склоняет
Седые листья к зеркалу волны22.
Нижняя сторона листьев ивы, нависающей над водой, имеет сероватый оттенок — и,
следовательно, отражение ее в воде будет «седым».
Гамлет
373
излишней подчеркнутостью интонации или натянутой преувеличенностью
жеста; не нужно ничего произносить в расчете на слушателя. В роль Гамлета
нужно вложить как можно больше от аристократа и ученого — и как можно
меньше от актера. Чело Гамлета должно как бы против его воли
заволакиваться облаком печальной задумчивости, но на нем не должна лежать печать
постоянной мрачной угрюмости. Гамлет исполнен слабости и меланхолии, но в
его натуре нет грубости. Он самый привлекательный из мизантропов.
ЛИР
Нам хотелось бы пропустить эту пьесу вовсе, обойти ее молчанием. Все, что
мы можем сказать о «Лире», неизбежно уступит ему самому, и уступит
сильно; уступит даже нашему собственному о нем представлению. Попытка дать
описание пьесы или ее воздействия на душу — чистой воды дерзость, однако
что-то сказать все же необходимо. Из всех пьес Шекспира эта — лучшая: в ней
он наиболее серьезен. Здесь он явно угодил в силки собственного
воображения. Страсть, избранная им в качестве главной темы, — та, что пускает самые
глубокие корни в человеческом сердце. Родственные узы распутать труднее
всего, а разорвать их и уничтожить — значит вызвать сильнейшее потрясение
всего человеческого естества. Глубина проявлений природы, сила страсти,
столкновение основ нашего бытия, твердая вера в дочернюю привязанность —
и головокружительный хаос, бурный водоворот мыслей при виде того, как эта
главная опора рушится; контраст между неизбывным и неизменным —
отеческой любовью — и стремительно-судорожными порывами воображения,
внезапно сорванного с привычных устоев внутри души, — вот что представил нам
Шекспир и что никто другой, кроме него, не мог бы представить. Таково
наше глубокое убеждение.
Рассудок Лира, теряющий равновесие от того, что, с одной стороны, его
тяготит оскорбленная родительская любовь, а с другой — одолевают
приступы необузданного гнева, подобен могучему кораблю, кидаемому ветром туда-
сюда, осаждаемому свирепыми валами, но все еще сопротивляющемуся буре,
поскольку якорь прочно закреплен на дне; или же он похож на
остроконечный утес, окруженный со всех сторон кипящими волнами, которые, пенясь,
разбиваются о него; наконец, он сходен с обширным мысом, сорванным со
своего основания мощным землетрясением.
Характер Лира разработан в этом плане как нельзя более тонко. Лишь на
такой основе подобный сюжет можно было выстроить с величайшей
достоверностью и придать ему огромную силу воздействия. Необдуманная
поспешность Лира, его неистовая запальчивость, слепота ко всему, кроме веления
Лир
375
страстей и привязанностей, — вот источник всех его бед, вот что разжигает
в его душе раздражение к горестям и пробуждает в нас жалость к нему.
Необычайно прекрасна роль Корделии в начальной сцене: почти все
перипетии того, что случится далее, становятся ясны с первых же произнесенных ею
слов. Мы тотчас видим пропасть, на краю которой оказался несчастный
старик король благодаря своему сумасбродному и доверчивому упрямству; мы
видим неблагоразумную безыскусность любви Корделии (в которой, вне
сомнения, есть что-то от отцовского упорства) и убогие потуги ее сестер. Едва
ли не первый порыв благородного негодования — чувства, которым пронизана
вся пьеса, — заключен в упреках Кента, брошенных им своему царственному
повелителю после несправедливого изгнания Корделии:
Кент будет груб, покамест Лир безумен1.
Мужественная прямота, которая навлекает на Кента недовольство
безрассудного короля, достойна нерушимой преданности, сохраняемой им во все
время опалы. Истинный характер двух старших дочерей — Реганы и Гонерильи
(обе столь глубоко омерзительны, что даже их имена язык произносит с
трудом) — вскрывается в ответе сестре, Корделии, которая призывает их
заботиться об отце: «Просим не учить»2 — ненависть к чужому совету соразмерна их
решимости творить зло и лицемерным притязаниям на добродетель.
Сознательная лживость довершает их предельно гнусный облик. Как раз отсутствие
этого отвратительного качества (притворства) — единственный положительный
штрих в образе незаконнорожденного Эдмунда, и это свойство временами нас
с ним примиряет. Мы не склонны впадать в соблазн чрезмерно
преувеличивать неприглядность его поступков, когда он сам называет их подлыми и
прямо именует себя «откровенным негодяем»3. К этому добавить нечего. Его
убежденная честность в этом отношении достойна восхищения. Один из его
монологов дорогого стоит. Отец Эдмунда, Глостер, введенный в обман выдумкой
о злодейских умыслах против него со стороны старшего сына, Эдгара,
приписывает этот противоестественный заговор и редкостную безнравственность
века влиянию недавних лунных и солнечных затмений. Эдмунд, посвященный
в подлинную суть дела, говорит, оставшись один:
Вот поразительная глупость: чуть только мы не в ладах с судьбою, хотя бы
нелады эти зависели от нас самих, — винить в наших бедах солнце, луну
и звезды, как будто подлыми быть нас заставляет необходимость,
глупыми — небесная тирания, негодяями, лгунами и предателями — давление
сфер, пьяницами, обманщиками и прелюбодеями — покорность
планетному влиянию; и все, что в нас есть дурного, все приводится в действие
божественною силою. Удивительная уловка блудливого человека —
сваливать ответственность за свои козлиные склонности на звезды: мой отец
соединился с моей матерью под хвостом Дракона, и родился я под Боль-
376
Дополнения
шой Медведицей, потому я от природы груб и сластолюбив. Фу! Все
равно я останусь тем, что я есть, хотя бы самая девственная звезда сверкала
на небосводе во время моего незаконного рождения4.
Обрисовка характера Эдмунда в целом; его беспечно-легкомысленные
преступные выходки, разительно отличающиеся от мрачной и неукротимой
злобности Реганы и Гонерильи; связь этого образа с развитием побочной
интриги, в которой гонения Глостера против старшего сына и неблагодарность
младшего последовательно дополняют промахи и бедствия Лира; двойная
любовная игра Эдмунда с обеими сестрами; роль, сыгранная им в
подготовке катастрофической развязки, — все это воплощено Шекспиром с
небывалым по мощи искусством.
Высказывалось мнение — как мы полагаем, справедливое — о том, что
третий акт «Отелло» и первые три акта «Лира» — высшее достижение
Шекспира в выявлении логики страсти: здесь содержатся ярчайшие примеры не
только силы конкретного чувства, но и его драматических превратностей, а также
поразительных следствий, обусловленных различными обстоятельствами и
характерами действующих лиц. Мы видим убывание и прилив чувств,
замирание страсти и ее лихорадочные порывы; нетерпимость к противодействию;
медленное накапливание чувств, когда есть время о них поразмыслить;
жадность, с какой воспринимается любое случайное слово, любой небрежный
жест; поспешное стремление опровергнуть наветы; душевный трепет,
вызываемый попеременно то горем, то радостью; весь этот «блестящий обмен
фехтовальными выпадами»5 в безжалостной схватке, где отравленное острие
метит в самое сердце и где всякая рана смертельна. В «Отелло» Яго с помощью
изощренных уловок играет на чувствах пылкого, ни о чем не
подозревающего мавра, возбуждая ярость в его открытой душе. Средоточие же разбираемой
нами трагедии — окаменевшее бездушие, холодный, расчетливый, закоснелый
эгоизм дочерей Лира, эгоизм, который непомерной мукой раздирает
воспаленное сердце короля, — и это страдание вызывает острое сочувствие к королю
со стороны читателей. Буря страстей словно бы разжигается в нем ледяным
безразличием Реганы и Гонерильи. Этот контраст был бы слишком тягостен,
удар слишком велик, если бы не вмешательство Шута: его приходящееся
весьма кстати балагурство прерывает пытку, когда та становится невыносимой, и
вновь оживляет струны души, костенеющей от чрезмерного перенапряжения.
Фантазия охотно обретает отраду в полукомических-полусерьезных репликах
Шута: точно так же изнемогающий от боли под ножом хирурга пациент ищет
облегчения в остротах. Фигура Шута служит к тому же гротескным
украшением тех давних варварских времен, каковые представляют собой единственно
мыслимый фон для трагической сюжетной канвы «Лира». С другой стороны,
эта фигура совершенно необходима: и потому, что отвлекает нас от
негодования, которое иначе могло бы достигнуть крайних пределов; и потому, что
Лир
377
доводит наше сострадание до высшей точки, на какую оно только способно,
непринужденно и с полным знанием дела демонстрируя достойную жалости
слабость старого короля, ведущую к самым непоправимым последствиям.
Лиру ничего не остается, как «стучаться в ту дверь, откуда выпустил он
разум»6 — после того как, по словам Шута, король «из своих дочерей сделал
матерей для себя»7 В третьем акте Шут исчезает, уступая место Эдгару в
обличье Безумного Тома, что хорошо согласуется с нарастающим
неистовством бурных событий. Трудно представить что-либо более совершенное,
нежели параллель, проведенная между подлинным безумием Лира и
притворным сумасшествием Эдгара; сходная причина умственного расстройства у
обоих — разрыв теснейших уз родственной любви — придает этим персонажам
нечто общее. Мастерство — вернее искусность, доведенная Шекспиром до
вершины совершенства, — обязано знанию того, какие звенья связуют наши
чувства, и пониманию их воздействия на душу; мастерство это являет собой
гораздо большее чудо, нежели любое методичное следование правилам; оно
предвосхитило и превзошло все усилия самого утонченного искусства, не
вознесенного гением до высот вдохновения и интуиции.
Одним из наиболее безукоризненных примеров драматургической мощи
служит первый диалог Лира с дочерью вслед за чередой унижений, которым
его намеренно подвергают и которые он в силу сангвинического темперамента
попросту не замечал — до тех пор, пока один из рыцарей не открыл королю
глаза на чинимые обиды. Лир в сопровождении свиты возвращается с охоты
и с присущей ему нетерпеливостью бросает характерную реплику: «Чтоб ни
секунды не заставляли меня ждать с обедом; скажите, чтоб сейчас же
подавали»8. Затем он встречает верного Кента, переодетого до неузнаваемости, и
берет его к себе на службу; первым испытанием для честно исполняющего
свой долг Кента становится столкновение с назойливым дворецким, который
на протяжении всей пьесы выглядит фигурой презренной и жалкой. С
появлением Гонерильи происходит следующий разговор:9
Лир
В чем дело, дочка? Что значит эта складка на челе? Сдается мне, вы слишком
много хмуритесь последнее время.
Шут
А был ты милым малым, которому не приходилось обращать внимания на то,
хмурится ли кто-нибудь. Теперь ты вроде нуля без цифры. Я и то лучше тебя. Я шут —
а ты ничто. (Гонергиъе.) Ах, простите, я удержу свой язык. Хоть вы ничего не
говорите, но я по вашему лицу вижу, что следует это сделать. Гм... гм...
Корок, крошек не берег,
Без всего голодный лег.
(Указывает на Лира.)
Вот пустой стручок.
378
Дополнения
Гонерилья
Не только, сэр, зазнавшийся ваш шут,
Но и любой из вашей наглой свиты
Буянят поминутно. Допускать
Немыслимо такие ссоры. Сэр,
Я думала, что, если вам скажу,
Поможет это делу, но, как видно
И по словам, и по поступкам вашим,
Вы это одобряете и буйству
Потворствуете. Если 6 вы хотели,
Вина бы не прошла без наказанья.
Забочусь я, чтоб сохранить порядок,
И вас прошу не счесть за оскорбленье,
Что в данном случае принуждена
Принять я меры.
Шут
Потому что, видишь ли, дядя, —
Так долго кукушку зяблик кормил,
Что гость хозяину голову скусил.
И вот погасла свеча, и мы остались в потемках.
Лир
Вы ль наша дочь?
Гонерилья
Полноте, сэр,
Хотела 6 я, чтоб мудрости вы вняли,
Которой так наделены, отбросив
Причуды, что не позволяют вам
Быть тем, чем быть должны вы.
Шут
И осел понимает, когда телега тащит лошадь! Ура, Джег! Люблю тебя.
Лир
Кому-нибудь знаком я? Я — не Лир.
Так ходит Лир? Так говорит? Что ж, слеп я?
Размяк рассудок, и соображенье
Заснуло? Как, не сплю? Не то, не то...
Кто может рассказать мне, кем я стал?
Тенью от Лира.
Шут
Лир
Я хотел бы знать это. Ведь по признакам королевского достоинства, знакомств
и разума я мог составить ложное мнение, будто у меня были дочери.
Лир
379
Шут
Желающие сделать из вас послушнейшего родителя.
Лир
Как вас зовут, сударыня?
Гонерилья
Недоуменье ваше, сэр, похоже
На ваши выходки. Я вас прошу
Понять как следует мои слова.
Вы — стары и почтенны, будьте ж мудры.
При вас еще сто рыцарей и сквайров,
Таких распущенных и диких малых,
Что этот двор беспутством превратили
В кабак какой-то; наш почтенный замок
От их эпикурейства стал похож
На дом публичный. Этот срам немедля
Должно пресечь. И вот я вас прошу, —
Хоть дело и без просьб могла бы сделать, —
Уменьшить хоть немного вашу свиту,
Оставить только, что необходимо,
Притом людей приличных вашим летам,
Умеющих держать себя.
Лир
Проклятье!
Седлать коней! Созвать сейчас же свиту!
Бесстыдный выродок! Смущать не стану.
У нас другая дочка есть.
Гонерилья
Мою прислугу бьете, шайка ваша
Командует над старшими.
Входит Аль бани.
Лир
Да, поздно каяться.
[Альбани.)
А, сэр, и вы здесь?
Вы заодно? Скажите! — Лошадей мне!
Неблагодарность, бес каменносердный,
Когда ты — в детище, ты безобразней
Морского чудища.
Альбани
Сэр, успокойтесь.
380
Дополнения
Лир
[Гонерилъе)
Ты лжешь, противный коршун!
Вся свита у меня — подбор редчайший
Людей, что долг свой знают превосходно
И совершенно правильно хранят
Достоинства их званья. Как мала
Вина, за что Корделию обидел!
Какой-то дыбою она мне с места
Все чувства сдвинула и в сердце желчь
Влила вместо любви. О Лир! Лир! Лир!
[Бьет себя по голове.)
Стучи в ту дверь, откуда ты позволил
Уйти уму. Эй! Едем, люди, едем!
Альбани
Милорд, я ни при чем тут. Я не знаю,
Что вас волнует.
Лир
Может быть, милорд.
Услышь меня, природа! Божество,
Остановись, когда предполагаешь
Плоды дать этой твари;
Бесплодием ей чрево порази!
Производительность ты иссуши в ней.
Пусть из бесчестной плоти не выходит
Честь материнства! Если же родит —
Пусть выродок родится, что всю жизнь
Ей будет доставлять одни терзанья!
Пусть юный лоб покроют ей морщины,
Слезами щеки пусть избороздятся;
Пусть материнская забота, ласка
Встречают смех один, — тогда узнает,
Что хуже, чем укусы злой змеи,
Детей неблагодарность. Едем! Едем!
Уходит.
Альбани
Но, ради Бога, объясни, в чем дело.
Гонерилья
Не стоит слишком утруждать себя.
Пускай его причуды так идут,
Как им велит безумье.
Возвращается Лир.
Лир
381
Лир
Как! Половины свиты сразу нет!
А две недели не прошли!
Альбани
В чем дело?
Лир
Скажу тебе.
(Гонерилъе.)
О смерть и жизнь! Стыжусь,
Что мужество во мне ты расшатала,
И эти слезы, что невольно льются,
Ты вызвала. Тьма на тебя и вихрь!
Пускай удар отцовского проклятья
Все чувства поразит в тебе! Глаза
Дурацкие, что плачете, вас вырву
И выброшу так, чтоб от вашей влаги
Размокла глина. До чего дошло!
Пусть так, — но у меня еще есть дочь;
Она — добра, заботлива, я знаю;
Узнав о подвигах твоих, ногтями
Лицо тебе, волчица, раздерет.
Постой, еще верну себе я сан,
Который сбросил я, ты думала, навечно.
Уходят Лир, Кент и приближенные.
Монолог действительно впечатляет; неудивительно, что вслед за этим,
предчувствуя скорые последствия, Лир произносит: «Не дай сойти с ума, благое
небо»;10 однако, хотя этот взрыв гнева и возмущения, вызванный первым ударом
по надеждам и ожиданиям короля, впечатляет как нельзя сильнее, еще более
потрясают постигшее Лира двойное разочарование и его томительные
попытки разобраться, на которую из дочерей он мог бы опереться в поисках
утешения и поддержки; попытки эти оказываются тщетными, поскольку обе дочери
попирают его немощную старость. Лир не без труда добивается встречи с Ре-
ганой и ее супругом в замке Глостера. По сговору с Гонерильей они покинули
собственное жилище, стремясь избежать разговора с королем. Их отсутствие
будит в Лире тревожные мысли, а когда Глостер, у которого они гостят,
настойчиво ссылается на «горячий нрав» герцога Корнуолского как на помеху для
повторного к нему обращения, Лир разражается неистовыми проклятиями:
Проклятье! Мщенье! Смерть и мор!
Горячий нрав? Горяч? Как? Глостер, Глостер,
Мне надо видеть Корнуола с женою11.
382
Дополнения
Чуть позже — возможно, ввиду собственного своего неважного
самочувствия — Лир склонен счесть ссылку на болезнь извинительной, однако,
припомнив, как его посланца (Кента) посадили в колодки, им вновь
овладевают самые худшие подозрения, и он начинает решительно добиваться
встречи с супружеской парой:
Входят Корнуол, Регана, Глостер и слуги.
Лир
День добрый вам.
Корнуол
Привет вам, государь.
Кента освобождают.
Регана
Я рада видеть вас.
Лир
Я думаю — и знаю, почему.
Я должен думать так. Не будь ты рада,
Я 6 развелся с могилой, что хранит
Прелюбодейку-мать.
[Кенту.)
Свободны вы?
Потом об этом. — Милая Регана,
Твоя сестрица — дрянь. Ее жестокость
Мне сердце растерзала, словно коршун.
[Показывает на свое сердце.)
Слов не найду сказать. Ты не поверишь,
Как черств характер у нее, Регана!
Регана
Сэр, удержитесь. Допущу скорее,
Что вы заслуг ее не оценили,
А не она забыла долг.
Лир
Как это?
Регана
Я не могу подумать, чтоб сестра
Против обязанностей погрешила.
Обуздывала, может, вашу свиту, —
Намеренье благое: порицанью
Не подлежит нисколько.
Лир
383
Лир
Будь проклята она!
Регана
О сэр, вы стары;
Природа в вашем возрасте идет
К пределу. Нужен вам руководитель,
Что знал бы ваше положенье лучше,
Чем сами вы. А потому прошу вас
К сестре моей сейчас же возвратиться,
Признав свою вину.
Лир
Просить прощенья?
Что ж, так по положенью мне сказать:
[Становится на колени.)
«Дочь, дорогая, сознаюсь, я стар
И бесполезен. На коленях вас
Прошу об одеянье, крове, пище»?
Регана
Довольно, сэр. Кривлянья неуместны.
К сестре вернитесь.
Лир
[поднимается)
Никогда, Регана.
Она мне свиту вдвое сократила,
Глядела злобно на меня, мне сердце
Словами жалящими растравляла.
Пусть отомщеньем небо поразит
Неблагодарную! Пусть воздух вредный
Зародышей в ней убивает.
Корнуол
Тьфу!
Лир
Глаза надменные ей ослепите,
Вы, молнии! Болотистый туман,
Из топи вызванный палящим солнцем,
Обезобразь красу ей.
Регана
О боги! — Пожелаете того же
И мне в минуту гнева?
384
Дополнения
Лир
Нет, никогда тебя не прокляну я.
Твоя природа нежная не может
Быть грубой. Той глаза глядели гордо,
Твои — ласкают, а не жгутся. Ты
В утехах не откажешь мне, не будешь
Мне свиты уменьшать и пререкаться,
И запираться на запор не будешь
Ты от меня. Ты лучше понимаешь
Природы долг, обязанность детей,
Благовоспитанность и благодарность.
Ты не забыла, что тебе полцарства
Я подарил.
Регана
Прошу вас, ближе к делу.
Лир
Кто посадил его в колодки?
Трубы за сценой.
Корнуол
Трубы?
Наверное, сестра. Она писала,
Что скоро будет.
Входит Освальд.
С вами госпожа?
Лир
Вот раб, чья спесь заемная, пустая —
В минутной милости у госпожи.
Прочь с глаз моих!
Корнуол
В чем дело, государь?
Лир
К колодкам кто прибег? Регана, верно,
Не знала ты? — Что вижу?
Входит Гонерилья.
Небеса!
Коль старцы вам угодны, если любо
Повиновенье вам, коль сами стары, —
Лир
385
Меня к себе возьмите под защиту!
(Гонергиье.)
И этой бороды тебе не стыдно?
Регана, как? Ты руку подаешь?
Гонерилья
А почему и нет? В чем я виновна?
Не все вина, что таковой считает
Дурачество.
Лир
Вынослива ты, грудь.
Еще снесешь? Кто посадил в колодки?
Корнуол
Я это сделал, сэр. И наказать
Построже нужно бы.
Лир
Вы, говорите?
Регана
Примите во вниманье вашу слабость,
До окончанья месячного срока
К сестре вернитесь и живите там,
Полсвиты распустив, потом ко мне.
Теперь не дома я, и нет запасов,
Которыми могла б вас содержать.
Лир
Вернуться к ней? Полсвиты распустить?
Нет, предпочту я быть совсем без крова,
Выдерживать нападки непогоды,
Товарищем быть волку и сове, —
Нужда — жестокий бич! Вернуться к ней?
Поеду лучше к пылкому Французу,
Что бесприданницу мою увез,
И на коленях буду умолять
О скромной доле. Мне вернуться к ней?
Определила бы еще в лакеи
К мерзавцу этому!
(Указывая на Освальда.)
Гонерилья
Как вам угодно.
Лир
Дочь, не своди, прошу, меня с ума.
Дитя, не буду я мешать. Прощай.
386
Дополнения
С тобою я не встречусь, не увижусь,
Но ты — моя по плоти, ты — мне дочь...
Иль нет, скорей болезнь в моей плоти,
Которую я должен звать своей,
Волдырь, гнойник, раздувшийся карбункул
Испорченной крови. Я не браню,
Я не стыжу, — самой пусть стыдно станет.
Удары не зову я громовержца,
К суду Юпитера не обращаюсь.
Как хочешь, как умеешь, исправляйся, —
Я подожду, я буду жить с Реганой
И с сотней рыцарей.
Регана
Нет, не совсем так.
Я не ждала вас, к вашему приезду
Я не готова. Слушайтесь сестры.
Теперь ваш разум омрачился страстью;
Признайтесь, стары вы Она же знает,
Что надо делать.
Лир
Так ты говоришь?
Регана
Скажу вам, сэр: полсотни челядинцев
Довольно за глаза. Зачем вам больше?
Что за опасность требует при вас
Такого множества? В одном дому —
Как под начальством разным с нашей дворней,
Прожить им мирно? Трудно. Невозможно.
Гонерилья
И почему не может вам служить
Ее прислуга или же моя?
Регана
Конечно, если будут нерадивы,
Мы их подтянем. Будете ко мне, —
Теперь тревожно время, — я прошу вас
Взять двадцать пять, а больше не впущу
И не признаю я.
Лир
Я все вам отдал...
Регана
Вовремя вполне.
Лир
387
Лир
Заботы о себе вам передал,
Лишь выговорил для себя я свиту
В таком количестве. Ты, значит, примешь
Лишь двадцать пять, Регана? Так сказала?
Регана
И повторю я, государь, — не больше.
Лир
Созданье злое кажется приятным,
Когда другое злее. Кто не худший,
Достоин похвалы.
(Гонергиъе.)
К тебе я еду,
Ведь пятьдесят — два раза двадцать пять.
Вдвойне ты, значит, любишь.
Гонерилья
Но зачем
Вам двадцать пять и даже десять, пять
Своих людей там, где вам дважды столько
Служить готовы?
Регана
Тут один не нужен.
Лир
Нельзя судить, что нужно. Жалкий нищий
Сверх нужного имеет что-нибудь.
Когда природу ограничить нужным,
Мы до скотов спустились бы. Вот ты —
Не для тепла одета так роскошно, —
Природа роскоши не требует, а только
Заботы о тепле. А то, что нужно...
Терпенья, небо! Мне терпенье нужно.
Смотрите, боги! Бедный я старик,
Я удручен годами, ими презрен.
Раз дочери сердца восстановили
Против отца, да не снесу обиды
Безропотно. Внушите правый гнев,
Не допустите, чтоб слезою бабьей
Мужские щеки пачкались. — Нет, ведьмы,
Я отомщу обеим вам жестоко.
Мир содрогнется!.. Я еще не знаю,
Что сделаю, но сделаю такое,
Что страшно станет. Думаете, плачу?
388
Дополнения
Нет, не заплачу:
Причин для слез немало, но пусть сердце
В груди на части разобьется раньше,
Чем я заплачу. — Шут, я помешаюсь!
Уходят Лир, Глостер, Кент и Шут12.
Если в какой-либо книге встречается нечто подобное — эта острая
сердечная тоска, эти приступы нежности, это красноречивеишее выражение мыслей
и чувств, проносящихся в сознании в самых душераздирающих
обстоятельствах — если нечто подобное встречается еще у какого-нибудь автора, то
можно только порадоваться, однако читать такого автора нам пока не доводилось.
Сцена во время бури, когда Лир ничем не защищен от свирепого разгула
стихий, хотя те бушуют во всю мощь, внушая ужас, уступает предыдущей,
однако нравоучительные эпизоды с участием Безумного Тома, Кента и
Глостера выдержаны на прежнем уровне. Реплики Лира на воображаемом суде над
дочерьми: «Смотри, щенки и все, / Трей, Бланш и Милка, лают на меня»;13
отдаваемые им приказания: «Пусть вскроют Регану; посмотрю, какой нарост
у нее около сердца»;14 его замечание при виде убожества Эдгара: «Природу так
унизить / Лишь дочери бесчувственные могут»15 — все проникнуто глубоким
пафосом, когда мощные ресурсы воображения призваны вскрыть
потаеннейшие движения души, что столь характерно для Шекспира. Не менее
красноречиво и восклицание Лира в ответ на вопрос Шута:
Шут
Скажи, дяденька, пожалуйста, кто полоумный — дворянин или крестьянин?
Лир
Король, король16.
Косвенно участвующий в этих сценах Глостер, который, возмущаясь
жестокостью дочерей Лира, великодушно оказывает ему помощь, в то время как
его самого одолевает стремление искать смерти для собственного сына и
мучает острое сознание его мнимой неблагодарности, являет собой
поразительное дополнение к ситуации, в которой находится Лир. В самом деле,
сюжетные линии переплетены с удивительным искусством, а напряжение чувств,
предстающих во всем разнообразии, неуклонно нарастает, достигая
естественного правдоподобия. В числе замечательных примеров подобного
мастерства — встреча Эдгара со своим старым, ослепшим отцом; хитрость, к которой
Эдгар прибегает, когда, дабы уберечь слепца от прекращения жизни со
всеми ее невзгодами, якобы приводит его на вершину Дуврского утеса: «Сюда.
Остановитесь»;17 столкновение с вероломным дворецким, которого Эдгар
убивает; обнаружение при нем письма от Гонерильи к Эдмунду, ускоряющее при-
Лир
389
ближение финальной катастрофы: «Фортуна завершила круг»18 — и колесо
Правосудия настигает виновников. Напор стремительно сменяющих друг
друга событий в последних сценах просто удивителен. Однако наиболее
сильное впечатление оставляет встреча Лира и Корделии. В этой сцене
заключена вся причудливость поэзии и вся прочувствованная сердцем природная
истина. Предыдущий рассказ о том, с какой болью восприняла Корделия весть
о враждебности сестер к отцу; ее невольный упрек им: «Сестры! Стыдно, леди!
Сестры!»;19 робость Лира, не торопящегося увидеть дочь; беспомощное
состояние, до которого он доведен: «Да, это он. Его сейчас видали, / Безумного, как
бурный океан: / Он громко пел»20, только нагнетают эмоциональное
напряжение и готовят нас к трогательной сцене, нимало не обманывающей наших
ожиданий: нежная забота Корделии побуждает Лира прийти в себя — и он
узнает свою младшую дочь.
Корделия
Как чувствует себя король? Как отдохнул он?
Лир
Напрасно вынули меня из гроба.
Ты — дух блаженный. Но привязан я
К колесам огненным, и даже слезы
Кипят, как олово.
Корделия
Меня узнали?
Лир
Ты, знаю, дух. Давно ты умерла?
Корделия
Далек он от сознанья!
Лекарь
Он не вполне проснулся. Подождите.
Лир
Где был я? Где теперь? — Как, светлый день? —
Я так обманут был! — Будь кто другой,
Я умер бы от жалости. — Нет слов. —
Мои ли это руки? Вот посмотрим.
Булавку чувствуют. Хотел бы я
Увериться!
Корделия
Взгляните на меня
390
Дополнения
И, руки возложив, благословите.
Не надо на колени.
Лир
Ну, не смейтесь!
Я сумасшедший, взбалмошный старик,
Мне восемьдесят лет, ни часу меньше.
Сказать по правде,
Боюсь, не выжил ли я из ума.
Но будто знаю вас, да и его —
Колеблюсь. Главное, мне неизвестно,
Где нахожусь я. Не могу припомнить
Я платья этого, и я не знаю,
Где эту ночь провел. — Прошу, не смейтесь,
Но думаю, что леди эта будет —
Дитя мое Корделия.
Корделия
Да, да!21
Мало уступает по изумительно-устрашающей красоте и та сцена, где отец
и дочь утешают друг друга, когда после одержанной врагами победы их
отводят в тюрьму.
Корделия
Не первых нас,
Добра желавших, злой постиг приказ.
Я за тебя, король, колена гну;
Сама на хмурь судьбы я не моргну.
Не повидать ли дочерей-сестриц?
Лир
Нет, нет, нет, нет! Пойдем скорей в тюрьму:
Мы будем петь там, словно птицы в клетке.
Благословенья спросишь — на коленях
Прощенья попрошу. Мы будем жить,
Молиться, петь средь сказок и улыбок,
Как золотые бабочки. Услышим
От бедняков — придворных кучу сплетен.
Кто выиграл, кто нет, кто вверх, кто вниз, —
Поймем тогда мы тайну всех вещей,
Как Божьи соглядатаи. Снесем
В тюрьме интриги сильных, что влекутся
То вверх, то вниз луною.
Эдмунд
Отвести их!
Лир
391
Лир
Корделия, ведь на такие жертвы
Возложат ладан боги22.
Развязка пьесы печальна, мучительно печальна, и будит в душе
величайшее сострадание. Чувство горя облегчается только напряженной
заинтересованностью, с какой мы следим за злоключениями действующих лиц, и
теми раздумьями, которые эти перипетии порождают. Корделию вешают в
тюрьме по приказу незаконнорожденного Эдмунда; распоряжение об
отмене приказа опаздывает, и Лир, убитый горем, умирает, оплакивая дочь:
Лир
Повешена глупышка! Нет, нет жизни!
Зачем собака, лошадь, мышь — живут,
А ты не дышишь? Ты ушла от нас
Навек, навек, навек, навек, навек! —
Здесь отстегнуть прошу; благодарю вас23.
Лир умирает, и мы сполна ощущаем справедливость произнесенных
Кентом слов:
Кент
Не мучь. Оставь
В покое дух его. Пусть он отходит.
Кем надо быть, чтоб вздергивать опять
Его на дыбу жизни для мучений?24
Для этой трагедии была придумана счастливая концовка, одобренная
доктором Джонсоном и отвергнутая Шлегелем25. Авторитет, более высокий
по сравнению с этими двумя во всем, что касается поэзии и чувства,
высказался в пользу Шекспира — в заметках, посвященных сценическим
постановкам «Лира»; ими мы и завершим наш обзор:
«Лир» Шекспира не может быть представлен на сцене. Презренная маши-
нерия, посредством которой изображают бурю, обрушившуюся на короля,
так же неспособна представить ужасающий разгул природных стихий, как
никакой актер не может сыграть Лира. Величие Лира не имеет
телесного воплощения — оно находится в сфере умственной. Вспышки его
страстей подобны чудовищным извержениям вулкана; это бури, способные
обнажить дно океана — его души, где покоятся богатейшие сокровища. Его
душа — вот что открывается нам до мельчайших изгибов. Телесная
оболочка слишком ничтожна для размышлений, и даже сам Лир о ней не
задумывается. На сцене же мы созерцаем только телесную немощь, бессиль-
392
Дополнения
ное негодование; при чтении пьесы мы не видим Лира, но сами становимся
им; мы проникаем в его сознание; нас поддерживает духовное величие,
которое противостоит злым умыслам дочерей и разгулу стихий; в
помрачении его рассудка мы обнаруживаем могущественную прихотливую
логику, отвлеченную от обычных житейских забот, но, подобно духу,
который дышит, где хочет26, проявляющую свою власть над пороками и
преступлениями рода человеческого. Что общего имеют мимика и интонация
с величественным отождествлением своей старости со старостью самих
небес, когда Лир, упрекая их за потворство злым дочерям, напоминает
небесам, что они «сажи стары»\21 Какая жестикуляция может быть здесь
уместна? Как передать все это голосом, взглядом? Трагедия Шекспира
превосходит всякое искусство, что и продемонстрировали неудачные
попытки ее переделать: считалось, что она слишком тягостна и
сурово-неподатлива; нет обязательных любовных сцен, нет непременной счастливой
развязки. Корделия выступает исключительно в образе дочери: ей
требуется блистать еще и в качестве возлюбленной. Тейт продел кольцо в
ноздри этого Левиафана, чтобы Гаррику и его последователям — людям,
обладающим хорошим чувством сцены, — было легче с ним управляться.
Благополучная концовка!.. Словно переживаемое Лиром мученичество,
страдания души, раздираемой заживо, не делают благородный уход с
жизненной сцены единственно достойным для него итогом. Останься он
здравствовать и вкушать счастье, найди он в себе силы продолжать нести
бремя этого мира, — чего ради затевался тогда весь этот шум-гам с
долгими приготовлениями; с какой стати терзали нас оказавшимся вовсе и не
нужным сочувствием? Неужто ребяческое удовольствие вновь завладеть
скипетром и расшитой золотом мантией могло бы подвигнуть Лира
вернуть себе неосторожно утраченный королевский сан, когда преклонные
годы и весь столь трудно обретенный опыт не диктуют ему никакого
другого выбора, кроме смерти?*
При чтении «Лира» нам пришли в голову четыре соображения:
1. Поэзия — захватывающий предмет для изучения именно потому, что она
касается сторон человеческой жизни, представляющих наибольший интерес.
Тот, кто презирает поэзию, презирает, следовательно, и себя, и весь
человеческий род.
2. Язык поэзии превосходит язык живописи, ибо самые прочные наши
воспоминания связаны с чувствами, а не с лицами.
* См. статью Чарлза Лэма под названием «Theatralia» [здесь: лат. — театральные
заметки] во втором томе «Отражателя»28.
Лир
393
3. Величайшая власть гения выявляется в описании самых сильных
страстей: в плодах творческой фантазии мощь воображения должна быть
пропорциональна силе питающих ее естественных впечатлений.
4. Условие, которое уравнивает испытываемые нами боль и восторг от
трагедии, заключается в том, что соответственно могуществу изображаемого зла
в нас пробуждается осознание противостоящего ему добра и стремление к
таковому; наше сочувствие действительному страданию растворяется в
могучей силе переживаний, доступных нам по воле природы, и прилив чувств,
наполняя все наше существо, несет облегчение породившему их сердцу.
О ПОЭЗИИ ВООБЩЕ
Из общих определений поэзии наиболее совершенным мне представляется
следующее: поэзия — это естественное впечатление о предмете или событии,
которое своей яркостью возбуждает невольный порыв воображения и
страсти, вызывая ответные колебания голоса или звуков, это впечатление
выражающих.
Рассматривая поэзию, я буду говорить сперва о ее предмете, затем о
создаваемых ею формах выражения и, наконец, о связи ее с гармоничностью
звучания.
Поэзия есть язык воображения и страстей. Она имеет отношение ко
всему, что доставляет нам непосредственное наслаждение или причиняет
страдание. Она находит дорогу ко всем нашим чувствам и интересам;1 ибо
только то, что открывается нам в самой распространенной и понятной форме,
может стать темой поэзии. Поэзия — универсальный язык, на котором
сердце говорит с природой и с самим собой. Тот, кто презирает поэзию, не может
уважать ни самого себя, ни вообще что бы то ни было. Это не просто
светский талант (как воображают некоторые), не пустая забава, которой
предаются немногае праздные читатели и которая помогает скоротать часы
досуга, — отнюдь! Поэзия была предметом изучения и восторга человечества во
все века. Многие полагают, что поэзия существует только в книжках, в
десятисложных строках с одинаковыми окончаниями; на самом же деле всюду,
где мы чувствуем красоту, силу или гармонию, — как в беге волн морских или
в распускающемся цветке, который «нежные листки раскроет, чтоб солнцу
красоту свою отдать»2, — там зарождается и живет поэзия. Если история —
серьезное занятие, то поэзия, на наш взгляд, еще серьезнее, ибо источники ее
таятся глубже и разливаются шире. История по большей части имеет дело с
бесформенными, неуклюжими кучами фактов; она громоздит один на
другой пустые ящики, в которых под яр>лыком «интриги» или «войны»
заключены дела всех государств на свете из века в век; но мысли и чувства, которые
О поэзии вообще
395
нас когда-либо посещали, которые нам хотелось бы разделить с другими и
которые были бы восторженно приняты — все это достойный предмет поэзии.
Это не вид сочинительства, это «вещество, из которого соткана наша жизнь»3.
Все остальное — «полузабытье»4, мертвая буква; ибо всё, что в жизни
достойно запоминания, — это поэзия жизни. И страх — поэзия, и надежда — поэзия,
и любовь, и ненависть — поэзия; презрение, ревность, раскаяние, восхищение,
изумление, жалость, отчаяние, безумие — все это поэзия. Поэзия — та
прекрасная частица внутри нас, которая очищает, облагораживает, расширяет,
приподнимает все наше существо: без нее «и человек сравняется с животным»5.
Человек — создание поэтическое6, и даже те из нас, кто не изучает законов
поэзии, все равно действуют в согласии с ними всю жизнь, подобно мольеров-
скому bourgeois gentilhomme*, который, сам того не ведая, всю жизнь
говорил прозой7. Поэт просыпается в ребенке, когда он играет в прятки или
твердит сказку про Джека — победителя великанов; поэтом становится пастушок,
когда впервые увенчивает цветами свою возлюбленную; поселянин, — когда
прерывает свой труд, чтобы взглянуть на радугу; городской подмастерье, —
когда глазеет вслед процессии лорда-мэра; скряга, — когда перебирает свое
золото; царедворец, которому улыбка повелителя сулит милость; дикарь,
который мажет кровью своего идола; раб, боготворящий тирана, и тиран, что
мнит себя богом. Тщеславный и гордый, честолюбивый и буйный, герой и
трус, нищий и король, богач и бедняк, молодой и старый — всякий живет в
мире, придуманном им самим, а поэт всего лишь описывает то, что думают
и делают другие. Если искусство его безумно и сумасбродно, то безумие и
сумасбродство эти — отраженные. «Для них есть причина»8. Поэты не
единственные, у кого «кипят мозги» и чье «воображенье всегда сильней холодного
рассудка»:9
Безумные, любовники, поэты —
Все из фантазий созданы одних.
Безумец видит больше чертовщины,
Чем есть в аду. Безумец же влюбленный
В цыганке видит красоту Елены.
Поэта взор в возвышенном безумье
Блуждает между небом и землей.
Когда творит воображенье формы
Неведомых вещей, перо поэта,
Их воплотив, воздушному «ничто»
Дает и обиталище, и имя.
Да, пылкая фантазия так часто
Играет10.
* мещанину во дворянстве (фр).
396
Дополнения
Если поэзия — пустая греза, то и жизнь наша стоит не многим больше.
Может быть, она и вымысел, созданный из воображаемого и желаемого по
образу нашей мечты, но никакой другой, лучшей реальности нет. Ариосто
описал любовную историю Анжелики и Медоро;11 но разве Медоро, вырезая
на деревьях имя своей возлюбленной, не был так же влюблен в ее
очарование, как сам автор? Гомер прославил гнев Ахилла;12 но разве герой не был так
же безумен, как и поэт? Платон изгнал поэтов из своей республики13,
опасаясь, как бы их описания естественного человека не повредили придуманному
им идеалу человека математического, которому, как он полагал, должны
быть чужды страсти и привязанности, слезы и смех, скорбь и гнев, уныние и
воодушевление. Этот идеал, однако, был химерой, существовавшей лишь в
голове придумавшего ее мыслителя; поэтому поэтический мир певца
«Илиады» пережил философскую республику Платона.
Итак, поэзия следует природе, но воображение и страсти сами являются
частью природы человека. Мы и без поэзии творим мир, соответствующий
нашим желаниям и фантазиям, просто язык поэзии — самое выразительное
средство для воплощения тех созданий нашего духа, по части которых «умо-
иссгупленье весьма искусно»14. Без возвышающего влияния воображения
обычное описание естественных явлений, обычное воспроизведение естественных
чувств, как бы оно ни было отчетливо и сильно, не может быть конечной
целью и предметом поэзии. Она светит не только прямым, но и отраженным
светом: показывая нам предмет описания, распространяет свое сияние окрест:
пламя страсти, передаваясь воображению, подобно молнии озаряет самые
потайные уголки мысли и пронизывает все наше существо. Поэзия по
преимуществу воспроизводит представления, порождающие у нас новые
представления, — а также чувства, порождающие новые представления и новые чувства.
Поэзия несет в мир дух жизни и движения. Она описывает всё в процессе
становления, а не застывшим в покое. Она не выясняет пределы человеческого
восприятия, не анализирует разграничения, проводимые рассудком, но
являет собой избыток воображения, идущего далее действительного или
привычного впечатления от какого-либо предмета или чувства. Поэтическое
впечатление от любого предмета и есть то беспокойное, утонченное ощущение
красоты или силы, которое, ломая все преграды, вырывается наружу и, подобно
тому как пламя тянется к пламени, стремится слиться с другим родственным
образом красоты или величия, жаждет воплотиться в высших формах
фантазии и снять болезненную остроту наслаждения, выразив его с предельной
смелостью в самых поразительных примерах, рисующих иные проявления
того же чувства. Именно потому в поэзии, по мнению лорда Бэкона,
можно увидеть даже нечто божественное, ибо она возвышает дух и
увлекает его к небесам, стремится согласовать образы вещей с чаяниями души,
а не подчинить душу действительности (то, что делают разум и история)15.
О поэзии вообще
397
Поэзия в строгом смысле слова есть язык воображения, а воображением
я называю способность представлять предметы не такими, каковы они сами
по себе, а в том бесконечном и могущественном разнообразии форм и
сочетаний, в какие облекают их другие мысли и чувства. Этот язык не
становится менее верен природе оттого, что не соответствует фактам; напротив, он тем
правдивее и естественнее, когда передает впечатление, которое предмет
производит на наше сознание под влиянием страсти. Если, например,
какой-нибудь предмет попадется нам на глаза, когда мы находимся в состоянии
волнения или страха, то наше воображение исказит или увеличит его и сообщит
ему черты того, что скорее всего способно подогреть страх. Наши глаза
порой — «игрушка прочих чувств»16. Таков универсальный закон фантазии:
<...> ждет ли радости она —
Ей чудится той радости предвестник.
Напротив, иногда со страха ночью
Ей темный куст покажется медведем17
Когда Якимо говорит об Имогене:
Огонь свечи к ней клонится и хочет
Взглянуть под сень ресниц и увидать
Покровом нежных век прикрытый свет18, —
это подсказанное чувством страстное истолкование движения пламени есть
подлинная поэзия.
Влюбленный, уподобляясь поэту, называет рыжие волосы своей
возлюбленной сверкающим золотом, потому что он увлечен ее красотой, заново
открывает ее, и золотистая прядка в ее кудрях ослепляет его воображение
сильнее, чем блеск благородного металла. Мы сравниваем человека
гигантского роста с башней не потому, что он действительно так высок, но потому,
что его фигура, во много раз превосходя обычные размеры, по контрасту
вызывает более внушительное ощущение величины и громоздкой силы, чем
какой-нибудь другой предмет, в десять раз больший. Интенсивность чувства
заглаживает диспропорцию, возникающую при подобном сопоставлении.
Равные права с воображением имеет все то, что в одинаковой с ним мере
способно привести человека в ужас, восхищение, восторг, внушить любовь.
Когда Лир призывает небеса отомстить за него, потому что они, как и он,
«сами стары»19, то в грандиозности такого отождествления его старости со
старостью небес нет ничего чрезмерного или кощунственного, ибо не
подобрать иного образа, который с такой же полнотой выразил бы его чувство
смертельной обиды и отчаяния.
Поэзия — это предельный взлет фантазии и чувства. Описывая реальные
предметы, она соединяет возбуждаемые ими впечатления с образами, порож-
398
Дополнения
денными фантазией; точно так же, описывая наслаждение и страдание, она
сливает их с сильнейшими движениями страсти и с самыми впечатляющими
образами внешнего мира. Трагическая поэзия — самая эмоциональная
разновидность поэтического искусства — всей силой сравнения и
противопоставления стремится довести чувство до высшей точки величия или пафоса; она
ослабляет переживаемое страдание, преувеличивая его в воображении;
отдавая нас безраздельно во власть ужаса и жалости, она тем самым отнимает у
них силу; совершенно не терпя каких бы то ни было ограничений, кидается
навстречу непреодолимому; бросает нас назад в прошлое и вперед в будущее;
открывает нашему изумленному взору и то, что вне нас, и каждое мгновение
нашей собственной жизни; в стремительном водовороте событий возносит нас
из глубин скорби к самому возвышенному созерцанию человеческого бытия.
Когда Лир говорит об Эдгаре: «Природу так унизить лишь дочери
бесчувственные могут»20 — какая скорбная растерянность в этих словах, какой
излом воображения, которое поглощает, впитывает в себя все горести на свете
и не может представить себе другой причины несчастья, кроме той, что
сразила самого короля! Кажется, будто его горе, подобно наводнению, сливает
воедино источники всех чужих горестей. Когда же он в сцене безумия
восклицает: «Все маленькие шавки, Трей, и Бланш, и Милка, лают на меня»21, —
воображение с подсказки гнева представляет дело так, будто весь мир
сговорился против несчастного короля; гнев вызывает в памяти самые
неожиданные и оскорбительные проявления неблагодарности и наглости; он
исследует все уголки, все складки сердца Лира и выискивает в глубине его души
последние остатки добрых чувств лишь для того, чтобы раздавить и убить их!
Так слова Корделии «Да, я!»22 вырываются из ее сердца, подобно потоку
слез, освобождая душу от многолетнего гнета любви и мнимой
неблагодарности. А как прекрасно в «Отелло» обращение гнева против самого себя — с
какими муками отчаяния и сожаления цепляется герой за последние
воспоминания об ушедшем счастье и восклицает:
Прощай, покой! Прощай, душевный мир!
Прощайте, армии в пернатых шлемах
И войны — честолюбье храбрецов,
И ржущий конь, и трубные раскаты,
И флейты свист, и гулкий барабан,
И царственное знамя на парадах,
И пламя битв, и торжество побед!
Прощайте, оглушительные пушки!
Конец всему — Отелло отслужил23.
С какой силой вырывается из глубин его души гнев, нарастая и безумствуя,
как шумный прибой, когда в ответ на сомнения, уж не вернулась ли к нему
любовь, говорит:
О поэзии вообще
399
Нет, Яго, никогда. Как в Черном море
Холодное теченье день и ночь
Несется неуклонно к Геллеспонту,
Так и кровавым помыслам моим
До той поры не будет утоленья,
Пока я в мщенье их не изолью24.
Предельного напряжения его чувство достигает в сцене объяснения с
Дездемоной и особенно ярко проявляется в строках:
Но там, где я мое лелею сердце,
Отвергнутым быть там!25
Существует одна ситуация, когда драматическое проявление гнева
вызывает сочувствие, не пробуждая при этом отвращения: когда в той же
степени, в какой гнев обостряет горе и разочарование, он усиливает стремление к
добру. В этом случае, постигая размеры утраты, мы лучше сознаем и благо-
словенность такого поворота событий. Приступ гнева выворачивает
человеческую душу наизнанку, показывает ее богатства и глубины; все наше
существование, все наши страсти и устремления в совокупности, все, чего мы
жаждем и чего страшимся, предстает нашему взору; действие и ответ на него
зеркально повторяют друг друга; острота непосредственного страдания лишь
заставляет нас сильнее желать приобщения к противоположному миру —
миру добра; вынуждает глубже испить чашу жизни; тянет сердечные струны;
ослабляет давление на них и приводит в движение пружины мысли и чувства
с десятикратной силой.
Поэзия гнева и страсти — воплощение нравственной и интеллектуальной
части нашего существа, равно как и той, что отвечает за чувства, той, что
включает в себя жажду познавать, волю к действию и способность
испытывать ощущения; и для достижения совершенства такая поэзия должна
взывать к этим различным сторонам нашей натуры.
В этом смысле прозаическая трагедия, которую обычно считают наиболее
естественной, оказывается самой неестественной, ибо обращена
исключительно к одной из сторон личности — к ее чувствительности. Вот почему трагедии
Мура и Лилло26, в свое время поражавшие публику, сейчас производят
гнетущее впечатление и мертвым грузом, горестным бременем ложатся на душу
зрителей, бессильных сбросить его. Между тем трагедии Шекспира,
исполненные истинной поэзии, глубоко волнуют наши чувства; все дурное в них
очищается воображением и потаенными движениями сердца; они
пробуждают в нас подлинную человечность.
Трагическая поэзия, однако, увлекает не вымыслом, не фантазией,
присущими ей, как всякой поэзии. Источником и основой увлечения становится не
обман воображения, а свойственное всем нам пристрастие к сильным ощуще-
400
Дополнения
ниям. По наблюдению мистера Бёрка, трагедия собирает толпы зрителей, но
если бы на соседней улице началась публичная казнь, театр быстро бы
опустел27. Дело, следовательно, не в различии между вымыслом и реальностью.
Детям вполне хватает прозаических историй о ведьмах и привидениях; да и
распространителям полных, правдивых, подробных рассказов об убийствах
и уличных расправах вовсе не нужно успеха ради сочинять о них баллады.
Серьезный политик процветает на торговле клеветой и поношениями,
направленными против тех, кого он почитает врагами своими только потому, что
они приносят ему доход. Проповедник добивается успеха, если толкует про ад
чаще, чем про небеса. Ругательства и обидные прозвища представляют собой
особого рода поэзию и риторику — ту, что по душе черни. Потворство
собственным бурным страстям тешит нас не менее, чем знакомство с описаниями
чужих. Мы так же склонны терзаться страхами, как наслаждаться надеждами
на счастье. Если нас спросят, почему мы так поступаем, надо бы ответить:
потому что иначе не можем. Чувство мощи — такой же сильный двигатель
сознания, как жажда наслаждения. Все, что внушает нам ужас и жалость,
владеет нашей душой не меньше, чем красота и любовь. Одинаково
естественны ненависть и любовь, презрение и восхищение, а также выражение
ненависти и презрения, любви и восхищения:
Так страсть, не признающая владыки,
К любви иль отвращенью нас влечет28.
Не то чтобы отталкивающее и омерзительное нам нравилось, — просто нам
нравится давать волю ненависти и презрению к нему; нам нравится говорить
о нем и усиливать гневное изображение его, прибегая к
утонченно-изобретательным примерам и из ряда вон выходящим приемам; нам нравится
превращать его в пугало для самих себя и показывать другим великолепие его
безобразия; нам нравится давать ему чувственное воплощение, клеймить его
всякими наименованиями, нравится сокрушать его мыслью и действием,
оттачивать на нем интеллект, нравится вооружать против него свою волю, узнавать
худшее о нем и сражаться с ним, сколько хватит сил.
Поэзия воплощает лишь высшее красноречие страсти, самое живое из всех
мыслимых воплощений наших понятий о чем угодно — наслаждении и
страдании, низости и достоинстве, радости и горе. Абсолютное совпадение
образа и слова с чувством, от которого мы никак иначе не можем освободиться,
мгновенно «отвечает на мысль»29. Оно же порождает остроумие и фантазию,
комедию и трагедию, великое и трогательное. Когда Поуп говорит о
спектакле лорд-мэра:
С приходом ночи шум и блеск умрет,
Но в ритмах Сеттла день еще живет30,
О поэзии вообще
401
когда Коллинз заставляет Опасность «огромными ручищами» швырнуть его
повыше,
На кручу нависающей скалы31,
когда Лир в муках отчаяния взывает:
Неблагодарность с сердцем из кремня,
Когда вселишься ты в дитя родное,
Морских чудовищ ты тогда страшней! —32
в первом случае удовлетворено чувство презрения, во втором — ужаса, в
третьем — негодования. Мы созерцаем происходящее сами и представляем его
другим в том свете, в каком видим его, в каком, вопреки своему желанию,
вынуждены его видеть. Так воображение, воплощая и определяя очертания
окружающего нас мира, облегчает невнятные и неотвязные устремления.
Пусть мы не приемлем то или иное положение вещей, однако хотим, чтобы
оно предстало в истинном свете; ибо в полноте осведомленности заключена
сознательная сила, а она не допускает заблуждений, хотя разум и может
оказаться жертвой порока и безрассудства.
Во всех своих проявлениях поэзия — это язык воображения и страстей,
воли и фантазии. Ничто поэтому не может быть нелепее требований сухих
критиков-педантов, которые хотят низвести язык поэзии до некоего
среднего уровня здравого смысла и благоразумия: ведь цель и назначение поэзии,
«как прежде, так и теперь, была и есть — держать как бы зеркало перед
природой»33, созерцаемой при посредничестве страсти и воображения, —
посредничестве, которое нельзя подменить буквальной правдой или
умозрительным рассуждением. Как живописец не должен изображать человека, только
что наступившего на змею, с тем безмятежным выражением лица, какое
обычно бывает на портретах, так и поэту не следует описывать самые яркие
и поразительные из всех своих впечатлений на языке повседневной беседы.
Всякий при желании может лишить природу богатства красок и причудливых
форм — поэту не пристало так поступать; впечатления, воспринятые
рассудком (то есть равнодушием) и воображением (то есть страстью), не могут быть
одинаковы, а потому нуждаются каждое в особом языке. Воздействие,
которое тот или иной предмет оказывает на наше сознание, зависит не столько от
свойств этого предмета, сколько от того, как мы подходим к нему и с какой
точки зрения на него смотрим — издали или вблизи (как в буквальном, так и
в переносном смысле слова), от того, представляется он новым или, напротив,
давно знакомым, вызывает или не вызывает опасения, поражает неожиданным
сходством с другим предметом или наводит на мысль о контрасте.
Отказаться от воображения так же невозможно, как увидеть предметы без
света и тени. Одни ослепляют нас сверхъестественным светом, другие держат
402
Дополнения
в напряжении, подстегивая любопытство и желание исследовать их темные
стороны. Вряд ли можно причислить к мудрецам тех, кто пытается рассеять
многообразные иллюзии и водрузить на их место унылую серость. Пусть
естествоиспытатель, если пожелает, поймает светлячка и унесет к себе домой в
коробочке; наутро он увидит лишь невзрачного червячка. Но пусть поэт или
почитатель поэзии посмотрит на него вечером, когда он из изумрудного
сияния строит себе дворец под пахучим кустом боярышника, в лучах молодого
месяца. Как светлячок — частица природы, и притом весьма достойная
внимания, так и поэзия — часть истории сознания, хотя не является ни наукой, ни
философией.
Нельзя отрицать, однако, что распространение знаний и тонкого вкуса
нередко ограничивает воображение и подрезает крылья поэзии. Воображение
властвует над незримым, неизвестным, неопределенным; рассудок
восстанавливает естественные границы предметов и явлений, разрушает надуманные
представления о них. Вот почему история поэтических увлечений так
похожа на историю религиозных: и те и другие ощутимо пострадали от успехов
экспериментальной философии. Только необычное и неопределенное
заставляет воображение работать, дает ему простор: предаваться фантазии можно
только при отсутствии знания. Когда мы заглядываем в чащу
непроходимого леса, мы вольны наполнить ее чем заблагорассудится — хищными
зверями, огромными заколдованными пещерами; совершенно так же, не ведая
ничего о мире вокруг нас, мы кого угодно превращаем в богов или демонов
и не ставим предела своеволию надежд и страхов:
Ведь у поэтов собственное зренье:
В листве, в ветвях им чудятся виденья34.
Сон Иакова35 неповторим. С тех времен небеса ушли ввысь и превратились
в предмет для астрономов. Они перестали будить воображение, и их не
вернут нам ни тщательные измерения, ни «Рассуждения» доктора Чалмерса36.
Скорее приблизят их к нам картины Рембрандта.
Духу поэзии враждебны не только механистические знания, но и
необходимые для их развития успехи цивилизации. Мало того, что
сверхъестественный мир не внушает нам былого трепета, — так мы теперь еще, овладев
искусством счета, можем спокойно разложить по полкам и равнодушно взирать
на повседневность, в которой живем сами.
Герои мифических эпох освобождали мир от чудовищ и великанов.
Нынче мы не столь подвластны превратностям борьбы добрых и злых сил,
нападениям диких зверей или «свирепых разбойников»37, неукротимому
бешенству стихий. А ведь в былое время «и волосы от страшного рассказа на
голове вставали, как живые»38. Но полиция, наводя порядок, все портит: мы
теперь и мечтать не смеем о ночном убийстве. «Макбета» у нас в стране тер-
О поэзии вообще
403
пят только музыки ради39, а в Соединенных Штатах Америки, где
философские принципы правления применяются шире как в теории, так и на
практике, «Оперу нищих» освистали и изгнали со сцены. Общество постепенно
превращается в машину, которая весьма комфортабельно и прозаично
перемещает нас с одного конца жизни на другой — и никаких тебе опасностей, одна
сплошная скука.
Безвестность их завесою накрыла,
Сирена Леность о них нудно пела40.
Изложенные выше соображения могут, пожалуй, подвести к решению
вопроса о сравнительных достоинствах живописи и поэзии. Не хотелось бы
выбирать между ними, но должен сказать, что мне представляется
малообоснованным аргумент в пользу живописи, заключающийся в том, что
благодаря более отчетливой зримости образов она якобы сильнее воздействует на
воображение. Напротив, не будет чересчур дерзким такое суждение: поэзия
более поэтична, чем живопись. Когда художники или знатоки искусства
ведут претенциозные беседы о поэтичности живописи, они только показывают,
что мало знают поэзию и мало любят искусство. Живопись изображает
предмет, поэзия передает его скрытое значение; живопись воплощает свойства
предмета, поэзия же выходит за его пределы, воскрешая все с ним связанное.
Именно там, собственно, и властвует воображение. Опять-таки, что касается
страсти, живопись передает отдельно взятое событие, а поэзия —
последовательное развитие событий. Особенный интерес как раз и заключен в этом
развитии, в чередовании ожидания и неопределенности, когда надежды и
страхи заставляют напрягаться до последнего предела, когда от муки
буквально перехватывает дыхание:
Сравниться может время, что проходит
Меж совершеньем тягостного дела
И первым побуждением к нему,
С тревожным сном иль грозным привиденьем:
В то время дух и смертные орудья
Между собою держат совещанье,
И самый организм весь человека
Подобен небольшому государству,
В котором происходит возмущенье41.
Но к тому моменту, когда картина написана, все проходит. Лица
составляют лучшую часть картины; но не они нам сильнее всего запоминаются из
того, что привлекает наше внимание.
Спрашивается, однако, есть ли на свете что-нибудь лучше пейзажей
Клода Лоррена, портретов Тициана, эскизов Рафаэля42 или греческих статуй? О
первых двух говорить не буду, ибо в них живописное начало сильнее того, что
404
Дополнения
порождает воображение. А вот что касается эскизов Рафаэля, то лучших
комментариев к Священному Писанию не найти. Производили бы они такое
же впечатление, если бы мы не знали текста? Новый Завет существовал
задолго до этих эскизов. И все же одно событие на них не воспроизведено: как
в ночь перед смертью Христос мыл ноги своим ученикам. Разве это
нуждается в комментариях?
Греческие статуи замечательны только формальным совершенством, так
как рядом с ними нет места, где воображение могло бы отдохнуть; поэтому
как на ощупь, так и для сердца нашего они всего лишь камень. Они не несут
знания. Они самодостаточны в своем безупречном совершенстве. Красота
возвышает их над слабостями страсти и страдания. Красота обожествляет
их43, но для нас они не становятся предметом религиозного поклонения;
отточенность их форм выступает лишь как упрек обыкновенным людям.
Статуи не сочувствуют нам и не нуждаются в нашем восхищении.
Содержание и форма поэзии определяются сочетанием естественных
образов и чувств со страстью и воображением. Поэзия обращается к нам на
языке, соединяющем обыкновенное словоупотребление с музыкальными
приемами. Уже давным-давно пытаются выяснить, в чем заключается
сущность поэзии или что именно определяет, почему одни идеи должны быть
выражены прозой, а другие — стихами. Милтон поделился с нами своим
представлением о поэзии в одной строчке:
Мой дух
Тогда питают мысли и невольно
Рождают гармонический напев44.
Как определенные звуки вызывают определенные движения, объединяя
музыку и танец, так и определенные мысли рождают определенные
интонации и превращают «слова Меркурия в песни Аполлона»45. Удивительным
примером приспособления звука и ритма к предмету описания служит
Спенсеров рассказ о сатирах, провожающих Уну в пещеру Сильвана:
С земли она без страха поднялась,
Идет, нигде опасности не чуя,
И вот, как птицы по весне, ликуя,
Влекут сатиры за собою деву,
Поют, смеются, прыгают, танцуют,
Сбирают ветви под зеленым древом,
Венчают Уну, словно королеву.
В дороге звуки флейты не смолкают,
Разносятся кругом в глуши лесной.
Напев пастушеский они играют
И скачут, словно козлики весной.
О поэзии вообще
405
Но вот встречает их Сильван седой,
Разбуженный веселым шумом46.
В строе повседневного языка, напротив, нет ничего музыкального и
естественного. Он совершенно произволен и условен. В самих звуках,
добровольных носителях идей, в грамматическом их оформлении, превращении в речь
не действует принцип подражания природе, соответствия конкретной идее
или выражающим ее чувствам и интонациям. Отрывистость, неровность,
резкость прозы точно так же останавливают поток поэтического
воображения, как ухабы на дороге или спотыкающаяся лошадь нарушают мечтания
рассеянного всадника. Поэзия же сглаживает все эти несообразности47. В ней
музыка языка откликается на музыку души, как бы высвобождая при этом
«потаенный дух гармонии»48. Поэзия приходит тогда, когда некий предмет
или явление овладевает нашим сознанием и не отпускает его, заставляя
сосредоточиться на себе, изнемогать от нежности или загораться восторгом; она
приходит тогда, когда под влиянием воображения или страсти мы пытаемся
продлить и вновь пережить испытываемые чувства, привести их в согласие со
всем окружающим и придать звукам, выражающим эти чувства, гармонию —
вечную, постоянную или, по воле случая, постепенно изменяющуюся.
Музыка звуков длительна и неизменна; музыка мысли так же длительна
и неизменна. Существует тесная связь между музыкой и глубокой страстью.
Безумцы поют. Как только артикуляция естественным образом переходит в
интонацию, возникает поэзия. Коль скоро одна мысль придает характер и
окраску другим, а одно чувство поглощает другое, это значит, что так же
обстоит дело и со звуками, выражающими движения души, сливающими
звуки и слоги воедино. Поэзия создана для того, чтобы восполнить
недостаток гармонии в привычном механизме языка, превратить звук в эхо чувства,
которое и само откликается на себя; чтобы смешать поток стиха — «золотые
кадансы поэзии»49 — с потоком чувства и его немолчным ропотом — одним
словом, для того чтобы поднять воображение над землей, помочь ему
расправить крылья и следовать своему порыву, дабы оно могло «парить свободно в
высоте и вечной синеве небес»50, и его ничто не задерживало, не раздражало,
не отвлекало — ни внезапно возникающие мелкие препятствия, ни
неблагозвучные диезы и бемоли прозы.
Для повседневного языка поэзия — то же, что пружины для кареты или
крылья для ног. В обыденной речи мы добиваемся известной гармонии
благодаря интонациям; в поэзии она достигается ритмичным распределением
слогов. Справедливо замечено, что тот, кто говорит увлеченно, страстно и
целиком отдается теме, часто возвышается до белого стиха и ритмической
прозы. У Чосера торговец в пути всегда «толковал о том, как получать, как
сберегать доходы»51. Каждый прозаик так или иначе прибегает к ритмиче-
406
Дополнения
ским повторам; и только пишущие прозу поэты, когда лишаются механизма
стиха, не знают, как интонационно упорядочить свои сочинения.
Точно так же можно объяснить появление рифмы. Нельзя отрицать
справедливость нашего желания усладить свой слух чудесными звуками или
воспользоваться блистательным совпадением и неожиданной перекличкой слогов,
возникшей в ходе придумьшания и расположения образов. Общепризнанно,
что рифма помогает памяти. Говорят, один остроумный и проницательный
человек заявил, будто знает только четыре действительно удачные
поэтические строки — всем известное четверостишие о числе дней в каждом месяце:
«Тридцать дней в сентябре» и т. д. Но коль скоро повторение одинаковых
созвучий помогает памяти, разве не может оно также подстегнуть фантазию?
Как будто кроме календаря нет ничего достойного запоминания!
Стихи Поупа утомляют чрезмерной сладостью и однообразием. Белый
стих Шекспира воплощает совершенство драматического диалога.
Не всё поэзия, что слывет за таковую; различие между поэзией и прозой
не сводится к стиху. «Илиада» сохраняет поэтичность даже в буквальных
прозаических переводах, а «Поход» Аддисона справедливо называют
рифмованной газетой52. Обыкновенная проза отличается от поэзии тем, что занята
в основном либо чуждыми фантазии банальными, всем известными,
докучными фактами, либо передачей столь сложных и трудоемких процессов,
происходящих в уме человеческом, что исключают своенравие и неистовство
воображения или страстей.
Назову три произведения, которые не относятся к поэзии, хотя и
максимально ей близки: «Путь паломника», «Робинзон Крузо» и новеллы Боккач-
чо. Чосер и Драйден переложили несколько из последних английским
стихом53, но в новеллах этих и изначально воплощались сущность и могущество
поэзии. Все, что возвышает дух над землей, выворачивает наизнанку объятую
непонятными устремлениями душу, то и составляет собственно поэзию, то и
заслуживает такого наименования, «слившись со стихом бессмертным»54.
Если суть поэзии — поражать и приковывать к себе воображение, хотим
мы того или нет, если ей суждено зажигать глаза детей блеском непролитых
слез и никогда не оставлять нас равнодушными и в дальнейшем, — тогда
Джон Беньян и Даниэль Дефо имеют право считаться в своем роде поэтами.
Смешение фантастического и реального в «Пути паломника» не имеет
аналогов в других аллегорических сочинениях. Его паломники парят над землей,
но не покидают ее. Какой пыл, какая красота, какая правдивость вымысла!
Сколько глубокого чувства в описании Кристиана, наконец
переплывающего воды, и в облике стоящих в воротах ангелов с крыльями за спиной и
венками на голове, готовых вытереть слезы на глазах его! Гений автора, хотя и
не «омыт росой Касталии»55, был крещен Святым Духом и огнем. Немалое
значение в книге имеют и иллюстрации.
О поэзии вообще
407
Ежели пребывание Филоктета в заключении на острове Лемнос стало
темой прекраснейшей из всех греческих трагедий56, то что скажем мы о
Робинзоне Крузо и его острове? Возьмите речь греческого героя, произнесенную
в минуту, когда он покидает свою пещеру57, — речь великолепную, — и
сравните ее с размышлениями английского искателя приключений, заточенного
в одиночестве. Мысли о доме, обо всем, с чем он навеки разлучен, теснятся
в нем и гнетут его сердце, как гнетут его непрерывно бьющиеся о
прибрежные скалы волны океана, и самое биенье сердца58 Робинзона слышится в
окружающем его вечном безмолвии. Он говорит:
Когда я ходил по острову на охоту или осматривал местность, меня
внезапно охватывало отчаяние, и сердце мое замирало при мысли об
окружающих меня лесах и пустынях, о вечном и безысходном моем плену на
диком острове, оберегаемом океаном. Даже когда я был совершенно
спокоен, эти мысли обрушивались на меня как буря, заставляли меня ломать
руки и плакать как дитя. Иногда они посещали меня во время работы, и
тогда я немедленно садился, вздыхал, час, а то и два смотрел на землю под
ноги, ничего не делая. Это было еще хуже, чем взрывы слез, ибо в
праздности и унынии скорбь моя не знала конца59.
Правда, из истории его приключений не получилась бы поэма, подобная
«Одиссее», но рассказчик обладал истинным поэтическим гением.
Не раз спрашивали, можно ли отнести к поэзии романы Ричардсона.
Ответить надо, по-видимому, так: нет, потому что они не романы. Да, они
пробуждают интерес, но достигается он с помощью бесконечных мелочей,
непрерывного труда и обращения к вниманию читателей, многократно повторенных
приемов, не вызывающих должной реакции. Пробуждаемое Ричардсоном
сочувствие к героям — не добровольная дань, а пошлина. В произведениях этих
нет ничего от непосредственности и естественности. Им недостает гибкости и
движения. Повествование не «пробуждает эхо в том дворце, где властвует
любовь»60. Сердце не отзьшается на него, будто струна. Фантазия не несется
перед писателем в радостном предвкушении, ее тащат на бесконечных
крючках и блоках, как лилипуты тащили к королевскому дворцу связанного
Гулливера.
Сэр Чарлз Грандисон61 — просто фат. Кабы переместить его в эпическую
поэму, какой у него был бы вид рядом с Ахиллом? Кларисса, божественная
Кларисса, — слишком занимательный персонаж. Она занимает нас своими
оборками, перчатками, вышивками, тетушками, дядюшками — занимает всем, что
не занимательно. Как бы живо ни рисовалось все это, оно не трогает
воображения. В книгах Ричардсона бесконечно много правды и чувства, но и правда, и
408
Дополнения
чувство извлечены из caput mortuum* обстоятельств: они не рождаются из
самих себя. Поэтический талант писателя подобен зажатому в расщепленной
сосне Ариэлю62 и освободится только искусственным путем. Шекспир говорит:
Поэзия похожа на камедь,
Струящуюся из ствола-кормильца.
Не высекут огонь — он не сверкнет,
А пламень чистый наш родится сам
И катится лавиной, все сметая
Со своего пути**'63.
Я хотел бы заключить очерк соображениями по поводу четырех главных
поэтических творений в мире, появившихся в разные периоды истории. Речь
идет о поэмах Гомера, Данте, Библии, и, позвольте мне добавить,
сочинениях Оссиана. У Гомера преобладает принцип действия или жизни; в Библии —
принцип веры и тема Провидения; поэмы Данте воплощают слепую волю, а
стихи Оссиана — увядание жизни и последние дни мира.
Поэзия Гомера героична: она полна жизни и действия; в ней яркость дня
и могущество неудержимого потока. Сила его ума открывает ему доступ ко
всем явлениям природы, ко всем сторонам общественной жизни. Он видел
много стран и наблюдал нравы многих людей64 — и всех собрал в своих
поэмах. Он описывает, как бурная жизненная энергия побуждает его героев
бесшабашно кидаться в гущу сражения; мы видим их перед собой, видим, в
каком боевом порядке их рати выходят на поле брани, «в перьях, как ястребы,
крылами встряхивают, как орлы, после купанья, резвей козлят, как бычки,
буйны, свежи, как месяц май, как солнце в летний зной, великолепны»65,
видим сначала сверкающие доспехи, а затем пыльные и окровавленные.
Между тем боги пьют нектар из золотых чаш — или бросаются в бой, а старцы,
собравшиеся на стенах Трои, с глубоким почтением встают, приветствуя
* Букв.: мертвая голова (лат.); так алхимики называли остающиеся в тигле и не
пригодные для дальнейшего использования продукты химической реакции; здесь: побочного
продукта.
** Сочинения Бёрка нельзя назвать поэзией, несмотря на живость его воображения, ибо
пишет он о сухих, трудно постижимых понятиях, искусственных, а не естественных.
Различие между поэзией и риторикой заключается в том, что первая есть красноречие
воображения, а вторая — красноречие рассудка. Риторика пытается побудить к действию волю
и убедить разум; поэзия достигает всего силою мгновенного сопереживания. Что допускает
обсуждение, не может быть темой поэзии. Поэты, как правило, становятся дурными
прозаиками, ибо их образы, хоть сами по себе и прекрасны, ничего не доказывают и в
споре бесполезны. Французской поэзии недостает воображения. Она скорее назидательна,
чем драматична. Да и наша поэзия в иных своих проявлениях, которыми более всего
восхищаются, может называться поэзией только потому, что использует рифму и
придерживается условного поэтического языка.
О поэзии вообще
409
идущую мимо Елену66. Изумительно у Гомера воссоздано изобилие — его
великолепие, правдивость, мощь, разнообразие. Как и религия, поэзия у
Гомера есть поэзия больших чисел и изящных форм; описывая тело, он не
забывает и про душу.
Поэзия Библии — это поэзия воображения и веры. Она абстрактна и
бестелесна, это поэзия не формы, а силы, не больших чисел, а необъятности. Она
не разделяется на части, но возвеличивается до единства. Представления о
природе в Библии подобны представлению о Боге. Это не поэзия
общественной жизни людей, а поэзия одиночества; каждый человек предстает как
единственный человек на свете, в окружении предметов и явлений природы,
существующих с начала времен, — скал, земли и неба. Это поэзия не действия
и героических поступков, а веры в высшее Провидение и покорности власти,
правящей вселенной. По мере того как Бог переставал рисоваться подобием
человека или воплощением целого сонма самых разных богов, представление
о Нем набирало глубину и силу, расширялось до пределов мироздания, ибо
Бесконечное присутствует во всем: «Даже если мы убежим в самые дальние
уголки земли, мы и там его найдем; мы не можем уйти от него ни на запад,
ни на восток»67. Так человек возвышается в образе своего Создателя.
Такова же история патриархов; они — отцы избранного народа,
наследники земли; они живут в поколениях, которым предназначено прийти им на
смену. Поэзия их, подобно вере, обширна, неопределенна, темна и
бесконечна;68 над нею простирается некое видение, над нею нависает незримая рука.
Суть христианской веры заключена в славе, каковую можно будет лицезреть
в будущем, а иудейской — в том, что Провидение принимает
непосредственное участие в событиях этой жизни. Сон Иакова69 возник из тесного
взаимодействия неба и земли: благодаря ему юный патриарх увидел золотую
лестницу, раскинувшуюся от неба до земли, увидел спускающихся и
поднимающихся по ней ангелов; и там, в пустоте пространства, появился непреходящий
свет. История Руфи тоже звучит так, как если бы вся доступная человечеству
глубина естественной привязанности была заключена в ее груди. В книге Иова
есть описания, более насыщенные образами, более напряженные в своей
страстности, чем любое место у Гомера; таковы строки о богатстве Иова, о
видении, снизошедшем к нему ночью. Метафоры Ветхого Завета смелее,
живописнее гомеровских: всё в них исполнено грандиозности и оттого сильнее
подстегивает воображение.
Данте был отцом современной поэзии и потому имеет право на особое в ней
место. Его поэма — первый значительный шаг прочь от готического мрака и
варварства; на каждой странице ее живо ощущается борьба мысли против
рабства, в котором так долго пребывал человеческий разум. В недоумении, но
не в ужасе, стоял он на темном берегу, отделяющем современный мир от
древнего; через бездну времен видел все, что составляло славу античности, и откро-
410
Дополнения
вение указало ему путь в мир иной. Он дивился чудесам, совершенным до него,
и осмелился вступить с ними в состязание. Скорбью своей души и яростью
пророчеств, вдохновляющих и возвышающих его поэзию, Данте,
по-видимому, обязан Библии; зато на Гомера он совершенно не похож. Гений Данте не
горит ярким пламенем, но излучает стойкий жар очага. Он воплощение
могущества, страсти, своеволия. В том, что касается описаний и вымысла, он не
имеет себе равных среди многочисленных предшественников и
последователей, но его миропонимание находится во власти мрачных абстракций, которые
тяжким бременем ложатся на душу читателей. Немое оцепенение,
благоговейный ужас — следствия сильнейшего впечатления; страшный мрак, подобный
тому, что гнетет нас в кошмарах; единство мировосприятия, которое подчиняет
все собственным целям и облекает все вокруг страстями и фантазиями души,
могут загладить любые недостатки. Предметы, изображенные в поэме Данте,
сами по себе ничем не примечательны; им недостает величия, красоты,
упорядоченности, но поэт придает им необыкновенную мощь, вкладывая в них
самого себя. Его душа сообщает силу созерцаемым предметам, вместо того
чтобы черпать силу у них. Он умеет воспользоваться даже унылой, нагой
пустотой избранной темы. Его воображение населяет обитель смерти и блуждает по
молчаливым небесам. Из всех писателей он наиболее суров, наиболее
неуступчив и непроницаем, наиболее чужд цветистости и показному блеску; он, как
никто, полагается главным образом на собственные силы и на признание их
другими, дает наибольшую свободу воображению своих читателей.
Данте стремится только к увлекательности* повествования и добивается ее,
заставляя сопереживать чувствам, владеющим им самим. Он не просто рисует
волнующие его предметы, но захватывает внимание, раскрывая их
воздействие на свои чувства; вот потому его поэзия и производит на нас огромное,
всепоглощающее впечатление, подобное тому, которое охватывает нас, когда
мы глядим в лицо человека, пережившего дикий ужас. Неправдоподобие
событий, бессвязность и однообразие «Ада» чрезмерны, но читатель покорен
искренностью автора, и интерес к произведению не иссякает до конца.
Великая сила Данте — в соединении внутреннего мира с внешним. Так, создается
впечатление, будто врата ада с их уничтожающей надписью70 наделены
сознанием и даром речи и свое страшное предупреждение высказывают с
пониманием горестей людских. Данте постоянно соединяет бытовое и частное с
величайшей странностью и мистицизмом. Во мраке и тумане подземного мира
внезапно возникает могила с надписью: «Я могила Папы Анастасия
Шестого»;71 и половина тех, кого поэт собрал в аду, ему знакома лично. Смелое
сочетание явлений двух миров, обращение к опыту и осведомленности
читателя усиливают впечатление от прочитанного. У Данте почти не найти
сюжетов для картин. Есть, правда, гигантский барельеф графа Уголино в
исполнении Микеланджело, каковой не следовало писать Рейнолдсу73.
О поэзии вообще
411
Последним я назову Оссиана — писателя, которого никак не могу
привыкнуть считать современным74. Его имя и очарование для читателя
непреходящи. Если Гомер воплощает энергию и силу поэзии в момент ее зарождения,
то Оссиан передает ее старость и упадок. Он живет лишь воспоминаниями и
сожалениями. Только одно впечатление он передает лучше всех поэтов —
чувство утраты, потери друзей, доброго имени, отечества, всего — даже Бог в
его мире отсутствует. Он беседует лишь с призраками мертвых, с
недвижными и хранящими молчание облаками. Холодный свет луны льет слабые лучи
на голову его; лиса выглядывает из развалин башни; порывы ветра качают
стебли чертополоха; и струны поэтической арфы, которых коснулась рука
времени, по которым пронеслась повесть о далеком прошлом, вздыхают и
шуршат, подобно сухим тростникам во власти зимнего ветра. В поэзии
Оссиана безупречно воплотилось ощущение безрадостного одиночества, утраты
смысла и сути бытия, ощущение гибели всего земного и желание уцепиться за
тень бытия, будто бы в насмешку над объятиями любви. В этом смысле нет
ничего прекраснее плача Сельмы по Салгару75. Если бы на самом деле
можно было доказать, что Оссиан — ничто, это был бы только лишний пример
изменчивости всего сущего, горестной утраты, опустошенности сердца; это бы
еще раз подтвердило чувство, которое так часто вырывает из уст поэта
жалобу: «Бегите, черные годы, Оссиану ваши крылья не принесут отрады»76.
СЭР ВАЛЬТЕР СКОТТ
Сэр Вальтер Скотт — бесспорно, самый популярный писатель нашего века;
нынче он — «центр притяжения»1. В нем одном заключена половина
возможностей человеческого интеллекта: если вы разделите вселенную на две части,
то окажется, что он знает все, чем она 6ыла\ все, чем она будет,, — для него
ничто. Его ум предается размышлениям о старине и презирает «этот час
неведущий»2. Он — «laudator temporis acti»*. Старый мир для него населен и
полон событий, новый — скучная, ненавистная пустыня. Он лелеет все
задокументированные суеверия; он содрогается даже от тени новизны. Цепкая
память, накопленный им багаж корыстных предрассудков или романтических
ассоциаций составляют главный его дар. Клетки его памяти вместительны,
содержат самые разнообразные сведения, набиты до отказа так, что жизнь
и движение переливаются через край; между тем аналитический ум его пуст,
слаб, беден, мертв. Писатель воспринимает и бережно хранит все, что связано
с нравами и обычаями, но не рискует приближаться к миру неведомого и
отшатывается от него, как от края бездны.
Царство чистого разума для него — страна Ван Димена:3 бесплодная,
жалкая, далекая, как место ссылки, как унылое пристанище дикарей,
каторжников и авантюристов. Сэр Вальтер ни за что не сумел бы описать «золотой
век» — разве только поместил бы его в Шотландию пятисотлетней давности,
и тогда в помощь унылому стилю ему понадобились бы факты и изъеденные
червями пергаменты. Наш автор исторических романов твердо убежден, что
существует только то, что существовало прежде, что нравственный мир так же
неподвижен, каким в старину считали мир материальный, что мы погибнем,
если решимся чуть-чуть двинуться вперед. Однако все меняется и
становится иным, чем триста лет назад, а из существующего ныне родится то, что
внушает ненависть и страх фанатичному поклоннику добрых старых времен.
* «прославителъ прошлого»4 (лат.).
Сэр Вальтер Скотт
413
Мы давно не читали поэзии нашего автора и давно не думали о ней. Она
бы, наверно, устарела сразу же после своего появления на свет, даже если бы
он сам не сделал все, чтобы изгнать ее из нашей памяти. Нельзя отрицать
выдающиеся достоинства поэзии сэра Вальтера, как внешние, так и
внутренние. Она богата живыми описаниями, одухотворенным действием,
правильным мелодичным стихом; но выразительности ей не хватает. Эта поэзия
«лишена достоинств и заслуг»5, она мгновенно выветривается из памяти. О ней бы
забыли, кабы любопытство публики все время не подпитывалось из того же
вечно бурлящего источника. Не всякий может написать шесть томов
стихотворений, которые захватывают даже придирчивых судей. И все же как
ничтожна популярность поэтических творений сэра Вальтера по сравнению со
славой шотландских романов!
Правда, публика читала «Песнь последнего менестреля»6, «Мармион» и
другие поэмы и восхищалась ими, да и любой из нас с удовольствием читал
и восхищался, потому что так поступали все. Иное дело — прозаические
сочинения того же (предполагаемого) автора. Здесь читатель выступает из толпы,
аплодирует исходя из личных соображений, хочет опередить общественное
мнение, жаждет превознести своих любимых героев громче всех, понять их
лучше других, устанавливает для каждого произведения свою шкалу
сравнительного совершенства, опираясь при этом лишь на собственные бесстрашно-
восторженные суждения.
Автора «Уэверли»7 наверняка забавляют ссоры среди его читателей и
почитателей (не одно ли это и то же?)*, обсуждающих, который его роман
лучше других, сравнивающих и противопоставляющих героев и различные
отрывки из его романов, старающихся перещеголять друг друга в вычурных
похвалах — но в то же время бессильных отдать предпочтение какому-то одному
произведению или воздать должное заслугам писателя — столь они
разнообразны, необыкновенны, одна стоит другой.
Книги стихов сэра Вальтера Скотта были приняты обществом как
нарядные светские знакомые; книги его прозы мы готовы задушить в объятиях, как
старых друзей. В балладах сэра Вальтера было что-то мишурное, показное,
и, подобно тем, кто содержит оперных статисток, мы хотели бы, чтобы наши
пристрастия и вкусы разделяла и поддерживала публика. Романы же — часть
сердца нашего, кость от кости, плоть от плоти нашей8, и мы ревниво
опасаемся, как бы кто-нибудь другой не постиг в полной мере и не оценил их кра-
* Нет! Нам довелось познакомиться с барышней, которая на водах в провинции завела
выдачу книг на дом и открыла шляпное ателье. Когда мы поинтересовались, есть ли в
наличии шотландские романы, она отозвалась о них равнодушно, потому что они «такие
скучные — до конца не доберешься!» — и посоветовала почитать «Агнессу»9. Нам не приходилось
думать об этом раньше, но мы готовы биться об заклад, что многие барышни ее круга
считают скучным роман «Пуритане».
414
Дополнения
соту так, как мы. За кого из героинь его поэм читатель с такой готовностью
пошел бы на бой, как за Джини Динз?10 Какая Дева Озера11 сравнится с
прекрасной Ревеккой?12 Нам кажется, что покойный мистер Джон Скотт и на
смертном одре (пусть кончина его была скоропостижной и мучительной)
покоился с некоторым удовлетворением потому только, что сочинил самый
изысканный доселе панегирик шотландским романам13.
Эпические произведения нашего автора — это не столько поэмы, сколько
романы в стихах. На очертания природы и старого романа наброшено
сверкающее покрывало ритма и рифмы. Глубинный взрез характера
«затягивается и зарастает сверху коркой»14, подробности стерты или сведены к
хлипкой, скучной внешней благопристойности, а правдивость чувств и событий
превращается в тоненький звон, в показную банальность. Признаемся, что в
истинной поэзии заключена сила, благодаря которой душа возносится из мира
реальности в высшие сферы, проницает неподвижные, беспорядочно
разбросанные, внутренне бессвязные предметы и явления материального мира — и
в порыве вдохновения придает им возвышенность и красоту. Но сэр Вальтер
Скотт, утверждаем мы, и пусть нас поправят, лишен этого творческого
импульса, дара пластики, созидательной способности следовать своим первым
впечатлениям. Он ученый, буквалист, прозаический повествователь о вымысле
и правде:* он не парит в вышине и не смотрит оттуда сверху вниз, не
вкладывает в описания природы высокие взгляды и чувства, а опирается на
изображаемый предмет, с ним вместе возвышается, сливается с ним — или
превращается в ничто.
Поэт — прежде всего созидатель; это значит, что энергия и
изобретательность его ума должны возместить нехватку индивидуальности или
недостаточное умение воспроизвести конкретные местные черты. Таких свойств у
писателя, о котором идет речь, явно мало. Он то ли не может, то ли не
хочет озарить предмет описания светом чистого воображения. Его творения
исполнены на уровне недолговечных печатных произведений. Они легковесны,
приятны, томны, многоречивы. Муза сэра Вальтера Скотта — осовремененная
старина. Гладкая, блестящая ткань его стихов удачно контрастирует со
странностью, неуклюжестью, шероховатостью тематики, благодаря чему
описываемые поэтом местные традиции и устарелые одежды освобождаются
от впечатления суровости и тяжеловесности. Мы видим угрюмых рыцарей
и железные доспехи, но небрежной, изящной рукой они затканы в шелк и
нежностью напоминают цветы. Образы поэта подобны скопированной со
старинных гобеленов вышивке на тончайшем бархате; они похожи на рисунки
не Рафаэля, а мистера Уэстолла15, сопровождающие и как бы поясняющие
эти образы.
* Точно так же Коббет — прозаический резонер.
Сэр Вальтер Скотт
415
Легкость и изящество стиха сэра Вальтера тем более замечательны, что,
как рассказывают, незадолго до появления «Песни последнего менестреля»
автор (тогда мистер Скотт)16, переправляясь вместе с приятелем на пароме
через Фрит-на-Форте, предложил ему скоротать время, сочиняя стихи на
заданную тему; через час упорных трудов оказалось, что вместе они написали
только шесть строк. «Совершенно ясно, — сказал собрату по перу еще не
осознавший своих сил сэр Вальтер, — что нам с вами и думать нечего, будто мы
поэзией заработаем себе на пропитание!» Примерно через год после этого он
принялся за работу и стал выпускать том за томом, подобно капели.
По сравнению с истинными и великими поэтами наш шотландский
менестрель — всего лишь «кропатель баллад»17. Нам гораздо больше хотелось бы
написать одну песню Бёрнса, или какой-нибудь отрывок из «Неба и земли»
лорда Байрона18, или одну из «любовных песен и серенад»19 Вордсворта, чем
все эпические поэмы сэра Вальтера вместе взятые. Что он по сравнению со
Спенсером, над чьими бессмертными чарующими стихами витает и трепещет
красота, с чьих божественных крыльев пурпурным потоком на всю природу
пролился свет фантазии? Что у него от могущества Милтона,
устремленного в небесную синь и призывающего нас последовать за ним? Что в его
неторопливо плетущихся виршах от глубокого пафоса Чосера? Или от
всеведущего могущества Шекспира, чей взор, от коего не укроются ни мельчайшие
черты характера, ни сильнейшие порывы страсти, перелетает «с небес на землю,
на небо с земли»20, а сверкающий пламенем гений, играя со всем вокруг,
заливает вселенную лучами своего великолепия? Сэр Вальтер не обладает даром
приводить необычные сопоставления: как мы уже сказали, все его ассоциации
относятся к разряду привычных и традиционных. Поэзия его
повествовательная и описательная, полная разглагольствований о старых временах. Ее
следует назвать поэзией приятной, но поверхностной.
Все это, однако, неприменимо к его романам. Тут мы открываем новые
страницы — хотя в каком-то смысле и прежние; прежние по содержанию, но
сколь же отличные по форме и воздействию! Автор «Уэверли» избавился от
докуки рифмы, от подсчета слогов, от подбора эпитетов, от цветистости
стиля, от тщательной группировки характеров, от плавного развития событий —
и сразу переходит к делу, бьет прямо в цель — бесстрашно и прямодушно. Его
поэзия, подобно горничной знатной дамы, щеголяет в подаренных хозяйкой
старых нарядах; его проза — прекрасная сельская нимфа: подобно Доротее
в «Дон-Кихоте», она застенчиво оглядывается на тех, кто любуется ею в ту
минуту, когда она, распустив косы, купает свои босые ножки в ручье21.
Тайна успеха поздних произведений сэра Вальтера заключена в том, что он
отбросил, словно путы, традиционные правила сочинительства, одним рывком
сорвал с себя (подобно тому как в «Сказке бочки» Джек избавляется от длин-
11 все украшения изысканной прозы и отжившей свои век
416
Дополнения
сентиментальности. Все звучит свежо, как будто вышло из-под руки
природы. Отступив назад на век или два и перенеся действие в далекую от
цивилизации местность, автор придает волнующую новизну современности.
Нравы горцев, характеры, обстановка, суеверия, северный говор и
одежда, войны, религия и политика XVI—XVII веков оказывают на нынешних
читателей самое благотворное воздействие, излечивают их от чрезмерной
утонченности и «изнурительного утомления»:23 впечатление такое же, как
если бы боязливого, болезненного человека погрузили в холодную ванну. Вот
потому в Шотландии шотландскими романами восхищаются меньше, чем в
Англии: контраст, различие не так велики. С вершины Калтон-Хилла24
обитатели «Оулд Рики»25 могут разглядеть (или им так кажется) высоты Бен-
Ломонда26 и волнистые очертания страны Роб Роя; нам, живущим на южной
оконечности острова, дано только одним глазком взглянуть на неровную
местность, описанную автором «Уэверли». Нашим усталым нервам на пользу
бодрящий горный воздух, доставляемый нам в избытке из окрестностей
Абботсфор д а27.
Необходимо принять во внимание еще одно обстоятельство. В
Эдинбурге между почитателями произведений, исходящих из книжных лавок мистера
Констэбла и мистера Блэквуда, возникли соперничество и интриги28. Мистер
Констэбл держит более высокую цену, но вызывает этим недовольство, ибо
он виг. Оттого пытаются усилить популярность второсортных шотландских
романов — «мелюзги, выводка рахитичных птенцов»29, — которые
распространяет мистер Блэквуд. Все это вызывает волнение, но нам до него нет дела.
Пальма первенства в сохранении легендарного наследия принадлежит
автору «Уэверли». Мы можем даже пресытиться сэром Вальтером: нас тошнит
от его подражателей. Могут спросить (да уже спрашивали): «Разве нет у вас
в Англии подходящего материала для романов? Неужто в одной Шотландии
можно найти что-то новенькое и необычное?» И мы ответим: «Да!» У нас
возделан каждый аршин земли; рассчитаны едва ли не все движения
общественной машины. У нас нет места для неистовых потрясений, для уродливых
странностей, для волшебных чар. Последние остатки невежества и варварства еще
витают по ту сторону границы30 (да и то лишь на страницах сэра Вальтера).
У нас, правда, как в развалинах башни Дернклю, есть цыгане31, но они
живут возле подстриженной изгороди, спят в складных кроватях, а вовсе не
лепятся к скалам, как орлы, не ютятся в подземных базальтовых пещерах,
как чайки. У нас есть пустоши с беспорядочными нагромождениями камней,
но нет суеверий, которые превратили бы их в гусей Миклстан-Мура32 или
обнаружили пробирающегося среди них Черного Карлика33. У нас имеются
религиозные секты, но в их ряду не то возвышен, не то смешон только
мистер Ирвинг, каледонский проповедник, который «выходит, таращась, из леса,
подобно сатиру, но при этом вещает, словно оратор»34. Почти сто лет назад
Сэр Вальтер Скотт
417
у нас был пастор Адаме, а чуть более ста лет — сэр Роджер де Коверли!35
Даже сэр Вальтер, как правило, размещает события (с помощью сильного
крюка) под углом в сто миль на север от «Современных Афин»36 или
отодвигает их на целый век назад. Его последний роман*, поистине мистический,
романтичен только на заглавной странице. Вместо «струйки святой воды,
собранной из росы»37, он весьма удивил нас изображением модного курорта
на водах. Ему не следует покидать твердыни традиционного варварства и
диких нравов. Плоскость, ничтожность, фокусы современной цивилизации
погубят его, как уже погубили нас.
Сэр Вальтер обнаружил (какое поразительное открытие!), что факты
любопытнее вымысла, что нет романа увлекательнее, чем роман самой
жизни, и, если мы постигнем, что люди чувствуют, как поступают, о чем говорят
в непривычных, незаурядных ситуациях, впечатление будет «более живым,
звучным, выразительным»38, чем от тончайшей паутины, сплетенной
рассудком. Со всей почтительностью скажем, что сэр Вальтер Скотт уподобился
человеку, который, выходя на сцену, где должен изобразить визг поросенка,
засунул животное под сюртук. Наш автор представил себе реальных людей,
с которыми встречается, «в таком же виде, как при жизни»39. Он перебрал
старинные повествования и перенес их содержание на свои страницы; он
выдавил содержимое заплесневелых хроник; он советовался со странствующими
паломниками, с прикованными к постели гадалками; он вызывал духов
воздуха; он беседовал с живыми и мертвыми, прося их рассказать о себе на свой
лад; заимствуя у других, он обогатил свой талант неиссякаемым
разнообразием, правдивостью и свободой. Он в изобилии извлекал из подлинных
источников подробные сведения и не вносил в них самовольных изменений, не
растрачивал их по пустякам. Он стал личным секретарем исторической
правды. Вот почему мы сможем показать, как прекрасны его сочинения, только
если покажем, как прекрасна сама природа.
История родной страны (при огромных масштабах изображения), нравы,
герои, события, обстановка словно живые предстают в его томах. Ни в чем
нет недостатка — иллюзия полная. Мы слышим биение крыльев в воздухе,
топот ног по земле, когда толпятся в нашем воображении воспроизведенные
писателем персонажи и фантастические видения. Просто напомним
читателю некоторые из творений, вышедших из-под пера сэра Вальтера, хотя ни
пояснения, ни похвалы наши не добавят ничего к яркости вызываемого ими
впечатления.
Назовем для начала (с ним мы раньше всех познакомились) барона Брад-
вардина, горделивого, добросердечного, причудливого, педантичного, и
Флору Мак-Айвор (которой даже прощаем приверженность Стюартам)40, и сви-
* «Сен-Ронанские воды».
418
Дополнения
репого Вих Иан Вора, и Эвана Дху, стойкого даже в смерти, и Дэви Геллат-
ли, поджаривающего яичницу или сочиняющего стихи со свойственной ему
неудержимостью, и двух борзых, которые встретили Уэверли41, — красивых,
будто на картине Тициана или Паоло Веронезе. Тут и старик Бальфур Бер-
ли, свирепо, с горящими глазами размахивающий шпагой и Библией: он
вступает в трактире в схватку с самим Босвеллом, огромным и наглым, а потом
побеждает его в благородном поединке на Лоудон-Хилл;42 тут и сам Босвелл
как живой — гордый, жестокий, эгоистичный, распутный, но после смерти в
кармане у него находят любовные письма кроткой Агнессы тридцатилетней
давности и стихи, посвященные ее памяти43. В том же томе «Пуритан» мы
видим одинокую женщину, которая, подобно слепому из Священного
Писания, сидит на камне44 у поворота к горе, чтобы предупредить Берли об
опасности — о льве на его пути;45 тут и льстиво-любезный Клеверхаус, красивый,
как пантера, невозмутимый, заляпанный кровью; и фанатики Макбрайер и
Маклрот, обуреваемые религиозным рвением и страданиями; и
непреклонный Мортон, и верная Эдит46, которая отказалась «отдать свою руку
другому», в то время как сердце ее «было в глубоком и безжизненном море»47
вместе с ее возлюбленным.
А в «Эдинбургской темнице» перед нами Эффи Динз (нежный увядший
цветок), и Джини, которая для нее больше чем сестра, и старый Дэвид Динз,
патриарх пригорья Святого Леонарда, и Батлер, и Дэмбедикс, красноречивый
в молчании, и мистер Бартолин Сэдлтри, и его благоразумная подруга, и
Портеус, качающийся на ветру, и Мэдж Вильдфайр, безумная и нарядная, и
ее страшная мать. Тут и Мег Меррилиз стоит на скале, а потом лежит в
гробу, «головой к востоку»48, и Дирк Хаттерайк (не уступающий
шекспировскому господину Бернардину)49, и Глоссин, адвокатская душа, и Дэнди Динмонт
со сворой терьеров и своим пони Дампл, и пылкий полковник Мэннеринг, и
щеголеватый старый советник Плейделл, и Домини Сэмсон;*50 и Роб Рой
(подобный орлу в своем гнезде), и судья Никол Джарви, и неподражаемый
майор Гэлбрэйт, и Рэшли Осбалдистон, и Диана Верной51, лучшая
хранительница чужих тайн; а в «Антикварии» — изобретательный и непостижимый
мистер Джонатан Олдбок, и старый нищий Эди Охилтри, и старая Эдит Элспет,
сверхъестественный образ, живая тень, в которой лучина жизни давно бы
погасла, кабы ее не поддерживали угрызения совести и «густая череда»52
воспоминаний; и поразительная жертва феодальной тирании и дьявольской
гордыни — несчастный граф Гленаллан; и Черный Карлик; и его друг Хобби из
Хейфута (веселый охотник); и его кузина Грейс Армстронг53, смеющаяся и
свежая, как утро; и Сыны Тумана;54 и ищейка, с лаем бегущая по их следам
* Быть может, самая чудесная из всех сцен шотландских романов та, где Домини
встречается со своей ученицей, мисс Люси, в утро после приезда ее брата55.
Сэр Вальтер Скотт
419
(эхо ее лая преследует нас и сейчас); и Эми с ее несчастной любовью; и
негодяй Варни;56 и басистый Джордж Дуглас;57 и неколебимый Людовик
Меченый, и мэтр Оливье, цирюльник в «Квентине Дорварде»; и причудливый
юмор в «Приключениях Найджела», и комизм «Певерила Пика»; и
прекрасный роман о стародавней Англии «Айвенго».
Какой список имен! Какое полчище ассоциаций! Что за чудо жизнь
человеческая! Каково могущество гения! Сколько мыслей и чувств воскресил
автор из небытия! Сколько часов искренней радости подарил веселым и
беззаботным читателям! Сколько опечаленных сердец излечил от боли и чувства
одиночества! Неудивительно, что публика в ответ благодарит и долго
рукоплещет. Он пишет так же стремительно, как она читает, и ничуть не сбавляет
темпа. Он всегда на виду у публики и никогда ей не надоедает. Самые
худшие его книги лучше, чем лучшие книги других авторов. Отлично
выписанный в его романах фон (а в его последних произведениях почти ничего
другого и нет) привлекательнее, чем главные персонажи и сложнейшее развитие
действия у других писателей. В своей совокупности его сочинения
представляют собой как бы новое издание человеческой природы. Вот что значит быть
настоящим писателем!
Политическая направленность шотландских романов тоже в немалой
степени говорит в их пользу. Чтение их — отдохновение для души, истощенной
современной философией и перевозбужденной крайним радикализмом. В
дни, когда, похоже, предстоит возрождение принципов Стюартов, интересно
узнать о них самих и их злоключениях58. Исторически честное перо сэра
Вальтера расправляется с великим множеством предрассудков на этот счет
и одинаково справедливо к круглоголовым59 и роялистам, протестантам и
папистам. Он из тех писателей, кто умеет примирить своих читателей с
великим разнообразием проявлений человеческой природы. Он не вникает в
разногласия враждующих сект или партий, но занят силой и слабостью души,
добродетелями и пороками, каковые все перемешаны в человеке и
человечестве. Потому-то все его сочинения отличают благородство замысла и
изящество исполнения.
Кто-то говорил, что наш автор собирается сделать героем одного из
своих романов Гая Фокса, чтобы дать более широкое и гуманное истолкование
«порохового заговора»60, чем то, что порождено нашими антикатолическими
предубеждениями и бытовало до сих пор. Сэр Вальтер изо всех сил старается
просветить свой век, освободить его от старинной, но все еще живущей
среди англичан ненависти к католичеству и феодализму. По-видимому, ежели
следовать странными путями логики подобострастия, то получается, что,
возрождая в романах притязания Стюартов, мы тем самым укрепляем права
Брауншвейгской монархии61, а стало быть, исходя из аналогичных
рассуждений, Бурбоны становятся законной династией! В противном случае нам никак
420
Дополнения
не уразуметь, почему сэр Вальтер воображает, что своими романами «сделал
кое-что для возрождения угасающего духа лояльности». Его лояльность
строится на мнимой измене: он поддерживает трон, изображая возмущение
против него.
Неужели он всерьез надеется, что его честное, суровое изображение
«старого доброго времени»62 заставит нас полюбить ту эпоху? Не хочет ли он
вернуть нас, как к «многожеланному исходу»63, к варварству прежних времен, к
первобытным кланам и феодальному строю? Неужто он и в самом деле
ослеплен своим увлечением и так тупо предан собственным устарелым
предрассудкам, что искренне верит, будто может побудить хотя бы одного человека
восхищаться красотами легитимизма64 — то есть на самом деле беззакония и
дикого фанатизма? Ведь ему самому приходится извиняться за изображаемые
им ужасы и даже, чтобы подчеркнуть достоверность своего рассказа для
современных читателей, ссылаться на подлинные исторические хроники тех
прелестных времен*.
Наш автор, в самом деле, настолько не понимает морали, вытекающей из
его собственного повествования, что в слепоте неведения лезет из кожи вон,
нападая на низость и жестокость65 — презренные качества, присущие (пытается
внушить он нам) современной черни, а сам при этом описывает толпу ХП века,
которая, казалось бы, должна быть ему по сердцу, поскольку напрочь чужда
современной философии и революционной политике; толпу, которая вела себя
* «А теперь мы считаем своим долгом привести доказательства более убедительные,
чем праздный рассказ, дабы оправдать мрачный тон только что развернутой перед
читателем картины нравов. Грустно думать, что доблестные бароны, те, кто своим
противостоянием трону положил начало английским свободам, сами были ужасными тиранами,
способными на крайности, которые противоречат законам не только Англии, но человечества и
природы. Увы, достаточно позаимствовать у прилежного Генри хотя бы один из
многочисленных эпизодов, собранных им из сочинений тогдашних историков, чтобы доказать: ни
один роман не передает мрачной реальности этой страшной эпохи.
Приведенное автором саксонской хроники описание жестокостей, которые в
царствование короля Стефана66 творили норманнские бароны и владельцы замков, убедительно
доказывает, до каких крайностей доводили их бурные страсти:
"Они тяжко угнетали бедняков, когда строили свои замки, а выстроив, заполняли их
злодеями, вернее, исчадиями ада, которые хватали без разбора мужчин и женщин по
малейшему подозрению в состоятельности, бросали в темницу, подвергали пыткам
более жестоким, чем когда-либо переживали святые мученики. Некоторым до удушья
набивали рот грязью, других подвешивали за ноги, за голову, за большие пальцы и
разжигали внизу под ними огонь. Головы других несчастных обматывали узловатыми
веревками, впивавшимися в их мозг, третьих бросали в подземелья, кишащие гадами,
змеями и жабами"
Однако было бы бесчеловечно мучить читателя, приводя описание до конца»67
История Генри. Изд. 1805. T. Vu. С. 346. '
Сэр Вальтер Скотт
421
ровно так, как велели ей короли, знать и духовенство; толпу, которая
сбежалась поглазеть (зрелище нередкое для тех времен), как за колдовство
сжигают на костре прекрасную Ревекку только оттого, что она еврейка, прелестная,
невинная, и потому должна стать жертвой неистового фанатизма и
разнузданности. Именно в ту минуту, когда сердца читателей горят и разрываются от
возмущения отвратительными злоупотреблениями самозваной власти, сэр
Вальтер прерывает рассказ, чтобы усмехнуться над народом и тем самым, как
он полагает, вставить палку в колесо наглых нововведений. Вот что у него
«называется быть опорой друзьям»;68 так он подпитывает и подкрепляет нашу
любовь к легитимизму и заставляет проникнуться страхом перед всякой
реформой — гражданской, политической, религиозной — и с готовностью
подавляет Дух Века.
Автор «Уэверли» с тем же успехом мог бы подняться на каком-нибудь
обеде в Эдинбурге и произнести речь, осуждая мистера Мак-Адама за ремонт
дорог69 — на том основании, что «шестьдесят лет назад»70 они были во многих
местах почти непроходимы, — или возражая против поданного мистером Пилем
билля о полиции71, поскольку Хаунслоу-Хит72 раньше был для разбойников
привлекательнее, а для путешественников страшнее и занимал больше места
в Ньюгейтском календаре73, чем сейчас. О Уиклиф, Лютер, Хэмпден, Сидни,
Сомерс, заблуждающиеся виги и бездумные реформаторы от политики и
религии, и все вы, поэты и философы, герои и мудрецы, основатели искусств
и наук, патриоты, благодетели рода человеческого, просветители и
наставники, вы, подчинившие (до сих пор подчинявшие) мнения рассудку, а силу —
законам; вы, благодаря кому мы больше не сжигаем еретиков и ведьм на
медленном огне, благодаря кому отвратительно скалящиеся в улыбке судьи
не используют тиски, чтобы вырвать признание в преступлениях, вменяемых
узникам совести; благодаря кому люди теперь не висят без суда и следствия,
подобно желудям на деревьях, и не мечутся затравленно, как дикие звери, по
чащам и долинам; благодаря кому ограничены жестокость
священнослужителей, кичливость знати и божественное право королей; благодаря кому мы
теперь уже не носим ошейника свинопаса Гурта и шута Вамбы;74 благодаря
кому замки знатных лордов перестали быть логовами бандитов, огнем и
мечом опустошающих землю; благодаря кому мы не подыхаем в жутких
подземельях, даже не зная причин заточения; благодаря кому нам не отсекают
правую руку за то, что мы подняли ее, дабы защититься, отражая
бессовестное оскорбление; благодаря кому мы можем лечь спать без страха, что нас
спалят в собственной постели, можем путешествовать, не составляя заранее
завещания; благодаря кому Ричарды Варни безнаказанно не сбрасывают в
люки наших Эми Робсарт75, Рыжие Разбойники из Уэстбернфлэт76 не
поджигают мирные сельские домики, Клеверхаус77 не развлекается
хладнокровным подписыванием смертных приговоров, а Тристан Отшельник и Малыш
422
Дополнения
Андре78 не ползают вокруг нас, будто пауки, каждую секунду вызывая у всех
содрогание и сердцебиение, — вы, кто совершили все эти перемены в
природе и обществе, вернитесь вновь на землю и попросите прощения у сэра
Вальтера и его покровителей, которые вздыхают, потому что не могут отменить
всего содеянного вами!
Если оставить данный вопрос в стороне, у нас по поводу романов
мистера Скотта имеются еще два замечания. Во-первых, мы хотели выразить
восхищение добродушием эпиграфов, в которых автор нашел случай
припомнить и процитировать почти всех ныне здравствующих писателей
(знаменитых и никому не известных), кроме самого себя, — косвенный довод в пользу
общего предположения об источнике этих эпиграфов; а во-вторых, мы хотели
бы высказать изумление по поводу многочисленных, сплошь и рядом
встречающихся в его книгах примеров дурного и неряшливого языка — примеров
этих больше, чем в любых других ныне публикуемых изданиях. Возникает
впечатление, будто автор не перечитывал своих рукописей и не держал
корректуру.
Если бы когда-нибудь существовал писатель, который «рожден для
вселенной», но «сузил свой ум», «по ветру пустил ослепительность дум»79, который,
обозревая природу с высоты своего гения и пристально вглядываясь в
глубины сердца человеческого, «подмигнул и боязливо закрыл глаза»80 на любую
мысль и намерение, направленные во благо человеческое; который, хотя
трудолюбие и успех принесли ему достаток, славу и самых почтенных
покровителей, опустился, однако, до недостойного искусства лести и стал
поддерживать мнения великих мира сего с низким раболепием самого жалкого
прислужника; который, добившись восхищения публики (и, вероятно,
собственного бессмертия), не проявил уважения ни к себе, ни к таланту, благодаря
коему завоевал известность, ни к попранной им природе; который, при
свойственных ему добросердечии, искренности, дружелюбии, мужественности в
частной жизни, впадал в совершеннейшее бабское неистовство, как только
речь заходила о политике; который честность, широту понимания хранил для
истории, а мелочность, раздражительность, недовольство, фанатизм и
нетерпимость обрушивал на современников; который отстаивал неправое дело, да
еще прибегая к недозволенным приемам; который ради собственных
интересов и чужих предрассудков словно бы забывал о требованиях гордого
разума и мужества; который за восхищение и похвалу со стороны приверженцев
разных партий отплатил за широту их взглядов тайным предательским
ударом по репутации всех, кто не был орудием власти; который задушил ростки
многообещающего таланта тиной долго вынашиваемой злобы и корыстного
презрения только потому, что ростки эти не взошли на грядке
испорченности нравов и низкопоклонства; который остервенело поддерживал
гнуснейшие злоупотребления власти; который присоединился к шайке головорезов,
Сэр Вальтер Скотт
423
чтобы с ними вместе изливать клевету, презрение и поношения на честных
и талантливых представителей враждебного лагеря; который так назойливо
помогал власть имущим решать государственные проблемы, прибегая к
личным оскорблениям, и поддерживать Церковь — ложью, а трон — подбором
обидных кличек для его противников; который, будучи признан всеми как
самый прекрасный, гуманный, изысканный писатель своего века, запятнал
тесным сотрудничеством и добрыми отношениями с подлейшими
прихлебателями продажной прессы (каковая отравляет общественное сознание
отбросами ругани и вульгарного словесного хлама; не испытывает ни угрызений
совести, ни жалости, ни сострадания к жертвам хорошо организованной
бесчестной системы политических гонений, скрывающихся под маской
литературной критики и честных дискуссий; оскорбляет несчастных и попирает
могилы безвременно ушедших),
Кто б не скорбел, что есть подлец такой?
Кто б не рыдал: и это Аттик мой?81
Мы убеждены, впрочем, что нет другого века и нет другой страны (кроме
нашей), где бы гений мог пасть так низко.
ЛОРД БАЙРОН
Среди ныне здравствующих писателей лорд Байрон и сэр Вальтер Скотт
получили бы большинство голосов на выборах величайших гениев века.
Первого, вероятно, предпочли бы светские леди и джентльмены (если бы
отбросили чрезмерную щепетильность), второго — критики и простые
читатели. Мы будем говорить о них вместе, отчасти потому, что оба занимают
самое высокое положение среди литераторов, а также отчасти потому, что
они составляют друг другу полную противоположность. В поэзии, прозе,
политических воззрениях, чертах характера не найти двух более непохожих
людей.
Некоторые почитают сэра Вальтера Скотта
Единым человечества наследником1.
И совершенно ясно, что лорд Байрон на это притязать не может. Он — в
значительной степени поразительное создание собственной воли. Он не
вступает в общение с себе подобными, у него нет ни друзей, ни товарищей, он
один —
Сам человек лишь был творцом себя,
Родства не зная никакого2.
Он подобен одинокой горной вершине, недосягаемой далее не потому, что
она высока, а потому, что до нее идти и идти. Он вознесен на эту вершину,
«тучами увенчанную»3, или отражает последние лучи заходящих светил. Когда
этот гений настроен на поэтический лад, он напоминает легендарных титанов,
селившихся на кручах, игравших на свирелях Пана4 и с высокомерным
равнодушием воспринимавших обыкновенных людей с их мелочными
заботами. Он возвышает предмет своей поэзии до себя — или топчет его ногами,
Лорд Байрон
425
но не унижается до него и не теряется в нем. Он движим не тем, что ему
близко, а тем, что ненавистно. Он презирает всех и вся — даже себя.
Природа должна сама являться к нему, если хочет, чтобы он изобразил
ее, — он не пойдет к ней. Она должна считаться с его временем, удобством,
перепадами настроения и облечься в мрачный или фантастический наряд —
не то его милость повернется к ней спиной. Ему чужды легкость,
непритязательная простота, «золотая середина»5. Он до крайности взвинчен и
раздражен. Мысли его как хрустальные шары; стиль «горделивей, чем синий ирис»;6
он вспыльчив, несдержан, своеволен, неутомим. Он не черпает цельные,
нетронутые груды впечатлений из внешней среды; он отливает их в формах
согласно своему темпераменту и закаляет изделия своего воображения в
горниле собственных страстей.
Стихи лорда Байрона сверкают как пламя, пожирающее все на своем пути;
стихи сэра Вальтера Скотта текут как река — прозрачная, тихая,
безмятежная. Поэзия первого обжигает, второго — едва согревает. У одного свет
исходит из внутреннего источника, кроваво-красного, мрачного, застывшего;
другой отражает все оттенки небес и лик самой природы — живой, изменчивый,
многообразный. Творения северного барда несут в себе патину и свежесть
старины; сочинения сиятельного певца перестают изумлять, будучи
переполнены честолюбивым стремлением к новизне стиля и содержания. Стихи сэра
Вальтера возвещают
бесхитростную истину
И мыслями невинными играют,
Как старикам дано7
Муза его милости презирает стародавние времена и ведет себя подобно
современной кичливой франтихе и выскочке. Один писатель стремится
приблизить к нам истину и природу, другой больше всего озабочен тем, как бы
щегольнуть своим могуществом, или дать волю своему раздражению, или
поразить читателя новизной мысли и слова либо перепевом старых мотивов
на такой новый, необычный выразительный лад, какой еще никому не
снился. Его мало тревожит, что он говорит, главное — сказать иначе, чем другие.
Отсюда и часто предъявляемые сиятельному стихотворцу обвинения в
плагиате: ведь, когда ему удается позаимствовать у другого образ или чувство и
усилить их с помощью эпитета или аллюзии, превосходящих по яркости и
красоте оригинал, он полагает, что тем самым более убедительно доказал
свое превосходство, чем если бы сам изначально все придумал. Он
обеспокоен не ценностью своих наблюдений, а хочет блистать по контрасту — даже
природа служит ему лишь фоном для нарочитой демонстрации своего стиля.
Вот почему вырывает он речи из уст современников или предшественников,
присваивает их себе, помечает своей печатью, придавая им больше внешне-
426
Дополнения
го блеска, отчетливости, возвышенности интонации и характерную
непримиримость.
Даже в том, что касается привычных примет современного стиля —
неряшливости, неровности, эксцентричности, а также зажатости и
многозначительности, — лорд Байрон, стоит ему захотеть, превосходит всех современников
настолько, что никто не смеет с ним тягаться. Чем бы он ни занялся, он
непременно окажется решительнее и отважнее всех на свете: праздности
предается каким-нибудь необычным образом, а зевает так отчаянно, что пугает
читателя. Своеволие, страстность, приверженность ко всему из ряда вон
выходящему, презрение к себе и другим (при ясном осознании, что и таким
образом можно добиться всеобщего восхищения) — вот главные черты его
характера; он писатель из высшей знати, ему нет дела до собственной
репутации, он снисходит к музам с презрительной благосклонностью.
В политике лорд Байрон — либерал8, но в творчестве — высокомерный
аристократ. Вальтер Скотт, аристократ по политическим взглядам, в своих
сочинениях прост и доступен и, можно сказать, готов одинаково служить как
природе, так и общественному мнению. Талант сэра Вальтера
преимущественно подражателен, «следует готовым умозаключениям»;9 талант лорда
Байрона независим — по крайней мере, не нуждается в помощи, не подчинен
никаким законам, кроме собственной воли.
Признаемся, что, как бы ни восхищала нас независимость чувства и
прямота духа, проявляющаяся в теоретических и практических вопросах,
однако среди авторов художественных произведений те, кто склоняется перед
авторитетом природы, обращается к реально существующему, к гнилым
суевериям, истории, наблюдениям и традициям, милее нам, чем те, кто
прислушивается только к беспокойному биению собственного сердца и выдает
излияния своей души за пророчества. Нам больше нравится писатель (все равно,
прозаик или поэт), который охватывает (или готов охватить) полмира чувств,
характеров, описаний, нежели тот, кто с постоянным упорством запирается
в Бастилии собственных страстей10. Иначе говоря, нам бы в сто раз больше
хотелось быть сэром Вальтером Скоттом (как автором «Уэверли»), чем
лордом Байроном, — и именно по причине только что названной: сэр Вальтер в
своих описаниях следует природе, всегда изменчивой, никогда не
надоедающей, неизменно любопытной и поучительной, а не ограничивает их рамками
личных впечатлений. Он рисует человека таким, каков он есть или был, во
всем разнообразии положений, поступков и чувств.
Лорд Байрон же создает мужчину по своему образу и подобию, а
женщину — как подсказывает ему сердце; при этом мужчина у него — капризный
тиран, а женщина — покорная рабыня. Поэт представляет нам то
мизантропа, то сластолюбца, и в этих двух типах, горящих или растворяющихся в их
собственном пламени, воссоздает свой вечно повторяющийся образ. Он оку-
Лорд Байрон
427
тывает весь внешний мир облаком, завесой пережитых ощущений, сидит,
окруженный мыслями, и с наслаждением переживает темны ночи и ясны дни,
блеск и мрак «в совершенном монашеском уединении»11. Мы видим траурный
покров, распятие, череп, венок увядших цветов, мерцающие свечи,
страдальческое чело гения, изможденную красоту, — однако мы все еще пленники
подземелья, завеса нам застит взор, мы не в силах свободно вдохнуть воздух
природы или наших собственных мыслей.
Между тем другой любимый нами писатель отодвигает занавес, срывает
покров самолюбования и показывает нам живых мужчин и женщин, то
поодиночке, то всех вместе, на фоне живописного пейзажа, облаков, радуги,
обогащает наше воображение, усмиряет страсти, расширяет и просвещает
мысли, помогает избавиться от чувства стеснения в груди, которое
возникает оттого, что мы думаем — или хотим думать, — будто в мире нет ничего вне
нашего сознания! С этой точки зрения автор «Уэверли» — один из
величайших наставников нравственности, известных человечеству, ибо он освободил
наш ум от мелких, узких, ханжеских предрассудков; тогда как лорд Байрон
как никто другой стремится потакать этим предрассудкам, ибо, по-видимому,
полагает, что выращивать стоит только семена или пышные заросли
догматизма и самоупоения.
Читая шотландские романы, мы никогда не думаем об авторе — разве что
хотим разузнать что-нибудь о нашем неизвестном благодетеле; когда же
открываем сочинения лорда Байрона, он никогда не покидает нас. Какое бы
богатство красок, подобное тирскому пурпуру12, ни передавал его стиль, он тем
не менее непроницаем для внешнего мира и вызывает восторг и удивление
сам по себе; стиль сэра Вальтера Скотта совершенно прозрачен. Изучая
первого, вы будто созерцаете рисунок, вырезанный на цветном стекле, и не
можете разглядеть, что там скрывается за ним, так как чистый небесный свет —
лишь средство подчеркнуть великолепие искусства; читая второго, вы глядите
в высокое окно на явственно вырисовывающийся разнообразный пейзаж.
Подводя итоги, можно свести различие между нашими авторами к одному
слову: сэр Вальтер Скотт — наиболее драматичный из ныне здравствующих
писателей, лорд Байрон — наименее.
Трудно заподозрить автора «Уэверли» хоть в малейшем педантизме; но не
легче и уговорить себя, что автор «Чайльд-Гарольда» и «Дон-Жуана» не фат,
вызывающий и надменный. Отдавая решительное предпочтение сэру
Вальтеру Скотту, мы имеем в виду лишь его прозаические сочинения; стихи его
никоим образом не дают ему права на первенство. Они приятны и
естественны, однако вряд ли стоит принимать их всерьез; лишь в анонимных творениях
автор раскрыл свои истинные возможности.
Энергия силы — вот главная отличительная черта сочинений лорда
Байрона. Он достиг могущества стиля, но не создал ни одного цельного, закончен-
428
Дополнения
ного произведения искусства. Он не составляет заранее никакого плана, не
пересматривает и не переписывает, чтобы все скрупулезно отделать. Он
словно стремится хотя бы на мгновение встряхнуть читателей и самого себя,
пробудить и себя, и их от спячки, развеять ennui*, прогнать равнодушную лень
и тихие удовольствия, привести им на смену лихорадочное, раздраженное
волнение.
С этой целью он наугад, без особого размышления и без тени
деликатности, бросается к любой теме — ему лишь не терпится начать, а затем он
старается по ходу дела разукрасить и обогатить выбранную тему «дыханьем
мысли и словесным жаром»13. Он сам говорит, что сочиняет везде: в ванне,
в кабинете, во время верховой езды;14 писать для него столь же привычно, как
для других — размышлять и разговаривать; и независимо от наличия у нас
способности черпать вдохновение у музы, мы всегда чувствуем в его стихах
дыхание гения. Он хватается за свою тему, он постигает, оживляет и
развивает ее магической силой собственного чувства. Он часто однообразен,
экстравагантен, оскорбителен, но никогда не скучен — разве что в прозе.
Лорд Байрон не демонстрирует нового взгляда на природу, не
возвышает ничтожные предметы до уровня значительных, окружая их
романтическими ассоциациями, но, как правило, берет обычные мысли и события и
пытается выразить их с большей силой и достоинством, чем другие. Его поэзия
вырастает над своим предметом, как башня Мартелло15. В отличие от мистера
Вордсворта, он не возносит поэзию над землей и не создает чувства на
пустом месте. Он описьшает не маргаритку, не барвинок, а кедр или кипарис, «не
бедных хижины, а царские палаты»16. Его «Чайльд-Гарольд» — не что иное,
как возвышенное, пылкое обозрение великих исторических событий, мощных
обломков времени, но говорит поэт главным образом о том, что известно
каждому школьнику; он почти не открыл новых мыслей и чувств, а лишь
поддерживает давно сложившиеся представления читателей блеском и
мощью своего образного стиля.
Ранние произведения лорда Байрона — «Лара», «Корсар» и другие — были
жуткими мрачными романами, облеченными в стремительный сверкающий
стих. Они раскрывают безумие поэзии и вдохновения; угрюмые, гневные,
прихотливые, свирепые, неумолимые, упивающиеся красотой, жаждущие
мщения, бросающиеся от немыслимых наслаждений к невыносимому
страданию, они лишены устойчивости и здоровой естественности. Кричаще яркие
декорации и болезненные чувства напоминают цветы, рассыпанные на
могиле! Как уже было сказано, в «Чайльд-Гарольде» поэт берет горделивый
философский тон и «предается высоким помыслам о Провиденье, Провиденье,
о воле и судьбе»1.7. Он выбирает вершины мировой истории и комментирует
* тоску, скуку (фр.).
Лорд Байрон
429
их с высоты еще большей; он показывает нам разрушенные памятники
времени, взывает к знаменитым именам, к могущественному духу древности.
Мироздание превращается в величественный мавзолей, и поэт размеренно,
торжественно поет гимн славе.
У лорда Байрона довольно силы и высоты духа, дабы воскресить наши
классические, освященные временем воспоминания и огненным пером вновь
зажечь прежнюю жажду величия и истинной славы. Имена Тассо, Ариосто,
Данте, Цинцинната, Цезаря, Сципиона не бледнеют и не тускнеют на его
страницах18, и, когда он исполняет посвященный им панегирик, мы поистине
оказываемся на пиршестве роскошных дифирамбов в честь немеркнущей
славы —
Пока не насладимся вволю19.
По-видимому, лорд Байрон с негодованием отшатывается от «этой отме-
ли времен» , а заодно и отвергает хрупкий, неустойчивый челнок, несущий
известность среди современников, и бросается в безбрежное море
прославленной старины, а затем неутомимо реет над ним, широко простирая крылья.
Даже тут проявляется его хандра; в презрении к дню ньшешнему он обращает
взор на блистательное прошлое или старается провидеть туманное будущее.
Трагедии лорда Байрона — «Фальеро»*, «Сарданапал»21 и прочие — хуже
других его произведений. Им недостает драматического начала. Они
изобилуют речами и описаниями — такими, которыми он мог бы поразвлечь самого
себя или приятелей, развалившись утром на кушетке; однако речи и
описания эти не переносят читателей на место действия, не позволяют представить
воочию изображенные события. Лишенные действия, характеров,
занимательности, трагедии словно сотканы из сверкающей паутины и призрачной
завесой скрывают лицо природы. Но он продолжает их сочинять. Лучшая
среди них — «Небо и земля» (на ту же тему, что и «Любовь ангелов»
мистера Мура)22. Мы даже предпочитаем ее «Манфреду». Манфред — это сам поэт
в маскарадном костюме, тогда как в драматических фрагментах,
опубликованных в «Либерале», пространство между небом и землей — сцена, где
действуют персонажи, — по-видимому, целиком поглощает воображение
сиятельного драматурга, да так, что его праздные капризы гибнут в великолепно
изображенном им потопе23.
Признаемся, мы весьма невысокого мнения о сатирических талантах
нашего автора. Его очерк «Английские барды и шотландские обозреватели»
догматичен и оскорбителен, лишен изящества и остроты24. Он придумывает своим
героям обидные прозвища, пытается пригвоздить их эпитетами, которые не
* Моей Москвою будет «Дон-Жуан»,
Как Лейпцигом, пожалуй, был «Фальеро»...25 (Дон-Жуан. XI. 56 (ст. 441—442)).
430
Дополнения
попадают в цель, так как за ними ничего нет, кроме злости и раздражения; к
тому же старается унизить противника упоминанием о посторонних
обстоятельствах. Он говорит, например, что поэзия мистера Вордсворта ему
«омерзительна»26 — хорошо, но кто в этом виноват? Вот такие сатиры пишет лорд,
который привык, что его причуды и прихоти для всех вокруг святы, и
только иногда дает себе труд выразить свое презрение или недовольство. Если
великому человеку приходится столкнуться с неприятным ему отпором, он
поворачивается к обидчику спиной, и это сходит за остроумный ответ.
Благородный автор говорит о знаменитом юристе и критике, что тот «родился на
чердаке, на шестнадцатом этаже»27. Утверждение ложное, но, даже окажись
оно справедливым, это подлость. Она унижает обвинителя, а не обвиняемого.
Такие сатиры пишут люди высокого звания и происхождения — из тех, кто
меряет заслуги по занимаемому человеком положению, то есть на свой
аршин. Потому-то его милость в «Письме к издателю "Обозрения моей
бабушки"»28 пятьдесят раз называет издателя «дорогой мой Ро&ертс»; никакого
другого проявления остроумия в статье нет. Все, конечно, держится на
предполагаемом превосходстве положения его милости; здесь предложены своего
рода испытательные вопросы, которые сиятельный лорд мог бы задать
человеку, пришедшему наняться к нему в лакеи у Лонга29 — трактирные слуги,
может быть, и засмеются, но не публика. Так же точно в споре о Поупе наш
автор с грубой шутливой фамильярностью хлопает мистера Боулза по
плечу30, как если бы тот был священником его домашней церкви, которого он
пригласил к обеду или собрался представить в качестве кандидата на новый
приход. Достопочтенный священнослужитель мог бы принять поддержку, но
вряд ли пришел бы в восторг от шутливого тона. Если тот факт, что мистер
Боулз священник, а лорд Байрон — пэр Англии, подается как шутка, право
же, об этом весь мир знал и раньше; ради этого не стоило писать памфлета.
«Дон-Жуан», разумеется, очень сильное произведение, но его сила
заключена в странном чередовании страниц вполне серьезных и фрагментов,
полных показного блеска. От великого до смешного только один шаг.
Способность к резким поворотам и самопародии удивляет и смешит: шутка
заключена в совершеннейшей непоследовательности чувств и мыслей. Лорд Байрон
превращает добродетель в контрастный фон порока, дендизм — в
разновидность гения (за неимением другой разновидности). За опьянением следует
возня с содовой водой, привычные извержения желчи; за воспроизведением
молнии и урагана — изображение каюты и содержимого таза для умывания
рук31. Величественный герой трагедии играет роль Скраба в фарсе32. Это все
«вполне сносно, но невыносимо»33.
Благородный лорд — едва не единственный писатель, который таким
образом предал и продал свой талант. Он воздвигает святыню, чтобы тут же
осквернить ее, с удовольствием уродует созданные им самим прекрасные
Лорд Байрон
431
образы, возносит до небес надежду и веру в добро, чтобы сразу же швырнуть
их на землю с гибельной для них высоты. Тот, кто зажег в нас восторженное
преклонение перед гением и добродетелью, превращает их в посмешище и
тем самым гасит их блеск. Дело не в том, что лорд Байрон то серьезен, то
насмешлив, то распутен, то нравствен — нет; просто именно когда он особенно
серьезен и нравствен, он готовится унизить доверчивого читателя жалким
розыгрышем. Трудно постигнуть такую аномалию. Это все равно как если бы
орел свил гнездо в водосточной трубе или сова воспарила к полуденному
солнцу. Подобное зрелище могло бы один раз вызвать смех, но отнюдь не
желание увидеть такое вновь*.
Лорд Байрон — баловень славы и удачи. Он пресыщен собственной
известностью; ему мало радовать, он хочет шокировать публику. Хочет принудить
ее к восхищению вопреки пристойности и здравому смыслу; хочет заставить
ее читать то, что она ни у какого другого автора не читала бы — иначе ему не
нужны аплодисменты. Он хочет «права на буйное ветрогонство»34, чтобы
исходящие от него оскорбления казались милостью, а презрение его давало
бы новый повод для преклонения. Ему трудно угодить: он одинаково не
приемлет внимание и пренебрежение, ненавидит порицание и презирает
похвалу. Он предельно испытывает терпение читателей, а когда они
обнаруживают утомление или отвращение, грозится бросить их навсегда. Он говорит, что
будет писать, даже если его перестанут читать35. Нет, он и страницы не
написал бы, если бы не хотел всеобщего одобрения и демонстрации своего к нему
равнодушия.
В этом отношении лорд Байрон тоже являет живой контраст сэру
Вальтеру Скотту. Последний безропотно принимает выпадающую ему долю
читательского восхищения (правда, ему нечего жаловаться); Байрон всегда
оспаривает свою modicum** рукоплесканий, spolia opima*** тщеславия и крайне
нелюбезно бросает в лицо своим поклонникам фимиам, воскуренный ими на
его алтаре. Между тем в сочинениях автора «Уэверли» нет и тени морального
несовершенства — все честно, естественно, прямодушно; он никогда не
оскорбляет публику, не выводит отклоняющихся от норм героев, не
провозглашает сокрушительных идей. Если он, в утешение современному читателю,
возвращается к старым предрассудкам и суевериям, то лорд Байрон держится
на высокопарных парадоксах, «волнам морским подобных»;36 если сэр
Вальтер слишком преклоняется перед духом старины, то другой наш автор угож-
* Эта критика в гораздо большей степени справедлива для первых песней
«Дон-Жуана», чем последних. Данное произведение называют рифмованным «Тристрамом Шен-
ди»37 — оно представляет собой скорее поэму о поэме.
** толику (лат.).
*** трофеи (лат.).
432
Дополнения
дает духу нынешнего века, ходит по краю пропасти, щеголяет крайне
безнравственными рассуждениями, пока не ломает себе шею. Его перо играет
легкомыслием и грубостью. Смехотворно его посвящение «Каина»
достопочтенному баронету. Интересно, как тот откликнулся на эту любезность?38
Мы не щепетильны, не чересчур щепетильны, но не очень-то одобряем
блеск безнравственности и не желаем видеть музу в пышном наряде ложных
или сомнительных моральных принципов (подобно Порции и Нериссе в
облачении докторов юриспруденции)39. Мы любим философию не меньше, чем
лорд Байрон, но не хотим слышать ее цветистых речей или смотреть, как она
ритмично выплясывает в оковах стиха. Мы, в сущности, намекаем на то, что
поэзия его милости сводится преимущественно к великолепным
банальностям; банальны даже его парадоксы. Они и школьникам известны, а в драмах
и стихах нашего поэта поражают только неуместностью.
Короче говоря, мы полагаем, что поэзии привольнее всего на лоне
природы, среди общепринятых взглядов: ей запрещен вход в обитель
теоретических умопостроений, утонченной казуистики. Лорду Байрону, однако, там
раздольно, он бродит в тех краях безответственно, непозволительно.
Единственным оправданием духа некоторых его творений может служить дух писаний
его противников: в ответ на них можно еще и не то написать. «Подальше от
них»!40 Экстравагантность и распущенность лорда Байрона служит
противоядием их ханжеской ограниченности. Первое «Видение суда» послужило
украшением для второго41, хотя «ничего с ним рядом не поставишь»42.
Вероятно, причину большинства ошибок лорда Байрона следует искать в
ложности его положения в обществе и литературе. Он и поэт и вельможа, а
такой двойной привилегии никто, пожалуй, выдержать не может.
Прирожденная гордость сливается у него с гордостью гения. Сила воображения
влечет его к невероятным фантазиям, высота положения побуждает
пренебрегать всякой критикой. Он превращается в избалованного эгоиста; у него есть
место в палате лордов и своя ниша в храме славы. Простые смертные, их
мнения, понятия, идеи для него недостаточно хороши; обычный знатный
человек для него лишь «восьмой наследник глупого лица»43, а гениальный, но
не могущий похвастаться знатностью, — жалкий червяк. Его муза тоже
знатная дама. Плебеи для него недостаточно воспитанны, а придворные —
недостаточно умны и образованны. Он ненавидит одних и презирает других.
Однако ненавидя и презирая остальных, он не достигает удовлетворения
самим собой. Привередливость скоро превращается в раздражительность и
сварливость. Если кроме нас никто другой не достигает уровня
воображаемого совершенства, то возведенный нами кумир легко может нам наскучить.
Когда человеку надоедает быть самим собой, он, в силу естественного
упрямства, стремится изобразить нечто противоположное. Поэт делает вид, что он
философ; патриций по рангу и образу мыслей, он притязает на звание про-
Лорд Байрон
433
столюдина. Им движет при этом не любовь к народу, а желание выделиться,
не стремление к истине, а страсть обособиться, отличиться. Он
покровительствует литераторам из тщеславия и бросает их из каприза либо по совету
друзей. Он печатает что-нибудь возмутительное нарочно, чтобы навлечь на
себя критику, — и из страха перед скандалом предоставляет издателю
выбираться из передряги самостоятельно. Нам не нравится подобострастие сэра
Вальтера, но не многим больше нам нравится и нелепый либерализм лорда
Байрона. Хотя он объявляет себя сторонником принципов равенства, но, когда
нужно, пользуется привилегиями пэра. Его милость предложил помочь
грекам деньгами и лошадьми. В ожидании дальнейших событий он сейчас в
Кефалонии44.
* * *
Не успели мы дописать эти строки, как услышали весть о кончине лорда
Байрона и немедленно оборвали нить несколько раздраженной обвинительной
речи, которая была предназначена привлечь его внимание, но не оскорбить
память. Кабы мы знали, что пишем эпитафию, нами двигали бы иные чувства.
Однако, раз уж так получилось, нам кажется, что будет лучше (и более в его
духе) оставить все как есть, чем пытаться растопить свинцовые стрелы в
«чувствительные слезы»45 или перелить их в скучную похвалу либо в показную
откровенность. При жизни поэта мы не молчали и высказывали одобрение и
порицание, как считали нужным, а он не гнушался принимать их; мы не
можем теперь превратиться в подручных похоронных дел мастера и прикрепить
блестящую табличку на его гроб или присоединиться к шествию
многочисленных плакальщиков.
Смерть отменяет все, кроме правды, и лишает человека всего, кроме
таланта и добродетели. Это словно природная разновидность канонизации.
Самых низких из нас смерть превращает в святых; она утверждает
бессмертие поэта и возносит его до небес. Смерть — великий оценщик подлинности
таланта. При одном ее прикосновении драгоценный металл очищается от
шлака: частицы раздражения, грубости, эгоизма отстают и падают на землю,
а более тонкие, воздушные взлетают на крыльях духа, дабы охранять память
о только что ушедших и защищать их прах от оскорбления. Мы предаем
забвению черты менее достойные и лелеем благородные и неувядаемые с
удвоенной гордостью и любовью.
Ничто не говорит с такой силой об истинном превосходстве гения, чем
общественное равнодушие и праздные споры по поводу того, где захоронить
лорда Байрона — в Вестминстерском аббатстве или в семейном склепе.
Королю положена коронация, вельможе — похоронная процессия. Человек — ничто
без пышного зрелища, но поэт погребен в душе человеческой, в которой рас-
434
Дополнения
сьшает семена бесконечной мысли, а памятником ему служат созданные им
творения.
Лишь небеса его приемлют славу;
Не пирамиды память охраняют,
Но истинная суть его величья46.
Лорд Байрон умер; он умер мучеником своей преданности делу свободы,
умер за последние и лучшие надежды человечества. Пусть это будет его
оправданием и его эпитафией.
О РАЗУМЕ И ВООБРАЖЕНИИ
Людей, чьи суждения о мире ограничиваются утверждениями общего
характера, формулами, догмами и голословными1 заявлениями, я ненавижу еще
больше, чем тех, кто совершенно не способен понимать абстрактные идеи.
Встречаются и такие (даже среди философов), кто, полагая, что вся правда
заключена в рамках определенных схем и общих положений, бурно обвиняют
вас в нелогичности и витийстве, если вы пытаетесь внести в ваши суждения
яркие краски или просто черты собственной индивидуальности; и
поднимают страшный крик против проявления любых эмоций, коль скоро вы
позволяете себе хоть малейший намек на радость или печаль — чувства, вечно
живые в «этом живом мире»2.
Признаюсь, мне кажется странным, что те, кто претендует на точность
сверх обычной в своих характеристиках и анализе окружающего мира, так
упорно настаивают на том, что при трактовке человеческой природы и
нравственных понятий добра и зла лишь номинальные различия между ними
имеют ценность3, или же утверждают, что при описании человеческих чувств
и мотивов поведения всё то, что дает хотя бы малейшее представление о них
в данной конкретной ситуации — или любой другой, вызванной
аналогичными обстоятельствами, можно счесть преднамеренной попыткой ввести
читателя в заблуждение. Получается, будто знание реальной действительности и
точное ее воспроизведение (за рамками правил и формул) является
существенным отступлением от истины. Такие педанты никогда не раскрывают
книгу души, ограничиваясь оглавлением. Им нужны географические карты,
а не развернутые картины мира, в котором мы живем, словно взгляд на вещи
с высоты птичьего полета содержит правду, всю правду и ничего, кроме
правды. Захоти вы ознакомиться с положением некоторого населенного пункта,
эти зануды устремят свой блуждающий взор на картонный глобус и,
поскольку все попытки найти интересующий вас объект в их скудных «схемах»4
оканчиваются неудачей, сообщат вам, что такого места не существует в природе
436
Дополнения
или что справляться о нем — значит напрасно терять время. Им бы лучше
ограничить свои исследования небесной сферой и знаками зодиака: ведь там
нет незначительных частностей, вызывающих сомнение или противоречащих
расплывчатым умозаключениям. Из таких людей выходят отличные
богословы, но весьма посредственные философы.
Пойдем немного дальше в наших географических рассуждениях.
Педанты могут сказать, например, что карта некоего графства или округа слишком
велика и создает ложное представление о его соотношении с вселенной. А мы
ответим им, что их карта земного шара просто чересчур мала и не дает о нем
никакого представления:
Британия — часть мира, но не мир —
В пруду большом гнездо лебяжье5.
Но действительно ли это так? Графство в любом случае больше
географической карты: изображение в миллион раз меньше реальности. Неужели вы
хотите тем не менее пренебречь этим обстоятельством, дабы достичь
равновесия сил в фикциях рассудка, и называете это мышлением в пределах
здравого смысла? И неужели всё выходящее за эти искусственно
установленные ограничения должно быть отвергнуто как незначительное или
чудовищно громадное? Однако «и в небе, и в земле сокрыто больше, чем
снится вашей мудрости...»6. Эти люди не в состоянии постичь предметы и
явления в их реальных размерах — а потому сокращают оные в масштабе до тех пор,
пока не сочтут их доступными пониманию. Да будет так — во имя
необходимого и некоторых общих целей, с учетом скидки на слабость человеческого
интеллекта; но во всех остальных случаях надо расширять наши
представления о мире до размеров реальных объектов, и не нужно делать вид, будто
посягательство на механистическую упрощающую формулу равно насилию над
правдой и природой. Ни один язык, ни одно описание не могут, строго
говоря, приблизиться к истинности и силе реальности; в своих рассуждениях и
умозаключениях мы можем только следовать за реальностью. При этом
необходимо сохранять определенную степень близости к истине: ни в коем
случае нельзя искажать законы моральной перспективы. Воображение должно
обогащать и воодушевлять логические выводы, так же как рассудок должен
следить за применением красноречия, не допуская злоупотреблений. По
моему представлению, логика и красноречие призваны дополнять друг друга.
Разум способен постичь лишь одно или несколько явлений в их целостности
и чистоте. С увеличением же их числа ему приходится обращаться к
отвлеченным категориям и судить об объектах исследования только посредством
сравнения. В одном случае разум может отдать предпочтение наименее
ценному и тем самым в спешке исказить истинное положение вещей. В другом
случае опасность заключается в том, что разум может изощриться и отвлечь-
О разуме и воображении
437
ся до такой степени, что ни одной из вещей не припишет вообще никакого
смысла, обусловленного ее практической ценностью или влиянием на
сознание имеющих к ней отношение людей. Любые поступки обуславливаются
личными побуждениями; и для того чтобы понять человечество, необходимо
познать человеческую природу. Люди действуют согласно велению страстей,
а судить о страстях мы можем, лишь сочувствуя и сопереживая. Сухие и
холодные педанты, о которых говорилось выше, часто как будто даже в
самой природе видят врага, покушающегося на их беспомощные теории. Они
предпочитают тени в Платоновой пещере7 реально существующим предметам
вне ее. Они считают человека «мышью в воздушном насосе»8, пригодной
только для проведения экспериментов, и не рассматривают вселенную или
«могучий мир ушей и глаз»9 в качестве объектов, достойных малейшего
внимания. Так они добиваются простоты, но не достоверности. Истина ведь обитает
не in vacuo* и не в колодце. Конкретные впечатления от людей и предметов
окружающего мира мы должны поверять общими законами и принципами;
но без учета частных обстоятельств и отдельно взятых чувств мы кончим тем,
с чего начали, — невежеством.
В рассказе о последних минутах мистера Фокса упоминается разговор,
состоявшийся в доме лорда Холланда10 (где мистер Фокс и скончался). Речь
зашла о стиле мистера Бёрка, и благородный лорд выразил неодобрение его
излишней витиеватостью и мишурностью, сказав, что подобный стиль
изобилует больше цветами, нежели плодами. В ответ мистер Фокс заметил, что это
часто высказывавшееся критическое замечание не кажется ему
правомерным: напротив, под цветами часто скрываются плоды, но само по себе
стилистическое великолепие, призванное выгодно оттенить чувства и мысли автора,
скорее мешает, чем помогает читателю постичь их. В подтверждение своего
тезиса мистер Фокс предложил собеседнику взять книгу и пересказать любую
страницу оттуда простым разговорным языком. Этот опыт доказал лорду
Холланду, что он часто не может понять мысль автора, поскольку внимание
постоянно отвлекается ослепительной образностью речи. Вот так люди
сплошь и рядом без достаточных на то оснований считают, что яркость
стиля несовместима с безупречностью рассуждения. Если бы некоему человеку
показали чертеж двух треугольников и он бы стал судить о форме их углов,
ссылаясь на зеленый цвет одного и желтый цвет другого, справедливо было
бы заметить, что цвет никакого отношения к форме не имеет. Однако в
споре, касающемся вопроса, одинаков цвет треугольников или нет, утверждение
о том, что один из них зеленый, а другой желтый, является решающим. То
же касается и моральной истины (в отличие от истины математической): о
доброй или злой природе того или иного явления мы судим по силе связан-
* в безвоздушном пространстве (лат.).
438
Дополнения
ных с ним чувств, страстей, радостей и страданий, то есть прийти к
здравому выводу нам помогают именно пережитые эмоции, а не представление о
внешних очертаниях предмета. Короче говоря, страсть является сутью,
главной составной частью моральной истины, а от огня страсти непременно
зажигается светоч воображения, озаряющий предметы окружающего мира.
«Слова, которые сверкают», почти не отделимы от «мыслей, которые горят»11.
Следовательно, логическое рассуждение и реальная правда — суть понятия
разного порядка. Конечно, можно поднять крик против сильных инвектив,
громко протестовать против экстравагантности и энтузиазма, яростно
нападать на все стили повествования, кроме самого спокойного, непредвзятого и
сдержанного изложения фактов; но существуют чудовищные злодеяния,
которым никакие слова не в состоянии дать адекватного выражения.
Должны ли мы, дабы у нас сложилось полное представление о них,
проигнорировать все отягчающие обстоятельства или подавить в себе негодование,
возникающее при знакомстве с деталями дела, лишь бы избежать обвинения в
предвзятости и излишней чувствительности? Но тем самым мы бы
совершенно исказили истину и бросили вызов здравому смыслу и самой природе.
Предположим, например, что в разговоре о работорговле вам описали
ужасы так называемого «Среднего Пути»12, что вы словно воочию увидели,
как тысячи несчастных год за годом проводят в битком набитых трюмах
невольничьего судна без воздуха, без света, без пищи, без надежды, и,
испытав в своем воображении страдания, пережитые ими в действительности,
наконец почувствовали себя в глубине измученной души одним из них —
можно ли сказать, что ваше отношение к вопросу предвзято, что ваше
представление о масштабах зла лишило вас права выносить ему приговор и что
отвращение и омерзение, испытываемое вами к работорговле, суть плод
разгоряченного воображения? Нет. Зло, которое возбуждает воображение и
терзает душу, не может не волновать разум. Именно непроизвольное потрясение
и смятение ума является самым надежным показателем чудовищности
совершаемого. Обыкновенная несправедливость, незначительная, частная или
неизбежная, не произвела бы такого впечатления; в данном же случае чинимое
людям зло столь велико и противоестественно, что его невозможно вынести
даже в мыслях: оно притупляет чувства и, если хотите, берет верх над
здравым смыслом.
Вздернутый на дыбу страдает не меньше оттого, что теряет от
невыносимой муки способность управлять своими чувствами и поведением.
Испытываемая человечеством боль не менее реальна, ибо возбуждает в человеческом
сердце сострадание. Удалось бы вам приструнить пылкий язык оправданной
страсти и превратить его в язык холодного равнодушия, самодовольства,
скептического рассуждения, тем самым вырвав жало негодования из
сознания очевидца пытки? Конечно нет — до тех пор пока вы не искорените зло с
О разуме и воображении
439
помощью рычагов, привести которые в действие может только сильное
чувство, — и таким образом не снимете приступ страдания. Или если, например, в
какой-то ситуации вам предложат сунуть руку в огонь и хладнокровно
посоветуют не обращать внимания на испытываемые при этом боль и муки и
игнорировать всякие глупые проявления природной чувствительности
организма, но обратиться умом к некой уместной в данных обстоятельствах
абстрактной идее — разве не рассмеетесь вы в лицо такому советчику? О да! Там, где
затрагиваются наши личные интересы, там, где мы искренне выражаем свои
чувства, мнимое различие между здравым суждением и живым
воображением тут же исчезает. Однако я не знаю лучшего и более глубокого принципа
нравственности, чем следующий: каждый из нас должен испытывать по
отношению к другому человеку такие же чувства, какие испытал бы в
аналогичной ситуации к самому себе. Поиски более высокого морального принципа
ничего не дадут; зато в погоне за тенью легко упустить суть. Опять-таки,
обсуждая общие вопросы, давайте рассмотрим некоторый частный из ряда вон
выходящий случай, как, например, тот, что имел место в 1775 году:13 за борт
гвинейского судна по приказу капитана14 был, словно живой хлам, выброшен
груз больных рабов (случай, впервые привлекший внимание общественности
к этому гнусному виду торговли). Или взять обыкновение подвешивать
непокорных негров в клетке, с тем чтобы стервятники выклевывали несчастным
глаза и заживо пожирали их тела, — неужели подобные факты не задают нам
критерия нравственности только потому, что это зло единично или
чрезмерно? Задают, и притом абсолютный, так как мы чувствуем, что подобное
недопустимо и ни на миг не должно быть терпимо ни в одной системе, разве
только в прогнившей до самого основания, ведь безнаказанность подобных
поступков вдохновляет на ежедневные беззакония. Это показывает
полнейшее равнодушие общества ко всем законам справедливости и любым
человеческим чувствам. В таком случае мы можем извлечь на свет божий все
наши условные схемы и таблицы и проследить по ним, как раздражение по
пустякам и досада превращаются постепенно в бессмысленную,
неослабевающую жестокость. Подобное положение вещей, при котором хотя бы один
случай описанного рода может произойти, не вызвав всеобщего ужаса, не
должно существовать и получаса. Родительница зла, гидроголовая
несправедливость, должна быть мгновенно уничтожена со всем своим ядовитым
потомством. Действия, оскорбляющие дневной свет, действия, от одного
упоминания о которых мурашки бегут по телу, должны пресекаться без дальнейших
расспросов в то самое мгновение, когда о них становится известно.
В произведении, откуда взят вышеприведенный пример, дается образец
красноречивого морального рассуждения на затронутую тему, каковое не
стало менее основательным или глубоким оттого, что было порождено
взрывом сильных личных эмоций. Вот этот случай:
440
Дополнения
Когда однажды в присутствии Наимбанны (молодого вождя африканского
племени) упомянули имя некоего человека, публично и в крайне
оскорбительных выражениях отзывавшегося о характере африканцев, вождь
разразился по адресу обидчика яростными речами, преисполненными
жаждой мести. Ему немедленно напомнили о долге христианина прощать
врагов, на что Наимбанна ответил приблизительно следующее: «Если человек
ограбит меня, я смогу простить его. Если человек попытается застрелить
меня или зарезать — я смогу простить его. Если человек продаст меня и
всю мою семью на невольничье судно, обрекая нас тем самым на
пожизненное рабство в Вест-Индии, я смогу простить его. Но (закончил он, в
крайнем волнении поднимаясь с места) я никогда не смогу простить человека,
оскорбившего доброе имя моего народа». На вопрос, почему он не сможет
простить того, кто опорочит доброе имя его народа, молодой вождь
ответил: «Человек, пытающийся убить меня или продать вместе с семьей в
рабство, причиняет вред только тем людям, которых может убить или
продать. Но человек, дурно отзывающийся о черных людях, оскорбляет всех
темнокожих на земле. И опорочивший доброе имя негритянского народа
решит однажды, что имет право вершить по отношению к нему любые
беззакония. Такой человек, к примеру, станет избивать негра и скажет: "Ой,
да это всего лишь негр. Почему бы мне не побить его?" Такой человек
станет обращать негров в рабство; ведь, почитая их существами презренными,
он рассуждает так: "Да ведь это всего лишь негры. Почему бы не обратить
их в рабство?" Этот человек вывезет всех негров из Африки (если сможет
отловить) и на вопрос, зачем он так поступает, ответит: "Да это же всего-
навсего черномазые, они совершенно не похожи на белых людей. Почему
бы мне не вывезти их отсюда?" Вот по какой причине я не могу простить
человека, уничижительно отзывающегося о моем народе» (Воспоминания
о Грэнвилле Шарпе. С. 369)15.
Полагаю, борьба естественного чувства против ложного и несправедливого
обвинения привносит в дискуссию больше подлинного света и жизненного
пыла, чем двадцать томов таблиц и расчетов всех «за» и «против»
правильного и неправильного, полезного и бесполезного, написанных почерком
мистера Бентама. Если же вспомнить о принадлежащей этому знаменитому
философу теории нравственности, то я пойду еще дальше и опровергну
утверждение о том, что единственным и безоговорочным критерием добра и зла
является сухой расчет последствий поступков — ведь мы должны принимать
во внимание также и влияние этих последствий на сознание отдельного
человека и общества в целом. Мораль требует не в последнюю — но в первую! —
очередь внимания к совершенствованию нравственного чувства. Едва ли не
единственное безыскусственное и смелое суждение, которое можно найти в
О разуме и воображении
441
«Моральной философии» Пейли16 (а также в «Свете природы» Такера)17,
таково: подавая милостыню обыкновенным нищим, нужно думать не столько об
их пользе, сколько об ущербе, понесенном теми, кто им в милосердии
отказал. В душе при виде горя непроизвольно пробуждается сострадание и,
воздерживаясь от посильной, пускай ничтожной, помощи несчастным, мы грубо
попираем и оскорбляем добрые чувства. Полагаю, данное замечание
достойно оригинального и благожелательного автора, у которого Пейли его
позаимствовал. Следовательно, никакие зверства работорговли нельзя оправдать
сомнительным утверждением о том, что невыносимые страдания,
причиняемые отдельным людям, уравновешиваются определенными коммерческими
и политическими выгодами, — с точки зрения нравственности эти страдания
не могут быть уравновешены ничем. Они оскорбляют общественное сознание,
ожесточают и иссушают естественные чувства. Причиняемое ими зло
чудовищно и физически ощутимо; мнимое же добро отдаленно и условно. В
морали, как и в философии, de non apparentibus et non existentibus eadem est
ratio*, и все, что не трогает сердце и не пробуждает душу, ценится относительно
низко — или не ценится вовсе. Никакая предположительная выгода,
определить которую можно лишь искусственным усилием рассудка, не в состоянии
уравновесить хотя бы и равное ей по величине зло, потрясающее душу,
тревожащее воображение и ранящее человеческое сердце! Сознательно
творимую жестокость, каковая глубоко возмущает каждого, кто способен видеть
и слышать, никакими расчетами хладнокровного своекорыстия нельзя
оправдать и ни в коем случае нельзя допускать. Оценка жестокости дана заранее,
зло осуждает само себя. Вот почему мнимую необходимость во зле
справедливо называют «самооправданием тирана»18.
Не лучше обстоит дело и с простым учением о полезности, являющимся
оправданием софистов. Так, например, бесконечное количество кусков
сахара, засыпанное в воображаемые этические весы мистера Бентама19, никогда
не перетянет по весу человеческую плоть и кровь, пожертвованные на его
производство. Вкус сахара на нёбе недолговечен; воспоминания же о
последних своей тяжестью обременяют душу. Одно представляет собой объект
только для воображения; другое — только для рассудка. Но человек — это
существо, состоящее из воображения и из разума одновременно, поэтому,
обсуждая вопрос о человеческом благе, необходимо учитывать и то и другое.
Простой расчет конечной выгоды без внимания к естественным чувствам и
привязанностям может благоприятно сказаться на внешнем виде и
физическом благосостоянии общества, но сделает его бессердечным и недостойным
самого себя. Одним словом, во всякой здоровой системе нравственности
необходимо добиваться того, чтобы каждый человек в процессе своей дея-
* «отношение к неявившимся и несуществующим одинаково» (лат.)20.
442
Дополнения
тельности не просто приходил к каким-то результатам, но и осознавал
возможные последствия своих действий, и такое положение вещей должно быть
установлено с помощью определенных естественных законов человеческого
разума, а не правилами логики или арифметики.
О характере моральной проблемы можно судить точно так же, как о
характере рельефа в той или иной местности: по выступающим точкам, по
всему замечательному и запоминающемуся, по тому, что оставляет после себя
след или «отбрасывает тень вперед»21. Пространство в миллионы акров не
создает развернутой картины мира, — так же как расчет возможных
последствий тех или иных поступков не отражает мира наших чувств. Для ума, как
и для глаза, необходим какой-нибудь выступающий объект, на котором можно
сосредоточиться, к которому можно возвращаться — что-то заметное и
убедительное, определяющее свойство и настрой нравственных чувств. Таким
образом не только возбуждается и поддерживается внимание, но — что важнее для
мотивов поведения — сильно обостряются желание добра и ненависть ко злу.
Но все отдельные события и история в целом попадают в разряд того, что
последователи Бентама называют воображением. Все полные, истинные и
частные описания они почитают за романтические, смехотворные, туманные и
обманчивые. В этом отношении достаточно показательно заявление одного из
мыслителей этой школы22 о том, что он как раз потому способен написать
историю Индии, что никогда не посещал этой страны, ибо, доведись ему там
побывать, возникшие у него местные и партийные пристрастия помешали бы
дать объективную картину действительности. Иначе говоря, по мнению этого
философа, описывать страну лучше на основании сведений, полученных из
вторых рук, чем исходя из собственных наблюдений, и вынести справедливое
суждение о целом легче, не будучи непосредственно знакомым с предметом
исследования, конкретным местом или отдельными лицами. По аналогии
можно утверждать, что художник способен точнее передать в портрете
черты человека только после его смерти, основываясь на описаниях и разных
эскизах лица покойного, чем рисуя его при жизни с натуры. Я же, напротив,
смиренно заявляю, что, повидав полудюжину индийских матросов на улицах
Лондона, можно составить лучшее представление о душе Индии, этой
колыбели мира и, так сказать, родине солнца, чем всевозможные карты, записи и
статистические отчеты, пусть и присланные при идеальном управлении
мистера Каннинга23. Ex uno omnes*. Один индус отличается от жителя Лондона
разительнее, чем от всех остальных своих соплеменников; и из наблюдений за
первыми двумя, если поставить их рядом, можно выявить характерные
черты их наций. На основании сравнительного анализа двух представителей
разных видов не составляет труда вычленить основные различия, присущие этим
* «По одному [суди] обо всех» [лат.)и.
О разуме и воображении
443
видам почти во всех случаях. Любой конкретный экземпляр больше говорит
о виде, к которому принадлежит, чем все мыслимые слова и определения.
Итоговая суть, конечно, не сводится к сумме частностей; но угадать общий
результат без предварительного анализа частностей и без обращения к
личному опыту нелегко:
Основы рассуждений — в наших знаньях25.
Опять-таки совершенно ошибочно вместо самых ярких и впечатляющих
особенностей человеческой природы выделять в качестве безусловно
подлинных самые банальные и избитые черты, не говоря уже о том, что по крайним
проявлениям можно судить о средних, но по средним никогда нельзя судить
о крайних. Воображение — это ассоциативный принцип; и у него есть
инстинктивное ощущение того, принадлежит ли некая вещь системе или является
исключением из нее. Например, зверства, чинимые победоносными
захватчиками во вражеском городе, свидетельствуют не о характере нации, к
которой захватчики принадлежат, а о природе подобных военных действий —
и такого рода поведение в одинаковой мере свойственно обеим воюющим
сторонам. Следовательно, данные проявления не могут служить основанием
для национальных предрассудков. С другой стороны, жестокость в
обращении с невольниками происходит из сути отношений между хозяином и
рабом, и ум инстинктивно восстает против этих отношений как таковых.
Разглагольствования об ужасах Французской революции остаются всего лишь
пустыми фразами — и всем понятно: каждая партия предъявляет встречное
обвинение другой. То была гражданская война, подобная войне за спорное
право престолонаследия; вопрос общего плана — о доброй или дурной
сущности перемен - в ней не решался. И когда бы не прусские манифесты26 и
не измены внутри страны, никаких этих ужасов и не было бы, как не было
их в Америке27 и во время Испанской революции28. Резня Варфоломеевской
ночи29 была порождением религии, которая преследует и истребляет
отступников огнем и мечом. Когда говорят, что оскорбительные клички, лозунги
разных партий, жупелы, крики «Долой папизм!» и тому подобное
постоянно воздействуют на воображение с самыми вредными для него
последствиями, я отвечаю, что большая часть этих жупелов и вульгарно-бранных
выражений являются плодами туманных умствований или варварских
предрассудков и редко берут начало из реальных событий или естественных чувств.
Кроме того, разве самые ученые из участников дискуссий не жонглируют
беспрестанно общими положениями, правилами и исключениями из оных,
перебрасываясь ими друг с другом и сопоставляя одно с другим?30 Разве три
чегверти всех войн, расколов и несчастий мира не начинаются с
обыкновенной полемики?
444
Дополнения
Существует два класса людей, предпочитающих в вопросах, касающихся
человеческой природы, такого рода доводы против ощущений и чувств:
мошенники и дураки. Последние считают, что их поверхностные догмы
наилучшим образом и притом окончательно решают все вопросы; а первые знают,
что логическим построениям рассудка противостоять легче, чем движениям
души, и что сильное чувство несправедливости, возбужденное частным
случаем во всей его остроте, говорит против них успешнее, чем все тонкости и
ухищрения правоведов. Конкретные факты — упрямая вещь; их труднее
изменить или приспособить к любой удобной для вас точке зрения, чем простые
определения и абстракции. О последних же можно сказать:
Дыханьем созданы и им запятнаны31 —
ведь их может смести прочь любое веяние новой доктрины и расстроить
любая ссылка на удобство. Меня удивляет, что Руссо уступил пустопорожним
заявлениям о недостатке здравого смысла в красноречивых и образных
рассуждениях и так увлекся этой темой, что сокращенно изложил высказывания
на сей счет Платона, в которых тот требует изгнания поэтов из своего
государства32. Неожиданно оказывается, что наибольшей суровости стиля требуют от
других как раз два самых цветистых автора. Руссо слишком упорно добивался
в высшей степени технического и наукообразного характера рассуждений, едва
ли достижимого в разнообразных вопросах человеческого бытия (это видно
и в его «Общественном договоре», сочинении очень талантливом, но
чрезвычайно формальном по структуре). Вероятно, в это заблуждение его ввела
попытка победить свой чересчур пылкий природный темперамент и
стремление потворствовать велениям страстей. Бёрк, человек яркого воображения,
обладал достаточно здравым смыслом (без какой бы то ни было ложной
скромности), чтобы доказывать нравственную пользу воображения, но
одновременно являл собой пример вопиющего злоупотребления этим свойством.
Подобная мода проявилась не только в среде философов — поэты также
приобрели обыкновение пренебрегать индивидуальностью во имя величия
своих притязаний и универсальности своего гения. Философы превратились
в обыкновенных логиков, а их противники — в простых ораторов; поскольку
последним разрешается барахтаться только на поверхности и в отличие от
первых воспрещается быть резкими, трудными для понимания и заумными,
то, отказываясь от собственной индивидуальности, они становятся
банальными. Они не могут рассуждать, и им приходится витийствовать. В частности,
современная трагедия уже больше не корабль, который треплют туда-сюда
по жизни ветры и волны страстей — она превратилась в красиво
сконструированный пароход, приводимый в дЁижение исключительно силой слов. В
последнее время лорд Байрон предпринял несколько подобных опытов33 (если
О разуме и воображении
445
их так можно назвать) и волен продолжать в том же духе, сколько ему
заблагорассудится. Теперь конкретные события не воздействуют на dramatis
personae* в трагедии, а монологи они произносят не в соответствии со
своими чувствами или сообразно ситуации — нет, каждый из героев взбирается на
трибуну и вещает о своих соображениях по поводу судьбы, удачи и конечной
цели бытия. Чувства конкретного человека не кажутся достаточно
интересными, чтобы задумываться о них или привлекать к ним внимание других
людей. Поэт заполняет страницы grandes pensées**. Он заслоняет лик
природы красотою своих чувствований и великолепием парадоксов. Нас занимают
тонкой игрой рассудка, вместо движений души, и допустимыми
оправданиями, вместо действительных мотивов поведения. Все это, по-видимому,
основано на ложной оценке отдельной личности и ценности человеческой жизни
вообще. Мы настолько в последнее время привыкли считать миллионами, что
полагаем составляющие их единицы совершенно незначительными, и так
любим анализировать отдаленные причины, что забываем о непосредственных
результатах того или иного поступка.
В качестве примера противоположного стиля драматического диалога, в
котором герои говорят за себя и друг с другом, я бы привел отрывок из
старинной трагедии, где по ходу действия брат сознательно становится причиной
насильственной смерти сестры.
Босола
Всмотритесь хорошенько.
Фернандо
Я смотрю.
Босола
И слезы из очей у вас не льются?
Все преступленья только говорят,
Убийства же кричат. Воды стихия
Поверхности земли не покидает,
Но пролитая кровь стремится кверху
И окропляет небо, как роса.
Фернандо
Закройте ей лицо... Мой ум мутится:
Так молода она и уж мертва!
* действующих лиц (лат.).
** великими мыслями, возвышенными представлениями (фр.).
446
Дополнения
Босола
Нет, вовремя она рассталась с жизнью:
Несчастия состарили ее.
Фернандо
Я и она — мы были близнецы:
Умри сейчас я, прожил бы я с нею
Одно количество годов, минута
В минуту34.
(Герцогиня Амальфи. Акт IV, сц. 2)
Как убедителен неотрывный взгляд, который герой с показной
решимостью впервые устремляет на мертвое тело, и каким естественным
движением он отворачивается, когда силы духа его иссякают; как уместны
потрясающие душу размышления о юности и красоте безвременно погибшей
девушки и соизмерение своей жизни с жизнью сестры-близнеца — от рождения
вплоть до настоящего момента, как будто смерть сестры лишила будущего
и его самого. Теперь я осмелюсь спросить: разве вот эти размышления о
промежутке времени, разделяющем начало и конец жизни, жизни такой
непостоянной в переходах от добра к злу, и о несчастном завершении ее, причиной
которого сознательно стал герой трагедии, — разве не властны они «заставить
мысль замереть»?35 Разве не является наше существование, явленное во всей
его полноте вспышками страсти и неожиданно свалившимся горем,
достаточно значительной темой для трагедии всеми признанного достоинства? Разве
борьба человеческой воли с непредвиденными обстоятельствами и
противоречивыми страстями не столь же интересна и поучительна для изображения,
как рассуждения об изменчивости фортуны, неизбежности судьбы или о
человеческих страстях вообще? Муза трагедии не просто издает глухие,
невнятные звуки: мы видим бледность ее ланит и кровь, бьющую из ее сердца!
Талантливо описанный интерес, проявляемый нами к нашей собственной
жизни, к нашим успехам и разочарованиям и к вызванным ими родным
чувствам, — чистейшее и правдивейшее зеркало, в котором можно увидеть лик
всей человеческой природы. Потому что в этом смысле каждый человек
представляет собой микрокосм. И все остальные люди подобны ему; его
радости и печали похожи на радости и печали других людей:
Люди разных стран равны в одном36.
Но это должно быть подлинное дыхание природы, а не внешняя яркость и
поверхностный глянец искусства. Ораторствующий, пророчествующий и
поучающий поэт нужен современному человеку не больше, чем картонный
манекен. Такому поэту смело можно сказать:
О разуме и воображении
447
Застыла кровь твоя, в костях нет мозга,
Незряч твой взгляд37
Человек представляет собой как бы бесконечные и безгранично
разнообразные вариации на одну тему; зная чувства одного, можно судить о чувствах
тысячи других, замкнутых в святилищах собственной жизни. Для нас все
человечество являет одновременно совокупность тысячи разных истин и одну-
единственную истину, рассказанную тысячу раз. Сила и богатство общего
впечатления, как и корни нашего воображения, кроются в осознании этой
изначальной истины. Границы нашего сочувствия и сопереживания
представляют собой круг, сам по себе расширяющийся в соответствии с импульсом,
исходящим из его центра — нашего сердца. И если мы в состоянии разделять
радости или горести одного человека, то испытаем благоговейный страх за
судьбу человечества в целом; а если знаем и представляем себе только его
абстрактные, общие качества, но не осознаём силы или степени их
проявления, то судьба как всего человечества, так и отдельных людей будет нам
безразлична. Понимая общие свойства и живые чувства, можно заполнить
очертания, но нельзя определить первые, если нам дано знать только вторые.
Нравственная и поэтическая правда подобна выразительности
художественного полотна — последняя не может быть достигнута посредством грубого
размазывания красок по широкой поверхности холста, а первая — углублением
в туманные отвлеченные рассуждения. В таких случаях самые напыщенные
дилетанты, соответственно, отличаются величайшим презрением к
человеческой жизни. Но я заявляю, что никакой великий автор трагедий не в силах
презирать постигнутый им характер или исследованную им душу со всеми ее
обильно кровоточащими радостями и горестями. Объект изображения — в
разнообразии своих светлых и темных сторон — может и не быть для
писателя источником высокого восторга, но никогда не может стать предметом
презрительного равнодушия. Драматург должен чувствовать к нему сильный
интуитивный интерес, соответствующий его интересу к другим характерам.
Конечно, целью и назначением драматургии «как прежде, так и теперь» было
и будет «держать как бы зеркало перед природой»38, дабы дать нам
возможность чувствовать за других, как за самих себя, или силой страсти и
воображения пробуждать к себе интерес у окружающего мира39. Итог
вышесказанного заключен в словах поэта:
Сочувствовать другим и человеком зваться40.
Если драма не оказывает такого воздействия на зрителей, она теряет
достоинство и предназначение.
О РАДОСТЯХ НЕНАВИСТИ
По устланному половиками полу комнаты, где я сижу, ползет паук (не тот, что
столь прекрасно изображен в восхитительных «Строках к Пауку»1, но иной
представитель этого достойного племени). Ни на что не обращая внимания, он
быстро перебирает лапками, неуклюже ковыляет ко мне и вдруг
останавливается: паук видит перед собой гигантскую тень и, соображая, отступить ему
или продолжать путь, некоторое время пристально изучает своего огромного
врага. Поскольку же я остаюсь в неподвижности и не бросаюсь на
пребывающего в растерянности беднягу (как обязательно набросился бы он сам на
попавшую в его тенета злополучную муху), он собирается с духом и возобновляет
движение вперед с видом одновременно хитрым, дерзким и трусливым.
Когда паук пробегает мимо меня, я приподнимаю половик, указывая путь к
бегству. Я и сам рад избавиться от непрошеного гостя и, после того как он
исчезает, содрогаюсь при мысли о нем от омерзения. Сто лет назад дитя,
женщина, шут или моралист растоптали бы крохотное существо без раздумий — моя
философия мне этого уже не позволяет. Я не питаю никакой осознанной
неприязни к этому созданию, но все же мне глубоко противен один его вид. Дух
неприязни надолго переживает внешнее проявление этого чувства. Мы учимся
обуздывать волю и держаться внешне в рамках человечности задолго до того,
как обретаем умение укрощать чувства и воображение, подчиняя их все тем
же законам гуманности. Мы отказываемся от внешних проявлений грубой
силы, но не можем отказаться от сущности, от самого принципа
враждебности. Мы не станем давить ногой вышеупомянутое бедное насекомое (это было
бы поступком жестоким и недостойным!), но смотрим на него с чувством
какого-то мистического ужаса и суеверного отвращения. И человечеству
понадобится еще сто лет возвышенных писаний и тяжких раздумий, чтобы
избавиться от этого предубеждения и начать относиться к представителям зловещего
паучьего племени с чем-то вроде «благостного млека» человеческой доброты2
вместо свойственных и самим этим существам робости и ненависти.
О радостях ненависти
449
Чем пристальнее вглядываемся мы в природу, тем больше убеждаемся в
том, что она состоит в основном из неприязни: не будь у нас предмета для
ненависти, мы бы давно потеряли самый источник мысли и действия. Жизнь
превратилась бы в стоячую заводь, когда бы ее не будоражили постоянно
столкновения полярных интересов и неуправляемых страстей. Светлые
полосы в нашей собственной жизни кажутся нам тем ярче (или просто заметнее),
чем больше сгущается тьма вокруг: так, радуга сверкает ослепительнее всего
на фоне черной тучи. Что это — гордыня? Зависть? Или сила контраста?
Проявление слабости или злобы? Тем не менее оно существует в душе
человеческой, это тайное родство со злом и тяготение к нему. Оно несет нам порочную,
но сладкую отраду, так как является неиссякаемым источником удовольствия.
Чистое добро скоро приедается, ему не хватает разнообразия и энергии. Боль —
это та горькая радость, которой невозможно пресытиться. Любовь после
быстролетных радостей оборачивается равнодушием или отвращением. Одна
ненависть бессмертна. И разве мы не видим, что везде вокруг действуют
законы ненависти? Животные терзают и рвут друг друга на части без всякой
жалости; дети забавы ради убивают мух; любимым чтивом для всякого
взявшего в руки газету является раздел уголовной хроники и происшествий. Со всех
концов люди сбегаются поглазеть на пожар, причем зрители совершенно не
жаждут, чтоб его погасили. Конечно, пожар лучше потушить, но это
малоинтересно; такое наше отношение определяют не разум, а страсти. С искренним
воодушевлением люди толпами валят на представление трагедии, но, как
справедливо заметил мистер Бёрк, если бы на соседней улице совершалась
смертная казнь, театральный зал вмиг бы опустел3. Заплутавшую дворнягу в
деревне, слабоумного, помешанную женщину усердно травят всем миром. Любой
источник опасности или вреда для общества — своего рода общественное
благо. Как долго Папа, Бурбоны и инквизиция держали народ Англии в тонусе,
давали ему возможность поупражнять фантазию в изобретении
оскорбительных кличек и отыграться на своих врагах! Причинили ли они нам
какой-нибудь вред в последнее время? Нет, но ведь мы всегда страдали от избытка
желчи и неизменно старались найти, на кого бы ее излить. С какой неохотой
отказались мы от благочестивой веры в ведьм и привидения, потому что нам
нравилось преследовать первых и пугать себя до полусмерти вторыми! Нам
важен не столько характер, сколько сила возбуждения: мы совершенно не
можем выносить спокойствие и ennui*. Сознание наше как будто не приемлет
vacuum**, так же как его не терпит природа. И даже когда дух века4 (то есть
процесс умственного совершенствования, который тормозится нашими
природными недостатками и слабостями) больше не позволяет нам претворять в
действие мстительные и своевольные порывы, мы стараемся возродить их в
* скуку (фр.).
* пустоты [лат.).
450
Дополнения
литературных повествованиях и храним эти старые пугала, эти призраки
нашего ужаса и ненависти в своем воображении. Мы сжигаем чучело Гая
Фокса5 — и гиканье, ругань и разнообразные издевательства над несчастной
потрепанной куклой из соломы и лохмотьев составляют суть ежегодного
праздника в каждой английской деревне. В наше время протестанты и паписты не
сжигают друг друга у позорного столба — но с каким удовольствием мы
подписываемся на новое издание Фоксовой «Книги о мучениках»!6 И секрет
успеха шотландских романов7 в значительной степени заключается в том же:
они возвращают нас к временам междоусобных войн, жестокого
соперничества, всеобщего смятения, страданий, несправедливости, беспощадной мести,
к жестокому веку жестоких людей; возвращают к глубоко укоренившимся
предрассудкам, к смертельной вражде политических партий и религиозных
сект, к противостоянию целых кланов и их вождей на войне и в интригах
мирной жизни. Каждый герой в этих романах являет нам полную силу
ненависти, и по мере чтения мы отбрасываем в сторону все условности
цивилизации, тонкие покровы гуманности. «Долой, долой с себя все лишнее!»8 Дикий
зверь вновь властвует над нами; мы ощущаем себя охотничьими псами — и как
гончая вздрагивает во сне и в воображении своем бросается по следу дичи, так
трепещет сердце и, оказавшись в привычной для него среде и возвратившись
к свободе, к безудержным, необузданным порывам, исторгает дикий крик
радости. Каждый пускается в полный загул или идет к дьяволу своим
собственным путем. Здесь нет ни паноптикума Джереми Бентама9, ни подобных
непроходимым зарослям параллелограммов мистера Оуэна10 (Роб Рой с
презрением отверг бы оные, послав по их адресу тысячи проклятий), ни долгих
расчетов, подсказанных своекорыстием: желание совершает мгновенный бросок
к своему объекту, подобно тому как горный поток низвергается с высокого
обрыва вниз. Величайшее возможное благо для каждого заключается в
причинении ближнему своему всего мыслимого зла: подобное милое поведение
непременно находит доброжелательный отклик в каждом сердце! Так
прославленный проповедник Ирвинг, к восторгу и изумлению честного народа, вновь
возжег древний, подлинный, почти истребленный адский огонь в приделах
Каледонской церкви11, подобно тому как постановщики театра Сэдлерз-Уэллз
заливают сцену настоящей водой Новой Реки12, к восторгу и изумлению
прелестных зрительниц. Как приятно, хотя и жутко13, сидеть, заглядывая в
преисподнюю Тофета14, играть в известную святочную игру, в которой
выхватываются изюминки с горящего блюда, — но на сей раз с огнями и самородной
серой (такой электрический удар дает живительную встряску особам
деликатного телосложения) и лицезреть мистера Ирвинга, словно огромного Титана,
такого угрюмого и темноликого, будто ему необходимо измыслить пытки для
всех обреченных. Что за странное существо человек! Не довольствуясь всеми
неприятностями и мучениями, которые он может доставить своим собратьям
«вот здесь, на этой отмели времен»15, где, казалось бы, уже и без того предос-
О радостях ненависти
451
таточно страданий, боли, разочарований, мук, слез, вздохов и стонов, этот
фанатик и изувер ведет ближнего за собой на высоты схоластического
богословия, для того чтобы столкнуть оттуда в разверстую пучину адского
пламени. Его умозрительная злоба может излиться без остатка только в Вечности,
и он молит Всемогущего привести безжалостный приговор в исполнение!
Каннибалы поджаривают своих врагов и поедают их, оставаясь в полном согласии
друг с другом; кроткие христианские богословы швыряют душу и тело
всякого, кто хоть на волосок в чем-нибудь с ними расходится, в адский огонь во
славу Господа и во благо Божьих созданий! Хорошо еще, что у подобных
людей недостаточно силы для претворения их желаний в жизнь: ведь именно
вследствие осознания собственной слабости и неспособности властвовать над
умами они пытаются «злобой превзойти фурию»16, запугать людей, подавить
и подчинить их себе громкими словами и чудовищными обвинениями.
Радость, которую доставляет ненависть, проникает, подобно ядовитому
веществу, в самое сердце веры и превращает ее в жгучую злобу и фанатизм;
патриотизмом оправдывает опустошение чужих земель огнем, чумой и
голодом; оставляет на долю добродетели только дух недовольства и осуждения,
узколобую ревность и склонность к неусыпной слежке за действиями и
побуждениями других людей. Что представляют собой разные секты,
верования, религиозные учения, как не многочисленные предлоги, придуманные для
того, чтобы вести ожесточенные споры, ссориться и нещадно расправляться
с противником, как не мишень, существующую только для того, чтобы по ней
стреляли? Разве считает кто-нибудь, что любовь англичанина к родине
предполагает какое-либо доброе чувство или благорасположение по отношению
к соотечественникам? Нет, английский патриотизм означает лишь ненависть
к французам или населению любой другой страны, с которой Англии в
данное время случилось вести войну. Подразумевает ли любовь к добродетели
желание признать свои недостатки или избавиться от них? Нет, она лишь
компенсирует упрямую приверженность нашим собственным порокам не в
меру яростной нетерпимостью к чужим слабостям.
Закон ненависти носит всеобщий характер и распространяется на добро
так же, как и на зло; да, он заставляет нас ненавидеть глупость, но
одновременно склоняет и к полному неприятию выдающихся достоинств. Он
побуждает негодовать при виде страданий ближнего, но в то же время
подстегивает недовольство его процветанием. За оскорбления мы мстим, на благодеяния
отвечаем неблагодарностью. Под действие этого закона очень скоро
подпадают даже самые сильные наши привязанности и пристрастия. «То, что казалось
слаще меда, вскоре становится горше полыни»17 И любовь, и дружба
сгорают в собственном пламени. Мы ненавидим старых друзей, мы ненавидим
старые книги, мы ненавидим старые убеждения, и, наконец, мы начинаем
ненавидеть самих себя.
452
Дополнения
Я заметил, что весьма немногие из некогда близких людей остались по-
прежнему дружны или сочетают в отношениях между собой постоянство с
сердечной привязанностью. Я знавал две-три компании неразлучных друзей,
которые собирались «шесть раз в неделю»18, но в конце концов распались и
разошлись навсегда. Я и сам перессорился почти со всеми своими старыми
приятелями (они могут сказать, что это произошло по причине моего скверного
характера), и они все также переругались между собой. Что сталось с «той
командой игроков в вист», воспетой Элией в его замечательном «Послании Роберту
Саути, эсквайру»19 (и воспетой, кстати, и мной самим в этой книге)20, с
командой, «которая столько лет называла адмирала Бёрни другом»? Где они все?
Исчезли, растаяли, как прошлогодний снег. Одни умерли, другие поменяли
место жительства; некоторые из старых приятелей при встрече на улице
притворяются, что не узнают друг друга, а если и останавливаются, чтобы
перекинуться парой слов, то говорят сухо и холодно, и каждый старается оборвать
знакомство по возможности быстрее. Некоторые из нас разбогатели, другие —
разорились. Кто-то занимает должность на правительственной службе, а кто-
то — местечко в «Ежеквартальном обозрении». Одни дорогой ценой создали
себе имя в обществе, в то время как имена других как были, так и остались
никому не известны. Одних мы презираем, другим же завидуем и желаем их
унижения. Времена изменились: воскресить прежние чувства невозможно,
оттого мы избегаем старых друзей и чувствуем себя неловко в присутствии тех,
кто напоминает нам о нашем собственном непостоянстве и вынуждает к
попыткам изобразить сердечность, которые смущают нас самих и не производят
должного впечатления на quondam* товарищей. Угасшая дружба похожа на
обед, поданный вторично: холодный, неаппетитный, тошнотворный. От такой
дружбы с души воротит. Непрерывное общение и близость порождают
усталость и взаимное презрение, а встретившись после долгой разлуки, мы
попросту не узнаем старых приятелей. Кто-то кажется нам слишком умным, кто-то —
слишком глупым, и мы удивляемся, как не замечали этого раньше. Нас
приводит в замешательство и держит в постоянном напряжении острословие
одного и до смерти утомляет тупость другого. Мелкие остроты первого (неприятные
своей колкостью) при многократном повторении утрачивают свежесть и
первоначальную силу воздействия; банальность же другого скоро становится
совершенно невыносимой. Самый интересный и образованный приятель в
лучшем случае подобен любимой книге, которую по внимательном прочтении
хочется задвинуть на полку; но наши друзья, как правило, не желают стоять на
полке — и это обстоятельство приводит к размолвкам и взаимной неприязни.
Или, если пыл и чистота дружбы остаются неизменными и нашим
отношениям не мешают никакие препятствия, вытекающие из самой сути дружбы, то
мы начинаем искать иные причины для недовольства и поводы для раздраже-
* бывших (лат.).
О радостях ненависти
453
ния. Мы начинаем придираться к одежде, порицать внешность и характер друг
друга. «Такой-то и такой-то — премилый человек, но имеет прискорбную
привычку засиживаться в гостях допоздна!» Другой никогда не приходит на
встречи вовремя, и этот его недостаток неисправим и абсолютно невыносим. Мы
знакомимся с каким-нибудь светским молодым человеком или девушкой и
решаем представить ему или ей нашего друга; но последний страшно неловок,
неряшлив, не умеет поддержать беседу — и все это сильно охлаждает наши
отношения. Или же он производит неприятное впечатление в обществе — и мы
уклоняемся от обсуждения недостатков нашего друга, чтобы избавиться от
необходимости защищать его. Все эти причины или некоторые из них,
накапливаясь со временем, создают почву для холодности, неприязни и раздражения,
которые в конце концов проявляются вполне открыто. Лишь этой
откровенностью мы можем воздать себе за то, что так долго подавляли свои чувства,
и в то же время она оказывается вернейшим средством избавиться от
воспоминаний о когда-то испытываемой благожелательности, столь мало
совместимой с нашими ньшешними настроениями. Можно, конечно, попытаться
проглотить обиду или склеить осколки разбитой дружбы; но обида едва ли пройдет,
а склеенная из кусочков дружба вряд ли будет долговечной. Единственный
способ примириться со старыми друзьями — это распрощаться с ними
навсегда; на расстоянии мы сможем вдруг возвратиться (в мечтах) к ушедшим
временам и былым чувствам; или, во всяком случае, не станем думать о
возобновлении прежних отношений до тех пор, пока не исчерпаем всю злобу или не
выскажем, не продумаем и не прочувствуем друг о друге все дурное.
Прекрасным средством для заживления болезненных ран является и ссора
с посторонним человеком, возможность сорвать раздражение на
каком-нибудь козле отпущения. Полагаю, Лэм вновь станет близок мне после того, как
написал благородное письмо к Саути, в котором высказал откровенное
мнение о нем21. А едва ли не главной причиной моей сильной привязанности к
Хейдону является привычка при каждой встрече промывать косточки старым
знакомым, которых мы «закалываем как жертву для богов»;22 среди них и Ли
Хант, и Джон Скотт, и миссис Новелло, чьи кудри цвета воронова крыла
создают живописный фон для нашего злословия; и Варне, который
растолстел и, говорят, женился, а также Рикман23. Все эти люди давно расстались
друг с другом, и их слабости — то общее, что связывает меня с Хейдоном. Мы
вовсе не делаем вид, будто скорбим или сетуем по поводу глупости и причуд
бывших приятелей: мы искренне потешаемся и хохочем над ними до упаду,
«без перерыва, долгими часами»24. Мы пересказываем анекдоты про старых
знакомых, побасенки, особенно смешные шутки, разделываем бедолаг под
орех, покуда не надоест. Возможно, кто-то из них отвечает нам тем же. Что
касается меня, то — как я однажды выразился — больше всего я люблю
друзей за недостатки, о которых можно поговорить. «Значит, — ответила мне на
это миссис Монтегю, — вы перестанете быть филантропом!» Все вышеупомя-
454
Дополнения
нутые люди были не какими-нибудь ничтожествами, «лишенными достоинств
и заслуг»25, а лучшими умами своей эпохи, и в этом смысле мы с Хейдоном
отдавали им должное; но все-таки хорошо, что они не слышали отдельных
наших замечаний и характеристик. Меня мало беспокоит, что говорят обо
мне, особенно за моей спиной и под видом критического и аналитического
обсуждения. Самым горьким ядом своего пера отвечаю я на неприязненные
и презрительные взгляды. Выражение лица задевает меня гораздо больше
любых словесных выражений, и мне очень жаль, что как-то раз я неверно
истолковал выражение одного лица и без надобности прибегнул к помощи
яда. Но лицо, на котором то выражение появилось, было слишком
красноречиво, а я слишком стар, чтобы допустить здесь ошибку!..
Иногда я навещаю Хьюма — и всякий раз после очередного визита решаю
никогда больше не появляться у него. Я не нахожу в этом доме прежнего тепла
и радушия. Призрак былой дружбы встречает меня у дверей и сидит рядом
со мной во время обеда. У хозяев появились новые взгляды на жизнь и новые
знакомые. Воспоминания о прошлом считаются банальными, но и более общие
вопросы затрагивать не всегда безопасно. Уже не начинает хозяин каждую
очередную фразу словами: «Как говаривал Фосетт...» — и так далее. Эта тема
устарела. Девочки выросли и проявляют чудеса воспитанности и
образованности. Я ощущаю установившуюся между мной и хозяевами обоюдную ревность.
Они считают, что я важничаю, а я в том же подозреваю их. И всякий раз меня
спрашивают, нахожу ли я Вашингтона Ирвинга замечательным писателем. И
всякий раз я решаю больше не появляться здесь, пока не получаю
приглашение встретить Рождество в обществе мистера Листона.
Единственным видом общения, который мне ни разу не наскучил и не
приедался, было общение чисто интеллектуальное, лишенное притворной
искренности и слезливо-сентиментального нытья. Наши общие знакомые
рассматривались мною и моим другом не как объекты привязанности, а лишь
как предметы для обсуждения и источники сведений. В ходе наших опытов
отдельные личности значили для нас не больше «мыши в воздушном
насосе»;26 подобно преступникам, их регулярно истребляли и клали под
анатомический скальпель. Мы не щадили ни друга, ни врага. Мы приносили
человеческие слабости на алтарь истины. И после вытяжки сока, то есть сущности,
скелеты характеров трепыхались в воздухе, как попавшие в паутину мухи,
или же сохранялись нами в какой-нибудь очищенной кислоте для дальнейших
исследований. Зрелище было столь же прекрасно, сколь ново. Злословием
пресытиться невозможно: ничто не действует на человека так благотворно,
как желчный декокт. Нам надоедает всё, кроме обыкновения выставлять
других в смешном виде и поздравлять себя по случаю чужих недостатков.
По той же причине нам перестают по прошествии времени нравиться наши
любимые книги. Мы не в состоянии вечно читать одни и те же произведения.
О радостях ненависти
455
Наш медовый месяц — пусть мы сочетались браком с самой музой — все
равно должен прийти к концу, а за этим последует равнодушие, если не
отвращение. Одни сочинения, которые поначалу производят сильнейшее впечатление
новизной и смелостью сюжета, совершенно невозможно перечитывать; другие
же, менее экстравагантные по форме и содержанию, привлекающие и
вознаграждающие внимание тщательной прорисовкой деталей, едва ли достаточно
увлекательны, чтобы надолго удержать читателя в состоянии восторга.
Популярность наиболее известных писателей способствует возникновению
неприязни к ним, потому что сопровождается лестью и шумихой, постоянным
повторением их имен устами огромного числа невежественных и неразборчивых
почитателей, толпящихся вокруг своих кумиров. Однако так же мало нам
нравится извлекать людей из незаслуженной безвестности и этим навлекать на
себя подозрения в жеманстве и странности вкуса. Об авторе с уже
сложившейся репутацией говорить нечего; а хвалить никому не известного писателя —
задача столь же неблагодарная, сколь безнадежная. Превознесение Шекспира
как нашего верховного идола кажется пошлым национальным предрассудком,
а резко критический разбор произведений Чосера, Спенсера, Бомонта и Флет-
чера, Форда или Марло отдает педантизмом и самомнением. Признаюсь, я
начинаю ненавидеть даже сами обозначения Славы и Гения, когда произведения,
подобные вышеупомянутым, «теряются в просторе времен»27, в то время как
каждое последующее поколение дураков сосредоточенно поглощает
современную литературную чепуху, а светские дамы всерьез обсуждают со своими
горничными сравнительные достоинства «Потерянного Рая» и «Любви ангелов»
мистера Мура28. При недавнем посещении книжной лавки мне было приятно
на вопрос, есть ли у них в продаже какой-нибудь шотландский роман, получить
ответ, что недавно продан последний экземпляр «Сэра Эндрю Уайли»29.
Мистеру Голту тоже было бы приятно услышать подобный ответ! У одних книг
репутация не до конца сложилась, сыровата, у других — заплесневела и
изъедена червями. К чему сосредотачивать наши симпатии на том, во что мы не
можем заставить себя поверить, или на том, что давно перестало волновать
других? Мне почти страшно заглядывать в «Тома Джонса»: вдруг он не
оправдает моих нынешних ожиданий? А коли так случится, мне, безусловно,
захочется швырнуть книгу в огонь и никогда в жизни больше ни в какой роман не
заглядывать. Конечно, существуют произведения, которые, подобно самой
природе, никогда не устареют и вечно будут пробуждать в читателе и
воображение, и чувства! И так же существуют строки, над которыми, кажется,
можно размышлять всю жизнь, не утомляясь вызьшаемыми ими чувствами любви
и восхищения; они становятся излюбленными нашими строками и каждый раз
приводят нас в восторг, граничащий с исступлением. Например, следующие:
И вот однажды, сидя у окошка
И шелком на батисте вышивая,
456
Дополнения
Я вдруг увидела, как некий бог
Вошел в калитку.
[Филастру.)
Это были вы!
Вся кровь мгновенно вспыхнула во мне,
Дыхание в груди остановилось...
Но тут меня позвали встретить вас.
Представьте, что кого-то вознесли бы
Внезапно из овчарни в тронный зал, —
Вот так все это мне в тот миг казалось!
И вы тогда меня поцеловали...
О, как я жаждала, о, как желала,
Чтоб вечность длился этот поцелуй!
И ваша речь мне музыкой звучала...30
От подобных строк на нёбе словно остается вкус нектара; читая их,
чувствуешь себя так, как если б восседал с богами за золоченым столом.
Однако если повторять эти слова часто и в обычном настроении, то они теряют
свой аромат, становятся пресными и скучными; «поэзии вино все выпито, на
дне один осадок горький»31. С другой стороны, если, желая оттенить звучание
любимых строк, мы призьшаем на помощь какие-то дополнительные
обстоятельства, например, читаем их другу, декламируем в приподнятом
состоянии духа после долгой романтической прогулки или
бродя с пастушкою под сенью рощи
Или играя локоном Не эры32,
то, обращаясь к этим строкам впоследствии, мы остро ощущаем нехватку
связанных с ними в прошлом обстоятельств и, вместо того чтобы
наслаждаться приятными воспоминаниями, сожалеем об утраченном и тщетно
пытаемся воскресить «безвозвратный час»33, порой удивляясь тому, что смогли
пережить потерю и ужасаясь оставшейся нам печальной опустошенности.
Наслаждение литературным произведением достигает наивысшей точки в какой-то
момент спокойного одиночества или пьянящего сопереживания, а затем
неуклонно уменьшается и в конце концов, не выдержав сравнения с другими
книгами и осознанного угасания, оставляет чувство пресыщенности и
раздражения. «И то же происходит с картинами?» — могут спросить. Признаться, да.
Со всеми, кроме принадлежащих кисти Тициана. Не знаю почему, но его
пейзажи просто дышат чистым, освежающим воздухом иной эпохи, а у
написанных им лиц есть особое, незабываемое выражение. Один такой портрет я
видел вчера. Среди бездушной пустынности и сверкающего великолепия
Фонтхилла34 мне попался в руки альбом с репродукциями полотен
Дрезденской галереи. Открываю — и тут появляется головка молодой женщины:35 это
и дитя, и одновременно взрослая женщина, сочетающая в своем облике не-
О радостях ненависти
457
винность деревенской пастушки и изящество принцессы; глаза ее подобны
глазам голубки, губы вот-вот раскроются в радостной улыбке, на щеках
играют ямочки, в кудрявых волосах сверкают драгоценные камни, богатое
античное платье туго стягивает девичий стан, подобно тому как апрельские
почки с трудом сдерживают рвущиеся наружу молодые листья! Почему же
я не вызываю в воображении своем этот милый образ, дабы поставить его
постоянной преградой между собой и несчастьем? Да потому, что любое
наслаждение для своего поддержания требует большего усилия ума, нежели
страдание. И вот после краткой паузы ничегонеделания мы отворачиваемся
от того, что любим, и вновь устремляем взор к тому, что ненавидим!
Что же касается моих прежних убеждений, то меня от них просто
тошнит — ведь я глубоко в них разочаровался. Меня учили считать, и мне
хотелось в это верить, что гений не блудодей, что добродетель не маска, что
свобода не пустой звук, что любовь обитает в сердце человеческом. Нынче же
меня мало волнует, значатся ли эти слова еще в словаре и слышал ли я их
когда-нибудь. Они воспринимаются как насмешка и пустая греза. Вместо
патриотов и друзей свободы я вижу лишь тирана и раба; вижу народ,
помогающий царям земным ковать для него же самого цепи деспотизма и суеверия.
Вижу, как глупость в союзе с мошенничеством созидает общественное
мнение и общественный дух. Вижу высокомерного тори, слепого реформатора
и трусливого вига! Если бы человечество искренне стремилось к правде и
справедливости, оно бы уже давно достигло желаемого. В теории все
достаточно просто. Но человечество тяготеет ко злу и «не способно ни к какому
доброму делу»36. Я видел, как все созданное мощными устремлениями духа
и ума людей, «которых весь мир не был достоин»37, все, обещавшее
величественное пришествие истины и добра в грядущие годы, было уничтожено
одним человеком, наделенным лишь проблеском сознания, достаточным
только для того, чтобы осознать себя повелителем, но не для того, чтобы
понять, как надо повелевать свободными людьми! И я видел, как его триумф
воспевали поэты — друзья моей юности и друзья человечества, унесенные
затем мощной волной, которая, возникши у подножия трона, смыла на
своем пути любые признаки здравомыслия. Я видел, как гнали, травили, на все
лады поносили немногих (а также друзей их) не присоединившихся к
рукоплесканиям тому, кто оскорбил и грубо попрал само звание человека, — и
стало ясно, что таланты и знания не помогут человеку, не готовому этими
талантами и знаниями торговать, предавая род человеческий и обманьшая своих
собратьев. «Прежде это было тайной, но наше время доказало это»38.
Эхо свободы зазвучало еще раз в Испании39, и утро человеческой
надежды вновь забрезжило над миром; но эту зарю застило зловонное дыхание
фанатизма, а воодушевленные возгласы оказались заглушены вновь
раздавшимися воплями из полуразрушенных временем башен инквизиции. Человек
458
Дополнения
уступает (как ему и положено) сначала грубой силе, но еще больше —
собственной внутренней порочности и подлости, которая не оставляет места ни
надежде, ни разочарованию. И Англия, этот смелый преобразователь, этот
героический освободитель, этот напыщенный певец свободы и орудие
власти, стоит, в изумлении разинув рот, и не чувствует, как сама обрастает мхом
и плесенью, как ее собственные кости трещат и обращаются в прах,
сдавленные железной хваткой щупалец нового чудища — легитимизма!40 Разве не
видим мы, как в обыденной жизни преуспевают лицемерие, раболепие, эгоизм,
глупость и наглость, в то время как скромность сторонится людских глаз, а
достоинство грубо попирается ногами? Как же часто «на челе святой любви
сменяют розу язвой»!41 Может ли обернуться счастьем подлинная страсть? Может
ли она быть постоянной? Смотря на жизнь под таким углом зрения и
распуская ткань человеческого бытия на составляющие ее нити подлости, злобы,
трусости, бесчувствия, непонимания, равнодушия к другим и незнания себя;
видя, как обычай торжествует над совершенством, а затем сам уступает дорогу
бесчестию; неоднократно обманувшись в общественных надеждах и личных
своих упованиях оттого, что судил других по себе и судил неверно; всегда
встречавший разочарование в том, во что больше всего верил; обманутый в
дружбе и одураченный в любви — разве не имею я оснований ненавидеть и
презирать себя? Конечно, имею — и главным образом за то, что недостаточно
ненавидел и презирал этот мир*.
* Единственное исключение из общей направленности настоящего очерка (притом
исключение теоретическое — ни о чем подобном в практической плоскости мне слышать не
доводилось) таково: читая книги, мы всегда стоим на стороне правого дела и всей душой
ему сочувствуем. Наше воображение в достаточной степени возбуждено, сам вопрос нас
лично никак не затрагивает, ибо является чистейшей выдумкой, а потому мы поддаемся
естественному, неискаженному представлению о добре и зле. Наши собственные страсти,
интересы и предубеждения к этому или непричастны, или находятся на периферии
сознания, оттого мы судим справедливо и добросовестно, ибо совесть — не что иное как
абстрактное представление о правильном и неправильном. Однако едва лишь нам
приходится действовать или терпеть страдания, как дух противоречия или какой-нибудь другой
демон вступает в игру — и тут рассудку и здравому смыслу наступает конец. Не исключено,
что даже сама мощь способности к теоретизированию или желание поверить вещи
идеальным мерилом совершенства (независимо от того, в силах мы это сделать или нет) ведет
к половине глупостей и несчастий рода человеческого. Мы гонимся за тем, что нам не
дано отыскать, и вступаем в разлад с тем хорошим, что находится в пределах нашей
досягаемости. Среди тысяч читателей «Эдинбургской темницы» уж конечно не нашелся ни
один, кто не желал бы успеха Джини Динз42. Даже Джентльмен Джордж сожалел о
совершенном им поступке43, когда все закончилось, хотя наверняка сыграл бы эту шутку
вторично на другой же день; и неизвестный писатель44 в своем непосредственном обличий
автора «Блэквудского журнала» и «Часового» — едва ли не столь же респектабельная
личность, как и сам Папаша Рэттон45. Зригели в театре все как один занимают сторону Отел-
ло и противостоят Яго. А мальчики в школе, читая Гомера, обычно выступают за греков
или за троянцев?
ПРОЩАНИЕ С ИСКУССТВОМ ЭССЕ
Коль счастье заключается в покое — мы счастливы1.
Еда, тепло, сон и книга — нынче мне больше ничего и не нужно; это — ultima
Thule* моих бессвязных желаний. — Стало быть, тебе не нужен
В твоем уединенье друг, кому
Шепнуть бы мог: как хорошо быть одному?2
Придет — неплохо; а ушел — еще лучше. Подобные привязанности лишь
крепнут на расстоянии. — А возлюбленная? «Прекрасная маска! Я тебя знаю!» Вот
когда научусь судить о душе по лицу, читать мысли по губам, тогда, быть
может, вновь смогу доверять себе. Теперь же вместо всего этого дайте мне
малиновку, склевывающую рассыпанные у порога крошки, да гомон пташек
на оголенных ветвях — тот ускользающий образ, что следовал за мною
повсюду и «нежно воодушевлял»3, — либо сочные трели дрозда, которые словно
пропитаны весельем, отчего и поражают слух безотрадной зимы. К ним
тяготеет мое сердце, к ним я привязан, ибо и они верны мне; они дороги мне
сами по себе, а еще дороже оттого, что напоминают об ушедшем,
возвращают (будто ведя за руку) в тот невинный мир грез, где точно такие же птахи
разливали сладостные звуки, пробуждая надежды грядущих лет, и на пение
то отзывалось мое сердце и начинало призывно трепетать в груди. Но нынче
«всех страстей отбросил я оковы»4 и отворачиваюсь от мира, обманувшего мои
ожидания, чтобы обратиться к природе, сообщившей миру искусственную
красоту, к природе, поддерживающей иллюзию прошлого. Глотая по утрам
чай, я люблю смотреть на облака, плывущие с запада, и воображать, что «к
нам медленно весна идет»5. Лелея эту надежду, покуда «поля сыры, а колеи
разбиты»6, я иду по одной и той же дорожке в соседний лес, и там, усевшись
* крайняя Фула7 (лат.).
460
Дополнения
на ровной прогалине, покрытой сухим дерном и окаймленной молодой
порослью, могу видеть на милю перед собой, покуда перспектива не сужается
до одной светлой точки, блестящей в ясный день и тусклой, когда хмуро. Это
всем прогулкам прогулка! И не нужны мне ни книга, ни спутник: со мною дни,
часы, мысли моей юности — они будто растворены в воздухе, овевающем мне
лицо. Здесь я могу неторопливо бродить часы напролет, обращая взор вперед,
останавливаясь и оглядываясь, подумывая, не двинуться ли по какой-нибудь
нехоженой тропке, но опасаясь свернуть с моей всегдашней дорожки и
разорвать хрупкую нить воспоминаний. Я замечаю блестящие стволы и тонкие
ветви берез, лениво качающихся на ветру. Вот, взмахнув крыльями, вспорхнул
фазан. А тут у дерева нашел я однажды раненого вяхиря, истекающего кровью, —
и я принимаюсь думать, сколько лет прошло с тех пор, как «растаяла в воздухе
его короткая жизнь»8. Даты, имена, лица возвращаются ко мне — к чему это?
Зачем думать о них теперь? Или скорее: почему бы не думать о них чаще? Мы
идем по жизни как по узкой тропинке, где с обеих сторон колышется легкий
занавес; за ним выстроены в ряд великолепные портреты, звучат нежные
арфы; а между тем мы не хотим протянуть руку и отодвинуть завесу, дабы
взглянуть хоть одним глазком на эти портреты или пробежать пальцами по
струнам тех арф. Словно в театре, когда поднимался выцветший зеленый
занавес, из-за него появлялись группы людей в причудливых одеяниях,
смеющиеся лица, роскошные пиршества, величественные колонны, мерцающие
дали — так что стоит нам лишь в любое время «глянуть сквозь полог
прошлого»9, как мы тотчас же овладеем всем, что радовало нам слух и зрение, запало
в память, будоражило воображение, проникало в сердце! А между тем ко
всему этому мы проявляем равнодушие, бесчувственность и сосредоточены
на одних только повседневных происшествиях, оборачивающихся в конечном
итоге разочарованиями. Пусть рядом со мною на стене висит полотно хоть
Тициана — я едва скользну по нему глазами; где уж ожидать, что я стану
напрягать внутренний взор, дабы мысленно перенестись в Лувр, — или что буду
пытаться магическим усилием воли снести каменные стены, закрывающие его
от меня? Есть в Лувре один портрет, при взгляде на который я часто думал,
что отныне больше никому и ничему не позволю потревожить мой покой, что
буду подражать тому человеку на портрете: вот где воплощенная
невозмутимость и самообладание! Почему бы не повесить этот образ в каком-нибудь
темном уголке мозга и время от времени не поглядывать на него, ведь мне
нужен некий подобный талисман, дабы успокаивать встревоженные мысли?
Да нет, бесполезно, более того — противоестественно. (А то еще можно, как
делают французы, приладить над могилой венки и воскрешать образы
мертвых посредством миниатюрных портретов, запечатлевших их живыми.) На
самом деле лишь какое-то совпадение или ассоциация, возникающая в связи
с определенным местом, способны без всякого насилия «открыть все кельи, где
Прощание с искусством эссе
461
уснула память»10. Склонившись над высокою травой и комком холодной
глины, я могу легко воскресить в памяти первоцветы и лиловые гиацинты,
росшие некогда на этом самом месте, мысленно увидеть листву и птиц на кустах,
какими они были восемнадцать лет назад. Или, продолжая прогулку и слыша,
как вздыхает ветер, шелестя ветвями высоких прямых деревьев в конце
прогалины, могу вообразить, будто различаю вдали лай собак и вижу
появляющийся оттуда зловещий призрак и его несчастную жертву, как в повести о
Теодоре и Гонории11. Жалобный сгон, угадывающийся в порывах ветра, лишь
усиливает впечатление. Я еще раз вглядываюсь в деревья перед собой, чтобы
решить, похожи ли они на зловещую рощу, — и вижу воздушные замки,
поднимающиеся над серыми макушками.
Рим много городов воздвиг в краях своих.
Известней и главнее всех Равенна среди них12.
Возвращаюсь домой, преисполненный решимости прочесть всю поэму до
конца, и после обеда, подвинув кресло поближе к огню и чуть ли не носом
водя по мелкому шрифту, окунаюсь в мощный поток поэзии Драйдена
(поток звуков), сравниваю его поучительную и описательную напыщенность с
простым пафосом и живописной правдивостью повести Боккаччо, смакую с
удовольствием, доступным лишь тому, кто жаден до чтения, некоторые
особенности произношения, необычные для этого совершенного стихотворца:
Гонория взглянула — в этот миг
Тот, прежний испуг в сердце вновь возник13.
(Драйден. Теодор и Гонория)
Себя не помня, нанес он удар,
Чтоб слез поток принес тебе я в дар14.
[Драйден. Сиджизмонда и Гискардо)
Эти пустяковые примеры, доказывающие, что язык подвижен и
неустойчив, придают двойную силу твердой и величавой поступи стиха и заставляют
останавливаться с особым интересом на трудностях и сомнениях раннего
периода в развитии литературы. Тогдашняя манера произношения сегодня
вызывает смех; стихи же в те времена писали так, что нам нынче, когда мы
читаем их, становится не до смеха. Горделивое сознание, что им удалось
овладеть новым языком — поэтическим, казалось, придавало тогдашним
стихотворцам уверенности в своих силах; они гнали расплавленный металл звуков
в существовавшие литейные формы, покуда не начинало течь через край, ибо
завистливые рамки, поставленные рифмой, не могли сдержать зарождения
трехстиший, оставшихся в веках. Меня чрезвычайно радует, что Ли Хант
упомянул о том, как Мур выразил невольное восхищение свободным, ничем
462
Дополнения
не скованным стихом Драйдена, и как процитировал con amore*, с
ирландским воодушевлением и акцентом, превосходные строки:
Пусть златом почести оплачивают даже,
Но красота не подлежит продаже15.
Иной раз, когда я оглядываюсь на прожитое, меня удивляет, что, за
отмеченным выше исключением, я так мало изменился со временем. Меня
неотвязно сопровождают прежние образы и вереницы мыслей; у меня те же
вкусы, пристрастия, ощущения и желания, что и тогда. Да, разумеется, из-под
ног у меня выбили одно из оснований, дававших мне уверенность в себе и
поддержку, но я возместил его тем, что сделался, соответственно, неуступчив
во взглядах. Успех великого дела, которому я посвятил свою жизнь, значил
для меня больше, чем весь остальной мир; я черпал силу в его силе, о чем и
сам не подозревал, до тех пор пока не лишился этого источника во второй раз.
Навеки вождь покинул нас,
Могучий дуб сожгла гроза16.
Покуда я не увидел, как топор обрушился на корни того, что мне было
дорого, я не сознавал весь масштаб постигшей меня утраты и страданий.
Однако окончательная убежденность в том, что дело мое правое, пришла
лишь после того, как восторжествовало неправое; надежды юности станут для
меня последними сожалениями. Одна из причин этой непреклонности
(каковую кто-то может назвать упрямством) состоит в том, что, хотя я часто жил
один, я никогда не поклонялся эху. Я прекрасно вижу, что черное — не белое,
что трава зеленая, что у королей и подданных разная жизнь, и в таких
самоочевидных случаях не считаю необходимым сличать мои представления с
общепринятыми предрассудками. В более деликатных вопросах, в вещах,
допускающих сомнение, покуда я не навязываю свое мнение другим без
причины, то и не откажусь от него без еще более веской причины; и тот, кто льет
на меня потоки брани или напускает на себя внушительный вид, не только не
убеждает меня, что затратил больше сил на поиски истины, чем я, а как раз
ровно наоборот. Мистер Гиффорд сказал однажды: «Попивая джин и
покуривая трубку, он воображал себя Лейбницем»17 Он даже понятия не имел,
доводилось ли мне когда-нибудь читать книжку по метафизике, — так что же,
неужто из любезности или почтения к нему мне следовало забыть, читал я
таковую или нет? Я довольно-таки сильно разочарован тем, что Ли Хант
упустил возможность разъяснить в присущей ему четкой манере характер
друга, причем повредило это как мне, так и ему18. Он все никак не в сосго-
* с любовью (um.).
Прощание с искусством эссе
463
янии примирить скромность моих притязаний с устойчивостью и прочностью
принципов.
А я-то думал, что это почти одно и то же! В силу природного нрава и
привычки я не могу притвориться кем-то другим — ни в слове, ни в выражении
лица, ни в поведении. Я никоим образом не способен оказаться в центре
всеобщего внимания. То, что я стоя держусь прямо, что громко говорю,
элегантно вхожу в комнату, ничего не доказывает; стало быть, я упускаю из виду
обычные способы завоевать благорасположение и восхищение незнакомых
людей (и даже, похоже, философов и друзей). Почему так? Да потому, что
у меня имеются другие ресурсы или, по крайней мере, я занят изучением иных
материй и преследую иные цели. Доведем мою погруженность в себя до
абсурда, а то и до патологически болезненного состояния: предположим, я до-
размышлялся до того, что какая-то мысль приняла у меня в мозгу своего рода
вещественную форму, что у меня есть обоснования для некоего явления,
обоснования, обнаруженные мною благодаря серьезным трудам и заботам,
обоснования, изучить которые как следует я могу лишь путем крайнего
напряжения сил (а объяснить разве что горстке людей) — причина ли это для
того, чтобы вьшаливать эксцентричные соображения каждому
встречному-поперечному, принимать напыщенный и самодовольный вид, как будто бы я —
«цель восхищенья для подражателей»?19 Или же такое мое открытие (вкупе
с отсутствием бодрости и жизнерадостности) — скорее повод уйти в себя и,
может быть, приобрести нервический, неуверенный вид — от осознания того, что
моя способность донести до других то, что лежит у меня на душе,
несопоставима с моим интересом к определенным темам и твердыми
представлениями о них? Коль скоро идеи, каковые я не доказываю, но лишь излагаю, не для
всякого очевидны, то зачем вечно предпринимать попытки ошарашить ими
поверхностную публику или же радостно улыбаться собственному невезению?
Описанное мною выше — крайнее проявление распространенного и
хорошо знакомого английского и схоластического типа. Я не шут, не фат, не
француз, за каковых почитает меня мистер Хант. Ему представляется странным,
что мысли у меня пригнаны хорошо, а одежда — скверно. Мне еще (среди
прочих безумств) и жилось нелегко, и думалось тяжко — последствия этого
не дают мне одеваться, как я хотел бы. Люди в реальной жизни не похожи
на актеров на сцене, которые напускают на себя тот или иной вид либо
надевают тот или иной костюм, просто чтобы произвести впечатление. Я осознаю,
конечно, что веселое, грациозное перо автора не исследует серьезно ошибки
или несчастья своих друзей — он лишь бросает взгляд на их кажущиеся
особенности, чтобы выставить их причудами и нелепостями, за каковую
снисходительность мало кто из приятелей его поблагодарит. Зачем он утверждает,
что я гордился своими волосами, когда они были черного цвета, и точно так
же горжусь ими теперь, когда они поседели, — ведь это неправда в обоих
464
Дополнения
случаях? Такой перенос мотивов поведения заставляет меня едва ли не
сомневаться в том, что лорд Байрон столь же часто думал о кольцах на своих
пальцах, сколь его биограф. Подобные критические замечания следует оставить
в удел женщинам. Меня изображают в маленькой шляпке, криво торчащей
на макушке, а я на самом деле ношу большую шляпу с широкими полями,
опущенными на лоб. И если у меня был когда-нибудь другой головной убор,
то я, должно быть, перекрутил его и придал ему некую несусветную форму,
лишь бы избавиться от досадной помехи. Вероятно, этот факт подстегнул
фантазию мистера Ханта, и она до сих пор пребьюает под впечатлением от
него, не обращая внимания на самоочевидную банальность, что на деле-то я
ношу, разумеется, «шляпу меланхолика»20.
Меня обвиняют в том, что в пылу спора я странным образом
жестикулирую и строю гримасы, чтобы «выглядеть энергично». Следовало бы
предположить, что как раз сам спор становится причиной необычности жестов, ведь
про меня говорят, что в другое время я спокоен. Это все равно что заявить,
будто человек, впадая в негодование, стискивает челюсти не потому, что он
гневается, а для того, чтобы показаться гневливым. Почему всякий поступок
надо расценивать как манерничанье и жеманство? Вместе с Гамлетом я могу
сказать: «Я никакого "кажется" не знаю»21.
Опять-таки, мой старинный друг и славный «приятель» подмечает в моей
манере, как нечто ненормальное, что я ползаю по корту для игры в мяч22,
словно увечный, пока не заполучу ракетку, и тогда вздрагиваю, как если бы
в меня вселился бес. Тогда у меня появляется причина для того, чтобы напрячь
силы, ведь обычно я бездействую в ожидании трудностей и чрезвычайных
обстоятельств. Aut Caesar aut nullus*'23. У меня нет желания бездельничать,
при этом напуская на себя важный вид, и я никогда не полюблю бадминтон
или иную игру с воланом24. Я случайно увидал лишь страницу не
опубликованной еще рукописи, относящейся к рассматриваемому предмету, и изложен этот
фрагмент был, надо сказать, в целом дружелюбно и справедливо, а после
вычеркнут как чересчур благожелательный, учитьюая существующие в
отношении меня предубеждения25.
В том, что касается вкуса и чувства, есть доказательство, что мои выводы
относительно многих вещей были не так уж поверхностны или поспешны: и
вкус, и чувства у меня отличаются устойчивостью и прочностью. Я
по-прежнему люблю всё те же книги, картины, отрывки, которые любил и раньше;
можно, стало быть, предположить, что они останутся со мною на всю жизнь. Да
что там — я смею питать надежду, что мысли меня переживут. Долговечность
впечатлений — единственное, чем я по-настоящему горжусь. Даже Л<эму>,
умеющему в высшей степени остро и всерьез наслаждаться, восхищение иной
* Или Цезарь, или ничто (лат.).
Прощание с искусством эссе
465
раз приедается, и по прошествии десяти лет я боюсь интересоваться его
мнением о некогда любимых им писателях или близких друзьях. Что касается
меня самого, то всякий знает, в чем мое слабое место. Коль скоро я принял
решение, то уж иду до конца. Одна причина, почему я независим во мнениях,
заключается, полагаю, в той свободе, которую я предоставляю другим, либо
в неуверенности и сомнениях насчет того, что кто-то может склониться к моей
точке зрения. Из меня, наверное, вышел бы отличный присяжный заседатель.
Может, я скажу мало, но уж точно возьму измором «одиннадцать остальных
упрямцев»26. Помню, как мистер Годвин написал мистеру Вордсворту, что его,
Годвина, «Трагедия Антонио»27 непременно снискает успех. На самом же деле
она совершенно безнадежно провалилась. Я сказал мистеру Вордсворту, что,
на мой взгляд, это естественно, ибо как человек, судящий о других
исключительно по себе, может заниматься драмой? Возможно, мистер Годвин был
убежден в превосходном качестве этого сочинения, но откуда он мог знать, что
и другие проникнутся тем же убеждением — разве только предположил, что
они столь же умны, как он сам, и столь же непогрешимы в оценке написанных
стихами драматических произведений — ни дать ни взять Аристотели,
собравшиеся судить Еврипидов!28 Этот пример показывает, почему гордость
нередко соседствует с застенчивостью и сдержанностью; ибо по-настоящему гордые
люди не такого высокого мнения о большинстве, чтобы предположить, будто
те способны понять их или что между ними вообще есть хоть что-нибудь
общее. Так, Драйден горько и презрительно восклицает о своих гонителях:
Я и представить не могу, что им на ум придет29.
Я не стремился завести сторонников, еще меньше мечтал о том, чтоб
обрести врагов; вот почему держал свои взгляды при себе, вне зависимости от
того, были они распространены или нет. Д^я того чтобы внушить наш образ
мыслей другим, мы должны проникнуться тем, что присуще им; для того
чтобы вести за собой, надобно следовать за кем-то30. Когда я жил в этих местах
раньше31, у меня и в мыслях не было, что когда-нибудь я стану плодовитым
писателем, и все-таки я был не менее уверен в своих чувствах, прежде чем
решился поведать о них всем, нежели уверен в них сейчас. Ни выступления
в поддержку моих воззрений, ни протест против них не заставят меня
измениться ни на йоту; признаю, впрочем, что поддержка приятнее, нежели осуждение.
Недалеко от того места, где сейчас пишу, я впервые прочел чосеровский
«Цветок и лист»32. Меня очаровала юная красавица, окутанная листвою и с
неизменно свежим восторгом внимающая трелям соловья, усевшегося
поблизости, — эта сцена, весенний пейзаж, утренняя прохлада, романтичные рулады
певца
(И вновь почудилось мне рядом пенье)
466
Дополнения
рисуются столь живо, будто они оставили во мне впечатление буквально
вчера; и ничто не разуверит меня в том, что названная поэма прекрасна. В
варианте Драйдена34 это впечатление не передано, а стало быть, ничто не
убедит меня, что он столь же прекрасен, как первоначальный.
В то время я имел обыкновение прогуливаться вечерами в обществе
мистера и мисс Л<эм>35, смотреть на небесный свод над нашими головами,
будто вышедший из-под кисти Клода Лоррена, — где лазурь растворяется в
пурпуре и золоте; собирать грибы, в изобилии росшие под ногами, набрасываться
на баранье рагу за ужином. Я тогда был восторженным поклонником Клода
и мог бесконечно созерцать пару его великолепных гравюр, висевших в моей
каморке — курчавые отары, нависшие над водой деревья, извилистые ручьи,
рощи, поникшие храмы, сотканные из воздуха холмы, освещенные солнцем
долины вдалеке, — и пытался мысленно раскрасить их в чудесные живые
оттенки. Мне говорили тогда, что Уилсон далеко превзошел Клода, но я не
верил36. Полотна того и другого с тех пор выставлялись рядом в Британском
институте, и весь мир склонился к моему мнению. Я от него из-за этого не
отказался. Не стану сравнивать наше баранье рагу с тем, которое подавала
Амелия;37 но одно напомнило другое и породило продолжительную и
остренько приправленную дискуссию до полуночи, итоги коей появились несколько
лет спустя на страницах «Эдинбургского обозрения». Изменилось ли у меня
в лучшую сторону мнение о критических замечаниях на сей счет, следует ли
мне поэтому отстаивать их с большей горячностью и упорством? Да нет же.
Скорее даже с меньшей, ведь теперь вся критика доступна читающей
публике, и ей делать выбор.
Именно такие сцены, когда я оглядываюсь назад, дают мне наилучшее
утешение относительно будущего. Более поздние по времени впечатления
приходят и уходят, заполняя собою годы от одного памятного события до
другого, но ранние — поистине неиссякаемый источник, подлинный эталон.
Пусть редко выпадали мне наслаждения или блага, но мысли благодаря своей
живой, дышащей ткани представали передо мною в виде реальных
сущностей; и пусть я неспособен обеспечить прирост стада идей, но вполне могу
культивировать интерес к той или иной теме. Что же до моих философических
рассуждений, то в них особо нечем восхищаться, разве только тем, что я
восхищаюсь другими людьми; и найдут ли мои мысли отзвук когда-нибудь в
будущем или нет, не важно — все равно я научился с благодарностью вспоминать
о прошлом, ценить его и радуюсь возможности легко предать забвению
рассказ о том, что затрагивает непосредственно меня и узкий круг предметов,
средь коих я вращался:
И занавесить сцену от взглядов праздных впредь38.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Н.Я. Дьяконова
Романтические очерки
Уильяма Хэзлитта (1778-1830)
Литературный критик, один из теоретиков английского романтизма, выдающийся
журналист, неутомимый защитник свободы, Хэзлитт привнес в культуру своей
страны новую разновидность художественного очерка, эссе. Этот жанр и его
обозначение введены французским писателем Мишелем Монтенем, автором сочинения
«Опыты» («Les Essais», 1595). Развиваясь под его влиянием в Англии с начала
семнадцатого столетия, очерк обрел полную самостоятельность и прочное положение
в XVIII веке как особый жанр, одновременно эмоциональный и аналитический,
вознесенный Аддисоном, Стилем и их многочисленными последователями на
небывалую высоту.
Возрожденный в первые десятилетия XIX века очерк оказался в русле
романтического движения, господствовавшего в европейской, а затем и американской
литературе до середины века.
В Англии романтизм стал многосторонним ответом на кризисный характер
социальной действительности в конце ХУШ — начале XIX века, а также на
Французскую революцию 1789—1794 годов и подготовившую ее материалистически и
рационалистически окрашенную философию Просвещения. Писатели левого направления
романтического движения (Байрон, Шелли), несмотря на критическое отношение к
крайностям революции, сохранили веру в ее идеалы равенства, братства, свободы
и ненависть к вызванной ею реакции. Писатели правого направления (Вордсворт,
Колридж, Саути) осудили революцию и вдохновившие ее идеи; в противовес они
выдвинули новое понимание философии, природы и искусства, считая преданность
им более действенной и нравственной, чем какая бы то ни было прямая
политическая борьба.
Совершенно иную позицию заняли Хэзлитт и его друзья: влиятельные критики
и журналисты Чарлз Лэм (1775—1834) и Ли Хант (1784-1859). К ним примыкал поэт
Джон Ките (1795—1821), испытавший сильнейшее влияние сперва Ханта, а затем
Хэзлитта. Протестуя против реакции, все они не меньшее значение, чем политике,
придавали новому искусству, порывающему с утвердившимися традициями. В нем они
видели великую надежду для человечества. Не отказываясь от участия в
политической борьбе, не порывая с идеями революции, они, однако, отдавали душу поискам
истины и красоты в поэзии и живописи.
470
Приложения
Консервативная критика обрушивала на них потоки грязной ругани (Ханту
достались к тому же два года тюремного заключения за крайне дерзкую статью
против принца-регента, будущего Георга IV) и наградила их презрительной кличкой
«кокни» — то есть лондонцы из низших слоев общества. Отбрасывая это
проникнутое сословной спесью прозвище, мы будем называть Хэзлитта и его друзей
«лондонцами»1.
Уильям Хэзлитт родился 10 апреля 1778 года. Он был сыном пастора,
сторонника единой Англиканской церкви. В семье преклонялись перед революцией.
Когда в 1791 году подстрекаемая реакционерами толпа сожгла дом
философа-материалиста Джозефа Пристли (1733—1804), друга старшего Хэзлитта,
тринадцатилетний сын последнего послал протест в газету. В 1793 году он стал учеником школы,
основанной под влиянием идей еще одного друга отца, Ричарда Прайса (1723—1791),
автора «Наблюдений об американской революции» (1776). В годы обучения (и
позже) Хэзлитт бьшал в гостях у Уильяма Годвина и других участников
демократического движения 1790-х годов. Тогда же он написал свои первые политические
трактаты и отказался от предназначенной ему отцом духовной карьеры.
Сперва он усиленно занимался самообразованием: читал сочинения
французских просветителей, в особенности Руссо, увлекался английскими романистами
XVTQ века — Ричардсоном, Филдингом, Смоллеттом, Стерном, а из более ранних
писателей — Спенсером, Шекспиром, Милтоном. Затем в течение нескольких лет
под руководством своего старшего брата Джона, известного миниатюриста, изучал
живопись. С характерной требовательностью к себе он вскоре отказался от
живописи, но приобретенный опыт и острота зрения художника служили ему до
конца дней. Неизменно сохранявшийся у Хэзлитта интерес к взаимодействию искусств
позволяет нам видеть, какое значение лая него как писателя имели его усилия как
живописца. Сохранившийся и часто воспроизводимый автопортрет (см. в наст. изд.
ил. 9) рассматривается современными исследователями как важный комментарий
к истории становления его личности, как образец неудержимой исповеди.
Итак, Хэзлитт возвратился к литературе и попробовал силы в трактатах «О
принципах, движущих поступками человека» (1805), «Вольные мысли об общественных
делах» (1806), в книге «Ответ на трактат о населении достопочтенного Т.-Р.
Мальтуса» (1807). В них отчетливо выражено полное неприятие идей и общественных
движений, враждебных интересам большинства. В понимании их Хэзлитт решительно
разошелся с Вордсвортом и Колриджем и еще более с их другом Саути. Хэзлитт тем
болезненней пережил разрыв с ними, чем больше он во время первой встречи с
поэтами в 1798 году увлекся их мыслями о поэзии как высшем из доступных человеку
благ, о неразрывном единстве ее с природой и истиной.
Преклонение Хэзлитта перед обоими поэтами сменилось горьким осуждением,
когда революционный террор и победоносные войны Франции с другими странами
Европы вызвали полное отчуждение Вордсворта и Колриджа от революционных
1 См.: Дьяконова Н.Я. Лондонские романтики и проблемы английского романтизма.
Л., 1970. Гл. П: Чарльз [sic\] Лэм; Гл. Ш: Вильям [sid] Хэзлитт.
Н.Я. Дьяконова. Романтические очерки Уильяма Хэзлитта 471
пристрастий юности. В то время как они разделяли распространенную среди
европейцев ненависть к «корсиканскому чудовищу», Наполеону, Хэзлитт видел в нем врага
реакции и «священного права королей» — легитимизма. К концу жизни он выпустил
хвалебную биографию Наполеона, оспаривая отрицательную характеристику его в
биографии, написанной Вальтером Скоттом1.
Противоречивость Хэзлитта явственно обозначилась в его обширной
литературной деятельности, ставшей по-настоящему активной с 1813 года. К этому времени он
уже подружился с Лэмом и Хаитом, вошел в их круг, стал сперва парламентским
репортером, а затем автором самостоятельных очерков — например, «О любви к
жизни» (1813) — и обозревателем лондонских театральных постановок. В 1817 году
выходят две его книги: «Круглый стол» («The Round Table») — очерки на разные темы,
сначала издававшиеся вместе с Ли Хантом, а впоследствии без его участия; и «Герои
шекспировского театра» («Characters of Shakespeare's Plays») — сборник блестящих
характеристик главных персонажей Шекспира (самые знаменитые из которых — очерки
о Гамлете, Лире и Макбете).
В 1818 году Хэзлитт выступает с серией лекций об английских поэтах, широко
посещавшихся и бурно обсуждавшихся. Вскоре они вышли отдельной книгой
(«Lectures on the English Poets»); за ними последовали «Обозрение английской
сцены» («A Review of the English Stage», 1818), «Лекции об английских комических
писателях» («Lectures on English Comic Writers», 1819) и «Лекции об английской
драме елизаветинской эпохи» («Lectures on the Dramatic Literature of the Age of
Elizabeth», 1820). Все они, но в особенности «Герои шекспировского театра» и «Лекции
об английских поэтах», вызвали горячий интерес, выходивший за пределы Англии,
а также времени своего создания. Почитателями Хэзлитта оказались Стендаль,
Гейне, Теккерей, Стивенсон2.
Не ограничиваясь проблемами поэзии и драмы, Хэзлитт оставался и
политическим журналистом. В известнейших английских журналах тех дней («Морнинг
кроникл», «Лондонский журнал», «Экзаминер» и других) непрерьшно печатались
очерки Хэзлитта «на злобу дня» и на вечные темы — любви, борьбы и смерти.
Очерки первого типа появились в сборнике «Политические очерки» («Political Esays»,
1819), второго — в сборниках «Застольные беседы» («Table Talk», 1821—1822) и «Пря-
1 Оценка Наполеона принадлежит к сложнейшим этическим и литературным
проблемам 1800-1820 гг. Напомним хотя бы восторженные отзывы Пушкина, поэтические и
прозаические, и его приговор в 1824 г.: «Мятежной вольности наследник и убийца»
(«Недвижный страж дремал на царственном пороге»). Для Лермонтова Наполеон еще в 1841 г. —
«вера, слава, гений,/Все, все великое священное земли» («Последнее новоселье»).
2 См.: Дьяконова Н.Я. Теккерей и Хэзлитт //Мир романтизма. Вып. 9 (29): К 40-летию
научно-педагогической деятельности И.В. Карташовой. Тверь, 2001; Дьяконова Н.Я. Генрих
Гейне и Уильям Хэзлитт // Жизнь и творчество Гейне: К двухсотлетию со дня рождения.
СПб., 1997; PonturkovaJ. W.M. Thackeray as a Critic of literature // Brno Studies in English. Brno:
Univ. G.F. Purkyne, 1972. Vol. 10-11. P. 31-32, 35, 38; Vigneron R. Stendhal et Hazlitt//Modem
Philology. 1938. № 4. P. 376—377; Дьяконова H.Я. Шекспир в английской романтической
критике II Шекспир в английской и мировой литературе. Л.; М., 1984; Она же. Из истории
эстетических идей в Англии//Проблемы романтизма. М., 1971. Вып. 2; Она же. Чарльз [sid]
Лэм и Элия//Чарльз [sid] Лэм. Очерки Элии. Л., 1979. С. 181-208. (Литературные
памятники.)
472
Приложения
модушный» («The Plain Speaker», 1826); сборник «Дух века» («The Spirit of the Age»,
1825) объединил очерки обоих типов.
Неустанный самоотверженный труд, сопротивление господствующей идеологии,
превознесение искусства, воплощающего истину и красоту, наполняли всю жизнь
Хэзлитта. Его поддерживала дружба с единомышленниками — более всего с Хаитом
и Лэмом, но он оставался одиноким, отчасти потому, что был очень несчастлив в
любви. Оба его брака оказались неудачны и закончились разводом. Первый (1808—
1821 гг.) был прерван отчаянной влюбленностью Хэзлитта в девицу ничтожную и
насквозь лживую. Она отвергла своего поклонника после того, как он с большими
трудностями добился развода ради соединения с ней. Перенесенные душевные муки
и горечь разочарования Хэзлитт описал в самом слабом из своих произведений —
«Книга любви, или Новый Пигмалион» («Liber Amoris, or the New Pygmalion», 1823).
Второй брак Хэзлитта был заключен, по-видимому, слишком поспешно и
продолжался недолго.
Можно с уверенностью сказать, что, несмотря на мучительность любовных
переживаний писателя, трагедия его жизни определялась не ими, а неразрешимым
противоречием между страстностью его войны за свободу — и преследовавшим его
ощущением тщетности политической борьбы, неизбежно грязной и обреченной на
поражение.
Против изъянов общественного строя своей страны, оскорблявших его
нравственное и эстетическое чувство, Хэзлитт обращает оружие разящей иронии и
язвительной пародии, которые помогали ему раскрыть, вопреки лицемерно
соблюдаемой видимости, уродливую сущность пороков тогдашней жизни. Опередивший
свое время Хэзлитт использует сложное сочетание изобразительных средств,
предвосхищая стилистику постмодернистской литературы XX—XXI веков.
Несмотря на то, что важнейшие книги Хэзлитта, в том числе его лекции по
литературе, отличаются разнообразием тематики, все они состоят из эссе. Как уже
было сказано выше, этот жанр имел в Англии давнюю традицию, основы которой
были заложены в очерках Монтеня в самом конце XVI века. Эссе (или очерк)
представляет собой сложное литературное явление, соединяющее повествование,
описание, исследование, словесный портрет и исповедь, — нередко в виде обращения к
близкому другу. По формулировке самого Хэзлитта, художественный очерк
отличается от научного тем, что
не имеет дела с минералами и ископаемыми, со свойствами растений или
влиянием планет; он знакомит с миром людей, характеризует их занятия во всем
бесконечном разнообразии, превращает читателей в просвещенных зрителей
многоцветных сцен жизни1.
1 Hazlitt W. On the Periodical Essayists//W. Hazlitt. The Complete Works /Ed. P.P. Howe.
L., 1930-1934. Vol. VI: Lectures on the English Comic Writers. P. 91.
Н.Я. Дьяконова. Романтические очерки Уильяма Хэзлитта 473
Лучшим эссеистом Хэзлитт считал Монтеня, ибо эссеист должен уметь сказать
как писатель о том, что он чувствует как человек1. Сущность настоящего эссе, по
Хэзлитту, — свобода, независимость от установленных предписаний, кажущаяся
небрежность письма. Хэзлитт подчеркивает, что эссеисту нужно не исчерпать
предмет, а представить его с новой стороны, отражающей неповторимо индивидуальное
восприятие. Эссеист должен окружить предмет ассоциациями, возникающими на
основе его собственного эмоционального опыта, ибо в искусстве важен не столько
предмет сам по себе, сколько преломление его в творческом сознании. Именно так,
утверждал Хэзлитт, пишет романтик, — в отличие от классициста, который
воссоздает явления объективно, по предначертанным законам.
В соответствии со священными для Хэзлитта романтическими канонами, его
очерки отличаются резко выраженной субъективностью, характерной для
авторской исповеди, для глубоко личного излияния чувств. Поэтому его очерки так
трудно классифицировать. Лишь условно их можно разделить на философские,
литературно-критические, историко-политические, словесные портреты (писателей,
видных деятелей прошлого и настоящего), рассуждения, посвященные
общеэстетическим проблемам, и очерки на вольные темы, то есть размышления по поводу
разнообразных житейских, психологических, сентиментальных переживаний,
перемешанные с лирическими признаниями и воспоминаниями.
Классификация эта в значительной мере условна. Границу между различными
видами очерков хочется назвать зыбкой. Так, очерк «Мистер Колридж» (сборник
«Дух века») — и политическое, и критическое эссе, и литературный портрет; очерк
о Руссо (сборник «Круглый стол») — и литературно-критический, и
автобиографический: на первый план выдвинуты воспоминания Хэзлитта о том, как он читал и
переживал сочинения Руссо. В сущности, только философские (преимущественно
ранние) очерки Хэзлитта не принадлежат к художественной прозе. Все остальные
вызывающе смело внедряют новую романтическую разновидность очерка.
Нельзя не удивляться широте интересов писателя. Его перу подвластны едва ли
не все стороны современной ему действительности: политика внешняя и
внутренняя, от парламентских дебатов по иностранным делам до забастовочного движения,
крупнейшие общественные события, вопросы экономики и философии, религии и
нравственности, поэзия прошлого и настоящего, театр, живопись, сцены из жизни
Лондона. Суду Хэзлитта подвергаются дух монархии, характер
священнослужителей, фарисейство и лицемерие, разум и воображение, живописное и идеальное. Но
пишет ли он о Вальтере Скотте или лорде Байроне, о Гамлете или о Лире, о
любви к жизни или о последней выставке картин, о Данте или о Мальтусе — всюду мы
видим прежде всего самого Хэзлитта, пылкого, остроумного, самозабвенного
защитника свободы2 — «невесты философа и поэта» — и обличителя «старой ведьмы —
легитимизма», то есть всесилия монархии.
Политические страсти воодушевляют его литературные и отвлеченно
теоретические очерки, и во всех них — такие взрывы отчаяния, такие взлеты надежды, что
1 Ibid. P. 92.
2 Любопытно, что современный литературный критик Том Полин (род. 1949) назвал
свою книгу о Хэзлитте «Дневное светило Свободы» («The Day-Star of Liberty: William Haz-
litt's Radical Style», 1998).
474
Приложения
создается впечатление глубокого внутреннего единства Хэзлитта — человека,
художника, политика. Каждое его эссе представляет выражение какой-либо отвлеченной
идеи, ставшей частью его существа, превратившейся для него в реальность. Каждое
положение пронизано эмоцией, а нередко и страстью. Поэтому в любом его очерке
своеобразно сочетаются теоретическая мысль и чувственно-художественное,
эмоциональное воплощение.
В этом отчетливо проявилась близость Хэзлитта его собратьям по перу, таким
же, как он, «лондонским романтикам» — Ли Ханту и Чарлзу Лэму. Созданные ими
очерки жизни знаменитой столицы, при всем различии и индивидуальном
своеобразии, также представляют единство возмущенного чувства, насмешливого
наблюдения и глубокой тоски по миру, где человек не будет унижен и жалок и сможет
проявить себя во всем богатстве своих внутренних возможностей. Как истинные
романтики, Хэзлитт, Лэм и Хант пытались создать художественный мир, близкий
реальному, но преображенный чувством, фантазией и верой в могущество ума и
сердца человеческого.
Из сочинений Хэзлитта наибольший интерес представляют сборники
«Застольные беседы»1, «Дух века», «Герои шекспировского театра», «Круглый стол»,
«Прямодушный». Первый из них представляется самым интересным: он чрезвычайно
разнообразен по тематике и стилю; в нем отражен опыт Хэзлитта как заядлого
«лондонца», художника, театрального и литературного критика, человека тонко
чувствующего и способного сопереживать чужому страданию.
Хэзлитт стремится говорить с читателями о том, что занимает их так же, как
и тысячи других ничем не примечательных людей. Тут и радости живописца и
любителя дальних странствий, и описание запомнившихся навек картин, и поэзия
Милтона, и боязнь смерти, и корпоративные объединения, и психологические
загадки: почему нам нравится далекое, почему актеры не должны сидеть в ложах и
почему опасно интеллектуальное превосходство.
Конечно, есть и эссе, сравнительно мало занимающие современного читателя,
но их не много, и даже в наименее интересных неизменны парадоксальность,
неожиданность, непривычный поворот мысли, оригинальность восприятия. Хэзлитт
явно хочет беседовать с читателем как человек с человеком, на равных, отбросив
словесное оружие и забыв о распрях партий. Но общественные страсти писателя
дают о себе знать на каждом шагу, пробиваются в самые невинные сюжеты. К тому
же в сборник вошел один очерк с открытой политической направленностью: «О
корпоративных объединениях».
В очерке «Вульгарность и жеманство» Хэзлитт приписывает обозначенные в
заголовке качества прежде всего высшему свету и двору. Он с негодованием
отрицает превосходство знати над чернью. Отбрасывая всякую осторожность, он
оправдывает неистовый гнев толпы и обвияяег ее обидчиков:
1 Название книги Хэзлитта побудило Пушкина озаглавить свое собрание
занимательных эпизодов и анекдотов «Table Talk». См.: Пушкин и его современники. СПб., 1910.
Вып. 9-10. С. 246.
Н.Я. Дьяконова. Романтические очерки Уильяма Хэзлитта 475
Я лучше переношу жестокость <...> толпы, чем бесчеловечность королевских
дворов. Толпа бушует, как огонь, а двор своей коварной политикой ударяет так,
что превосходит роковую неотвратимость чумы. Медленно действующий яд
деспотизма хуже судорожных схваток анархии. <...> Она может взбурлить, «как
яростный разлив реки весною», в то время как политика двора, защищенного
священной тайной своего положения, идет невидимыми путями, на целые века
подрывает благополучие царств, таится во впалых щеках неимущих и глядит
вам в лицо их жуткими глазами, полными горя и отчаяния (с. 185 наст. изд.).
Такие тирады — характерные для Хэзлитта образцы политической инвективы —
в «Застольных беседах» попадаются редко. В этом сборнике преимущественно идет
речь о «множестве людей, книг и вещей», как значится в подзаголовке, об
этических вопросах, с которыми сталкивается каждый думающий наблюдатель
житейской суеты. Так, в очерке «О великом и малом» решающей оказывается идея об
относительности понятий, казалось бы, ясно различимых. Прилагая ее к сфере
искусства, к политике и истории, к сфере обыденных отношений, к дружбе и
любви и даже к азартной игре, к мысли и действию, к парадоксу и здравомыслию,
Хэзлитт раскрьшает путаную противоречивость человеческой природы и сложность
ее развития во времени; нет и не может быть ни окончательных решений, ни
абсолютных критериев, ни твердых мерок — к такому выводу он часто приходит.
К наиболее известным и поэтическим очеркам «Застольных бесед» принадлежит
эссе «О наслаждении живописью». Воспоминания о юности, прошедшей в школе
живописи, и зрелых годах, проведенных за литературной работой, соединяются с
теоретическими положениями о разнице между писателем и художником, о
специфике искусств. Эти соображения по-новому толкуются читателем конца XX —
начала XXI века в свете концепции интермедиальности. Непосредственное
эмоциональное воспроизведение радостей, выпадающих на долю всякого, кто берет в руки
кисть, сочетается в очерке с рассуждениями на отвлеченные темы, например, о
соотношении творчества и художественного восприятия: только тот, кто сам создает,
заявляет Хэзлитт, способен ощутить восторг от созерцания чужих творений и
верно оценить их.
Мысль эта, на характерный для Хэзлитта лад, парадоксальна: если прекрасное
доступно только художнику, оно, следовательно, должно быть предназначено для
него и для тех, кто причастен к искусству, то есть для круга довольно узкого.
Между тем романтики Англии — прежде всего учителя Хэзлитта Вордсворт и Колридж —
отстаивали мысль о всеобщей доступности искусства как главном условии
нравственного развития человечества. По-видимому, Хэзлитт недостаточно ясно
разграничивает творческий акт, восприятие творчества и критический его анализ. Между тем
творческая способность бесспорно представляет собой гораздо более редкое и
принципиально отличное явление. Поэтому правильнее противополагать не восприятие
отмеченного особым даром художника и восприятие обычное,
неквалифицированное, а более широко — восприятие эстетически неразвитого или малочувствительного
зрителя и восприятие либо непосредственное, эмоционально яркое, либо
воспитанное на высоких образцах.
По убеждению Хэзлитта (убеждению, побеждающему через порой
противоречивые формулировки), процесс творчества, невыразимо прекрасный, поскольку
476
Приложения
зиждется на теснейшем общении с природой, по своей интенсивности отличается
даже от радостей созерцания, доступных человеку внутренне богатому.
Живописец восторгается не только природой: новый, изысканный источник
удовольствия открыт ему в изучении и созерцании произведений искусства... (с. 19
наст. изд.).
Художник <...> связан с живописью неразрывными узами: это его возлюбленная,
его королева, кумир его души. Ей художник доверил все, что у него есть —
славу, время, удачу, душевное спокойствие, юношеские надежды, утеху в старости...
(с. 22 наст. изд.).
От художника не ускользает ни одна подробность, даже мельчайшая <...>. Даже
если объект наблюдения не отличается красотой и лишен всякой пользы <...>
правда жизни тем не менее налицо <...>. И самый незаметный художник —
истинный ученый, причем лучший из ученых — он исследователь и знаток
природы (с. 14 наст. изд.).
Замечания о сущности творческого процесса перемежаются с воспоминаниями
об утраченном счастье тех дней, когда молодой Хэзлитт только приобщался к
живописи, когда ему являлись «величественнейшие достижения человеческого
гения» в галереях Франции, в залах старинных английских замков.
Рассказывая историю своего первого произведения — портрета старухи, —
Хэзлитт вспоминает детали ее облика — свет, отраженный в глубоких морщинах
старости, поджатые губы, настороженную сосредоточенность взгляда — и тут же
переходит к обобщениям, к опровержению идей классициста Джошуа Рейнолдса,
считавшего значение индивидуальных деталей ничтожным по сравнению с передачей
общего вида предмета. (Полемике с Рейнолдсом на эту и другие темы посвящено
одно из пространнейших эссе сборника.) Напротив, подтверждения своих взглядов
Хэзлитт ищет в облике старухи, изображенной на картине Рембрандта; как и у
других романтиков, природа и искусство для писателя неразделимы.
История первого портрета становится и поводом к размышлениям об искусстве,
его общих и частных особенностях, и рассказом о несостоявшемся шедевре и
несбывшихся надеждах, и страстной хвалой творчеству. Восклицания, обращения к
читателю, вопросы, тонкие оттенки переживания, изложенные с небрежной
торопливостью живой речи, непринужденная разговорная интонация, фразеологизмы,
свойственные повседневной бытовой речи, умение сделать слова «осязаемыми и зримыми»,
как выражался сам Хэзлитт, — все названные стилистические особенности придают
этому очерку (как и другим) характер задушевного разговора. О своих поисках
живого искреннего стиля Хэзлитт говорит, в частности, в очерке «О простоте слога».
В сборник включен также очерк «О живописном и идеальном». Конкретные
примеры сочетаются с отвлеченной мыслью о различии между этими двумя
категориями. По определению Хэзлитта,
Индивидуальное, характерное в живописи — это то, что приметно, особенно;
идеальное — то, во что мы хотели бы обратить все окружающее и созерцать его
Н.Я. Дьяконова. Романтические очерки Уильяма Хэзлитга 477
без меры и конца. Живописное есть правда, идеальное есть добро. <...>
Поглядите на любую из мадонн Рафаэля: что определяет ее идеальный характер —
неутолимая жажда души или безмерная радость, с которой она глядит на
младенца? (с. 354 наст, изд.)
В другом месте Хэзлитт называет мадонну идеальной потому, что вера
очистила ее нежность от слабостей материнской любви1.
Чисто литературным вопросам посвящены эссе «О критике», «О простоте
слога» и «Сонеты Милтона». В первом Хэзлитт со свойственным ему полемическим
жаром отстаивает нравственно-социальное значение критики и рассуждает о ее
соотношении с литературой. Во втором, в значительной степени программном,
посвященном стилю, Хэзлитт размышляет о языке романтической прозы —
эмоциональном, домашнем, близком к разговорной речи, чуждом регламентации и
упорядочивания. Статья эта особенно принципиальна в свете войны, которую
официальная и проправительственная печать вела против гордившихся простотой своего
языка «лондонцев». Защита разговорного языка была своеобразным манифестом
демократической оппозиции.
Те же идеи отстаивает эссе «О литературной аристократии». Вопросы
литературы, в обычной манере Хэзлитта, связаны в нем с политическими: едкой критике
подвергается положение, при котором оценка писателей определяется их сословной
принадлежностью. Горькие строки посвящены Джону Китсу, не дожившему до
широкого признания из-за своего плебейского происхождения и близости к кругу
«лондонцев».
Из «Застольных бесед» наиболее известен, пожалуй, очерк «О боязни смерти».
Основное положение его сводится к тому, что страх связан с ложным
представлением о ценности жизни: человек, у которого позади остались дни, насыщенные
трудами и раздумьями, мужественно смотрит в глаза смерти. Страшится ее лишь тот,
кто не жил и не мыслил.
Положение это парадоксально, так как противоречит расхожему мнению,
будто несчастному легче расстаться с жизнью, чем счастливому. Но с точки зрения
романтика Хэзлитта, полнота и радость жизни более естественно сочетаются с
величием смерти, чем унылая пустота и скука. Свой парадоксальный тезис Хэзлитт
высказьшает сперва в форме недоуменных вопросов. Цель их — вступить с
читателем в непосредственное общение, завязать с ним доверительный разговор. Он
спрашивает, почему мы должны пугаться при мысли о том, что нас когда-то не станет,
если не огорчаемся, думая о времени, когда нас не было на свете. Диалог с
читателем сменяется лирическим отступлением, обращением к милой и единственной,
долго и напрасно страдавшей от горести бытия.
1 См.: Hazlüt W. The Complete Works... Vol. VI. P. 148.
478
Приложения
Признания приводят к соображениям общего порядка. Хэзлитт отвергает один
за другим аргументы, обычно приводимые в пользу долголетия. Все время
прорываются эмоциональные переживания самого писателя: для себя он ничего не хочет —
ему бы только дожить до падения Бурбонов! В рассуждение об унылой старости,
неприметно наступающей после бессмысленного существования, вторгаются горечь
и обида на неоправдавшиеся надежды молодости, на тяготы одиночества.
Воспоминания идут рука об руку с размышлениями о неизбежно печальной кончине того,
кто не дождался исполнения желаний, личных и общественных.
Эссе завершается обобщающей формулировкой основной идеи: жизнь
действенная, полная тревог, трудов и опасностей, лучше готовит нас к смерти, чем
однообразное и бесцветное существование, которое не насыщает и потому не подготовляет
к переходу в небытие.
Общие положения Хэзлитт все время излагает с глубоко личной точки зрения.
Жизнь и смерть, понятия универсальные, трактуются им в свете собственных
трагических разочарований; общее, абстрактное, вневременное подчиняется
индивидуальному, конкретному, преходящему. Для внедрения центральной идеи,
выражающей в то же время его сокровеннейшее чувство, Хэзлитт призывает образы,
наделенные ощутимой реальностью: старость у него предстает не в пышных осенних
красках, а в серой, сырой мгле. Таинственность смерти выражается в облике
мертвого ребенка, презрение к ней — в смелости Ромео и Джульетты, которые стремятся
к гибели с тем же самозабвением, с каким вступили на брачное ложе, а страх
перед кончиной — в образе известного литератора ХУШ века Сэмюэла Джонсона, всю
долгую жизнь просидевшего в кресле за нескончаемой чашкой чаю и не
приготовившегося к мужественному уходу в мир иной.
Так в очерке Хэзлитта отвлеченные понятия приобретают художественное
выражение и подчиняются раскрытию авторского «я». Перед нами человек
огромного общественного темперамента, сквозь горечь поражения свободы различающий ее
очертания в неведомом будущем. Личностный характер этого эссе был еще более
явным в следующих строках его чернового варианта:
Мне нужны глаза, которые бы ободрили меня, рука, которая бы вела меня,
грудь, к которой я бы мог склониться. Но всего этого у меня никогда не будет.
Нелюбимый и недостойный любви, я состарюсь без времени и неверными
шагами сойду в могилу, если только...1
Хэзлитт правильно поступил, исключив это жалобное признание из
окончательного текста, но оно подтверждает, с какой порывистой искренностью писал автор,
каким интимным, индивидуальным был для него процесс творчества. Последнее
очевидно также при сопоставлении эссе «О боязни смерти» с подсказавшим его
очерком Монтеня «О том, как надо судить о поведении человека перед лицом
смерти»2. Монтень говорит о том, что можно назвать мужественным отношением к
смерти, Хэзлитт рассуждает о причинах страха или бесстрашия перед лицом ее.
1 Wilcox S.С. A Manuscript Addition to Hazlitt's Essay on the Fear of Death // Modern
Language Notes. 1940. №. 1. P. 45.
2 См.: Монтень M. Опыты: В 3 кн. М.; Л., 1958. Книга вторая. Гл. ХШ. С. 328-329.
Н.Я. Дьяконова. Романтические очерки Уильяма Хэзлитга 479
Монтень приводит исторические и литературные примеры, преимущественно
классические, показывающие, как люди в разных обстоятельствах встречали смерть.
Хэзлитт занят вопросами более общего характера и в то же время дает волю
чувствам, у Монтеня не проявляющимся. Соответственно, и стиль Хэзлитта,
эмоциональный и метафоричный, и композиция, вольная, порою небрежная, отличаются от
изящной строгости языка и композиции эссе Монтеня.
Стиль «Застольных бесед» (как, впрочем, и других сборников Хэзлитта)
определяется пристрастием писателя к нагнетанию свойств, обстоятельств, предметов
одного рода, которому, по достижении кульминационной точки, противостоит
движение в обратном направлении, столь же постепенно нарастающее. Иногда
обратное движение в длинных предложениях Хэзлитта бьшает не многоступенчатым, а
внезапным, резким, и тогда одним ходом опрокидывается построение,
воздвигнутое в первой группе предложений. Так возникает антитеза — едва ли не самое
сильное орудие хэзлиттовских обвинений и восхвалений, неизменно пылких в
ненависти и восторге. Свойственные классицистической прозе приемы — симметрия,
градация, равновесие, параллелизмы — у Хэзлитта появляются главным образом ради
нарушения их свободой построения фразы и словоупотребления.
Характерные для Хэзлитта нагромождения в одном периоде разнородных
понятий, поставленных рядом в качестве однородных членов предложения,
материальность его метафор, сочетание в его лексике высокого и низкого, пристрастие к
разговорным выражениям — все это ломает классицистические традиции и
утверждает новые литературные принципы романтизма. Ирония, сарказм, разящая
антитеза, обилие существительных и прилагательных, передающих чувственные —
зрительные, слуховые, осязательные и даже вкусовые и обонятельные — впечатления
о предметах, глаголы, выражающие динамику быстрого движения, придают
прозе Хэзлитта небывалую для его времени энергию и силу.
Сам писатель пояснял, что «фигуральная и пестрая фразеология», не
страдающая ни худосочием, ни пресностью, необходима человеку, который, согласно
заветам Тацита, «думает, что хочет, и говорит, что думает»1.
Своеобразие содержания и формы очерков Хэзлитта воплощает важнейшие
черты романтической эстетики. Сложившись в противостоянии материалистической
и рационалистической философии и литературной теории просветителей, испытав
воздействие немецких философов-идеалистов и их художественных исканий,
Хэзлитт, как и его друзья Лэм и Хант, как его ученик и последователь Ките, приходит
к преклонению перед прекрасным как единственной возможной основе гуманного
миросозерцания. Об этом говорит эссе Хэзлитта «О поэзии вообще».
1 Hazlüt W. A Letter to William Gifford, Esq. //W. Hazlitt. The Complete Works... Vol. IX.
P. 31.
480
Приложения
Лондонские романтики прошли школу замечательных поэтов и мыслителей
Вордсворта и Колриджа, но не приняли их смирения перед реакционной политикой
правящих кругов и стремления найти спасение в религии. В этом «лондонцы»
оказались близки П.-Б. Шелли, который в своем трактате «Защита поэзии» (1821)
именно поэзию объявляет самым верным другом человека, так как с помощью
воображения она «открывает нагую, сияющую красоту, которая представляет собой душу
всех явлений мира»1. Но в отличие от разделявших его культ поэзии Вордсворта и
Колриджа, Шелли видит в ней стимул к борьбе против реакции.
Противоположность угнетению и несправедливости находят в поэзии и
«лондонцы». Поэт, по их убеждению, имеет одну обязанность: создавать прекрасное (beauty).
Оно есть и путь к истине. «В поисках истины находил я красоту»2, — писал Хэзлитт.
«Я могу быть убежден в истинности чего-либо, только когда ясно вижу, что оно
прекрасно»3, — уверял Ките. Лондонские романтики полагали, что прекрасное
скрыто или явно присутствует в каждом явлении, составляет его внутреннюю сущность
(Лэм, идя далее других, усматривал красоту даже в городской сутолоке).
Обнаруживая красоту, высвобождая ее из-под искажающих наслоений эмпирических
фактов, поэт вьшолняет общественные и нравственные функции. Воздействуя на
эстетическое чувство, он способствует нравственному возрождению человека: он учит
смотреть в глаза «нагой и прекрасной» истине, воспитывает таким образом
духовную смелость и независимость суждения, любовь к совершенству и презрение к
низости.
Так эке, как Вордсворт и Колридж, Хэзлитт и его друзья верили, что выполнять
эти функции поэт — мы уже знаем — может только благодаря воображению. Сила
его проявляется в выходе поэта за пределы собственной личности и в таком
перевоплощении в чужие, что всё им изображаемое приобретает благодаря расширению
его зрения невидимое для обыденного взора внутреннее богатство. Раскрывая
перед поэтом и его читателями пути к прекрасному, воображение несет нетленные
радости, очищает, возвышает душу и в значительно большей степени
способствует преобразованию мира, чем любой законодатель и практический деятель,
поставивший себе целью реформу общественных учреждений.
Вордсворт и Колридж считали, что поэт должен полностью отказаться от
гибельных попыток исправить внешний мир, что воображение призвано научить людей
блюсти неприкосновенность внешнего мира и воздействовать только на мир
внутренний, примиряя его с действительностью. Между тем «лондонцы» отнюдь не
искали примирения с существующим и долг поэта видели в том, чтобы вызвать у
людей неудовлетворенность им. Мало веря в плодотворность борьбы с
существующим порядком, они открыто выражали к нему отвращение и смотрели на искусство
как на обетованную землю, в которой воображение может утвердить мир более
истинный, чем реальный, пусть даже это и малоосуществимо. Искусство противопо-
1 Shelley Р.В. A Defense of Poetry // Shelley's Prose // Ed. D.L. Clark. L, 1988. P. 295; см.
также: Ibid. P. 294, 296, 197, 282-283, 277; Дьяконова Н.Я., ЧамеевАА. Шелли. СПб., 1994.
С. 66-72.
2 Hazlüt W. Memoirs: In 2 vol. L, 1867, Vol. 1. P. 47.
3 Письмо Китса Джорджу и Джорджиане Китсам от 16 декабря 1818 г. — 4 января
1819 г.//The Letters of John Keats/Ed. M.B. Forman. L.; N.Y., 1948. P. 259.
H.Я. Дьяконова. Романтические очерки Уильяма Хэзлитта 481
ставляется действительности, но не отрывается от нее, как у эстетов конца XIX века,
а предназначается для облагораживающего на нее воздействия.
Именно это возвышающее читателей и зрителей воздействие Хэзлитт ищет и
ценит у писателей прошлого и настоящего. Воплощение своего идеала он находит в
творчестве Шекспира и не только посвящает ему уже упоминавшуюся книгу
(«Герои шекспировского театра»), но вспоминает о нем едва ли не в любом своем
рассуждении об искусстве. Для Хэзлитта Шекспир — не только гениальный поэт, но и
учитель, философ и вместе с тем недосягаемый образец. Его искусство — отправная
точка рассуждений о поэзии и установления эстетических законов, разрывающих
рамки классицизма. Произведения Шекспира принимались за эталон совершенства,
по которому мерили поэтов всех времен; его стиль выдвигался как неопровержимый
аргумент в пользу свободы выражения, против классицистической рассудочности.
Зачинателем шекспировской критики в Англии начала XIX века выступил Кол-
ридж, но Хэзлитт не столько следовал ему, сколько полемизировал с ним. Единство
романтической философии искусства и революционно-демократической идеологии
определяет отличие очерков Хэзлитта от шекспировских лекций Колриджа. У
последнего преобладают отвлеченно-философские положения, подчиненные его
религиозным убеждениям, у первого — конкретный психологический анализ.
Создается образ поэта, познавшего жизнь со всеми ее противоречиями, но от полноты
познания не переставшего ни любить, ни ненавидеть, ни утверждать в своих
произведениях свободу и духовную независимость личности.
В творчестве Шекспира, как и в литературе Ренессанса вообще, Хэзлитт
восхищается торжеством чувства, не подвластного принуждению и условностям,
нравственным величием, безудержностью страстей, фантазией, пренебрежением к
признанным авторитетам — всем тем, чего так недостает современным людям и
произведениям. Шекспир и его современники полемически выдвигаются «лондонцами»
как знамя в битве против фарисейства и жесткого устава классицизма, против
любых устарелых традиций. В поэзии прошлых дней Хэзлитт искал ответа на
вопросы, поставленные его временем, и видел в ней отрадную противоположность не
удовлетворявшему его искусству XIX века.
Подчеркнем, что при резкой политической окраске литературных отзывов
Хэзлитта они никогда не сводятся к оценке общественных взглядов анализируемых им
писателей. Так, одобряя сатирические вьшады Байрона против реакции, Хэзлитт
видит в нем поэта ему самому чуждого и не принимает его эстетическую позицию;
напротив, отвергая консервативные воззрения Скотта, Хэзлитт восторженно
вспоминает и характеризует его романы, хвалит их за верность природе и истине.
Эстетические взгляды Хэзлитта не тождественны отрицательному отклику на
пороки социальной системы его отечества и отношение к ним собратьев по перу.
Очерки Хэзлитта и других «лондонцев» на бытовые и психологические темы
нередко перерастают в обобщенные исследования истории мысли и культуры, а
литературно-критические и философские очерки становятся художественными,
субъективно-лирическими, решающими отвлеченные вопросы по законам
образного мышления, открьшающими новую эру в истории эссе и взволнованной «роман-
482
Приложения
тической» речи. Эссе Хэзлитта близки лирической прозе Генриха Гейне и
Альфреда де Мюссе.
С точки зрения «лондонцев», искусство призвано воплотить прекрасное,
уничтожаемое и искажаемое социальной действительностью. Оно противостоит ей,
отвергает принятые этические и художественные критерии и тем самым
поддерживает тех, кто восстает против конформизма и рутины. Лондонские романтики
способствовали новому возрождению английской поэзии и расцвету критической
мысли. Они приобщили к литературе множество людей, ранее чуждых культурным
интересам, и за очень короткое время значительно повысили уровень английской
журналистики. В атмосфере реакции они восславили свободу и открываемые ею
духовные просторы.
Выдающийся художественный талант Хэзлитта придавал его литературной
деятельности блеск, который вызьшал восхищение сторонников и ярость врагов. И
тех, и других поражала стойкость духа писателя. В очерке «Прощание с искусством
эссе» (1828) Хэзлитт писал:
Успех великого дела, которому я посвятил свою жизнь, значил для меня
больше, чем весь остальной мир <...>. Однако окончательная убежденность в том, что
дело мое правое, пришла лишь после того, как восторжествовало неправое;
надежды юности станут для меня последними сожалениями (с. 462 наст. изд.).
Посмертная история Хэзлитта не менее удивительна, чем его жизненный путь.
Оказав заметное влияние на многих крупных писателей, он к концу XIX века был
постепенно забыт, но вновь «воскрес» уже в последнее десятилетие XX и первые
годы XXI века. Появились многочисленные издания его избранных трудов и
отдельных книг (см.: The Guardian Saturday Review. A Select Hazlitt Bibliography, 2007). В
2001 году при Оксфордском университете возникла Школа Хэзлитта (Hazlitt Day
School). В сентябре 2008 года состоялась публикация первого номера специально
посвященного великому эссеисту журнала (Hazlitt Review), в котором помещены не
только научные исследования, но и читательские отклики.
Статьи о Хэзлитте, подчеркивающие его значение и уникальное сочетание
талантов критика и художника («critic as an artist», no известной формулировке Оскара
Уайльда) появляются в британской газете «Гардиан» с конца 1990-х годов.
В апреле 2003 года Хэзлитту был поставлен памятник недалеко от дома в
бедном лондонском районе Сохо, где он умер, восстановлена его запущенная могила.
Надпись на ней гласит:
Он презирал тех, кто отличался только богатством и положением; он любил
народ, бедный или угнетенный; он ненавидел гордость и могущество немногих,
противостоящих счастью большинства. Человек истинного нравственного мужества,
он жил и умер непобежденным защитником истины, свободы, человечности.
Современные критики, среди них в первых рядах Том Полин и Дункан By, на
разные лады подчеркивают, что Хэзлитт опередил свою эпоху и приблизился к нашей
Н.Я. Дьяконова. Романтические очерки Уильяма Хэзлитта 483
благодаря противоречивости своего мышления, которое совмещало такие
противоположности, как прославление «аристократизма», «царственности» поэзии в
противовес унизительной покорности рационализма во всех его литературных обличиях1.
В духе вызывающего иррационализма, свойственного уже нашему времени,
Хэзлитт посвящает один из своих очерков «радостям ненависти», доказывая, что
самые красноречивые ораторы и писатели в равной мере вдохновляются любовью
к ближним, к свободе своего народа — и ненавистью к облеченным властью врагам2.
По мнению современных исследователей, Хэзлитт стремился соединить в
своем искусстве усилия журналиста и художника — передать общественное
негодование по законам красоты3. Соответственно, и критика его допускает двусмысленные,
взаимно противоречивые суждения4, сочетающие анализ с синтезом, продуманную
оценку и художественно переданное впечатление5. Проза Хэзлитта передает вкус,
запах, звучание, ощущение описываемого6.
Английские критики наших дней прославляют литературный талант Хэзлитта,
считая, что именно художественность его эссе позволила ему стать защитником
истины, добра, справедливости7. П. Грейлинг цитирует восторженные слова Китса о Хэз-
литте — «Шекспире английской прозы»8. Не менее пылко говорит о нем Ли Хант:
Прозорливости Хэзлитта нет конца,
Он истины чует святые слова9.
Хант посвятил своему другу трогательный некролог:
Мистер Хэзлитт был одним из самых глубоких писателей наших дней
(никому не удавалось так быстро проникнуть в самую суть вопроса); он самый
лучший критик в общем смысле слова и величайший в мире критик искусства (его
описания озарены светом, бьющим через витражи); он изысканный поклонник
поэзии, неукротимый почитатель свободы и, при всех своих причудах и
нападках (тут соперников у него нет), искренний друг и великодушный враг10.
Критическая проза Хэзлитта свидетельствует о том, что о поэзии, так же как о
важнейших вопросах жизни, может судить лишь тот, кто сам хоть немного поэт.
Только поэт со свойственной ему напряженностью внутренней жизни способен
найти для выражения сосредоточенных в искусстве чувств и мыслей речь, пригод-
1 См.: Paulin Т. Spirit of the Age //The Guardian. 2003. 5 Apr. P. 4.
2 См.: Ibid. P. 5.
3 См.: Paulin T. Poets and Principles // The Guardian. 2004. 10 Apr. P. 2.
4 См.: Ibid. P. 3.
5 См.: Ibid. P. 4.
6 См.: Ibid. P. 5.
7 См.: Grayling P.C. A Memorial for Hazlitt//The Guardian Saturday Review. 2001. 21 Apr.
P. 1.
8 Ibid.
9 Цит. по: The Selected Writings of William Hazlitt: In 9 vol. //Ed. D. Wu. L., 1998. Vol. I.
P. ХХП.
10 Цит. по: Grayling P.C. Op. cit. P. 3.
484
Приложения
ную для отвлеченных понятий и личных переживаний, речь одновременно
сложную, возвышенную, образную — и повседневную, обыденную, отступающую от
литературных стандартов. При тщательно продуманном построении основной мысли
Хэзлитт, как и другие «лондонцы», сознательно дает волю потоку эмоций,
нарушающих строгость первоначального замысла.
Проза Хэзлитта, пробужденная политическими и эстетическими бурями
романтической эры, по-новому звучит в ненастные дни материальных и духовных
переворотов на рубеже тысячелетий.
A JO. Зиновьева
«Превращаться во что угодно»
Эстетические воззрения Уильяма Хэзлитта
Его гений заключался в способности превращаться
по желанию во все что угодно; его оригинальность —
в умении увидеть всякую вещь чужими глазами.
Хэзлитт о Шекспире
[из эссе «Гений и здравый смысл»)
Восемнадцатого сентября 1830 года в Лондоне, в Сохо, в наемных комнатах на Фрит-
стрит, то ли от рака, то ли от запущенной язвы желудка, без священника, в
присутствии сына и немногих друзей, умер истощенный, измученный 52-летний человек,
который перед смертью сумел произнести свистящим шепотом: «Что ж, я прожил
счастливую жизнь». Странным образом эти слова не произвели на присутствующих
умиротворяющего впечатления: они их поразили. Никто бы не решился назвать
умершего счастливым человеком, так как все его земное существование
представляло собой цепь потерь и больше всего походило на досадную саморастрату. У
покойного был завидный литературный талант, в глазах некоторых современников
граничивший с гениальностью, незаурядные способности к живописи, знатоком которой
он был, возможность стать священником или философом. Его дарили своей
дружбой знаменитые писатели, поэты, художники, издатели и политики, он вырос в
семье, которая верила в него и не препятствовала его свободному развитию,
дважды он был женат на женщинах, отдававших должное его творческому дару.
Наконец, этому человеку сопутствовал и житейский успех: пусть и не сразу, но от полной
безвестности он поднялся к громкой славе, которая перешагнула британские
границы, и даже недоброжелателям приходилось с ней считаться; не будучи богатым, он
зарабатывал достаточно, чтобы вести безбедное существование, более того,
преуспевать. Однако к тому моменту, когда немногие оставшиеся с ним до конца
заботились о скромной похоронной церемонии и отпевании в близлежащей церкви Св.
Анны, всё, чем обладал покойный, обратилось едва ли не в свою противоположность.
Те, кто когда-то восхищался его произведениями, говорили о его последних
творениях не без неловкости; издатели, некогда наперебой предлагавшие ему свои
услуги, смотрели на него как на исписавшегося, повторяющего самого себя автора. О его
живописных и философских способностях забыли, считая их каким-то недоразуме-
486
Приложения
нием. Многие члены Унитарной церкви, к которой он принадлежал, ужасались его
агностицизму, попросту — неверию. Друзья перешли в разряд бывших, и даже те, кто
сохранил верность, с неудовольствием отзывались о слабостях и ужасном
характере покойного. Знаменитые же современники, когда-то считавшиеся сподвижниками
или покровителями, либо оставили многочисленные свидетельства своей неприязни
и даже презрения к писателю (поэты У. Вордсворт, С.-Т. Колридж, Дж.-Г. Байрон —
последний, впрочем, в благожелателях никогда и не числился), либо с горечью
проглатывали обиды и в той или иной степени увековечили в дневниках и переписке
неблагодарность этого человека (Дж. Бентам, У. Годвин, Л. Хант, Ч. Лэм, М.
Шелли, художники Дж. Норткот и Б. Хейдон, издатель «Эдинбургского обозрения»
Ф. Джеффри). Громкая слава обернулась скандальной известностью, личная жизнь
стала достоянием гласности, консервативная пресса («Блэквудский журнал»,
«Литературный журнал» («Literary Register»), «Литературная газета», «Новый европейский
журнал» и другие) была готова пугать детей безнравственностью покойного и
перестала полоскать его имя только потому, что это наскучило читателям. От житейского
успеха тоже ничего не осталось: сначала одна, а потом вторая жена не без
облегчения покинули непутевого мужа, а денежные дела обитателя меблированных комнат
на Фрит-стрит были столь плачевны, что незадолго до своей кончины он пытался
получить последний литературный гонорар, описывая собственные предсмертные муки
в эссе «Комната больного» («The Sick Chamber», 1830), и в конце концов попросил
своего бывшего издателя Джеффри, с которым был в ссоре, прислать ему десять
фунтов (чек на сумму впятеро большую пришел уже после смерти просителя).
Еще удивительнее литературная судьба этого человека: не лишенная
сомнительности прижизненная популярность сменилась не забвением, как это часто бывает,
а стойким вниманием пусть не широкого читателя, но немногих ценителей, причем
среди этих немногих были такие имена, которые могли бы обеспечить бессмертие
кому угодно. Стендаль, А. Пушкин, Г. Гейне, Ч. Диккенс, У Теккерей, Р.-Л.
Стивенсон, В. Вулф, Д.-Г. Лоренс, Д.-Б. Пристли — едва ли еще можно найти автора,
который бы в равной степени восхищал (или не оставлял равнодушными) здесь
перечисленных. На протяжении всего XX века литературные критики снова и снова
открывали этого писателя, ставя его в один ряд с виднейшими представителями
британского романтизма и англоязычной эссеистики. Но именно то обстоятельство,
что приходилось его «открывать», убеждать читателей, что те проглядели настоящие
словесные сокровища, доказывает: при всех своих достоинствах автор этот обречен
на вечную маргинальность, словно его писательской репутации недостает чего-то, что
позволило бы ему раз и навсегда утвердиться в литературном пантеоне1.
Объяснение этому странному феномену следует искать, видимо, в особенностях
писательского стиля и эстетических воззрений Уильяма Хэзлитта, поистине гениального
неудачника, «человека романтического порыва», всю жизнь повествовавшего о себе,
но так и не сказавшего чего-то самого важного (если только «этим важным» не
считать последних слов, произнесенных в случайном пристанище на Фрит-стрит).
1 Новейшая биография Хэзлитта рассматривает этот феномен, защищая его от
разнообразных инвектив и настаивая на недооцененности его писательского дара. См.: Wu D.
William Hazlitt The First Modern Man. Oxford: Oxford University Press, 2008; см. также: Jones St.
Hazlitt: A Life from Winterslow to Frith Street. Oxford: Clarendon Press, 1989.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»
487
Происхождение Хэзлитта недвусмысленно показывает, где в первую очередь
следует искать корни европейского романтизма, той фантастической готовности
европейского духа сделать центром внимания самого себя, что заставляет видеть
в культуре всего XIX века прежде всего мучительную историю творческой
субъективности, которая сначала собой гордилась, а потом страстно стремилась себя
преодолеть, выйти за свои пределы. В Хэзлитте, как и во многих других романтиках,
«пасторских сыновьях», как принято говорить в Германии, жил неистребимый дух
Реформации, постепенно преображавшийся с ходом истории в политический и
социальный либерализм и даже радикализм. Потребность в религиозной свободе,
протестантский индивидуализм трансформировались в желание достичь
гражданских, экономических, политических свобод; истово отстаивавшиеся М. Лютером и
Ж. Кальвином идеи о праве и обязанности человека следовать заповедям Христа
оборачивались в ходе постепенной секуляризации европейской мысли
представлением о праве человека, о правах человека, нуждавшихся в защите. В Англии такое
смещение угла зрения с особой силой продемонстрировала философия Дж. Локка,
в своих работах («Письмо о терпимости» («Letter concerning Toleration», 1689),
«Разумность христианства» («The Reasonableness of Christianity», 1695)) признавшего
естественное право человека возможной (и необходимой) основой существования
общества и государства. Будучи сам представителем партии вигов и членом
Англиканской церкви, Локк благодаря своим идеям стал едва ли не знаменем
британских диссентеров, «протестантов от протестантства», особенно тех, кто, являясь
сторонником «разумной Веры», тяготел к Унитарной церкви, признававшей
«универсальный нравственный закон» столь же священным, вечным, истинным и
неделимым, как само Божественное бытие. Такие политические философы и теологи, как
Р. Прайс и Дж. Пристли (последний был еще и выдающимся ученым, химиком и
физиком), стремились примирить философский материализм с христианством,
отрицая церковные догматы, прежде всего Св. Троицу, и абсолютный авторитет
Священного Писания, отказываясь от представления о предопределении в пользу
своеобразного исторического детерминизма, веры в неуклонный нравственный и
политический прогресс человечества (см., в частности, сочинение Дж. Пристли
«Иллюстрации к доктрине философского детерминизма» («Doctrine of Philosophical
Necessity Illustrated», 1777)). Для Пристли Унитарная церковь воплощала подлинность
веры первых христиан. Подобными представлениями была окрашена идеология
британского Просвещения, Американской революции, и неудивительно, что
именно из среды диссентеров-унитариев вышли те, чьи голоса с особенной силой
зазвучали в эпоху романтизма. У. Годвин, М. Уоллстонкрафт, У. Вордсворт, С.-Т. Кол-
ридж, Ч. Лэм, Дж. Ките — все они сохраняют в своих писаниях следы унитариан-
ского образования и воспитания, независимо от того, пришли они впоследствии к
политическому радикализму или консерватизму, вере в прогресс, в прекрасное или
просто к вере. Не стал исключением и Хэзлитт, воспитанник оплота унитариан-
ской мысли — лондонского Хэкни-Нью-колледжа (1793—1795 гг.), где преподавал
Пристли, друг отца Хэзлитта, Уильяма Хэзлитта-старшего, унитарианского
священника.
Вслед за Годвином Хэзлитт верил, что человек (и человечество) в состоянии
достичь почти утопического процветания, если никто и ничто не будут мешать
проявлениям его разума и естественной наклонности к добру.
488
Приложения
Каков же механизм перехода от веры в стремление к всеобщему благу всего
человечества и каждого человека в отдельности к утверждению безграничной
романтической индивидуальности? Еще в юношеские годы в Хэкни-Нью-колледже
Хэзлитт начал сбор материала для «Проекта новой теории гражданского и
уголовного законодательства» («A Project for a New Theory of Civil and Criminal
Legislation»), но закончил его только в 1828 году (опубликована работа посмертно, в 1836 г.).
В «Проекте» утверждается, что долг и право каждого человека — утверждать свою
индивидуальность («personal identity»), роль же государства — в том, чтобы
обеспечивать свободу проявления воли граждан. Законодательно устанавливать те или
иные нравственные установления, по Хэзлитту, — вне компетенции властей: мораль,
считал он, споря со своими учителями — от Т. Гоббса до У Годвина, — по-своему
иррациональна и зависит от воли и чувств конкретного человека. Разумеется, было
бы преувеличением сказать, что Хэзлитт по-ницшевски утверждал относительность
общественной морали, однако очевидно, что то значение, которое он придавал
индивидуальному (прежде всего чувственному) опыту, указывает на движение
молодого писателя от унитарианской этики к романтической эстетике.
Литературная манера Хэзлитга сформировалась под влиянием прозы Дж. Мил-
тона, Э. Бёрка, Колриджа, в меньшей степени — Годвина (к словесному дару
последнего Хэзлитт с годами стал относиться все более скептически, считая его стиль
несколько сухим и скудным, что отразилось в довольно гротескном портрете Годвина
в книге 1825 года «Дух века: Портреты современников»). В отличие от Годвина, Бёрк
и Колридж вдохновляли Хэзлитга до конца жизни, несмотря на его идейные
разногласия с обоими и взаимную враждебность, которой сменилась дружба с Колриджем.
Приехав в 1798 году из Лондона в приход отца, находившийся в Уэме (графство
Шропшир), Хэзлитт приобрел «Потерянный Рай» Милтона и «Размышления о
революции во Франции» (1790) Эдмунда Бёрка — знакомство с этими книгами
сыграло решающую роль в становлении будущего критика и эссеиста. Увлечение Хэзлитга
Бёрком было несколько парадоксальным: принадлежавший к Англиканской
церкви ирландский писатель и политический деятель отличался консерватизмом, боролся
с партией вигов, разоблачал разрушительную сущность Французской революции —
противостоял всему, что было дорого Хэзлитту. Тем знаменательней преклонение
последнего перед Бёрком: Хэзлитт был увлечен свободой бёрковского стиля, его
метафорами, парадоксальными поворотами мысли. Обращение же к Милтону следует
назвать более чем естественным: произведения великого поэта были для унитари-
ев почти что сакральными текстами, так как Милтон, яростный защитник
религиозного индивидуализма, теологически обосновал свои республиканские
убеждения, поставив, в глазах Хэзлитта, поэтический гений на службу истине2. (Позже
именно это качество Хэзлитт надеялся найти в Колридже.) И Бёрк, и Хэзлитт
доверяли воображению функцию нравственного руководства человеческой
личностью3. В случае Хэзлитта это означало веру прежде всего в творческое
воображение, в художническую интуицию. Творящая сила разума для Хэзлитта неоспорима,
2 См.: Baker H. William Hazlitt. Cambridge (MA): Belknap: Harvard University Press, 1962.
P. 8, 17.
3 См.: Albrecht W.P. Hazlitt and the Creative Imagination. Lawrence (KS): University of Kansas
Press, 1965. P. 23-24.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно» 489
но, как он показывает в эссе «Гений и здравый смысл» (1821), человеческая
способность суждения основывается главным образом на чувственном восприятии, на не
всегда поддающемся вербализации ощущении того, что есть благо и что есть зло
(так, упомянутый в эссе Джон Телуолл, в 1794 г. едва избежавший казни по
обвинению в государственной измене, внутренне удостоверяется в прикосновении ко злу,
основываясь лишь на мимолетном впечатлении, и лишь потом понимает, что
краем глаза видел шпиона-соглядатая)4.
Понимание интуитивного постижения прекрасного как проявления благого
начала — естественного человеческого бескорыстия — также имеет унитарианские корни.
Это важное положение работ Ф. Хатчесона (1694—1746), одного из основателей
современной эстетики как философской дисциплины и «отца» шотландского
Просвещения. Хатчесоновское «Исследование источника наших представлений о красоте и
добродетели» («An Inquiry into the Origin of Our Ideas of Beauty and Virtue», 1725),
ценимое Хэзлиттом, демонстрировало, что эстетическое восприятие человека имеет
скорее чувственную и эмоциональную природу, чем рациональную. Хатчесон
доказывал это, анализируя детское восприятие прекрасного, лишенное какой-либо
искусственности, в первую очередь — тактильное, осязательное5. Восхищение осязанием
прекрасного и интуитивным его постижением перешло к Хэзлитту, сыграв не
последнюю роль в его увлечении живописью. В «Духе века» Хэзлитт обращал внимание на
влияние, оказываемое гениальными людьми, людьми с сильным воображением
на тех, кто не может противопоставить неожиданным озарениям и открытиям
их мысли ничего, кроме сухих, формальных, холодных умозаключений,
свойственных обычному мышлению6.
О нравственной роли воображения говорится и в единственном философском
произведении Хэзлитта — эссе «О принципах, движущих поступками человека»
(«An Essay on the Principles of Human Action», 1805), его первой книге,
находящейся вроде бы в русле унитарианской традиции, но одновременно явно желающей
отказаться от христианского вероучения как основы человеческой нравственности.
Позже Хэзлитту это удалось. В «Письме Уильяму Гиффорду» («A Letter to William
Gifford, Esq.», 1819), редактору поддерживаемого британскими властями журнала
«Ежеквартальное обозрение», с которым Хэзлитт вел нелицеприятную полемику,
он фактически подменил мораль воображением:
[воображение] выводит нас за собственные пределы и за пределы настоящего
времени <...> наполняет все прочие формы дыханием жизни, наделяет наши
привязанности живительной теплотой, придает нравственную основу всем
общественным отношениям, в которые вступает наше «я», всем чувствам, которые оно
испытывает7
4 См. с. 42-43 наст, изд.; подробный анализ эпизода см.: Paulin T. The Day-Star of Liberty:
Hazlitt's Radical Style. L.: Faber & Faber, 1998. P. 79-80.
5 См.: Paulin T. Op. cit. P. 64-66.
Hazlitt W. Sir James Mackintosh // The Spirit of the Age; or, Contemporary Portraits: In
2 vol. P.: A. & W. Galignani, 1825. Vol. 2. P. 66.
7 Hazlitt W. Complete Works: In 21 vol. / Ed. P.P. Howe. L.; Toronto: J.M. Dent & Sons,
1930-1934. Vol. IX. P. 52.
490
Приложения
Таким образом, усвоенное Хэзлиттом под влиянием унитарианской мысли и еще
в юности философски осмысленное представление о естественном стремлении
человека к добру приняло вид естественной потребности человека в творческом
озарении, нравственной обоснованности поиска эстетического идеала. Тяга к
прекрасному, по Хэзлитту, — не замена религиозным устремлениям, но их прямое
следствие, точнее, их настоящая суть.
[Художник] уясняет фактуру и смысл зримого мироздания, «проникает в суть
вещей»8 — не с помощью механических орудий, но через совершенствование
своих способностей, через сокровенную общность с природой. <...> Даже если
объект наблюдения не отличается красотой и лишен всякой пользы <...> правда
жизни тем не менее налицо9 <...>. Художник взирает на мир не сквозь туман
иль «пелену, привычную для богословов глоссу»10, но применяет к любым
предметам одну и ту же меру истины, внося в свои поиски дух бескорыстной
пытливости («О наслаждении живописью», 1820)п.
Не будет большим преувеличением, если мы скажем, что в случае самого Хэз-
литта свобода вероисповедания, столь важная для его предшественников,
обернулась свободой выбирать и творить свой стиль в литературе. Свободу Хэзлитт не в
последнюю очередь понимал как эстетическую категорию. Возможно, именно об
этом он говорит в предисловии к «Политическим эссе» («Political Essays, with Sketches
of Public Characters», 1819):
Я не политик, еще меньше у меня оснований сказать, что я принадлежу к какой-
либо партии; но я ненавижу тиранию и презираю то, что ей служит; это чувство
я выражал так часто и так сильно, как только был способен12.
Унитарианское происхождение Хэзлитта сказывалось и в некоторой
подозрительности, с которой он относился к романтическому веку, плотью от плоти
которого был сам. Просвещенческий радикализм, который в хэзлиттовском варианте
был окрашен в тона довольно рациональной унитарианской веры, утверждавшей
возможность постепенного и широкого распространения либеральных
республиканских ценностей, неуклонного приобщения к благому началу все большего
количества людей, которых можно «образовать», приходил в противоречие с
иррационализмом эпохи, ее нежеланием укладываться в прокрустово ложе представлений о
жестко детерминированном прогрессе человечества. Повторяя вслед за А.-В. Шле-
гелем, что романтический стиль современности противостоит классическому, зна-
8 «...проникает в суть вещей» («...sees into the life of things») — цитата из «Тинтернского
аббатства» У. Вордсворта (ст. 50).
9 Хэзлитт не обходится без иронической рифмы: «Even where there is neither beauty nor
use... still there is truth».
10 «...пелену, привычную для богословов глоссу» («...mist, the common gloss of
theologians») — цитата из «Потерянного Рая» Дж. Милтона (V. 435—436); Хэзлитт учитывает оба
значения слова «gloss» — и «дымка», и «толкование», «комментарий».
11 С. 14 наст. изд.
12 Hazlüt W. Complete Works... Vol. VII. P. 7.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно» 491
комому по античному наследию, идеалу13, Хэзлитт сознавал, что происходит
возвращение ко всему варварскому, «готическому и гротескному, неуравновешенному
и хаотичному», что, по его убеждению, было свойственно литературе елизаветин-
цев и прежде всего впервые по-настоящему открывшемуся романтикам Шекспиру
(см.: «Лекции об английской драме елизаветинской эпохи» («Lectures on the Dramatic
Literature of The Age of Elizabeth», 1820))u, а значит, согласно хэзлиттовской логике,
и всему английскому духу. «Готическое искусство имеет небесную природу»15, —
утверждал в 1818 году Колридж, и Хэзлитт соглашался с этим утверждением, хотя
и не без внутреннего протеста. Веком Французской революции управляли
стихийные силы, и наследник диссентеров не мог этого приветствовать, хотя сам был
вынужден этим силам подчиняться, познав их жестокость на личном опыте.
Подобного рода раздвоенность была хороша знакома романтизму в целом — в хэзлиттов-
ском случае она проявлялась лишь особенно наглядно.
Несмотря на более чем либеральные политические воззрения, Хэзлитт не был
склонен к политическому утопизму: после ухода с исторической сцены Наполеона
«триумф свободы и гуманистических ценностей» был в глазах писателя невозможен
на практике, поскольку человеческая природа показала свою огорчительную
неизменность. Иной исход был бы реален, если бы «романтическое великодушие
встречалось так же часто, как и грубое себялюбие», а «добро и зло попеременно не
заставляли бы тяжко вздыматься человеческую грудь»16.
Все находится в движении, но не в развитии, а в бесконечном повторении; сила
наша — в нашей слабости, добродетели основаны на пороках, возможности
ограничены земным существованием, и человека так же не оторвать от его
природы, как и от той земли, которую он топчет17, —
писал Хэзлитт в 1814 году, по-своему осуждая пророческий пафос У Вордсвор-
та, считая, что духовное визионерство поэта никогда не обретет политической и
социальной почвы.
Поэзия обитает в собственной вечной утопии и потому очень дурно
подготовлена к тому, чтобы сотворить Рай на земле, сталкиваясь с мирскими
невзгодами и разочарованиями18, —
напоминал он читателю (и самому себе) двумя годами позже в эссе «О многолико-
сти поэзии» («On Poetical Versatility», 1816).
13 См. рецензию на публикацию перевода шлегелевских «Лекций об искусстве драмы
и литературе» (1809-1811): Hazlitt W. Complete Works... Vol. XVI. P. 60-62.
14 См.: Ibid. Vol. VI. P. 177.
15 Coleridge S.T. The Literary Remains: In 4 vol. / Ed. by H.N. Coleridge. L.: Pickering, 1836—
1839. Vol. I. P. 71.
16 См. «Замечания о поэме мистера Вордсворта "Прогулка"»: Hazlitt W. Observations on
Mr Wordsworth's Poem «The Excursion», 1814 // W. Hazlitt. The Selected Writings: In 9 vol. /
Ed. D. Wu. L.: Pickering & Chatto, 1998. Vol. П. P. 120.
17 Ibid.
18 Ibid. Vol. П. P. 149.
492
Приложения
Однако что для Хэзлитта было естественно — так это отчаянное стремление к
реализации ^тотши эстетической, «вечной утопии поэзии», и в этом отношении он как
писатель, своей проницательностью опережая многих и многих, безошибочно
угадывал, почему у его времени «вывихнут сустав»19. Как известно, одной из самых
серьезных проблем, с которыми столкнулась романтическая мысль, стал заявивший о
себе на рубеже XVTQ—XIX веков трагический разрыв между субъектом и объектом
познания, указывавший на непреодолимую дистанцию между искусством и жизнью,
неизбежную в сознании, утратившем (как в случае Хэзлитта) религиозную или
метафизическую целостность. С одной стороны, это открытие легло в основу
романтической эстетики творчества, но, с другой, оно ставило под вопрос возможность
взаимодействия «я» художника с его «не-я» (его объектом). Поэтому важнейшей
задачей романтиков стал поиск такого способа самореализации, который, признавая
приоритет всего субъективного, придал бы ему вместе с тем своего рода
объективную ценность, сделал бы его реальным.
Подобный синтез так и остался для романтиков недостижимым идеалом. Тем
не менее ярче всего романтическая культура проявляется там, где терпит
поражение, где осмысляет трагедию творчества. Об этом писал A.B. Михаилов:
В сущности романтического было задумано синтетическое творение, где была
бы преодолена грань между жизнью и искусством <...>. Реальность сущности
романтического заключается в тех противоречиях романтизма, которые и
составляют его исторический и до сих пор непреходящий смысл20.
Другими словами, особую роль в романтизме играет глубинная творческая
интуиция, которая или ограничивает возможности того или иного автора при реализации
им своих самых амбициозных «синтетических» проектов (таково, например,
представление о свойствах романтической иронии), или, в известном смысле, снимает с
писателя часть ответственности, предлагая ему в качестве объективного критерия
возможность ориентироваться на некие безусловные эстетические образцы великих
предшественников — обычно творения «старых мастеров». Хэзлитт писал об этом в
эссе «О классическом образовании» («On Classical Education», 1813, 1815):
Разговаривая с могущественными умершими21, мы вдыхаем чувство, смешанное
со знанием; мы страстно привязываемся к тем, кто больше не может причинить
нам вред или сослужить службу иначе, чем воздействуя на наш ум. Мы
ощущаем присутствие силы, которая дарует бессмертие людским делам и мыслям22.
Традиционно выделяют три типа романтического универсума: «органический»
(телеологический, человек органически встроен в него; такой универсум описывал
19 «вывихнут сустав», («out of joint») — цитата из шекспировского «Гамлета» (акт I, сц. 5,
188—189). Ср. в пер. А. Радловой: «Век вывихнут. О, злобный жребий мой!/Век вправить
должен я своей рукой».
20 См.: Михайлов A.B. Вводная часть доклада «Генрих фон Клейст и проблемы
романтизма» // Обратный перевод. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 41-42.
21 «mighty dead» — цитата из поэмы Дж. Томсона «Зима», написанной в 1726 г. (ст. 432).
22 Hazlitt W. The Selected Writings... Vol. П. Р. 8.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»
493
Вордсворт), «готический» (человек обладает свободной волей, которая, однако,
нейтрализуется воздействием на него иррациональных сил), «открытый» (человек
обладает максимальной свободой, при этом являясь, например, субъектом и объектом
романтической иронии)23. М.-Х. Эйбрамс выдвигает первый тип универсума в
качестве основного и описывает романтическую культуру как «биодицею». В основе
представления об органическом универсуме лежит секуляризованная христианская
концепция упорядоченного телеологического мироздания, в котором человечество
стремится к апокалиптическому соединению с Богом (в «органическом» варианте —
возвращается в «потерянный Рай»). Такой подход имеет серьезное прикладное значение
для понимания творчества Вордсворта и отчасти Колриджа, однако в случае с Хэз-
литтом он неприемлем: телеологические усилия старшего поколения романтиков
оставляли атеиста и скептика Хэзлитта бесконечно равнодушным. Хэзлитт
категорически не верил в «органическое» движение от «невинности» и «неведения» к
«опыту» и «познанию», которое на новом уровне вновь привело бы к высокому
«неведению». «Готический» вариант, как уже было показано, Хэзлитта смущал, если не
отталкивал: сказывалась его рациональная унитарианская выучка. В открытом же
универсуме — как представляется, именно к нему тяготеет Хэзлитт в своем
творчестве — нет потребности в теодицее, нет «ложного» историзма и нет такого понятия, как
«Провидение» или «предназначение человека». Это не означает, что такой
универсум никак не упорядочен: просто существующий в нем «порядок» недоступен
человеческому пониманию. Такой мир совсем необязательно иррационален — он, скорее,
внеморален, в нем отсутствуют моральные ориентиры (по Хэзлитту — всегда
индивидуальные и условные). Художник согласно своей мимикрирующей,
преображающейся природе попросту не ведает человеческой, нравственной определенности:
Их (поэтов. — А. 3.) души изнеженны, они наполовину женщины, наполовину
мужчины; им не хватает стойкости, они беспринципны. Если все
оборачивается иначе, чем они того желали, они — в соответствии с положением вещей —
меняют свои желания («О многоликости поэзии»)24.
(Как мы позже увидим, Ките, увлеченный читатель и горячий поклонник
Хэзлитта, назовет поэта «хамелеоном», не имеющим индивидуальности, не ведающим
собственного «я», всегда «заполняющим» собой разные оболочки25.)
Высокая свобода человека в открытом универсуме таит в себе трагическую
необходимость: человек не просто «волен» выбирать свой удел (как в «готическом»
мироздании), он обязан делать это. При этом полагаться ему приходится не на
«интуитивный разум» (фактически, по Ф.-В.-И. Шеллингу и Колриджу, голос Бога), но
на то, что Шеллинг называл «эмпирическим опытом», «эмпирическим
пониманием». В какой-то степени свобода субъекта оказывается ограниченной отсутствием
23 См.: Abrams M.H. The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition.
L.; Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 1953; Idem. Natural Supernaturalism: Tradition and
Revolution in Romantic Literature. N.Y.; L.: Norton, 1971; Thorslev P.L. Romantic Contraries:
Freedom versus Destiny. New Haven (CT); L.: Yale University Press, 1984.
24 Hazlitt W. The Selected Writings... Vol. I. P. 150.
25 В письме Р. Вудхаусу от 27 октября 1818 г. См.: Keats J. The Letters, 1814-1821: In
2 vol. /Ed. H.E. Rollins. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1958. Vol. I. P. 387-388.
494
Приложения
абсолютов и авторитетов — приходится в выборе участи опираться на собственный
опыт и эксперимент, правда, помня о том, что в неупорядоченном мире невозможно
учесть всегда гфисугствуюидий там элемент случайности. Существует и
парадоксальный вариант увеличения степени творческой свободы — за счет обретения (на свой
страх и риск) нового абсолюта взамен утраченного. Вполне вероятно, что этот
последний путь и избрал Хэзлитт, чьей тайной страстью была попытка выстроить
какую-то особую реальность, более подлинную, чем та, которую он знал в жизни, о
которую ему, как всякому романтику, приходилось до крови разбиваться.
В этом отношении ближайшим ориентиром для Хэзлитта был не Вордсворт, а
Колридж, для которого поэтическое слово обретало сверхсуществование, высшее
измерение. Колридж замечал не без внутреннего удовлетворения:
Сфокусированный (поэтом. —А. 3.) мир приобрел реальность — от него
исходит жар, он обжигает, мы чувствуем его близость. Если мы с ним не
совладаем, то, похоже, он овладеет нами, мы ощутим его человеческое прикосновение —
он оставляет неподдельное впечатление непосредственного присутствия,
интуитивного знания26.
Как указывает У. Кич:
Колридж выработал положение о том, что слова могут быть одновременно
естественными предметами и нашими мыслями, поднимающимися над этими
предметами, так что бытие [слов] выражается в слиянии предметов и мыслей,
природы и разума в трансцендентной силе Логоса27.
Такого рода логоцентричность не то чтобы безусловно принималась Хэзлиттом
на веру, но воспринималась им как наиболее трезвый способ преодолеть пропасть
между реальным и идеальным: если «разум» и «чувство» соединимы, то в
творческом озарении.
Подобные ожидания у Хэзлитта всегда окрашены известной долей скепсиса,
который, однако, их не отменяет:
Источник прекрасного и великого для них (поэтов. — А. 3) — собственный дух,
вот они и воображают, что все вещи таковы, какими они должны быть, а не
какие они на деле. По природе своей поэты — изобретатели, творцы истины, любви
и красоты («О многоликости поэзии»)28.
Высшая похвала, которой Хэзлитт удостаивает человека искусства, сводится к
тому, что тот способен показать нам «природу такой, какой мы никогда не видели, но
хотели бы увидеть»29 («Пейзаж Никола Пуссена», 1821); художник, утверждает Хэз-
26 Inquiring Spirit: A Coleridge Reader/Ed. К. Cohern. L.: Routledge & Kegan Paul, 1951.
P. 101.
27 Reach W. Romanticism and Language//The Cambridge Companion to British Romanticism /
Ed. St. Curran. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 112.
28 Hazlitt W. The Selected Writings... Vol.' П. P. 150.
29 С 191 наст. изд.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно;
495
литт, универсален, поскольку творит нечто пограничное, срединное между
реальностью и воображением, обогащает ставшее бывшим и только обещающим быть —
отменяет время ради вечности, становясь «властелином природы и ее возможностей»30.
По Хэзлитту, творческое начало превосходит начало рациональное, так как
только первое составляет с природой единство, второму же достается подчиненная
познавательная функция: «Разум — всего лишь толкователь и исследователь
природы и гения, но не законодатель им и не судья»31 («Гений и здравый смысл»). При
этом в определенном смысле хэзлиттовский идеал был «опрокинут» в прошлое:
именно там наличествовала полноценная эстетическая действительность, не
знающая различий между «быть» и «казаться», «быть» и «воспринимать», вмещающая
мироздание в полноте бытия и становления. Эта действительность для Хэзлитта
была очерчена шекспировским словом, обладавшим единственно объективным
существованием, в каком-то смысле служившим Хэзлитту эстетическим камертоном,
«мерой всех вещей». В «Героях шекспировского театра» (1817) Хэзлитт написал:
Шекспировская фантазия одаривала словами и образами его утонченную
способность чувствовать природу, которая жаждала быть выраженной:
шекспировские описания, по сути, и есть те предметы, которые они выражают, увиденные
через чудесное посредство страсти .
Обозначенное им безусловное совпадение Шекспира-автора и его объекта,
единственное в своем роде, объясняет пристрастность Хэзлитта по отношению к другим
художникам, его обидную для современников строгость суждений: в сравнении с
Шекспиром многого недоставало и признанным мастерам прошлого, и новоявленным
талантам современности — они «состязались» с природой, подражали ей, но далеко не всегда
вмещали ее, как это делал Шекспир. Нежно любимый Хэзлиттом Клод Лоррен
видел атмосферу, но не чувствовал ее <...> его пейзажи — непревзойденные
подражания природе, освобожденные от свойственной ей подчиненности стихиям,
фигурам же на полотнах Рафаэля
недостает той диковатой невнятности выражения, связанной со стихийными
переменами, с естественной непредсказуемостью. В нем (Рафаэле. —А. 3.) нет
ничего романтического33 («О творческом напряжении» («On Gusto», 1816)).
Начало по-настоящему романтическое обитало для Хэзлитта, как мы
впоследствии увидим, в шекспировских произведениях.
Хэзлиттовские «большие надежды» в области эстетики сказались и на
сопутствующем ему в течение всей жизни огромном интересе к живописи, которая в лучших
своих образцах словно бы наглядно демонстрировала ту невероятную жизненность,
30 Там же.
31 С. 40 наст. изд.
32 Hazlitt W. Complete Works... Vol. IV. P. 177.
33 Hazlitt W. The Selected Writings... Vol. П. P. 81.
496
Приложения
витальность, которой способны достигать объекты искусства: «[Тициановские] тела
словно бы чувствуют»34.
Можно предположить, что первоначально Хэзлитт видел свое призвание в
живописи не только потому, что еще не знал иного языка для выражения своей
внутренней сути (как он написал в эссе «Об общественном мнении» («On Public
Opinion», 1828)), но и потому, что его привлекала мнимая осязаемость идеала для
живописца, для Хэзлитта обладавшего менее умозрительной истиной, чем писатель,
материала и предмета которого «не коснуться». В сочинительстве «чувства
переводятся в слова», в живописи — «наименования в предметы»35. Во второй части эссе
«О наслаждении живописью» Хэзлитт писал:
[Художник] занят воплощением возвышеннейших представлений о величии и
красоте: он постигает и облекает в физическую форму лучшее из того, что
доступно его пониманию и пристрастиям — иначе говоря, он всецело и
безраздельно обладает источником высшего для него счастья и упоительнейшего волнения
мысли36,
а вспоминая свои юношеские упражнения и тогдашнее благоговейное отношение к
ремеслу живописца, Хэзлитт рассуждает почти с упоением:
<...> мы, с помощью кисти, можем словно бы прикасаться к предметам,
предстающим нашему взору, и осязать их. Бесплотные видения, парящие на грани
бытия, облекаются на холсте в телесные формы; образ красоты обретает субстан1
цию: грезы и величие мироздания становятся «и чувством осязаемы, и зреньем»
(«palpable to feeling as to sight»)37.
Последняя фраза — каламбур и аллюзия на «Отелло»: «palpable to thinking» —
«ощутимый для мысли» (акт I, сц. 2, 76). Измененной шекспировской цитатой
Хэзлитт как бы возвращается к важной для себя философской посылке: живопись
способна преодолеть разрыв между субъектом и объектом творчества, соединить
ощущение и слово в осязаемом объекте, одновременно являющемся и предметом
искусства. Живописец может оказаться на шаг впереди писателя, так как оперирует более
выигрышным материалом. Увлеченность Хэзлитта телесным и осязаемым
отмечала В. Вулф, видевшая в его писаниях предвидение той важной роли, которую
плотское начало будет играть в литературе XX века, вооруженной познаниями в
психоанализе38.
Особое эстетическое измерение имела и одержимость Хэзлитта личностью
Наполеона, которую ему так и не простили до конца соотечественники — ни
современники, ни потомки. Изданная в 1828—1830 годах четырехтомная «Жизнь Наполеона
Бонапарта» («The Life of Napoleon Buonaparte»), которую Хэзлитт считал своим
34 Ibid. P. 79.
35 С. 11 наст. изд.
36 С. 24 наст. изд.
37 С. 11 наст. изд.
38 См.: Paulin T. Op. cit. Р. 56; Woolf V. Collected Essays: In 2 vol. L.: Hogarth Press, 1966—
1967. Vol. I. P. 164
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»
497
итоговым произведением, по сей день не нашла по-настоящему сочувствующего
читателя. Возможно, пронесенное сквозь всю жизнь неизменное восхищение
наполеоновским гением в большей степени свидетельствует не о принадлежности
Хэзлитта к политическим радикалам, слепо преклоняющимся перед идеей свободы и
однажды выбранным ее носителем (сколь мало бы он ни годился на эту роль), но
со всей очевидностью выдает в Хэзлитте «человека романтического порыва»: в
Наполеоне Хэзлитт угадывал властителя, перекраивающего мир, — не своевольно,
но в соответствии с верно угаданными контурами истинной, скрытой для многих
реальности. Наполеон был для Хэзлитта титаноборцем, богоборцем,
преобразовывавшим материю бытия так же своевольно и бесспорно, как это делали в мифах
мраморные божества, украшавшие Парфенон. Эстетическая ценность
наполеоновского гения была для Хэзлитта несомненна; прямым его проявлением был
превращенный в музей и открытый народу Лувр, где копиист Хэзлитт провел
счастливейшие часы своей жизни (осенью 1802 г. — зимой 1803 г.). Следует отметить, что
своеобразное наполеоновское «культуртрегерство» было близко хэзлиттовскому
унаследованному от диссентеров-унитариев представлению о праве человека на
свободное приобщение к знанию и культуре. Уничтожение препятствий для
человеческого образования и совершенствования было смыслом той борьбы, которую,
согласно Хэзлитту, вел Наполеон с европейской тиранией.
В огромной степени вся жизнь Хэзлитта и посмертная судьба его
литературного наследия определены его отношениями с поэтами-современниками: двое из них
в нем разочаровались, третий очаровался навсегда и, что важнее, поэтически
перевоплотил дорогие Хэзлитту мысли. Истинное призвание открылось будущему
критику после встречи с Колриджем, однако дальнейшее недоброжелательство
последнего в соединении с откровенной ненавистью, которую испытывал к Хэзлитту Вордс-
ворт, скомпрометировало Хэзлитта в глазах поколений читателей.
Хэзлитт не мог простить Вордсворту, Колриджу и Р. Саути (лауреатство
последнего он жестко высмеял в 1813 г.) их консерватизма и монархизма, а главное, по его
мнению, предательства идеалов их молодости, отхода от идей радикального
протестантизма унитарианского толка (последнее относится прежде всего к
Вордсворту и Колриджу). Саути в глазах Хэзлитта, как следует, например, из его
«Политических эссе» и из «Лекций об английских поэтах» («Lectures on the English Poets»,
1818), был фигурой печально-гротескной и мало занимал его как поэт. В понимании
Хэзлитта лояльные принцу-регенту поэты Озерной школы идеализировали тиранию
Бурбонов, не желая знать о преступлениях «получившей по заслугам» французской
монархии; они, вместе с будущим Георгом IV, чуть ли не предавали принципы
протестантизма, — подобные обвинения Хэзлитт предъявлял своим старшим
современникам-поэтам в 1817 году на страницах хантовского «Экзаминера», например, в
историческом очерке «Добрые старые времена до Французской революции»39.
Однако задолго до того, как были произнесены эти горькие упреки, первая встреча с
Колриджем и непродолжительное личное знакомство стали для Хэзлитта своего
рода духовным пробуждением, дали ему возможность поверить в собственные
силы. Именно беседы с поэтом открыли Хэзлитту глаза на его собственные
литературное дарование и призвание.
39 См.: Hazlitt W. Complete Works... Vol. XIX. P. 358.
498
Приложения
Ранним морозным утром 14 февраля 1798 года Хэзлитт проделал десять миль
пешком, чтобы увидеть и услышать Колриджа в приходской церкви Шрузбери, по
соседству с Уэмом, где служил Хэзлитт-старший. Колридж рассчитывал получить
в Шрузбери приход и собирался произнести пробную проповедь, на основании
которой его паства, как это было принято среди унитариев, должна была принять или
отвергнуть нового священника. Когда молодой человек вошел в церковь, звучал
орган, исполнялся 100-й псалом. Поэже, в эссе «Мое первое знакомство с поэтами»
(«My First Acquaintance with Poets», 1823), Хэзлитт вспоминал свои впечатления:
Встретились Поэзия и Философия. Гений и Истина заключили друг друга в
объятия, под присмотром и с одобрения Религии40.
Хэзлитт добавляет, что едва ли его могла привести в больший восторг даже
«музыка сфер» — в это можно поверить, поскольку, как следует из цитат и аллюзий,
которыми начинено соответствующее место в эссе, голос Колриджа сочетал в себе
колдовские свойства речей Дамы из милтоновского «Комоса», проникновенность
героев «Новой Элоизы» и, более того, вдохновение Иоанна Богослова (предметом
проповеди, считают комментаторы, был стих из Евангелия от Иоанна (Ин. 6: 15), хотя
Хэзлитт передает его весьма неточно)41.
Именно Колридж указал Хэзлитту на необходимость выработать строгие
определения тех или иных философских понятий — совет, который Хэзлитт запомнил
на всю жизнь и которому неуклонно следовал. «Творческое напряжение» («gusto»),
«творческий эгоцентризм» («egotism»), «подражание» («imitation»), «вживание»
(«sympathy») — многие эссе Хэзлитта подчинены стремлению прояснить эти ключевые для
его эстетики представления42. Неудивительно, что, воспринимая Колриджа как
своего вдохновенного учителя, Хэзлитт был к нему особенно требователен, а в конце
концов, стремясь выйти из-под его влияния, что едва ли было осуществимо, пришел
к выводу о его «педагогической» несостоятельности. За дружеским обедом у
Чарлза и Мэри Лэмов 27 ноября 1811 года Хэзлитт попросил Колриджа дать
определение поэзии, на что тот, по мнению взбунтовавшегося ученика, не был способен,
как не был способен и рассуждать о Шекспире за малым его знанием (все это было
высказано в лицо поэту). Спустя некоторое время, в июне 1816 года, отзываясь в
печати на такие знаменитые колриджевские произведения, как «Крисгабель» и «Куб-
ла Хан», Хэзлитт без обиняков заявит:
Беда мистера Колриджа в том, что он не способен что-либо завершить. Его гений
отличается такой универсальностью, что его дух останавливается где-то между
прозой и поэзией, истиной и ложью и бесконечным множеством других вещей,
и, именно из-за избытка сил, он не совершает ничего или совершает немногое43,
Едва ли Хэзлитт ставил себе цель уязвтъ Колриджа: он ценил его дар, но,
поскольку этому дару выпало на долю применять себя в до обидного скудной совре-
40 Ibid. Vol. ХУЛ. P. 109.
41 См.: Ibid. Vol. VIL P. 128; см. также: Paulin T. Op. cit. P. 359 (notes to P. 190).
42 См.: Scalda P.L. William Hazlitt//DLB. Vol. 110 (Britich Romantic Prose Writers. 1789-
1832. Second Series) /Ed.J.R. Greenfield. Detroit; L.: Bruccoli Clark Layman, 1991. P. 99.
43 Hazlüt W. Complete Works... Vol. XIX. P. 32.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»
499
менности, поневоле ущербным представал и гений Колриджа. По сравнению с
универсальностью Шекспира «всеядность» Колриджа выглядела несколько
карикатурно. Самое поразительное, что поэт сумел проявить беспристрастность и отдал
должное немилосердной прозорливости критика, заметив, что Хэзлитт, к которому он
«относился по-братски», «был единственным человеком, который меня знал». В
«Литературной биографии» («Biographia Literaria», 1817), духовной истории — своей и
времени, — Колридж с похвалой вспомнил философские способности Хэзлитта,
автора эссе «О принципах, движущих поступками человека».
Остро ощущая все слабые места романтизма с его ставкой на творческую
субъективность, Хэзлитт, почти входя в противоречие с собственной творческой природой,
больше всего осуждал эгоцентризм и самовлюбленность — по его мнению, главные
пороки как человека вообще, так и человека творческого в частности. В
написанной в апреле 1830 года и опубликованной в «Эдинбургском обозрении» рецензии на
роман Годвина «Клаудсли» («Cloudesley», 1830) Хэзлитт писал об авторе:
Заточенный в скорлупе собственного «я», он мало что видит за его пределами
и еще меньше способен почувствовать то, что касается других44.
Парадоксальным образом это описание можно в той же степени отнести и к
самому Хэзлитту. Лучшим поэтом современности, по Хэзлитту, был Вордсворт (см.
очерк «Гений и здравый смысл», с. 53—54 наст, изд.), в котором младший
современник ценил новаторство, пророческий дар, сочетающийся с почти научным,
экспериментаторским подходом к поэзии, где все строилось на жестком противопоставлении
«естественных» и «неестественных» феноменов. Вордсворт был для Хэзлитта и
революционером, и пророком, и даже Франкенштейном от литературы45. С другой
стороны, как отмечал Хэзлитт, с восхищением откликаясь в 1814 году на «Прогулку»
Вордсворта, этот поэт был лишен силы воображения; пасторальные картины,
наполненные для Вордсворта метафизическим смыслом, в Хэзлитте отклика не находили
и, скорее, на его взгляд, как и в случае с Колриджем, свидетельствовали о бедности
того исторического и лирического настоящего, в котором обоим довелось жить: для
Хэзлитта все величие Вордсворта сводилось к торжествующему индивидуализму,
умению погружаться в себя и извлекать «сокровища» из глубины собственного «я»,
рассчитывая только лишь на него46. Хэзлитт считал Вордсворта, наряду с Ж.-Ж.
Руссо и Б. Челлини, одним из «величайших индивидуалистов, каких мы только знаем»,
и в его устах это было не хулой и не похвалой, а беспристрастной констатацией
непреложного факта47. Разумеется, Вордсворт был крайне уязвлен такой оценкой
своей поэзии и навсегда перешел в разряд активных недоброжелателей Хэзлитта.
Для последнего же было очевидно: универсальности Шекспира даже первому
поэту современности, например Вордсворту, не достичь, поскольку Шекспир,
«Протей человеческого интеллекта»48, обладал изменчивостью и полнотой природы,
44 Hazlüt W. Complete Works... Vol. XVI. P. 403.
45 См.: Paulin Г. Op. cit. P. 257-258.
46 Hazlüt W. The Selected Writings... Vol. П. Р. 112-120.
47 См. очерк «О характере Руссо» (1816): Hazlüt W. On the Character of Rousseau//
Complete Works... Vol. IV. P. 92-93.
48 C. 52 наст. изд.
500
Приложения
вживался во все сущее, но проявлял к нему высокое безразличие, никогда не
становясь собой, не оставаясь только собой.
Кем мыслил Хэзлитт себя самого — Вордсвортом критической мысли или все-таки
Шекспиром? Его излюбленный жанр, жанр «интимного эссе» («familiar essay»),
«разговора запросто», «разговора по душам» (см. название собрания его эссе 1826 г. —
«Прямодушный: Мнения о книгах, людях и прочих предметах» («The Plain Speaker:
Opinions on Books, Men, and Things»)), его всегдашняя готовность рассказать о себе
все, граничащая с духовным бесстыдством, вроде бы предполагают «вордсвортов-
ский» вариант: самоуглубление и предельную субъективность взгляда49. В пользу
подобного понимания говорит и то обстоятельство, что, как всякий настоящий
романтик, Хэзлитт пребывал у себя в плену: на что бы он ни смотрел, его взгляд видел
собственное отражение, некую неизбежную автопроекцию: рассуждает ли Хэзлитт о
фризе Парфенона («Записки о путешествии по Франции и Италии» («Notes of a
Journey through France and Italy», 1826)), восхищается ли искусством индийских
жонглеров, он так или иначе говорит о себе, о своем ремесле — и вот уже античные
скульптуры, открытые англичанам лордом Элгином, названы Хэзлиттом «гармоничной,
текучей, меняющейся прозой», уподобляются шекспировским творениям50, то есть
оказываются способны выразить эстетические пристрастия того, кто о них пишет;
соприкосновение же с по-своему рискованным искусством жонглеров смущает и заставляет
«сгорать от стыда»51, побуждает Хэзлитта горько жаловаться на ограниченность
собственных миметических способностей и — шире — творческих возможностей:
Чем же я всю жизнь занимался? Разве я бездельничал и все мои труды и
старания пропали зря? Или я только и делал, что переливал из пустого в порожнее,
катил камень в гору и обратно, пытаясь доказать свои доводы вопреки фактам,
ища истину во тьме и не находя ее?52
Эта цитата и ей подобные рисуют Хэзлитта неудачником, мизантропом от
романтизма, положившим жизнь на то, чтобы убедиться, как романтическая
чувствительность разума, познающего прежде всего себя, неизменно заводит в тупик. Однако все-
таки Хэзлитт склонен был иначе оценивать и свой метод, и (в лучшие минуты) свои
произведения. Рецензируя в «Эдинбургском обозрении» (февраль 1816 г.) лекции
А.-В. Шлегеля об искусстве драмы, он описывает критический дар как способность
абсолютного вживания во все, что только становится предметом наблюдения или
размышления:
49 Д. Бромвич резонно указывает, что, если стиль прозы Колриджа положил начало
современной академической литературной критике, то стиль Хэзлитта с его подчеркнуто
интимной интонацией, склонностью к диалогу воспринимался позднейшими читателями
как более легковесный, годный разве что для журналистики, хотя в задачу Хэзлитта
входило нечто иное: пристрастность, отказ от безличности соответствовали его представлению
о романтическом авторе (см.: Bromwich D. Hazlitt: The Mind of a Critic. N.Y.; Oxford: Oxford
University Press, 1983. P. 14-15).
50 См.: Hazlitt W. Complete Works... Vol. X. P. 168—169; комментарий к этому фрагменту
см. в изд.: Paulin T-. Op. cit. P. 99.
51 С. 91 наст. изд.
52 Там же.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»
501
<...> нельзя быть истинным критиком или ценителем чего бы то ни было, если
вы не обладаете универсальностью мышления, если не обладаете гибкостью,
которая позволила бы вам отбросить личные пристрастия, слепые обыкновения и
проникнуть в странные черты других времен и народов, прочувствовать их,
посмотреть на них изнутри и с уважением, с почтением отнестись к тому, что есть
в них великого и прекрасного, возникшего под влиянием внешних обстоятельств,
с одной стороны, жизненно необходимых, с другой — скрывающих внутреннюю
суть53.
Таким образом, Хэзлитт видел в критическом поприще возможность
реализации универсального гения, а это означает, что, несмотря на сознаваемые им
собственные слабости, он считал себя последователем Шекспира, частью бесконечной
творящей природы.
Сейчас метод Хэзлитта воспринимается многими исследователями почти как
постмодернистский:54 он мыслит цитатами и литературными аллюзиями, всякий раз,
берясь за перо, выстраивает их в новом причудливом порядке и заставляет
обозначать нечто новое, проявлять что-то ранее немыслимое (Хэзлитт любит парадокс,
любит обманывать ожидания читателя, но всегда отталкивается от «старого», вроде бы
всем знакомого). Свой личный опыт он всегда «вмуровывает» в литературный
материал, так что его собственное «я» может оказаться (как во включенном в
«Застольные беседы» эссе «О прошлом и будущем» (1825)) чем-то средним между
венецианским мавром, его создателем, Вергилием и Вордсвортом: портрет хэзлиттовской
неверной возлюбленной Сары Уокер (первая часть «Застольных бесед» создавалась
в разгар их романа), хранящийся в памяти Хэзлитта, соседствует с воспоминаниями
Отелло, цитатами из «Энеиды» и вордсвортовской «Лаодамии». Вспоминают все и
никто: Хэзлитт заставляет говорить некую умозрительную и неисчерпаемую материю
прошлого («well-stored past»), презирая «ничего не ведающее» будущее («ignorant
future») еще и потому, что оно не освящено человеческим воображением, не способно
говорить голосами поэтов. Возможно, по этой же причине для Хэзлитта мертва и
христианская вера, устремленная в будущее. В том же эссе Хэзлитт лукаво
замечает в сноске: «"Трактат о наступлении Царствия Божьего на земле" нудноват, но
чтобы кому-нибудь когда-либо наскучило чтение мифов о "золотом веке", — об этом
слышать не приходилось»55, — неверующий ум Хэзлитта-эстета обнаруживает в
немом будущем пустоту.
Средство сближения внешне разрозненных цитат, отрывков, обрывков
воспоминаний — мощная «ассоциативная способность», лежащая для Хэзлитта в основе
творческого воображения (собственно, воображение к ней и сводится).
В подобном методе отразилась вера Хэзлитта в единую основу природы и
творческого воображения: общее в них — слткийность. В непрерывном потоке чужих
образов, своих и чужих представлений, созданий художественной фантазии и
реальных лиц, повлиявших на твою жизнь, есть бесконечность и повторяемость, присущие
53 Hazlüt W. Complete Works... Vol. XVI. P. 61.
34 См. следующие работы: Bromwich D. Op. cit. P. 275-313; KinnairdJ. William Hazlitt,
Critic of Power. N.Y.: Columbia University Press, 1978; Park R. Hazlitt and the Spirit of the Age.
Oxford: Oxford University Press, 1971; Paulin T. Op. cit.
55 С. 32 наст. изд.
502
Приложения
природе, и потому писатель, живущий прошлым и уже произнесенными словами,
находится в ладу с мирозданием. Прогресс в искусстве Хэзлитт отрицал, считая
последнее не только стихийным, но цикличным, повторяемым, а потому вечным:
Ничто не вступает в такое противоречие с действительным положением вещей,
как предположение, что в том, что мы понимаем под изящными искусствами,
такими как живопись или поэзия, относительное совершенство — лишь
результат постоянно возобновляемых усилий и то, что однажды было сделано должным
образом, всегда приводит к чему-то лучшему. Все механическое,
подчиняющееся правилу, все, что можно продемонстрировать, может быть
усовершенствовано, может прогрессировать; все немеханическое, неопределенное, полагающееся
на гений, вкус и чувство, очень скоро застывает в неподвижности, становится чем-
то ретроградным и при соединении с чем-либо инородным больше теряет, чем
приобретает («Почему в искусстве нет прогресса: Фрагмент» («Why the Arts are not
Progressive? A Fragment», 1814))56.
Собственная проза Хэзлитта — род алхимии, творческого преобразования уже
наличествующей литературной материи в нечто новое, нестойкое, что неизбежно
будет переосмыслено, переписано — и самим Хэзлиттом, и его читателями. Хэзлитту
нравилась подпись, которую великий Тициан оставлял на своих полотнах, — «Titianus
faciebat» («Над этим работал Тициан»), что подчеркивало неизбежную
незавершенность созданного и возможность достижения творческого совершенства лишь в
процессе творения, в тот самый миг, когда кисть прикасается к холсту57.
Каждый очередной мазок помогает выверить степень достигнутой
правдивости; каждое свежее наблюдение в ту же минуту подтверждается движением
кисти, подчиненной порыву воли. Каждый шаг приближает нас к желаемому,
и вместе с тем объем незавершенного неизменно возрастает58, —
пишет Хэзлитт в эссе «О наслаждении живописью», по-фаустиански демонстрируя
страх перед всем ставшим, запечатленным, не столько сожалея о недостижимости
любого эстетического объекта, сколько опасаясь, что при разрушении творческого
единства художника и его создания нам останется лишь мертвая материя, косная,
словно никем и никогда не преображенная. В эссе «Сознает ли гений, что в его
власти?» («Whether Genius is Conscious of its Powers?», 1823) Хэзлитт даже
признавался, что испытывает страх перед собственными сочинениями, когда видит их уже
напечатанными, переплетенными, и утверждал, что не способен перечитывать на-
писанное, замена магии творческого озарения рутиной ремесленной литературной
работы была для него невыносимой60.
* HazlÜt W. The Selected Writings... Vol. IL P. 158.
См.: Paulin T. Op. cit. P. 85.
58 С. 16 наст. изд.
59 См.: HazlÜt W. Complete Works... Vol. ХП. P. 125.
60 Эстетика Хэзлитта повлияла на критические воззрения Дж. Рескина (его
представления о неспособности настоящего искусства предстать в завершенном виде). См.:
Bromwich D. Op. cit. P. 342-343; Paulin T. Op. cit. P. 103.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»
503
Давая определение прекрасного, Хэзлитт готов был уподобить его движению:
Движение прекрасно, поскольку в нем есть непрерывность или постепенная
перемена («О красоте» («On Beauty», 1816))61.
Такого рода движение свойственно природе — набегающим волнам, шелестящей
листве, описывающему круги ястребу, пишет Хэзлитт, а потому движение по сути
своей эстетически осмысленно и к нему стоит стремиться художнику. Стиль
прозы С. Джонсона, краски Тициана, французский балет (Хэзлитт восхищался
искусством французского танцовщика А.-Ж.-Ж. Деши, чьи выступления, вероятно,
видел в парижской опере в 1802 г.62) — все они демонстрируют «гибкость и грацию»,
свойственные естественному, никогда не прерывающемуся движению. В такого рода
увлеченности «эстетикой» движения Хэзлитт обнаруживает и свои унитарианские
корни (прежде всего влияние философии Хатчесона63), и преклонение перед
прозой Бёрка: трактат последнего «Философское исследование основы наших
представлений о возвышенном и прекрасном» («A Philosophical Enquiry into the Origin of our
Ideas of the Sublime and Beautiful», 1757) цитируется в вышеупомянутом эссе,
причем Хэзлитт с удовольствием замечает, что Бёрк, описывая грудь красивой
женщины, делает это «почти полностью с опорой на представления о движении» (речь идет
и о размеренности дыхания, и о скользящем взгляде наблюдателя, и — что для Хэз-
литта важнее всего — о ритме прозы самого Бёрка). Соприкоснуться с прекрасным
означает для Хэзлитта быть в движении, в становлении; именно этого он желает
добиться в своих сочинениях, в каком-то смысле он хочет быть одним из индийских
жонглеров (см. очерк «Индийские жонглеры» из «Застольных бесед»), чье
мастерство носит вселенский характер (шары «летят по кругу один за другим, как
планеты на орбитах»)64 и потому дорастает до истинно «прекрасного».
В хэзлиттовском умении сотворить новое из сочетания уже прозвучавшего,
произнесенного, написанного, прояснить себя с помощью цитат, за которыми вставало
бы бесконечное множество контекстов, уводящих в прошлое, в глубь культуры и
литературы, в его признании непрочности, сиюминутности этого творческого чуда
можно усмотреть и своего рода стремление драматизировать процесс создания
прозы. Цитируя в эссе «Драма» («The Drama», 1820) высказывания Колриджа о
трагедиях Расина («Определенное, застывшее есть смерть; принцип всего живого —
неявное, растущее, движущееся, развивающееся»65), Хэзлитт особо указывал на
специфические витальные возможности драматического искусства. Сам Хэзлитт-
писатель предстает кем-то вроде драматурга или даже режиссера, собирающего
вокруг себя «труппу» из предшественников, отлаживающего вроде бы нестройный
хор голосов так, чтобы получилось некое осмысленное произведение. Нетрудно
догадаться, кто был для Хэзлитта ведущим «актером» такой умозрительной
постановки, чей голос яснее всего звучал в его сознании, — это, разумеется, Шекспир, к
61 Hazlitt W. The Selected Writings... Vol. П. Р. 73-74.
02 См.: Ibid. P. 354.
63 См.: Paulin T. Op. cit P. 90.
64 С 90 наст. изд.
(x5 Цит. по: Hazlitt W. Complete Works... Vol. XVffl. P. 371.
504
Приложения
которому Хэзлитт обращается чаще всего. В каком-то смысле Шекспир —
сердцевина хэзлиттовской эстетики, тот стержень, на котором держится все его
художественное воображение.
Не стать критиком-шекспиристом Хэзлитт не мог: его литературное взросление
совпало с появлением и укреплением в Англии традиций романтического театра. В
начале XIX века театры Друри-Лейн, Ковент-Гарден, Сэдлерз-Уэллз и «Лицеум», не
говоря уже о более скромных заведениях, завоевывали необычайную популярность
благодаря постановкам шекспировских пьес, многие из которых в XVIII
веке считались произведениями исключительно для чтения. Выдающиеся актеры
романтического театра — С. Сиддонс, Дж.-Ф. Кембл, Э. Кин — делали себе имя как
исполнители шекспировских ролей, публика узнавала их как шекспировских
героев: романтизм в театре первых десятилетий XIX века во многом реализовывался как
постижение Шекспира. Хэзлитт впервые по-настоящему привлек к себе внимание
читателей, став театральным обозревателем «Утренней хроники» («Morning
Chronicle») и опубликовав 26 января 1814 года восторженную рецензию на поставленного
в Друри-Лейн «Венецианского купца». Роль Шейлока в спектакле играл никому
тогда не известный провинциальный актер Эдмунд Кин. Чудесным образом статья
Хэзлитта не только пошла на пользу его собственной литературной репутации, но
и прославила Кина: за несколько дней в Лондоне началось настоящее безумие, так
как все желали увидеть новоявленного театрального гения, а театр Друри-Лейн был
спасен от было грозившего ему разорения66. В дальнейшем для хэзлиттовских
современников Яго, Ричард Ш, Гамлет, Отелло и Макбет заговорили голосом великого
Кина. Хэзлитт же постепенно отошел от рутинной театральной критики (собрание
эссе и рецензий «Панорама английской сцены» («A View of the English Stage; or, a
Series of Dramatic Criticism», 1818) подытожило этот род его деятельности), но
потребность писать о шекспировском театре и шекспировском слове стала у него лишь
сильнее, так как в этом случае он говорил о чем-то бесконечно насущном.
Вслед за Колриджем Хэзлитт делал отдельные аспекты теоретических работ
немецких романтиков доступными современникам-соотечественникам — более чем
удачно «высаживал» те или иные идеи на английскую почву. В первую очередь это
относится к немецкому романтическому шекспироведению (как и к
принципиальному для германской критики стремлению отделить классическое искусство от
романтического).
Первой книгой Хэзлитта, которая имела неподдельный успех у читающей
публики, было собрание очерков «Герои шекспировского театра», — отныне Хэзлитт,
наряду с Кином, воспринимался открывателем нового, созвучного современности,
романтического Шекспира. (Даже столь строгий судья, как редактор
«Эдинбургского обозрения» Ф. Джеффри отозвался в августе 1817 г. о книге с похвалой, что
немало способствовало упрочению хэзлиттовской репутации.) Можно без
преувеличения сказать, что вдруг взошедшая звезда Хэзлитта-критика отражала свет
великого предшественника.
Безусловно, собирательный образ романтического Шекспира был сформирован
и до Хэзлитта. «Универсальность Шекспира — как бы средоточие романтического
66 См. подробнее: Grayling A.C. The Quarrel of the Age: The life and Times of William Haz-
litt. L.: Phoenix, 1998. P. 165-167.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»
505
искусства»67, — утверждалось в шлегелевском «Атенее» в 1798 году. Эта аксиома
была прочно усвоена английским романтизмом, причем метод усвоения оказался
двусторонним. Наблюдения A.B. Шлегеля (в берлинских лекциях о литературе и
искусстве 1801—1804 гг., в венских лекциях о драматическом искусстве 1808 г.) в
каком-то смысле возвращались в Англию (в частности, через Колриджа), на почву, уже
подготовленную предромантизмом, в частности, Дж. Уортоном, опубликовавшим
серию статей о Шекспире в «Искателе приключений» («The Adventurer») в 1753—
1754 годах. Английская критическая мысль также унаследовала два взгляда на
проблему «объективности» Шекспира08. Ф. Шиллер в сочинении «О наивной и
сентиментальной поэзии»-(1795) называл Шекспира «наивным» поэтом, непосредственно
отображающим «природу», не оставившим в своих творениях следов своей личности.
Напротив, Ф. Шлегель в «Разговоре о поэзии» (1800) утверждал, что произведения
Шекспира запечатлели личность их создателя, — в его глазах Шекспир был
«субъективен». Колридж объединил эти вроде бы противоположные позиции, представив
Шекспира всемогущим спинозовским божеством, безличной творящей силой, однако
все-таки «субъективным» автором. Субъективное в Шекспире для Колриджа
заключалось в отдельных персонажах великого драматурга, сотворенных им посредством
субъективации, «сгущения» той или иной черты собственного характера69.
По Колриджу, Шекспир «имитировал» не уже сотворенную природу (natura
naturata), хотя бы и свою собственную, но саму творящую стихию (natura naturans)70.
Под этим углом зрения в главах 14—16 «Biographia Literaria» Колридж
противопоставил Шекспира Милтону:
В то время как последний (Шекспир. — А. 3.) все время рвется вперед, словно
Протей, воплощаясь в самых разнообразных человеческих страстях и поступках,
в воде и огне, другой вбирает все в себя, объединяет все в своем идеале. Все вещи
и дела заново открывают себя в Милтоне; Шекспир же становится всем, всегда
оставаясь при этом самим собой71.
Это противопоставление было весьма существенно для Хэзлитта. Сравнивая в
«Лекциях об английских поэтах» (в эссе «О Шекспире и Милтоне» («On Shakspeare
and Milton», 1818)) Шекспира с Чосером и Милтоном, Хэзлитт особо подчеркивал
отличающую Шекспира недовоплощенность, его почти рискованную способность
к метаморфозе и преображению:
В чосеровских характерах мы ощущаем некую неизменную сущность. У
Шекспира — беспрестанное соединение и разложение тех элементов, из которых ха-
67 Шлегель Ф. Фрагменты // Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. / Пер. Ю.Н. Попова.
М.: Искусство, 1983. Т. 1. С. 303 (А. 247).
68 См.: Abrams МЛ. The Mirror... P. 244-249.
69 См.: Coleridge S.T Table Talk and Omnia. Oxford: Oxford University Press, 1917. P. 92,
213 (12 May 1830; 17 February 1833).
70 См.: Coleridge S.T. Miscellaneous Criticism/Ed. T.M. Raysor. Cambridge (MA): Harvard
University Press, 1936. P. 43-^4.
71 Coleridge S.T. Biographia Literaria: In 2 vol. /Ed. J. Shawcross. L.: Oxford University Press,
1907. Vol. I. P. 180.
506
Приложения
рактер складывается, брожение, вызванное попеременным притяжением и
отталкиванием каждой частицы при взаимодействии с другими составляющими
вещества. Пока эксперимент не произведен, результат нам неизвестен, мы не
знаем, как поведет себя герой в новых обстоятельствах. Милтон же использовал
лишь несколько простых составляющих характера, придавал им почти
немыслимое, предельное благородство, очищая их от всех низкопробных примесей72.
Здесь Хэзлитт во многом повторяет очень им ценимые «Лекции об искусстве
драмы» A.B. Шлегеля, на которые он не только восторженно отозвался в
«Эдинбургском обозрении», но и которые страницами цитировал в «Героях
шекспировского театра». Именно как гений метаморфозы, повторяющий, подменяющий,
превышающий живую природу, Шекспир мог служить образцом для подражания для
Хэзлитта-прозаика, Хэзлитта-критика. Еще лучше было бы ощутить свое кровное
литературное родство с Шекспиром, о чем Хэзлитт не мог говорить вслух, но на что
подспудно указывает весь применяемый им творческий метод.
Для понимания шекспировской манеры Колридж выдвинул еще одно понятие —
«вживание» («sympathy»), совершенное перевоплощение художника в изображаемый
предмет в сочетании с полной авторской безличностью73. Хэзлитт усвоил и
интенсивно развил эту идею, предпочтя, правда, иной термин — «страстное творческое
напряжение» («gusto»). Впервые он употребил это броское слово с итальянским привкусом
в 1814 году, в статье, посвященной картине Б. Уэста, живописному стилю которого
«напряжения» как раз недоставало. Хэзлитт привел в качестве противоположности
Рафаэля, объяснив:
В Рафаэле каждый мускул, каждый нерв исполнен напряженного чувства.
Каждая деталь дышит божественным духом, который либо выявляет самое
потаенное, что в ней есть, либо играет нежными переливами по поверхности полотна74.
Позже Хэзлитт назовет «творческим напряжением» «силу или страсть,
позволяющую дать определение любому объекту»75 и относящуюся, чаще и прежде всего,
к шекспировской способности воплощения, полного растворения в своем предмете.
По Хэзлитту, дело не только в слиянии с предметом творчества: волшебная
метаморфоза позволяет восстановить самую суть изображаемого (не упуская
наличествующих в нем противоречий), дать ему новую полноценную жизнь в искусстве76.
Буквально повторяя Колриджа, Хэзлитт писал, что Шекспиру была свойственна
способность по своему желанию превращаться во все, что ему только было угодно (см.
эпиграф к наст, статье). Можно сказать, что под пером Хэзлитта Шекспир все
больше и больше выступал совершенным «романтиком-объективистом».
Помимо «силы вживания», другим определяющим свойством Шекспира в
глазах романтиков считалась его «ассоциативная способность» — виртуозное умение не
72 Hazlüt W. The Selected Writings... Vol. П. Р. 212.
73 См.: Coleridge S.T. Table Talk... P. 294 (15 March 1834).
74 Hazlüt W. Complete Works... Vol. Х\ТП. Р. 32-34.
75 Hazlüt W< The Selected Writings... Vol. П. P. 79.
76 См.: Bate W.J. John Keats. Cambridge'(MA); L.: Harvard University Press, 1963. P. 244;
Bromwich D. Op. cit. P. 228-229.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»
507
только создавать цепочки ассоциаций, но и вызывать к жизни оригинальный ход
мысли читателя. Это умение Шекспира стало предметом не столько теоретического,
сколько «практического» рассмотрения. Отсюда изобилие в поэзии и прозе
писателей-романтиков скрытых и явных цитат из Шекспира77. Так поступали Колридж и
Ките, таков был принцип прозы Хэзлитта, впервые опробованный в полном
масштабе в собрании эссе «Круглый стол» (1817). Соответственно, для читателя чтение
Хэзлитта нередко оказывается увлекательным герменевтическим опытом, причем
хэзлиттовский шекспиризм всегда воспринимается как глубоко личное
переживание писателя. Книга «Застольные беседы» предлагает тому множество примеров.
Вспоминая в 1820 году в эссе «О наслаждении живописью» свои юношеские
опыты по копированию полотен старых мастеров, с нежностью думая о часах,
проведенных в Лувре, Хэзлитт говорит, что время от времени видит во сне, «будто
снова попал туда: спрашиваю, где старые картины, и не нахожу их; или же, обнаружив,
что они выцвели или переменились до неузнаваемости, просыпаюсь в слезах»78 («cry
myself awake»). Последняя фраза — недвусмысленная отсылка к шекспировской
«Буре» (акт III, сц. 3, 147—148), той сцене, где Калибан, чудовище, состоящее на
службе у волшебника Просперо, повествует об удивительных чудесах
зачарованного острова, принадлежащего его хозяину, вспоминает о сладкой таинственной
музыке, слышащейся неведомо откуда и погружающей в блаженный сон,
пробуждение от которого мучительно: «<...> when I waked, /1 cried to dream again» («И
плачу я о том, что я проснулся». Пер. Т. А. Щепкиной-Куперник). Хэзлитт, погруженный
в грезы прошлого и грезы искусства прошлого, предстает перед собой и перед
читателем таким же убогим страдающим Калибаном, тщетно взыскующим
божественной гармонии.
Другой пример — финал первой части того же эссе, где говорится о «вечерней
звезде над хижиной бедняка» — звезде Наполеона, которая когда-то возвещала
желанное Хэзлитту преображение всего миропорядка и вполне заменила ему
Вифлеемскую звезду. Хэзлитт вспоминает, что завершение работы над портретом отца
совпало по времени с известием о битве при Аустерлице (смещая временные пласты,
так как портрет был готов не позднее 1804 г., а битва состоялась 2 декабря 1805 г.)79.
Возвращение в пространстве возможно (только время необратимо — или обратимо
лишь в слове): дом и часовня в Уэме, где служил отец, не изменились, хотя
самого его нет на свете. Их неизменность свидетельствует об обманутых надеждах
Хэзлитта: звезда Наполеона закатилась, а прежнее мироустройство осталось
незыблемым. К такому выводу читателя подводит шекспировский подтекст,
накладывающийся на евангельский, — аллюзия на «Венецианского купца», где Порция замечает:
«Если бы делать было так же легко, как знать, что надо делать, то часовни стали
бы храмами, а бедные хижины — царскими дворцами» (акт I, сц. 2, 12—14. Пер.
Т. А Щепкиной-Куперник). «Хижина бедняка» не преобразилась, а «часовня» унита-
рианской веры не стала мощным зданием: жизнь Уильяма Хэзлитта-старшего
прошла трагически незаметно, его ум, его проповеднический дар так и не были реали-
77 См.: Bate J. Shakespeare and the English Romantic Imagination. Oxford: Clarendon Press,
1986. P. 20.
78 С 23 наст. изд.
79 См.: Hazlitt W. The Selected Writings... Vol. 6. P. 298.
508
Приложения
зованы, никаких мирских благ он не стяжал — и Хэзлитт-младший, при
поддержке Шекспира, горестно-ностальгически свидетельствует об этом. Память —
естественная стихия Хэзлитта; что бы он ни создавал, он так или иначе повествует о лично
пережитом, и отсылки к другим авторам, составляющим неотъемлемую часть его
литературного срзнания, служат вехами его воспоминаниям, становятся частью
особой мнемонической стратегии.
Сталкивая цитаты и аллюзии, Хэзлитт делает это не только ради
свойственного романтику непременного желания спроецировать свой опыт на великое
искусство, узнать себя в великом предшественнике: он словно стремится открыть
читателю некий общий контекст, образующийся, когда цитаты обогащают и
дополняют друг друга. Так, в эссе «Пейзаж Никола Пуссена», говоря о возможностях
художника (и Пуссена как такового, и идеального гения), Хэзлитт утверждает, что тот
«силой своей магии» («so potent art») может изобразить и только что сотворенный
мир в его первозданной наготе, и «года расцвета» («high and palmy state»), тем
самым ставя рядом цитаты из «Бури» (акт V, сц. 1, 50) и «Гамлета» (акт П, сц. 2, 367).
Неожиданно в глазах читателя сближаются Горацио в ожидании первой встречи с
призраком, вспоминающий о временах расцвета Рима, когда, в преддверии гибели
великого Цезаря, творились зловещие дела и отверзались могилы (как ныне в
Датском королевстве), и чародей Просперо, готовый навсегда проститься со своим
магическим даром, заставлявшим, помимо всего прочего, вставать усопших. Читатель
Хэзлитта невольно задумывается о природе искусства Просперо, «поставленного»
в катастрофический гамлетовский контекст, в который попадает и творчество
Пуссена, по-просперовски всемогущее и по-гамлетовски обреченное80.
Такого же рода взаимное «преображение» сопоставленных Хэзлиттом
шекспировских образов можно обнаружить в эссе из книги «Круглый стол», посвященном
«Сну в летнюю ночь» («On the Midsummer Night's Dream», 1815). Размышляя о
сказочных существах, населяющих мир шекспировских «Сна в летнюю ночь» и «Бури»,
Хэзлитт замечает:
Просперо и мир его духов — компания моралистов, но, встретившись с Обероном
и его феями, мы словно попадаем в королевство бабочек81.
(Ранее Ариэль из «Бури» сравнивается с Пэком из «Сна в летнюю ночь».) Дело не
только во вполне очевидной для большинства читателей возможности сближения
фантастических персонажей: для Хэзлитта важно, что морализм Шекспира,
жесткость и своего рода пророческий пафос его прощальной пьесы соприродны
беззаботности и «эпикурейству» «Сна»:
Ни один другой художник не смог бы создать двух столь разных героев (Пэка
и Ариэля. —А. 3) из одного и того же фантастического материала и
причудливых ситуаций82.
80 См.: Paulin T. Op. cit. P. 225-226; Verdi R. Hazlitt and Poussin // Keats-Shelley Memorial
Bulletin. 1981. № 32. P. 1-18.
81 Hazlitt W. The Selected Writings... Vol П. P. 62.
82 Ibid.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»
509
Трагедия оборачивается игрой, ирония — горечью, а Шекспир утверждается
Хэзлиттом в роли бесконечно изменчивого, а значит, бесконечно совершенного
гения, покровительствующего художникам романтической эпохи и, не в последнюю
очередь, самому Хэзлитту.
В чем слабость подобной эстетической позиции? Всегда «кивая» на безусловный
художественный авторитет, пытаясь создать нечто новое из уже наличествующего,
складывая мозаику из цитат и аллюзий, сам Хэзлитт как писатель для
несочувствующего (или попросту невнимательного) читательского глаза отступает в тень, теряется
среди ярких отрывков и великих авторов, к которым постоянно обращается. Как
опытный кукловод, он делается невидимым (или малозаметным) на фоне своих
героев, которых, однако, «заставляет» говорить в полный голос, — что было особенно
удивительно в романтическую эпоху, эпоху бесконечно расширяющегося
литературного, лирического эгоцентризма. После этого едва ли можно удивляться
распространенным представлениям о Хэзлитте как об авторе «второго» ряда у одних и желанию
других видеть в таком художественном выборе Хэзлитта предвосхищение
специфически понимаемой «модерности» или даже «постмодерности» — сложной рефлексии,
связанной с пониманием неизбежности взаимодействия каждого писателя с
литературным каноном83.
Однако в литературной судьбе Хэзлитта было одно обстоятельство, благодаря
которому его критика и эстетика как бы получили «охранную грамоту»,
достоверное свидетельство своей жизнеспособности. У Хэзлитта был свой поэт — далеко не
самый им почитаемый или любимый, однако претворивший хэзлиттовское идейное
влияние в безусловные творческие достижения. Этим поэтом был Джон Ките.
Их знакомство состоялось осенью 1816 года, и до самой своей смерти Ките
внимательно следил за всем, что публиковал Хэзлитт, часто упоминал и с увлечением
цитировал его в своих письмах (например, в 1819 г. скопировал в письме брату пять
страниц «Письма Уильяму Гиффорду»), мирился, в отличие от других, с хэзлиттов-
ским нелегким характером, сожалел о его незавидной репутации имморалиста, но,
главное, оставался приверженцем хэзлиттовских эстетических теорий84. Ките
творчески переосмыслил многие положения Хэзлитта и поэтически воплотил
ассоциативный метод хэзлиттовской прозы, ее способность «дирижировать» значимыми
цитатами и аллюзиями, сталкивать их, заставляя обретать новый неожиданный
смысл. История создания китсовского сонета «Перед тем как перечитать "Короля
Лира"» («On Sitting Down to King Lear Once Again», 1818), рассказанная Китсом в
письме, — повторение хэзлиттовского опыта творения на шекспировском
«черновике» («казалось, вещи («Королю Лиру». —А. 3) недостает пролога в виде сонета, я
написал его...»85).
83 Примечательно название биографии Хэзлитта британского исследователя Д. By —
«Первый современный человек» (или даже «Наш первый современник», «Первый носитель
современного начала» — «The First Modern Man»). См.: Wu D. Op. cit
ы Хронику знакомства и литературного общения Хэзлитта и Китса см. в изд.:
Thorpe CD. Keats and Hazlitt: A Record of Personal Relationship and Critical Estimate // PMLA.
1947. June. № 62. P. 487-502.
85 Keats J. The Letters... Vol. I. P. 256.
510
Приложения
Наличие такого гениального «ученика» оказалось определяющим для
укрепления позиций хэзлиттовской критической теории. В 1817 году Ките писал Дж.-Х. Рей-
нолдсу:
Как поживает Хэзлитт? Прошлым вечером мы читали его «Стол» (книгу
«Круглый стол». — Â. 3.), — я знаю, он думает, что в мире нет и десяти человек,
которые бы его ценили; хотелось бы, чтобы он знал — они существуют86.
Доказательство вышеприведенному тезису найти нетрудно: например, хэзлиттов-
ская метафора из включенного в «Круглый стол» эссе «О стихотворной форме у
Милтона» («On Milton's Versification», 1815) произвела такое впечатление на Китса,
что он использовал ее в своем стихотворении «Сон и поэзия» («Sleep and Poetry»,
1816). Это произведение — род диалога с ренессансной традицией, с которой
отчасти иронически, отчасти всерьез «меряется силами» современная Китсу поэзия
(стихотворение относится еще к «дошекспировской» эпохе Китса — традицию
олицетворяет Дж. Чосер, чьи образы угадываются в китсовском тексте, а эпиграф взят из
приписывавшейся Чосеру поэмы XTV в.). Ките не без лукавства спрашивает, не
приходится ли позднейшим стихотворцам обманывать себя: «Кто оседлал картонную
лошадку, / Тот полон был уверенности сладкой: / Под ним — Пегас»87 («And sway'd
about upon a rocking horse, / And thought it Pegasus»). Хэзлитт же в своем эссе
отметил не без едкости, что А. Поуп и С. Джонсон, как и их наследники, даже Вордсворт,
обращаясь к милтоновскому стиху, способны превратить «неудержимого» Пегаса
великого поэта в лошадку-качалку, а его поэзию — в «неуклюжую» прозу88.
Чтение Хэзлитта и посещение его лекций об английских поэтах в начале 1818 года
заставило Китса отойти от взглядов Ханта и Хейдона, ориентировавшихся в поэзии
на Вордсворта (отчасти — Шелли): Хэзлитт задал ему другие координаты. Можно
сказать, что Хэзлитт подспудно руководил китсовским чтением Шекспира89. Как и
Хэзлитт, Ките повторил «дрейф» от Милтона к Шекспиру (от одного
вызывающего «страх влияния» полюса английской романтической поэзии к другому).
Поначалу в восприятии Китса они были равноправны, если не однородны. Ранняя китсов-
ская поэма «Эндимион» (апрель—ноябрь 1817 г.) может считаться классической
«милтоновской» поэмой. Однако позже именно Шекспир стал способом
самоидентификации Китса — и в жизни, и в творчестве. «Я почти готов согласиться с Хэз-
литтом, что Шекспира нам довольно»90, — объявил Ките уже в мае 1817 года.
Отдельные фрагменты китсовских «теоретических» высказываний кажутся
заимствованными из хэзлиттовской эссеистики91. Так, например, в декабре 1817 года
86 Keats J. The Letters... Vol. I. P. 166.
87 Ките Дж. Стихотворения. «Ламия», «Изабелла», «Канун св. Агнессы» и др. стихи /
Под ред. Н.Я. Дьяконовой, Э.Л. Линецкой, С.Л. Сухарева. Л.: Наука, 1986. С. 55. Пер.
Г Усовой.
88 См.: Hazlüt W. Complete Works... Vol. IV. P. 40; Grayling A.C. Op. cit. P. 214.
89 Помимо Хэзлитта, «шекспиризму» Китса в немалой степени способствовали
(особенно поначалу) художественные опыты Б. Хейдона и актерская игра Э. Кина. См.: Bate J.
Op. cit. P. 157-174:
90 Keats J. The Letters... Vol. I. P. 124.
91 См.: Motion A. Keats. L.: Faber & Faber, 1997. P. 124-126.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»
511
в «Чэмпионе» («Champion») была опубликована китсовская статья о Кине («Об
Эдмунде Кине как шекспировском актере» («On Edmund Kean as a Shakespearean
Actor»)), где Ките писал:
В его голосе есть не поддающееся описанию напряжение (gusto. — А. 3),
благодаря которому мы чувствуем, что тот, кто произносит эти слова, думает о
прошлом и будущем, говоря о сиюминутном92.
Ките не просто употребляет хэзлиттовское понятие — он совсем по-хэзлиттовски
обращает внимание на чудо мгновенного восприятия драматического
(шекспировского!) творчества, благодаря которому можно пережить обычно не доступную
человеку полноту времени.
Философская доктрина молодого Хэзлитта о естественном бескорыстии (natural
disinterestedness) человеческого разума, представленная в работе «О принципах,
движущих поступками человека», произвела на Китса огромное впечатление (в
1818 г. он объявил о своем намерении «спросить Хэзлитта примерно через год о том,
какую метафизическую дорогу мне выбрать»93, а с упомянутой книгой не расставался
почти до самой смерти, до своего отъезда в Италию в 1820 г., куда отправился уже
без надежды на продолжение жизни в поэзии и просто — жизни).
Согласно Хэзлитту-философу получается, что нельзя действовать и как-либо
определять свое будущее, не входя в интересы других. Связано это с тем, что
человек так или иначе определяет свое бытие, исходя из представлений о прошлом
и будущем, где его «я» не может совпадать с тем «я», что наличествует в настоящем,
зато оно может оказаться в родстве с другим, чужим «я». В любом случае, чтобы
понять свои собственные грядущие потребности, человеку нужно научиться
понимать другого и действовать в соответствии с его интересами — так он с большей
вероятностью угадает будущего себя94. По Хэзлитту, во временной проекции
каждое человеческое существо — «сумма», сочетание других лиц, других
индивидуальностей. Отсюда и уже описанное категорическое неприятие Хэзлиттом
творческого эгоцентризма (противного всему ходу вещей и человеческой природе), отсюда
понимание, что постоянная метаморфоза для художника — настоятельная и
естественная необходимость. Как мы помним, на естественности творчества Хэзлитт
настаивал: произведения гения рождаются на свет «без всякого усилия,
бессознательно», так как гений — сродни общей творящей силе мироздания95 («О посмертной
славе» («On Posthumous Fame», 1814)). Ките твердо усвоил это представление о
«бескорыстии» и естественности рождения поэтического слова. В письме от 27
февраля 1818 года он обронил:
Если поэзия не является столь же естественной, как листья на дереве, то лучше,
если она не явится вовсе96.
92 Keats J. The Complete Poems/Ed. J. Barnard. L.; N.Y.: Penguin Books, 1977. P. 528
(Appendix 5).
93 Keats J. The Letters... Vol. I. P. 274.
94 См.: Hazlüt W. Complete Works... Vol. I. P. 1^9.
95 См.: Hazlüt W. The Selected Writings... Vol. П. P. 24.
96 Ките Дж. Указ. соч. С. 220. Пер. С. Сухарева.
512
Приложения
Еще важнее трагический оттенок, который в восприятии Китса приобрела «про-
теистическая» сущность художника: способность к творческому преображению во
все и вся Ките понимал как приобщение к всеобщему человеческому страданию,
очищающему душу и способствующему ее росту. Ключевое для китсовской
эстетики понятие «отрицательной способности» (negative capability) — возможность
творить, несмотря на вынужденное нравственное безразличие художника, — это
доведенная до логического завершения хэзлиттовская концепция рождения
собственного «я» из собственного отсутствия, из других «я». Правда, поэту было чуждо
этическое безразличие Хэзлитта: можно сказать, что Ките придал хэзлиттовской
эстетике нравственный уклон, так как готов был искупить свой вынужденный
художнический имморализм, — что следует из его поэзии и писем (участие к
человеческому страданию пронизывает знаменитые оды 1819 г.).
Вынужденная творческая самоотмена и манила, и пугала Китса. Вспомним его
знаменитое письмо Р. Вудхаусу от 27 октября 1818 года:
Что касается поэтической личности как таковой (под ней я разумею тип, к
которому принадлежу и сам, если вообще хоть что-то собой представляю, — тип,
отличный от вордсвортовского, величественно-эгоистического <...>), то
поэтической личности как таковой не существует: она не есть отдельное существо (it has
no self. — A. 3.) — она есть всякое существо и всякое вещество, все и ничто — у
нее нет ничего личностного; она наслаждается светом и тьмой — она живет
полной жизнью (букв.: it lives in gusto. — A.3.), равно принимая уродливое и
прекрасное, знатное и безродное, изобильное и скудное, низменное и возвышенное; она
с одинаковым удовольствием создает Яго и Имогену. То, что оскорбляет взор
добродетельного философа, восхищает поэта-хамелеона. Внимание к темной
стороне жизни причиняет не больше вреда, чем пристрастие к светлой: для поэта
и то, и другое — повод для размышления. Поэт — самое непоэтическое существо
на свете, ибо у него нет своего «я»: он постоянно заполняет собой разные
оболочки. Солнце, луна, море, мужчины и женщины, повинующиеся порывам души,
поэтичны и обладают неизменными свойствами — у поэта нет никаких, нет
своего «я» — и он, без сомнения, самое непоэтическое творение Господа. Поскольку
поэт лишен собственного «я» — а я могу таковым назваться, — удивительно ли,
если я вдруг скажу, что отныне не намерен больше писать? Разве не может быть
так, что в это самое мгновение я склонен размышлять о характерах Сатурна и
One? <...> Когда я бываю в обществе других людей и ум мой не занимают
порожденные им же фантазии, тогда «не-я» возвращается к «я», однако личность
каждого из присутствующих воздействует на меня так сильно, что в скором
времени я совершенно уничтожаюсь <...> быть может, сейчас я говорю все это не от
своего имени, а от имени того, в чьей душе теперь обитаю97
Хэзлитт отдавал приоритет разуму (т. е. «добродетельному философу»), считая,
что поэты идут приятным, но окольным путем по сравнению с исканиями
философского разума:
Ките Дж. Указ. соч. С. 242-243. Пер. С. Сухарева.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»
513
Разум должен предпринять многотрудный поиск истины — только тогда он
сможет предпочесть ее всему остальному; мы должны испытывать сильный восторг,
созерцая чистый свет истины, а не ее отражение в глазах восхищенного мира.
Философ умеет довольствоваться трезвым разумом, поэт не может не
опьяняться успехом у других («О многоликости поэзии»)98.
На вершине поэтической зрелости, в 1819 году, Ките мог смотреть на такие
утверждения только иронически; недаром в поэтическом фрагменте «Падение
Гипериона» (1819) он противопоставляет «поэта» и «философа» («мечтателя»,
визионера) далеко не в пользу последнего.
Говоря о поэтическом гении, шаг к пониманию которого — определение
«поэтической личности», Ките имеет в виду Шекспира и себя; характерно, что в
приведенном отрывке он упоминает две пары персонажей — шекспировских (Яго и Имоге-
ну) и собственных (Сатурн и One появляются во фрагменте «Гиперион» (1818)). Ките
фактически изображает «открытый» романтический универсум в его бесконечном
развитии, но с учетом одного существенного обстоятельства: поэтом утрачивается
индивидуальность. Такое законченное сознание собственного человеческого
отсутствия ставит под сомнение ценность поэтического слова: существует ли (и
существовало ли вообще) «я» поэта, если поэт может говорить все — и обо всем?
Неизбежным следствием такого человеческого небытия был бы отказ от поэзии; лишь
уничтожив себя как поэта, можно оправдать себя как человека. Китсу такой исход
кажется вполне естественным, однако завершает он письмо надеждой «достичь
вершин в поэзии». Что дает ему силы для такого, казалось бы, парадоксально
оптимистического финала? Вполне возможно, это была выучка, пройденная у
Хэзлитта, — пример литературного существования между чужих строк, в лабиринте чужих
цитат, воспринятых более чем лично, обретших новую жизнь в субъективном
контексте. Хэзлитт умел писать так, значит, сумеет и Ките... В письме дневникового
характера от 16 декабря 1818 года — 4 января 1819 года Ките приводит свое тогда
же написанное стихотворение «Мечта» («Fancy»), после чего помещает обширный
отрывок из хэзлиттовских «Лекций об английских авторах комедий» («Lectures on
English Comic Writers», 1819), посвященный роману Годвина «Сен-Леон» (1799).
Прервав цитирование, Ките снова возвращается к своим стихам, вставляя в письмо
«Оду» («Барды Страсти и Веселья...») («Ode, Bards of Passion and of Mirth», 1818). Что
объединяет эти произведения? Выделенная Китсом тема духовного одиночества,
опасного путешествия творческого разума, рвущего связи с почвой и реальностью, —
и твердая уверенность, что проза Хэзлитта и его, Китса, поэзия составляют одно
целое — и ощущение поддержки, которую «отрывисто-резкий стиль и пламенная
лаконичность» Хэзлитта оказывают поэту, не позволяя стихам иссякнуть". Конечно,
можно предположить, что чувства единения только с Хэзлиттом было бы
недостаточно, чтобы продолжать писать в отсутствие собственного «я», — но Хэзлитт сумел
предложить Китсу нечто большее: покровительство «могущественного умершего»,
98 Hazlitt W. The Selected Writings... Vol. П. Р. 150.
99 См.: Ките Дж. Указ. соч. С. 255-256, 111, 114. Пер. С. Сухарева, Г Кружкова. См.
также: Bromwich D. Op. cit. P. 365—367.
514
Приложения
самого Шекспира. Осознание причастности его слову было уже настоящим залогом
духовного выживания: Шекспир для Хэзлитта и Китса — тот Вергилий, который
помогал им освоиться с безличным процессом творения. В письме 1817 года Ките
сказал об этом прямо, обращаясь к Б. Хейдону:
Помню, ты говорил, у тебя есть ощущение, что тобой руководит добрый гений.
Недавно и мне пришла та же мысль. Ведь многое я совершаю почти случайно,
а потом, обдумывая сделанное, нахожу десятки доводов в пользу того, что
поступил верно. Не слишком большая дерзость воображать своим покровителем
(Présider. -А. 3) Шекспира?100
Выше говорилось, что Ките усвоил и усилил хэзлиттовский метод
«направленного» использования шекспировской (и не только шекспировской) речи в своей
собственной, иногда, вслед за Хэзлиттом, «подхватывая» ту или иную цитату.
Случается, они ведут ассоциативную игру параллельно. Мы уже видели Хэзлитта в
образе Калибана («О наслаждении живописью»). «Поэзия Калибана» была хорошо
знакома и Китсу, как сам он замечал в письме101. Слова тоскующего по неземной
красоте чудовища («Буря». Акт Ш, сц. 3, 147—148), перефразированные Хэзлиттом,
еще до написания указанного эссе были включены Китсом в более широкий
контекст. Поэт не только подчеркнул соответствующее место в своем экземпляре
шекспировских пьес, но и нашел ему аналогию у Милтона, написав на полях
«Потерянного Рая» (IX. 546—561): «Такого рода примеры предельны в своей
божественности у других поэтов», уточнив «Милтон божествен в небесной патетике» и
завершив маргиналию все тем же калибановским восклицанием о слезах после
пробуждения от волшебных снов102. Таким образом, в роли Калибана оказались не только
Хэзлитт и Ките, но и Милтон, и «другие поэты», и сам Шекспир — горестный опыт
бедного чудовища приобрел универсальность: всем дано с отчаянием
пробуждаться от грез искусства.
Иногда Хэзлитт был для Китса непосредственным проводником по Шекспиру
и другим поэтам, проводником, как бы указьюающим, где стоит искать те слова,
которые могут лечь в основу китсовского поэтического здания. Ките старался не
пропускать хэзлиттовских публикаций, и мимо его внимания, очевидно, не прошло
эссе, опубликованное в марте 1818 года в «Экзаминере» — «Что такое народ?»
(«What is the People?»), где Хэзлитт упрекал партию тори в желании «оставить
человечество во тьме» («that mankind may be led about darkling»), как Самсона, слепого
и обессилевшего103. Употребление устаревшего слова «darkling» в таком контексте
привлекает внимание, тем более что за ним следует упоминание о милтоновском
Самсоне. Милтоновский и одновременно шекспировский ореол слова вполне мог
произвести впечатление на Китса, которому хэзлиттовская находка пригодилась для
собственных целей.
Keats J. The Letters... Vol. I. P. 141-142.
См.: Ibid. P.-214.
См.: Keats J. The Complete Poems... P. 522.
См.: Hazlitt W. Complete Works... Vol. VU. P. 259.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»
515
В «Короле Лире» шут многозначительно замечает: «Out went the candle, and
we were left darkling» (акт I, сц. 4, 216; «Потухла свечка, вот мы и в потемках». Пер.
Б. Пастернака). У Милтона в «Потерянном Рае» во тьме поет бессонная птица:
«wakeful Bird/ Sings darkling, and in shadiest Covert hid/Tunes her nocturnal Note» (Ш. 38—
40; «Так птица в непроглядной тьме поет / Бессонная и, средь густых теней /
Укрытая, свою ночную трель / Выводит». Пер. Арк. Штейнберга). Ките использует слово
«darkling» в поэме «Канун святой Агнесы» («The Eve of St. Agnes», 1819), где «во
тьме» во временное и пространственное «никуда» убегают счастливые любовники:
«Down the wide stairs a darkling way they found» (XL. 355; «Летят впотьмах по
лестнице широкой». Пер. наш. — А. 3). Шестая строфакитсовской «Оды соловью» (1819)
начинается словами: «Darkling I listen» («Внимаю все смутней». Пер. И. Дьяконова;
«Вот здесь впотьмах». Пер. Г. Кружкова), причем существенно смещается милтонов-
ский акцент. Не соловей поет «во мраке», но поэт «во мраке» слушает его.
Рассмотренные в совокупности, эти связанные единственным примечательным словом
цитаты, возможно, говорят о пугающей «темноте» могущественной стихии поэзии,
граничащей в сознании Китса с небытием (неведомым), откликающимся на данный
Шекспиром, Милтоном — и Хэзлиттом — пароль.
После смерти Китса Хэзлитт удостоил его весьма сомнительных некрологов. В
очерке «Об изнеженности характера» (1822) критик упрекнул поэта в недостатке
мужественного начала104, повторив это почти слово в слово в составленной им
антологии «Избранные британские поэты» («Select British Poets», 1824)105. Лучше всего
Хэзлитт отозвался в 1821 году о «Кануне святой Агнесы», признав, что поэма
околдовала его сознание, хотя еще лучше было бы, если бы он прочел ее в молодости106.
Такие отзывы обескураживают — но лишь до тех пор, пока мы ищем «явный»
памятник Китсу. Между тем Хэзлитт почтил ушедшего поэта чем-то куда более
значительным, нежели неумеренные похвалы, которых от него так и не дождались: понять это
возможно, помня о хэзлиттовском «ассоциативном» письме.
Год смерти Китса — 1821-й (поэта не стало 23 февраля) — был отмечен и
кончиной главного кумира Хэзлитта — Наполеона (умер 5 мая). Эссе, открьшающее
второй том «Застольных бесед» — «Пейзаж Никола Пуссена», может быть расценено
как двойное надгробие, дань памяти обоих ушедших. Начинается оно с цитаты из
китсовской поэмы «Эндимион» («И Орион слепой, что жаждет утра». П. 198. Пер.
наш. —А. 3.), а заканчивается горестным восклицанием о ставшем «тенью»
Наполеоне, собравшем в Лувре те сокровища живописи, что когда-то поразили Хэзлитта.
Памятник этот — более надежен, чем, например, откровенное сожаление о
печальной участи Китса в эссе «О тех, кто живет своей жизнью» (1825), где Ките
удостаивается эпитета «червяком прокушенная почка» из «Ромео и Джульетты» (акт I,
сц. 1, 151—153), с которым Хэзлитт его сравнивает, несколько легковесно замечая
(как и Байрон), что причиной смерти поэта были журнальные нападки. Хэзлитт
увидел картину Пуссена «Пейзаж со слепым Орионом», известную по сделанным с нее
гравюрам, на ежегодной лондонской выставке старых мастеров в июне столь тра-
104 См. с. 283 наст. изд.
105 См.: Hazlitt W. Complete Works... Vol. IX. P. 244f.
106 См.: Ibid. Vol. ХП. P. 225.
516
Приложения
гического для писателя года. В Орионе, наказанном богом Аполлоном (по другой
версии — Дионисом) за дерзкую страсть (о чем Хэзлитт не упоминает) и отчаянно
ожидающем восхода солнца, а с ним исцеления, Хэзлитт видит
титаническое творческое начало, художнический и человеческий порыв, обреченный на
поражение, но не смиряющийся. Страсть и ожидание Ориона, приобретающие
вселенский размах, — это и дерзновение Наполеона, и свободолюбие самого Пуссена
(Хэзлитт упоминает в очерке изданную в 1820 г. биографию художника,
написанную М. Грэм, леди Кэлкот, где Пуссен представлялся борцом с тиранией), и
творческая свобода Китса, Милтона, Шекспира и даже Гомера в передаче Поупа. Всех
упомянутых поэтов Хэзлитт вдохновенно цитирует, видимо, стремясь воплотить
полноту художественной победы живописца, для которой слов одного только автора
недостаточно (всем известная слепота Гомера и Милтона дополнительно сближает
их в понимании Хэзлитта с пуссеновским персонажем). Не в последнюю очередь
пуссеновский Орион для Хэзлитта — это еще и автопортрет, причем
одновременно и трагический, и иронический: орионовское ожидание, запечатленное Китсом,
может быть понято как хэзлиттовская жажда творческой и политической свободы,
связанной для него с именем Наполеона. С другой стороны, неблаговидное деяние,
любовная дерзость, за которую Орион был наказан и о которой Хэзлитт предпочел
умолчать, позволила его журнальным оппонентам язвительно указать на этот
характерный промах: рецензент «Застольных бесед» из «Лондонского музея» в статье
от 13 июля 1822 года заметил, что зрение-то Орион потерял, посягая на честь богини
Дианы, и потому не прав Хэзлитт, утверждающий, что богиня «приветствует»
Ориона. Хэзлиттовские любовные дела были предметом публичного обсуждения, Вордс-
ворт сделал достоянием гласности обстоятельства «побега» Хэзлитта из Озерного
края в 1803 году, побега, якобы вызванного страхом перед наказанием за
неуместные любовные домогательства107 Орион Пуссена и велик, и бесконечно уязвим. Для
Хэзлитта так же героичен и так же уязвим (и даже жалок) любой человек,
причастный высотам духа, — и Ките, и Наполеон, и даже он сам.
Хэзлитт был неудачником в жизни: твердость его политических и
эстетических установок в сочетании с неуживчивым характером, застенчивостью и
дерзостью как ее оборотной стороной, а также его граничащая почти с безумием
откровенность, стремление показать и высказать себя до конца не могли не привести
к житейскому краху. Было в этом и немало от врожденного романтизма: Хэзлитт
не умел жить в жизни, слишком далекой от его идеалов (эстетических и
этических, социальных и политических), «дома» он был только в прошлом, он
испытывал потребность любить и быть любимым, но делал все, чтобы доказать себе и
другим, что в тусклом человеческом существовании любовь оборачивается
грязью и скукой. «Стремясь добиться успеха в жизни, мы упускаем из виду истинную
цель бытия!»108 — восклицает Хэзлитт в эссе «О прошлом и будущем». Как всякий
романтик, он был человеком цельным, но именно потому и раздвоенным: ни на
мгновение он не был готов забыть о трагическом различии явного и желаемого.
Хэзлитт был неудачником в искусстве, однако он был и проводником слова, а его
гениальный последователь — Ките — сделал больше, чем Хэзлитту мечталось.
107 См. подробный разбор эссе в изд.: Paulin T. Op. cit P. 205—228.
108 С 38 наст. изд.
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»
517
Памятуя об упреках, которые делал ему Л. Хант, с досадой указавший (в
апрельской переписке 1821 г.) на неумение Хэзлитта жить в обществе, обвиняемый
заметил не без язвительности в «Прощании с искусством эссе» («A Farewell to
Essay-Writing», 1828): «Ему представляется странным, что мысли у меня пригнаны хорошо, а
одежда — скверно» («Не finds it odd that I am a close reasoner and a loose dressen>)109.
Лежа в постели с одноногой гфоституткой и ожидая заранее оговоренного
прихода жены, которая должна была получить наглядное свидетельство его
неверности и тем самым — основания для развода (юридическая процедура требовала
достоверных улик)110, Хэзлитт мечтал о соединении со своей идеальной возлюбленной,
которая в это время привечала других постояльцев лондонского семейного
пансиона. Он со смехом описывал этот гротескный эпизод друзьям, нимало не заботясь
о своей репутации, — и в подобной кажущейся беззаботности одинаково
сказывались и безразличие к прозаической действительности, в которой всегда найдется
место грязи и убожеству, и вера в силу человеческого духа и чувства, способных
всем этим пренебречь, и, наконец, врожденная писательская склонность
«выболтать» все, до конца доверить себя бумаге.
Неизвестно, насколько внимательным читателем китсовской поэзии был Хэзлитт,
но, похоже, он прошел мимо поразительного провидения его собственной судьбы,
которое можно усмотреть в китсовской поэме «Ламия» («Lamia», 1818-1819). Она
повествует о трагической любви юноши Ликия, о котором сказано, что «His phantasy
was lost, where reason fades, / In the calm'd twilight of Platonic shades» («...в мечтаньях
ввысь унесся он, где тени / Вкушают мир Платоновых селений». Пер. С. Сухарева).
Романтик Ликий, живущий грезами, влюбляется в женщину-оборотня Ламию, в
чьих силах открыть слуху возлюбленного божественную музыку, недоступную
смертным. Когда же наваждение рассеивается и Ламия оказывается змеей, Ликий
погибает111. Трудно не спроецировать китсовскую поэму на печальную историю
Хэзлитта, к общему недоумению всех его знакомых подпавшего под чары Сары
Уокер, дочери хозяев пансиона, где он жил. Непостижимым образом вопреки
очевидности Хэзлитт долгое время видел в заурядной девице с развязными манерами
ангела — разочарование же обернулось для него катастрофой. Дело не только в
ироническом совпадении реальности с поэмой (Хэзлитт изложил историю своего
печального романа в «Книге любви, или Новом Пигмалионе» («liber Amoris; Or, The
New Pygmalion», 1823), где говорил о «ядовитой змеиной» сущности своей «чаров-
ницы»-Сары112, так, похоже, и не вспомнив о творении уже умершего Китса).
Важнее романтический тип мышления, определивший (возможно, против его воли)
жизненную философию Хэзлитта и явившийся причиной его житейского
поражения. На бумаге (пусть и не в случае «Книги любви») обыкновенно было иначе, что
засвидетельствовал Ките, написав о хэзлиттовском стиле:
109 С. 463 наст. изд.
110 См.: Grayling A.C. Op. cit. P. 273.
111 Сюжет «Ламии» взят Китсом из трактата Р. Бёртона «Анатомия меланхолии»
(1621); история Ликия (ликийца) Мениппа — пересказ эпизода из «Жизни Аполлония Тиан-
ского» Флавия Филострата (IV 25).
112 См.: Hazlitt W. Complete Works... Vol. IX. P. 103, 153.
518
Приложения
Как это только все изложено: какая мощь, какая внутренняя сила, лезет, как на
дрожжах <...> есть в этом что-то от гениальности... У него есть свой демон <...>113.
Заплатив дорогую цену, Хэзлитт укротил своего демона и поставил его на
службу словесности, коренным образом повлияв на историю британской критики, эссе-
истики и эстетической теории, внятно очертив границы романтического
миропонимания, наконец, как было показано, дав повод говорить о себе как о писателе,
предвидевшем дальнейший ход развития литературы, «вышагнувшем» за пределы
своего времени.
113 Keats J. The Letters... Vol. П. Р. 76. Приведен отзыв Китса о «Письме Уильяму Гиф-
форду».
АЛ. Липинская
Композиционные особенности
очерка У Хэзлитта «О путешествиях»
Часто считают, что романтический очерк — это просто непринужденное
рассуждение (или его имитация). Но на практике встречаются и весьма изощренные по
композиции тексты, способные даже современного читателя удивить
нетривиальными ходами и элементами игры. Таков очерк Хэзлитта «О путешествиях».
В нем отчетливо выделяются два основных уровня организации. Первый —
тематический (о чем идет речь и в какой последовательности затрагиваются
темы), второй — и едва ли не более существенный — словесный («сетка» из слов,
наложенная на предмет обсуждения). Путешествия (то есть та самая тема)
оказываются лишь мнимым ядром высказывания; все основное Хэзлитт сообщает на
втором уровне.
Уже в выборе темы автор немного лукавит. Конечно же, от путешествий как
таковых он очень быстро отходит и тонко подменяет заявленную тему
рассуждениями об одиночестве, воображении и психологии восприятия (а путешествия
оказываются лишь примером, ситуацией, в которой удобно рассмотреть целый
круг вопросов). Читателю словно бросают приманку — предложение поговорить
о вещах понятных и близких кому угодно, а стало быть, довольно простых. Но его
ожидает сюрприз: предмет разговора неуловимо смещается, а язык описания
чрезвычайно усложняется. Ни при каких условиях этот поток парадоксов,
синтаксических параллелизмов, цитат, ритмизованных пассажей нельзя выдать за
непринужденную разговорную речь, то есть, по крайней мере, за речь необработанную.
Между тем Хэзлитт ясно представлял себе — и описал — природу такого стиля в
очерке «О простоте слога». Он и вправду не предлагает читателю напыщенную
риторику или набор штампов, но зато разнообразных словесных ловушек не
счесть. Вот почти что самое начало очерка «О путешествиях»:
В четырех стенах общество доставляет мне удовольствие; на открытом воздухе
с меня довольно того, что со мной природа. Там, оставаясь один, я менее
всего одинок.
Природы книга перед ним открыта.
520
Приложения
Я не нахожу смысла в беседах на ходу (с. 203 наст. изд.).
И вдруг буквально через несколько строк автор заявляет:
Каламбуры, аллитерации, антитезы, доказательства и разборы — никто не
любит их так, как я, но порою они мне кажутся лишними (с. 204 наст. изд.).
Информация тут же дублируется цитатой из Томаса Грея: «Ах, оставьте,
оставьте меня в покое!» То есть автор заявляет, что вполне обошелся бы без всяких
хитросплетений, мог бы все сказать простыми словами — и тут же подбрасывает нам
цитату, кстати, одну из наиболее часто им используемых: он явно хочет, чтобы
читатель заметил и оценил ее. Хэзлитт заявляет, что обошелся бы без аллитераций —
но именно на них строится все его заявление! И так продолжается до самого конца
очерка. Это, пожалуй, первый столь явно обманный ход. Он обеспечивает
несколько ироническое восприятие всего текста (и сделано это явно сознательно; Хэзлитту
вообще претила напыщенная серьезность). Автор открыто намекает, что в
дальнейшем предметом основного интереса должны стать именно хитросплетения
человеческого сознания и речи, а вовсе не привычка путешествовать в одиночестве, не
ведая никаких сложных эмоций.
Полный анализ очерка обещает быть долгим, поэтому представляется разумным
просто охарактеризовать некоторые наиболее интересные приемы и привести
примеры.
Прежде всего, Хэзлитт помещает практически любое явление в литературный
контекст, причем с помощью весьма нехитрых приемов, заставляя читателя
отказаться от непосредственного восприятия предложенных рассуждений, образуя
зазор между мнимой и подлинной темой разговора. Сделано все действительно
просто: то нам сообщается, что сделал бы в такой-то ситуации Санчо, то
припоминаются Стерн и его персонажи; кстати, набор источников определен их оценкой — это
любимые Хэзлиттом классические книги, где так или иначе затрагиваются темы
пути и (или) парадоксов сознания. Но дело не ограничивается прямыми
упоминаниями и цитатами, можно заметить, что источники бросают отсвет на весь очерк.
В частности, Хэзлитт приводит пространный фрагмент из «Верной пастушки» Флет-
чера, скромно замечая, что не в состоянии породить подобные слова и образы, и на
всех последующих страницах... мягко и ненавязчиво вносит в собственные
рассуждения элементы тонкой стилизации. И читатель вынужден постепенно привыкать
к мысли, что традиционные противопоставления простого и сложного, природы и
культуры, жизни и книги, вещи и слова размываются, становятся мнимыми.
Вот, к примеру, автор рассказывает, как однажды в гостинице читал «Новую
Элоизу», попивая херес и закусывая курятиной. Вот они, радости
путешественника! Еда и книги попадают в один понятийный ряд, иерархического деления на
высокое и низкое нет и в помине. Подобные ходы — не новость для Хэзлитта: в
другом очерке («О тех, кто живет своей жизнью») он сообщает, что садится за работу,
а в это время для него готовят вкусный ужин. Романтическая ирония, широко
представленная в других очерках лондонской школы, проявляется в литературности, ци-
татности. Любое явление пропускается сквозь призму различных способов рассказа
о нем. В самом начале очерка Хэзлитт намекает:
A.A. Липинская. Композиционные особенности очерка У Хэзлитта... 521
Нельзя читать книгу природы, не беря на себя вечный труд истолковать ее на
пользу окружающим (с. 205 наст. изд.).
Это очень важная фраза, одна из ключевых. Мир — книга, и это дает право
рассматривать любое путешествие как процесс чтения и толкования. Вот только
необходимость переводить прочитанное явно не прельщает автора. Он то и дело
напоминает, как трудно делиться путевыми впечатлениями — а все потому, что
каждый воспринимает увиденное по-разному (например, бесполезно втолковывать
близорукому мысль о необходимости приглядеться к объектам, расположенным
вдалеке). Самому можно все понять и оценить без перевода (именно поэтому Хэз-
литт пытается отмахнуться от сложных повествовательных приемов). И в то же
время ясно, что не может быть и речи о действительно непосредственном
восприятии природы, поскольку воспринимающее сознание уже загружено книжной
ученостью, разного рода готовыми моделями. Ситуация парадоксальна, и Хэзлитт
находит весьма адекватный способ ее описания: он толкует не о природе и
путешествиях, а о восприятии, о мышлении, обмене информацией и часто вместо рассуждений
на заданную тему просто показывает читателю на конкретных примерах, как это
все работает. Присутствующему в очерке образу рассказчика присущи все эти
черты — влюбленность в слово, в игру словами, сочетание тяги к непосредственному
восприятию и непобедимой склонности к восприятию опосредованному. Вот еще
примеры.
И разве не забьется мое сердце от радости при виде маргаритки в изумрудном
платьице? (С. 204 наст, изд.)
Автор хочет сказать, что маргаритка прекрасна сама по себе, что ее красоту
можно воспринять сердцем без посредства слов — и тут же строит метафору,
сопрягающую образы природы и культуры, живого и неживого.
О, как дивно <...> держать связь с мирозданием только посредством блюда с
жареными потрошками <...> (с. 207 наст. изд.).
Это как раз в сцене чтения романа. Речь идет о том, как приятно побыть
одному, не зависеть ни от чьего мнения, не быть рабом предрассудков. Но образ
(кстати, вполне мотивированный ситуацией чтения за едой) намеренно комичен, разбег
между вселенной и тарелкой мяса выглядит совершенно гротескно. Так Хэзлитт
одновременно вводит романтическую тему одиночества и весело шутит над ней,
снимая привычный пафос. Прямо по известной поговорке: словечка в простоте не
скажет.
И вот еще: в очередной гостинице рассказчик увидел на стене гравюру — и что
она ему напомнила? Девушку, которую он случайно встретил в пути (именно
случайно встретил на переправе, только и всего). Искусство перекликается с жизнью,
образы из разных пластов реальности могут свободно соседствовать в сознании.
На протяжении нескольких страниц мы наблюдаем повествователя,
воспринимающего мир сквозь призму читательского опыта, словесных построений. И вдруг
встречаем еще одного персонажа, словно призванного оттенить авторскую мысль.
522
Приложения
Это Колридж, знаменитый поэт, друг Хэзлитта. Он, как здесь говорится, отлично
умеет (в отличие от самого Хэзлитта) гулять в компании и по ходу дела отливать
свои впечатления в стихотворения различных жанров. Понятно, что все это
сказано х иронией, причем касается она в первую очередь склонности поэта мыслить
готовыми формами и легко переходить от мышления к речи (а то и прямо от
зрительных впечатлений к речи, как может показаться). Не вдаваясь в подробности
непростых отношений Хэзлитта со старшим собратом по перу, скажем: для него
самого очень важна именно стадия обработки впечатлений в сознании, после чего
вербализация уже не так существенна.
Очерк, о котором мы сейчас говорим, несколько выделяется на фоне творчества
автора, но сама по себе тема не нова для английской традиции. Лондонских
эссеистов вообще интересовали причуды человеческой психологии. А именно такой угол
зрения на проблему сознания коренится, вероятно, в прекрасно знакомых Хэзлит-
ту трудах английских философов-субъективистов, много сделавших в области
изучения бытия и сознания, ассоциативного сопряжения идей, субъективного
восприятия реальности.
Хэзлитту интересен именно механизм человеческого мышления и речи, и он
предлагает читателю для рассмотрения своего рода действующую модель: человек
с богатым воображением и развитым языковым чутьем размышляет на
предложенную тему. Парадоксы и ложные ходы не только являются в данном случае
предметами изучения, но и позволяют автору создать некий зазор между собой и этой
моделью. Читатель привык к искренним, исповедальным интонациям
романтических эссеистов, а тут с ним затевают изощренную игру. Сама по себе мысль о
сочетании у романтиков патетики и иронии, лирики и игры не удивляет, но подобное
искусное построение, обладающее признаками метатекста, свидетельствует об
осознанной двойственности писательского стиля Хэзлитта.
Данный анализ не претендует на широкие обобщения, но, вероятно, поможет
интересующимся обратить внимание на некоторые особенности явления, казалось
бы, уже достаточно хорошо известного, и продемонстрировать его актуальность для
современного читателя.
ПРИМЕЧАНИЯ
Застольные беседы
Первый том сборника (очерки I—XVI) был напечатан 6 апреля 1821 года, второй
(очерки XVII—XXXIII) — 15 июня 1822 года. Второе издание обоих томов вышло
в свет 30 мая 1824 года. Некоторые очерки были отобраны Хэзлиттом для
парижского издания «Застольных бесед» 1825 года (это отражено в примечаниях к
соответствующим очеркам). Третье издание было осуществлено сыном писателя в
1845 году, с добавлением еще двух очерков: «О путешествиях за границу» (ранее не
публиковался) и «О духе противоречия» (прежде печатался в «Еженедельном
Лондонском обозрении»). В таком же виде вышло и четвертое издание. В 1869 году
сборник был опубликован вновь, под редакцией У.-К. Хэзлитта, внука писателя.
На русский язык полный текст «Застольных бесед» переводится впервые.
Настоящий перевод осуществлен по современному научному изданию. См.:
Hazlitt W. Table Talk // The Selected Writings of WiUiam HazUtt: In 9 vol. / Ed. D. Wu,
introd. by T. Paulin. L.; Brookfield (VT): Pickering & Chatto, 1998. Vol. 6. P. 3-346.
При подготовке примечаний мы также обращались к этому изданию, в т. ч. к
остальным томам указанного 9-томного собрания сочинений.
I
О НАСЛАЖДЕНИИ ЖИВОПИСЬЮ
ON THE PLEASURE OF PAINTING
Впервые эссе опубликовано в декабрьском номере «Лондонского журнала» за 1820
год (подписано «Т.»). Впоследствии было включено Хэзлиттом в парижское издание
«Застольных бесед» (1825), когда, собственно, и оказалось разделено на две части.
1 «Есть в живописи наслаждение, доступное только самим художникам». —
Парафраз строк из поэмы У Купера «Задача»: «Есть в поэтических муках
наслаждение, доступное только самим поэтам» (II. 285—286).
2 Ни «дрязг»... — Аллюзия на реплику Терсита из «Троила и Крессиды»
Шекспира: «Батюшки! Сколько дрязг! Сколько безобразия! Сколько мерзостей!» (акт П,
сц. 3, 71-72. Пер. Т. Гнедич).
524
Примечания
3 ...срадостью вкусить / Ее манеру, стиль познать с восторгам». — Несколько
измененная цитата из поэмы У. Купера «Задача»: «Ум <...> с радостью распознает/
Его [Бога. — Примеч. ред.] манеру и вкушает стиль с восторгом» (Ш. 227—228).
4 ...«выслушанный дважды, в унылый сон вгоняющий рассказ». — Шекспир У.
Король Иоанн. Акт.Ш, сц. 4, 108. Пер. Н. Рыковой.
5 «Мой ум — вот царствие мое\» — Начальная строка известного стихотворения,
напечатанного в 1585 г. в книге «Псалмы, сонеты и песни печали и благочестия»;
одно время произведение приписывалось поэту сэру Эдварду Дайеру (1543—1607);
позже эта гипотеза была опровергнута.
6 ...«воздвигнуть трон или министерское кресло, дабы править умами людей». —
Аллюзия на трактат Ф. Бэкона «О достоинстве и преумножении наук» (1605). Ср. в
пер. H.A. Федорова: «Ведь на земле, конечно, нет никакой иной силы, кроме науки
и знания, которая бы могла утвердить свою верховную власть над духом и душами
людей, над их мыслями и представлениями, над их волей и верой» (I. УШ. 3).
7 ...«нетронутыми в уголках души»... — Драйден Дж. Сатиры Авла Персия Флак-
ка. П. 133.
8 ...«и чувством осязаемы, и зреньем». — Аллюзия на строку из шекспировского
«Отелло»: «Что так и было — осязает мысль» (акт I, сц. 2, 76. Пер. МЛ. Лозинского).
9 «Шерстистые тупицы» — образ из первой главы книги эссеиста и критика
Чарлза Лэма «Приключения Одиссея» (1808), написанной для детей.
10 Кто бы вообразил саму возможность рождения на свет этого дива через
посредство рубенсовской кисти! — Хэзлитт описывает один из двух пейзажей Рубенса,
имеющих одинаковое название — «Пейзаж с радугой». Первый был написан около 1632—
1635 гг. и хранится в Эрмитаже (Санкт-Петербург), второй — в 1636 г. и хранится
в коллекции Уолласов (Лондон).
11 ...«тускнел свет»... — Фрагмент шекспировской цитаты: «Тускнеет свет, и
ворон в лес туманный/Летит...» [Шекспир У. Макбет. Акт Ш, сц. 2, 50. Пер. Ю.Б. Кор-
неева).
12 ...то чудесное лето... — Имеется в виду лето 1809 г., проведенное Хэзлиттом в
Уинтерслоу. Отъезд туда писателя был отчасти вызван болезнью маленького сьша
(ребенок родился 15 января 1809 г., а 5 июля того же года умер).
13 Портрет старухи. — Находится ныне в музее Мэйдстона (графство Кент),
родного города Хэзлитта. Автор утверждал, что встретил женщину, которая ему
позировала, в 1803 г. в окрестностях Манчестера.
14 ...искусство вечно... — Часть приписываемого греческому врачу Гиппократу
афоризма: «Искусство вечно, жизнь коротка, случайность мимолетна, опыт чреват
опасностями, суждение затруднено» [Гиппократ. Афоризмы. 1.1).
15 Берли-хаус. — Имеется в виду расположенное в графстве Линкольншир
поместье баронов Берли, потомков Уильяма Сесила, первого барона Берли,
знаменитого советника королевы Елизаветы I, который и положил начало художественным
коллекциям.
16 Я не соглашался... с сэром Джошуа... что высшее искусство заключается в
передаче общего внешнего образа, без индивидуальных примет... — См. в наст. изд. второй очерк
«О некоторых противоречиях в "Лекциях" сэра Джошуа Рейнолдса» («В
продолжение начатого разговора»).
17 Раньше он видел ее «как бы сквозь тусклое стекло, а теперь лицом к лицу». — Па-
I. О наслаждении живописью
525
рафраз слов св. апостола Павла: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло,
гадательно, тогда же лицем к лицу» (1 Кор. 13: 12).
18 ...«проникает в суть вещей»... — Вордсворт У. Строки, написанные на
расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства. 50. Ср. в пер. В. Рогова: «А
взором, успокоенным по воле / Гармонии и радости глубокой, / Проникнем в суть
вещей...»
19 ...«пелену, привычную для богословов глоссу»... — Цитата из «Потерянного Рая»
Дж. Милтона; там речь идет об Ангеле, вкушающем плоды в гостях у Адама и
Евы. Ср. в пер. Арк. Штейнберга: «Не для отвода глаз, как богословы / Иные
судят!» (V 435—436). Глосса — толкование непонятного слова или выражения,
помещенное на полях или над строкой старинной рукописи (обычно Библии или
свода законов).
20 ...рассказ о Микеланджело... — См.: Вазари Дж. Жизнеописание Микеландже-
ло Буонаротти // Дж. Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев,
ваятелей и зодчих: В 5 т. М.: Искусство, 1971. Т. 5. С. 233. Дж. Ричардсон
воспроизводит историю в своих «Очерках» (см.: Richardson J. The Essays. L., 1773. P. 297—
298).
21 «Воскликнуть мог бы: "'Мыслил этот холст\"» — Аллюзия на строки из поэмы
«Странствия души: Вторая годовщина» Дж. Донна (ст. 245—246); в первоисточнике
речь идет не о холсте, а о женском теле.
22 Бэнстед-Даунс — местность в графстве Суррей, к югу от Лондона; популярное
место для прогулок; название обусловлено известковыми холмами (англ. the Downs).
23 ...«источнику» наслаждения и благоденствия». — Дж. Норткот в
«Воспоминаниях о сэре Джошуа Рейнолдсе» цитирует следующее высказывание художника:
«Мне посчастливилось на протяжении тридцати лет кряду пребывать в добром
здравии и пользоваться успехом, поэтому, какие бы беды ни омрачили остаток моей
жизни, у меня нет права жаловаться» (цит. по: Northcote J. Memoirs of Sir Joshua
Reynolds, Knt L., 1813. P. 370). Приведенная чуть выше в том же абзаце фраза о том,
что весь свой моцион сэр Джошуа совершал у себя в мастерской, также взята Хэз-
литтом у Норткота.
24 ...портрет отца... — Создан около 1804 г., по другим данным — в 1802 г. Ныне
находится в музее г. Мэйдстона.
25 ...«Характеристики» Шефтсбери... с гравюрами Грибелина. — Гравюры работы
Саймона Грибелина помещены во втором издании «Характеристик» Э.
Шефтсбери, вышедшем в 1714 г.; воспроизводились и в последующих переизданиях.
26 ...«богатства без числа». — Шекспир У. Отелло. Акт Ш, сц. 3, 173. В русских
переводах точный эквивалент этого фрагмента отсутствует.
27 ...«что на исходе зимних бурь вещает»... — Шекспир У. Король Генрих IV. Ч. 2.
Акт IV, сц. 4, 92. Пер. Е. Бируковой.
28 «Я тоже художник}.» — По преданию, источник которого неизвестен, это
восклицание («Anch'io son pittore») вырвалось у Корреджо при виде картины Рафаэля
«Святая Цецилия» («Сикстинская мадонна») и вошло в поговорку как проявление
уверенности художника в своем мастерстве.
29 Праздные фантазии, ребяческое тщеславие... — В оригинале — цитата из
английского перевода «Разбойников» Ф. Шиллера (акт Ш, сц. 2). Ср. в пер. Н. Ман:
«Ребяческая мысль!»
526
Примечания
30 Битва при Аустерлице. — Др. назв. — «битва трех императоров». Произошла
2 декабря 1805 г. близ селения Аустерлиц в Моравии (ныне г. Славков в Чехии)
и стала одной из величайших побед императора Наполеона I. В ходе сражения
французские войска численностью 68 тыс. человек под командованием
Наполеона разгромили объединенные русско-австрийские силы (90 тыс.).
31 Платонический год. — О нем говорится в платоновском диалоге «Тимей»,
посвященном космогонической тематике:
Таким образом и по таким причинам возникли ночь и день, этот круговорот
единого и наиразумнейшего обращения; месяц же — это когда Луна совершает
свой оборот и нагоняет Солнце, а год — когда Солнце обходит свой круг. Что
касается круговоротов прочих светил, то люди, за исключением немногих, не
замечают их, не дают им имен и не измеряют их взаимных числовых
отношений, так что, можно сказать, они и не догадываются, что эти необозримо
многочисленные и несказанно многообразные блуждания также суть время.
Однако же возможно усмотреть, что полное число времени полного года завершается
тогда, когда все восемь кругов, различных по скорости, одновременно придут к
своей исходной точке, соотносясь с мерой единообразно бегущего круга
тождественного. Вот как и ради чего рождены все звезды, которые блуждают по небу
и снова возвращаются на свои пути, дабы [космос] как можно более
уподобился совершенному и умопостигаемому живому существу, подражая его вечносу-
щей природе [Платон. Тимей. 39Ь—е. Пер. С.С. Аверинцева).
32 ...часовня, где произносил проповеди мой отец... — Эта часовня сохранилась, но в
настоящее время служит гаражом гостиницы «Белая лошадь». Сам дом священника
(на Нобл-стрит в Уэме) теперь называют Домом Хэзлитта.
33 ...сам он почил вечным сном... — Отец писателя скончался 16 июля 1820 г. в
Кредитоне близ Эксетера в возрасте 84 лет. Хэзлитту предложили написать
некролог, но он отказался и создал этот очерк.
II
О НАСЛАЖДЕНИИ ЖИВОПИСЬЮ
Окончание
ON THE PLEASURE OF PAINTING
The same subject continued
...«Лоррен холста касался кистью нежно, / Буянил Роза иль Пуссен вникал
прилежно». — Двустишие из аллегорической поэмы шотландского поэта Дж. Томсона (1700—
1748) «Замок Праздности» (I. 38).
2 Поместье лорда Рэднора — замок Лонгфорд (графство Уилтшир); он и
некоторые другие из перечисленных поместий подробно описаны Хэзлиттом в
«Зарисовках об основных картинных галереях Англии» (1824).
3 Уилтон-хаус — поместье семейства графов Пембруков в графстве Уилтшир.
4 Бленхейм — выполненный в стиле барокко дворец в графстве Оксфордшир,
подаренный английским парламентом Джону Черчиллю, первому repupiy
Мальборо, в честь одержанной им в 1704 г., в ходе войны за испанское наследство
(1701—1714 гг.), победы над объединенными франко-баварскими силами в сраже-
П. О наслаждении живописью. Окончание
527
нии при Бленхейме. В этом поместье родился британский премьер-министр сэр
Уинстон Черчилль.
5 Ноусли — поместье в графстве Ланкашир, фамильное гнездо графов Дерби.
6 Берли. — См. примеч. 15 к первой части очерка «О наслаждении живописью».
7 ...«что прячется в зарослях по грудь»... — Мгитон Дж. L'Allégro. 78. Ср. в пер.
Ю.Б. Корнеева: «И над зеленью дубров / Кромка башенных зубцов».
8 Орлеанская галерея — выставка работ старых итальянских мастеров из
собрания герцога Орлеанского, размещавшаяся в 1798—1799 гг. в доме на лондонской
улице Пэлл-Мэлл.
9 ...«десницу, что державный жезл сжимала»... — Грей Т. Элегия, написанная на
сельском кладбище. 47. Ср. в пер. С. Черфаса: «Кто всей державой властвовать бы
мог...»
10 «Нависшую скалу ~ Так воздух нам обманывает зренье». — Шекспир У.
Антоний и Клеопатра. Акт IV, сц. 14, 5—7. Пер. Mux. Донского.
11 ...«много и шума и страстей, но смысла нет»... — Шекспир У. Макбет. Акт V,
сц. 5, 28. Пер. М.Л. Лозинского.
12 «Раздраженный супруг». — Имеется в виду неоконченная комедия Дж. Ван-
бру «Поездка в Лондон», завершеннная К. Сиббером и впервые поставленная в
1728 г.
13 Я... учеником посещал Лувр... — Это произошло в 1802 г., когда впервые за
десять лет Амьенский мирный договор, заключенный 27 марта 1802 г. между
Великобританией, Францией, Испанией и Батавской республикой (Нидерландами),
позволил англичанам безопасно путешествовать по континенту. Во время
поездки во Францию Хэзлитту довелось увидеть Наполеона.
14 Друг. — Возможно, пейзажист Роберт Фриберн (1765—1808).
15 Портрет возлюбленной за туалетом. — Речь идет о портрете Альфонсо I д'Эс-
те, герцога Феррарского, и его возлюбленной Лауры Дианти.
16 «Молодой аристократ с перчаткой». — Выполненная Хэзлиттом копия этой
картины хранится в музее г. Мэйдстона.
17 ...un beau jour... — Это выражение употребляется в ироническом смысле у Э. Бёр-
ка в «Размышлениях о революции во Франции» (1790); он вспоминает о некоторых
депутатах французского Национального собрания, назвавших прекрасным днем
(un beau jour) тот, когда, по выражению Бёрка, «казалось, будто с небес
убрали солнце».
18 ...гореть тебе в аду\»... — Аллюзия на шекспировскую комедию «Как вам
это понравится» (акт III, сц. 2, 35). Ср. в пер. В. Левика: «Если ты и за это не
попадешь в ад...
19 Мраморы Элгина — знаменитые скульптуры и рельефы, украшавшие
афинский Акрополь; ныне хранятся в Британском музее, и споры по поводу
законности их вывоза в начале XIX в. британским дипломатом и коллекционером лордом
Элгином, посланником Англии в Турции, не прекращаются. Хэзлитт написал
очерк об одном из этих скульптурных изображений, опубликованный в
«Лондонском журнале» в феврале 1822 г. (см.: Hazlitt W. On the Elgin Marbles: The Dissus //
The Selected Writings... Vol. 9. P. 75-94).
20 ...эскизы и наброски, с которыми принужден был расстаться... — В 1819 г. из-
за финансовых затруднений Хэзлитт продал копии, выполненные им в Лувре. Ку-
528
Примечания
пивший их художник Хейдон в 1823 г. обанкротился, и зарисовки вернулись к
Хэзлитту.
21 ...«твердый металл». — Аллюзия на комедию Дж. Фаркара (ок. 1677—1707)
«Офицер-вербовщик» (акт ГУ, сц. 3).
22 ...«рати без числа»... — Милтон Дж. Возвращенный Рай. III. 310. Пер. С.
Александровского.
23 ...«безлюбой, безотрадной I Усладе мимолетной». — Милтон Дж. Потерянный
Рай. IV. 766-767. Пер. Арк. Штейнберга.
24 Знание... дает силу... — В оригинале приведено знаменитое изречение Ф.
Бэкона «Знание — сила» из его эссе «О ересях» (цикл «Размышления о религии»,
1597). Возможно, в основе афоризма Бэкона лежит парафраз библейского стиха
«Человек мудрый силен» (Притч. 24: 5).
25 ...один мой друг... — Имеется в виду Хейдон, картина которого «Въезд
Христа в Иерусалим» была выставлена в марте 1820 г. В изображенной на полотне
толпе можно разглядеть лица Хэзлитта, Лэма и Вордсворта.
26 ...два римских первосвященника, занимавшие при его жизни престол святого
Петра... — Речь идет о Папах Римских Юлии II (1503—1513 гг.) и Льве X (1513—
1521 гг.), покровителях многих знаменитых художников и литераторов
итальянского Возрождения.
27 ...по лестнице Иакова, стоявшей на зелые, а верхом касавшейся неба. —
Библейская аллюзия. См.: Быт. 28: 12.
28 ...Вазари высказывается... вполне определенно... — См.: Вазари Дж.
Жизнеописание Франческо Маццуоли, живописца из Пармы // Дж. Вазари. Жизнеописания
наиболее знаменитых... 1971. Т. 3. С. 514. Упомянутая картина «Лукреция»
идентифицируется с одноименным полотном 1540 г., хранящимся ныне в
Национальной галерее в Неаполе.
29 ...известность художника... не перешагнула пределов родного ему графства. — Гэн-
ди происходил из Девоншира.
30 Портрет олдермена из Эксетера. — Возможно, имеется в виду вызвавший
хвалебный отзыв сэра Годфри Кнеллера портрет преподобного Томаса Лэнгдона.
31 ...«глотающих вести от портного»... — Шекспир У. «Король Иоанн». Акт IV,
сц. 2, 195. Ср. в пер. Н. Рыковой: «Глотает он, разинув рот, слова /
Приятеля-портного».
32 ...об«ублюдках своего гения, а не о своих детях»... — Аллюзия на «Комос» Дж. Мил-
тона (ст. 726). Ср. в пер. Ю.Б. Корнеева: «Ублюдки, а не сыновья природы».
III
О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ
ON THE PAST AND FUTURE
Включено Хэзлиттом в парижское издание «Застольных бесед» (1825).
1 Стерн описывает... как французский сановник в ответ на его заявление, будто
едва ли не единственный недостаток французов — их излишняя серьезность, заметил,
что... весь мир окажется против. — См.: Стерн Л. Сентиментальное путешествие
по Франции и Италии. Гл. «Характер. Версаль».
III. О прошлом и будущем
529
2 «Те радости судьбе уж неподвластны». — Роу Н. Прекрасная кающаяся
грешница. Акт IV, сц. 1 (предсмертная речь Лотарио). Драматург Николас Роу (1674—1718)
известен первой попыткой научного издания Шекспира.
3 «Той, что вовек из сердца не избыть». — Аллюзия на «Потерянный Рай» Дж. Мил-
тона (IX. 912—913). Ср. в пер. Арк. Штейнберга: ...Еву потерять — / Равно что
самого себя утратить».
4 ...«солнцу дальнему и небесам»... — Уортон Т. Сонет к реке Лодон. 9.
5 «Что некогда лучилось и сверкало ~ Исчезло, как ушедших дней дыханье». — Вордс-
ворт У. Ода. 178-181.
6 ...«готов ее хотя бы слабый отсвет созерцать, моленья ей воссылать издалека»? —
Милтон Дж. Потерянный Рай (XI. 329; 332—333). Ср. в пер. Арк. Штейнберга: «...я,
утешенный, готов / Хотя бы слабый отсвет созерцать / Господней славы и к Его
стопам / Моленья воссылать издалека!»
7 «А позади растаял свет — / Улыбка краткого мгновенья»... — Вордсворт У.
Стихи, написанные вечером у Темзы близ Ричмонда. 5—6. Пер. И. Меламеда.
8 ...«на страницах сердца»? — Шекспир У. Конец — делу венец. Акт I, сц. 1, 95.
Пер. Mux. Донского.
9 ...«душа из жизни упорхнула»... — Аллюзия на стихотворение Дж. Томсона
«Вовек ли ты, Судьба, пребудешь / Безжалостным врагом Любви?». Цитата не
совсем точна, она представляет собой контаминацию двух строк: «Покуда юность
прочь не упорхнула/ И вся душа из жизни не ушла» (ст. 7—8).
10 Норман-Корт — владение близ Уинтерслоу (леса, о которых говорит Хэз-
литт, называются Тюдорлей или Титерлей). Рецензент из «Лондонского
журнала» (май 1821 г.) считал, что весь этот пассаж не уступает лучшим строкам
«Исповеди» Руссо.
11 ...бледный, как первоцвет, лик... — Хэзлитт описывает свою возлюбленную
Сару Уокер (1803—1899), с которой познакомился в августе 1820 г.
12 Ореада — в древнегреческой мифологии нимфа, жившая в горах или гротах.
13 Дриада — в древнегреческой мифологии нимфа, жившая в лесах, например,
на ветвях деревьев.
14 ...«от детских дней»... — Аллюзия на «Отелло» (акт I, сц. 3, 132). Ср. в пер.
Б.Л. Пастернака: «Я снова пересматривал всю жизнь, / От детских дней до
нынешней минуты».
15 ...«часто слезы исторгал у них [в действительности «у ней». — Примеч. ред.]
рассказом о печалях юных лет». — Шекспир У. Отелло. Акт I, сц. 3, 156—158. Пер.
А. Радловой. Цитата приведена Хэзлиттом несколько неточно: у Шекспира
плакали не все слушатели, а лишь одна Дездемона.
16 «Трактат о наступлении Царствия Божьего на зелые». — Имеется в виду
произведение американского богослова Сэмюэла Хопкинса (1721—1803), вышедшее
в Бостоне в 1793 г. под одной обложкой с главным трудом этого автора —
«Система учений, содержащихся в божественном откровении».
17 «Будет нам впредь об этом сладостно вспомнить\» — Вергилий. Энеида. I. 203.
Пер. С. Ошерова под ред. Ф. Петровского.
18 ...«радости спокойны, как страданье». — Вордсворт У. Лаодамия. 72. Пер. М. Фро-
ловского.
19 ...«мимолетные впечатления, скрашивающие им одиночество». — Вордсворт У.
530
Примечания
«Нас манит суеты избитый путь... 12. Ср. в пер. Г. Кружкова: «Я в мире так бы
не был одинок...
20 «И я жил в Аркадии}.» — Надпись, неоднократно встречающаяся в живописи,
скульптуре и литературе, в том числе в латинском варианте: «Et in Arcadia ego (vixi)».
Хэзлитт, вероятно, помнил ее по двум одноименным картинам Никола Пуссена
(другое их название — «Аркадские пастухи»). Первый вариант был написан художником
в 1629—1630 гг. и сейчас находится в Чатсворт-хаусе (резиденции герцогов
Девонширских в графстве Дербишир); второй — около 1650 г. и хранится в Лувре.
21 «Какой пустяк — человеческая жизнь\» — Несколько измененная цитата из
письма Вольтера к мадам Деффан от 13 октября 1759 г.: «Призываю Вас
наслаждаться, насколько возможно, жизнью, каковая есть пустяк».
22 ...«огромная, немая глыба»... — Аллюзия на трагедию Сэмюэла Дэниела
(1562—1619) «Гражданские войны» (сц. 5, 71—72).
23 ...«порыв борьбы, успеха торжество»... — Несколько измененная цитата из
поэмы У. Купера «Задача» (V. 901).
24 Смотри в конец. — Часть латинской поговорки: «Quidquid agis, prudenter agas
et respice finem» («Что бы ты ни делал, поступай благоразумно и помни о конечной
цели» (по-латыни слово «finis» означает и «конец», и «цель»)). Встречается
высказывание также в Библии: «Во всех делах твоих помни о конце твоем» (Сир. 7: 39) — и
целом ряде литературных произведений. Ср., в частности, басню Эзопа «Осел и
мул» (No 251) в пер. М.Л. Гаспарова: ...мы должны судить о делах каждого не по
началу их, а по исходу».
25 «О Боже\ Мнится мне, счастливый жребий ~ Ведя к могиле седину мою». —
Шекспир У. Генрих VI. Ч. 3. Акт П, сц. 5, 21^Ю. Пер. Е. Бируковой.
26 ...«сквозь слезы улыбается душа». — Грей Т. Вид издали на Итонский колледж.
43-44.
27 ...Спенс в «Заметках о Поупе»... — Критик Дж. Спенс оставил воспоминания
о своем друге, поэте А. Поупе.
IV
ГЕНИЙ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
ON GENIUS AND COMMON SENSE
...здравый смысл представляет собой то, что мистер Локк назвал бы смешанным
модусом... — В «Опыте о человеческом разумении» Дж. Локк пишет: ...другие [идеи]
составлены из простых идей разных видов, соединенных для образования сложной
идеи; например, красота, которая состоит в известном сочетании окраски и формы,
вызывающем восхищение у зрителя, или воровство, которое состоит в тайной
перемене владения вещью без согласия владельца и представляет, очевидно, сочетание
нескольких идей различных видов; такие модусы я называю "смешанными
модусами"» (П. ХП: «О сложных идеях». 5. Пер. A.N. Савина).
2 Софист — в Древней Греции профессиональный учитель философии и
ораторского искусства; в публичных речах софисты стремились следовать правилам
риторики и нередко гнались за внешне эффектными приемами красноречия, в
ущерб правдивости и нравственности содержания. Впоследствии софистами
стали называть бездушных педантов, для которых нет ничего важнее формального
соответствия правилам и вычурного стиля.
IV Гений и здравый смысл
531
3 «Лекции» сэра Джошуа Рейнолдса. — Хэзлитт цитирует «Лекции» по изданию
1809 г.
4 Мистер Бёрк, кем были, вероятно, внушены вышеизложенные рассуждения... —
Бёрк был среди друзей художника Рейнолдса. В их круг входили также
литераторы О. Голдсмит, Дж. Босуэлл, С. Джонсон, Р.-Б. Шеридан и актер Д. Гаврик.
5 «Нет ничего истинней привычки». — Уиндэм У. Речь о поведении герцога
Йоркского (14 марта 1809 г.).
6 Один из тех ослушников, кто вызвал неудовольствие правительства в 1794 году... —
Имеется в виду Дж. Телуолл, преподаватель ораторского мастерства, обвиненный
вместе с несколькими другими подсудимыми в государственной измене, но затем
оправданный. В начале 1790-х годов Хэзлитт, возможно, слушал некоторые его
лекции вместе с братом. После оправдания Телуолла Джон Хэзлитт с супругой
посетил его вместе с У. Годвином; в 1802 г. в гостях у него бывал и наш автор.
I ...в деревушке Лланголен... — Хэзлитт побывал там в 1798 г. См. в наст. изд.
очерк «О путешествиях» и примеч. 30 к этому очерку.
8 Кто «изучит весь его диапазон, от нижних нот до верхних»? — Аллюзия на
шекспировского «Гамлета» (акт III, сц. 2, 355). Ср. в пер. K.P.: «Вы <...> хотели бы
извлечь из меня все звуки, от самого низкого до самого высокого».
9 ...«для уверенности вящей»... — Шекспир У. Макбет. Акт IV, сц. 1, 83. Пер.
Ю.Б. Корнеева.
10 «Последним камнем замыкают арку ~ На что ни погляди, всё изумляет». —
Джонсон Б. Послание сэру Эдварду Сэквиллу, ньше графу Дорсету. 136—137, 139—
142.
II ...«захлопывает врата мудрости перед человечеством». — Аллюзия на «Элегию,
написанную на сельском кладбище» Т. Грея (ст. 68), у которого, правда,
говорилось не о мудрости, а о милосердии. Ср. в пер. В. Жуковского: «...рок... / ...быть
жестокими к страдальцам запретил».
12 По мнению мистера Бёрка, не следует отказываться от всякого предубеждения,
но надлежит отделять от шелухи предрассудка спрятанное в нем зерно истины. — В
«Размышлениях о революции во Франции» Э. Бёрк разразился целым
панегириком в защиту предубеждений.
13 ...«потому, что они предрассудки»... — Бёрк Э. Размышления о революции во
Франции.
14 ...непосредственно связано с практическими делами и чувствами людей. —
Несколько измененная фраза из «Посвящения герцогу Бэкингему, лорду-адмиралу Англии»,
предварявшему «Очерки» Фрэнсиса Бэкона в изд. 1625 г. Ср. в пер. З.Е.
Александровой: «...ближе всего к практическим делам и чувствам людей».
15 ...«трудность и причина того, что несуразности так долговечны»... —
Контаминация нескольких строк из знаменитого гамлетовского монолога «Быть или не
быть» с заменой одного слова. Ср. в пер.: «Вот в чем трудность; / Какие сны
приснятся в смертном сне, / Когда мы сбросим этот бренный шум, — / Вот что сбивает
нас; вот где причина / Того, что бедствия так долговечны» [Шекспир У. Гамлет.
Акт III, сц. 1, 64; 67—68. Пер. М.Л. Лозинского).
16 ...«компостная куча»... — В своей «Речи об экономической реформе» Э. Бёрк
говорит, что создание должности третьего государственного секретаря «лишь
увеличит и без того громоздкую компостную кучу порочного влияния».
532
Примечания
17 Сатурналии — древнеиталийский праздник, справлявшийся в течение ряда
дней, начиная с 17 декабря, в память о «золотом веке» (Сатурна) и
отличавшийся особым весельем.
18 Последний довод королей. — Девиз, по приказу Людовика XTV
выгравированный на королевских пушках во время Фронды (1650 г.).
19 ...портрет Оливера Кромвеля, написанный ... — Вероятно, Сэмюэлом
Купером (1609—1672), выдающимся миниатюристом и, возможно, самым знаменитым
английским художником своего времени.
20 «Друг, шляпу на глаза не надвигай. / Пусть боль себя в стенаньях изливает: /
Немая скорбь нам сердце разрывает». — Шекспир У. Макбет. Акт IV, сц. 3, 208—210.
Пер. Ю.Б. Корнеева.
21 Эпизод... в котором... Дункан и его спутники любуются замком Макбета и...
окрестностями... — См.: Там же. Акт I, сц. 6, 1—10.
22 ...«верный след». — Словоупотребление, возможно, заимствовано из «Гамлета»
(акт П, сц. 2, 46—48). Ср. в пер. А. Радловой: ...иль мозг мой потерял былую /
Способность нападать на верный след / Хитросплетений...
23 ...«как если бы его волю нельзя было разоружить, но самое отчаяние обрело
губительную власть». — Хэзлитт цитирует собственную рецензию, вошедшую в
сборник «Панорама английской сцены» (1818).
24 ...наблюдая за последними усилиями Пейнтера в схватке с Оливером. — Боксер
Э. Пейнтер потерпел поражение от Т. Оливера в мае 1814 г., но победил шестью
годами позже.
25 Рафаэль, драпируя фигуру волхва Елимы... — Речь идет об одном из набросков
Рафаэля для Сикстинской капеллы — «Ослепление Елимы», на сюжет из Деяний
апостолов (см.: Деян. 13: 6—11). См. также примеч. 32 к очерку «В продолжение
начатого разговора».
26 Автор «Характеристик» — Энтони Эшли Купер, 3-й граф Шефтсбери.
V
ГЕНИЙ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Окончание
ON GENIUS AND COMMON SENSE
The same subject continued
1 «Родившись общим наследником всего человечества»... — Слегка измененная
цитата из «Верной пастушки» (1679) Дж. Флетчера (акт I, сц. 4); вместо слова
«общим» («universal») у Флетчера употреблено слово «единственным» («only»).
2 ...«всё перестрадав, как будто не страдал»... — Шекспир У. Гамлет. Акт Ш, сц. 2,
66. Пер. K.P.
3 ...«понимал все свойства духом просвещенным»... — Несколько измененная
цитата из «Отелло» У Шекспира (акт ÎII, сц. 3, 259). Ср. в пер. Б.Л. Пастернака:
...знает толк / В вещах и людях».
4 ...«дудкой, на которой Муза играла все, что ей заблагорассудится»... — Аллюзия
на шекспировского «Гамлета» (акт III, сц. 2, 70—71). Ср. в пер. Б.Л. Пастернака:
«Он не рожок под пальцами судьбы, /Чтоб петь, смотря какой откроют клапан».
5 Протей — в древнегреческой мифологии вещий морской бог на о-ве Фарос
(близ египетского побережья), обладавший даром преображения,
V Гений и здравый смысл. Окончание
533
...«Стремясь на шаре пестром различить / Материки, потоки и хребты»... —
Милтон Дж. Потерянный Рай. I. 290—291. Пер. Арк. Штейпберга.
7 ...«от резких перемен»... — Там же. П. 599. Пер. Арк. Штейпберга.
8 ...«от земли, земная»... — Библейская цитата. Ср. в рус. пер.: «Первый
человек — из земли, перстный» (1 Кор. 15: 47).
9 ...«ощутимый мрак», «осязаемая тьма»... — См.: Исх. 10: 21; Милтон Дж.
Потерянный Рай. П. 406.
10 ...«всматривается во всеобщее»... — Бэкон Ф. О достоинстве и преумножении
наук. I. III. 6. В существующем русском переводе H.A. Федорова этот фрагмент
фразы отсутствует как таковой, сохранена только идея: «...в большинстве своем
политические деятели, не воспитанные в духе учения об обязанностях и всеобщем
благе, все измеряют собственными интересами...
11 ...«доволен богатством без числа». — Контаминация двух строк из
шекспировского «Отелло» (акт Ш, сц. 3, 172—173). Ср. в пер. А. Радловой: «Достаточно богат
бедняк довольный, / И беден, как зима, богач первейший». См. также примеч. 26
к первой части очерка «О наслаждении живописью».
12 ...«беден, как зима». — Шекспир У. Отелло. Акт Ш, сц. 3, 173. Пер. А. Радловой.
...«погружен в себя, но немрачен». — Несколько измененная цитата из «Замка
Праздности» Дж. Томсона (I. 508).
14 ...«наслаждается светом дня»... — Милтон Дж. Комос. 381. Ср. в пер. Ю.Б. Кор-
неева: ...ярким солнцем озарен».
15 ...автор «Лирических баллад»... — Уильям Вордсворт. Данный сборник был
задуман поэтом совместно с С.-Т. Колриджем, который, однако, написал для него
лишь ставшее знаменитым произведение — «Сказание о старом мореходе» и три
стихотворения.
16 ...«тихо шел своею тропой»... — Слегка измененная цитата из «Элегии,
написанной на сельском кладбище» Т. Грея (ст. 76). Ср. в пер. С. Черфаса: «Вдали от
шумных и позорных сцен / Тропа их тихой жизни пролегла».
17 ...«Находит голоса в лесных деревьях / И книги в ручейках, и поученья / В
громадных камнях, и добро во всем». — Шекспир У. Как вам это понравится. Акт II, сц. 1,
16—18. Пер. П. Вейнберга.
18 «Цветок скромнейший думы вызывает, / Сокрытые от торопливых слез». —
Заключительные строки «Оды» У Вордсворта.
19 ...как Уитерс, Берне и другие, обладали... меньшим даром чувства, и поэтому
стихи их... не стали образцом нового стиля... — Обоих поэтов Хэзлитт, вероятно,
обсуждал с Вордсвортом, который говорил о значении Бёрнса в предисловии к
своим «Лирическим балладам». По мнению исследователей, влияние Дж. Уитерса
заметно в некоторых стихотворениях Вордсворта.
20 ...стихи... не легли в основание новой поэтической школы. — Уильям Вордсворт
стал основателем так называемой «Озерной школы поэзии», или «школы поэтов
Озерного края».
21 ...«святые для поэтов и обреченные на непреходящую славу». — Строка из
стихотворения Мэтью Прайора (1664—1721) «Письмо месье Буало-Депрео по поводу
победы при Бленхейме, 1704» (ст. 36—38).
22 «Гленкерн, мне не забыть тебя / За все, что для меня ты сделал». — Берне Р.
Элегия Джеймсу, графу Гленкерну. 79—80. Пер. Ю. Князева.
534
Примечания
23 ...стихи его, что сохранились... — Все стихи Крайтона (опубл. в 1578—1585 гг.)
хранятся в библиотеке Британского музея, где Хэзлитт мог с ними познакомиться.
24 Открытие теоремы бинома — результат работы гения... — Формулу бинома
для произвольного рационального показателя И. Ньютон вывел около 1665 г.
25 «Здесь тупость к крайнему пределу подошла\» — Парафраз строки Дж. Драй-
дена: «Природа к крайнему пределу подошла» (Строки, напечатанные под
гравюрой с портретом Милтона. 5).
26 ...темна, бесконечна и непостижима. — Аллюзия на строку в первой редакции
трагедии У Вордсворта «Жители пограничья» (акт Ш, сц. 5, 64—65): «Страданье
неизбывно, мрачно и непостижимо». В пьесе, которую Хэзлитт слышал в
авторском чтении в 1803 г., анализируется психология вины.
27 Образ деревенского учителя. — Оливер Голдсмит создал его в поэме
«Заброшенная деревня».
28 Как-то раз... мне предложили написать статью для одной энциклопедии... —
Хэзлитт так и не взялся за эту работу.
29 «А поэту ни люди, ни боги, / Ни столбы не прощают посредственность». —
Гораций. Наука поэзии. 372—373. Пер. М. Дмитриева.
30 Разделение труда — превосходный принцип... Без него, как сказано у Адама
Смита, мы бы и булавки не сделали с достаточной степенью совершенства. — См.: Смит А.
Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. 1. Гл. 1: «О разделении
труда».
31 ...нелепые истории о Лопе де Бега, который якобы умудрялся сочинять по пьесе
по утрам до завтрака. — Имеется в виду рассказ о том, как Вега сотрудничал с
драматургом Монтальбаном в работе над комедией и написал первый акт в течение
дня. Сам Монтальбан утверждал, что Лопе сел за работу в пять утра, по ходу дела
успел позавтракать и полить сад и при этом вовсе не утомился (см.: Fox H.R. Some
Account of the Life and Writings of Lope Felix de Vega Carpio. L., 1806. P. 79—80).
32 Зачем... мистер Кин... поет, пляшет, машет шпагой? Говорят, это дает ему
дополнительный заработок. — Имеется в виду бенефис Э. Кина в театре Друри-
Лейн 26 мая 1817 г. В тот вечер Кин играл роль Ахмета в трагедии Дж. Брауна
«Барбаросса» и роль Поля в пьесе Дж. Кобба «Поль и Виргиния» (как написала
«Морнинг кроникл», «первый и единственный раз»).
33 ...статуй, привезенных Элгином. — См. примеч. 19 к очерку «О наслаждении
живописью» (Окончание).
VI
ПОРТРЕТ КОББЕТА
ON THE CHARACTER OF COBBETT
Включено Хэзлиттом в парижское и второе английское издания сборника «Дух
века, или Современные портреты» (1825).
...«долбит им по ушам трехпудовой колотушкой». — Хэзлитт играет фразой
Фальстафа: «Пусть меня отдуют трехпудовой колотушкой, если я это сделаю»
[Шекспир У. Король Генрих IV Ч. 2. Акт I, сц. 2, 228. Пер. Е. Бируковой).
2 ...«сведет на нет»... — Возможно, аллюзия на поэму Дж. Драйдена «Лань и
пантера» (I. 158): «Свести на нет леса, приют разрушить».
VI. Портрет Коббета
535
3 Четвертое сословие. — Четвертым сословием [англ. fourth estate) в
публицистике нередко назьгоают прессу (в русском языке устоялся неверный перевод
этого термина — «четвертая власть»).
4 ...«особенная способность». — Шекспир У. Король Генрих IV. Ч. 1. Акт I, сц. 2,
90. Пер. ПА. Каншина.
5 ...изводил Эрскина, из года в год неизменно именуя его вторым титулом —
барона Клакманнана\ — Томас Эрскин носил титул первого барона Эрскина.
Клакманнан — небольшой город в Шотландии; до 1822 г. был главным городом
существовавшего тогда графства Клакманнаншир, затем эти функции были переданы
городу Аллоа, где размещалось поместье семейства Эрскин.
6 ...«сыновья и дочери коррупции». — Хоун У. Встреча в Вестминстере (1819).
Уильям Хоун (1780—1842), журналист-радикал, писатель-сатирик и издатель,
боровшийся за свободу печати, был другом Лэмов.
7 ...прошлых, настоящих и будущих». — Возможно, аллюзия на слова Тюремщика
из шекспировской пьесы «Мера за меру» (акт IV, сц. 2, 142—144). Ср. в пер. Т.Л. Щеп-
киной-Куперник: «Он ко всему равнодушен, беззаботен, бесстрашен, не думает ни о
прошлом, ни о настоящем, ни о будущем, совершенно равнодушен к смерти, хотя
безнадежно обречен на смерть».
8 ...«исполнены мыслей». — Шекспир У. Как вам это понравится. Акт II, сц. 1, 68.
Ср. в пер. В. Левика: «Исполненная мысли речь его...»
9 ...«докучным, тусклым и ненужным». — Шекспир У. Гамлет. Акт I, сц. 2, 133.
Пер. М.А. Лозинского. Хэзлитт сократил во фразе одно слово.
10 Его никогда не приходилось урезонивать. — Латинская фраза «sufflaminandus
erat» встречается в воспоминаниях Бена Джонсона о Шекспире: «Он
действительно был натурой честной, открытой и свободной, обладал превосходной
фантазией, смелыми взглядами и изысканно выражался, порой так страстно предаваясь
этой своей способности, что его приходилось останавливать: Sufflaminandus erat,
как Август сказал о Гатерии» (Джонсон Б. Бруски, или Открытия о людях и
материи. Пер. А. Шульгат). Джонсон приводит цитату из «Контроверз»
Сенеки-старшего (IV 7), поменяв в ней время с настоящего на прошедшее.
11 ...в случае с Бармекидом в арабских сказках, который отделывался от гостей,
предлагая им несуществующие изысканные блюда и свое общество в придачу. —
Имеется в виду «Рассказ о шестом брате цирюльника» (33-я ночь) из цикла арабских
сказок «Тысяча и одна ночь».
12 ...озираться вокруг наподобие Адама в раю... — См.: Быт. 3: 7 («И открылись
глаза у них обоих...»).
13 ...«оживают на его страницах»... — Возможно, аллюзия на ироикомическую
поэму Александра Поупа «Дунсиада» (I. 90).
14 ...«зеленеют»... — Шекспир У. Макбет. Акт I, сц. 7, 37.
...достается... доктору Парру с его завитым париком... — В оригинале — игра
слов: «wig» («парик») и «Whig» («виг») звучат одинаково. Священник Сэмюэл Парр
был пламенным вигом по убеждениям.
16 Мистер . — Возможно, имеется в виду государственный деятель Генри
Питер Брум, лорд-канцлер Англии.
17 «Грамматика» Коббета. — Коббетовская «Грамматика английского языка в
серии писем» вышла в 1818 г.
536
Примечания
18 Подобно великану Отчаяние в «Пути паломника», он, размахивая дубинкой,
крушит черепа противников. — См.: Беньян Дж. Путь паломника. I. 7.
19 ...янгуасские погонщики... лупили палками Росинанта. — См.: Сервантес M. de.
Дон-Кихот. Ч. I. Гл. XXV.
20 «В фигуре прыг-скок он лучше всех в Иллирии». — Несколько измененная
цитата из «Двенадцатой ночи» Шекспира (акт I, сц. 3, 123—124). Ср. в пер. Д.
Самойлова: «А уж в фигуре прыг-скок, я думаю, у меня мало соперников в Иллирии».
21 ...«разящий ливень стрел»... — Аллюзия на «Возвращенный Рай» Дж. Милто-
на (III. 324). Ср. в пер. С. Александровского: «...метал он ливни стрел...
22 ...подобно единорогу, устремляющемуся к дубу... — В кельтских преданиях
особо притягательным деревом для единорогов называется падуб; другие источники
упоминают ясень и яблоню.
23 «Гнилые местечки» — обезлюдевшие избирательные округа в небольших
городах и деревнях Англии, где депутатов фактически назначали крупные
землевладельцы; были упразднены в ходе парламентских реформ XIX в. До Акта о
реформе 1832 г. из 658 мест в парламенте свыше 140 занимали представители
«гнилых местечек», причем 50 избирались от округов, где осталось менее полсотни
избирателей.
24 ...как подлинный сын Измаила остался без единого друга. — Сложная
библейская аллюзия. Хэзлитт перепутал слова «Israelite» («израильтянин») и «Ishmaelite»
(«потомок Измаила»). Ср.: Ин. 1: 47 («...подлинно Израильтянин...») и Быт. 16: 11—
12 («...Измаил... будет между людьми, как дикий осел...»).
25 ...«предумышленно или ради денег»... — Источник цитаты не установлен.
26 ...«двухпенсовая чепуха»... — «Политический вестник» Коббета стоил два пенни.
Само же выражение приведено Коббетом в передовой статье номера от 16
августа 1817 г. со ссылкой на Стюарта из «Курьера», Уолтера из «Тайме», Уильяма Гиф-
форда и Саути из «Ежеквартального обозрения» как на тех, кто его придумал.
27 ...после принятия парламентом одного-закона цена... поднялась до шести... —
«Политический вестник» не платил гербового сбора, пока в 1819 г. новое
законодательство не сделало его обязательным, что и вызвало подорожание журнала.
28 ...«ученый и джентльмен»... — Берне Р. Две собаки. 14. Ср. в пер. Т.Л. Щеп-
киной-Куперник: ...джентльмен он настоящий / И образованный притом».
29 «Что я написал, то написал». — Ин. 19: 22 (слова Понтия Пилата).
30 ...«пространства волю и предел широкий». — Грей Т. Бард. 51.
...«неуклюже мечется и бросается из стороны в сторону»... — Несколько
расширенная цитата из «Письма к благородному лорду» Э. Бёрка: «Герцог Бедфорд
подобен Левиафану среди всех тварей вокруг престола. Он неуклюже мечется из
стороны в сторону; он играет и резвится в океане королевской щедрости».
32 «Речь изобильна и ясна как день: / Писал так Шиппен и старик Монтенъ». —
Поуп А. Подражание первой сатире из второй книги Горация. 51—52.
33 ..Лнтифол Эфесский не признал Эгеона Сиракузского. — См.: Шекспир У.
Комедия ошибок. Акт V, сц. 1, 292—326.
34 ...«зарытые в зеллле святые кости»... — Шекспир У. Гамлет. Акт I, сц. 4, 47.
Пер. K.P.
35 Альманах. — Различные виды альманахов пользовались большой популярностью
VII. Об одержимости одной идеей
537
как в Англии, так и в Америке. Обычно в таких изданиях печатались прогнозы
погоды на длительный срок, виды на урожай, советы по медицине и по хозяйству,
афоризмы, рассказы и наблюдения.
36 Биг-Бен в политике. — Прозвище Бит-Бен («Большой Бен») носил
известнейший боксер XVIII в. Бенджамин Брейн (1753—1794). Ср.: Мур Т. Послание Тома
Крибба Биг-Бену (текст, который, вероятно, был известен Хэзлитту).
37 Несколько лет тому назад «Эдинбургское обозрение» вцепилось в него... мертвой
хваткой. — Статья Ф. Джеффри о «Политическом вестнике» была напечатана в
вышедшем 24 августа 1807 г. июльском выпуске обозрения. Ответ Коббета появился
29 августа.
38 Один только раз я видел его... — Дата этой встречи неизвестна.
VII
ОБ ОДЕРЖИМОСТИ ОДНОЙ ИДЕЕЙ
ON PEOPLE WITH ONE IDEA
Включено Хэзлиттом в парижское издание «Застольных бесед» (1825).
1 Пятая глава Книги Судей. — Представляет собой хвалебную песнь во славу
Бога.
2 ...что-то вроде истории мироздания в «Векфилдском священнике». — Хэзлитт
подразумевает одного из персонажей романа О. Голдсмита — Эфраима Дженкин-
сона, склонного при любом удобном случае излагать ученым собеседникам свою
нехитрую премудрость о космогонии и сотворении мира (гл. 14).
3 ...«горе одной груди»... — Шекспир У. Макбет. Акт IV, сц. 3, 196—197. Пер. МЛ.
Лозинского.
4 Как говорит о своих ученых занятиях Цицерон, они следуют за ним в деревню, не
покидают его дома, сидят с ним за завтраком и сопровождают его на обед. — Неточная
цитата из «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия» (VTL 16), где Цицерон
рассуждает о пользе научных занятий. Ср. в пер. В.О. Горенштейна: ...эти занятия <...>
радуют на родине, не обременяют на чужбине, бодрствуют вместе с нами по ночам,
странствуют с нами и живут с нами в деревне».
5 «Не чуждо человеческое мне ничто». — Теренций. Самоистязатель. Акт I, сц. 1, 77.
Пер. A.B. Артюшкова.
6 Когда Санчоупрекнули в том, что он вспомнил своего... любимца на кухне в доме
Герцога, он сказал...: «Так ведь я там подумал о своем Сером и там заговорил о нем». —
Сервантес М. де. Дон-Кихот. Ч. П. Гл. XXXI. Ср. в пер. Н. Любимова: «Сеньор! —
отвечал Санчо. — Где бы человек ни находился, он всюду будет говорить о своей
нужде. Я на этом самом месте вспомнил об осле и на этом самом месте о нем заговорил,
а вспомни я о нем в конюшне, так в конюшне бы и заговорил».
7 «И мир звенит от суеты\» — Купер У. Задача. III. 129—130.
8 Хлебный закон (Corn Bill). — Имеется в виду закон 1815 г. о налоге на
ввозимое из-за границы зерно; был принят в целях защиты английских
землевладельцев от падения цены на хлеб; оказался выгоден скорее крупным лендлордам, чем
обычным фермерам.
538
Примечания
9 «Лалаги моей разлюблю ль я голос / Или улыбку?» — Гораций. Оды. I. XXII. 23—
24. Пер. А.П. Семенова-Тян-Шанского.
10 Унитарная церковь — религиозное движение, берущее начало в Англии,
Польше и Венгрии времен Реформации (XVI в.); окончательно сложилось уже в
пуританских поселениях Новой Англии; его последователи стремились точно
следовать библейским предписаниям и не принимали догмата о Троице.
11 Учение о праве помазанников Божьих. — Речь идет о легитимизме (от фр.
légitime — законный), политической теории, возводившей историческое право династий
в главный принцип, которым следует руководствоваться при устройстве судеб
народов. На Венском конгрессе 1814-1815 гг. этот принцип отстаивал Талейран,
призывавший вернуть европейские страны к донаполеоновским границам и
восстановить повсюду законные династии.
12 ...член городского совета Вуд ни о ком, кроме королевы, за последние полгода нигде
не говорил. — Мэтью Вуд, лорд-мэр Лондона (1815—1816 гг.), был известен своей
приверженностью королеве Каролине. Хэзлитт вспоминает события, имевшие место
незадолго до написания очерка — в 1820 г., когда супруга будущего Георга IV подала
на развод. Процесс она проиграла и на коронацию Георга в 1821 г. допущена не
была, но вследствие этого инцидента снискала широкую популярность.
13 ...о философии Канта... один самовлюбленный тип... всюду и всегда твердит... —
Вероятно, имеется в виду некто Виргманн, золотых дел мастер, упомянутый, в
частности, писателем Крэббом Робинсоном в дневнике (запись от 17 февраля 1818 г.).
14 Кантовы категории, первичные и трансцендентальные качества — термины из
учения Канта о познании.
15 Я как-то встретил на улице своего приятеля... — Джона Ферна, фермера,
увлекшегося в зрелом возрасте философией.
16 «Эссе». — Имеется в виду «Эссе о сознании» Дж. Ферна, не пользовавшееся
популярностью у читателей.
17 ...«бедный, неоперившийся», «едва вылетевший из гнезда»... — Разорванная и
несколько измененная цитата из шекспировского «Цимбелина» (акт Ш, сц. 3, 27—28).
Ср. в пер. П.В. Мелковой: «...бескрылые птенцы, / Гнезда не покидавшие».
18 Как говорил о себе Голдсмит, весь мир словно сговорился не обращать на него
внимания. — По воспоминаниям современников, О. Голдсмит однажды
действительно шутливо пожаловался в таких выражениях на невнимание читателей.
19 ...Юмутверждает, что «Трактат о природе человека» совершенно не был никем
замечен. — Юм сетует на этот факт в своей «Автобиографии» (1777), говоря, что
трактат «сошел с типографского станка мертворожденным». Эту метафору Юм
заимствовал у поэта А. Поупа, из его «Эпилога к сатирам» (П. 226): «Всё, кроме
Истины, мертво, что с типографского станка ни сходит».
20 Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает}. — Девиз британского
Ордена Подвязки. Насчет его происхождения мнения историков расходятся.
Возможно, какое-то отношение к его возникновению имеет один из Псалмов
Давида (см.: Пс. 39: 15).
21 Дядюшка Тоби — персонаж романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама
Шенди, джентльмена» (1760—1767), благородный старый чудак.
22 Одному знаменитому поэту... — Уильяму Вордсворту.
VII. Об одержимости одной идеей
539
23 Автор «Уэверли» — Вальтер Скотт.
24 Эпиграф на титульном листе был заимствован из стихотворения этого
поэта. — Эпиграфом к роману «Роб Рой» В. Скотта служат строки из стихотворения
У Вордсворта «Могила Роб Роя»: «А почему? Закон простой / Они хранят с
былых времен: / Пусть тот берет, кто всех сильней, / И пусть владеет он». 36—40. Пер.
Б. Томашевского.
25 Подобного намека для умного человека было достаточно. — Ироническая аллюзия
на латинское изречение «[Dictum] sapienti sat [est]» — «Для умного [сказанного]
достаточно», т. е. «Умный понимает с полуслова».
26 Мистер Оуэн известен как человек, преданный единственной мысли: о себе и ла-
наркских хлопчатобумажных фабриках. — Ланарк (или Клайдсдейл) — графство в
Шотландии, где трудился социалист-утопист Роберт Оуэн. Став владельцем
хлопчатобумажной фабрики в Нью-Ланарке, Оуэн впервые применил на практике свою
теорию о том, что человек представляет собой продукт внешних окружающих его
условий и воспитания; чем последние лучше, тем более облагораживается и
совершенствуется человеческая природа.
27 «Не страшат его Альпы и Апеннины, / Не страшит крепостной редут». —
Слегка измененная цитата из «Пиндарической оды Королю, написанной 2 августа 1691 г.»
(ст. 30—31) критика и драматурга Дж. Денниса (1657—1734).
28 ...он напечатал десять тысяч гравюр задуманных им селений... — Имеются в виду
производственные колонии коммунистического типа, призванные, по мысли Оуэна,
устранить все негативные черты существовавшей в его время экономической
системы (разорение фабрикантов, бедственное положение рабочих и т. д.).
29 «Мы говорим о молодом синьоре Ланчелоте». — Шекспир У. Венецианский
купец. Акт II, сц. 2. 48, 50. Пер. T.Ä. Щепкиной-Куперник.
30 «Новый взгляд» — трактат Роберта Оуэна, опубликованный в 1813—1816 гг.
31 «Обращение к высшим классам». — У Р. Оуэна нет сочинения с таким
названием; вероятно, речь идет не о какой-то конкретной книге, а о теории знаменитого
утописта в целом.
32 ..жистер Саути... в своем недавнем «Письме к мистеру Уильяму Смиту»... —
В этом письме Р. Саути утверждает, что не испытывает ни раскаяния, ни
сожаления по поводу публикации своей ранней драмы в стихах «Уот Тайлер»,
несмотря на изменение взглядов (имеется в виду особенно ярко проявившийся в поздние
годы политический консерватизм поэта).
33 ...«сует руки в брючные карманы, словно крокодил». — Выражение взято из
примечания, сделанного Т. Муром к своей сатирической поэме «Семья Фаджей
в Париже» (1818), нравившейся Хэзлитту. Речь идет о филантропе-лицемере.
34 «И я не прочь потолковать / С заезжим моряком». — Колридж С.-Т. Сказание
о старом мореходе. 4. VII (517—518). Пер. В. Аевика.
35 ...не за тайный сговор, а за обмен идеями. — Сложная аллюзия на «Бесплодные
усилия любви» Шекспира (акт IV, сц. 2, 42-^3). В английском тексте пьесы
присутствует игра слов: «allusion — collusion — polusion», a кроме того, слово «exchange»,
которое значит «обмен, перемена, замена». Ср. в пер. Ю.Б. Корнеева:
Олоферн. <...> От перемены названий соотношение не меняется.
540
Примечания
Тупица. Что верно, то верно: от перемены названий сношение не меняется.
Олоферн. Да укрепит твой разум Всевышний. Я говорю: от перемены
названий соотношение не меняется.
Тупица. Ну и я говорю, что от перемены названий поношение не меняется.
36 Один... писатель... выразил следующую мысль: «Любой лорд заперт в Бастилии
собственного имени и потому не может дорасти до человека»... — Хэзлитт неточно
цитирует «Права человека» Томаса Пейна. Ср. в пер. Д.С. Куниной: «Титулы
подобны магическим кругам, которые чародей описывает своей палочкой, чтобы
ограничить меру человеческого счастья. Такой человек замурован в словесной
Бастилии и с завистью следит издали за жизнью людей».
37 ...«сохранившейся добродетелью»... — Шекспир У. Король Генрих IV. Ч. 1. Акт П,
сц. 4, 119. Ср. в пер. М.А. Кузмина: «Неужели на свете нет больше добродетели?»
38 ...«люди превращаются в скотов»? — Аллюзия на трагедию Томаса Отвея
«Спасенная Венеция» (акт I, сц. 1, 337—338).
39 «Деревенская девушка». — Пьеса Д. Гаррика, являющаяся переработкой
комедии (1675) У Уичерли (ок. 1640—1715), была поставлена в 1766 г.
40 АХ. - Ли Хант.
...«повинные в столь же великом грехе»... — Шекспир У. Отелло. Акт II, сц. 1,
293. Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «На мне лежит и этот тяжкий грех».
42 ...вразговоре живость их отдает искусственностью и крайней степенью
самолюбования. — Ли Хант не без основания полагал, что Хэзлитт имеет в виду его: дело
в том, что в эссе «О том, как разговаривают писатели» (1820) Хэзлитт уже
критиковал его по этому поводу.
43 Зеленый Джек — архаический фольклорный образ, соединяющий черты
человека и растения и олицетворяющий природное начало, плодородие. В Англии
распространены его скульптурные изображения, обычно в церквах (мужское
лицо, окруженное листьями);, традиционная фигура весенних народных
праздников — мужчина или мальчик в наряде из зеленых ветвей.
44 ...«его дворцах, и улицах, и дамах»... — Аллюзия на поэму У Купера «Задача»
(I. 643).
45 «В беседах с ними всё мы забываем — / Что место, время года, их чреда?» —
Аллюзия на слова Евы Адаму в «Потерянном Рае» Дж. Милтона (IV. 639—640). Ср.
в пер. Арк. Штейнберга: «Близ тебя /Не замечаю времени; равно/Все перемены
суток, все часы / Мне сладостны...
46 Их описания сельской местности представляют собой лишь пейзаж, служащий
фоном для их изображения на переднем плане в обольстительной позе. — Хэзлитт
имеет в виду «Календарь природы» Ли Ханта (1819).
47 Законодатели изящного — калька с латинского выражения «arbiter elegantiae»
или «arbiter elegantiarum» — законодатель мод, наставник изящного.
48 ...рассказ о любви прекрасной принцессы... — Имеется в виду стихотворное
произведение Ли Ханта «Повесть о Римини, или Плод родительского обмана» (1816).
49 ...вам дают.понять, что одного их намека властителям Европы достаточно,
чтобы решить все вопросы. — Подразумевается статья Ханта о Священном Союзе,
опубликованная 11 марта 1821 г. в журнале «Экзаминер».
VIII. О невежестве ученых
541
VIII
О НЕВЕЖЕСТВЕ УЧЕНЫХ
ON THE IGNORANCE OF THE LEARNED
Впервые опубликовано в июльском номере «Эдинбургского журнала» за 1818 год,
подписано «Т.Т.». Включено Хэзлиттом в парижское издание «Застольных бесед»
(1825).
1 Автор «Гудибраса». — Имеется в виду поэт Сэмюэл Батлер (1612—1680). Хэз-
литт цитирует его «Сатиру на несовершенство человеческого знания» (ст. 57—68).
2 Книги лишь изредка играют роль волшебных стекол, помогающих лучше
разглядеть природу... — В «Опыте о драматической поэзии» Драйден пишет о Шекспире:
...он не нуждался в книгах в качестве очков, чтобы читать Природу».
3 «Дай мне покой»... — Несколько измененная строка из оды Т. Грея
«Нисхождение Одина» (ст. 50). Эта же строка, как было прекрасно известно Хэзлитту,
цитировалась Э. Бёрком в «Письме к благородному лорду».
4 ...«взять постель свою и идти»... — Мф. 9: 6.
...«лишает мысль ее внутренней силы»... — Цитата из поэмы «Путник» О. Голд-
смита (ст. 269) с заменой слова «вечный» на «внутренний» (по-английски слова
«eternal» и «internal» звучат похоже). Ср. в пер. А. Ларина: «Лишает мысль ее
законной власти».
6 ...«весь день в сиянье Феба трудится, а ночью... спит в Элизии»... — Шекспир У.
Генрих V Акт IV, сц. 1, 273—274. Пер. Е. Бируковой.
I «Фантазия привыкла бить баклуши...» — Аллюзия на произведение Ч. Лэма
«Фантазия, примененная к вопросам теологическим» (1797): «Праздная фантазия
всегда пускалась в скитания».
8 ...наименееуважаемый из нынешних политических деятелей... — Джордж Кан-
нинг, министр иностранных дел (1822—1827 гг.). Хэзлитт был о нем невысокого
мнения. В первоначальном тексте этого очерка, опубликованном в «Эдинбургском
журнале», в этой фразе стояло «наиболее презренный из нынешних...», в
последующих переизданиях — «наиболее сомнительный...
9 Один... ученый... взялся вылавливать отступления от правил грамматики в
латинских сочинениях Милтона... — Речь идет о Чарлзе Бёрни, написавшем
«Замечания о греческих стихотворениях Милтона» (1790).
10 «Книги не учат нас извлекать пользу из книг». — Сэмюэл Джонсон приводит
этот афоризм со ссылкой на Ф. Бэкона (см.: Rambler. № 137. Vol. IV. P. 363).
Возможно, имеется в виду фрагмент из бэконовского трактата «О достоинстве и
преумножении наук» (П. ХХП. 2). Ср. в пер. H.A. Федорова: «В повседневных
разговорах людей можно услышать более разумные вещи, чем в самих книгах».
II ...«могучий мир ушей и глаз»... — Вордсворт У. Строки, написанные на
расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства. 106—107. Пер. В. Рогова.
12 ...все источники знания, кроме одних врат, для него «закрыты навек». —
Несколько измененная цитата из милтоновского «Потерянного Рая» (Ш. 50). Ср. в пер.
Арк. Штейнберга: «...закрыты, для слепца, / Одни из врат Премудрости навек».
13 ...«колорита Тициана ~ смелого рисунка <Микел>Анджело»... — Стерн Л. Жизнь
и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Кн. III. Гл. XII. Пер. А. Франковского.
542
Примечания
При перечислении достоинств художников Хэзлитт пропускает «выразительность
Рубенса».
14 ...коллекцию... образцов античной скульптуры, вывезенных графом Элгином из
Афин... — См. примеч. 19 к очерку «О наслаждении живописью» (Окончание).
15 ...для препирательства по поводу значения какой-нибудь ничтожной греческой
частицы. — При публикации в «Эдинбургском журнале» в этом месте помещалось
следующее примечание автора:
Всеобщее безразличие литературных фанатиков к произведениям искусства
иногда принимает более оскорбительную форму, а в соединении с убогими
знаниями и неумеренным тщеславием выливается в ревнивую нетерпимость ко
всякому соперничеству в борьбе за совершенство. «Господи, — сказал один
знаменитый современный писатель, когда ему предложили ознакомиться с
коллекцией гравюр и произведений античного искусства, — сколько тут у вас всего,
да еще вон те двое в углу», — и показал на скульптурную группу,
представлявшую Амура и Психею. Можно было бы предположить, что красота и
очарование двух статуй способны обезоружить даже чудовищное тщеславие того
человека и примирить его с невыносимой мыслью: в мире умели чувствовать
силу и красоту еще в те времена, когда он не написал ни строчки, а
художественный вкус не переведется на свете, даже если он будет писать вечно. В трех
здешних королевствах есть лишь один человек, про которого можно
рассказать такую историю.
Речь шла, очевидно, о Вордсворте.
16 ...«не может взять ни одной ноты»... — Шекспир У. Гамлет. Акт III, сц. 2, 373.
Пер. K.P.
17 ...больше смыслит в практической, нежели в теоретической стороне жизни? —
Аллюзия на шекспировскую пьесу «Генрих V» (акт I, сц. 1, 51—52). Ср. в пер. Е. Би-
руковой: «И кажется, теорию его / Искусство жизни, практика взрастила».
18 ...«не сильна в хирургии»... — Шекспир У. Король Генрих IV. Ч. 1. Акт V, сц. 1,
133. Пер. ПА. Каншина.
19 Империал — в дилижансе второй этаж с сиденьями для пассажиров.
20 Киддерминстер — город в графстве Вустершир.
...«моргают и заслоняются от сомнений»... — Марстон Дж. Месть Антонио.
Пролог. 17-18.
22 ...инакомыслящихустрашая вечными муками. — При публикации в
«Эдинбургском журнале» после этих слов была добавлена следующая сноска:
Жизнь коротка, стеснен ее полет,
В суждениях не терпим мы различий.
А Истина — как жемчуг в глуби вод.
Фальшив отяготивший нас обычай.
Средь наших норм, условностей, приличий
Добро случайно, злу преграды нет,
Рабы успеха, денег и отличий,
IX. Индийские жонглеры
543
На мысль и чувство наложив запрет,
Предпочитают тьму, их раздражает свет.
« Чайльд-Гарольд»
[Байрон Дж.-Г Паломничество Чайльд-Гарольд а. IV. 832—837. Пер. В. Левика).
23 ...«покоясь мирно в склепе Капулетти»? — Аллюзия на шекспировскую трагедию
«Ромео и Джульетта» (акт IV, сц. 1, 111—112). Ср. в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник:
...старинный склеп фамильный, / Приют последний рода Капулетти».
24 Ум Шекспира не был обременен образованием... — Согласно традиции,
Шекспир закончил только грамматическую школу в г. Стратфорде и более нигде не
учился.
IX
ИНДИЙСКИЕ ЖОНГЛЕРЫ
THE INDIAN JUGGLERS
Первый вариант очерка вышел в 1819 году как некролог по случаю кончины
спортсмена Джона Каваны; вызвал бурную и преимущественно недоброжелательную
реакцию критики.
...индийские жонглеры. — Выступали в театре «Новая Олимпия» зимой 1815 г.
2 Человек}. Воистину... твои пути неисповедимы\ — Аллюзия на библейский текст.
См.: Рим. 11:33.
3 ...катил камень в гору и обратно... — Аллюзия на древнегреческий миф о
Сизифе, основателе и царе Коринфа, известном хитростью и разбойными деяниями.
Был убит Тесеем и отправлен богами в подземное царство, где оказался
вынужден вечно вкатывать в гору каменную глыбу, которая у самой вершины неизменно
срывалась вниз.
4 ...ища истину во тьме и не находя ее? — Вероятно, библейская аллюзия.
Выражения «ходить во тьме» и «находиться во тьме» много раз встречаются в Библии.
См.: Екк. 2: 14; Ис. 9: 2; 1 Ин. 1: 6; Иов. 12: 25; Ин. 8: 12; Рим. 2: 19; Пс. 81: 5 и др.
5 Много лет прошло с тех пор, как я видел Ричера... — Между тем Ричер все еще
выступал в театре «Олимпия» в 1817 г.
6 Сэдлерз-Уэллз — театр, считавшийся вульгарным из-за пристрастия к
экстравагантным постановкам с разнообразными сценическими эффектами. Необычное
название («Колодцы Сэдлера») происходит от фамилии человека, некогда
построившего здание театра близ известных целебных источников.
7 ...копию с поясного портрета сэра Джошуа Рейнолдса... — Портрет этот
упомянут также в «Мемуарах» Хэзлитта. Копия была вьшолнена в 1803 г., через девять
лет после смерти художника, но современники говорили, что сэр Джошуа на ней
получился как живой.
8 ...выходит, на канате плясать — дело сравнительно простое? — На рубеже 1790—
1800-х годов Хэзлитт сам пытался этому научиться.
9 ...«В искусстве спора очень искушен. / Он спорит, даже если побежден». — Не вполне
точная цитата из стихотворения О. Голдсмита «Покинутая деревня» (ст. 211—212).
544
Примечания
10 Джаггернаут (от искам. Джаганнатха — мировладыка) — в индуизме одно из
воплощений Вишну — в виде Кришны. К идолу, имеющему только обрубки рук
и ног, жрецы привешивают во время празднеств серебряные или золотые руки.
Существует двадцать четыре больших праздника в честь Джаггернаута. Среди
них особенно популярен главный, проводящийся в июле, — Ратхаятра (шествие
колесницы), когда идол Джаггернаута вывозится вместе с другими на громадной,
16-колесной колеснице с приделанными к ней двумя деревянными лошадьми,
которую тащат на длинном канате толпы богомольцев. Некоторые из них
бросаются под колеса и погибают.
11 Театр «Олимпия» (точнее — «Новая Олимпия»). — Находился на Ньюкасл-
стрит в Лондоне.
12 ...«с оглядкой на ветер». — Выражение заимствовано из романа В. Скотта
«Айвенго» (гл. XIII). Ср. в пер. Е.Г. Бекетовой: «Вы не приняли в расчет ветра,
Губерт, — сказал его соперник, натягивая свой лук, — а то вы попали бы еще
лучше. <...> Понукаемый таким образом, Губерт снова стал на место и, помня совет
своего соперника, принял в расчет только что поднявшийся слабый ветерок,
прицелился и выстрелил так удачно, что попал в самую середину мишени».
13 ...«дивных лиц людских». — Милтон Дж. Потерянный Рай. Ш. 44. Пер. Арк. Штейн-
берга.
14 ...вы можете получить на выходе столько живописцев, сколько учеников
поместите в машину... — В оригинале стоит: ...получить на выходе столько Х-ов и Х-ов».
Вероятно, подразумеваются художники-портретисты Хилтон, Хейман, Хаймор и
Хадсон.
15 ...тонко передать настроение и мимику... — Несколько неточная цитата из
поэмы Дж. Милтона «Возвращенный Рай» (IV. 255). Ср. в пер. С. Александровского:
«Он складно сочинял и славно пел».
16 Недосягаемая для искусства... изысканность... — Поуп А. Опыт о критике. 155. Ср.
в пер. А. Субботина: ...преступив известного черту, / Неведомую сыщет красоту...»
17 ...«вперенный в небо взор»:.. — Милтон Дж. П Penseroso. 39. Пер. Ю.Б. Корнеева.
18 Лишь чувство... — Начиная с этого места в черновике очерка присутствует
интересный вариант:
Лишь чувство, но отнюдь не микроскопическое исследование может дать ключ
к пониманию искусства; стремясь к нему с внешней стороны, мы теряем
единение, гармоническую внутреннюю связь с ним; пытаться отыскать суть
искусства в материальном — значит упустить душу природы / утратить самый его
дух. Короче говоря, из всего многообразия окружающих нас предметов в поле
зрения настоящего художника попадает лишь та часть, которая, согласно его
вкусу и воображению, будит отклик в душе и во всем нашем существе, —
каковые в другое время и в связи с иными ассоциациями вступают во
взаимодействие с этими предметами; и способ воздействия на наше существо предметов
реального мира нельзя ни определить общим правилом, как в науке, ни
проверить опытным путем, как в механике. Восприятию действительности
можно учить и учиться, но умение взаимодействовать с нею должно родиться и
вызреть внутри нас. Для этого нет нарочно придуманных средств или
способов. Неопределенное воздействует на нас из источников, которые мы не можем
IX. Индийские жонглеры
545
выявить, и ведет к последствиям, природу и пределы которых мы не в
состоянии вычислить. Никакой узкий (здесь рукопись порвана. — Примеч. ред.) ему
[не] нужно было преодолевать. Вкус сам себе хозяин, ибо лишь подчиняясь его
велению, можем мы постичь эту суть; воображение не может быть замкнуто
на себе, поскольку оно должно существовать до того, как сможет вести к
другим вещам.
Здесь черновик прерывается разочарованным комментарием:
«Неопределенное пока что объяснено неудовлетворительно».
19 ...от зимних ветров... — Шекспир У. Гамлет. Акт V, сц. 1, 216. Пер. А. Радловой.
...созерцание становится таким же достоверным, как прикосновение. — Спенсер Э.
Королева фей. I. Ш. 2. 5.
21 «И, как виденье, каждый нежный лист / Из сочной зелени ветвей глядит». —
Цитата из письма Томаса Грея своему соученику по Итонскому колледжу
Горацио Уолполу (сентябрь 1737 г.). Одно время Уолпол с Греем вместе
путешествовали по Европе (1739—1741 гг.).
22 ...«вибрируют по нервам, в складках прячутся»... — Аллюзия на «Подражание
Милтону» Дж. Аддисона (ст. 123—124): «...холодный ужас вдруг /По нервам
пробежал и в жилах отозвался».
23 ...«где лётом, где пешком»... — Милтон Дж. Потерянный Рай. П. 941—942. Пер.
Арк. Штейнберга.
24 Я знаю человека... — Имеется в виду Ли Хант.
25 Фемистокл сказал, что не умеет играть на флейте, но может превратить самый
обычный город в великий. — История рассказана у Плутарха (см.: Сравнительные
жизнеописания. Фемистокл. 2), но скорее всего Хэзлитт впервые узнал ее из
сочинения Ф. Бэкона «О достоинстве и преумножении наук» (I. Ш. 8). Любопытно, что
у Плутарха идет речь о лире, у Бэкона — о лютне. По-английски слова «lute»
(«лютня») и «flute» («флейта») звучат похоже. Вероятно, Хэзлитт здесь, как и в других
местах, цитирует по памяти.
26 .......звучно блестя пустяками». — Гораций. Наука поэзии. 322. Пер. М.
Дмитриева.
27 ...«умирает, не оставив миру отпечатка»! — Шекспир У. Двенадцатая ночь.
Акт I, сц. 5, 243. Пер. М.Л. Лозинского. Хэзлитт цитирует неточно.
28 Сэр Хамфри Дэви — великий химик, однако я... понятия не имею о... его
открытиях и не встречал никого, кто знал бы о них хоть что-нибудь. — Это замечание
вызвало бурное негодование рецензента из «Литературной хроники», который в
целом положительно отозвался о книге «Застольные беседы»: «Сэр Хамфри не
виноват, что мистер Хэзлитт "понятия не имеет о каких-либо его открытиях", ибо
великий химик все же не открыл способа превращать неблагородные металлы в
золото. Дабы опровергнуть утверждение мистера Хэзлитта, нет нужды
перечислять открытия сэра Хамфри Дэви — достаточно упомянуть безопасный
рудничный фонарь» («Literary Chronicle». 1821. April 14-21. № 100-101. P. 248).
29 ...«память о великом ученом переживет его на полвека — не более». — Шекспир У.
Гамлет. Акт Ш, сц. П, 132. Пер. П. Гнедича. Цитата несколько неточна, в частности,
у Шекспира написано не «полвека», а «полгода» и речь идет не о великом ученом,
а о великом человеке.
546
Примечания
30 Его смерть отмечалась в статье... написанной полушутя-полусерьезно. —
Упомянутая статья была напечатана без подписи; ей был предпослан такой эпиграф:
Так что, старик Дебл умер? Ну надо же! Он отлично стрелял из лука. И вдруг
умер... Да, отменный был стрелок. Джон Гант очень его любил и, бывало,
ставил на него большие заклады. Умер!.. Он попадал в цель с двухсот сорока
шагов, а легкую стрелу пускал с двухсот семидесяти; поглядеть на него — душа
радовалась [Шекспир У. Генрих IV Ч. 2. Акт III, сц. 2, 40—49. Пер. Е. Бируко-
вой. Цитата несколько изменена).
31 Сент-Джайлз — лондонский район, образовавшийся как приход церкви Св. Эги-
дия; в XVIQ в. его населяли преимущественно бедняки.
32 Игрок в лгяч. — В данном случае имеются в виду «пятерки» [англ. fives),
разновидность игры в мяч, в которой принимают участие два или четыре игрока;
играют на специальных кортах, закрытых с трех сторон; игра до сих пор популярна
среди учеников некоторых привилегированных частных школ (напр., Итона).
33 ...«Заботаусаживается на коня за спиной всадника и цепляется за его одежду». —
Гораций. Оды. Ш. I. 39—40. Ср. в пер. Н.С. Гинцбурга: «И черная за ним Забота, / В
крепкой ладье ль он, верхом ли едет».
34 ...«сейчас грядущее». — Шекспир У. Макбет. Акт I, сц. 5, 58. Пер. А. Радловой.
35 ...ни тайный бунт, ни внешний враг — ничто его не тронет». — Там же. Акт Ш,
сц. 2, 25—26. Пер. МЛ. Лозинского. Хэзлитт заменил в цитате одно слово: вместо
«malice domestic» («внутренние козни») у него стоит «domestic treason» («предательство
в родном доме»).
36 «Ветка розмарина» — таверна в Пекхэме, на юге Лондона.
37 «Копенгаген-хаус» — таверна и открытое кафе в северной части Лондона, на
месте нынешнего Каледонского рынка.
38 ...Голдсмит тешил себя мыслью, что тоже кое-где имеет успех... — См. примеч. 15
к очерку «О тех, кто живет своей жизнью».
39 Хангерфордская лестница — лестница Хангерфордского пешеходного моста
через Темзу в Лондоне (мост соединяет вокзалы Чаринг-Кросс и Ватерлоо).
40 ...«Войди сюда, и ты забудешь всё — себя, отечество, друзей». — Возможно,
аллюзия на «Дунсиаду» А. Поупа (IV. 518—519): «И кто бы только ни отведал, забудет
вмиг друзей, / И государя, и предков, и себя».
41 «Никто из нас не оскорбит / Могилу, где герой лежит. Hic jacet». — Не вполне
точная цитата из стихотворения У Вордсворта «Эллен Ирвин» (ст. 55—56).
X
О ТЕХ, КТО ЖИВЕТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
ON LIVING TO ONE'S SELF
1 «Медлителен, уныл, уединен... В краях, где Шельда плещется лениво / Иль По в
лугах петляет прихотливо». — Начальные строки поэмы О. Голдсмита «Путник»
[пер. А. Парина), содержащей воспоминания автора о путешествии по Европе и
изложение его политических взглядов. По — река в Северной Италии. Шельда —
река в Бельгии.
X. О тех, кто живет своей жизнью
547
2 Уинтерслоу — местечко на равнине Солсбери-Плейн в графстве Уилтшир, где
Хэзлитт поселился со своей женой в 1808 г. и где впоследствии любил
уединяться для размышлений и творчества.
3 ...«Покуда свод небес дождем заволокло»... — Аллюзия на поэму Дж. Китса «Ги-
перион: Фрагмент» (П. 36—38). Ср. в пер. Г. Кружкова: «В дождливый, стылый
вечер ноября, / Когда под небом — их алтарным сводом — / Кромешная густеет
темнота» и в пер. Н. Голя: «Где свод алтарный — сумрачное небо — / Ноябрьским
изливается дождем».
4 ...в уме начинает мелькать длинная вереница лет... — В момент написания
очерка Хэзлитту было 42 года.
5 В письме к мисс Гарриэт Байрон леди Г. уверяет ее, что Spam ее сэр Чарлз
живет сам по себе... — Имеются в виду персонажи эпистолярного романа С.
Ричардсона «История сэра Чарлза Грандисона» (1754), где писатель, до этого
прославившийся романами «Памела» и «Кларисса», делает попытку создать образ
добродетельного героя.
6 ...замечание... «...сэр Чарлз живет сам по себе»... становится поговоркой в
переписке прекрасных героинь романа. — Имеется в виду одно из писем мисс Байрон,
адресованных мисс Селби, где первая ссылается на слова леди Грандисон.
7 ...смотрит на суетный мир из уединения... — Купер У. Задача. IV. 88.
8 ...«тревоге света молча внелллет»... — Там же. IV 99—100.
9 ...«И тот, I Чей взгляд ~ Считается запретным». — Вордсворт У. Строки,
оставленные на камне в разветвлении тисового дерева. 51—55. Пер. И. Меламеда.
10 ...«Смотреть, как дети бегают на берегу / И как волна вдогонку шлет волну». —
Вордсворт У. Ода. 169-170.
11 ...«никогда не кончая и вечно начиная»... — Драйден Дж. Пир Александра. 101.
Ср. в пер. А.Х. Востокова: «Слава не пузырь ли мыльный? / Все растет, не
наполняясь; / Все борьба и разрушенье».
12 ...«волшебством нежно-голубого неба»... — Вордсворт У. Питер Белл. 275.
13 ...«прекрасногоразнообразия вселенной»... — Эйкенсайд М. Радости воображения.
1.78.
14 Неужели Бонапарту не надоедала буква N, изображенная повсюду на стенах
Лувра и по всей Франции? — Все арки Лувра украшены буквой N. Наполеон любил
использовать свои инициалы даже на промокательной бумаге, которую потом
приобрел для своей коллекции Вальтер Скотт.
15 ...Голдсмит, будучи в Голландии, вышел на балкон с красивыми англичанками и в
ответ на... аплодисменты... заметил: «И мною кое-где восхищаются». — Вероятно,
Хэзлитт прочел об этом в «Воспоминаниях о Рейнолдсе» Дж. Норткота (который
утверждал, что дело было в Антверпене) или в «Жизни Сэмюэла Джонсона» Дж. Босуэлла.
На самом деле случай произошел не в Бельгии, а во французском городе Лилле, где
Голдсмит остановился вместе с семейством Хорнеков по пути в Париж.
16 ...один из самых блестящих ораторов нашего времени... — Вероятно, Колридж.
17 «Путь к славе — путь к паденью; / Так скользок он, что страх упасть страшней /
Паденья самого\» — Шекспир У. Цимбелин. Акт Ш, сц. 3, 47—49. Пер. П.В. Шелковой.
18 ...да лучше 6мне было остаться в краю лесов и пасти овец, чем править тут
в такой обстановке^.» — Несколько неточная цитата из речи Оливера Кромвеля при
роспуске парламента 4 февраля 1658 г.
548
Примечания
19 «Мальбрук в поход собрался» — популярная песенка о знаменитом полководце
герцоге Мальборо (1650—1722).
20 ...«заносчивость властей и оскорбленья, чинимые безропотной заслуге»... —
Шекспир У. Гамлет. Акт III, сц. 1> 72—73. Пер. М.Л. Лозинского.
21 ...«тоску и тысячу природных жук, наследье плоти»... — Там же. Акт III, сц. 1,
61—62. Пер. М.Л. Лозинского.
22 ...«мышка, что в кошачьем ухе поселится»... — Аллюзия на пьесу Дж.
Вебстера «Герцогиня Амальфи» (акт IV, сц. II, 127—128). Ср. в пер. Д.К. Петрова: «Ты
спишь хуже, чем мышь, которой привелось ночевать в ухе кошки».
23 ...«вкусить свой ужин мирно может»... — Аллюзия на строку из
шекспировского «Макбета» (акт Ш, сц. 2, 17). Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «...мы не станем/За
стол садиться с трепетом...». Хэзлитт заменяет слово «fear» («страх», «опасение»,
«трепет») словом «peace» («мир»).
24 Если тщеславие доставляет человеку больше радости, чем страдания, говорит
Руссо, этот человек всего-навсего дурак. — Несколько упрощенная цитата из «Юлии, или
Новой Элоизы» Ж.-Ж. Руссо (Ч. V. Письмо 3). Ср. в пер. Н. Немчиновой:
...тщеславие — источник величайших горестей; даже человеку самому совершенному, но
избалованному почестями, тщеславие приносит больше огорчений, чем
удовольствия». Это высказывание сопровождается сноской Руссо: «Если когда-нибудь
тщеславие и делало кого-либо в мире счастливым, то, несомненно, сей счастливец был
просто-напросто глуп».
25 Тонтон — небольшой город на юго-западе Англии, основанный еще в VIII в.,
административный центр графства Сомерсет.
26 ...один из соседей, баронет... — Сэр Томас Летбридж, депутат парламента от
графства Сомерсет.
27 ...«шепнул злой демон — ты купи их, Летбридж». — Реминисценция из ГУ
послания А. Поупа: «Шепнул какой-то демон: "Висто! Пробуй!"»
28 ...театра в Солсбери... — Гипотетическая идентификация. В рукописи город
не назван.
29 ...«сохранили девственность». — Шекспир У. Кориолан. Акт V, сц. 3, 48. Ср. в
пер. Ю.Б. Корнеева: «Всегда хранили в чистоте».
30 «Тайный брак» — пьеса Дж. Колмана-старшего и Д. Гаррика (1766).
31 ...«игрушкою девчонки». — Шекспир У. Макбет. Акт Ш, сц. 4, 105. Пер. Ю.Б.
Корнеева.
32 «Мирандола» — трагедия Б.-У. Проктера (псевдоним — Барри Корнуолл); была
поставлена в январе 1821 г. в Ковент-Гардене выдающимся «шекспировским»
актером Уильямом Макреди.
33 ...«С такой свободою она идет ~ Молчанием освящено». — Проктер Б.-У.
Мирандола. Акт I, сц. 3. Это описание героини Хэзлитт использовал в рассказе о своей
несчастной любви к Саре Уокер (в книге «Liber Amoris»).
34 ...как ни прекрасно описание, сохрани меня Боже от встречи с оригиналом}. —
Возможно, авторская ирония: к этому времени Хэзлитт уже повстречался с
Сарой Уокер; они познакомились 16 августа 1820 г.
35 «Муки от патоки / Враз погибнут; / Познавшие женщин / Смерть повстречают». —
Песенка из сатирической «Оперы Нищих» Дж. Гэя (акт П, сц. 8, 5—7).
36 «Как жизнь и смерть, они несовместимы». — Слегка измененная цитата из
пьесы Ч. Лэма «Джон Вудвилл» (акт II, сц. 2).
X. О тех, кто живет своей жизнью
549
...Милтон, быть может на основании собственного опыта... — Намек на
неудачный брак великого поэта и Мэри Пауэлл, который, как считают литературоведы,
стал поводом для создания Милтоном трактатов о разводе.
38 ...«муж j Подругу подходящую вовек / Не обретет ~ разбит семейный мир\» —
Милтон Дж. Потерянный Рай. X. 898—908. Пер. Арк. Штейнберга.
39 ...«не боготворили статую, не гонялись за ветром и не издавали вопли в
пустыне»... — Аллюзия на «Дон-Кихота» (Ч. I. Гл. II) в переводе 1755 г., выполненном
писателем Т. Смоллеттом, автором сатирических романов.
40 «Как мир — со мной, так враждовал я с миром ~ И Доброта — не миф, и Счастье —
не мечта». — Байрон Дж.-Г Паломничество Чайльд-Гарольда. Ш. 1049—1066. Пер.
В. Левика.
41 ...человек в горах Гарца... — Имеется в виду природное явление, известное как
«призрак Броккена». Броккен — самая высокая вершина горного массива Гарц в
Германии; на закате она отбрасывает на низко стелющиеся облака тени, которые
кажутся гигантскими призраками. Это явление широко отражено в фольклоре,
в том числе в легендах, связанных с шабашами Вальпургиевой ночи.
42 ...«прислушивается к собственным страхам». — Аллюзия на шекспировского
«Макбета» (акт II, сц. 2, 26). Ср. в пер. А. Радловой: «Я страх их слушал...
43 ...«тихий, спокойный голос»... — 3 Цар. 19: 12. Ср. в рус. пер.: ...веяние
тихого ветра...» (о голосе Бога).
44 Команда злобных критиков из Эдинбурга закрепила эпитет «кокни» за...
писателями, родившимися в столице... — Хэзлитт имеет в виду серию статей против
«школы кокни» в эдинбургском «Блэквудском журнале» (1818 г.).
45 ...«Как червяком прокушенная почка, / Которая не выгонит листа / И солнцу
не откроет сердцевины». — Шекспир У. Ромео и Джульетта. Акт I, сц. 1, 151—153.
Пер. Б.Л. Пастернака.
4(3 Бедный Китс\.. Не в силах вынести гнусных воплей и дурацкого смеха, он
испустил последний вздох в чужих краях. — Поэт Дж. Ките умер в Риме. Хэзлитт был
склонен объяснять его раннюю кончину жестокостью и равнодушием критики.
47 «Неблагодарности чудовище огромное». — Шекспир У. Троил и Крессида. Акт Ш,
сц. 3, 147. Хэзлитт цитирует не совсем точно. Ср. в пер. Т. Гнедич: «Есть
страшное чудовище, Ахилл, — / Жестокое Забвенье».
48 ...душа моя, отвратись от них. — Голдсмит О. Путник. 165. Ср. в пер. А.
Ларина: «Но зри, душа...»
49 ...«вдали от шумных и позорных сцен»... — Грей Т. Элегия, написанная на сельском
кладбище. 73. Пер. С. Черфаса. Ср. также в пер. ВА. Жуковского 1802 г.:
«Скрываясь от мирских погибельных смятений...» и 1839 г.: «Чуждые смут и волнений...»
50 Болингброковы «Размышления об изгнании». — Подразумевается книга
известного политика Генри Сент-Джона, виконта Болингброка (1678—1751), написанная в
1716 г. и изданная в 1752 г. В 1715 г. сделавший громкую карьеру при королеве Анне,
лорд Болингброк впал в немилость у нового монарха Георга I и вынужден был
бежать во Францию.
51 ...«Поверьте мне, Провидение установило такой порядок вещей ~ по какой земле я
ступаю». — Цитата из Болингброка (The Works of the late Rt Hon Henry St John, Lord
Viscount Bolingbroke: In 5 vol. L., 1754. Vol. 1. P. 107-108).
52 Плутарх. Об изгнании. Он сравнивает тех, кто не в силах жить вдали от своей
страны, с простодушными, которые считают, что в Афинах луна прекраснее, чем в
550
Примечания
Коринфе. — Данное примечание принадлежит Болингброку, который
пересказывает одну из «Моралий» Плутарха — «Об изгнании» (601С).
53 «Вы, что по кругу небес ведете бегущие годы». — Вергилий. Георгики. 1.6. Пер. С. Шер-
винского.
XI
МЫСЛЬ И ДЕЙСТВИЕ
ON THOUGHT AND ACTION
1 Темпл — юридический квартал в западной части лондонского Сити.
2 Чаринг-Кросс — район пересечения людных лондонских улиц Уайтхолл и Стрэнд
к югу от Трафальгарской площади.
3 Авраам Такер рассказывает об одном своем приятеле... который... не мог решить,
куда пойти... и... повернул назад. — См.: Такер А. Преследуя свет природы. Кн. 1. Гл. 6.
4 ...Луве сообщает нам, что... несколько жирондистов... чуть не попались. —
История рассказана в мемуарах Жан-Батиста Луве де Кувре о Французской революции
(1795), переведенных на английский язык под заглавием «Повествование об
опасностях, коим я был подвержен начиная с 31 мая 1793 года». Жирондисты — одна из
политических партий во время Французской революции.
5 ...из книги Талла о зелыеделии... — Имеется в виду трактат «Новое лошадное
земледелие» (1731) агронома и изобретателя Джетро Талла, переизданный в 1822 г.
с предисловием У Коббета.
6 «Тихо\ Неужто можешь ты отнять у человека его причуды?» — Реминисценция
из комедии У Шекспира «Много шума из ничего» (акт II, сц. 2, 240—242). Ср. в
пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник: «Неужели колкости и шуточки, эти бумажные
стрелы, которыми перебрасываются умы, должны помешать человеку идти
своим путем?»
7 ...«тех призраков, видений, которыми забота мозг наш мучит». — Шекспир У.
Юлий Цезарь. Акт II, сц. 1, 231—232. Пер. MA. Зенкевича. Хэзлитт заменил в
цитате слово «забота» словом «мысль».
8 ...Бонапарт покидал палату депутатов перед началом своей последней битвы,
оказавшейся для него роковой... — Речь идет о сражении при Ватерлоо (18 июня 1815 г.),
которым окончились Сто дней Наполеона (20 марта — 8 июля 1815 г.) и
продолжавшийся 23 года период наполеоновских войн. Четыре дня спустя после поражения
император вторично отрекся от престола, а в октябре того же года был отправлен
в изгнание на остров Святой Елены, расположенный в южной части Атлантического
океана.
9 Наш мир — это... книга, где... не последнее место принадлежит «непредвиденному
стечению обстоятельств»... — В оригинале, развивая метафору мира-книги, Хэзлитт
прибегает к игре слов, используя выражение «chapter of accidents» (букв.: «глава о
случайностях»). По всей видимости, это обозначение происходит из римского
права, в котором своды законов делились на книги, а книги — на главы. Встречается она,
в частности, в письме известного дипломата лорда Честерфилда (1694—1773) к
своему крестнику Соломону Дейроллзу (ум. 1786), также дипломату, от 16 февраля
1753 г.: «Глава о знании коротка, а глава о случайностях весьма пространна». А поэт
Роберт Саути в своем произведении «Врач» (гл. 118) приписывает следующее выска-
XI. Мысль и действие
551
зывание журналисту и политику Джону Уилксу (1725—1797): «Глава о случайностях —
самая длинная в книге». Существовала и комедия некой мисс Ли с таким названием,
написанная по мотивам «Отца семейства» Д. Дидро, поставленная в театре Хеймар-
кет и напечатанная в 1780 г.
10 Голландцы сходят сума по тюльпанам... — Вероятно, Хэзлитт вспоминает одну
из публикаций в журнале «Болтун». См.: The Tader. 1710. August 31. № 218.
11 ...«измерить линейкой в два локтя и сосчитать на десяти пальцах». — Цитата
из «Размышлений о перспективе мира, достигнутого ценой убийства монарха»
(1796) Эдмунда Бёрка.
12 ...«лишать даров природы дивных»... — Аллюзия на шекспировского «Ричарда Ш»
(акт I, сц. 1, 18—19). Ср. в пер. А. Радловой: «Меня природа лживая согнула/И
обделила красотой и ростом».
13 «Что 6 ни творила она, куда бы свой путь ни держала, / Следом скользит
Красота и наряжает ее». — Тибулл. Элегии. Ш. \ТП. 7—8 (в др. нумерации — IV. П. 7—8).
Пер. Л. Остроумова.
14 ...ослепительных подвигов и рокового честолюбия современного властителя... —
Имеется в виду император Наполеон, которым Хэзлитт неизменно восхищался.
15 Юм... замечает, что о Вергилии и Гомере думают чаще и больше, чем о Цезаре
или Александре. — Источник не найден.
16 Сражение при Арбеле. — Более известно под названием сражения при Гавга-
мелах. Состоялось 1 октября 331 г. до н. э. и завершилось окончательной победой
Александра Македонского над персидским царем Дарием III.
17 ...отступление Десяти тысяч под командованием Ксенофонта или его
произведение под этим названием? — Имеется в виду произведение древнегреческого историка
Ксенофонта «Анабасис» («Поход»), в котором автор вспоминает, как командовал
наемным греческим войском около 400 г. до н. э., во время похода Кира
Младшего против Артаксеркса, и как затем вел своих воинов назад в Грецию.
18 Ловелас — герой романа Сэмюэла Ричардсона «Кларисса, или История
молодой леди» (1747—1748), расчетливый соблазнитель, фамилия которого стала
нарицательной.
19 Философ-эпикуреец — последователь учения древнегреческого философа
Эпикура; в упрощенном понимании — любитель чувственных наслаждений.
20 ...«быть мудрым значит быть упрямым». — Аллюзия на шекспировскую
трагедию «Кориолан» (акт V, сц. 3, 26). Ср. в пер. под ред. А. Смирнова:
«Добродетелью пускай / Мое упорство будет».
21 Покойный король — Георг III, скончавшийся 29 января 1820 г.
22 У Чарлза Фокса были живые, умные глаза и прекрасный выразительный лоб... —
Хэзлитт видел Ч. Фокса в Лувре в 1802 г.
23 Как говорил Лафонтен о св. Августине, он не такой великий остроумец, как
Рабле... — Хэзлитт вспоминает следующий исторический анекдот. Однажды в доме
французского поэта и теоретика классицизма Никола Буало-Депрео (1636—1711)
гостили баснописец Лафонтен, драматург Расин и брат хозяина. Последний
превозносил св. Августина, и вдруг Лафонтен, который уже почти задремал, спросил: «Он
был так же остроумен, как Рабле?», на что брат Буало ответил: «Обратите
внимание, месье Лафонтен, у вас чулок надет наизнанку».
24 ...излучает... «спокойствие и улыбки»... — Купер У. Задача. IV. 49.
552
Примечания
25 Мистер Колридж считает, что Бонапарт принадлежит скорее к разряду людей
действия, чем мысли... — В трудах Колриджа Наполеон упоминается не раз, но
приведенное суждение о нем не обнаружено. Вероятно, Хэзлитт имеет в виду личный
разговор с поэтом.
26 .......что может быть удивительней ~ для осуществления бессмертных
замыслов». — Хэзлитт цитирует «Видение, касающееся его покойного ложного
Величества, Кромвеля Злого» А. Каули, переизданное в 1810 г.
27 ...«колким и нежным». — Шекспир У. Все хорошо, что хорошо кончается. Акт IV,
сц. 4, 33. Ср. в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник: «И станет нежным, а не только
колким».
28 Юлий Цезарь и Ксенофонт описали свои деяния ясно и скромно. — Юлий Цезарь
оставил «Записки о галльской войне» и «Записки о гражданской войне». О Ксено-
фонте см. выше примеч. 17.
29 Герцог Веллингтон... вынужден поручить свое жизнеописание мистеру Мадфор-
ду. — Имеется в виду «Битва при Ватерлоо: Исторический отчет о кампании в
Нидерландах в 1815 году под командованием Его Светлости герцога Веллингтона и
маршала-князя Блюхера» (1817), написанный У. Мадфордом при содействии
герцога.
30 Гораций... не создал благоприятного впечатления о своих воинских подвигах. — См.:
Гораций. Оды. П. 7. Ср. в пер. Г.Ф. Церетели: «С тобой Филиппы, бегство поспешное /
Я вьшес, кинув щит не по-ратному, / Когда, утратив доблесть, долу / Грозный
позорно склонился воин».
31 ...выразительная гравюра, на которой Мольер читает... комедию в присутствии
знаменитой Нинон де Ланкло. — Гравюра, о которой идет речь, подробно описана
во вступительной лекции Хэзлитта об английских авторах комедий.
32 ...«И всякого труда он избегал / Во имя созерцания». — Спенсер Э. Королева фей. I.
IV. 20. 3-4.
33 «Уж лучше царствовать над богачами, / Чем быть богатыми —увы, рабами». —
Там же. П. Vu. 33. 7—8. Цитата не совсем точна.
34 ...купает свою неуклюжую тушу в волнах черепахового супа. — Неточная цитата
из «Письма к благородному лорду» Э. Бёрка. См. примеч. 31 к очерку «Портрет
Коббета».
35 Олдермен . — Возможно, Роберт Уэйтмен (1764—1833), политик
радикального толка.
36 ...«подобно тени, что неверный свет бросает»... — Спенсер Э. Королева фей. П.
VII. 29. 6.
37 Образ пещеры Маммоныу Спенсера. — См.: Там же. П. VII. 28—30.
38 Основатель больницы Гэя. — Имеется в виду Томас Гэй (1645—1724),
книготорговец из Корнхилла, начинавший с ввоза в Англию отпечатанной в Голландии
Библии на английском языке, а затем составивший себе состояние на удачных
сделках с «Акционерным обществом Южных морей».
39 ...«размазни». — Шекспир У. Король Генрих IV TL 1. Акт II, сц. 3, 33. Пер.
Б.Л. Пастернака («О, я готов надавать себе пощечин за то, что предложил такую
чудную вещь этой размазне»).
XII. О составлении завещаний
553
XII
О СОСТАВЛЕНИИ ЗАВЕЩАНИЙ
ON WILLMAKING
Включено Хэзлиттом в парижское издание «Застольных бесед» (1825).
1 Завещание Теллусона — известный в Англии юридический казус, когда некто
Питер Теллусон (1737—1797) распорядился, чтобы доход с его имущества
накапливался в течение жизни его потомков — тех, которые были живы в момент его
смерти. Это распоряжение было выполнено, но пришлось принять специальный
закон, исключающий подобные прецеденты.
2 ...о престранном завещании, составленном человеком, который всю жизнь
испытывал неодолимую тягу ко лжи. — Поэт У. Вордсворт оставил следующий
комментарий на полях в своем экземпляре «Застольных бесед»:
Эту историю, должно быть, поведал я. Она здесь пересказана с
преувеличениями. Ее герой — мой однокашник, и я узнал о завещании от брата одного из его
душеприказчиков. Он отписывал родственникам и друзьям не поместья и т. п.,
а весьма значительные суммы денег, не имея, по всей видимости, ни гроша.
3 «Нашла коса на камень». — В оригинале приведена аналогичная по смыслу
английская пословица «Алмаз алмаз режет». Возможный источник цитирования —
пьеса Дж. Форда «Меланхолия влюбленного» (акт I, сц. 3, 97).
4 ...библиотека — еще слишком непомерная награда для Жиля Власа с его
фатовскими претензиями. — См.: Лесаж А.-Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны.
Кн. П. Гл. 2. Библиотеку Жилю Бласу завещал лиценциат Седильо из Вальядоли-
да. Она состояла из 5—6 довольно бесполезных книг и нескольких рукописей.
Наследник отдал ее родственникам покойного.
5 Завещание Николаса Джимкрэка. — См.: Tader. № 216. В момент
опубликования этого курьезного «документа» журналом руководил Дж. Аддисон. Слово «gim-
cracks» означает яркие, но бесполезные безделушки.
6 «Их сердце милый глас в могиле нашей слышит ~ Еще огнем любви для них
воспламенен». — Грей Т. Элегия, написанная на сельском кладбище. 91—92. Пер. В А.
Жуковского.
7 «Воспоминания одной наследницы» — роман Франсис Бёрни. Полное название —
«Сесилия, или Воспоминания одной наследницы» (1782).
8 Майская роса. — Согласно старинным поверьям, обладала косметическими
и лечебными свойствами.
9 Дайот-стрит. — После переименования, о котором пишет Хэзлитт, данное
название было восстановлено в 1877 г.
10 Сент-Джайлз. — См. примеч. 31 к очерку «Индийские жонглеры».
11 Джордж-стрит. — Получила название в честь короля Георга Ш (1760—1820 гг.).
12 Далиджский колледж — частная средняя школа для мальчиков,
расположенная в юго-восточном пригороде Лондона (основана в 1619 г.).
13 ...близ Вальми, где в 1792 г. произошла первая значительная битва, в
которой союзники потерпели поражение. — 20 сентября 1792 г. французский полководец
Ф.-К. Келлерман разгромил у деревни Вальми (в Шампани, в 108 милях от Пари-
554
Примечания
жа) прусскую армию, вторгшуюся в пределы революционной Франции; это
поражение заставило австрийско-прусские войска покинуть французскую территорию.
14 ...куст базилика рос все выше и выше из драгоценной головы возлюбленного Изабел-
лы\ — Аллюзия на историю, рассказанную в пятой новелле четвертого дня
«Декамерона» Дж. Боккаччо. На тот же сюжет написана поэма Дж. Китса «Изабелла, или
Горшок с базиликом» (1818); см.: LTV. 425-^32.
XIII
О НЕКОТОРЫХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ В «ЛЕКЦИЯХ»
СЭРА ДЖОШУА РЕЙНОЛДСА
ON CERTAIN INCONSISTENCIES IN SIR JOSHUA REYNOLDS'
DISCOURSES
1 «Лекции» сэра Джошуа Рейнолдса. — Хэзлитт цитирует «Лекции» по изданию
Э. Малоуна: The Works of Sir Joshua Reynolds: In 3 vol. /Ed. E. Malone. L.: T. Cadell
& W. Davies, 1809.
2 «Однако существует одна заповедь ~ природного дара». — The Works of Sir Joshua
Reynolds... Vol. 1. 43-44.
3 «Отымая подпоры те, которыми мой дам весь держится, вы целый дам берете\» —
Шекспир У. Венецианский купец. Акт IV, сц. 1, 375—376. Пер. П. Вейнберга.
4 «Такое пыл ~ за пределами человеческих возможностей». — The Works of Sir
Joshua Reynolds... Vol. 1. P. 55—56.
5 «Четко определить ~ художественным чутьем и гениальностью». — Ibid. P. 56—57.
...«вознесения на яркий небосвод воображенья»... — Шекспир У. Генрих V. Пролог.
1—2. Пер. Е. Бируковой. Цитата немного неточна.
7 «Карло Маратти ~ мало собственной индивидуальности». — The Works of Sir
Joshua Reynolds... Vol. 1. P. 171-172.
8 «Змея должна пожрать другую змею, чтобы стать драконом». — Эразм
Роттердамский. Пословицы. 3. 3. 61.
9 ...за полное равнодушие к своей одежде, внешности и всем обыкновенным заботам
и тревогам жизни он получил ласковое прозвище Мазаччо. — Об этом пишет и Дж. Ва-
зари. Мазаччо значит «Большой нескладуха Томмазо» (настоящее имя художника —
Томмазо ди Джованни ди Симоне Гвиди).
10 «Каждодневную пищу ~ Пьерино дель Вага». — The Works of Sir Joshua Reynolds...
Vol. 2. P. 92-95.
11 «Я... убежден ~ наблюдательность и опыт работы». — Ibid. Vol. 1. P. 151—153.
12 «Коротко говоря ~ несовершенными художникам высочайшего порядка». — Ibid. P. 116.
13 «несколько тускнеет»... — Шекспир У. Огелло. Акт I, сц. 1, 73. Ср. в пер. Б.Н. Лей-
тина: ...[чтобы счастье мавра] / Поблекло несколько».
14 «Конечно, совершенство ~ задач каждого жанра». — The Works of Sir Joshua
Reynolds... Vol. 1. P. 217.
15 «На этом основании ~ ничтожеству и безвкусице в высшем». — Ibid. Vol. 2.
P. 150-152.
16 «По этой причине я прошу ~ Огайо или Новой Голландии». — Ibid. P. 118—119.
Новая Голландия — историческое наименование Австралии (главным образом
западной ее части) до 1824 г.
XIV В продолжение начатого разговора
555
17 «В природе надлежит видеть... источник, из которого рождаются все совершенства
художника». — Ibid. Vol. 1. P. 162.
18 «Не замечают своего уродства, / Собой гордятся более, чем прежде». — Милтон
Дж. Комос. 74г-75. Цитата неточна. Ср. в пер. Ю.Б. Корнеева: «Не замечает
своего уродства, /Но мнит, что он красивее, чем прежде...»
19 «Те художники ~ абсолютной идее Искусства». — The Works of Sir Joshua
Reynolds... Vol. 2. P. 106-108.
XIV
В ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАТОГО РАЗГОВОРА
THE SAME SUBJECT CONTINUED
1 ...в двух статьях сэра Джошуа в «Ленивце». — См.: The Idler. № 79, 82;
перепечатаны в собрании сочинений (см.: The Works of Sir Joshua Reynolds... Vol. 2. P. 229—243).
2 «Раз доказано ~ оскверняет полотно уродством». — The Works of Sir Joshua
Reynolds... Vol. 2. P. 242-243.
3 В чем недостаток манеры Деннера? — Хэзлитт нередко вспоминает об
излишне детализированной манере письма немецкого художника Балтазара Деннера
(1685-1749).
4 ...«пытался до некоторой степени изжить сей недостаток. О, пусть они
изживут его окончательно*.» — Шекспир У. Гамлет. Акт III, сц. 2, 36—38. Цитата
неточна. Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «Первый актер. Надеюсь, мы более или менее
искоренили это у себя. Гамлет. Ах, искорените совсем».
5 «Здесь надо добавить ~ пленяя воображение». — The Works of Sir Joshua
Reynolds... Vol. 1. P. 52-53.
6 «Адам суровый\ Как твои уста I Столь горькие слова произнесли?» — Милтон Дж.
Потерянный Рай. IX. 1144. Пер. Арк. Штейнберга.
7 «Красота и величие искусства ~ деталями любого рода». —The Works of Sir Joshua
Reynolds... Vol. 1. P. 57-58.
8 «Я с готовностью допускаю ~ пагубны для его величия». — Ibid. P. 82.
9 «Этим, и только этим ~ разнородные творения природы». — Ibid. Vol. 2. P. 63.
10 «Поскольку живопись ~ простоте и целостности природы». — Ibid. P. 64.
11 «Очень жаль ~ может считаться единственно ценной». — Ibid. P. 65.
12 «Напрасный труд ~ недостаточно хорошо скомпоновано целое». — Ibid.
13 «В те времена манера Тициана ~ простоте выразительных средств». — Ibid. P. 51.
14 «Многие художники ~ нелепые, глупые картины». — Ibid.
15 «Сейчас меня больше всего волнует ~ не сделают из художника подлинного
Гения». — Ibid. P. 43—44.
16 О Вергилии говорили, что, даже удобряя навозом зелыю, он сохранял благородное
достоинство... — Дж. Рейнолдс имеет в виду «Опыт о "Георгиках" Вергилия»,
написанный Дж. Аддисоном (см.: The Miscellaneous Works of Joseph Addison: In 2 vol. /
Ed. A.C. Guthkelch. L., 1914. Vol. П. P. 9). «Георгики» — философско-дидактическая
поэма Вергилия о сельском хозяйстве, изобилующая картинами природы и труда,
нарисованными с большим знанием дела.
17 «Нет такой человеческой фигуры ~ наделял величием и глубоким смыслом». —
The Works of Sir Joshua Reynolds... Vol. 2. P. 53-54.
556
Примечания
18 ...«его герои принадлежат ~ не обязан никому». — Ibid. Vol. 1. P. 129.
19 «Если вы намерены сохранишь ~ исказит и изуродует самое прекрасное лицо». —
bid. Р. 117-118.
20 Юдифь и Олоферн. — Вероятно, имеются в виду два приписываемые Гвидо Рени
рисунка с названием «Юдифь с головой Олоферна», хранящиеся ныне в Музее
изящных искусств Сан-Франциско.
21 ...дочь Иродиады с головой Крестителя... — Имеется в виду полотно Гвидо Рени
«Саломея с головой св. Иоанна Крестителя» (ок. 1640), хранящееся ныне в
Художественном институте Чикаго.
22 Андромеда. — Имеется в виду картина Гвидо Рени «Андромеда,
освобождаемая Персеем»; сейчас хранится в палаццо Паллавичини в Риме.
23 Матери Невинных. — То есть матери младенцев, перебитых, согласно
Евангелию, по приказу царя Ирода. Картина Гвидо «Избиение младенцев» хранится
в Болонской пинакотеке.
24 «Из-за неумения приспособить сюжет ~ Венера, которую одевают Грации». — The
Works of Sir Joshua Reynolds... Vol. LP. 118. Упомянутые Рейнолдсом богиня
Венера и три одевающие ее Грации изображены на картине Гвидо Рени «Туалет
Венеры» (1620—1625), написанной мастером совместно с учениками и хранящейся в
Национальной галерее (Лондон). Существует также гравюра с этой картины,
выполненная Робертом Стрейнджем (1721—1792).
25 ..Аполлон... выпустил стрелу в Пифона... — В древнегреческой мифологии
Пифон — сын Геи (Земли), страшный дракон, охранявший Дельфы, до того как их
занял Аполлон. Аполлон убил его своими стрелами и должен был восемь лет
оставаться в изгнании, пока не утихнет гнев Геи.
20 «Не могу закончить обсуждение ~ в равной мере восхитительны». — The Works
of Sir Joshua Reynolds... Vol. 2. P. 20-21.
27 Мелеагр — в древнегреческой мифологии этолийский герой, сын
каледонского царя Ойнея и его жены Алфеи; участник похода аргонавтов и охоты на
каледонского вепря, насланного богиней Артемидой; убил зверя, однако при дележе добычи
разгорелась междоусобная война, в которой Мелеагр погиб.
28 Старый дворец — Палаццо Веккьо (1298), расположенный на площади
Синьории во Флоренции.
29 «Полагающие, что скульптура ~ которую у него как будто отнимают». — The
Works of Sir Joshua Reynolds... Vol. 2. P. 24—25.
30 « Что касается последнего возражения ~ развитой и мощной мускулатурой». —
Ibid. P. 20.
31 «Против выдвинутого мной принципа ~ ни оказаться недостаточно развитой». —
bid. Vol. 1. P. 62-64.
32 Этюды Рафаэля. — Имеются в виду наброски, выполненные Рафаэлем для
шпалер, которые предполагалось разместить в Сикстинской капелле. Семь из
десяти набросков сохранились: они находятся в британской королевской коллекции
и выставлены в Музее Виктории и Альберта в Лондоне; сами шпалеры
располагаются в Ватикане.
33 ...в статуе Париса... можно обнаружить три разных характера: судьи трех
богинь... — Имеется в виду известный эпизод древнегреческих мифов, когда
Парису, второму сыну троянского царя Приама и его жены Гекубы, пасшему идейские
XV Парадокс и банальность
557
стада, выпало присудить яблоко прекраснейшей, по его мнению, из трех богинь:
Гере, Афине или Афродите. Он выбрал последнюю, и та стала покровительницей
Париса и всего троянского народа.
34 ...победителя Ахилла. — Парис убил Ахилла стрелой, которую Аполлон
направил герою в единственное уязвимое место на его теле — в пятку.
35 «Некоторые прекрасные черты тяготеют ~ столь же трудны, сколь опасны». — The
Works of Sir Joshua Reynolds... Vol. 1. P. 117-120.
30 Трагедия доктора Джонсона «Ирена». — Была поставлена в театре Друри-Лейн
в 1749 г.; успеха не имела.
XV
ПАРАДОКС И БАНАЛЬНОСТЬ
ON PARADOX AND COMMON-PLACE
...Шеридан... отозвался о выступлении некоего оратора... — Выступление имело
место в палате общин английского парламента, членом которой был Шеридан.
2 ...«кладя на одну чашу весов невежество, а на другую — самомнение»...
«восхищенно улыбается при виде вечного равновесия». — Купер У. Задача. IV. 485—486.
3 ...сетовал Лютер: «Ум человеческий подобен пьяному седоку: подсади его с одной
стороны, так он свалится с другой». — Цитата не найдена.
4 ...«верховными правителями»... — Возможны два источника: «Герцогиня Амаль-
фи» (1623) Дж. Вебстера (акт П, сц. 1, 91—92) или «Любовь за любовь» У. Конгри-
ва (акт П, сц. 1, 72—73). Ср. цитату из первой в пер. Д.К. Петрова: «О сэр, вы
восходящая звезда, вы первый человек у герцогини» (слова Босолы, обращенные к
Антонио) — и цитату из второй в пер. Р. Померанцевой: «Только, боюсь, сударь, не
вы тут центр притяжения! Ха-ха-ха!» (слова Анжелики, обращенные к Форсайту).
5 Вавилонский диалект. — Аллюзия на библейскую притчу о вавилонском
столпотворении, когда Бог в наказание за людское честолюбие смешал все языки, в
результате чего представители разных народов перестали понимать друг друга (см.:
Быт. 11: 1-9).
6 ...«восприимчивые и изобретательные умы». — Шекспир У. Генрих IV. Ч. 2. Акт IV,
сц. 3, 99. Ср. в пер. Е. Бируковой: «Добрый херес <...> делает ум восприимчивым,
живым, изобретательным».
7 ...«власти предержащие»... — Рим. 13: 1. Ср. в рус. пер.: ...существующие же
власти...
8 ...«освященных веками»... — Вордсворт У. Прогулка. VII. 21.
...«всех суетных записей»... — Шекспир У. Гамлет. Акт I, сц. 5, 99. Ср. в пер.
М.Л. Лозинского: «Все суетные записи сотру».
10 «Не правый никогда, всегда обязан правым быть». — Аллюзия на «Опыт о
человеке» А. Поупа (I. 96), где речь идет не о правоте, а о Божьем благословении.
Ср. в пер. В.Б. Микушевича: «Благословенье в будущем всегда».
11 Автор «Прометея освобожденного» — Перси Биш Шелли. Данный пассаж о нем
вызвал бурный протест Ли Ханта.
12 ...«Смертельнымуязвленьям их тела / Текучие не более чем воздух /
Подвержены... — Милтон Дж. Потерянный Рай. VI. 348—349. Пер. Арк. Штейнберга.
...в «жемчужном океане и янтарных облаках». — Источник неизвестен.
558
Примечания
14 Северная Аврора — полярное сияние.
15 ...«увлекаетум, не проникая в сердце». — Несколько неточная цитата из «Опыта
о человеке» А. Поупа (IV. 254).
16 Фасга — гора, с которой, согласно Библии, Моисей увидел землю
обетованную. См.: Втор. 34: 1.
17 ...«за горизонтам». — Фрагмент цитаты из «Письма благородному лорду» Э. Бёр-
ка: «Их человечность находится за горизонтом — и, подобно горизонту, вечно от них
ускользает».
18 ...«Фарс окончен, теперь давайте у жинать\»... — Из очерка У. Коббета «К любым
реформаторам», опубликованного в журнале «Политический вестник» 26 октября
1816 г.
19 H аиры — аристократия Малабарского побережья (Индия). Э. Бёрк упоминает
наиров в своих «Размышлениях о революции во Франции».
20 «Гнилые местечки». — См. примеч. 23 к очерку «Портрет Коббета».
21 Год реставрации Бурбонов — 1814 г.
22 «Пока вы толкуете о свадьбе, я подумываю о виселице», — говорит капитан Мак-
хит. — Гэй Дж. Опера нищих. Акт П, сц. 13, 67—68.
23 ...нынешнего поэта-лауреата и некоторых из его друзей. — Имеется в виду Р. Сау-
ти и его друзья У. Вордсворт и С.-Т. Колридж.
24 ...кипящим умом... — Шекспир У. Сон в летнюю ночь. Акт V, сц. 1, 4. Ср. в
пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник: «У всех влюбленных, как у сумасшедших, / Кипят
мозги...
25 Письма Шенстона, 1746 год. — Цитируется письмо XTJT к мистеру Грейвзу.
26 ...«поэты [какуже было сказано) ~ мудрости и человечности». — Хэзлитт
приводит пространную цитату из собственной «Литературной биографии».
27 ..ллолитва Самаритянина: «Боже, прости меня, грешного\» — Имеется в виду
притча о мытаре и фарисее (см.: Лк. 18: 13). Ср. в рус. пер.: «Боже! будь милостив
ко мне, грешнику!»
28 ...случилось это в 1794 году. — В тот год 16-летний Хэзлитт был студентом
Хэкни-колледжа.
29 ...пятясь подобно быкам Кака... — См.: Вергилий. Энеида. УШ. 209—211. Как —
в древнеримской мифологии сын Вулкана, огнедьппащий разбойник-великан,
похитивший у Геркулеса часть герионова стада коров, которое тот гнал через Италию.
Геркулес убил Кака и вернул себе коров.
30 Легитимизм. — См. примеч. 11 к очерку «Об одержимости одной идеей».
31 ...«за рядом ряд, объятые смятеньем»... — Милтон Дж. Потерянный Рай. П.
995-996.
32 «Свободу человечеству^.» — Цитата из рефрена «Триумфальной песни» Р. Саути.
33 ...«второе, наихудшее грехопадение человека». — Возможно, несколько
расширенная цитата из поставленной в 1681 г. пьесы Н. Тейта «Ричард II» (акт III, сц. 2).
34 ...«ромашке, которая разрастается тем гуще, чем больше ее топчут». —
Несколько неточная цитата из шекспировской пьесы «Король Генрих IV» (Ч. 1. Акт П, сц. 4,
400—401). Ср. в пер. Е. Бируковой: ...ромашка, чем больше ее топчут, тем скорее
растет».
35 «Троя была». — Проперций. Элегии. П. 8. 10. Пер. Л. Остроумова («...мощною
Троя была...»).
XV. Парадокс и банальность
559
36 «Золото против бумаги» мистера Коббета — цикл статей, начатый в 1810 г. и
собранный в отдельную книгу в 1815 г.
37 ...изречение лорда Бэкона: «Древними являются те времена, в которые мы живем,
а не те, которые мы называем древними, ведя отсчет назад от сего дня, "ordine retrogra-
do"». — Бэкон Ф. О достоинстве и преумножении наук. I. V. 1. Ср. в пер. H.A.
Федорова: ...именно наше время является древним, ибо мир уже состарился, а не то,
которое отсчитывается в обратном порядке, начиная от нашего времени». Данная мысль
высказана Бэконом и в «Новом Органоне» (см.: Книга I: Афоризмы об истолковании
природы и царстве человека. LXXXTV).
38 ...утверждать вслед за мистерам Бёркам, что... политические институты не
подвергались никаким прогрессивным преобразованиям... — Эта мысль высказана Э. Бёр-
ком, в частности, в «Размышлениях о революции во Франции».
39 ...«но знай, к Добру стремиться он не станет». — Милтон Дж. Потерянный
Рай. I. 158—159. Пер. Арк. Штейнберга. Цитата слегка изменена.
40 Революция 1688 года. — Речь идет о так называемой «Славной революции»
1688—1689 гг., в ходе которой король Яков II Стюарт был свергнут, а на
английский престол взошли его дочь Мария и ее супруг принц Вильгельм Оранский.
41 ...к появлению Великой хартии вольностей на Руннимедском лугу. — Имеется в
виду эпизод английской истории, когда в июле 1215 г. на Руннимедском лугу близ
Виндзора король Иоанн Безземельный, стремясь прекратить гражданскую войну,
подписал хартию, ограничившую королевскую власть и даровавшую баронам ряд
вольностей, то есть юридических прав. Из 63 статей хартии наиболее известна ст. 39:
«Ни один свободный человек не может быть арестован, или лишен собственности,
или объявлен вне закона, или подвергнут изгнанию, или каким бы то ни было
образом разорен, подвергнут нападению или преследованию нами, кроме как по суду
равных ему или по закону страны».
42 Великий мятеж. — Такое название нередко дают гражданским войнам в
Англии 1642—1651 гг. между сторонниками парламента и приверженцами монархии.
43 ...опыт... слепой преданности... Стюартов папизму и рабству... вызвал
революцию... — См. выше примеч. 40.
44 ...возведения на престол Брауншвейгского дожа. — Имеется в виду вступление в
1714 г. на престол Великобритании королей из Брауншвейг-Люнебургской династии,
обычно называемой Ганноверской. Первым королем из этой династии был Георг I
(1660—1727), сын ганноверского герцога-курфюрста Эрнеста Августа I и его
супруги Софии Пфальцской, внучки английского короля Якова I. Георг I занял престол
ввиду отсутствия наследников у королевы Анны — последнего британского
монарха из династии Стюартов; такой порядок передачи трона был предусмотрен
Законом о престолонаследии (Act of Settlement) 1701 г.
45 ...готовность британского кабинета министров оскорблять,угнетать и грабить
вызвала революцию в Соединенных Штатах. — Имеется в виду американская
Война за независимость (1775—1783 гг.) — освободительная война 13 английских
колоний, в ходе которой было создано независимое государство — Соединенные
Штаты Америки.
46 ...«подпрыгивая, щебеча и давая прозвища божьим созданиям»... — Шекспир У.
Гамлет. Акт Ш, сц. 1, 144—145. Цитата неточна. Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «...вы
приплясываете, вы припрыгиваете, и щебечете, и даете прозвища божьим созданиям».
560
Примечания
...«в противном случае она сорвется в пропасть и разобьется вдребезги». —
Возможно, аллюзия на «Исповедь» святого Августина (П. П). Ср. в пер. М.Е. Сергеенко:
«[Похоть и любовь] увлекали неокрепшего юношу по крутизнам страстей и погружали
его в бездну пороков». Есть также вероятность, что цитата в действительности
составлена из нескольких библейских текстов. См.: Ис. 13: 16, Наум. 3: 10; Лк. 8: 33.
48 ...о зловещих предостережениях Эдгара, обращенных к Глостеру... — См.: Шекспир У.
Король Лир. Акт IV, сц. 6.
49 ...мистер Монтгомери... поэт, просидевший полтора года в одиночном заключении за
публикацию письма герцога Ричмонда по поводу реформы... — Поэт Дж. Монтгомери,
издававший журнал «Шеффилдский ирис», действительно дважды сидел в
Йоркском замке по обвинению в клевете (1795—1796 гг.), но не по тому поводу, который
называет Хэзлитт. Первый судебный процесс был возбужден из-за баллады в память
о падении Бастилии. Баллада, напечатанная предшественником Монтгомери, не
содержала ни малейших намеков на политические события в Англии, и впоследствии
из архивов официальной переписки выяснилось, что отдачей поэта под суд власти
хотели запугать политические клубы Шеффилда. Причиной второго судебного дела
против Монтгомери стали его высказывания насчет поведения одного из чиновников,
ответственного за разгон воинственно настроенной толпы. После выхода из тюрьмы
поэт напечатал очерк о развлечениях, помогавших скрашивать ему пребывание в
тюрьме, а в 1798 г. — сборник эссе под названием «Сплетник»; впоследствии он
уничтожил все экземпляры сборника, до которых сумел добраться; уничтожил и рукопись
романа, написанного во время второго тюремного заключения. Следует отметить, что
репутация Монтгомери никак не пострадала из-за его конфликтов с властями.
50 ...«устрашающих и предостерегающих»... — Цитата из заключительных строк
послания Снейда Дэвиса «Достойному, гуманному, щедрому, преподобному
благородному мистеру Ф. С, епископу Личфилда».
51 Испания, как Фердинанд, как монархия, пала... чтобы никогда уже не
подняться вновь. — В январе 1820 г. в Испании случилась либеральная революция
(начавшаяся как мятеж в войсках против королевской деспотии), в результате которой король
Фердинанд VII оказался вынужден возвратить Кадисскую конституцию 1812 г.,
ранее отмененную им же по распоряжению Наполеона. Лидер революции, генерал
Рафаэль дель Риего, стремился восстановить либеральный режим и упразднить
инквизицию. На протяжении трех лет король был фактически его пленником.
Однако в апреле 1823 г. с помощью вошедших в Испанию французских войск
абсолютизм был восстановлен. Хэзлитт пишет ранее этой даты.
XVI
ВУЛЬГАРНОСТЬ И ЖЕМАНСТВО
ON VULGARITY AND AFFECTATION
...«меж ними грани еле ощутимы». — Драйден Дж. Авессалом и Ахитофель.
I. 164.
2 «Весят они одинаково, разница на какое-нибудь перышко»... — Вероятно,
контаминация двух шекспировских цитат: «Если их поставить на чашки весов,
достаточно будет и волоска, чтобы один перевесил другого» (Король Генрих IV Ч. 2.
XVI. Вульгарность и жеманство
561
Акт II, сц. 4, 253—254. Пер. Е. Бируковой) и «...вы весите одинаково, разница на
какую-нибудь пушинку» (Мера за меру. Акт IV, сц. 2, 30—31. Пер. MA. Зенкевича).
3 ...высокого и низкого пошиба... — Хэзлитт на свой лад переиначивает Горация
в переводе Каули: «Ненавижу всех, кто к тайнам моим непричастен: / Великих,
плебеев и мелкий люд». См.: Гораций. Оды. III. I. 1. Ср. в пер. Н.С. Гинцбурга:
«Противна чернь мне, чуждая тайн моих».
4 Сэр Джошуа Рейнолдс. Лекции. Т. I. С. 231—232. — См.: Reynolds, Sir Joshua. The
Works: In 3 vol. /Ed. E. Malone. L., 1809. Vol. I. P. 231-232.
5 Джини Динз — героиня романа В. Скотта «Эдинбургская темница» (1818).
...«есть глаза, которые видят». — Библейская аллюзия. См.: Пс. 113: 13 (в
английской Библии нумерация несколько отличается, и данный псалом имеет номер
115). Ср. в рус. пер.: «...есть у них глаза, но не видят».
7 ...«любители простецкой компании»... — Из «Речи об экономической реформе»
Э. Бёрка.
8 «Эвелина» — роман Ф. Бёрни (мадам д'Арбле).
9 ...презрительно высмеивает, язвительно порицает и совершенно осуждает... — В
оригинале — библейские цитаты и аллюзии. См., в частности: 4 Цар. 19: 21
(«...презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона»); Мф. 22: 6, Лк. 18: 32.
10 «Можете погрузить его в океан... все равно он будет держаться». — Стерн Л.
Сентиментальное путешествие. Гл. «Парик. Париж». Пер. А. Франковского.
11 Сэдлерз-Уэллз. — См. примеч. 6 к очерку «Индийские жонглеры».
...он «слыхал о нем»... — Т.-Г. Уэйнрайт, коллега Хэзлитта по «Лондонскому
журналу», писавший под псевдонимом Янус Уэзеркок (то есть Двуличный Флюгер),
в июньском номере за 1820 г. иронически отзывался о ряде статей Хэзлитта
(называя его «мистер Драма»), посвященных театру. В данном очерке Хэзлитт
цитирует некоторые пассажи Уэзеркока.
13 Уайтчепел — бедный район Лондона.
...мисс Валанси, игривую Коломбину в Эшли... — Речь идет об актрисе, сыгравшей
в 1808 г. роль Коломбины в спектакле «Пещера судьбы» в театре «Сан Парей» (от
фр. sans pareil — несравненный), который был основан в 1806 г., а в 1819 г. получил
свое нынешнее наименование «Адельфи».
15 ...«и всяких этаких местах», как сообщил ему цирюльник... — Хэзлитт
цитирует статью Уэзеркока, который имитирует неграмотную речь цирюльника.
1() Театры Кобург и Суррей. — Первый из них был основан в 1818 г.;
первоначально именовался Королевским Кобургским театром; известен в наши дни как Олд
Вик. Второй, открытый в 1810 г., некоторое время был цирком, потом
кинотеатром и более не существует.
17 ...какого рода публика их посещает! — В оригинале дословно: «...вопрос о том,
состоят они или нет в Актах о смертности». Акты о смертности (Bills of Mortality) —
статистика похорон и крещений, которую вели в приходах. Позже это название
распространилось на официальные данные о населении, участвующем в выборах.
Хэзлитт имеет в виду, что основную массу зрителей названных театров составлял
малообеспеченный люд, не имевший права участвовать в выборах.
18 Эксетер — город и район в графстве Девон на юго-западе Англии.
19 Тонтон. — См. примеч. 25 к очерку «О тех, кто живет своей жизнью».
562
Примечания
20 ...«девочки в форменной одежде»... — Хэзлитт вновь цитирует Уэзеркока.
21 Милаш — танцовщица из Итальянской оперы.
22 ...«огненные ножки». — Выражение заимствовано из афиши спектакля с
участием Милани. Уэзеркок с иронией цитировал его в одной из своих рецензий в 1820 г.
23 ...«глотает он, не глядя, вместе с шелухой». — Купер У. Задача. VI. 107—108.
24 Калибан — персонале пьесы У Шекспира «Буря», злобное человекоподобное
чудовище, имя которого стало нарицательным.
25 Йоркширец в исполнении Эмери... — Имеется в виду персонаж комедии Томаса
Мортона (1764—1838) «Школа реформы» (1805), йоркширец Роберт Тайк, роль
которого сыграл Джон Эмери в театре Ковент-Гарден. Хэзлитт написал рецензию на
спектакль (см.: Examiner. 1816. June 23), которая затем вошла в сборник
«Панорама английской сцены» (1818).
26 ...«особая провинциальная печать». — Цитата из «Повести о Римини» Ли
Хаита (гл. III).
27 ...«лопотать бессмысленно»... — Шекспир У. Буря. Акт I, сц. 2, 356—357. Пер.
MA. Кузмина. Цитата неточна.
28 ...«выдавала речь»... — Библейская аллюзия. См.: Мф. 26: 73. Ср. в рус. пер.:
...речь твоя обличает тебя» (слова, сказанные горожанами апостолу Петру, когда
он отрекся от Иисуса).
29 Бонд-стрит — улица в фешенебельной части Лондона, известная
художественными аукционами и дорогими магазинами.
30 Хай-стрит — улица в старой части Эдинбурга, часть так называемой
«Королевской мили» (улицы, разные части которой носят названия средневековых
кварталов).
31 Король на днях произвел сэра Вальтера Скотта в баронеты... — 30 марта 1820 г.
32 «Быть автором? Какая выше честь? / Удачников по пальцам можно счесть\» —
Янг Э. Послания мистеру Поупу. II. 15—16.
33 Первый камергер — придворное звание, букв.: первый лорд королевской
опочивальни (First Lord of the Bedchamber).
34 ...«подражатели, скот раболепный». — Гораций. Послания. I. ХГХ. 19. Пер. Н.С. Гинц-
бурга.
35 ...порок, утративший грубость, становится наполовину менее опасен. — Бёрк Э.
Размышления о революции во Франции.
36 «Противна чернь мне, чуждая тайн моих». — Гораций. Оды. Ш. 1.1. Пер. Н.С. Гинц-
бурга. См. также выше примеч. 3.
37 ...«корчат рожи и гримаски»... — Шекспир У. Буря. Акт IV, сц. 1, 47. Пер. О.
Сороки. Цитата немного неточна.
38 «Из всех зол, — говорит Юм, — анархия — самое кратковременное». — В
произведениях Д. Юма нет такого высказьшания. Следует отметить, что в политическом
очерке «Что такое народ» Хэзлитт приводит эту же самую цитату, но уже без
ссылки на Юма. Скорее всего, цитируя на память, он перепутал и автора высказьшания,
и его содержание. Согласно Аристотелю, две самые кратковременные формы
государственного строя — это олигархия и тирания (см.: Аристотель. Политика. V. IX.
21. 1315Ы1-12).
39 ...«как яростный разлив реки весною»... — Бомонт Ф., Флетчер Дж. Филастр.
Акт V, сц. 3, 9. Пер. Б. Томашевского.
XVII. Пейзаж Никола Пуссена
563
40 ...«Иди, и ты поступай так же»... — Лк. 10: 37 (Иисус толкует притчу о
добром самаритянине).
41 «Эй, на восток\» — опубликованная в 1605 г. комедия Дж. Чапмена, Б.
Джонсона и Дж. Марстона. Авторы были заключены из-за нее в тюрьму.
42 Милламант — героиня комедии У. Контр ива «Так поступают в свете» (1700).
43 ...«сверкающее новизной»... — Шекспир У. Макбет. Акт I, сц. 7, 34. Ср. в пер.
М.Л. Лозинского: «...в свежем блеске».
44 ...«Царили сердобольность и участье». — Чосер Дж. Кентерберийские рассказы.
Пролог. 150. Ср. в пер. И.А. Кашкина: «[Была меж ними также Аббатиса. <...>] Была
так жалостлива, сердобольна».
45 Ньюкасл (Ньюкасл-на-Тайне). — Был крупным центром добычи каменного угля.
46 Колокола Боу — колокола церкви Сент-Мари-ле-Боу в центре Лондона.
Выражение «рожденный там, где слышны колокола Боу» обозначало коренного
лондонца, кокни.
47 ...увези меня скорее ради бога» [акт I, сц. 1). — Хэзлитт приводит два
пространных отрывка из пьесы «Эй, на восток!» (акт I, сц. 2; акт V, сц. 1).
48 «Чудеснщы» Хогарта — восьмая гравюра из сатирического цикла «Путь повесы».
49 Кокетки Деккера. — Очевидно, имеются в виду героини прозаических
памфлетов писателя и драматурга Томаса Деккера, часто изображавшего темную
«изнанку» лондонской жизни.
XVII
ПЕЙЗАЖ НИКОЛА ПУССЕНА
ON A LANDSCAPE OF NICOLAS POUSSIN
Впервые опубликовано в «Лондонском журнале» в августе 1821 года как
«Застольные беседы, № XI», подписано «Т.». Этим очерком начинается второй том сборника.
Хэзлитт включил этот очерк в парижское издание «Застольных бесед» (1825).
1 «И Орион слепой, рассвета ждущий». — Ките Дж. Эндимион. П. 198. Ср. в пер.
Е. Фельдмана: «Дрожа, как Орион перед рассветом».
2 Изображенный на этой картине Орион... — Пуссеновский «Пейзаж с Орионом»
был представлен на ежегодной выставке старых мастеров в Британском институте
летом 1821 г.; там Хэзлитт и увидел его. Гравюра с картины была широко
известна. В настоящее время полотно хранится в Метрополитен-музее (Нью-Йорк).
3 Нимрод — библейский персонале, описанный как «сильный зверолов» (Быт. 10:
8-12).
4 ...«тенью в охоте за тенями». — Аллюзия на перевод «Одиссеи», выполненный
А. Поупом: «Там великан Орион, ростом необычайный, / Быстро несется сквозь
мрак, исполинский охотник» (XI. 703—704). Ср. в пер. В.А. Жуковского: ...явилась
гигантская тень Ориона...
5 Когда в сражении между богами и людьми Орион потерял глаз, ему сказали, что
зрение вернется к нему, если он пойдет навстречу восходящему солнцу. — Орион,
гигантского роста красавец охотник, пытался совершить насилие над Меропой, дочерью
Энопиона, царя Хиоса, который ослепил его с помощью Диониса. После того как
зрение вернулось к Ориону, он отправился на Крит — охотиться вместе с Артеми-
564
Примечания
дой. В мифах приводятся разные версии его гибели: в одних говорится, что он был
умерщвлен из ревности Артемидой, в других — Аполлоном, в третьих — что его
укусил скорпион. После смерти Орион был превращен в созвездие.
6 ...«Плеяды и Заря кружатся в хороводе»... — Милтон Дж. Потерянный Рай. VII.
373—374. Пер. Арк. Штейнберга.
7 ...«предвещаетрассвет». — Возможно, цитата из английского перевода «Героид»
Овидия (ХУШ. 111).
8 ...«обличье призрачное придает»... — Милтон Дж. Потерянный Рай. V 43. Пер.
Арк. Штейнберга.
9 ...«предрешенный вывод». — Шекспир У. Отелло. Акт III, сц. 3, 428. Ср. в пер.
М.Л. Лозинского: «Основанный на чем-то раньше бывшем».
10 ...«считает острова порошинками и для равновесия добавляет землю». —
Библейская аллюзия. См.: Ис. 40: 15 («Вот народы — как капля из ведра, и считаются как
пылинка на весах. Вот острова как порошинку поднимает Он»).
11 ...«годарасцвета»... — Шекспир У. Гамлет. Акт I, сц. 1,113. Пер. Б.Л. Пастернака.
12 ...«силой своей магии»... — Шекспир У. Буря. Акт V, сц. 1, 50. Ср. в пер. Т.Л. Щеп-
киной-Куперник: ...силой магии моей».
13 ...«сверхъестественного»... — Шекспир У. Гамлет. Акт II, сц. 2, 367.
14 «Воздушному "ничто" дает и обиталище, и имя». — Шекспир У. Сон в летнюю
ночь. Акт V, сц. 1, 16—17. Пер. ТА. Щепкиной-Куперник.
15 ...Титан... бросил... свои лучи. — Имеется в виду Гелиос, древнегреческий бог
Солнца, более архаичный, нежели Аполлон, и, соответственно, причислявшийся
к старшему поколению богов (титанам).
16 Кампанья — гористая область в Италии, включающая район Неаполя.
17 ...его недавно опубликованное жизнеописание. — См.: Graham M. (Lady Callcott).
Memoirs of the Life of Nicholas Poussin: In 2 vol. L., 1820.
18 ...великаны, сидящие на вершинах... гор... и лениво играющие на свирели Пана... —
Речь идет о картине Пуссена «Пейзаж с Полифемом» (1649), которая в настоящее
время хранится в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург).
19 Судьба Бахуса и Юпитера очевидна уже во лыаденчестве. — Речь идет о картинах
Пуссена «Воспитание Бахуса» (др. назв. — «Детство Бахуса» или «Малая
вакханалия», 1630—1635), хранящейся в Лувре, и «Юпитер, питающийся молоком Амал-
феи» (др. назв. — «Детство Юпитера», ок. 1638), находящейся в Берлинском музее.
20 «Мор в Азоте» (1630—1631) — картина Пуссена; подлинник находится в Лувре,
а в лондонской Национальной галерее висит копия, подаренная музею в 1838 г.
21 «Всемирный потоп» (1660—1664) — картина Пуссена; находится в Лувре.
22 Чересчур явная печать... — Аллюзия на поэму Дж. Драйдена «Авессалом и
Ахитофель» (ст. 158).
23 ...«камни сообщают, откуда они происходят». — Шекспир У. Макбет. Акт П, сц. 1,
58. Как часто у Хэзлитта, несколько переиначенная цитата, ловко встроенная в
контекст.
24 «Аврора» — картина Пуссена «Кефал и Аврора» (1631—1633); сейчас находится
в Национальной галерее (Лондон).
25 ...«скачут, словно козлики весной». — Спенсер Э. Королева фей. I. VI. 14. 4.
26 Группы вакхических фигур фламандского художника... на картине в Бленхейме. —
XVII. Пейзаж Никола Пуссена
565
По-видимому, имеется в виду «Большая вакханалия» Рубенса, уничтоженная
пожаром в 1861 г.
27 ...у пуссеновского Аполлона, который подает поэту кубок с водой... — Имеется в
виду картина Пуссена «Аполлон и музы (Парнас)» (1630), в настоящее время
находящаяся в музее Прадо (Мадрид).
28 ...изображении нимфы... выжимающей сок из кисти винограда; этот сок течет...
в рот толстенького младенца. — Речь идет о пуссеновской картине «Вакханалия»
(1631—1633), ныне хранящейся в лондонской Национальной галерее.
29 Долина Темпе — узкая долина в греческой области Фессалия, между горами
Олимп и Осса. В древности там находились священные места, связанные с
культами Посейдона и Аполлона.
30 ...полотну, где пастухи... приходят к могиле... — См. примеч. 20 к очерку «О
прошлом и будущем».
31 ...«долины, где гуляет ветерок»... — Аллюзия на «Люсидас» Дж. Милтона (ст. 136).
Ср. в пер. Ю.Б. Корнеева: ...из долин, где дышится вольнее, / Где умеряют ветры,
тихо вея, / Неистовство пылающего дня...
32 ...«вума палатах без примеси материй низких»... — Шекспир У. Гамлет. Акт I,
сц. 5, 103—104. Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «И в книге мозга моего пребудет/Лишь
твой завет, не смешанный ни с чем, /Что низменнее...
33 ...«ясность светлая блаженства наяву»... — Милтон Дж. Комос. 262. Ср. в пер.
Ю.Б. Корнеева: «А вот такое трезвое блаженство, / Восторг столь чистый нынче
в первый раз / Изведал я!»
34 ...«и, кто себе такие наслажденья нечасто позволяет, тот — мудрец». —
Милтон Дж. Мистеру Лоренсу. 13—14. Пер. Ю.Б. Корнеева. Цитата несколько
изменена. См. полный перевод этого сонета в очерке «Сонеты Милтона».
35 «И я жил в Аркадии». — См. примеч. 20 к очерку «О прошлом и будущем».
36 «И старый Гений их швейцаром был, / Впускал и выпускал он их, как мог». —
Спенсер Э. Королева фей. Ш. VI. 31. 8-32. 1.
37 ...«звучат все чаще». — Цитата из шекспировского «Макбета» (акт II, сц. 4) по
адаптированному сценическому изданию 1774 г.
38 ...нечаянные дары... — Вордсворт У. Нечаянные радости. 27—28.
39 Берли. — См. примеч. 15 к первой части очерка «О наслаждении живописью».
40 Коллекция Ангерстейна. — Первоначально располагалась в доме владельца —
предпринимателя русского происхождения Дж.-Дж. Ангерстейна — на улице Пэлл-
Мэлл в Лондоне; в 1824 г. была приобретена английским правительством и
положила начало лондонской Национальной галерее.
41 Коллекция лорда Гровнора. — Начало коллекции положил Ричард, первый граф
Гровнор (1731—1802), купивший за 30 тыс. гиней одно из частных собраний, а затем
существенно его расширивший. В коллекции были картины К. Лоррена, Н.
Пуссена, Рафаэля, Мурильо, Рембрандта (4 полотна), Рубенса (5 полотен), Веласкеса,
Тициана, Гвидо, Паоло Веронезе, Ван Дейка, Гейнсборо (среди прочих — знаменитый
«Мальчик в голубом»), Рейнолдса (в том числе «Портрет Сары Сиддонс»), Хогар-
та, Сальватора Розы и многих других художников. Значительная часть коллекции
хранилась в Гровнор-хаусе на ул. Парк-Лейн в Лондоне и была доступна для
посетителей по воскресеньям.
566
Примечания
42 Коллекция маркиза Стаффорда. — Джордж Грэнвилл Ливсон Гауэр, маркиз
Стаффорд, первый герцог Сазерлэнд (1758—1833), в 1803 г. унаследовал от своего
дяди, герцога Бриджуотера, коллекцию картин, включавшую часть собрания
знаменитой Орлеанской галереи (см. примеч. 8 к очерку «О наслаждении живописью
(Окончание)»). Галерея Стаффорда размещалась в специально выстроенном
маркизом помещении в Кливленд-хаусе. В 1825 г. был выпущен двухтомный каталог
коллекции с гравюрами всех картин (см.: A Catalogue of the Collection of Pictures, of
the Most Noble Marquess of Stafford, at Cleveland House, London...: In 2 vol. /Notes by
J. Young. L.: Hurst, Robinson, and Co., 1825).
43 ...Лувр лишился завоеванных сокровищ... — После падения Наполеона многие
произведения искусства вернулись из Лувра к прежним владельцам.
44 ...искатель величия и славы... сам превратился в тень. — Император Наполеон I
умер 5 мая 1821 г.
XVIII
СОНЕТЫ МИЛТОНА
ON MILTON'S SONNETS
Впервые опубликовано в «Новом ежемесячном журнале» в марте 1822 года как
«Застольные беседы, № III», без подписи.
...«для горестей сердца поэта». — Аллюзия на шекспировского «Макбета» (акт IV,
сц. 3, 196—197). Ср. в пер. А. Радловой: ...для сердца одного/ Здесь личная печаль?»
См. также примеч. 3 к очерку «Об одержимости одной идеей».
2 ...«возвыситься до уровня своего великого замысла»... — Милтон Дж.
Потерянный Рай. I. 24. Ср. в пер. Арк. Штейнберга: ...возвысь / Все бренное во мне, дабы
я смог / Решающие доводы найти».
3 ...«каплями естественной жалости»... — Возможно, шекспировская аллюзия.
См.: Шекспир У. Как вам это понравится. Акт II, сц. 7, 123. Ср. в пер. Т.Л. Щеп-
киной-Куперник: ...слезы жалости священной».
4 ...«всех сладостнее, всех печальней». — Милтон Дж. Б Penseroso. 62. Пер. Е. Вит-
ковского.
5 ...«вполне правильны, но непереносимы». — Шекспир У. Много шума из ничего.
Акт Ш, сц. 3, 36.
6 ...«божественными, несравненными, как ни суди»... — Вольный перевод А.
Поупом Горация (Послания. 1.1. 70). Ср. в пер. Н.С. Гинцбурга: «Но как безупречными
могут, / Чудными, даже почти совершенством считать их, — дивлюсь я».
7 «Нас разлучил апрель цветущий»... — Шекспир У. Сонет 98. Пер. С.Я. Маршака.
8 Сонеты... Вордсворта... отличаются... возвышенностью звучания. Их
торжественность посвящена свободе. — В двухтомном собрании своих стихотворений,
вышедшем в 1807 г., У. Вордсворт опубликовал несколько сонетов под заголовком
«Стихи, посвященные национальной независимости и свободе».
9 ...«Я долго верил в бытие твое, о добродетель, но узрел лишь тень твою»... —
Вероятно, аллюзия на поэму У Вордсворта «Прогулка» (Ш. 784-785).
10 ...«барда смелого, хоть и слепого»... — Цитата из стихотворения английского
поэта Эндрю Марвелла (1621—1678) «О "Потерянном Рае" мистера Милтона» (ст. 1).
XVIII. Сонеты Милтона
567
11 «На недавнюю резню в Пьемонте». — Пьемонт — область на северо-западе
Италии со столицей в городе Турине. Сонет был написан в 1655 г. (опубл. 1673),
вскоре после того, как по приказу герцога Савойского его войска устроили
побоище среди секты вальденцев, образовавшейся в XII в. и сохранившей некоторые
раннехристианские традиции. Оставшиеся в живых вальденцы отправили
посланцев к Кромвелю, от имени которого Милтон составил ряд писем с протестами к
герцогу Савойскому. События воспроизведены в сонете вполне точно.
12 «Отступником он стать не захотел». — Слегка измененная цитата из
«Прогулки» У Вордсворта (Ш. 786).
13 ...«он отныне трону не враждебен». — Саути Р. Видение суда. IX. 29. В этой
поэме, помимо прославления недавно скончавшегося монарха, содержится резкая
критика Байрона и других поэтов-романтиков, называемых «сатанинской
школой». См. также примеч. 41 к очерку «Лорд Байрон».
14 ...«на злые дни и злые языки»... — Милтон Дж. Потерянный Рай. Vu. 26. Ср.
в пер. Арк. Штейнберга: «Я не охрип, / Не онемел, хотя до черных дней, / До
черных дней дожить мне довелось. / Я жертва злоречивых языков».
15 ...сонет о своей слепоте, обращенный к Сайриэку Скиннеру... — Написан в 1655 г.
(опубл. 1694). Приводится в пер. Ю.Б. Корнеева.
16 ...«Служение свободе угасило — / О ней я возвещал Европе всей». — Речь идет о
двух трактатах Милтона «В защиту английского народа», написанных на
латинском языке (первый — 1651, пер. 1692; второй — 1654, пер. 1806) и получивших
европейский резонанс.
17 ...политические... сонеты, обращенные к Кромвелю... — Имеется в виду сонет
«Генералу лорду Кромвелю по поводу предложений, выдвинутых некоторыми
членами Комитета по распространению Священного Писания» (1652, опубл. 1694).
18 ...политические... сонеты, обращенные к... Ферфаксу... — Имеется в виду сонет
«Генералу лорду Ферфаксу по случаю осады Колчестера» (1648, опубл. 1694).
Осада Колчестера и подавление Томасом Ферфаксом роялистского мятежа летом
1648 г. ознаменовали конец боевых действий в гражданской войне между
королем и парламентом.
19 ...политические... сонеты, обращенные к... младшему Вейну... — Имеется в виду
сонет «Сэру Генри Вейну-младшему» (1652, опубл. анонимно 1662). Вейн защищал
религиозную веротерпимость, выступал за свободу совести и полное отделение
Церкви от государства.
20 «Наш вождь, неустрашимый Кромвель...» — Сонет приводится в переводе
Ю.Б. Корнеева.
21 ...«Ты рать шотландцев сбросил в Дарвен пенный»... — Дарвен — река, близ
которой Кромвель одержал победу над шотландскими пресвитерианами (1648 г.).
22 ...«Под Данбаром побед умножил счет»... — Речь идет о другой победе
Кромвеля над шотландцами — в сражении 3 сентября 1650 г. на Данбарском поле в
Восточной Шотландии. Кромвель утверждал, что шотландцы потеряли тогда 3 тыс.
человек убитыми и 10 тыс. пленными, тогда как его собственные потери составили не
более двух десятков погибших.
23 ...«И в Вустере стяжал венок лавровый». — В попытке отвоевать английский
престол Карл П, сын казненного Карла I, собрал шотландскую армию и двинулся
с ней на юг, добравшись 22 августа 1651 г. года до Вустера (города на р. Северн
568
Примечания
южнее Бирмингема). Войска Кромвеля, превосходящие по численности
королевские, атаковали город одновременно с двух сторон — с востока и запада — и
захватили его. Карл П успел бежать во Францию.
24 ...«Вновь на душу советчики твои/Надеть нам тщатся светские оковы. / Не дай
же им, продажным псам, опять / У нас свободу совести отнять». — Сонет был
написан в связи с деятельностью одного из комитетов индепендентского
парламента. Комитет рассматривал проект, содержащий серьезные ограничения свободы
совести в форме духовного и светского контроля над верующими со стороны
государства.
25 «На недавнюю резню в Пьемонте». — Приводится в переводе Ю.Б. Корнеева.
См. также выше примеч. 11.
26 ...тройной тиран... — Имеется в виду Папа Римский, соединяющий власть
судьи, законодателя и первосвященника.
27 Блудница вавилонская — символ греха по Апокалипсису (см.: Опер. 18: 2); в
пуританской литературе под ней подразумевалась Римско-католическая Церковь.
28 «О своей слепоте». — Сонет написан между 1652 и 1655 гг. (опубл. в 1673 г.).
Приводится в переводе С.Я. Маршака. Ухудшение зрения началось у Милтона в
1644 г., и в течение следующих восьми лет поэт старался приспособиться к
своему новому состоянию. Полная слепота наступила в 1652 г., в возрасте 44 лет.
29 Сонеты мистеру Генри Лоузу (о его музыке)... — Сонет написан в 1645 г., опубл.
в 1648 г. Посвящен другу, композитору Генри Лоузу, автору речитативов, а
также и музыкальных сопровождений к стихам разных поэтов.
30 Сонеты... мистеру Лоренсу... — Сонет (сочиненный в духе античных
приглашений Горация) написан в 1655 г. (опубл. в 1673 г.); посвящен Эдварду Лоренсу,
юному другу Милтона, сыну Генри Лоренса, председателя Государственного
совета при Кромвеле.
31 «Пускай огонь в камине разведут...» — Сонет «К Лоренсу» приводится в
переводе Ю.Б. Корнеева.
32 ...роз и лилий, j Которые не сеют, не прядут». — Евангельская аллюзия. См.:
Мф. 6: 26-28.
33 «О покойной жене». — Сонет написан в 1658 г. (опубл. в 1673 г.). Посвящен
второй жене поэта (с 1656 г.) Кэтрин Вудкок, скончавшейся после родов в 1658 г.
34 Алкестида (Алкеста) — в греческой мифологии — жена царя Адмета,
которая согласилась сойти в царство мертвых вместо мужа, чтобы он остался жить;
Геракл вывел ее из Аида и возвратил супругу.
35 «Во сне моя усопшая жена / Ко мне вернулась... — Сонет приводится в
переводе Ю.Б. Корнеева.
36 Сын Кронида — Геракл, сын Зевса (отцом Зевса был Кронос).
37 ...«Библейской роженицы, что должна / Очиститься....... — Имеется в виду
библейский обряд очищения после родов (см.: Лев. 12).
38 Письма Милтона Донату... — Вероятно, имеется в виду обмен латинскими
стихотворными посланиями между Милтоном и Карло Диодати, его другом со
школьной скамьи.
39 ...«в защите юной доблести суровы». — Реминисценция из «Потерянного Рая»
Дж. Милтона (IV 844—846). Ср. в пер. Арк. Штейнберга: «Речь Херувима,
строго прозвучав, / Была неотразимою в устах / Сияющего юной красотой / Воителя».
XIX. О путешествиях
569
40 «Трактат об образовании». — Написан Милтоном в 1644 г.
41 Если бы наш автор мог воспевать только возвышенные эпические сюжеты,
следуя мнению доктора Джонсона... — В своей «Жизни Милтона» Джонсон писал:
«Милтон так и не усвоил искусства изящных мелочей».
42 Революция 1688 года. — См. примеч. 40 к очерку «Парадокс и банальность».
XIX
О ПУТЕШЕСТВИЯХ
ON GOING A JOURNEY
Впервые опубликовано в «Новом ежемесячном журнале» в январе 1822 года как
«Застольные беседы, № 1», подписано «Т.». Примечание редактора гласило: «Это
очерки известного автора "Застольных бесед" в одном томе in-octavo,
опубликованных в прошлом году». Хэзлитт включил очерк в парижское издание «Застольных
бесед» (1825).
1 «Природы книга перед ним открыта». — Блумфилд Р. Сын фермера. I (Весна). 32.
Поэт Роберт Блумфилд (1766—1823), бывший сапожник, писал преимущественно о
сельской жизни в пасторально-романтических тонах.
2 ...«Вубежище моем кому-нибудь/" Прекрасно одиночество*." шепнуть». — Купер У.
Уединение. 741—742.
3 ...«С Раздумьем, лучшим пестуном своим, / Побыть вдвоем: удобнее и легче / Ей
в одиночестве расправить крылья, / Чем в суетливой толчее мирской». — Милтон Дж.
Комос. 377-379. Пер. Ю.Б. Корнеева.
4 Меня тут же разбирает смех, я принимаюсь бегать, скакать, пою от радости. —
Аллюзия на поэму У Купера «Задача» (I. 443).
...«судов обломки с россыпью сокровищ»... — Шекспир У. Генрих V. Акт I, сц. 2,165.
Ср. в пер. Е. Бируковой: ...тинистого моря дно богато / Сокровищами с кораблей
погибших».
6 «Ах, оставьте, оставьте меня в покое\» — См. примеч. 3 к очерку «О
невежестве ученых».
7 ...«долгом совести считаю». — Шекспир У. Отелло. Акт I, сц. 2, 2. Пер. М.Л.
Лозинского.
8 ...товарищество вялое — долоШ»... — Шекспир У. Генрих IV Ч. 1. Акт I, сц. 3,
208. Пер. Вл. Морща.
9 «В дороге мне необходим спутник, — признается Стерн, — хотя бы только для
того, чтобы обменяться впечатлениями о том, как удлиняются тени, покуда
солнце клонится к западу». — В романах Л. Стерна эта цитата не обнаружена.
10 «Пусть держится в уме, но с языка не сходит». — Шекспир У. Гамлет. Акт I,
сц. 2, 249. Пер. K.P.
11 «Его беседа пенье затмевала». — Бомонт Ф., Флетчер Дж. Филастр. Акт V, сц. 1,
202—203. Цитата немного неточна. Ср. в пер. Б. Томашевского: «И ваша речь мне
музыкой звучала». См. также отрывок из названной пьесы (с. 455—456 наст, изд.) и
примеч. 30 к очерку «О радостях ненависти».
12 ...в лесах Олл-Фоксдена. — Уильям Вордсворт и его сестра Дороти жили в
Олфоксден-хаусе (графство Сомерсетшир, близ Бристоля) по приглашению Кол-
570
Примечания
риджа с июня 1797 г. по июль 1798 г. Дороти оставила знаменитые воспоминания
об этом периоде, когда, собственно, и сложился творческий союз двух поэтов.
13 ...«того прекрасного безумия, что свойственно нашим первым поэтам»... —
Приблизительная цитата из стихотворения Майкла Дрейтона «Моему
дражайшему другу Генри Рейнолдсу, эсквайру» (ст. 108—109): «Прекрасное безумье он
хранил. / Оно — Поэту дар от вышних сил».
14 ...«Пусть будут здесь зеленые леса ~ Чтоб там свою отраду целовать». — Флет-
чер Дж. Верная пастушка. Акт I, сц. 3, 26—43.
15 А. — Чарлз Лэм.
...«спокойно вздремнуть в трактире\». — Шекспир У. Генрих IV. Ч. 1. Акт III,
сц. 3, 80—81. Пер. Е. Бируковой.
17 ...«Напитка, веселящего без дурмана»... — Купер У. Задача. IV. 39—40.
18 Однажды Санчо... остановился на говяжьем студне... — Сервантес M. de. Дон-
Кихот. Ч. П. Гл. LIX.
19 ...предаваясь шендианским размышлениям... — То есть размышлениям в духе
сентиментального романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди,
джентльмена».
20 Квакер — член «Общества друзей», протестантской секты, основанной в 1652 г.
англичанином Джорджем Фоксом. Квакеры не имеют духовенства, отвергают
религиозные обряды и таинства, проповедуют пацифизм. Название происходит от
англ. quake — дрожать, трепетать, трястись (Дж. Фокс, неоднократно
подвергавшийся суду и тюремному заключению по обвинению в богохульстве, одну из своих
речей в суде начал словами: «Трепещите перед словом Господним!»). Из-за
преследований в Англии в 1760-х годах многие квакеры эмигрировали в Америку.
21 ...«жизнь вольную, бездомную заключили в тесные границы». — Шекспир У. Акт I,
сц. 2, 26—27. Ср. в пер. П. Вейнберга: «Не заключил бы в тесные границы / Жизнь
вольную бездомную свою». Цитата несколько переиначена Хэзлиттом.
22 ...«господином Сам-с-усам, не обремененнъш именем». — Аллюзия на послание
Дж. Драйдена «Моему почтенному родственнику Джону Драйдену» (ст. 18): «Сам
господин себе, не связанный супругой!»
23 «Ступайте / Чуждые таинствам, прочъ\» — Вергилий. Энеида. VI. 258. Пер. С. Оше-
рова под ред. Ф. Петровского.
24 Уитэм-Коммон — городок на юго-востоке Англии, в графстве Сомерсет.
25 Сент-Неотс — городок в округе Хантингдоншир (графство Кембриджшир,
расположенное в восточной части Центральной Англии).
26 Гравюры этюдов Грибелина. — Опубликованы в 1707 г.
27 «Поль и Виргиния» (1788) — идиллический роман Жака Анри Бернардена де
Сен-Пьера (1737—1814), чрезвычайно популярный в свое время. Английский
перевод, выполненный Х.-М. Уильяме, который, вероятно, и читал Хэзлитт, был
выпущен в 1796 г.
28 ...в гостинице Бриджуотера... — Возможно, во время визита Хэзлитта к Кол-
риджу в Незер-Стоуи (графство Сомерсет). См. эссе Хэзлитта «Мое первое
знакомство с поэтами» (выходило на русском языке в переводе А.Н. Горбунова).
29 «Камилла» мадам д'Арбле — роман, опубликованный в 1796 г.
30 Аланголлен — старинный торговый город в Уэльсе, в долине реки Ди. В
настоящее время в нем проводятся фестивали валлийского искусства — эйстеддводы.
XIX. О путешествиях
571
31 В выбранном мною письме Сен-Пре описывает чувства, охватившие его при
первом взгляде... с вершин Юра в кантоне Во. — См.: Руссо Ж.-Ж. «Юлия, или
Новая Элоиза». Ч. IV. Письмо XVII.
32 ...«луга средь мирных гор оглашают бубенцы»... — Колридж С-Т. Ода
уходящему году. 125—126. Пер. МЛ. Лозинского.
33 ...«блистала зеленью в потоках солнца»... — Там же. 124. Ср. в пер. М.Л.
Лозинского: «Твои холмы, как райский сад, / Солнечным дождем блестят».
34 ...«Прекрасноеушло и больше не вернется». — Колридж С-Т. Смерть Валленштей-
на. Акт V, сц. 1, 68 (перевод из Шиллера).
35 По замечанию сэра Финта Фата, «пустыня — все, что за пределами Гайд-парка». —
Этеридж Дж. Модник. Акт V, сц. 2, 164—165 (реплика Гарриет, обращенная к Дори-
манту: «Я знаю: всё, что за пределами Гайд-парка — для вас пустыня, и никакое
ухаживание не завлечет вас дальше»). Сэр Джордж Этеридж (1635—1692) считается
создателем английской комедии нравов в эпоху Реставрации. Сэр Финт Фат —
персонаж той же комедии «Модник» (1676).
36 Стоунхендж (др. назв. — кромлех) — доисторический кельтский памятник,
представляющий собой поставленные вертикально неотесанные продолговатые
камни (менгиры), образующие один или несколько концентрических кругов и
опоясывающие священное пространство, в середине которого иногда помещен
подобный же столб более крупного размера. Наиболее известен сложный в
архитектурном отношении Стоунхендж, расположенный в 13 км к северу от Солсбери
(графство Уилтшир) и датируемый 3100—1550 гг. до н. э.
37 «Тогда твоя душа становится собой»... — Милтон Дж. Потерянный Рай. I. 254.
Ср. в пер. Арк. Штейнберга: «Где б я ни был, все равно / Собой останусь...
38 Однажды мне... довелось сопровождать одну компанию в Оксфорд... — Чарлза и
Мэри Лэм в августе 1810 г. Лэм вспоминает об этой поездке в письме к Хэзлит-
ту от 9 августа 1810 г. и говорит там же о том, что тоскует по хранящимся в Блен-
хейме работам Тициана.
39 ...«Город многобашенный, в лучах / Восхода, золотящего шпили / И купола
сверканьем заревым»... — Милтон Дж. Потерянный Рай. Ш. 550. Пер. Арк. Штейнберга.
40 Бодлианская библиотека — библиотека Оксфордского университета,
основанная в XTV в. Названа по имени сэра Томаса Бодли, коллекционера средневековых
рукописей, благодаря которому библиотека была вновь открыта в 1602 г. и
существенно расширена после упадка во времена Средневековья.
41 Бленхейм. — См. примеч. 4 к очерку «О наслаждении живописью» (Окончание).
42 Чичероне — гид, проводник (um.).
43 ...«по холмам под лозой и веселым французским долинам»... — Роско У. Песня,
написанная для исполнения в годовщину 14 августа 1791 г. (посвящена Французской
революции). Уильям Роско (1753—1831), историк и литератор, написал целый ряд
произведений, осуждавших работорговлю.
44 Доктор Джонсон заметил, как мало пребывание за границей способствует
усовершенствованию таланта собеседника. — См.: BoswelTs life of Johnson: In 6 vol. /Ed. G.B.
Hill, rev. by L.F. Powell. Oxford, 1966. Vol. Ш. P. 352.
45 «Яродину покинул и себя». — Расхожая цитата неизвестного происхождения;
встречается также у Р.-Л.Стивенсона (см.: «Путешествие внутрь страны». Гл. «В
Компьене»).
572
Примечания
XX
ПОЛИТИКИ ИЗ КОФЕЙНИ
ON COFFEEHOUSE POLITICIANS
1 Политики из кофейни — выражение, возможно, восходящее к названию
сатирической комедии Г. Филдинга «Политик из кофейни» (1730). Впрочем, еще до Фил-
динга известный сатирик Дж. Аддисон писал: «Наши кофейни и впрямь
преотличные заведения <...> английские школы политики...» (Spectator. 1712. February 19).
Кофейни действительно служили в Англии ХУШ — нач. XIX в. средоточием
общественной жизни. До сих пор в английском языке сохранился образованный от их
названия глагол «to coffee-house», означающий «сплетничать».
2 ...«смысл, и соль, и суть их бытия». — Деян. 17: 28. Ср. в рус. пер.: ...ибо мы Им
живем, и движемся, и существуем».
3 ...«вечерних радостей набор»... — Шекспир У. Король Генрих IV. Ч. 2. Акт V,
сц. 3, 50—51. Хэзлитт заменил слово «ночь» на «вечер». Ср. в пер. Е. Бируковой:
«Будем веселиться. Перед нами еще самая приятная часть ночи».
4 ...королева, коронация... — Королева Каролина вернулась в Англию в июне
1820 г., а 7 августа 1821 г. умерла. Все это время в Лондоне только о ней и
говорили. Георг IV был коронован 19 июля 1821 г.
5 «Коль запоздает / Рассказ мой хоть на час, меня освищут...». — Шекспир У.
Макбет. Акт IV, сц. 3, 175. Пер. Ю.Б. Корнеева.
6 «Двухпенсовая почтовая сумка» — сатира Томаса Мура «Перехваченные
письма, или Двухпенсовая почтовая сумка» (1813).
7 Битва при Ватерлоо. — См. примеч. 8 к очерку «Мысль и действие».
8 ...если им заранее не подскажут их роль на сегодня. — В рукописи здесь стоит
фраза, которой нет ни в одном из печатных изданий: «Они похожи на устрицу,
лежащую на отмели и с нетерпением дожидающуюся прилива».
9 ...о выборах в Вестминстере... — Имеются ввиду выборы 1819 г., когда Дж.-К.
Хобхаус, радикал по убеждениям, претендовал на освободившееся место в
парламенте, но избран был Чарлз Лэм. Это событие вызвало многочисленные отклики и
обмен памфлетами. Год спустя Хобхаус все-таки был избран в палату общин, после
того как год просидел в тюрьме за памфлет против той же самой палаты.
10 Ассоциация Бридж-стрит. — Основана в 1821 г., как говорилось, «для борьбы
с публикациями, подстрекающими к мятежу, и для защиты страны от пагубного
влияния нелояльности и бунтарства». Оппоненты называли ее «бандой Бридж-
стрит».
11 ...письме мистера Коббета Джону Кропперу из Ливерпуля... — Имеется в виду
письмо У Коббета «Мистеру Джеймсу Кропперу, торговцу-квакеру из
Ливерпуля, по поводу его письма мистеру Уилберфорсу касательно сахарного
производства в Ост-Индии и Вест-Индии»; было опубликовано в «Еженедельном вестнике»
21 июля 1821 г.
12 «Записки» Цезаря. — См. примеч. 28 к очерку «Мысль и действие».
13 ...«любые шесть из этих молодцов в клеенчатых плащах»... — Аллюзия на
шекспировского «Короля Генриха IV» (Ч. 2. Акт II, сц. 4, 196). Ср. в пер. Е. Бируковой:
«Четверо молодцов в клеенчатых плащах как кинутся на меня...»
14 «Теперь, когда летает вольно / Над нами шуточек довольно, / Осталось нам лишь
XX. Политики из кофейни
573
восклицать: / "Всем можно только глупости болтать\"» — Бомонт Ф. Послание Бену
Джонсону. 45—46, 51—54.
15 Кофейня «Саутгемптон». — Находилась на углу Чансери-Лейн.
...о кофейне «Саутгемптон»... которую устная традиция связывает с великими
именами елизаветинской эпохи. — Имеется в виду Генри Ризли, граф Саутгемптон
(1573—1624), которому У. Шекспир посвятил свои поэмы «Венера и Адонис» и
«Лукреция».
17 Синьор Фрескобальдо, отец Беллафронта — персонаж пьесы Т. Деккера
«Честная шлюха».
18 Диссентеры — сторонники протестантских сект, отделившихся от
Англиканской церкви (XVI—XVIII вв.).
19 Крайняя Фула. — Так назывался у древних греков крайний предел, граница
обитаемого мира; мифическая островная страна на крайнем севере Европы
(возможно, Исландия). Ср. роман греческого писателя Антония Диогена (I—II вв. н. э.) —
«Невероятные приключения по ту сторону Фулы» (известен в пересказе Фотия).
20 ...подобно тому, как Трим взрывал армию, воюющую против союзников\ — Капрал
Трим — персонаж романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди,
джентльмена», слуга дядюшки Тоби. Сам дядюшка — это старый вояка, раненный во
время войны за испанское наследство (1701—1714 гг.). Обзаведясь, уже будучи на
покое, картами крепостей в Италии и Фландрии, он принялся изучать баллистику,
фортификацию и осадное искусство, совершать в воображении диверсии и атаки
против французов. Его увлечение передалось и слуге: «Мы могли бы начать
кампанию, — продолжал Трим, — в тот самый день, как выступят в поход его
величество и союзники, и разрушать тогда город за городом с той же быстротой» [Стерн Л.
Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Кн. П. Гл. V. Пер. А. Франковского).
21 ...обманули Сенат. — Аллюзия на последнюю реплику Пьера в драме Т. Отвея
«Спасенная Венеция» (акт V, сц. 4, 74): «Мы обманули Сенат!» (на эшафоте друг
заколол Пьера кинжалом и закололся сам, чтобы избавить его и себя от
предстоящей казни).
22 «Блаженные, мечтайте\ / Еще счастливей были б вы, когда бы знали / О счастье
вашем и при этом знали, / Что больше знать не надо». — Измененная цитата из
«Потерянного Рая» Дж. Милтона (IV. 773—775). Ср. в пер. Арк. Штейнберга: «Блаженно
спи, / Чета счастливая! Была бы ты / Стократ счастливей, счастья не ища /
Полнейшего и не стремясь предел / Дозволенного знанья преступить!»
23 ...«на сердца глиняных табличках»... — Хейвуд Т. Убитая по-доброму. Сц. 6, 127.
До наших дней дошли 24 пьесы, автром или соавтором которых признан актер и
драматург Томас Хейвуд (ок. 1574—1641).
24 ...«писана на воде». — Образ, популярный у драматургов елизаветинской
эпохи. См., напр.: «Дела дурные мы чеканим в бронзе, / А добрые мы пишем на воде»
[Шекспир У. Генрих VIII. Акт IV, сц. 2, 45—46. Пер. Б. Томашевского). Здесь,
однако, Хэзлитт, по всей видимости, цитирует эпитафию, написанную Китсом для себя:
«Здесь лежит тот, чье имя написано на воде».
25 ...«сшибкам остроумий»... — Чапмен Дж. Месье д'Олив. Акт I, сц. 2, 104.
...«смелым делам подлунного мира»... — Дрейтон М. Моему дражайшему
другу Генри Рейнолдсу, эсквайру.
27 ...«ничего, кроме суеты, беспорядочной суеты». — Возможно, реминисценция из
574
Примечания
«Ромео и Джульетты» (акт I, сц. 1, 178—179). Ср. в пер. А. Радловой: «Легко и
тяжко, суетно и важно, / Нестройный хаос форм...
28 «Глобус» — таверна на Флит-стрит (улица в историческом центре Лондона),
которую любил посещать О. Голдсмит.
29 «Радуга» — таверна на Флит-стрит.
30 «Митра» — таверна на Флит-стрит, завсегдатаем которой был Сэмюэл Джонсон.
31 Джордж — Джордж Киркпатрик.
32 «Так их дальновидность предупредит ваше признание». — Шекспир У. Гамлет.
Акт II, сц. 2, 293—294. Пер. K.P. Цитата не вполне неточна: у Шекспира — «моя
дальновидность...
33 ...избранных наших городских мудрецов... — В оригинале стоит: «a select group of our
little Gotham» — «избранная группа из нашего городка Готама», что отсылает к легенде
о мудрых глупцах из г. Готама (графство Ноттингемшир). Она гласит, что когда
король Иоанн Безземельный (1199—1216 гг.) вознамерился посетить город, жители
договорились изображать сумасшедших, с тем чтобы избежать расходов по
пребыванию двора. Королевские посланцы обнаружили, что жители совершают странные
поступки: пытаются утопить угря, кидают цепи на куст, дабы поймать кукушку, и т. п.
Уловка сработала: король решил остановиться в другом месте. Сборник веселых
историй о «дураках» из Готама был опубликован в XVI в. Позднее эти персонажи
вошли в детский фольклор, где превратились просто в городских сумасшедших.
34 «Тиклер» (англ. «The Tickler» — букв. «Щекотун») — ежемесячный альманах,
печатавший юмористические произведения в прозе и стихах; выходил в 1818—1824 гг.
35 Мастер Стивен — персонаж комедии Бена Джонсона «Каждый в своем нраве»
(1598).
36 «Скорбящая невеста» (1697) — трагедия У Конгрива.
37 ...не Микеле Кассио, не великий арифметик... — Шекспир У. Отелло. Акт I, сц. 1,
19—20. Ср. в пер. М.Л Лозинского: «...великий арифметик, /Микеле Кассио...
38 Роджер — Роджер Киркпатрик.
39 Он словно глядел в camera obscur а — вслед за ним вам виделись... старый Сарратт...
Маунси... Хьюм сАйртоном, выпивающие последний дружеский бокал. — В рукописи это
предложение имеет другой вариант:
Он совершенно неподражаемо делал это: [вам представлялся] старик С[арратт]
со своей трубкой, всегда готовый выдать цитату из Поупа, расположившийся в
яслях среди ящиков с кормом и идеями; М<аунси>, разглядьшающий форточку
в надежде, что влетит бабочка; Х<ьюм> и А<йртон>, совершающие утренний
моцион в <Гайд->парке, словно пара старых почтовых кляч, которых пустили на
выпас; и житель Кокейна, поехавший в Маргит по реке, лишь бы сэкономить; и
кое-кто другой того же сорта, выбравший сухопутный маршрут, дабы как следует
покрасоваться.
Кокейн — а) сказочная страна изобилия и праздности (в средневековых
легендах); б) страна кокни — беднейшая часть Лондона (в литературе иронически
использовали сходство между словами «Cockayne» и «cockney»).
40 ..любитель созерцать Мадфорд из «Курьера»... написал ответ на «Целебса»... —
Имеется в виду Уильям Мадфорд, редактор «Курьера», которого Хэзлитт не выно-
XX. Политики из кофейни
575
сил за глупость и подвергал резкой критике его статьи о драме. В 1811 г. Мадфорд
написал произведение «Созерцатель, или Серия очерков о нравственности и
литературе». Его «Нубилия в поисках мужа» (1812) была попыткой повторить
коммерческий успех «Целебса в поисках жены» (1809) Ханны Мур. Целебс (лат. caelebs) —
холостяк; Нубилия (лат. nubilia) — девушка, достигшая брачного возраста.
41 ...«какребристый песок». — Колридж С.-Т. Баллада о старом мореходе. 227. Ср.
в пер. Н. Гумилева: «...темен, как морской песок...»
42 ...«Бежал наш Киз, и пуст приют унылый». — Возможно, цитата из оперы
Исаака Брэнд она «Киз, или Любовь в пустыне» (1808), которую Хэзлитт скорее
всего сам не слышал, а фразу запомнил на вечеринке у Лэма.
43 ...пришло известие о смерти Бонапарта... — Император Наполеон I умер 5 мая
1821 г.
44 ...будто лис Ренар, «челам поникнув в притворном сне». — Речь идет о лисе Рена-
ре, главном герое французского средневекового «Романа о Лисе Ренаре» —
памятника городской литературы, получившего широкое распространение в ХП—ХШ вв.
Вероятно, имеется в виду эпизод, когда Лис, притворившись мертвым, ворует рыбу.
Выражение «челом поникнув», возможно, заимствовано из поэмы У Шекспира
«Лукреция» (ст. 1661) или драмы Дж. Милтона «Самсон-борец» (ст. 726). Ср. цитату
из первой в пер. Б. Томашевского: «Стоял, поникнув в горе...» — и из второй в пер.
Ю.Б. Корнеева: ...челом склонилась долу...
45 К. — неизвестное лицо.
46 Блэкстоун. — Имеются в виду впервые опубликованные в 1765—1769 гг.
«Комментарии к законам Англии» сэра Уильяма Блэкстоуна — распространенный
юридический справочник.
47 Э. — неизвестное лицо.
48 Национальный долг. — После наполеоновских войн национальный долг
Великобритании достиг колоссальных размеров, что, естественно, сказалось на
благосостоянии налогоплательщиков и вызвало волну протеста. Налоговая система в
стране также была весьма несовершенна.
49 К. — неизвестное лицо; в отличие от упомянутого выше в примеч. 45,
обозначается в оригинале буквой «К», а не «С».
50 ...одним ударом уничтожает Священный союз... — В рукописи стоит ироикоми-
ческое: ...уничтожает Священный союз, пустив клуб табачного дыма (подобно
дядюшке Тоби, только не так добродушно)». Священный союз — союз европейских
государей, созданный в Париже 26 сентября 1815 г. по инициативе российского
императора Александра I. Документ в конце концов подписали почти все
европейские правители, кроме британского принца-регента, турецкого султана и Папы
Римского. Провозглашалось намерение применять христианские принципы в
международных делах, однако политики либерального толка и позднейшие историки
видели в союзе лишь механизм насаждения консерватизма и реакции. Князь Мет-
терних и виконт Каслри считали эту организацию эфемерной и малозначительной.
51 «Мелкий философ» Беркли — книга философа Дж. Беркли «Алкифрон, или
Мелкий философ» (1733); любимое чтение поэта У. Вордсворта. Алкифрон (П в. н. э.) —
греческий ритор, автор 118 вымышленных писем, написанных изящным языком и
дающих яркую картину жизни и быта Греции.
52 Мартин — Бёрни.
576
Примечания
53 ...семя, упавшее на каменистую почву... — Имеется в виду новозаветная
притча о сеятеле. См.: Мк. 4: 5; Мф. 13: 5.
54 ...«нисходит манна небесная»... — Возможно, аллюзия на ироикомическую
поэму Луиджи Пульчи (1422—1484) «Великан Моргайте», известную Хэзлитту в
переводе Байрона, (ст. 217—218).
55 Миссис Бэттл [так записано в ее «Суждениях о висте») никак не могла
решиться сказать: «Идите». — Имеется в виду очерк Ч. Лэма «Суждения миссис Бэттл о
висте», опубликованный в «Лондонском журнале» за февраль 1821 г. и вошедший
затем в сборник «Очерки Элии». В оригинале присутствует игра слов: «Go» значит
по-английски и «идите», и «пас» (карточный термин). Именно слово «пас» не могла
заставить себя произнести миссис Бэттл.
56 «Сидровый погребок» — постоялый двор в районе Ковент-Гарден.
57 Лондонский институт — образовательное заведение, основанное в 1806 г. в
Старом гетто (район лондонского Сити). Целью института провозглашалось
развитие литературы и распространение полезных знаний. Р. Порсон был там первым
библиотекарем до самой смерти в 1808 г.
58 ...разговоры да эль «становятся все чудесней». — Аллюзия на поэму Р. Бёрнса
«Тэм о'Шентер» (ст. 46). Ср. в пер. С.Я. Маршака: «Эль становился все чудесней».
59 Зашла речь о красавицах при дворе Карла II в Виндзоре, а от них перешли к графу
Граммону, их галантному и веселому историку. — В Англии эпохи Реставрации был
популярен жанр «тайной истории». Один из наиболее известных примеров —
«Мемуары графа де Грамона», компиляция различных историй, составленная
по-французски Антуаном (Энтони) Гамильтоном и переведенная на английский в 1714 г. В
ней рассказывается, в частности, о любовных приключениях придворных дам и
кавалеров в царствование Карла II. Виндзор — старинная резиденция английских
королей в графстве Беркшир.
60 ...рассказ о деревенском кузене Киллигрю... — См.: Гамильтон А. Мемуары
шевалье де Грамона. Гл. IX: «Любовные интриги при английском дворе».
61 ...история о том, как кавалер Гамильтон и леди Честерфилдусловились о
свидании и как она продержала его всю ночь в старом холодном флигеле. — См.: Там же.
62 Не забыли и об отваге Джейкоба Холла... — См.: Там же. Гл. VI: «Прибытие
шевалье де Грамона к английскому двору». Джейкоб Холл был канатоходцем.
63 ...историю подвязок мисс Стюарт. — См.: Там же. Гл. VIII.^
...как мисс Черчилль... подверглась осаде со стороны герцога Йоркского... — См.:
Там же. Гл. X: «Другие любовные интриги при английском дворе».
65 ...такими «прислужницами всех женщин», как робость и излишняя
щепетильность. — Шекспир У. Цимбелин. Акт III, сц. 4, 155—156. Ср. в пер. П.В. Мелковой:
...робость, нежность — вечные служанки всех женщин».
Ь6 Роман Гелиодора «Феаген и Хариклея». — Приписываемый перу Гелиодора,
епископа Трикки, роман, более известный под названием «Эфиопика» (III в. н. э.),
был переведен на английский язык в 1587 г.
67 Виночерпий прикорнул в уголке... как новый Эндимион... — Аллюзия на пьесу
«Эндимион» Джона Лили (1554—1506). Эндимион — в греческой мифологии
прекрасный юноша, погруженный в вечный сон.
68 ...любил говорить о вдове на лужайке. — Аллюзия на роман Л Стерна «Жизнь
XXI. О литературной аристократии
577
и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Герой его, дядюшка Тоби, мечтал о
вдове Водмен и собственной лужайке.
69 Таков, говоря словами Оселка, «прирожденный философ»... — См.: Шекспир У.
Как вам это понравится. Акт III, сц. 2, 32. Пер. В. Левика. Оселок — шут из
комедии Шекспира «Как вам это понравится».
70 ...«хотя бы в чем-то и различных»... — Лэм Ч. Джон Вудвилл. Акт II, сц. 2.
71 У Рэндалла... — Имеется в виду Джек Рэндалл — боксер-профессионал,
владелец заведения «Дырка в стенке» на Чансери-Лейн.
72 ...у Лонга... — В доме № 16 по Нью-Бонд-стрит; заведение было перестроено
и расширено в 1888 г.
73 ...лордам и праздношатающимся гулякам. — В рукописи вместо этого стоит:
...людям, которые ничего не умеют делать и которым нечего делать».
74 ...подобно стали, что приемлет / Тепло и свет, но отражает сразу / И облик
солнца, и его тепло». — Шекспир У. Троил и Крессида. Акт III, сц. 3, 121—123. Пер.
Т. Гнедич.
75 ...стада Цирцеи. — Аллюзия на произведения Дж. Милтона: «Комос» (ст. 152—
153) и «Потерянный Рай» (IX. 522). Ср. цитату из первого в пер. Ю.Б. Корнеева:
«Сегодня я свое пополню стадо / И мать мою Цирцею превзойду» — и из второго в пер.
Арк. Штейнберга: «Послушней шли, чем стадо превращенных / На зов Цирцеи».
Цирцея (Кирка) — дочь Солнца и океаниды Персы; нимфа-волшебница,
превратившая спутников Одиссея в свиней; они пробыли у нее на о-ве Ээя целый год.
76 В молодости я подолгу жил в Ливерпуле и Манчестере... — Поначалу Хэзлитт
хотел стать художником и много странствовал по Англии в поисках заказов.
XXI
О ЛИТЕРАТУРНОЙ АРИСТОКРАТИИ
ON THE ARISTOCRACY OF LETTERS
1 «Так\ Мы все трое поддельные <...>. <...> Прочь, прочь, все чужое\» — Шекспир У.
Король Лир. Акт III, сц. 4, 105—108. Пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник.
2 Холланд-хаус — особняк баронов Холландов в историческом центре Лондона,
построенный в XVII в. Джозеф Аддисон провел в нем последние годы своей жизни.
3 «То — великого имени призрак». — Лукан. Фарсалия. I. 135. Пер. Л.Е.
Остроумова. По-латыни приведена не совсем точная цитата. На самом деле она звучит так:
...stat magni nominis umbra».
4 ...«в первом ряду»... — Шекспир У. Гамлет. Акт II, сц. 2, 447 (вариант кварто
1676 г.). Ср. в пер. K.P.: ...в первой строфе святочной песни».
Писатели с Граб-стрит — нарицательное обозначение мира литературных
поденщиков, третьеразрядных писателей; возникло в XVTQ в. от названия
лондонской улицы, населенной подобными авторами.
6 «Воздерживающиеся от проявления чувств в значительной степени обладают
ими»... — Искаженная цитата из «Человеческой природы» Т. Гоббса (IX. 17). Ср.
в пер. А. Гутермана: «...воздержанные люди преисполнены страстей, которые они
сдерживают, в такой же или даже в большей мере, чем люди, привыкшие давать
волю своим вожделениям».
578
Примечания
7 «Пусть враг мой книгу напишет\» — Иов 31: 35. Ср. в рус. пер.: ...и чтобы
защитник мой составил запись» (букв.: ...и пусть соперник мой напишет свою
обвинительную запись»).
8 ...третий господин непристойность своих изысканий выдает за... глубину и...
нравственность... — Намек на Ричарда Пейна Найта, в 1786 г. опубликовавшего «Отчет
об остаточных свидетельствах культа Приапа, сохранившихся в Изернии», а в 1816 г.
выступавшего перед специальным комитетом палаты общин английского
парламента против хранения в Англии мраморных скульптур с Парфенона, вьшезенных
лордом Элгином.
9 ...зарабатывает хлеб в поте ума своего. — Библейская аллюзия. См.: Быт. 3: 19.
Ср. в рус. пер.: ...в поте лица твоего будешь есть хлеб...»
10 ...«не могут вытянуть из него никакой гармонии. На это им не хватает
умения». — Несколько измененная цитата из шекспировского «Гамлета» (акт Ш, сц. 2,
361—362). Ср. в пер. А. Радловой: «Но я не могу вытянуть из этой флейты никакой
гармонии — у меня нет уменья».
11 ...«загоняются»... — Вероятно, словоупотребление заимствовано из
шекспировского «Кориолана» (акт II, сц. 2, 77).
12 ...«передученым дуракам пасует». — Аллюзия на шекспировскую пьесу «Тимон
Афинский» (акт IV, сц. 3, 18). Ср. в пер. П.В. Мелковой: «Мудрец и тот/
Склоняется пред золотым болваном».
13 ...«Сумей бессмыслицы и глупости / На многих языках преподнести, / Тебя скорей
прославят мудрецам, / Чем если б говорил ты на своем». — Хэзлитт цитирует
«Сатиру на несовершенство человеческого знания и злоупотребление им» Сэмюэла Бат-
лера (ст. 65—68).
14 Республика словесности [англ. commonwealth of letters, фр. république des lettres). —
Так в XVÏn в. именовали в совокупности европейскую гуманитарную интеллигенцию.
15 «Мое, его, а впрочем, чье угодно». — Несколько неточная цитата из
шекспировского «Отелло» (акт III, сц. 3, 158). Ср. в пер. А. Радловой: «Он мой, его, он был
слугой у тысяч».
16 ...«рати без числа»... — См. примеч. 22 к очерку «О наслаждении живописью»
(Окончание).
17 Основатель рода... — Чарлз Бёрни, органист, композитор, крупнейший
историк музыки.
18 Остальные... — Чарлз Бёрни-младший (1757—1817); адмирал Джеймс Бёрни
(1750—1821) — путешественник, друг Лэма и Хэзлитта, поссорился с последним, когда
тот раскритиковал романы его сестры Фанни; Мартин Чарлз Бёрни (1788—1852);
Сара Гарриэт Бёрни (1770—1844) — романистка, младшая дочь Чарлза Бёрни.
19 Самый знаменитый из современных авторов... — Сэр Вальтер Скотт.
20 Лорд Байрон заметил, что Хоресу Уолполу не воздали должное... потому, что он
был джентльменом, и... потому, что он был дворянином. — Приведенное суждение
Байрона содержится в предисловии к пьесе «Марино Фальеро» (1820). Ср. в пер.
Г. Шенгели: «Стало модным не ценить Гораса [sic!] Уолпола, во-первых, потому
что он был аристократом, а во-вторых, потому что он был джентльменом».
21 «И если лорд поэму сочинит, / В ней ярче ум и лучше стих звучит». — Поуп А. Опыт
о критике. 420—421. Ср. в пер. А. Субботина: «Но если то хозяина строка — / Как
остроумна! Как она тонка!»
XXI. О литературной аристократии
579
...внешние приличия, которые Милтон ставил во главу угла! — См.: Милтон Дж.
Об образовании.
23 Его «зачарованная репутация не поддается нападкам»... — Аллюзия на
шекспировского «Макбета» (акт V, сц. 8, 12). Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «Я
зачарован: жизнь мою не сломит / Рожденный женщиной».
24 ...«задорин и заплат»... — Там же. Акт III, сц. 1, 133. Пер. М.Л. Лозинского.
...лорд Байрон мог бы и не писать странного письма о Поупе. — Речь идет о бай-
роновском «Письме Джону Меррею, эсквайру» (1821).
2(3 Почему он... заявляет... что Купер не поэт! — В «Письме Джону Меррею,
эсквайру» (см. выше примеч. 25) Байрон высказывается следующим образом: «Эти
два писателя [Поуп и Купер], ибо Купер никакой не поэт, сравнимы в одном
великом труде — переводе Гомера».
27 Джон Гилпин — персонаж баллады У Купера «Путешествие Джона Гилпи-
на», которую в свое время распевали по всему Лондону.
28 «Benno» — комическая поэма Байрона.
29 «К Мэри» — стихотворение У Купера.
30 «Прощай» — стихотворение Байрона.
31 ...я обнаружил заимствованную строчку в «Радостях надежды». — Хэзлитт
заподозрил, что Томас Кэмпбелл (1777—1844) позаимствовал для своей
описательной поэмы строку из «Могилы» Роберта Блэйра (1699—1746). Поэт, возглавлявший
редакцию «Нового ежемесячного журнала», никогда ему этого не простил и с тех
пор неохотно публиковал статьи Хэзлитта.
32 ...«пресмыкающимся между небом и землей»... — Шекспир У. Гамлет. Акт III,
сц. 1, 126—128. Пер. М.Л. Лозинского. Цитата несколько неточна.
33 ...«перечеканивающим сердце на монету»... — Контаминация двух строк из
шекспировской трагедии «Юлий Цезарь» (акт IV, сц. 3, 72). Ср. в пер. И.Б.
Мандельштама: «Лучше / Я в драхмы перелью по каплям кровь, / Перечеканю
сердце на монету».
34 ...«грустнее ноября»? — Шекспир У. Ричард II. Акт V, сц. 1, 80. Пер. Mux.
Донского.
35 ...с «вином изысканного вкуса»... — Реминисценция из милтоновского сонета XVII
«Мистеру Лоренсу» (ст. 9—10). Ср. в пер. Ю.Б. Корнеева: «Здесь есть все то, что
тонкий вкус прельщает: / Свет, яства и вино...»
3(3 ...«Спасаясь от неистового зноя, / Когда в зените Сириус горит, / От грома и от
молнии спасаясь»... — Бомонт Ф., Флетчер Дж. Филастр. Акт V, сц. 3, 38—40. Пер.
Б. Томашевского.
37 ...ни моль не тронет, ни тля не истребит. — Вероятно, библейская аллюзия.
См.: Мф. 6: 19—20. Ср. в пер.: ...моль и ржа истребляют...»
38 ...«прелестнейшие цветы этой поры — гвоздики и пестрые левкои»... — Шекспир У.
Зимняя сказка. Акт IV, сц. 3, 81—82. Ср. в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник: ...всех
пышней цветут / Гвоздики или пестрые левкои».
39 ...«рута для памяти и анютины глазки — для дум». — Шекспир У. Гамлет. Акт IV,
сц. 5, 175—177. Цитата неточна. Ср. в пер. K.P.: «Вот розмарин: это для памяти <...>.
А вот анютины глазки: это для дум».
40 «А сына Муза не могла спасти». — Милтон Дж. Потерянный Рай. VII. 37—38.
Пер. Арк. Штейнберга.
580
Примечания
41 Лавка Меррея. — Имеется в виду лавка Джона Меррея, издателя
«Ежеквартального обозрения» и произведений Байрона.
42 Томас — Томас (Томми) Хилл.
43 ...«лишенные достоинств и заслуг». — Шекспир У. Король Генрих IV. Ч. 1. Акт Ш,
сц. 2, 45. Пер. Е. Бируковой.
44 ...северные шакалы... жаждут доказать, что меня выгнали из «Эдинбургского
обозрения». — Имеется в виду эпизод, имевший место в августе 1818 г., когда в
«Эдинбургском Блэквудском журнале» появилась публикация «Хэзлитт,
подвергнутый перекрестному допросу», имевшая целью выставить эссеиста в
неприглядном виде и лишить его возможности сотрудничать с «Эдинбургским журналом»
и «Эдинбургским обозрением».
45 образец такого типа... — Неизвестно, о ком здесь идет речь.
46 ...ученый сброд... — Поуп А. Опыт о критике. 613. Ср. в пер. А. Субботина:
«Дурак набитый, уйму разных книг / Он проглотил, но ни в одну не вник».
47 ...«знаменитые неизвестности»... — Шелли П.-Б. Адонаис. Предисловие. Пер.
К. Бальмонта.
48 ...был «солнцем» за нашим столом... — Шеридан Р.-Б. Дуэнья. Акт III, сц. 5, 1.
Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «Бутыль, как солнце, льет нам свет, / Ее лучи — вино».
49 ...мистер Томкинс... сохранился только на портрете работы сэра Джошуа. —
Томкинс завещал этот свой портрет Лондону в 1816 г.
XXII
О КРИТИКЕ
ON CRITICISM
...обо всем, что можно знать, да еще кое о чем. — Девиз итальянского
гуманиста Джованни Пико делла Мирандола (1463—1494). По-латыни точнее звучит так: «De
omni ге scibili et quibusdam aliis». Мирандола написал трактат, взяв в качестве
заглавия первую часть любимой фразы, — «Обо всех доступных познанию вещах»
(1486); трактат представляет собой 900 тезисов по всем отраслям знаний.
2 «Когда уходит милый всем актер, скучая смотрим на того, кто вслед идет». —
Шекспир У. Ричард II. Акт V, сц. 2, 24—25. Цитата несколько неточна. Ср. в пер.
Мих. Донского: «Когда любимый публикой актер, / Окончив роль, подмостки
покидает, / На сцене ж появляется другой, / То на него все смотрят без вниманья, /
Зевают, слушая его слова».
3 Республика словесности. — См. примеч. 14 к очерку «О литературной
аристократии».
4 ...видит... (как Питер Паунс в пасторе Адамсе)... смиренного товарища...
которого он взял с собой чисто из любезности и... может... выгнать на большую дорогу. —
Имеются в виду персонажи романа Генри Филдинга (1707—1754) «История
приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса». Паунс оскорбляет
пастора словами: «Да, сэр, это все такие же обтрепанные господа, как вы сами:
и ни один человек в моем положении, не страдай он, как я, пороком благодушия,
не посадил бы их с собой в коляску» (Кн. III. Гл. XIII. Пер. Н. Вольпин).
5 ...«Подъелыет скиптр, / Что твой Зевес, / И мнит — подвигнул свод небес». —
Драйден Дж. Пир Александра. 39—41. Как часто встречается у Хэзлитта, — ориги-
XXII. О критике
581
нально переиначенная цитата. Ср. в пер. В. Жуковского: «И мыслит — он Зевес; /
И движет он главою, / И мнит — подвигнул свод небес».
6 ...«будто они знают то, чего вовсе не знают». — Из английского перевода
«Рассуждения о методе» Р. Декарта (Ч. I. § 6).
7 Самое популярное наше обозрение — «Эдинбургское обозрение».
8 «Ежемесячное обозрение». — Было основано Ральфом Гриффитсом (ок. 1720—
1803) в 1749 г. Просуществовало до 1845 г.
9 ...«обладало непоколебимой абсолютной властью»... — Шекспир У. Макбет. Акт I,
сц. 5, 70. Ср. в пер. Б.Л. Пастернака: «Царили безраздельно...»
10 ...«перещеголять любую мегеру, переиродить любого Ирода»... —Шекспир У. Гамлет.
Акт Ш, сц. 2, 13—14. Ср. в пер. М.Л. Лозинского: ...я бы отхлестал такого
молодца, который старается перещеголять Термаганта; они готовы Ирода переиродить».
Термагант — в средневековых песнях и пьесах жестокое сарацинское божество.
11 «Во всем они покорны, как девщы\» — Чосер Дж. Кентерберийские рассказы.
Пролог. 69 (там идет речь о кротком нраве юного сквайра).
12 Дрокансер — персонаж пародийной (пародия на Драйдена и помпезные
трагедии времен Реставрации) пьесы «Репетиция» (1671—1672), написанной
Джорджем Вильерсом, герцогом Бэкингемом (1628—1687) с несколькими соавторами;
буйного нрава забияка и хвастун, разящий всех направо и налево, не щадя ни
врага, ни друга.
13 ...обошлись довольно гнусно с «Жизнью и мнениями Тристрама Шенди,
джентльмена». — Имеется в виду резкая критика стерновского романа Гриффитсом в
«Ежемесячном обозрении».
14 Об «Элегии» Грея говорится: «Эта небольшая поэма... не лишена достоинств и
изящества». — В ежемесячном каталоге журнала «Ежемесячное обозрение»
(февраль 1751 г.) содержится такое замечание: «"Элегия, написанная на сельском
кладбище" <...>. Совершенство этого небольшого произведения с лихвой искупает
его скромные размеры». Полноценная рецензия была опубликована в журнале в
июне 1753 г.
15 ...сопоставление Овидия и Вергилия... — Производится в предисловии к поэме
Драйдена «Annus Mirabilis» («Год чудес»); упоминаемая далее Хэзлиттом
характеристика Шекспира содержится в драйденовском «Опыте о драматической поэзии».
16 ...все равно что бочка для кита... — Аллюзия на известное морское суеверие
(если кит нападает на корабль, достаточно бросить ему бочку, чтобы отвлечь), на
которое ссылался также Свифт, назвавший свой памфлет «Сказка бочки».
Соответствующее выражение закрепилось в английском языке как фразеологизм.
17 ...«Он весь перекошен, вне всяких правил, и ни один из его четырех углов нельзя
назвать прямым\» — Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена.
Кн. Ш. Гл. ХП. Пер. А. Франковского. Цитата не совсем неточна. У Стерна речь идет
о некой неназванной «новой книге, которая производит столько шума везде».
18 ...Драйден мог принять претензии Милтона на эпический стиль, только
переложив его неправильное произведение рифмованным стихом и снабдив его
драматическим диалогом. — Опера Драйдена «Состояние невинности» (1674) основана на
милтоновском «Потерянном Рае».
19 ...«великую и неуправляемую»... — Вероятно, цитата из «Комментария к
Книге Бытия» М. Генри.
582
Примечания
20 ...«недосягаемой для искусства изысканности»... — См. примеч. 16 к очерку
«Индийские жонглеры».
21 ...«взоров,устремленных в небесный простор»... — Милтон Дж. II Penseroso. 39.
Пер. Е. Витковского. См. также примеч. 17 к очерку «Индийские жонглеры».
22 ...«бренные прикрасы речи»... — Шекспир У. Гамлет. Акт П, сц. 2, 91. Пер. МЛ.
Лозинского.
23 Далиджская галерея — художественная галерея в Далидже (юго-восточный
пригород Лондона); открылась в 1817 г.; основу ее коллекции на тот момент
составило собрание произведений искусства, завещанное сэром Фрэнсисом Буржуа
(1753-1811).
24 У них есть глаза, но они не видят. — Библейская аллюзия. См.: Иез. 12: 2; Мк. 4:
12; Пс. 113: 13 и др.
25 ...лорд Байрон... утверждает, что исполнение — всё, а род произведения, тема —
ничто. — В письме к Джону Меррею (1821) Байрон пишет: ...поэта всегда
оценивают по уровню исполнения, а не по роду искусства».
26 Аисты Рафаэля... на картине о чудесном улове рыбы... — Имеется в виду один
из набросков, выполненных Рафаэлем для шпалер, которые предполагалось
разместить в Сикстинской капелле. См. также примеч. 32 к очерку «В продолжение
начатого разговора».
27 ...«благозвучным громом»... — Шекспир У. Сон в летнюю ночь. Акт IV, сц. 1,
118. Пер. МЛ. Лозинского.
28 ...«благостное лыеко» щедрости душевной... — Шекспир У. Макбет. Акт I, сц. 5,
17. Пер. М.Л. Лозинского.
29 ...«униженной красавицей на костылях»... — Аллюзия на стихотворение У. Гиф-
форда «Бавиада» (1791), где упоминается Мэри Робинсон, бывшая любовница
принца-регента, парализованная от пояса и ниже. Очевидно, выбор цитаты в данном
случае обусловлен личной враждой Хэзлитта с Гиффордом, редактором
«Ежеквартального обозрения», имевшим склонность калечить обзоры, выполненные для
журнала знаменитыми критиками.
30 Судья Вудкок — персонаж комедии «Деревенская любовь» (1763) Исаака Би-
керстаффа (1735—1812), ирландского драматурга, подлинное имя которого никак
не связано с одноименным псевдонимом Ричарда Стиля, Джонатана Свифта и
Аллана Рэмзи.
31 Школа Делла Круска — английское литературное объединение, названное в
честь известной итальянской академии Делла Круска, основанной в 1582 г. с целью
формирования литературного языка на основе тосканского диалекта. Входивших
в объединение поэтов отличала чрезмерная претенциозность стиля, высмеянная
У. Гиффордом, редактором «Ежеквартального обозрения», в стихотворных
сатирах «Бавиада» (1791) и «Мевиада» (1795).
32 «Бавиада» и «Мевиада». — См. пред. примеч.
33 «Котенок и листья» — стихотворение У. Вордсворта (более точное название —
«Котенок и падающие листья»).
34 ...заполучив медный ошейник и начиная отбивать служебные склянки... — Хэз-
литт имеет в виду, что критики описываемого им рода не имеют собственного
мнения, а пишут по указке сверху.
XXII. О критике
583
35 Огромный Котище Салоед — кот, поцарапавший Панурга. См.: Рабле Ф. Гар-
гантюа и Пантагрюэль. Кн. IV. Гл. 67. Пер. Н. Любимова.
3(3 ...«притворно застенчивых зеленоглазых критиков, с острыми коготками и
бархатными лапками»... — Цитата из «Письма к благородному лорду» Э. Бёрка, у
которого, правда, все эти определения относятся не к критикам, а к философам.
37 ...намек на многозначительную фразу сквайра Вестерна о ганноверских крысах. —
Имеется в виду эпизод из романа Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденыша»,
где автор устами своего героя назьшает так ганноверские войска, субсидируемые
британским правительством: «Вздор! Мир совсем зашел в тупик, если все мы
дураки, исключая горсточки круглых голов и ганноверских крыс! Дудки! Сейчас
наступают времена, когда мы их оставим в дураках...» (Кн. VI. Гл. XIV. Пер. А. Франков-
ского).
38 ...батарея «Блэквудского журнала» замолчала потому, что в некоторых
критических замечаниях по поводу этого журнала был упомянут сэр Вальтер Скотт... — Речь
идет о статьях Джона Скотта в «Лондонском журнале» за ноябрь и декабрь 1820 г.
39 ...«высоко на подмостках у позорного столба». — Купер У. Надежда. 556.
40 ...спор вокруг Поупа и школы, ему противостоящей... — Спор начался по
выходе в свет десятитомного собрания сочинений Поупа в 1806 г. и особенно
обострился после публикации письма Байрона Джону Меррею. См. выше примеч. 25; см.
также примеч. 25 и 26 к очерку «О литературной аристократии».
41 ...«сковать, связать и подавить»... — Шекспир У. Макбет. Акт Ш, сц. 4, 23. Пер.
Ю.Б. Корнеева.
42 ...«мутным взглядом»... — Шекспир У. Как вам это понравится. Акт II, сц. 7,
21. Пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник.
43 «Хамфри Клинкер» — роман Т. Смоллетта «Путешествие Хамфри Клинкера».
44 ...«Часто слышал /Я трех сирен и мать мою Цирцею»... — Милтон Дж. Комос.
251-252. Пер. Ю.Б. Корнеева.
45 ...с тем же жаром и увлечением, с каким другие читают собственные вирши. —
Существует предположение, что это намек на Вордсворта и Колриджа.
46 «Жиль Блас» — плутовской роман французского писателя Алена Рене Леса-
жа (1668—1774) «Похождения Жиль Бласа из Сантильяны».
47 ...слов Священного Писания: «Будьу меня даже все мыслимые знания и говори
я на языке ангелов, все равно без милосердия я был бы ничем». — Аллюзия на
Первое Послание апостола Павла к Коринфянам. Ср. в рус. пер.: «Если я говорю
языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или
кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я
ничто» (1 Кор. 13: 1—2).
48 Существует еще одна порода критиков... — Вероятно, намек на Ч. Лэма.
49 Благополучно проводя в уме алхимический опыт... — Возможно, аллюзия на
«Лондонца» Ч. Лэма, где говорится о «добродушной алхимии».
50 «Скиталец» доктора Джонсона. — Имеется в виду издававшийся С. Джонсоном
в 1750—1752 гг. журнал «Рамблер» [англ. rambler — скиталец, бродяга).
51 ...«ночной кошмар». — Аллюзия на очерк Ч. Лэма «Ведьмы и другие ночные
страхи» (1821), вошедший в сборник «Очерки Элии».
584
Примечания
52 ...«За каплю кислого все сладкое отдам». — Неточная цитата из «Королевы фей»
Э. Спенсера (I. Ш. 30. 4). Если у Хэзлитта в оригинале стоит: «Унция кислого стоит
фунта сладкого», то в первоисточнике ровно наоборот: «Драхма сладкого стоит
фунта кислого».
53 ...что для толпы слишком уж изысканно. — Шекспировская аллюзия. См.:
Шекспир У. Гамлет. Акт II, сц. 2, 436—437. Ср. в пер. П. Гнедича: «Это было
лакомство — осетровая икра, недоступная для толпы».
54 Ультракрепидарии — изобретенное Хэзлиттом (или, по другой версии,
Чарлзом Лэмом) слово, вошедшее в английский язык. Означает критиков, которые
судят о том, в чем совершенно не смыслят. Произведено от латинского выражения
«[ne sutor] ultra crepidam [judicet]» — «[башмачник пусть судит не] выше сандалии»,
приписанного Плинием Старшим (в виде «ne sutor supra crepidam») знаменитому
греческому художнику Апеллесу, которому некий башмачник пытался сделать
замечание о его картине (см.: Плиний Старший. Естествознание. XXXV. 85).
Впервые слово употреблено Хэзлиттом в неопубликованном «Ответе Z.» (1818), а затем
в напечатанном «Письме Уильяму Гиффорду» (1819): «Вас недаром назвали крити-
ком-ультракрепидарием». Ли Хант, друг Хэзлитта, назвал свою сатиру на Гиффор-
да «Ультракрепидарии» (1823).
XXIII
О ВЕЛИКОМ И МАЛОМ
ON GREAT AND LITTLE THINGS
Впервые опубликовано в «Новом ежемесячном журнале» (февраль 1822 г.) как
«Застольные беседы, № П», подписано «Т.».
1 «Для малых сих и малость велика». — Голдсмит О. Путник. 42. Пер. А. Ларина.
...«что и выеденного яйца не стоит». — Шекспир У. Кориолан. Ajkt IV, сц. 4, 21.
Ср. в пер. Ю.Б. Корнеева: «...мелкий и внезапный повод».
3 Отличная статья в журнале «Болтун»... — Имеется в виду очерк Ричарда
Стиля в № 79 (см.: Tader. Vol. П. № 79. Р. 3-7).
4 «Вновь станет кроток он, как горлица, / И будет тих и молчалив». — Шекспир У.
Гамлет. Акт V, сц. 1, 286 и 288. Пер. K.P.
5 Пистоль — персонаж шекспировской пьесы «Король Генрих IV» (Ч. 2).
...на манер царя Камбиза. — Шекспир У. Король Генрих IV Ч. 1. Акт П, сц. 4,
387. Пер. Е. Бируковой. Имеется в виду поставленная в 1570 г. пьеса Т. Престона
«Плачевная трагедия, полная милой веселости, изображающая жизнь Камбиза,
царя персов».
7 ...величайшему человеку в современной истории... — Имеется в виду император
Наполеон I. Очерк написан вскоре после его смерти, наступившей 5 мая 1821 г.
8 ...«Если б/Мог быть Пергам десницей спасен». — Вергилий. Энеида. II. 291—292.
Пер. С. Ошерова под ред. Ф. Петровского.
9 ...истинность изречения, которое мудрец твердил дочери короля Кофетуа: что
есть, то есть... — Неточная цитата из шекспировской комедии «Двенадцатая ночь»
(акт IV, сц. 2, 12—14). Ср. в пер. Э.Л. Линецкой: ...подобно тому как древний
пражский старец-отшельник, отродясь не видывавший пера и чернил, с великим
XXIII. О великом и малом
585
остроумием ответил племяннице короля Горбодука: "Что есть, то есть"». Хэзлитт
путает Горбодука, героя первой английской трагедии (1561), написанной
совместно Томасом Сэквиллом и Томасом Нортоном, с королем Кофетуа — легендарным
африканским правителем, женившимся на бедной девушке (об этом
рассказывается, в частности, в одной старинной английской балладе).
10 ...когда провалился фарс Лэма... — Фарс Ч. Лэма «Мистер С.» провалился в
театре Друри-Лейн 10 декабря 1806 г.
11 «Путешественники» — опера ирландского драматурга Эндрю Черри (1762—
1812), впервые поставленная в театре Друри-Лейн 22 января 1806 г.
12 ...«сшибку остроумий»... — См. примеч. 25 к очерку «Политики из кофейни».
13 Мистер С. — Свиномяс (Hogsflesh), персонаж лэмовского фарса, сюжет
которого строится на желании этого господина сменить фамилию на Бекон (Bacon).
14 ...«покорного всем воздушным колебаньям». — Шекспир У. Мера за меру. Акт Ш,
сц. 1, 9. Пер. MA. Зенкевича.
15 «Но довольно об этом». — Распространенное среди римских авторов
выражение. См., напр.: Цицерон. Письма к Аттику. V. XX. 9; XVI. VII. 6; Он же. О
дружбе. 55; Он же. Об обязанностях. I. 140.
16 «Соломинкой довольны, рады перышку». — Поуп А. Опыт о человеке. П. 276.
Цитата не совсем точна. Ср. в пер. В.Б. Микушевича: «Ребенку погремушка дорога».
17 Уилл Уимбл — один из персонажей, придуманных Дж. Аддисоном для
журнала «Зритель».
18 Некоторые поэты сочиняют музыку и поют собственные стихи. — Вероятно,
намек на Т. Мура, который пел свои «Ирландские мелодии», подыгрывая себе на гитаре.
19 Я знаю... одного человека, который хотел бы быть скорее автором неудачного
фарса, чем снискавшей успех трагедии. — По-видимому, Хэзлитт имеет в виду
Чарлза Лэма.
20 ...Шекспир говорит. «Странных товарищей по постели дает человеку несчастье»... —
Шекспир У. Буря. Акт П, сц. 2, 39—40. Пер. T.Ä. Щепкиной-Куперник. Цитата неточна.
21 Дядюшка Тоби нередко видел, как Трим стоит за его стулом, несмотря на
приказание сесть. — См. примеч. 20 к очерку «Политики из кофейни».
22 Портленд-Плейс — площадь в Лондоне.
23 Инфеличе — персонаж пьесы Т. Деккера «Честная шлюха». Хэзлитт имеет
здесь в виду Сару Уокер. Имя Инфеличе (от um. infelice) означает «бедняжка,
страдалица, несчастливица».
24Я бы открыл галерею не хуже, чему Каули... — Аллюзия на балладу Каули
«Хроника».
25 Дон-Жуан позабыл бы о своей Юлии... — Имеются в виду персонажи поэмы
Байрона «Дон-Жуан»: заглавный герой и его первая возлюбленная.
26 Пока я согласен с Горацием и расхожусь с Монтенем. — Вероятно, имеется в виду
совет Горация: «Ксантий, не стыдись, полюбив служанку!» {Гораций. Оды. П. 4. 1.
Пер. А.П. Семенова-Тян-Шанского) и мнение М. Монтеня: «...те, кто не советуют нам
жениться на богатых невестах, ссылаясь на то, что с ними труднее иметь дело и что
они менее признательны, ошибаются...» [Монтень М. де. Опыты. Кн. П. Гл. VTH. Пер.
ФА. Коган-Бернштейн).
27 Клементина — героиня романа С. Ричардсона «История сэра Чарлза Гран-
дисона». См. также примеч. 5 к очерку «О тех, кто живет своей жизнью».
586
Примечания
28 Кларисса — героиня одноименного романа С. Ричардсона.
29 Памела — героиня одноименного романа С. Ричардсона.
30 Фанни — подруга Джозефа Эндруса, главного героя романа Г. Филдинга
«История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса».
31 ...«пафос которых был способен сокрушить скалы». — Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Кн. 1.
Пер. М. Розанова и Д. Горбова. В таких выражениях Руссо описьшает послания,
которыми он обменивался с мадемуазель де Вюльсон.
32 ...бледные первоцветы, похожие на нее лицом, весенние гиацинты, напоминающие
ее чело... — См. примеч. 11 к очерку «О прошлом и будущем».
33 «Я гонюсь за ветром, я боготворю статую, я вопию в пустыне». — См. примеч. 39
к очерку «О тех, кто живет своей жизнью». Аллюзия на эпизод безумия
Дон-Кихота (Ч. I. Гл. П) в переводе Т. Смоллетта.
34 «О принципах, движущих поступками человека» (1805) — первая книга Хэзлитта.
35 «Смерть Клоринды» — картина Лодовико Лана, копию с которой Хэзлитт
выполнил в Лувре в 1802 г. (в настоящее время эта копия хранится в музее г. Мэйдс-
тона). Сюжет полотна взят из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим».
36 ...«прекраснейшая принцесса на свете». — Вероятно, аллюзия на «Королеву фей»
Э. Спенсера (П. Proem. IV. 6).
37 Корона Ариадны и локон Беретки — названия созвездий, восходящие к античным
преданиям (более распространенное название созвездия Корона (Венец) Ариадны —
Северная Корона). Ариадна — дочь Миноса и Пасифаи, покинутая Тесеем на о-ве
Наксос, впоследствии жена Вакха (Диониса); ее излучающий сияние венец работы
Гефеста помог Тесею выбраться из критского Лабиринта. Береника П Киренская (ок.
269—221 до н. э.) — двоюродная сестра и жена египетского правителя Птолемея Ш
Эвергета; молясь о благополучном возвращении мужа из военного похода, отрезала
себе локон и посвятила его Афродите Зефиритской; после того как волосы исчезли
из храма, придворный астроном объявил, что они были вознесены на небо и стали
созвездием. Возможно, также имеет место литературная аллюзия: локон Береники
упоминается, в частности, в «Похищении локона» (1712) А. Поупа (V. 129) и в «Кани-
дии» (1683) Р. Диксона; корона Ариадны — в «Стихотворениях» (1640) Т. Рэндолфа.
38 Модена, Форли — города в Северной Италии, провинция Эмилия-Романья.
39 ...подобно мухе на колесе, которая говорила: «Какую пылищу мы поднимаема.» —
Аллюзия на одну из басен Эзопа (№ 270).
40 Некоторые художники... — К примеру, Уэст и Хейдон.
41 Плиний Старший. Естествознание. XXXVI. 18. — Цитата из Плиния Старшего
приведена в пер. Г.А. Тароняна.
XXIV
О ПРОСТОТЕ СЛОГА
ON FAMILIAR STYLE
...«высокопарные, труднопонятные слова»... — Стерн Л. Жизнь и мнения Трист-
рама Шенди, джентльмена. Кн. Ш. Гл. XX. Пер. А. Франковского.
2 ...из «первогоряда»... — См. примеч. 4 к очерку «О литературной аристократии».
...с крупинкой соли... — Плиний Старший. Естествознание. XXIII. 77.
...слово «безразличный» применительно к чувствам... — В «Эссе о принципах,
движущих поступками человека».
XXIV О простоте слога
587
..„мистер Koffern едва ли прав, говоря, что первым на ум приходит самое
лучшее слово. — Об этом Коббет пишет в своей «Грамматике английского языка».
6 ...из его сочинений, подписанных «Элия»... — Ряд литературоведов считает, что
Лэм стал сочинять очерки, соревнуясь с Хэзлиттом. Первый из «Очерков Элии»
под названием «Тихоокеанский торговый дом» появился в «Лондонском
журнале» в августе 1820 г. Очерк Хэзлитта «О качествах, необходимых для достижения
успеха в жизни» был напечатан в этом же журнале за два месяца до того.
7 «Суждения миссис Бэттл о висте». — См. примеч. 55 к очерку «Политики из
кофейни».
8 ...«Английской речи кладезь вечно чистый»... — Аллюзия на Спенсерову
«Королеву фей» (IV. П. 32. 8), где подобным образом охарактеризован Чосер.
9 «Беседы Эразма». — Имеется в виду сборник бесед Эразма Роттердамского,
опубликованный в 1519 г.
10 «Что вы читаете?» — «Слова, слова, слова». — Шекспир У. Гамлет. Акт П, сц. 2,
192—193. Пер. МЛ. Лозинского.
11 ...«с честолюбием более скромным»... — Вероятно, аллюзия на шекспировскую
пьесу «Буря» (акт I, сц. 2, 482-484). Ср. в пер. М.А. Кузмина: «Мои желанья скромны».
12 ...«мелкую дребедень»... — Шекспир У. Зимняя сказка. Акт IV, сц. 3,26. Пер. В. Ле-
вика.
13 Тюльпаномания — искусственно сконструированное слово, обозначающее
одержимость тюльпанами. Известно по различным источникам, в том числе по
журналу «Болтун» (см.: The Tatler. № 218. Vol. III. P. 143).
14 «...беседы / Низменным слогом писать». — Гораций. Послания. П. I. 250—251. Пер.
Н.С. Гинцбурга. Цитата по-латыни приведена неточно. Правильный вариант: «Nee
sermones ego mallem / repentis per humum...»
15 Пистоль. — См. примеч. 5 к очерку «О великом и малом».
...«час кривляются на сцене»... — Шекспир У. Макбет. Акт V, сц. 5, 25. Пер.
МЛ. Лозинского.
17 ...«Напыщенность их перья осеняет»... — Аллюзия на «Потерянный Рай» Дж. Мил-
тона (П. 988—989). Ср. в пер. Арк. Штейнберга: ...шлем его увенчан
был/Пернатым ужасом».
18 ...«природы нежная, искусная рука»... — Шекспир У. Двенадцатая ночь. Акт I,
сц. 5, 240. Пер. А.И. Кронеберга.
19 Голконда — древний город в Индии, известный добычей алмазов; в
переносном смысле — источник огромного богатства.
20 Ледяной дворец русской императрицы. — Имеется в виду Ледяной дом,
выстроенный в зиму 1739/40 г. на реке Неве в Санкт-Петербурге (между Адмиралтейством
и Зимним дворцом, приблизительно на месте нынешнего Дворцового моста); имел
четыре комнаты; длина его была примерно 16 м, ширина — около 5 м, высота —
около 6 м. Дворец снаружи и внутри отличался изысканным убранством
(изготовленным сплошь изо льда). В нем 6 февраля 1740 г. по указанию императрицы Анны
Иоанновны состоялась свадьба М.А. Голицына, бывшего князя, ставшего
придворным шутом, и калмычки А.И. Бужениновой, царицыной шутихи. Проф. физики
Г.В. Крафт (1701—1754) составил сопровождавшееся гравюрами «Подлинное и
обстоятельное описание... Ледяного дома и всех находившихся в нем домовых вещей
и уборов...» (СПб., 1741), а русский писатель И.И. Лажечников (1792—1869) назвал
свой самый известный роман «Ледяной дом» (1835).
588
Примечания
...«столь же никчемно, сколь блестяще»... «Сияет — но тепла в нем нет». —
Купер У. Задача. V. 173-176.
XXV
ОБ ИЗНЕЖЕННОСТИ ХАРАКТЕРА
ON EFFEMINACY OF CHARACTER
...паутину не резвиться в ленивом летнем воздухе... — Аллюзия на
шекспировскую трагедию «Ромео и Джульетта» (акт П, сц. 6, 18—20). Цитата переиначена Хэз-
литтом. Ср. в пер. А. Григорьева: ...паутинке тонкой, что висит/В горячем летнем
воздухе».
2 ...«волны амбры среди полей Элизия»... — Милтон Дж. Потерянный Рай. Ш. 350.
Пер. Арк. Штейнберга.
3 ...«умирают от ароматных мук, когда для мозга запах роз — недуг». — Поуп А.
Опыт о человеке. I. 200. Пер. В.Б. Микушевича.
4 «Ах, оставьте меня в покое\» — См. примеч. 3 к очерку «О невежестве ученых».
5 ...«коротать день зимний, хмурый, когда декабрьский ветер за стеной завоет
злобно»... — Шекспир У. Цимбелин. Акт Ш, сц. 3, 36—39. Пер. В. Шершеневича.
...«отразитьудары этой лютой непогоды»! — Шекспир У. Король Лир. Акт III,
сц. 4, 29. Пер. Б.Л. Пастернака.
7 ...«не думают о завтрашнем дне». — Библейский парафраз. См.: Мф. 6: 34
(«Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне...»).
8 ...господина Бернардина из пьесы «Мера за меру», который не хотел встать,
когда его собирались повесить... — См.: Шекспир У. Мера за меру. Акт IV, сц. 3, 21—22.
Ср. в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник: «Господин Бернардин! Вставайте да пожалуйте
вешаться».
9 ...«темница неведенья». — Шекспир У. Цимбелин. Акт Ш, сц. 3, 33. Пер. В.
Шершеневича.
10 ...«Не ведая грядущего, мы сами / Живем, подвигнутые небесами»... — Поуп А.
Опыт о человеке. I. 85—86. Пер. В.Б. Микушевича.
11 ...«Хоть и умрет в печали он — / Пусть грезой тешится дотоле\ / Кто ж не ле~
леял сладкий сон / В преддверье горечи и боли?» — Вордсворт У. Стихи, написанные
вечером у Темзы близ Ричмонда. 13—16. Пер. И. Меламеда. У Хэзлитта вместо
местоимения «он» стоит «мы».
12 ...ты... — Сэмюэл Колридж.
13 ...«размазню». — См. примеч. 39 к очерку «Мысль и действие».
14 «Холодной середины друг не знает: / То гневом, то любовью он пылает». — Из
перевода «Илиады», выполненного А. Поупом (IX. 725—726).
15 ...кого Драйден называет «спокойными мирными писателями». — См.: Драй-
ден Дж. Опыт о драматической поэзии.
16 Школа Делла Круска. — См. примеч. 31 к очерку «О критике».
17 ...стихам мистера Китса недостает мужественной энергии. — В последнем
абзаце очерка поразительно чередование настоящего и прошедшего времени,
словно Хэзлитт погпрежнему никак не может смириться с ранним уходом
талантливого поэта из жизни.
18 ...«дышал ликованьем вешним». — Милтон Дж. Потерянный Рай. IV. 155. Пер.
Арк. Штейнберга.
XXVI. Почему нам нравится все далекое
589
19 «Подобно сыну Майи, он стоял, кръшами потрясая»... — Там же. V. 285—286.
Пер. Арк. Штейнберга.
XXVI
ПОЧЕМУ НАМ НРАВИТСЯ ВСЕ ДАЛЕКОЕ
WHY DISTANT OBJECTS PLEASE
Включено Хэзлиттом в парижское издание «Застольных бесед» (1825).
...«различить материки, потоки и хребты»... — См. примеч. 6 к очерку «Гений
и здравый смысл» (Окончание).
2 ...неземные очертания и цвет небесной синевы. — Соединение двух цитат из
милтоновского «Потерянного Рая» (П. 139 и V. 285). Ср. в пер. Арк. Штейнберга:
...эфир пречистый...» и «Лазурью ослепительною...
3 ...«Но ты, надежды дивный взгляд ~ природы сей наряд». — Коллинз У. Страсти.
Ода к музыке. 29—32.
4 Паря на распростертых крыльях... — Вероятно, выражение заимствовано из
описания Святого Духа в «Потерянном Рае» Дж. Милтона (I. 19—22). Ср. в пер.
Арк. Штейнберга: «Ты, словно голубь, искони парил/Над бездною...
5 В детские годы я жил в месте, откуда видна была гряда высоких холмов... — В
Уэме (графство Шропшир), близ Валлийских холмов.
6 ...отказаться от «посещения Ярроу»... — Намек на стихотворения У. Вордсворта
«На непосещение Ярроу» (1807) и «На посещение Ярроу» (1814); в 1835 г. было опуб-
ликованно третье стихотворение этого своеобразного цикла — «На повторное
посещение Ярроу».
7 ...«ломающих их сущность»... — Вероятных источников два: Милтон Дж. Ко-
мос. 528 и Колридж С.-Т. Темница. 17—18. Ср. цитату из первого в пер. Ю.Б. Кор-
неева: ...присущие характеру пороки...
8 ...пурпурный свет фантазии... — Аллюзия на «Путь поэзии» Т. Грея (ст. 41), где
упоминается «пурпурный свет любви».
9 ...«мощный поток,устрелыенный»... — Вордсворт У. Прогулка. IX. 88.
Возможно, Хэзлитт видел это выражение еще в записной книжке поэта.
10 ...«в делах людей бывает миг прилива»... — Шекспир У. Юлий Цезарь. Акт IV,
сц. 3, 218. Пер. И.Б. Мандельштама.
11 ...«рангоут потеряв и такелаж»... — Милтон Дж. Потерянный Рай. П. 1044.
Пер. Арк. Штейнберга. Цитата неточна.
12 «Воображенье так легко играет». — Шекспир У. Сон в летнюю ночь. Акт V, сц. 1,
18. Пер. М.А. Лозинского.
13 ...«в биенье сердца нашего трепещет»... — Вордсворт У. Строки, написанные на
расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства. 55.
14 ...«превратности»... — Аллюзия на шекспировского «Короля Лира» (акт III,
сц. 2, 50).
15 ...«теснятся нежные желания»... — Шекспир У. Много шума из ничего. Акт I,
сц. 1, 303. Цитата несколько сокращена. Ср. в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник:
«Стеклись толпою сладкие желанья».
16 Сад Монпелье в Уолворте. — Создан во 2-й пол. XVIII в., популярное место
отдыха лондонцев.
590
Примечания
...«вернуть часы / Сияния цветам и прелесть травам»! — Вордсворт У. Ода.
180-181.
18 ...«первого сада моей невинности»... — Не совсем точная цитата из
пасторальной пьесы С. Дэниела «Триумф Гименея» (акт I, сц. 1, 92).
19 ...«точно трепет ветра, / Скользнувший над фиалками тайком, / Чтоб к нам
вернуться, ароматом вея». — Шекспир У. Двенадцатая ночь. Акт I, сц. 1, 5—7. Пер.
Э.Л. Липецкой. Хэзлитт цитирует шекспировский текст в редакции А. Поупа.
20 ...«причастен жизни». — Байрон Дж.-Г Корсар. I. 93. Ср. в пер. Г. Шенгели:
«Он по волнам несется, как живой» (о корабле).
21 ...«веселым детищем стихий»... —Милтон Дж. Комос. 298. Ср. в пер. Ю.Б. Кор-
неева: «...духов, / Резвящихся...
22 Мистер Ли Хант... написал... в помещенном в «Индикаторе» очерке о
столичных лавках, торгующих игрушками... — Имеется в виду очерк «Пристальный взгляд
на некоторые лавки», опубликованный в журнале «Индикатор» 7 июня 1820 г.
23 ...вкус барбарисовых ягод, висевших среди снегов суровой североамериканской зимы... —
На холмах близ Верхнего Дорчестера, где семья Хэзлиттов жила зимой 1785/86 г.;
по-видимому, единственное личное воспоминание Хэзлитта об Америке.
24 ...«Как серебристо голоса влюбленных / Звучат нежнейшей музыкой в ночи\» —
Шекспир У. Ромео и Джульетта. Акт II, сц. 2, 165. Пер. А. Радловой.
25 ...«на ангельский он был похож»... — Источник цитаты не установлен.
26 «Слепой скрипач» — картина Д. Уилки; в настоящее время находится в
Национальной галерее в Лондоне.
27 ...«как аромат столь сладостный». — Милтон Дж. Комос. 555. Пер. Ю.Б. Кор-
неева. Цитата неточна.
28 Новая Голландия. — См. примеч. 16 к очерку «О некоторых противоречиях
в "Лекциях" сэра Джошуа Рейнолдса».
29 Басра — город на юго-востоке Ирака, главный порт страны.
30 Один тонкий наблюдатель... — Ч. Лэм.
31 ...«точка соприкосновения». — Шекспир У. Виндзорские насмешницы. Акт II,
сц. 1, 7. Пер. MA. Кузмина.
32 ...«Никем не виданных безгрешных чудищ»... — Цитата из «Опыта о поэзии» (1682)
Дж. Шеффилда (1648-1721).
33 ...«ткань нашей жизни сделана из смешанной пряжи... Наши добродетели
возгордились бы, если бы их не бичевали наши пороки, а пороки наши отчаялись бы, если
бы их не защищали наши добродетели». — Шекспир У. Все хорошо, что хорошо
кончается. Акт IV, сц. 3, 71—74. Пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник.
XXVII
О КОРПОРАТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
ON CORPORATE BODIES
Включено Хэзлиттом в парижское издание «Застольных бесед» (1825).
1 Корпоративные объединения не наделены душой. — Источник не установлен.
Возможно, эта формулировка имитирует стиль законодательных актов. Она содержит
непереводимую игру слов, основанную на том, что по-английски общественные
учреждения называются буквально «корпоративными телами» (corporate bodies);
XXVII. О корпоративных объединениях
591
более того, и слово «corporate» содержит латинский корень, также означающий
«тело». В итоге автор сравнивает корпоративные объединения с «телом без души».
Возможно также, что Хэзлитт вспоминает знаменитое, существующее во множестве
вариантов, высказывание барона Эдварда Терлоу, лорда-канцлера Великобритании
(1778—1783 гг.): «У корпораций нет ни тел, которые можно было бы наказать, ни
душ, которые можно было бы предать проклятию; поэтому они поступают как им
вздумается».
2 «Себялюбие и чувство товарищества»... — Поуп А. Опыт о человеке. IV. 396. Ср.
в пер. В.Б. Микушевича: «Себя мы любим, если любим всех».
3 ...«вредоносным строптивцем»... — Аллюзия на шекспировскую трагедию
«Ромео и Джульетта» (акт IV, сц. 5, 144).
4 ...«камни болтают»... — Шекспир У. Макбет. Акт II, сц. 1, 58. См. также
примеч. 23 к очерку «Пейзаж Никола Пуссена».
...«облекшись краткой и ничтожной властью»... — Шекспир У. Мера за меру.
Акт II, сц. 2, 118. Пер. MA. Зенкевича.
6 ...«укоризненных призывов природы»... — Шекспир У. Макбет. Акт I, сц. 5, 45.
Ср. в пер. М.Л. Лозинского: ...приступы душевных угрызений».
7 «Нет лучше пестрой куртки\» — Шекспир У. Как вам это понравится. Акт II,
сц. 7, 34. Пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник.
8 ...«из недугов извлекается выгода». — Шекспир У. Король Генрих IV. Ч. 2. Акт I,
сц. 2, 248. Цитата несколько неточна. Ср. в пер. Е. Бируковой: «...я сумею извлечь
выгоду из своих недугов».
9 ...«выбросить из себя свои внутренности и натолкать туда, сколько влезет,
жалких полустертых грамот о правах»... — Парафраз фрагмента из «Размышлений
о революции во Франции» Э. Бёрка.
10 ...«порождены священной жалостью»... — Шекспир У. Как вам это понравится.
Акт II, сц. 7, 123. Ср. в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник: ...стирали слезы жалости
священной».
11 ...«Доселе ты дойдешь и не перейдешь». — Иов. 38: 11.
...«не ведая стыда и разуму назло»... — Неточная цитата из «Опыта о человеке»
А. Поупа (I. 193). Ср. в пер. В.Б. Микушевича: ...дитя гордыни или же стыда».
13 «Похвалы мистеру Мальтусу». — Имеются в виду сочинения в поддержку
мальтузианства — сформулированной Т.-Р. Мальтусом теории, согласно которой
население возрастает в геометрической прогрессии, а средства к существованию — лишь
в арифметической, поэтому правительству необходимо сдерживать рост населения.
Другие тезисы Мальтуса: бедняки сами виноваты в своей бедности, так как
обзаводятся семьями, не имея возможности их содержать; правительство не должно
поощрять рождаемость среди неимущих, предоставляя им пособия. Эти и подобные
идеи Мальтус высказал в книге «Опыт о законе народонаселения» (1798).
14 Шотландские романы — цикл исторических романов Вальтера Скотта, где
действие происходит в Шотландии или героями которых являются шотландцы.
15 Бэрри и Хейдоны — лица, подобные Джеймсу Бэрри, который поссорился с
другими членами Королевской академии и был изгнан из нее в 1799 г., и
Бенджамину Роберту Хейдону, который также был не в ладах с Академией и так никогда
не стал ее членом. Оба упомянутых художника были известны в первую очередь
полотнами на исторические сюжеты.
592
Примечания
16 ...бессильны против Катонов, Таббсов и Фаррингтонов. — Катоном Хэзлитт
называет Чарлза Каттона Старшего, одного из основателей Королевской академии;
Таббсом — вероятно, Джорджа Стаббса, анималиста, автора трудов по анатомии
для художников; Фаррингтоном — Джозефа Фариштона, пейзажиста, секретаря
Академии.
17 ...«суетные записи стирает»... — Шекспир У. Гамлет. Акт I, сц. 5,99. Пер. МЛ.
Лозинского. См. также примеч. 9 к очерку «Парадокс и банальность».
18 ...«грацию Рафаэля, пластичность Гвидо»... — Стерн Л. Жизнь и мнения Трист-
рама Шенди, джентльмена. Кн. III. Гл. XII. Пер. А. Франковского. См. также
примеч. 13 к очерку «О невежестве ученых».
19 ...«и в книге мозга пусть пребудут, не смешаны ни с чем, что низменнее»... —
Шекспир У. Гамлет. Акт I, сц. 5, 102—104. Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «И в
книге мозга моего пребудет / Лишь твой завет, не смешанный ни с чем, / Что
низменнее...» См. также примеч. 32 к очерку «Пейзаж Никола Пуссена».
20 ...«нянчили и баловали»... — Аллюзия на «Письмо к благородному лорду» Э. Бёр-
ка: «В отличие от его светлости герцога Бедфорда, меня не нянчили, не баюкали и
не баловали, чтобы сделать законодателем».
21 Сэр Томас Лоренс лишь выиграл от одно-двухгодичного отсутствия в
Сомерсет-хаусе...— Модный на рубеже XVIII—XIX вв. портретист сэр Томас Лоренс получил
заказ на коллективный портрет представителей держав на международном
конгрессе в Ахене (заседал с 1 октября по 15 ноября 1818 г.), затем ездил в Рим и вернулся
на родину в 1820 г. Сомерсет-хаус — здание в центре Лондона, построенное в конце
XVni в. для правительственных нужд; позже использовалось как художественная
галерея. В настоящее время это музей, где выставляется коллекция французской
живописи эпохи импрессионизма и постимпрессионизма (музей Курто).
22 ...прикажет Британии соперничать с Грецией? — Уортон Дж. Ода I: К
фантазии. 148.
23 Мистер Каннинг... формулирует правило, согласно которому корпоративные
объединения не могут не придерживаться корректного... поведения... тогда как люди,
собравшиеся в толпу... друг другу неизвестны, и неподотчетны. — Хэзлитт имеет в виду
речи Каннинга в Ливерпуле по поводу его переизбрания (март 1820 г.).
24 ...«почтенные и доблестные люди»... — Шекспир У. Юлий Цезарь. Акт Ш, сц. 2,
84. Пер. П. Козлова.
XXVIII
СТОИТ ЛИ АКТЕРУ СИДЕТЬ В ЛОЖЕ?
WHETHER ACTORS OUGHT TO SIT IN THE BOXES
...«своим могучим искусством»... — См. примеч. 12 к очерку «Пейзаж Никола
Пуссена».
2 ...«живьем зарытым быть»... — Шекспир У. Гамлета. Акт V, сц. 1, 279. Пер.
Б.Л. Пастернака. Приведенное чуть ранее в этой фразе выражение «нагромождаем...
миллион ассоциаций» является аллюзией на шекспировские «навалят мильоны
десятин» из той же.реплики Гамлета (Там же. Акт V, сц. 1, 281. Пер. М.Л. Лозинского).
3 «Дома» — комедийный моноспектакль Ч. Мэтьюза, имевший большой успех.
...«По сцене призрак Гамлета идет, / Отелло в гневе, Дездемона плачет, /А бедная
XXVIII. Стоит ли актеру сидеть в ложе?
593
Монимья нежно любит». — Неточная цитата из поэмы Дж. Томсона «Зима» (ст. 646—
648). Монимья — героиня трагедии Т. Отвея «Сирота, или Несчастный брак» (1680).
5 ...удар... — Возможно, аллюзия на строку из трагедии У Шекспира «Юлий
Цезарь» (акт Ш, сц. 2, 183). Ср. в пер. М.А. Зенкевича: «То был удар из всех
ударов злейший».
6 «Не мучь. Оставь / В покое дух его. Пусть он отходит. / Кем надо быть, чтоб
вздергивать опять / Его на дыбу жизни для мучений!» — Шекспир У. Король Лир.
Акт V, сц. 3, 314—316. Пер. Б.Л. Пастернака.
7 Авель Дреггер — персонаж пьесы Бена Джонсона «Алхимик»; одна из лучших
ролей Д. Гаррика.
8 «...Как вы думаете, Александр действительно так выглядел при жизни —
Аллюзия на шекспировского «Гамлета» (акт V, сц. 1, 197—198). Ср. в пер. М.Л.
Лозинского: «Как ты думаешь, у Александра был вот такой же вид в земле?»
9 ...«простым кинжалом»... — Там же. Акт III, сц. 1, 75. Пер. М.Л. Лозинского.
10 ...«словно виноватый, удалиться»... — Шекспир У. Отелло. Акт III, сц. 3, 39.
Цитата несколько неточна. Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «Спасаться бегством,
словно виноватый».
11 ...«столь же могущественный голос»... — Там же. Акт I, сц. 2,13. Ср. в пер. П. Вейн-
берга: .. .наш маньифико любим здесь всеми /Ив этом случае его ведь голос /
Вдвойне сильней, чем самый голос дожа».
12 ...«отбросив оболочку более чем тленную»... — Шекспир У. Гамлет. Акт Ш, сц. 1,
66. Не совсем точная цитата из знаменитого гамлетовского монолога «Быть или не
быть?». Ср. в пер. K.P.: «Лишь тленную стряхнем мы оболочку...»
13 На сцену же ведут такие высокие арки, «что актеры идут под ними, не снимая
чалмы роскошной для поклона богам». — Неточная цитата из шекспировского «Цим-
белина» (акт Ш, сц. 3, 5—7). Ср. в пер. П.В. Мелковой: «У королей так кровля
высока, / Что и гигант пройдет под ней, не сняв / Чалмы надменной для поклона солнцу».
14 Главный трагический актер современности — Джон Филип Кембл (1757—1823),
в 1817 г. ушедший со сцены.
15 ...тот, с соколиным глазом... — Вероятно, Кориолан, одна из самых знаменитых
ролей Кембла.
16 «Могилы, разверзаясь, усопших изрыгают — а те нас гонят прочь». —
Контаминация нескольких шекспировских строк. Ср. в пер.: «Могила, вскройся,
расступись!» (Много шума из ничего. Акт V, сц. 3, 19. Пер. А.И. Кронеберга); «Могила,
милый прах верни!» (То же. Пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник); «Могилы разверзались
и усопших / Выбрасывали вон...» (Юлий Цезарь. Акт П, сц. 2, 18. Пер. П. Козлова);
«...гробницы извергают прочь /Тех, кто зарыт...» (Макбет. Акт Ш, сц. 4, 68—69. Пер.
М.Л. Лозинского) и чуть далее там же: ...имея даже двадцать ран / На голове, они
встают из гроба, / Чтобы согнать нас с места за столом...» (Там же. Акт Ш, сц. 4, 79—
81. Пер. Б.Л. Пастернака).
17 ...писк и щебет. — Вероятно, аллюзия на шекспировского «Юлия Цезаря» (акт П,
сц. 2, 24) — фрагмент той же реплики Кальпурния, что и фраза, приведенная выше
в примеч. 16. Ср. в пер. П. Козлова: «По улицам сновали привиденья/ С унылым
воем...»
18 «Все неведомое кажется особенно драгоценным». — Тацит. Жизнеописание
Юлия Агриколы. 30. Пер. A.C. Бобовича.
594
Примечания
19 «Или Цезарь, или ничто» — девиз Чезаре Борджа (1475/1476—1507).
Перекликается с высказыванием Калигулы, приведенным у Светония: «Нужно жить или
скромником, или цезарем!» (Светоний. Жизнь 12 цезарей. Гай Калигула. 37. Пер.
МЛ. Гаспарова).
20 Медный Капитан — Мигель Перес, персонаж комедии Ф. Бомонта и Дж. Флет-
чера «Женись и управляй женой» (1624); одна из ролей Джентльмена Льюиса.
21 Бобадил — персонаж комедии Бена Джонсона «Каждый в своем нраве» (1598);
также одна из сыгранных Льюисом ролей.
22 Рейнджер — персонаж комедии Б. Ходли «Подозрительный муж» (1747); еще
одна роль Льюиса.
23 Юный Рэпид — персонаж комедии Т. Мортона «Лекарство от сердечной
боли» (1797); тоже роль Льюиса.
24 Лорд Фоппингтон — персонаж комедии сэра Дж. Ванбру «Рецидив, или
Добродетель в опасности» (1696), написанной в продолжение пьесы К. Сиббера
«Последняя смена любви»; роль Льюиса.
25 ...«пока мой мозг не превратился бы в вертушку, приводимую в движение дымом
из очага»... — Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Кн. III.
Гл. XVIII. Пер. А. Франковского. Слова дядюшки Тоби процитированы неточно: у
Стерна идет речь не о мозге, а о чередовании идей в мозгу.
26 ...«Когда-то сладкие, / Теперь печальные». — Аллюзия на «Потерянный Рай»
Дж. Милтона (П. 820). Ср. в пер. Арк. Штейнберга: ...взаимных нег, / Которые
с тобою в Небесах / Делили мы; печально вспоминать / О них...
27 Миссис Сиддонс почти никогда не приходит; хотя она — едва ли не единственное,
на что стоит посмотреть\ — В опубликованном 7 июня 1823 г. в «Лондонском
журнале» отзыве на данный очерк Хэзлитта рецензент Джон Гамилтон Рейнолдс
писал: «Вопрос о том, стоит ли актерам сидеть в ложах, не стоило и задавать.
Почему для них нужно делать исключение? Миссис Сиддонс в ложе — совсем другой
человек, чем миссис Сиддонс на сцене. Да что там говорить! Половина
очарования театра состоит как раз в возможности случайно увидеть там кого-нибудь из
знаменитостей».
28 «Поближе сына, но подальше друга». — Шекспир У. Гамлет. Акт I, сц. 2, 65. Пер.
А.И. Кронеберга. Смысл, который Хэзлитт хочет передать этой цитатой, таков:
чуть больше, чем один, и чуть меньше, чем другой.
29 Королева Мэб— королева фей из английского фольклора; о ней — знаменитый
монолог Меркуцио в «Ромео и Джульетте» (акт I, сц. 4) и поэма П.-Б. Шелли (1813).
30 Памятник. — Имеется в виду стоящий в лондонском Сити памятник Великому
пожару 1666 г. (именуется просто Памятник — the Monument). Воздвигнут в 1671—
1677 гг. (создатели — сэр Кристофер Рен и Роберт Хук). Высота — 61 метр. У
вершины имеется смотровая площадка, добраться до которой можно по узкой
винтовой лестнице из 311 ступеней.
31 Сэр Джайлз Оверрич — персонаж популярной сатирической комедии
Филипа Мэссинджера (1583—1639/1640) «Новый способ платить по старым долгам»
(1624).
32 ...«насыщенной... огнем»... — Милтон Дж. Потерянный Рай. И. 937. Пер. Арк.
Штейнберга.
33 ...можно сидеть в ложе и критиковать актеров и их игру, глядя на секундомер Стер-
XXIX. Об опасностях умственного превосходства
595
на... — См.: Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Кн. Ш. Гл. ХП.
Упомянутый Стерном секундомер отличался довольно высокой точностью.
34 ...о которых кричат выше всякой меры... — Аллюзия на шекспировского
«Гамлета» (акт П, сц. 2, 339—340). Ср. в пер. А. Радловой: «...выводок детей, маленьких не-
натасканных соколят, которые кричат выше всякой меры...
35 ...во времена «Зрителя» изготовитель сундуков сидел на галерке за два шиллинга. Но
это было во времена «Зрителя», а не мистера Смерка и мистера Уайетта. — Роберт
Смёрк перестроил Ковент-Гарденский театр (1809 г.), а Бенджамин Дин Уайетт —
театр Друри-Лейн (1811 г.). Хэзлитт имеет в виду, что в обоих театрах сцена была
плохо видна с галерки.
36 ..лунный свет в сцене с участием Лоренцо и Джессики\ — Лоренцо и Джессика —
персонажи пьесы Шекспира «Венецианский купец». Имеется в виду сцена в самом
начале пятого акта. Ср. в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник: «Как ярок лунный свет...
XXIX
ОБ ОПАСНОСТЯХ УМСТВЕННОГО ПРЕВОСХОДСТВА
ON THE DISADVANTAGES OF INTELLECTUAL SUPERIORITY
...«Он шагает так далеко впереди вас, что совсем исчезает вдали». — В очерке
«Мое первое знакомство с поэтами» Хэзлитт пишет, что этими словами С.-Т. Кол-
ридж ответил двум критикам, высказавшим равнодушие к поэзии его друга У. Вордс-
ворта.
2 Петрарка жалуется, что «природа сотворила его непохожим на других людей» —
«singulary d'altri genti». — См.: Петрарка Ф. На смерть мадонны Лауры. ССХСП. 4
(в пер. Е. Солоновича сонет начинается так: «Я припадал к ее стопам в стихах...»).
Хэзлитт неверно цитирует итальянский текст; на самом деле у Петрарки сказано:
...singular da Paîtra gente». Эта фраза в русском варианте передана метафорически:
«Сам — на земле, а думы — в облаках».
3 «Быть честным при том, каков этот мир, — это значит быть человеком,
выуженным из десятка тысяч». — Шекспир У. Гамлет. Акт П, сц. 2,178—179. Пер. МЛ.
Лозинского.
4 «Ну, как ты там, особенный такой?» — Неточная цитата из
шекспировского «Генриха VI» (Ч. И. Акт IV, сц. 2, 112). В русском переводе этот оттенок
значения отсутствует. Вопреки утверждению Хэзлитта, данная реплика является
ответом Джека Кэда не писарю (которого восставшие уже уволокли на виселицу за
умение читать и писать), а одному из сторонников, явившемуся к предводителю
мятежников с сообщением о подходе королевских войск.
5 ...«Дивятся все, когда среди волов /Неведомый выскакивает зверь, / Сильней и
выше всех на сто голов, / И напугает хуже злых волков». — Спенсер Э. Королева фей.
VII. VI. 28. 6-9.
6 ...о судьбе, свободе воли, абсолютности предвидения... — Аллюзия на милтоновский
«Потерянный Рай» (П. 560). Ср. в пер. Арк. Штейнберга: ...о
Провиденье,/Провиденье, о воле и судьбе — / Судьбе предустановленной и воле / Свободной, наконец, —
о безусловном / Провиденье...
7 «Я не хвалить привык, а придираться». — Шекспир У. Отелло. Акт П, сц. 1, 119.
Пер. Б.Л. Пастернака.
596
Примечания
8 ...возле Уэма в Шропшире... — Там, где Хэзлитт часто навещал родителей в
период с 1800 по 1808 г.
9 «Покой в сочетании с достоинством». — Цицерон. Речь в защиту Публия Сес-
тия. XLV. Пер. В.О. Горенштейна.
10 То был удар из всех ударов злейший. — См. примеч. 5 к очерку «Стоит ли
актеру сидеть в ложе?».
11 «Попугай принца Мориса» — один из «Политических очерков» Хэзлитта,
впервые напечатанный в 1814 г. сразу в двух журналах — «Экзаминер» и «Чэмпион».
12 «Эссе о характере королей» — очерк Хэзлитта, впервые напечатанный в 1818 г.
в журнале «Желтый карлик», а затем воспроизведенный в сборнике «Политические
очерки» (1819).
13 Я поискал это слово и нашел его в эпиграфе из Батлера. — Хэзлитт
воспроизводит этот эпиграф, предваряя им очерк «О невежестве ученых».
14 ...одному такому спесивому человеку... — Ли Ханту.
...крайне лестное письмо из Рима от знаменитого графа Стендаля. — Стендаль
восхищался хэзлиттовскими очерками, включенными в сборник «Герои
шекспировского театра». В 1825 г. оба писателя встретились в Париже. Почему Хэзлитт
именует Стендаля графом, непонятно.
16 ...«получилось довольно некстати». — Шекспир У. Гамлет. Акт V, сц. 2, 158—159.
Ср. в пер. А.И. Кронеберга: «Это выражение было бы больше кстати...»
17 Письмо к Ветусу — входит в состав «Политических очерков» Хэзлитта.
18 Филч — персонаж «Оперы нищих» Джона Гэя.
19 прохожим знаком я становлюсь теперь». — Гораций. Оды. ГУ. III. 22. Пер.
А.П. Семенова-Тян-Шанского.
20 ...«О его игре... написали в "Экзаминере" чтау него такой вид, будто одним
глазом он смотрит на виселицу, а другим — на хорошенькую девушку». — Речь идет о
рецензии на постановку «Оперы нищих» в театре Друри-Лейн, написанной Хэзлиттом
в ноябре 1815 г.
21 Игра в мяч. — См. примеч. 32 к очерку «Индийские жонглеры».
22 .......очерк о некоем Каване... был... опубликован... во многих газетах!»... —
Имеется в виду очерк Хэзлитта «Индийские жонглеры» (см. с. 99—102 наст. изд.).
23 ...его литературный портрет в последнем номере «Эдинбургского обозрения». —
Публикация состоялась в августе 1817 г.
24 ...«живит, веселит, полно слухов и россказней». — Несколько неточная цитата из
шекспировского «Кориолана» (акт ГУ, сц. 5, 222—223. Пер. под ред. А. Смирнова).
25 «Любовь за любовь» (1695) — комедия У Конгрива.
20 ...подобно турецкому султану, довольно было только бросить платок... — У Дж.-Ф.
Купера в «Автобиографии носового платка» (1843) рассказывается, что правитель
Турции бросает платок своему фавориту. Очевидно, Хэзлитт имеет в виду тот же факт,
хотя, разумеется, заимствует его из другого источника.
27 ...«Меня всегда найдешь с тобою рядом / И в этом мире, и в другом, коль есть он». —
Байрон Дж.-Г Сарданапал. Акт ГУ, сц. 1, 166—167. Пер. Г. Шенгели (реплика Мирры).
28 Там, где хозяйка улыбается в ответ на... ухаживание поэта, горничная...
натравит на беднягу всю деревню или целый дом. — Хэзлитт имеет в виду эпизод из
собственной жизни, закончившийся поспешным бегством из Кезвика в 1803 г.
29 ...под присягой, принесенной в Хайгейте... — «Никогда не целовать служанку,
XXX. Покровительство и расхваливание
597
если можно поцеловать хозяйку». Эту шуточную присягу приносили пассажиры
дилижансов и посетители таверн Хайгейта.
30 ...«Звезды ярчайшей луч не победит»... — Спенсер Э. Королева фей. I. I. 7. 6.
31 ...миссис Пичем говорит, что для успеха за карточным столом нужно благородное
воспитание. — Миссис Пичем — героиня «Оперы нищих» Дж. Гэя. Хэзлитт
ссылается на ее реплику из пьесы (акт I, сц. 4, 49—51).
32 ...красивое лицо — плод занятий долгих, но умение читать и писать — дар
природы. — Неточно процитированная реплика бестолкового стражника Кизила из
шекспировской комедии «Много шума из ничего» (акт III, сц. 3, 14-16). Ср. в пер.
Т.Л. Щепкиной-Куперник: ...красота — это дар судьбы, а грамотность — ну, это
уж от природы».
XXX
ПОКРОВИТЕЛЬСТВО И РАСХВАЛИВАНИЕ
ON PATRONAGE AND PUFFING
1 «Успокоитель, прозванный тщеславьем». — Спенсер Э. Королева фей. I. IV. 13. 3.
...подобно шотландским философам, использующим свидетельства своих органов
чувств для доказательства существования материального мира и для других ученых
теорий. — Имеются в виду представители такого философского течения, как
эмпиризм: шотландец Дэвид Юм (1711—1776) и ирландец Джордж Беркли (1685—
1753).
3 Откровенное расхваливание... — Отсылка к комедии Р.-Б. Шеридана «Критик»
(акт I, сц. 2). Ср. в пер. М. Богословской и С. Боброва: «Пуф. Да, сэр. Я никакой
тайны из своего ремесла не делаю. Вот Дэнгл знает, среди друзей и братьев
писателей я люблю обо всем говорить откровенно, начистоту и с удовольствием
рекламирую себя самого. Я, сэр, специалист по панегирикам, или, говоря попросту,
мастер пуфа к вашим услугам и к услугам всех желающих» и т. д. Имя персонажа Puff,
собственно, и означает «дутая реклама»; слово того же корня — puffing — Хэзлитт
использует в названии очерка.
4 «Возвысить и удивить». — Вероятно, аллюзия на реплику из комедии герцога
Бэкингема «Репетиция» (1671—1672): «Вот так вот ваши ценители искусства,
воспитанные особы, весельчаки, те, кто брезгует подражать Природе, целиком и
полностью отдаются тому, чтобы возвышать и удивлять».
...непритязательный слух... — Аллюзия на шекспировского «Гамлета» (акт Ш,
сц. 2, 10—11). В оригинале как пьесы, так и очерка имеются в виду зрители, сидящие
на дешевых местах, «массовая» публика. Ср. в пер. K.P.: ...терзает уши черни,
которая большей частью ничего не смыслит, кроме необъяснимой пантомимы и крика».
«Смерть верхом на бледном коне». — Картина была написана около 1802 г.;
существует в нескольких авторских вариантах.
7 Пароль со своим барабаном... — Пароль — персонаж комедии Шекспира «Все
хорошо, что хорошо кончается», приближенный главного героя пьесы, Бертрама,
графа Руссильонского; потерял во время сражения барабан (что считалось позором)
и хвастал, что может его отыскать.
8 «Все выигрывают, проигравших нет». — Стандартная формула, используемая в
рекламе лотерей.
598
Примечания
9 К другому моему приятелю... обратились с просьбой... сочинять рекламу
лотереи для... игорного дома в Сити... — Речь идет о Чарлзе Лэме; об этом факте
сообщается в письме сестры Лэма, Мэри, к Саре Стоддарт от 7 ноября 1809 г.
10 «Голос и больше ничего». — Приводится среди изречений неизвестных
спартанцев у Плутарха: «Один спартанец, ощипав соловья и обнаружив в нем совсем мало
мяса, сказал: "Да ты просто голос и ничего больше"» [Плутарх. Изречения
спартанцев. 233А. Пер. М.Н. Ботвинника).
11 ...«бессмертья срок»... — Аллюзия на перевод «Илиады», выполненный А. Поупом:
«Краток срок моей жизни, но слава моя бессмертна» (IX. 535). Ср. в пер. Н.И. Гне-
дича: «Нет возвращения мне, но слава моя не погибнет» (IX. 413).
12 ...мне в прошлом доводилось иметь дело с... критическими приговорами... — В
период с октября 1813 г. по декабрь 1817 г. Хэзлитт ежедневно или еженедельно
писал театральные рецензии для «Морнинг кроникл», «Чэмпиона», «Экзаминера»
или «Тайме». После этого он почти не занимался театральной критикой.
13 ...рецензию на первое выступление мисс Стивене в «Опере нищих». — От 23 октября
1813 г.
14 ...я гостил у своих друзей недалеко от Чертей... — Имеются в виду родители и
сестра Хэзлитта, которые в 1813 г. переехали из Уэма (Шропшир) в Эддлстоун
(Суррей).
15 «Весны возврат неведом нам». — Гэй Дж. Опера нищих. Акт И, сц. 4, 28-43.
..лАои последние надежды на личное счастье и на свободу человечества померкли
почти одновременно... — Имеется в виду поражение Наполеона при Ватерлоо 18 июня
1815 г. и, вероятно, ухудшение отношений с первой женой (в 1819 г. Хэзлитт
разъехался с ней).
17 «Сама любовь мне радость не несет». — Несколько неточная цитата из
стихотворения Дж. Хэммонда (1716—1742) «Мистеру Джорджу Гренвиллу. Элегия XV» (ст. 12);
в первоисточнике стоит прошедшее время.
18 Твикенам — местность в графстве Миддлсекс; там располагались поместья
поэта Александра Поупа и писателя Хореса Уолпола.
19 Полли Пичем — героиня «Оперы нищих» Дж. Гэя.
20 Мандана — мать персидского царя Кира П, героиня оперы Томаса Арне (1710—
1778) «Артаксеркс» (1762).
21 «Деревенская любовь» (1763) — комедия Исаака Бикерстаффа. См. также
примеч. 30 к очерку «О критике».
22 «Надежда, желания мать». — Бикерстафф И. Деревенская любовь. Акт I,
сц. 1, 1.
23 ...«в глазах народа облекся золотым нарядом славы». — Шекспир У. Макбет. Акт I,
сц. 7, 32—33. Пер. Ю.Б. Корнеева.
24 ...первое выступление Кина в роли Шейлока... — Дебют Эдмунда Кина в роли
венецианского купца состоялся 26 января 1814 г.
25 «В такой-то день.,, назвали псом». — Шекспир У. Венецианский купец. Акт I,
сц. 3, 127—128. Пер. Т.А. Щепкиной-Куперник.
26 Стоунхендж. — См. примеч. 36 к очерку «О путешествиях».
27 У мистера Кина имелись... физические изъяны, и он вызывал сильное
предубеждение... — Эдмунд Кин был маленького роста и отличался резковатым голосом.
Предубеждение в обществе он вызывал в основном пристрастием к спиртным напиткам
XXX. Покровительство и расхваливание
599
и другим излишествам, а также взрывным темпераментом. В 1825 г. он проиграл
судебный иск по обвинению во внебрачной связи с супругой одного из советников
Лондонского муниципалитета, в результате чего стал объектом яростных нападок
в прессе; против него даже устраивались демонстрации в Лондоне и в США (во
время его вторых гастролей).
28 Дуглас — герой одноименной пьесы (1756) шотландского драматурга Джона
Хоума (1722-1808).
29 ...«веселым детищем стихий»... — См. примеч. 21 к очерку «Почему нам
нравится все далекое».
30 «По-моему, был счастлив тот, кто умер\» — Несколько неточная цитата из
пьесы «Дуглас» Дж. Хоума: Хэзлитт изменил порядок слов.
31 Вестминстер — знаменитая школа близ Вестминстерского аббатства,
основанная в XII в. (существует и в наши дни). Среди ее выпускников было немало
знаменитостей, в числе которых драматург Бен Джонсон, архитектор сэр
Кристофер Рен, историк Эдвард Гиббон, в XX в. — актер Питер Устинов и
композитор Эндрю Ллойд-Уэббер.
32 ...с должной выразительностью и чувством... — Несколько неточная цитата из
шекспировского «Гамлета» (акт П, сц. 2, 466—467). Ср. в пер. М.Л. Лозинского: ...с
должной выразительностью и с должным чувством».
33 Книга Энфилда — антология английской литературы, составленная У.
Энфилдом; впервые вышла в 1774 г. и с тех пор многократно переиздавалась. В
упомянутом отрывке из «Дугласа» заглавный герой рассказывает лорду Рэндольфу, как
в одиночку дрался с варварами, напавшими на его отца и других пастухов.
34 .......тощий, голодный Росций»... — Вероятно, аллюзия на шекспировского
«Юлия Цезаря» (акт I, сц. 2, 194). Ср. в пер. М.А. Зенкевича: «А Кассий тощ, в
глазах голодный блеск».
35 ...Колридж вернулся из Италии... — 17 августа 1806 г. До октября он
оставался на юге Англии, затем отправился в Озерный край к своей семье и друзьям —
Вордсворту и Саути.
3() Кампания. — См. примеч. 16 к очерку «Пейзаж Никола Пуссена».
37 ...«О память, память\»... — Источник цитаты не установлен.
38 ...Каттерфельто, «у которого волосы становятся дыбом при виде собственных
чудес и который творит чудеса ради куска хлеба»... — Купер У. Задача. IV 86—87.
Врач-шарлатан Каттерфельто был непревзойденным мастером наглой зазывной
рекламы.
39 ...«в жизни он стал воплощеньем актерства»... — Неточная цитата из поэмы
О. Голдсмита «Каждому по заслугам» (1774) (ст. 102). Ср. в пер. А. Ларина: «На
сцене был искрен, без грана притворства — / А в жизни являл воплощенье актерства...
40 ...«делайте свое дело»... — Шекспир У. Король Генрих IV Ч. 2. Акт И, сц. 1, 40—
41. Пер. Е. Бируковой.
41 Сомерсет-хаус. — См. примеч. 21 к очерку «О корпоративных объединениях».
42 ...«среди первых в списке»... — См. примеч. 4 к очерку «О литературной
аристократии».
43 ...«весь мир — театр, а люди — все актеры». — Шекспир У. Как вам это
понравится. Акт И, сц. 7, 139-140. Пер. В. Аевика.
44 ...«спутников моих»... — Шекспир У Ричард Ш. Акт Ш, сц. 7, 34. Пер. Б. Аейтина.
600
Примечания
...Отон потребовал зеркало на иллирийском поле. — Имеется в виду император
Отон, упоминаемый римским поэтом-сатириком Ювеналом. См.: Ювенал.
Сатиры. И. 99-103.
46 ...любимец и почитатель редактора теперь в свите редактора «Блэквуда». —
Вероятно, язвительный намек на поэта Колриджа и Дэниела Стюарта,
редактора «Курьера».
47 ...«Нуу ну, балованные клячи Азии, / Неужто лишь двадцать миль проедете за
день?» — Марло К. Тамерлан Великий. Ч. 2. Акт И, сц. 4, 1—2.
48 ...«кричать о нем выше всякой меры»... — См. примеч. 34 к очерку «Стоит ли
актеру сидеть в ложе?». У Шекспира идет речь о труппе юных актеров, что явно
перекликается с некоторыми мотивами очерка Хэзлитта.
49 ...«выводком детей»... — См. примеч. 34 к очерку «Стоит ли актеру сидеть в
ложе?» и пред. примеч.
50 ...вульгарного величия. — Другой возможный перевод — «плебеев высокого
пошиба». См. примеч. 3 к очерку «Вульгарность и жеманство».
51 «Изредка видны пловцы средь широкой пучины ревущей». —Вергилий. Энеида. I.
118. Пер. С. Ошерова, под ред. Ф. Петровского.
52 Когда доктора Джонсона однажды спросили, почему его так редко приглашают
в гости, он сказал: «Важным лордам и леди не нравится, когда им не дают говорить». —
См.: Boswell's life of Johnson... Vol. IV. P. 116.
53 Когда король проходил по дворцу, сопровождавшие его шли впереди с возгласами:
«Внимание, внимание\»... — По-английски эта фраза звучала как «Sharp, sharp, look sharp!».
Причиной недоразумения послужила омонимичность слова «sharp» [англ. —
внимательный) и фамилии художника (Sharp).
XXXI
О ПОСТИЖЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ХАРАКТЕРА
ON THE KNOWLEDGE OF CHARACTER
Вероятнее всего, очерк написан в 1822 году; вторично опубликован в парижском
издании «Застольных бесед» (1825).
...в дилижансе из Парижа несколько лет тому назад. — В феврале 1803 г., когда
Хэзлитт возвращался из своей первой поездки в Париж, где его интересовал
главным образом Лувр.
2 «Невидимая девица» — механизм, сконструированный неким М. Шарлем и
демонстрировавшийся в Лондоне и Эдинбурге в 1803—1804 гг. У посетителей
создавалось впечатление, будто они беседуют с невидимкой, находящейся в одном с ними
помещении (или по крайней мере с крошечной девушкой, сидящей в шаре
диаметром около 30 см, являвшемся частью механизма), тогда как на самом деле
посредством хитроумной системы труб и проводов звук передавался в другую комнату
(нередко этажом выше или ниже), где пряталась девица, и точно так же шел
обратно. Ассистентка Шарля свободно изъяснялась на нескольких языках, прелестно
пела и высказывала меткие замечания о присутствующих (узнавая о них
посредством сигналов, посылавшихся лицом, обслуживавшим механизм, или наблюдая за
XXXI. О постижении особенностей характера
601
посетителями через отверстие либо через систему зеркал). Поэт Т. Худ (1799—1845)
посвятил «Невидимой девице» стихотворение.
3 По словам, знаменитого остроумца, «речь нам дана, чтобы скрывать свои мысли». —
Принято считать, что автор высказывания — французский дипломат Ш.-М. де Та-
лейран-Перигор.
4 Лорд Честерфилд советует внимательно глядеть в лицо собеседника, подлинные
мысли которого нам хотелось бы узнать, ибо у него больше власти над словами, не-
лее ли над выражением лица. — Честерфилд пишет:
Говоря с людьми, всегда смотри им в глаза; если ты этого избегаешь, люди
начинают думать, что ты считаешь себя в чем-то виноватым; к тому же ты теряешь
тогда возможность узнавать по выражению их лиц, какое впечатление на них
производят твои слова. Когда я стараюсь распознать истинные чувства людей, я
полагаюсь на мои глаза больше, чем на уши, ибо люди говорят, имея в виду, что
я их услышу, и соответственно выбирают слова, но им очень трудно помешать
мне увидеть то, чего они вовсе, может быть, не хотят мне показывать {Честерфилд.
Письма к сыну. UV (Бат, 19 октября ст. ст. 1748 г.). Пер. AM. Шадрина).
5 «Да, мужа не узнаешь ни в год, ни в два». — Шекспир У. Отелло. Акт Ш, сц. 4,
103. Пер. 77. Вейнберга.
6 Полустершийся, неумелый портрет Донна, предпосланный его стихам... —
Выполнен У. Маршаллом с более раннего портрета (1591), написанного, когда поэту
было 18 лет.
7 Мистер неустановленное лицо.
8 ...«холодная жидкость»... — Вероятно, цитата из «Могилы Шекспира: Видение»
(1763) Дж.-Г. Купера (ст. 104).
9 ...«в груди и у костлявой хищной Смерти душа проснуться». — Милтон Дж. Ко-
мос. 560—561. Пер. Ю.Б. Корнеева.
10 ...девица с робко опущенными глазами и волшебно-нежным выражением лица... —
Сара Уокер. См. также примеч. 11 к очерку «О прошлом и будущем» и 33—34 к
очерку «О тех, кто живет своей жизнью».
11 Я знаю человека, которого считали непригодным для дружбы на том только
основании, что он никогда сердечно не пожимает руку. — По всей вероятности, Хэз-
литт имеет в виду самого себя. Именно так о нем написал Ли Хант в своем
очерке «О рукопожатии» (1820).
12 ...«внешние знаки». — Шекспир У. Отелло. Акт I, сц. 1, 63. Пер. А. Радловой. У
Шекспира используется единственное число.
13 «Если есть у французов недостаток... так только тот, что они — слишком
серьезны». — См. примеч. 1 к очерку «О прошлом и будущем». Пер. А. Франковского.
...в описанном Гоббсом «естественном состоянии». — То есть в анархии,
эгоистической борьбе интересов («войне всех против всех»), каковая, по мнению
английского философа Гоббса, происходила до того, как люди осознали необходимость
создать правительство.
15 ...«бешеной остротой, вечно новой выдумкой». — Грей Т. Вид издали на Итонский
колледж. 46.
602
Примечания
16 «Служба не то, что наследство». — Шекспир У. Все хорошо, что хорошо
кончается. Акт I, сц. 3, 40—41. Пер. Т. А. Щепкиной-Куперник.
17 ...«хитрей лисы в охоте, / Смелей волков в погоне за добычей». — Шекспир У.
Цимбелин. Акт III, сц. 3, 40—41. Пер. П.В. Шелковой.
18 ...«резко и несправедливо»... — Гэй Дж. Опера нищих. Акт I, сц. 4, 9.
19 «Как трудно к сердцу женщин путь найти, / Еще трудней дойти до цели». —
Милтон Дж. Самсон-борец. 1013—1014. Цитата носит приблизительный характер.
Ср. в пер. Ю.Б. Корнеева: «Ни одному мужчине не дал Бог/Так много красоты,
ума и силы, / Чтоб женщина ему не изменила. / Как угадать, что нужно ей?»
20 ...ты... — Сара Уокер.
21 Имогена — героиня шекспировской драмы «Цимбелин», дочь британского
короля Цимбелина от первого брака.
22 ...о «Рембрандтах, Корреджо и тому подобных»... — Несколько неточная цитата
из поэмы О. Голдсмита «Каждому по заслугам» (ст. 145). Ср. в пер. А. Ларина:
«...Корреджо рука, Рафаэлев мазок...
23 Унитарии — приверженцы Унитарной церкви. См. примеч. 10 к очерку «Об
одержимости одной идеей». Унитарием был и отец Хэзлитта. Вероятно, автор
очерка намекает на обстоятельства собственной жизни.
24 ...«неутомимой деятельности своего ума»... — Бэкон Ф. О достоинстве и
преумножении наук. I. IV. 5. Пер. НА. Федорова.
25 ...«вратной службе»... — Шекспир У. Отелло. Акт I, сц. 2, 1. Пер. M.Ä.
Лозинского.
26 ...«не так, как все»... — Аэм Ч. Джон Вудвилл. Акт И, сц. 2.
27 ...«чистейшем незамутненном злодеянии»... — Аллюзия на «Письмо к
благородному лорду» Э. Бёрка.
28 ...«поистине все хорошо, что есть»... — Поуп А. Опыт о человеке. I. 294. Пер. В.Б. Ми-
кушевича.
29 «"Аминь" застряло у него в глотке». — Шекспир У. Макбет. Акт II, сц. 2, 29—
30. Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «Я жаждал помолиться, но "аминь" / Застряло в
горле».
30 ...«никаких преступных намерений, вообще никаких»... — Гэй Дж. Опера нищих.
Акт I, сц. 10, 40—41. Слова «вообще никаких» добавлены Хэзлиттом.
31 ...«На солнце тело если я оставлю... ~ Чтоб место рати дать неисчислимой?» —
Колридж С Раскаяние. Акт III, сц. 2 (Хэзлитт ошибочно указывает «Акт II»),
32 ...«Сам я — сносной нравственности. Но и у меня столько всего, чем попрекнуть
себя\» — Шекспир У. Гамлет.1 Акт III, сц. 1, 117—118. Пер. Б.А. Пастернака.
33 ...«зная хорошо другого, мы узнавали бы себя». — Там же. Акт V, сц. 2, 139—140.
Цитата не совсем точна. Ср. в пер. K.P.: ...хорошо знать другого все равно, что
знать самого себя».
34 ...«кто постигал все свойства духом просвещенным»... — См. примеч. 3 к
очерку «Гений и здравый смысл» (Окончание).
35 ...как пишет Батлер, избыток ума требует «такого же избытка, чтоб
управлять им». — Цитируется не С. Батлер, а А. Поуп — «Опыт о критике» (ст. 80—81).
XXXII. О живописном и идеальном. Отрывок
603
XXXII
О ЖИВОПИСНОМ И ИДЕАЛЬНОМ
Отрывок
ON THE PICTURESQUE AND IDEAL
A Fragment
Тринадцать листов рукописи очерка (набросок) хранятся в Университете штата
Нью-Йорк (г. Буффало). На последней странице рукой Хэзлитта написано:
«Закончено во вторник 28 августа 1821 г. / Начато в четверг 2 августа 1821 г.».
...в этюде мистера Норткота, изображающем Гэдсхилла... — Гэдсхилл —
персонаж шекспировской пьесы «Король Генрих IV» (ч. I). Впервые он появляется на
постоялом дворе в сцене с извозчиками (акт И, сц. 1), которую и
проиллюстрировал художник.
2 ...«без надежного закала, без блеска, без ручательств на успех». — Шекспир У.
Король Генрих IV. Ч. I. Акт Ш, сц. 2, 45. Пер. ПА. Каншина. См. также примеч. 43 к
очерку «О литературной аристократии».
3 «И точно, Мандрикардо не лыаденец». — Хэзлитт цитирует поэму Л. Ариосто
«Неистовый Роланд» в переводе сэра Джона Хариштона (1591).
4 «Как сладко дремлет лунный свет на горке\» — Шекспир У. Венецианский
купец. Акт V, сц. 1, 54. Пер. Т.А. Щепкиной-Куперник. Слово «дремлет» выделено
Хэзлиттом.
5 ...изображенного на потолке в Уайтхолле Купидона, который скачет верхом на
льве и... заставляет перепрыгнуть через пропасть на фоне неба и облаков! — Эти
росписи на потолке в Уайтхолле были выполнены П.-П. Рубенсом. Уайтхолл —
правительственный дворец в Лондоне на Трафальгарской площади.
ь Посмотрите на два лица на «Тайной вечери» ~ без меры и конца. — В
рукописи в этом месте приведен несколько другой вариант:
Посмотрите на два лица на Леонардовой «Тайной вечери» — Иуды и Христа:
в одном — отталкивающая сила, в другом — божественная святость и кроткая
мудрость. Последнее лицо идеально. Реальное, характерное в живописи — это
то, что существует; идеальное — то, чего мы желаем, и то, что хотели бы
созерцать без меры и конца.
7 По сравнению с нею всякий портрет ~ с желаниями и способностями человека. —
Рукопись в этом месте отличается от окончательной версии:
По сравнению с нею всякий портрет кисти Ван Дейка — воплощенное равнодушие
или самодовольство человека ограниченного; в нем не ощущается растущее и все
еще не удовлетворенное желание. В идеальном единственный предел — это
предел наших физических возможностей. Мы отдаемся идеалу всей душой, но
всегда остается еще что-то такое, что придет позднее, чего можно желать, что
можно вообразить; идеал — это бесконечное, соотнесенное с желаниями и
способностями человека.
604
Примечания
8 ...«Моя, как море, безгранична щедрость / И глубока любовь». — Шекспир У.
Ромео и Джульетта. Акт II, сц. 2, 133—134. Пер. А. Радловой.
9 Рукопись очерка завершается абзацем, который Хэзлитт не включил в
печатные издания. Он представляет собой своеобразное исследование по эстетике
человеческого лица и начинается так:
Говорят, что идеал — это совершенство. Однако тогда возникает вопрос, что же
такое совершенство. Вразумительное определение таково: большая степень чего-
либо, что признано хорошим и чему душа не может нарадоваться. Идеальное в
выражении определенно не состоит в средней пропорциональности, точно так
же как идеальное в характере, каковое представляет собой не что иное, как
последовательность или цельность в достижении цели. И после всего
вышесказанного я не верю, что идеал или, если хотите, совершенство величайшей
красоты формы состоит в усредненном или срединном стандарте. Я приведу здесь
несколько примеров, чтобы показать ошибочность этой теории в практическом
применении. Для этого я возьму греческое лицо и т. д., как признанное мерило
в данном отношении. <...>
XXXIII
О БОЯЗНИ СМЕРТИ
ON THE FEAR OF DEATH
Перепечатано в парижском издании «Застольных бесед» (1825). Очерк выходил
на русском языке (см.: Хэзлитт У. О страхе смерти/Пер. А. Ливерганта//Факт
или вымысел: Антология. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2008. С. 346—355).
1 И сном окружена / Вся наша маленькая жизнь. — Шекспир У. Буря. Акт IV,
сц. 1, 157—158. Пер. Mux. Донского.
2 Царствование королевы Анны — 1702—1714 гг.
3 Когда Бикерстафф писал свои очерки.,. — Имеются в виду очерки, написанные
сэром Ричардом Стилем в 1709—1711 гг. для журнала «Болтун» (под псевдонимом
Исаак Бикерстафф).
4 ...в начале царствования Георга III... — Ок. 1760 г.
5 Таверна «Глобус». — См. примеч. 28 к очерку «Политики из кофейни».
...перестрелкиу Банкерс-хилла... (точнее — Банкер-хилла). — Имеется в виду пер
вое значительное сражение в ходе американской Войны за независимость (17 июня
1775 г.), проходившее на холмах близ осажденного Бостона; получило название в
честь одного из этих холмов.
7 ...«тошнота подступила бы к горлу»... — Шекспир У. Гамлет. Акт V, сц. 1, 187—
188. Пер. А. Радловой. Цитата неточна.
8 Ты — неизвестное лицо.
...«Мы помним войны царя Нина, / Инаха и Ассарха-старика». — Спенсер Э.
Королева фей. П. IX. 56. 8—9.
10 «Всё, что сегодня, взор сегодня видит». — Шекспир У. Троил и Крессида. Акт Ш,
сц. 3, 180. Ср. в пер. Т. Гнедич: «Мы ценим только то, что глаз прельщает».
11 ...«несчастьем долголетъе обращается». — Хэзлитт в очередной раз играет с
XXXIII. О боязни смерти
605
известнейшей шекспировской цитатой: необычный контекст придает совершенно
новое звучание цитате из гамлетовского монолога «Быть или не быть?» (акт III,
сц. 1, 68). Ср. в пер. Б.Л. Пастернака: «Вот что удлиняет/ Несчастьям нашим
жизнь на столько лет».
12 «О сердце силъное\ / Сей договор меж миром и тобой / Нарушить ты не хочешь». —
Вебстер Дж. Белый дьявол, или Виттория Коромбона. Акт V, сц. 3, 13—15.
13 ...«для полноты довольства мало»... — Поуп А. Опыт о человеке. I. 109.
Цитата не вполне точна. Ср. в пер. В.Б. Микушевича: «Остаться хочет он таким, как
был».
14 ...«вот здесь, на этой отмели времен»... — Шекспир У. Макбет. Акт I, сц. 7, 6.
Пер. М.А. Лозинского.
15 ...«то, что было теплым и живым, / Вдруг превратится в ком сырой земли»... —
Шекспир У. Мера за меру. Акт III, сц. 1, 119—120. Пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник.
Цитата несколько неточна.
16 ...«увянут, станут хилыми, седыми». — Милтон Дж. Потерянный Рай. XII.
539—540. Пер. Арк. Штейнберга.
17 ...«сухих и желтых листьев»... — Шекспир У. Макбет. Акт V, сц. 3,23. Пер. МЛ.
Лозинского.
18 «Для нас все смертны, кроме нас салшх». — Янг 9. Ночные размышления о
жизни, смерти и бессмертии. I. 423.
19 ...«канули в простор времен»... — Аллюзия на шекспировский сонет (XII. 10).
Ср. в пер. С.Я. Маршака: «...придется отцвести».
20 Только один раз видел я смерть — смерть младенца. — Хэзлитт потерял двоих
сыновей: один, в возрасте 6 месяцев, умер в Уинтерслоу в 1809 г., другой, в
возрасте 7 месяцев, — в Вестминстере в 1817 г. Здесь имеется в виду последний,
которого писатель назвал Джоном в честь своего брата. См. также примеч. 12 к очерку
«О наслаждении живописью».
21 ...облегчает стесненную болью грудь\ — В рукописи, хранящейся в Центральной
библиотеке Манчестера, в конце этого абзаца есть добавление:
Я не видел своего отца мертвым. Но видел, как Смерть пожимает его
дрожащую руку и пристально глядит ему в лицо. Он скончался не хуже Фальстафа,
хотя и на свой манер, как ему и приличествовало. Повторив несколько раз имя
С<пасителя>, он взял мою мать за руку и, посмотрев ей в глаза, вложил в руку
сестры — так и отошел. Было в натуре отца некое благообразие и благородство,
и они проявились в его последнем поступке.
22 Памятник двум детям работы Чантри. — Имеется в виду знаменитая
работа Чантри «Спящие дети», выполненная для собора в Личфилде.
23 ...«И вопиет природа из гробниц, / И прах наш непогасший камень жжет». — Грей Т.
Элегия, написанная на сельском кладбище. 91—92. Пер. С. Черфаса. См. также
примеч. 6 к очерку «О составлении завещаний».
24 «Дзанетто, оставь женщин и займись математикой». — Руссо Ж-Ж. Исповедь.
Часть II. Кн. 7. Точнее, Джанетто. Это сказала молодому Жан-Жаку Джульетта,
венецианская куртизанка.
25 В книге Такера «Преследуя свет природы» есть замечательное место... — См.: Ти-
606
Примечания
cker A. The Light of Nature Pursued: In 2 vol. / Ed. H.P. St John Mildmay. L.: Tegg & Son,
1834. Vol. 2. Ch. ХХХУП. 10. P. 647.
26 «He плачьте обо мне, жена и дети милые» — расхожая формулировка, не
имеющая конкретного источника.
27 ...«Немного шума, немного власти — / Вот все, что у великих было / От
колыбели до могилы». — Дайер Дж. Гронгарский холм. 89—92.
28 «Память о великом человеке может пережить его на полгода»... — Шекспир У.
Гамлет. Акт III, сц. 2, 132. Пер. П. Гнедича. Цитата не совсем точна. См. также
примеч. 29 к очерку «Индийские жонглеры».
29 ...«не стоит и булавки»... — Там же. Акт I, сц. 4, 65. Пер. K.P.
30 ...«свойусталый челн на скалы»... — Шекспир У. Ромео и Джульетта. Акт V,
сц. 3, 118. Хэзлитт цитирует неточно. Ср. в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник:
«Разбей о скалы мой усталый челн!»
31 ...«ееутратить в грязной драке»... — Отвей Т. Спасенная Венеция. Акт IV, сц. 2,
201.
32 ...боль расставания с жизнью не будет очень уж жестокой\ — Сын Хэзлитта,
публикуя «Застольные беседы» в своей редакции, прибавил в конце очерка
следующий абзац, возможно, воспроизведенный по несохранившемуся рукописному
наброску:
Добавлю одно замечание, которое в какой-то мере смягчает внезапность
перехода от жизни к смерти и представляет его воображению менее ужасным,
нежели обычно кажется. Смерть, как правило, изображают в виде чудовища,
пожирающего человека целиком; могила поглощает нас без остатка; не только
планы на будущее, но и былые наши радости становятся ее добычей, и все
удовольствия, доступные нам при жизни, собраны для роскошного пиршества
мрачного тирана. Но на самом деле Время уже предвосхитило работу
Смерти и оставило на ее долю лишь половину добычи, ибо умираем мы в каждый
момент нашей жизни. Смерть может украсть у нас лишь будущее, над
прошлым она не властна: наше бытие постепенно и незаметно ускользает от нас,
сиюминутные радости следуют одна за другой, словно пузыри, возникающие
и исчезающие на воде, или снег, тающий на лету; наши привязанности,
дружеские чувства, желания стираются и забываются: те, на кого они были
направлены, для нас мертвы, и мы переживаем не только их, но и себя. Мы сами
испили чашу жизни и оставили один лишь осадок на дне. Удар смерти не
подкашивает величавое дерево в полном расцвете, но попадает в голый ствол с
потрескавшимися ветвями и немногими засохшими листьями. Тень — вот что
обычно остается от нас прежних, а мы продолжаем влачить жалкое
существование после того, как источник жизни уже давно иссяк. Лишь самосозерцание
заставляет пугаться смерти и мешает понять, что наше мимолетное
существование давно себя исчерпало.
Дополнения. Гамлет
607
Дополнения
ГАМЛЕТ
HAMLET
Впервые очерк был включен в сборник «Герои шекспировского театра» (1817), и в
изначальном варианте в нем содержались также фрагменты рецензии Хэзлитта на
исполнение роли Гамлета великим актером Эдмундом Кином (см.: Hazlitt W. View
of the English Stage // The Selected Writings of William Hazlitt... Vol. 3. P. 15-18).
Настоящий перевод осуществлен по изданию: Hazlitt W. Characters of
Shakespeare's Plays: Hamlet//The Selected Writings of William Hazlitt... Vol. 1. P. 143-148.
...«эта прекрасная храмина, земля»... — Шекспир У. Гамлет. Акт II, сц. 2, 302—
303. Пер. М.Л. Лозинского.
2 ...казалась «пустынным мысом»... — Там же. Акт II, сц. 2, 303. Пер. М.Л.
Лозинского.
3 «...этот несравненнейший полог, воздух....... — «мутным и чумным скоплением
паров»... — Там же. Акт II, сц. 2, 304—308. Пер. М.Л. Лозинского.
4 ...его «из людей» не радовали «ни один; нет, также и ни одна»... — Там же. Акт П,
сц. 2, 314—315. Пер. М.Л. Лозинского.
5 ...«слишком много солнца»... — Там же. Акт I, сц. 2, 67. Пер. М.Л. Лозинского.
...«боль презренной любви, заносчивость властей и оскорбленья, чинимые
безропотной заслуге»... — Там же. Акт III, сц. 1, 71—73. Пер. М.Л. Лозинского. Цитата из
знаменитого гамлетовского монолога «Быть или не быть?». См. также примеч. 20
к очерку «О тех, кто живет своей жизнью».
7 ...«обличья, виды, знаки скорби»... — Там же. Акт I, сц. 2, 86. Пер. М.Л.
Лозинского.
8 ...«правдивей, чем игра». — Там же. Акт I, сц. 2, 89. Пер. М.Л. Лозинского.
9 ...«в чем даже тени нет спасенья»... — Там же. Акт Ш, сц. 3, 92. Пер. П Гнедича.
...он на молитве; / И я свершу ~ Назад, мой меч, узнай страшней обхват; /
Когда он ajdem пьян или во гневе». — Там же. Акт Ш, сц. 3, 73—79, 88—89. Пер. М.Л.
Лозинского. Слова «Здесь требуется взвесить» выделены Хэзлиттом.
11 ...«Как всё кругом меня изобличает / И вялую мою торопит месть\ ~ О мысль
моя, отныне ты должна / Кровавой быть, иль прах тебе цена\» — Там же. Акт IV,
сц. 4, 32—66. Пер. М.Л. Лозинского.
12 ...«благородного и свободомыслящего казуиста»... — Цитата из «Антологии
английских поэтов-драматургов, живших во времена Шекспира» (1808) Ч. Лэма.
13 «Совокупность обязанностей человека» (1660) — популярный этический
трактат Ричарда Аллестри (ок. 1620—1681).
14 «Академия комплиментов» — собрание занимательных историй, правил
хорошего тона и образцов любовных посланий, впервые опубликованное в 1640 г.;
автором значился некий Филомузус (букв, «любитель муз»).
15 ...«вольности эпохи»... — Выражение, заимствованное, вероятно, у Мишеля
Монтеня (Опыты. П. X; III. II) или Бена Джонсона (Стихоплет. Акт V, сц. 1, 583;
608
Примечания
реплика Вергилия). Ср. цитату из первого в пер. Ф.А. Коган-Бернштейн:
...распущенность нашего века...» и A.C. Бобовича: ...разнузданность нашего времени...».
16 ...«отцовский призрак в латах»... — Шекспир У. Гамлет. Акт I, сц. 2, 254. Пер.
Б.Л. Пастернака.
17 ...«Ее любил я; сорок тысяч братьев / Всем множеством своей любви со мною / Не
уравнялись бы». — Там же. Акт V, сц. 1, 269—271. Пер. МЛ. Лозинского.
18 ...«Красивые — красивой. Спи, дитя\ / Я думала назвать тебя невестой / И
брачную постель твою убрать, /А не могилу». — Там же. Акт V, сц. 1,243—246. Пер. МЛ.
Лозинского.
19 ...роза мая... — Там же. Акт IV, сц. 5, 158. Пер. МЛ. Лозинского.
20 ...«валов морских». — Шекспир У. Зимняя сказка. Акт IV, сц. 4, 141. Ср. в пер.
Т.Л. Щепкиной-Куперник: ...хотел бы, / Чтоб стала ты морской волной и в
плавном / Движенье вечно-вечно колебалась...
21 ...один из моих друзей... — Исследователи творчества Хэзлитта полагают, что это
был Чарлз Лэм. Однако в «Лекциях об английских поэтах» Хэзлитт присвоил
приведенное замечание себе (см.: The Selected Writings of William Hazlitt... Vol. 2. P. 210).
22 ...«Есть ива над потоком, что склоняет / Седые листья к зеркалу волны». —
Шекспир У. Гамлет. Акт IV, сц. 7, 166—167. Пер. МЛ. Лозинского.
ЛИР
LEAR
Из сборника «Герои шекспировского театра» (1817). Настоящий перевод
осуществлен по изданию: Hazlitt W. Characters of Shakespeare's Plays: Lear//The Selected
Writings of William Hazlitt... Vol. 1. P. 167-180.
...«Кент будет груб, покамест Лир безумен». — Шекспир У. Король Лир. Акт I,
сц. 1, 145—146. Пер. Б Л. Пастернака.
2 «Просим не учить». — Там же. Акт I, сц. 1, 275. Пер. Б.Л. Пастернака.
...отсутствие... (притворства) — единственный положительный штрих в
образе... Эдмунда... он... прямо именует себя «откровенным негодяем». — Хэзлитт
ошибся: так именует себя дон Хуан, персонаж другой шекспировской пьесы. См.:
Шекспир У. Много шума из ничего. Акт I, сц. 3, 32. Пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник.
Цитата несколько неточна.
4 ...«Вот поразительная глупость... — винить в наших бедах солнце, луну и звезды... ~
Все равно я останусь тем, что я есть, хотя бы самая девственная звезда сверкала на
небосводе во вреллл моего незаконного рождения». — Шекспир У. Король Аир. Акт I, сц. 2,
118-133. Пер. МЛ. Кузмина.
5 ...«блестящий обмен фехтовальными выпадами»... — Милтон Дж. Комос. 789—
790. Цитата несколько расширена Хэзлиттом. Ср. в пер. Ю.Б. Корнеева:
...софизмами, как шпагой, / Ты научился фехтовать».
6 ...«стучаться в ту дверь, откуда выпустил он разум»... — Шекспир У. Король
Лир. Акт I, сц. 4, 271. Пер. Б.Л. Пастернака. Хэзлитт заменил в цитате 2-е л. ед. ч.
третьим.
7 ...«из своих дочерей сделал матерей для себя». — Там же. Акт I, сц. 4, 172—173.
Пер. Б.Л. Пастернака.
Дополнения. Лир
609
8 ...«Чтоб ни секунды не заставляли меня ждать с обедом; скажите', чтоб сейчас
же подавали». — Там же. Акт I, сц. 4, 8—9. Пер. МЛ. Кузмина.
9 С появлением Гонерильи происходит следующий разговор. — Там же. Акт I, сц. 4,
189-310. Пер. МЛ. Кузмина.
10 ...«Не дай сойти сума, благое небо»... — Там же. Акт I, сц. 5, 46. Пер. MA.
Кузмина.
11 ...«Проклятье\ Мщенье\ Смерть и мор\ / Горячий нрав! Горяч! Как! Глостер,
Глостер, / Мне надо видеть Корнуола с женою. — Там же. Акт II, сц. 4, 95—97. Пер.
MA. Кузмина.
12 ...Входят Корнуол, Регана, Глостер и слуги ~ Уходят Лир, Глостер, Кент
и Шут. — Там же. Акт II, сц. 4, 127—286. Пер. MA. Кузмина.
13 ...«Смотри, щенки и все, / Трей, Бланш и Милка, лают на меня»... — Там же.
Акт III, сц. 6, 62—63. Пер. МЛ. Кузмина.
14 ...«Пусть вскроют Регану; посмотрю, какой наросту нее около сердца»... — Там
же. Акт Ш, сц. 6, 76—77. Пер. МЛ. Кузмина.
15 ...«Природу так унизить / Лишь дочери бесчувственные могут»... — Там же. Акт Ш,
сц. 4, 70—71. Пер. ТЛ. Щепкиной-Куперник. Здесь имеет место скорее аллюзия, чем
цитата.
16 ...«Шут. Скажи... кто полоумный... Король, король». — Там же. Акт III, сц. 6,
9—11. Пер. МЛ. Кузмина.
17 ...«Сюда. Остановитесь»... — Там же. Акт IV, сц. 6, 10. Пер. МЛ. Кузмина.
18 ...«Фортуна завершила круг»... — Там же. Акт V, сц. 3, 175. Пер. МЛ.
Кузмина. Хэзлитт цитирует несколько неточно.
19 ...«Сестры\ Стыдно, леди\ СестрыЫ... — Там же. Акт IV, сц. 3, 27. Пер. MA.
Кузмина.
20 ...«Да, это он. Его сейчас видали, / Безумного, как бурный океан: / Он громко
пел»... — Там же. Акт IV, сц. 4, 1—2. Пер. MA. Кузмина.
21 ...«Корделия. Как чувствует себя король! ~ Корделия. Да, да\» — Там же.
Акт IV, сц. 7, 43—69. Пер. МЛ. Кузмина.
22 ...«Корделия. Не первых нас... ~ Возложат ладан боги». — Там же. Акт V, сц. 3,
3—21. Пер. МЛ. Кузмина.
23 ...«Лир. Повешена глупышка}. Нет, нет жизни\ ~ Здесь отстегнуть прошу-,
благодарю вас». — Там же. Акт V, сц. 3, 306—310. Пер. МЛ. Кузмина.
24 ...«Кент. Не мучь. Оставь / В покое дух его... / Кем надо быть, чтоб
вздергивать опять I Его на дыбу жизни для мучений!» — Там же. Акт V, сц. 3, 314—316.
Пер. Б.Л. Пастернака.
25 Для этой трагедии была придумана счастливая концовка, одобренная доктором
Джонсоном и отвергнутая Шлегелем. — Эту счастливую концовку «Короля Лира»,
в которой Корделия выходила замуж за Эдгара, придумал драматург Н. Тейт
(1652—1715); в таком варианте пьеса нередко ставилась в XVQ—XIX вв. Отзьш
доктора Джонсона о версии Тейта см.: Johnson on Shakespeare: In 2 vol. / Ed. A. Sherbo.
L., 1968. Vol. 2. P. 704; отзьш Шлегеля см.: Shlegel A.W. A Course of Lectures on
Dramatic Art and Literature: In 2 vol. L., 1815. Vol. 2. P. 208.
26 ...подобно духу, который дышит, где хочет... — Библейская аллюзия. См.: Ин. 3: 8.
...«сами стары»\ — Шекспир У. Король Лир. Акт II, сц. 4, 192. Пер. MA.
Кузмина.
610
Примечания
28 См. статью Чарлза Лэма под названием «Theatralia»... во втором томе
«Отражателя». — См.: [Lamb Ch.] Theatralia. No. 1: On Garrick, and Acting... //The
Reflector. 1811. № 4. P. 289—313 (приведенный Хэзлиттом отрывок см.: Ibid. P. 308—309).
Хэзлитт знал, кто автор анонимной заметки, еще до того, как она была помещена
в собрание сочинений (1818) Ч. Лэма.
О ПОЭЗИИ ВООБЩЕ
ON POETRY IN GENERAL
Очерк из сборника «Лекции об английских поэтах» (1815—1818). Настоящий
перевод осуществлен по изданию: Hazlitt W. On Poetry in General // The Selected
Writings of William Hazlitt... Vol. 2: The Round Table; Lectures on the English Poets: Lecture 1.
P. 165-180.
...находит дорогу ко всем нашим чувствам и интересам... — См. примеч. 14 к
очерку «Гений и здравый смысл».
2 ...«нежные листки раскроет, чтоб солнцу красоту свою отдать»... — Шекспир У.
Ромео и Джульетта. Акт 1, сц. 1, 152—153. Пер. Т. А. Щепкиной-Куперник.
3 ...«вещество, из которого соткана наша жизнь». — Шекспировская аллюзия.
См.: Шекспир У. Буря. Акт IV, сц. 1, 156—157. Ср. в пер. Мих. Донского: «Мы
созданы из вещества того же, / Что наши сны».
4 ...«полузабытье»... — Шекспир У. Как вам это понравится. Акт II, сц. 7, 165.
Пер. ТА. Щепкиной-Куперник.
5 ...«и человек сравняется с животным». — Шекспир У. Король Лир. Акт П, сц. 4,
267. Пер. ТА. Щепкиной-Куперник.
6 Человек — создание поэтическое... — Высказывание аналогично знаменитому
изречению Аристотеля о том, что человек есть животное политическое (см.:
Аристотель. Политика. I. 2. 1253а1—2). В оригинале у Хэзлитта, собственно, и
употреблено слово «animal» (животное).
7 ...подобно мольеровскому bourgeois gentilhomme, который, сам того не ведая, всю
жизнь говорил прозой. — См.: Мольер. Мещанин во дворянстве. Д. П, явл. 6.
8 «Для них есть причина». — Вероятно, шекспировская аллюзия. См.: Шекспир У.
Мера за меру. Акт IV, сц. 2, 49. В русском переводе невозможно передать игру слов
на разных значениях слова «warrant», которое использует Хэзлитт: «причина,
основание» и «приказ».
9 ...«кипят мозги»... «воображенье всегда сильней холодного рассудка»... — Шекспир У.
Сон в летнюю ночь. Акт V, сц. 1, 3-^г. Пер. ТА. Щепкиной-Куперник.
10 ...«Безумные, любовники, поэты — jВсе из фантазий созданы одних... ~ Да,
пылкая фантазия так часто j Играет». — Там же. Акт V, сц. 1, 4—18. Пер. ТА.
Щепкиной-Куперник.
11 Анжелика и Медоро — персонажи «Неистового Роланда» (1516) Лодовико Арио-
сто: китайская принцесса (возлюбленная заглавного героя) и юный сарацинский воин.
Хэзлитту был известен перевод знаменитой поэмы, выполненный сэром Дж. Харинг-
тоном (1591).
12 Гомер прославил гнев Ахилла... — В «Илиаде», которая так и начинается: «Гнев,
богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» (I. 1. Пер. H.H. Гнедича).
Дополнения. О поэзии вообще
611
13 Платон изгнал поэтов из своей республики... — В диалоге «Государство», где он
рисует идеально устроенную республику, Платон пишет: ...поэзию <...> никоим
образом нельзя допускать [в идеальном государстве]...» [Платон. Государство. Кн. 10.
595а. Пер. А.Н. Егунова).
14 ...«умоисступленье весьма искусно». — Шекспир У. Гамлет. Акт III, сц. 4, 138—
139. Пер. М.А. Лозинского.
15 ...в поэзии, по мнению лорда Бэкона, «можноувидеть даже нечто божественное,
ибо она возвышает дух и увлекает его к небесам, стремится согласовать образы
вещей с чаяниями души, а не подчинить душу действительности (то, что делают разум
и история)». — Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук. П. IV. 2. Пер. НА.
Федорова.
16 ...глаза... — «игрушка прочих чувств». — Шекспир У. Макбет. Акт И, сц. 1, 44.
Пер. М.А. Аозинского.
17 ..«ждет ли радости она — j Ей чудится той радости предвестник... / Ей темный
куст покажется медведем». — Шекспир У. Сон в летнюю ночь. Акт V, сц. 1, 19—22.
Пер. Т.А. Щепкиной-Куперник.
18 ...«Огонь свечи к ней клонится и хочет / Взглянуть под сень ресниц и увидать /
Покровом нежных век прикрытый свет»... — Шекспир У. Цимбелин. Акт II, сц. 2,
19-21. Пер. П.В. Шелковой.
19 ...«сами стары»... — См. примеч. 27 к очерку «Лир».
...«Природу так унизить лишь дочери бесчувственные могут»... — См. примеч. 15
к очерку «Лир».
21 ...«Все маленькие шавки, Трей, и Бланш, и Милка, лают на меня»... — Шекспир У.
Король Лир. Акт III, сц. 6, 62—63. Пер. Б.А. Пастернака. См. также примеч. 13 к
очерку «Лир».
22 ...«Да, л!»... — Там же. Акт IV, сц. 7, 69. Пер. Б.А. Пастернака.
23 ...«Прощай, покой\ ~ Отелло отслужил». — Шекспир У. Отелло. Акт III, сц. 3,
347—357. Пер. Б.А. Пастернака.
24 ...«Нет, Яго, никогда\ ~ Пока я в мщенье их не изолью». — Там же. Акт Ш, 3, 453—
460. Пер. Б.А. Пастернака.
25 ...«Но там, где я мое лелею сердце, / Отвергнутым быть там\» — Там же. Акт IV,
сц. 2, 57 и 60. Пер. М.А. Аозинского. В первом издании очерка после этой цитаты шел
абзац, который впоследствии Хэзлитт изъял из текста: «Это напоминает те
патетические обращенные к Еве слова в "Потерянном Рае", которые Милтон вкладьшает
в уста Адама: *
Ежели Господь создаст
Вторую Еву и ребром вторым
Я поступлюсь, — возлюбленной утрата
Неугасимо будет сердце жечь!»
(Милтон Дж. Потерянный Рай. IX. 911—913.
Пер. Арк. Штейнберга)
26 Трагедии Мура и Аилло. — Речь, по всей видимости, идет о так называемых
«мещанских» трагедиях «Игрок» (1753) Э. Мура и «Лондонский купец, или История
Джорджа Барнвелла» (1731) Дж. Лллло.
612
Примечания
27 По наблюдению мистера Бёрка... если бы на соседней улице началась публичная
казнь, театр быстро бы опустел. — Такое замечание Бёрк приводит в написанном
в 1756 г. «Философском исследовании происхождения наших представлений о
возвышенном и прекрасном» (I. 15).
28 ...«Так страсть, не признающая владыки, / К любви иль отвращенью нас влечет». —
Здесь Хэзлитт цитирует шекспировского «Венецианского купца» (П. 210) по изданию
Белла (1774). Ср. традиционный вариант в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник: «Так
склонность, / Страстей хозяйка, направляет их / К любви иль отвращенью»
[Шекспир У. Венецианский купец. Акт IV, сц. 1, 51—52).
29 ...«отвечает на мысль». — Шекспир У. Отелло. Акт III, сц. 3, 97. Цитата не
вполне точна. Ср. в пер. А. Радловой: «Чтобы на мысль одну ответить».
30 ...«С приходом ночи шум и блеск умрет, / Но в ритмах Сеттла день еще живет»... —
Поуп А. Дунсиада. I. 89—90. Произведения драматурга Э. Сеттла Поуп высмеял как
воплощение скуки.
31 ...«огромными ручищами» швырнуть его повыше, «[н]а кручу нависающей
скалы»... — Коллинз У. Ода страху. 10, 14—15.
32 ...«Неблагодарность с сердцем из кремня, / Когда вселишься ты в дитя родное, /
Морских чудовищ ты тогда страшней\»... — Шекспир У. Король Лир. Акт I, сц. 4,
265—267. Пер. Б.А. Пастернака.
33 ...«как прежде, так и теперь, была и есть — держать как бы зеркало перед
природой»... — Шекспир У. Гамлет. Акт III, сц. 2, 21—22. Пер. МЛ. Лозинского.
34 ...«Ведьу поэтов собственное зренье: / В листве, в ветвях им чудятся виденья». —
Цитата из письма Томаса Грея к Горацио Уолполу (сентябрь 1737 г.). См. также
примеч. 21 к очерку «Индийские жонглеры».
35 Сон Иакова — известный эпизод библейской Книги Бытия: патриарх Иаков
видит во сне протянувшуюся от земли до неба лестницу, по которой восходят и
нисходят ангелы (см.: Быт. 28: 12).
36 «Рассуждения» доктора Чалмерса. — Здесь, вероятно, имеются в виду
«Астрономические рассуждения» — серия рассуждений о христианском откровении.
37 ...«свирепыхразбойников»... — Контаминация однородных членов в цитате из
«Комоса» Дж. Милтона (ст. 425). Ср. в пер. Ю.Б. Корнеева: «Ни тать, ни горец, ни
дикарь жестокий...
38 А ведь в былое врелля «и волосы от страшного рассказа на голове вставали, как
живые». — Шекспир У. Макбет. Акт V, сц. 5, 10—13. Пер. СМ. Соловьева.
39 «Макбета» у нас в стране терпят только музыки ради... — Музыка к трагедии
была написана композитором Мэтью Локком (ок. 1630—1677) для спектакля сэра
Уильяма Давенанта (1606—1668) в 1663 г.
40 «Безвестность их завесою накрыла, / Сирена Леность о них нудно пела». — Дэйвис С.
К достойному, человечному, великодушному> достопочтенному и благородному
господину Фредерику Корнуоллису, ныне архиепископу Кентерберийскому. 36—37.
Выражение «сирена Леность» восходит к «Сатирам» Горация (П. 3. 14; ср. в пер.
М. Дмитриева: «Отбрось же ты леность, / Эту сирену свою...»).
41 ...«Сравниться может время, что проходит... ~ В котором происходит
возмущены». — Шекспир У. Юлий Цезарь. Акт II, сц. 1, 63—69. Пер. П. Козлова.
42 Эскизы Рафаэля. — См. примеч. 32 к очерку «В продолжение начатого
разговора».
Дополнения. О поэзии вообще
613
43 Красота обожествляет их... — Аллюзия на «Решимость и независимость»
У Вордсворта, где сказано: «Мы нашим духом обожествлены...» (ст. 47).
44 ...«Мой дух I Тогда питают мысли и невольно / Рождают гармонический напев». —
Милтон Дж. Потерянный Рай. Ш. 37—38. Пер. Арк. Штейнберга.
45 ...«слова Меркурия в песни Аполлона». — Аллюзия на последние строчки
шекспировской пьесы «Бесплодные усилия любви» (акт V, сц. 2, 930—931). Ср. в пер.
Ю.Б. Корнеева: «Слова Меркурия режут ухо после песен Аполлона».
4(1 ...«С зелии она без страха поднялась... ~ Разбуженный веселым шумом». —
Спенсер Э. Королева фей. I. VI. 13. 3-9; I. VI. 14. 1-6.
47 ...сглаживает все эти несообразности. — Цитата из шекспировской пьесы
«Мера за меру» (акт III, сц. 1, 41). Ср. в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник:
«Сглаживает все противоречья».
48 ...«потаенный дух гармонии». — Милтон Дж. L'Allégro. 144. Ср. в пер. В. Ле-
вика: ...Гармония святая».
49 ...«золотые кадансы поэзии»... — Шекспир У. Бесплодные усилия любви. Акт IV,
сц. 2, 114. Пер. MA. Кузмина.
50 ...«парить свободно в высоте и вечной синеве небес»... — Грей Т. Путь поэзии.
116-117.
51 ...«толковал о том, как получать, как сберегать доходы». — Чосер Дж. Кентер-
берийские рассказы. Пролог. 275. Пер. И А. Кашкина.
52 ...«Поход» Аддисона справедливо называют рифмованной газетой. — Поэма «Поход»
(1705) посвящена знаменитому полководцу герцогу Мальборо и его победе над
французскими войсками в сражении при Бленхейме (1704 г.). В своем «Очерке о
сочинениях и гении Поупа» (1756) критик Джозеф Уортон сопоставил «Поход» Дж.
Аддисона, «газету в стихах», с «Виндзорским лесом» А. Поупа и пришел к выводу, что пер
вое произведение «не содержит штрихов такого гения и высокой поэзии», как второе.
53 ...новеллы Боккаччо. Чосер и Драйден переложили несколько из последних
английским стихом... — Вероятно, имеются в виду поэмы Дж. Чосера «Птичий
парламент» (ок. 1382) и «Троил и Крессида» (ок. 1385), а также «Басни древние и
современные» (1700) Дж. Драйдена.
54 ...«слившись со стихом бессмертным». — Милтон Дж. L'Allégro. 137. Ср. в пер.
Ю.Б. Корнеева: ...со стихом бессмертным слив / Змеею вьющийся мотив...» То же
выражение встречается у У Вордсворта применительно к мудрости (см.:
Прогулка. VTI. 536).
...«омыт росой Касталии»... — Спенсер Э. Руины времени. 431. Там сказано:
...со стихами, омытыми в росе Касталии».
56 ...пребывание Филоктета в заключении на острове Лемнос стало телюй
прекраснейшей из всех греческих трагедий... — Филоктет — персонаж греческих мифов, друг
Геракла, которому тот подарил перед смертью свой лук и стрелы. Участвовал в
походе на Трою, но был ужален ядовитой змеей и оказался покинут на
пустынном острове. Позже выяснилось, что Троя не может быть взята без его
знаменитого лука, и к Филоктету отправили Одиссея и Диомеда; героя исцелил один из
сыновей бога Асклепия. Эта история стала сюжетом нескольких трагедий, из
которых до нас дошла лишь написанная Софоклом.
57 ...речь греческого героя, произнесенную в минуту, когда он покидает свою пещеру... —
См.: Софокл. Филоктет. 254—316.
614
Примечания
58 ...самое биенье сердца... — См. примеч. 13 к очерку «Почему нам нравится все
далекое».
59 ...«Когда я ходил по острову ~ скорбь моя не знала конца». — Дефо Д. Робинзон
Крузо. В рус. пер. М. Шишмаревой этот абзац отсутствует.
60 ...«пробуждает эхо в том дворце, где властвует любовь». — Шекспир У.
Двенадцатая ночь. Акт П, сц. 4, 21—22. Пер. Э.Л. Липецкой.
61 Сэр Чарлз Грандисон. — См. примеч. 5 к очерку «О тех, кто живет своей
жизнью».
62 ...подобен зажатому в расщепленной сосне Ариэлю... — См.: Шекспир У. Буря. Акт I,
сц. 2, 323-326.
63 ...«Поэзия похожа на камедь... ~ Со своего пути». — Шекспир У. Тимон
Афинский. Акт I, сц. 1, 21—25. Пер. П.В. Шелковой.
64 Он видел много стран и наблюдал нравы многих людей... — Аллюзия на «Одиссею»
Гомера. Так описан заглавный герой поэмы. Ср. в пер. В.В. Вересаева: «Многих
людей, города посетил и обычаи видел...
65 ...«в перьях, как ястребы, крылами встряхивают, как орлы после купанья, резвей
козлят, как бычки, буйны, свежи, как месяц май, как солнце в летний зной,
великолепны»... — Шекспир У. Генрих IV. Ч. I. Акт IV, сц. 1, 98—103. Пер. Е. Бируковой.
Хэзлитт цитирует неточно: последовательность сравнений перепутана.
66 ...старцы... на стенах Трои... встают, приветствуя... Елену. — См.: Гомер.
Илиада. III. 149-160.
67 ...«Даже если мы убежим в самые дальние уголки зелии, мы и там его найдем;
мы не можем уйти от него ни на запад, ни на восток». — Цитата неизвестного
происхождения, вероятно, стилизация под библейский текст. Ср., напр.: Пс. 138: 9—10.
68 ...обширна, неопределенна, темна и бесконечна... — Аллюзия на трагедию У. Вордс-
ворта «Жители пограничья»: «Страданье неизбывно, мрачно и непостижимо. / И
сродни бесконечности» (акт Ш, сц. 5, 64—65). См. также примеч. 26 к очерку «Гений
и здравый смысл» (Окончание).
69 Сон Иакова. — См. выше примеч. 35.
70 ...врата ада с их уничтожающей надписью... — Надпись была:
Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.
Был правдою мой зодчий вдохновлен:
Я высшей силой, полнотой всезнанья
И первою любовью сотворен.
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья.
[Данте. Божественная комедия. Ад. III. 1—9.
Пер. МЛ. Лозинского)
...возникает могила с надписью: «Ямогила Папы Анастасия Шестого»... — См.:
Там же. XI. 8.
Дополнения. Сэр Вальтер Скотт
615
...барельеф графа Уголино... каковой не следовало писать Рейнолдсу. — Имеется в
виду картина «Смерть Уголино и его сыновей», ныне находящаяся в Лондонской
Национальной галерее. Существует также гравюра «Уголино и его дети в тюрьме»
(1777); хранится в частной коллекции. Граф Уголино — персонаж «Божественной
комедии» Данте (Ад. ХХХ1П).
73 ...Оссиана — писателя, которого никак не могу привыкнуть считать
современным. — Имя Оссиана, легендарного ирландского поэта-воина, стало знаменито в
Европе, когда поэт Джеймс Макферсон (1736—1796) опубликовал «переводы»
якобы найденных им поэм «Фингал» (1762) и «Темора» (1763), утверждая, что это
подлинные произведения III в. На самом деле, хотя Макферсон частично
использовал древние гэльские баллады, «поэмы Оссиана» — в основном его собственное
творение. Одни поэты и знатоки литературы поддерживали утверждение Мак-
ферсона о подлинности поэм, другие (в их числе — доктор С. Джонсон, философ
Д. Юм) сомневались в ней или начисто ее отвергали. «Поэмы Оссиана» вызвали
многочисленные подражания, в том числе в России.
74 Плач Сельмы по Салгару. — Имеется в виду плач Кольмы по Салгару из
«Песней в Сельме», входящих в «Поэмы Оссиана». Кольма — возлюбленная Салгара,
который погиб в единоборстве с ее братом; Сельма — замок Фингала, главного
героя «Поэм Оссиана», в Морвене (государстве, занимавшем, согласно Дж. Мак-
ферсону, северо-восточную часть Шотландии).
75 ...«Бегите, черные годы, Оссиану ваши крылья не принесут отрады». — Цитата
из предсмертной песни Оссиана. Ср. в пер. Ю.Д. Левина: «Лети прочь на крыльях
своих, о ветер, тебе не нарушить покоя барда» [Макферсон Дж. Поэмы Оссиана.
Бератон).
СЭР ВАЛЬТЕР СКОТТ
SIR WALTER SCOTT
Впервые очерк был опубликован в «Новом ежемесячном журнале» (апрель 1824
года) под заголовком «Дух века, № IV», без подписи. Заключительный абзац («Если
бы когда-нибудь существовал писатель...») в журнальном варианте не появился.
Впоследствии текст был включен в сборник «Дух века» (1825).
Настоящий перевод осуществлен по изданию: Hazlitt W. Sir Walter Scott // The
Selected Writings of William Hazlitt... Vol. 7: The Spirit of the Age. P. 124-133.
...«центр притяжения». — См. примеч. 4 к очерку «Парадокс и банальность».
2 ...«этот час неведущий». — Шекспир У. Макбет. Акт I, сц. 5, 57. Пер. В.К.
Кюхельбекера.
3 Страна Ван Димена — остров Тасмания, куда до 1853 г. отправляли
каторжников. Упомянутое Хэзлиттом старое название дано в честь губернатора
Ост-Индии, в 1642 г. пославшего мореплавателя Тасмана в экспедицию, во время которой
и был открыт остров.
4 «Прославитель прошлого». — Гораций. Наука поэзии. 173. Ср. в пер. М.
Дмитриева: «Хвалит то время, как молод он был...
5 ...«лишена достоинств и заслуг»... — См. примеч. 43 к очерку «О литературной
аристократии». При первой публикации в «Новом ежемесячном журнале» этот
пассаж сопровождался примечанием редактора:
616
Примечания
Автора данной заметки, а не редактора, следует считать здесь самозваным
ценителем поэзии сэра Вальтера. Журнал, подобный этому, не может
существовать без содействия авторов, наделенных известной долей таланта, и невозможно
менять все их мнения, чтобы угодить вкусу каждого [читателя].
0 «Песнь последнего менестреля» — поэма В. Скотта; к августу 1810 г. было
продано около 30 тыс. экземпляров.
7 Автор «Уэверли». — Так обычно именовали В. Скотта на титульных листах
его романов.
8 ...кость от кости, плоть от плоти нашей... — Библейская аллюзия. См.: Быт. 2: 23.
9 «Агнесса» — анонимно опубликованный в 1822 г. роман В. Скотта «Агнесса,
или Торжество принципа».
10 Джини Динз. — См. примеч. 5 к очерку «Вульгарность и жеманство».
11 Дева Озера — героиня одноименной поэмы Скотта.
12 Ревекка — героиня романа «Айвенго» (1820).
13 ...покойный мистер Джон Скотт... сочинил самый изысканный... панегирик
шотландским романам. — Незадолго до своей смерти от раны, полученной на дуэли,
Дж. Скотт, редактор «Лондонского журнала», писал в рецензии на роман «Аббат»:
«...[романы Скотта] полны жизни, лишены нарочитости, полны мужественности и
благородства, призваны вдохнуть свежие силы и внушить представления о чести
слабовольному и испорченному поколению» (London Magazine. October 1820. № 2.
P. 428).
14 ...«затягивается и зарастает сверху коркой»... — Шекспир У. Гамлет. Акт III,
сц. 4, 47. Ср. в пер. Б.Л. Пастернака: «...затянет рану коркой...» и K.P.: «Слегка
лишь сверху язва зарастет...».
15 ...рисунки... мистера Уэстолла... — Ричард Уэстолл иллюстрировал поэмы В.
Скотта «Мармион» (1809) и «Владыка островов» (1813).
16 ...тогда мистер Скотт... — Т. е. еще не получивший титула баронета.
...«кропатель баллад». — Шекспир У. Генрих IV Ч. I. Акт III, сц. 1, 128. Пер.
Е. Бируковой.
18 «Небо и зелия» лорда Байрона — незавершенная мистерия-драма,
опубликованная во втором номере журнала «Либерал»; основана на легенде об ангелах,
полюбивших дщерей человеческих (см.: Быт. 6: 2).
19 ...«любовных песен и серенад»... — Шекспир У. Генрих IV Ч. П. Акт III, сц. 318—
319. Пер. MA. Кузмина.
20 ...«с небес на землю, на небо с земли»... — Шекспир У. Сон в летнюю ночь. Акт V,
сц. 1, 13. Пер. МЛ. Лозинского.
21 ...подобно Доротее в «Дон-Кихоте»... купает... ножки в ручье. — См.: Сервантес М.
де. Дон-Кихот. Ч. I. Гл. XXVIII.
22 ...в «Сказке бочки» Джек избавляется от длинных полос кружева... — «Сказка
бочки» (1704) — памфлет Дж. Свифта, антицерковная сатира. Питер (Петр)
олицетворяет в ней Католическую Церковь, Мартин — Англиканскую церковь, а Джек —
движение диссентеров (см. примеч. 18 к очерку «Политики из кофейни»). Свифт
аллегорически рассказывает о том, как Мартин и Джек, по примеру своего брата
Питера, нацепили на себя галуны, ленты, бахрому, кружева и шнурки (согласно
авторским примечаниям к сатире, эти украшения — символ привнесенных в Церк-
Дополнения. Сэр Вальтер Скотт
617
ви чужеродных ритуалов, идей и т. п.). Когда они осознали, что поступают
неправильно, они все это с себя сорвали (Разд. IV).
23 ...«изнурительногоутомления»... — Цитата из «Размышлений о революции во
Франции» Э. Бёрка, где сказано: ...изматывающая расслабленность и
изнурительное утомление тех, кому нечем заняться».
24 Калтон-Хилл — холм в Эдинбурге, на котором в 1818 г. была построена
обсерватория.
25 «Оулд Рики» — Старый город, историческая часть Эдинбурга.
20 Бен-Ломонд — горы в западной части Шотландии.
Абботсфорд — поместье Скотта; писатель жил там с 1812 г.
28 В Эдинбурге между почитателями произведений, исходящих из книжных лавок
мистера Констэбла и мистера Блэквуда, возникли соперничество и интриги. — Эти
два наиболее известные в начале XIX в. в Эдинбурге издатели книжной
продукции и периодики постоянно соперничали друг с другом.
29 ...«мелюзги, выводка рахитичных птенцов»... — Забавный парафраз строки из
шекспировского «Гамлета» (акт II, сц. 2, 339). Ср. в пер. П. Гнедича: ...вьшодок
птенцов...» и Б.Л. Пастернака: ...вьшодок детворы...». Ср. также примеч. 36 к
очерку «Стоит ли актеру сидеть в ложе?» и примеч. 49 к очерку «Покровительство и
расхваливание».
30 Граница. — Имеются в виду пограничные районы между Англией и
Шотландией.
31 ...как в развалинах башни Дернклю, есть цыгане... — Аллюзия на роман В.
Скотта «Гай Мэннеринг» (1815).
32 Гуси Миклстан-Мура. — Аллюзия на роман В. Скотта «Черный карлик» (1816).
«Гуси», о которых идет речь, — доисторический памятник типа дольмена.
33 Черный Карлик — прозвище заглавного героя одноименного романа В. Скотта.
...«выходит, таращась, из леса, подобно сатиру, но при этом вещает, словно
оратор». — Не вполне точная цитата из английского перевода Горациевой «Науки
поэзии», выполненного Вентвортом Диллоном, графом Роскоммоном: «Сатир, что
выходит, таращась, из леса, / Не должен тут же вещать как оратор» (ст. 281—282).
Ср. в пер. М. Дмитриева: «Если бы я был судьею, то Фавн, убежавший из леса, /
Остерегся бы в нежных стихах объясняться, как щеголь...» (ст. 244—245).
35 Пастор Адаме. — См. примеч. 4 к очерку «О критике». Сэр Роджер де Коверли —
один из постоянных персонажей журнала Дж. Аддисона и Р. Стиля «Зритель»,
собирательный портрет мелкопоместного дворянства.
3(3 «Современные Афины» — Эдинбург.
37 ...«струйки святой воды, собранной из росы»... — Спенсер Э. Королева фей. III.
XII. 13. 6.
38 ...«более живым, звучным, выразительным»... — Неточная цитата из
шекспировского «Кориолана». См. примеч. 24 к очерку «Об опасностях умственного
превосходства».
39 ...«в таком же виде, как при жизни». — Шекспир У. Гамлет. Акт III, сц. 4, 135.
Пер. МЛ. Лозинского. У Хэзлитта в цитате — 3-е л. мн. ч. (у Шекспира — ед. ч.).
'° Стюарты — династия шотландских и английских королей, в 1603 г.
сменившая на английском престоле династию Тюдоров и правившая (с перерывом в 1649—
1660 гг. — годы Английской революции) до 1714 г. После свержения Иакова П в ре-
618
Примечания
зультате «Славной революции» (1688—1689 гг.) престол занимали его дочери
Мария П (правила совместно со своим супругом Вильгельмом Ш) и Анна (1665—1714).
Когда последняя умерла бездетной, на престол вступила Ганноверская династия,
однако Стюарты долгое время не прекращали попыток вернуть себе английский
престол: этим безуспешно занимались сын Иакова II, Джеймс Эдвард Стюарт
(1688—1766), так называемый Старший претендент, и его собственный сын Чарлз
Эдвард Стюарт (1720—1788), так называемый Младший претендент. См. также
примеч. 40 и 44 к очерку «Парадокс и банальность».
41 Барон Брадвардин, Флора Мак-Айвор, Вих Иан Вор, Эван Дху, Уэверли —
персонажи романа В. Скотта «Уэверли» (1814). К их числу относится и Маклрот,
упоминаемый ниже.
42 ...Бальфур Берли... вступает в трактире в схватку с... Босвеллом... потом
побеждает его в благородном поединке на Лоудон-Хилл... — Имеются в виду события,
происходящие в гл. IV и XVI (в оригинале: Т. П. Гл. VQI) романа «Пуритане».
43 ...Босвелл как живой... после смерти в кармане у него находят... письма
кроткой Агнессы тридцатилетней давности и стихи, посвященные ее памяти. — См.:
Скотт В. Пуритане. Гл. XXIII (в оригинале: Т. П. Гл. XV).
44 ...подобно слепому из Священного Писания, сидит на камне... — Вероятно,
имеется в виду евангельский эпизод, когда сидевший у дороги слепой прозрел,
встретившись с Иисусом. См.: Лк. 18: 35-43; Мк. 10: 46-52; Мф. 20: 30-34.
45 В том же томе «Пуритан» мы видим одинокую женщину, которая... сидит на
камне... чтобы предупредить Берли... о льве на его пути... — См.: Скотт В.
Пуритане. Гл. V
46 Бальфур Берли, Босвелл, Клеверхаус, Макбрайер, Мортон, Эдит — персонажи
романа В. Скотта «Пуритане» (1816).
47 ...Эдит... отказалась «отдать свою руку другому», в то время как сердце ее «было
в глубоком и безжизненном море»... — Скотт В. Пуритане. Гл. XXXVIII (в
оригинале: Т. П. Гл. XVII). Пер. A.C. Бобовича.
48 ...«головой к востоку»... — Аллюзия на роман В. Скотта «Гай Мэннеринг» (гл. 55).
Ср. в пер. A.M. Шадрина: «Ну, ну! Не так, ногами к востоку».
49 Господин Бернардин — персонаж шекспировской комедии «Мера за меру»,
арестант и беспутный пьяница.
50 Мег Меррилиз, Дирк Хаттерайк, Глоссин, Дэнди Динмонт, полковник
Мэннеринг, советник Плейделл, Домини Сэмсон — персонажи романа В. Скотта «Гай
Мэннеринг».
51 Роб Рой, судья Никол Джарви, майор Гэлбрэйт, Рэшли Осбалдистон, Диана
Верной — персонажи романа В. Скотта «Роб Рой» (1818).
52 ...«густая череда»... — Шекспир У. Макбет. Акт V, сц. 3, 38. Ср. в пер. А. Рад-
ловой: «...видений тьма...» и М.Л. Лозинского: ...толпой видений...
53 Хобби из Хейфута, Грейс Армстронг — персонажи романа В. Скотта «Черный
карлик».
54 Сыны Тумана — в романе В. Скотта «Легенда о Монтрозе» (1819) жившие в
горах разбойники.
55 ...Домини встречается со своей ученицей, мисс Люси, в утро после приезда ее
брата. — См.: Скотт В. Гай Мэннеринг. Гл. LI.
56 Эми, Варни — герои романа В. Скотта «Кенилворт» (1821).
Дополнения. Сэр Вальтер Скотт
619
07 Джордж Дуглас — персонаж романа В. Скотта «Аббат» (1820).
58 ...узнать о них самих и их злоключениях. — После этого предложения в рукописи
шел пассаж, вычеркнутый рукой Хэзлитта: «Якобитство, если получше
приглядеться и честно посмотреть на него с обеих сторон, вовсе не такое чудовище, каковым его
представляют виги, защищающие восшествие Ганноверской династии на престол».
59 Круглоголовые — прозвище пуритан, носивших коротко остриженные волосы.
Пуританами в Англии XVI—XVII вв. назьшались участники
религиозно-политического движения, направленного против королевского абсолютизма и ставившего
себе целью очищение Англиканской церкви от остатков католицизма в
богослужении, обрядах и доктрине. Пуритане отличались строгостью нравов и религиозной
нетерпимостью.
60 «Пороховой заговор». — Был устроен католиками с целью убийства английского
короля Якова I, когда тому предстояло прибыть на заседание парламента 5 ноября
1605 г.; для этого под здание парламента подложили бочки с порохом. Заговор был
вовремя раскрыт, а его участники арестованы. По традиции, ежегодно в Англии
отмечается годовщина раскрытия «Порохового заговора»; устраивают фейерверк и
сожжение чучела Гая Фокса (1570—1606), одного из главных организаторов
несостоявшегося преступления.
61 Брауншвейгская монархия. — См. примеч. 44 к очерку «Парадокс и
банальность».
62 ...«старого доброго времени»... — Типичная для Хэзлитта ироническая
формула, обозначающая тиранию монархов (он даже написал статью под заголовком
«Очерк истории старых добрых времен» от 20 апреля 1817 г.).
63 ...«многожеланному исходу»... — Шекспир У. Гамлет. Акт Ш, сц. 1, 62—63. Пер. K.P.
64 Легитимизм. — См. примеч. 11 к очерку «Об одержимости одной идеей».
65 ...низость и жестокость... — Скотт В. Айвенго. Гл. ХЫП. Ср. в пер. Е.Г.
Бекетовой: ...который из героев кремень, а кто просто куча навоза». «Кремнями»
назывались в средние века те зависимые люди, которые отказьшались подчиняться
хозяевам, а «навозом» или «навозными кучами» — те, кто покорялся своей участи.
66 Царствование короля Стефана — 1135—1154 гг.
67 «А теперь мы считаем своим долгом привести доказательства более
убедительные, чем праздный рассказ... ~ Однако было бы бесчеловечно мучить читателя,
приводя описание до конца». — Скотт В. Айвенго. Гл. XXIII. Цитируется шеститомная
«История Англии» Роберта Генри, первое издание которой вышло в 1771—1793 гг.
68 ...«называется быть опорой друзьям»... — Шекспир У. Генрих IV Ч. I. Акт II,
сц. 4, 150. Пер. МЛ. Кузмина.
œ ...осуждая мистера Мак-Адама за ремонт дорог... — Дж.-Л. Мак-Адам изобрел
усовершенствованный способ двухслойного мощения дорог (на подобное
покрытие сегодня кладется асфальт).
70 ...«шестьдесят лет назад»... — Подзаголовок романа В. Скотта «Уэверли».
...поданного мистером Пилем билля о полиции... — В то время, когда Хэзлитт
писал этот очерк, Роберт Пиль в качестве министра внутренних дел Англии
занимался реформой уголовного права (в 1823 г. были приняты пять соответствующих
законодательных актов) и работал над формированием регулярной лондонской
полиции. Закон о столичной полиции был принят в 1829 г. Полицейских в Англии
прозвали «бобби» [уменьш. от имени Роберт).
620
Примечания
72 Хаунслоу-Хит — местность в западном пригороде Лондона; в начале XIX в.
тамошние окрестности были покрыты лесами и кишели разбойниками.
73 Ньюгейтский календарь — справочник лондонской Ньюгейтской тюрьмы
(существовала до 1902 г.) — печатный список преступников с перечнем их преступлений;
впервые вышел в 1773 г.
74 Ошейник свинопаса Гурта и шута Вамбы — знак рабского положения,
который носили эти персонажи романа «Айвенго».
75 ...Ричарды Варни... не сбрасывают в люки... Эми Робсарт... — См.: Скотт В.
Кенилворт. Гл. XLI. См. также выше примеч. 56.
76 Рыжие Разбойники из Уэстбернфлэт. — Имеется в виду Уильям Грэм,
персонаж романа В. Скотта «Черный карлик».
77 Клеверхаус Джон Грэм — полковник; см. выше примеч. 46.
78 Тристан Отшельник и Малыш Андре — персонажи романа В. Скотта
«Квентин Дорвард».
79 ...«рожден для вселенной»... «сузил свой ум», «по ветру пустил ослепительность
дум»... — Голдсмит О. Каждому по заслугам. 31—32. Пер. А. Ларина.
80 ...«подмигнул и боязливо закрыл глаза»... — Марстон Дж. Месть Антонио.
Пролог. 17. Пьеса (1602) представляет собой мелодраму, пронизанную мотивами
политической борьбы за власть.
81 ...«Кто б не скорбел, что есть подлец такой? / Кто б не рыдал: и это Аттик
мой?» — Поуп А. Послание к доктору Арбетноту. 213—214. Аттик (109—32 до н. э.) —
друг Цицерона, один из образованнейших людей своего времени; такое прозвище
носил Дж. Аддисон, с которым у поэта А. Поупа были серьезные разногласия.
ЛОРД БАЙРОН
LORD BYRON
Очерк был начат осенью 1823 года, а завершен после кончины Байрона,
наступившей 19 апреля 1824 г.; весть об этом пришла в Англию 14 мая. Впоследствии очерк
вошел в сборник «Дух века» (1825).
Настоящий перевод осуществлен по изданию: Hazlitt W. Lord Byron // The
Selected Writings of William Hazlitt... Vol. 7: The Spirit of the Age. P. 134-142.
...«Единым человечества наследником». — См. примеч. 1 к очерку «Гений и
здравый смысл» (Окончание).
2 ...«Сам человек лишь был творцом себя, / Родства не зная никакого». —
Шекспир У. Кориолан. Акт V, сц. 3, 36—37. Пер. под ред. А. Смирнова.
3 ...«тучамиувенчанную»... — Шекспир У. Буря. Акт IV, сц. 1, 152. Пер. Mux.
Донского. Возможно, намек не только на осознание Байроном своего высокого
общественного положения, но и на преследовавшую его меланхолию.
4 ...легендарных титанов, селившихся на кручах, игравших на свирелях Пана... —
См. примеч. 18 к очерку «Пейзаж Никола Пуссена»,
5 ...«золотая середина». — Гораций. Оды. П. X. 5. Ср. в пер. А.П. Семенова-Тян-
Шанского: «Тот, кто золотой середине верен...»
6 ...«горделивей, чем синий ирис»... — Шекспир У. Троил и Крессида. Акт I, сц. 3,
Дополнения. Лорд Байрон
621
379. Ср. в пер. Т. Гнедич: «Уж очень возгордился он и шлемом / Касается чуть-
чуть не до небес».
7 ...«бесхитростную истину / И мыслями невинными играют, / Как старикам
дано». — Шекспир У. Двенадцатая ночь. Акт П, сц. 4, 46—48. Цитата, в которой речь
идет о песне, несколько неточна: Хэзлитт заменил шекспировское выражение
«невинность любви» на «невинность мысли». Ср. в пер. М.Л. Лозинского: «...она во всем
правдива / И тешится невинностью любви, / Как старина».
8 Либерал. — Во времена Хэзлитта это был еще новый термин, которым
противники обычно обозначали правое крыло партии вигов.
9 ...«следует готовым умозаключениям»... — См. примеч. 9 к очерку «Пейзаж
Никола Пуссена».
10 ...кто... запирается в Бастилии собственных страстей. — См. примеч. 36 к
очерку «Об одержимости одной идеей».
11 ...«в совершенном монашеском уединении». — Шекспир У. Как вам это
понравится. Акт III, сц. 2, 420—421. Пер. Т.А. Щепкиной-Куперник.
12 ...подобное тирскому пурпуру... — Т. е. дорогой краске природного
происхождения, добывавшейся в древности близ финикийского города Тир. Аллюзия на
Дж. Драйдена (Светская маска. 56).
13 ...«дыханьем мысли и словесным жаром». — Грей Т. Путь поэзии. ПО.
14 Он... говорит, что сочиняет везде: в ванне, в кабинете, во время верховой езды... —
Вероятно, здесь источником сведений Хэзлитту послужило письмо Байрона
Джону Ханту от 17 марта 1823 г., где сказано: «Я продолжаю сочинять по той же
причине, по какой езжу верхом, или читаю, или купаюсь, или путешествую — это
привычка». Адресат мог показать письмо Хэзлитту или упомянуть о его содержании
в разговоре.
15 Башня Мартелло — оборонительное сооружение, построенное англичанами
в ожидании высадки Наполеона на Британские острова.
1(3 ...«не бедных хижины, а царские палаты». — Шекспир У. Венецианский купец.
Акт I, сц. 2, 13—14. Цитата слегка изменена. Ср. в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник:
...часовни стали бы храмами, а бедные хижины — царскими дворцами».
17 ...«предается высоким помыслам о Провиденье, Провиденье, о воле и судьбе». —
Милтон Дж. Потерянный Рай. П. 558—559. Пер. Арк. Штейнберга. См. также
примеч. 6 к очерку «Об опасностях умственного превосходства».
18 Имена Тассо, Ариосто, Данте, Цинцинната, Цезаря, Сципиона... не тускнеют на
его страницах... — См., напр.: Байрон Дж.-Г. Паломничество Чайльд-Гарольда. IV. 36—
41 (ст. 316 ел.); 57 (ст. 505-506); Дон-Жуан. П. 205 (ст. 1632); 206 (ст. 1643); IX. 7 (ст. 51).
19 ...«Пока не насладимся вволю». — Цитата из описательной поэмы Дж. Дайера
(1699—1757) «Гронгарский холм» (ст. 26).
20 ...«этой отмели времен»... — См. примеч. 14 к очерку «О боязни смерти».
21 «Сарданапал» (1821) — трагедия Байрона. Хэзлитт написал на нее рецензию для
«Эдинбургского журнала». Однако опубликованный в журнале текст в
значительной мере, если не целиком, написан редактором журнала Фрэнсисом Джеффри
(см.: Edinburgh Review. 1822. February. № 36).
22 ...«Небо и зелия» [на ту же тему, что и «Любовь ангелов» мистера Мура). —
Хэзлитт писал рецензию на оба эти произведения (см.: Edinburgh Review. 1823. April).
622
Примечания
23 ...в великолепно изображенном им потопе. — Имеется в виду сцена всемирного
потопа в байроновской мистерии-драме «Небо и земля» (см.: Ш. 220—248; 848—910).
24 Его очерк «Английские барды и шотландские обозреватели» догматичен и
оскорбителен, лишен изящества и остроты. — Возможно, оценка Хэзлиттом байроновского
очерка (1809) продиктована дружбой с Ф. Джеффри, редактором «Эдинбургского
обозрения». Названную сатиру Байрон написал из мести журналу за разгромную (и
несправедливую) рецензию на поэтический сборник «Часы досуга» (1807). Поэт
ошибочно полагал, что автор рецензии — Джеффри.
25 «Моей Москвою будет "Дон-Жуан", / Как Лейпцигом, пожалуй, был "Фалъеро"». —
Пер. Т. Гнедич.
26 Он говорит... что поэзия мистера Вордсворта ему «омерзительна»... — См.:
Байрон Дж.-Г. Дон-Жуан. III. 94 (ст. 848). Ср. в пер. Т. Гнедич: «Том новый
Вордсворта — снотворный хлам, / Какого не бывало в типографии, — / "Прогулкой"
называется и мне, / Ей-богу, омерзителен втройне».
27 Благородный автор говорит о знаменитом юристе и критике, что тот
«родился на чердаке, на шестнадцатом этаже». — См.: Байрон Дж.-Г. Английские барды
и шотландские обозреватели. 478—482. Речь идет о Ф. Джеффри (1773—1850),
юристе и литературном критике, редакторе «Эдинбургского обозрения».
Джеффри дружил с Хэзлиттом, но придерживался иных взглядов на литературу, в
частности, язвительно критиковал Байрона и поэтов Озерной школы. Ему
посвящен один из очерков в хэзлиттовском сборнике «Дух века».
28 «Письмо к издателю "Обозрения моей бабушки"». — Опубликовано в первом
номере журнала «Либерал» за 1822 г. и обращено к Уильяму Робертсу (1767—
1849), редактору «Британского обозрения»; представляет собой ответ на критику
«Дон-Жуана». Хэзлитт сильно преувеличивает, говоря, что в своем письме Байрон
пятьдесят раз обращается к Робертсу «дорогой мой».
29 У Лонга — в роскошной гостинице Лонга, излюбленном месте встреч на Нью-
Бонд-стрит в Лондоне.
30 ...наш автор... хлопает мистера Боулза по плечу... — Байрон защищал Боулза
в «Письме Джону Меррею, эсквайру» (1821). Хэзлитт написал статью на эту тему
в «Лондонском журнале» (1821).
31 За опьянением следует возня с содовой водой... за воспроизведением молнии и
урагана — изображение каюты и содержимого таза для умывания рук. — См.: Байрон
Дж.-Г. Дон-Жуан. П. 18—23; 179—180. Хэзлитт имеет в виду сопоставление
Байроном грандиозного и обыденного: напр., когда буря происходит в поэме после того,
как Дон-Жуан борется с приступом тошноты.
32 Величественный герой трагедии играет роль Скраба в фарсе. — Скраб — слуга в
комедии Дж. Фаркара «Заговор щеголей» (1707). Во времена Хэзлитта было
принято печатать афиши трагедий и фарсов на одном листе, и считалось, что
исполнители главных ролей не должны появляться в обеих пьесах сразу.
33 ...«вполне сносно, но невыносимо». — Шекспир У. Много шума из ничего. Акт Ш,
сц. 3, 36. Ср. в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник: «...дело самое дозволительное и никак
не допустимое» (из реплики стражника Кизила, постоянно путающегося в словах).
См. также примеч. 5 к очерку «Сонеты Милтона».
34 ...«права на буйное ветрогонство»...'— Шекспир У. Генрих V. Акт I, сц. 1, 48. Ср.
в пер. Е. Бируковой: ...воздух, буйный ветрогон...
Дополнения. О разуме и воображении
623
35 Он говорит, что будет писать, даже если его перестанут читать. — Свободный
парафраз строки из байроновского «Дон-Жуана» (XV. 60 (ст. 475)).
36 ...«волнам морским подобных»... — Несколько неточная цитата из
трагикомедии «Два благородных родича» (1634) Ф. Бомонта и Дж. Флетчера (акт II, сц. 2).
37 ...«Дон-Жуана»... называют рифмованным «Тристрамом Шенди»... —Так
писал сам Байрон в письме Дугласу Киннэйрду от 14 апреля 1823 г.
38 Смехотворно... посвящение «Каина» достопочтенному баронету. Интересно, как
тот откликнулся на эту любезность? — Вальтер Скотт был доволен и считал
мастерство Байрона в этой мистерии сопоставимым с милтоновским (об этом
говорится в письме Байрона к Дж. Меррею от 17 декабря 1821 г.).
39 ...подобно Порции и Нериссе в облачении докторов юриспруденции. — Эти две
героини шекспировского «Венецианского купца» действительно прибегали к
такому переодеванию.
40 «Подальше от них\» — Милтон Дж. Потерянный Рай. I. 247. Пер. Арк. Штейн-
берга. Цитата неточна: у Милтона — «Подальше от Него!».
41 Первое «Видение суда» послужило украшением для второго... — Речь идет о
верноподданнической поэме Роберта Саути (1821) и одноименной сатире Байрона,
высмеивающей поэта-лауреата и его творение. Байроновское произведение было
напечатано в первом номере журнала «Либерал» (1822) под псевдонимом Quevedo
Redivivus — «Оживший Кеведо» [лат). Байрон имел в виду испанского писателя-
сатирика Франсиско Кеведо-и-Вильегаса (1580—1645), автора цикла «Видения»,
запрещенного инквизицией.
42 ...«ничего с ним рядом не поставишь». — Теобальд Л. Двойной обман, или
Любовники в отчаянии. Акт III, сц. 1 (реплика Джулио).
43 ...«восьмой наследник глупого лица»... — Сэвидж Р. Незаконнорожденный. I. 7.
44 ...он сейчас в Кефалонии. — Байрон приехал в Кефалонию 3 августа и
оставался там до 29 декабря 1823 г.
45 ...«чувствительные слезы»... — Достаточно распространенное в литературе
выражение; по какому источнику цитирует его Хэзлитт, неизвестно. Наиболее
вероятный вариант — одноименный сборник стихотворений (1821) поэта,
историка и политика лорда Томаса Маколея (1868—1838), где в одном из текстов каждая
строфа заканчивается этой строкой.
46 «Лишь небеса его приелыют славу; / Не пирамиды память охраняют, / Но
истинная суть его величья». — Бомонт Ф., Флетчер Дж. Неверный. Акт II, сц. 1, 153—155.
О РАЗУМЕ И ВООБРАЖЕНИИ
ON REASON AND IMAGINATION
Очерк был написан 5—7 марта 1822 года в гостинице «Рентой»; впоследствии
включен в сборник «Прямодушный» (1826). В рукописи первоначально стоял заголовок
«Об индивидуальности» («On Individuality»), затем — «О сознании и воображении»
(«On Understanding and Imagination»); рукописный текст существенно отличается
от опубликованного, который содержит слова и целые фразы, отсутствующие в
манускрипте. См.: Jones S. Hazlitt's Missing Essay «On Individuality» // Review of
English Studies. 1977. № 28. P. 421-430.
Настоящий перевод осуществлен по изданию: Hazlitt W. On Reason and Imagi-
624
Примечания
nation (Essay V) //The Selected Writings of William Hazlitt... Vol. 8: The Plain-Speaker.
P. 40-50.
...голословными... — В рукописи стояло «абстрактными».
...«в этом живом мире». — Шекспир У. Ричард III. Акт I, сц. 1, 21. Ср. в пер.
А. Радловой: ...в мир живой...
3 ...лишь номинальные различия... имеют ценность... — В рукописи было так:
...простые имена — единственная реальность...
4 ...«схемах»... —Употребленное здесь Хэзлиттом слово «abridgements»
(«сокращения», «краткие изложения») заимствовано из шекспировской пьесы «Сон в
летнюю ночь» (акт V, сц. 1, 39), где означает «занятие, помогающее скоротать
время». Ср. в пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник: ...чем сократить нам вечность трех
часов / От ужина до сна?»
5 ...«Британия — часть мира, но не мир — / В пруду большом гнездо лебяжье». —
Шекспир У. Цимбелин. Акт III, сц. 4, 137—139. Пер. П.В. Шелковой.
6 ...«и в небе, и в зелые сокрыто больше, чем снится вашей мудрости...». —
Шекспир У. Гамлет. Акт I, сц. V, 166—167. Пер. М.Л. Лозинского.
7 ...тени в Платоновой пещере... — Известный образ ограниченности человеческого
знания (см.: Платон. Государство. Кн. 7. 514—515).
8 Мышь в воздушном насосе. — Этот лабораторный эксперимент упоминается в
«Письме благородному лорду» (1796) Э. Бёрка; тот нападает на философов,
которые «в своих экспериментах считают людей не более чем мышами в воздушном
насосе».
9 ...«могучий мир ушей и глаз»... — См. примеч. 11 к очерку «О невежестве ученых».
10 В рассказе о последних минутах мистера Фокса упоминается разговор,
состоявшийся в доме лорда Холланда... — Хэзлитт вспоминает один из пассажей книги
«Доскональные подробности о длительной болезни и последних моментах
достопочтенного Чарлза Джеймса Фокса, а также критические заметки о его
общественной и частной жизни» (1806). Лорд Холланд был племянником Фокса.
11 «Слова, которые сверкают», почти не отделимы от «мыслей, которые горят». —
См. примеч. 13 к очерку «Лорд Байрон». Цитата неточна.
12 «Средний Путь» [англ. Middle Passage) — так во времена североамериканской
работорговли назьшали транспортировку рабов через Атлантический океан. Путь
занимал от трех недель до трех месяцев; рабы в это время содержались в
ужасающих условиях.
13 ...случай... что имел место в 1775 году... — В действительности этот случай
произошел в 1781 г.; тогда утонуло 132 негра-невольника. Видный филантроп и
аболиционист Грэнвилл Шарп (1735—1813) привлек внимание общественности к
происшедшему и добился возбуждения судебного процесса против виновников злодеяния.
См.: Hoare P. Memoirs of Granville Sharp, Esq. L., 1820.
14 ...no приказу капитана... — В рукописи после этих слов стояло: ...рассчитавшего
прибыли и убытки...
15 Воспоминания о Грэнвилле Шарпе. С. 369. — См.: Hoare P. Op. cit. P. 369.
10 «Моральная философия» Пейли — «Принципы моральной и политической
философии» (1785), пользовавшийся'популярностью и влиянием труд
священника и философа Уильяма Пейли (1743—1805); в значительной степени основывал-
Дополнения. О разуме и воображении
625
ся на сочинениях предшественников автора — богословов и писателей, в
частности, Авраама Такера (см. след. примеч.).
17 «Свет природы» Такера — труд «Преследуя свет природы», опубликованный
в 1768—1778 гг. Хэзлитт издал сокращенный вариант этого сочинения в 1807 г.
18 ...«самооправданием тирана». — Милтон Дж. Потерянный Рай. IV. 393. Ср. в
пер. Арк. Штейнберга: «Так Сатана старался оправдать / Необходимостью свой
адский план, / Подобно всем тиранам...»
19 ...этические весы мистера Бентама... — Имеется в виду теория утилитаристов
Бентама и Милля о том, что счастье достигается тогда, когда количество
удовольствия превышает количество страдания.
20 «отношение к неявившимся и несуществующим одинаково». — Формулировка
римского права.
21 ...«отбрасывает тень вперед». — Несколько неточная цитата из стихотворения
«Предостережение Лохэля» (1802) английского поэта Т. Кэмпбелла (ст. 56).
Любопытно, что целиком фразу Кэмпбелла «[грядущие] события бросают тень
вперед» приводит в своем письме Р.Н. Ломоносовой от 13 февраля 1931 г. русская
поэтесса Марина Цветаева.
22 ...одного из мыслителей этой школы... — Имеется в виду Джеймс Стюарт Милль.
...при... управлении мистера Каннинга. — Возможно, имеется в виду период,
когда в бытность Каннинга председателем Управления контроля (1816—1820 гг.)
маркиз Гастингс установил британское господство в Центральной Индии.
24 «По одному [суди] обо всех». — Вергилий. Энеида. II. 65—66. Ср. в пер. С. Оше-
рова под ред. Ф. Петровского: ...все преступленья / Ты постигнешь, узнав об
одном!»
25 «Основы рассужденья — в наших знаньях». — Поуп А. Опыт о человеке. I. 18.
26 Прусские манифесты. — Имеется в виду эпизод, когда прусские войска были
посланы на подавление Французской революции, и их главнокомандующий,
герцог Брауншвейгский, издал две декларации (25 и 27 июля 1792 г.), согласно
которым в случае причинения Людовику XVI вреда жителей Парижа ждала суровая
кара. Угрозы лишь укрепили решимость антимонархистов. Армия герцога не
была готова к походу и после столкновения с французскими войсками при Вальми
(см. примеч. 13 к очерку «О составлении завещаний») повернула назад.
27 ...в Америке... — Во время американской Войны за независимость. См. примеч.
45 к очерку «Парадокс и банальность».
28 ...во время Испанской революции. — См. примеч. 51 к очерку «Парадокс и
банальность».
29 Варфоломеевская ночь — массовая резня французских протестантов (гугенотов),
начавшаяся 24 августа 1572 г. и продолжавшаяся до первых недель октября.
Организаторами ее историки признают короля Карла IX и его мать, королеву
Екатерину Медичи, которые оправдывались тем, что якобы раскрыли заговор гугенотов,
собиравшихся захватить власть и убить всю королевскую семью. Святой престол
приветствовал жестокость по отношению к протестантам и выпустил в
ознаменование этого события памятную медаль.
30 Кроме того, разве самые ученые из участников дискуссий не жонглируют
беспрестанно общими положениями, правилами и исключениями из оных, перебрасываясь ими
друг с другом и сопоставляя одно с другим! — В рукописи было несколько иначе: ...не
626
Примечания
парируют беспрестанно общие положения, правила и исключения из оных,
сопоставляя одно с другим к неизбывному восторгу и выгоде тупиц и плутов?»
31 ...«Дыханьем созданы и им запятнаны»... — Голдсмит О. Покинутая деревня. 54.
32 ...Руссо... изложил высказывания... Платона, в которых тот требует изгнания
поэтов из своего государства. — Имеется в виду сочинение Ж.-Ж. Руссо «О
театральном подражательстве» (1764) — сокращенное изложение идей Платона,
высказанных в диалоге «О законах» и в кн. 10 диалога «Государство» (см.: Платон.
Государство. 595а). См. также примеч. 13 к очерку «О поэзии вообще».
33 ...современная трагедия... превратилась в красиво сконструированный пароход,
приводимый в движение... силой слов. В последнее время лорд Байрон предпринял
несколько подобных опытов... — Имеются в виду поэтические драмы Байрона «Манф-
ред» (1817), «Каин» (1821), трагедии «Марино Фальеро» (1820; постановка в Дру-
ри-Лейн в мае 1821 г.), «Сарданапал» и некоторые другие.
34 «Босол а. Всмотритесь хорошенько. ~ В минуту». — Вебстер Дж. Герцогиня
Амальфи. Акт IV, сц. 2, 247-256. Пер. Д.К. Петрова.
35 ...«заставить мысль замереть»! — Аллюзия на гамлетовский монолог «Быть или
не быть?» (акт I, сц. 1, 67). Ср. в пер. А. Радловой: «Вот здесь подумать надо...
36 ...«Люди разных стран равны в одном». — Шекспир У. Троил и Крессида. Акт Ш,
сц. 3, 175. Пер. Т. Гнедич.
37 ...«Застыла кровь твоя, в костях нет мозга, / Незряч твой взгляд». — Шекспир У.
Макбет. Акт Ш, сц. 4, 93—95. Пер. Ю.Б. Корнеева.
38 ...«как прежде, так и теперь»... «держать как бы зеркало перед природой»... — См.
примеч. 33 к очерку «О поэзии вообще».
39 ...силой страсти и воображения пробуждать к себе интерес у окружающего
мира. — В рукописи после этих слов следовало окончание очерка: «Если драма не
оказывает такого воздействия на зрителей, она теряет свой характер и
предназначение».
40 ...«Сочувствовать другим и человеком зваться». — Грей Т. Ода превратностям
судьбы. 48.
О РАДОСТЯХ НЕНАВИСТИ
ON THE PLEASURE OF HATING
Очерк написан в домике Уинтерслоу в ноябре—декабре 1823 года. Впоследствии
вошел в сборник «Прямодушный» (1826).
Настоящий перевод осуществлен по изданию: Hazlitt W. On the Pleasure of
Hating (Essay ХШ) //The Selected Writings of William Hazlitt... Vol. 8: The Plain-Speaker.
P. 118-126.
1 «Строки к Пауку» (1823) — стихотворение Ли Ханта.
2 ...«благостного млека» человеческой доброты... — См. прим. 28 к очерку «О
критике».
3 ..люди... валят на представление трагедии, но, как... заметил мистер Бёрк, если
бы на соседней улице совершалась смертная казнь, театральный зал вмиг бы опустел. —
См. примеч. 27 к очерку «О поэзии вообще».
4 ...дух века... — Концепция тома с таким названием зародилась у Хэзлитта в
момент написания данного очерка. Видимо, он сразу приступил к воплощению сво-
Дополнения. О радостях ненависти
627
его замысла, т. к. первый очерк (о Бентаме) появился в «Новом ежемесячном
журнале» уже в январе 1824 г.
5 Мы сжигаем чучело Гая Фокса... — См. примеч. 60 к очерку «Сэр Вальтер
Скотт».
6 «Книга о мучениках». — Имеется в виду снискавший огромную популярность
труд «Деяния и памятники прошедших опасных дней, касающиеся вопросов
Церкви» (1563) Джона Фокса (1516—1587), известного пуританского проповедника. Во
времена Хэзлитта фолиант книги был выпущен по подписке в 1811 г.; она считается
ценным источником по истории Реформации в Англии.
7 Шотландские романы. — См. примеч. 14 к очерку «О корпоративных
объединениях».
8 «Долой, долой с себя все лишнее*.» — Шекспир У. Король Лир. Акт III, сц. 4, 108.
Пер. Б.Л. Пастернака. См. также примеч. 1 к очерку «О литературной
аристократии».
9 Паноптикум Джереми Бентама — модель идеальной тюрьмы «Паноптикум»,
предложенная Дж. Бентамом (1748—1832), философом, экономистом и теоретиком
юриспруденции, которого считают одним из ранних деятелей тюремной реформы.
Модель представляла собой здание круглой формы, где все камеры выходили во
двор, чтобы надзиратель мог постоянно держать заключенных под контролем.
10 Параллелограммы мистера Оуэна. — Социалист-утопист Р. Оуэн предлагал
параллелограммы в своих планах реформы уголовно-исправительных учреждений.
11 Каледонская церковь. — Располагалась в лондонском Хэттон-Гардене.
12 ...постановщики театра Сэдлерз-Уэллз заливают сцену настоящей водой Новой
Реки... — Река Нью-Ривер текла от Хартфордшира к водоприемнику,
находившемуся в 100 ярдах к югу от театра, что позволяло отводить воду для различных
аттракционов. См. также примеч. 6 к очерку «Индийские жонглеры».
13 Как приятно, хотя и жутко... — Аллюзия на шекспировскую пьесу «Все
хорошо, что хорошо кончается» (акт I, сц. 1, 92). Ср. в пер. Мих. Донского: ...боль и
радость...» и Т.Л. Щепкиной-Куперник: «Было сладкой мукой...»
14 Преисподняя Тофета. — В Библии Тофет — плодородная местность южнее
Иерусалима, где в эпоху пророков установили идол Молоха, которому приносили в
жертву детей. Царь Иосия разрушил идол, и с тех пор это место являлось свалкой для
нечистот (см.: 4 Цар. 23: 10; см. также: Ис. 30: 33; Иер. 7: 31-32; 19: 6, 11-13).
15 ...«вот здесь, на этой отмели времен»... — См. примеч. 14 к очерку «О
боязни смерти».
16 ...«злобой превзойти фурию»... — См. примеч. 10 к очерку «О критике».
17 «То, что казалось слаще меда, вскоре становится горше полыни». — Шекспир У.
Отелло. Акт I, сц. 3, 348—349. Пер. Б.Н. Аейтина. Цитата не совсем точна.
18 ...«шесть раз в неделю»... — Ричардсон С. Кларисса. Письмо 529. У Хэзлитта
присутствует явный иронический оттенок.
19 «Послание Роберту Саути, эсквайру». — Имеется в виду «Письмо Элии Роберту
Саути, эсквайру», написанное Ч. Лэмом и опубликованное в «Лондонском
журнале» (см.: London Magazine. 1823. October. № 8. P. 400—407). Цитаты про
«команду игроков в вист», команду, «которая столько лет называла адмирала Берни
другом», взяты Хэзлиттом из этого письма.
20 ...командой... воспетой... мной самим в этой книге... — Имеются в виду хэзлит-
628
Примечания
товские «Беседы о писателях» (сентябрь 1820 г.), включенные в его сборник
«Прямодушный» (1826). См.: The Selected Writings of William Hazlitt... Vol. 8. P. 32-34.
21 Полагаю, Лэм вновь станет близок мне после того, как написал благородное письмо
к Саути, в котором высказал откровенное мнение о нем. — Хэзлитт и Лэм
познакомились в 1804 г. через Колриджа. Несмотря на дружбу, Хэзлитта задело
несерьезное отношение Лэма к отречению Наполеона в 1814 г.,ав 1821 г. Хэзлитт жаловался
друзьям на то, что Лэм отказывает защитить его от нападок критиков. В «Письме
Элии Роберту Саути» Лэм высоко отозвался о старом друге:
Я никогда в мыслях не отворачивался от него, никогда не предавал его,
никогда не уставал восхищаться им, я неизменно сохранял к нему прежнее
отношение (никогда не изменял его ни в лучшую, ни в худшую сторону), хотя он не мог
видеть этого, как видел в те дни, когда считал нужным мне доверять <...>. Я бы
пошел наперекор своей совести, если бы не сказал, что считаю Уильяма
Хэзлитта, когда он ведет себя естественно и вполне здоров физически, одной из
умнейших и блистательнейших натур среди ныне живущих. Я не только совершенно
не стыжусь тесной дружбы, которая связывала нас, но и горжусь тем, что на
протяжении стольких лет сохранил ее в неприкосновенности; и, полагаю, уйду в
могилу, не найдя, да и не ожидая найти другого такого товарища (London Magazine.
1823. October. № 8. P. 405).
После уничтожающих рецензий на «liber Amoris» эти слова много значили для
Хэзлитта.
22 ...«закалываем как жертву для богов»... — Шекспир У. Юлий Цезарь. Акт II,
сц. 1, 173. Пер. Mux. Зенкевича. Цитата несколько неточна.
23 Ли Хант, Джон Скотт, миссис Новелло, Варне, Рикман. — Хэзлитт пишет о
некоторых из компании друзей, собиравшихся ок. 1808 г. каждую среду у Чарлза
и Мэри Лэм поговорить и поиграть в карты (криббидж, вист).
24 ...«без перерыва, долгими часами». — Шекспир У. Как вам это понравится. Акт П,
сц. 7, 32—33. Цитата неточна (мн. ч. вместо ед. ч.). Ср. в пер. В. Левика: «Я по его
часам без перерыва / Час хохотал».
25 ...«лишенными достоинств и заслуг»... — См. примеч. 43 к очерку «О
литературной аристократии».
26 ...«мыши в воздушном насосе»... — См. примеч. 8 к очерку «О разуме и
воображении».
27 ...«теряются в просторе времен»... — См. примеч. 19 к очерку «О боязни смерти».
28 «Любовь ангелов» мистера Мура. — Впервые произведение было напечатано в
январе 1823 г.; за год вышло пять его изданий. См. также примеч. 22 к очерку
«Лорд Байрон».
29 «Сэр Эндрю Уайли» — роман шотландского писателя Джона Голта (1779—1839)
«Сэр Эндрю Уайли из города Уайли» (1822). Именно этот роман, подражательский
по отношению к шотландским романам В. Скотта, побудил Хэзлитта написать в
очерке «Сэр Вальтер Скотт», что его тошнит от подражателей.
30 ...«И вот однажды, сидя у окошка... ~ И ваша речь мне музыкой звучала...» —
Бомонт Ф., Флетчер Дж. Филастр. Акт V, сц. 1, 192—203. Пер. Б. Томашевского.
31 ...«поэзии вино все выпито, на дне один осадок горький». — Шекспир У. Макбет.
Дополнения. Прощание с искусством эссе
629
Акт II, сц. 3, 95—96. Пер. Б.Л. Пастернака. Хэзлитт заменил шекспировскую
метафору «вино жизни» на свою — «вино поэзии».
32 ...«бродя с пастушкою под сенью рощи /Или играя локоном Неэры»... — Милтон Дж.
Люсидас. 68—69. Ср. в пер. Ю.Б. Корнеева: ...не играл с Неэрой на приволье, /Ама-
риллиде кудри не трепал?»
33 ...«безвозвратный час»... — Аллюзия на «Оду» У Вордсворта (ст. 180), где
говорится: «Хотя ничто не может воротить час...»
34 Фонтхилл — поместье писателя У. Бекфорда (1760—1844) в графстве Уилтшир,
знаменитый архитектурный памятник периода «английского готического
возрождения», находящийся примерно в 20 милях от Уинтерслоу, где бывал Хэзлитт. Хэзлитт
посетил тамошнюю картинную галерею в октябре 1822 г., а в сентябре 1823 г. вновь
побывал в Фонтхилле на аукционе по распродаже имущества Бекфорда.
35 ...головка молодой женщины... — Возможно, имеется в виду тициановский
«Портрет дамы в белом платье» (1553), хранящийся в Дрезденской галерее старых
мастеров.
36 ...«не способно ни к какому доброму делу». — Тит. 1: 16.
37 ...«которых весь мир не был достоин»... — Евр. 11: 38.
38 «Прежде это было тайной, но наше время доказало это». — Шекспир У. Гамлет.
Акт III, сц. 1, 113—114. Пер. K.P. Цитата неточна: в частности, Хэзлитт заменил
шекспировское слово «парадокс» словом «тайна».
39 Эхо свободы зазвучало... в Испании... — См. примеч. 51 к очерку «Парадокс и
банальность».
40 Легитимизм. — См. примеч. 11 к очерку «Об одержимости одной идеей».
41 ...«на челе святой любви сменяют розу язвой»\ — Шекспир У. Гамлет. Акт III,
сц. 4, 42—44. Пер. МЛ. Лозинского.
42 Джини Динз. — См. примеч. 5 к очерку «Вульгарность и жеманство».
43 ...Джентльмен Джордж сожалел о совершенном им поступке...—Точнее,
Джентльмен Джорди (прозвище Джорджа Робинсона; он же впоследствии — сэр Джордж
Стонтон), персонаж романа В. Скотта «Эдинбургская темница». Он соблазнил Эф-
фи Динз, похитил ее и своего ребенка, который после долгих скитаний в детские
годы попал в разбойничью шайку и в итоге кончил тем, что сгинул в Америке; саму
же Эффи обвиняли в том, что она умертвила младенца.
44 Неизвестный писатель. — Вальтер Скотт опубликовал некоторые
шотландские романы анонимно.
45 Папаша Рэттон. — Точнее, Папаша Рэт. Такое прозвище носил персонаж
романа В. Скотта «Эдинбургская темница» взломщик и вор Джеймс Рэтклиф,
ставший впоследствии служителем закона.
ПРОЩАНИЕ С ИСКУССТВОМ ЭССЕ
A FAREWELL TO ESSAY-WRITING
Очерк датирован 20 февраля 1828 года. Впервые опубликован в «Лондонском
еженедельном обозрении» («London Weekly Review») 29 марта того же года, а затем
перепечатан в несколько сокращенном виде в сборнике «Уинтерслоу: Очерки и
портреты, написанные там» (1850), подготовленном сыном писателя.
630
Примечания
Настоящий перевод осуществлен по изданию: Hazlitt W. A Farewell to
Essay-Writing// Selections from William Hazlitt/ Ed. with introd. and notes by W.D. Howe. Boston
(MA); N.Y.; Chicago; L.: Ginn & Co., 1913. P. 298-307.
1 «Коль счастье заключается в покое — мы счастливы». — Шекспир У. Цимбе-
лин. Акт III, сц. 3, 29—30. Пер. П.В. Шелковой.
2 ...«В твоем уединенье друг, кому / Шепнуть бы мог. как хорошо быть одному»? —
Купер У. Уединение. 741—742. См. также примеч. 2 к очерку «О путешествиях».
3 ...«нежно воодушевлял»... — Шекспир У. Буря. Акт I, сц. 2, 299.
...«всех страстей отбросил я оковы»... — Байрон Дж.-Г. Дон-Жуан. I. 216 (ст. 1726).
Пер. Т. Гнедич.
5 ...«к нам медленно весна идет». — Колридж С.-Т Кристабель. Часть I. 22.
6 ...«поля сыры, а колеи разбиты»... — Милтон Дж. Мистеру Лоренсу. 2.
7 Крайняя Фула. — См. примеч. 17 к очерку «Политики из кофейни».
8 ...«растаяла в воздухе его короткая жизнь». — Аллюзия на поэму А. Поупа
«Виндзорский лес» (ст. 133—134). Ср. в пер. В.Б. Микушевича: «Жизнь жаворонка
в воздухе навек, / Лишь тельце подбирает человек».
9 ...«глянуть сквозь полог прошлого»... — Шекспир У. Макбет. Акт I, сц. 5, 51.
Цитата немного неточна: Хэзлитт заменил слово «мрак» (или «тьма») на слово «прошлое».
Ср. в пер. А. Радловой: ...сквозь покров тьмы заглянув...»
10 ...«открыть все кельи, где уснула память». — Купер У. Задача. VI. 11—12.
...различаю... лай собак и вижу появляющийся оттуда зловещий призрак и его
несчастную жертву, как в повести о Теодоре и Гонории. — Имеется в виду поэма Драй-
дена «Теодор и Гонория», написанная на сюжет одной из новелл Дж. Боккаччо.
Теодор, главный герой, влюбленный в Гонорию, не отвечавшую ему взаимностью,
уезжает в деревню, чтобы постараться забыть о своей несчастной любви.
Однажды на прогулке он встречает рыцаря, преследующего с собаками молодую девицу.
Когда Теодор пытается спасти несчастную, рыцарь останавливает его и
рассказывает о своей судьбе. Он, как и Теодор, безуспешно добивался любви одной
жестокосердной девицы; после кончины ему было предписано каждый день преследовать
ее, также умершую, с собаками, а догнав, зарубить мечом и вырвать из груди
черствое сердце.
12 «Рим много городов воздвиг в краях своих. / Известней и главнее всех Равенна
среди них». — Драйден Дж. Теодор и Гонория. 1—2.
13 «Гонория взглянула — в этот миг / Тот, прежний испуг в сердце вновь возник». —
Там же. 342—343.
14 «Себя не помня, нанес он удар, / Чтоб слез поток принес тебе я в дар». —
Драйден Дж. Сиджизмонда и Гискардо. 668—669.
15 Меня чрезвычайно радует ~ Но красота не подлежит продаже. — Этот фрагмент
отсутствует в издании 1850 г. («Уинтерслоу»), а также во многих последующих, в т. ч.
современных переизданиях. Судя по всему, Хэзлитт видел черновые наброски
автобиографии Ли Ханта, вышедшей в 1850 г., поскольку именно там, в гл. XVEQ, Ли
Хант упоминает про восхищение Томаса Мура приведенным двустишием Драйде-
на (см.: Hunt L. The Autobiography. L.: Smith, Elder & Co., 1860. P. 309).
16 «Навеки вождь покинул нас, / МогуЧий дуб сожгла гроза». — Скотт В. Гленфин-
лас, или Плач по лорду Роналду. 259—260. Пер. Э.А. Липецкой.
Дополнения. Прощание с искусством эссе
631
17 Мистер Гиффорд сказал однажды: «Попивая джин и покуривая трубку, он
воображал себя Лейбницем». — Эту высказьшание Гиффорда Хэзлитт приводит и в
посвященном этому журналисту очерке, вошедшем в сборник «Дух века» (см.: Hazlitt W.
Mr. Gifford// Spirit of the Age; or, Contemporary Portraits: In 2 vol. P.: A. & W. Galignani,
1825. Vol. 2. P. 121).
18 Я довольно-таки сильно разочарован ~ так и ему. — Это предложение отсутствует
в издании 1850 г. и во многих последующих переизданиях. Вновь Хэзлитт ссылается,
по-видимому, на черновики автобиографии Ли Ханта.
19 ...«цель восхищенья для подражателей»? — Шекспир У. Гамлет. Акт Ш, сц. 1, 162.
Пер. K.P. Хэзлитт заменил во фразе одно слово (в рус. пер. вместо «восхищенья»
стоит «подражанья»).
20 ...ношу... «шляпу меланхолика». — В одном из шуточных сборников (Choice
Drollery, 1656) драматург Джон Форд (1586—1640?), склонный в своих произведениях к
меланхолии, описан со сложенными на груди руками и в «шляпе меланхолика»
(«melancholy hat»).
21 Вместе с Гамлетом я могу сказать: «Я никакого "кажется" не знаю». —
Шекспир У. Гамлет. Акт I, сц. 2, 73. Пер. 77. Гнедича.
22 Игра в мяч. — См. примеч. 32 к очерку «Индийские жонглеры».
23 Aut Caesar out nullus. — Вариант поговорки «Aut Caesar aut nihil». См. примеч. 19
к очерку «Стоит ли актерам сидеть в ложе?».
24 ...бадминтон или иную игру с воланом. — В оригинале: «game of battledoor and
shuttlecock».
25 Описанное мною выше ~ существующие в отношении меня предубеждения. — Этот
обширный фрагмент отсутствует в издании 1850 г. и во многих последующих
переизданиях. Судя по всему, Хэзлитт вновь разбирает еще не изданную на тот момент
автобиографию Ли Ханта.
26 ...«одиннадцать остальных упрямцев». — Источник цитаты не установлен.
27 «Трагедия Антонио». — Пьеса У. Годвина была поставлена в театре Друри-Лейн
13 декабря 1800 г.; успеха не имела.
28 ..Аристотели, собравшиеся судить Еврипидов\ — В своем сочинении «Поэтика»
Аристотель неоднократно по разным поводам критикует драматурга Еврипида (см.,
напр.: 1453а28-29, 1458Ы8-24, 1461Ы8-22).
29 ...«Я и представить не могу, что им на ум придет». — Драйден Дж. Лань и
пантера. I. 315.
30 ...для того чтобы вести за собой, надобно следовать за кем-то. — Аллюзия на
высказьшание Э. Бёрка в «Размышлениях о революции во Франции»: «Те, кто
ведет за собой других, сами должны, в значительной степени, следовать за кем-то».
31 Когда я жил в этих местах раньше... — Хэзлитт переселился в Уинтерслоу сразу
же после своей первой женитьбы в 1808 г. и вернулся в Лондон только в 1812 г.
32 Чосеровский «Цветок и лист». — По мнению современных литературоведов, это
стихотворение, написанное предположительно в сер. XV в., не принадлежит Чосеру.
33 ...{И вновь почудилось мне рядом пенье)... — [Чосер Дж.] Цветок и лист. 105.
34 Вариант Драйдена. — Поэт Дж. Драйден сочинил свое стихотворение под
названием «Цветок и лист».
35 В то время я имел обыкновение прогуливаться вечерами в обществе мистера и
мисс Л<эм>... — Речь идет об одном из визитов брата и сестры Лэм в Уинтерслоу —
632
Примечания
возможно, о том, про который Ч. Лэм упоминает в письме к Колриджу от 30
октября 1809 г., рассказьшая, как сестра, Хэзлитт и он повидали Уилтон, Солсбери,
Стоунхендж и другие места.
36 Мне говорили тогда, что Уилсон далеко превзошел Клода, но я не верил. —
По-видимому, Чарлз Лэм придерживался относительно этих двух художников такого же
мнения, как и Хэзлитт, потому что в письме к последнему, написанном 15 марта
1806 г., под впечатлением от посещения некоторых картинных галерей, он
восклицает: «<...> те, кто ставит Уилсона на одну доску с Клодом, либо ни в чем почти не
смыслят, либо глупы...
37 ...бараньерагу... которое подавала Амелия... — См.: Филдинг Г. Амелия. Т. Ш. Кн. X.
Гл.У.
38 «И занавесить сцену от взглядов праздных впредь». — Коллинз У. Ода
поэтической натуре. 76. Цитата несколько неточна.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
УИЛЬЯМА ХЭЗЛИТТА
(1778-1830)
1778 Родился в г. Мэйдстоне (графство Кент), где его отец, преподоб-
10 апреля ный Уильям Хэзлитт ( 1732— 1820), происходивший из семьи
ирландских пресвитерианцев, служил священником Унитарной церкви;
мать, урожд. Грейс Лофтус (1746—1837), происходила из семьи дис-
сентеров; брат — Джон (1767—1837), сестра — Маргарет (1770—1837).
1779—1783 Находится в Ирландии, где его отец служил священником в
конгрегации в г. Бэндон (графство Корк); одно время отец выступает
против негуманного обращения с американскими военнопленными.
1783—1787 Находится в Америке (живет в Нью-Йорке, Филадельфии, под
Бостоном), где его отец основал первую в США унитарную церковь (в
Бостоне).
1787 Семья Хэзлиттов возвращается в Англию и поселяется в
деревушке Уэм (графство Шрогшшр).
1793—1795 Будущий писатель учится в Новом унитарном колледже в г. Хэкни
близ Лондона — готовится стать священником.
1794 Следит за процессом Томаса Гарди, Джона Хорна Тука и Джона
Телуолла, обвиненных в государственной измене, однако
оправданных. Ходит в театр посмотреть на игру Сары Сиддонс.
1795 Оставляет учебу, отказавшись от намерения стать священником.
Живет в Лондоне у брата Джона, художника-портретиста, который
знакомит его с Уильямом Годвином.
1796 Возвращается в Уэм, однако периодически наведывается в Лондон;
читает философскую, политическую и художественную
литературу; работает над «Эссе о принципах, движущих поступками
человека» (будет опубликовано в 1805 г.).
1798 Знакомится с поэтом С.-Т. Колриджем.
январь
лето В начале лета гостит у Колриджа в Нетер-Стоуи (графство
Сомерсетшир). Знакомится с У. Вордсвортом. Решает стать художником.
634 Основные даты жизни и творчества Уильяма Хэзлитта
1799
1800-1802
1802
октябрь
180?
март
лето и осень
1804
1805
1806
1807
1808
май
1810
1811
сентябрь
Учится живописи в Лондоне под руководством своего брата.
Становится бродячим художником; путешествует по Англии в
поисках заказов на исполнение портретов (в частности, побывал в
Манчестере и Ливерпуле).
Хэзлиттовский «Портрет отца» демонстрируется в Сомерсет-хаусе
на выставке Королевской академии живописи.
Посещает Париж, где учится живописи и копирует полотна в
Лувре (по заказу бизнесменов-унитариев); ему удается мельком увидеть
Наполеона и Чарлза Джеймса Фокса.
Возвращается из Парижа. Знакомится с Чарлзом Лэмом.
Посещает Озерный край, где вновь встречается с Колриджем и
Вордсвортом; пишет их портреты; уезжает при скандальных
обстоятельствах (якобы оскорбил местных сельских жительниц).
Пишет известный портрет Лэма в костюме венецианского
сенатора, ныне хранящийся в Национальной портретной галерее в
Лондоне; начинает сомневаться в том, что сможет стать настоящим
художником.
Публикация (издатель Джозеф Джонсон): «Эссе о принципах,
движущих поступками человека, в качестве довода в пользу тезиса о
естественной объективности человеческого ума» (An Essay on the
Principles of Human Action, Being an Argument in Favour of the Natural
Disinterestedness of the Human Mind).
Публикация политического памфлета: «Свободные мысли о
государственных делах, или Советы патриоту» (Free Thoughts on
Public Affairs; or, Advice to a Patriot).
Публикации: сокращенный вариант сочинения «Преследуя свет
природы» Авраама Такера (An Abridgment of the Light of Nature
Pursued, by Abraham Tucker);
«Красноречие Британского сената» (The Eloquence of the British
Senate);
«Ответ на эссе Мальтуса о населении», в письмах (A Reply to the
Essay on Population, by the Rev. T.R. Malthus, in a Series of Letters).
Женится на Саре Стоддарт, сестре главного редактора газеты
«Тайме», и переезжает в Уинтерслоу (близ Солсбери, графство
Уилтшир).
Публикация: «Новая усовершенствованная грамматика
английского языка» (A New and Improved Grammar of the English Tongue).
Рождается сын Уильям.
Основные даты жизни и творчества Уильяма Хэзлитта 635
1812 Читает лекции по истории английской философии,
январь-
апрель
осень Назначен парламентским репортером в «Морнинг кроникл».
1813 Назначен театральным критиком в «Морнинг кроникл»; там же
начинает печатать очерки.
1814 Пишет рецензию об исполнении Эдмундом Кином роли Шейлока;
пишет рецензию на поэму Вордсворта «Прогулка».
Покидает «Морнинг кроникл» и начинает печататься в «Чэмпио-
не» (как театральный критик и искусствовед), «Эдинбургском
обозрении», «Экзаминере» Ли Ханта.
1815 В течение нескольких недель не может прийти в себя от горя
после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо (18 июня).
Печатает в «Экзаминере» ряд эссе из серии «Круглый стол», а также
театральные рецензии.
1816 Печатает рецензию на «Кристабель» Колриджа.
Публикация (по заказу): «Мемуары покойного Томаса Холкрофта»
(Memoirs of the Late Thomas Holcroft).
1817 Знакомится с Китсом. Назначен театральным критиком в «Тайме».
Обсуждает монархическую и республиканскую формы правления
с четой Шелли и Ли Хантом.
Публикация: двухтомник «Круглый стол: Сборник очерков о
литературе, людях и нравах» (The Round Table: A Collection of Essays on
literature, Men, and Manners), совместно с Ли Хантом; репринтное
издание вышло в 1991 г.
Публикация: «Герои шекспировского театра» (Characters of
Shakespeare's Plays).
1818 Читает две лекции в Суррейском институте в Лондоне: об
английской поэзии (январь—март) и английских авторах комедий (начаты
в ноябре, завершены в январе следующего года). Хэзлитт и
Шелли подвергаются жесткой критике в новом «Блэквудском журнале»;
Хэзлитт подает на журнал в суд за клевету.
Публикация: «Панорама английской сцены» (A View of the English
Stage; or, A Series of Dramatic Criticisms).
май Публикация: «Лекции об английских поэтах» (Lectures on the
English Poets).
1819 Печатает «Письмо Уильяму Гиффорду» (A Letter to William Gifford);
стиль этого послания удостаивается восторженного отзыва Китса.
апрель Публикация: «Лекции об английских авторах комедий» (Lectures on
the English Comic Writers); переизд. в 1965 г. под ред. А. Джонсона
(A.Johnson).
636 Основные даты жизни и творчества Уильяма Хэзлитта
Публикация: «Политические очерки, с зарисовками портретов
общественных деятелей» (Political Essays, with Sketches of Public
Characters).
ноябрь— Читает лекции о драматургии елизаветинской эпохи,
декабрь Разъезжается со своей женой.
1820 Публикация: «Лекции, преимущественно о драме елизаветинской
январь эпохи» (Lectures, Chiefly on the Dramatic literature of the Age of
Elizabeth).
июль Умирает преподобный Уильям Хэзлитт, отец писателя. Сын воспел
его в очерке «О наслаждении живописью». Начинает сотрудничать
с «Лондонским журналом» (печатает театральные рецензии и
«Застольные беседы»).
1821 Вспыхивает его страсть к Саре Уокер, дочери его квартирных
хозяев в Лондоне.
1821—1822 Публикация: «Застольные беседы» (Table-Talk; or, Original Essays,
2 vol.).
1822 Начинает печатать «Застольные беседы» в «Новом ежемесячном
журнале».
январь Уезжает в Шотландию заниматься разводом с женой.
июль Разводится с женой в Эдинбурге.
август Сара Уокер отказывается выйти -за него замуж.
1823 На короткий срок оказывается в тюрьме за долги. Проводит время
то в Лондоне, то в Уинтерслру (останавливается в гостинице «Уин-
терслоу-Хат»). Сотрудничает с журналом Ли Ханта «Либерал».
Публикация: «Характеристики, написанные по образу "Максим"
Ларошфуко» (Characteristics, in the Manner of Rochefoucault's Maxims)
Публикация: «liber Amoris», автобиографическая повесть о
безответной любви.
1824 Женится на Изабелле Бриджуотер. Путешествует вместе с ней по
Франции и Италии (август 1824 г. — октябрь 1825 г.). Редактирует
книгу «Избранные британские поэты, или Новые изящные отрывки
от Чосера до наших дней, с критическими замечаниями»
(Selected British Poets, or New Elegant Extracts from Chaucer to the
Present Time, with Critical Remarks).
Публикация: «Зарисовки об основных картинных галереях
Англии» (Sketches of the Principal Picture Galleries in England with a
Criticism on «Marriage à la Mode»).
1825 Возвращается в Англию.
Публикация: «Дух века, или Современные портреты» (The Spirit of
the Age; or, Contemporary Portraits).
Основные даты жизни и творчества Уильяма Хэзлитта 637
1826 Публикация: «Заметки о путешествии по Франции и Италии»
(Notes of a Journey Through France and Italy).
Публикация: «Прямодушный: Мнения о книгах, людях и вещах»
(The Plain Speaker: Opinions on Books, Men, and Things, 2 vol.).
Возвращается в Париж, чтобы работать над биографией
Наполеона (июль 1826 г. — октябрь 1827 г.).
1827 Жена Изабелла уходит от него. Сам он возвращается в Англию;
живет в Уинтерслоу.
1828 Вновь едет в Париж для продолжения работы над биографией На-
июль— полеона. Печатает театральные рецензии в «Экзаминере», в ежене-
сентябрь делышке «Атлас» (декабрь 1828 г. — апрель 1830 г.).
1828—1830 Публикация: «Жизнь Наполеона» (Life of Napoleon, 4 vol.).
1829 Теряет значительную сумму денег (200 ф. ст.) по вине издателя
«Жизни Наполеона».
1830 Публикация: «Беседы Джеймса Норткота, эсквайра, члена
Королевской академии» (Conversations of James Northcote, Esq., R.A.).
август Заболевает.
18 сентября Умирает в меблированных комнатах на Фрит-стрит в Сохо
(Лондон).
1836 Публикация: «Литературные останки» (literary Remains, 2 vol.).
1839 Публикация: «Наброски и эссе» (Sketches and Essays / Ed. W.
Hazlitt, Jr.). В 1852 г. переизд. под заглавием «Люди и нравы» (Men and
Manners).
1843—1844 Публикация: Criticisms on Art and Sketches of the Picture Galleries
of England: In 2 vol. / Ed. W. Hazlitt, Jr. В 1873 г. переизд. под
заглавием «Очерки об изящных искусствах» (Essays on the Fine Arts).
1850 Публикация: «Уинтерслоу: Очерки и портреты, написанные там»
(Winterslow: Essays and Characters Written There / Ed. by W.
Hazlitt, Jr. L.: D. Bogue, 1850).
1925—1927 Публикация: «Новыесочинения» (New Writings: In2vol./Ed. P.P.
Howe).
1930—1934 Публикация: Полное собрание сочинений (Complete Works
(Centenary Edition: In 21 vol. / Ed. P.-P. Howe)).
1978 Публикация: Переписка (The Letters / Ed. H. Moreland Sikes).
1998 Публикация: «Избранные произведения Уильяма Хэзлитта»
(Selected Writings of William Hazlitt: In 9 vol. /Ed. D. Wu. L.: Pickering
& Chatto, 1998). Это издание дополняет и расширяет Полное
собрание сочинений в 21 томе, вышедшее в 1930—1934 гг.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*
Абботт Уильям (Abbott William; 1789—1843), актер театра Ковент-Гарден (с 1812 г.);
автор двух мелодрам; работал вместе с У.-Ч. Макреди 307
Абернети Джон (Abernethyjohn; 1764—1831), один из наиболее выдающихся
хирургов своего времени; специалист по анатомии и физиологии 73
Августин Аврелий (Augustinus Aurelius; 354—430), епископ г. Гиппона в Сев.
Африке (с 396 г.); выдающийся богослов; один из главных Отцов Церкви; автор
«Исповеди» (ок. 400), трактата «О Граде Божием» (413—426) и множества
других сочинений; канонизирован Католической Церковью как святой 88, 123
Аддисон Джозеф (Addison Joseph; 1672—1719), эссеист, поэт и драматург; вместе
с Р. Стилем выпускал знаменитые журналы «Болтун» (The Tatler) и «Зритель»
(The Spectator) 406
Айртон Уильям (Ayrton William; 1777—1858), музыкальный директор
Королевского театра Хеймаркет; музыкальный критик и импресарио; дружил с Ч. Лэмом
и часто бывал у него в гостях 218, 223, 224
Аламбер Жан Ле Рон д' (Alembertjean Le Rond сГ; 1717—1783), французский
математик, механик, философ и писатель-просветитель; автор и редактор
знаменитой (вместе с Д. Дидро) «Энциклопедии» 125
Александр Македонский (356—323 до н. э.), сын македонского царя Филиппа II и
Олимпиады; царь Македонии (с 336 г. до н. э.); величайший полководец
древнего мира; создатель огромной империи, которая простиралась до Египта и
Индии, однако распалась после его кончины 120, 121, 303
Ангерстейн Джон Джулиус (Angerstein John Julius; 1735—1823), банкир и
коллекционер живописи; 38 принадлежавших ему картин были приобретены
государством (в 1824 г.) и стали первыми экспонатами Национальной галереи в
Лондоне 195
Анна Стюарт (Anne Stuart; 1665—1714), последняя королева Великобритании из
династии Стюартов (с 1702 г.) 126, 355, 357
Аннибале — см. Карраччи Аннибале
* Поскольку в- наст, указателе представлены преимущественно английские
политики, писатели, философы, деятели искусства и иные персоны, страновая принадлежность
сообщается лишь для прочих лиц.
Указатель имен
639
Апеллес (IV в. до н. э.), древнегреческий художник, о котором высоко отзывались
античные авторы; ни одно из его произведений не сохранилось 86
Апулей Луций (Apuleius Lucius; ок. 124 — ок. 180), философ-платоник и ритор;
более всего известен как автор сочинения «Золотой осел» 223
Арам Юджин (Aram Eugene; ок. 1704—1759), школьный учитель;
лингвист-самоучка; странствовал по Англии и собрал значительный материал для
сравнительного словаря английского, кельтского и др. языков; повешен за убийство;
Томас Худ написал о нем балладу, а Эдвард Булвер-Литтон — роман «Юджин
Арам» (1832) 346
Арбле, мадам д' — см. Бёрни Фанни
Ариосто Лудовико (Ariosto Ludovico; 1474—1533), великий итальянский поэт; больше
всего известен эпической поэмой «Неистовый Роланд» (1516) 352, 396, 429
Аристотель (384—322 до н. э.), древнегреческий философ; ученик и критик
Платона; автор более 170 трудов по логике, метафизике, этике, политике и др. 121,
123, 221, 465
Армитедж (Armitage), игрок в мяч 101
Байрон Джордж Гордон Байрон, лорд (Byron George Gordon Byron, 6th Baron; 1788—
1824), великий поэт-романтик, сатирик, драматург 54, 215, 233, 234, 245, 283,
298, 308, 318, 322, 415, 424-434, 444, 464
Бакстер Ричард (Baxter Richard; 1615—1691), пуританский священник и богослов,
известный тем, что стремился примирить различные течения пуританства;
наиболее известно его сочинение «Вековечное упокоение святых» (1650) 88
Бакстон Джедидия (Buxton Jedidiah; 1707—1772), пахарь из графства Дербишир;
остался на уровне умственного развития десятилетнего ребенка, но обладал
феноменальными вычислительными способностями, благодаря чему
прославился в Лондоне, куда переехал в 1754 г.; когда его спросили, что он думает
о только что увиденной постановке шекспировского «Ричарда III», Бакстон
ответил: «В пьесе 12 445 слов» (и это действительно так) 55, 97
Барбару Шарль Жан Мари (Barbaroux Charles Jean-Marie; 1767—1794),
французский революционный деятель; жирондист; был в числе тех, кто вдохновил
Шарлотту Корде на убийство Марата; гильотинирован 115
Бармекид (Бармакид) Джафар ибн-Яхъя (VIII в.), происходил из рода Бармаки-
дов в халифате Аббасидов; визирь Гарун аль-Рашида; герой арабских сказок
«Тысяча и одна ночь» 63
Барнс Томас (Barnes Thomas; 1785—1841), журналист, главный редактор газеты
«Тайме» (с 1817 г.) 453
Бартоломео (ди Паголо), фра, др. имя — Баччо делла Порта (Bartolomeo (di Pagholo),
fra, Baccio della Porta; 1472—1517), итальянский художник эпохи Высокого
Возрождения 141
Батлер Джозеф (Butler Joseph; 1692—1752), епископ Англиканской церкви,
философ, проповедник и писатель; наиболее известен его труд «Аналогия религии»
(1736), содержащий критику деизма 250
Батлер Сэмюэл (Butler Samuel; 1612—1680), поэт и сатирик; более всего
прославился как автор бурлескной поэмы «Гудибрас» (1662—1678) 81, 231, 316, 348
Баттони (или Батони) Помпейо (Помпео) Джироламо (Battoni или Batoni Pompeo Giro-
640
Приложения
lamo; 1708—1787), итальянский художник; мастер исторических полотен,
аллегорий и портретов; соединял черты рококо и классицизма; ученик Ф. Империали 145
Бевик Джон (Bewick John; 1760—1795), художник, гравер 63
Бентам Джереми (BenthamJeremy; 1748-1832), философ, экономист, теоретик
права; один из основателей и главных толкователей философского течения
утилитаризма 170,440-442,450
Беньян Джон (Bunyanjohn; 1628—1688), писатель и проповедник; наиболее известен
его аллегорический роман «Путь паломника» (1678) 406
Беркли Джордж (Berkeley George; 1685—1753), англиканский епископ; философ
и ученый, теоретик эмпиризма 74, 75, 214, 221
Бетти Уильям Генри Уэст, мастер Бетти (Betty William Henry West, Master Betty; 1791—
1874), актер, появившийся на театральных подмостках в возрасте 12 лет (с 14 лет
играл в Ковент-Гардене, затем и в Друри-Лейн) и прославившийся как
чудо-ребенок; получил в честь знаменитого древнеримского актера прозвище «юный
Росций»; ушел со сцены в 1824 г. 325—326
Бёрк Эдмунд (Burke Edmund; 1729—1797), государственный деятель, оратор и
политический мыслитель, сыгравший важную роль в развитии политической
теории; в «Размышлениях о Французской революции» (1790) отстаивал
преимущества консерватизма перед якобинством 42, 44, 45, 60, 146, 165, 174, 184,
296, 317, 355, 400, 408, 437, 444, 449
Бёрни (Burney), семья, многие представители которой стали деятелями литературы
и искусства 232
Бёрни Джеймс (BurneyJames; 1750—1821), сын композитора Ч. Бёрни, брат Ф. Бёрни;
контр-адмирал; сопровождал Дж. Кука в двух его последних плаваниях; друг
Ч. Лэма 452
Бёрни Мартин Чарлз (Burney Martin Charles; 1768—1852), адвокат; племянник
Фанни Бёрни; большой друг семьи Лэм; Ч. Лэм посвятил ему второй том своих
«Сочинений» (1818) 218, 219, 221-224
Бёрни Фанни (Франсис), в замужестве — мадам д'Арбле (Burney Fanny (Francis),
Mme cTArblay; 1752—1840), писательница; дочь музыкального деятеля Чарлза
Бёрни; автор «романов нравов» («Сесилия», «Камилла»), лучшим и наиболее
известным из которых является «Эвелина, или История выхода молодой леди
в свет» (1778) 177, 208, 233
Бёрни Чарлз (Burney Charles; 1726—1814), органист, композитор, ведущий историк
музыки в Англии 85, 232, 236
Берне Роберт (Burns Robert; 1759—1796), великий шотландский поэт 28, 54, 113, 415
Бёртон Роберт (Burton Robert; 1577—1640), писатель и ученый; автор «Анатомии
меланхолии» — произведения энциклопедического характера, известного также
стилистическим совершенством 251, 272
Бикерстафф Исаак (Bickerstaffe Isaac) — см. Стиль Ричард
Биллингтон Элизабет (Billington Elizabeth; 1768—1818), выдающаяся оперная
певица; выступала на сцене с 1786 по 1814 г., как в Лондоне, так и в различных
городах Европы 323
Бичи, сэр Уильям (Beechey, Sir William; 1753—1839), портретист и пейзажист; один
из главных придворных художников; его брат и оба сына также были
художниками 333
Указатель имен
641
Блэквуд Уильям (Blackwood William; 1776—1834), один из наиболее известных в
Эдинбурге книготорговцев и издателей книжной продукции и периодики 416
Блэкмур, сэр Ричард (Blackmore, Sir Richard; 1654—1729), врач и писатель; лейб-
медик короля Георга III; считая для себя поэзию лишь формой досуга,
написал тем не менее четыре большие эпические поэмы на легендарные сюжеты
202
Блэкстоун, сэр Уильям (Blackstone, Sir William; 1723—1780), правовед; автор
«Комментариев к законам Англии» (1765—1769) 219
Боккаччо Джованни (Boccaccio Giovanni; 1313—1375), великий итальянский поэт и
писатель; более всего известно его собрание новелл «Декамерон» (1353) 406, 461
Болингброк Генри Сент-Джон, лорд (Bolingbroke Henry St John, 1st Viscount; 1678—
1751), политик и философ; окончил жизнь в изгнании во Франции 113—114
Болонья Джованни да (наст, имя — Жан Болонь или Буллонь) (фр. Bologne или Boul-
logne Jean, um. Bologna Giovanni da; 1524—1608), скульптор; фламандец по
происхождению; обосновался в Италии (с 1553 г.); работал во Флоренции, Пизе,
Болонье, Генуе 158
Бомонт Фрэнсис (Beaumont Francis; ок. 1584—1616), поэт и драматург; писал
трагедии и комедии в соавторстве с Дж. Флетчером (ок. 1606 — ок. 1613 гг.) 214, 215,
225, 243, 455
Бонапарт — см. Наполеон I
Бособр Исаак де (Beausobre Isaac de; 1659—1738), французский писатель; гугенот 88
Босуэлл Джеймс (BoswellJames; 1740—1795), друг и биограф Сэмюэла Джонсона;
мастер дневниковой прозы; оставил «Жизнь Сэмюэла Джонсона» (1791) —
признанный шедевр биографической литературы 228
Боулз Уильям Лил (Bowles William Lisle; 1762—1850), священнослужитель; поэт и
критик; издал комментированное собрание сочинений А. Поупа (1806),
исподволь внеся в комментарии негативную оценку нравственных и творческих
принципов поэта 430
Боун Генри (Bone Henry; 1755—1834), известный миниатюрист; член Королевской
академии живописи; автор 85 портретов знаменитых англичан — копий с
картин из различных коллекций 267
Браун, сэр Томас (Brown, Sir Thomas; 1605—1682), врач и писатель; известен как
стилист, автор философских размышлений о смерти, природе, Боге и человеке
251, 272
Брауншвейгский дом — см. Ганноверы
Брентон Фанни (правильнее — Анна) (Brunton Fannie (Ann); 1768—1808),
театральная актриса 307
Бриттон Джон (Britton John; 1771—1857), антиквар и писатель; автор ряда книг о
достопримечательностях Великобритании 237—238
Брум Генри Питер, барон Брум и Во (Brougham Henry Peter, 1st Baron Brougham
and Vaux; 1778—1868), политик (член партии вигов), оратор, реформатор, лорд-
канцлер Англии (1830-1834 гг.) 100
Брут Марк Юний (Brutus Marcus Iunius; 85—42 до н. э.), вождь группы
заговорщиков, убивших Юлия Цезаря (44 г. до н. э.); совершил самоубийство после
поражения собранных им войск, осознав невозможность восстановления в
Риме республиканского правления 197
642
Приложения
Булль Джордж (Bull George; 1634—1710), теолог; епископ города Сент-Дэвидс, где
находится крупнейший в Уэльсе собор (XII в.) 88
Бурбоны [фр. Bourbons, исп. Borböns, um. Borbone), один из наиболее известных
королевских домов в Европе (как дворянский род известен с нач. XI в.);
правили во Франции (1589—1792, 1814—1830 гг., младшая Орлеанская ветвь 1830—
1848 гг.), в Испании (1700-1808, 1813-1868, 1874-1931 гг., 1975 г. - по наст,
время), в Неаполе и на Сицилии (1734—1806, 1815—1861 гг.), в Парме (1748—
1802, 1847-1859 гг.) 170, 211, 220, 358, 419, 449
Буржуа, сэр Фрэнсис (Bourgeois, Sir Francis; 1756—1811), художник; завещал много
картин Далиджскому колледжу (составили основу Далиджской галереи) 135
Буше Франсуа (Boucher François; 1703—1770), французский живописец, гравер и ав-
торгэскизов для гобеленов и фарфора; работал в стиле рококо; член (с 1734 г.),
затем директор Французской королевской академии живописи (с 1765 г.) 147
Бэкингем Джордж Вильерс, герцог (Buckingham George Villiers, 2nd Duke of; 1628—
1687), сын знаменитого герцога Бэкингема, фаворита Якова I и Карла I; член
кабинета Карла II; автор сатирической пьесы «Репетиция» (1671) 19
Бэкон Фрэнсис, виконт Сент-Олбенс, барон Верулам (Bacon Francis, Viscount St.
Albans, Baron Verulam of Verulam; 1561—1626), выдающийся философ и
государственный деятель; лорд-канцлер Англии (1618—1621 гг.) 97, 174, 396
Бэннистер Джон (Bannister John; 1760—1836), театральный актер; играл на сцене
с 1778 по 1815 г. 302
Бэрри Джеймс (Barry James; 1741—1806), художник ирландского происхождения;
известен полотнами на исторические сюжеты; член Королевской академии
живописи (1773—1799 гг.), откуда был изгнан; умер в бедности 299
Вазари Джорджо (Vasari Giorgio; 1511—1574), итальянский художник и
архитектор; более всего прославился жизнеописаниями наиболее знаменитых
итальянских архитекторов, художников и скульпторов (1550) 27, 141, 154
Валанси, мисс (Valancy, Miss), актриса театра «Сан Парей» 181
Ванбру, сэр Джон (Vanbrugh, Sir John; 1664—1726), архитектор, построивший,
среди прочих зданий, Блейнхеймский дворец (1705—1716 гг.) в графстве
Оксфордшир для знаменитого полководца, герцога Мальборо; прославился также как
автор комедий нравов 20
Ван Дейк, сэр Энтони (Антоний) [англ. Van Dyck, Sir Anthony, флам. Van Dyck An-
thon(ie); 1599—1641), выдающийся фламандский художник-портретист;
придворный живописец английского короля Карла I (с 1632 г.) 16, 19, 350, 354
Ваттель Эммерих де (Vattel Emmerich de; 1714—1767), швейцарский юрист; в
сочинении «Право народов» (1758) применил теорию естественного права к
международным отношениям 88
Вебстер Джон (WebsterJohn; ок. 1580 — ок. 1625), драматург; клирик прихода Св.
Андрея в Холборне; наиболее известна его трагедия «Герцогиня Амальфи» (ок. 1623)
215, 243
Вейн-младший, сэр Генри (Vane the Younger, Sir Henry; 1613—1662),
государственный деятель.и дипломат; при Кромвеле играл активную политическую роль;
казнен после Реставрации 199
Веллингтон Артур Уэллсли (до 1798 г. Уэсли), герцог (Wellington Arthur Wellesly (Wes-
Указатель имен
643
ley), 1st Duke of; 1769—1852), полководец и государственный деятель; победитель
Наполеона при Ватерлоо (18 июня 1815 г.); премьер-министр Великобритании
(1828-1830 гг.) 124,336
Вергилий (Публий Вергилий Марон) (Publius Vergilius Maro; 70—19 до н. э.),
выдающийся древнеримский поэт 120, 154, 183, 242, 248
Веронезе (наст, фамилия — Кальяри) Паоло (Veronese (Caliari) Paolo; 1528—1588),
один из крупнейших художников венецианской школы 152, 351, 352, 418
Вестрис Люсия Элизабет (Лючия Элизабетта) Бартолоцци, мадам (Vestris Lucia
Elizabeth (Elizabetta) Bartolozzi, Mme; 1797—1856), известная актриса и оперная
певица; начала выступать в 1815 г. в Итальянской опере, благодаря чему
прославилась в Лондоне и Париже; в качестве арендатора театра «Олимпия» (с 1831 г.)
и постановщика бурлесков оказала влияние на стиль декораций и сценических
костюмов (настаивала на их большей реалистичности и исторической
точности); в первом браке — супруга балетного танцора О.-А. Вестриса, во втором —
Ч.-Дж. Мэтьюза; вместе с последним руководила театрами «Лицеум» и Ковент-
Гарден (1838-1854 гг.) 262
Вестрис (также именовался Вестр'Аллар) Опост (наст, имя — Мари Жан Опостен)
(Vestris (Vestr'Allard) Auguste (MarieJean-Augustin); 1760—1842), артист балета
парижского оперного театра (1792—1816 гг.); сын знаменитых танцовщиков
Гаэтано Вестриса и Мари Аллар; повлиял на эволюцию балетного искусства;
славился отточенной техникой и широкими прыжками 219
Ветус (Vêtus) — еж. Стерлинг Эдвард
Виньюэль (точнее — Винёль) де Марвиль (наст, имя — дом Бонавантюр д'Аргонн)
(Vignuel (Vigneul) de Marville, D. Bonaventure d'Argonne; 1634—1704), монах
картезианского ордена; французский писатель; автор «Сборника исторических и
литературных анекдотов» (1699—1700), где содержатся, в частности,
воспоминания о художнике Никола Пуссене 192
Вольтер (наст, имя — Франсуа Мари Аруэ) (Voltaire François-Marie Arouet, dit;
1694—1778), знаменитый французский писатель и драматург; сторонник идеи
просвещенной монархии, защитник свободы слова, печати, вероисповедания
и других гражданских свобод; противник религиозной нетерпимости; член
Французской академии (1746 г.) 348
Вордсворт Уильям (Wordsworth William; 1770—1850), крупнейший поэт-романтик;
поэт-лауреат (с 1843 г.) 31, 53, 54, 75, 76, 197, 198, 222, 415, 428, 430, 465
Вуд, сэр Мэтью (Wood Matthew; 1768—1843), лорд-мэр Лондона (1815—1816 гг.);
был известен своей приверженностью королеве Каролине 73
Вудвард (Woodward), игрок в мяч 100
Вулси Томас (Wolsey (Woolsey) Thomas; ок. 1471—1530), государственный деятель,
кардинал (1515 г.), архиепископ Йоркский (1514—1530 гг.); лорд-канцлер
Англии (1515-1529 гг.) 98
Гамильтон Энтони (Антуан) (Hamilton Anthony, фр. Antoine; 1646—1720),
французский писатель; по происхождению шотландец; особенно известен
«Мемуарами графа де Грамона» (1713) 222
Ганноверский курфюрст — см. Георг I
Ганноверы, Ганноверская династия (др. назв. — Брауншвейгский дом) (House of На-
644
Приложения
nover (Brunswick)), британский королевский дом германского происхождения;
шесть монархов из него правили Великобританией с 1714 по 1901 г. 175, 419
Гаррик Дэвид (Garrick David; 1717—1779), знаменитый актер, режиссер, драматург
и поэт; играл в комедиях и трагедиях (в т. ч. многих шекспировских
персонажей); утверждал, что комические роли требуют большего мастерства 55, 59,
303,305,333,355,392
Гаррик Ева Мария Вайгель, миссис (Garrick Eva Maria Weigel, Mrs.; 1733—1822),
танцовщица из Вены; супруга (с 1749 г.) предыдущего 305
Гвидо — см. Рени Гвидо
Гейнсборо Томас (Gainsborough Thomas; 1727—1788), известный
художник-портретист и пейзажист 144, 145
Гелиодор Эмесский (3 в. н. э.), греческий писатель; автор знаменитого романа
«Эфиопика» — самого длинного и наиболее популярного из древнегреческих
романов 223
Генри Роберт (Henry Robert; 1718—1799), историк; автор «Истории Англии» в 6
томах (1771-1793) 420
Генрих VI (Henry VI; 1421-1471), король Англии (1422-1461, 1470-1471 гг.) 36
Георг I [нем. Georg Ludwig, англ. George (Louis) I; 1660—1727), курфюрст Ганновер
ский (с 1698 г.); первый король Великобритании из Ганноверской династии
(с 1714 г.) 69,246
Георг Ш {нем. Georg Wilhelm Friedrich, англ. George (William Frederick) Ш; 1738—
1820), король Великобритании и Ирландии (с 1760 г.); курфюрст (1760—1814 гг.),
затем король Ганновера (с 1814 г.); с 1811 г. периодически впадал в безумие, во
время которого его сын, будущий Георг IV, правил страной в качестве регента
123, 306, 355
Георг IV [нем. Georg August Friedrich, англ. George Augustus Frederick; 1762—1830),
сын предыдущего; король Великобритании и Ирландии, а также король
Ганновера (с 1820 г.) 65, 183, 334, 457
Георги (the Georges), король Георг I (1714—1727 гг.), Георг П (1727—1760 гг.), Георг Ш
(1760-1820 гг.), Георг IV (1820-1830 гг.) 251
Гёте Иоганн Вольфганг фон (Goethe Johann Wolfgang von; 1749—1832), великий
немецкий писатель 10
Гиббон Эдвард (Gibbon Edward; 1737—1794), выдающийся историк, известный в
первую очередь фундаментальным трудом об упадке Римской империи (1776—
1788) 248
Гиффорд Уильям (Gifford William; 1756—1826), поэт-сатирик, филолог; первый
редактор «Ежеквартального обозрения» (1809—1824 гг.) 235, 462
Гоббс Томас (Hobbes Thomas; 1588—1679), знаменитый философ и политический
теоретик 229, 319, 340
Годвин Уильям (Godwin William; 1756—1836), писатель, социальный философ и
журналист; известен главным образом своими общественными воззрениями
утопического характера 170, 316, 465
Голт Джон (Gait John; 1779—1839), шотландский романист 455
Голдсмит Оливер (Goldsmith Oliver; ок. 1728—1774), известный литератор; друг
С. Джонсона 40, 56, 75, 92, 101, 106, 253, 355
Указатель имен
645
Гомер (VIII в. до н. э.), величайший поэт Древней Греции (возможно, легендарная
личность); предполагаемый автор эпических поэм «Илиада» и «Одиссея» 10,
120, 178, 190, 248, 261, 396, 408-411, 458
Гораций (Квинт Гораций Флакк) (Quintus Horatius Flaccus; 65—8 до н. э.), великий
римский поэт 124, 230, 262, 316
Граммон (правильно — Грамон) Филибер, граф де (Gramont Philibert, comte de;
1621—1707), сын Антуана II, графа де Грамона, и Клод де Монморанси-Бут-
виль; французский аристократ; «Мемуары графа де Грамона» — компиляция
в жанре «тайной истории», составленная по-французски Энтони Гамильтоном
и переведенная на английский язык (1714) 222, 223
Грей Томас (Gray Thomas; 1716—1771), поэт-сентименталист, автор «Элегии,
написанной на сельском кладбище» (1751); первым начал научное изучение
кельтской поэзии и создал ряд стилизаций, среди которых неоднократно
упоминаемые Хэзлиттом «Нисхождение Одина» и «Бард» 84, ПО, 215, 241
Грибелин Саймон (Gobelin Simon; 1661—1733), художник-портретист 17, 208
Гримальди Джозеф (Grimaldi Joseph; 1778—1837), клоун и мим; выступал в
театрах Сэдлерз-Уэллз (1780—1828 гг.) и Ковент-Гарден (1806—1822 гг.); слава его
была столь велика, что уменьшительное имя «Джо» закрепилось в языке как
прозвище любого клоуна 309
Гровнор Ричард Гровнор, граф (Grosvenor Richard Grosvenor, 1st Earl; 1731—1802),
аристократ; владелец скаковых лошадей; зачинатель известной во времена
Хэзлитта художественной галереи 195
Гумбольдт Александр, барон фон (Humboldt (Friedrich Wilhelm Heinrich)
Alexander, Freiherr von; 1769—1859), немецкий натуралист и путешественник;
младший брат знаменитого лингвиста Вильгельма фон Гумбольдта; жил в
Париже (с 1808 г.) 352
Гэй Джон (Gay John; 1685—1732), поэт и драматург; наиболее известное его
произведение — «Опера нищих» (1728) 109
Гэй Томас (Guy Thomas; 1644/45—1724), книготорговец, начинал с вывоза
английского печатного издания Библии в Голландию (с 1668 г.); составил себе
состояние на удачных сделках с Акционерной компанией Южных морей; член
парламента ( 1695— 1707 гг.) ; основатель больницы Гэя в Лондоне ( 1720-е годы) 126
Гэнди Уильям (Gandy William; ум. 1729), художник-портретист; обладал
необыкновенным талантом, но отличался ленью и отсутствием честолюбия; многие
его картины были завершены другими художниками 28
Дайот, сэр Томас (Dyot, Sir Thomas; 1590—1659), житель прихода Сент-Джайлз; в
честь него была названа одна из улиц в этом приходе 135
Данте Алшъери (Dante degli Alighieri; 1265—1321), великий итальянский поэт; более
всего известен своей «Божественной комедией» (1310—1314) 408—410, 429
Деккер Томас (Dekker Thomas; ок. 1570—1632), драматург, автор памфлетов 188,
214, 243
Демосфен (384—322 до н. э.), древнегреческий государственный деятель и
дипломат; считается величайшим оратором Древней Греции; противостоял
завоевательной политике царя Филиппа Македонского и его сына Александра 124
646
Приложения
Деннер Бальтазар (Denner Balthasar; 1685—1749), немецкий художник, которого
Хэзлитт в своих очерках не раз упрекал в излишней детализации 151, 267
Деннетт (Dennetts, the Miss), три сестры, игрой которых в театре Ковент-Гарден
Хэзлитт долгое время восхищался, сравнивая их с Венерой и двумя Грациями
181
Дефо Даниэль (Defoe Daniel; 1660—1731), знаменитый писатель, журналист,
памфлетист; более всего известен как автор романа «Робинзон Крузо» (1719—1722)
60, 406
Джейкоб Уильям (Jacob William; ок. 1762—1851), путешественник и писатель 236
Джентльмен Льюис (Gentleman Lewis) — см. Льюис Уильям Томас
Джонсон Бен (Бенджамин) (Jonson Ben (Benjamin); 1572—1637), драматург, поэт,
литературный критик 111, 132, 185, 214, 215, 217
Джонсон Сэмюэл (Johnson Samuel; 1709—1784), известен как доктор Джонсон;
лексикограф, писатель, критик, биограф 40, 146, 164, 202, 211, 251, 270, 333,
355, 363, 391
Джордано Лука (Giordano Luca; 1632—1705), самый знаменитый и плодовитый из
неаполитанских художников XVII в. 144
Джордж — см. Киркпатрик Джордж
Джорджоне (наст, имя — Джорджо Барбарелли да Кастельфранко) (Giorgione
(Giorgio Barbarelli da Castelfranco); ок. 1478—1510), итальянский художник
эпохи Высокого Возрождения 16
Джошуа, сэр — см. Рейнолдс, сэр Джошуа
Дизраэли Исаак (Disraeli (Disraeli) Isaac; 1766—1848), писатель, автор «Литературных
редкостей»; отец известного писателя и политика Бенджамина Дизраэли 236
Диконс Мария (Dickons Maria; 1770—1833), оперная певица; Хэзлитт видел ее на
сцене в 1815 г. и не удостоил высокой оценки 245
Диодати Карло (Diodati Carlo; 1609—1638), друг юности поэта Дж. Милтона 202
Доддингтон (правильнее — Додингтон) Джордж Бебб, лорд Мелкомб (Dodington
George Bubb, Baron Melcombe of Melcombe-Regis; 1691—1762), политический
деятель и дипломат; вел дневник, являющийся ценным историческим
источником о политической жизни Британии той эпохи (опубл. 1784) 113
Доменикино (наст, имя — Доменико Дзампьери) (Domenichino (Domenico Zampie-
ri); 1581—1641), итальянский художник; ведущий представитель барокко в
Риме и Венеции 20, 21, 86
Донат — см. Диодати Карло
Донн Джон (Donne John; 1572—1631), ведущий поэт метафизической школы;
настоятель лондонского собора Св. Павла (с 1621 г.) 336
Доу Герард или Геррит (Dou Gerard или Gerrit; 1613—1675), голландский
живописец эпохи барокко; ведущий представитель Лейденской школы; известен
своими портретами и пейзажами 14
Доу Джордж (Dawe George; 1781—1829), художник-портретист; жил в России
(1819—1828 гг.), где создал порядка 400 портретов, в т. ч. многих героев
войны 1812 г.; Хэзлитт и Лэм считали его бездарностью 300
Драйден Джон (Drydenjohn; 1631—1700), поэт, драматург и литературный критик
227, 242, 243, 247, 282, 406, 461, 462, 465, 466
Указатель имен
647
Драммонд Уильям (Drummond William; 1585—1649), шотландский поэт, писавший
на английском языке; переводил стихи итальянских, испанских и французских
поэтов, использовал старопровансальскую форму кансоны; его друг Бен
Джонсон считал, что стихи Драммонда хороши, но слишком архаичны 196
Дэви, сэр Хамфри (Davy, Sir Humphry, Bart; 1778—1829), блестящий химик;
изобретатель безопасной лампы для шахтеров; первооткрыватель нескольких
химических элементов (включая натрий и калий) и соединений 98
Дэвис Джон (Davies John), игрок в мяч ракеткой 101
Дэвисон Томас (Davison Thomas; 1765—1830), издатель, выпустивший первое
издание «Застольных бесед» (1821-1822) 262
Еврипид (480—406 до н. э.), великий древнегреческий драматург 465
Империаль (точнее — Империали) Франческо Фернанди (Imperiali Francesco Femandi;
1679—1740), итальянский художник, автор полотен анималистического и
исторического жанров, пасторальных сцен с мифологическими персонажами; испытал
влияние Н. Пуссена 145
Ирвинг Вашингтон (Irving Washington; 1783—1859), американский писатель,
историк, эссеист 454
Ирвинг Эдвард (Irving Edward; 1792—1834), шотландский священник мистического
направления, чье учение впоследствии легло в основу так называемой
Католической апостольской церкви — религиозного движения эсхатологического
характера, просуществовавшего до конца XIX в.; служил в Каледонской
церкви в Лондоне, где снискал огромную популярность своими проповедями;
дружил с Карлейлем, Лэмом и Колриджем 416, 450
Йоркский, герцог — см. Яков II
Кавана Джон (Cavanaghjohn; ум. 1819), известный игрок в мяч; Хэзлитт написал
некролог на его кончину (см. в наст. изд. очерк «Индийские жонглеры») 98—
102, 317
Кальме Августин (Calmet Augustine; 1672—1757), французский
монах-бенедиктинец; преподаватель философии, еврейского языка, теологии и истории 88
Каналетто (наст, имя — Джованни Антонио Каналь) (Canaletto (Giovanni Antonio
Canal); 1697—1768), венецианский художник; мастер городского пейзажа; долгое
время жил в Англии (1746—1755 гг.) 108
Каннинг Джордж (Canning George; 1770—1827), государственный деятель
ирландского происхождения; министр иностранных дел (1807—1809, 1822—1827 гг.);
премьерминистр Великобритании (1827 г.) 84, 100, 123, 172-176, 221, 300, 442
Кант Иммануил (Kant Immanuel; 1724—1804), выдающийся немецкий философ
73-74
Кардан (правильно — Кардано) Джероламо или Джеронимо (Cardano Gerolamo или
Geronimo; 1501—1576), итальянский врач, математик и астролог; первым дал
клиническое описание сыпного тифа 88
Карл I (Charles I; 1600—1649), король Великобритании и Ирландии (с 1625 г.), чье ав-
648
Приложения
торитарное правление и разногласия с парламентом вызвали гражданскую
войну, в ходе которой он был казнен 175
Карл II (Charles II; 1630—1685), сын предыдущего; король Великобритании и
Ирландии (с 1660 г.); был восстановлен на троне после изгнания в годы
существования Английской республики и протектората О. Кромвеля 135, 198, 222
Карл V (Karl V; 1500—1558), испанский король под именем Карла I (Carlos I; 1516—
1556 гг.); император — правитель Священной Римской империи (1519—1556 гг.);
проводил политику, направленную на создание всемирной христианской
(«универсальной») монархии; отрекся от обоих престолов 25, 336
Каролина Брауншвейг-Люнебургская (нем. Karoline (Amalie Elisabeth) von Braun-
schweig-Lüneburg, англ. Caroline (Amelia Elizabeth) of Brunswick-Lüneburg; 1768—
1821), супруга короля Георга IV (с 1795 г.), с которым быстро разъехалась; жила
в основном в Италии (с 1814 г.); правительство инициировало законопроект о
разводе с королем и лишении ее титула королевы, однако в результате
длительного процесса (август—ноябрь 1820 г.) билль был отвергнут; не была допущена
на коронацию Георга (19 июля 1821 г.), в связи с чем снискала широкую
популярность, однако скончалась 19 дней спустя 73
Карраччи (Carracci), итальянские художники: два родных брата Аннибале (Carracci
Annibale; 1560—1609) и Агостино (Carracci Agostino; 1557—1602) и их
двоюродный брат Лодовико (Carracci Lodovico; 1555—1619) 20, 26, 27, 140, 195
Картрайт Джон (Cartwrightjohn; 1740—1824), майор ополчения графства
Ноттингемшир; автор большого количества трудов по вопросам парламентской реформы;
выступал за всеобщее и тайное голосование; по воспоминаниям современников,
Хэзлитт глубоко уважал майора за решительность и честность, но считал его
идеи утопическими 70—72
Каслри Роберт Стюарт, виконт, лорд Лондондерри (Castlereagh Robert Stewart,
Viscount, 2nd Marquess of Londonderry; 1769—1822), дипломат и
государственный деятель; министр иностранных дел (1812—1822 гг.); участвовал в
формировании Священного Союза против Наполеона и в Венском конгрессе (1814—
1815 гг.) 101, 123
Каталани Анджелика (Catalani Angelica; 1780—1849), итальянская оперная певица;
некоторое время работала в Лондоне (1806—1814 гг.), где пользовалась
шумным успехом; вторично приезжала в Англию в 1821 г., незадолго до
коронации Георга IV, и пела «Боже, храни короля!» (16 июля) 245
Катон (правильно — Каттон) Старший Чарлз (Catton the Senior (the Elder) Charles;
1728—1798), художник-пейзажист и анималист; учитель рисования короля
Георга III; один из основателей Королевской Академии; сын, Чарлз Каттон
Младший, также был художником 299
Каттерфельто Густав (Katterfelto Gustav; ум. 1799), уроженец Пруссии;
врач-шарлатан, объявившийся в Лондоне (в 1782 г.); прибегал к беззастенчивой рекламе,
играя на доверчивости публики во время эпидемии гриппа; устраивал в разных
городах публичные представления, демонстрируя разнообразные фокусы, а
также физические и химические опыты; его имя стало в английском языке
нарицательным 327
Каули Авраам (Cowley Abraham; 1618—1667), поэт и эссеист, известный
изощренностью слога; первым стал писать пиндарические оды на английском языке 123, 262
Указатель имен
649
Келлерман Франсуа-Кристоф, герцог де Вальми (Kellermann François-Christophe,
duc de Vaîmy; 1735—1820), французский полководец, разбивший при Вальми
прусскую армию (в сентябре 1792 г.), вследствие чего прусские и австрийские
войска отступили, и угроза вторжения их в революционную Францию
миновала; Наполеон удостоил его титула в знак признания заслуг (1808 г.) 135
Кембл Джон Филип (Kemble John Philip; 1757—1823), пользовавшийся популярностью
актер (1776—1817 гг.); руководил театрами Друри-Лейн (1788—1800 гг.) и Ковент-
Гарден (1803—1817 гг.); последние годы жизни провел на континенте 304, 305,
325, 372
Кертис, сэр Уильям (Curtis, Sir William; 1752—1829), стойкий консерватор; друг
короля Георга IV; лорд-мэр Лондона (1795—1796 гг.); член парламента (1790—
1817, 1820-1826 гг.) 125
Киллигрю Томас (Killigrew Thomas; 1612—1683), паж Карла I; камердинер Карла П;
драматург, острослов, руководитель театра 222
Кин Эдмунд (Kean Edmund; 1787—1833), крупнейший актер эпохи романтизма;
прославился ролями шекспировского репертуара 49, 59, 181, 307, 308, 323—325,
372
Киппис Эндрю (Kippis Andrew; 1725—1795), богослов из секты нонконформистов;
биограф путешественника Джеймса Кука; друг преп. У. Хэзлитта, отца писателя,
которому дал рекомендательное письмо для поездки в Америку (1783 г.) 241
Киркпатрик Джордж (Kirkpatrick George), брат Роджера Киркпатрика 217, 218
Киркпатрик Роджер (Kirkpatrick Roger), приятель У Хэзлитта 218, 219
Ките Джон (Keats John; 1795—1821), лирический поэт-романтик 112, 235, 283
Клайв Китти (наст, имя — Кэтрин Рафтор) (Clive Kitty (Catherine Raftor); 1711—
1785), выдающаяся комедийная актриса своего времени; одна из известнейших
сценических партнерш Д. Гаррика 305
Кларендон Франсис Айлесбери, графиня (Clarendon Frances Aylesbury, Countess of;
1617—1667), дочь сэра Томаса Айлесбери; вторая супруга (с 1634 г.) Эдварда
Хайда, графа Кларендона; мать Анны Хайд (1637—1671), первой супруги (с 1660 г.)
герцога Йоркского, будущего короля Якова П 50
Клермонт Уильям (Claremont William; ум. 1832), актер театра Друри-Лейн (1805—
1822 гг.); Хэзлитт рецензировал его игру в спектакле «Школа злословия»
(октябрь 1815 г.) 306
Клод — см. Лоррен Клод
Коббет Уильям (Cobbett William, 1763—1835), публицист, историк, политический
деятель; выступал за парламентскую реформу; противопоставлял ценности
традиционной сельской Англии изменениям, которые несла с собой
индустриальная революция 60-69, 100, 116, 174, 182, 204, 213, 221, 271, 414
Коллинз Уильям (Collins William; 1721—1759), поэт-предромантик; автор лирических
од; вел экстравагантный образ жизни, что привело его к долгам и душевной
болезни 84, 401
Колридж Сэмюэл Тейлор (Coleridge Samuel Taylor; 1772—1834), лирический поэт,
критик, философ; дружил с Хэзлиттом 68, 100, 123, 205, 208, 209, 225, 279-
280,311,326,337,347
Констан (де Ребек) (Анри-)Бенжамен (Constant de Rebecque (Henri-)Benjamin);
1767—1830), франко-швейцарский романист и политический писатель; в моло-
650
Приложения
дости приветствовал Французскую революцию (в 1794 г.); одно время был
противником Наполеона, но Реставрация также его разочаровала; его роман
«Адольф» (1816) считается провозвестником современного психологического
романа 116
Констанца (точнее — Косганци) Плачидо (Costanzi Placido; 1688—1759), итальянский
художник периода позднего барокко 145
Констэбл Арчибальд (Constable Archibald; 1774—1827), знаменитый эдинбургский
издатель и книготорговец; издавал, в числе прочего, «Эдинбургский журнал»
и романы В. Скотта; единоличный владелец Британской энциклопедии (1814—
1826 гг.); отличался щедростью к авторам, из-за чего к концу жизни полностью
разорился 416
Конча (точнее — Конка) Себастьян (Conca Sebastian; 1680-^1764), представитель
позднего неаполитанского барокко; писал монументальные композиции, не
отличающиеся особой содержательностью, но привлекающие звучностью
красок и техникой исполнения 145
Кориэт Томас (Coryate Thomas; ок. 1577—1617), шут при дворе наследного
принца Генри (1594—1612), сына короля Якова I; эксцентричный путешественник
и острослов 272
Корнуолл Барри (Cornwall Barry) — см. Проктер Брайан Уоллер
Королева — см. Каролина Брауншвейг-Люнебургская
Король — см. Георг Ш, Георг IV
Корреджо (наст, имя — Антонио Аллегри) (Correggio (Antonio Allegri); 1494—1534),
итальянский художник эпохи Возрождения (пармская школа), взявший
название родного города в качестве псевдонима; автор многочисленных фресок и
картин главным образом на религиозные и мифологические сюжеты 16, 17,
22, 26, 27, 86, 312, 344, 348, 350
Крайтон Джеймс, получил прозвище Несравненный (Crichton James, the
Admirable; 1560—1582), литератор, знаток множества языков; превосходно ездил верхом
и блестяще владел шпагой; многие считали его образцом шотландского
интеллектуала, другие даже сомневались в существовании подобной личности 55
Кребийон Проспер Жолио, сьер де, Кребийон-отец (Crébillon Prosper Jolyot, sieur de,
Crébillon-père; 1674—1762), драматург, которого современники считали
соперником Вольтера 59
Крибб Том (Cribb Tom; 1781—1848), боксер-чемпион; после ухода на покой (в 1821 г.)
открыл паб «Королевский герб» на углу Дьюк-стрит и Кинг-стрит (квартал Сент-
Джеймс) 60
Крокер Джон Уилсон (Сгокег John Wilson; 1780—1857), политик консервативного
толка; литератор; обозреватель «Ежеквартального обозрения» (1831—1854 гг.);
занимался литературной критикой; в числе прочего крайне неодобрительно
характеризовал поэму «Эндимион» Дж. Китса, поэтический сборник (1832)
А. Теннисона и «Историю Англии» (1849) Маколея 101, 235, 236, 315
Кромвель Оливер (Cromwell Oliver; 1599—1658), полководец и государственный
деятель; лорд-протектор Англии (1653—1658 гг.) 46—47, 97, 107, 120, 123, 124,
199-200, 335
Кроппер Джеймс (Cropper James; 1773-^1840), ливерпульский купец; филантроп;
выступал за отмену рабства негров в Америке 213
Указатель имен
651
Ксенофонт (431 — ок. 350 до н. э.), древнегреческий историк, писатель и
государственный деятель; ученик Сократа; автор сочинений «Анабасис» (о походе
Кира Младшего на Вавилон и отступлении Десяти тысяч греческих
наемников, в которых принимал участие) и «Киропедия» (о воспитании Кира
Великого), а также других литературных и политических работ 121, 124
Куик Джон (Quick John; 1748—1831), комедийный актер театров Хеймаркет, Дру-
ри-Лейн и Ковент-Гарден; выступал на сцене до 1813 г. 305
Купер Уильям (Cowper William; 1731—1800), популярный в свое время поэт; самое
известное произведение — «Задача» (1785) 234, 275
Кэд Джек (Джон) (Cade Jack (John); ум. 1450), предводитель крупного народного
восстания в Англии против короля Генриха VI 310
Кэмелфорд Томас Питт, лорд (Camelford Thomas Pitt, 1st Baron; 1737—1793),
политический деятель; член Палаты общин британского парламента (1761—1784 гг.),
затем Палаты лордов; меценат; двоюродный брат премьер-министра Уильяма
Питта-младшего 135
Ланкло Нинон (наст, имя — Анна) де (Lenclos или Lanclos Ninon (Anne) de; 1620—
1705), знаменитая французская куртизанка 125
Лафонтен Жан де (La Fontaine Jean de; 1621—1695), французский поэт-баснописец;
член Французской академии (1684 г.) 123
Лейбниц Готфрид Вильгельм (Leibniz Gottfried Wilhelm; 1646—1716), немецкий
математик и философ 462
Лели, сэр Питер (наст, имя — Петер ван дер Фес) (Lely, Sir Peter (Pieter van der Faes);
1618—1680), художник голландского происхождения; создал огромное
количество портретов до и после революции, а также во время Реставрации 48
Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci; 1452—1519), выдающийся итальянский
художник и ученый родом из Флоренции; скончался во Франции, куда
приехал по приглашению короля Франциска I (в 1516 г.) 16, 25, 27, 141, 354
Ливии Тит (Livius Titus; 59/64 до н. э. — 17 н. э.), один из трех величайших
историков Древнего Рима; до наших времен из 142 книг, составлявших его сочинение
«История Рима от основания Города», дошли полностью только книги 1—10, 21—
45, остальные известны в отрывках или пересказах 18
Лилло Джордж (Lillo George; 1693—1739), драматург; один из создателей так
называемой мещанской трагедии 399
Листон Джон (Liston John; 1776—1846), известный актер; бывший школьный
учитель 454
Лод Уильям (Laud William; 1573—1645), архиепископ Кентерберийский (с 1633 г.);
советник короля Карла I по религиозным вопросам; преследовал пуритан и
других религиозных диссидентов, за что был казнен по приговору парламента 88
Лойола Игнатий или Иньиго Лопес де (Loyola San Ignacio или Inigo Lopez de;
1491—1556), испанский солдат, ставший священником; один из виднейших
представителей католической Реформации XVI в.; основатель Общества
Иисуса (Ордена иезуитов); канонизирован (1622 г.) 336
Локк Джон (Locke John; 1632—1704), крупный философ; один из основных трудов —
«Опыт о человеческом разумении» (1690) (в подлиннике жанр обозначен словом
«essay», что можно перевести и как «эссе») 39, 74
652
Приложения
Лопе Феликс де Вега Карпио, прозвище — Испанский Феникс (Lope Félix de Vega Car-
pio, El Fénix de Espana; 1562—1635), выдающийся испанский драматург; автор
1,8 тыс. пьес и нескольких сотен мелких драматических произведений (до наших
дней дошла 431 крупная пьеса и 50 небольших) 59
Лоренс, сэр Томас (Lawrence, Sir Thomas; 1769—1830), самый модный художник-
портретист в Англии на рубеже XVIII—XIX вв. 330
Лоренс Эдвард (Lawrence Edward; 1633—1657), сьш Генри Лоренса, председателя
Государственного совета при Кромвеле 201
Лоррен (наст, фамилия — Желле) Клод (Lorrain (Gellée) Claude; 1600—1682),
французский художник; мастер идеалистического пейзажа; поселился в Риме (в
1627 г.) и жил там до самой смерти 12, 19, 25, 32, 47, 55, 86, 105, 144, 183, 195,
223, 236, 352, 353, 403, 466
Лоуз Генри (Lawes Henry; 1596—1662), композитор; друг Дж. Милтона 201
Луве де Кувре Жан-Батист (Louvet de Couvray Jean-Baptiste; 1760—1797),
французский литератор; более всего известен как автор фривольного сочинения
«Похождения кавалера де Фобласа» (1786—1791); оставил мемуары о Французской
революции (1795), переведенные на английский язык под заглавием «Повествование
об опасностях, коим я был подвержен начиная с 31 мая 1793 года» 115
Льюис Уильям Томас (Lewis William Thomas; 1749— 1811), комический актер
театра Ковент-Гарден, прозванный Джентльменом за изысканные манеры; Хэзлитт
восхшцался некоторыми его ролями 258, 305
Лэм Чарлз (псевдоним — Элия) (Lamb Charles; 1775—1834), эссеист и критик; более
всего известен как автор сборника «Очерки Элии»; друг У. Хэзлитта 206, 224,
225, 258, 259, 261, 272, 273, 291, 316, 372, 392, 452, 453, 464-466
Лютер Мартин (Luther Martin; 1483—1546), немецкий монах-августинец; доктор
богословия (1512 г.); выступил с 95 тезисами, в которых изложил основные
положения нового религиозного учения (лютеранства), отрицавшего главные
догматы Католической церкви (1517 г.); был отлучен от Церкви (1521 г.); выступал как
реформатор образования и языка 166, 421
Мадфорд Уильям (Mudford William; 1782—1848), редактор газеты «Курьер»;
театральный критик в «Морнинг кроникл» (1813 г.) 124, 218, 325
Мазарини Джулио (um. Mazzarino или Mazarini Giulio Raimondo, фр. Mazarin Jules;
1602—1661), французский государственный деятель и дипломат; по
происхождению итальянец; кардинал (1641 г.); первый министр Франции (с 1643 г.) 264
Мазаччо (наст, имя — Томмазо ди Джованне ди Симоне Гвиди) (Masaccio (Tommaso
di Giovanni di Simone Guidi); 1401—1428), видный итальянский художник
Раннего Возрождения; работал во Флоренции 54, 140—141, 145
Мак-Адам Джон Лоудон (MacAdam John Loudon; 1756—1836), изобретатель
усовершенствованного двухслойного мощения дорог (в частности, щебеночного
покрытия, которое по-английски получило его имя) 421
Макинтош, сэр Джеймс (Mackintosh, Sir James; 1765—1832), шотландский публицист;
известен тем, что сопровождал Жермену де Сталь в ее поездке по Англии 228
Макреди Уильям Чарлз (Macready William Charles; 1793—1873), один из наиболее
вьадающихся «шекспировских» актеров своего времени; выступал в театре
Ковент-Гарден 307, 308
Указатель имен
653
Мальтус Томас Роберт (Malthus Thomas Robert; 1766—1834), экономист и демограф;
полагал, что рост населения неизбежно приведет к дефициту продовольствия,
и видел выход в строгом контроле над рождаемостью, особенно у бедняков 298
Мандевиль Бернард (Mandeville Bernard; 1670—1733), писатель и философ
голландского происхождения; автор известной «Басни о пчелах» (1723), в которой
демонстрирует, как частные пороки служат общественному благу 60
Манден Джозеф Шеперд (Munden Joseph Shepherd; 1758—1832), комедийный актер
театра Ковент-Гарден (с 1790 г.), затем Друри-Лейн 305, 306
Маннинг Томас (Manning Thomas; 1772—1840), математик, путешественник,
знаток языков; долго странствовал по Индии, Китаю, Тибету; встречался с
Наполеоном на о-ве Св. Елены; друг Ч. Лэма (с 1799 г.) 79
Маратти (правильнее — Маратта) Карло (Maratta Carlo; 1625—1713), ведущий
художник римской школы живописи; один из последних крупных
представителей итальянского барокко 140, 144, 145
Марло Кристофер (Marlowe Christopher; 1564—1593), драматург; один из
предшественников Шекспира; в своих трагедиях («Тамерлан», «Мальтийский еврей»,
«Доктор Фауст») тяготел к изображению сильных, неординарных героев 243,
270, 455
Марстон Джон (Marston John; 1576—1634), драматург; автор сатирических
комедий, трагедий и мелодрам 185
Маунси Джордж (Mounsey George), адвокат; приятель У. Хэзлитта 214, 216, 218
Медичи Ипполито (Medici Ippolito de'; 1511—1535), флорентийский аристократ;
внук Лоренцо Великолепного 21
Менгс Антон Рафаэль (Mengs Anton Raphael; 1728—1779), художник-классицист;
немец по рождению; довольно влиятельный теоретик; долгое время работал
в Италии и Испании; считался едва ли не величайшим художником своего
времени, но слава его была недолгой 145
Мередит (Meredith), игрок в мяч 100
Мериме Анна Луиза Моро, мадам (Mérimée Anne-Louise Moreau, Mme; 1774—
1852), французская художница; супруга художника Жана Франсуа Леонора
Мериме (1757—1836); мать известного писателя, который родился через год
после того, как Хэзлитт прибыл в Париж с рекомендательным письмом к его
отцу 352
Меррей Джон (Murray John; 1778—1843), ведущий лондонский издатель и
книготорговец, представитель существующей и поныне династии, основанной его
отцом; издавал «Ежеквартальное обозрение» и произведения Байрона,
Скотта, Дж. Остин 101, 235
Микеланджело Буонаротти (Michelangelo Buonarotti; 1475—1564), вьщающийся
художник, скульптор, архитектор, инженер и поэт итальянского Возрождения 15,
26, 27, 86, 98, 140, 141, 143, 144, 149, 155-157, 164, 236, 328, 410
Милани (Milanie), французская танцовщица 182
Милтон Джон (Milton John; 1608—1674), великий поэт; политический деятель при
Кромвеле 51, 78,85,89, 97,109,113,120,124,183,191,196-202, 233,243,249,250,
348, 404, 415
Мольер (наст, имя — Жан-Батист Поклен) (Molière (Jean-Baptiste Poquelain); 1622—
1673), выдающийся французский драматург 58—59, 97, 98, 125, 219
654
Приложения
Монтгомери Джеймс (Montgomery James; 1771—1854), автор религиозных гимнов
и знаменитых переложений псалмов; редактор журнала «Шеффилдский
ирис»; дважды сидел в тюрьме по политическим обвинениям 176
Монтегю, миссис — см. Скеппер Анна Доротея Бенсон
Монтень Мишель Эйкем де (Montaigne Michel Eyquem de; 1533—1592),
французский писатель; более всего прославился сочинением «Опыты» (1580) 68, 98, 262
Моцарт Вольфганг Амадей (Mozart Wolfgang Amadeus; 1756—1791), выдающийся
австрийский композитор 86
Мур Томас (Moore Thomas; 1779—1852), поэт ирландского происхождения;
близкий друг Байрона 77, 429, 455, 461—462
Мур Эдвард (Moore Edward; 1712—1757), драматург; один из создателей так
называемой мещанской трагедии 399
Мурильо Бартоломе Эстебан (Murillo Bartolomé Esteban; 1618—1682), испанский
живописец, прославившийся религиозными и жанровыми картинами 244
Мэннерз-Саттон Чарлз, лорд Кентербери (Manners-Sutton Charles, 1st Viscount
Canterbury, 1780—1845), политический деятель, принадлежавший к партии тори;
спикер палаты общин британского парламента (1817—1835 гг.) 102
Мэтьюз, мисс (Mattews, Miss), актриса 324
Мэтьюз Чарлз (Mathews Charles; 1776—1835), один из ведущих комических актеров
своего времени; славился остроумием и пародийным талантом; друг С.-Т. Кол-
риджа и Лэмов 302, 308
Найт Томас (Knight Thomas; ум. 1820), актер театра Ковент-Гарден 316
Наполеон I (полное имя — Наполеон Бонапарт) (um. Napoleone Buonaparte, фр.
Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier; 1769—1821), великий французский государственный
деятель и полководец 106, 107, 116, 120, 123,* 195, 219, 256, 264, 267, 352
Нельсон Горацио, лорд Нельсон, герцог Бронте (Nelson Horatio, Viscount Nelson,
duca di Bronte; 1758—1805), знаменитый флотоводец 98
Николсон Уильям (Nicholson William; 1753—1815), химик; первооткрыватель
гидролиза воды; был известен также как инженер-гидравлик, изобретатель,
переводчик и основатель первого независимого научного журнала («Журнал
естественной философии, химии и искусств», 1797) 105
Новелло Мэри Сабилла Хель, миссис (Novello Mary Sabilla Hehl, Mrs.; 1787—1854),
супруга дирижера и музыкального издателя Винсента Новелло (1781—1861) 453
Норткот Джеймс (NorthcoteJames; 1746—1831), художник; ученик сэра Дж. Рейнолд-
са, о котором оставил воспоминания (1813) 15, 76, 327—328, 351
Ньютон, сэр Исаак (Newton, Sir Isaac; 1642—1727), выдающийся ученый 74, 97,265, 336
Нэпьер Джон (Napier John; 1550—1617), математик; изобретатель логарифмов 97
Овидий (Публий Овидий Назон) (Publius Ovidius Naso; 43 до н. э. — 17/18 н. э.),
вьвдающийся древнеримский поэт 242
Оливер Том (Oliver Tom; 1782—1864), боксер 49
Опи Джон (Opie John; 1761—1807), популярный в кон. XVIII в. художник; автор
портретов и картин на исторические темы 15, 92—93, 328
Оранский Биллем Хендрик (Вильгельм Генрих), принц (нид. Oranje Willem
Hendrik, Prins van, англ. Orange William Henry, Prince of; 1650—1702), штатгальтер
Указатель имен
655
Соединенных провинций; король Англии под именем Вильгельма Ш (William Ш;
1689-1702 гг.) 246
Оссиан (правильнее — Ойсин) (Oisin; Ш в.), легендарный кельтский бард;
шотландский поэт Джеймс Макферсон (1736—1796) выпустил ставшую чрезвычайно
популярной в Европе книгу «Песни Оссиана» (1765), которую выдал за
памятник древней поэзии; споры о подлинности и источниках этих произведений
продолжались вплоть до сер. XX в. 219, 408, 411
Отвей Томас (Otway Thomas; 1652—1685), драматург 59
Огон Марк Сальвий (Otho Marcus Salvius; 32—69), 7-й римский император (15
января — 16 апреля 69 г.); покончил жизнь самоубийством после решающего
поражения в борьбе с Вителлием, другим претендентом на императорский
престол 330
Оуэн Роберт (Owen Robert; 1771—1858), социалист-утопист и филантроп,
пытавшийся построить на практике модель идеального общества на своей текстильной
фабрике в Нью-Ланарке (Шотландия), которой владел с 1800 г.; Хэзлитт
посетил Нью-Ланарк в апреле 1822 г. 76—77, 450
Парме джано (точнее — Пармиджано, совр. — Пармиджанино) (наст, имя — Джиро-
ламо Франческо Мария Маццола (у Вазари — Маццуоли)) (Parmigianino, П (Giro-
lamo Francesco Maria Mazzola (Mazzuoli)); 1503—1540), знаменитый итальянский
художник и алхимик; представитель маньеризма 27
Парр Сэмюэл (Parr Samuel; 1747—1825), священник и педагог, пламенный виг по
политическим убеждениям 64, 85
Пауэлл (Powell), владелец площадки для игры в мяч 101, 102, 316
Пейли Уильям (Paley William; 1743—1805), англиканский священник и философ;
автор трактатов «Взгляды на христианские свидетельства» (1794) и
«Естественная теология» (1802) 222, 441
Пейн Томас (Paine Thomas; 1737—1809), просветитель, автор политических
памфлетов; участник Войны за независимость в Америке 61, 62, 67, 68, 78
Пейнтер Эдвард (Painter Edward; 1784—1852), боксер 49
Пембруки (the Pembrokes), графское семейство, родоначальником которого стал сэр
Уильям Герберт (1506—1570), граф Пембрук (с 1551 г.); существует по сей день 19
Перу (Peru), игрок в мяч 100
Перуджино (наст, фамилия — Ваннуччи) Пьетро (Perugino (Vannucci) Pietro; ок. 1450—
1523), ведущий художник итальянской умбрийской школы (Перуджа — главный
город Умбрии, откуда и прозвище) 141
Петрарка Франческо (Petrarca Francesco; 1304—1374), великий итальянский поэт;
один из первых гуманистов Возрождения 196, 310
Пиль, сэр Роберт, баронет (Peel, Sir Robert, 2nd Baronet; 1788—1850), политический
деятель; министр по делам Ирландии (1812—1818 гг.); министр внутренних дел
(1822-1827, 1828-1830 гг.); премьер-министр (1834-1835, 1841-1846 гг.);
основатель Консервативной партии 102, 421
Пиндар (522/518—448/438 до н. э.), древнегреческий поэт-лирик родом из Фив 205
Пиндар Питер (Pindar Peter) — см. Уолкот Джон
Питт (Младший) Уильям (Pitt (the Younger) William; 1759—1806), премьер-министр
Англии (1783-1801, 1804-1806 гг.) 42, 123
656
Приложения
Платон (428/427—348/347 до н. э.), великий древнегреческий философ-идеалист;
ученик Сократа; идеолог демократии; автор ряда сочинений, среди которых
наиболее известен диалог «Государство» 221, 396, 444
Плиний Старший (полное имя — Гай Плиний Секунд) (Gaius Plinius Secundus (Major);
23—79), римский писатель, автор сочинения «Естествознание» («Естественная
история») 1бЗ, 268
Плутарх (ок. 46 — ок. 120), знаменитый древнегреческий биограф, историк,
моралист; наиболее известны его «Сравнительные жизнеописания» 114
Порсон Ричард (Porson Richard; 1759—1808), филолог, выдающийся знаток
античности 85,222,232
Поуп Александр (Pope Alexander; 1688—1744), знаменитый поэт и сатирик 37, 218,
227, 234, 247-249, 278, 400, 406, 430
Придо Хамфри (Prideaux Humphrey; 1648—1724), доктор богословия; настоятель
собора в Норидже (графство Норфолк); автор антиисламской «Жизни
Магомета» (1697) и сочинения «Ветхий и Новый Заветы, встроенные в историю
евреев и соседних народов» (1715—1717) 88
Притчард Ханна (Pritchard Hannah; 1711—1768), известная актриса; партнерша Д. Гар-
рика 305
Проктер Брайан Уоллер (псевдоним — Барри Корнуолл) (Procter Bryan Waller; 1787—
1874), адвокат; поэт; некоторые его произведения перевел или выбрал в
качестве образца для подражания A.C. Пушкин 225
Пуссен Никола (Poussin Nicolas; 1594—1665), французский живописец 19, 21, 48, 86,
190-195
Пуфендорф Самуэль, барон фон (Pufendorf Samuel, Freiherr von; 1632—1694),
немецкий историк и юрист; автор ряда трудов по естественному праву и праву
народов 88
Пьерино (точнее — Перино или Перин) дель Вага (наст, имя — Пьеро Бонаккорси)
(Perino (Perin) del Vaga (Piero Bonaccorsi); 1501—1547), итальянский художник-
маньерист Позднего Возрождения; среди прочего помогал Рафаэлю работать
над фресками в Ватикане 141
Пэрри Джеймс (PerryJames; 1756—1821), редактор и владелец «Морнинг кроникл»,
где Хэзлитт некоторое время работал театральным критиком 323—325
Рабле Франсуа (Rabelais François; ок. 1494—1553), знаменитый французский писатель
и гуманист; более всего известен своими пятью романами о Гаргантюа и
Пантагрюэле 98, 123
Радклиф Анна Уорд, миссис (Radcliffe Ann Ward, Mrs.; 1764—1823),
писательница; автор готических романов, признанных шедеврами этого жанра 325
Расин Жан (Racine Jean; 1629—1699), выдающийся французский драматург 58—59, 248
Рафаэль (полное имя — Рафаэль Санти) (Raffaello Sanzio; 1483—1520), великий
итальянский живописец 17, 20, 27, 49, 54, 86, 140, 141, 149, 156, 157, 162, 178,
183, 184, 193, 195, 236, 245, 288, 299, 326, 328, 354, 403, 404, 414
Рейнолдс, сэр Джошуа (Reynolds, Sir Joshua; 1723—1792), художник-портретист,
оказавший большое влияние на развитие живописи в Англии; первый
президент Королевской академии (с 1768 г.) 13, 17, 28, 38, 40, 41, 54^56, 92, 94, 137-
164, 178, 190, 224, 232, 237, 299, 300, 327, 333, 355, 410
Указатель имен
657
Рейсдал Якоб ван (Ruisdael, Ruysdael или Ruijsdael Jacob Isaackszoon van; ок. 1628—
1682), голландский живописец и график, крупнейший мастер реалистического
пейзажа 20
Рембрандт Харменс ван Рейн (Rembrandt Harmensz van Rijn; 1606—1669),
выдающийся голландский живописец 12, 13, 17, 19, 52, 53, 55, 138, 151, 195, 344, 350,
351
Рени Гвидо (Reni Guido; 1575—1642), живописец раннего итальянского барокко 19,
20, 24, 27, 86, 140, 157, 195, 244, 299, 402
Рец Жан Франсуа Поль де Гонди, кардинал де (Retz Jean-François-Paul de Gondy,
cardinal de; 1613—1679), коадъютор архиепископа Парижского, затем архиепископ
(1654—1661 гг.); один из вождей Фронды; кардинал (1652 г.); аббат Сен-Дени (с
1662 г.); автор знаменитых мемуаров 264
Рид Томас (Reid Thomas; 1710—1796), шотландский философ; рассматривал вопросы
этики и сознания с позиций рационализма и здравого смысла 75
Рикман Джон (Rickman john; 1771—1840), государственный чиновник; специалист
по статистике 453
Ричардсон (Старший) Джонатан (Richardson the Elder Jonathan; 1665—1745),
художник-портретист 15, 25, 27
Ричардсон Сэмюэл (Richardson Samuel; 1689—1761), известный писатель эпохи
сентиментализма 103-104, 121, 250, 262, 407
Ричер (Richer), канатоходец, выступавший в театре 92, 94
Ричмонд Чарлз Леннокс, герцог (Richmond Charles Lennox, 3rd Duke of; 1735—1806),
политический деятель, выступавший за реформу британского парламента 176
Роберте Уильям (Roberts William; 1767—1849), адвокат и литератор 430
Робеспьер Максимилиан Мари Изидор де (Robespierre Maximilien Marie Isidore de;
1758— 1794), деятель Французской революции 1789— 1792 гг. 115
Роджерс Сэмюэл (Rogers Samuel; 1763—1855), поэт; известен более всего как
мастер застольной беседы и друг многих выдающихся людей того времени,
которым не раз помогал; после смерти Вордсворта был выдвинут на должность
поэта-лауреата, но отказался ее принять 248
Роза Сальватор (Rosa Salvator; 1615—1673), итальянский живописец 19, 55
Россо (наст, имя — Джованни Баттиста ди Якопо Россо) (Б Rosso или Rosso Fiorentino
(Giovanni Battista di Jacopo Rosso); 1495—1540), художник и декоратор;
представитель раннего маньеризма 141
Росций (Квинт Росций Галл) (Quintus Roscius Gallus; ок. 126—62 до н. э.),
древнеримский актер 325
Роуз Уильям (Rose William; 1719—1786), шотландский критик, журналист,
переводчик 241
Роуз, миссис (Rose, Mrs.), супруга предыдущего 241
Рочестер Джон Уилмот, граф (Rochester John Wilmot, 2nd Earl of; 1647—1680),
аристократ; друг короля Карла II; либертин и поэт, прославившийся
сатирическими и непристойными сочинениями 96
Рубенс Петер Пауль (Rubens Pieter Paul; 1577—1640), выдающийся голландский
живописец 16, 19, 21, 26, 27, 86, 120, 152, 193-195, 328, 350, 352, 353
Руссо Жан-Жак (Rousseau Jeanjacques; 1712—1778), выдающийся французский
философ эпохи Просвещения 31, 108, 444
658
Приложения
Рэднор Уильям Плейделл-Боувери, граф (Radnor William Pleydell-Bouverie, 3rd Earl
of; 1779-1869), аристократ 19
Рэндалл Джек (Randall Jack; 1794—1828), один из первых профессиональных
боксеров 224
Сакки Андреа (Sacchi Andrea; 1599—1661), ведущий представитель классицизма
в римской живописи XVII в. 140, 145
Сальватор — см. Роза Сальватор
Сальмазий Клавдий (Сомез Клод де) (фр. Saumaise Claude de, лат. Salmasius
Claudius, 1588—1653), французский ученый, эрудит, специалист по древним языкам;
ответом на его критику парламентского правления в Англии и прославление
абсолютной монархии в трактате, написанном в защиту Карла I (1649), стал
трактат Дж. Милтона «Защита английского народа» 198
Сарратт Джейкоб Генри (Sarratt Jacob Henry; 1772—1819), учитель по профессии;
шахматы были одним из его разнообразных хобби; известен также рядом книг
по шахматам и не слишком удачными переводами 218, 219
Сарто Андреа дель (наст, имя — Андреа д'Аньоло) (Sarto Andrea del (Andrea d'Agn-
olo); 1486—1530), видный итальянский художник 16, 141
Саути Роберт (Southey Robert; 1774—1843), поэт; друг Вордсворта и Колриджа 77, 170,
198, 453
Свифт Джонатан (SwiftJonathan; 1667—1745), выдающийся гшсатель-сатирик 60, 247
Сервантес Сааведра Мигель де (Servantes Saavedra Miguel de; 1547—1616),
знаменитый испанский писатель и драматург; более всего известен романом «Дон-
Кихот» 97
Серрей Генри Говард, граф (Surrey Henry Howard, Earl of; 1517—1547), аристократ,
поэт; кавалер ордена Подвязки (1541 г.); был казнен по подозрению в
государственной измене 96
Сеттл Элкана (Settle Elkanah; 1648—1724), поэт и драматург, произведения
которого Поуп осмеял как воплощение скуки 400
Сиббер Колли (Cibber Colley; 1671—1757), актер, драматург и театральный
менеджер; поэт-лауреат (с 1730 г.); король болванов в окончательном варианте «Дун-
сиады» А. Поупа 20
Сиддонс Сара Кембл, миссис (Siddons Sarah Kemble, Mrs.; 1755—1831), одна из
величайших трагических актрис (1775—1819 гг.); сестра Дж.-Ф. Кембла 59, 98,
305, 342
Сидни Алджернон (Sidney Algernon; 1622—1683), потомок знаменитого поэта сэра
Филипа Сидни; политический теоретик республиканских убеждений; был
казнен за предполагаемое участие в заговоре против короля; вина его не
подтвердилась, и Сидни стал для радикалов героем-мучеником 421
Сидни, сэр Филип (Sidney, Sir Philip; 1554—1586), крупнейший поэт; автор цикла
остроумных и изысканных сонетов «Астрофил и Стелла» с ярко
выраженными автобиографическими мотивами; был смертельно ранен на войне в
Голландии 196
Симмонс Сэмюэл (Simmons Samuel; ок. 1777—1819), актер театра Ковент-Гарден 316
Скалигер Йозеф Юстус (Scaliger Joseph Justus; 1540—1609), голландский филолог и
историк 88
Указатель имен
659
Скеппер Анна Доротея Бриджет Бенсон, миссис Монтэпо (Skepper Anna Dorothea
Bridget Benson, Mrs. Montagu; 1773—1856); в первом браке (примерно с 1799 г.) —
супруга адвоката Томаса Скеппера; во втором — третья супруга (с 1808 г.)
Бэзила Монтэпо, внебрачного сына лорда Сандвича и некой мисс Рей; ее дочь от
первого брака вышла замуж за поэта Барри Корнуолла 453
Скеффиштон, сэр Ламли Сент-Джордж (Skeffington, Sir Lumley St. George; 1771—
1850), драматург; друг короля Георга IV 18
Скиннер Сайриэк (Skinner Cyriack; 1627—1700), молодой человек, работавший у
ослепшего Милтона секретарем и чтецом; друг и ученик поэта 199
Скотт, сэр Вальтер (Scott, Sir Walter; 1771—1832), знаменитый шотландский романист
54, 76, 183, 233, 247, 412-427, 431-433, 458
Скотт Джон (Scott John; 1783—1821), редактор «Лондонского журнала»; погиб на
дуэли 414, 453
Смёрк, сэр Роберт (Smirke, Sir Robert; 1781—1867), архитектор; перестроил театр
Ковент-Гарден (1809 г.) 308
Смит Адам (Smith Adam; 1723—1790), выдающийся экономист-теоретик 59
Сократ (469—399 до н. э.), выдающийся древнегреческий философ 124
Сомерс Джон, барон Сомерс (Somers John, Baron Somers; 1651—1716), политик;
лидер влиятельной радикальной группировки 421
Софокл (ок. 496—405 до н. э.), великий древнегреческий драматург 124
Спайнс Джек (Spines Jack), игрок в мяч 101
Спенс Джозеф (Spence Joseph; 1699—1768), критик; друг поэта А. Поупа; оставил
о нем воспоминания (1820) 37
Спенсер Эдмунд (Spenser Edmund; ок. 1552—1599), выдающийся поэт 125, 126, 320,
415, 455
Стаббс Джордж (Stubbs George; 1724—1806), выдающийся анималист и автор
трудов по анатомии для художников 299
Стаффорд Джордж Грэнвилл Ливсон-Гауэр, маркиз, герцог Сазерленд (Stafford
George Granville Leveson-Gower, Marquis of, 1st Duke of Sutherland; 1758—1833),
владелец галереи, частично унаследованной им от дяди, герцога Бриджуотера
(в 1803 г.); галерея содержала многочисленные полотна старых мастеров (в т. ч.
часть Орлеанской галереи) и была открыта для ограниченного доступа в 1806 г.
(Хэзлитт написал о ней в одном из очерков) 195
Стен Ян (Хавиксзон) (Steen Jan (Havickszoon); ок. 1626—1679), голландский
живописец, считающийся по значимости третьим после Рембрандта и Хальса
художником из тех, которые изображали сцены повседневной жизни; отличительной
особенностью его картин является юмор 14
Стендаль (наст, имя — Анри Мари Бейль) (Stendhal (Henri Marie Beyle); 1783—1842);
французский писатель; Хэзлитт был знаком с ним, и Стендаль восхищался его
очерками о шекспировских персонажах 316
Стерлинг Эдвард (псевдоним — Ветус) (Sterling Edward; 1773—1847), журналист;
долгое время работал в газете «Тайме» 316
Стерн Лоренс (Sterne Laurence; 1713—1768), известный писатель эпохи
сентиментализма 29, 60, 180, 204, 250, 307, 355
Стефан Блуасский (Stephen of Blois; ок. 1096—1154), внук Вильгельма Завоевателя;
последний нормандский король Англии (1135—1154 гг.) 420
660
Приложения
Стивене Кэтрин, графиня Эссекс (Stephens Catherine, Countess of Essex; 1794—1882),
актриса и певица, исполнительская манера которой очень нравилась Хэзлитту;
выступала в театрах Ковент-Гарден (1813—1822 гг.) и Друри-Лейн (1823—1827 гг.)
245, 323, 324
Стиль, сэр Ричард (псевдоним — Исаак Бикерстафф) (Steele, Sir Richard; 1672—
1729), эссеист, драматург, журналист и политический деятель; наиболее
известен как главный автор (наряду с Дж. Аддисоном) журналов «Татлер»
(«Болтун») и «Спектейтор» («Зритель») 355
Стрингер Дэниел (Stringer Daniel; 1754—1806), художник-портретист 28
Стюарт Дугальд (Stewart Dugald; 1753—1828), шотландский философ, представитель
«школы здравого смысла»; следуя Риду, утверждал, что философия должна
быть научной дисциплиной, свободной от метафизических спекуляций.
Находил сходство между математическими аксиомами и принципами
человеческого мышления 75
Стюарт Франсис Тереза, герцогиня Ричмонд и Леннокс (Stewart или Stuart Frances
Teresa, Duchess of Richmond and Lennox; 1648—1702), красавица при дворе Карла
II, отказавшаяся стать королевской любовницей; супруга (с 1667 г.) Чарлза
Сюарта, герцога Ричмонда и Леннокса; ее лицо послужило оригиналом для
образа Британии на одной из памятных медалей, отчеканенных по приказу
Карла П 222
Стюарты (the House of Stuart), европейский королевский дом; сначала правили
только в Шотландии (1371-1603 гг.), затем и в Англии (1603-1649, 1660-1714 гг.)
175, 417, 419
Сципион Африканский (Старший) Публий Корнелий (Publius Cornelius Scipio Afri-
canus; 235—183 до н. э.), выдающийся полководец Древнего Рима,
государственный деятель; победитель Ганнибала в битве при Заме (202 г. до н. э.) 429
Таббс (Tubbs) — см. Стаббс Джордж
Такер Авраам (псевдоним — Эдвард Сёрч (от англ. search — поиск)) (Tucker
Abraham; 1705—1774), философ-утилитарист; ученик Локка; автор сочинений
«Преследуя свет природы» и «Гласные звуки»; Хэзлитт выпустил «Свет природы»
в сокращенном виде в 1807 г. 17, 115, 361, 441
Талл Джетро (Tulljethro; 1674—1741), изобретатель и новатор сельского хозяйства,
способствовавший наступлению аграрной революции в Великобритании 116
Талейран-Перигор Шарль Морис де, князь и герцог Беневентский (Talleyrand-Péri-
gord Charles-Maurice de, prince et duc de Bénévent; 1754—1839), выдающийся
французский дипломат и государственный деятель 256
Тамерлан (1336—1405), монгольский завоеватель, сумевший покорить земли от
Индии и России до Средиземного моря 330
Тассо Торквато (Tasso Torquato; 1544—1595), великий итальянский поэт; более
всего известен своей эпической поэмой «Освобожденный Иерусалим» 429
Тейлор (Taylor), агент правительства, следивший за неблагонадежными 42
Тейлор Джон (Джек) (TaylorJohn; 1757—1832), литератор; владелец ультраправой
газеты-«Сан» (1813-1825 гг.) 237
Тейлор Джон (Taylor John; 1781—1864), эссеист, издатель; вместе со своим
партнером Дж. Хесси выпустил в свет сборники очерков У. Хэзлитта об авторах ко-
Указатель имен
661
медий, английских поэтах и шекспировских персонажах; печатал произведения
Дж. Китса, Ч. Лэма, СТ. Колриджа 112
Тейт Наум (Tate Nahum; 1652—1715), ирландский драматург и поэт; поэт-лауреат
Англии (с 1692 г.) 392
Теллусон Питер (Thellusson Peter; 1737—1797), автор знаменитого завещания 130
Телуолл Джон (Thelwall John; 1764—1834), преподаватель ораторского мастерства;
был подвергнут суду по обвинению в государственной измене, однако оправдан
5 декабря 1794 г. 42—43
Терлоу Эдвард, лорд Терлоу (Thurlow Edward, 1st Baron Thurlow (of Ashfield and
Thurlow); 1731—1806), государственный деятель; лорд-канцлер Англии (1778—
1783, 1783—1792 гг.); прославился скорее своими ораторскими способностями,
нежели мудростью правоведа 62
Тициан Вечеллио (Tiziano Vecellio; ок. 1488—1576), великий итальянский живописец
16, 20-22, 24, 25, 27,48, 86,126,149-151, 153,154, 195, 244, 336, 403,418, 456, 460
Тобин Джон (Tobin John; 1770—1804), драматург; автор популярной пьесы
«Медовый месяц» (1804) 222
Томас — еж. Хилл Томас (Томми)
Томкинс Томас (Tomkins Thomas; 1743—1816), знаменитейший каллиграф своего
времени, славившийся изобретательностью и свободной манерой; много лет вел
каллиграфическую школу в Лондоне 238
Тюдоры (the Tudors), королевская династия, сменившая династию Иорков; ее
представители правили Англией с 1485 по 1603 г. 175
Уайетт Бенджамин Дин (Wyatt Benjamin Dean; 1775—1850), архитектор;
перестроил театр Друри-Лейн (1811 г.) 308
Уиклиф Джон (Wycliffejohn; ок. 1330—1384), философ, теолог, реформатор
Церкви; предшественник протестантизма 421
Уилки, сэр Дэвид (Wilkie, Sir David; 1785—1841), шотландский художник,
следовавший в своих портретах и жанровой живописи голландским традициям 23, 108,
288, 300
Уилсон Ричард (Wilson Richard; 1714—1782), пейзажист, унаследовавший элементы
классического стиля; один из основателей Королевской академии 12, 108, 222,
300, 466
Уиндэм Уильям (Windham William; 1750—1810), политик, оратор, член парламента;
друг Э. Бёрка и С. Джонсона; автор известного дневника и сборника речей
(1812), которыми восхищался У. Хэзлитт 42, 165
Уитгифт Джон (Whitgift John; ок. 1530—1604), архиепископ Кентерберийский (с
1583 г.) 88
Уитер Джордж (Wither George; 1588—1667), автор песен, гимнов и пуританских
памфлетов 54
Уиттл, доктор (Whittle, Dr.), врач 219
Уиттл, миссис (Whittle, Mrs.), супруга предыдущего 219
Уолкот Джон (псевдоним — Питер Пиндар) (Wolcotjohn; 1738—1819), врач по
образованию; сатирик; считался мастером стихотворной карикатуры; особенно ему
удавались «портреты» художников 92—93, 237
Уолпол Хорее (наст, имя — Горацио), граф Орфорд (Walpole Horace (Horatio), 4th Earl
662
Приложения
of Orford; 1717—1797), талантливый писатель, коллекционер, знаток искусств;
оставил обширную переписку с друзьями, содержащую любопытные сведения об
исторических событиях, жизни и нравах его эпохи 233
Уорминстер, мисс (Warminster, Miss), одна из дам при дворе Карла II 222
Уортон Томас (Warton Thomas; 1728—1790), поэт; автор первой научной истории
английской поэзии 197
Уотерленд Дэниел Косгроув (Waterland Daniel Cosgrove; 1683—1740), богослов;
архидиакон графства Миддлсекс; вопреки сообщению Хэзлитта, епископом
не был 88
Урцей Антоний Кодр (Urceus Antonius Codrus; 1446—1500), итальянский гуманист;
преподавал в Болонье, где у него учился, в частности, Н. Коперник 265
Уэйнрайт Томас Гриффите (псевдоним — Янус Уэзеркок) (Wainewright Thomas
Griffiths; 1794—1852), художник и эссеист; автор статей для «Лондонского журнала»
180-182
Уэллс Чарлз Джеремия (Wells Charles Jeremiah; ок. 1799—1879), поэт и юрист; друг
Китса и Хэзлитта; оплатил надгробный памятник последнего 222, 223
Уэст Бенджамин (West Benjamin; 1738—1820), живописец; американец по рождению;
автор картин на исторические, мифологические и религиозные сюжеты;
основал Королевскую академию художеств и был ее президентом после сэра
Джошуа Рейнолдса; известен также тем, что одним из первых начал изображать
героев новейшей истории в современных, а не условно-классических костюмах
192, 321, 328, 334
Уэстолл Ричард (Westall Richard; 1765—1836), художник; автор картин на
фантастические и исторические сюжеты; первый учитель рисования королевы
Виктории; иллюстратор поэм В. Скотта «Мармион» и «Владыка островов», а
также произведений Дж. Милтона, Дж. Томсона, О. Голдсмита, У Купера и
многих других авторов 208, 414
Фаррингтон (правильнее — Фарингтон) Джозеф (Farington Joseph; 1747—1821),
пейзажист; секретарь Королевской академии живописи 299
Фемистокл (537—459 до н. э.), афинский государственный деятель и полководец
периода греко-персидских войн (500—449 гг. до н. э.) 96
Фердинанд VII (Fernando VII; 1784—1833), король Испании (с 1808 г.); во время
наполеоновских войн находился в плену во Франции 176
Ферн Джон (Fearn John; 1768—1837), морской офицер, путешественник; первый
европеец, ступивший на землю о-ва Науру; владел плантациями индиго в
Бенгалии; в зрелом возрасте проявил интерес к философии; был знаком с
Хэзлиттом 74, 75, 289
Ферфакс Томас, барон Ферфакс (Fairfax Thomas, 3rd Baron Fairfax (of Cameron);
1612—1671), военачальник парламентской армии, подавивший мятеж роялистов
в Колчестере (1648 г.) 199
Фидий (ок. 490 — ок. 430 до н. э.), великий древнегреческий скульптор и
архитектор; друг Перикла 86, 268
Филдинг Генри (Fielding Henry; 1707—1754), известный писатель 250, 262
Флетчер Джон (Fletcher John; 1579—1625), драматург; часто работал в
сотрудничестве с Ф. Бомонтом 225, 243, 455
Указатель имен
663
Фокс Гай (Fawkes Guy; 1570—1606), солдат, обратившийся в католичество и
воевавший в испанской армии; наиболее известный из участников так наз.
«Порохового заговора» (1605 г.); казнен за участие в нем; Хэзлитт посвятил ему очерк
419, 450
Фокс Чарлз Джеймс (Fox Charles James; 1749—1806), оппозиционный политик,
борец за свободу; многие его начинания не имели успеха; Хэзлитт видел Фокса
в Лувре в 1802 г. 123, 437
Форд Джон (Ford John; ок. 1586 — ок. 1640), крупный драматург периода
Реставрации 243, 455
Фосетт Джозеф (Fawcett Joseph; ок. 1758—1804), священник Унитарной церкви и
поэт; считался талантливым оратором и проповедником (среди его
почитателей были актеры Дж.-Ф. Кембл и С. Сиддонс); ушел на покой (ок. 1795 г.) и
стал фермером в Эджгроуве (графство Хартфордшир), где познакомился с
Хэзлиттом; послужил У. Вордсворту прототипом для фигуры Отшельника в
«Прогулке» 249-250, 336, 454
Франциск I (François Ier; 1494—1547), король Франции (с 1515 г.) 25
Фукидид (460—400 до н. э.), древнегреческий историк 229, 230
Фуллер Томас (Fuller Thomas; 1608—1661), ученый и проповедник; автор
исторических трудов, которые основывал на тщательном изучении первоисточников
и щедро уснащал эпиграммами, анекдотами, любопытными фактами 272
Фюзели Генри (наст, имя — Иоганн Генрих Фюссли) (Fuseli Henry (Johann Heinrich
Fuessli), 1741—1825), художник швейцарского происхождения, известный
причудливыми сюжетами картин и странными напряженными позами героев;
самое известное полотно — «Ночной кошмар» 15, 299, 328
Хайд Эдвард, граф Кларендон (Hyde Edward, 1st Earl of Clarendon; 1609—1674),
государственный деятель и историк; отец Анны Хайд, первой супруги
английского короля Якова П 50
Хант (Джеймс Генри) Ли (Hunt (James Henry) Leigh; 1784—1859), эссеист, критик,
журналист, поэт; редактировал влиятельные журналы; друг У. Хэзлитта 79,
96, 224, 287, 316, 453, 461-464
Хантер Джон (Hunter John; 1728—1793), видный хирург; основоположник
английской школы патологической анатомии; сторонник экспериментальных
исследований в медицине (провел множество оригинальных опытов в области
сравнительной биологии, анатомии, физиологии) 98
Хардинг Джем. (HardingJem.), игрок в мяч с ракеткой 101
Харрингтон (правильнее — Хариштон) Джон (Harington John; 1561—1612),
придворный Елизаветы I, писатель, переводчик «Неистового Роланда» Ариосто (1591)
352
Хейдон Бенджамин Роберт (Haydon Benjamin Robert; 1786—1846); художник;
известен полотнами на исторические сюжеты 299, 453, 454
Хесси Джеймс Огастес (Hessey James Augustus; 1785—1870), издатель; партнер
Джона Тейлора 112
Хилл Томас (Томми) (Hill Thomas (Tommy); 1760—1840), известный библиофил и
весельчак; приятель Л. Ханта и У Хэзлитта; посещал лекции последнего об
английских поэтах (в 1818 г.) 236
664
Приложения
Хоббема Мейндерт (наст, имя — Мейндерт Люббертсзон) (Hobbema Meindert
(Meyndert) (Meyndert Lubbertsz (о on)); 1638—1709), голландский живописец;
ученик и последователь Я. Рейсдала; писал преимущественно лесные пейзажи в
стиле барокко 20
Хобхаус Джон Кэм, барон Броутон (Hobhouse John Cam, Baron Broughton (de Gyf-
ford); 1786—1869), политический деятель; близкий друг Байрона 213, 308
Хогарт Уильям (Hogarth William; 1697—1764), живописец и график; крупнейший
мастер сатиры 59, 108, 138, 157, 160, 163, 164, 184, 185, 188, 300
Холл Джейкоб (Hall Jacob; упом. 1668), канатоходец во времена Карла II 222
Холланд Генри Ричард Вассалл Фокс, барон (Holland (of Foxley and of Holland)
Henry Richard Vassall Fox, 3rd Baron; 1773—1840), политический деятель; член
партии вигов; племянник и ученик Чарлза Джеймса Фокса 228, 437
Хорребоу (Horrebow), актер театра Ковент-Гарден; выступал на сцене в 1820-е годы
307
Хьюм Джозеф (Hume Joseph; 1767—1843), клерк; друг Хэзлитта, Крабба
Робинсона, Годвина, Лэма; вместе с последним распускали ложные слухи о смерти
Хэзлитта (в 1807-1808 гг.) 218, 219, 223, 224, 454
Хэзлитт, преп. Уильям (Hazlitt, Rev. William; 1737—1820), священник Унитарной
церкви; отец писателя 17, 18, 241, 319
Хэмпден Джон (Hampden John; 1594—1643), парламентский лидер; двоюродный
брат О. Кромвеля; его противостояние налоговой политике короля было
одним из факторов, приведших к гражданской войне 421
Цезарь Гай Юлий (Caesar Gaius Jiulius; ок. 100—44 до н. э.), вьадающийся римский
полководец и государственный деятель; автор известных «Записок» (о
галльской войне и гражданской войне) 120, 121, 1-24, 213, 303, 309, 336, 429, 464
Цинциннат Луций Квинкций (Cincinnatus Lucius Quinctius; VI—V вв. до н. э.),
государственный деятель Римской республики; диктатор на время войны с эквами
(458 г. до н. э.); герой многочисленных легенд 429
Цицерон Марк Туллий (Cicero Marcus Tullius; 106—43 до н. э.), выдающийся
римский оратор, государственный деятель, юрист, философ и писатель; убит по
приказу Марка Антония 71, 124, 229
Чалмерс Томас (Chalmers Thomas; 1780—1847), шотландский священник, богослов,
экономист, общественный деятель 402
Чантри, сэр Фрэнсис Легатт (Chantrey, Sir Francis Legatt; 1781—1841), автор
многочисленных скульптурных портретов современников; более всего известен
как мастер портрета и изображения детей 300, 360
Чапмен Джордж (Chapman George; ок. 1559—1634), драматург (писал
преимущественно трагедии), поэт, переводчик Гомера 185
Черч (Church), игрок в мяч 101
Черчилль Арабелла (Churchill Arabella; 1648—1730), старшая сестра Джона
Черчилля, герцога Мальборо, знаменитого полководца; любовница короля
Якова И; мать четырех его внебрачных детей 222—223
Честерфилд Филип Дормер Сгэнхоуп, граф (Chersterfield Philip Dormer Stanhope, 4th
earl of; 1694—1773), государственный деятель, дипломат, острослов; автор извест-
Указатель имен
665
ных «Писем к сыну» (1774), своего рода педагогического трактата, целью
которого было воспитать побочного сына на расстоянии и ознакомить его с нравами
высшего света 184, 335
Честерфилд Элизабет Батлер, графиня (Chesterfield Elizabeth Butler, Countess of;
ок. 1640—1665), дочь Джеймса Батлера, герцога Ормонда, и леди Элизабет
Престон; супруга (примерно с 1660 г.) Филипа Стенхоупа, 2-го графа Честер-
филда 222
Чосер Джеффри (Chaucer Geoffrey; ок. 1340—1400), выдающийся поэт 405, 406, 415,
455
Шарп Грэнвилл (Sharp Granville; 1735—1813), американский ученый, филантроп,
сторонник отмены рабства 440
Шарп Майкл Уильям (Sharp Michael William; ум. 1840), художник 334
Шекспир Уильям (Shakespeare William; 1564—1616), великий драматург и поэт 28, 47,
51,58,60,89,97,113,197,218,237,242,243,248,249,261,262,288,310,319,342,348,
349, 351, 353, 367, 368, 370-372, 374, 376, 377, 388, 391, 392, 399, 406, 408, 415, 455
Шелли Перси Биш (Shelley Percy Bysshe; 1792—1822), знаменитый поэт-романтик;
трагически погиб в море недалеко от Ливорно 167—169, 316
Шенстон Уильям (Shenstone William; 1714—1763), поэт, садовод-любитель (создатель
пейзажных парков) и коллекционер, значительно повлиявший на
художественный вкус своих современников; строгой неоклассической форме
противопоставлял простоту и естественность, близость к природе ПО, 170
Шеридан Ричард Бринсли (Sheridan Richard Brinsley (Butler); 1751—1816),
знаменитый драматург, оратор, политический деятель и театральный импресарио;
прославился своими комедиями нравов 165, 229
Шеф>тс6ери Энтони Эшли Купер, граф (Shaftesbury Anthony Ashley Cooper, 1st Earl
of; 1621—1683), политический деятель; лорд-канцлер (1672—1673 гг.); стремился
не допустить наследования престола герцогом Йоркским (будущим королем
Яковом П), исповедовавшим католичество; был обвинен в государственной
измене, однако оправдан; бежал в Голландию, где и окончил свои дни 49—50
Шефтсбери Энтони Эшли Купер, граф (Shaftesbury Anthony Ashley Cooper, 3rd
Earl of; 1671—1713), политический деятель и философ; внук предыдущего;
наиболее известен как автор книги «Характеристики людей, нравов, мнений,
времен» (1711), в которой собраны наиболее важные его труды 17, 49
Шиллер (Иоганн Кристоф) Фридрих фон (Schiller (Johann Christoph) Friedrich von;
1759—1805), великий немецкий поэт, драматург и теоретик литературы 16
Шиппен Уильям (Shippen William; 1673—1743), член парламента от консервативной
партии (1707—1709, 1710-1743 гг.); сторонник восстановления на английском
престоле потомков свергнутого короля Якова II; отличался прямодушием и
откровенностью высказываний 68
Шлегель Август Вильгельм фон (Schlegel August Wilhelm von; 1767—1845),
немецкий ученый, востоковед, критик и поэт; один из главных распространителей
идей немецкого романтизма; считается лучшим переводчиком Шекспира на
немецкий язык 391
Шоппий или Шоппе Каспар [лат. Schoppius, нем. Schoppe Kaspar; 1576—1649),
немецкий католический богослов, гуманист и полемист 88
666
Приложения
Элгин Томас Брюс, граф, граф Кинкардайн (Elgin Thomas Bruce, 7th Earl of, 11th
Earl of Kincardine; 1766—1841), дипломат и коллекционер; более всего известен
тем, что вывез в Англию скульптуры и детали архитектурных украшений из
афинского Парфенона и других древних зданий в Греции 21, 59, 86
Элия (Elia) — см. Лэм Чарлз
Эмери Джон (Emery John; 1777—1822), актер театра Ковент-Гарден 182
Энфилд Уильям (Enfield William; 1741—1797), священник; сторонник унитаризма
325
Эразм Роттердамский (Desiderius Erasmus; 1469—1536), нидерландский гуманист,
писатель, философ; писал на латыни; его «Беседы», более известные как
«Разговоры запросто» (1522—1524) — сборник диалогов, составленный в
педагогических целях и сочетающий рассуждения на разнообразные темы с традициями
городской смеховой литературы 273
Эрскин Томас, лорд Эрскин (Erskine Thomas, 1st Baron Erskine of Restormel; 1750—
1823), знаменитый адвокат, внесший значительный вклад в защиту личных
свобод; член парламента (1783—1784, 1790—1806 гг.); лорд-канцлер (1806—1807 гг.);
друг Ч.-Дж. Фокса и Р.-Б. Шеридана 61, 222
Эсхил (ок. 525 — ок. 456 до н. э.), великий древнегреческий драматург 124
Эфранор Коринфский (сер. IV в. до н. э.), древнегреческий скульптор и
художник 163
Юлий II (наст, имя — Джулиано делла Ровере) [um. Giuliano della Rovere, лат.
Julius II; 1443-1513), Папа Римский (с 1503 г.) 15, 26
Юм Дэвид (Hume David; 1711—1776), шотландский философ, историк, публицист;
в «Трактате о человеческой природе», развивая мысли Локка, пришел к выводу,
что чувственный опыт есть единственный источник знаний о мире 75, 120, 185
Юниус (Junius), псевдоним неизвестного автора, опубликовавшего в 1769—1772 гг.
серию политических писем в газете «Публичный рекламист» 100, 248
Яков II (Jamfes П; 1633—1701), до 1685 г. — герцог Йоркский; сын Карла I и
Генриетты-Марии Французской; король Англии, Шотландии и Ирландии (1685—1689
гг.); был свергнут в результате так наз. «Славной революции» (1688—1689 гг.),
после чего жил во Франции 50, 223
Янг Чарльз Мэйн (Young Charles Mayne; 1777—1856), один из крупнейших
трагических актеров своего времени 308
Янг (традиц. неправ. — Юнг) Эдвард (Young Edward; 1681—1765), поэт 358
Янус Уэзеркок (от англ. weathercock — флюгер) — см. Уэйнрайт Томас Гриффите
УКАЗАТЕЛЬ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
«Агнесса, или Торжество добродетели» (Agnes, or the Triumph of Principle, 1822),
В. Скотт 413
«Айвенго» (Ivanhoe, 1819), В. Скотт 93, 419
«Академия комплиментов» (The Academy of Compliments, 1640), Филомузус 370
«Алкифрон, или Мелкий философ» (Alciphron; or, The Minute Philosopher, 1733),
Дж. Беркли 221
«Анабасис» (ок. 380 до н. э.), Ксенофонт 121
«Аналогия религии» (The Analogy of Religion, 1736), Дж. Батлер 250
«Анатомия меланхолии» (Anatomy of Melancholy, 1621), Р. Бёртон 251
«Английские барды и шотландские обозреватели» (English Bards and Scotch
Reviewers, 1809), Дж.-Г. Байрон 429
«Антикварий» (The Antiquary, 1815), В. Скотт 418
«Антонио» (Antonio, 1800), У Годвин 465
«Артаксеркс» (Artaxerxes, 1762), Т. Арне 324
«Бавиада» (The Baviad, 1791), У Гиффорд 246
«Бард» (The Bard, 1757), Т. Грей 215
«Беседы Эразма» («Разговоры запросто») (Colloquia familiaria, 1518), Эразм
Роттердамский 273
«Божественная комедия» (Divina Commedia, 1310—1314), Данте 409—410
«Боже, храни короля!» (God Save the King, 1744) 245
«Векфилдский священник» (The Vicar of Wakefield, 1766), О. Голдсмит 56, 70
«Верная пастушка» (The Faithful Shepherdess, 1608), Дж. Флетчер 206
«Вертер» — см. «Страдания юного Вертера»
«Видение суда» (The Vision of Judgement, 1822), Дж.-Г. Байрон 432
«Видение суда» (The Vision of Judgement, 1822), P. Саути 432
«Вольпоне» (Volpone, 1606), Б. Джонсон 132
«Воспоминания о Грэнвилле Шарпе» (Memoirs of Granville Sharp, 1820), П. Хор 440
«Воспоминания одной наследницы» — см. «Сесилия, или Воспоминания одной
наследницы»
«Гамлет» (Hamlet, 1600-1601), У Шекспир 367, 368, 372
«Генералу лорду Кромвелю по поводу предложений, выдвинутых некоторыми
членами Комитета по распространению Священного Писания» (То the Lord General
668
Приложения
Cromwell, May 1652, On the proposals of certain ministers at the Committee for
Propagation of the Gospel, 1652, опубл. 1694), Дж. Милтон 199
«Генералу лорду Ферфаксу по случаю осады Колчестера» (On the Lord General
Fairfax, at the Siege of Colchester, 1648, опубл. 1694), Дж. Милтон 199
«Генрих VI» (Henry VI, 1589-1592), У Шекспир 310
«Герои шекспировского театра» (Characters of Shakespeare's Plays, 1817), У. Хэзлитт
112
«Герцогиня Амальфи» (The Duchess of Malfi, ок. 1613), Дж. Вебстер 446
«Грамматика английского языка в серии писем» (A Grammar of the English
Language in a Series of Letters, 1818), У. Коббет 64
«Гудибрас» (Hudibras, 1662-1678), С. Батлер 81, 231
«Дева озера» (The Lady of the Lake, 1810), В. Скотт 414
«Деревенская девушка» (The Country Girl, 1766), У Уичерли (автор
первоначальной версии под названием «Деревенская жена» (The Country Wife, 1675)), Д. Гар-
рик 79
«Деревенская любовь» (Love in a Village, 1762), И. Бикерстафф 324
«Деяния и памятники прошедших опасных дней, касающиеся вопросов Церкви»
(History of the Acts and Monuments of the Church, 1554), Дж. Фокс 450
«Дома» (At Home, 1808), Ч. Мэтьюз 302
«Дон Жуан» (Don Juan, 1819-1824), Дж.-Г. Байрон 427, 429^31
«Дон-Карлос» (Don Karlos, Infant von Spanien, 1785—1787), Ф. Шиллер 359
«Дон-Кихот» («Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский») (Ы ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha, ч. I - 1605; ч. П - 1615), M. де Сервантес 97, 250, 415
«Естествознание» («Естественная история») (Naturalis Historia, ок. 77—79), Плиний
Старший 268
«Жиль Блас» — см. «Похождения Жиль Бласа из Сантильяны»
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (Life and Opinions of Tristram
Shandy, Gentleman, 1759-1767), Л. Стерн 241, 355, 431
«Заметки о Поупе» (Anecdotes of Pope, 1820), Дж. Спенс 37
«Записки» (Commentarii, кон. I в. до н. э.), Ю. Цезарь 121, 213, 336
«Застольные беседы» (Table-Talk, 1821-1822), У Хэзлитт 227, 337
«Здравый смысл» (Common Sense, 1776), Т. Пейн 61
«Золотой осел» («Метаморфозы») (Asinus aureus (Metamorphoses), сер. II в. н. э.),
Л. Апулей 223
«Илиада» (VIII в. до н. э.), Гомер 261, 396, 406
«Ирена» (Irene, 1749), С. Джонсон 164
«Исповедь» (Les Confessions, 1781—1788), Ж.-Ж. Руссо 31
«История Англии» (History of England, 1771—1793), Р. Генри 420
«История сэра Чарлза Грандисона» (The History of Sir Charles Grandison, 1753—1754),
С.Ричардсон 103-104
«Каин» (Cain, 1821), Дж.-Г. Байрон 432
«Камилла, или Картина молодости» (Camilla: or a Picture of Youth, 1796), Ф. Бёрни 208
«Квентин Дорвард» (Quentin Durward, 1823), В. Скотт 419
«К Мэри» (То Магу, 1793), У Купер 234
«Книга о мучениках» (Book of Martyrs) — см. «Деяния и памятники прошедших
опасных дней, касающиеся вопросов Церкви»
Указатель литературных произведений
669
«Комос» (Cornus, 1634), Дж. Милтон 250
«Король Лир» (King Lear, 1605-1606), У. Шекспир 368, 374, 376, 391, 392
«Корсар» (The Corsair, 1814), Дж.-Г. Байрон 428
«Котенок и падающие листья» (The Kitten and the Falling Leaves, 1804), У. Вордсворт
246
«Лара» (Lara, 1814), Дж.-Г. Байрон 428
«Лекции» (Discourses, 1778/1786), сэр Дж. Рейнолдс 40, 42, 137-164, 178
«Лир» — см. «Король Лир»
«Лирические баллады» (Lyrical Ballads, 1798), У. Вордсворт 53
«Любовь ангелов» (The Loves of the Angels, 1823), Т. Мур 429, 455
«Любовь за любовь» (Love for Love, 1695), У. Контрив 317
«Макбет» (Macbeth, 1605-1606), У Шекспир 402
«Мальбрук в поход собрался» (англ. Marlbrough Has Left for the War, фр. Malbrough
s'en va-t-en guerre, 1709), популярная песня 107
«Мандана» — см. «Артаксеркс»
«Манфред» (Manfred, 1817), Дж.-Г. Байрон 429
«Марино Фальеро» (Marino Faliero, 1820), Дж.-Г. Байрон 429
«Мармион» (Marmion, 1808), В. Скотт 413
«Мевиада» (The Maeviad, 1795), У Гиффорд 246
«Мелкий философ» — см. «Алкифрон, или Мелкий философ»
«Мемуары» (Mémoires relatifs à la révolution française, 1795), Ж.-Б. Луве де Кувре 115
«Мемуары графа де Грамона» (Memoirs du comte de Gramont, 1713), A. Гамильтон
222-223
«Мера за меру» (Measure For Measure, 1604—1605), У. Шекспир 277
«Мирандола» (Mirandola, 1821), Б. Корнуолл 109
«Мистер С.» (Mr. H., 1806), Ч. Лэм 258-259
«Мистеру Генри Лоузу о его музыке» (То Mr. H. Lawes on his Airs, 1645, опубл. 1648),
Дж. Милтон 201
«Мистеру Лоренсу» (То Mr. Lawrence, 1655, опубл. 1673), Дж. Милтон 201
«Мистеру Сайриаку Скиннеру о слепоте» (То Mr. Cyriack Skinner Upon his Blindness,
1655, опубл. 1694), Дж. Милтон 199
«Моральная философия» — см. «Принципы моральной и политической философии»
«На недавнюю резню в Пьемонте» (On the Late Massacre in Piedmont, 1655, опубл.
1673), Дж. Милтон 198,200
«На посещение Ярроу» (Yarrow Visited, 1814), У. Вордсворт 285
«Нас разлучил апрель...» (Сонет 98) («From you have I been absent in the spring...»),
У Шекспир 197
«Наука знатока» (An Argument in behalf of the Science of a Connoisseur, 1719), Дж.
Ричардсон 27
«Небо и земля» (Heaven and Earth, 1823), Дж.-Г. Байрон 415, 429
«Новая Элоиза» — см. «Юлия, или Новая Элоиза»
«Новое лошадное земледелие» (The New Horse Houghing Husbandry: Or an Essay on
the Principles of Tillage and Vegetation, 1731), Дж. Талл 116
«Новый взгляд на общество» (A New View of Society, 1813), P. Оуэн 77
«Новый способ платить по старым долгам» (A New Way to Pay Old Debts, 1624),
Ф. Мэссинджер 187
670
Приложения
«Об изгнании» (кон. I — нач. II в. н. э.), Плутарх 114
«Общественный договор» (Du contrat social, 1762), Ж.-Ж. Руссо 444
«Одиссея» (VIII в. до н. э.), Гомер 407
«Опера нищих» (The Beggar's Opera, 1728), Дж. Гэй 323, 324, 403
«О покойной жене» (On his Deceased Wife, 1658, опубл. 1673), Дж. Милтон 201
«О принципах, движущих поступками человека» (An Essay on the Principles of
Human Action, 1805), У. Хэзлитт 263
«Опыты» (An Essay on the Theory of Painting, 1715; An Essay on the Whole Art of
Criticism as it Relates to Painting and an Argument on Behalf of the Science of a
Connoisseur, 1719), Дж. Ричардсон 25
«О своей слепоте» (On his Blindness, 1652/1655, опубл. 1673), Дж. Милтон 200
«Очерки Элии» (Essays of Elia, т. 1 - 1823, т. 2 - 1833), Ч. Лэм 272
«Отелло» (Othello, 1604-1605), У Шекспир 335, 376, 398
«Паломничество Чайльд-Гарольда» (Childe Harold's Pilgrimage, 1812—1818), Дж.-Г.
Байрон 427,428
«Пасторальная баллада» (A Pastoral Ballad, 1743), У Шенстон 250
«Певерил Пик» (Peveril of the Peak, 1822), В. Скотт 419
«Песнь последнего менестреля» (The Lay of the Last Minstrel, 1805), В. Скотт 413, 415
«Пир Александра» (Alexander's Feast, 1697), Дж. Драйден 227
«Письма Шенстона» (Select Letters, 1778), У Шенстон 170
'«Письмо к Ветусу» (Answers to Vetus, 1819), У Хэзлитт 316
«Письмо к издателю "Обозрения моей бабушки"» (Letter to the Editor of My
Grandmother's Review, 1819), Дж.-Г. Байрон 430
«Письмо Уильяму Смиту» (A Letter to William Smith, Esq. M.P., 1817), P. Саути 77
«Письмо Элии Роберту Саути, эсквайру» (Letter of Elia to Robert Southey, Esq.,
1823), 4. Лэм 452,453
«Поль и Виргиния» (Paul et Virginie, 1787), Ж.-А. Бернарден де Сен-Пьер 208
«Попугай принца Морриса» (Prince Maurice's Parrot; or, French Instructions to a
British Plenipotentiary, 1814), У Хэзлитт 315
«Послание Роберту Саути, эсквайру» — еж. «Письмо Элии Роберту Саути, эсквайру»
«Потерянный Рай» (Paradise Lost, 1667), Дж. Милтон 51, 196, 198, 243, 250, 455
«Поход» (The Campaign, 1704), Дж. Аддисон 406
«Похождения Жиль Бласа из Сантильяны» (Gil Blas, 1715—1735), А.-Р. Лесаж 250
«Права человека» (The Rights of Man, 1791-1792), Т. Пейн 61
«Преследуя свет природы» (The Light of Nature Pursued, 1768), А. Такер 361, 441
«Приключения Найджела» (The Fortunes of Nigel, 1822), В. Скотт 419
«Приключения Тома Джонса, найденыша» (The History of Tom Jones, a Foundling,
1749), Г. Филдинг 455
«Принципы моральной и политической философии» (Principles of Moral and
Political Philosophy, 1785), У Пеили 441
«Прогулка» (The Excursion, 1814), У. Вордсворт 75
«Прогулки одинокого мечтателя» (Les Rêveries du promeneur solitaire, 1776—1778),
Ж.-Ж. Руссо 31
«Прометей освобожденный» (Prometheus Unbound, 1820), П.-Б. Шелли 167
«Прощай» (Farewell, 1814), Дж.-Г. Байрон 234
«Пуритане» (Old Mortality, 1816), В. Скотт 413, 418
Указатель литературных произведений
671
«Путешественники» (The Travellers, 1806), Э. Черри 258
«Путешествие Хамфри Клинкера» (The Expedition of Humphry Clinker, 1771), Т. Смол-
летт 250
«Путь паломника» (The Pilgrim's Progress, 1768), Дж. Беньян 64, 406
«Радости надежды» (The Pleasures of Hope, 1799), Т. Кэмпбелл 234
«Раздраженный супруг» (The Provok'd Husband, 1728), Дж. Ванбру, К. Сиббер 20
«Размышления об изгнании» (Reflections on Exile, 1752), лорд Болингброк 113—114
«Размышления о революции во Франции» (Reflections of the Revolution in France,
1790), Э. Бёрк 42
«Раскаяние» (Remorse, 1813), C.-T. Колридж 347
«Рассуждения» («Астропомические рассуждения») (Astronomical Discourses, 1817),
Т. Чалмерс 402
«Робинзон Крузо» (Robinson Crusoe, 1719—1722), Д. Дефо 406
«Роб Рой» (Rob Roy, 1818), В. Скотт 76
«Роман о лесе» (The Romance of the Forest, 1791), А. Радклиф 325
«Сарданапал» (Sardanapalus, 1821), Дж.-Г. Байрон 429
«Свет природы» — см. «Преследуя свет природы»
«Святая Цецилия» (Ode on St. Cecilia's Day, 1717), А. Поуп 227
«Сентиментальное путешествие» (Sentimental Journey through France and Italy,
1768), Л. Стерн 29
«Сент-Ронанские воды» (St. Ronan's Well, 1823), В. Скотт 417
«Сесилия, или Воспоминания одной наследницы» (Cecilia, or Memoirs of an Heiress,
1782), Ф. Бёрни 134
«Сиджизмонда и Гискардо» (Sigismonda and Guiscardo, 1700), Дж. Драйден 461
«Сказка бочки» (A Tale of a Tub, 1704), Дж. Свифт 415
«Скорбящая невеста» (The Mourning Bride, 1697), У Конгрив 218
«Совокупность обязанностей человека» (The Whole Duty of Man, 1658), P. Аллест-
ри 370
«Спасенная Венеция, или Раскрытый заговор» (Venice Preserv'd, or, A Plot Discover'd,
1682), Т. Отвей 59
«Стихи к Анне» (Verses to Anna, 1815), У Гиффорд 246
«Страдания юного Вертера» (Die Leiden des jungen Werthers, 1774), И.-В. Гёте 10
«Строки к Пауку» (То a Spider Running Across a Room, 1823), Л. Хант 448
«Суждения миссис Бэттл о висте» (Mrs. Battle's Opinions on Whist, 1821), Элия (Ч. Лэм)
221, 272
«Сэр Эндрю Уайли из города Уайли» (Sir Andrew Wylie ofthat Пк, 1822), Дж. Голт 455
«Сэру Генри Вейну-младшему» (То Sir Henry Vane the Younger, 1652, опубл.
анонимно 1662), Дж. Милтон 199
«Тайный брак» (The Clandestine Marriage, 1766), Дж. Колманчларший, Д. Гаррик 108
«Теодор и Гонория» (Theodore and Honoria, 1700), Дж. Драйден 461
«Том Джонс» — см. «Приключения Тома Джонса, найденыша»
«Трактат о наступлении Царствия Божьего на земле» (A Treatise on the Millennium,
1793), С. Хопкинс 32
«Трактат об образовании» (A Treatise on Education, 1644), Дж. Милтон 202
«Трактат о природе человека» (A Treatise on Human Nature, 1739—1740), Д. Юм 75
«Уэверли» (Waverley, 1814), В. Скотт 76, 183, 413, 415, 416, 421, 426, 427, 431
672
Приложения
«Фальеро» — см. «Марино Фальеро»
«Феаген и Хариклея» — см. «Эфиопика»
«Филоктет» (кон. V в. до н. э.), Софокл 407
«Хамфри Клинкер» — см. «Путешествие Хамфри Клинкера»
«Характеристики» (Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times, 1711), лорд
Шефтсбери 17, 49
«Цветок и лист» (The Frower and the Leaf, 1700), Дж. Драйден 466
«Цветок и лист» (The Frower and the Leaf (The Froure and the Leafe), ок. 1475), ранее
приписывалось Дж. Чосеру 465
«Целебс в поисках жены» (Caelebs in Search of a Wife, 1809), X. Myp 218
«Чайльд-Гарольд» — см. «Паломничество Чайльд-Гарольда»
«Школа злословия» (The School for Scandal, 1777), Р.-Б. Шеридан 229
«Эвелина, или История выхода молодой леди в свет» (Evelina, or The History of a
Young Lady's Entrance Into the World, 1778), Ф. Бёрни 180
«Эдинбургская темница» (The Heart of Mid-Lothian, 1818), В. Скотт 418, 458
«Эй, на восток!» (Eastward Hoe, 1605), Б. Джонсон, Дж. Марстон, Дж. Чапмен
185-188
«Элегия, написанная на сельском кладбище» (An Elegy Written in a Country Church
Yard, 1751), Т. Грей 241
«Эндимион» (Endymion, 1818), Дж. Ките 283
«Эссе о сознании» (An Essay on Consciousness, 1810), Дж. Ферн 74, 75, 289, 291
«Эссе о характере королей» (On the Regal Character, 1818), У. Хэзлитт 315
«Эфиопика» (III в. н. э.), Гелиодор Эмесский 223
«Юлия, или Новая Элоиза» (Julie, ou la Nouvelle Héloïse, 1761), Ж.-Ж. Руссо 208
«Theatralia» (1811), Ч. Лэм 392
УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Андромеда, освобождаемая Персеем» (Гвидо Рени), палаццо Паллавичини, Рим
157
«Аполлон Бельведерский», Музеи Ватикана 157, 160
«Аполлон и музы (Парнас)» (Н. Пуссен), Прадо, Мадрид 194
«Аркадские пастухи» («И я жил в Аркадии!») (Н. Пуссен), первый вариант — Чатс-
ворт-Хаус, графство Дербишир, Великобритания; второй — Лувр, Париж 194
«Большая вакханалия» (П.-П. Рубенс), находилась в Бленхейме; погибла при
пожаре в 1861 г. 194
«Вакханалия» (Н. Пуссен), Национальная галерея, Лондон 194
«Вечер (Закат) Римской империи» (совр. назв. — «Морской порт с аркой Тита»)
(К. Лоррен), Национальная галерея, Лондон 19
«Водопой» (П.-П. Рубенс), Национальная галерея, Лондон 86
«Воспитание Бахуса» («Детство Бахуса» или «Малая вакханалия») (Н. Пуссен),
Лувр, Париж 193
«Всемирный потоп» (Н. Пуссен), Лувр, Париж 193
«Гэдсхилл», этюд (Дж. Норткот) 351
«Дискобол» (Мирон), Римский национальный музей (одна из копий) 157
«Заколдованный замок» (К. Лоррен), Национальная галерея, Лондон 86
«Избиение младенцев» (Гвидо Рени), Болонская пинакотека 157
«Кефал и Аврора» (Н. Пуссен), Национальная галерея, Лондон 193
«Купидон» (П.-П. Рубенс), Уайтхолл 353
«Лукреция» (Пармиджанино), Национальная галерея, Неаполь 27
«Молодой аристократ с перчаткой» (Тициан), Лувр, Париж (сделанная Хэзлитгом
копия с этого портрета хранится в картинной галерее г. Мэйдстона) 20
«Мор в Азоте» (Н. Пуссен), Лувр, Париж (копия — в Национальной галерее,
Лондон) 193
«Мученичество святого Петра» (Тициан), погибла в Венеции при пожаре в 1867 г. 21
«Нищие мальчики» (Б.-Э. Мурильо), Далиджская галерея 244
«О праздном и трудолюбивом подмастерьях» — см. «Трудолюбие и безделье»
«Орион» («Пейзаж с Орионом») (Н. Пуссен), Метрополитен-музей, Нью-Йорк 190—
192, 195
674
Приложения
«Ослепление Елимы» (Рафаэль), Сикстинская капелла, Ватикан 49
«Парис» (Эфранор), Музеи Ватикана 163
«Пейзаж с радугой» (Рубенс), Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 12
«Пейзаж с радугой» (Рубенс), Коллекция Уолласов, Лондон 12
«Пейзаж с Полифемом» (Н. Пуссен), Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург 193
«Портрет Альфонсо I д'Эсте, герцога Феррарского, и его возлюбленной Лауры
Дианти» («Дама за туалетом) (Тициан), Лувр, Париж 20, 24
«Портрет возлюбленной» — см. Портрет Альфонсо I...
«Портрет дамы в белом платье» (Тициан), Дрезденская галерея старых мастеров
456-457
«Портрет детей герцога Бэкингема» (А. Ван Дейк), Бленхейм 19
«Портрет Джона Донна» (У Маршалл) 336
«Портрет Игнатия Лойлолы» (Тициан), Алторп-хаус (графство Нортхэмптоншир,
Великобритания) 336
«Портрет императора Карла V» (Тициан), Пинакотека старых мастеров, Мюнхен 336
«Портрет Ипполито Медичи» (Тициан), Флоренция (сделанная Хэзлиттом копия
с этого портрета хранится в картинной галерее г. Мэйдстона) 21
«Портрет олдермена из Эксетера» (У Гэнди) 28
«Портрет Оливера Кромвеля» (С. Купер) 46—47
«Портрет преп. Уильяма Хэзлитта» (У. Хэзлитт), музей г. Мэйд стона 17—18
«Портрет семьи Пембрук» (А. Ван Дейк), Уилтон-Хаус, графство Уилтшир,
Великобритания 19
«Портрет старухи» (возможно, портрет графини Десмонд) (Рембрандт), Берли-хаус
13
«Портрет старухи» (У Хэзлитт), музей г. Мэйд стона 12, 14
«Похищение сабинянок» (Дж. да Болонья), площадь Сеньории, Флоренция 158
«Преображение» (Рафаэль), Ватикан, пинакотека 21
«Преображение» (Тициан), церковь Сан-Сальваторе, Венеция 21
«Путь повесы» (У. Хогарт), музей сэра Джона Соуна, Лондон 184
Рафаэля этюды (Rafael's cartoons), музей Виктории и Альберта, Лондон 162, 245, 403
«Саломея с головой св. Иоанна Крестителя» (Гвидо Рени), Художественный
институт Чикаго 157
«Свадьба в Кане Галилейской» (П. Веронезе), Лувр, Париж 352
«Свадьба двух детей» (Дж. Норткот) 328
«Святой Иероним» (Доменикино), Рим 21
«Слепой скрипач» (Д. Уилки), галерея Тейт, Лондон 288
«Смерть верхом на бледном коне» (Б. Уэст), Академия изящных искусств, штат
Пенсильвания (США) 321
«Смерть графа Уголино», барельеф (Пьерино да Винчи; ранее атрибутировался
Микеланджело), Национальный музей Баргелло, Флоренция 410
«Смерть Клоринды» (Л. Лана), Лувр, Париж (сделанная Хэзлиттом копия
хранится в музее г. Мэйдстона) 264
«Смерть Уголино л его сыновей» (Дж. Рейнолдс), Национальная галерея, Лондон 410
«Сон Иакова» (Рембрандт), Лувр, Париж 353
«Спящие дети» (Ф.-Л. Чантри), собор в Личфилде 360
Указатель произведенийизобразительного искусства 675
«Суд царя Соломона» (Н. Пуссен), Лувр, Париж 48
«Утро (Заря) Римской империи» (совр. назв. — «Прибытие Энея в Италию») (К. Лор-
рен), ГМИИ, Москва 19
«Тайная вечеря» (Леонардо да Винчи), Милан, монастырь Санта-Мария-делле-
Грацие 354
«Три дерева» (Рембрандт), Метрополитен-музей, Нью-Йорк 55
«Трудолюбие и безделье» (У. Хогарт) 185
«Туалет Венеры» (Гвидо Рени), Национальная галерея, Лондон 157
«Чудесницы» (У Хогарт), из цикла «Путь повесы» 188
Элгина мраморные скульптуры, Британский музей 21, 59, 86
«Юдифь с головой Олоферна» (два разных рисунка с одним названием,
приписываются Гвидо Рени), Музей изящных искусств, Сан-Франциско 157
«Юпитер Олимпийский» (Фидий), не сохранился 268
«Юпитер, питающийся молоком Амалфеи» («Детство Юпитера») (Н. Пуссен),
Берлинский музей 193
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Ил. на с. 5. Уильям Хэзлитг (1778—1830) в возрасте 46 лет. Репродукция с
портрета (опубл. в изд.: William Hazlitt: Essayist and Critic. L.; N.Y.: F. Warne,
1889). Худ. Уильям Бевик (1795-1866). 1825. 57,5 х 37,5 см. Бумага, уголь,
мел. Национальная портретная галерея (Лондон). Автор портрета
называл Хэзлитта «Шекспиром-прозаиком нашей славной страны».
Семья писателя Уильяма Хэзлитта
Ил. 1. Преподобный Уильям Хэзлитг (1732—1820), священник Унитарной церкви,
отец писателя. Миниатюра работы Джона Хэзлитта, старшего брата
писателя. Музей и картинная галерея г. Мэйдстона (графство Кент).
Ил. 2. Грейс Лофтус, миссис Хэзлитг (1746—1837), мать писателя. Портрет работы
Джона Хэзлитта. Частная коллекция.
Ил. 3. Маргарет Хэзлитт (1770—1837), сестра писателя. Портрет работы Джона
Хэзлитта.
Ил. 4. Джон Хэзлитт (1767—1837), художник, брат писателя. Автопортрет. Холст,
масло. 65 х 52 см. Музей и картинная галерея г. Мэйдстона (графство Кент).
Портреты Уильяма Хэзлитта разных лет
Ил. 5. Уильям Хэзлитт в детском возрасте. Миниатюра работы Джона Хэзлитта.
Ок. 1787. Музей и картинная галерея г. Мэйдстона (графство Кент).
Ил. 6. Уильям Хэзлитт в молодости. Портрет работы Джона Хэзлитта. Ок. 1799.
Музей и картинная галерея г. Мэйдстона (графство Кент).
Ил. 7. Уильям Хэзлитт в момент первой женитьбы. Портрет работы Джона
Хэзлитта. Холст, масло. Ок. 1808. 71 х 55 см. Музей и картинная калерея г.
Мэйдстона (графство Кент).
Ил. 8. Уильям Хэзлитт в возрасте примерно 35 лет. Миниатюра работы Джона
Хэзлитта. Ок. 1813. 70 х 60 см. Музей и картинная галерея г. Мэйдстона
(графство Кент).
Список иллюстраций
677
Портреты работы Уильяма и Джона Хэзлиттов
Ил. 9. Уильям Хэзлитт (1778—1830). Автопортрет в юности. Музей и картинная
галерея г. Мэйдстона (графство Кент). По-видимому, Хэзлитт недаром
называл себя в этом возрасте «бессловесным, немым, беспомощным,
словно червяк на обочине». Портрет весьма пострадал от воздействия времени.
Ил. 10. Преподобный Уильям Хэзлитт (1737—1820), отец писателя. Портрет
работы Уильяма Хэзлитта, будущего писателя. 1802. Музей и картинная
галерея г. Мэйд стона (графство Кент). Именно об этом портрете автор пишет
в очерке «О наслаждении живописью».
Ил. 11. Джон Телуолл (1764—1834), преподаватель ораторского мастерства;
радикальный политический деятель. Приписывается художнику Джону Хэз-
литту, брату писателя (иногда приписьшается и самому У. Хэзлитту). Холст,
масло. Ок. 1800—1805. 74,9 х 62,2 см. Национальная портретная галерея
(Лондон).
Ил. 12. Чарлз Лэм (1775—1834), эссеист и критик, друг писателя, в костюме
венецианского сенатора. Портрет работы Уильяма Хэзлитта. Холст, масло. Ок.
1804. 76,2 х 62,2 см. Национальная портретная галерея (Лондон).
Дома, связанные с разными периодами жизни Уильяма Хэзлитта
Ил. 13. Дом приходского священника в деревушке Уэм (графство Шропшир).
Семья Хэзлиттов обосновалась в нем в 1787 г. Будущий писатель жил в
доме до 1796 г. Современная фотография. Частная коллекция.
Ил. 14. Дом № 19 на Иорк-стрит в Вестминстере. Хэзлитт жил в нем в 1810—1819 гг.
Гравюра. Частная коллекция.
Ил. 15. Дом на Фрит-стрит в Сохо. Современная фотография. Хэзлитт снимал в
этом доме меблированные комнаты, в нем и умер. В настоящее время —
гостиница.
Писатели, поэты, философы, журналисты
Ил. 16. Чарлз Лэм в возрасте 51 года (1775—1834). Портрет и гравюра работы
Г.-Х. Мейера (1782-1847). 1826 (опубл. в 1828 г.). Нью-Йорк. Публичная
библиотека.
Ил. 17. Ли Хант (1784-1859) в молодости. Гравюра. Худ. Дж. Хейтер (1800-1895),
мастер Г. РайтСмит. Опубл. в 1828 г. Нью-Йорк. Публичная библиотека
(оригинал портрета — Национальная галерея, Лондон).
Ил. 18. Уильям Вордсворт (1770—1850). Гравюра. Худ. М. Гиллис. 1838.
Ил. 19. Сэмюэл Тейлор Колридж (1772-1834). Худ. П. Вандейк (1729-1799). Холст,
масло. 1795. 55,9 х 45,7 см. Национальная портретная галерея (Лондон).
Ил. 20. Роберт Саути (1774-1843). Гравюра. Худ. Т. Филлипс (1770-1845), мастер
Э.-Ф. Файнден (1791-1857). Опубл. в 1833 г. 9,5 х 10,8 см. Частная коллекция.
Ил. 21. Джон Ките (1795—1821) на смертном одре. Гравюра с наброска, сделанного
Дж. Северном (1793-1879). Опубл. в изд.: The Century Illustrated Monthly
Magazine (May to Oct. 1883).
678
Приложения
Ил. 22.^ Уильям Годвин (1756—1836). Английская школа. XIX в. Частная коллекция.
Ил. 23. Джордж Гордон Байрон, лорд Байрон (1788—1824). Гравюра. Опубл. в изд.:
Duykinck ЕЛ. A Portrait Gallery of Eminent Men and Women of Europe and
America, with Biographies: In 2 vol. N.Y.: Johnson, Wilson and Co., 1873.
Ил. 24. Сэр Вальтер Скотт (1771-1832). Гравюра. Худ. сэр Т. Лоренс (1769-1830),
мастер Дж. Хорсберг (1791—1869). 21 х 25,5 см. Опубл. изд: The Art
Journal. 1858.
Ил. 25. Уильям Коббет (1763-1835). Худ. А. Бак (1759-1833). Ок. 1816. Бумага,
карандаш. Частная коллекция.
Ил. 26. Джеффри Чосер (ок. 1340—1400). Английская школа. XIX в. Частная
коллекция.
Ил. 27. Эдмунд Спенсер (ок. 1552—1599). Английская школа. 1830^ годы. 11 х 13,5 см.
Частная коллекция.
Ил. 28. Джон Милтон (1608—1674). Английская школа. XIX в. Частная коллекция.
Ил. 29. Джон Драйден (1631-1700). Худ. Т. Хадсон (1701-1779), мастер Ч.-Э. Уэг-
стафф (1808-1850). Опубл. в изд.: The Letters of Horace Walpole//Ed. P.
Cunningham. L.: Richard Bentley, 1857 (оригинал портрета — Тринити-колледж,
Кембридж).
Ил. 30. Сэр Ричард Стиль (1672—1729). Английская школа. XIX в. Частная
коллекция.
Ил. 31. Джозеф Аддисон (1672—1719). Английская школа. 1830-е годы. 11 х 13,5 см.
Частная коллекция.
Ил. 32. Александр Поуп (1688—1744). Английская школа. XIX в. Частная
коллекция.
Ил. 33. Уильям Купер (1731—1800). Английская школа. Мастер У. Холл (1771—1838).
1830-е годы. 11 х 13,5 см. Опубл. в изд.: The Letters of Horace Walpole...
Ил. 34. Сэмюэл Джонсон (1709—1784). Гравюра. Т. Трогтер (ум. 1805). 1792. Изд.
К. Хардинг (Лондон). Нью-Йорк. Публичная библиотека.
Ил. 35. Оливер Голдсмит (1728 или 1730—1774). Гравюра. Г.-Б. Холле и сыновья
(Нью-Йорк). XIX в. Нью-Йорк. Публичная библиотека.
Ил. 36. Эдмунд Бёрк (1729-1797). Гравюра. Худ. сэр Дж. Рейнолдс (1723-1792).
Опубл. в изд.: Jerdau W. The National Portrait Gallery of Illustrious and Eminent
Personages of the Nineteenth Century: In 5 vol. L.: Fisher, Son & Jackson, 1830—
1834.
Ил. 37. Ричард Бринсли Шеридан (1751—1816). Гравюра. Худ. сэр Дж. Рейнолдс
(1723-1792). Опубл. в изд.: Jerdan W. Op. cit.
Ил. 38. Томас Мур (1779-1852). Гравюра на стали. Худ. сэр Т. Лоренс (1769-1830),
мастер У Файнден (1787—1852). Опубл. в 1833 г. 9 х 12 см. Частная
коллекция.
Ил. 39. Перси Биш Шелли (1792-1822). Гравюра. У Файнден (1787-1852). Опубл.
в 1833 г. 9,5 х 10,1 см. Частная коллекция.
Ил. 40. Фанни (Франсис) Бёрни, мадам д'Арбле (1752—1840). Гравюра. Опубл. в изд.:
Duykinck ЕЛ. Op. cit.
Ил. 41. Роберт Берне (1759—1796). Гравюра. Опубл. в изд.: Duykinck ЕЛ. Op. cit.
Ил. 42. Джон Локк (1632—1704). Гравюра. Английская школа. 1830-е годы.
Частная коллекция.
Список иллюстраций
679
Ил. 43. Дэвид Юм (1711-1776). Гравюра. Худ. А. Рэмзей (1713-1784), мастер А. Смит
(1759—1819). 1766. 22,7 х 15,7 см. Национальная портретная галерея
(Лондон).
Ил. 44. Джереми Бентам (1748-1832). Худ. У.-Г. Уортингтон (1819-1839). 1823.
21,3 х 13,8 см. Опубл. в изд.: J er dan W. Op. cit.
Ил. 45. Джордж Беркли (1685—1753). Гравюра. Английская школа. Опубл. в изд.:
A Catalogue of the Royal and Noble Authors of England, Scotland, and Ireland:
In 5 vol. L., 1806. Vol. 3.
Ил. 46. Фридрих фон Шиллер (1759—1805). Гравюра. Опубл. в изд.: Duykinck E.A.
Op. cit.
Ил. 47. Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749—1832). Гравюра на стали. 1874. 14 х 17,8 см.
Опубл. в изд.: Duykinck E.A. Op. cit.
Ил. 48. Фрэнсис Джеффри, лорд Джеффри (1773—1850), издатель. Гравюра. Худ.
К. Смит (1796-1875), мастер С. Казенс (1801-1887). Опубл. в мае 1830 г.
37,3 х 30,5 см. Национальная портретная галерея (Лондон).
Ил. 49. Джон Меррей (1778—1843), издатель. Гравюра. Худ. Г.-У. Пикерсгилл (1782—
1875), мастер Э.-Ф. Файнден (1791—1857). Опубл. в 1833 г. Национальная
портретная галерея (Лондон).
Художники
Ил. 50. Леонардо да Винчи (1452—1519). Гравюра. Английская школа. Нач. XIX в.
Частная коллекция.
Ил. 51. Микеланджело Буонаротти (1475—1564). Гравюра. Английская школа. Нач.
XIX в. Частная коллекция.
Ил. 52. Рафаэль Санти (1483—1520). Гравюра. Английская школа. Нач. XIX в.
Частная коллекция.
Ил. 53. Тициан Вечеллио (ок. 1488—1576). Гравюра. Английская школа. Нач. XIX в.
Частная коллекция.
Ил. 54. Андреа дель Сарто (1486—1530). Автопортрет. Гравер А. Монгин. 1876.
14 х 17,8 см. Изд. Ф.-Г. Хамертон. Частная коллекция.
Ил. 55. Корреджо (1494—1534). Гравюра. Английская школа. Опубл. в 1833 г.
Частная коллекция.
Ил. 56. Сальватор Роза (1615—1673). Гравюра. Дж. Гертин (ок. 1780—?). Опубл. в
изд.: 75 Portraits of Celebrated Painters From Authentic Originals. L., 1817.
Ил. 57. Бартоломе Эстебан Мурильо (1618—1682). Гравюра. Английская школа.
Опубл. в 1833 г. Частная коллекция.
Ил. 58. Никола Пуссен (1594-1665). Литография. Ф.-С. Дельпеш (1778-1825). Нёв-
шатель (Швейцария). Публичная и университетская библиотека.
Ил. 59. Клод Лоррен (1600—1682). Гравюра. Французская школа. Мастер У. Холл
(1771-1838). 1830-е годы. 11 х 13,5 см. Опубл. в изд.: The Letters of Horace
Walpole...
Ил. 60. Петер Пауль Рубенс (1577—1640). Гравюра. Английская школа. Нач. XIX в.
Частная коллекция.
Ил. 61. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669). Гравюра. Английская школа.
Опубл. в 1833 г. Частная коллекция.
680
Приложения
Ил. 62. Сэр Джошуа Рейнолдс (1723—1792). Гравюра. Автопортрет. Опубл. в изд.:
Duykinck E.A. Op. cit.
Ил. 63. Уильям Хогарт (1697—1764). Гравюра. Автопортрет. Опубл. в 1833 г.
Ил. 64. Ричард Уилсон (1714-1782). Гравюра. Худ. А.-Р. Менгс (1728-1779), мастер
Ч. Пай. Нач. XIX в. Частная коллекция.
Ил. 65. Бенджамин Уэст (1738—1820). Гравюра. Дж.-Г. Харлоу (1787—1819), мастер
Дж. Дженкинс. Опубл. в изд.: J er dan W. Op. cit.
Ил. 66 Генри Фюзели (1741-1825). Гравюра. Худ. Дж.-Г. Харлоу (1787-1819). Опубл.
в изд.: J er dan W. Op. cit
Театральные актеры
Ил. 67. Дэвид Гаррик (1717—1779) с супругой. Гравюра. Худ. У. Хогарт (1697—1764),
мастер Г. Борн. 1855. 19,05 х 26,7 см. Частная коллекция (оригинал
портрета — Виндзорский замок, Англия).
Ил. 68. Эдмунд Кин (1787-1833). Меццотинт. Э. Рейнолдс, С.-У. Рейнолдс (1773—
1835). 8,9 х 10,8 см. Частная коллекция театральных гравюр.
Ил. 69. Джозеф Шеперд Манден (1758-1832). Гравюра. Дж. Конде (1767-1794).
1792. 8 х 9,8 см. Частная коллекция театральных гравюр.
Ил. 70. Джон Куик (1748-1831). Гравюра. Дж. Конде (1767-1794). 1793. 7,62 х 9,52 см.
Частная коллекция театральных гравюр.
Ил. 71. Уильям Томас Льюис, по прозвищу Джентльмен Льюис (1749—1811).
Гравюра (акватинт). Худ. М. Браун (1761—1831), мастер Дж. Корнер (творил в
1787—1816 гг). 1790. 8 х 10,2 см. Частная коллекция театральных гравюр.
Ил. 72. Джон Филип Кембл (1757—1823). Гравюра (офорт). Худ. У.-Н. Гардинер
(1766-1814), мастер С. Хардинг (1745-1809). 1797. 12,4 х 15 см. Частная
коллекция театральных гравюр.
Ил. 73. Сэмюэл Симмонс (ок. 1773—1819). Гравюра. С. Де Вильде (1748—1832),
С. Фримен. 1808. 7,62 х 8,9 см. Изд. Верной, Худ и Шарп. Частная
коллекция театральных гравюр.
Ил. 74. Чарлз Мейн Янг (1777-1856). Гравюра. Худ. Дж.-У. Рабидж (1802-1827),
мастер Г. Купер. 1828. 11,43 х 22 см. Изд. Дин и Мандей. Частная
коллекция театральных гравюр.
Ил. 75. Чарлз Мэтьюз (1776—1835). Гравюра. Худ. Дж. Лонсдейл (1777—1839),
мастер У. Грейтбах (1802 - ок. 1885). 1838. 8,6 х 10,5 см. Изд. Р. Бентли.
Частная коллекция театральных гравюр.
Ил. 76. Джон Листон (1776—1846). Гравюра. Худ. Дж. Джексон (1778—1831),
мастер Дж. Кук. 1846. 8,9 х 10,8 см. Изд. Р. Бентли. Частная коллекция
театральных гравюр.
Йл. 77. Сара Сиддонс (1755-1831). Гравюра. Худ. Т. Гейнсборо (1727-1788). 1874.
14 х 17,8 см. Частная коллекция театральных гравюр.
Ил. 78. Фанни (Анна) Брентон Мерри (1768-1808). Гравюра Д. Эдвин. 1810. 9 х 10,5 см.
Частная коллекция театральных гравюр.
Ил. 79. Кэтрин Стивене (1794-1882). Гравюра. Дж.-С. Армитедж. 14,6 х 22,22 см.
Изд. Смит, Элдер и К°. Частная коллекция театральных гравюр.
Список иллюстраций
681
Ил. 80. Уильям Генри Уэст Бетти, мастер Бетти (1791—1874). Гравюра. Мастер
Льюис. 1805. 7,62 х 9,84 см. Частная коллекция театральных гравюр.
Государственные и политические деятели
Ил. 81. Георг, принц Уэльский (1762—1830), принц-регент, будущий король Георг IV.
Гравюра на меди. Худ. Дж. Хоппнер (1758—1810), мастер Г.-Х. Мейер (1782—
1847). 1814. 11 х 18 см. Опубл. в изд.: The History of the Wars of the French
Revolution. L., 1817.
Ил. 82. Уильям Питт (Младший) (1759—1806). Гравюра. Худ. Дж. Хоппнер (1758—
1810). Опубл. в изд.: Jerdan W. Op. cit.
Ил. 83. Джордж Каннинг (1770-1827). Гравюра. Худ. Т. Стюардсон (1781-1859).
Опубл. в изд.: Jerdan W. Op. cit.
Ил. 84. Артур Уэллсли, герцог Веллингтон (1769—1852). Гравюра. Худ. сэр Т.
Лоренс (1769-1830). Опубл. в изд.: Jerdan W. Op. cit.
Ил. 85. Роберт Стюарт, виконт Каслри (1769—1822). Гравюра на меди. Худ. Э. Шеп-
персон, мастер С.-Дж. Кэнтон. 12,5 х 16,5 см. Опубл. в изд.: The History of
the Wars of the French Revolution. L., 1817.
Ил. 86. Сэр Роберт Пиль (1788-1850). Гравюра. Худ. сэр Т. Лоренс (1769-1830).
Опубл. в изд.: Jerdan W. Op. cit.
Ил. 87. Генри Питер Брум (1778-1868). Гравюра. Худ. сэр Т. Лоренс (1769-1830),
мастер и печатник У Уокер (1791-1867). 1831 (1825). 44,8 х 34,3 см.
Национальная портретная галерея (Лондон).
Ил. 88. Чарлз Джеймс Фокс (1749—1806). Гравюра. Английская школа. Нач. XIX в.
Частная коллекция.
Ил. 89. Грэнвилл Шарп (1735-1813). Гравюра. Худ. Л.-Ф. Абботт (1760-1803),
мастер Ч. Тернер (1773—1857). 1806. Частная коллекция.
Жанровые сцены
Ил. 90. Боксерский матч, проходящий на корте для игры в мяч. Гравюра. Первая
треть XIX в. Частная коллекция.
Ил. 91. Корт в Лестер-Филдс (Лондон) для игры в мяч ракеткой. Гравюра. Первая
треть XIX в. Частная коллекция.
Музеи и театры
Ил. 92. Сомерсет-Хаус (вид со стороны Стрэнда). 1836. Опубл. издательством Ак-
керман и К°.
Ил. 93. Театр Ковент-Гарден. Гравюра. Опубл. в изд.: The Drama, or Theatrical
Pocket Magazine. 1824. Vol. 5.
Ил. 94. Театр Друри-Лейн. Гравюра. Нач. XIX в.
СОДЕРЖАНИЕ
ЗАСТОЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
I. О наслаждении живописью. Пер. С.Л. Сухарева 9
П. О наслаждении живописью (Окончание). Пер. С Л. Сухарева 19
III. О прошлом и будущем. Пер. СС Шик 29
IV. Гений и здравый смысл. Пер. СС Шик 39
V. Гений и здравый смысл (Окончание). Пер. СС Шик 51
VI. Портрет Коббета. Пер. СС Шик 60
VII. Об одержимости одной идеей. Пер. Н.Я. Дьяконовой 70
VQI. О невежестве ученых. Пер. И.Б. Комаровой 81
IX. Индийские жонглеры. Пер. Т.Е. Кадачшовой 90
X. О тех, кто живет своей жизнью. Пер. Н.Я. Дьяконовой 103
XI. Мысль и действие. Пер. Н.Я. Дьяконовой 115
XII. О составлении завещаний. Пер. HB. Екимовой 127
XIII. О некоторых противоречиях в «Лекциях» сэра Джошуа Рейнолд-
са. Пер. М.В. Куренной 137
XIV. В продолжение начатого разговора. Пер. М.В. Куренной 148
XV. Парадокс и банальность. Пер. Н.Я. Дьяконовой 165
XVI. Вульгарность и жеманство. Пер. Н.Я. Дьяконовой 177
XVII. Пейзаж Никола Пуссена. Пер. Н.Я. Дьяконовой 190
XVIII. Сонеты Милтона. Пер. Н.Я. Дьяконовой 196
XIX. О путешествиях. Пер. С. С. Шик 203
XX. Политики из кофейни. Пер. С С Шик 212
XXI. О литературной аристократии. Пер. Н.Я. Дьяконовой 228
XXII. О критике. Пер. Н.Я. Дьяконовой 239
XXIII. О великом и малом. Пер. Н.Я. Дьяконовой 253
XXIV. О простоте слога. Пер. Н.Я. Дьяконовой 269
XXV. Об изнеженности характера. Пер. Н.Я. Дьяконовой 276
XXVI. Почему нам нравится все далекое. Пер. Н.Я. Дьяконовой 284
XXVII. О корпоративных объединениях. Пер. Н.Я. Дьяконовой 293
XXVIII. Стоит ли актеру сидеть в ложе? Пер. Н.Я. Дьяконовой 302
XXIX. Об опасностях умственного превосходства. Пер. Н.Я. Дьяконовой .. 310
XXX. Покровительство и расхваливание. Пер. Н.Я. Дьяконовой 320
XXXI. О постижении особенностей характера. Пер. Н.Я. Дьяконовой 335
XXII. О живописном и идеальном (Отрывок). Пер. Н.Я. Дьяконовой 350
XXXIII. О боязни смерти. Пер. Н.Я. Дьяконовой 355
Дополнения
Гамлет. Пер. С.Л. Сухарева 367
Лир. Пер. СЛ. Сухарева 374
О поэзии вообще. Пер. Н.Я. Дьяконовой 394
Сэр Вальтер Скотт. Пер. Н.Я. Дьяконовой 412
Лорд Байрон. Пер. Н.Я. Дьяконовой 424
О разуме и воображении. Пер. М.В. Куренной 435
О радостях ненависти. Пер. М.В. Куренной 448
Прощание с искусством эссе. Пер. A.A. Сифуровой 459
Приложения
Н.Я. Дьяконова. Романтические очерки Уильяма Хэзлитта 469
А.Ю. Зиновьева. «Превращаться во что угодно»: Эстетические воззрения
Уильяма Хэзлитта 485
A.A. Липинская. Композиционные особенности очерка У. Хэзлитта
«О путешествиях» 519
Примечания. Сост. A.A. Липинская 523
Основные даты жизни и творчества Уильяма Хэзлитта 633
Указатель имен. Сост. A.A. Липинская и Л.А. Сифурова 638
Указатель литературных произведений. Сост. Л.А. Сифурова 667
Указатель произведений изобразительного искусства. Сост. АА. Сифурова 673
Список иллюстраций 676
Хэзлитт Уильям
Застольные беседы/Изд. подг. Н.Я. Дьяконова, А.Ю. Зиновьева, A.A. Липинская.
М: Ладомир: Наука, 2010. — 685 с, ил. (Литературные памятники)
ISBN 978-5-86218-481-5
Впервые публикуемое на русском языке, одно из наиболее знаменитых
произведений известнейшего английского писателя и критика Уильяма Хэзлитта
(1778—1830) «Застольные беседы» (1821) представляет собой тридцать три
очерка на самые разные темы (о великом и малом, о прошлом и будущем, о
невежестве ученых, о гении и здравом смысле, о живописном и идеальном, о
боязни смерти, о путешествиях и др.).
Своеобразие Хэзлитта как эссеиста проявляется в его поразительном
умении всесторонне изучить рассматриваемый предмет, каждый раз отыскать в
обыденном что-нибудь новое, неожиданное, восхититься привычным,
высказать оригинальную мысль об истертых до банальности вещах. Он никогда не
впадает в нравоучительный тон, в заумные рассуждения, его философия — это
философия обычного человека, отвлекшегося от повседневности,
увидевшего за серостью жизненной рутины красочный мир реальности и искусства.
Особенный интерес вызывают у писателя человек, его жизнь, черты
характера, способности и таланты, достоинства и недостатки; природа как основа
бытия и главное мерило для художественного творчества; общественные
явления; искусство и литература — причем обо всем Хэзлитт порой толкует таким
образом, что полностью обрушивает или заставляет критически пересмотреть
давным-давно сложившиеся у нас представления о мире.
Свои глубокие, нередко парадоксальные мысли автор очерков заключает
в лаконичные по форме, но емкие по содержанию высказывания, вошедшие
в «золотой фонд» афоризмов.
О блестящем таланте английского современника восторженно отзывался
Генрих Гейне, который следовал его литературному методу в своих «Путевых
картинах». Два тома хэзлиттовских сочинений хранились в библиотеке
Пушкина, и на некоторых страницах видны «отметки резкие ногтей»...
Помимо «Застольных бесед», в настоящее издание включены очерки из
других сборников писателя: о шекспировских персонажах — Гамлете и
короле Лире, о выдающихся писателях, живших в одно время с Хэзлиттом, —
лорде Байроне и сэре Вальтере Скотте, а также некоторые другие.
Издание снабжено научными статьями (о жизни и творчестве Хэзлитта, о
его эстетических взглядах и об одном из его очерков); обстоятельными
примечаниями, помогающими раскрыть необыкновенную эрудицию автора в
области литературы и искусства; указателями имен, литературных и
художественных произведений; иллюстрациями.
Научное издание
Хэзлитт Уильям
ЗАСТОЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
Утверждено к печати
Редакционной коллегией
серии «Литературные памятники»
Редактор
Л.А. Сифурова
Корректор
О.Г. Наренкова
Компьютерная верстка
О.Л. Кудрявцевой
Обработка иллюстраций и препресс
В.Г Курочкина
ИД № 02944 от 03.10.2000 г.
Подписано в печать 29.01.2010.
Формат 70 х ЭО1/^. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Гарнитура «Баскервиль».
Печ. л. 43. Тираж 1500 экз. Зак. №К-2822.
Научно-издательский центр «Ладомир»
124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а
Тел. склада: 8-499-729-96-70
E-mail: ladomirbook@gmail.com
Отпечатано
в ГУП «ИПК «Чувашия»
428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13
ISBN 978-5-86218^81-5
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ
Серия «Литературные памятники»
А. ДЁБЛИН
Берлин Александрплац
«Берлин Александрплац. История Франца Биберкопфа» (1929) — самое
известное сочинение немецкого прозаика и эссеиста Альфреда Дёблина (1878-1957),
один из ключевых романов 20-го столетия. Читателю впервые предлагается
полный текст произведения (для настоящего издания переведены многочисленные,
как идеологические, так и случайные, купюры, восстановлен графический облик
оригинала, чему сам автор придавал особое художественное значение).
Писателю удалось не просто воссоздать предельно точный портрет своей
эпохи, но соединить новаторскую технику письма с вечными проблемами бытия.
История бывшего грузчика, отсидевшего четыре года в тюрьме за убийство подруги,
перемежается картинами жизни Берлина 20-х годов прошлого века, подлинной
рекламой и газетными заметками того времени. Столь необычная, монтажная
техника письма позволяет погрузиться в атмосферу большого города, над которым
уже витает тень фашизма. Книга стала настоящей сенсацией, сразу же вызвав
громкие споры в среде немецких интеллектуалов о значении и судьбе прозаических
жанров в литературе XX в.
Эта полемика отражена в Дополнениях (ранее на русском языке не
издававшихся) к основному тексту, где помещена рецензия современника Дёблина,
немецкого философа Вальтера Беньямина, «Кризис романа», и ответ Дёблина; здесь же
представлена подборка о Берлине в жизни писателя, его очерки о поэтике и
эстетике, автобиографические сочинения, а также уникальная фотогалерея тех лет.
Экспериментальный, жанрово смелый для своего времени, но актуальный до
сих пор и изначально кинематографичный по форме, роман лег в основу
культового фильма Райнера Вернера Фасбиндера (1980).
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенные платежом в издательстве
по адресу: 124365, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: 8-499-717-98-33; тел. склада: 8-499-729-96-70.
E-mail: ladomirbook@gmail.com (в реквизитах электронного письма,
в разделе «Тема», укажите: «Ладомир»)
Для получения бесплатного перспективного плана изданий
«Ладомира» и бланка заказа вышлите маркированный конверт
по адресу издательства
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ
Серия «Литературные памятники»
М. ШЕЛЛИ
Франкенштейн,
или Современный Прометей
Последний человек
Представлены два наиболее значительных романа Мери Уолстонкрафт
Шелли (1797—1851) — одной из ключевых фигур в литературе европейского
романтизма. Знаменитый «Франкенштейн» (1818) — плод затеянного лордом Байроном на
швейцарской вилле Диодати в июне 1816 г. состязания в сочинении готических
историй — оказался главной книгой писательницы. Оригинальный философский
роман, один из ярчайших образцов романтической готики, «Франкенштейн»
вместе с тем явился отправной точкой научно-фантастической традиции в
повествовательной прозе Нового и Новейшего времени. За два столетия эта книга,
концептуально восходящая к античному мифу о Прометее, сама породила обширную
и влиятельную культурную мифологию, прирастающую все новыми текстами,
образами и смыслами. В настоящем издании «Франкенштейн» печатается в
редакции 1831 г., которая заметно отличается от текста первоиздания и представляет
окончательное воплощение авторской творческой воли; вместе с тем в
комментарии — впервые на русском языке — представлены все значимые для
переводной версии книги фрагменты первой редакции.
Впервые публикуется и роман «Последний человек» (1826), который роднит с
дебютной книгой автора тема экзистенциального испытания личности,
вовлеченной волей судьбы и логикой истории в неизбывно трагические жизненные
обстоятельства. Апокалиптические настроения и антиутопические мотивы сочетаются
в «Последнем человеке» с пронзительной любовной историей и явными
элементами «романа с ключом» — классической литературной формы, предполагающей
«кодирование» в тексте реальных лиц и подлинных ситуаций, известных
читателю: в слегка завуалированном виде в романе изображены ключевые фигуры из
романтического окружения Мери Шелли — лорд Байрон, Перси Биш Шелли,
Джейн Клер Клермонт и др.
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ
Серия «Литературные памятники»
БЮССИ-РАБЮТЕН
Любовная история галлов
Роже де Рабютен, граф де Бюсси, называемый Бюсси-Рабютен, — один из самых
литературно одаренных, остроумных, насмешливых и язвительных авторов XVII в.
Некоторые эпизоды биографии этого кузена знаменитой мадам де Севинье сами
кажутся взятыми из приключенческого романа. За свое произведение «Любовная
история галлов» — ходившую в рукописях и подпольных изданиях сатирическую
любовную хронику французского двора в период начала самостоятельного
правления короля Людовика XIV — он одновременно и удостоился прозвища
«французский Петроний», и угодил более чем на год в Бастилию, причем заключение
пришлось буквально несколькими месяцами позже принятия широко
прославившегося писателя во Французскую Академию (это произошло в марте 1665 г.).
Сочинение «Любовная история галлов», написанное для развлечения
возлюбленной Бюсси, маркизы де Монгла — яркий образец популярного в XVH—XVQI вв.
жанра — «роман с ключом». В нем даны живые, поразительные по схожести
портреты современников писателя: короля Людовика XIV, Великого Конде, Великой
Мадемуазель, герцога де Ларошфуко, кардиналов де Реца и Мазарини, маршала
де Тюренна, герцогинь де Шеврёз и де Лонгвиль, маркизы де Севинье и многих
других. Тогдашним придворным и завсегдатаям парижских салонов даже не надо
было разъяснений, кто из названных вымышленными именами персонажей кого
изображает: благодаря мастерству автора все узнавали за сатирическими, отнюдь
не льстивыми масками реальные лица.
Автор не раз удостаивался лестных отзывов тех, кто ценил в его сочинениях
изящество и чистоту стиля, а также остроумие — в частности, от писателей Лаб-
рюйера и Сент-Эвремона. А иезуиты, признававшие несомненный литературный
талант Бюсси, даже выражали желание, чтобы именно он написал критические
замечания на «Письма к провинциалу» Паскаля.
Сочинение «Любовная история галлов», множество раз переиздававшееся,
послужило основой для бесчисленных апокрифических подражаний и продолжений
как в прозе, так и стихах, оказало бесспорное влияние на дальнейшее развитие
реалистического романа.
Помимо «Любовной истории галлов» в книгу входят еще два произведения
Бюсси-Рабютена: «Карта страны Легкомыслия» и «Максимы любви», а также
другие тексты.