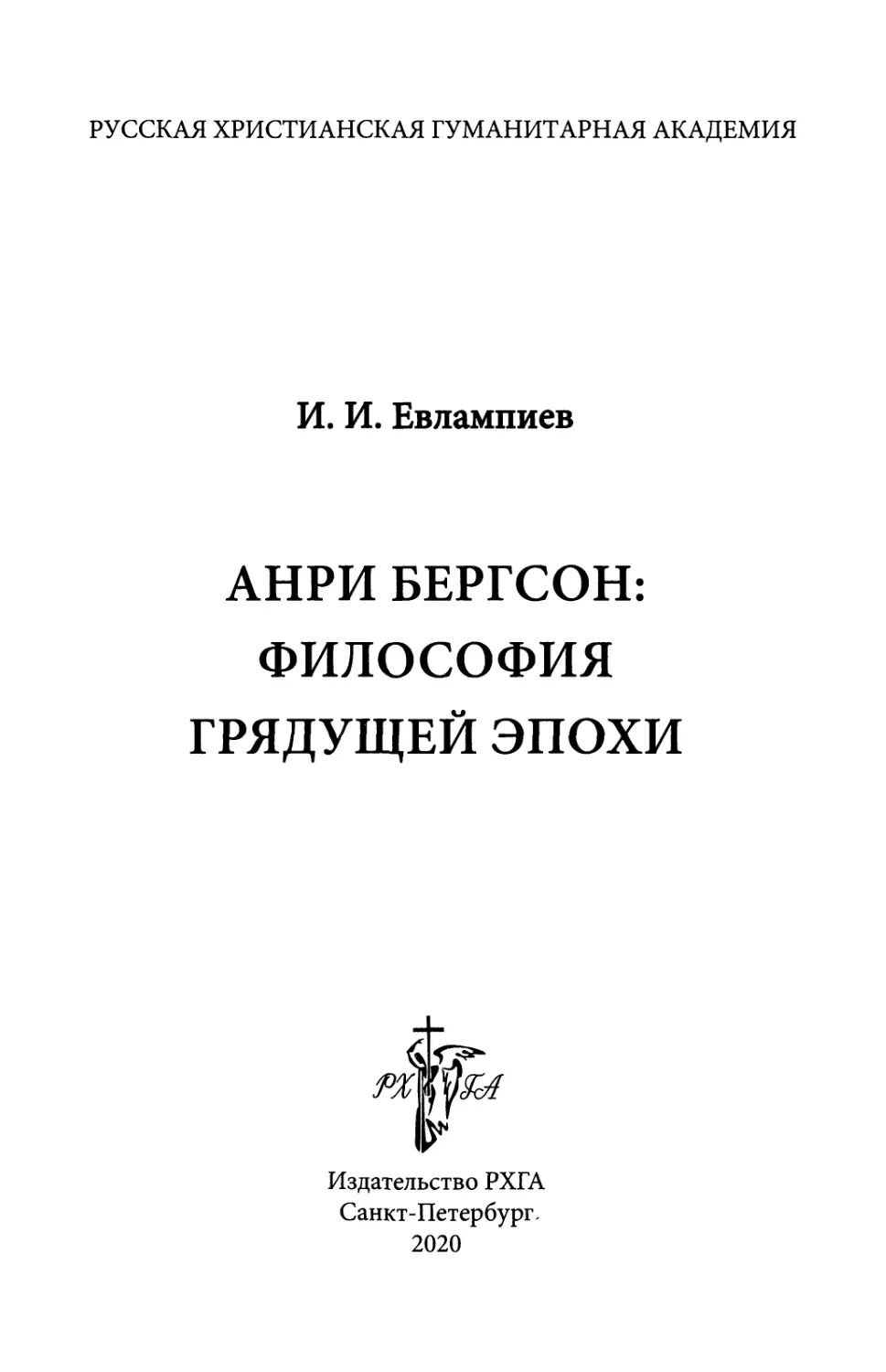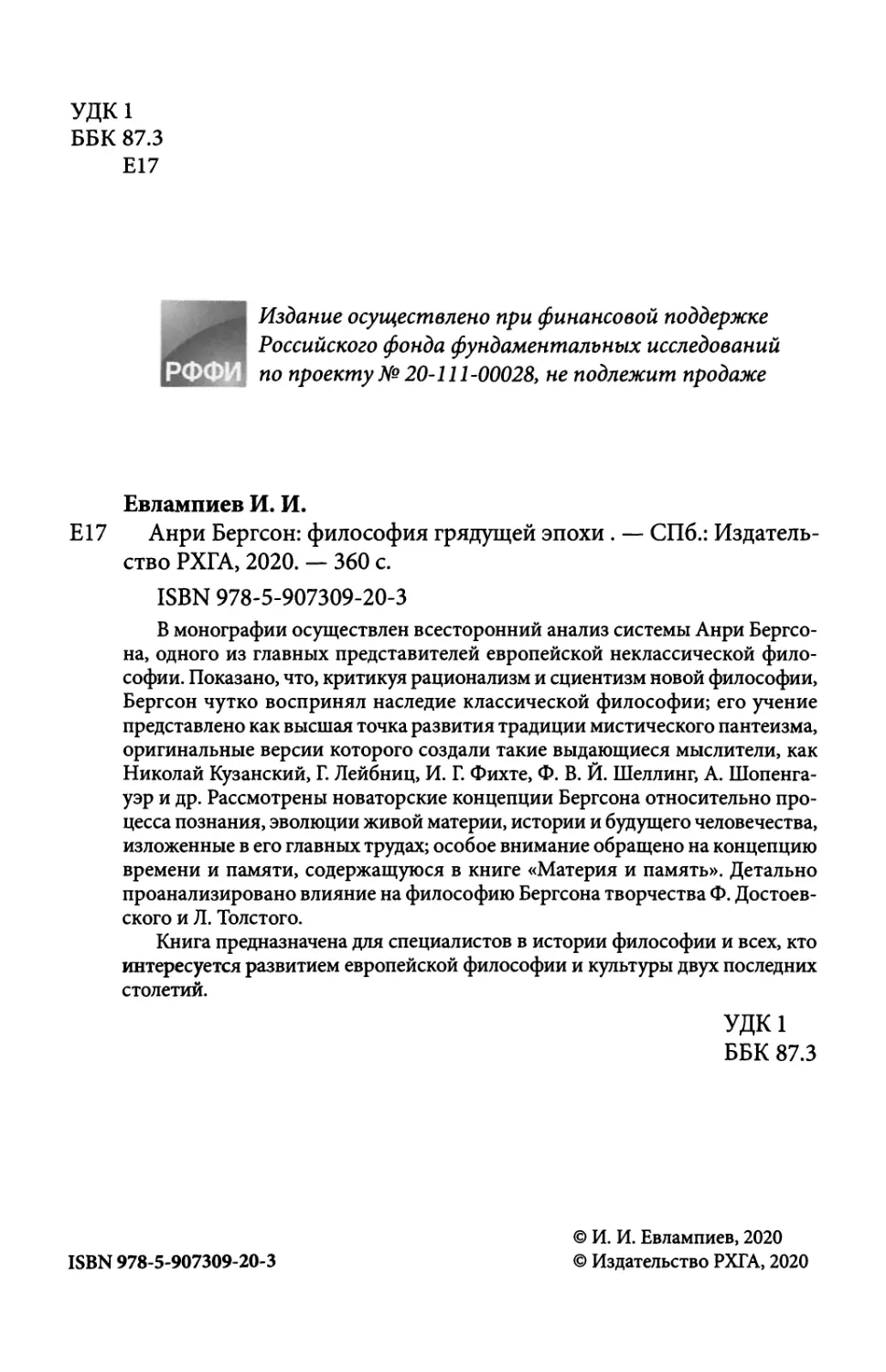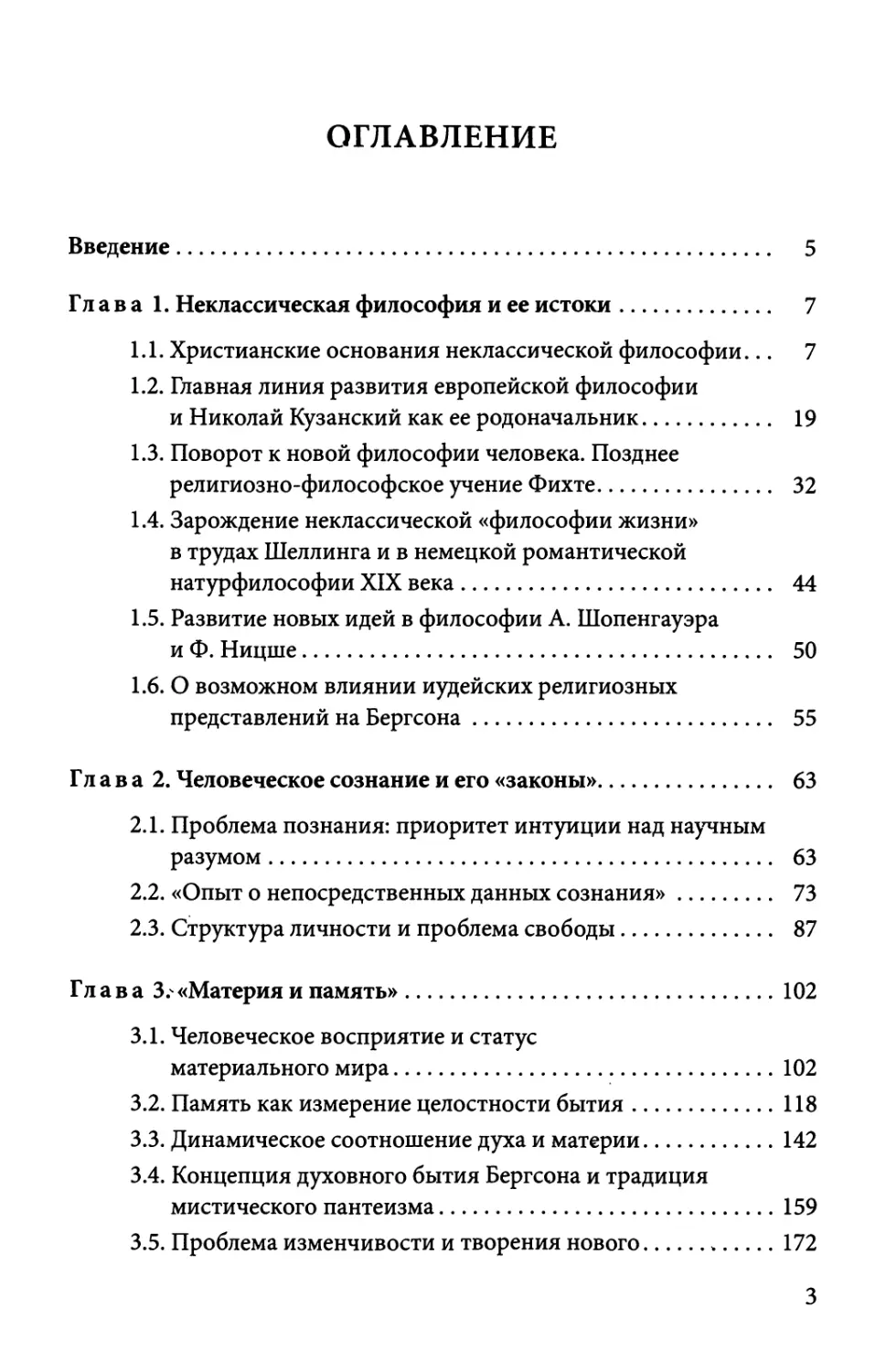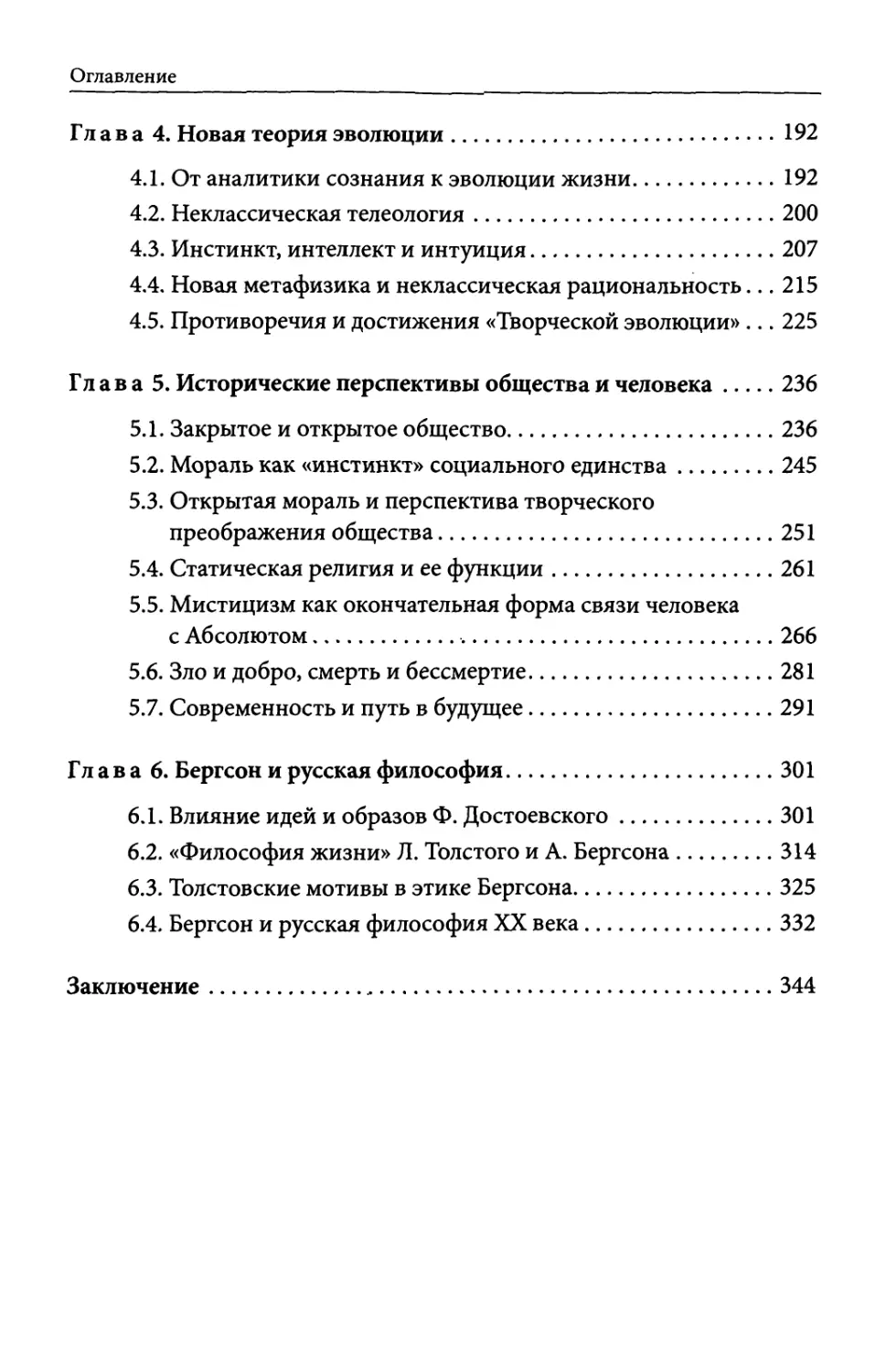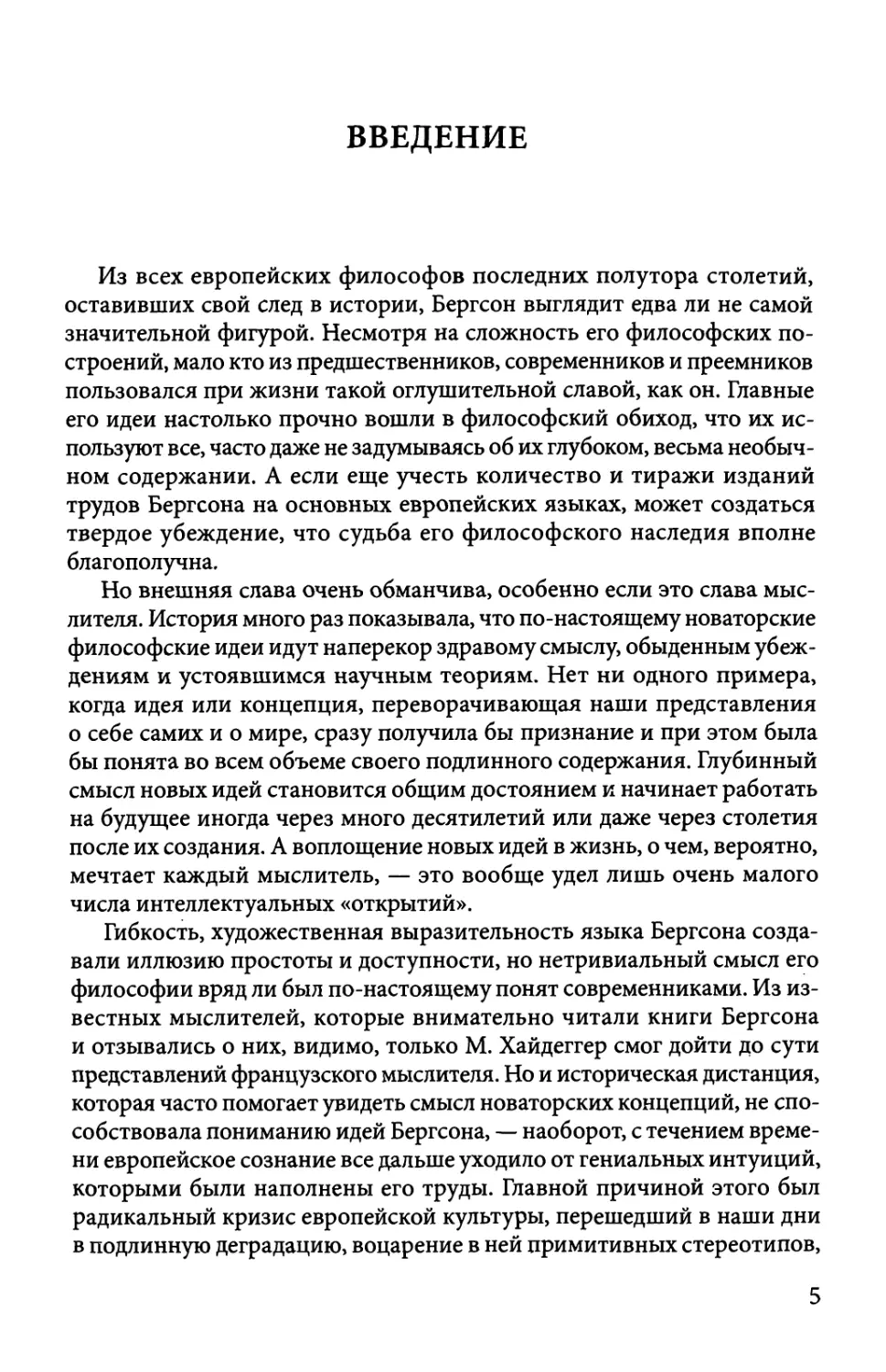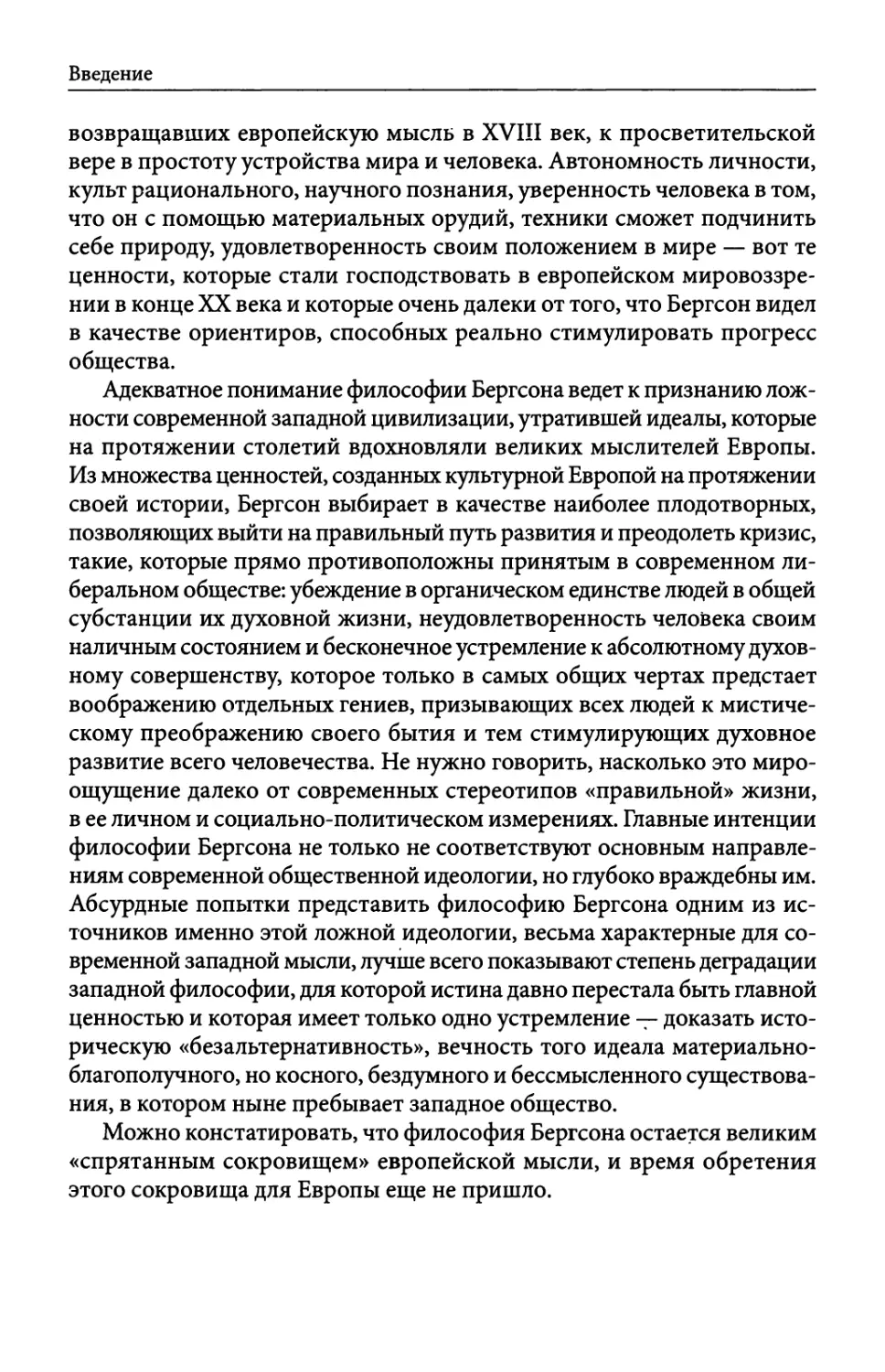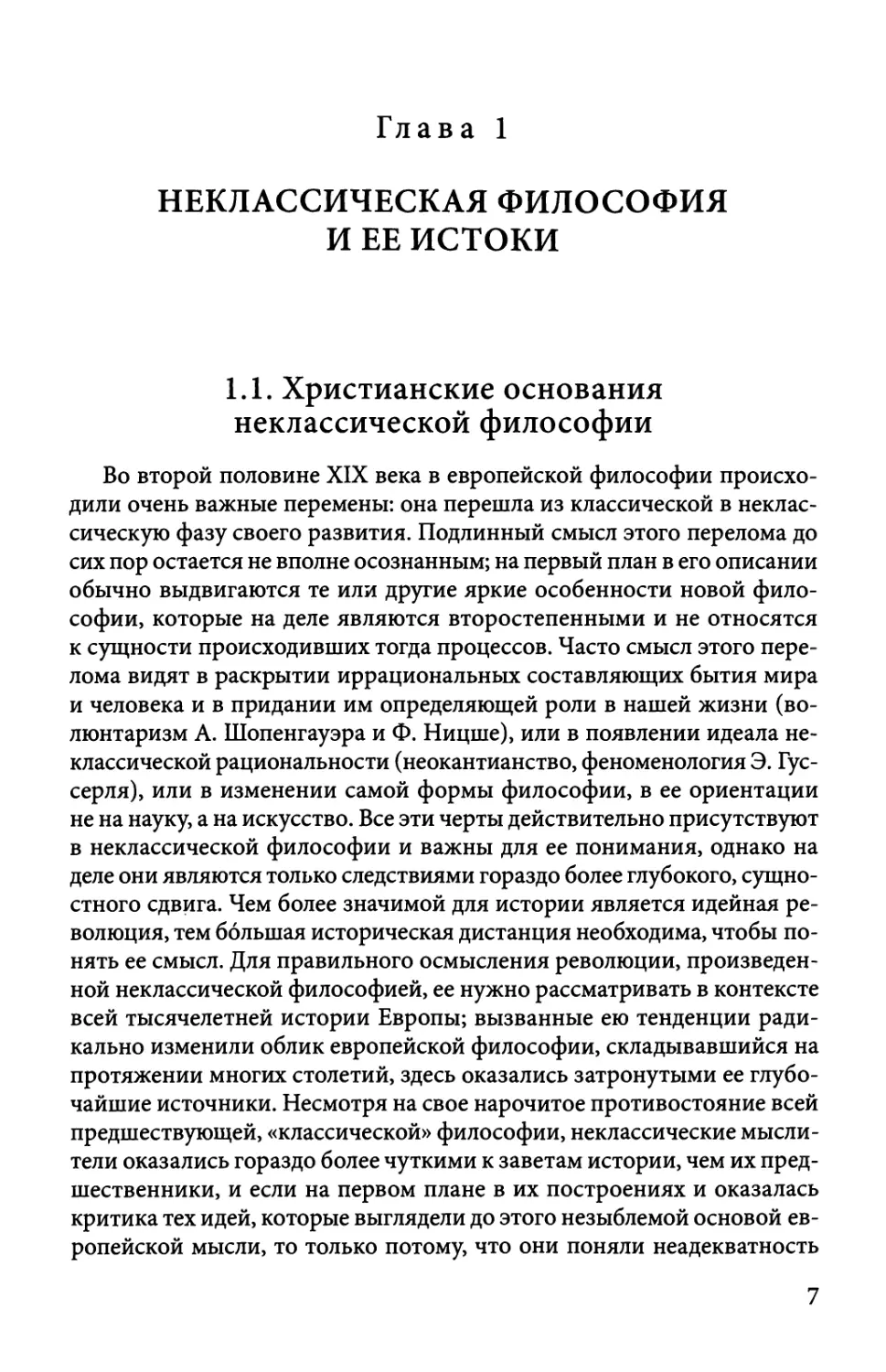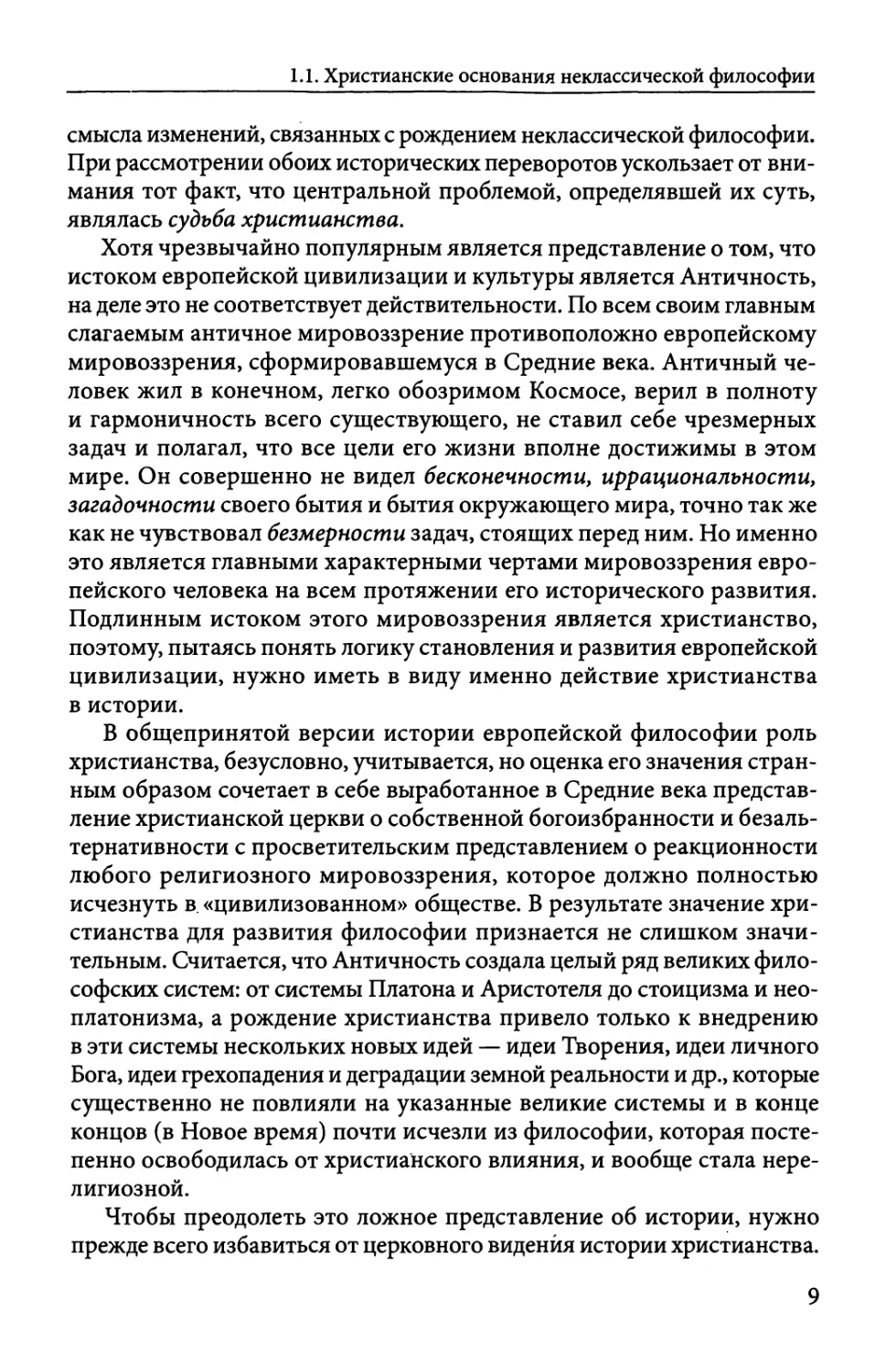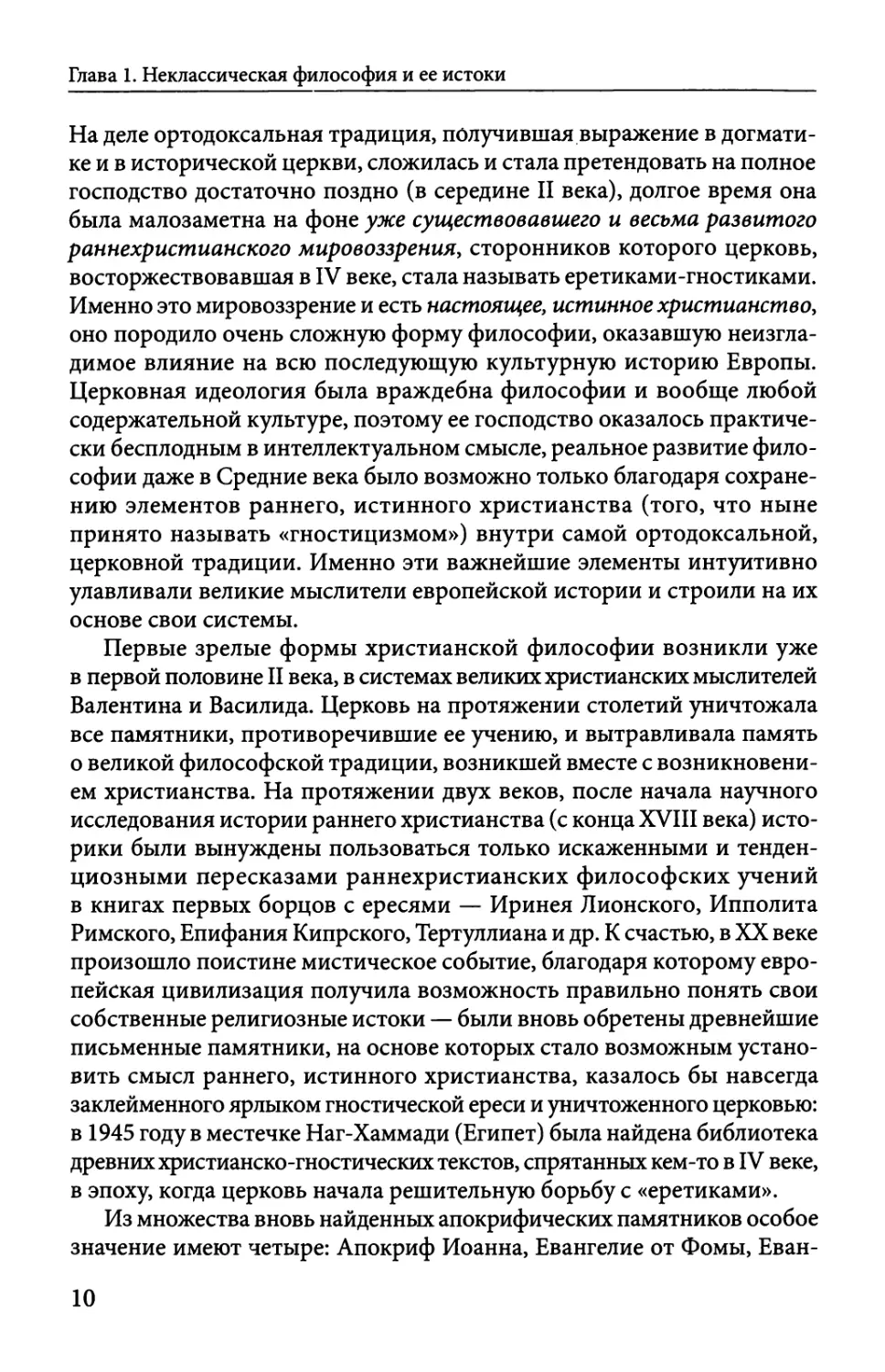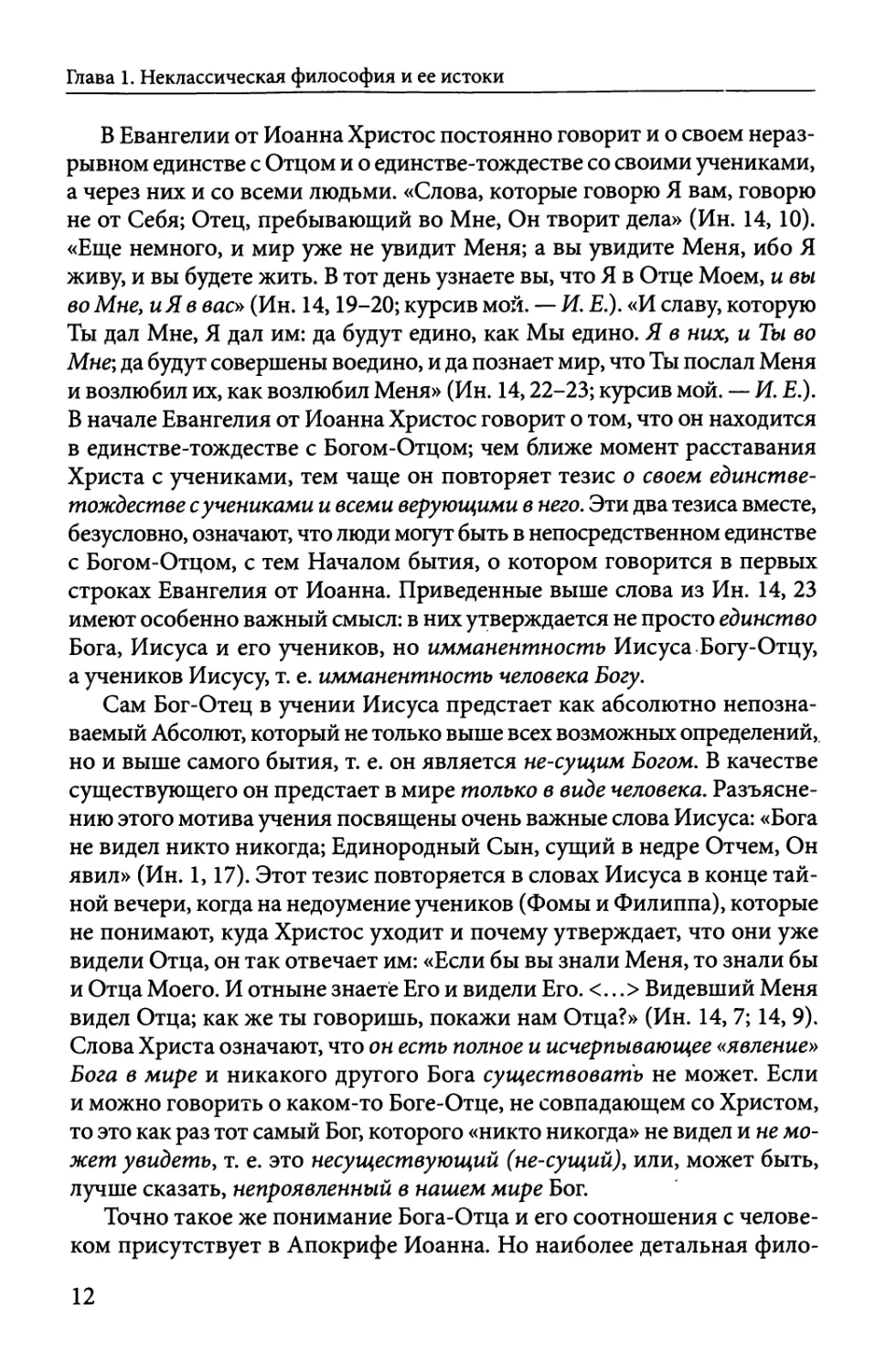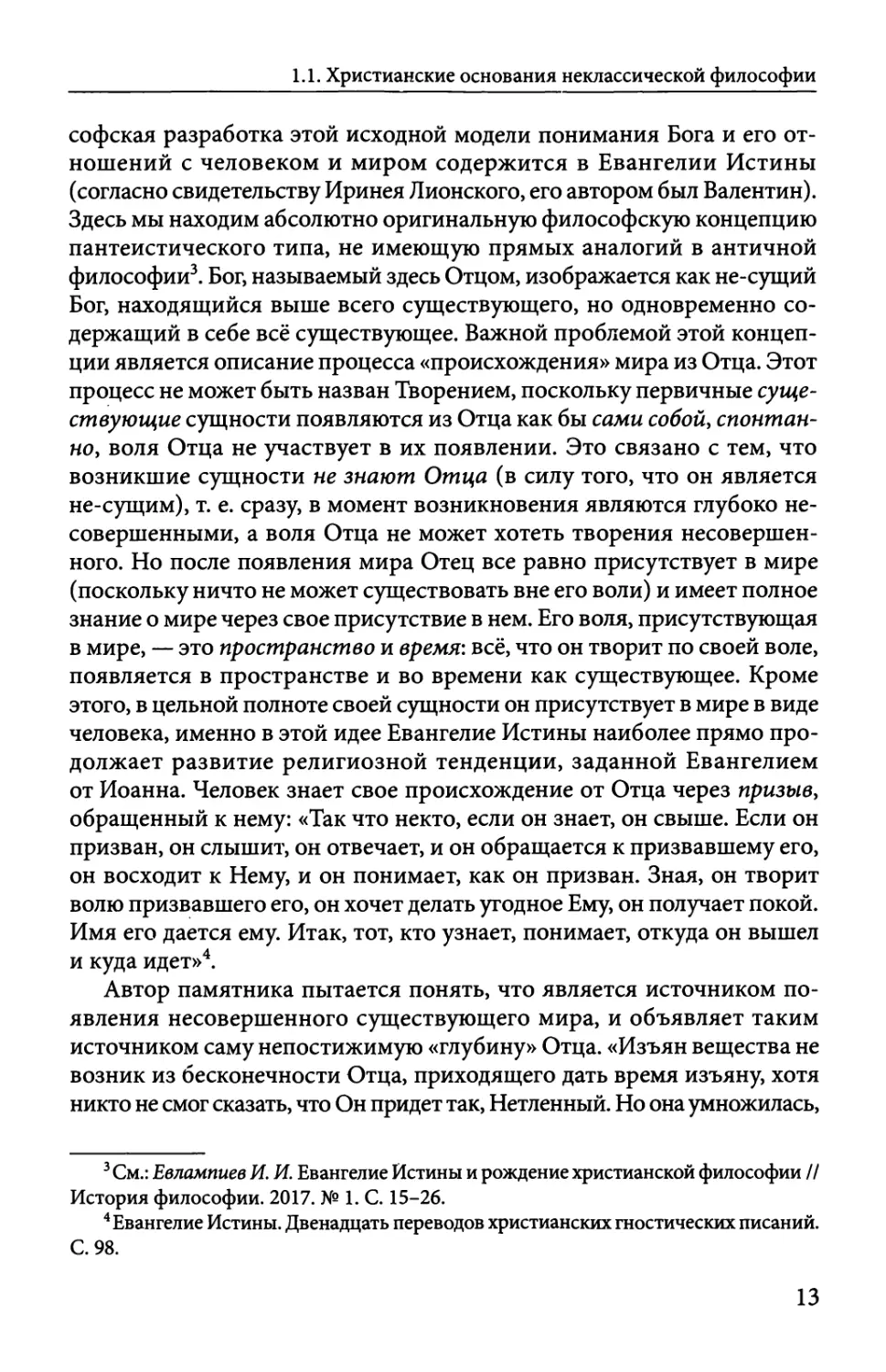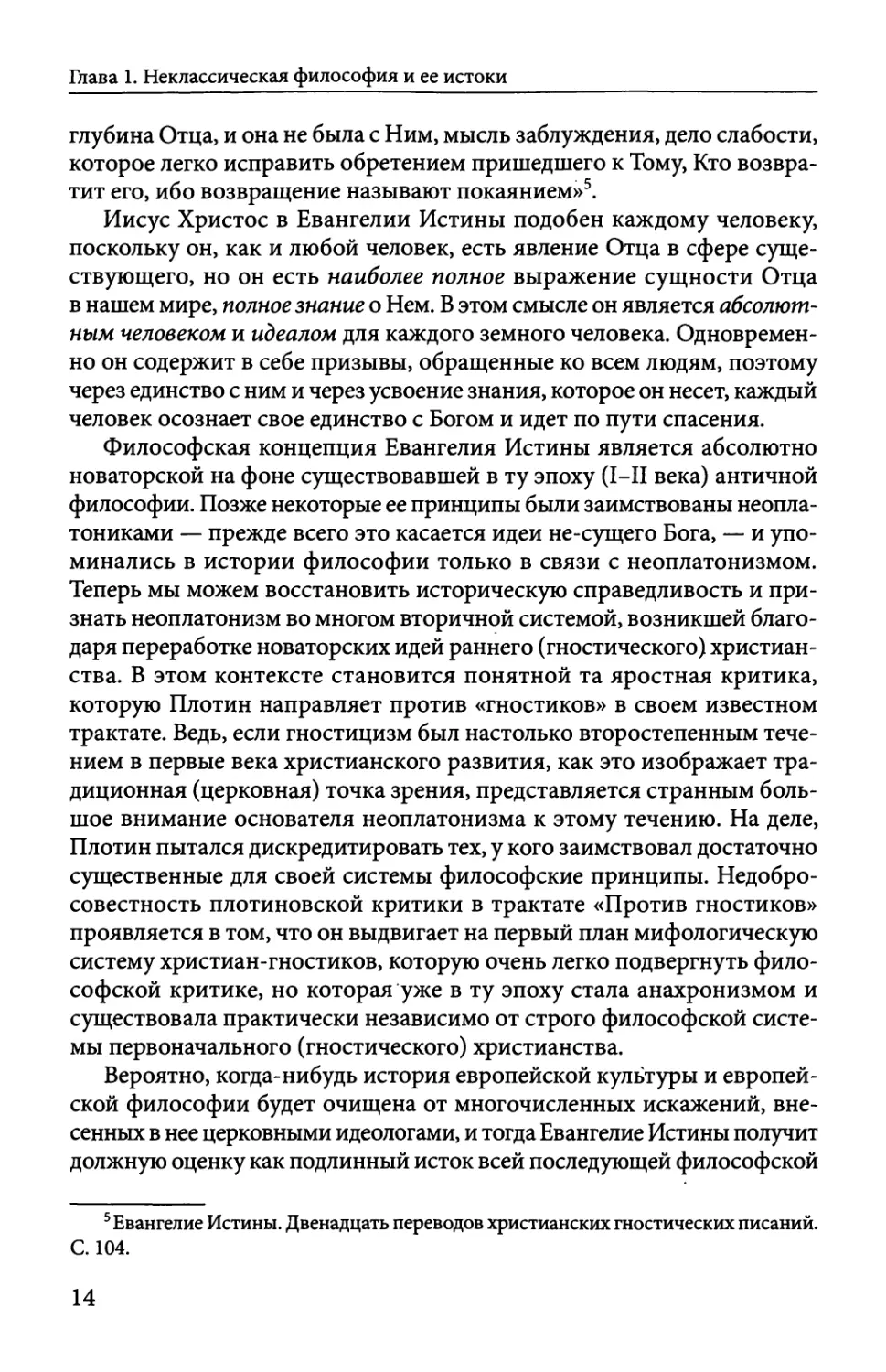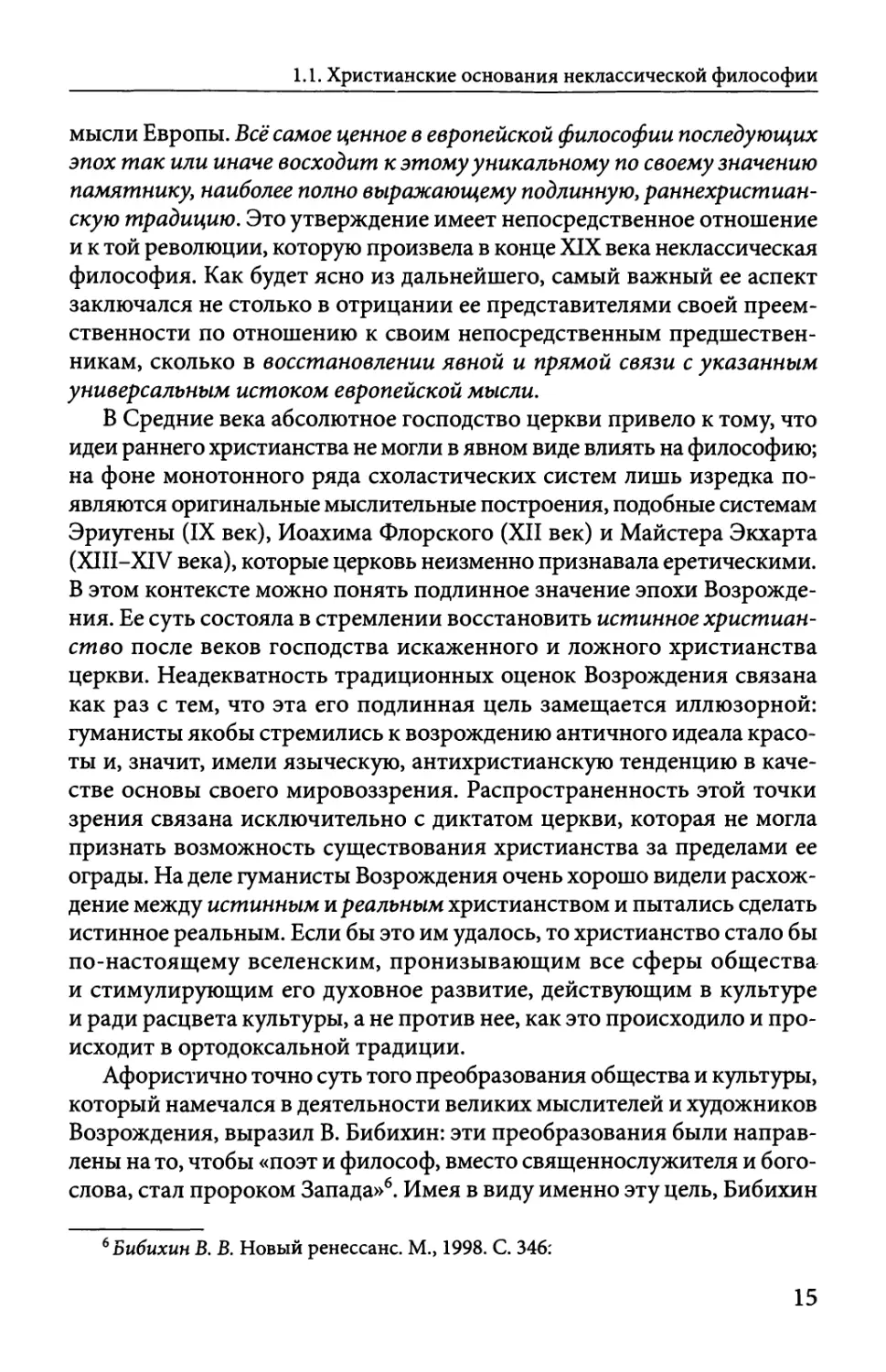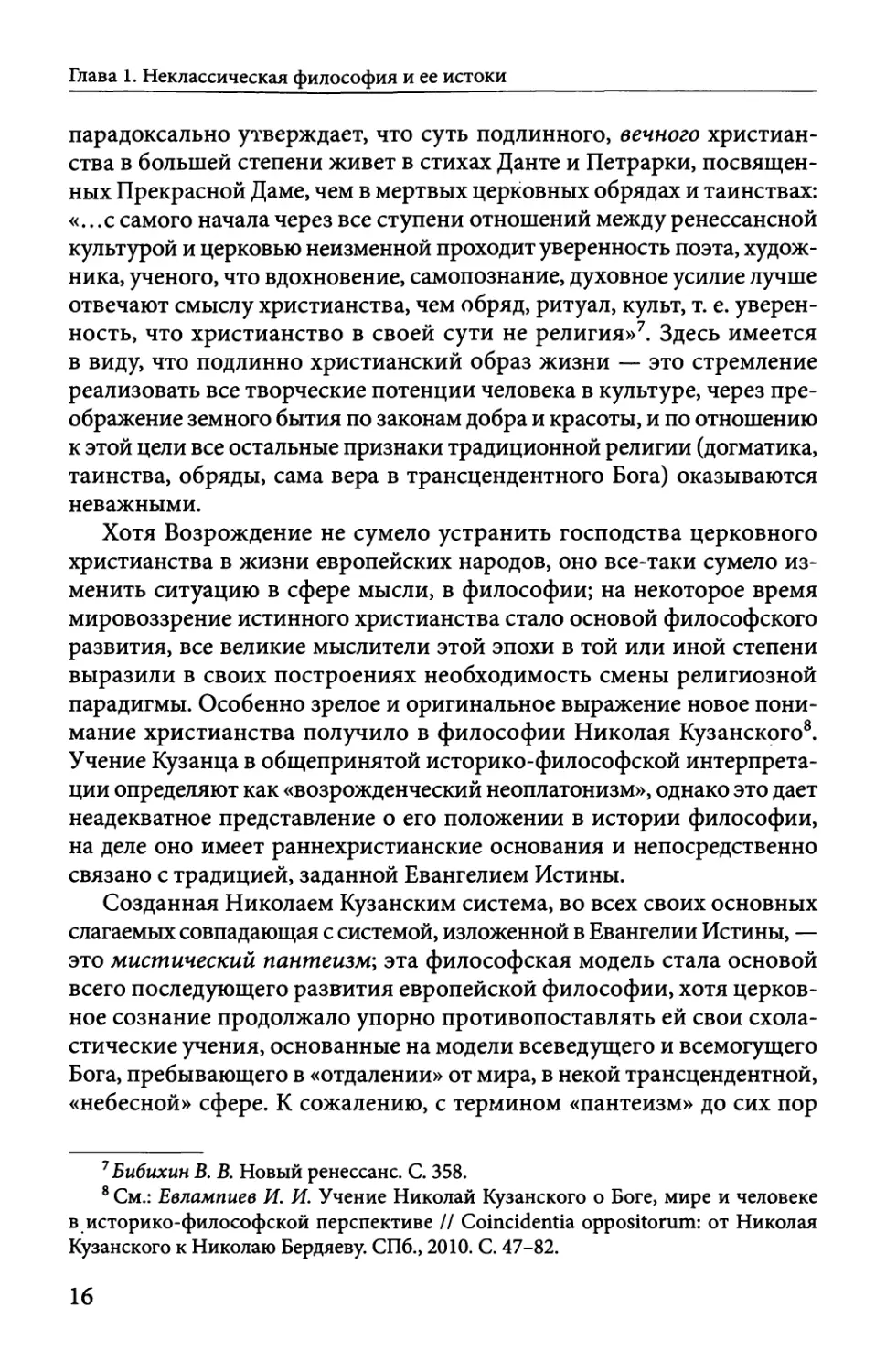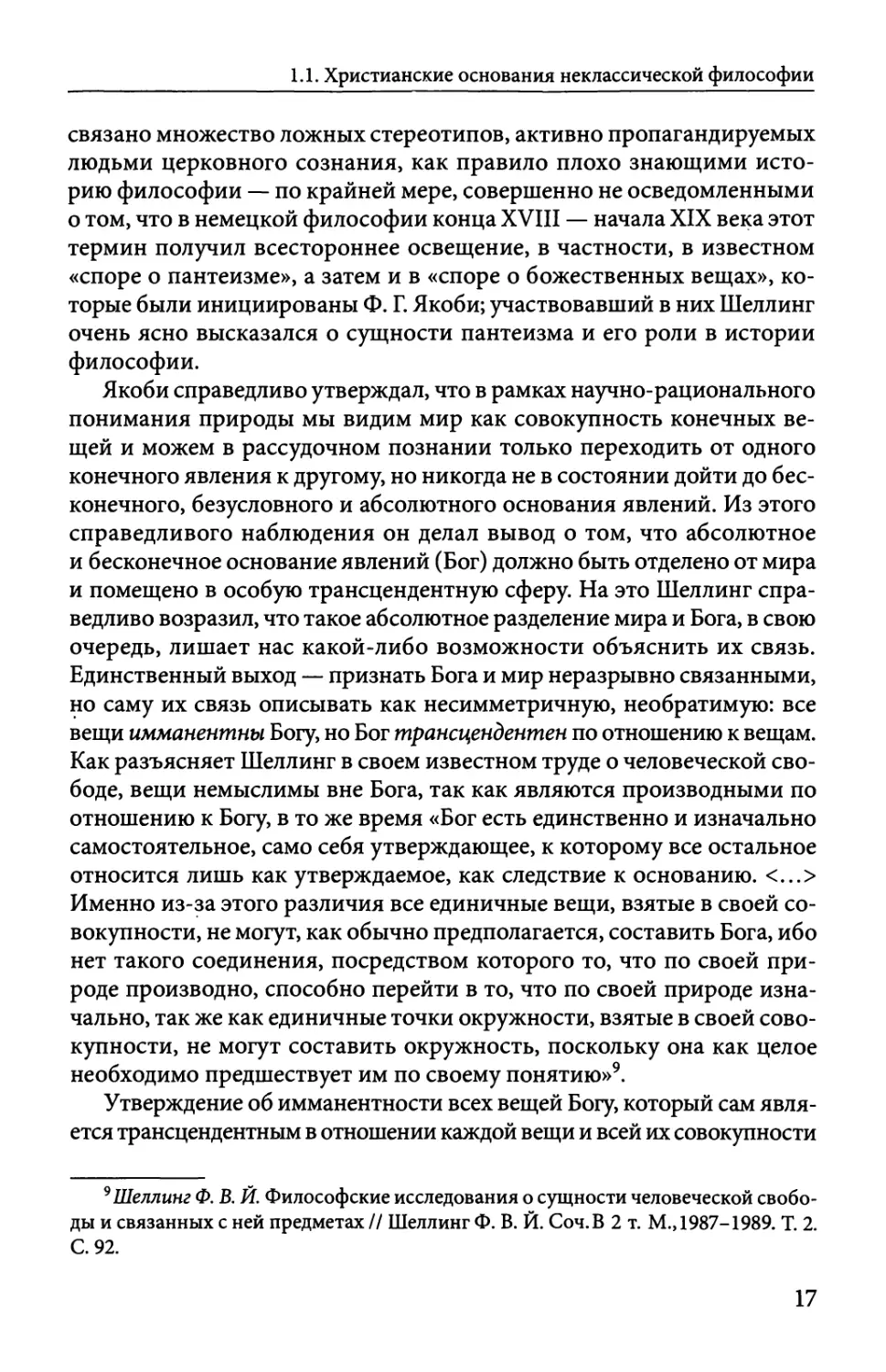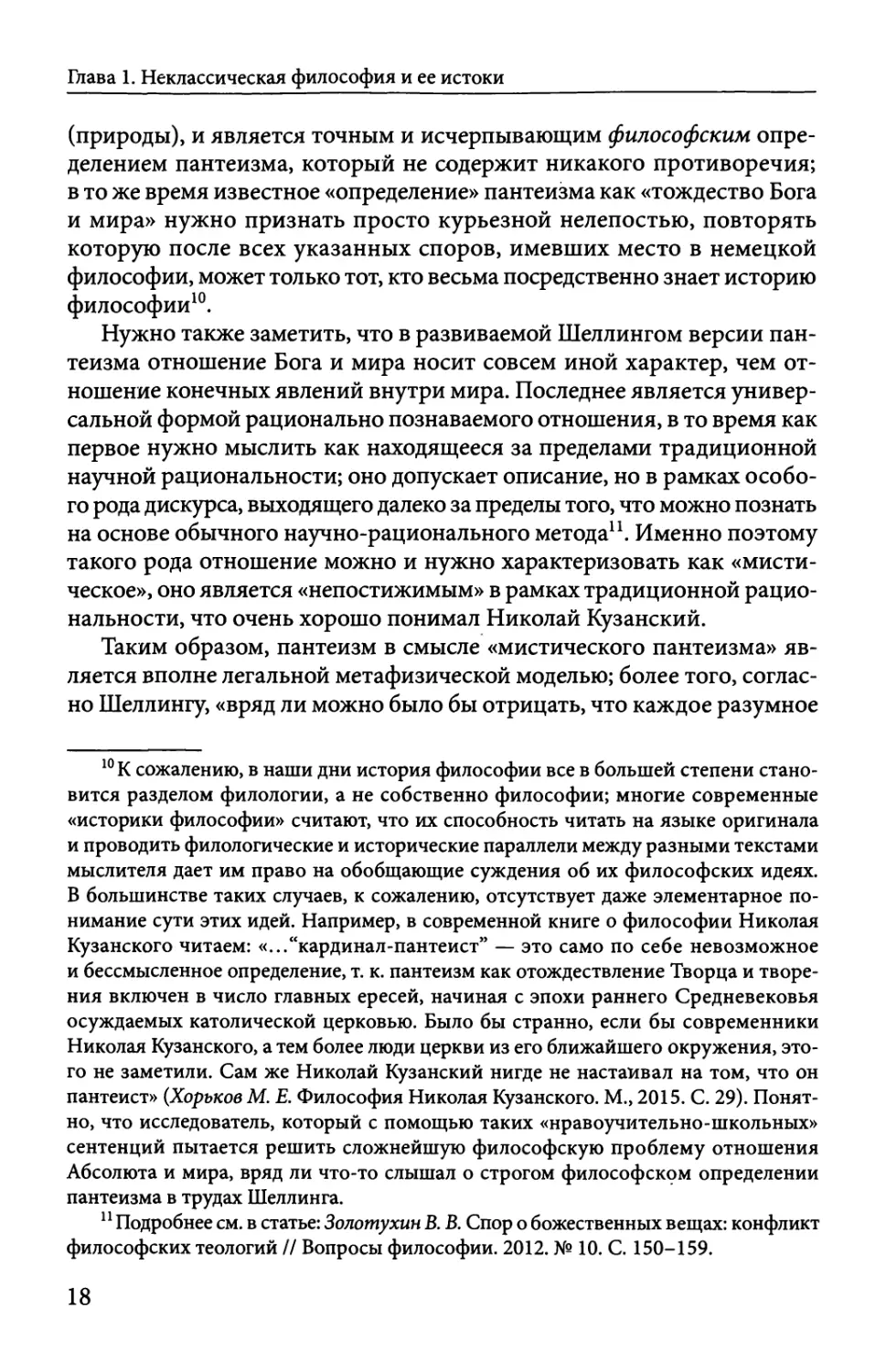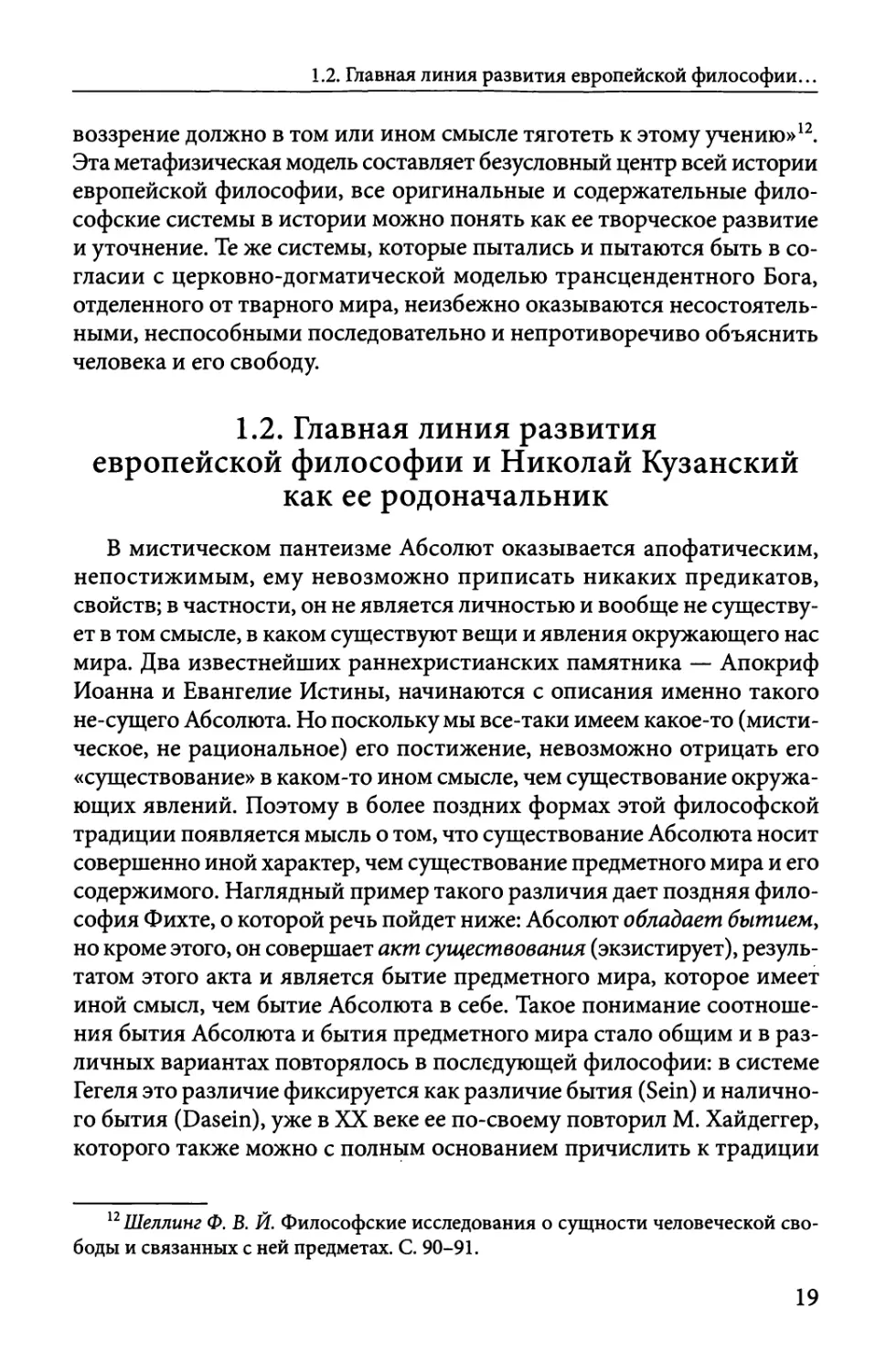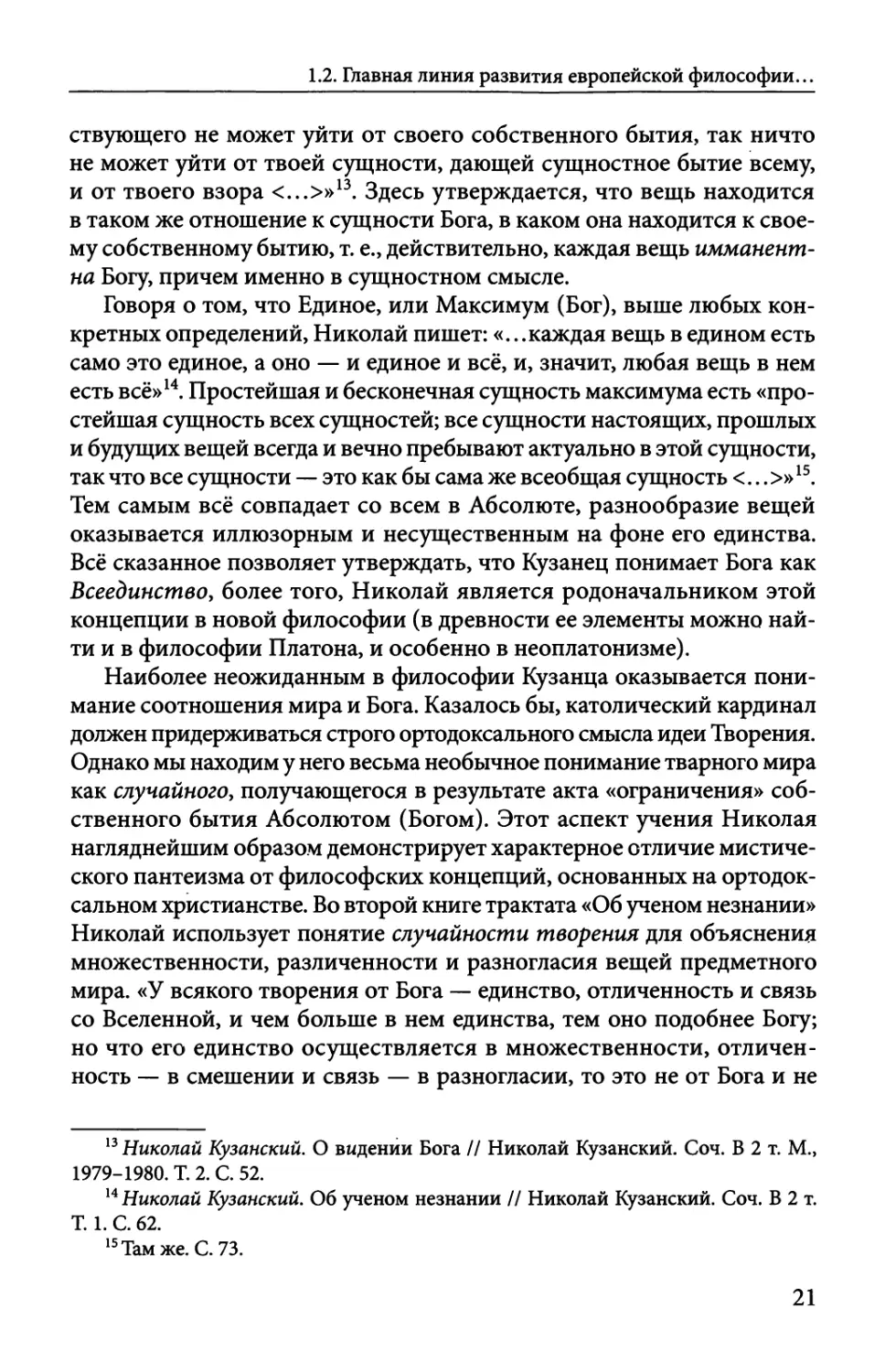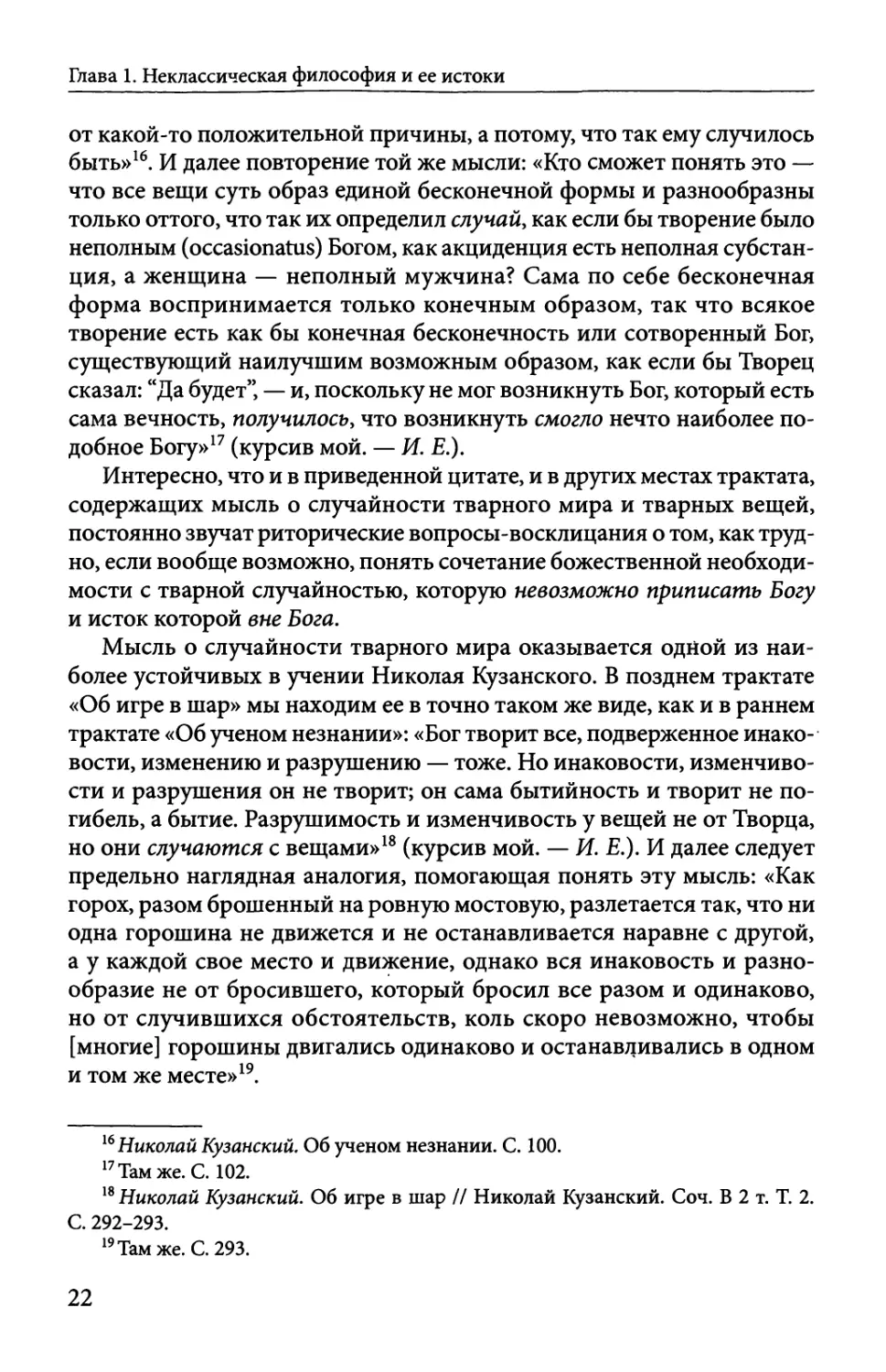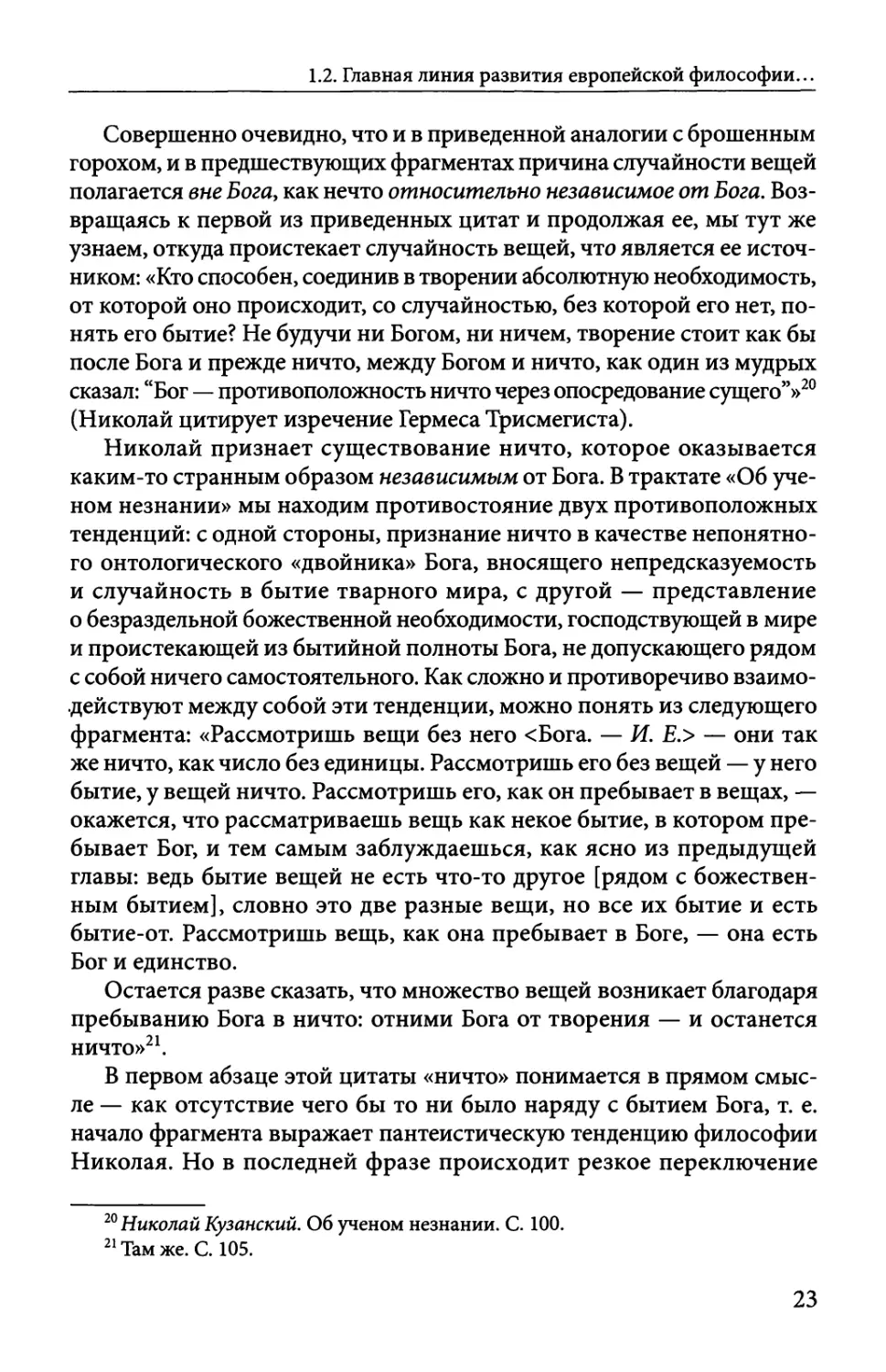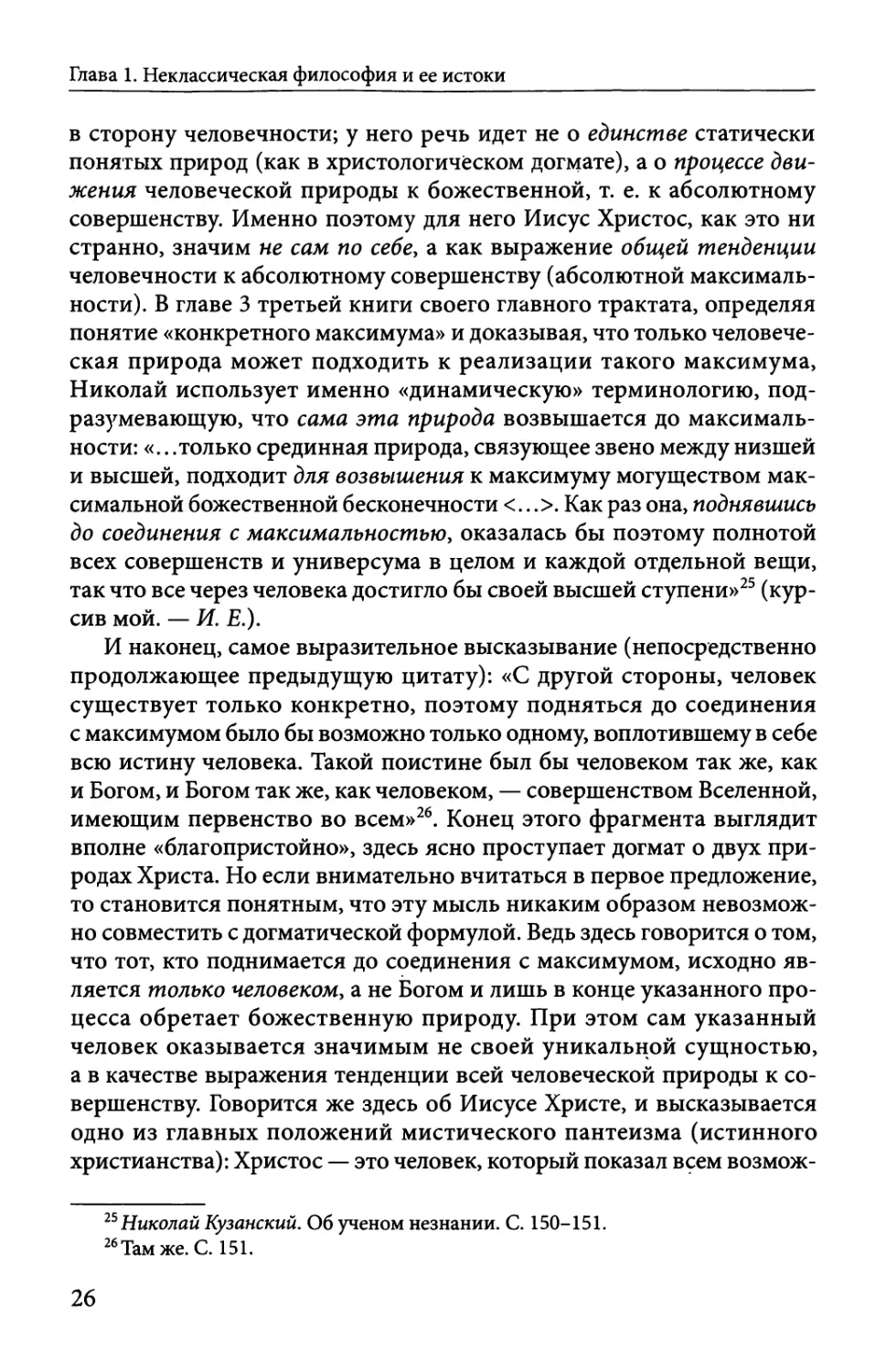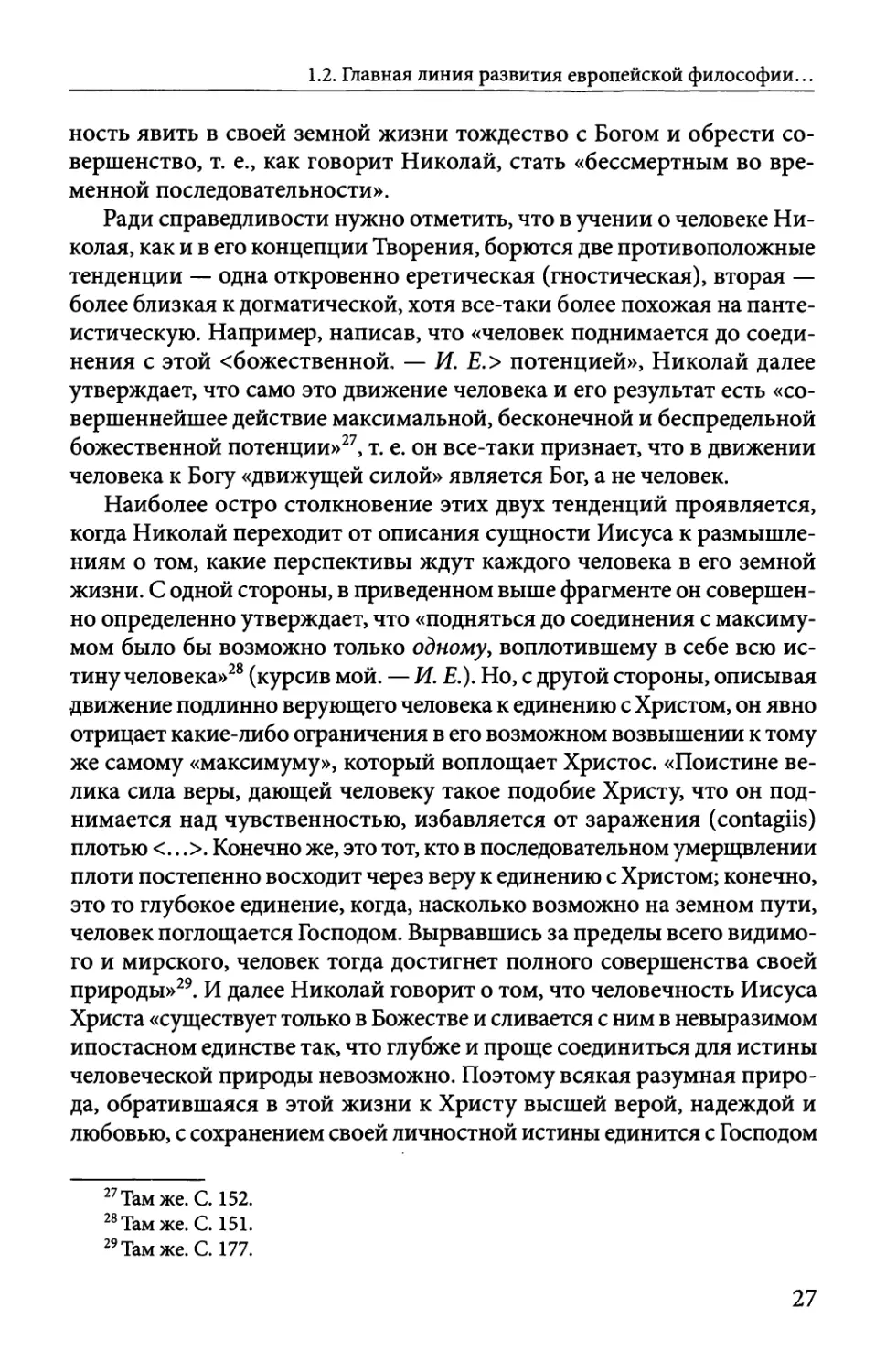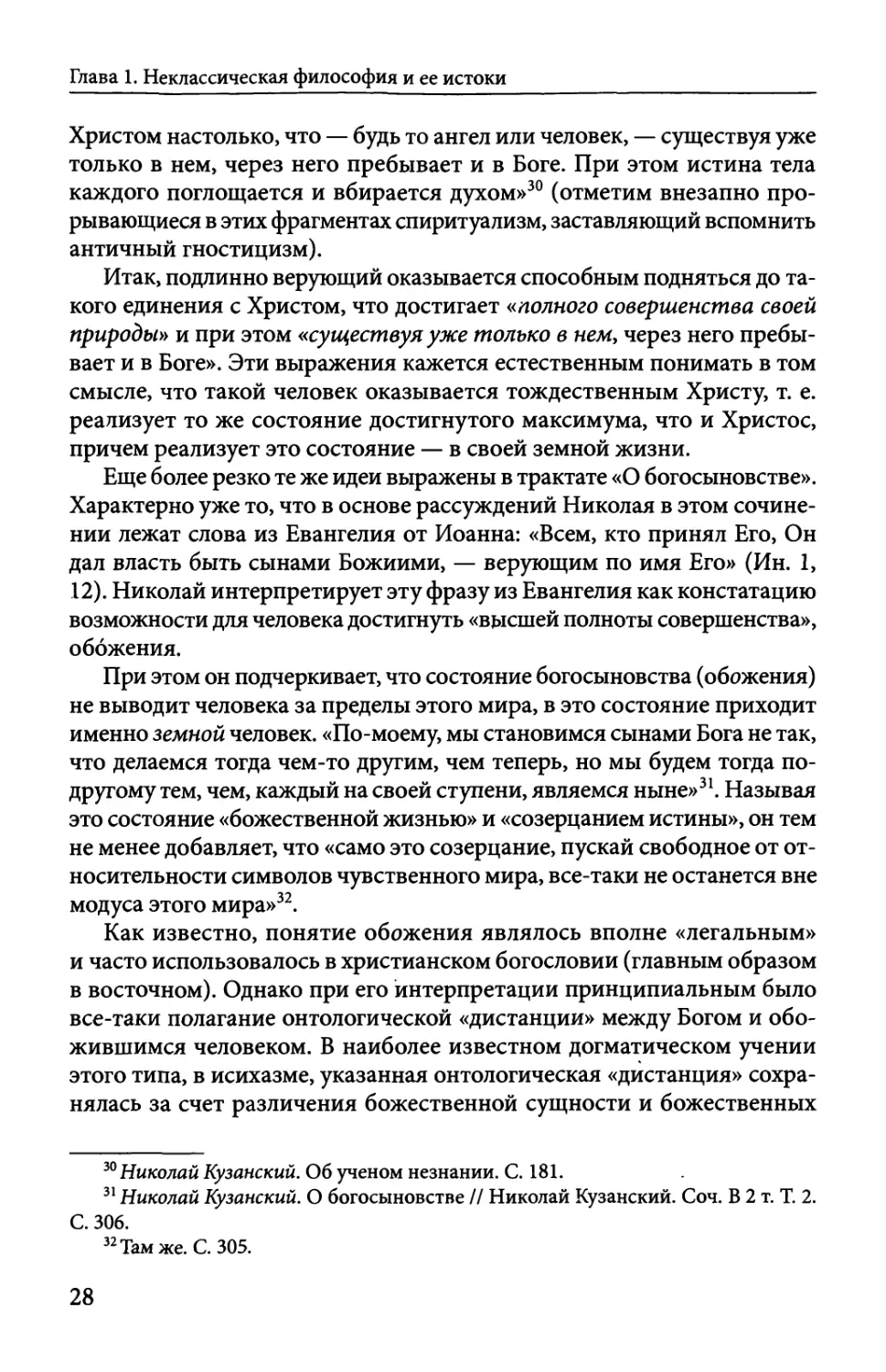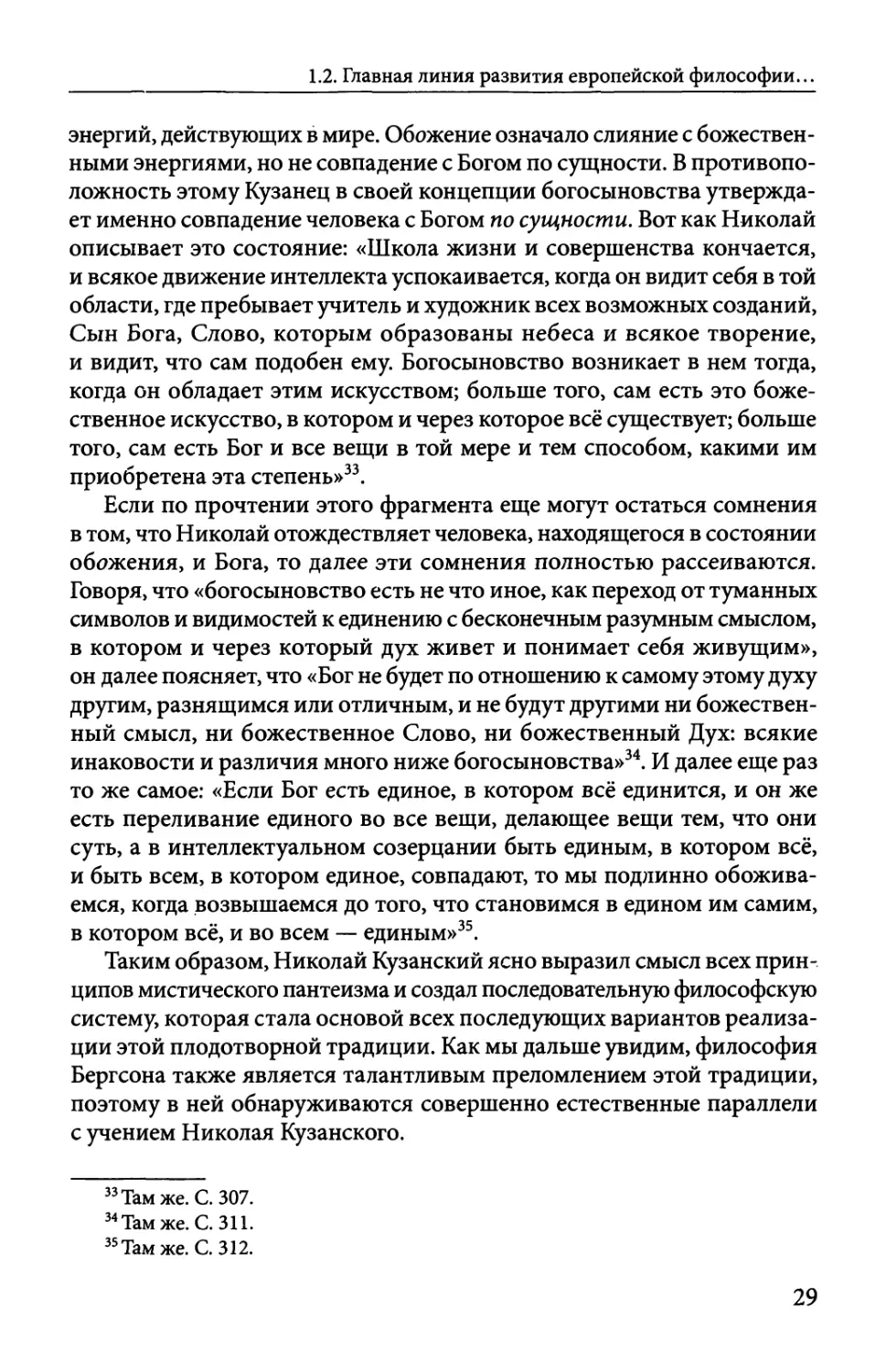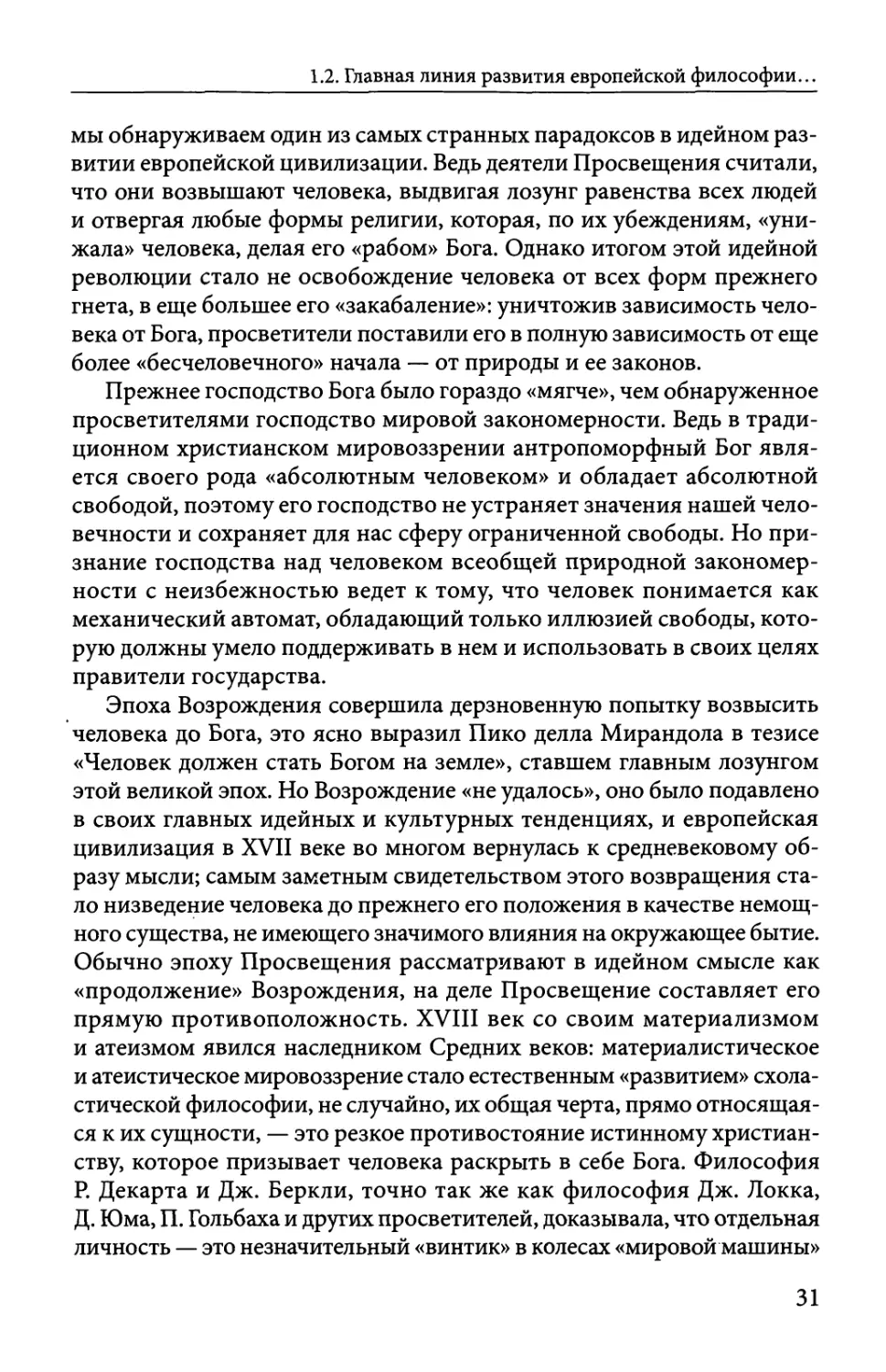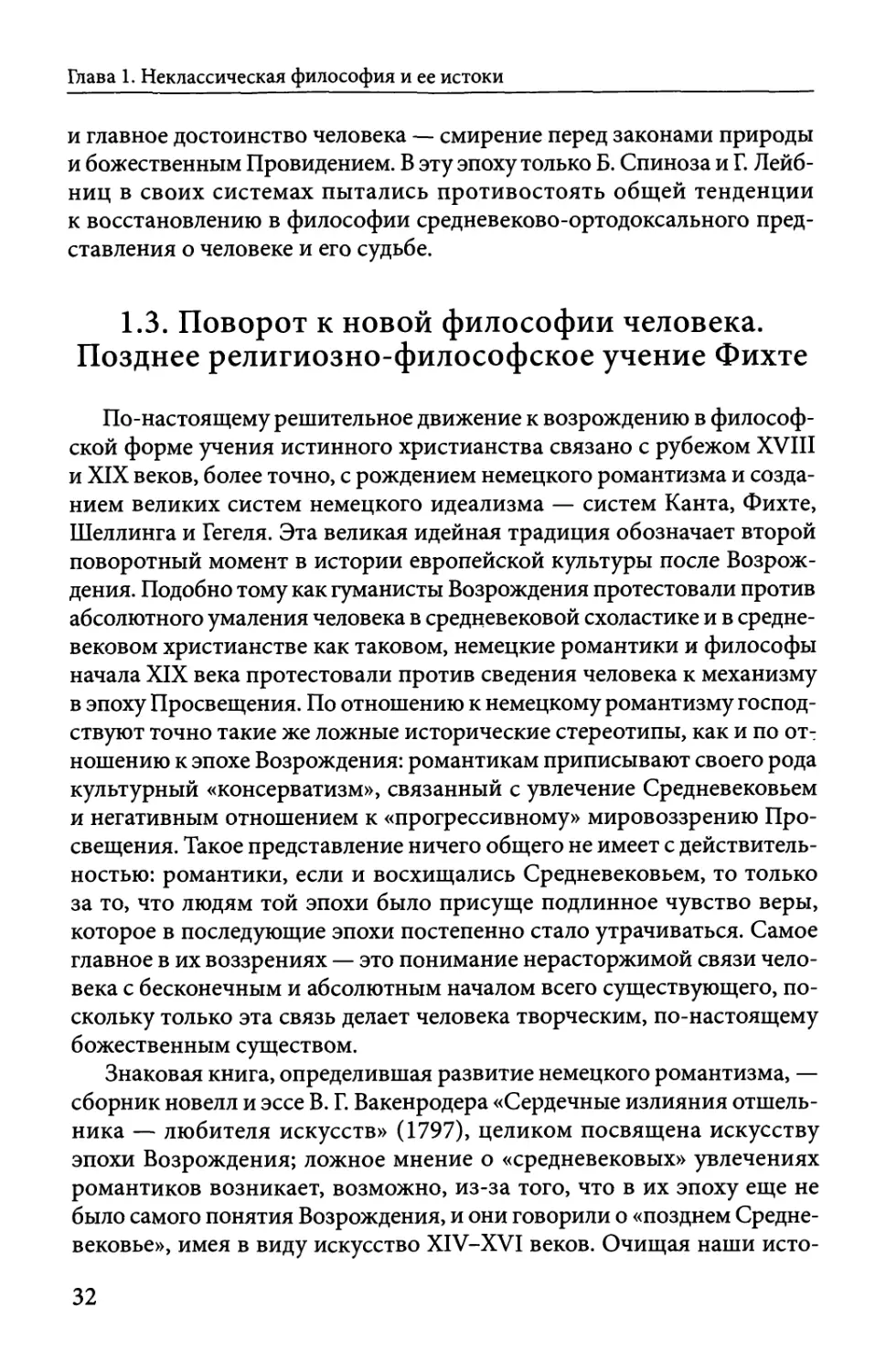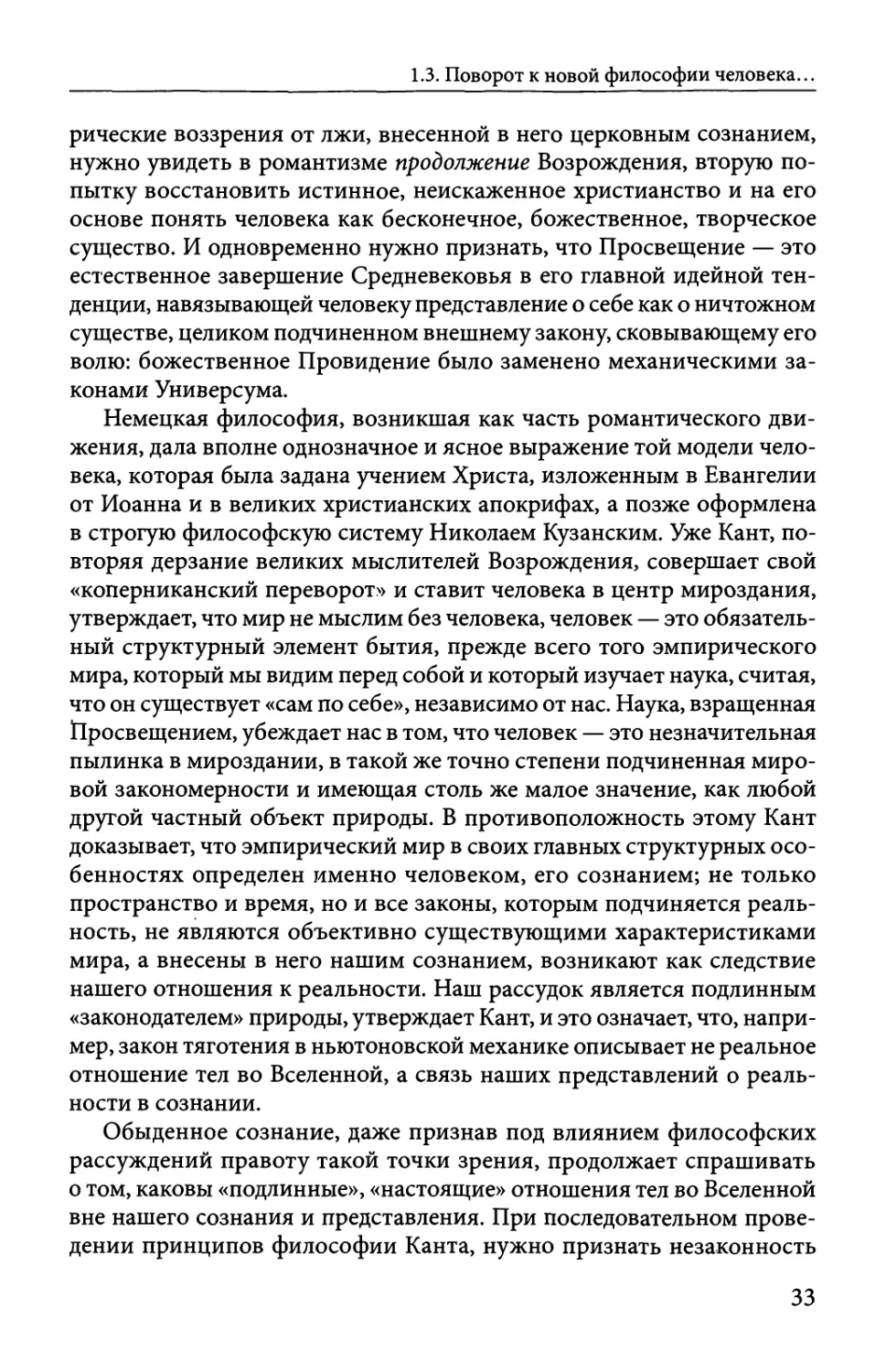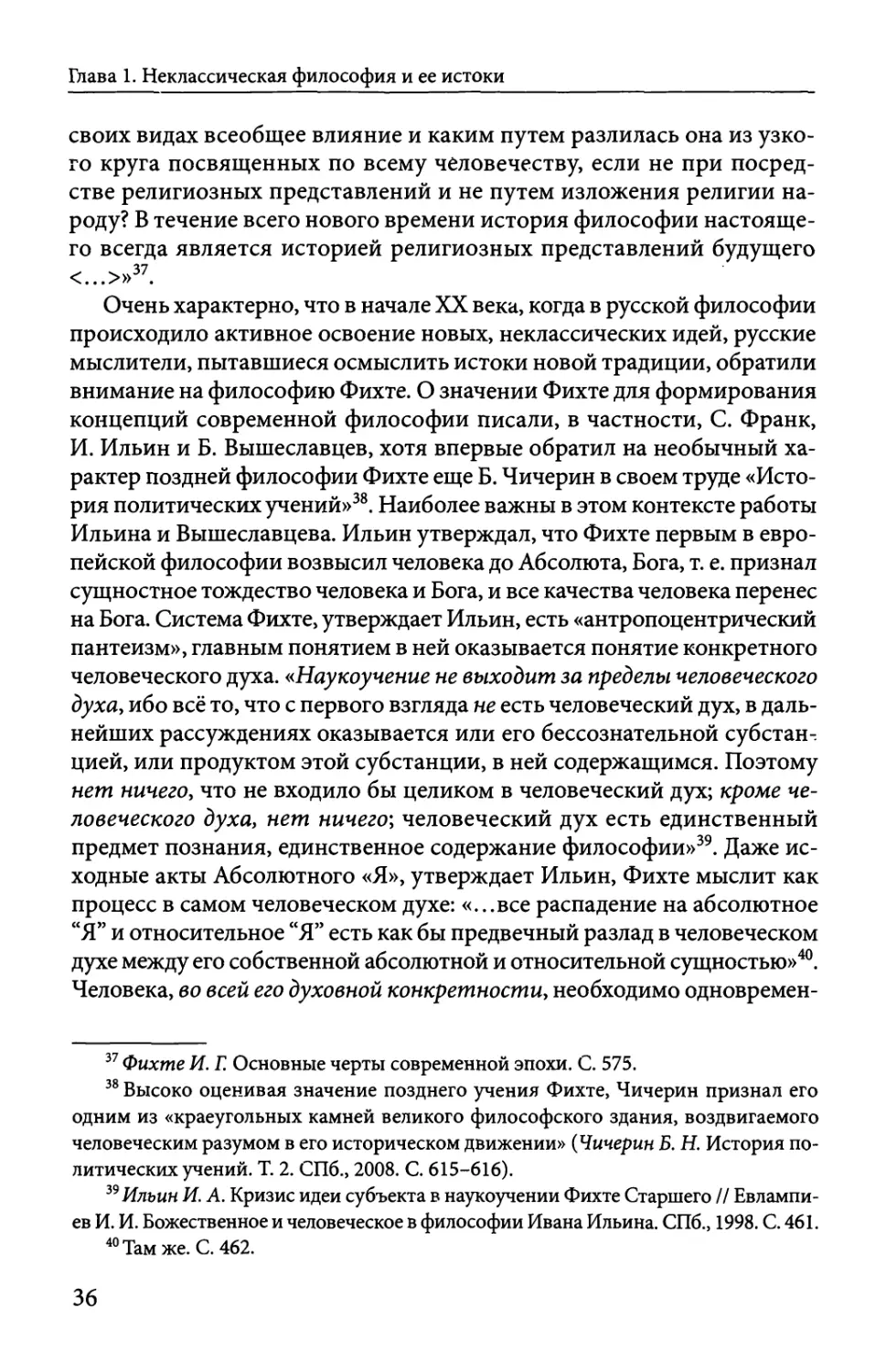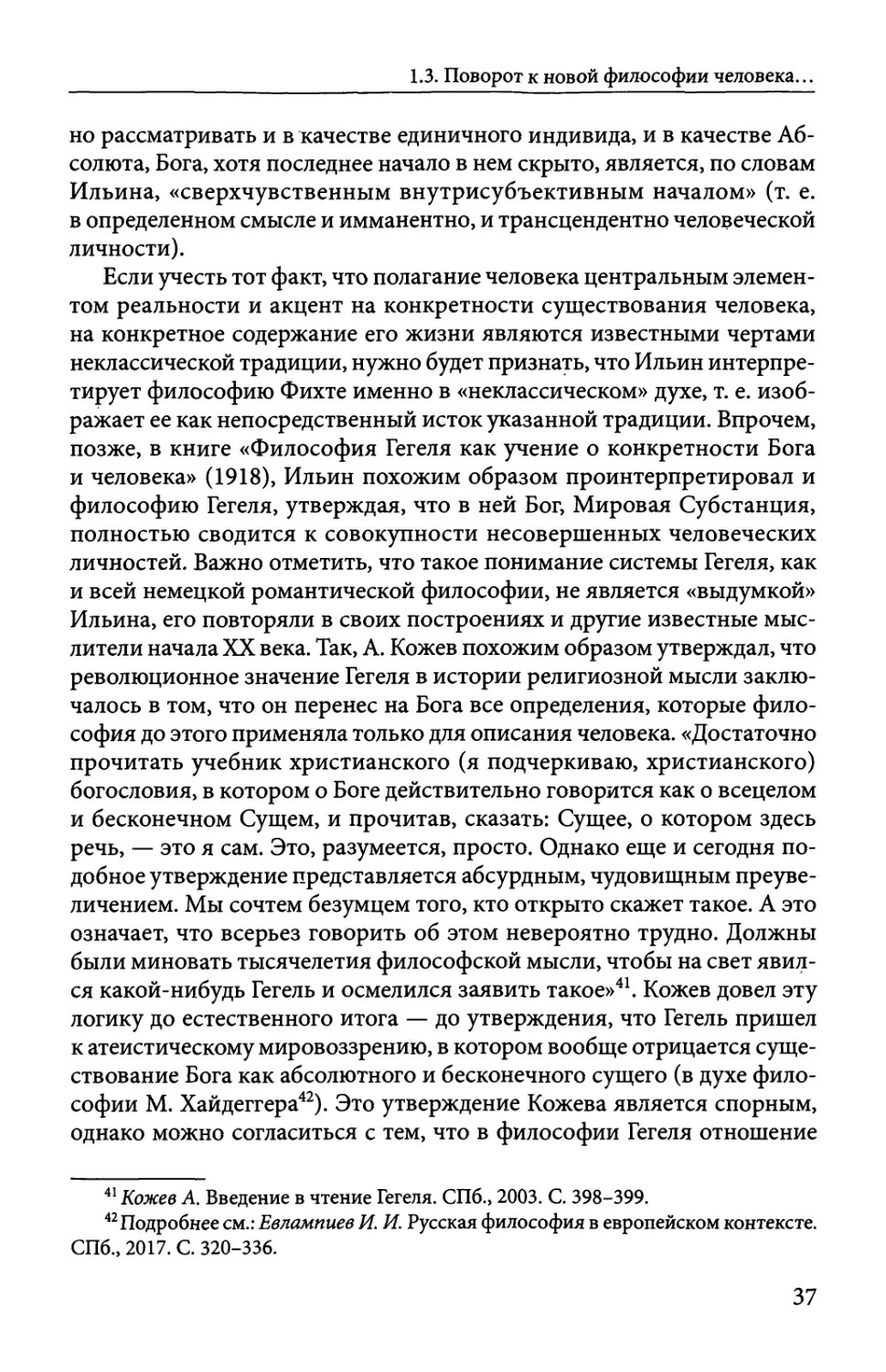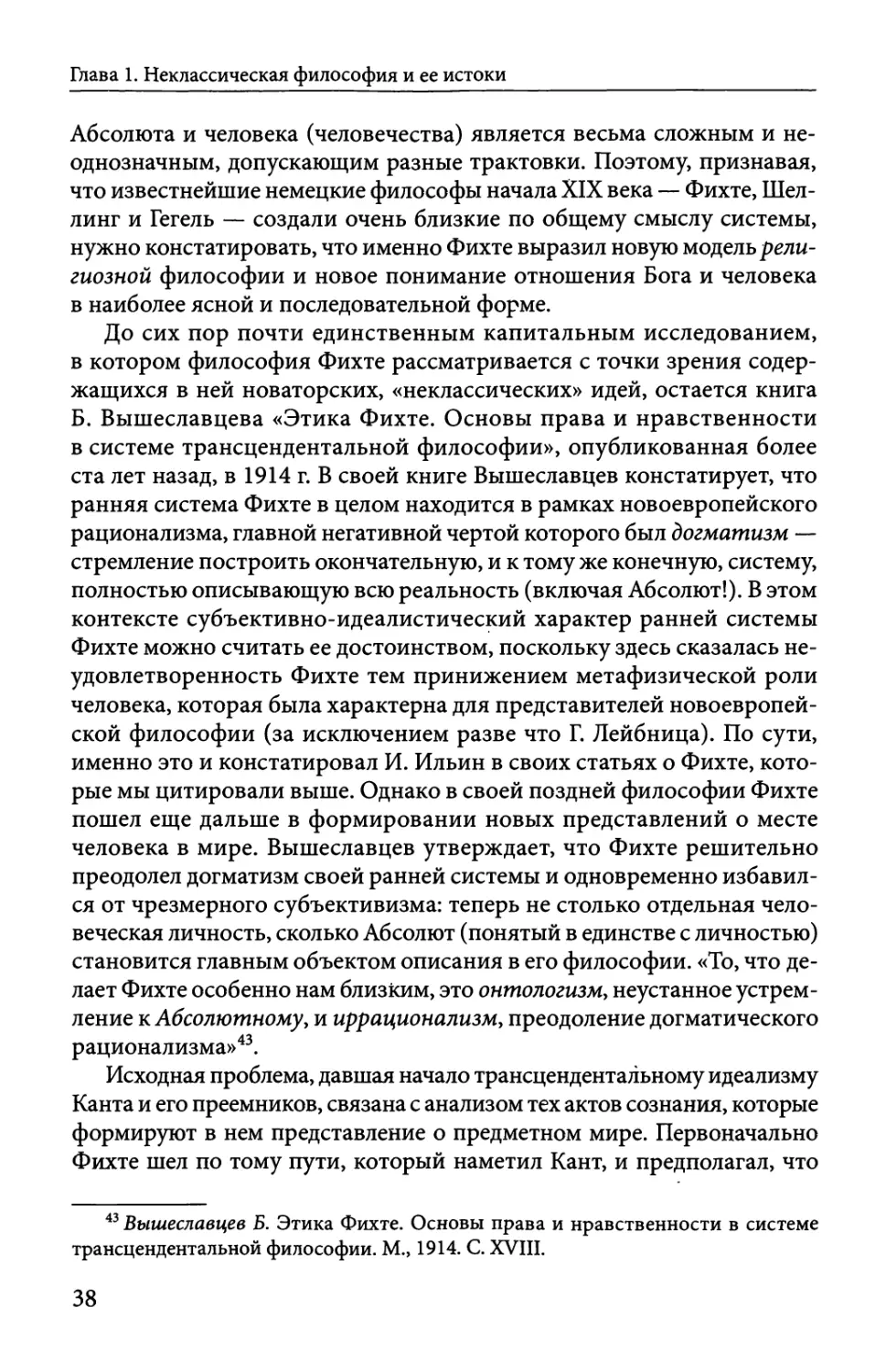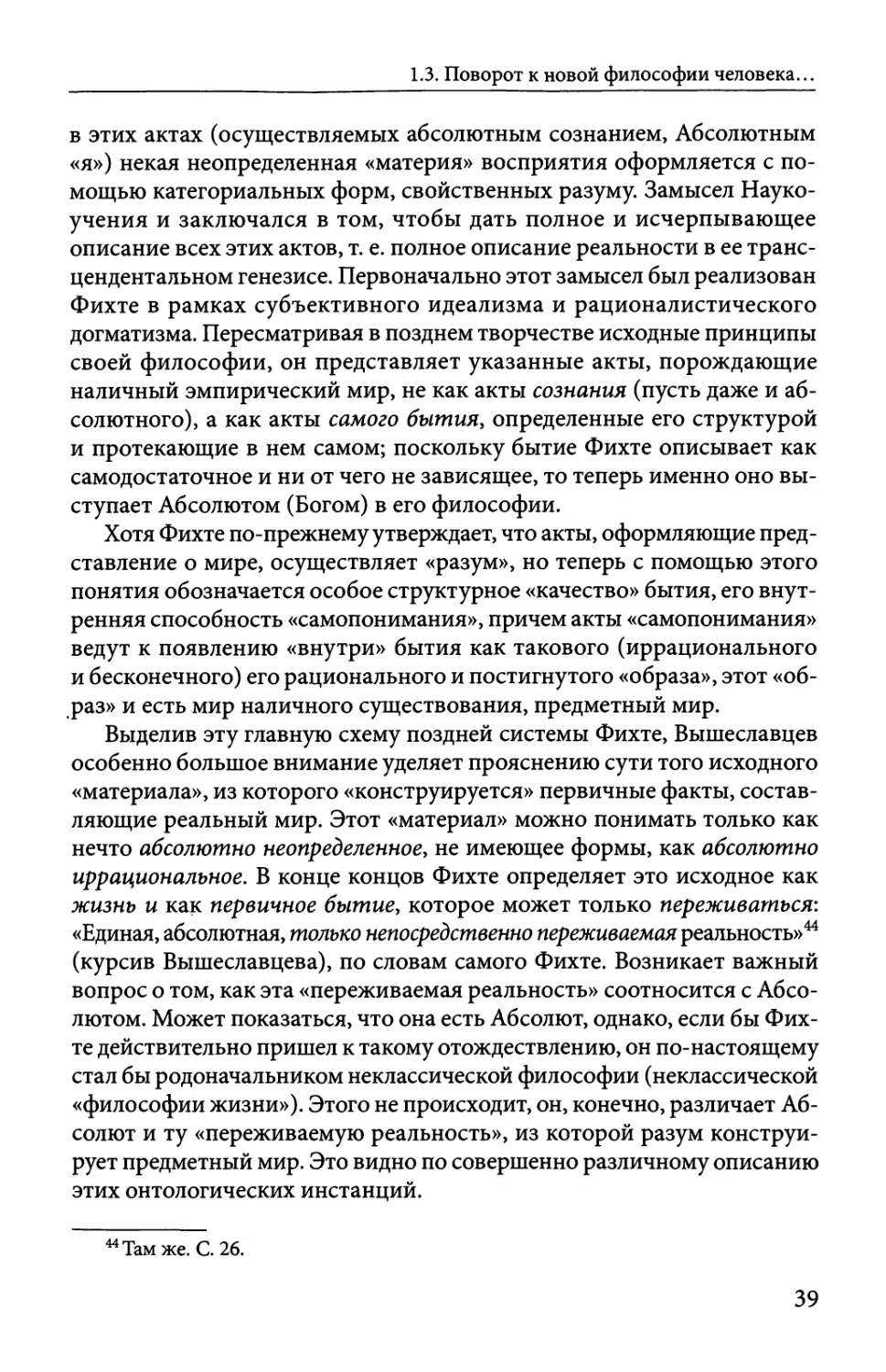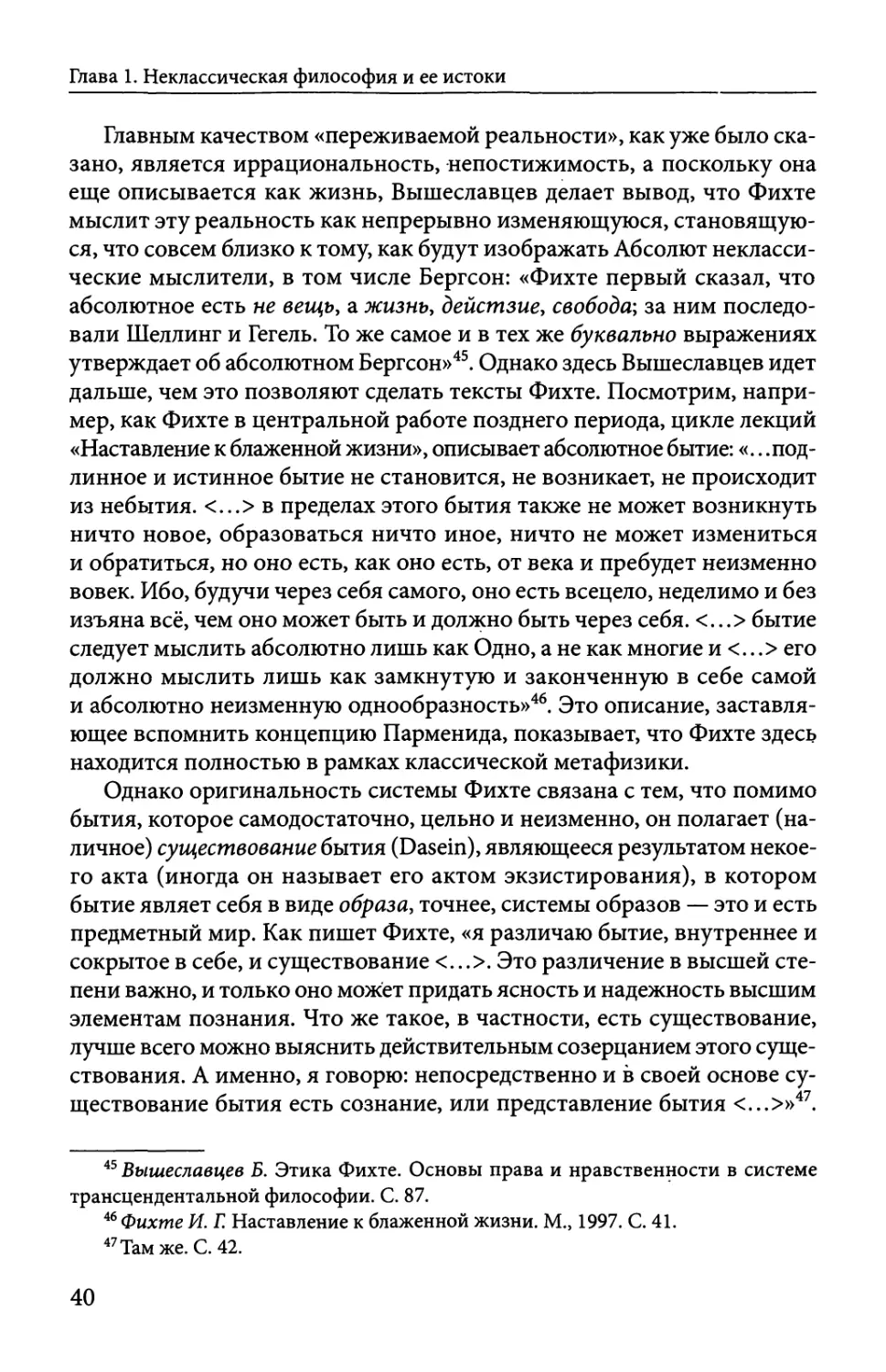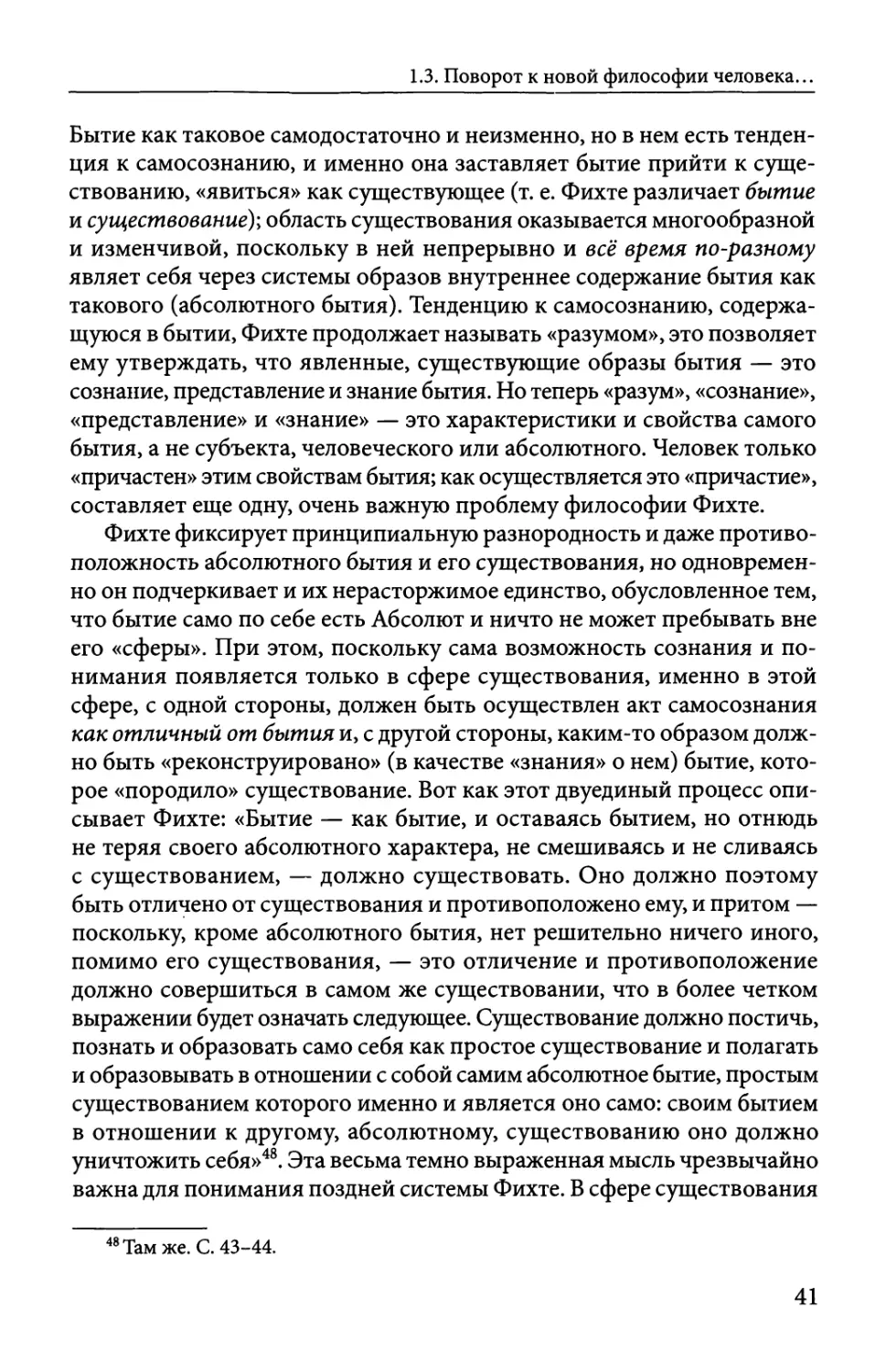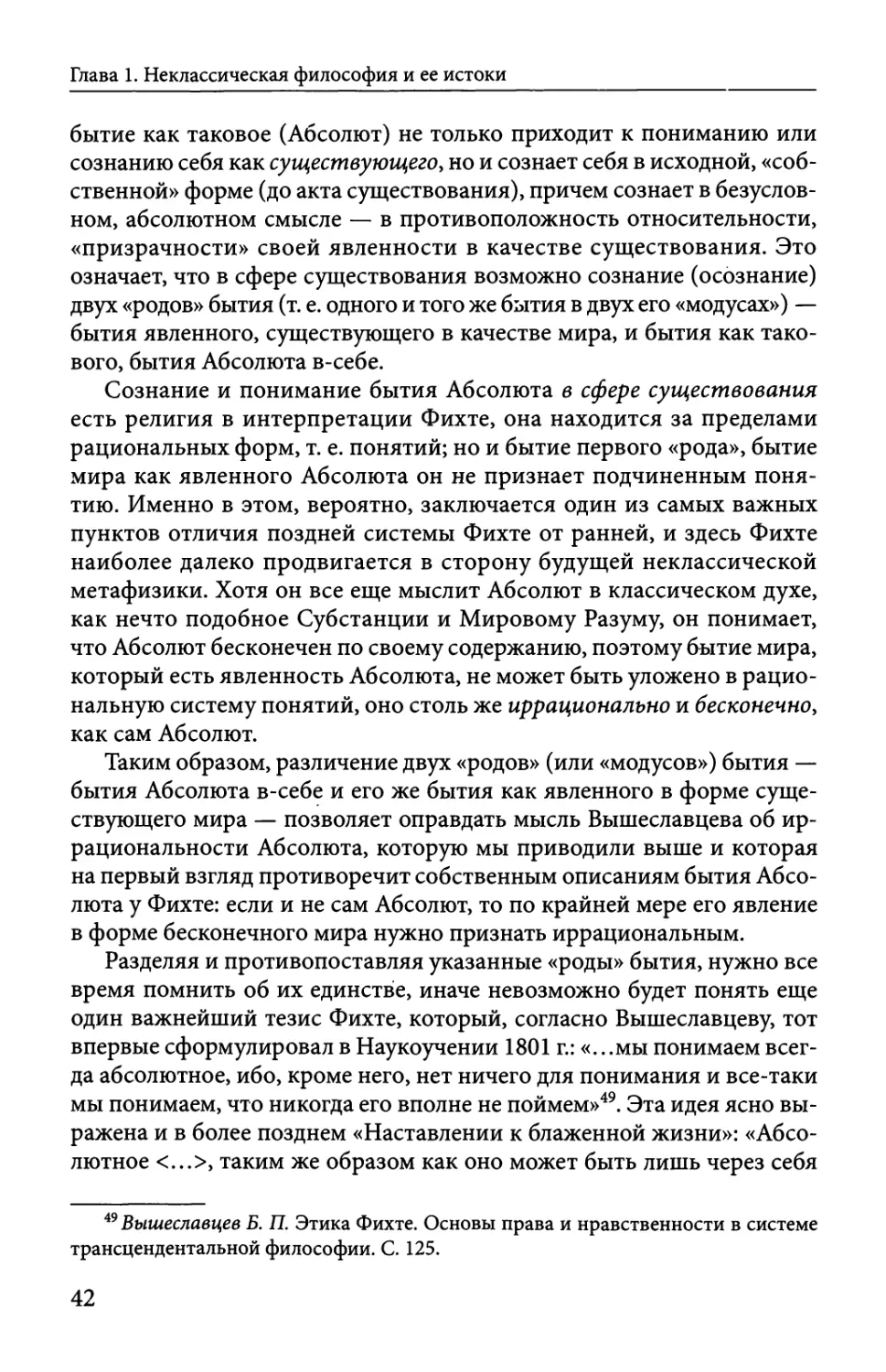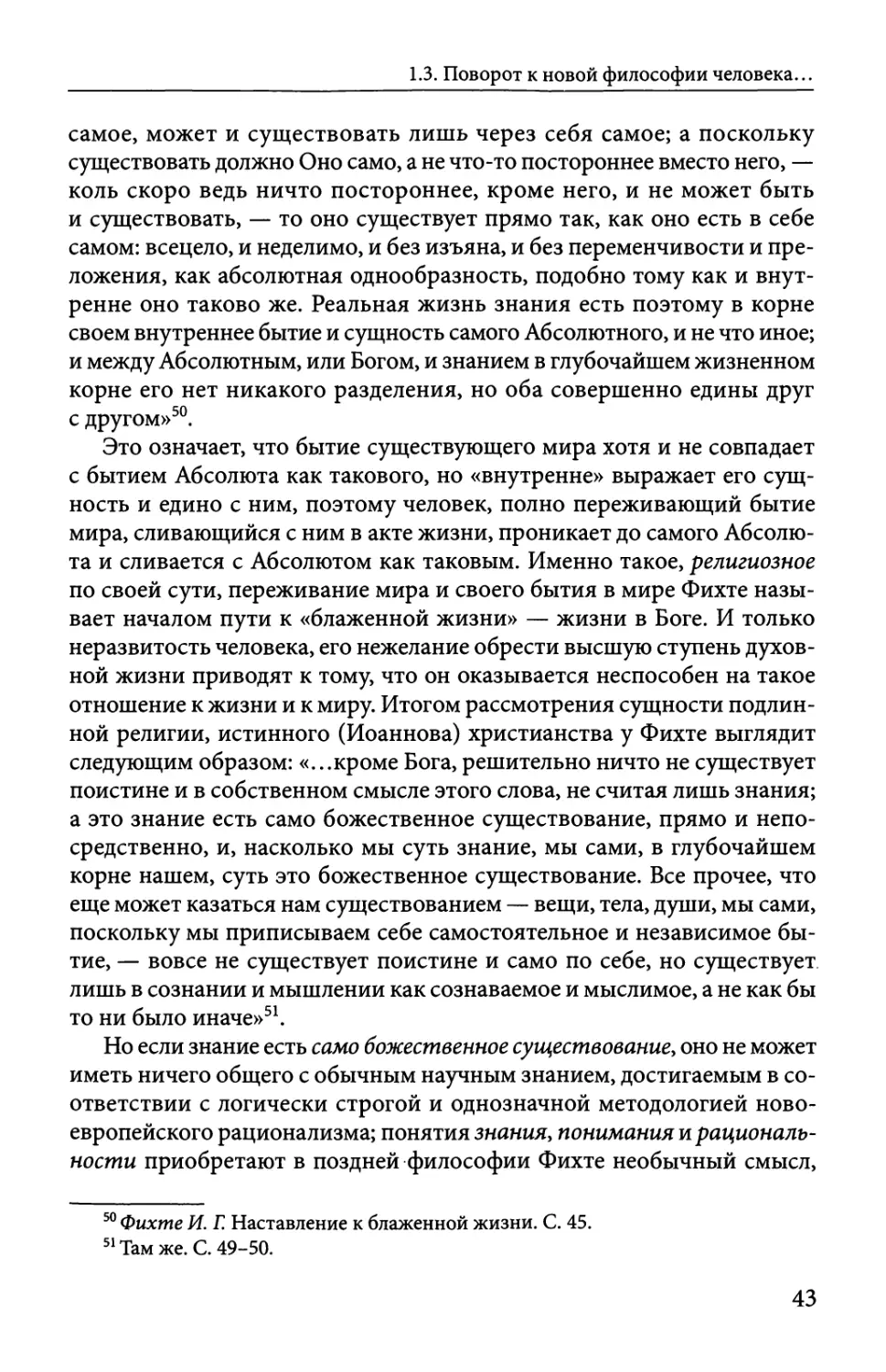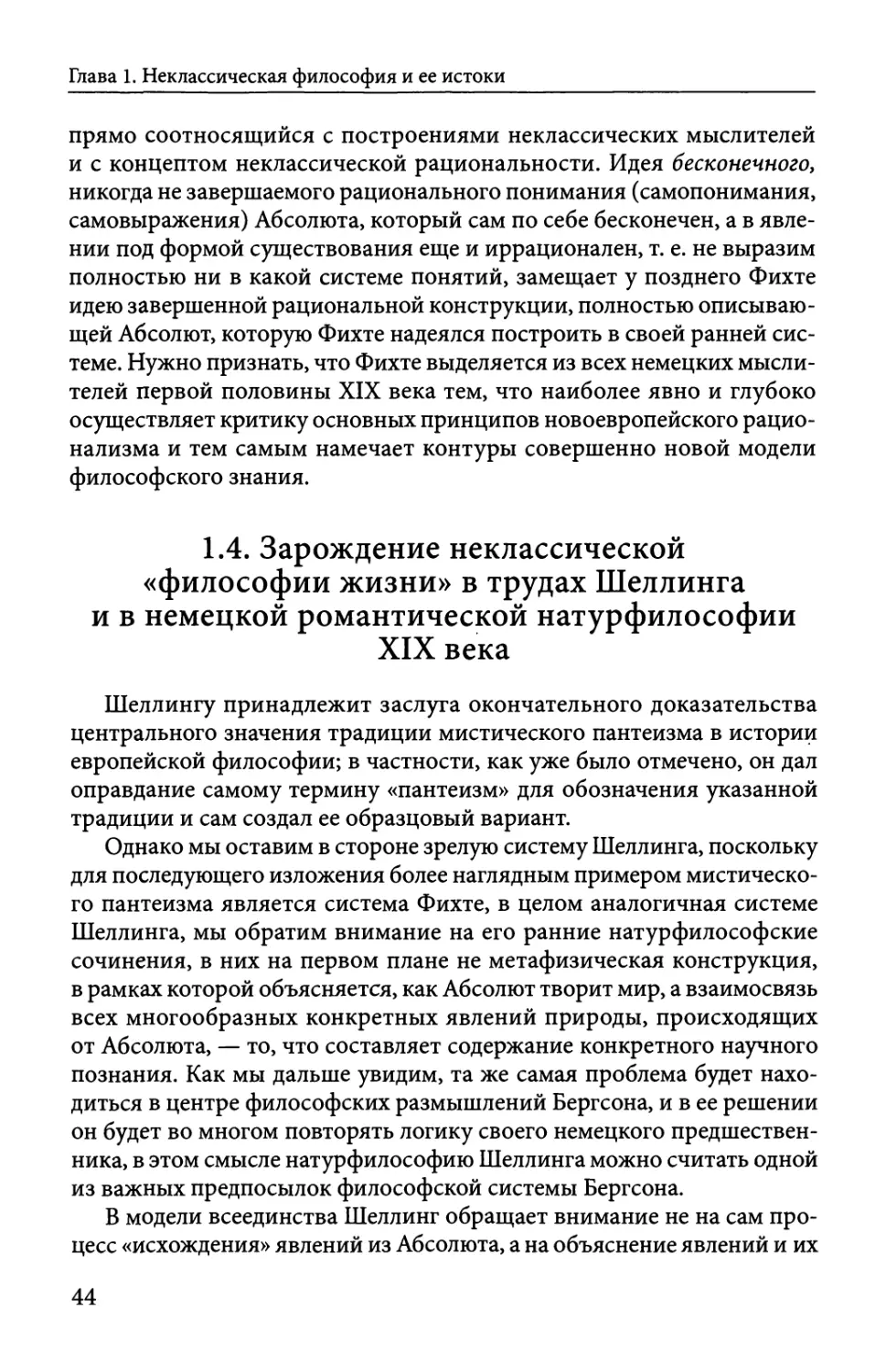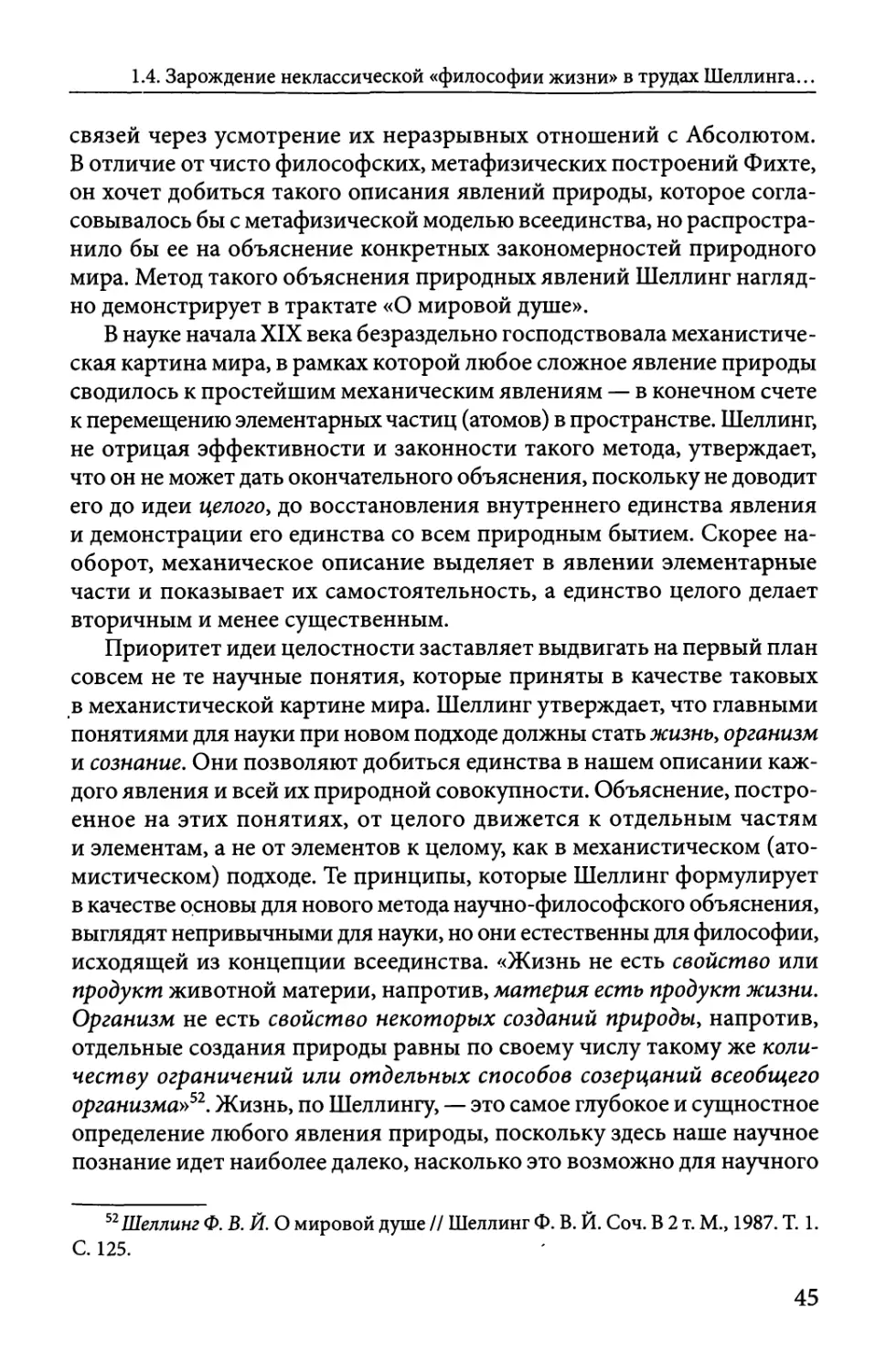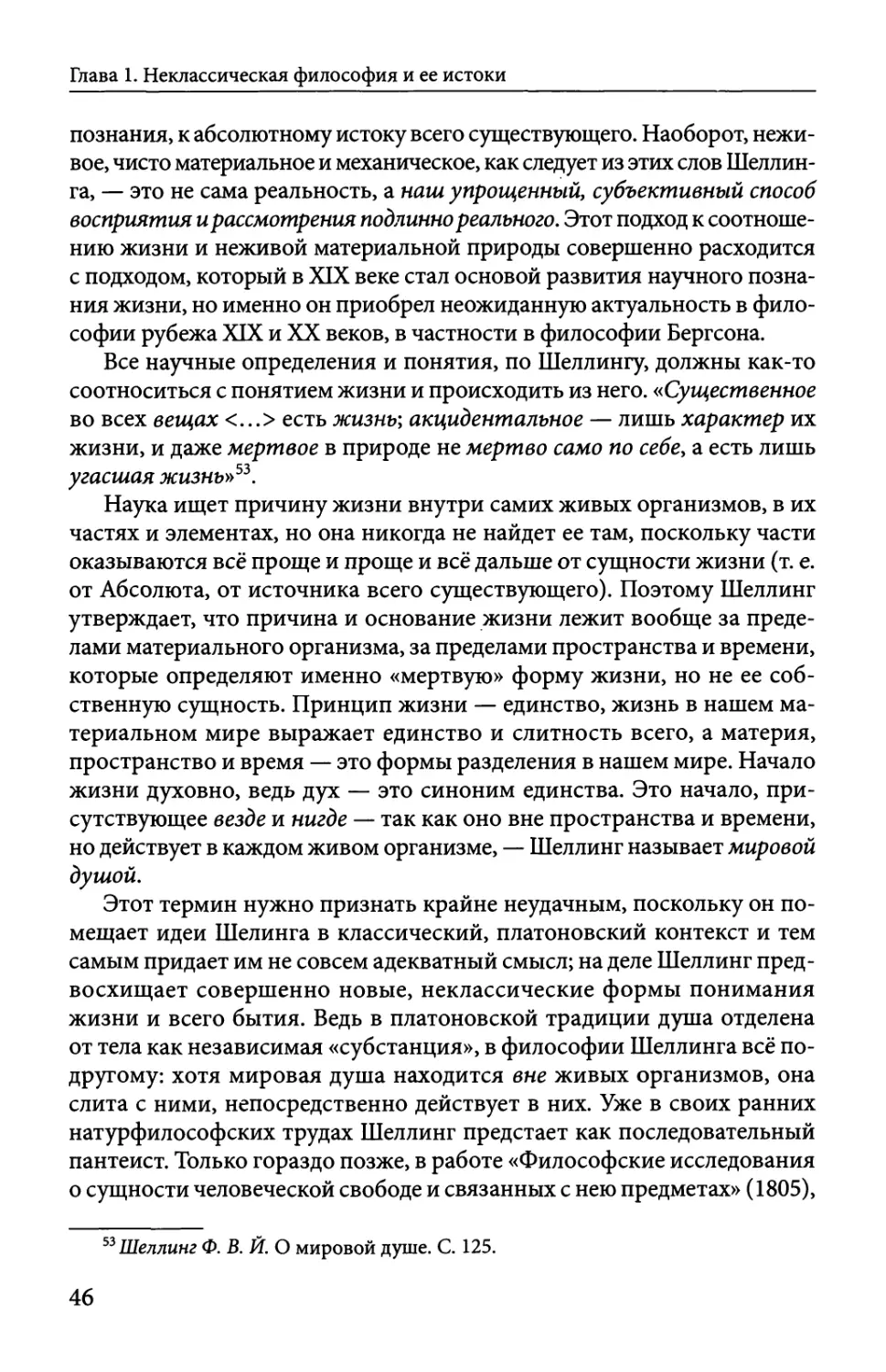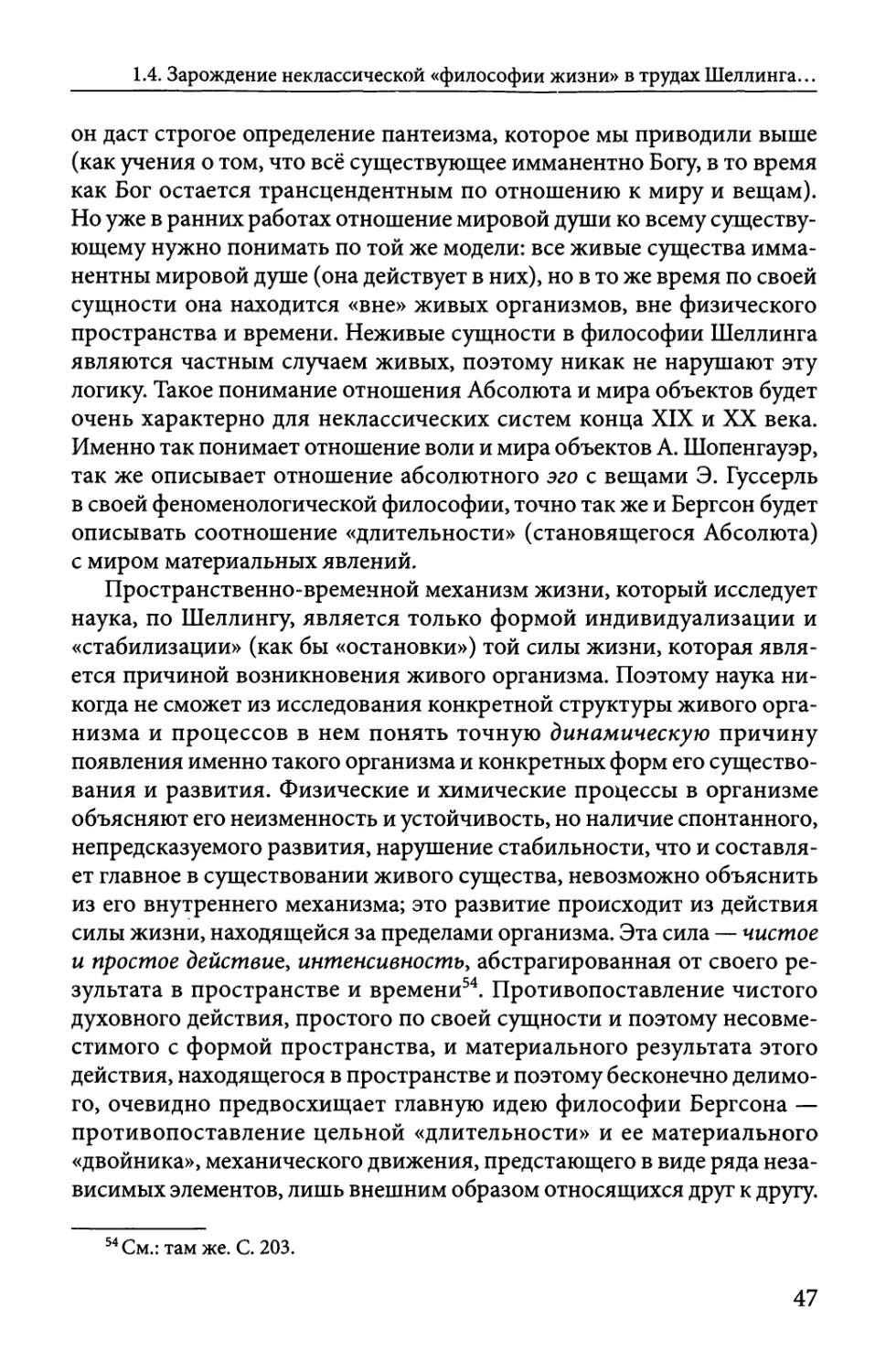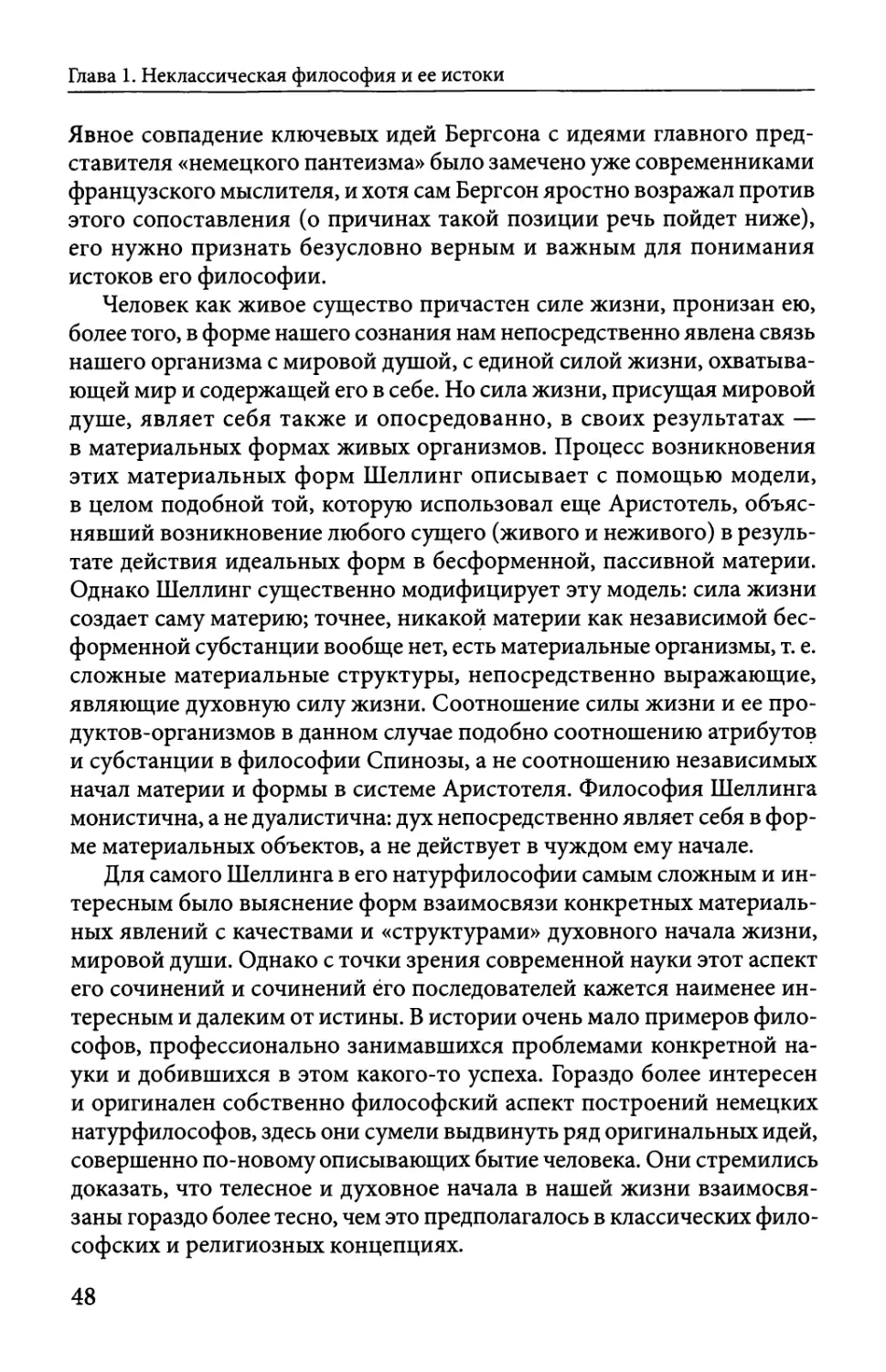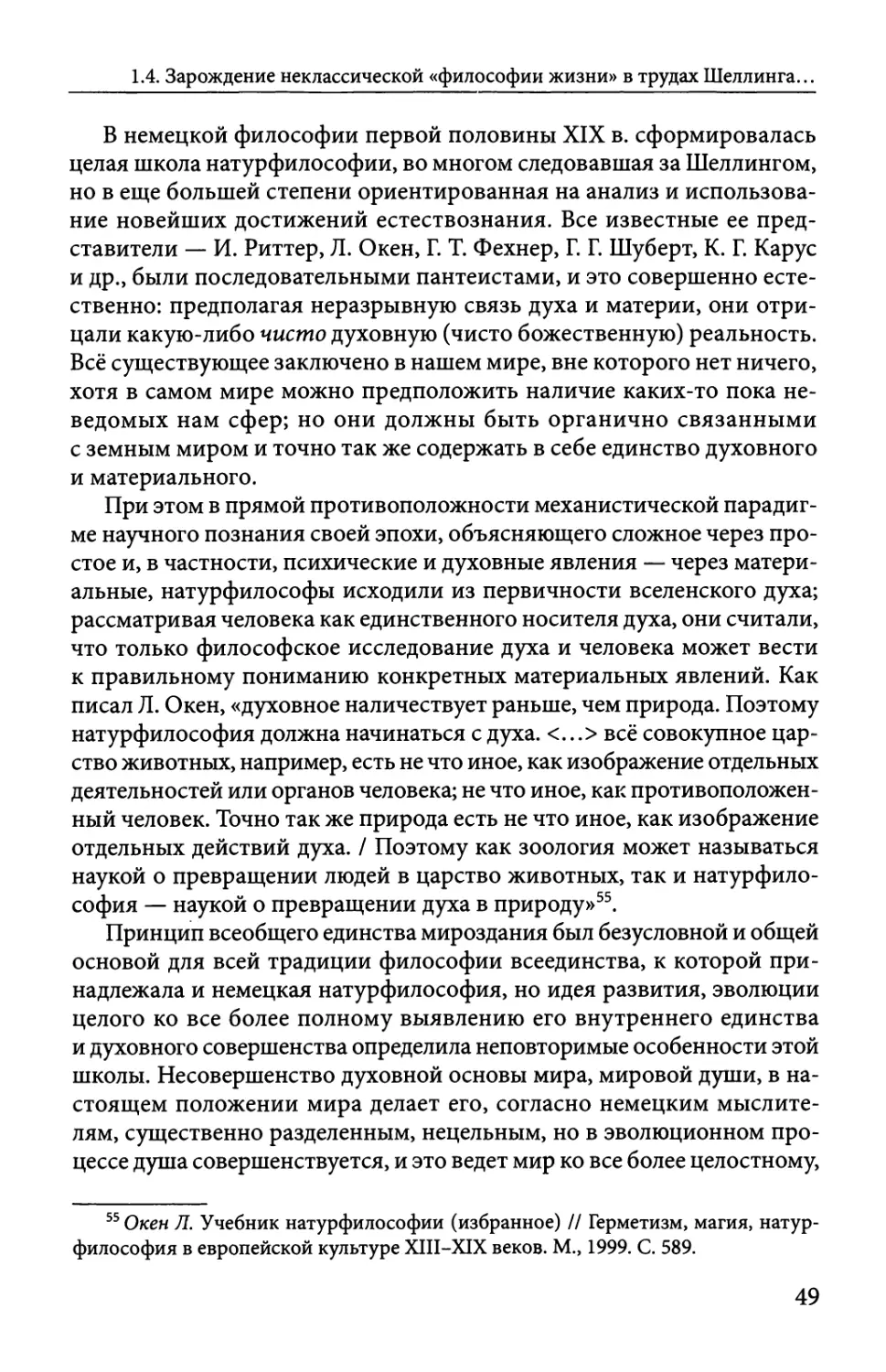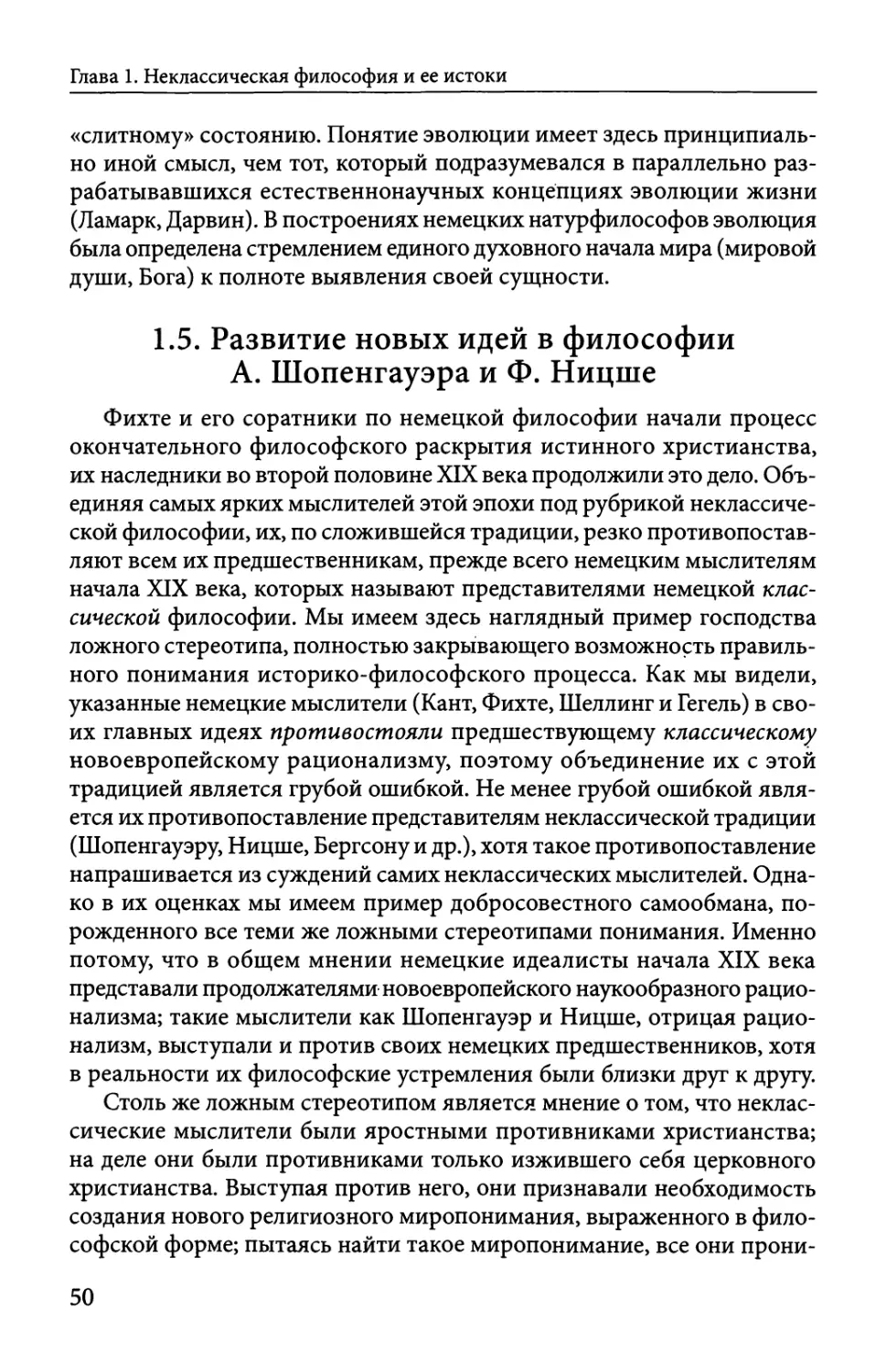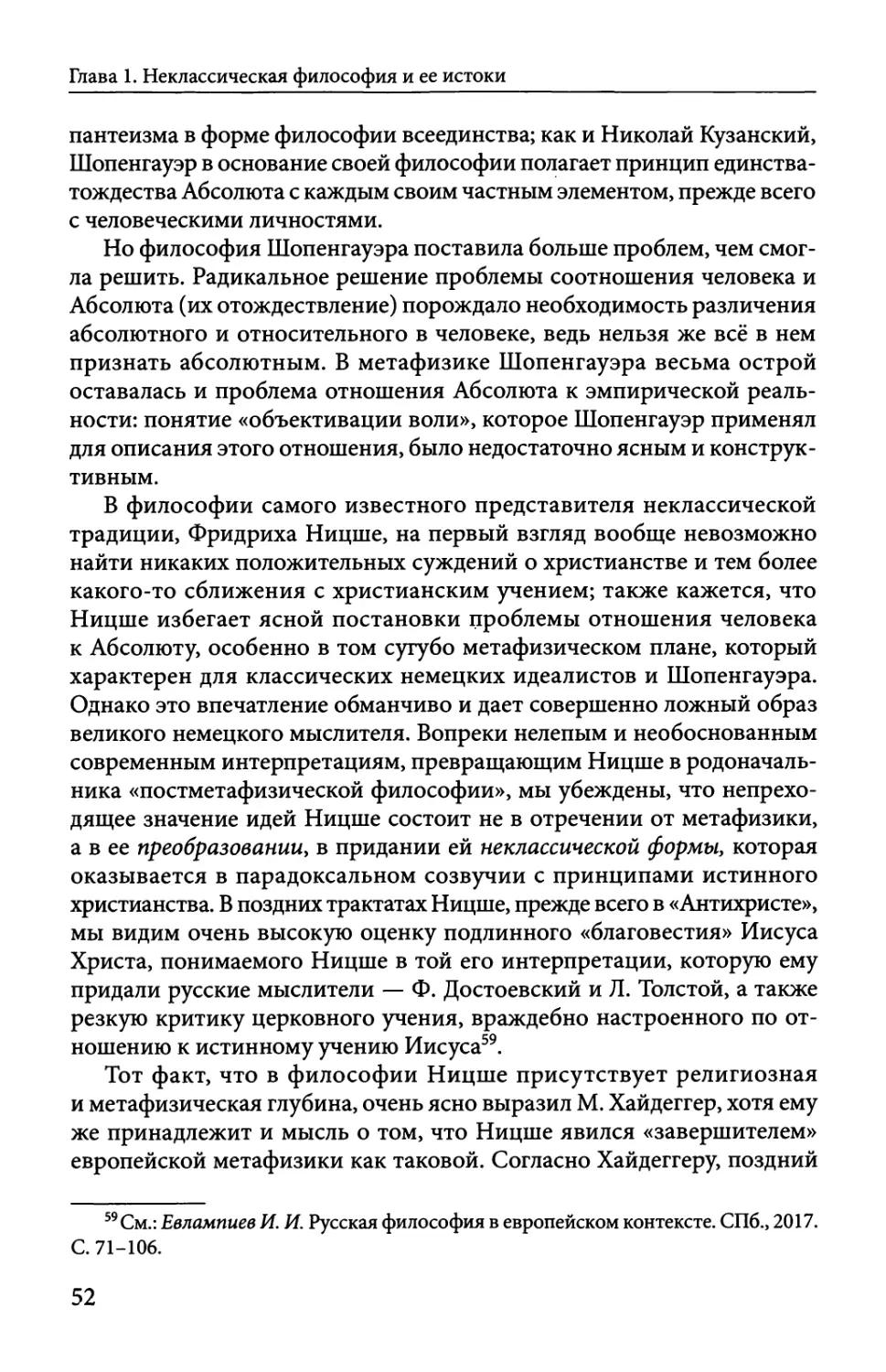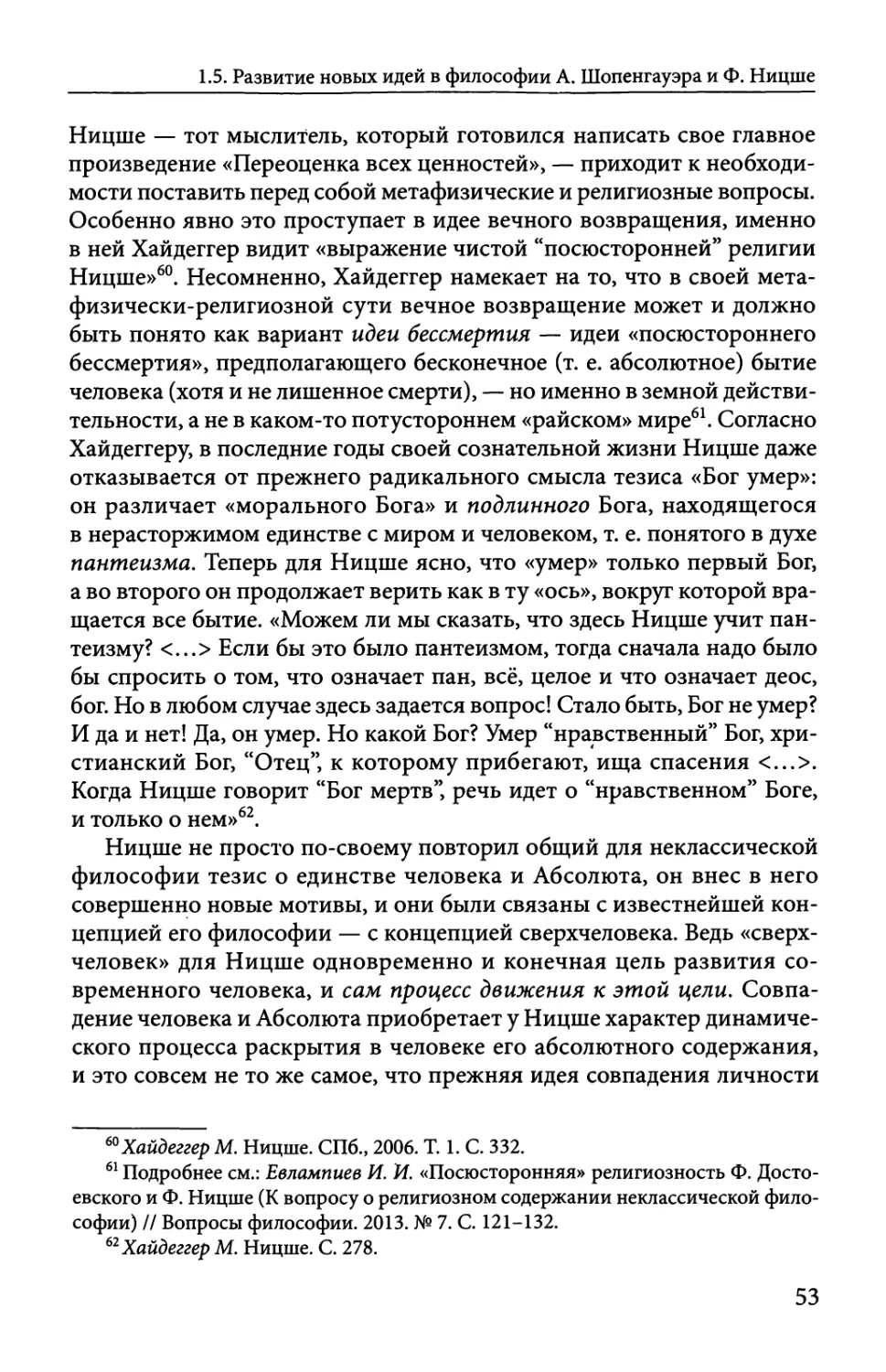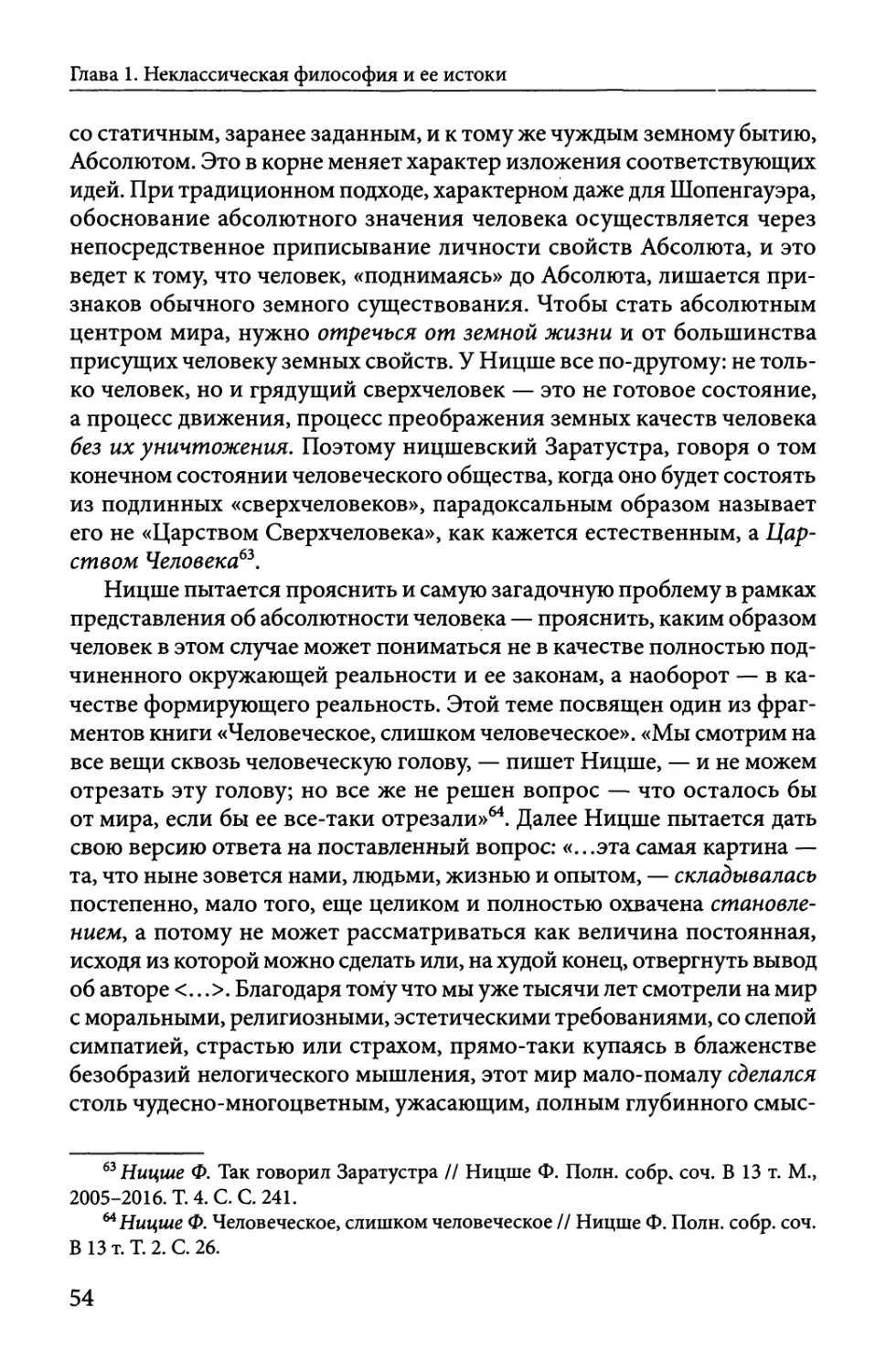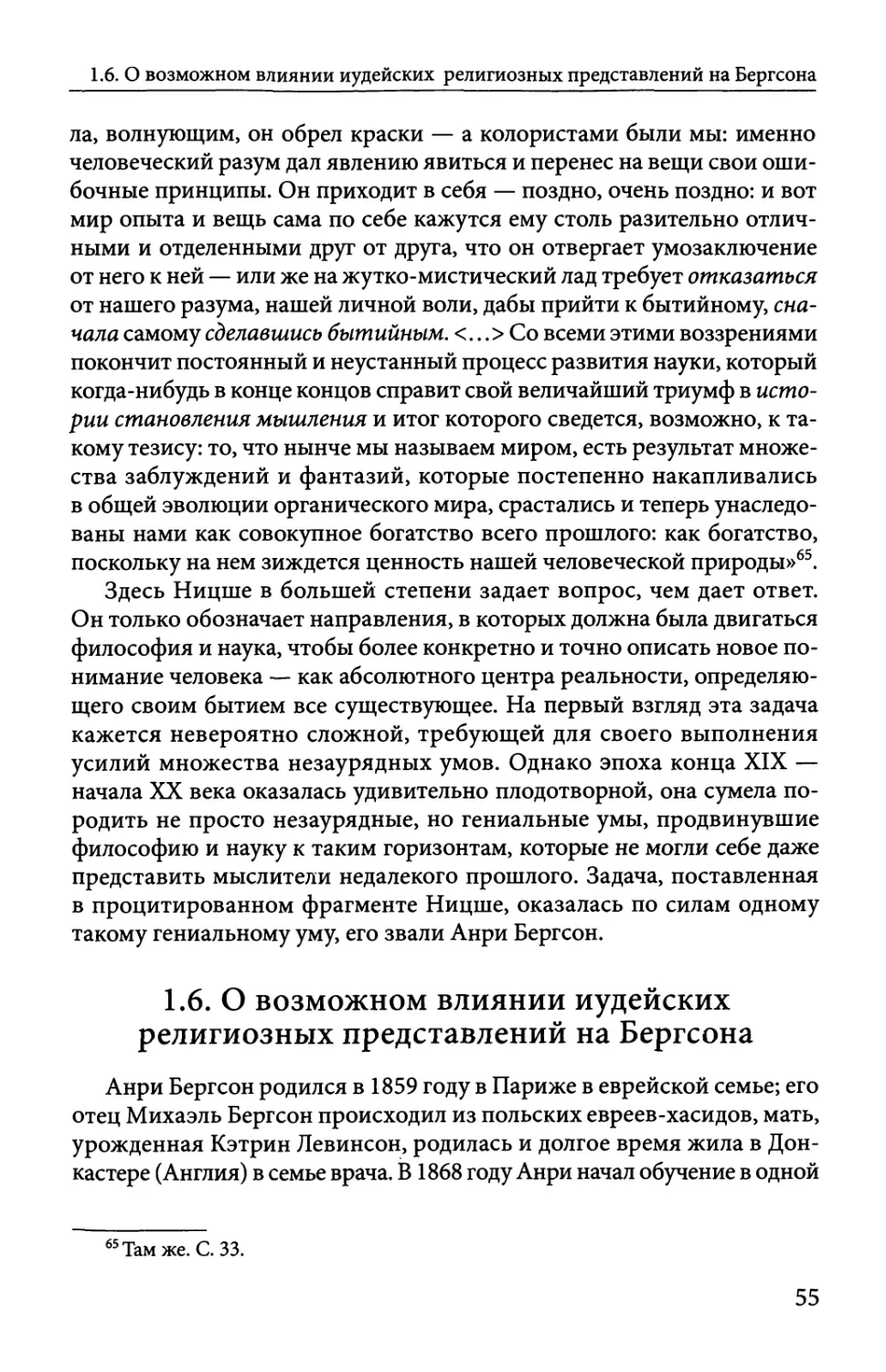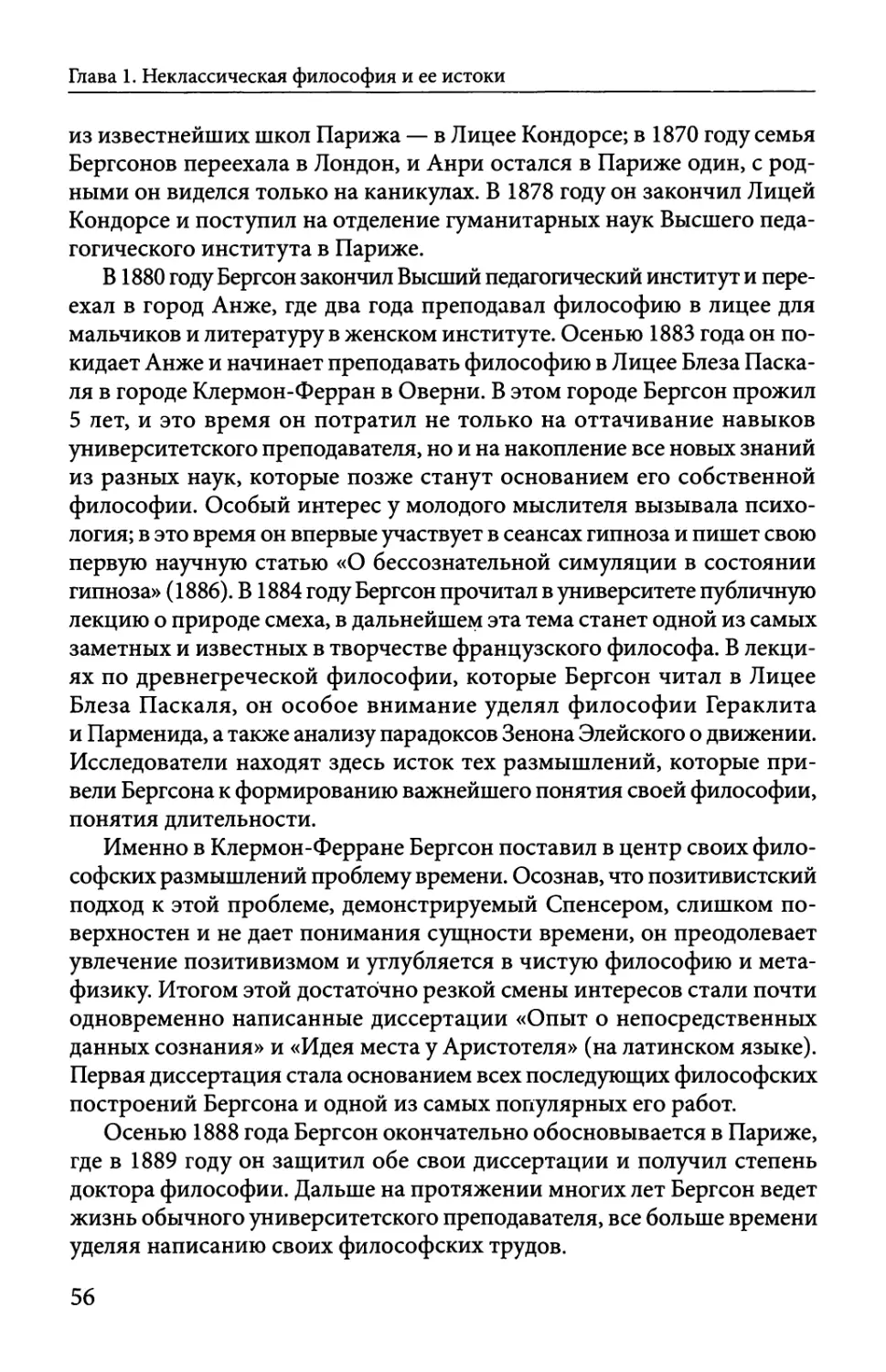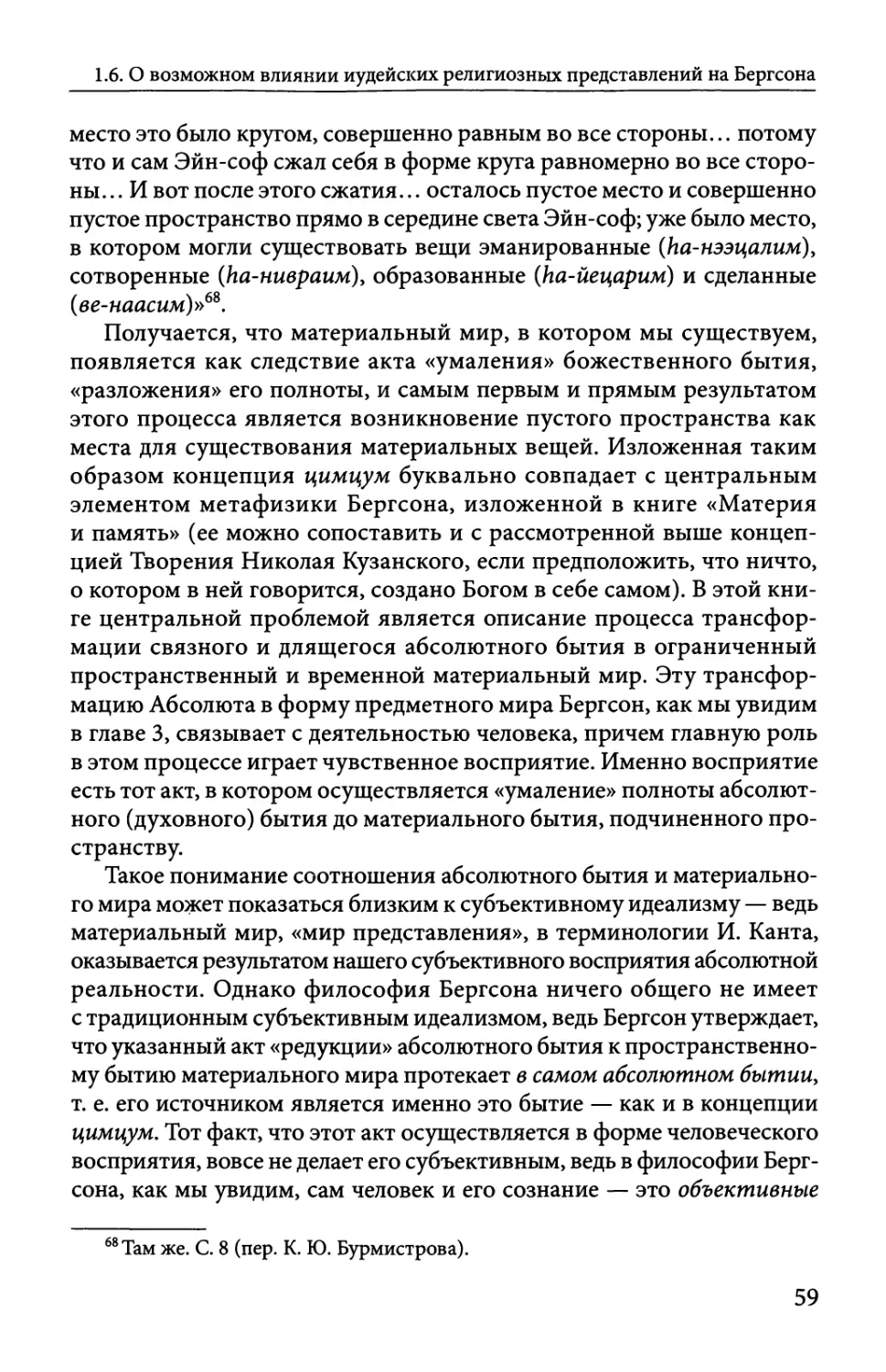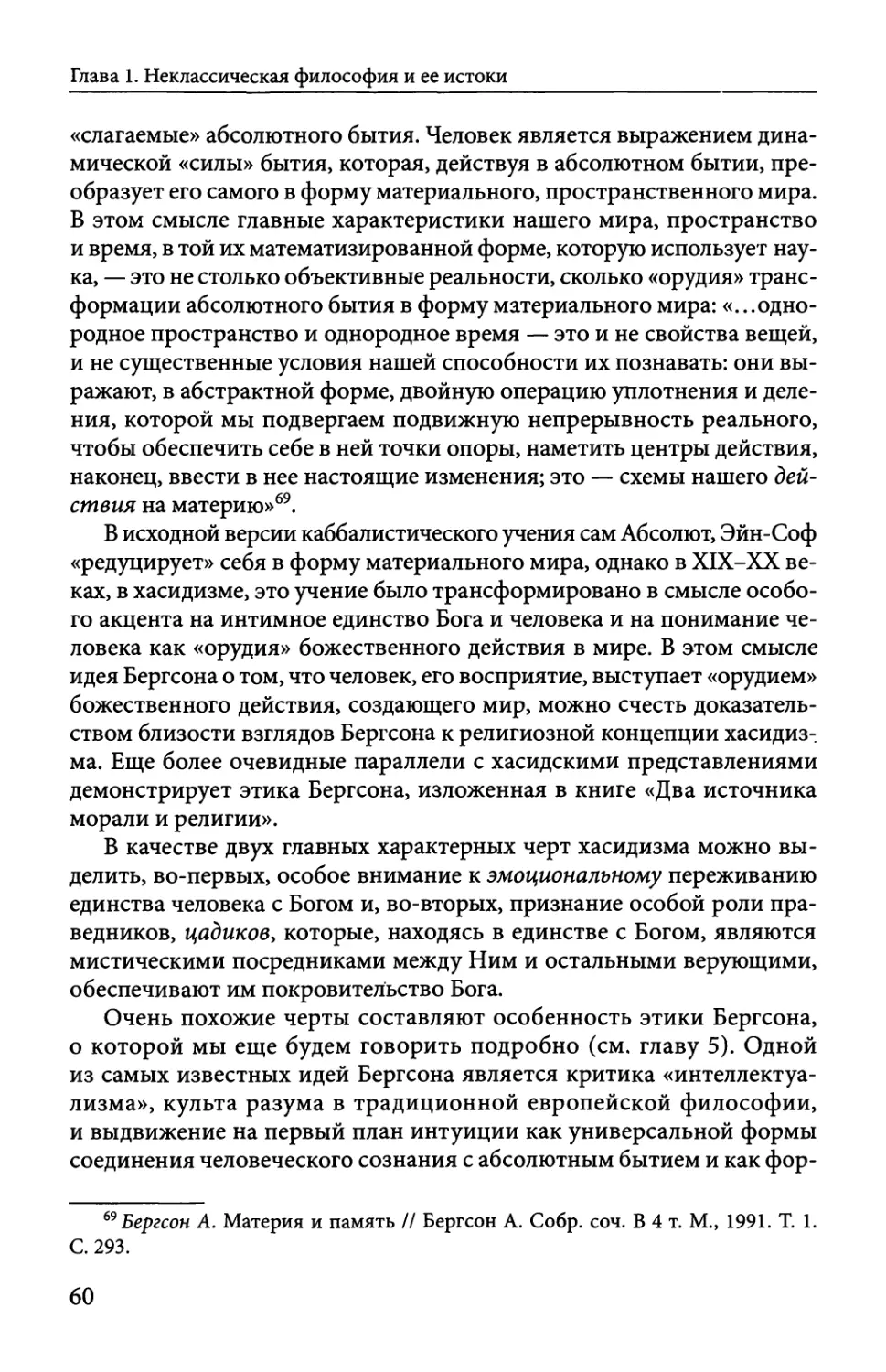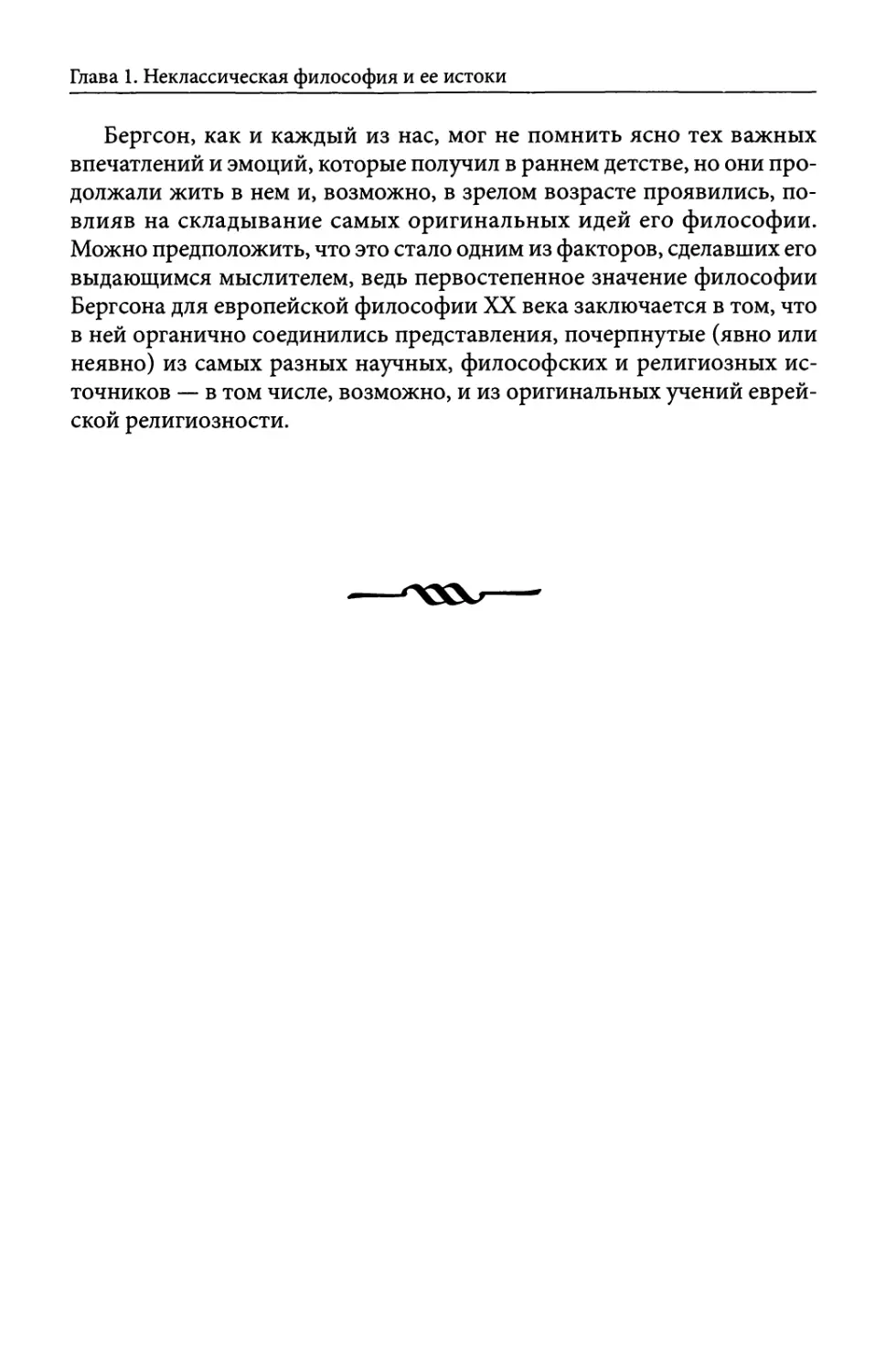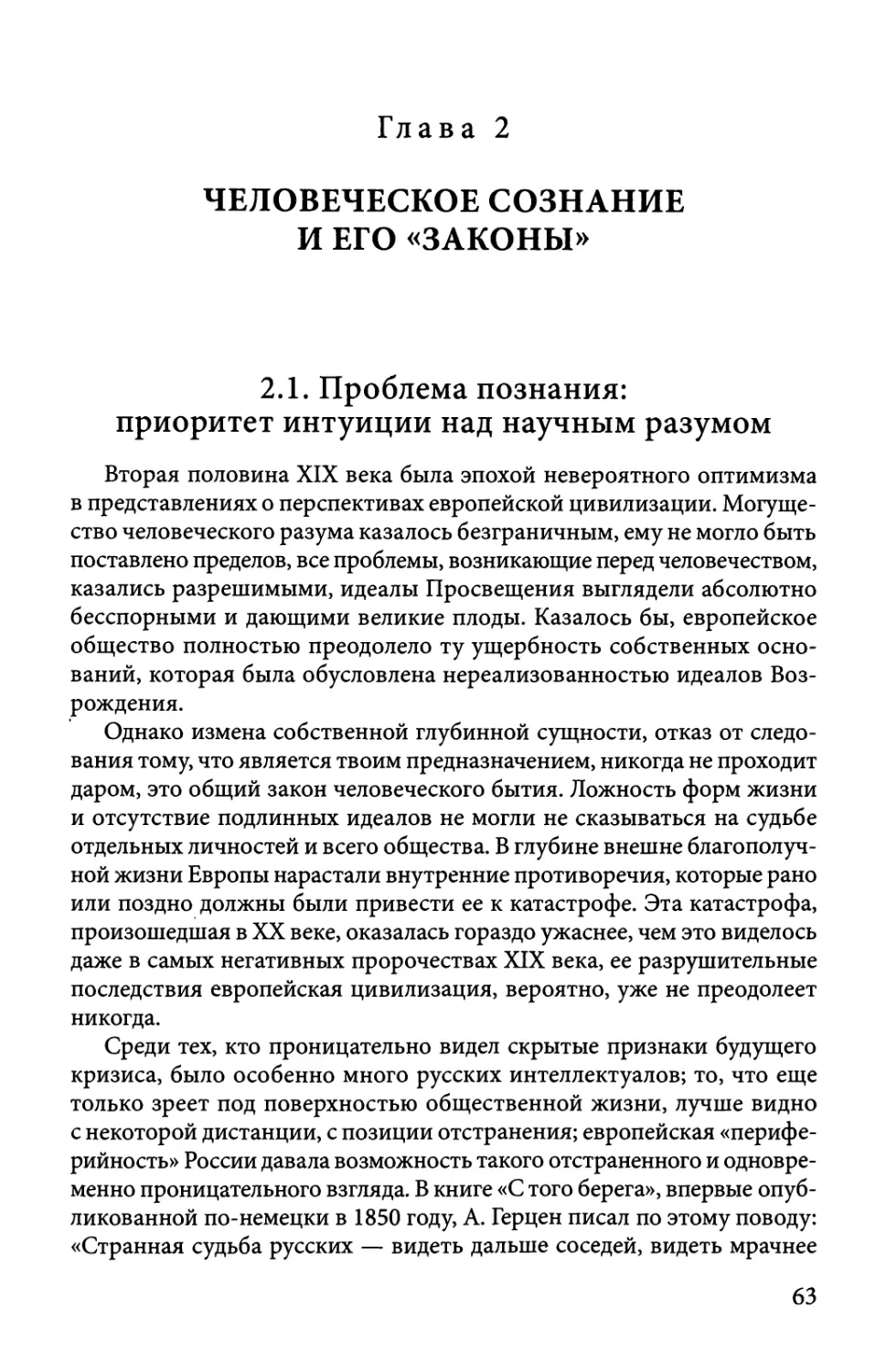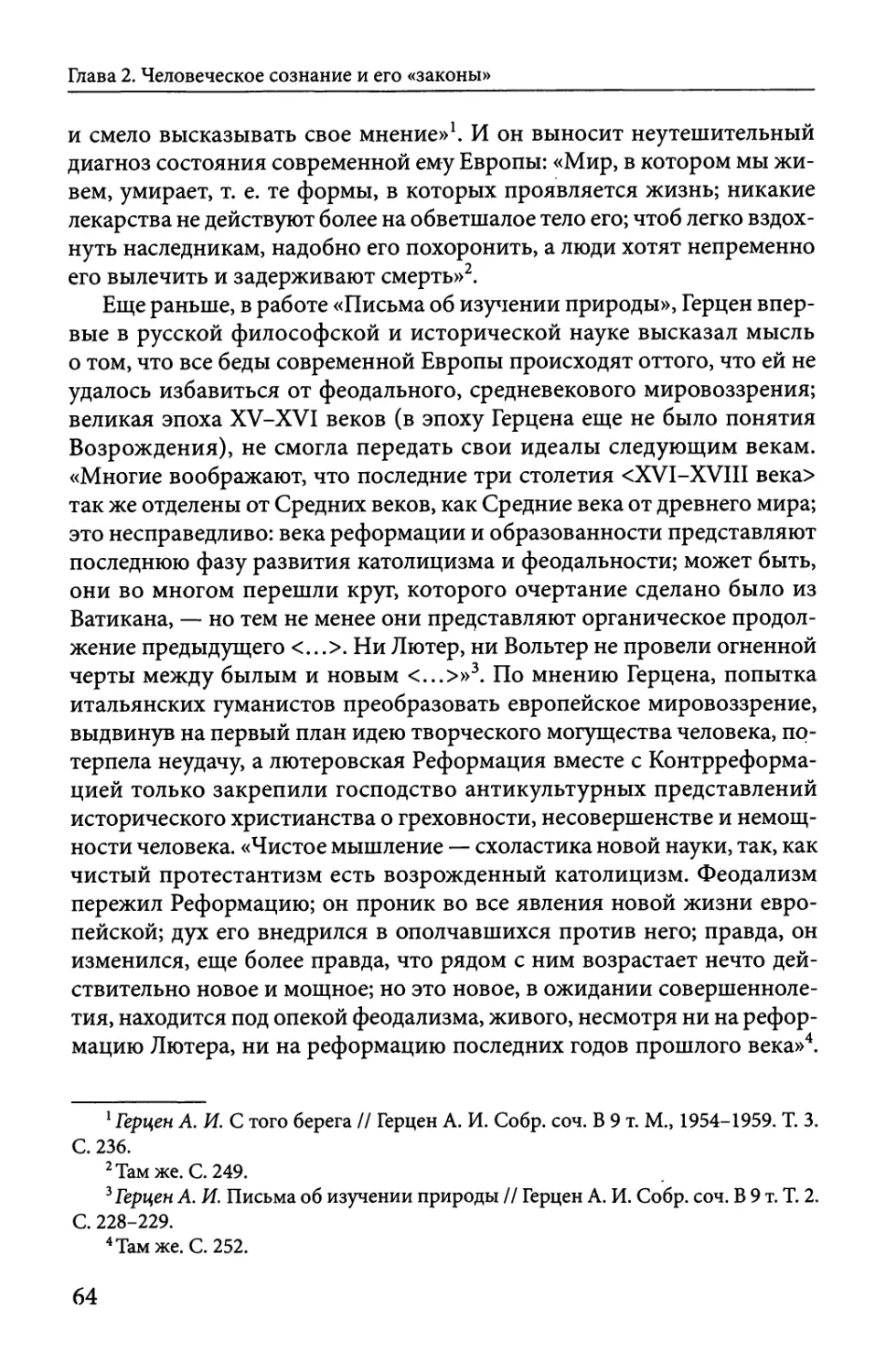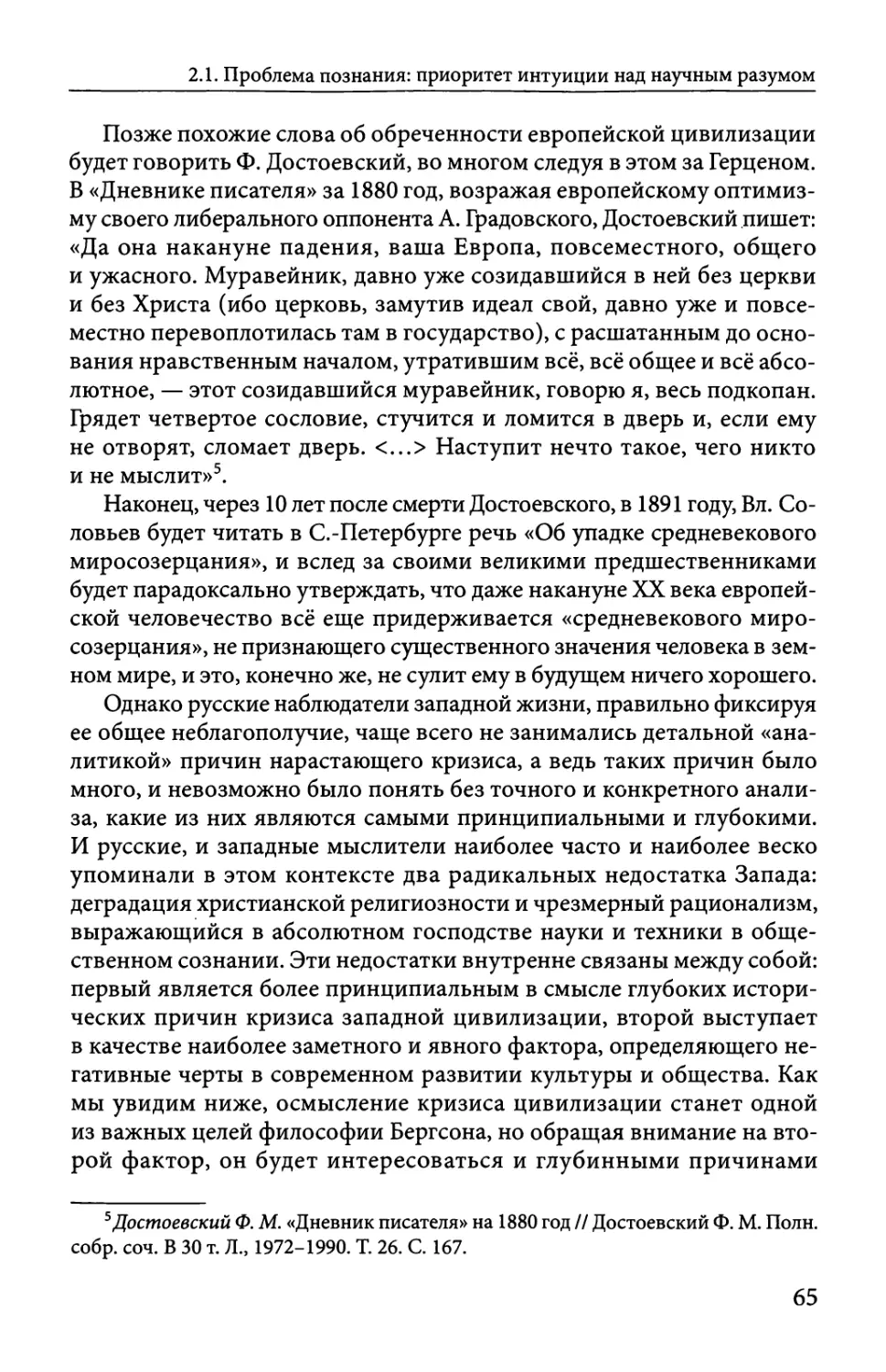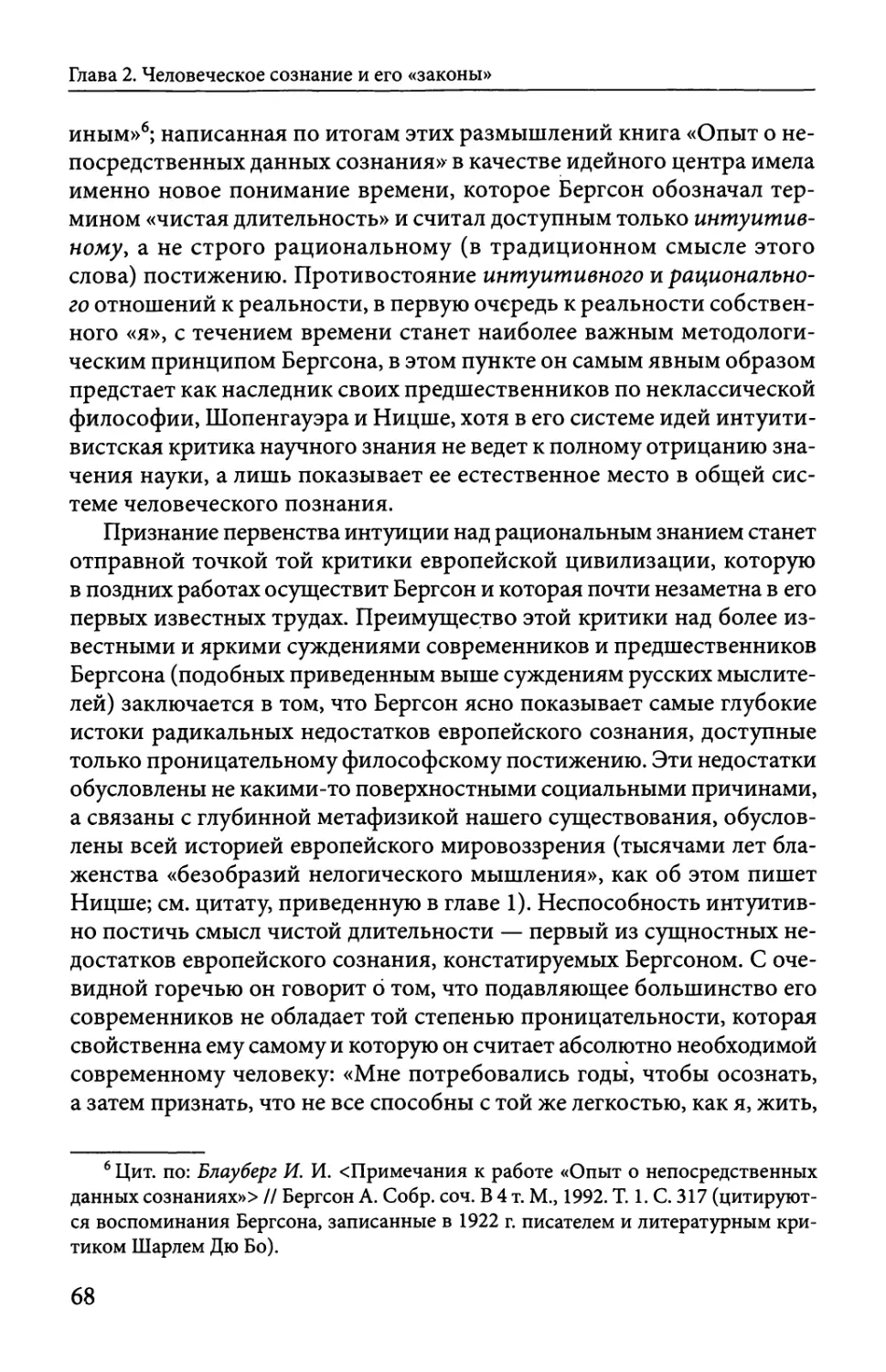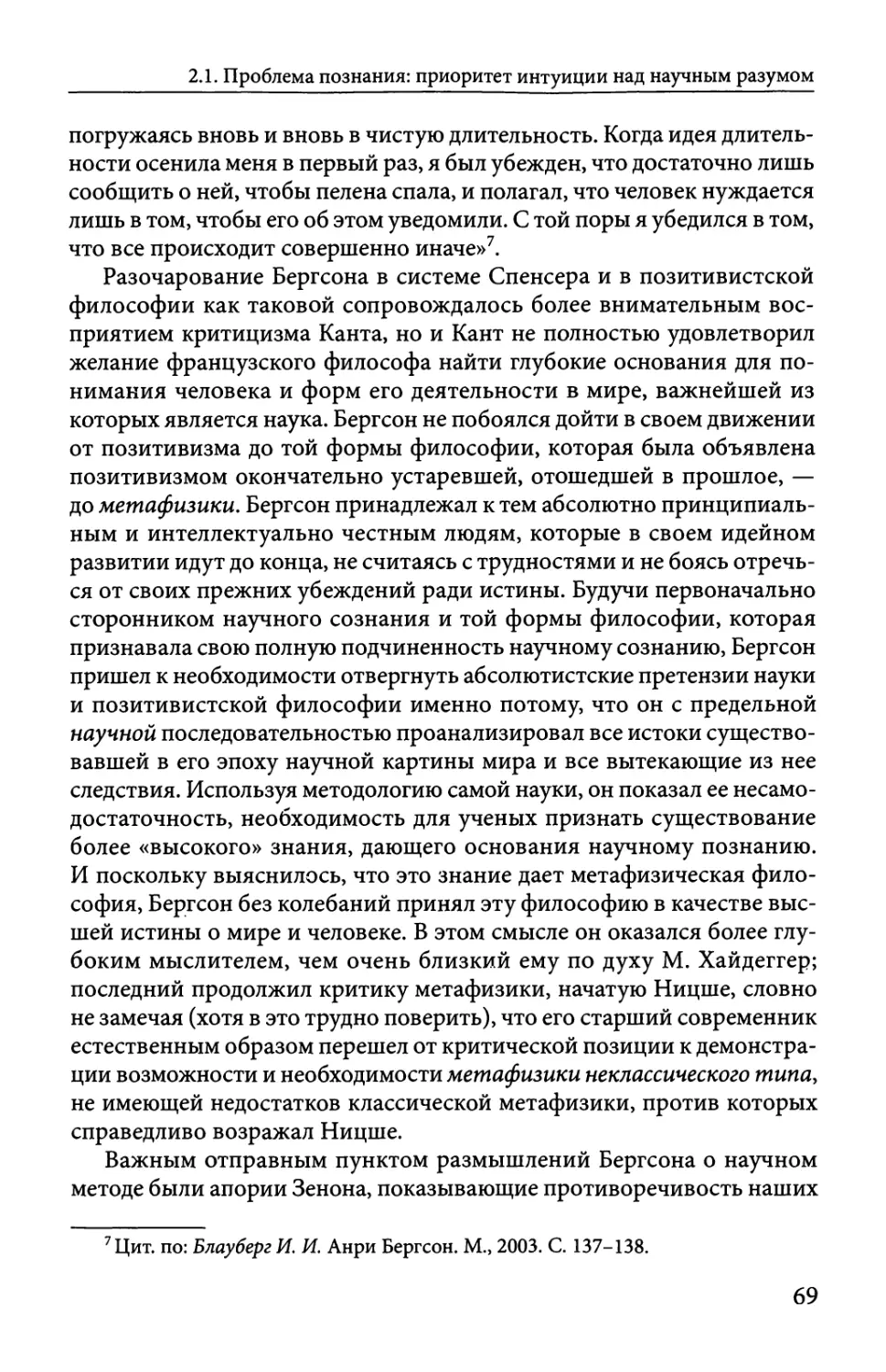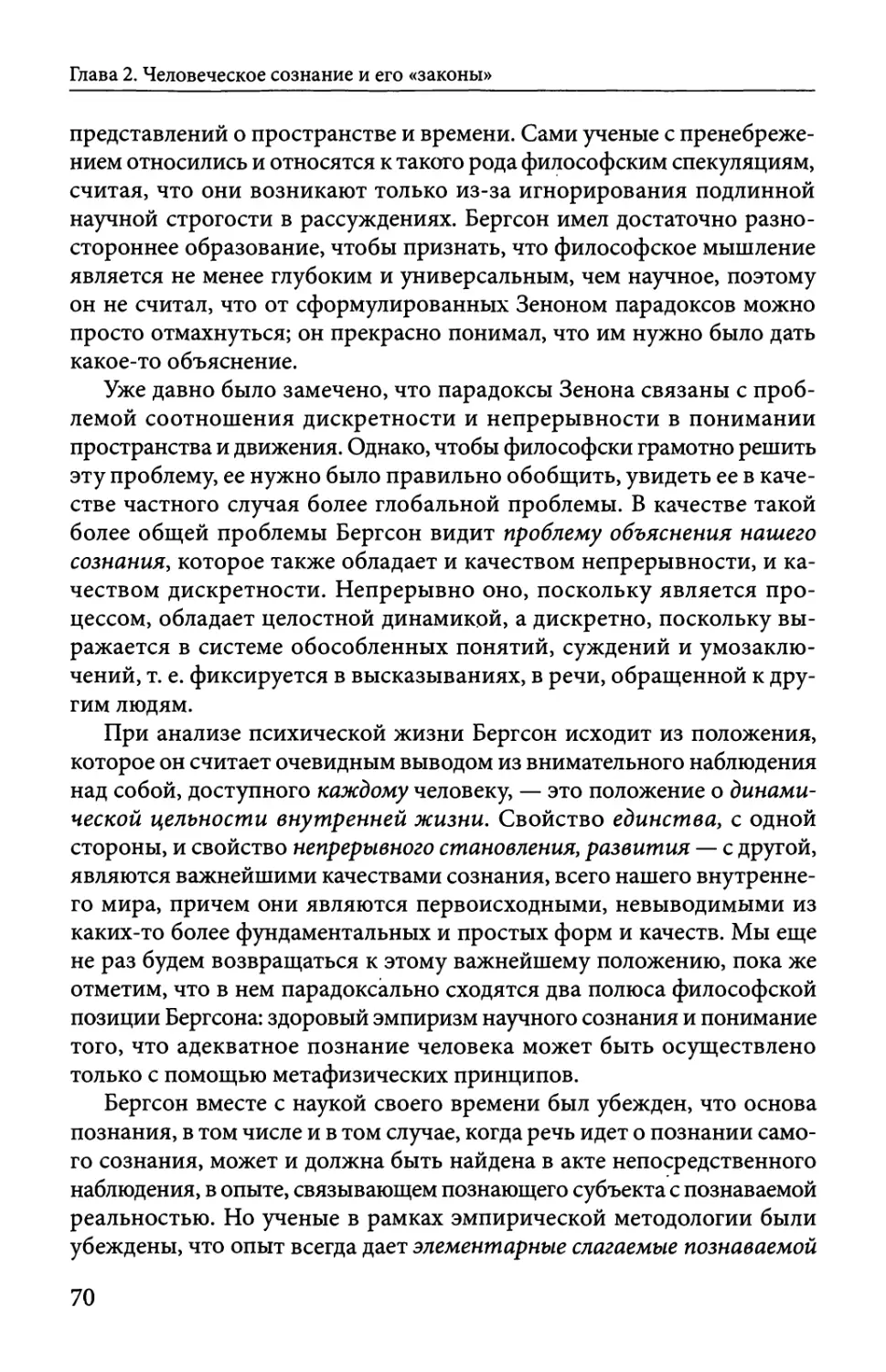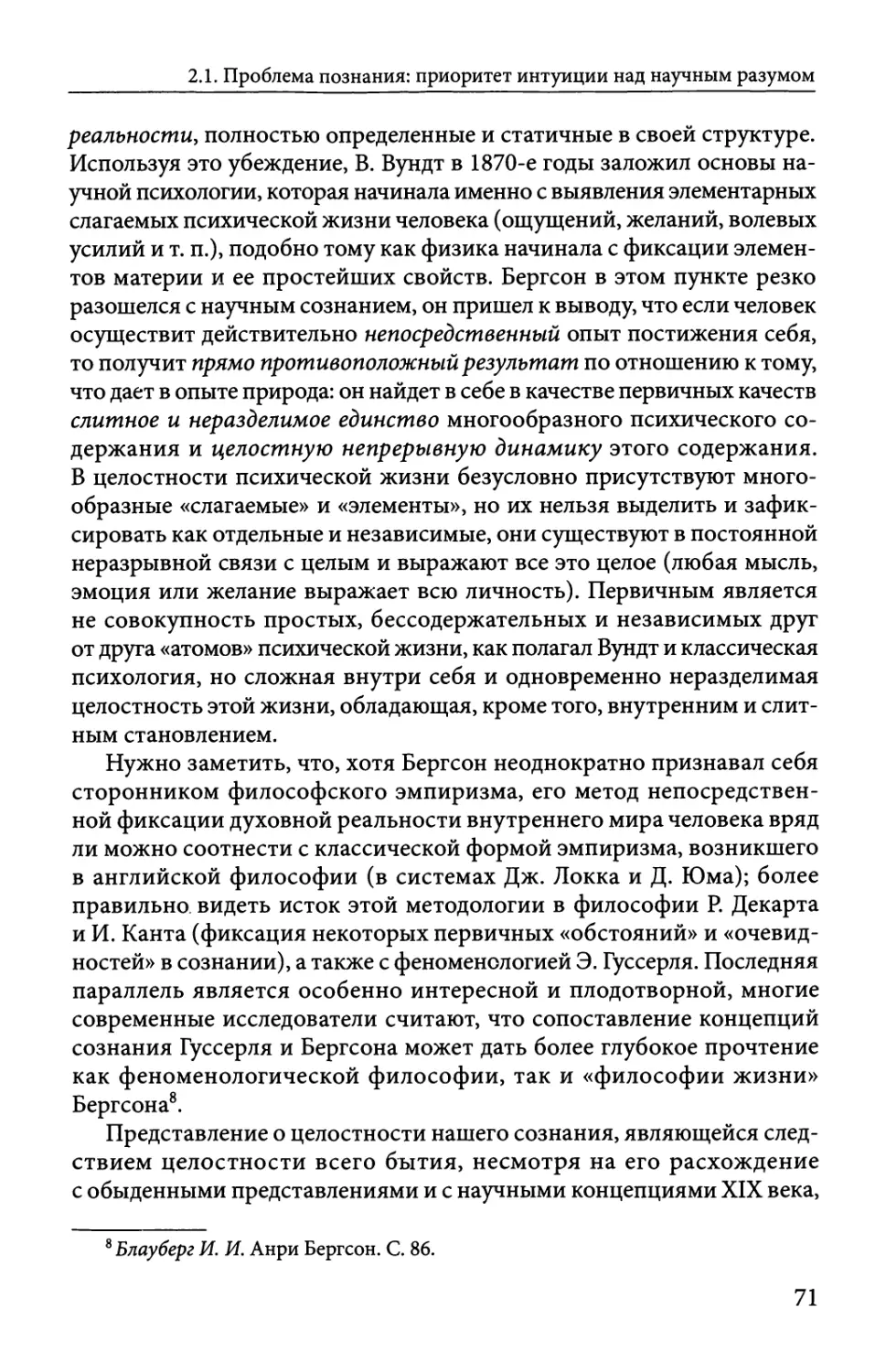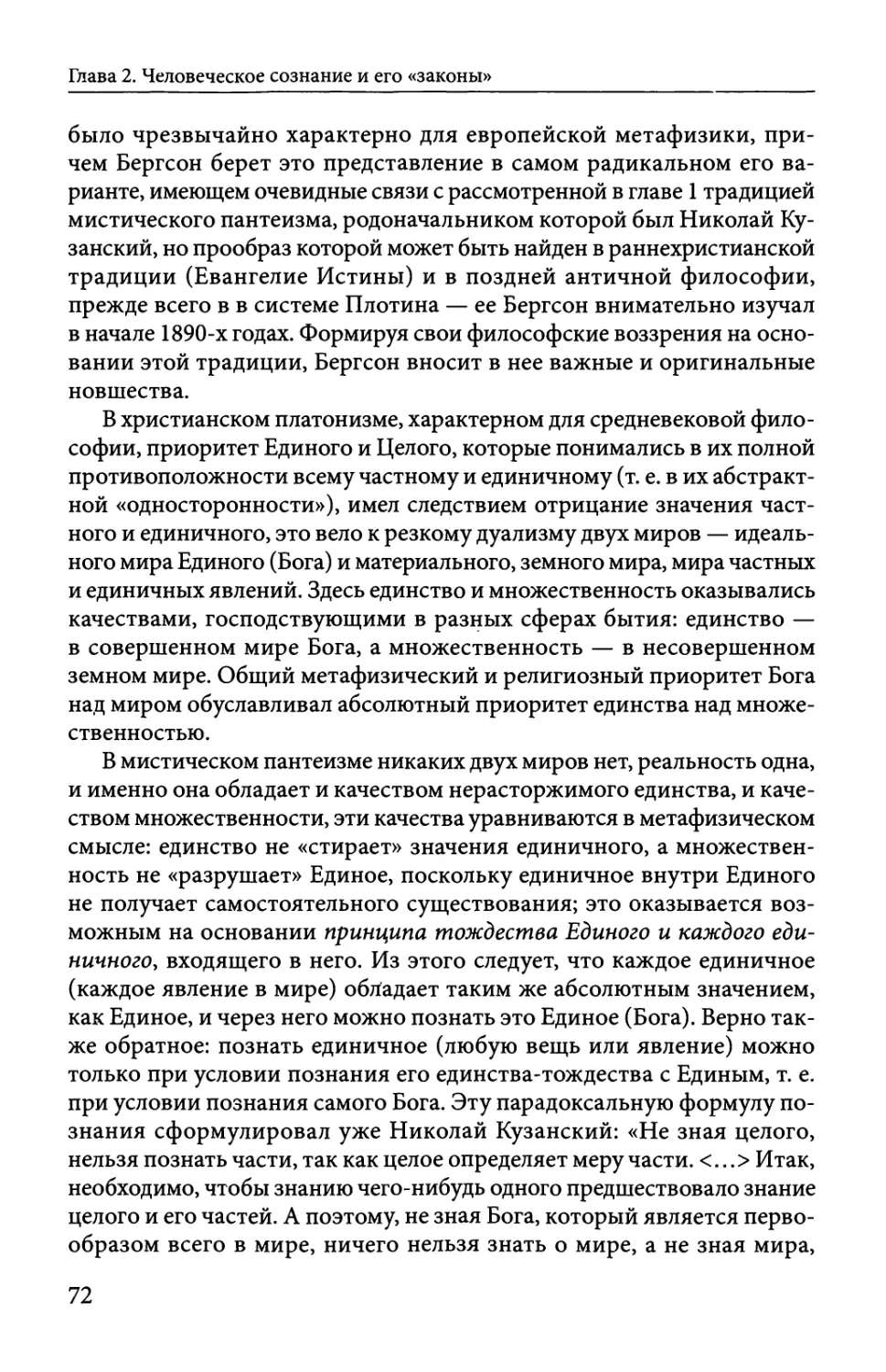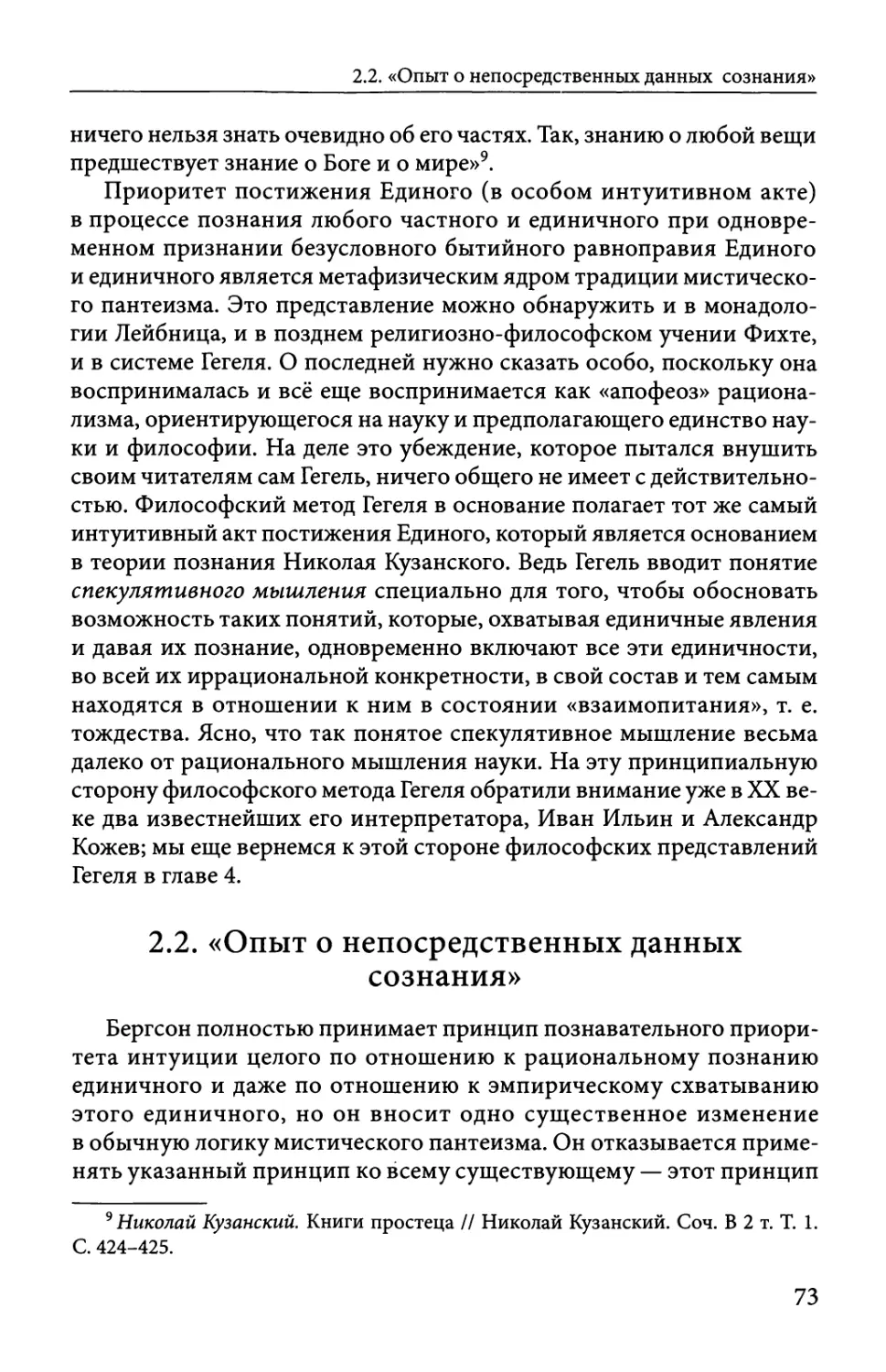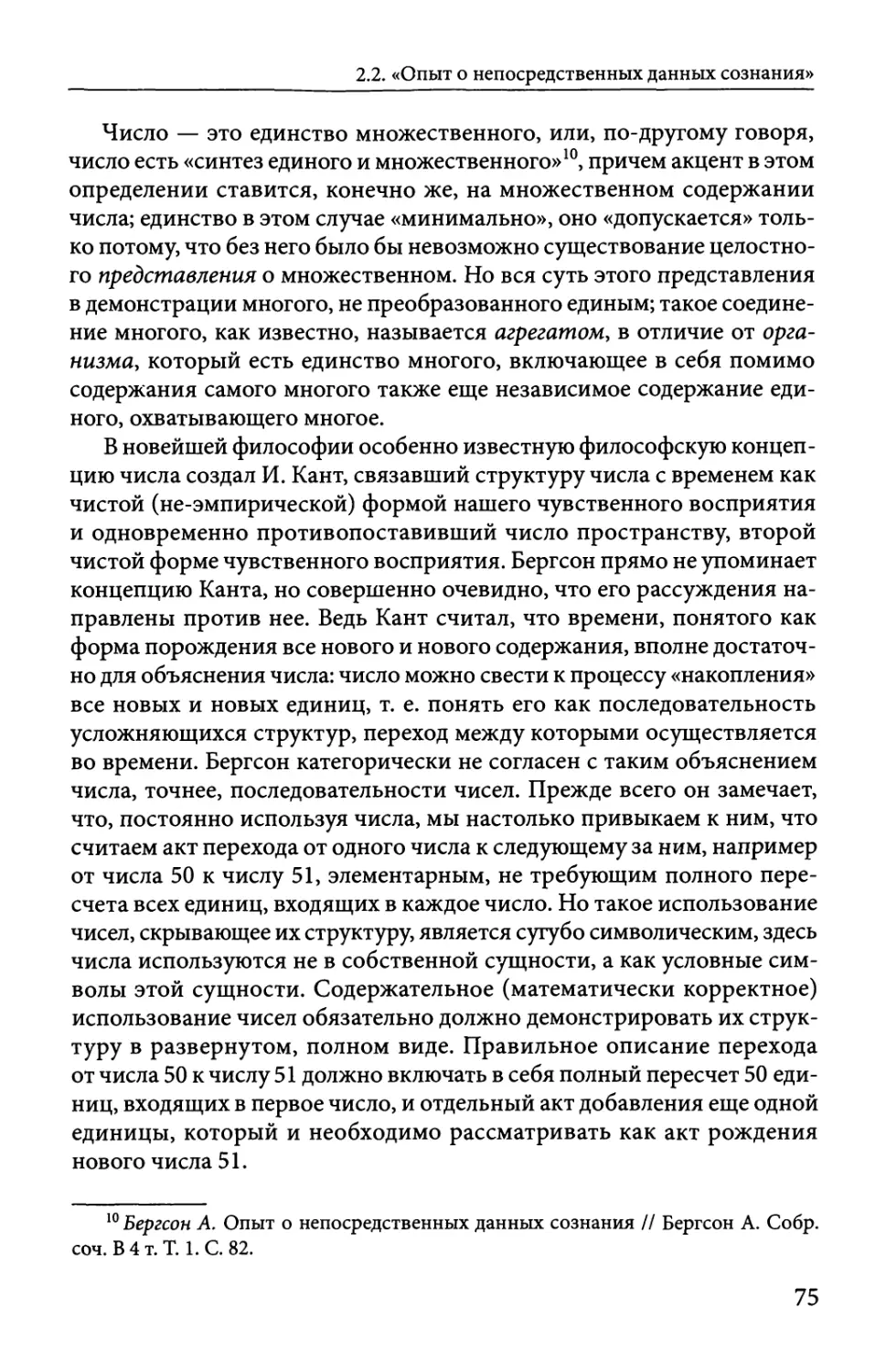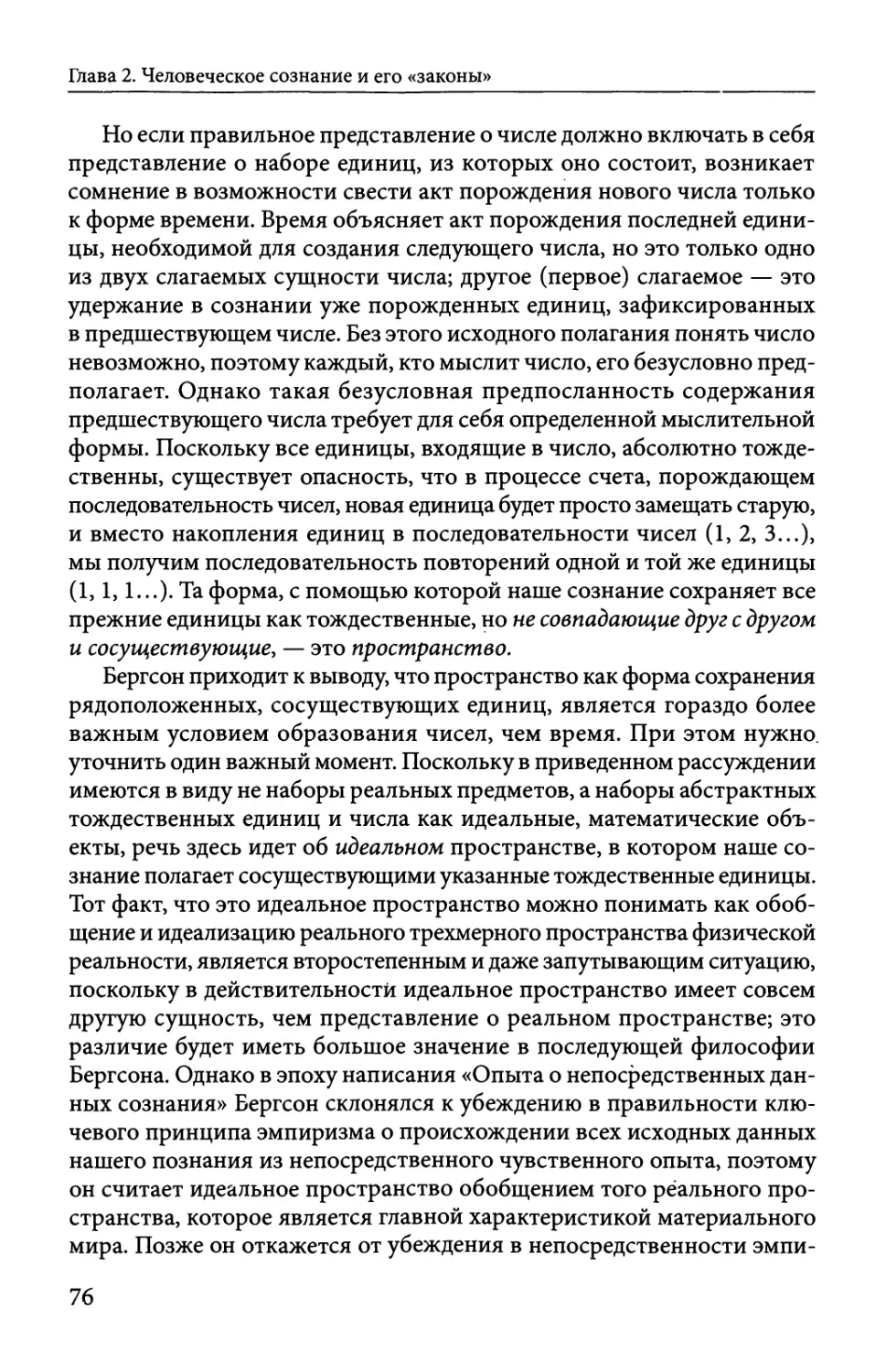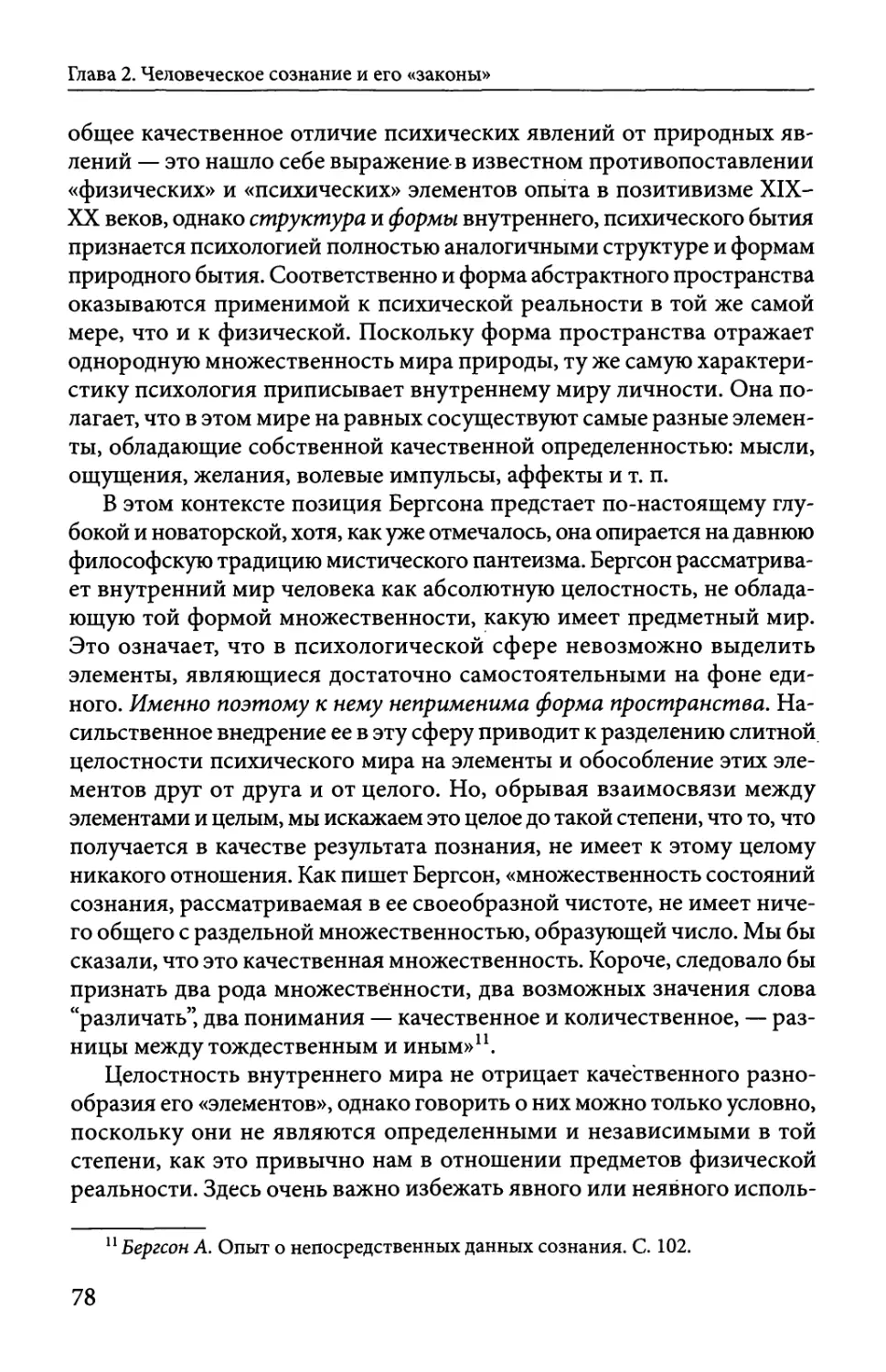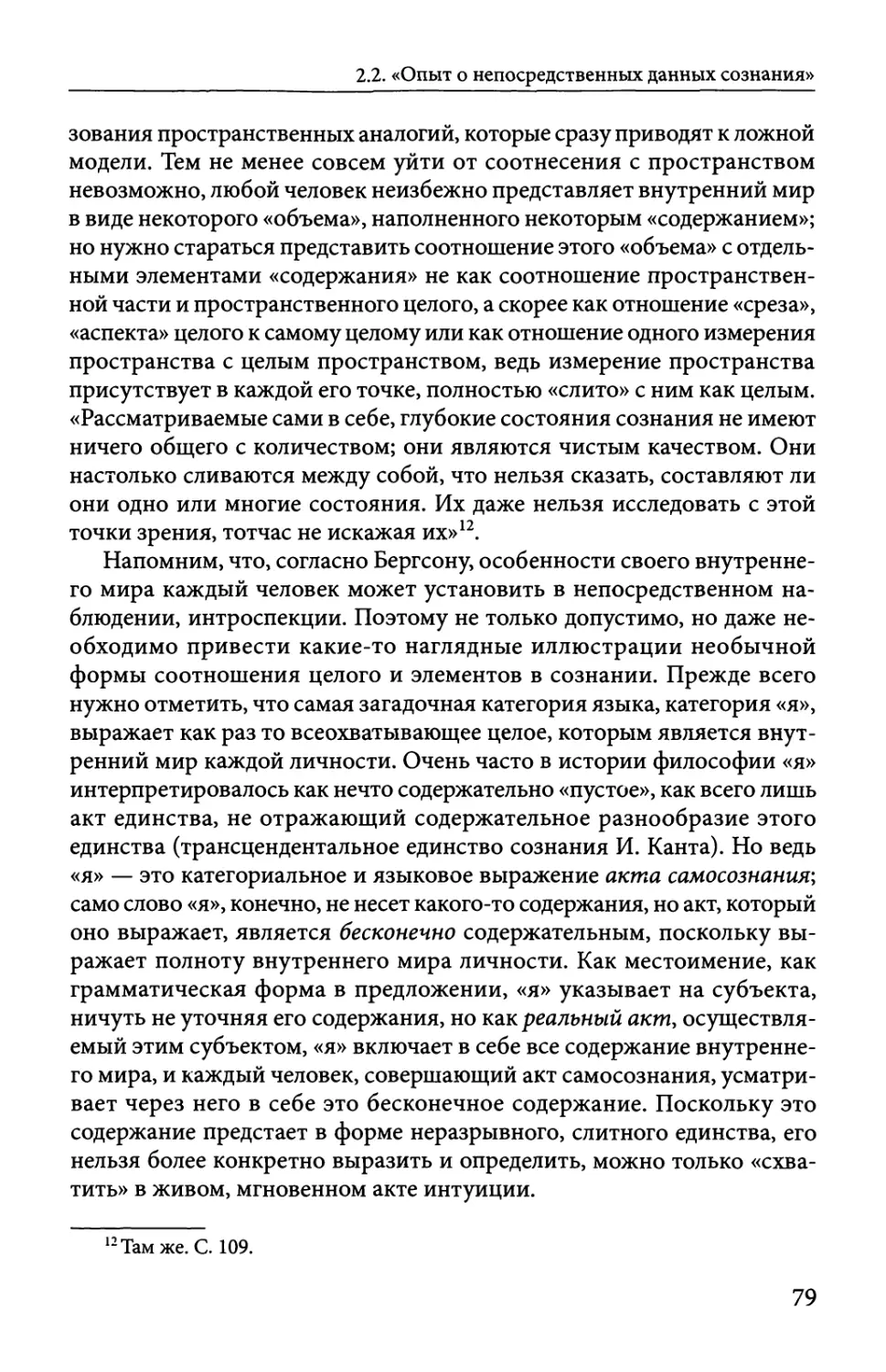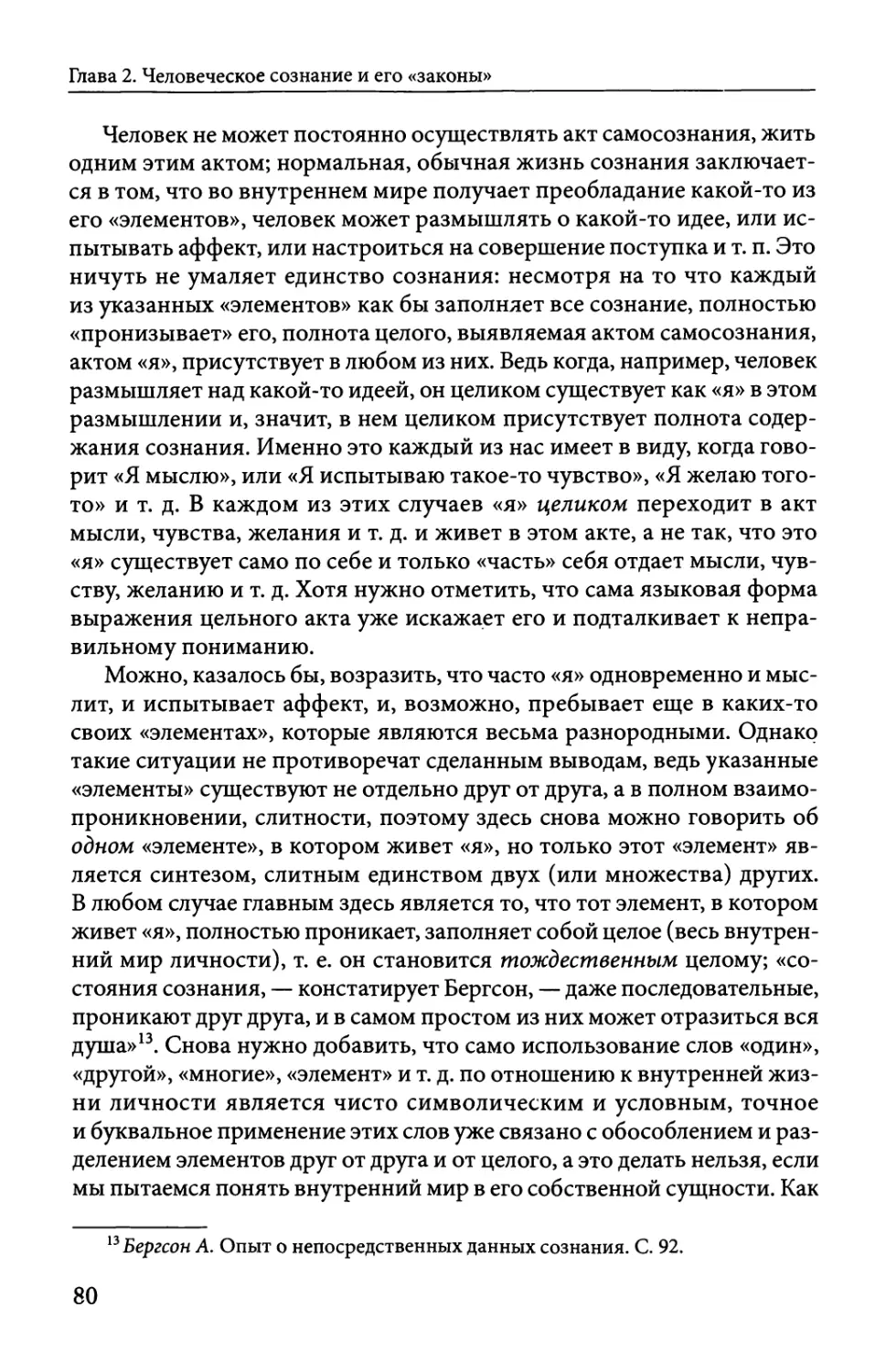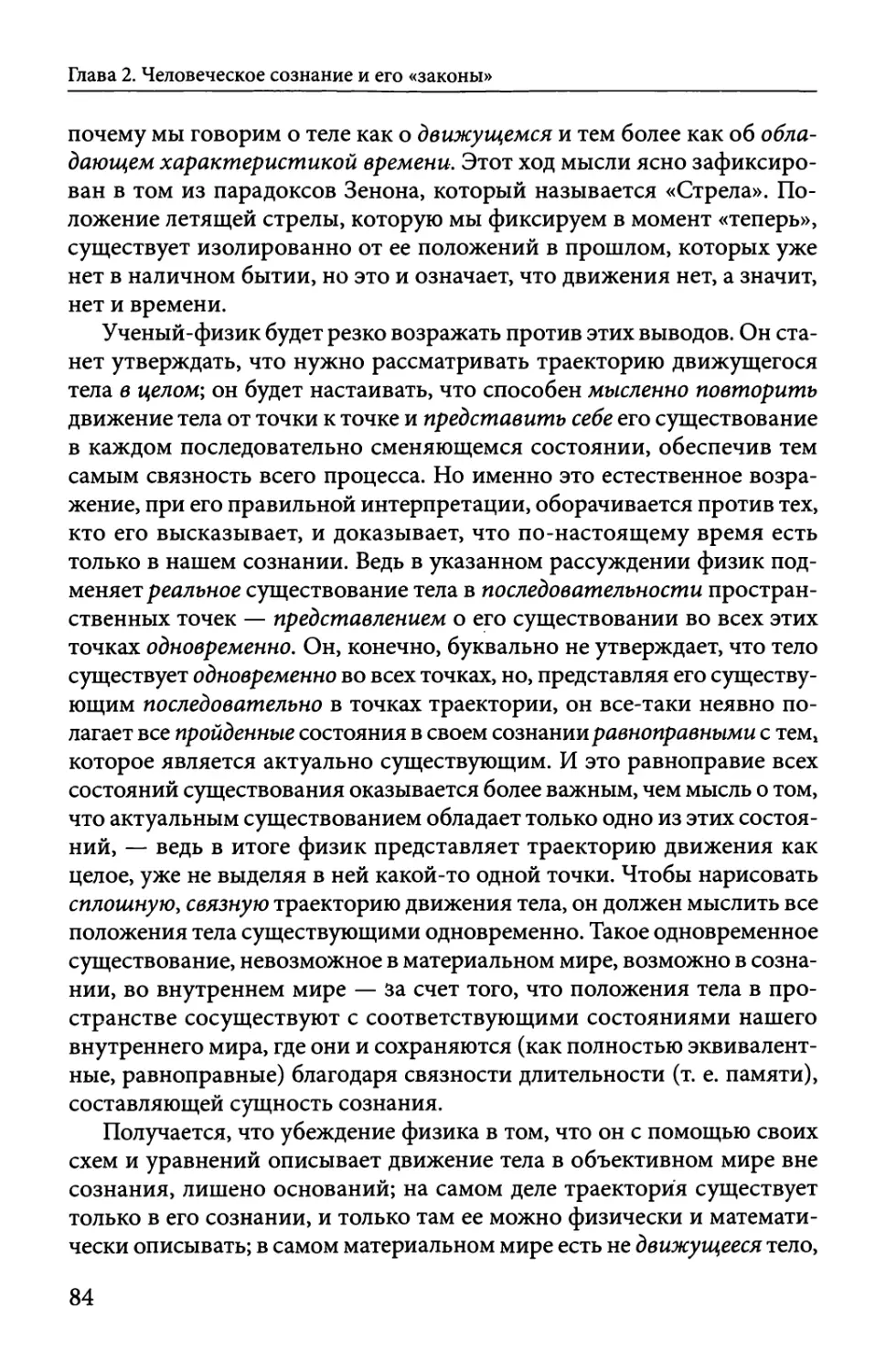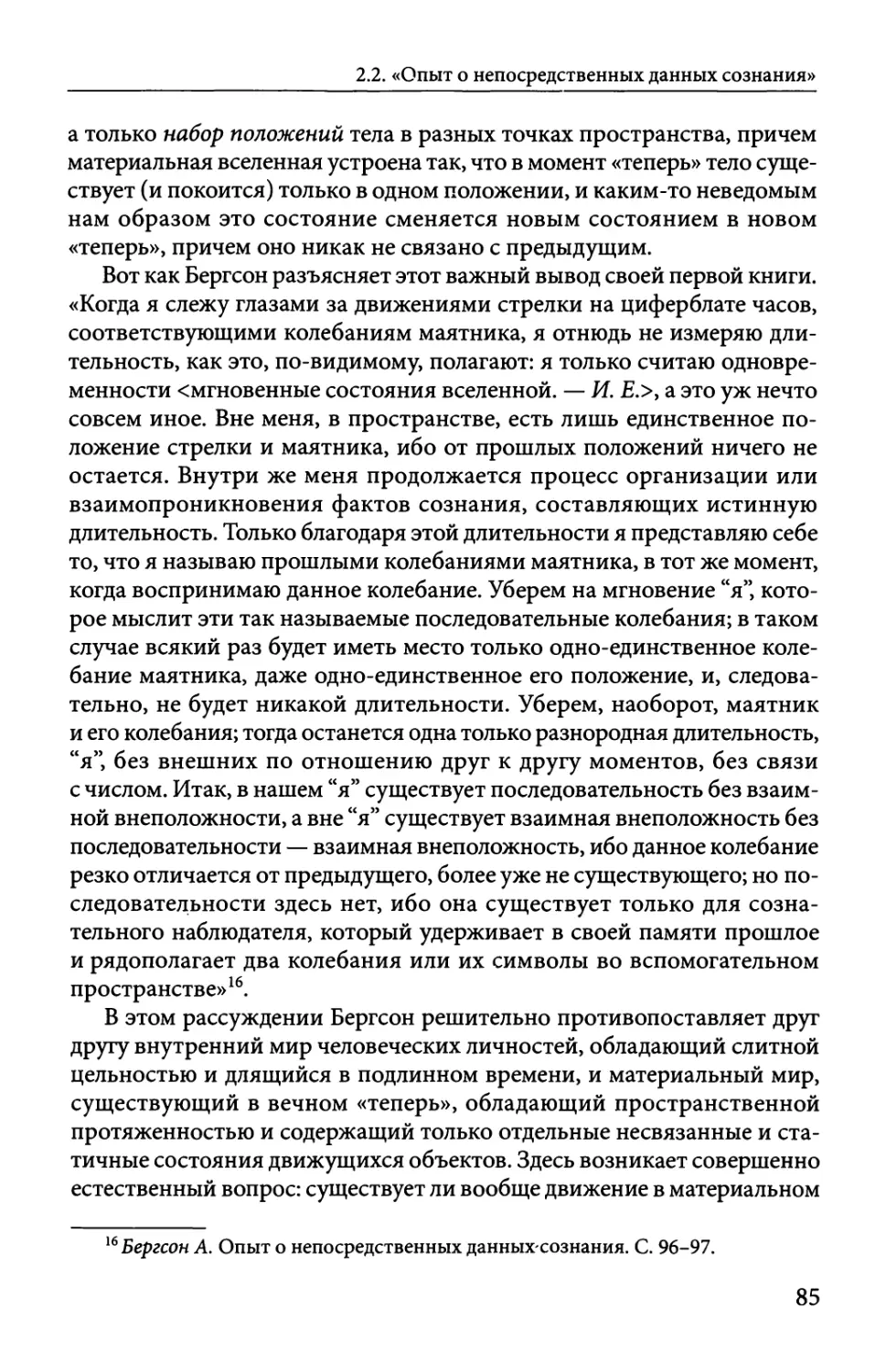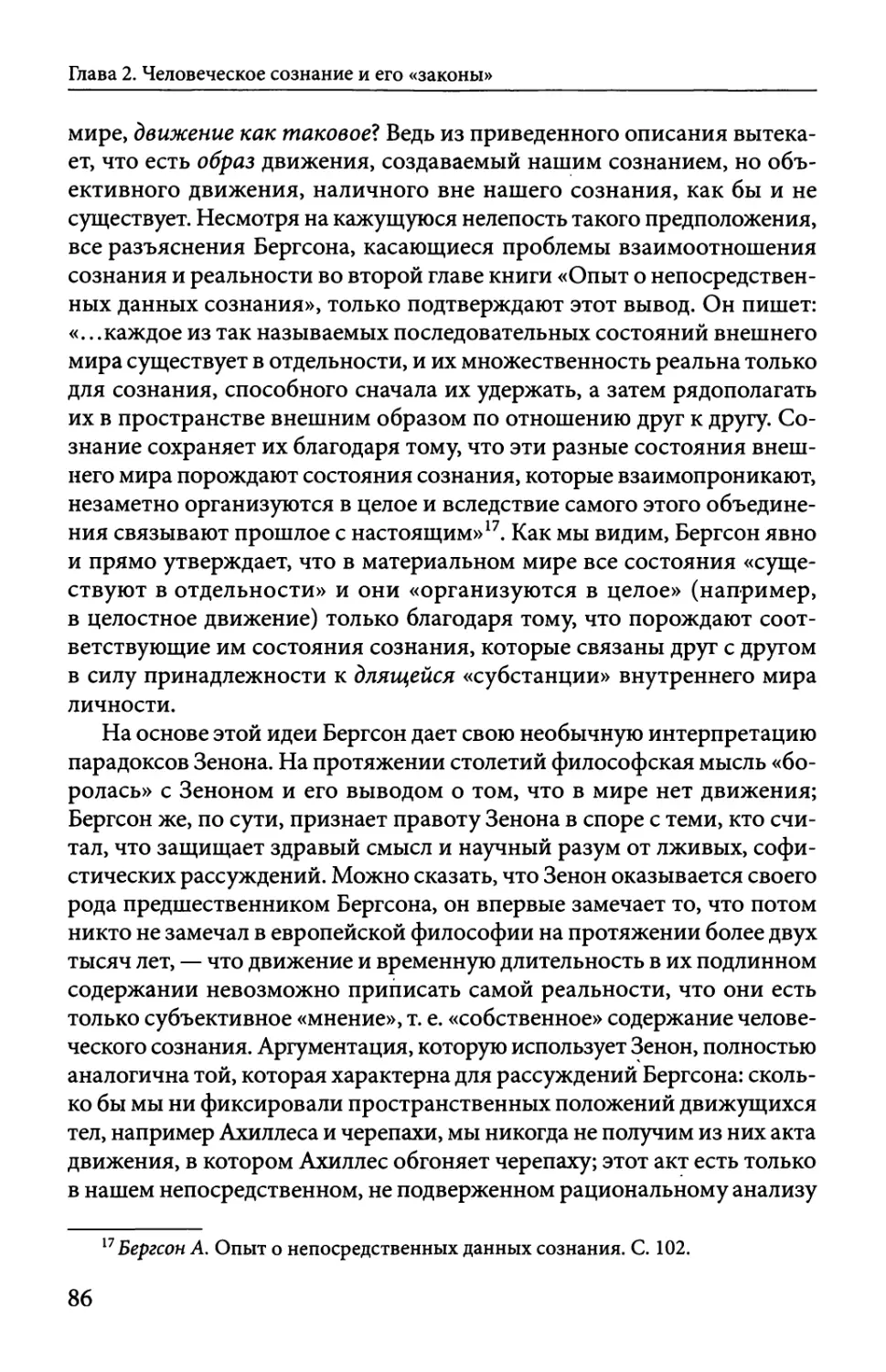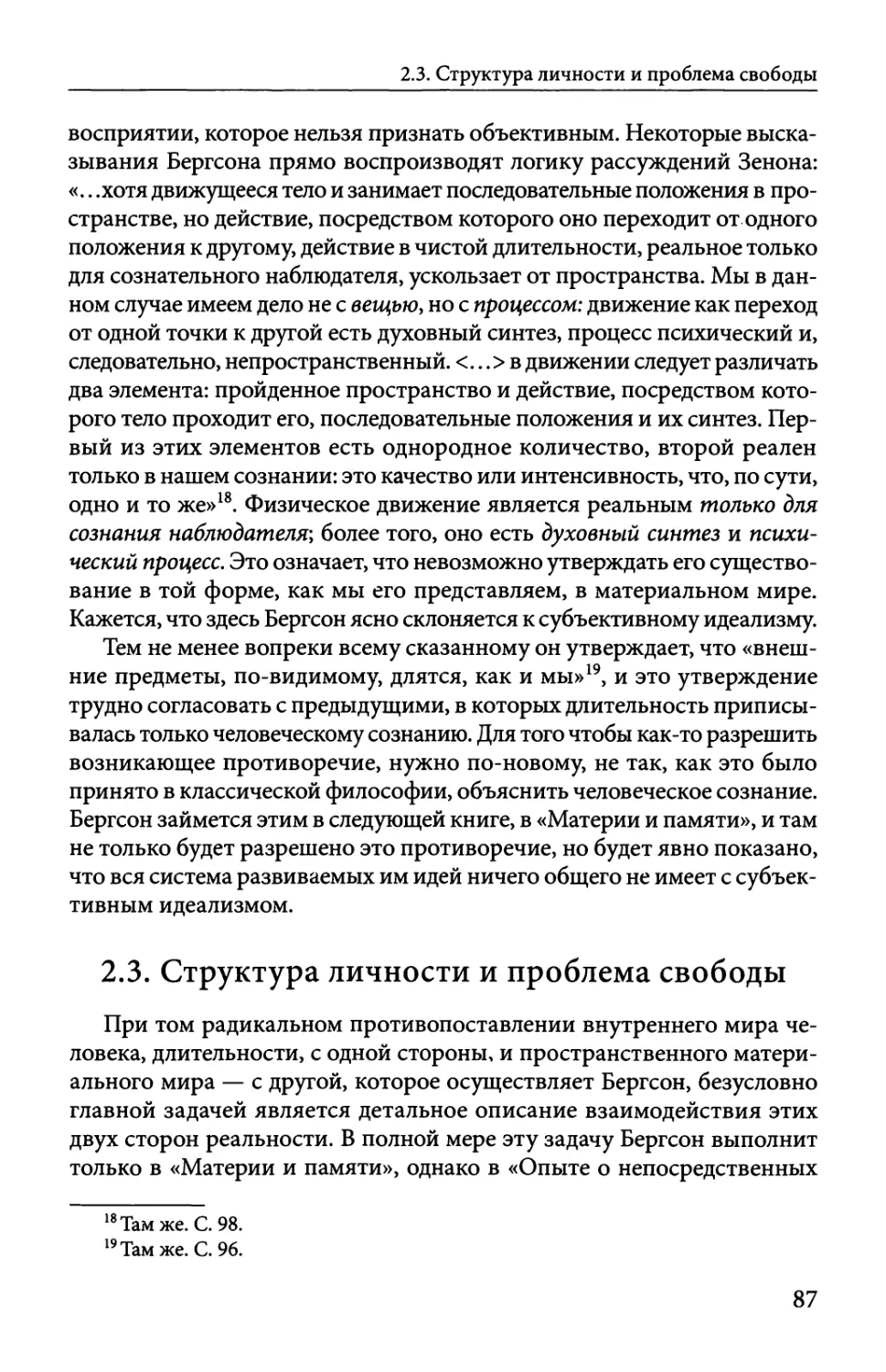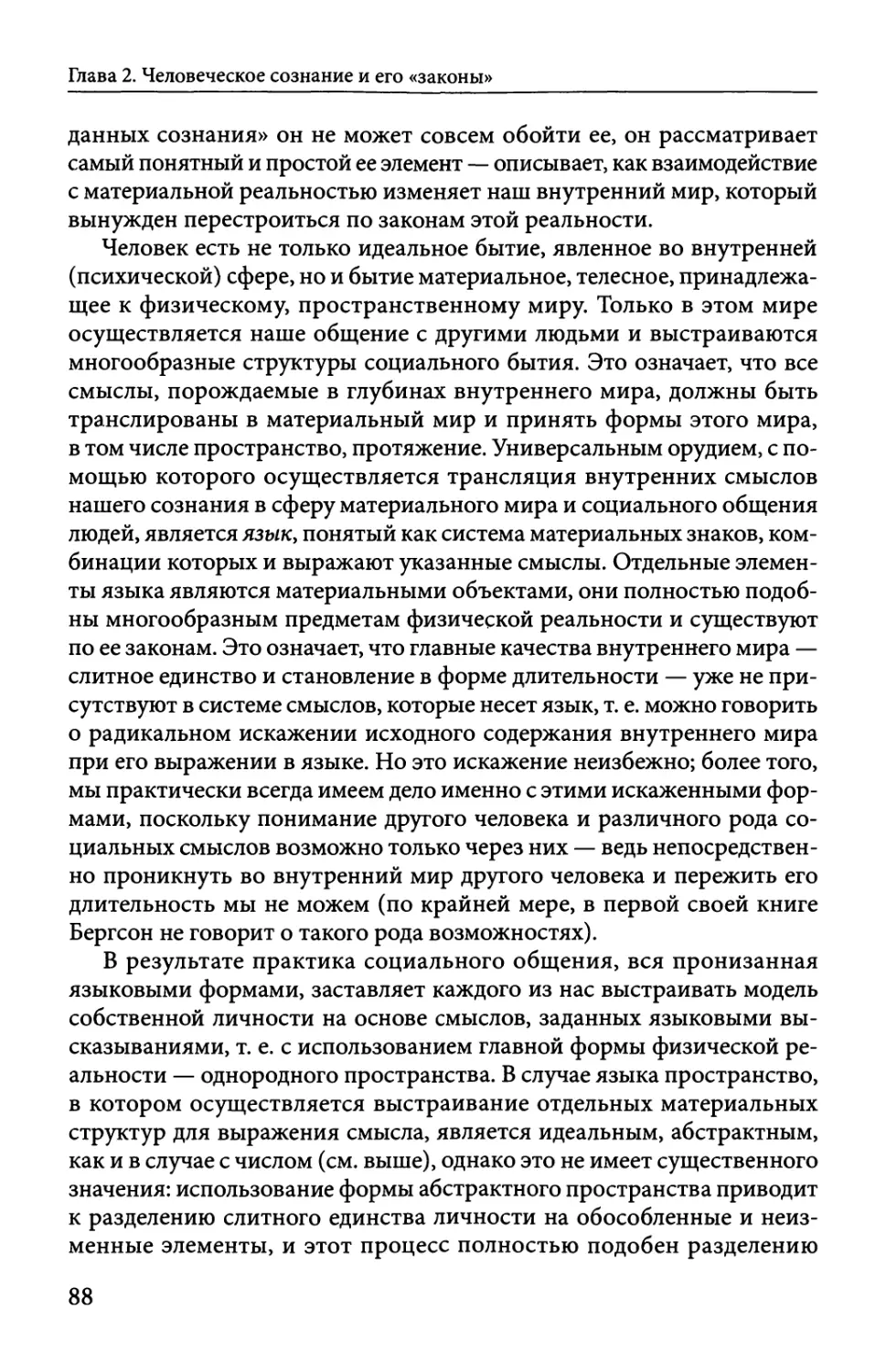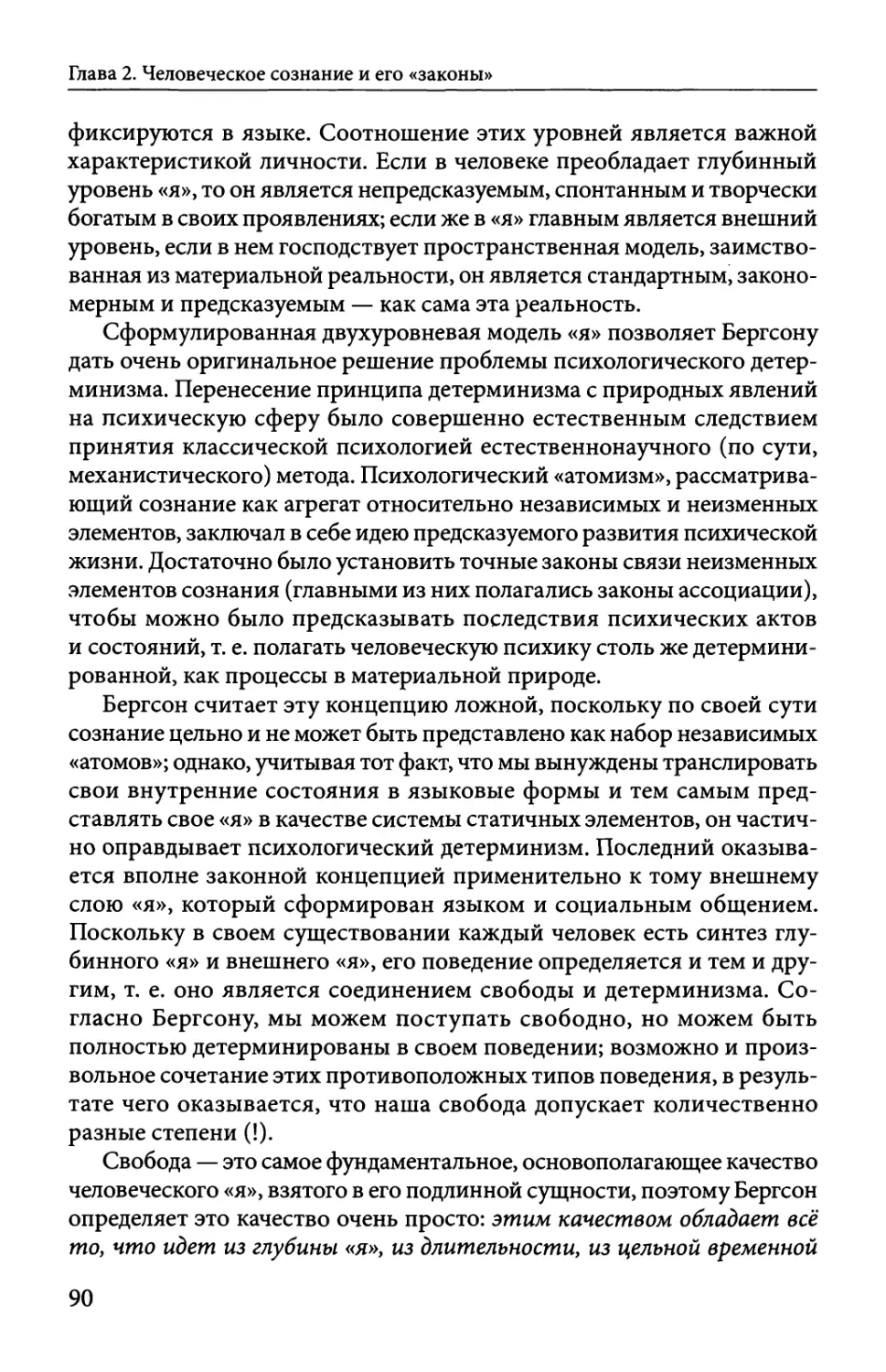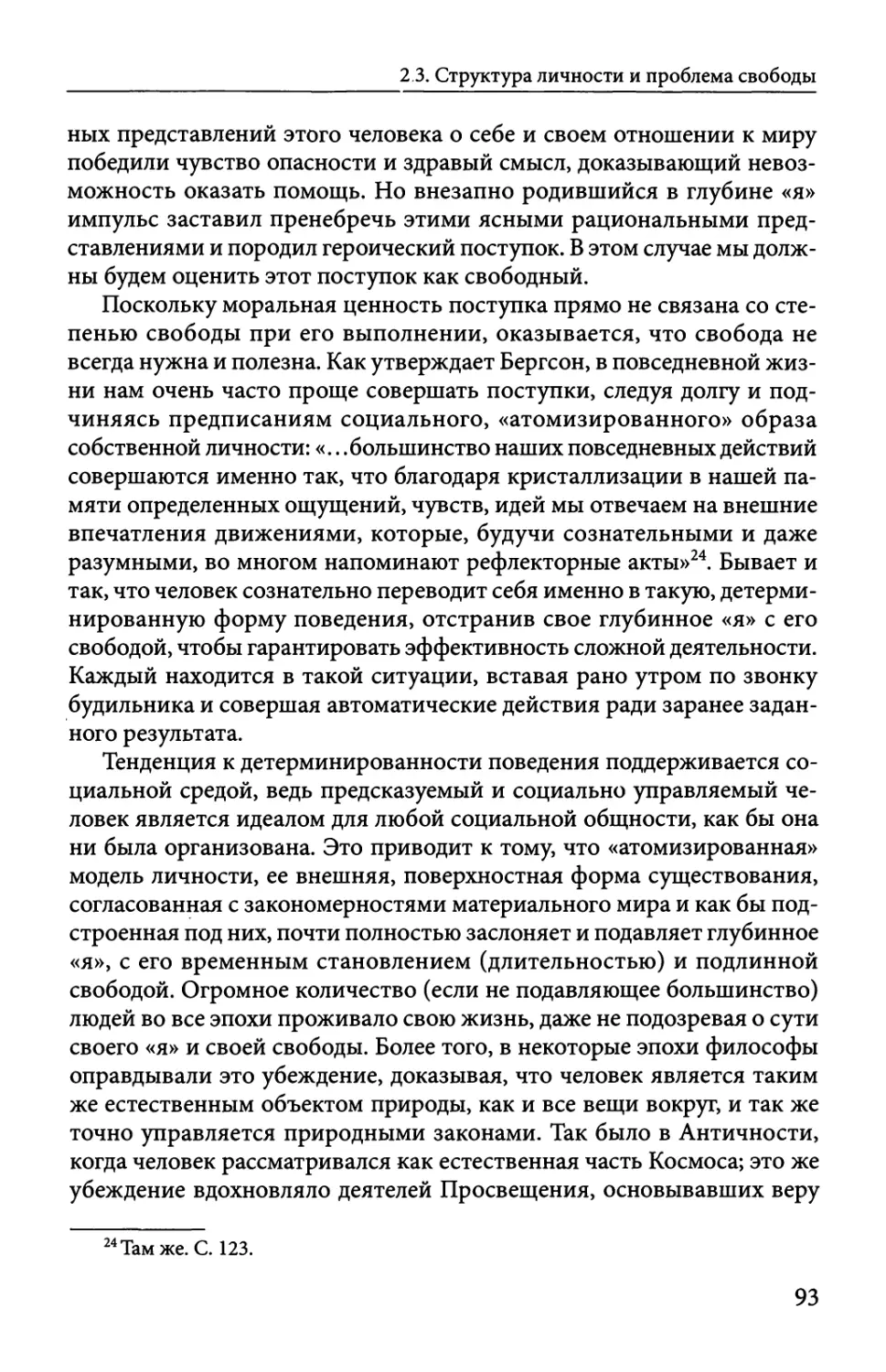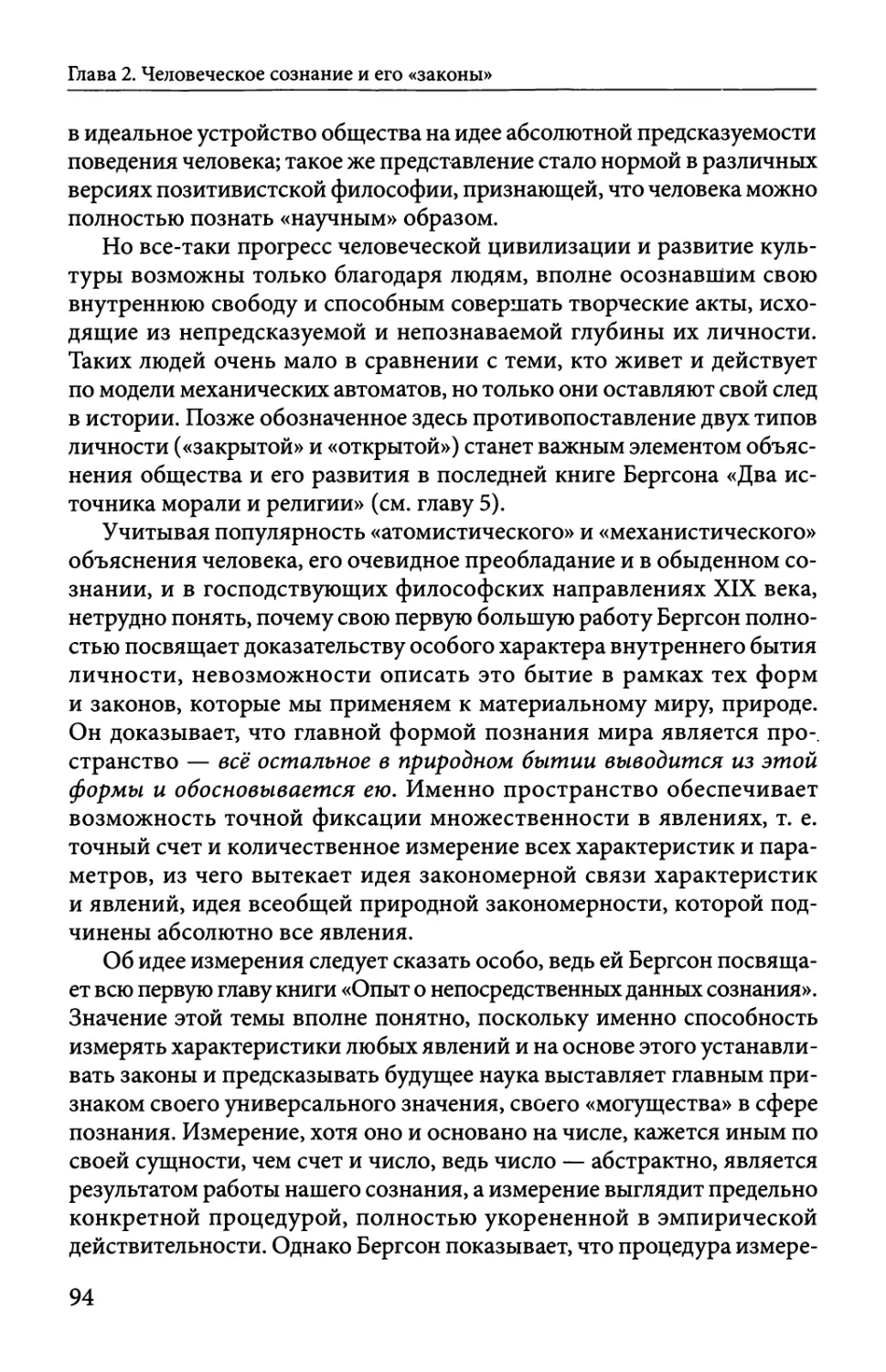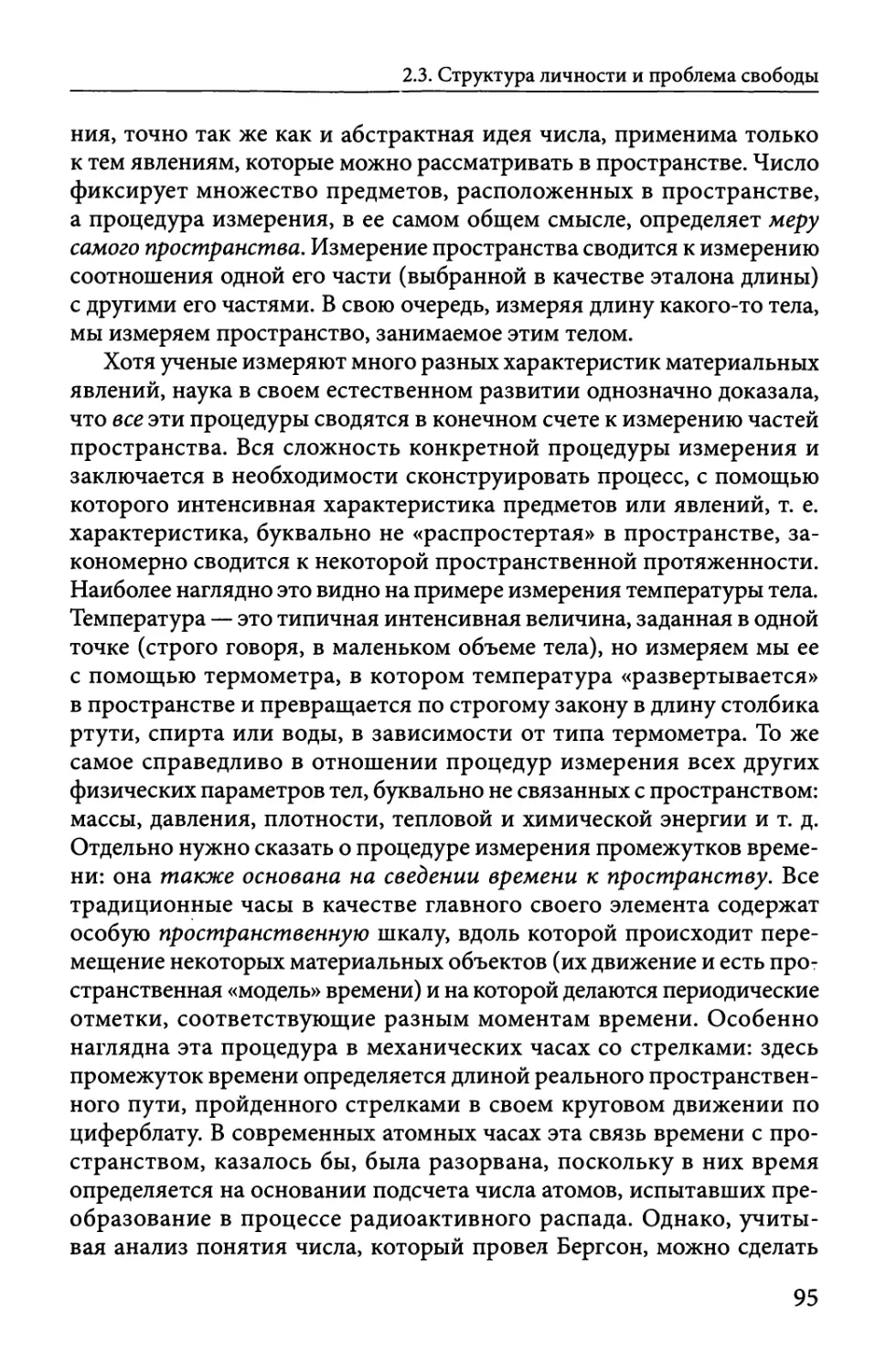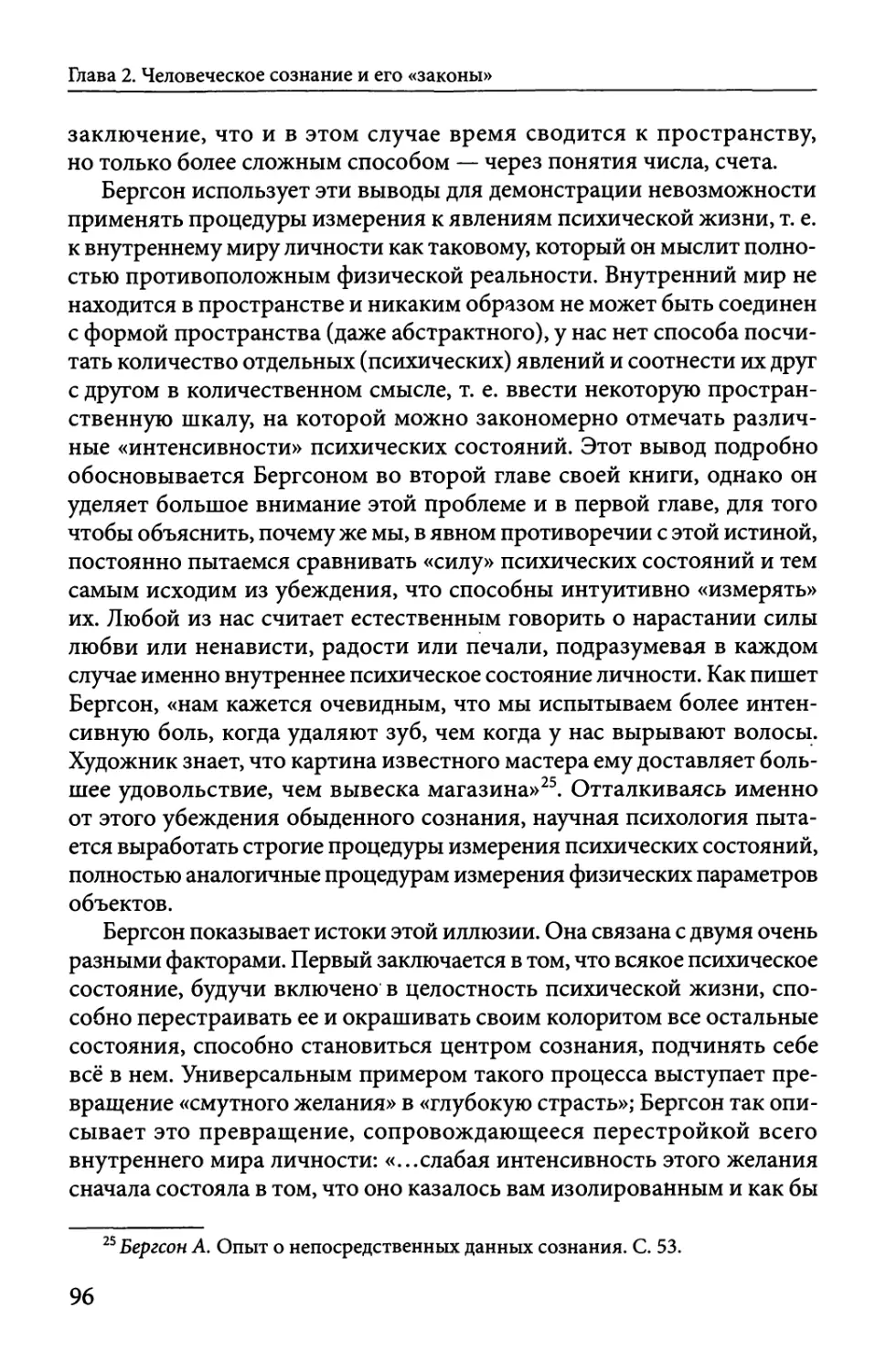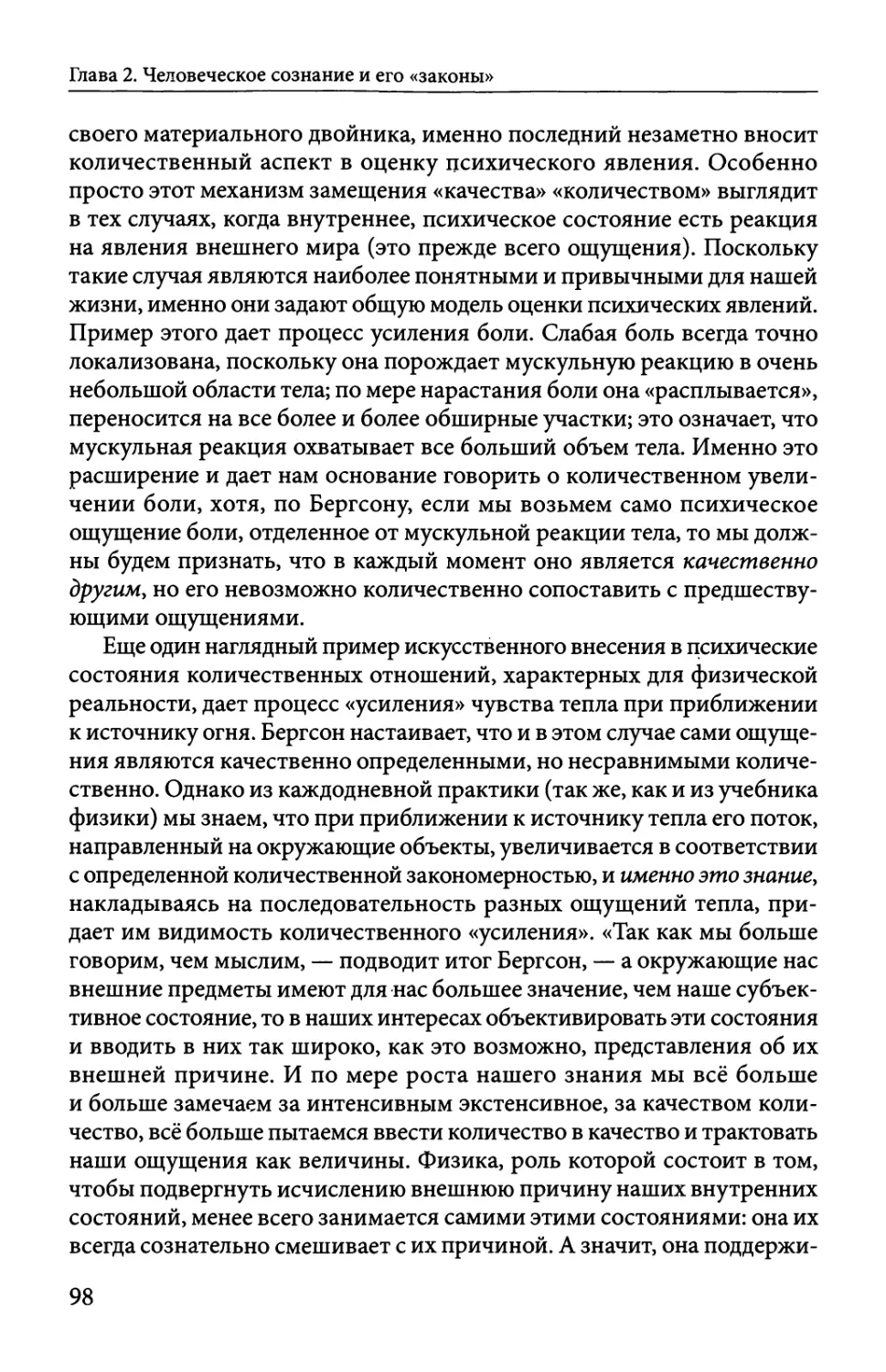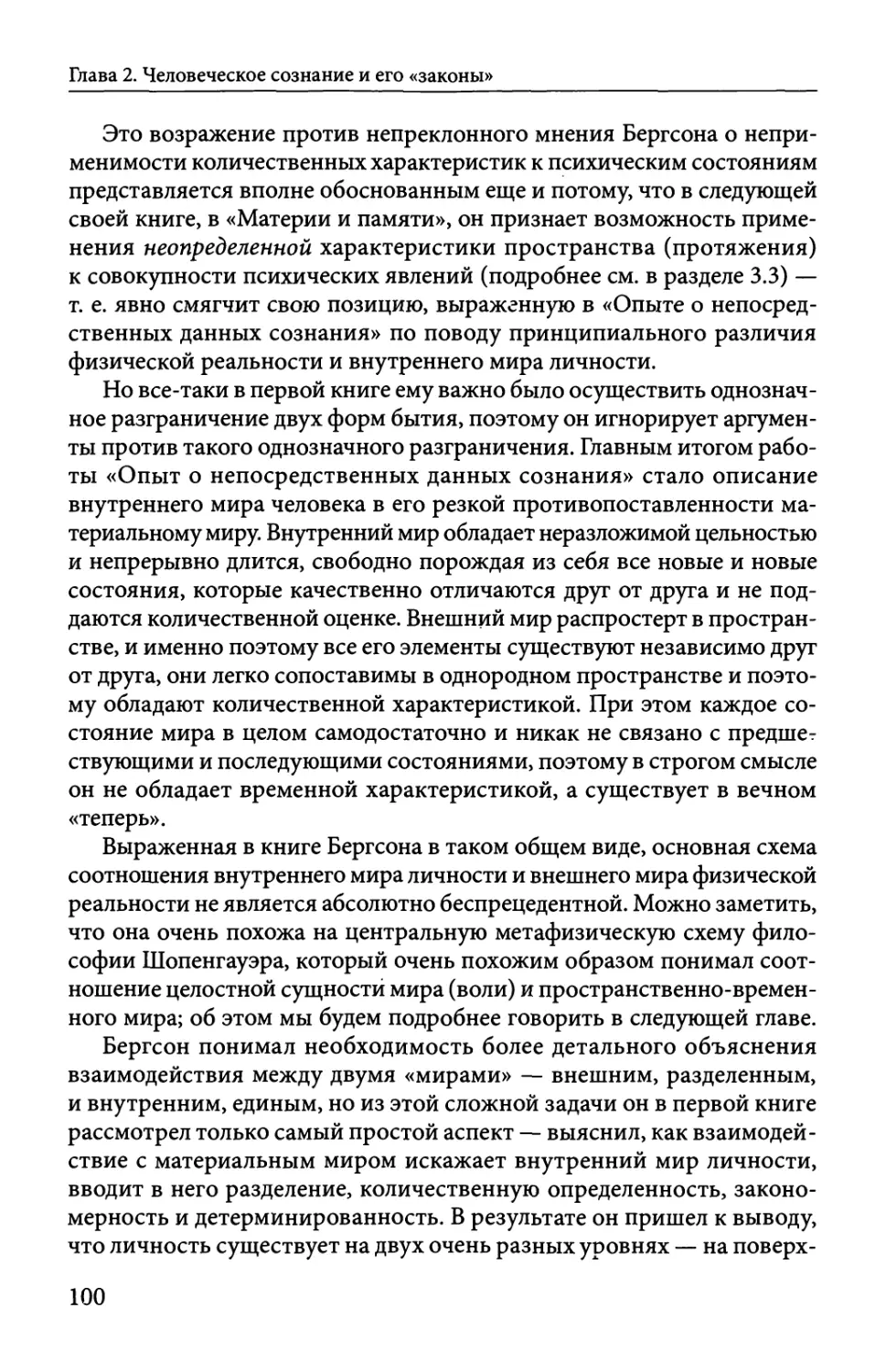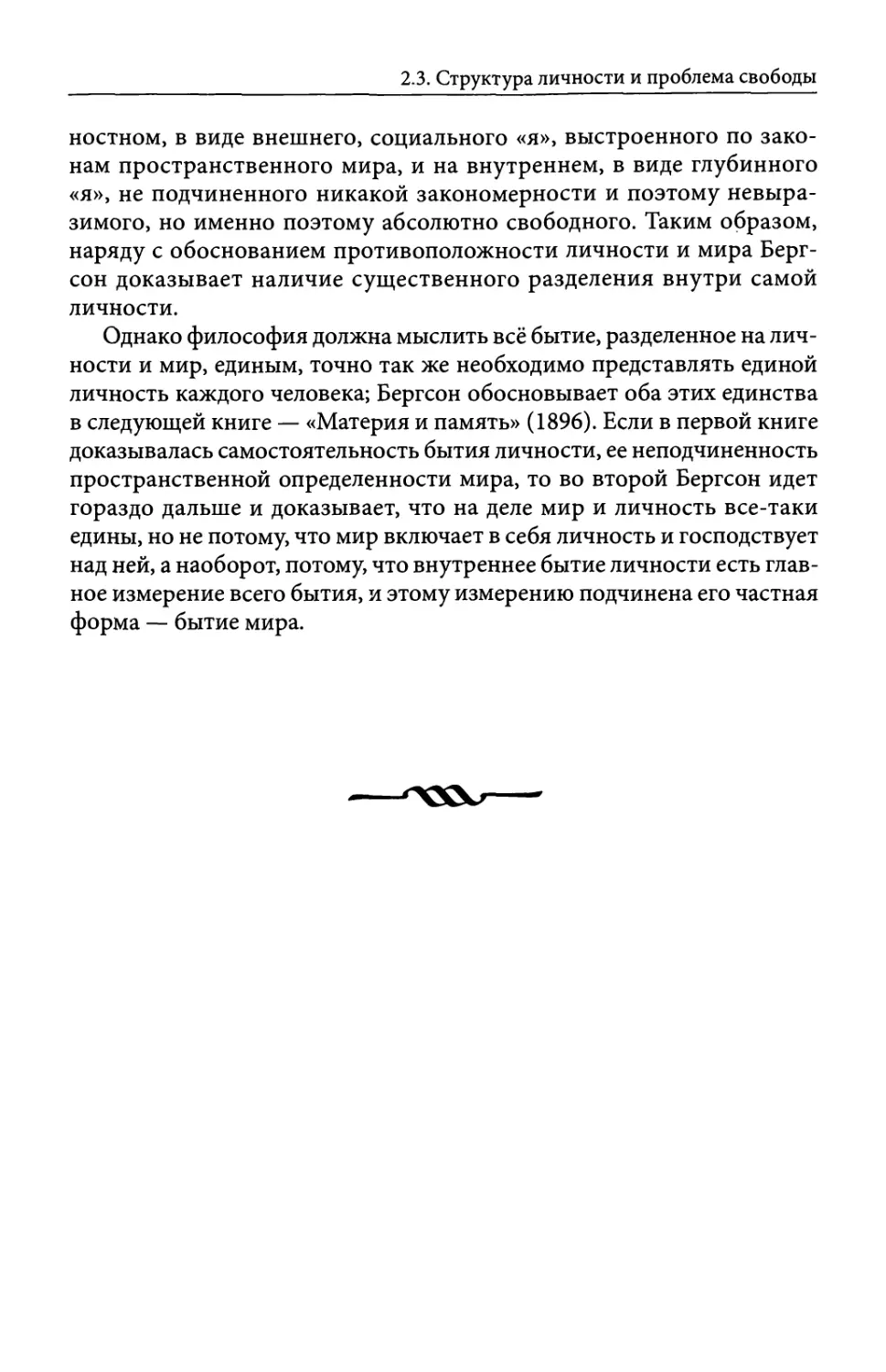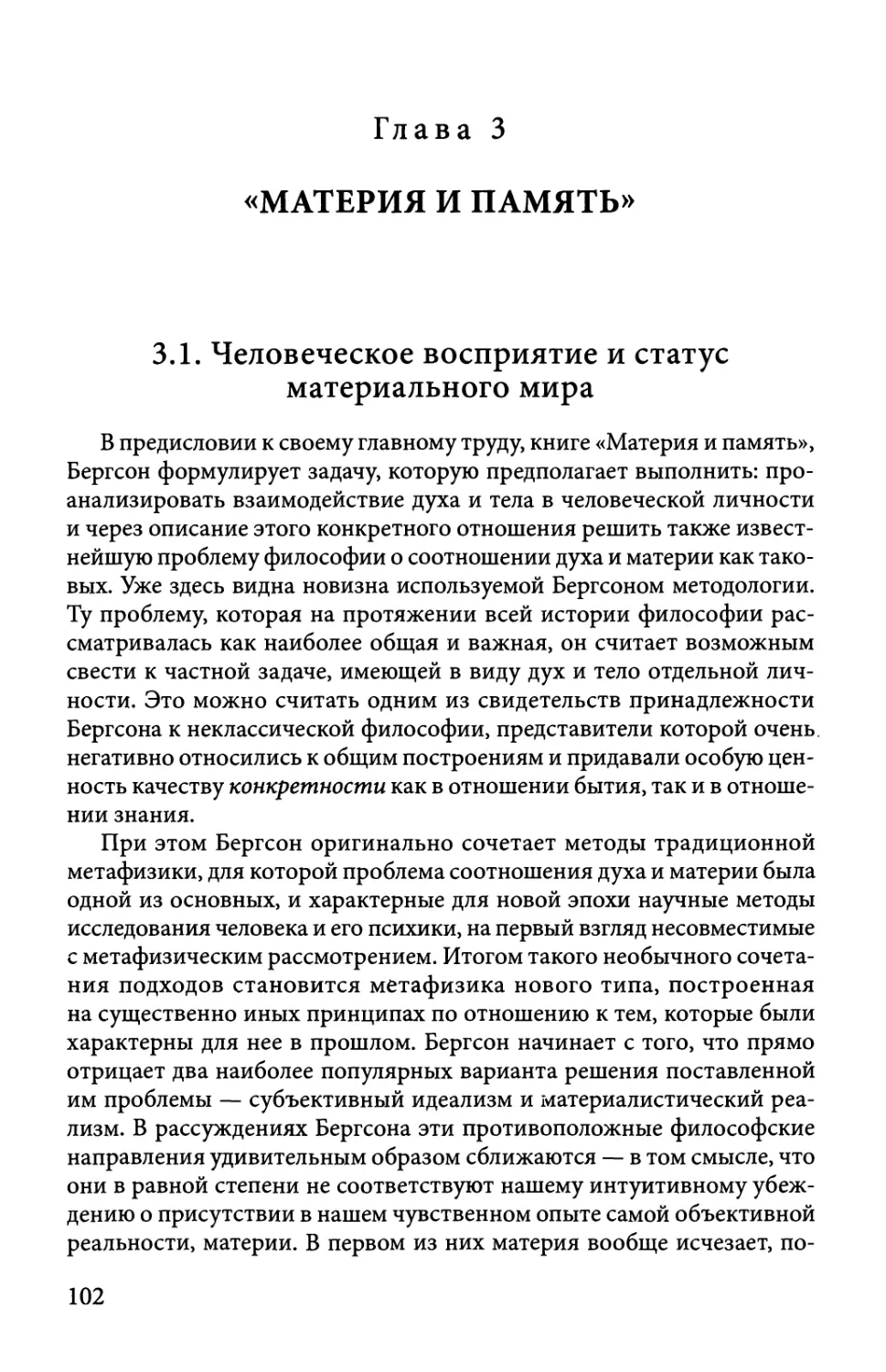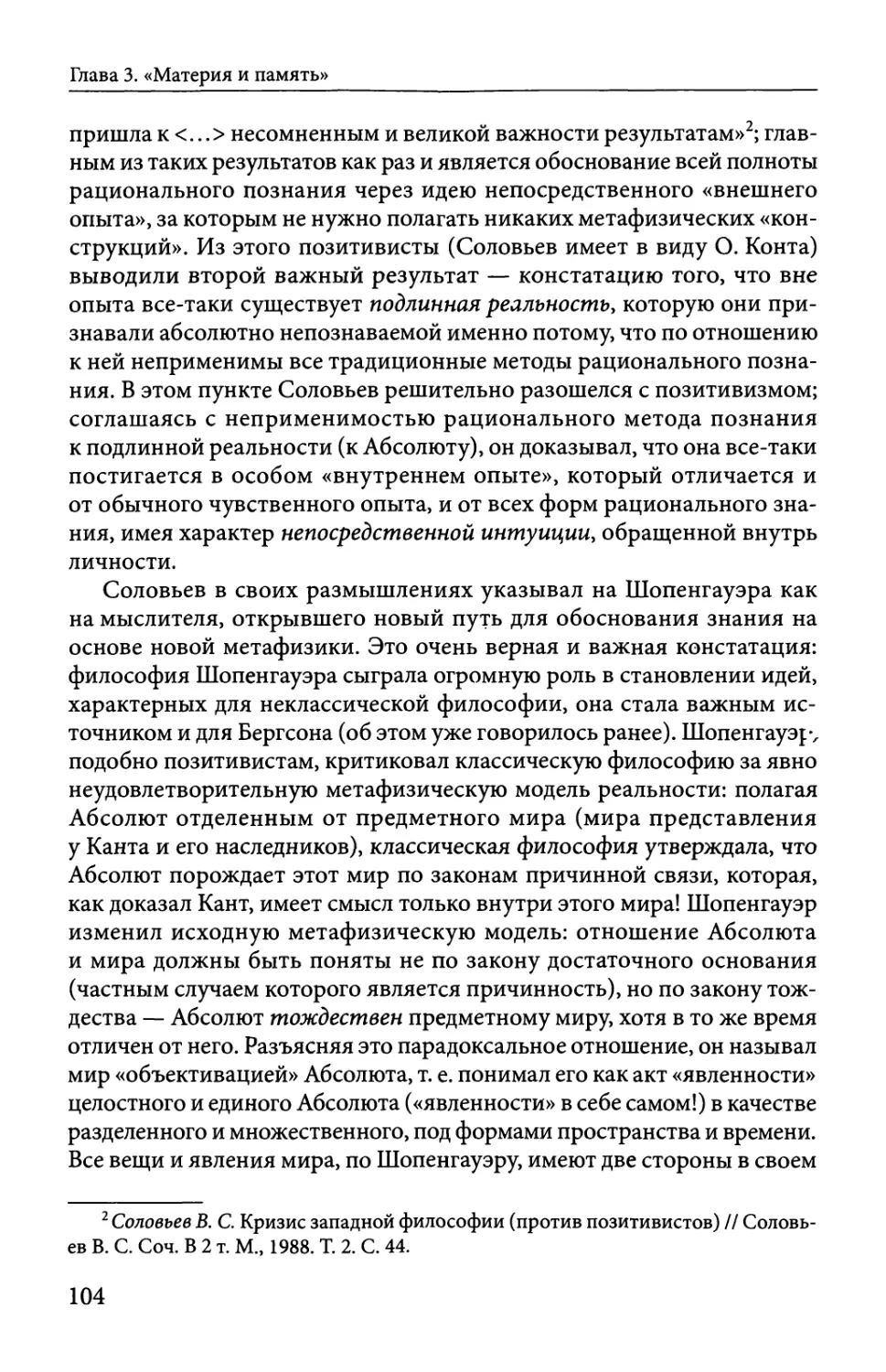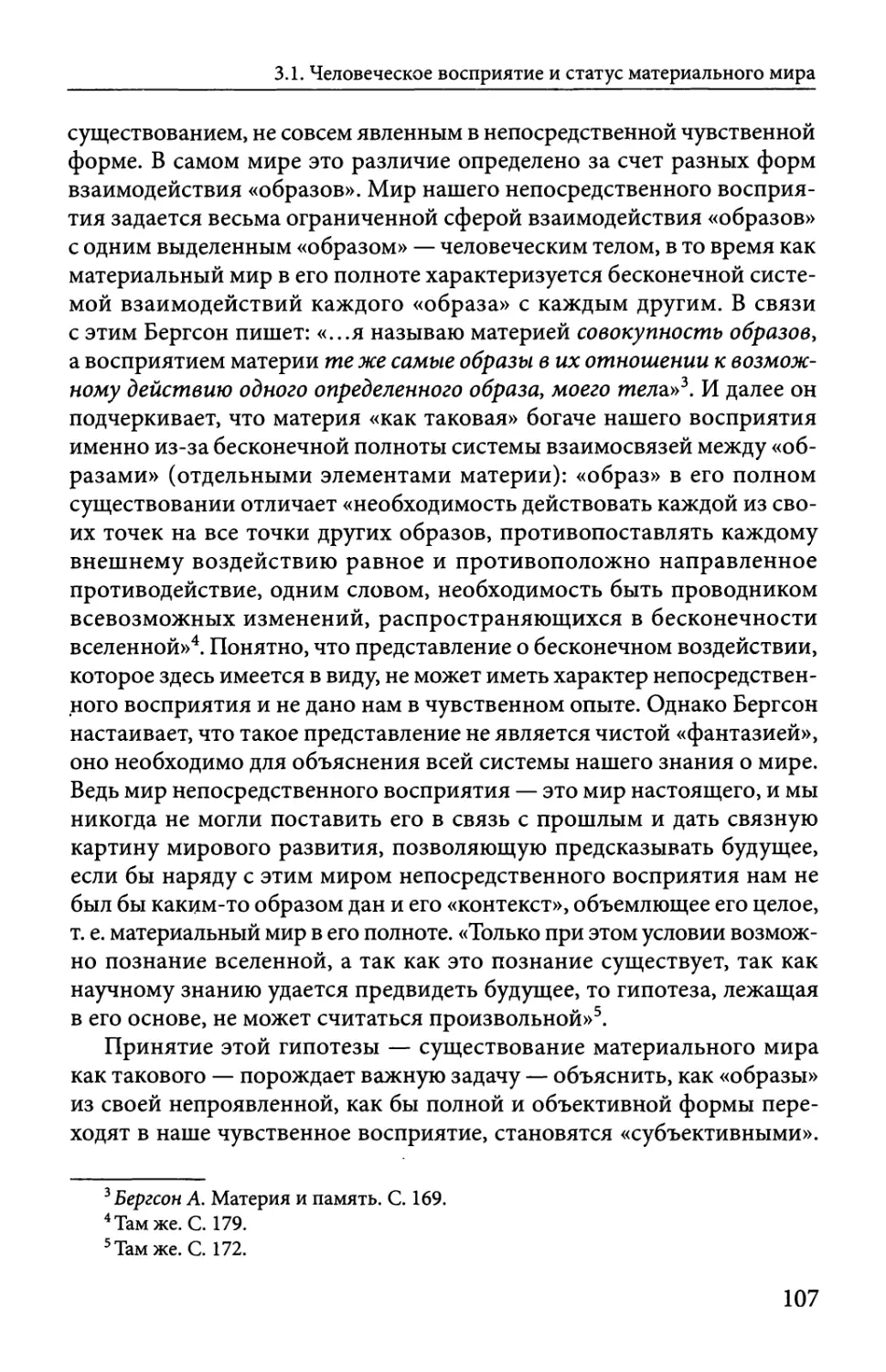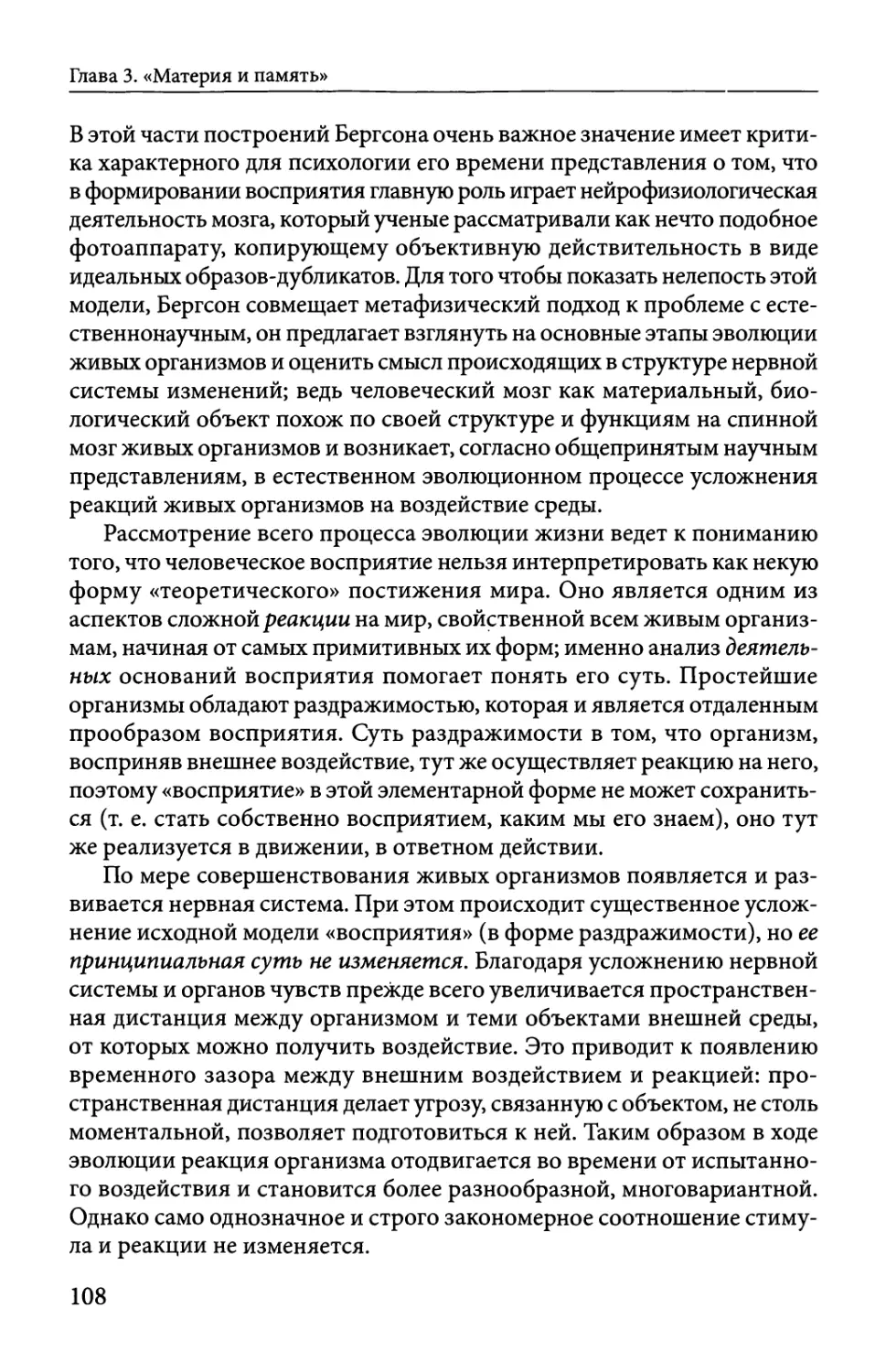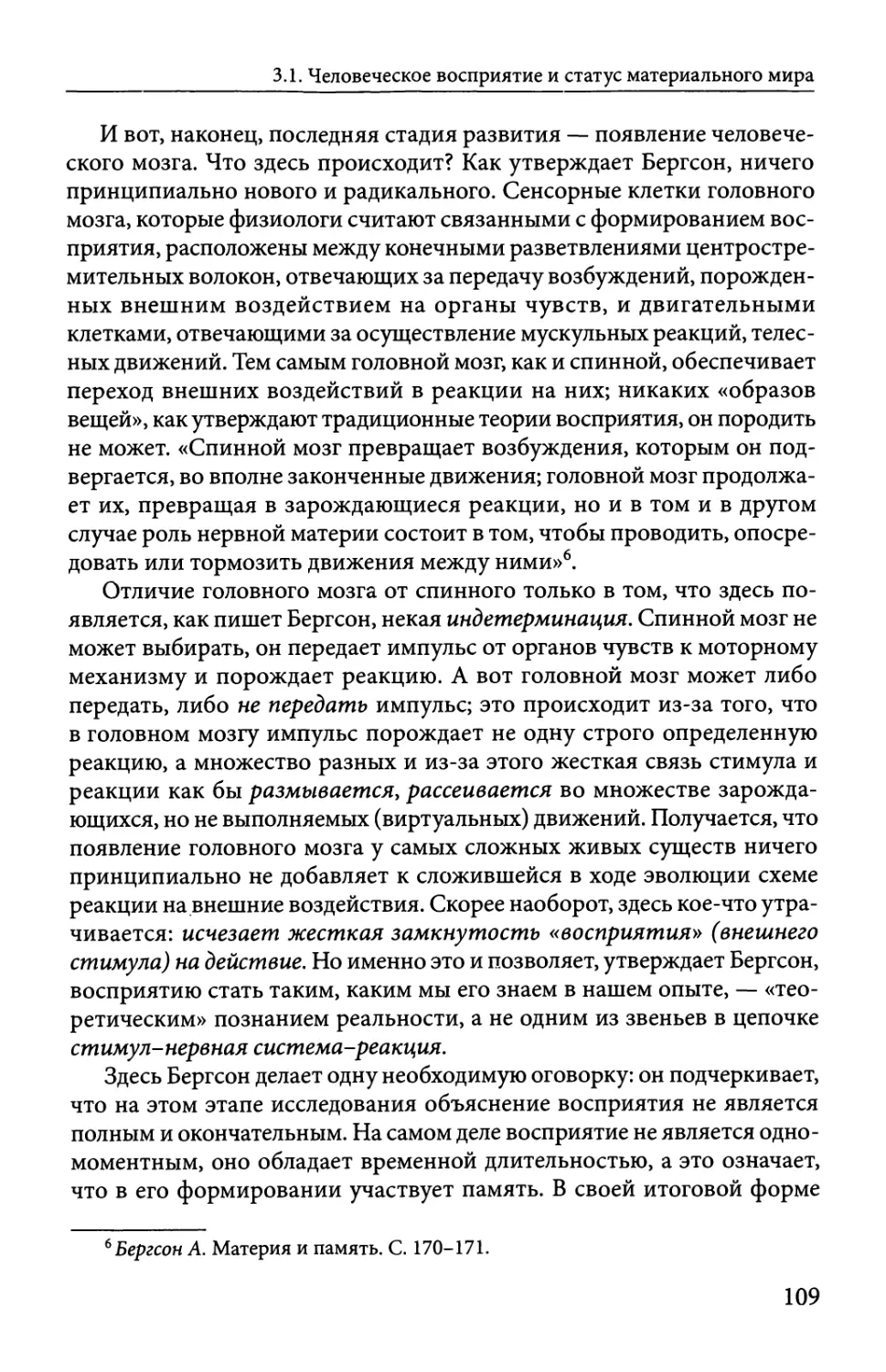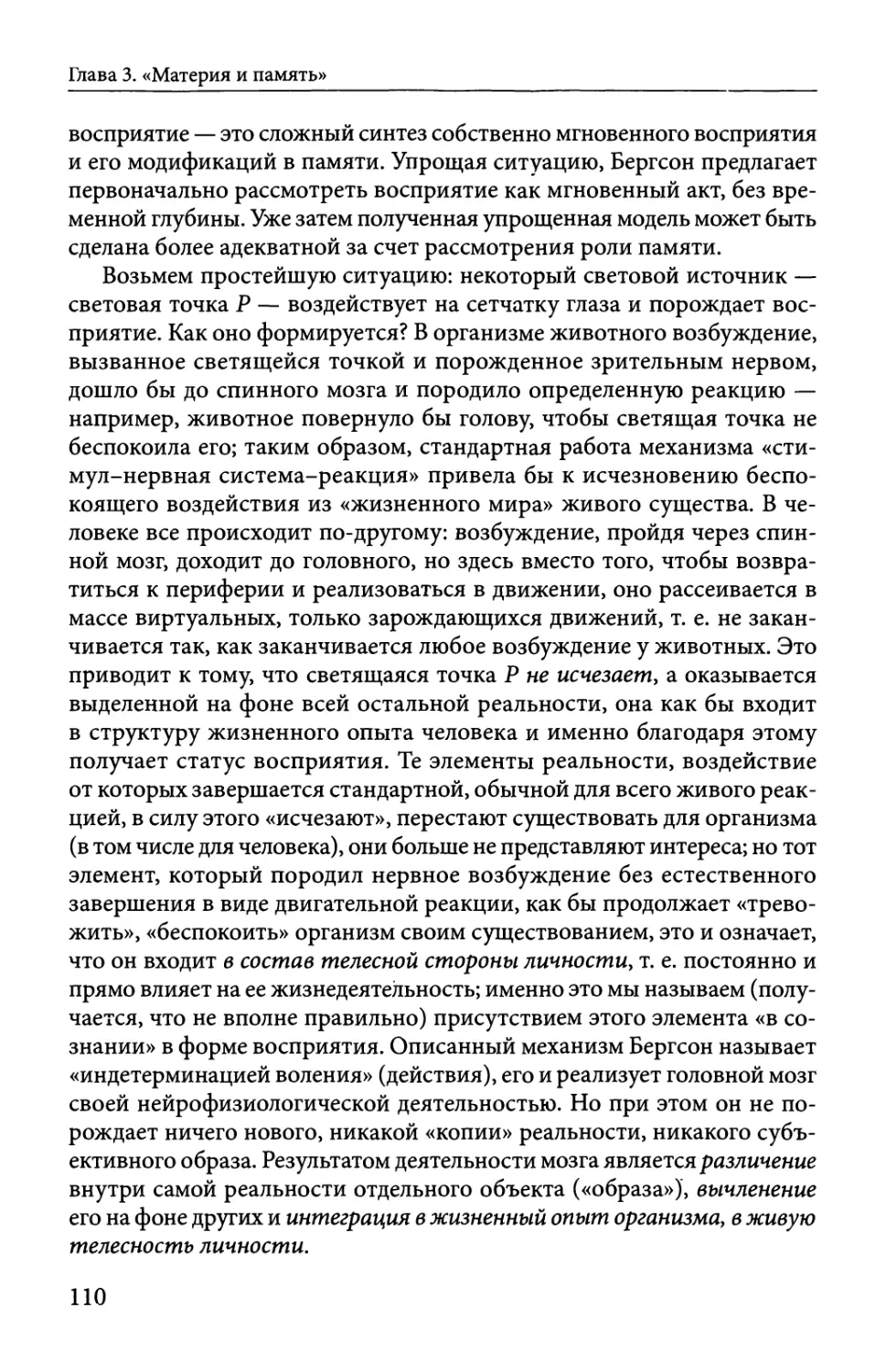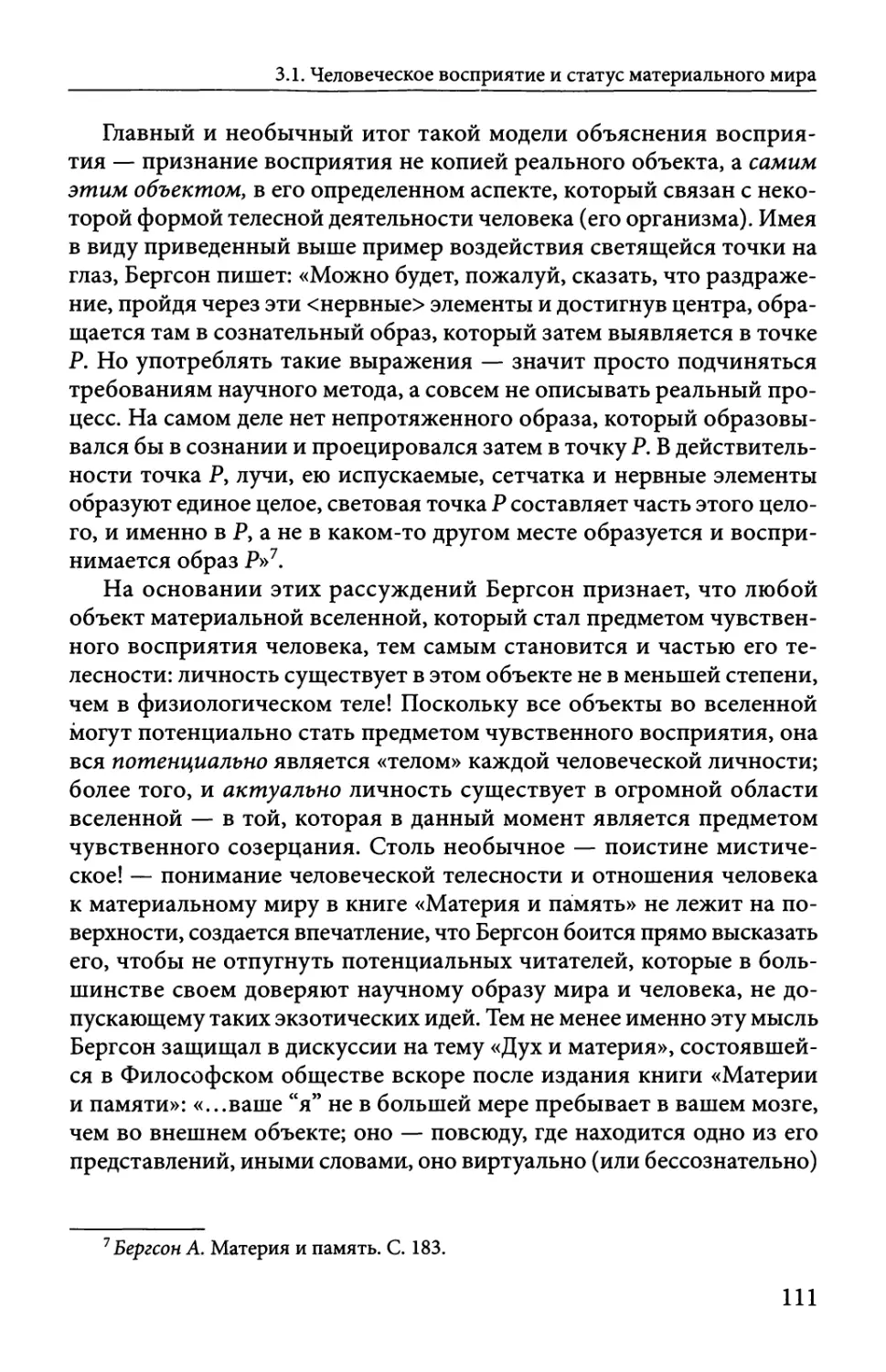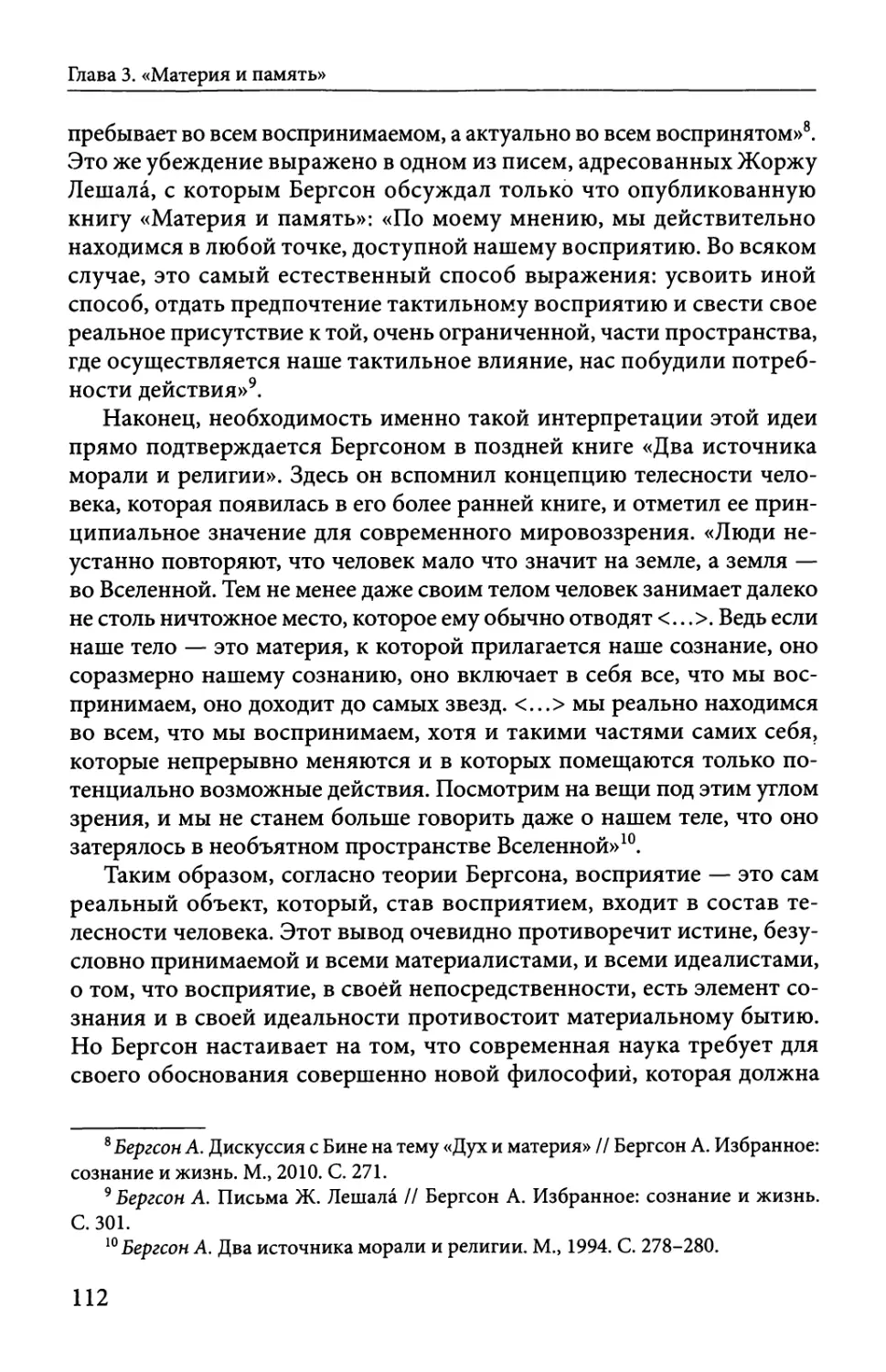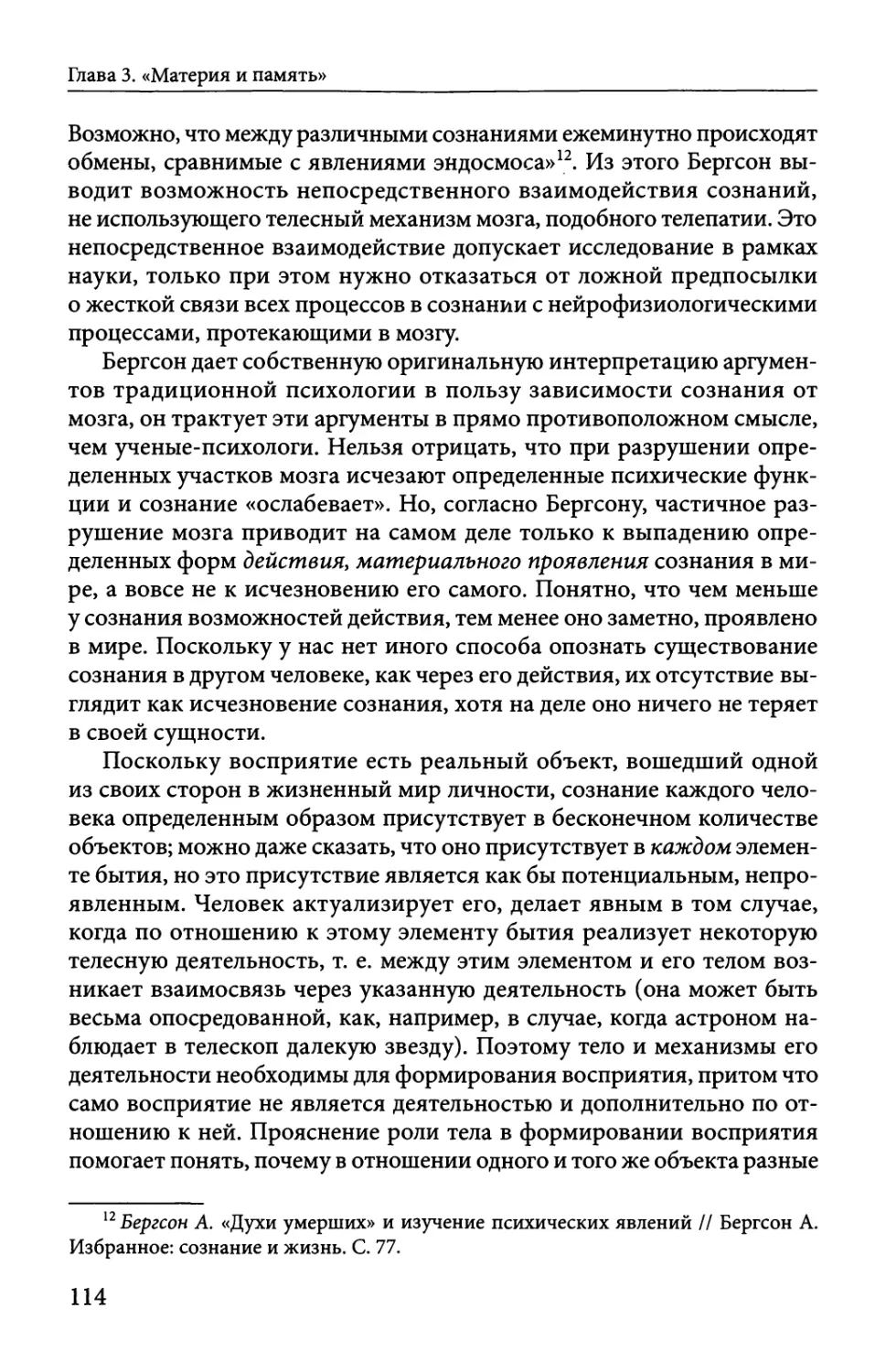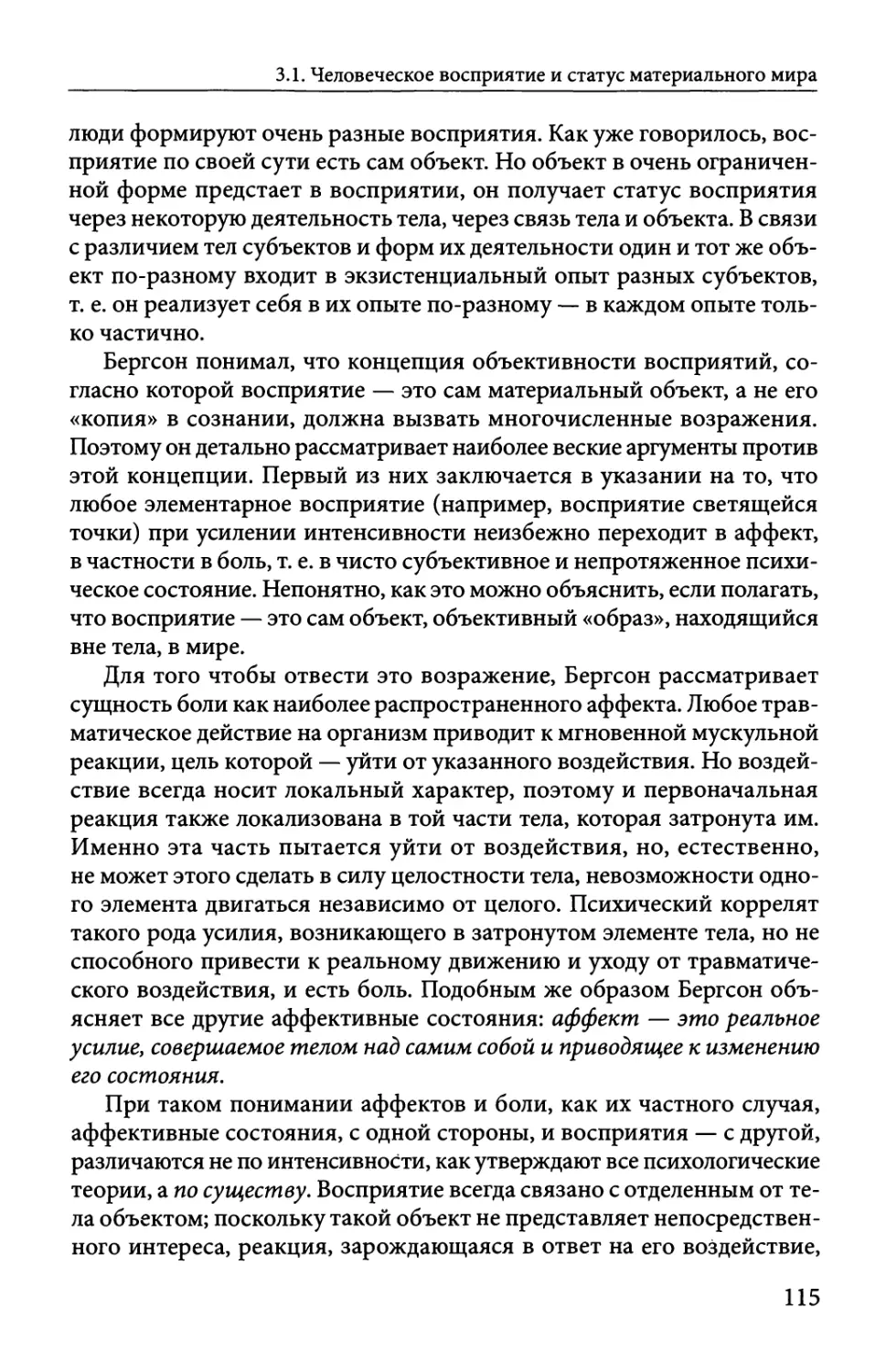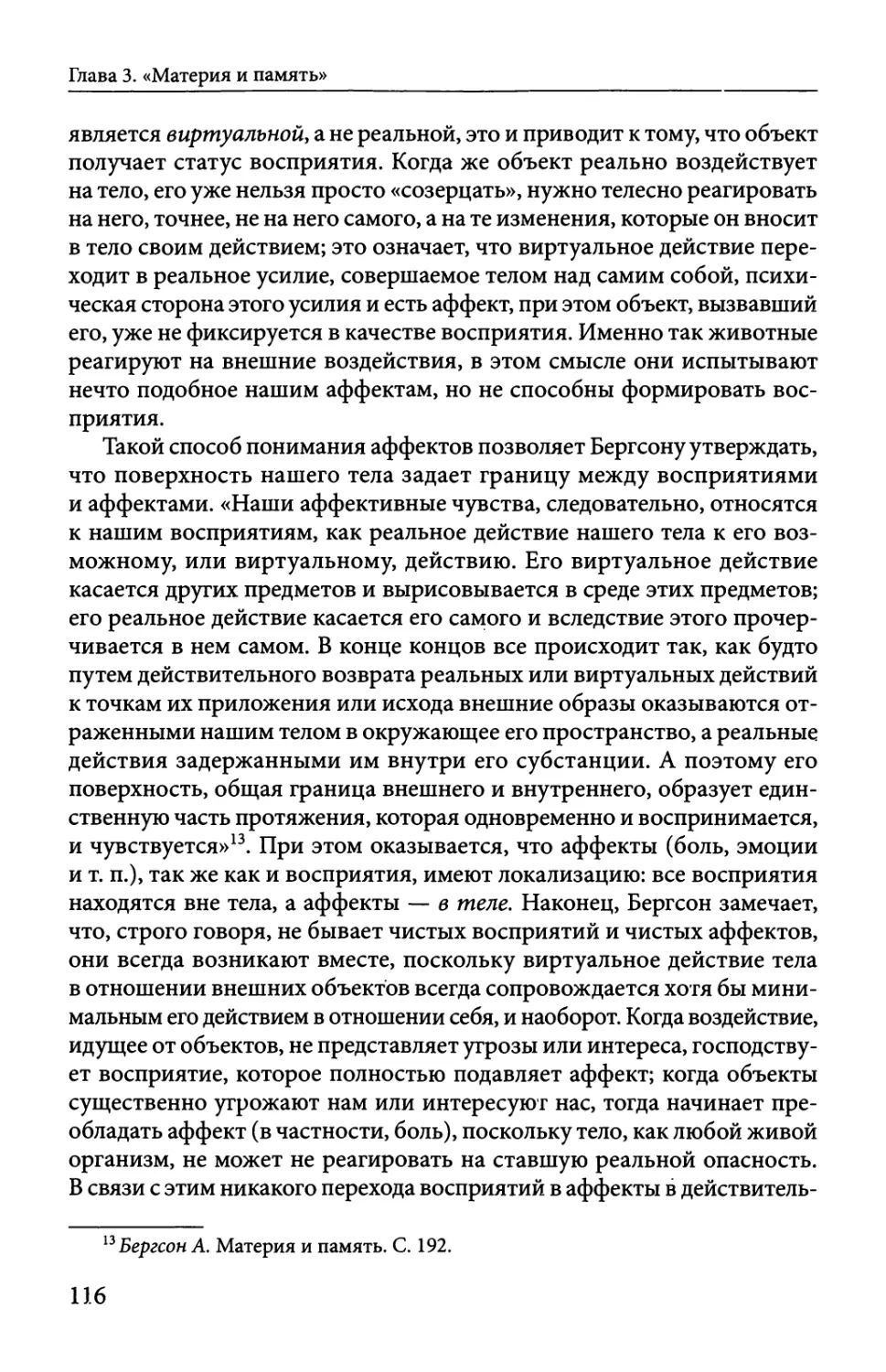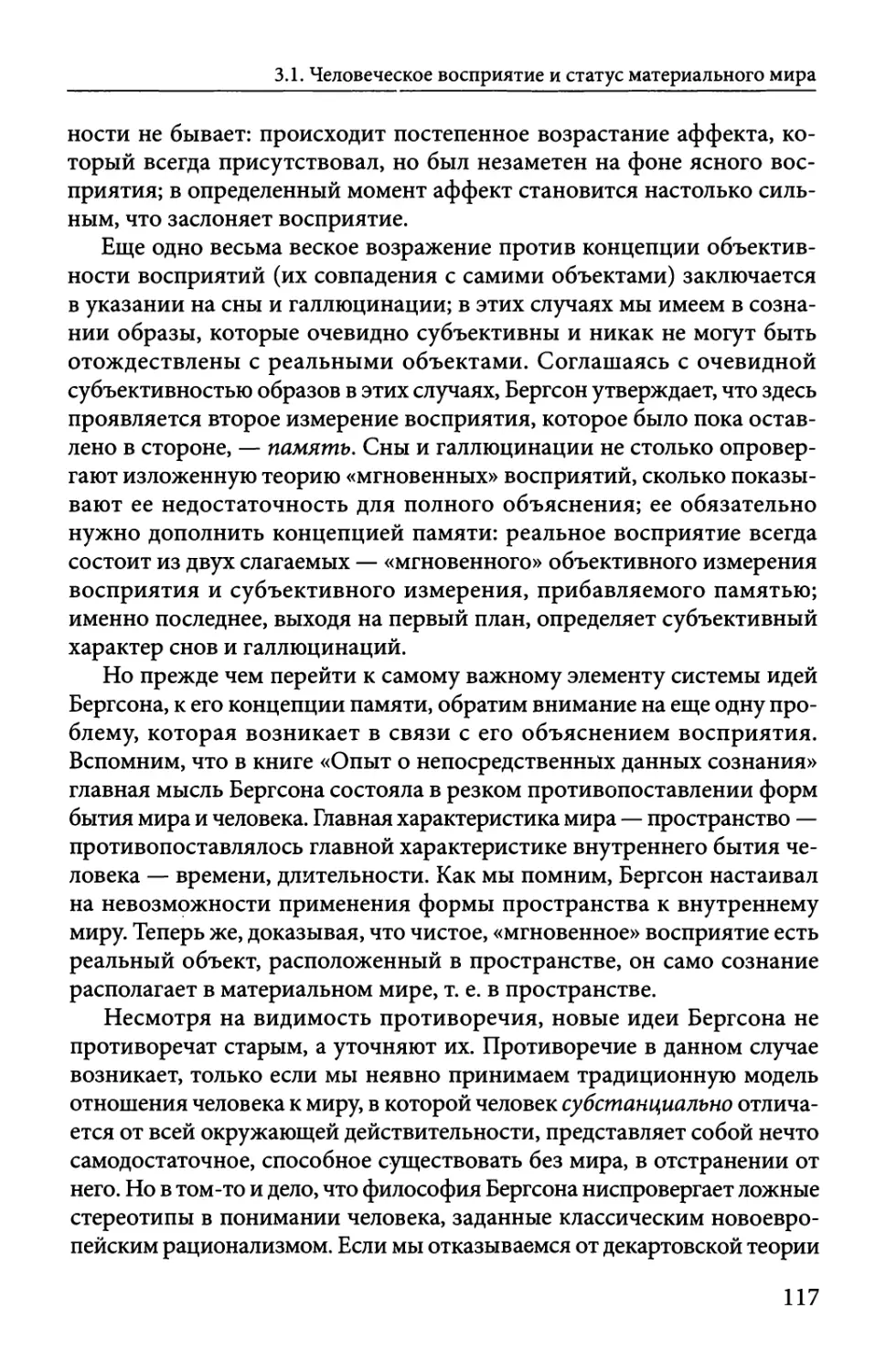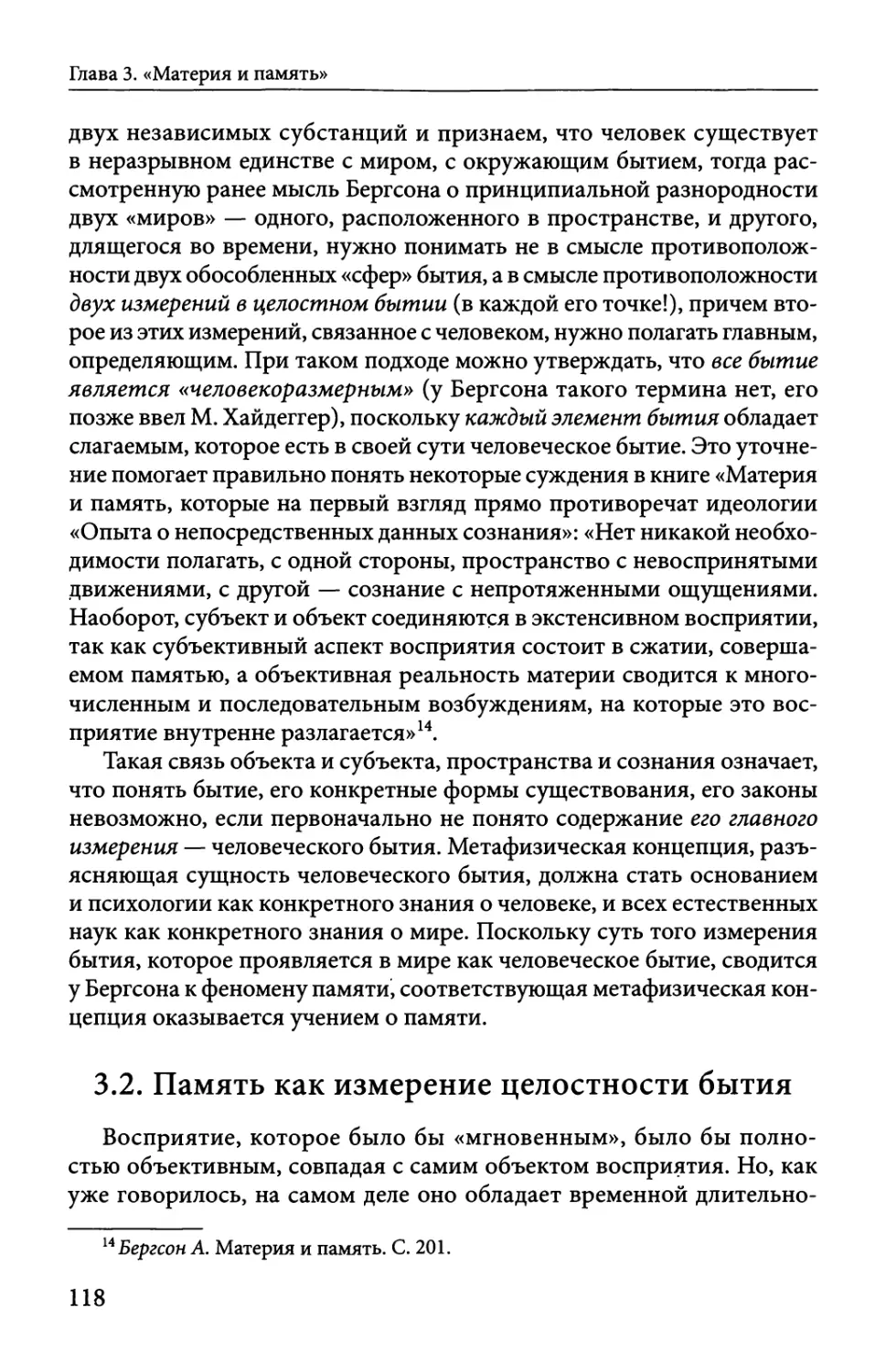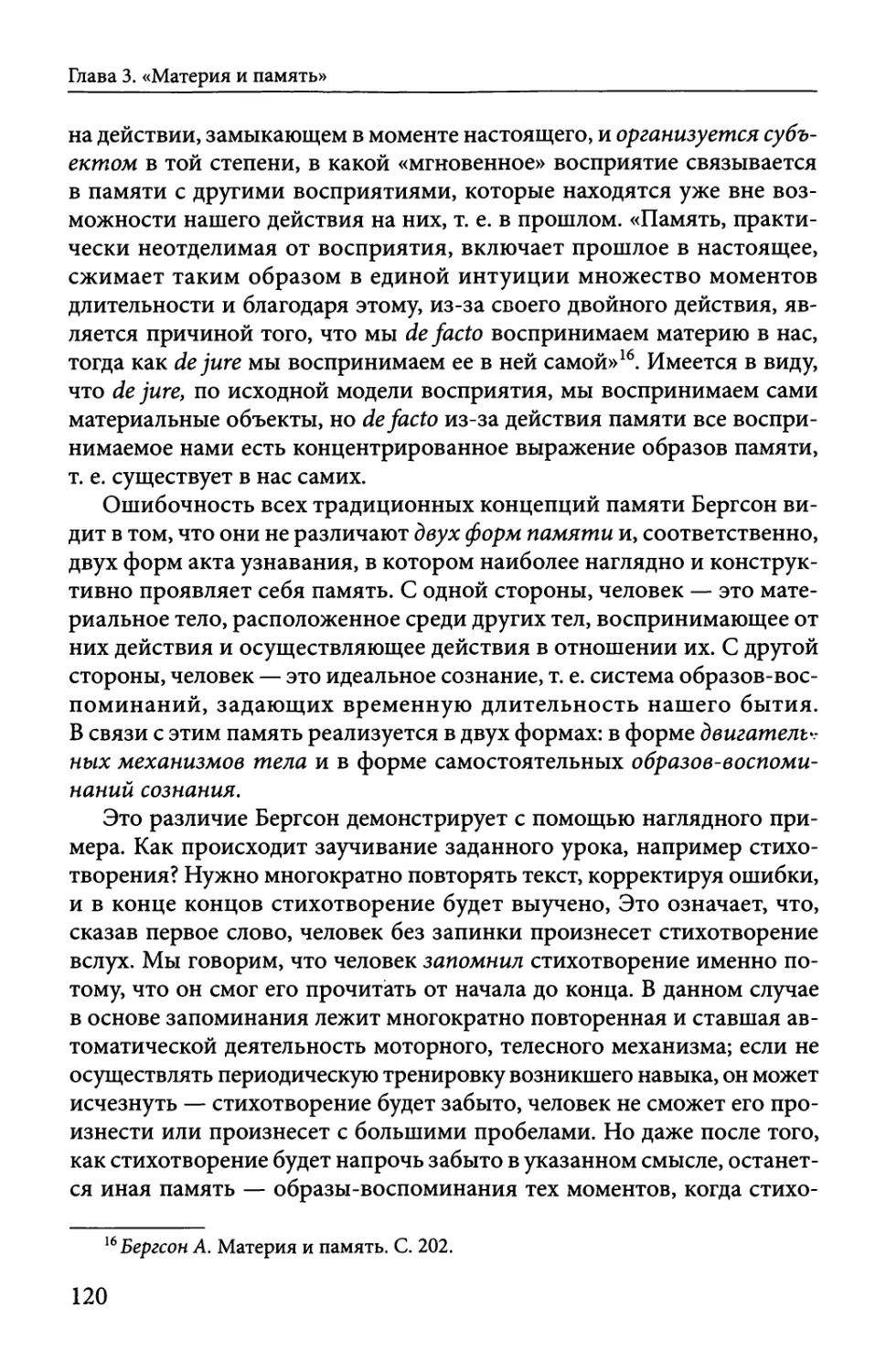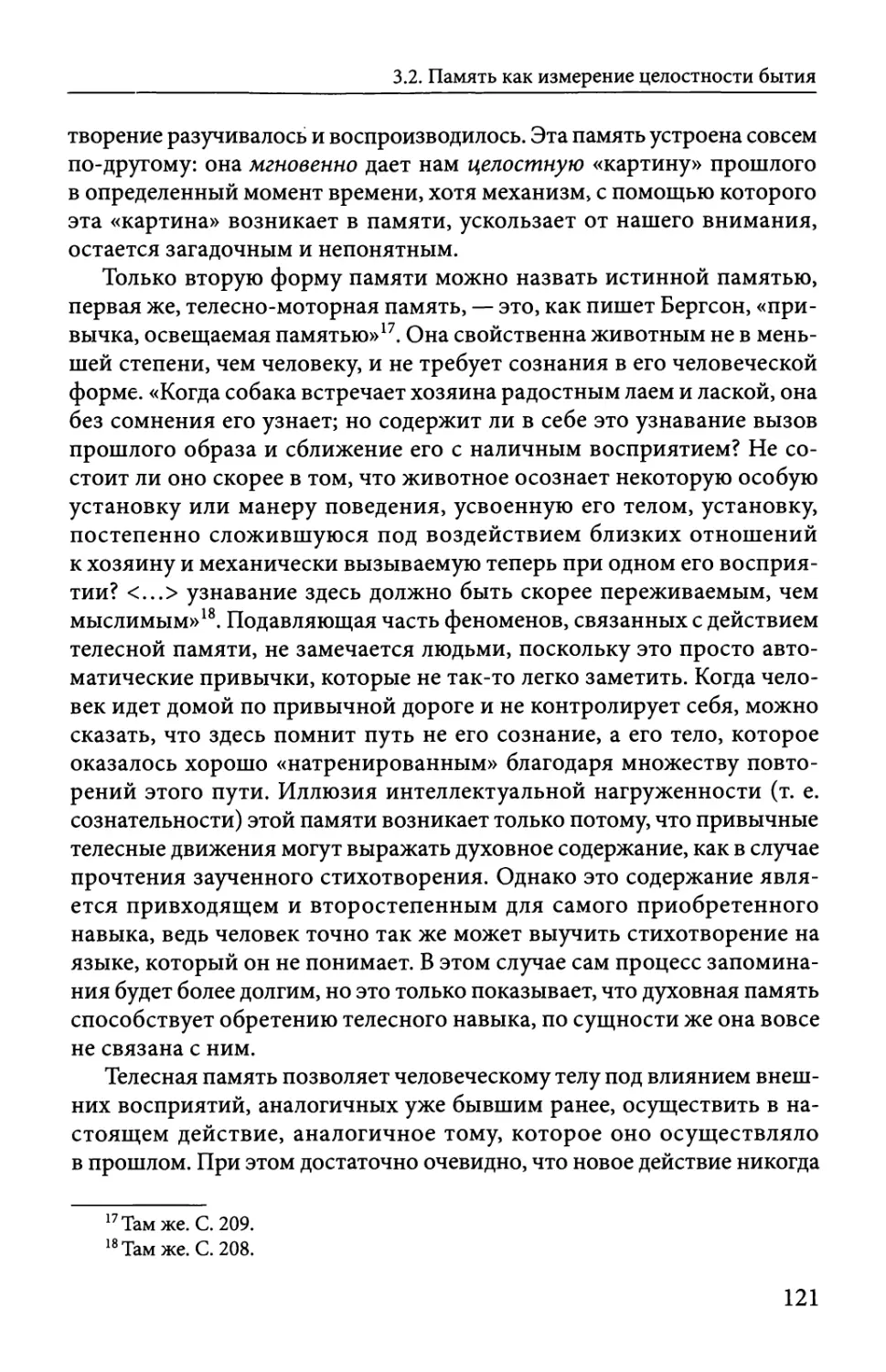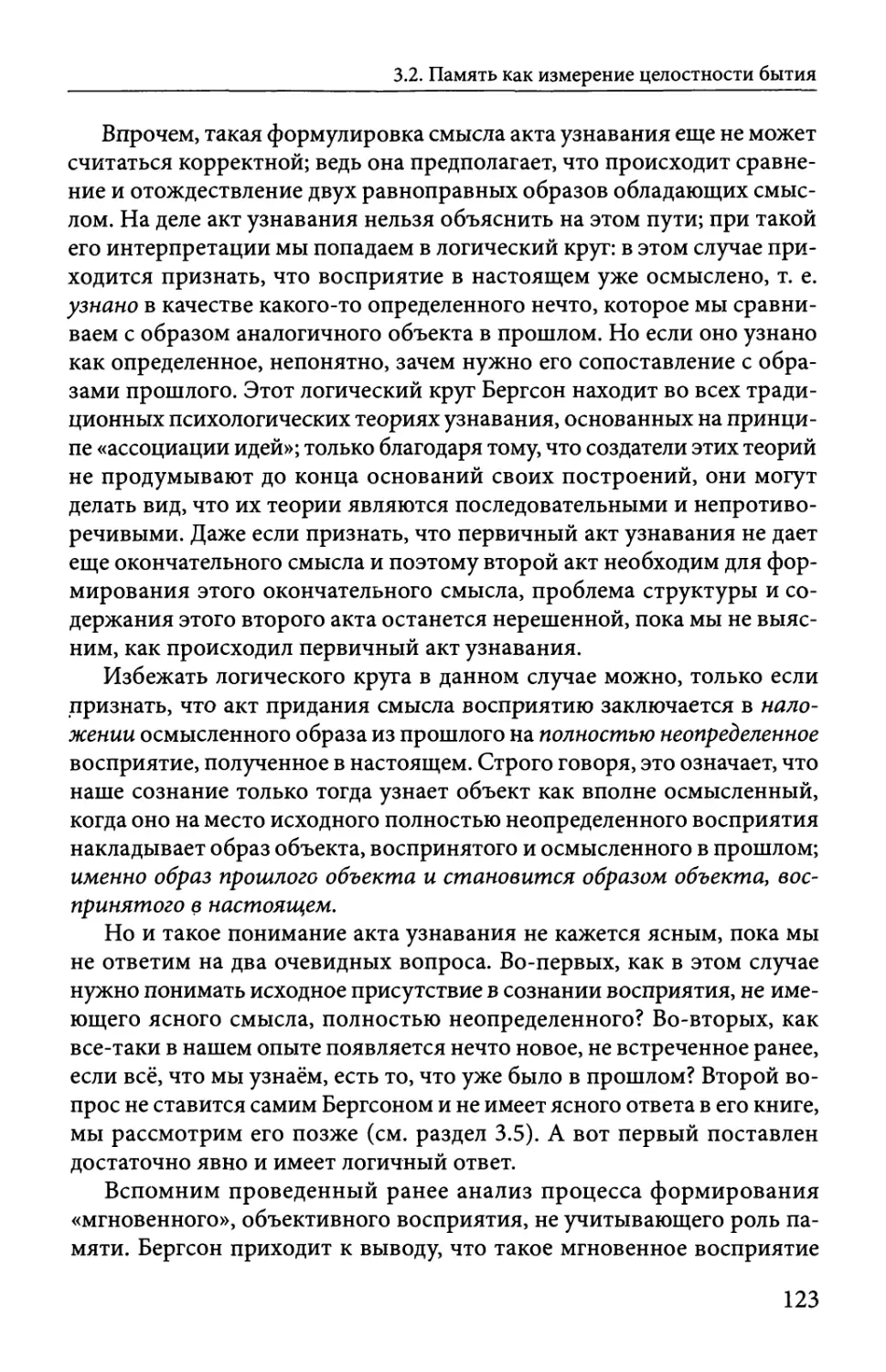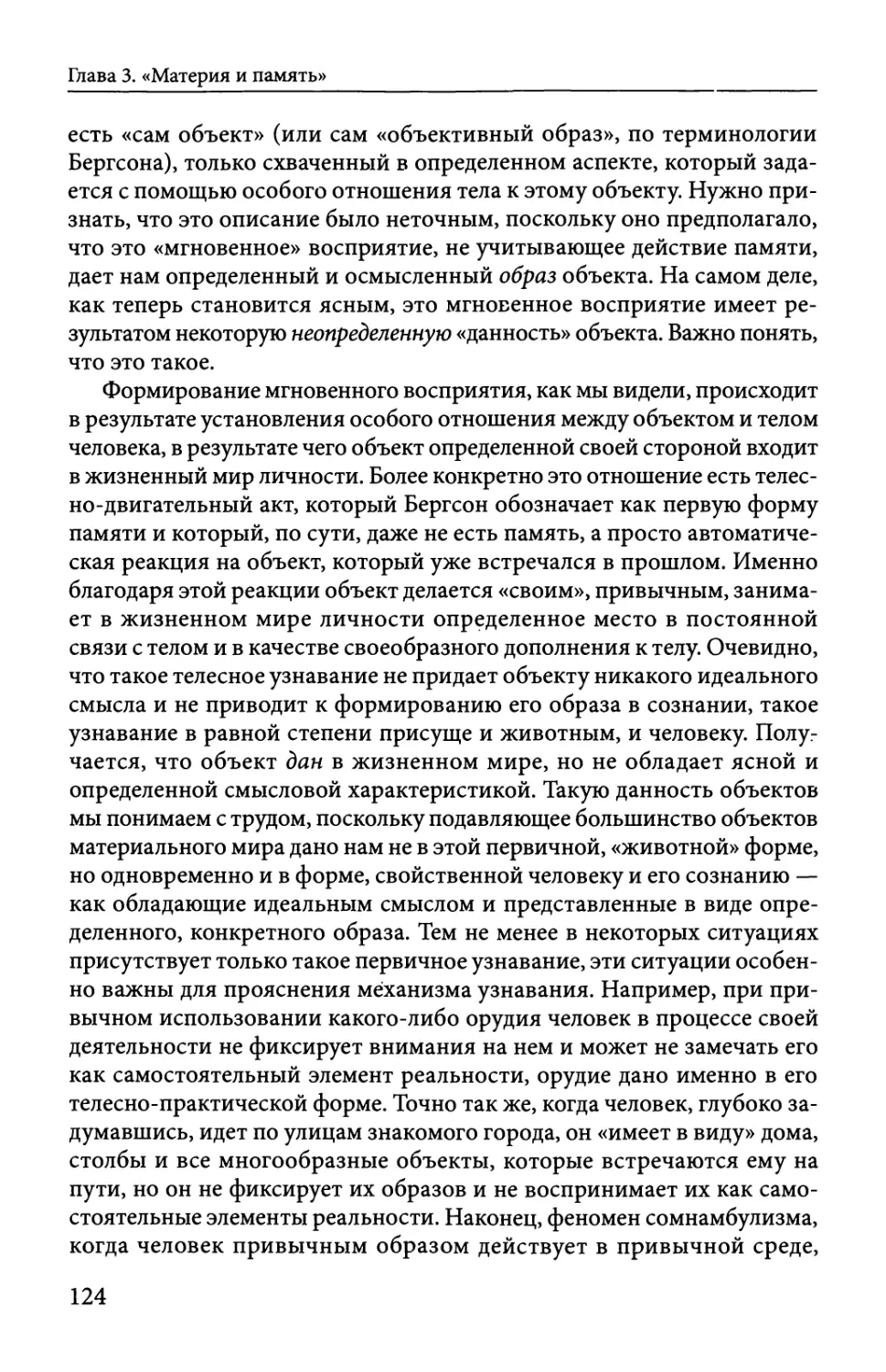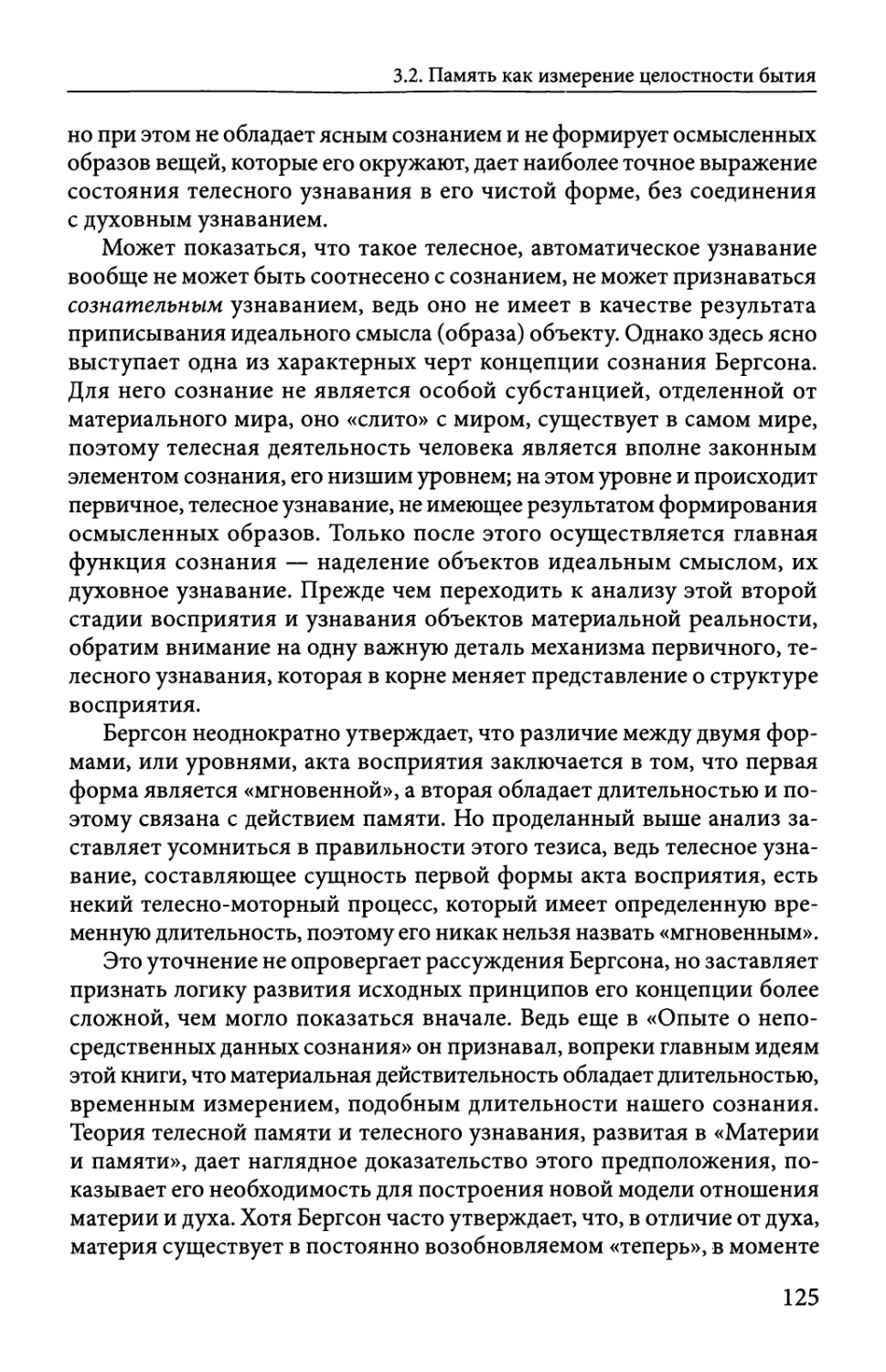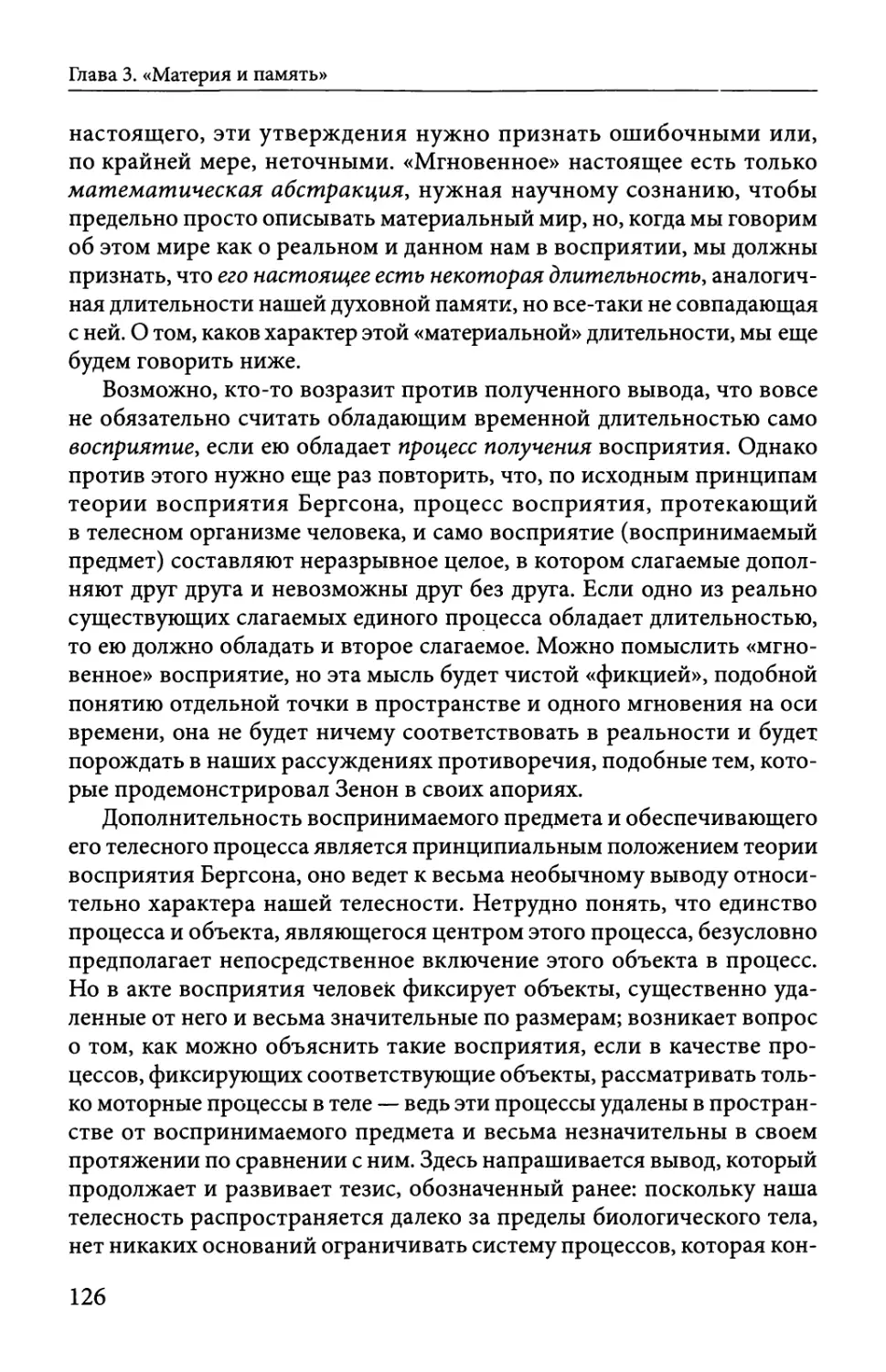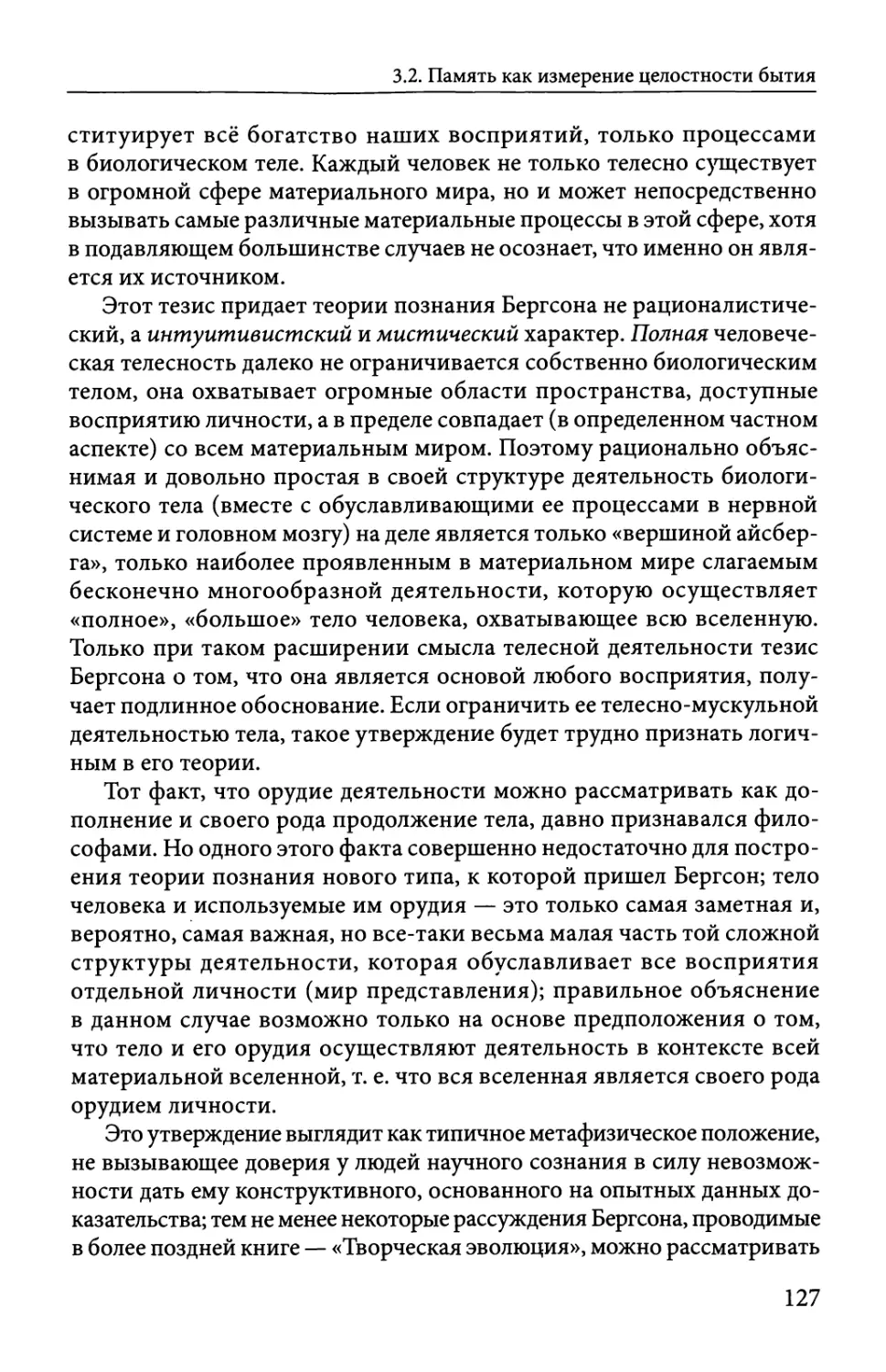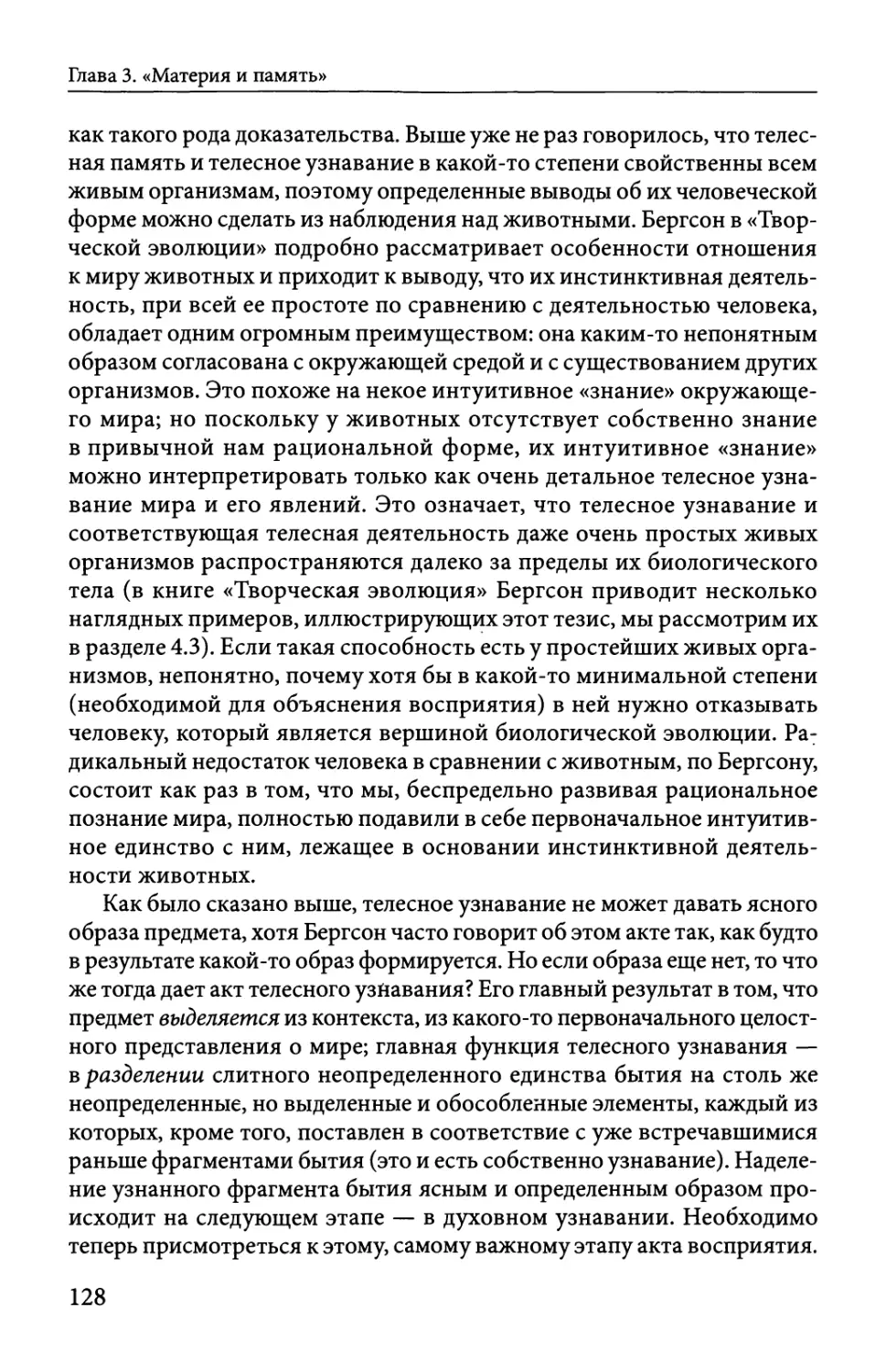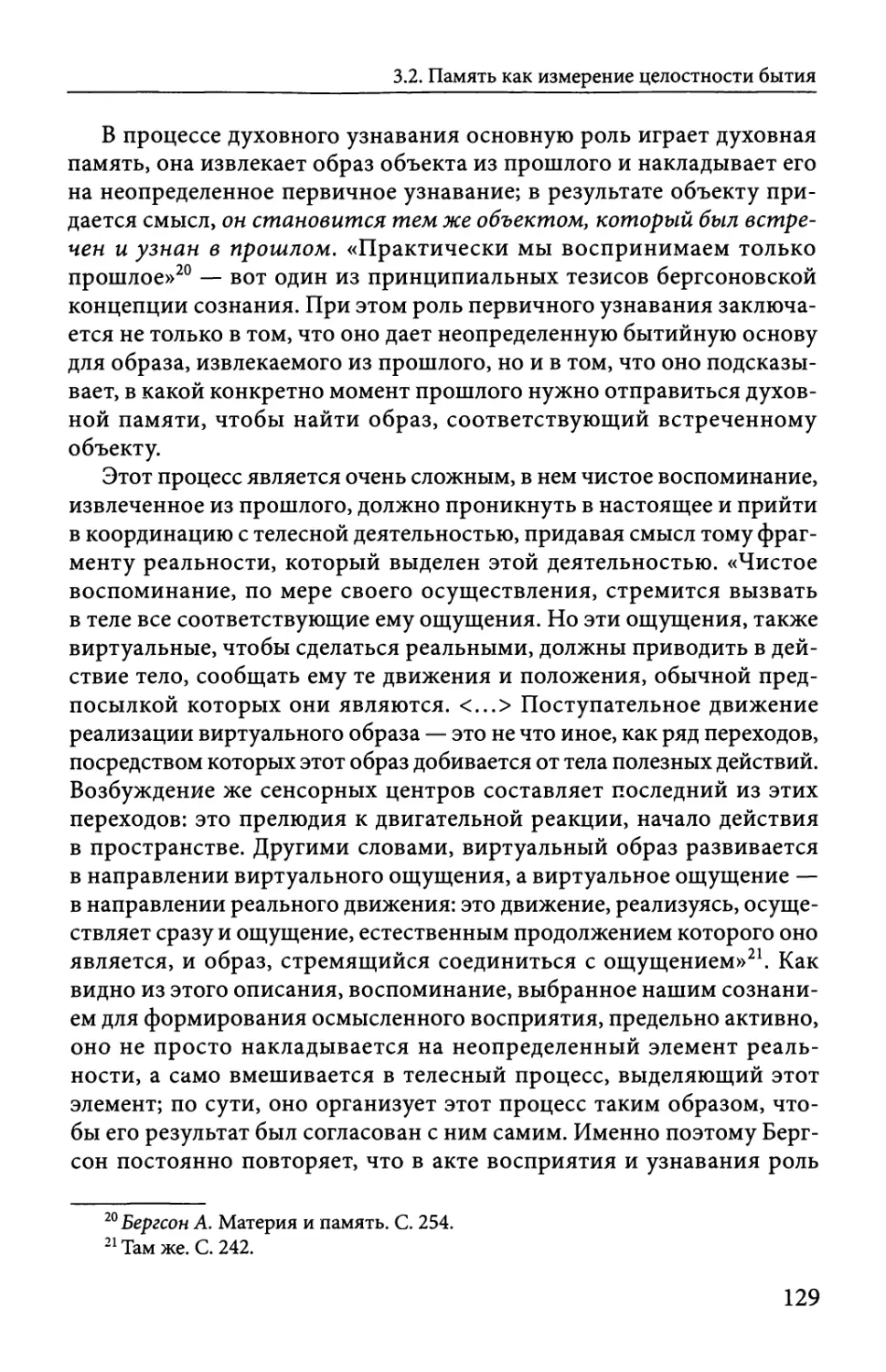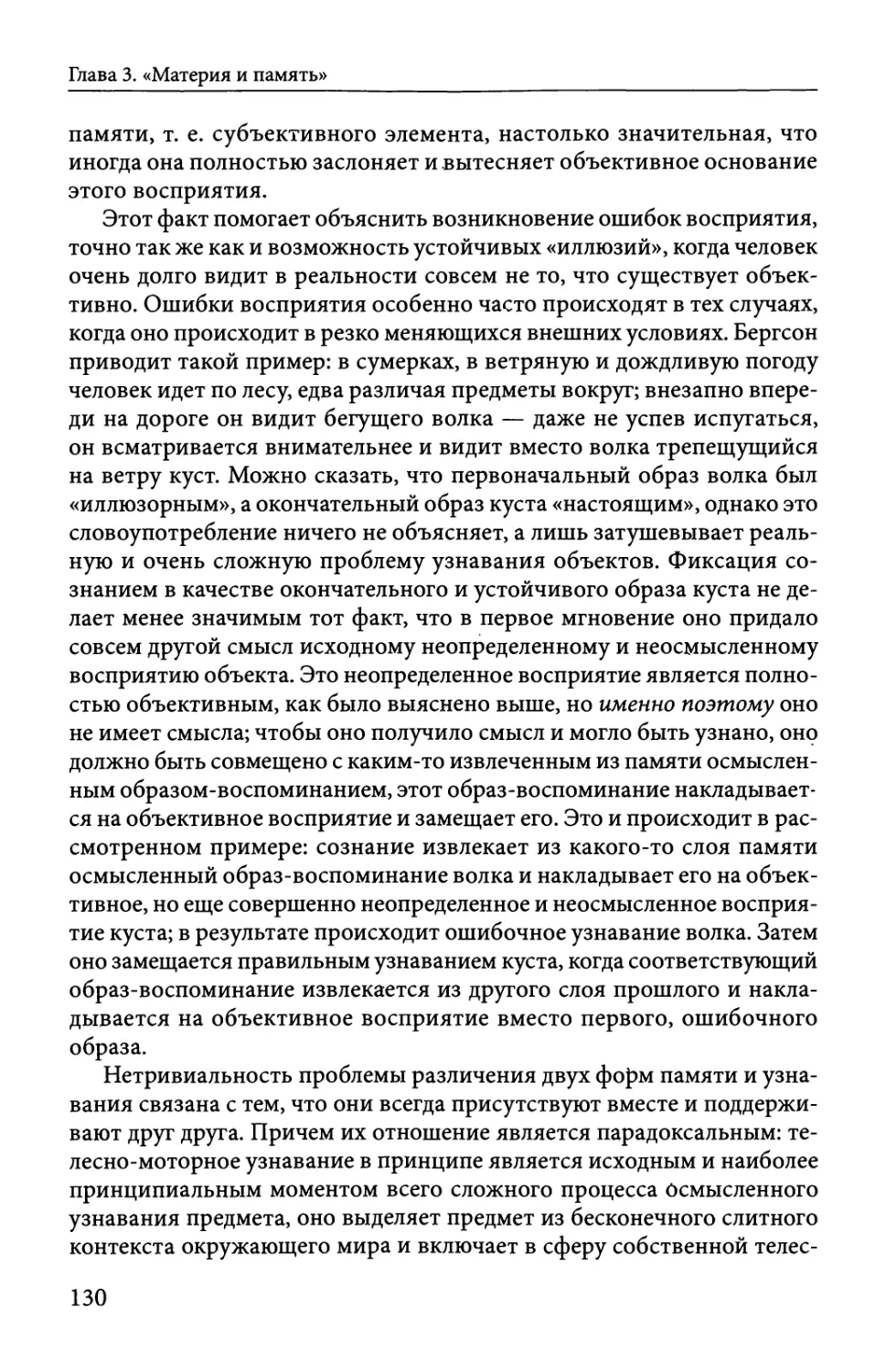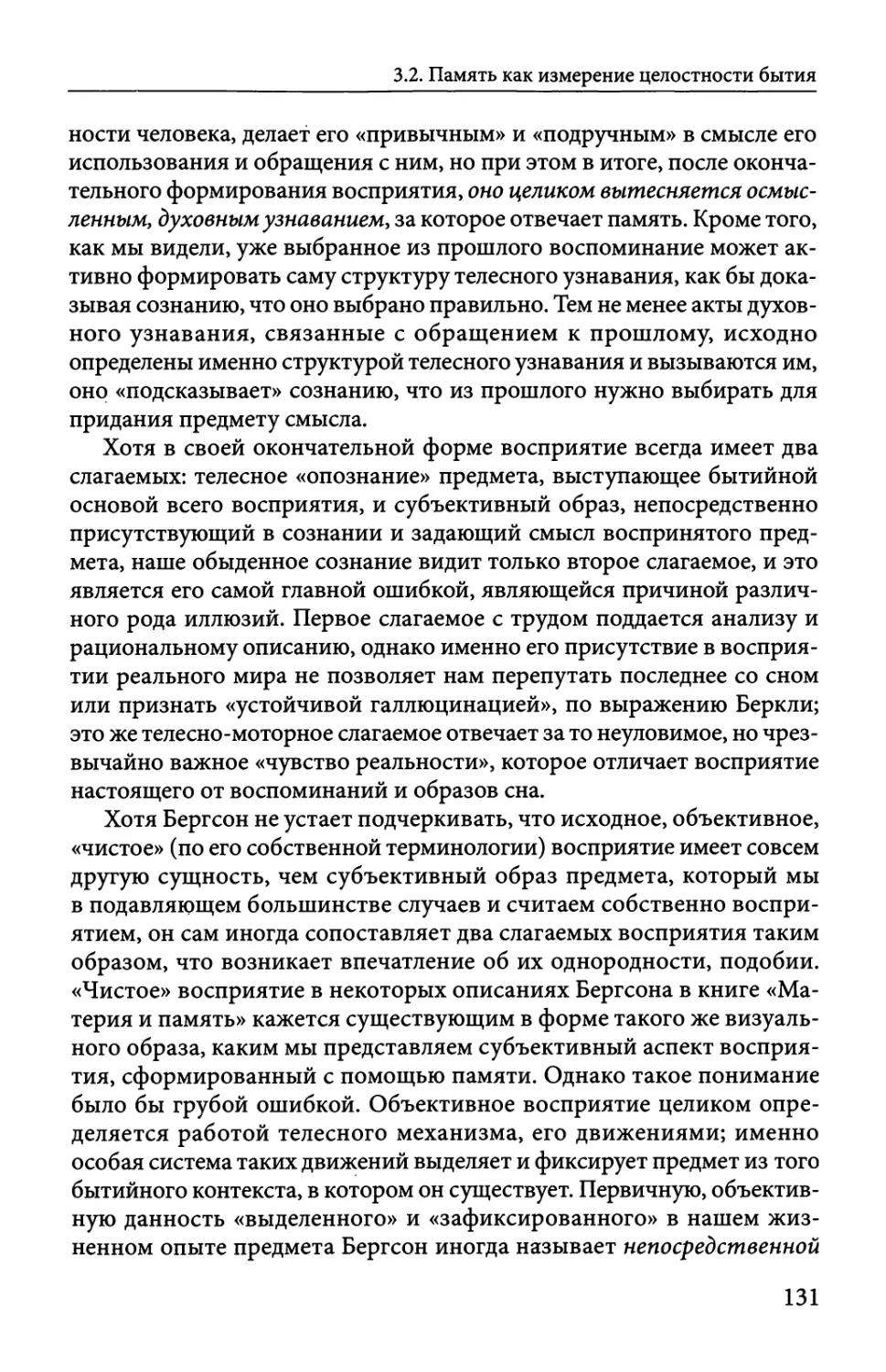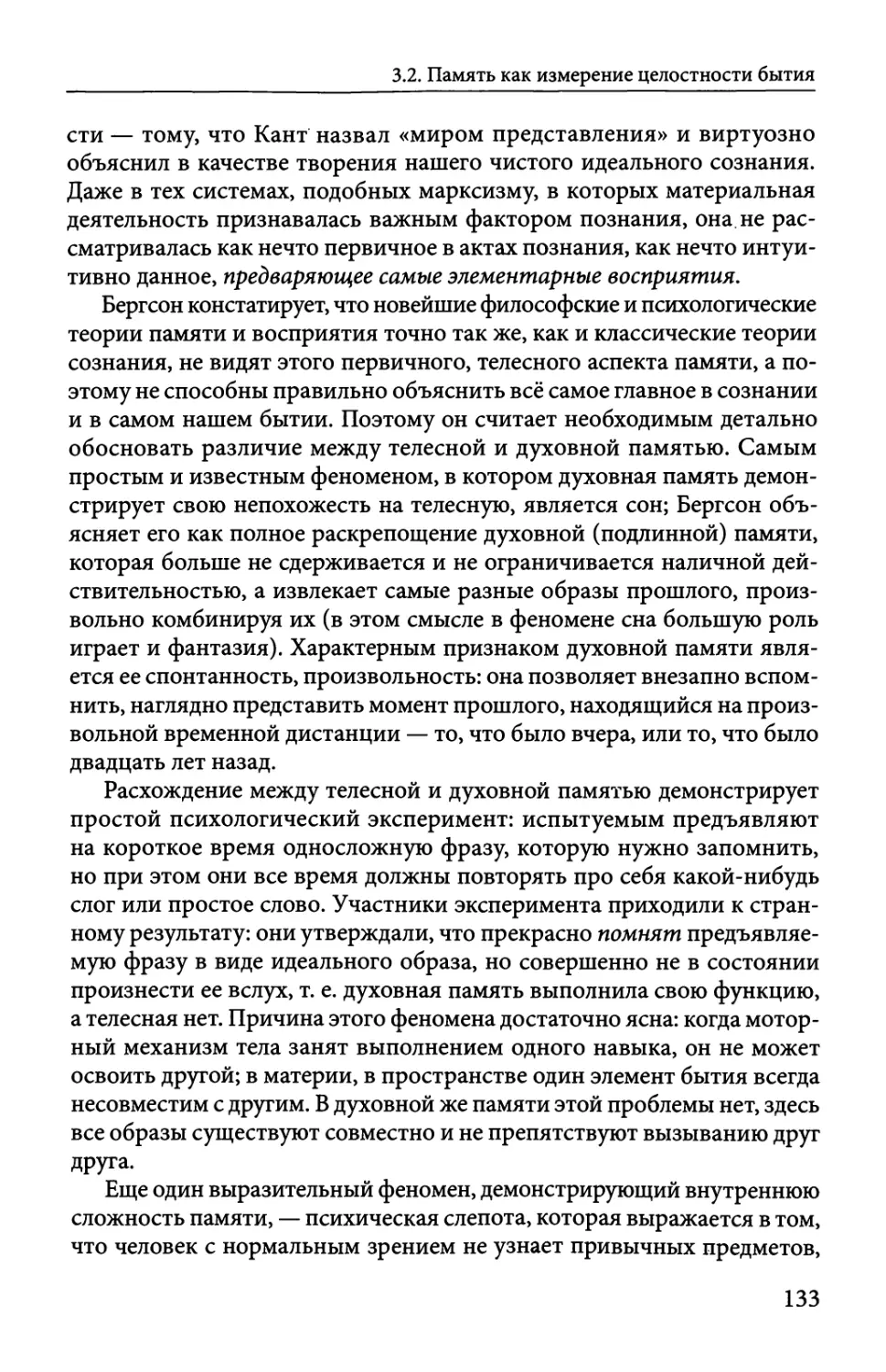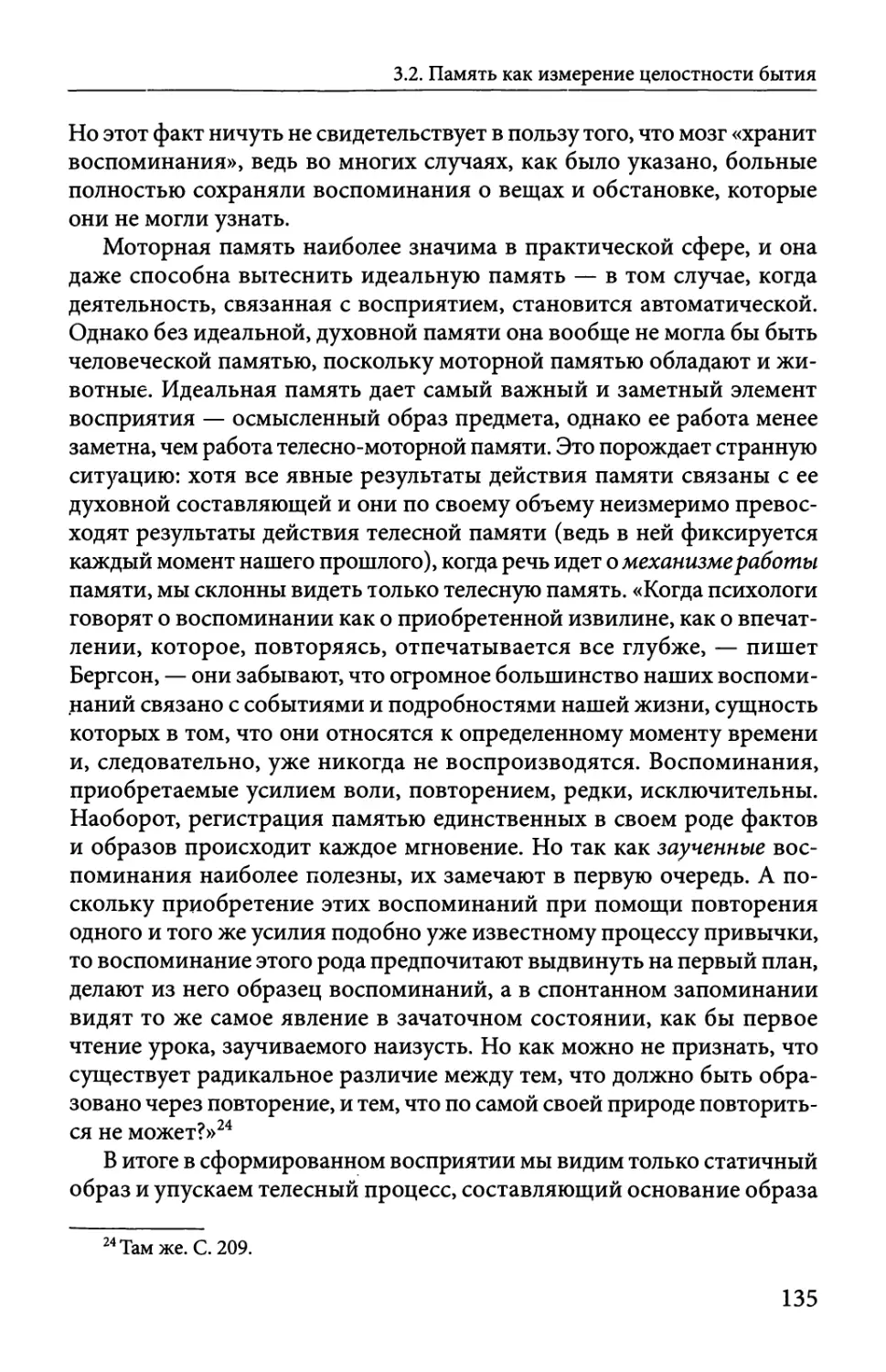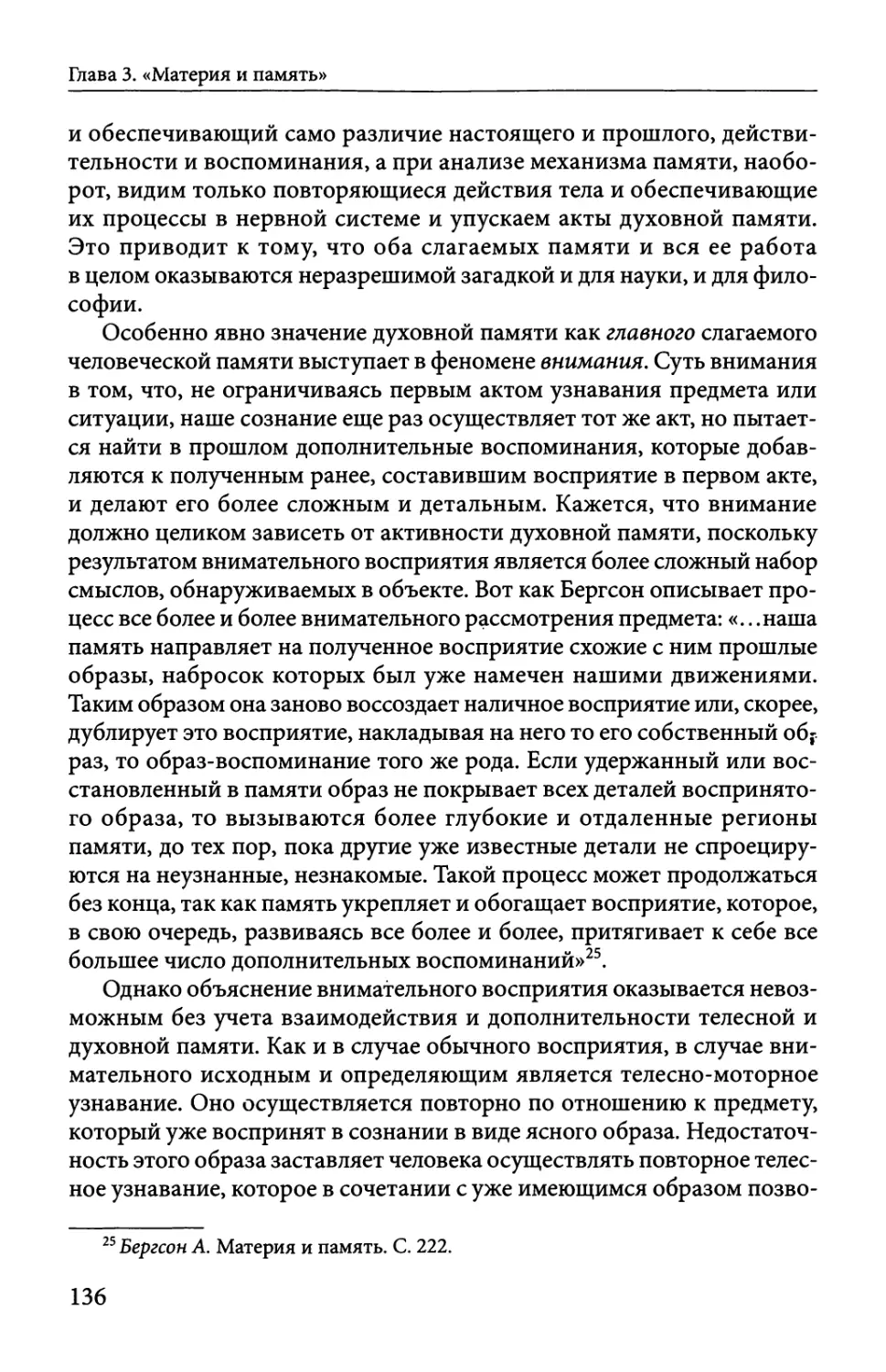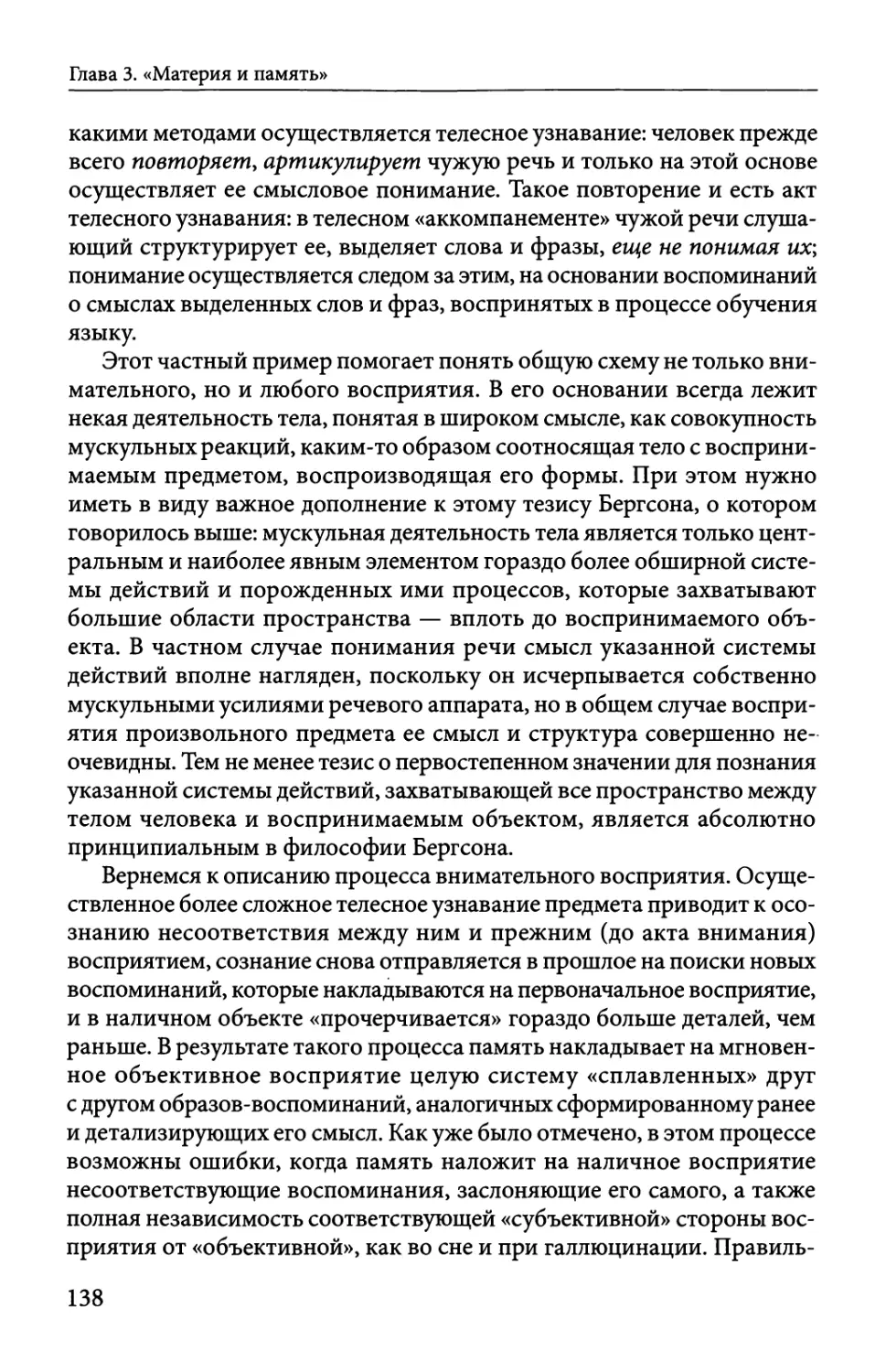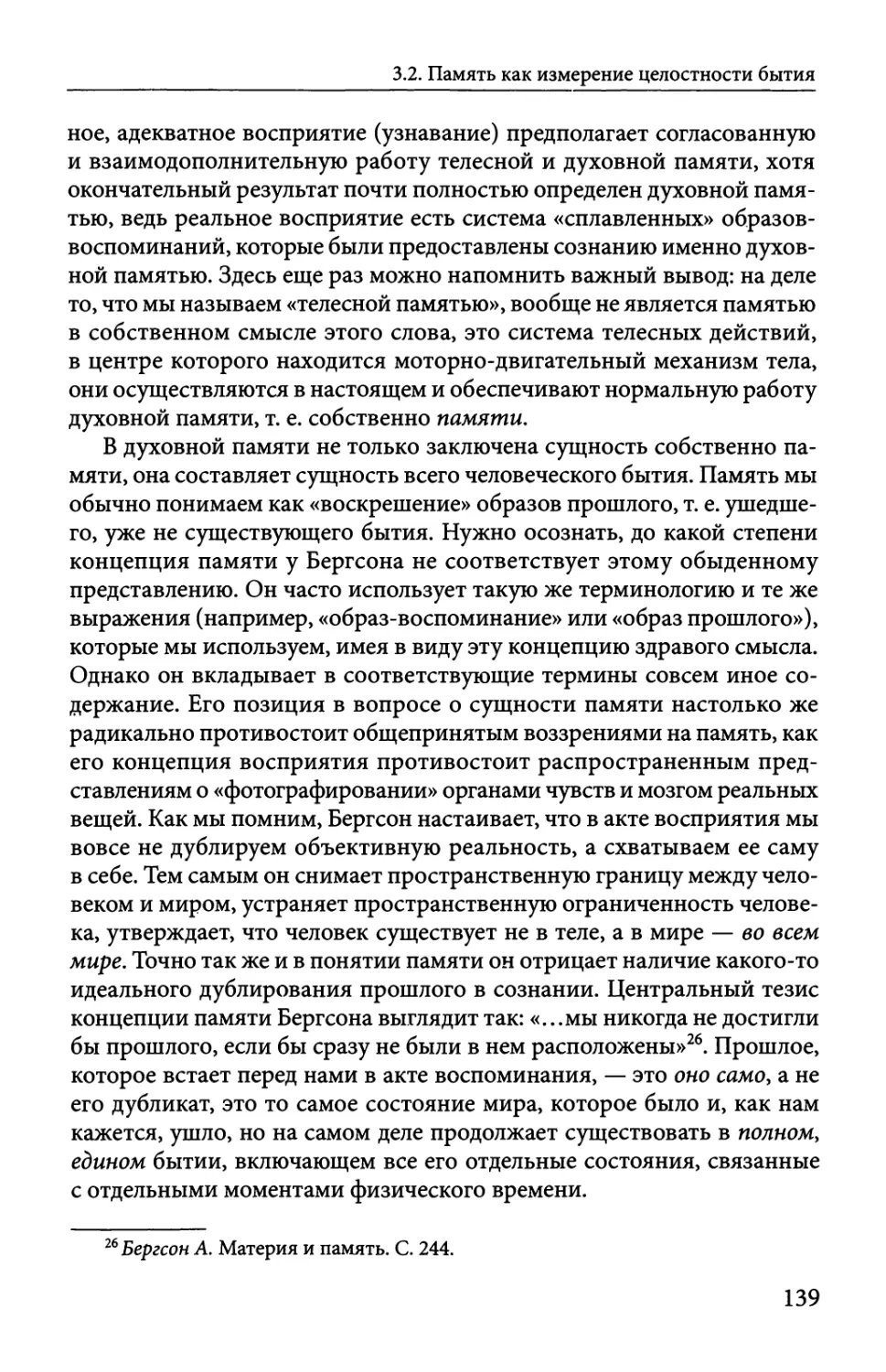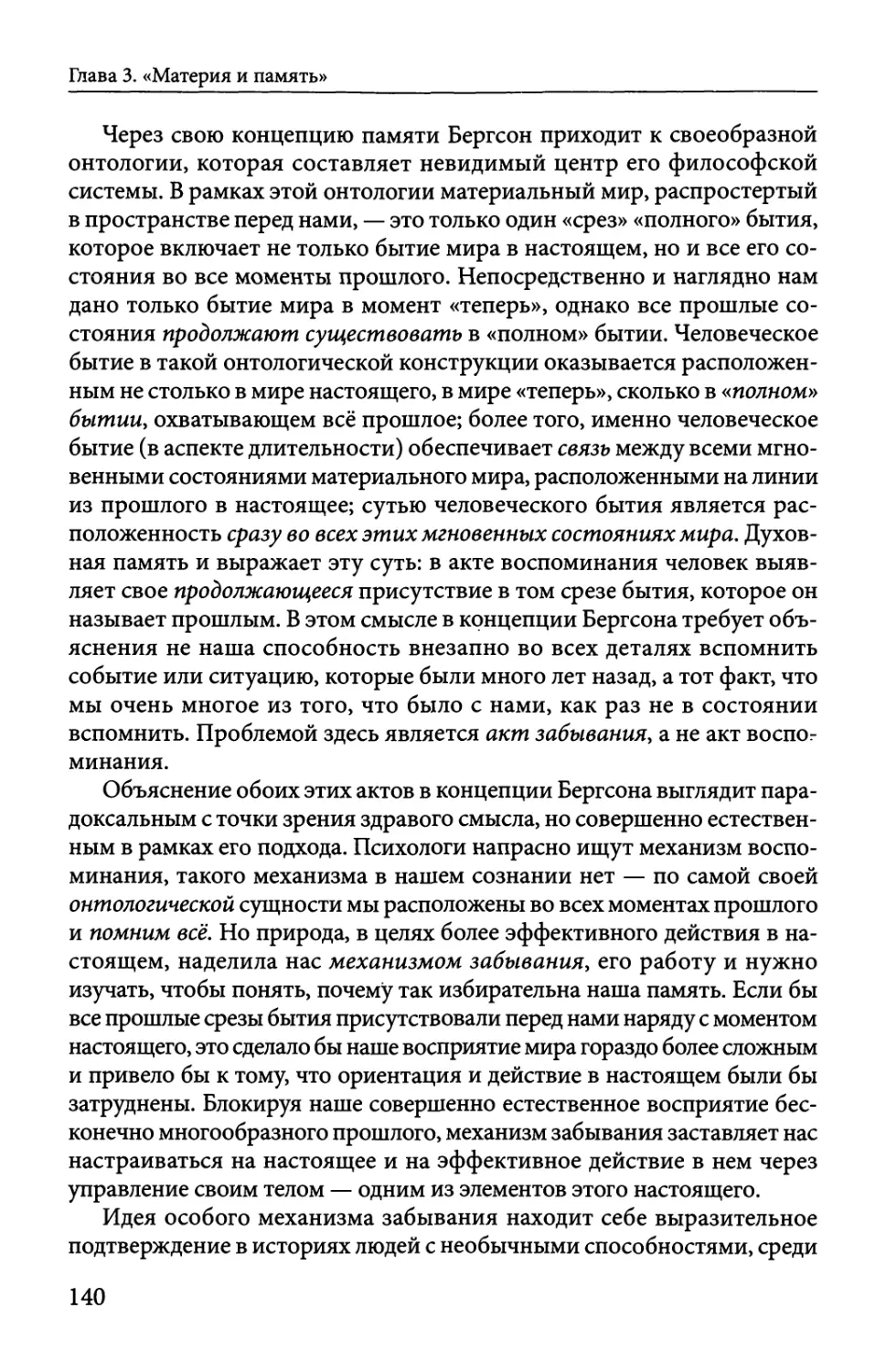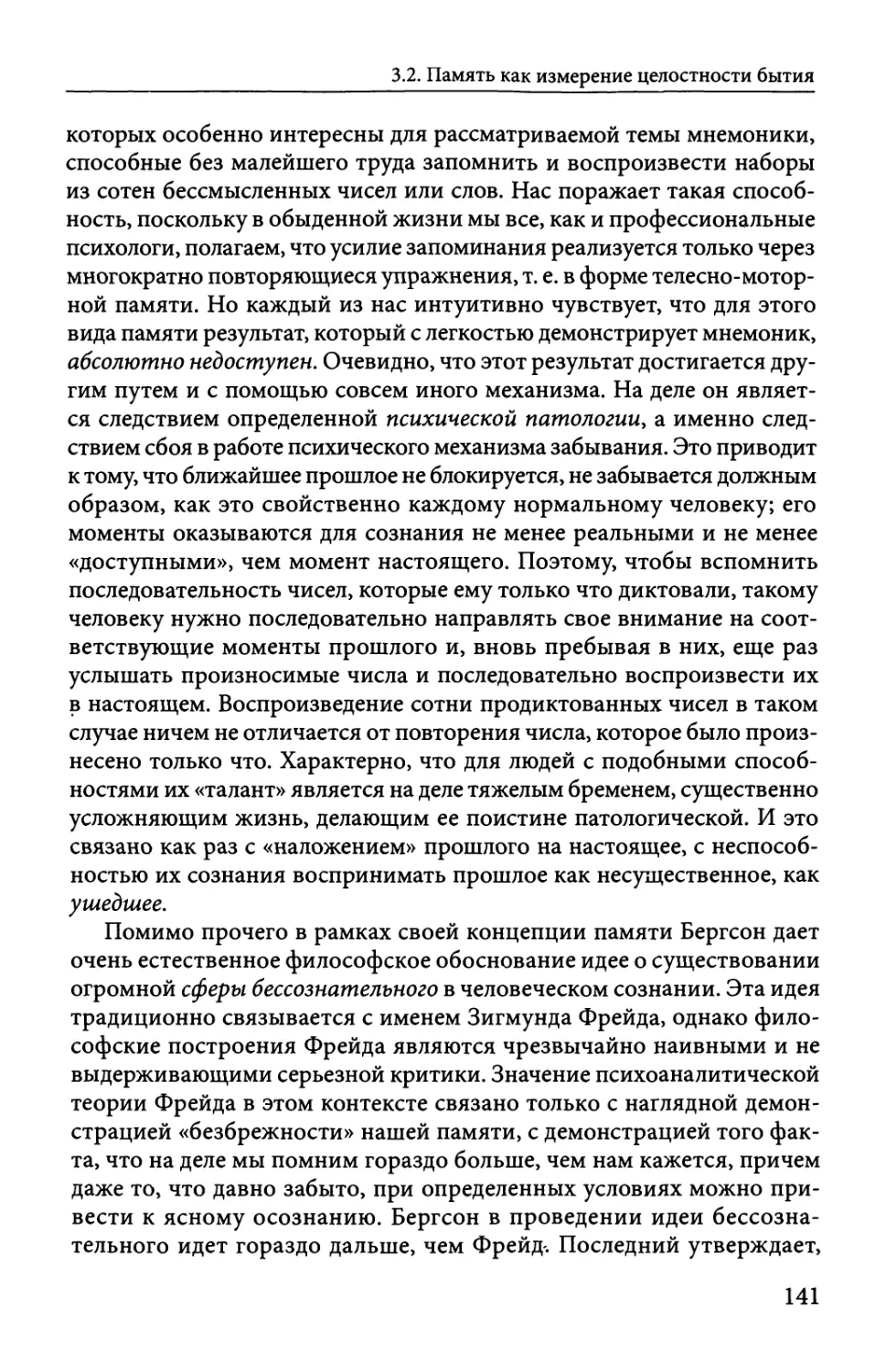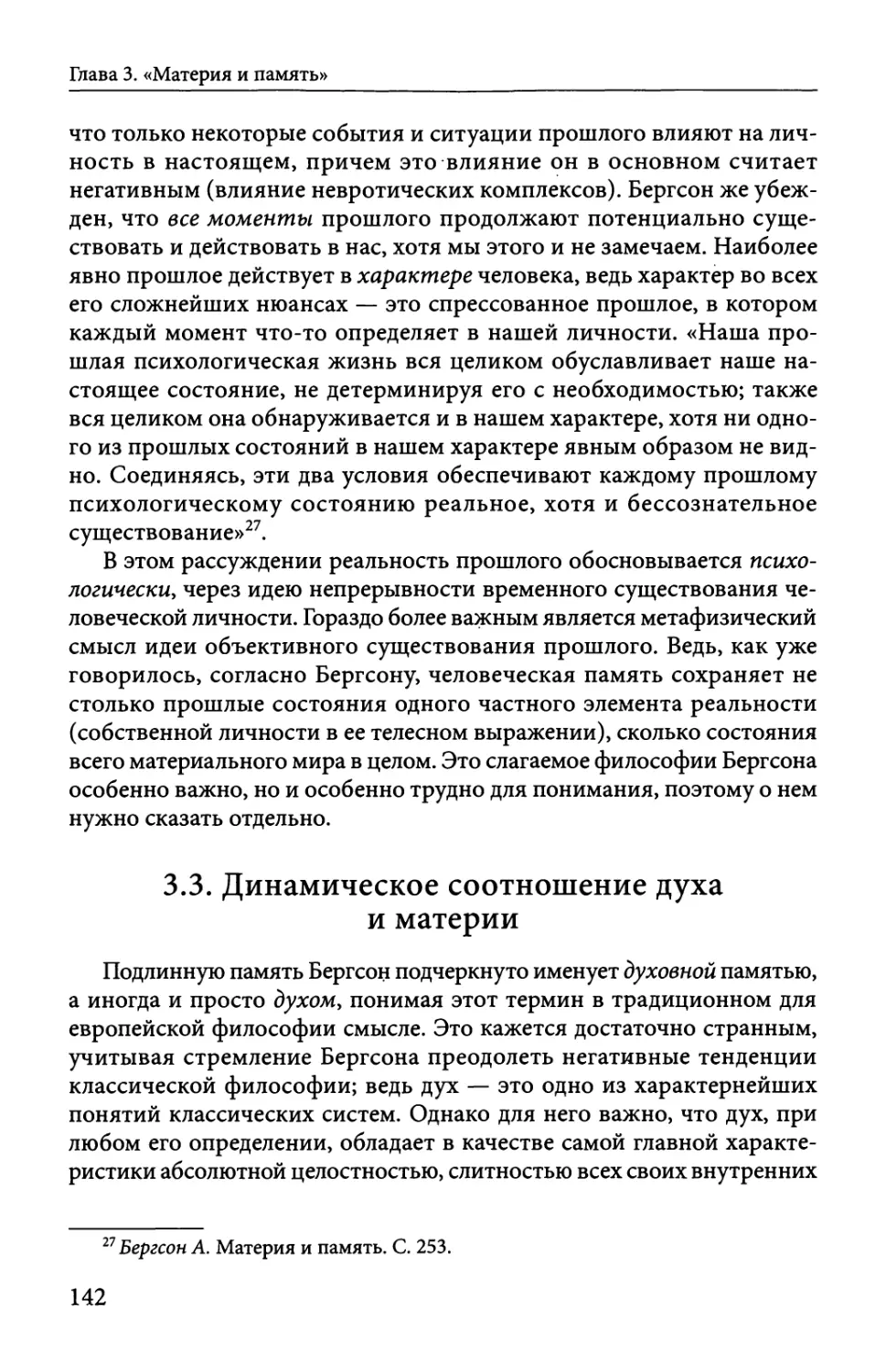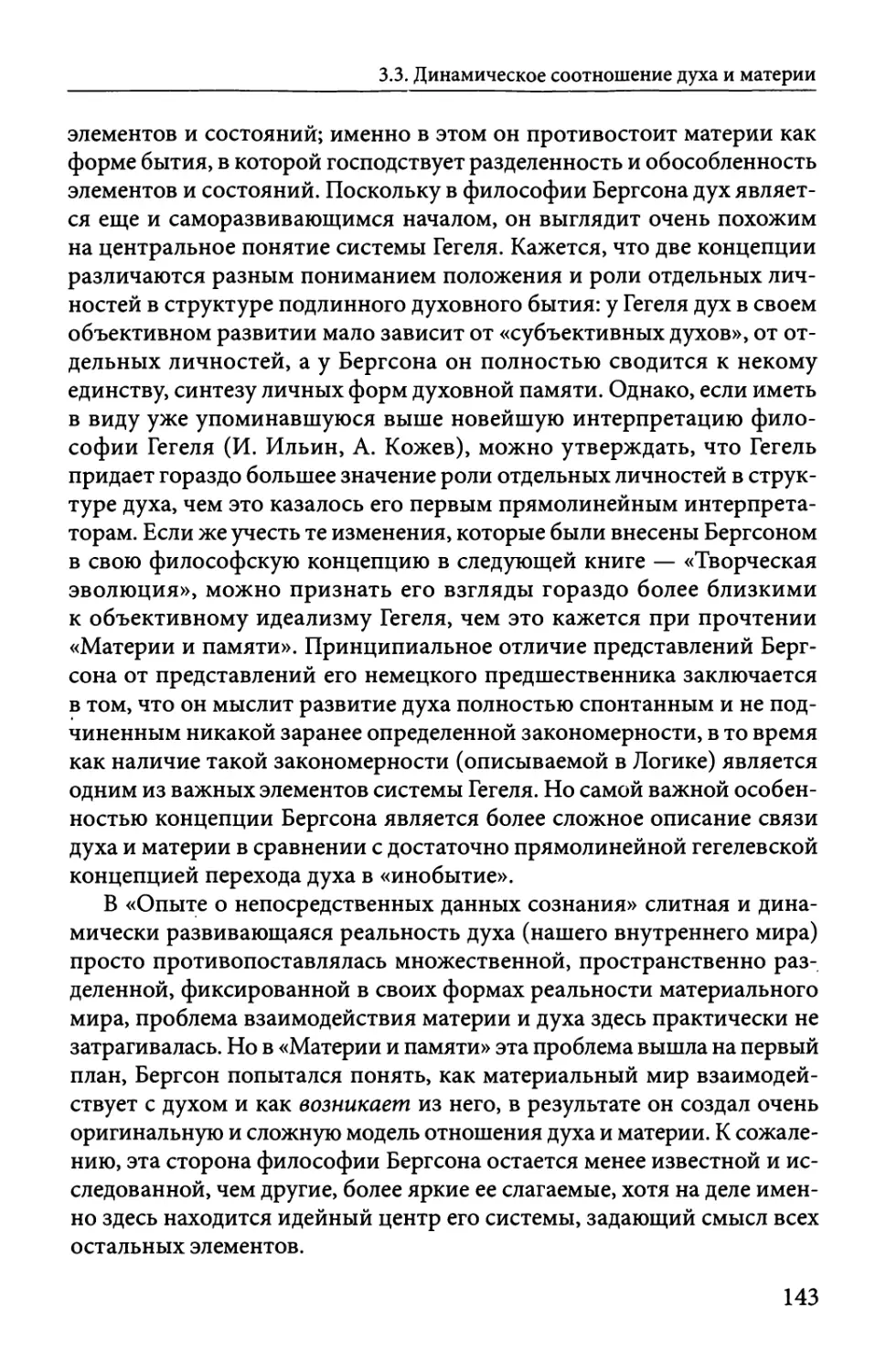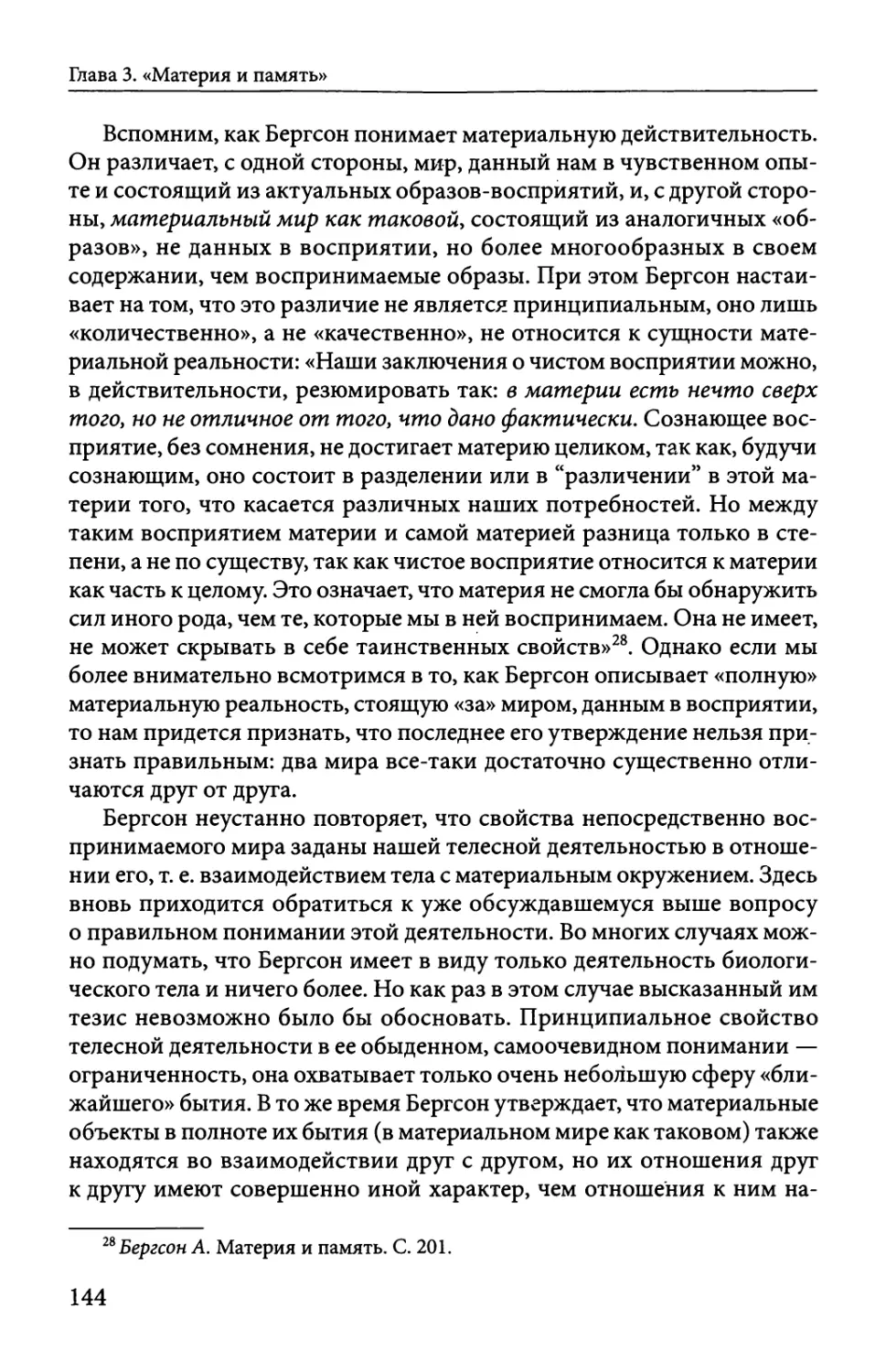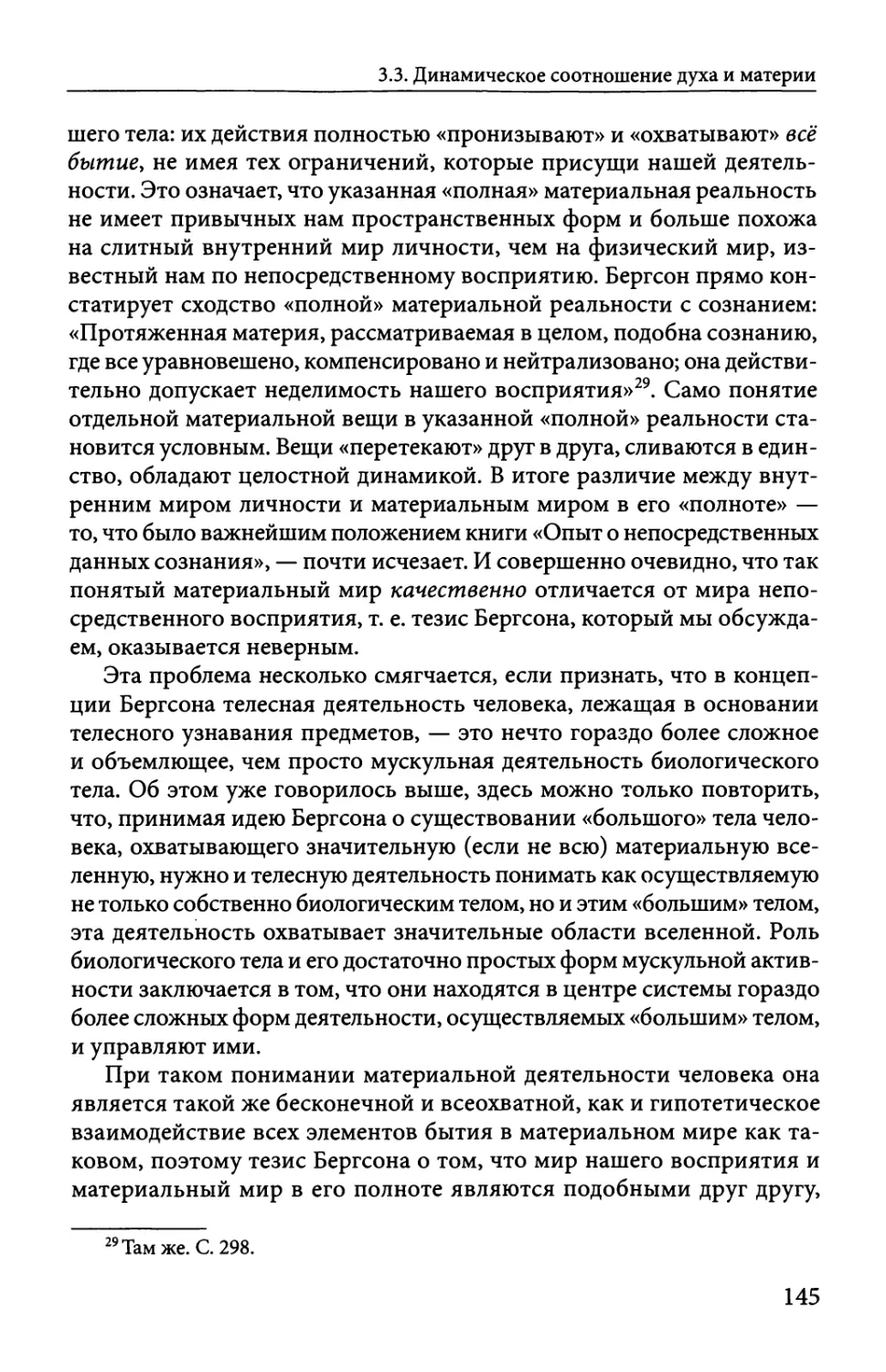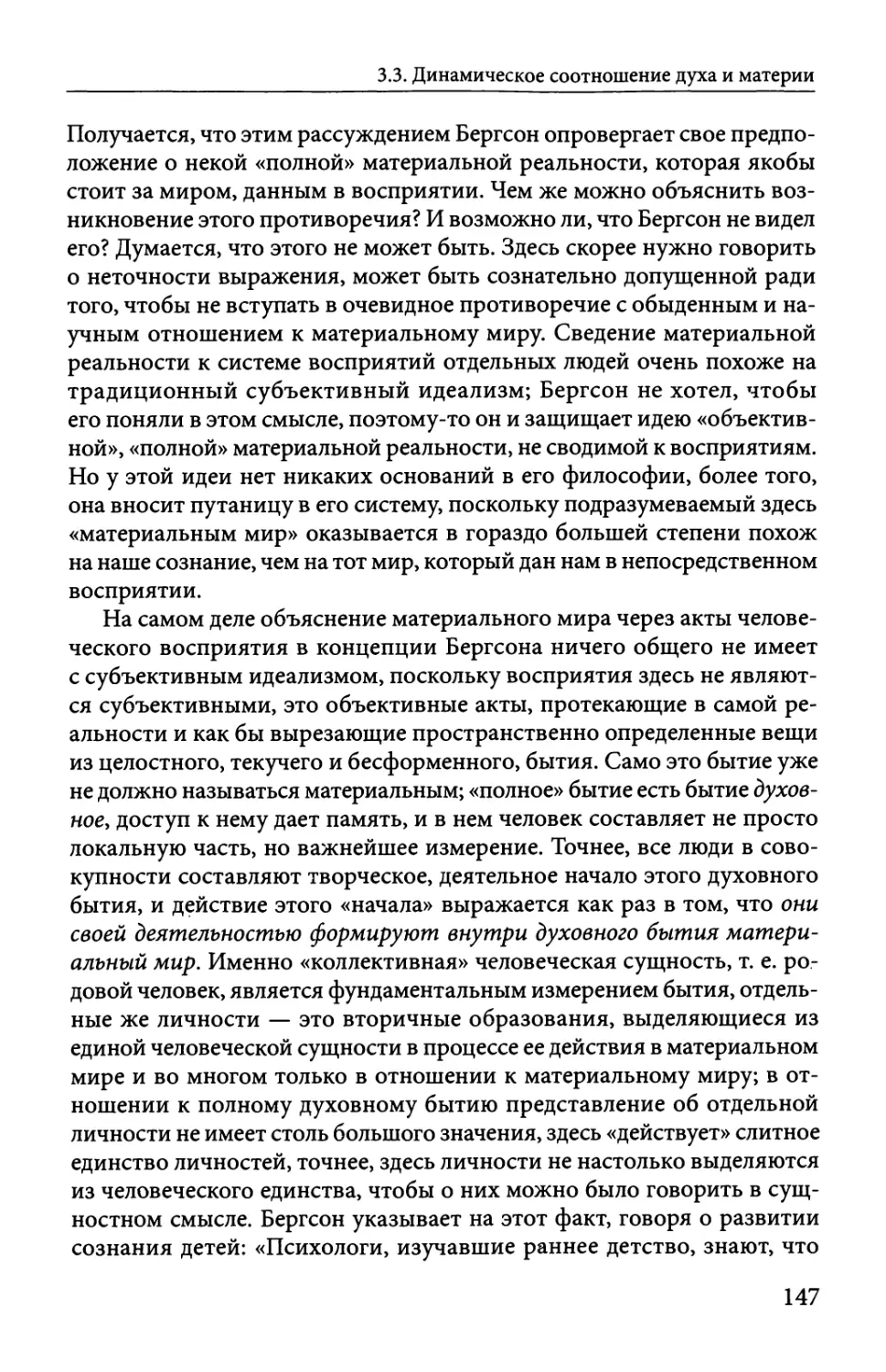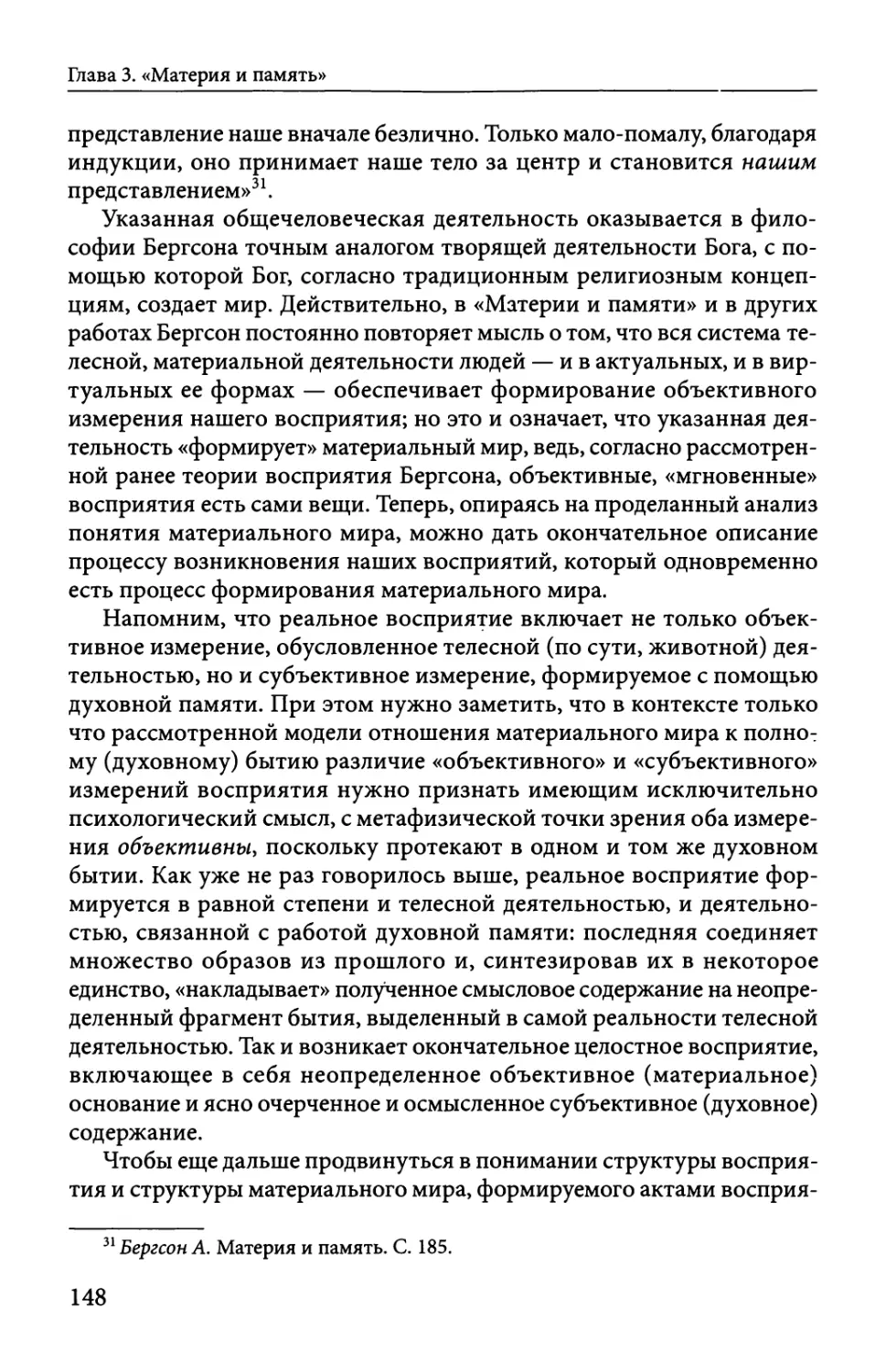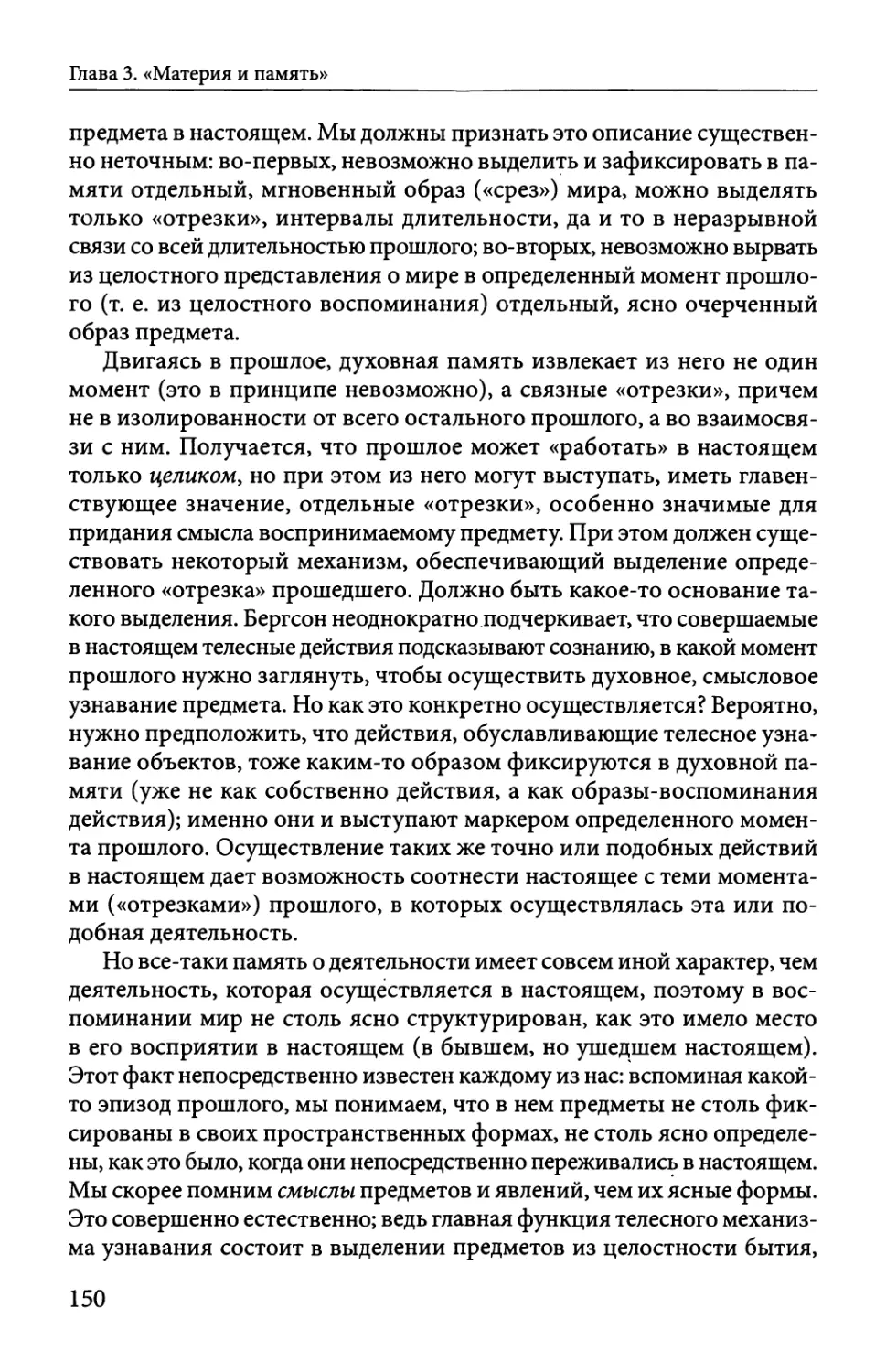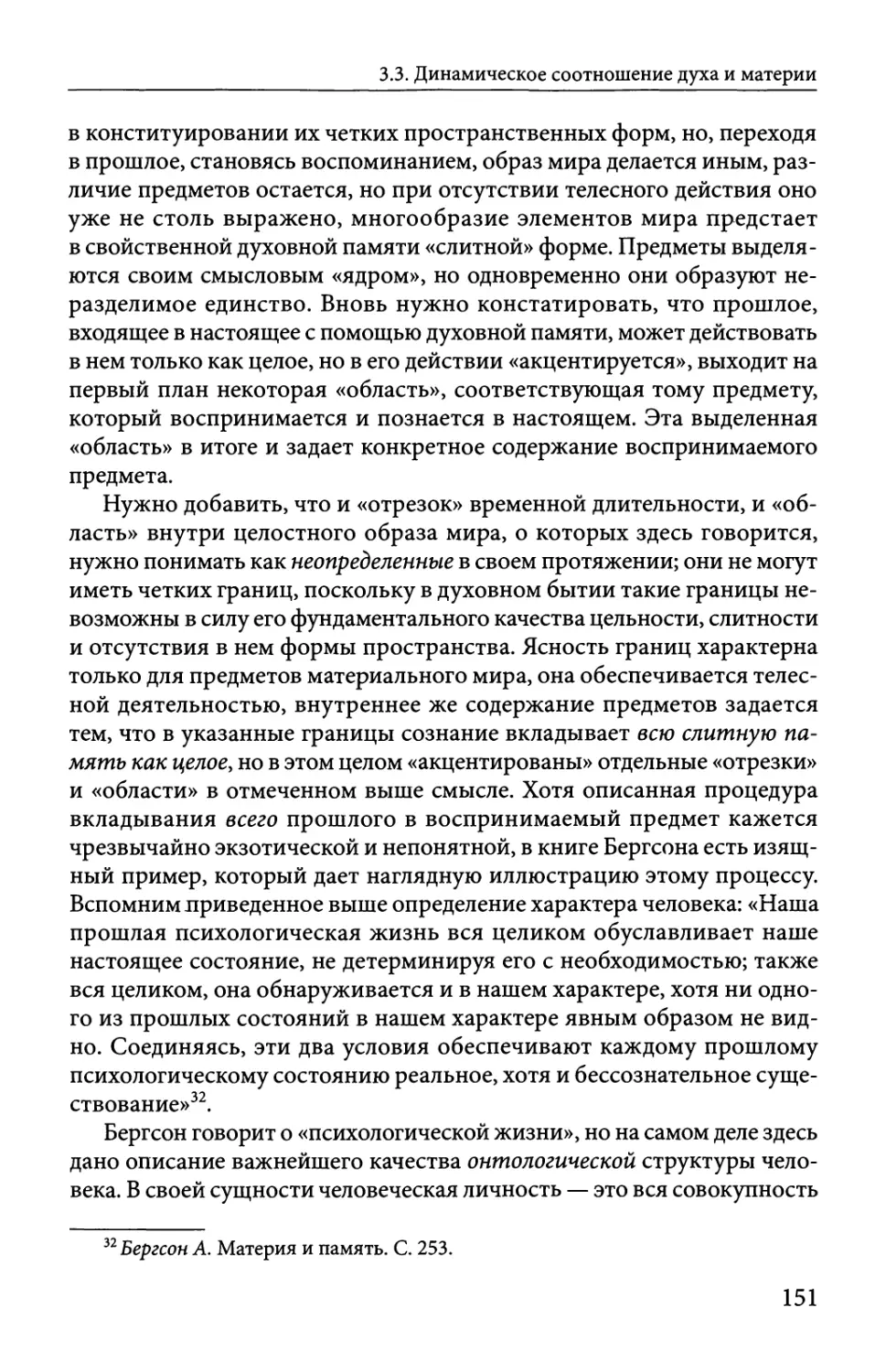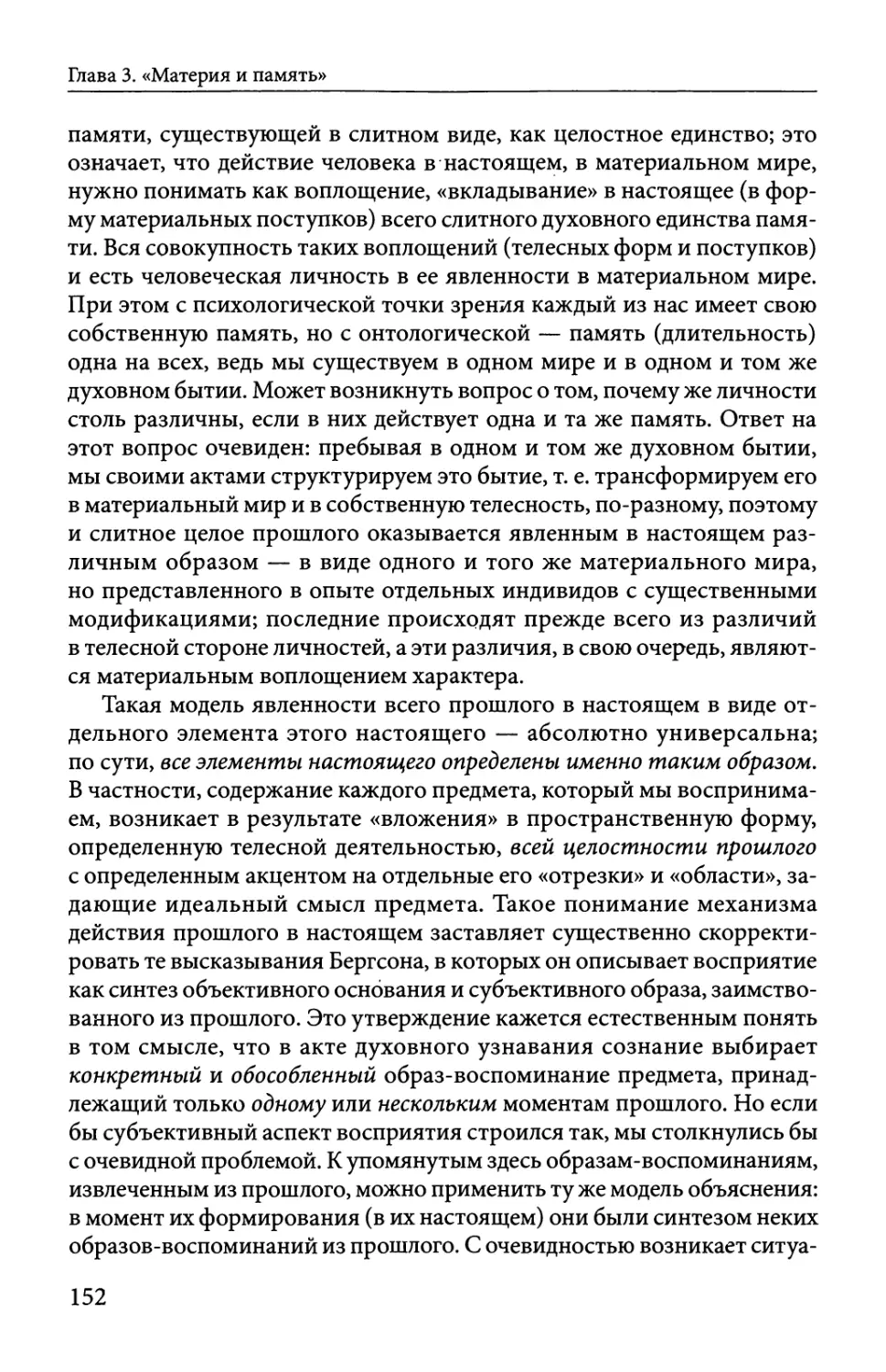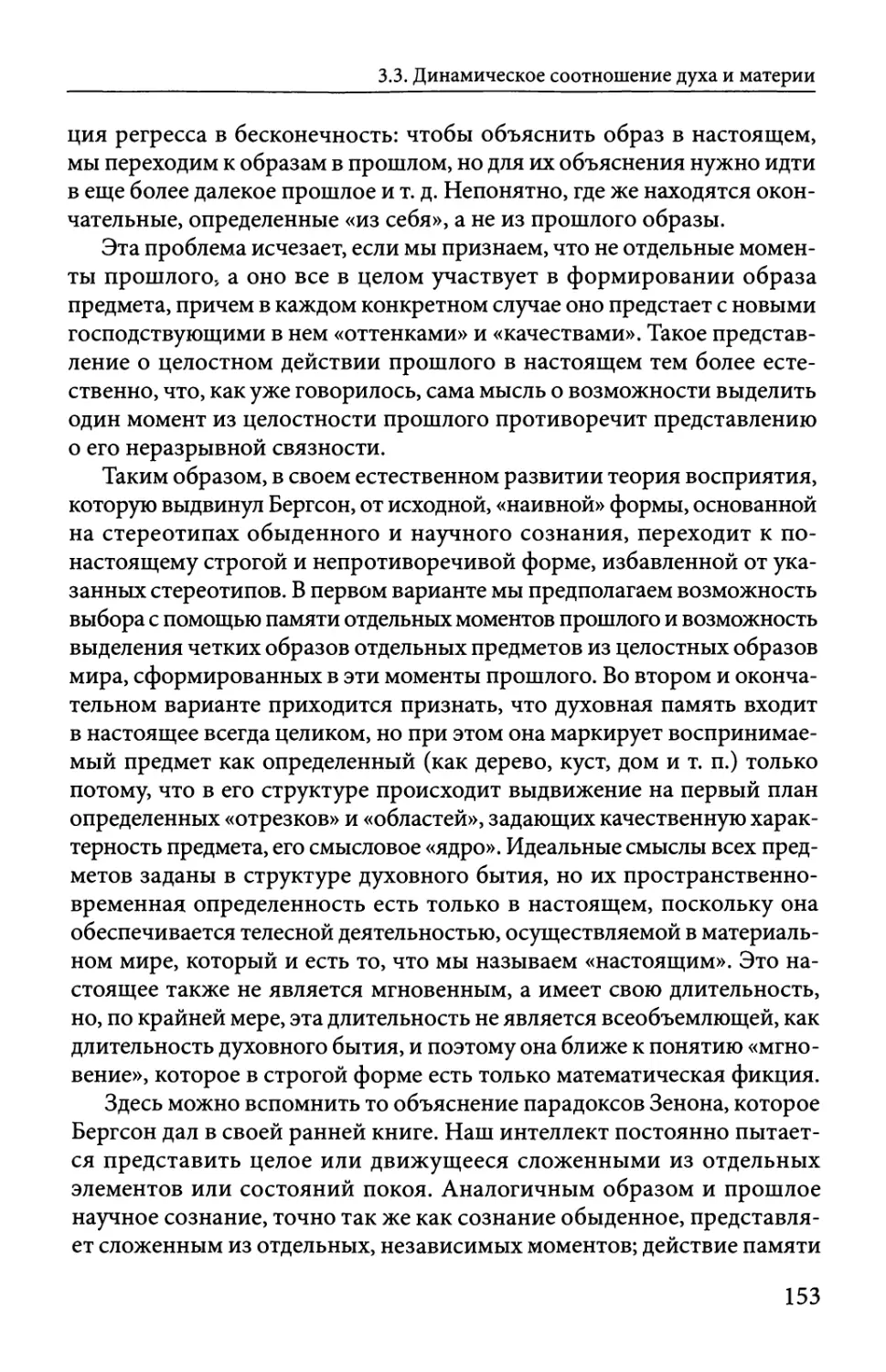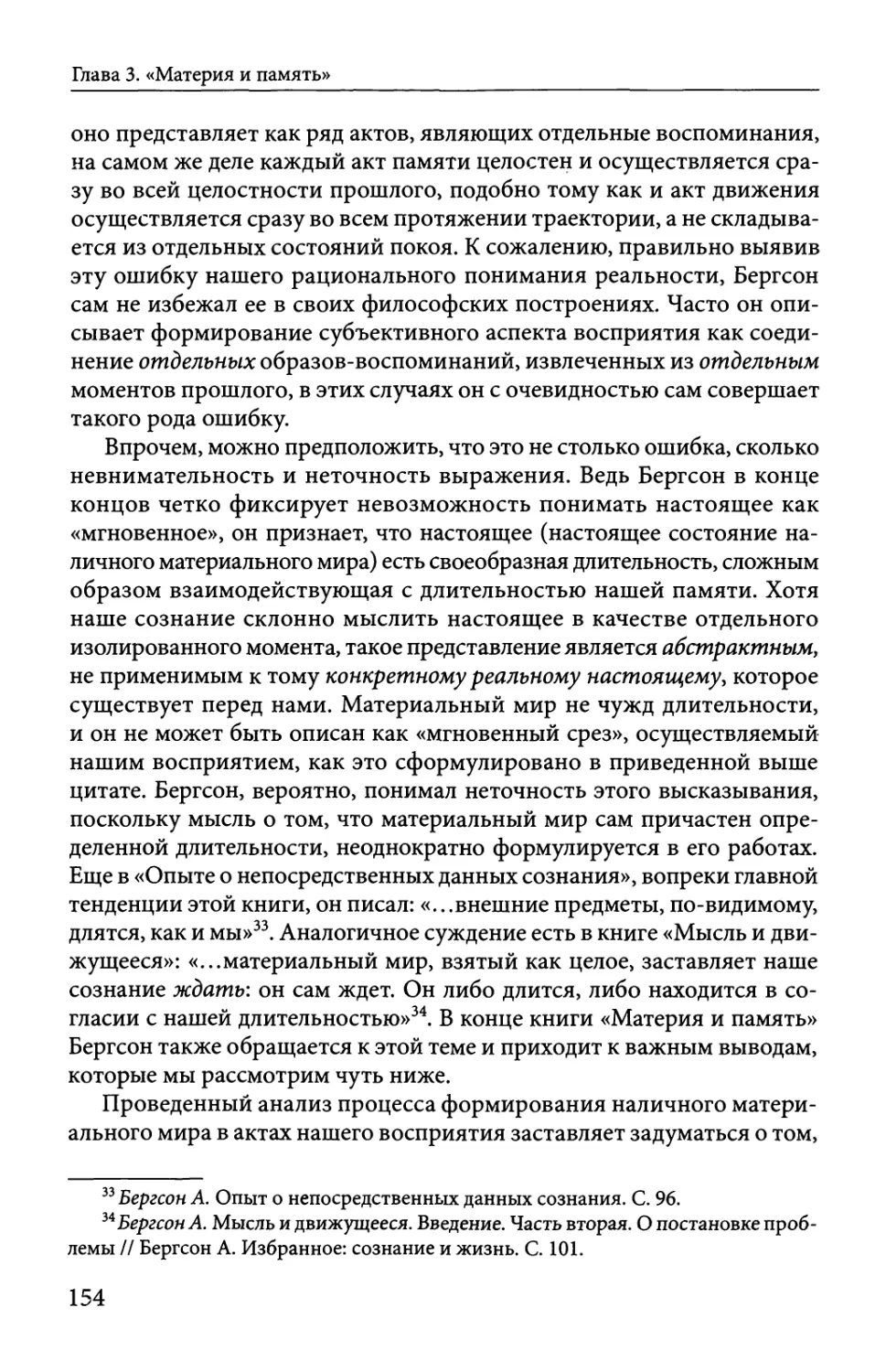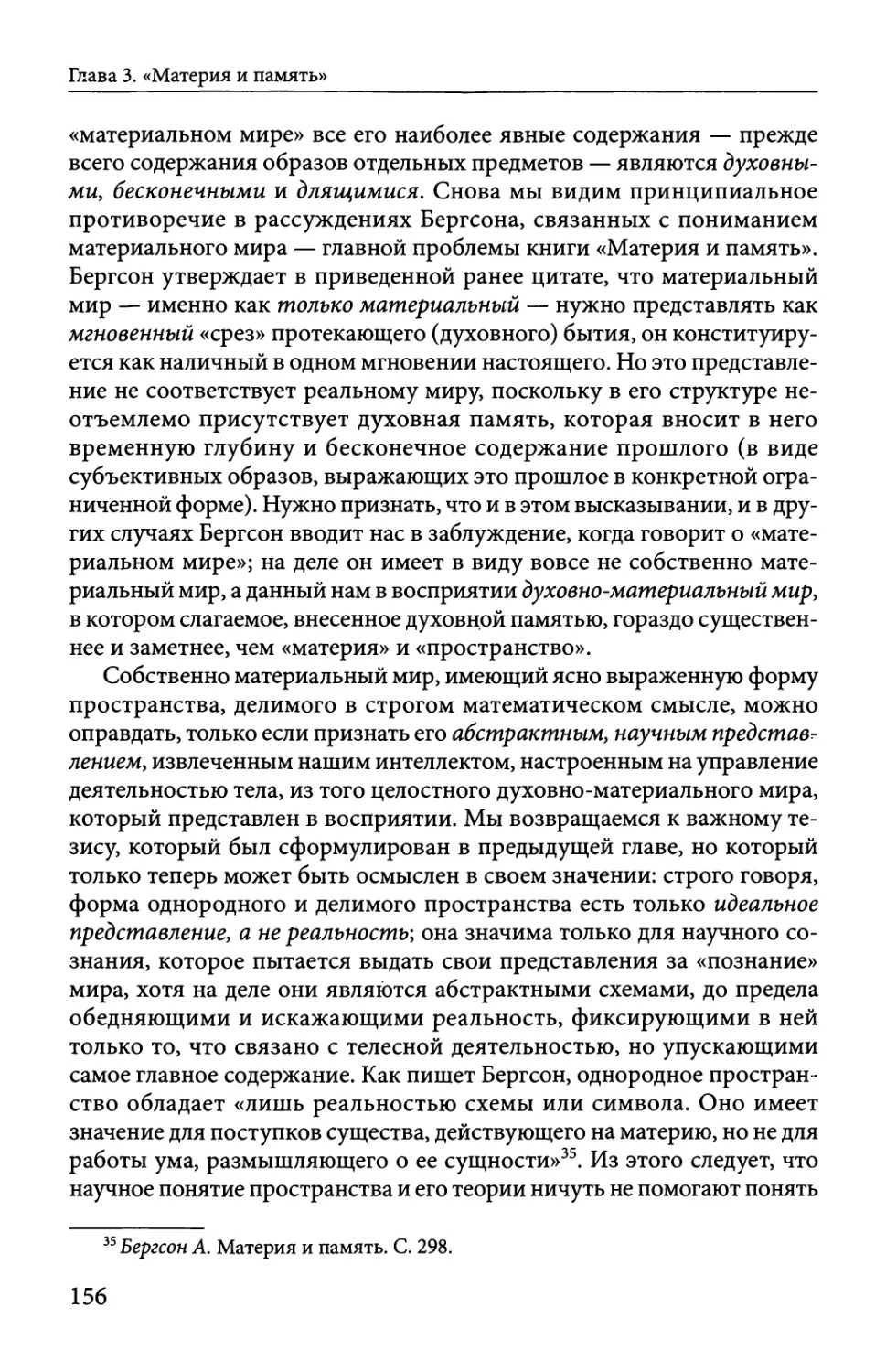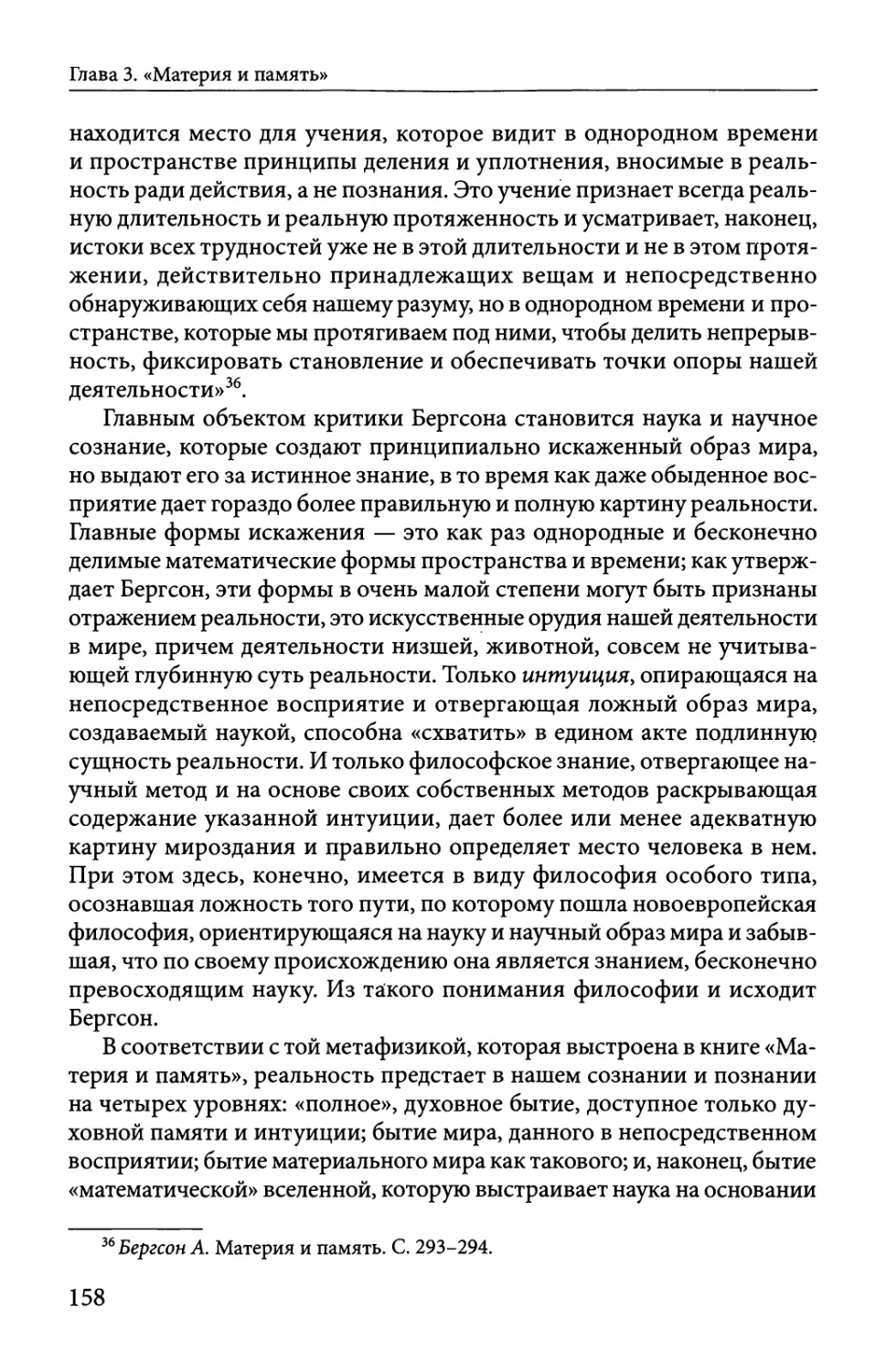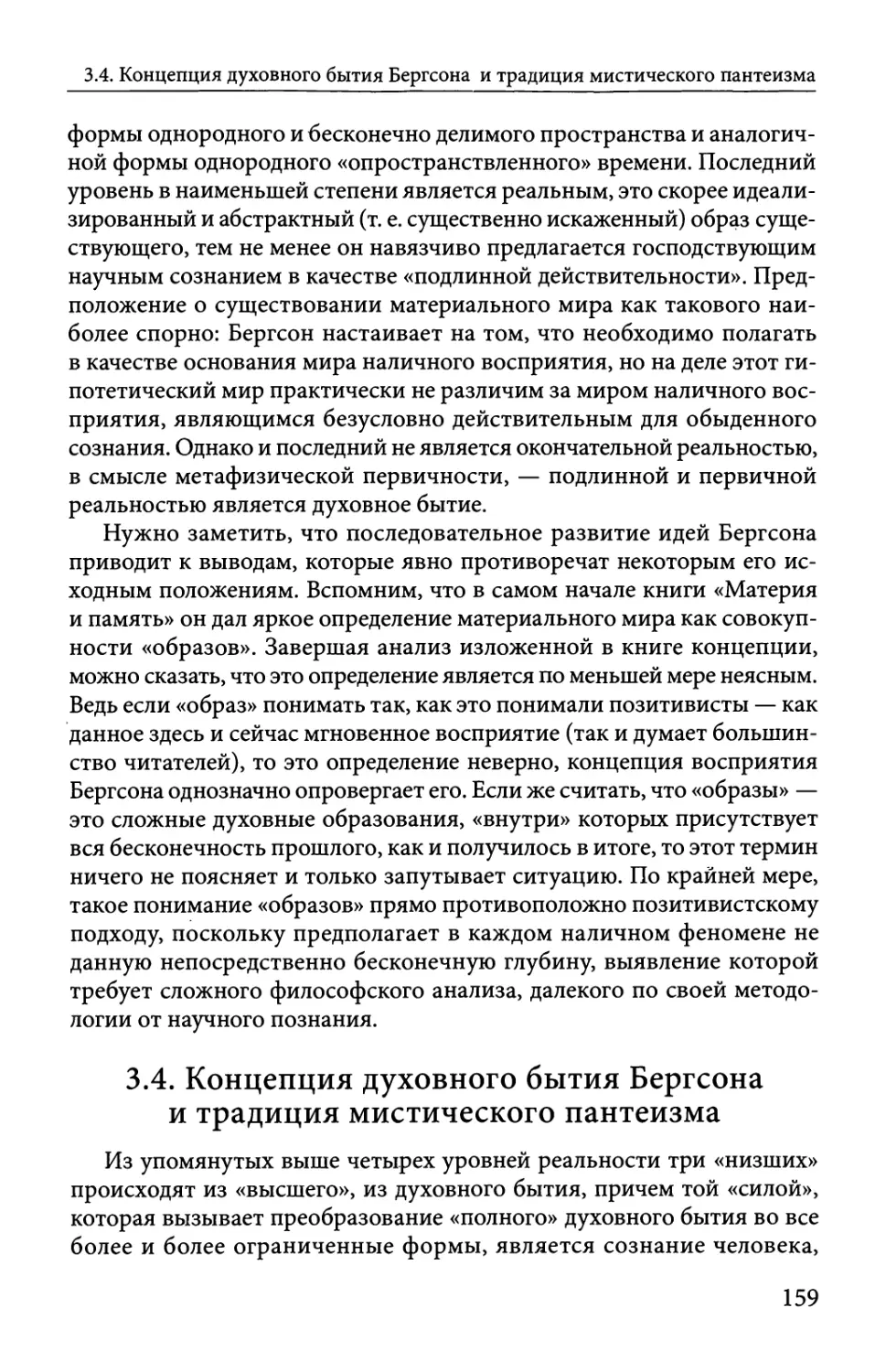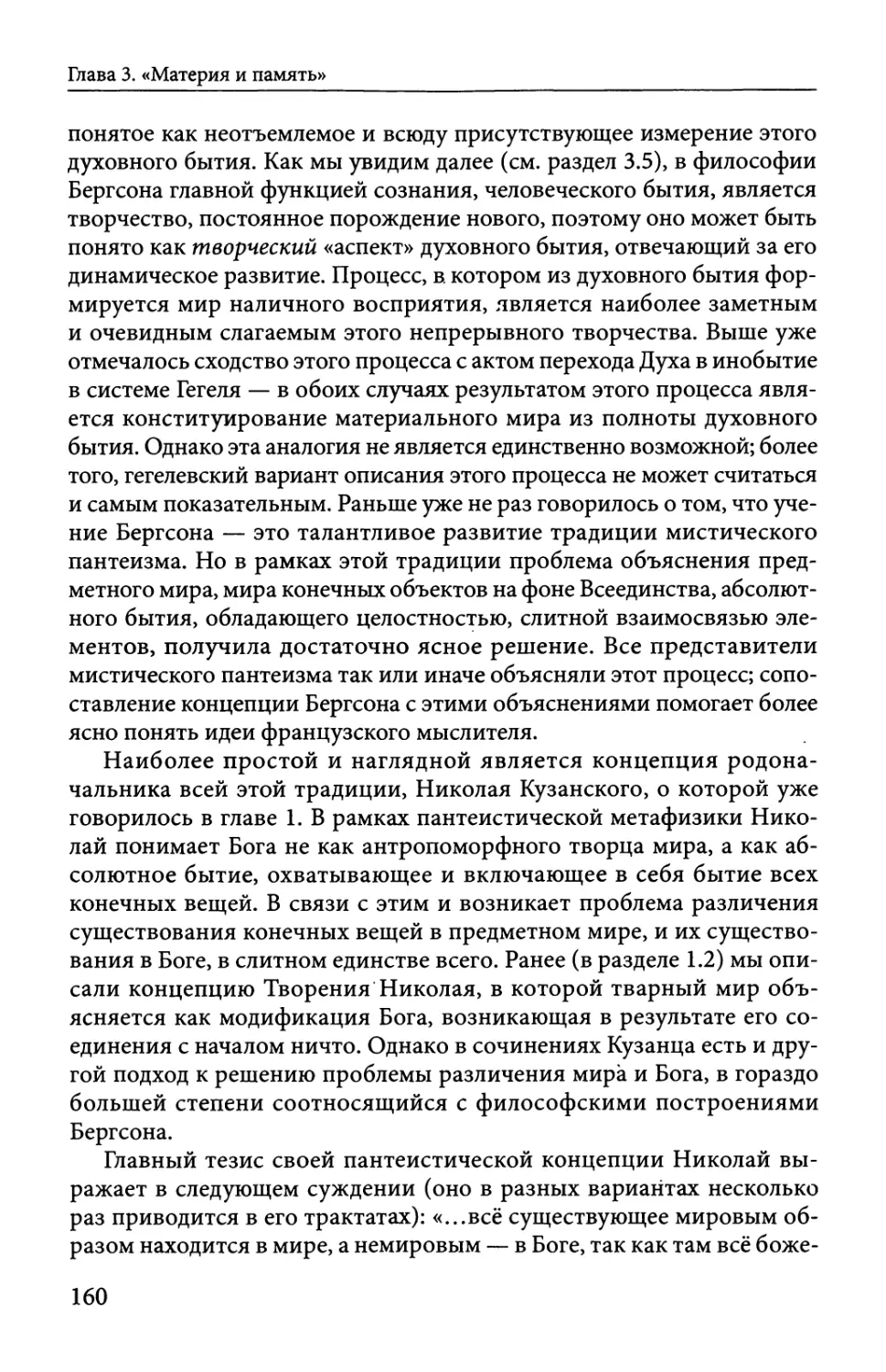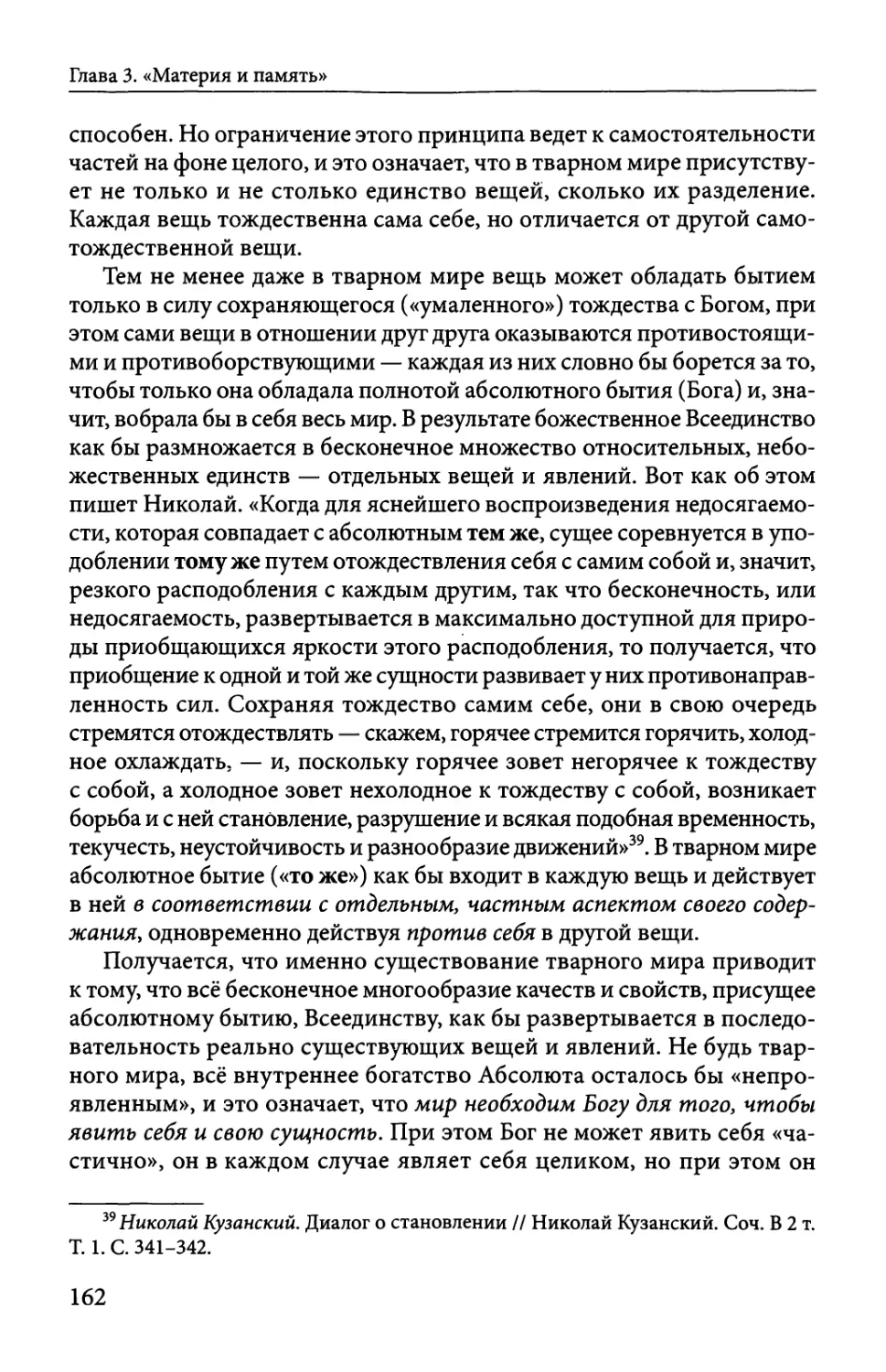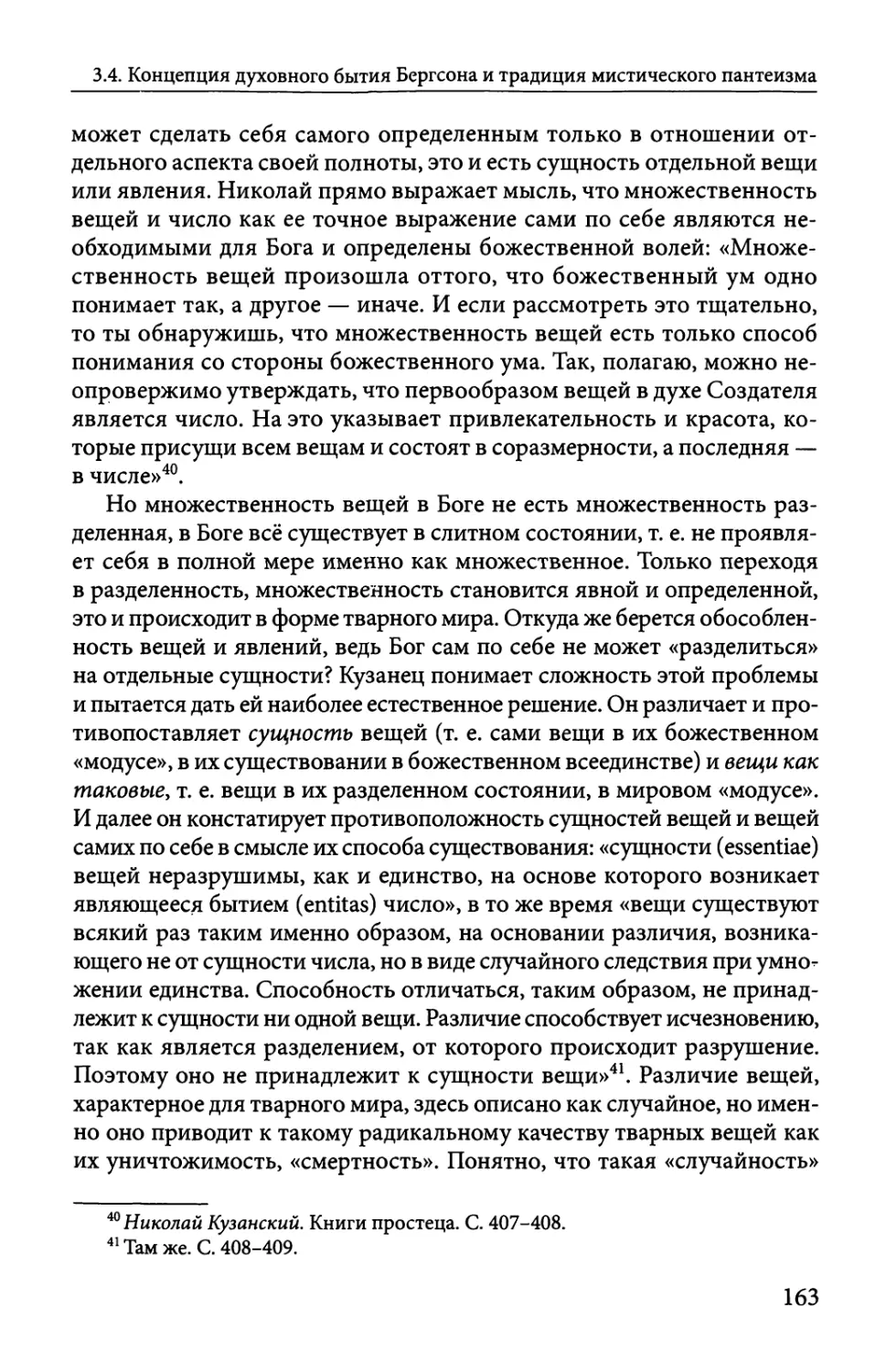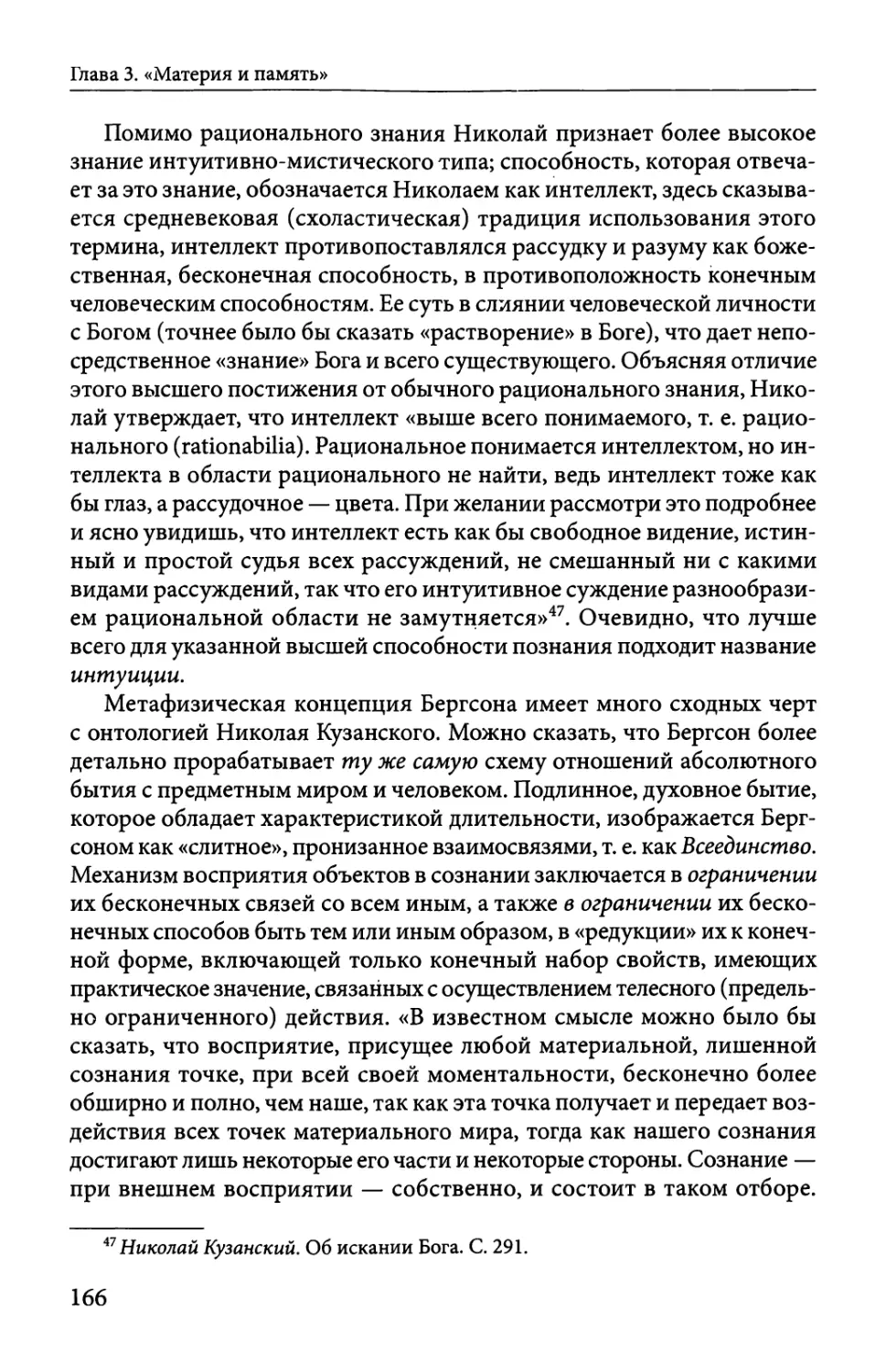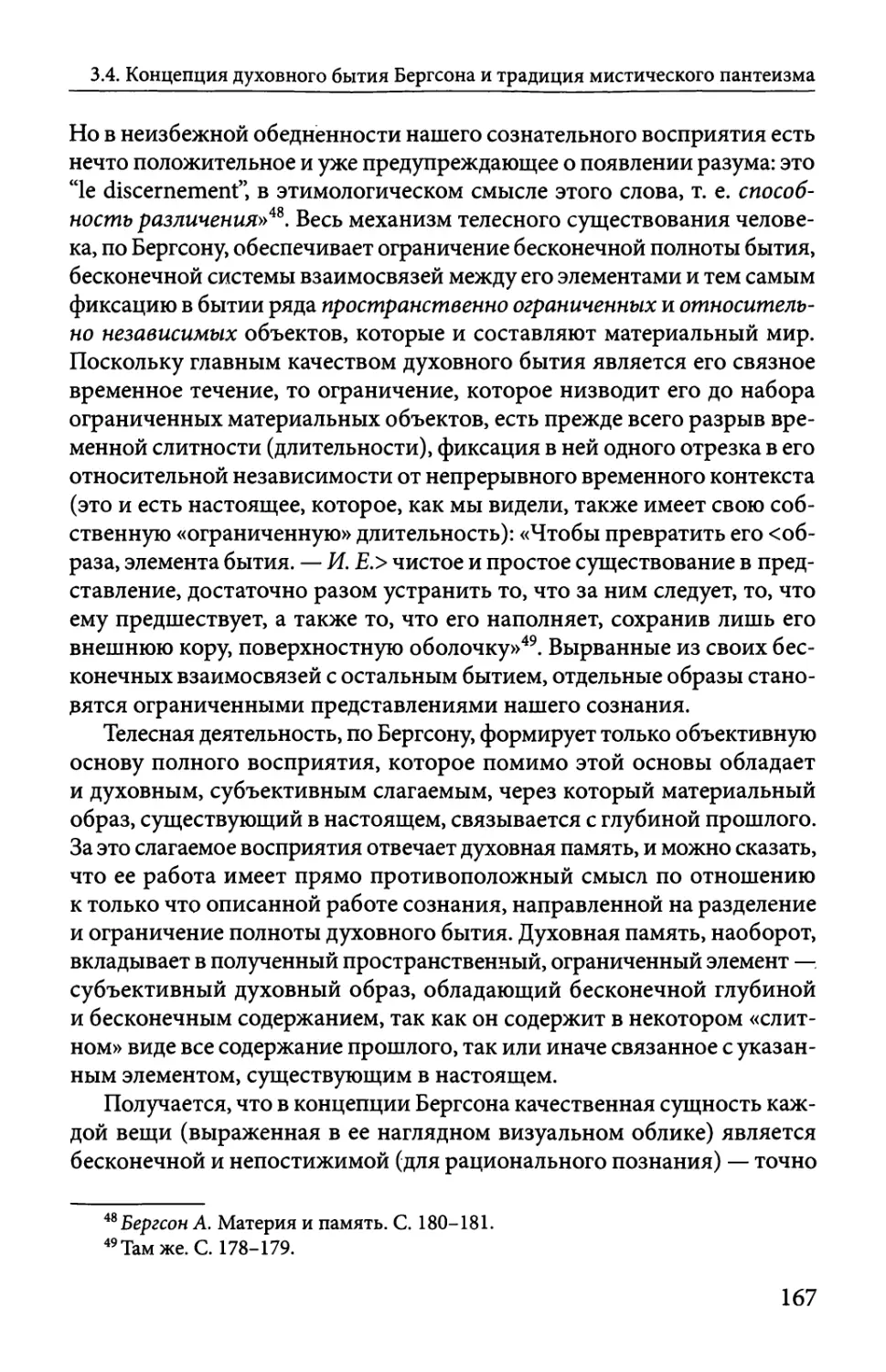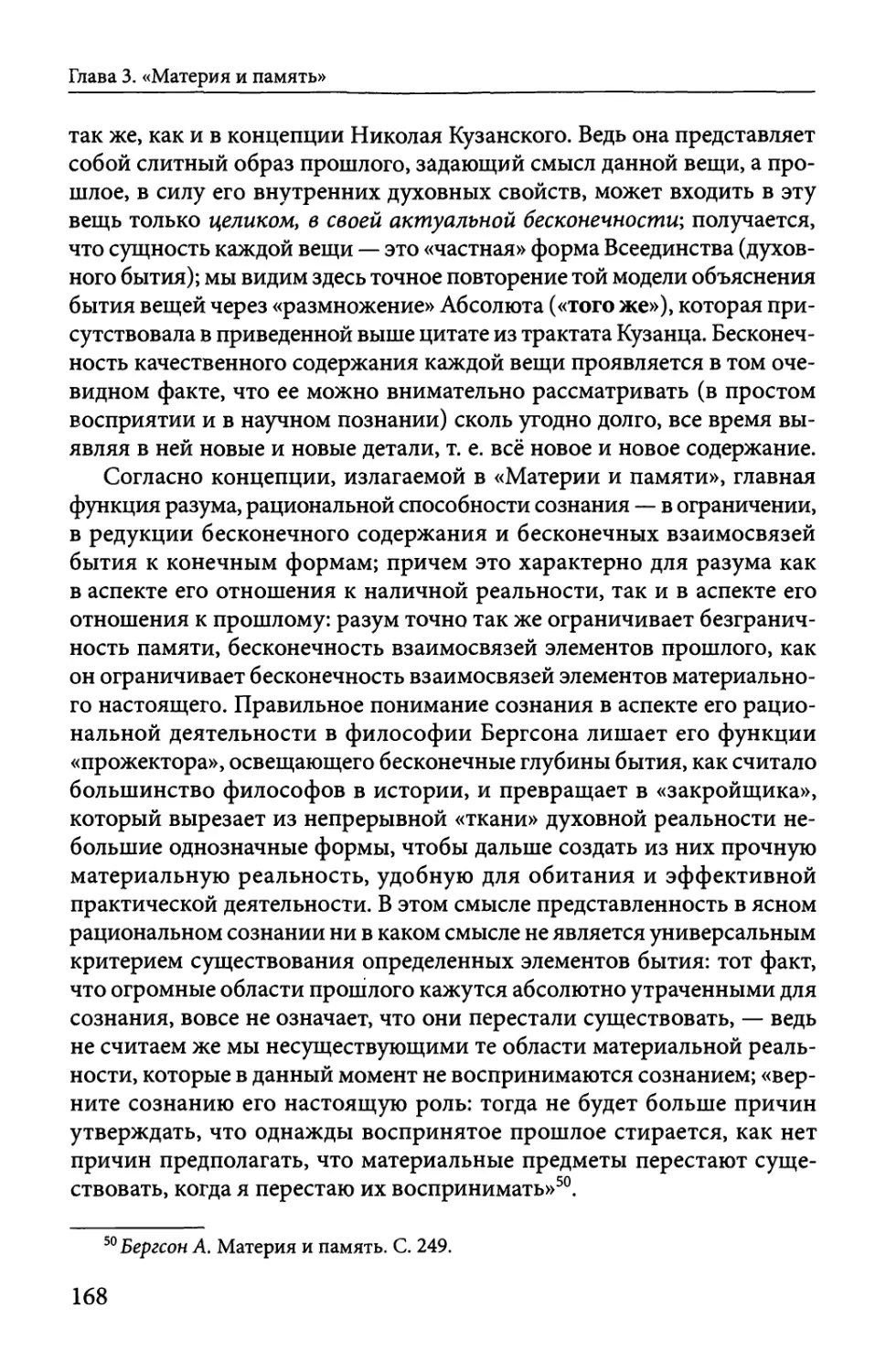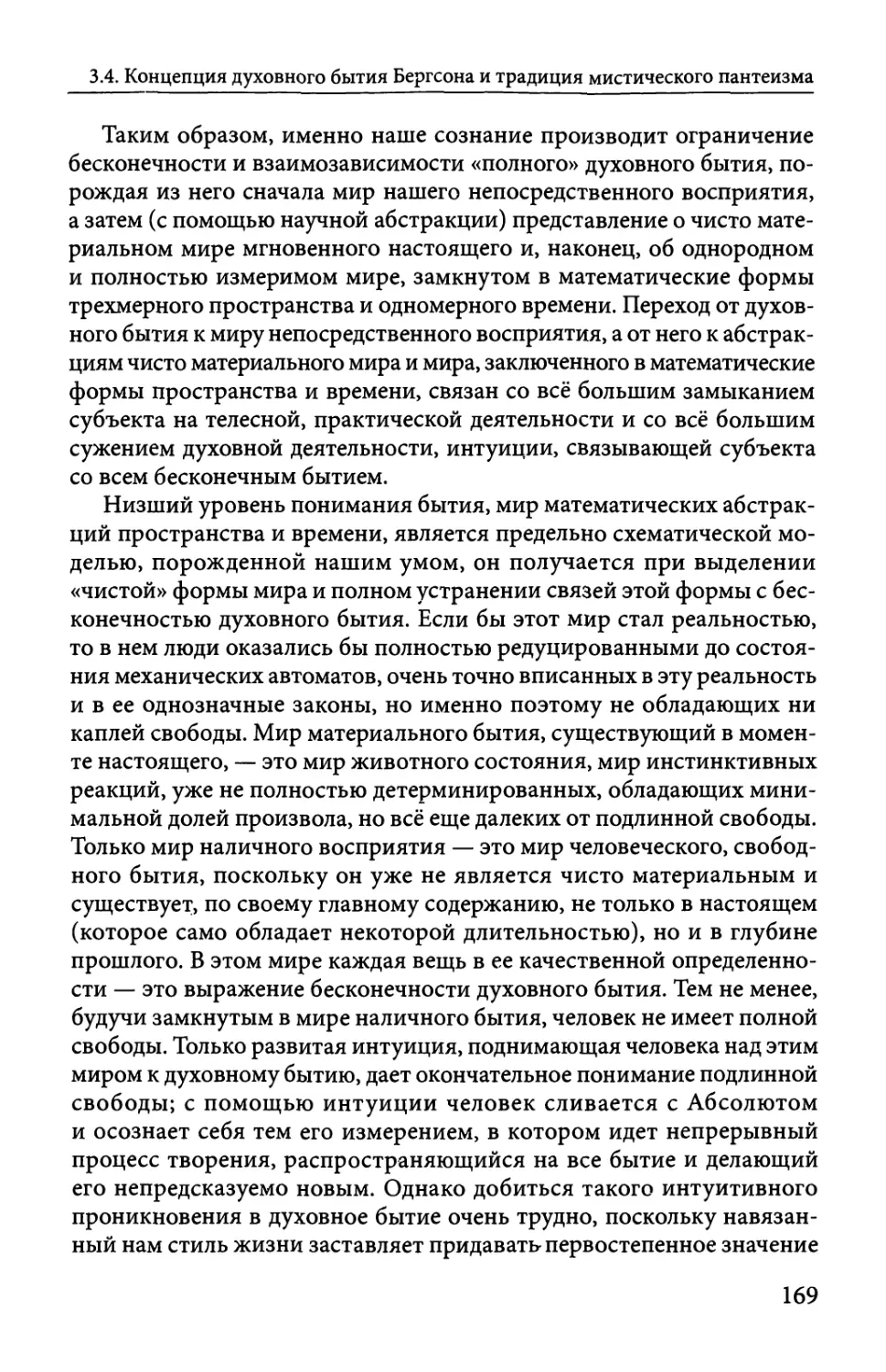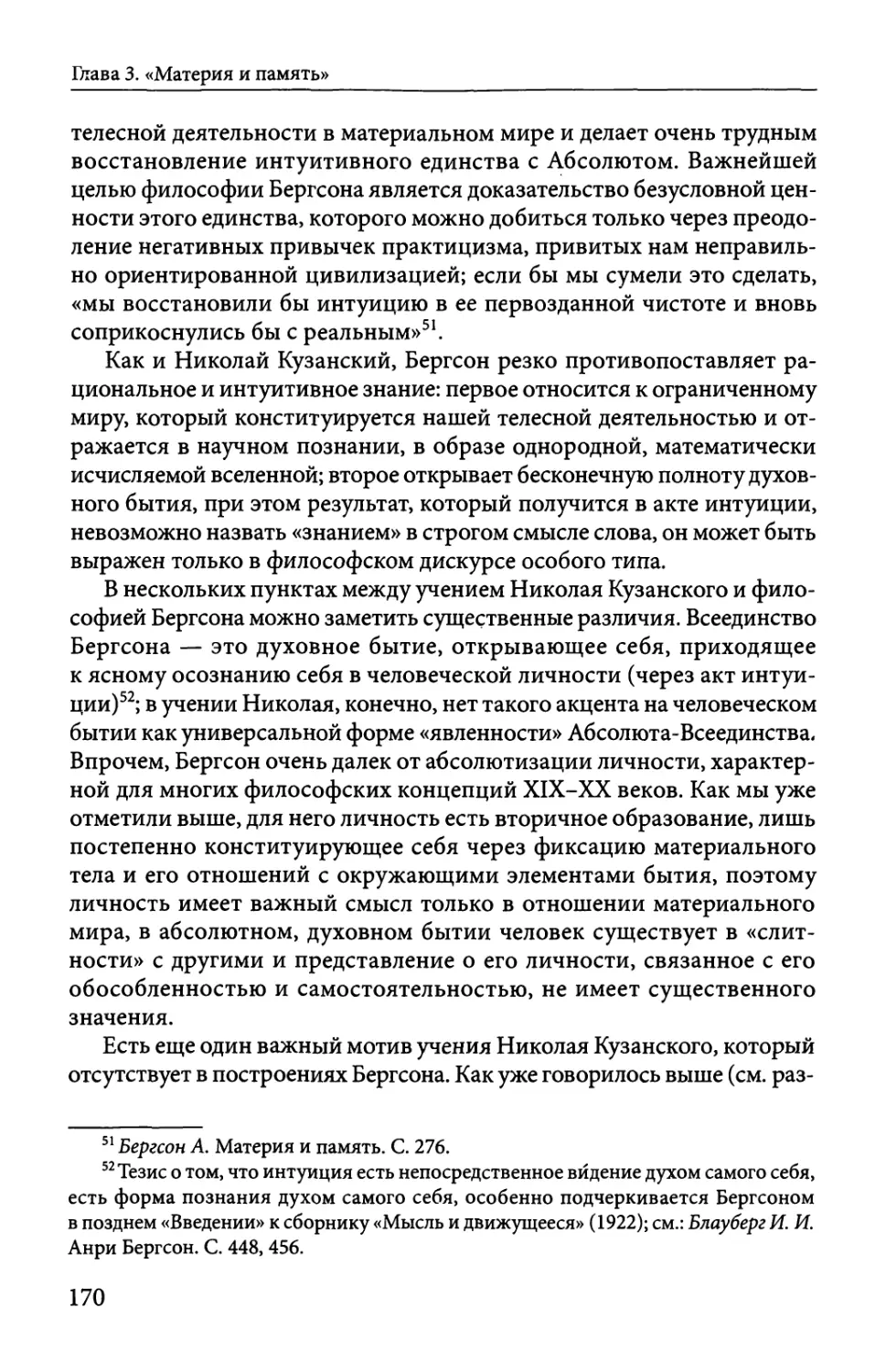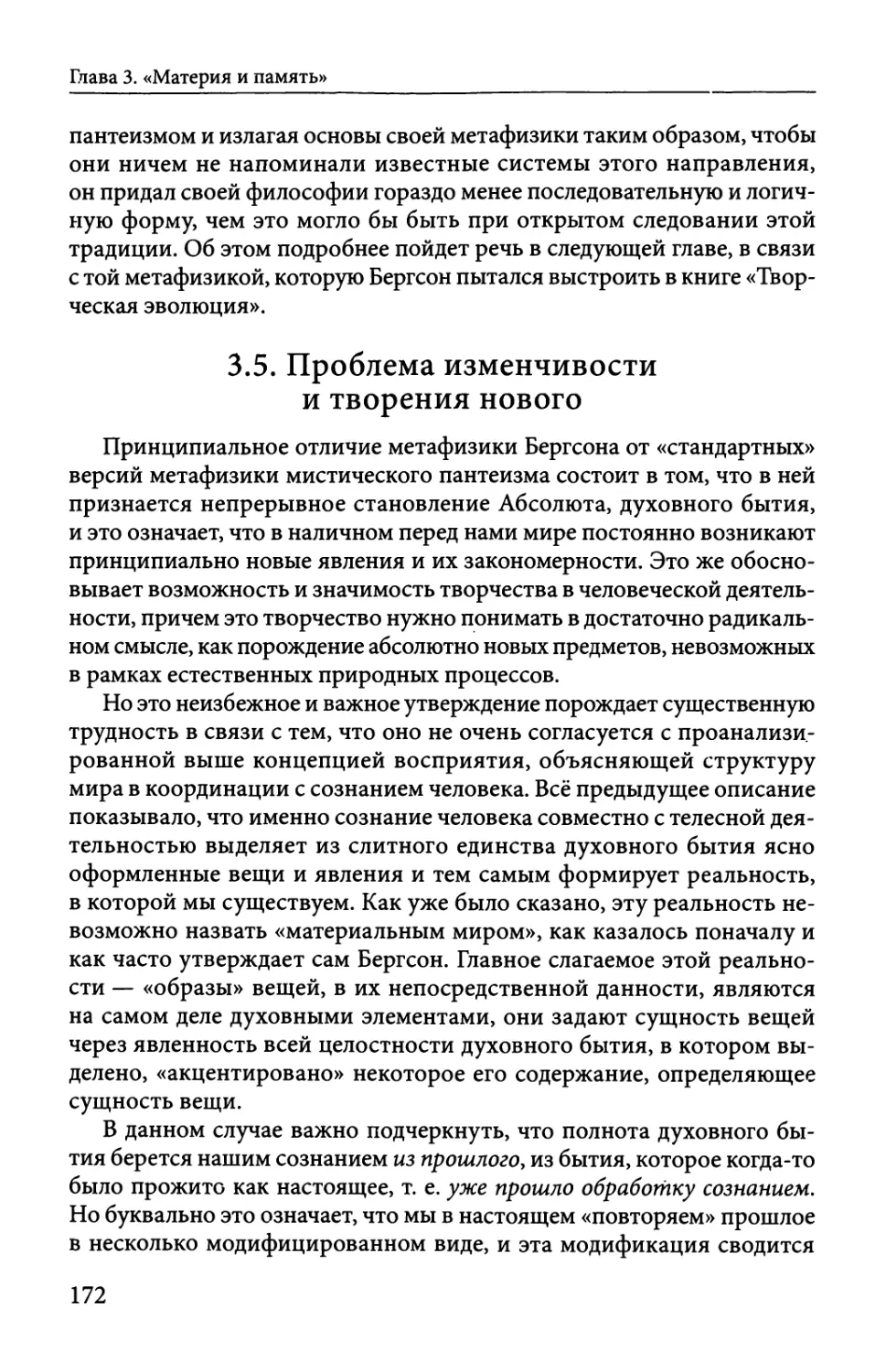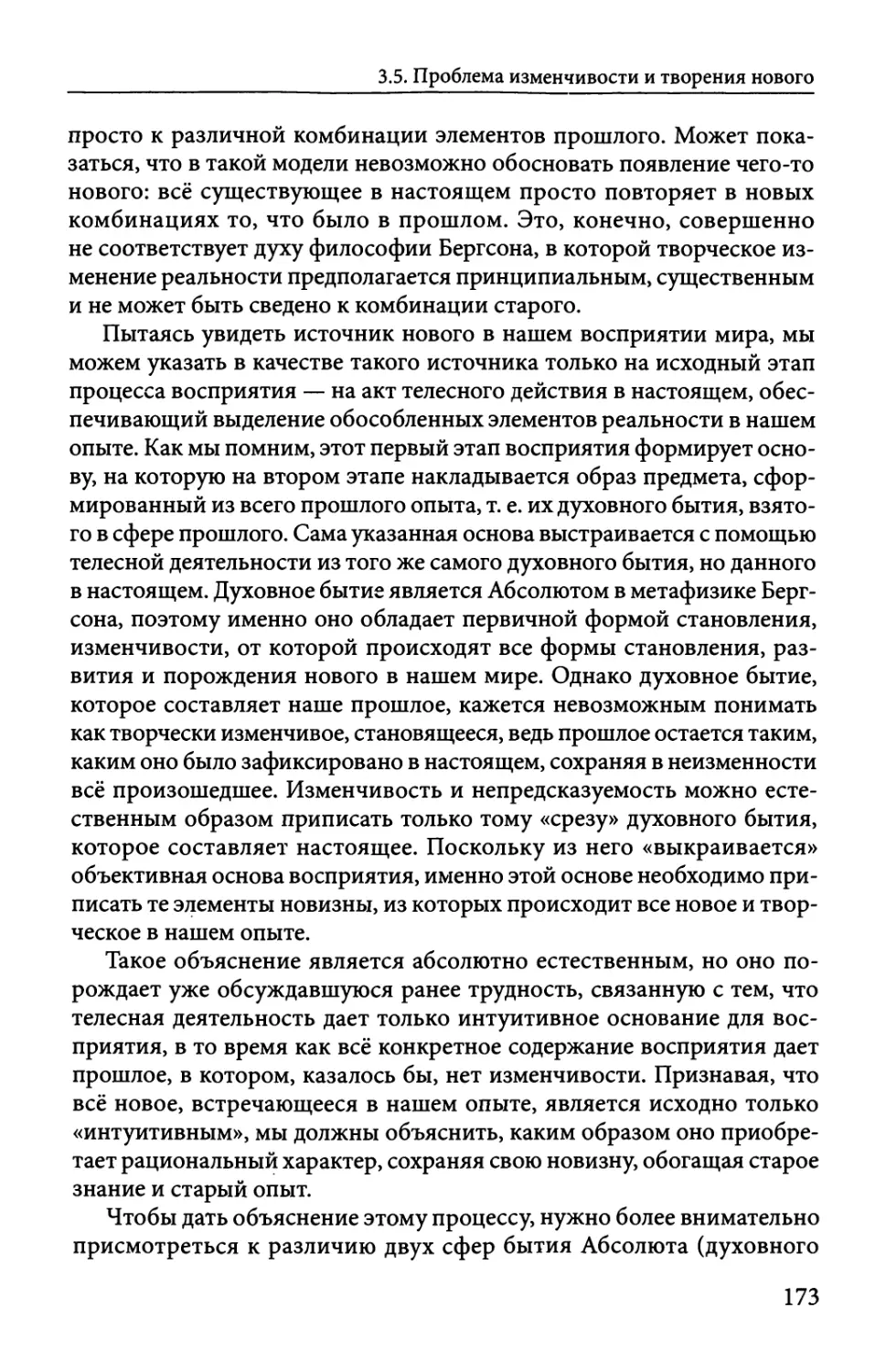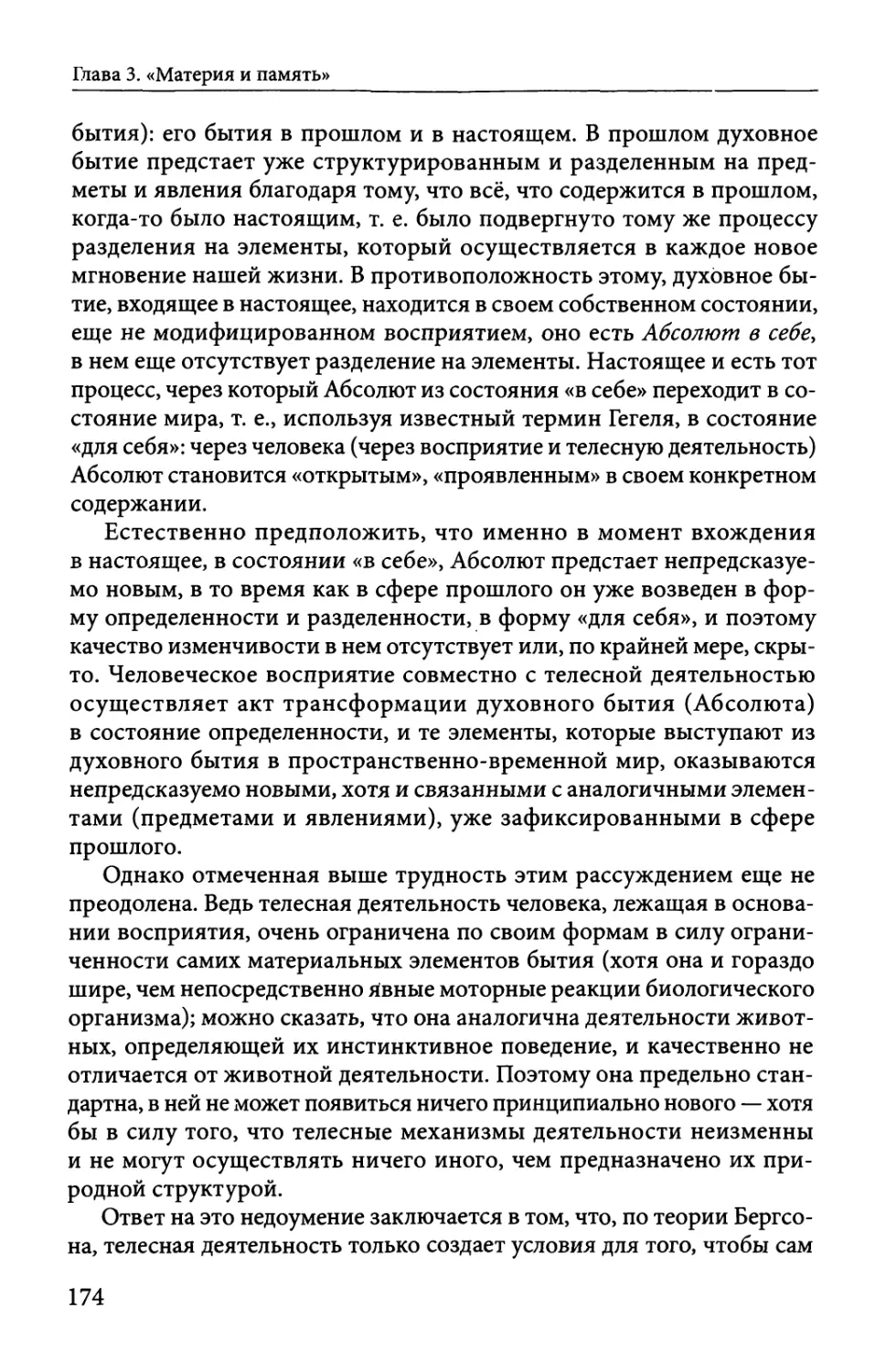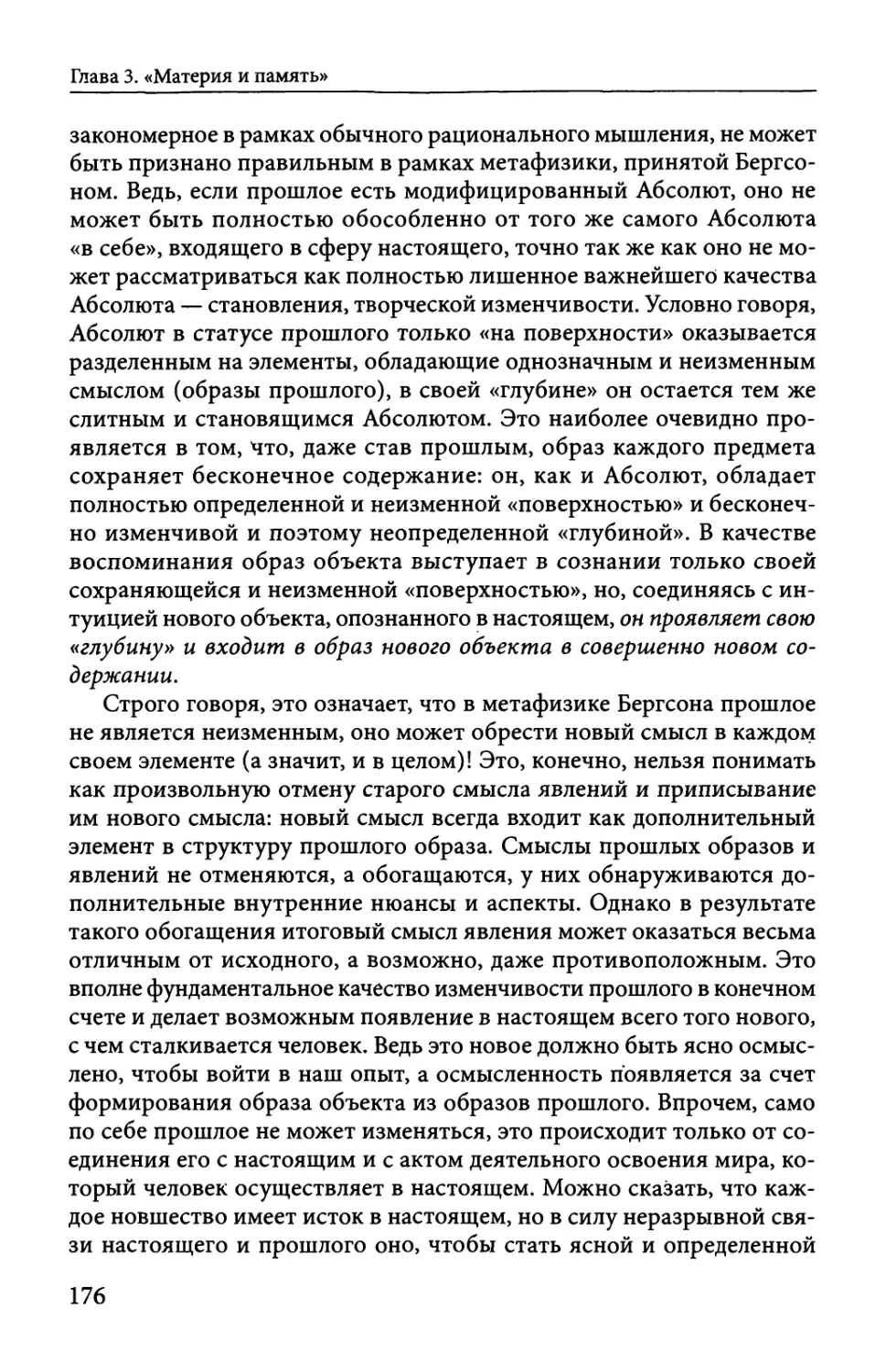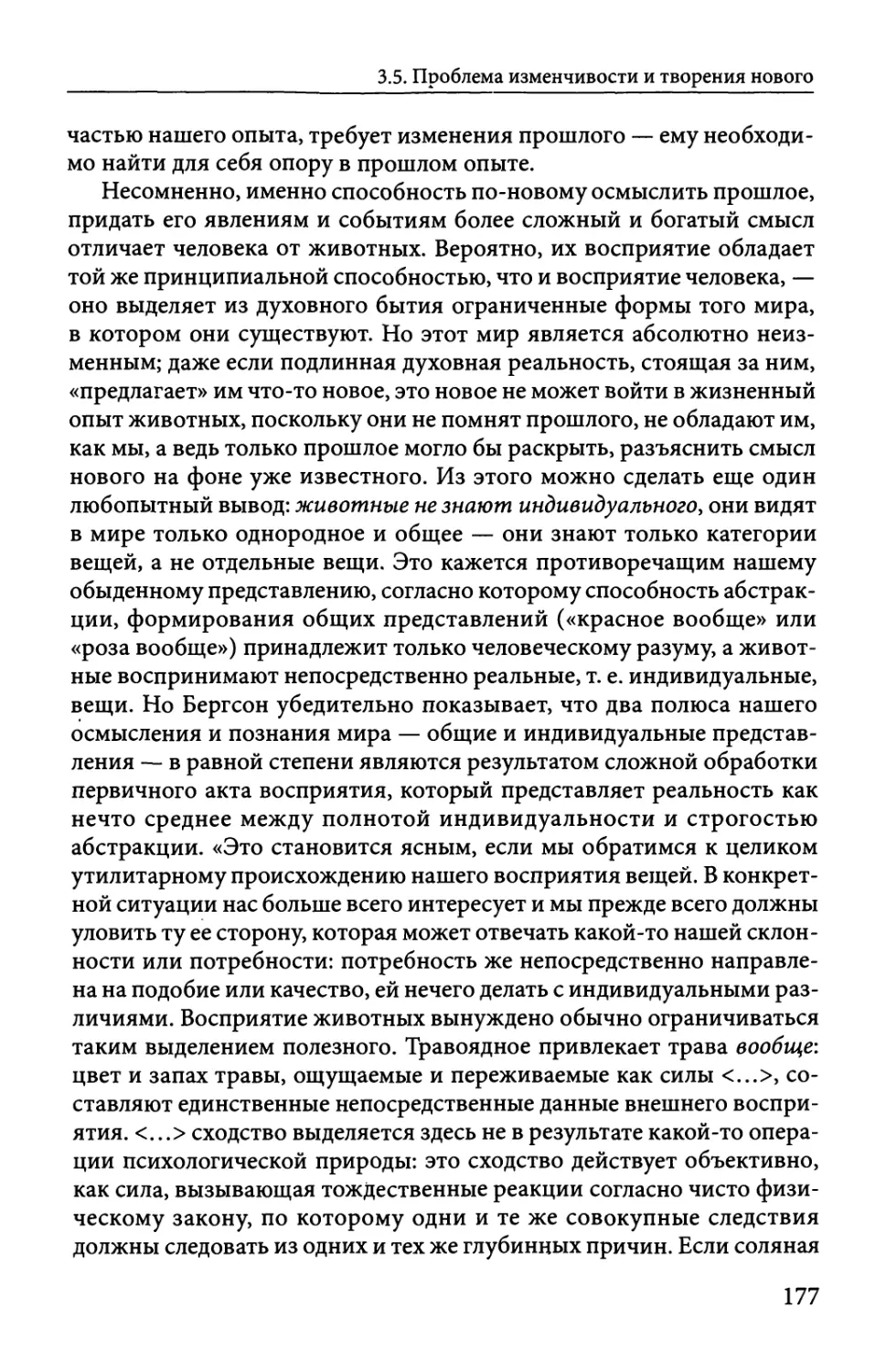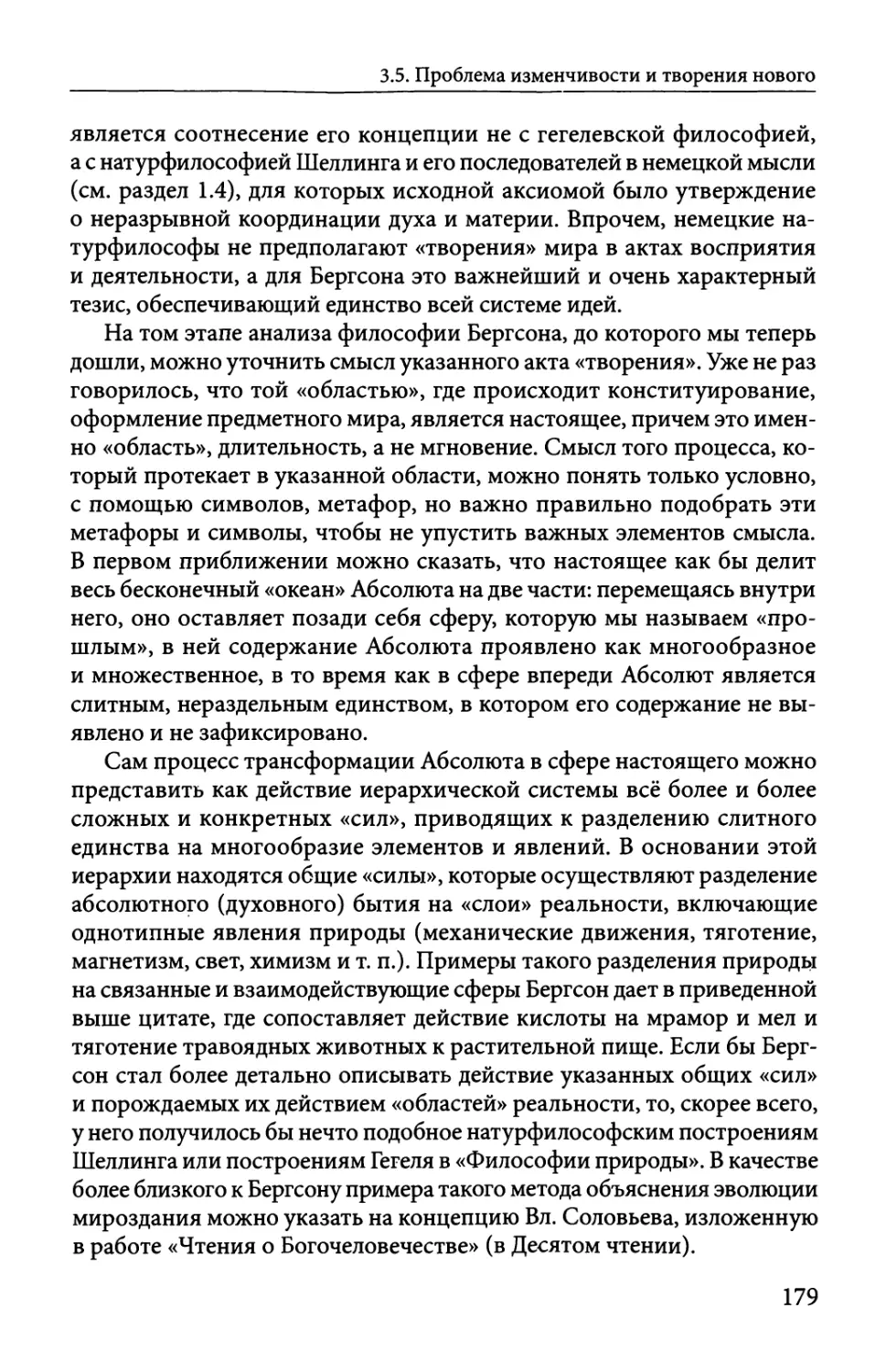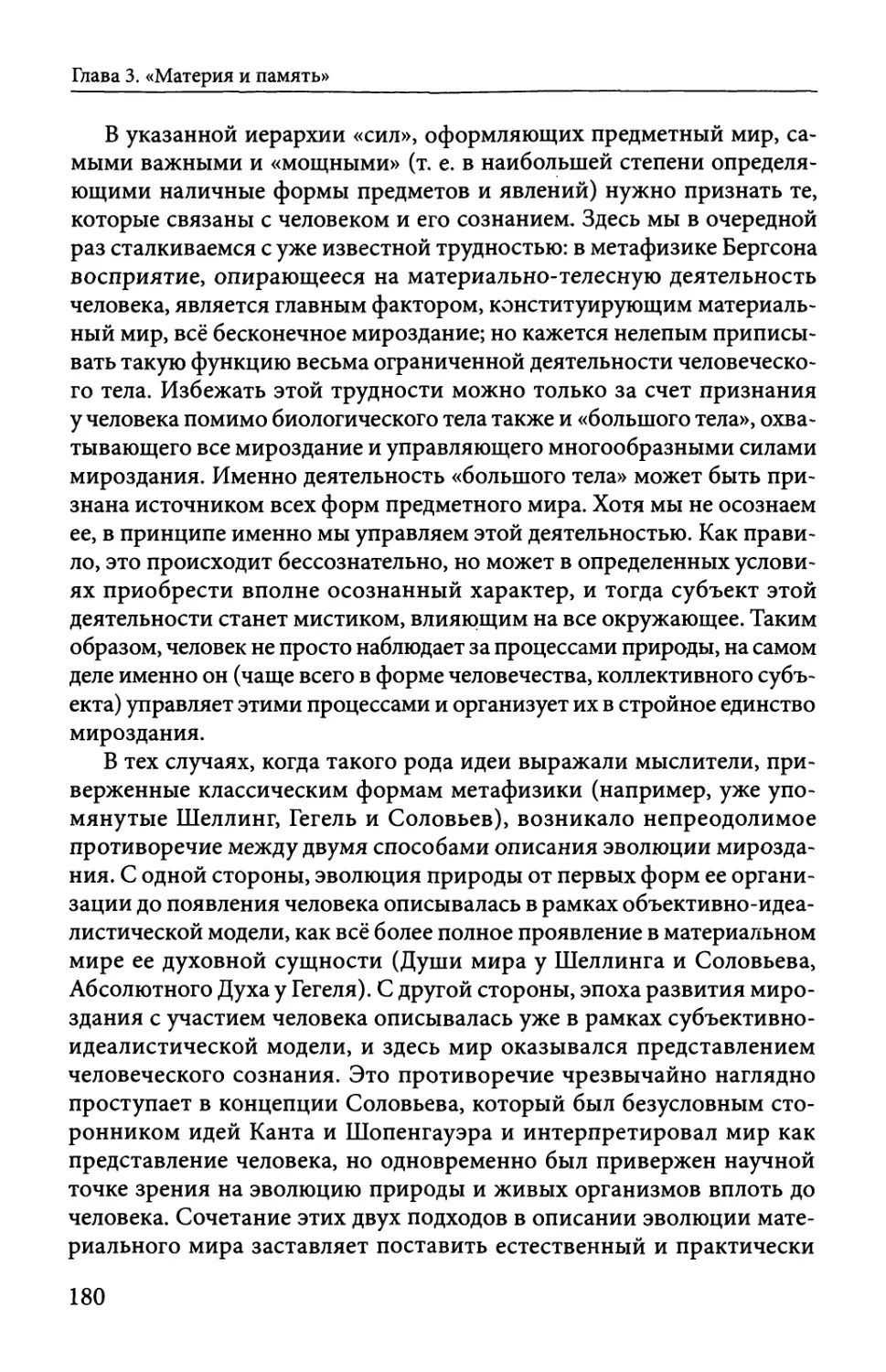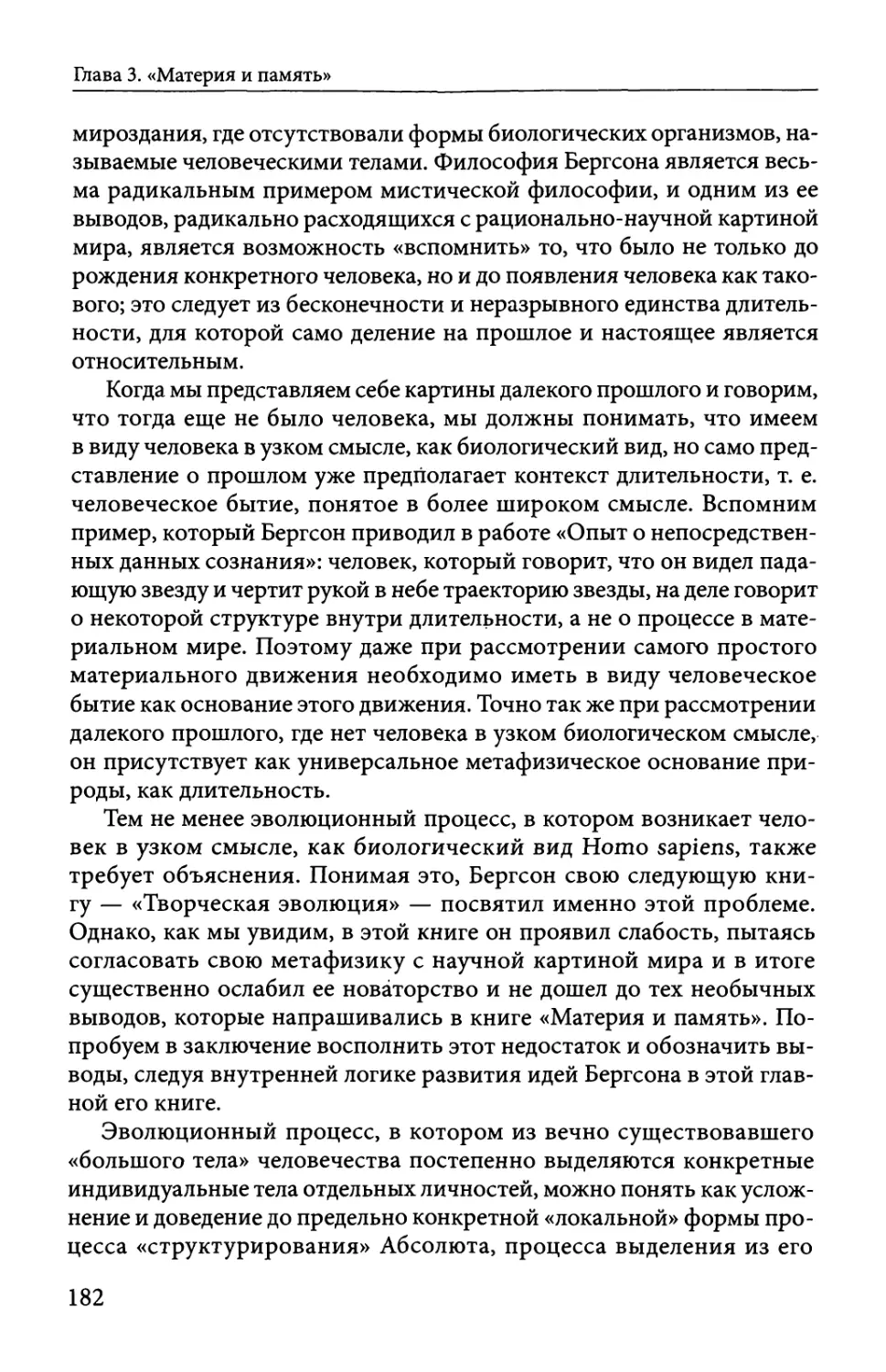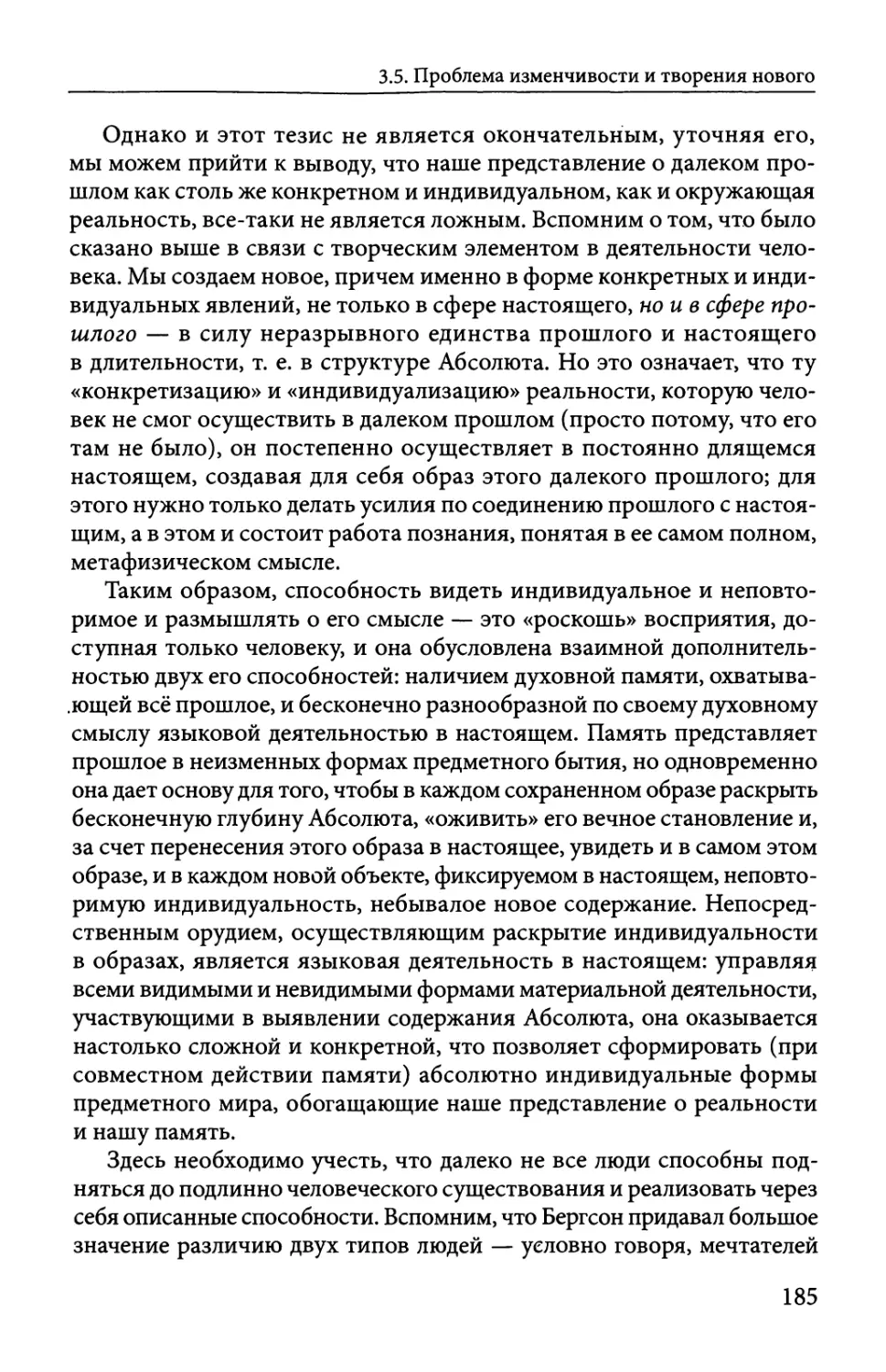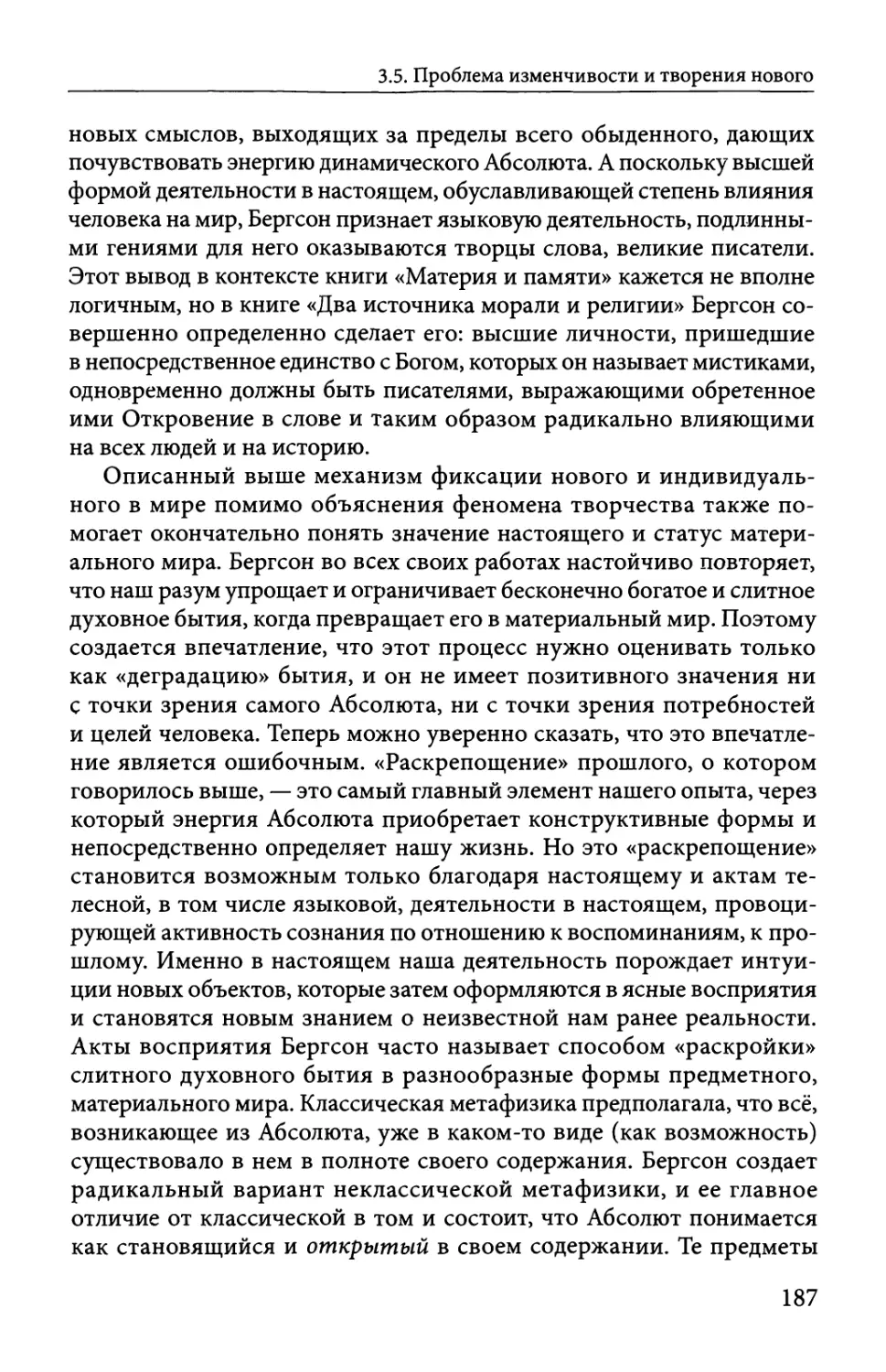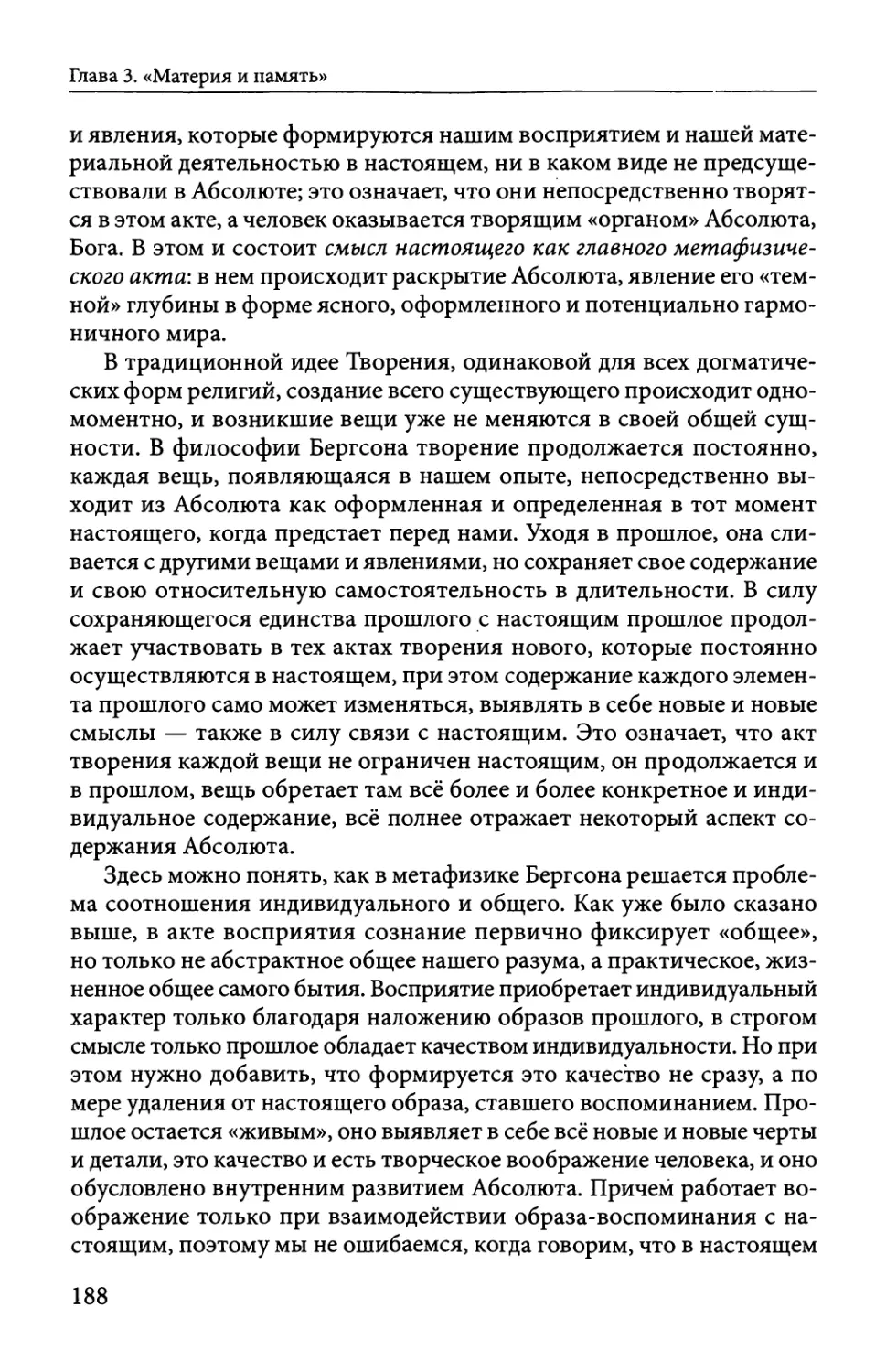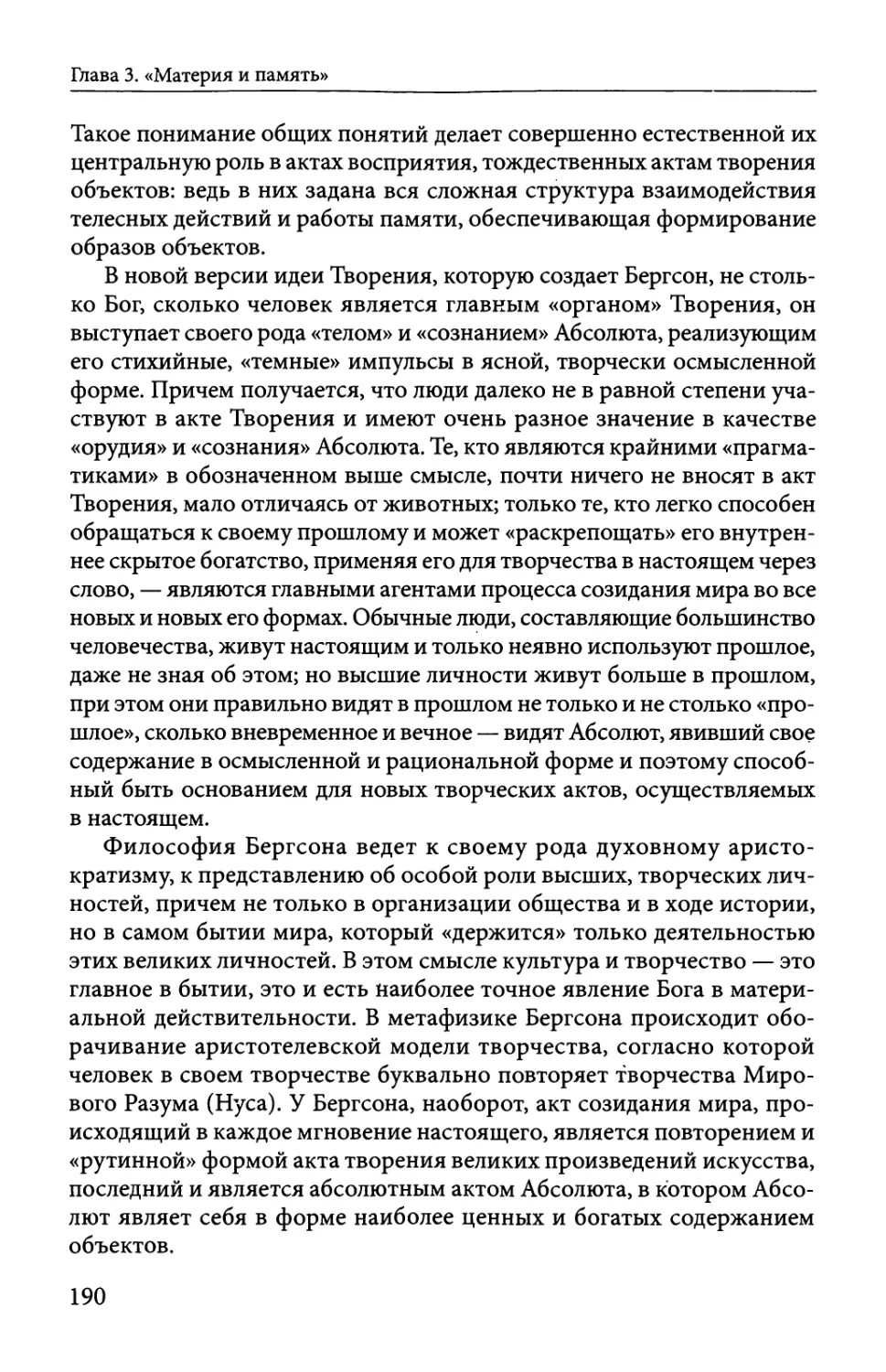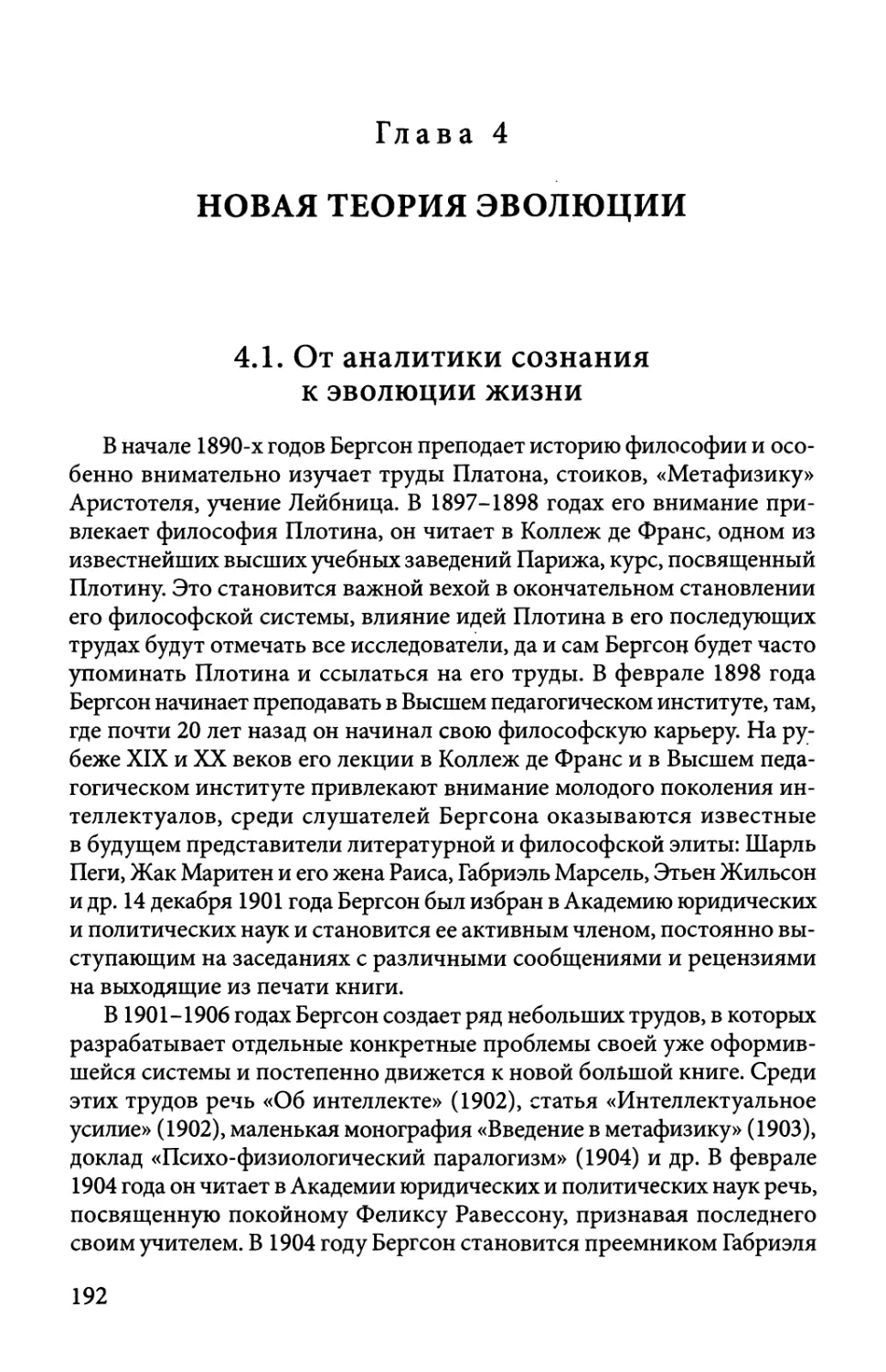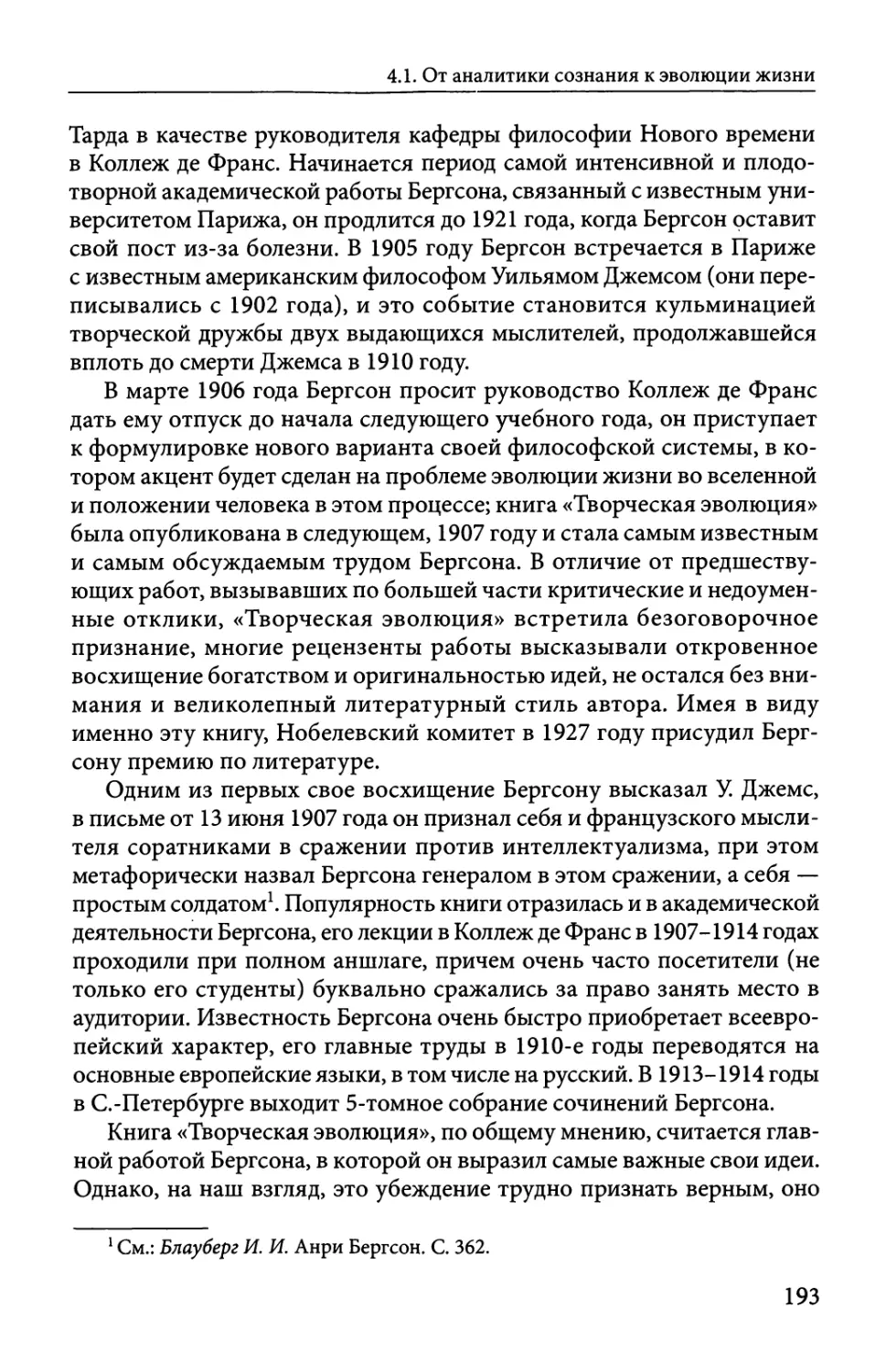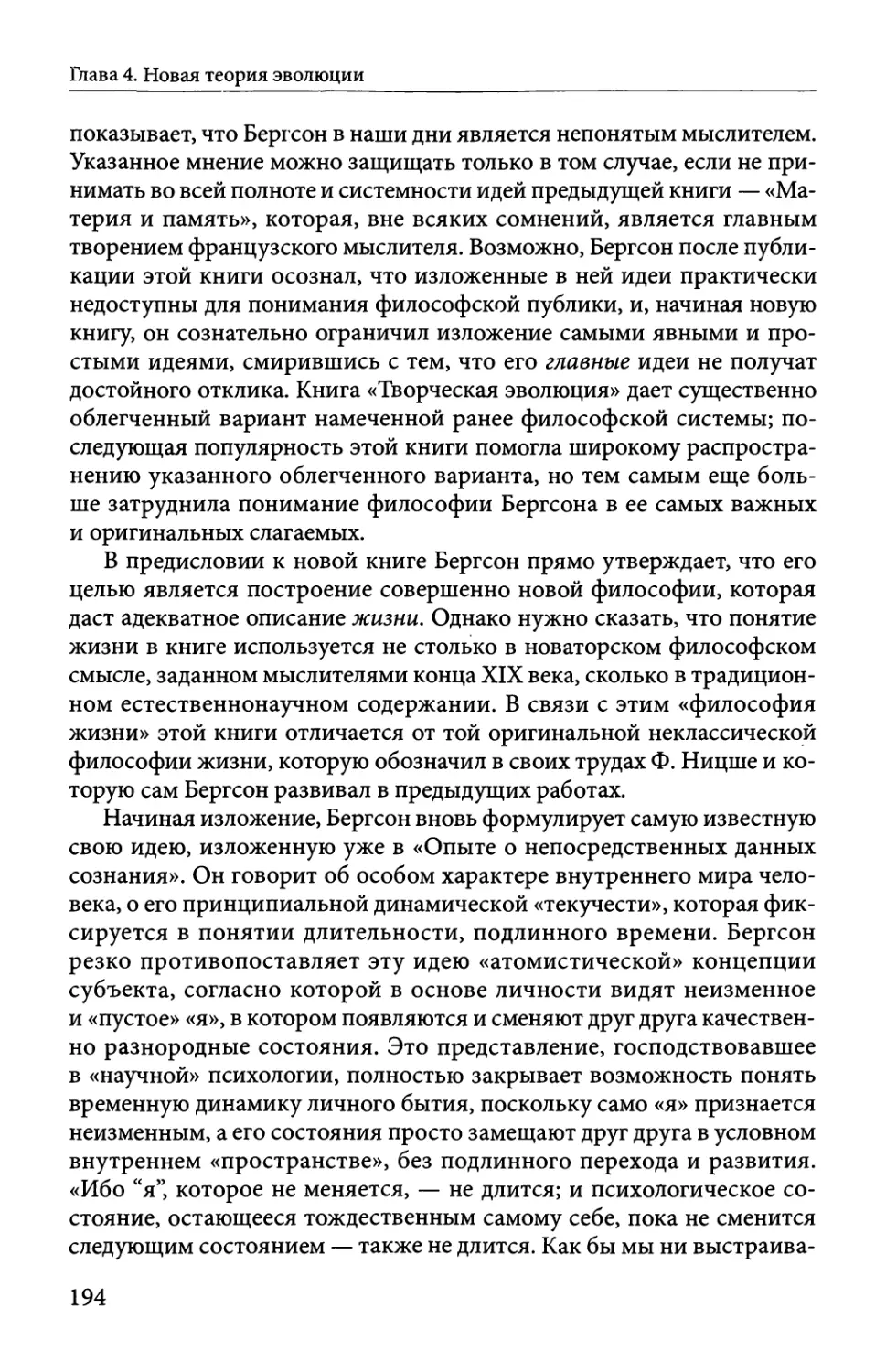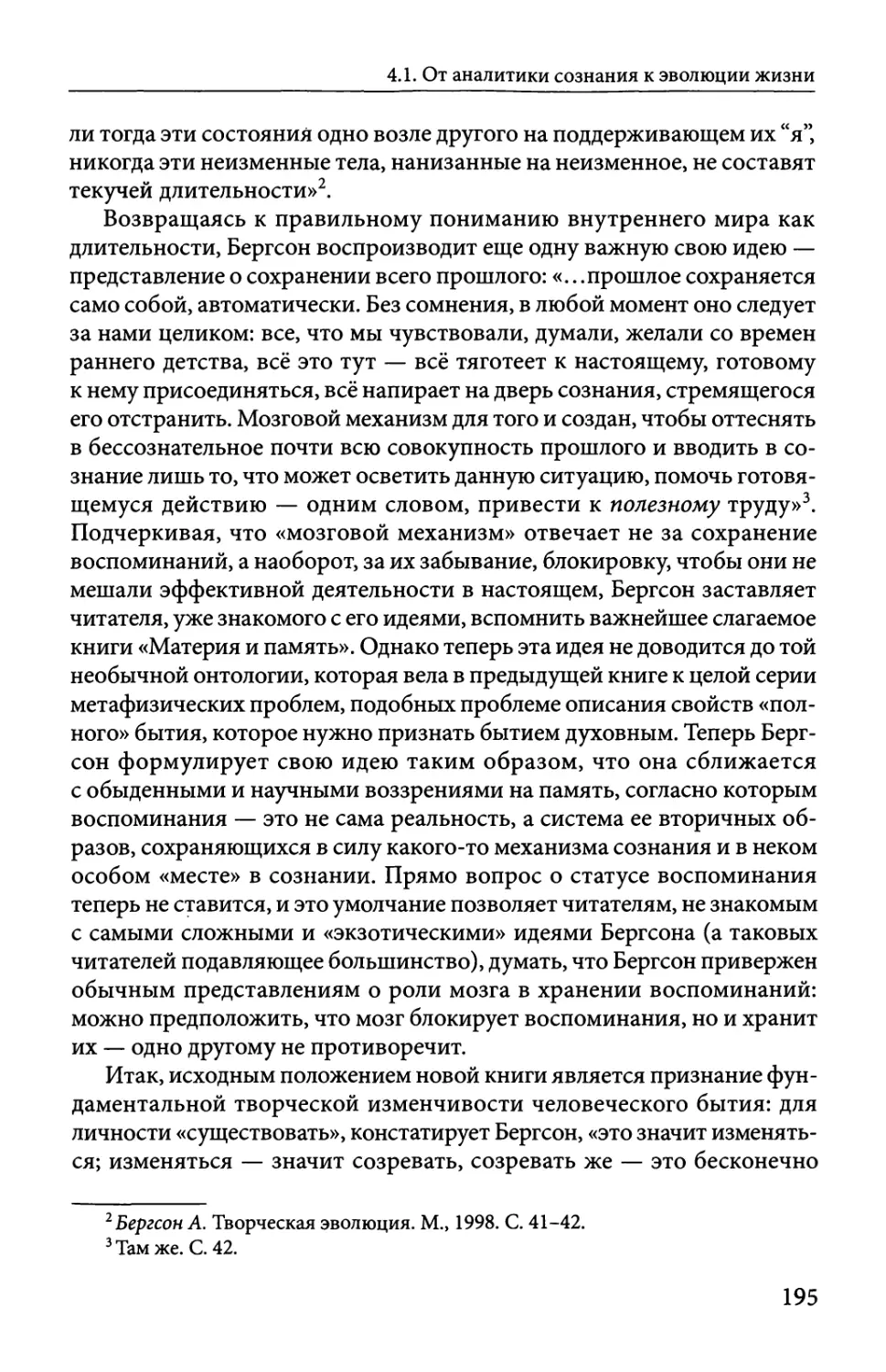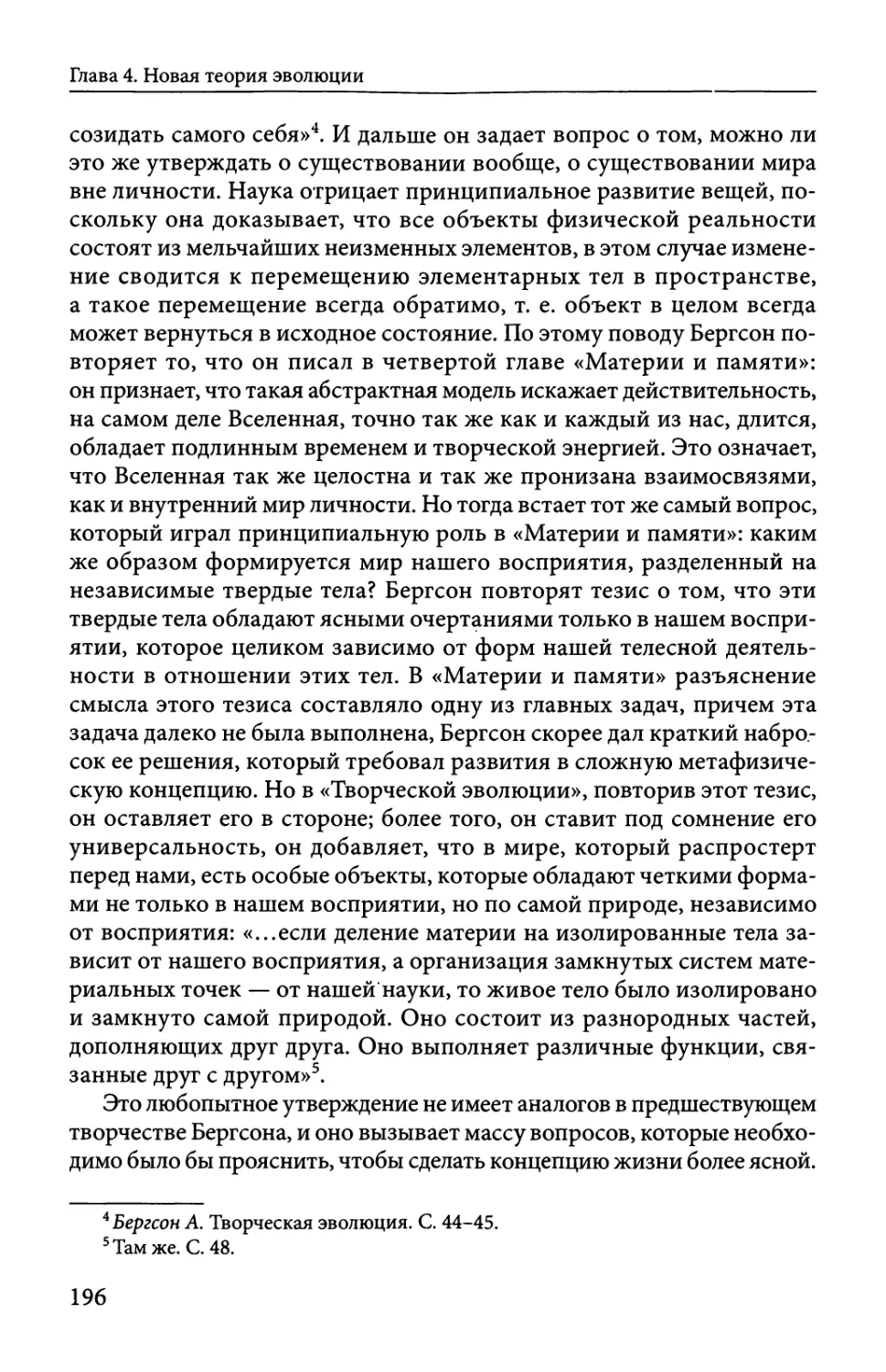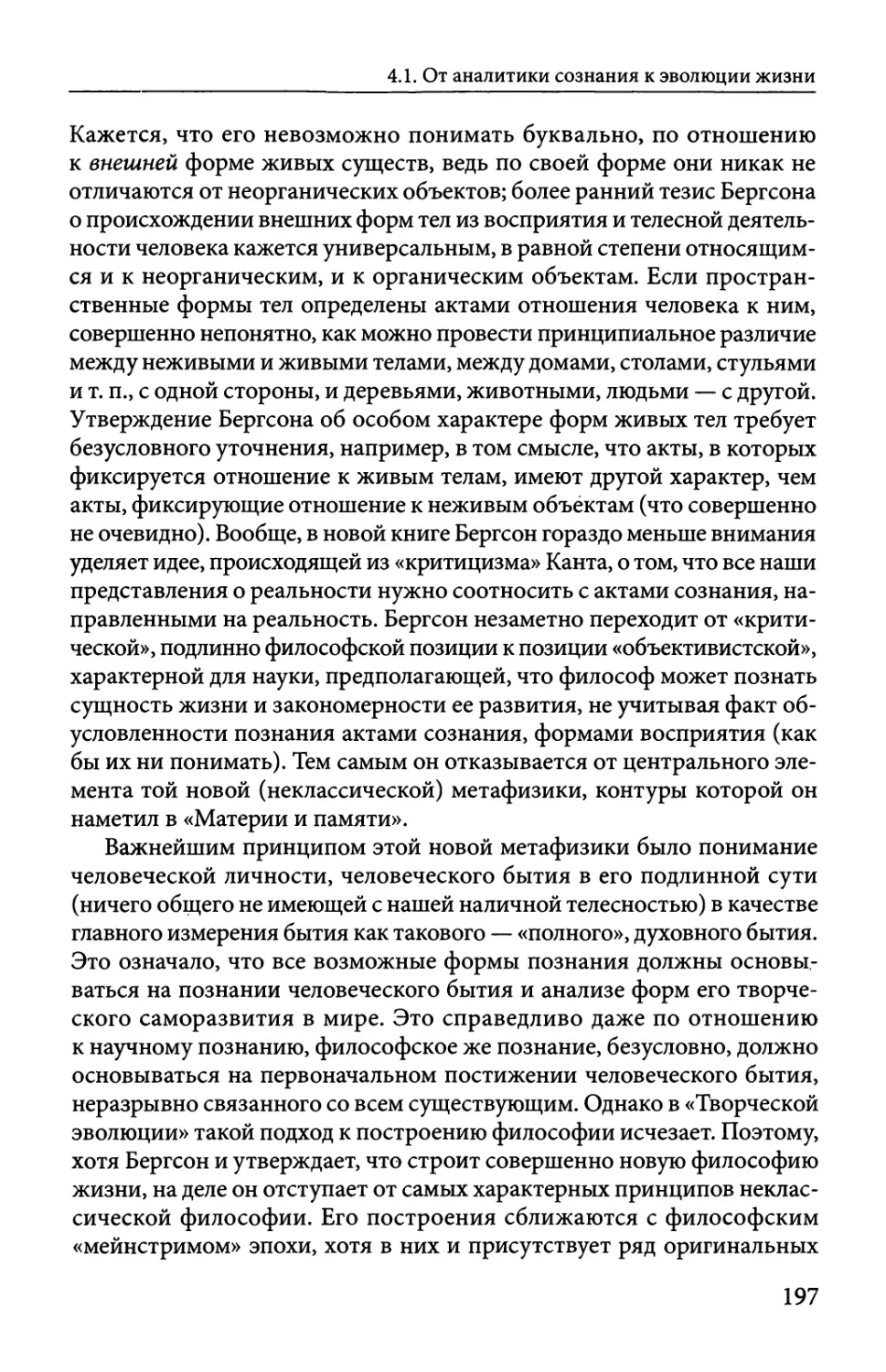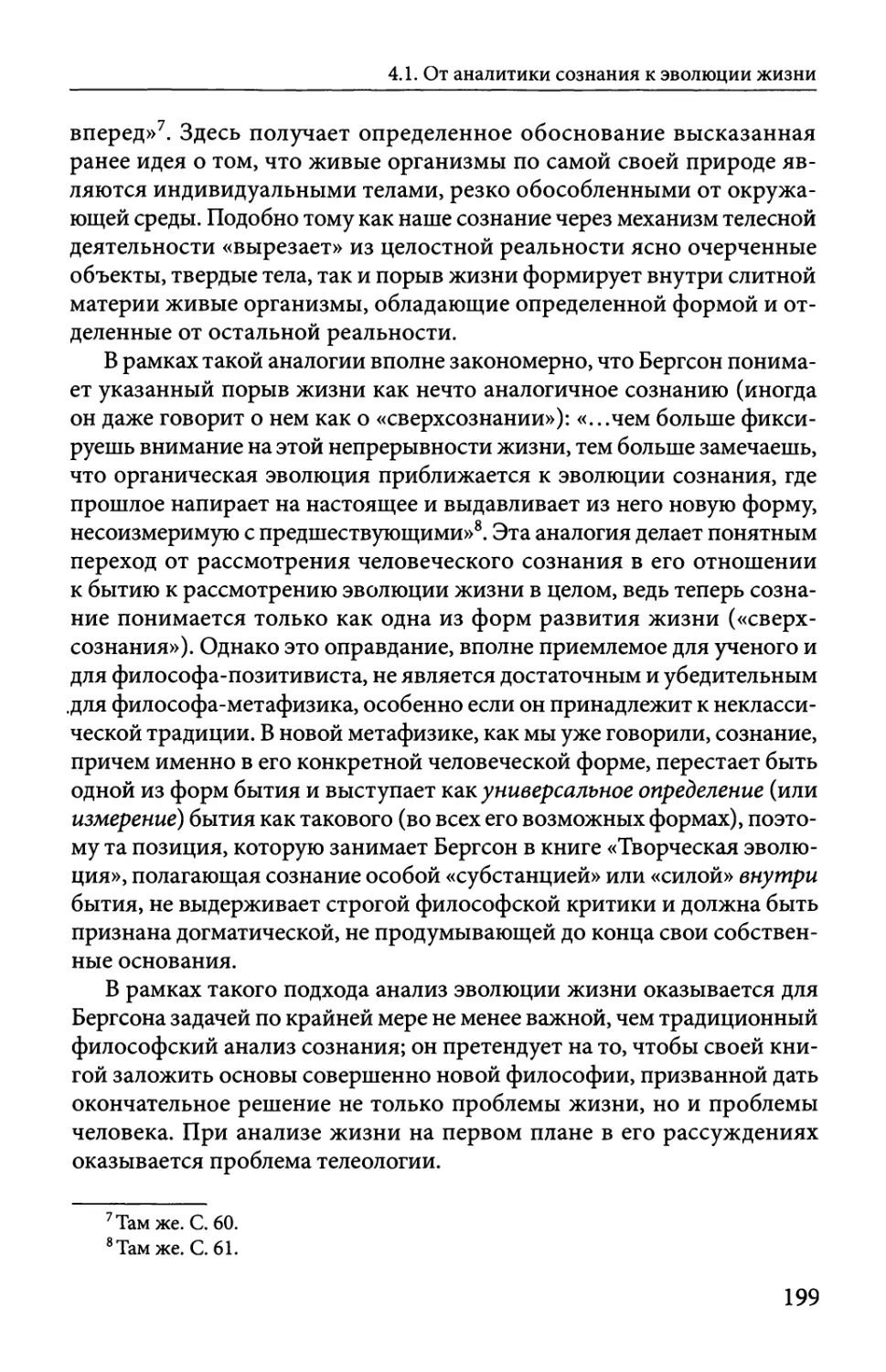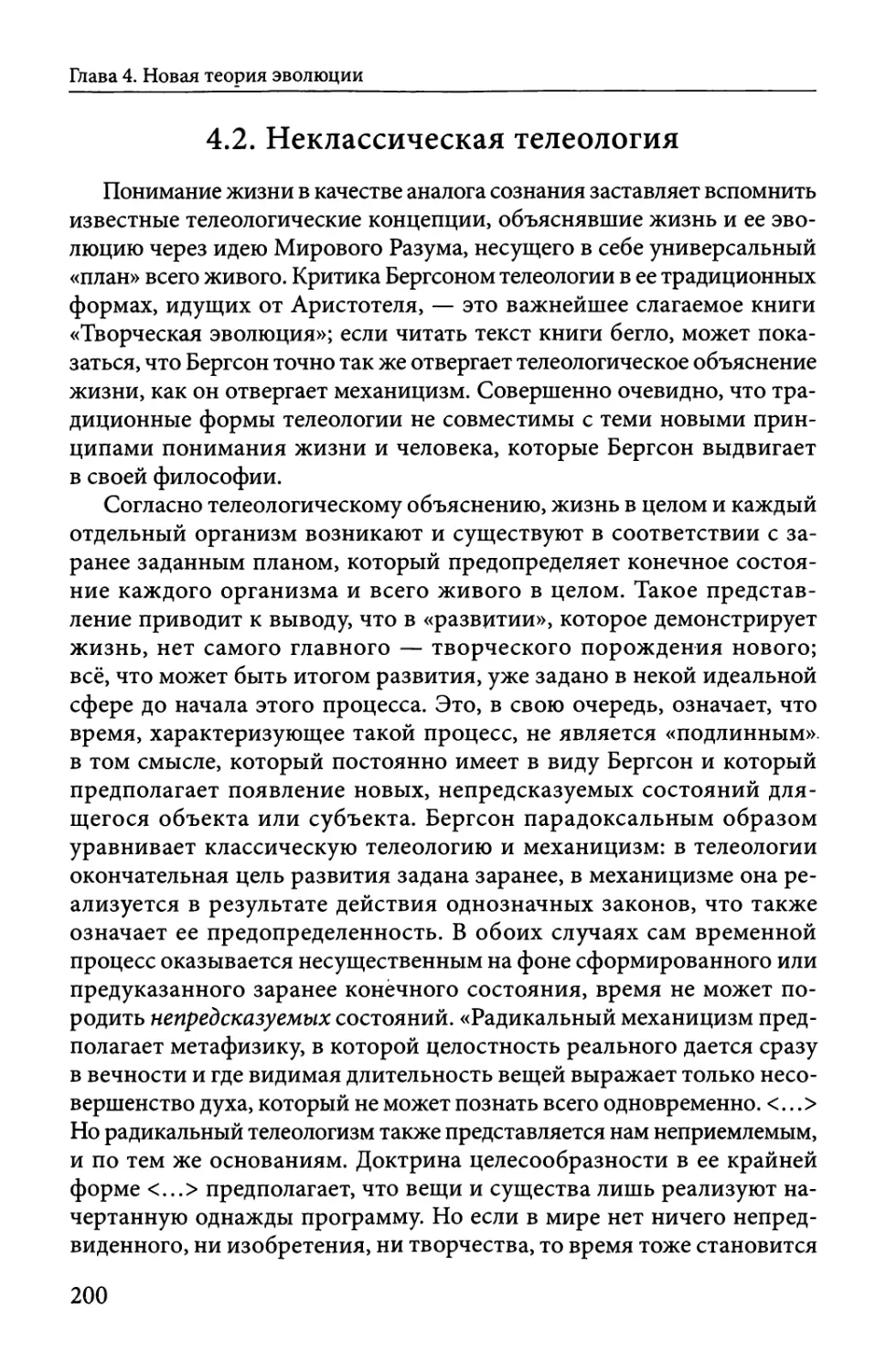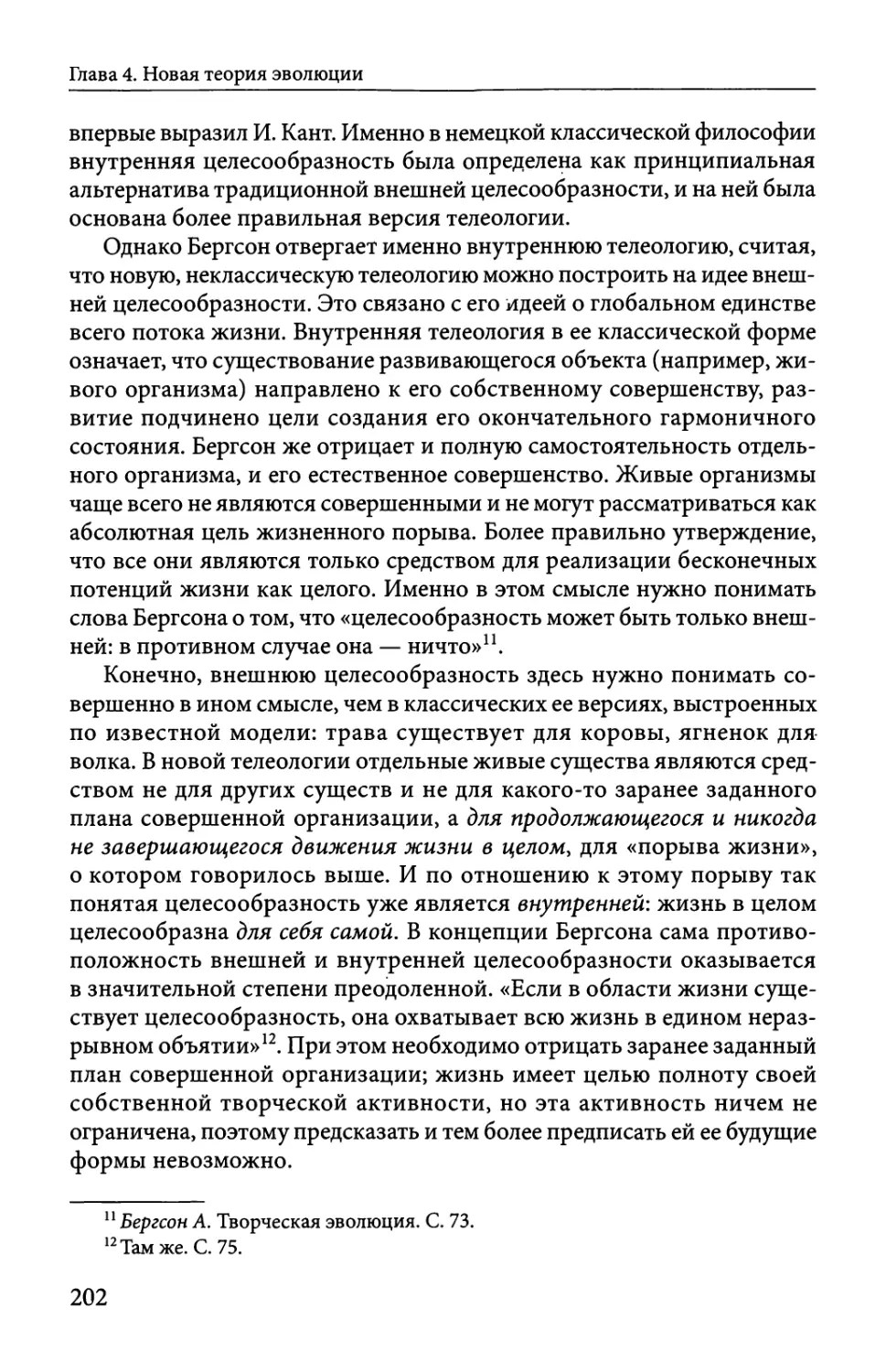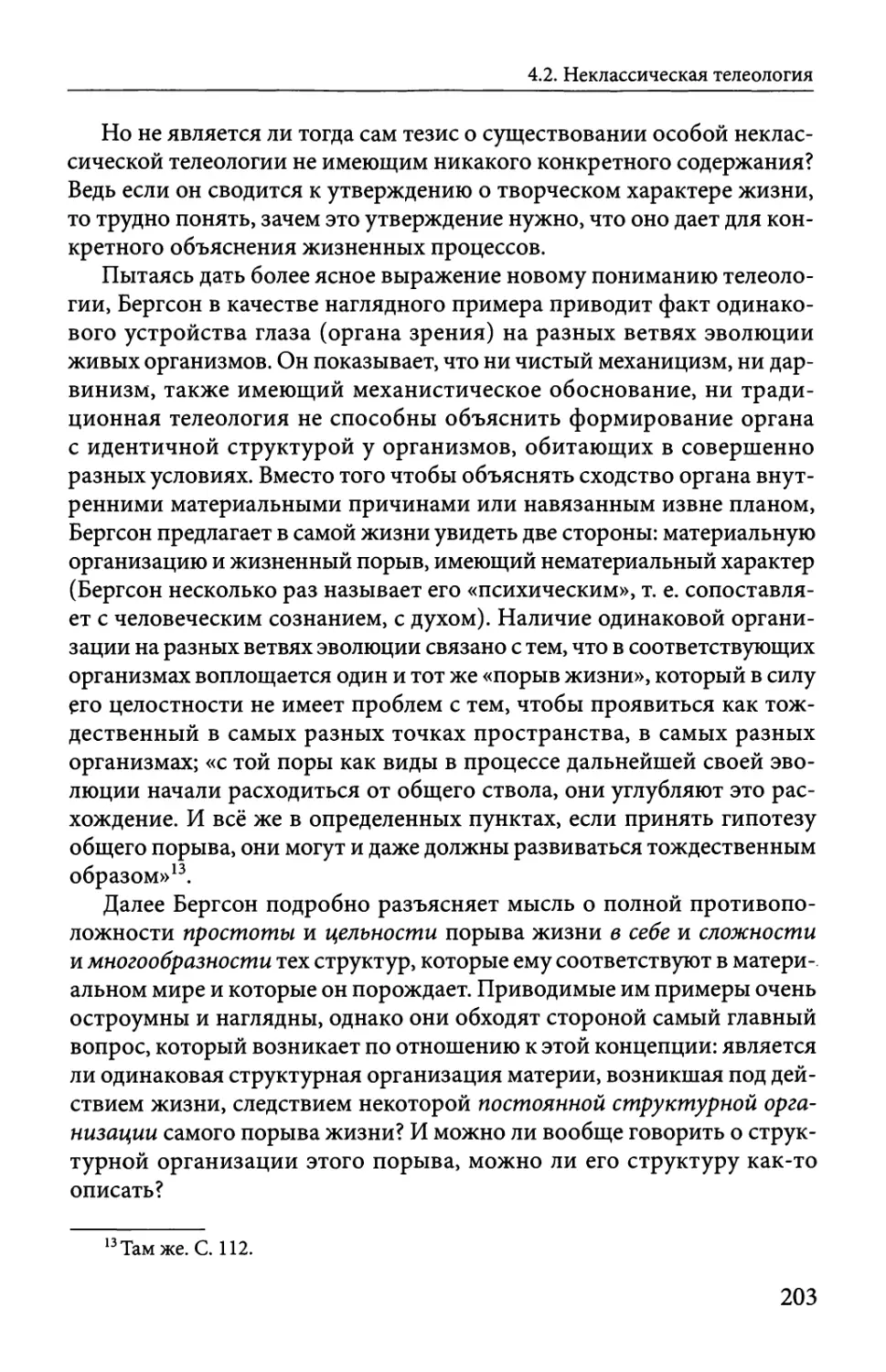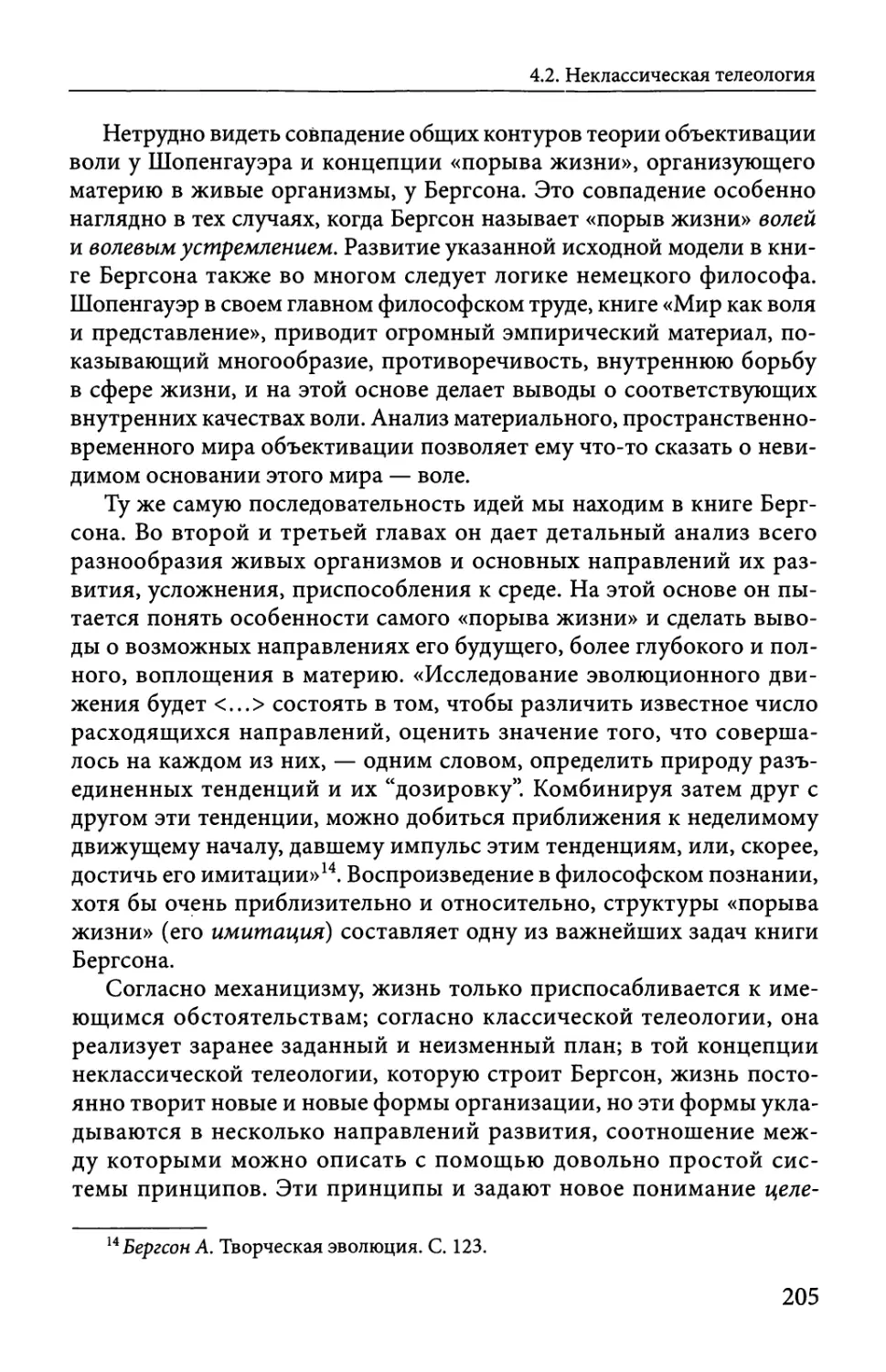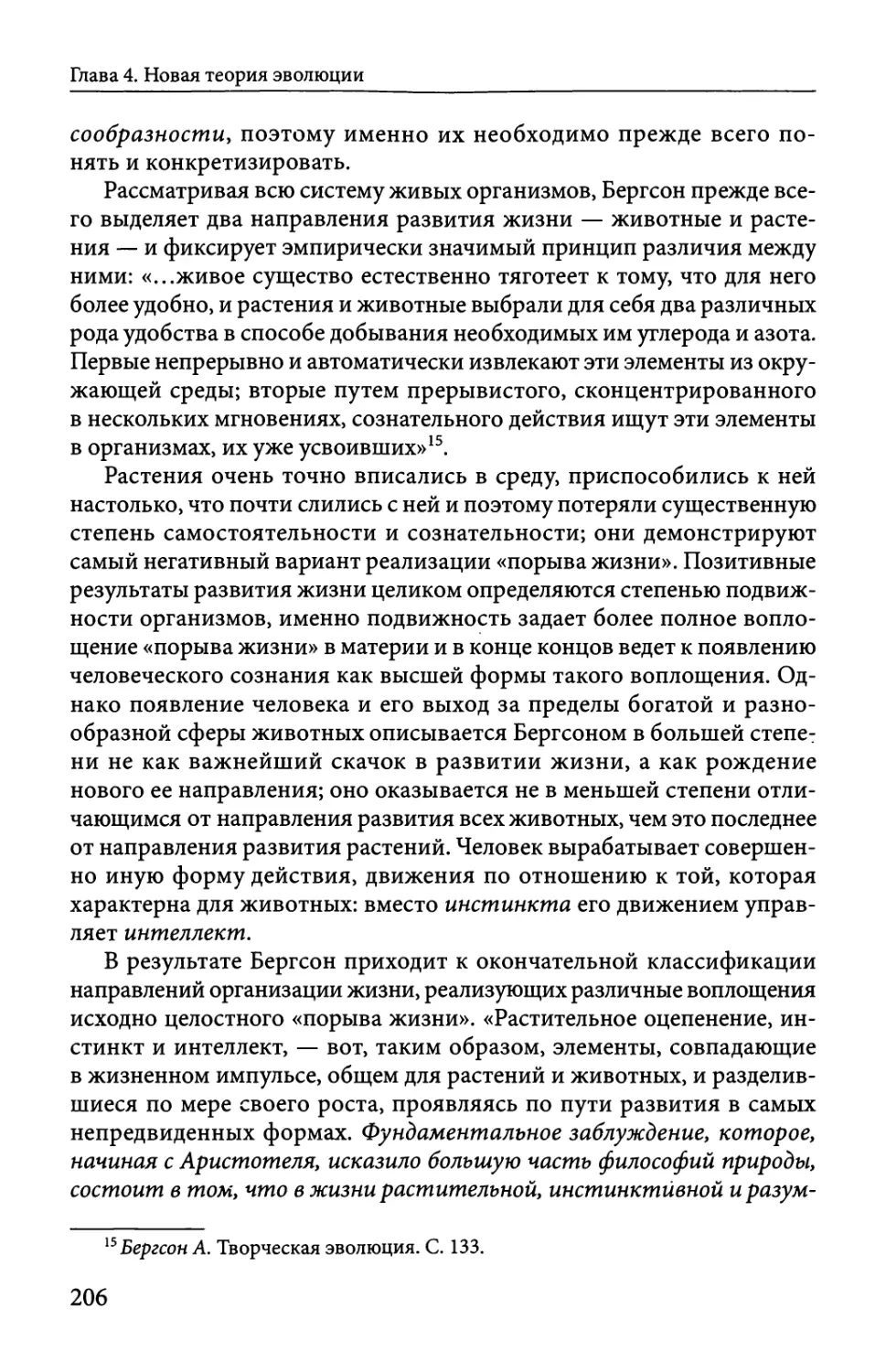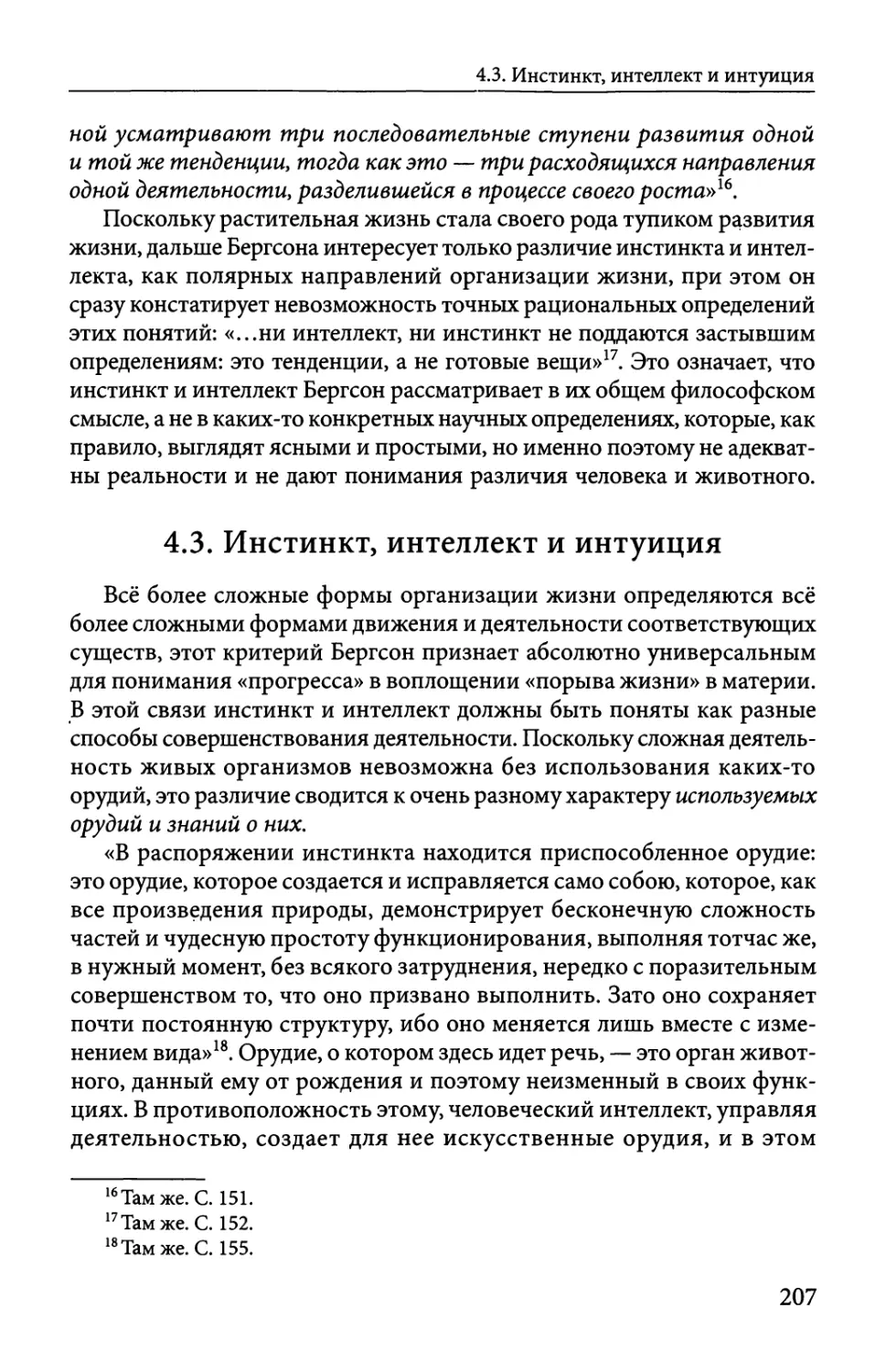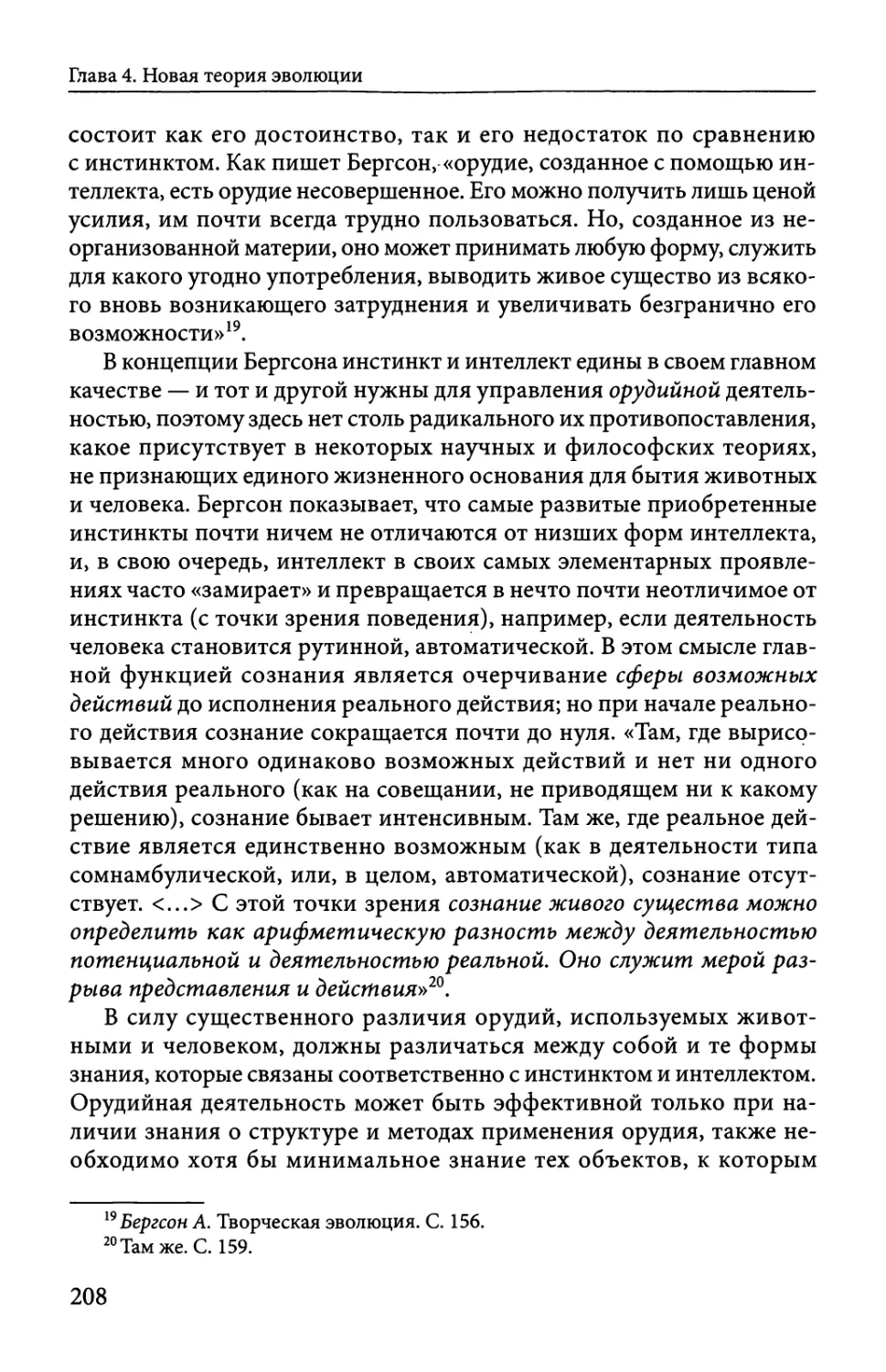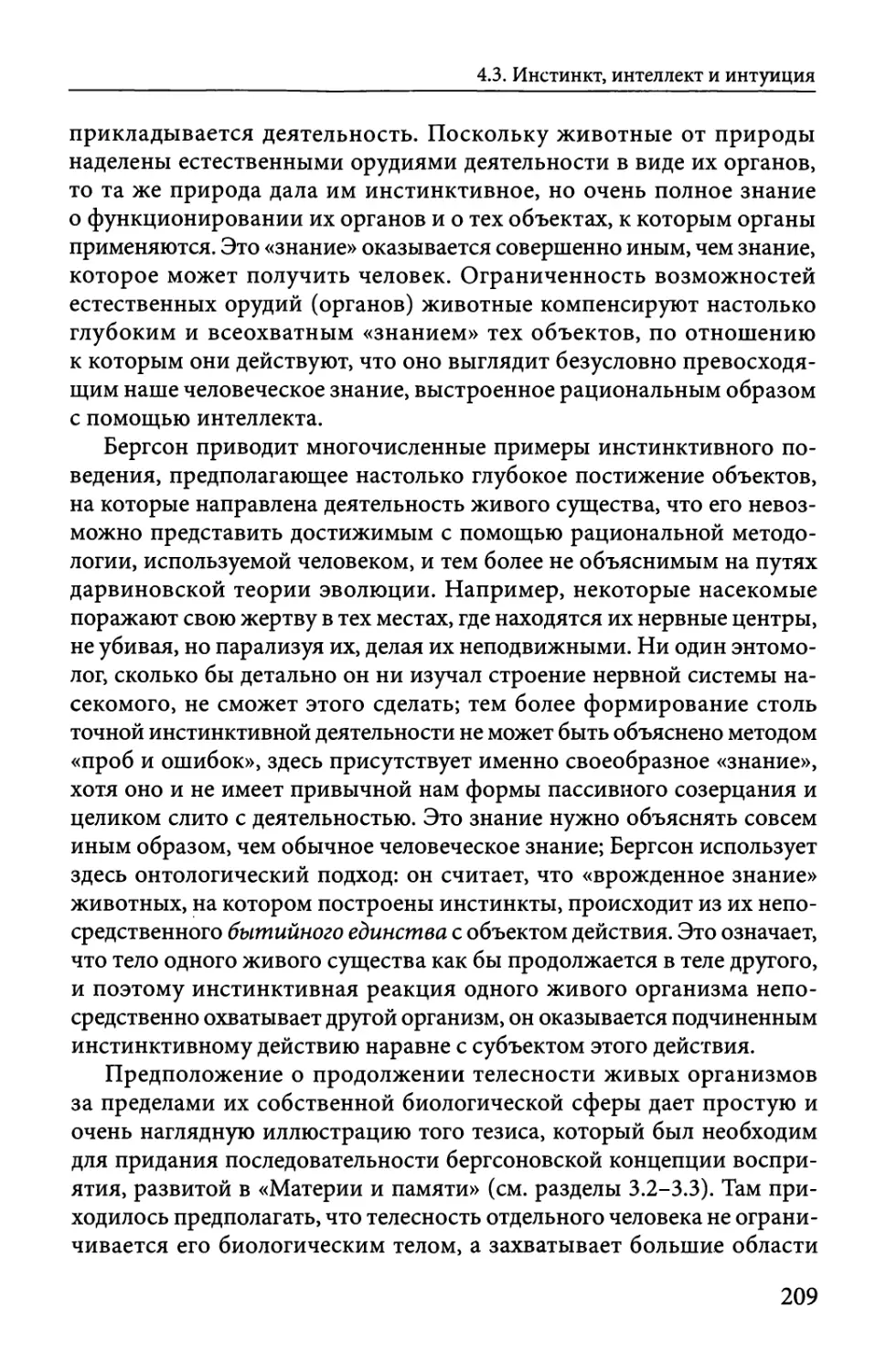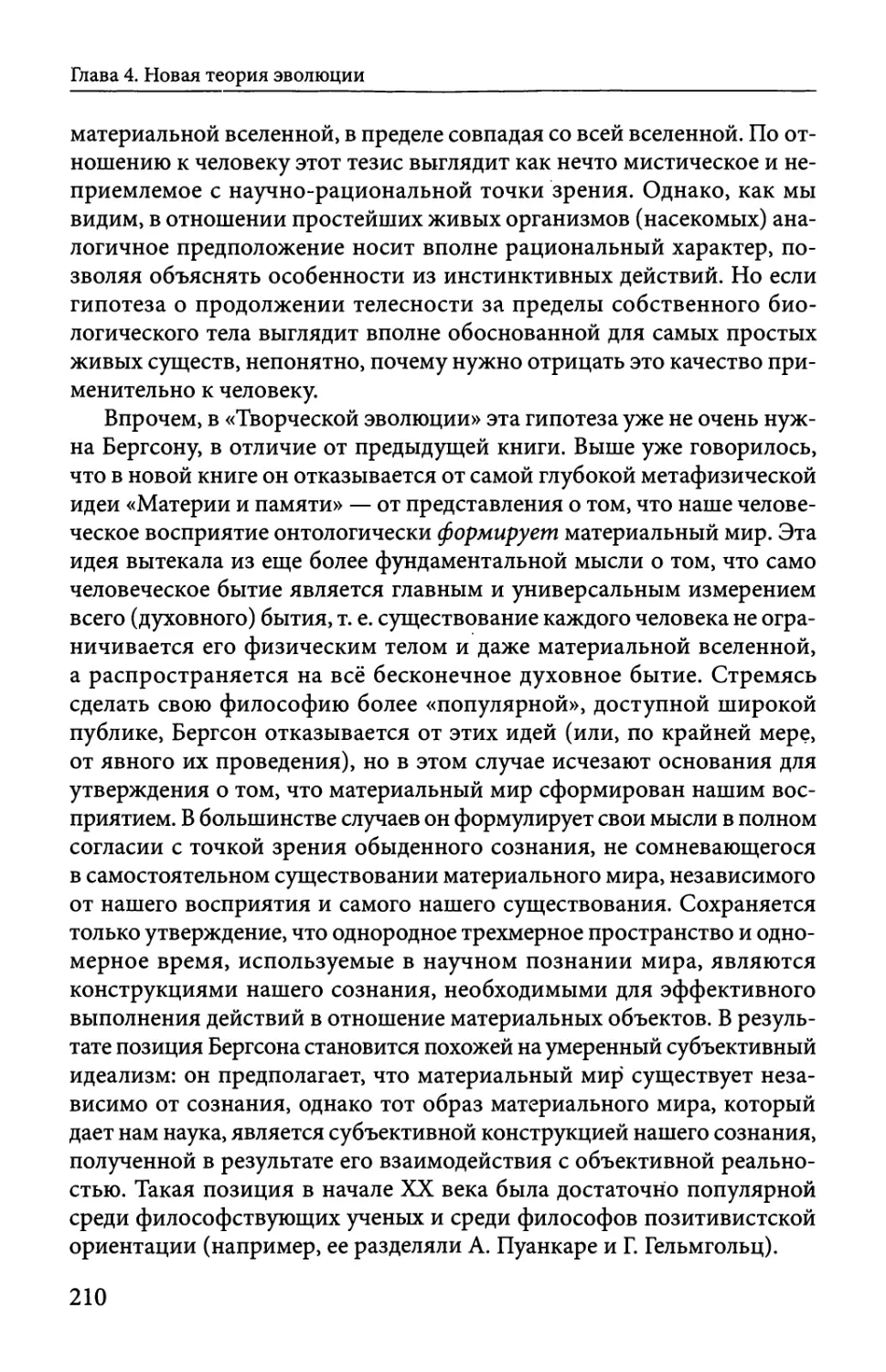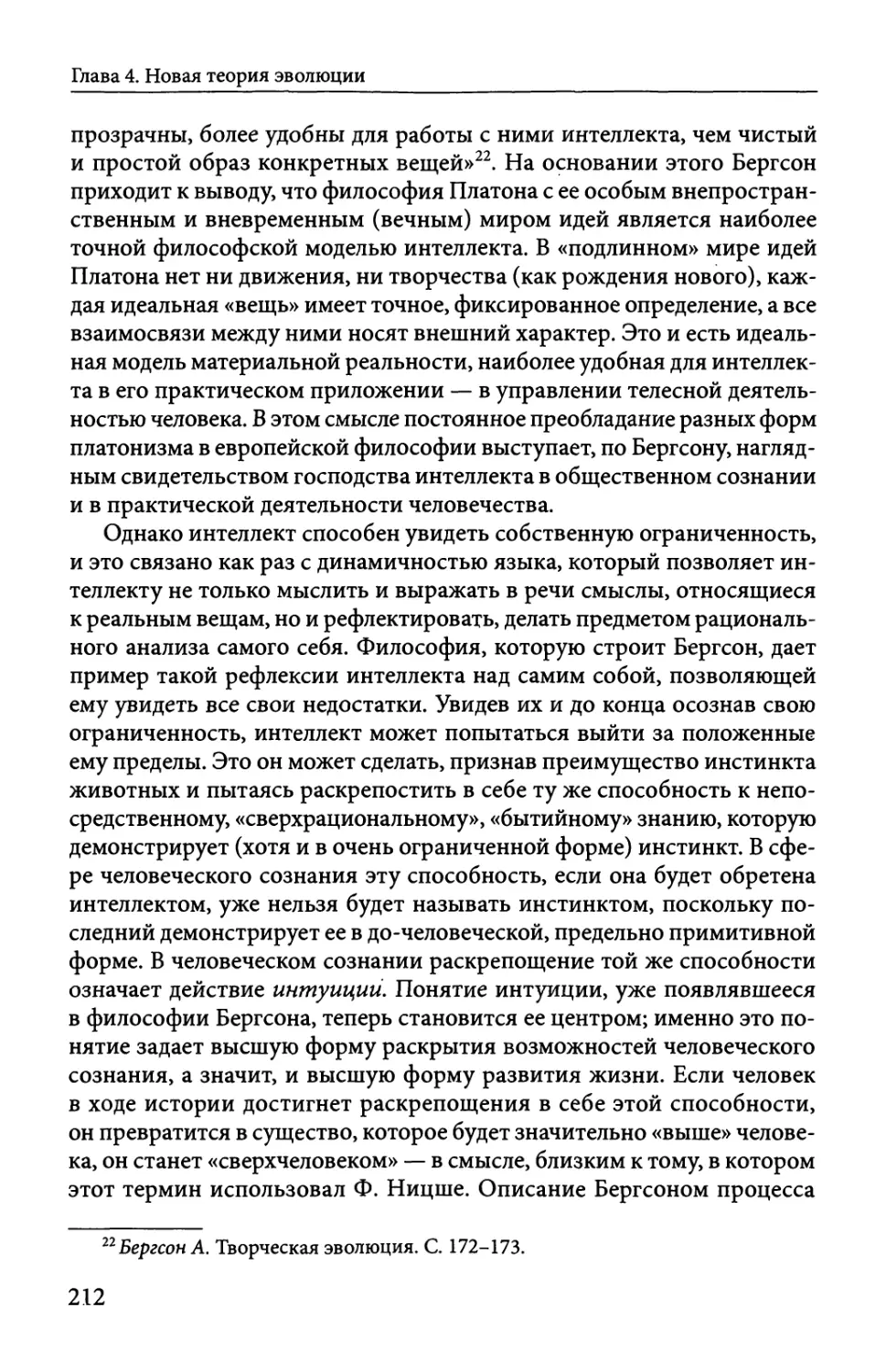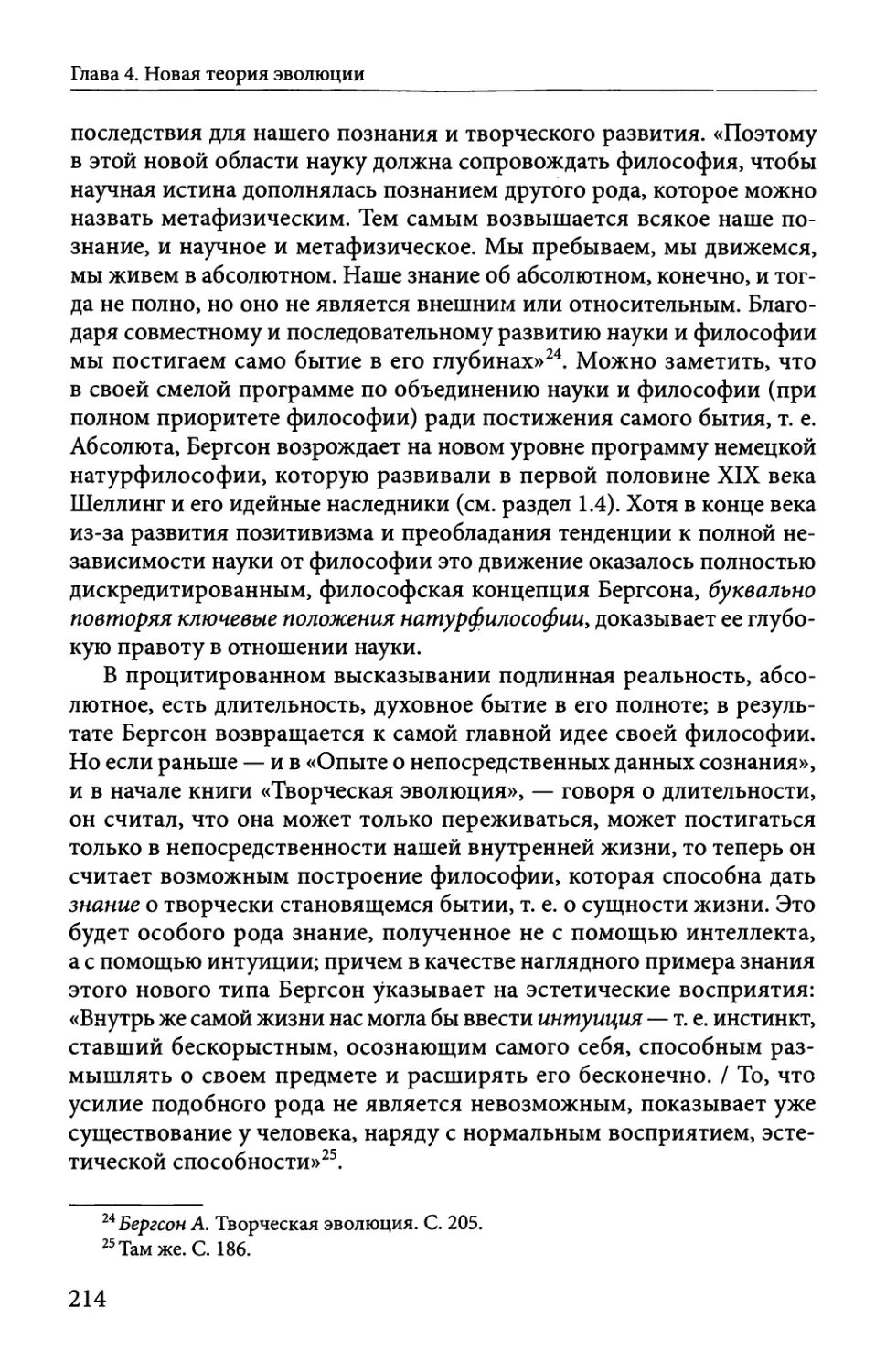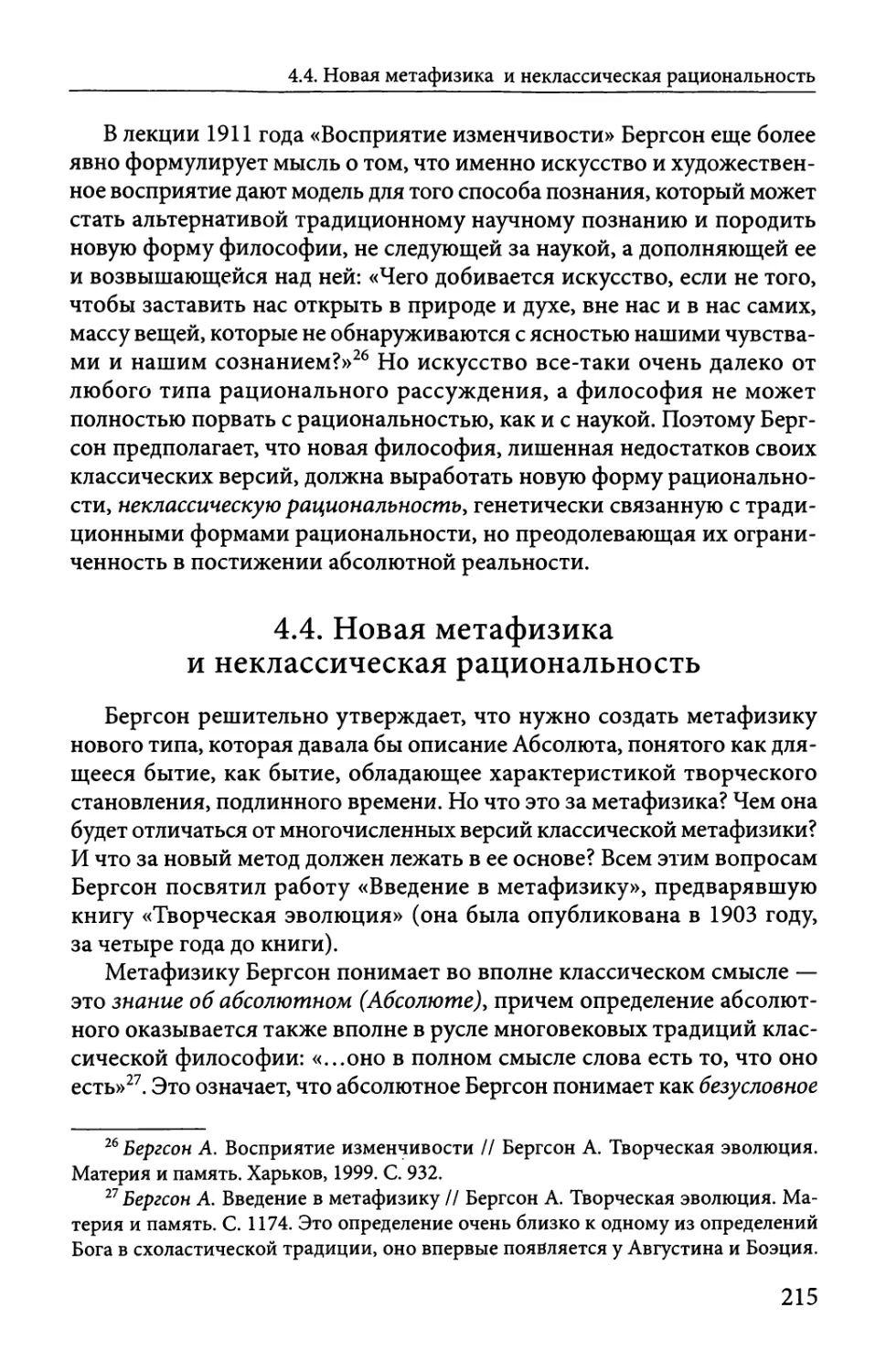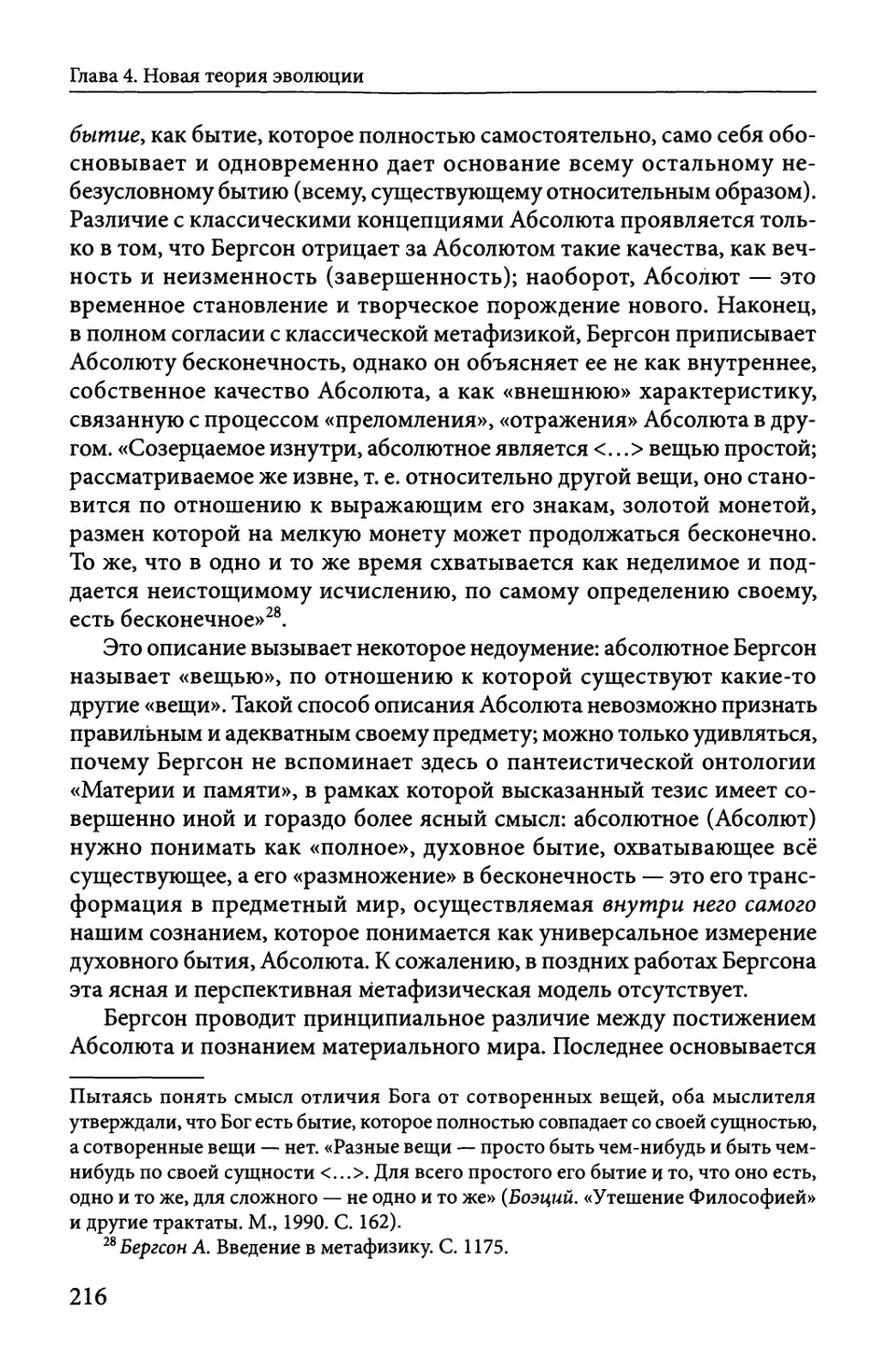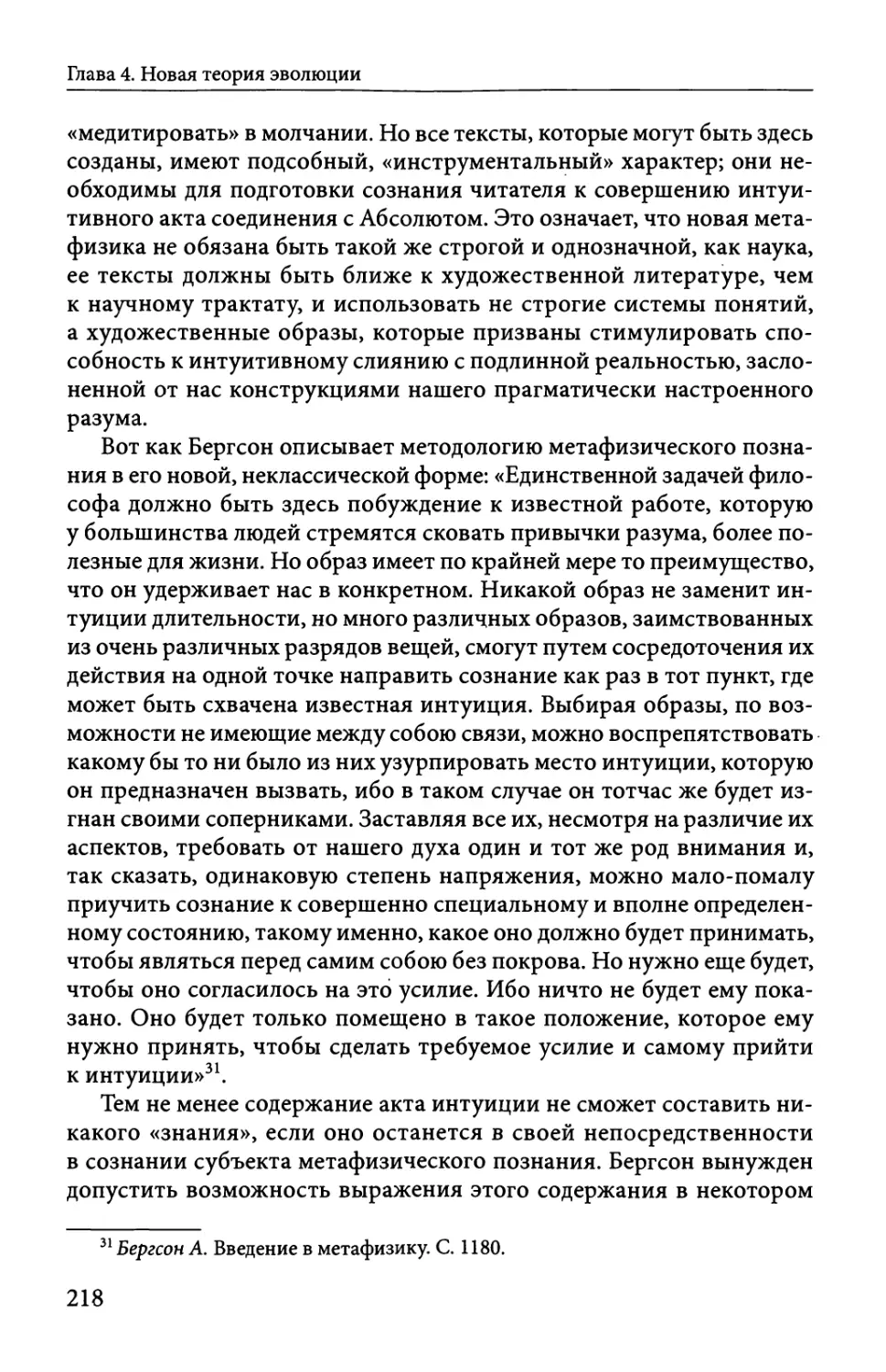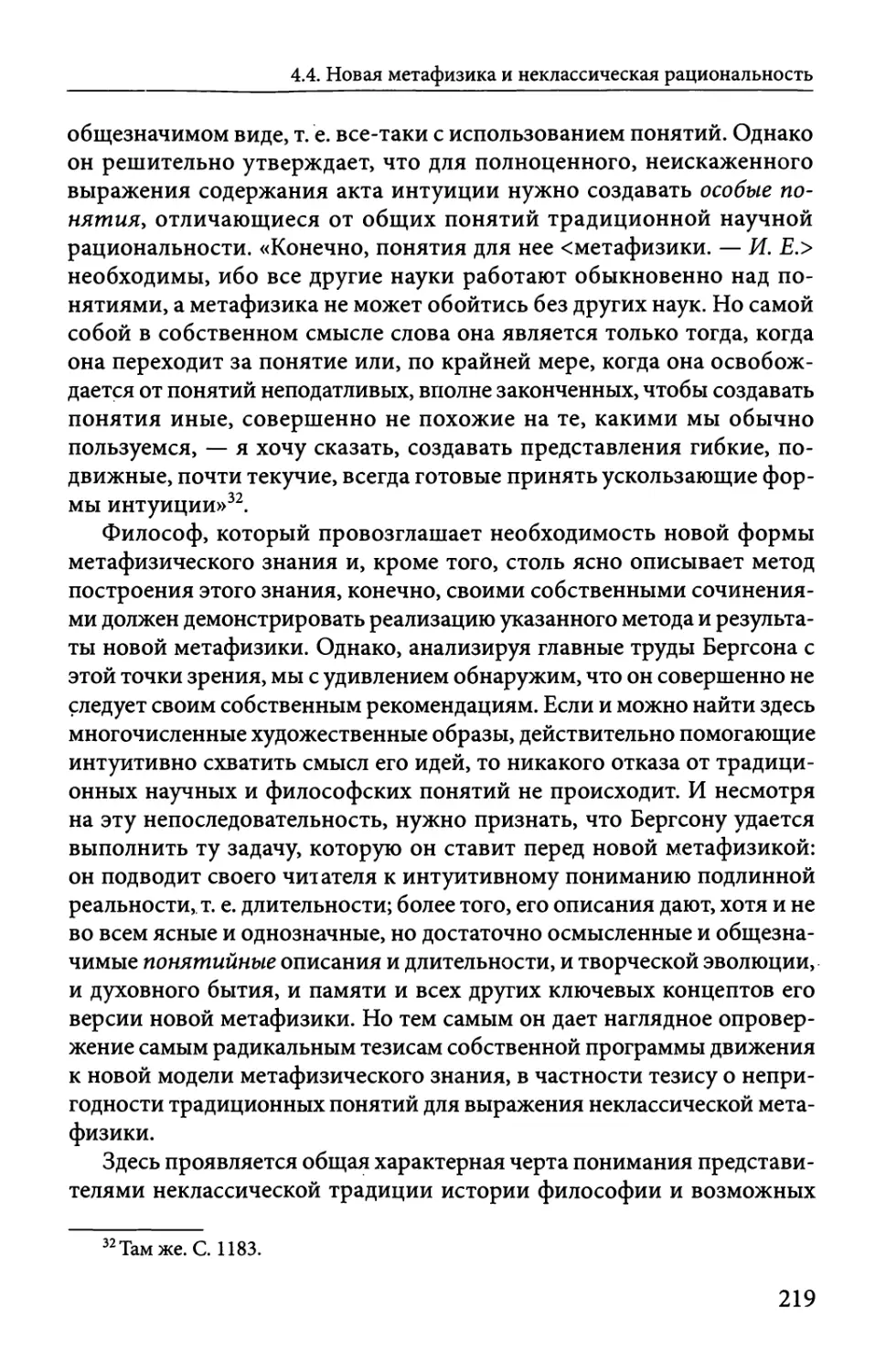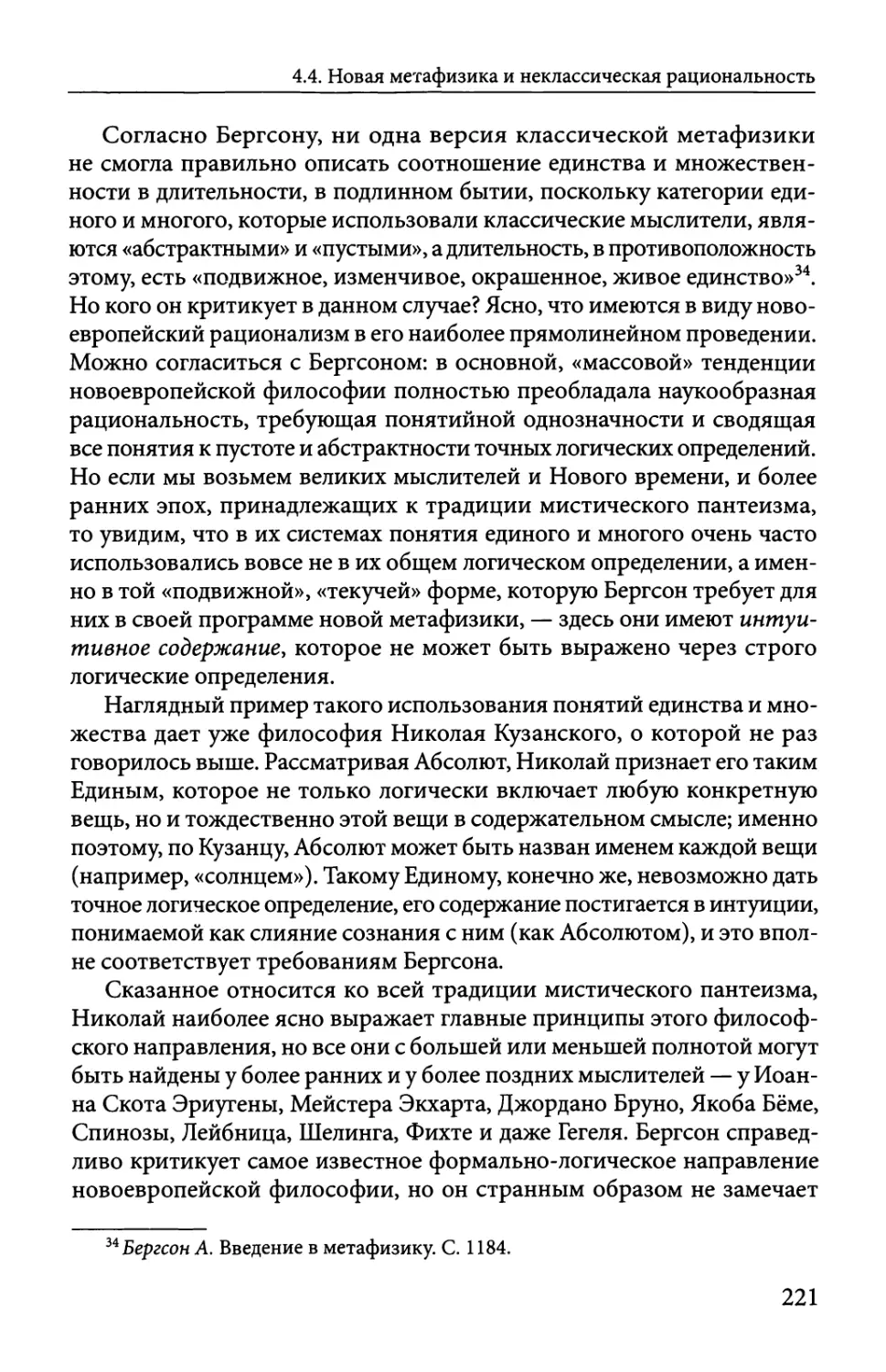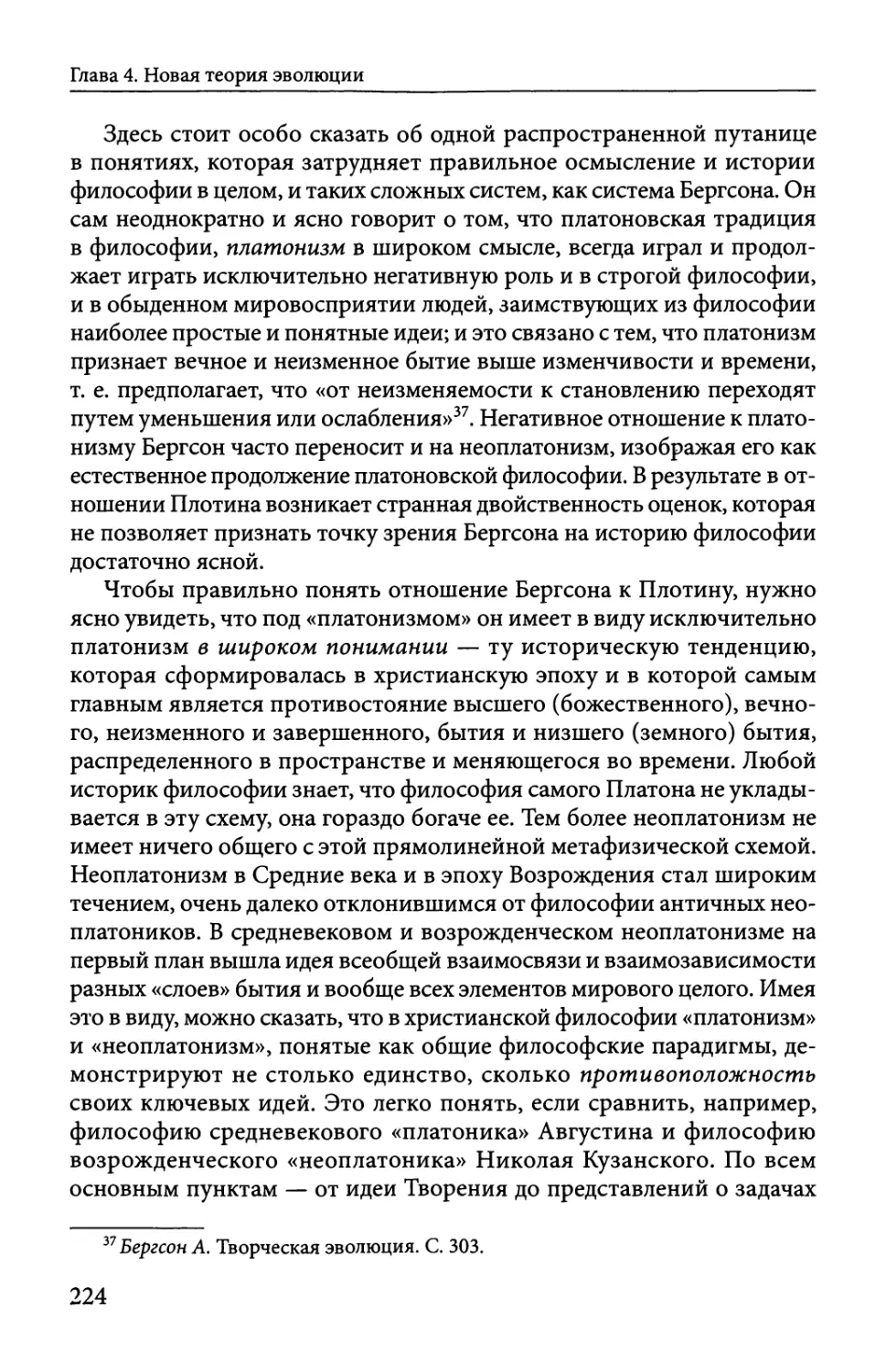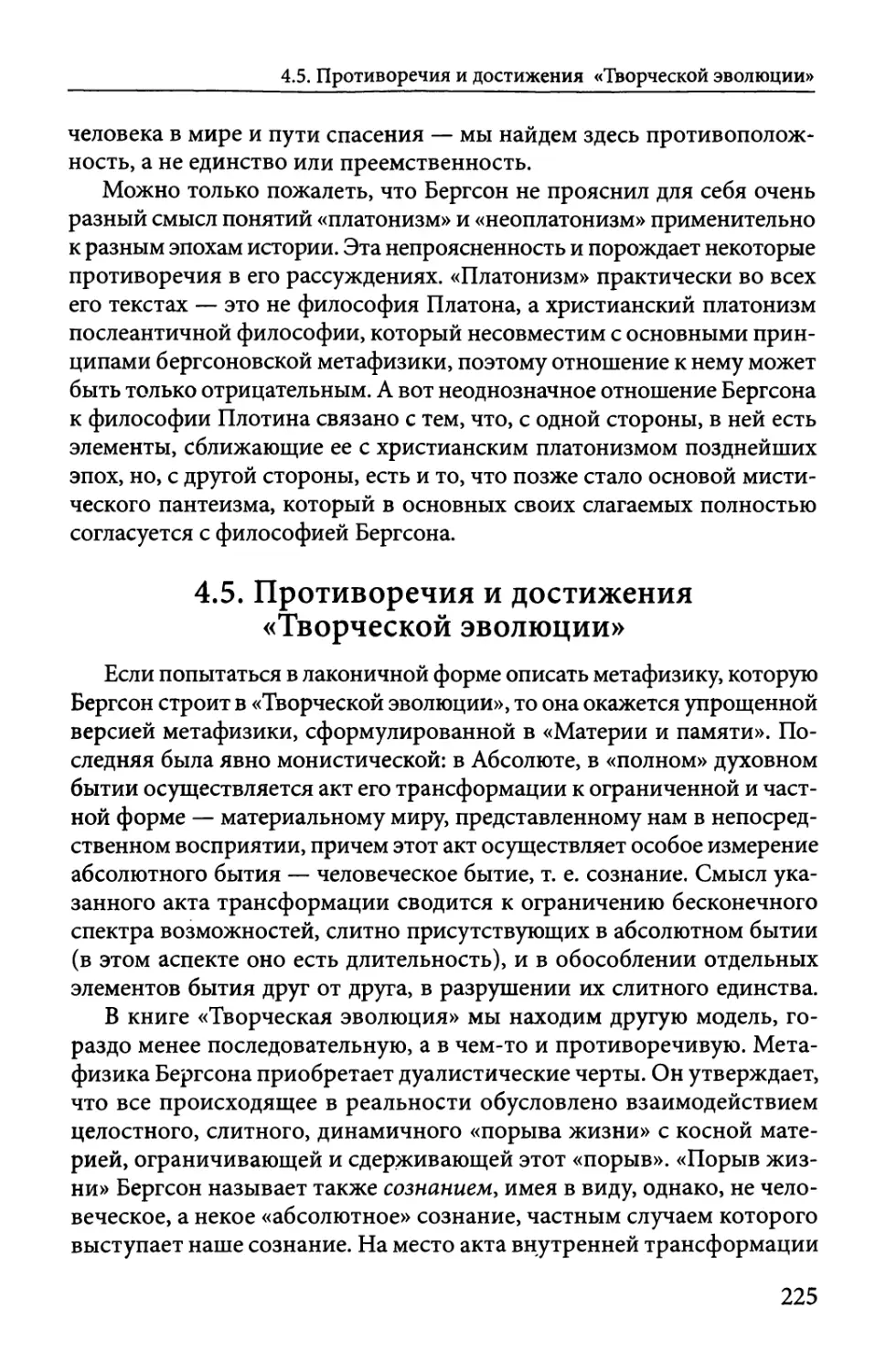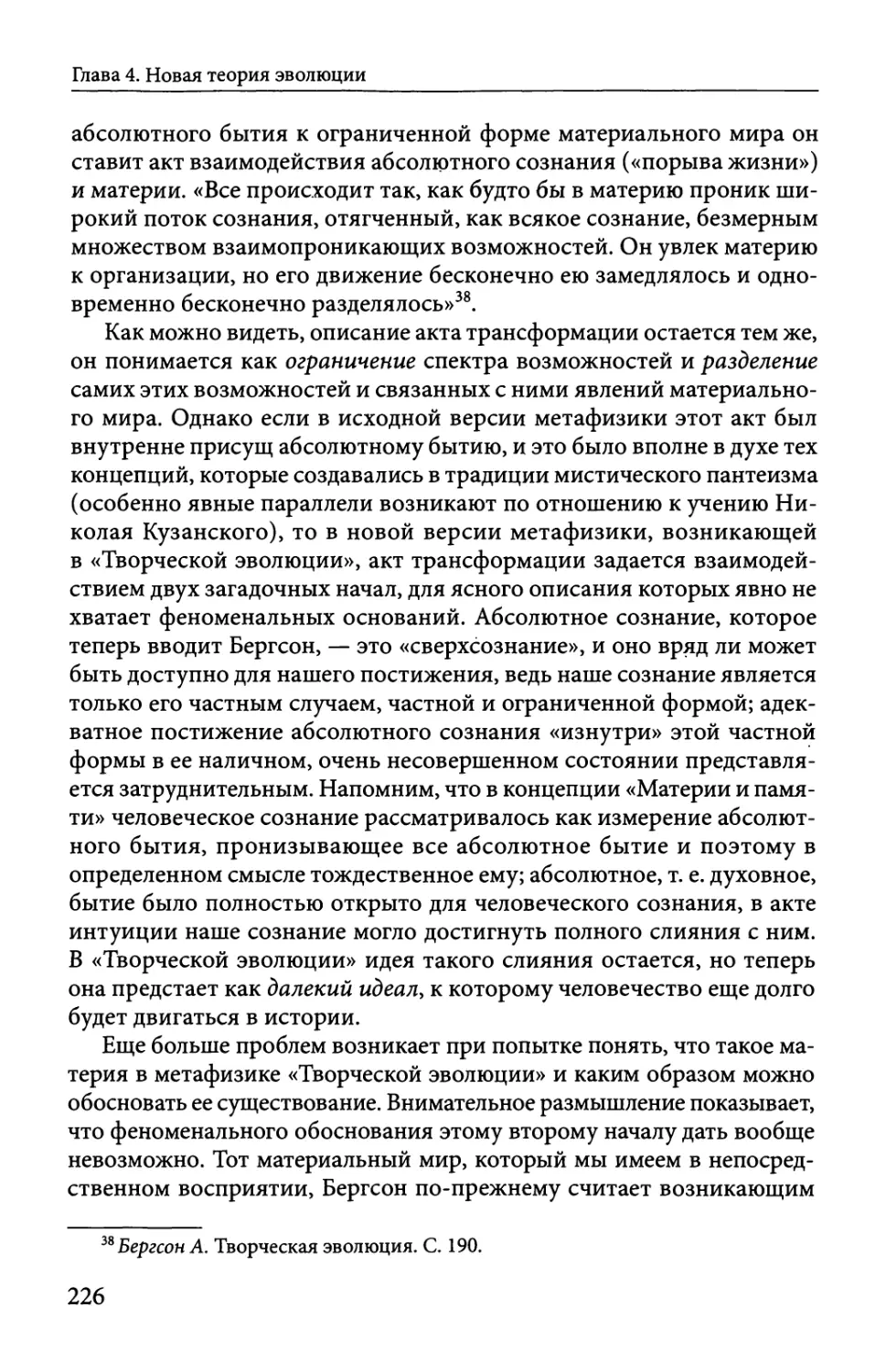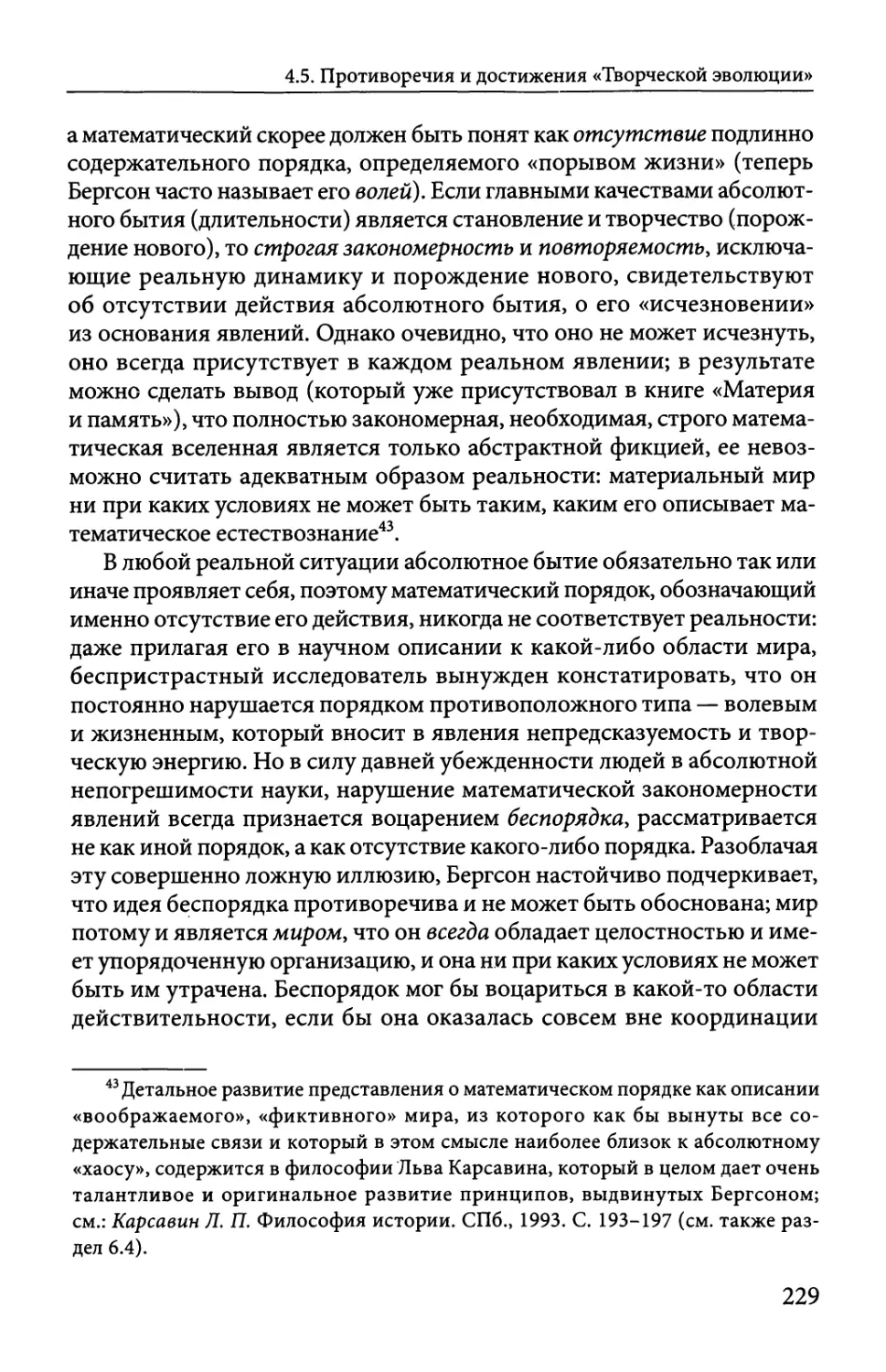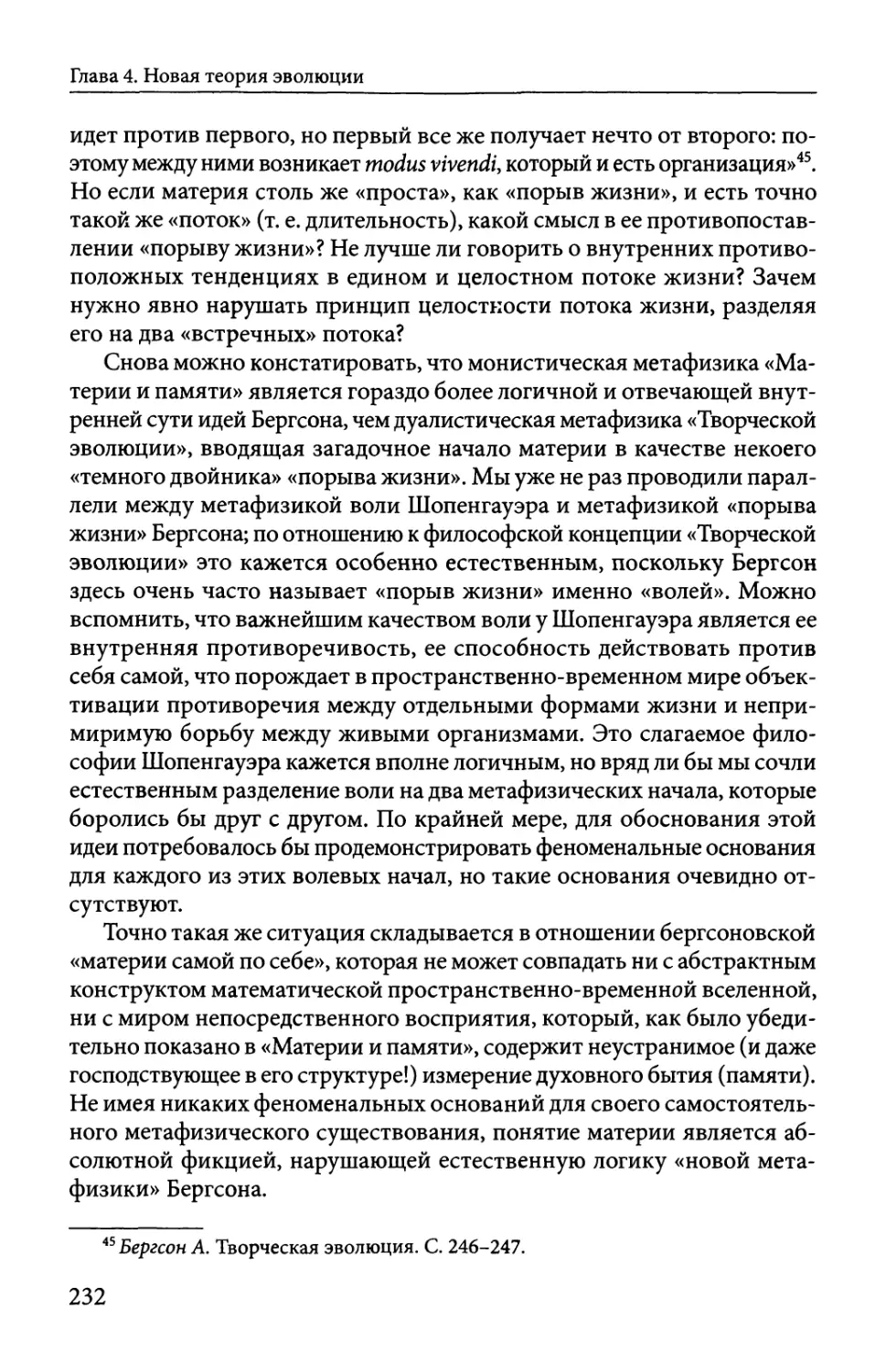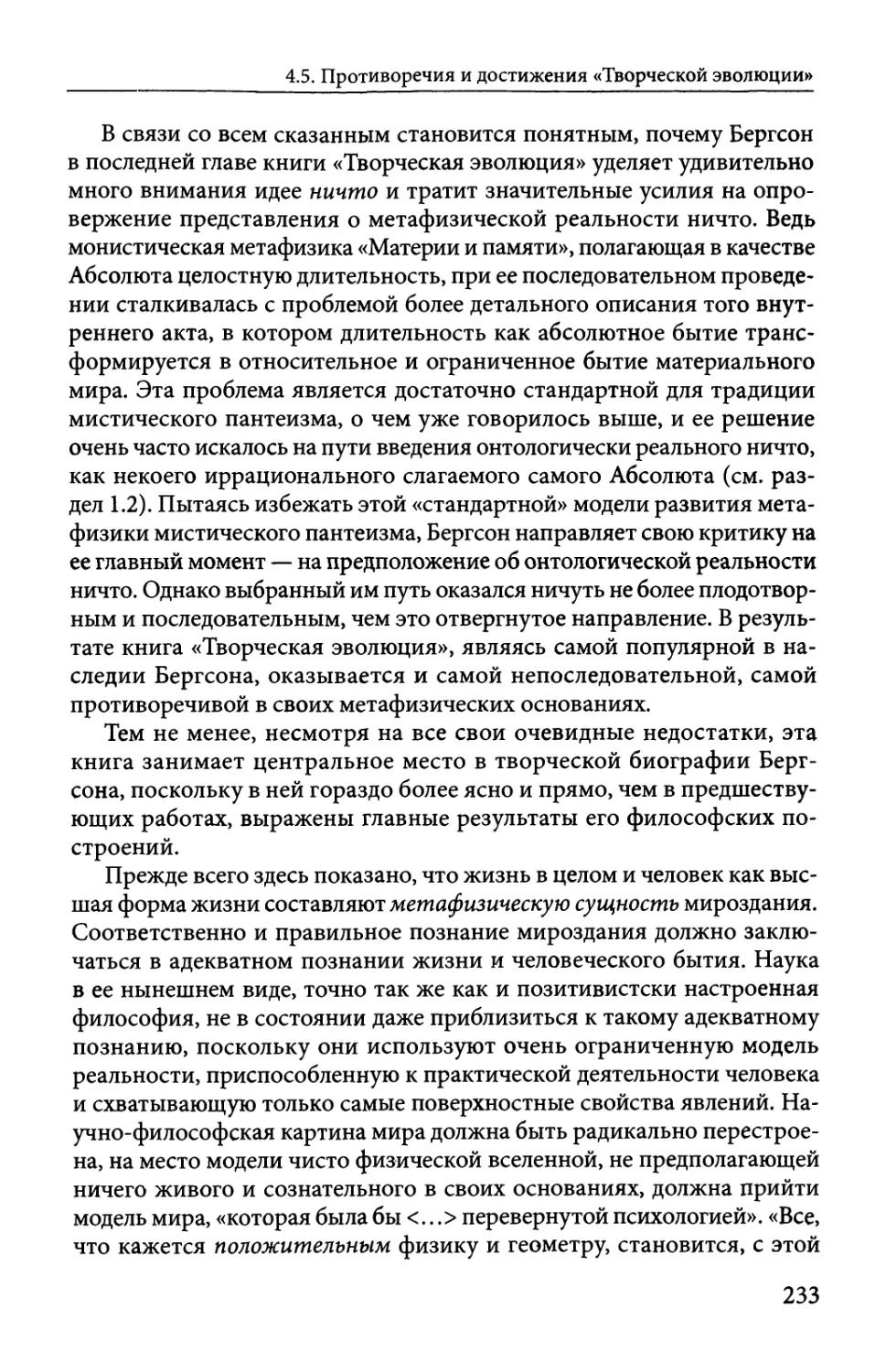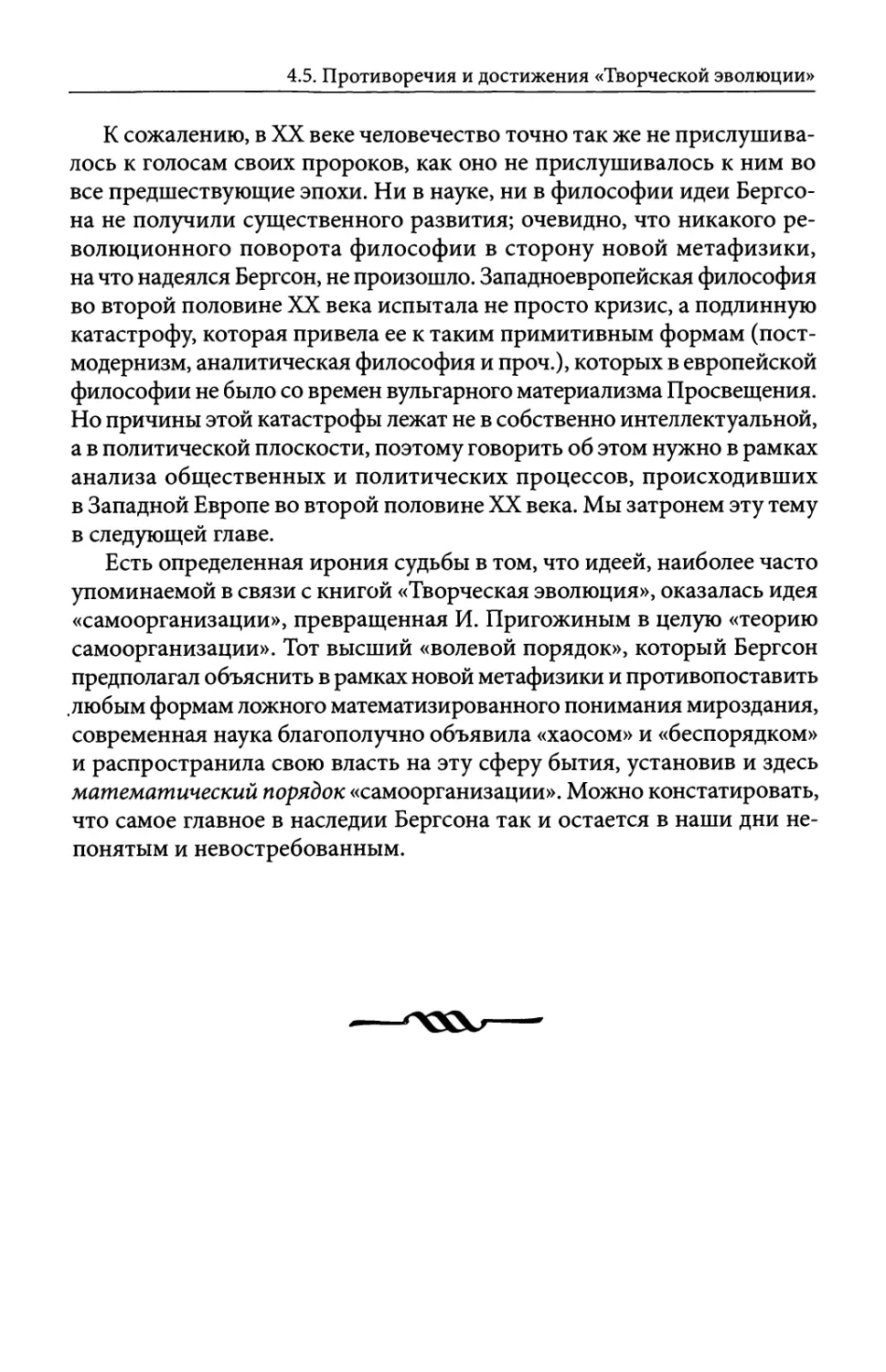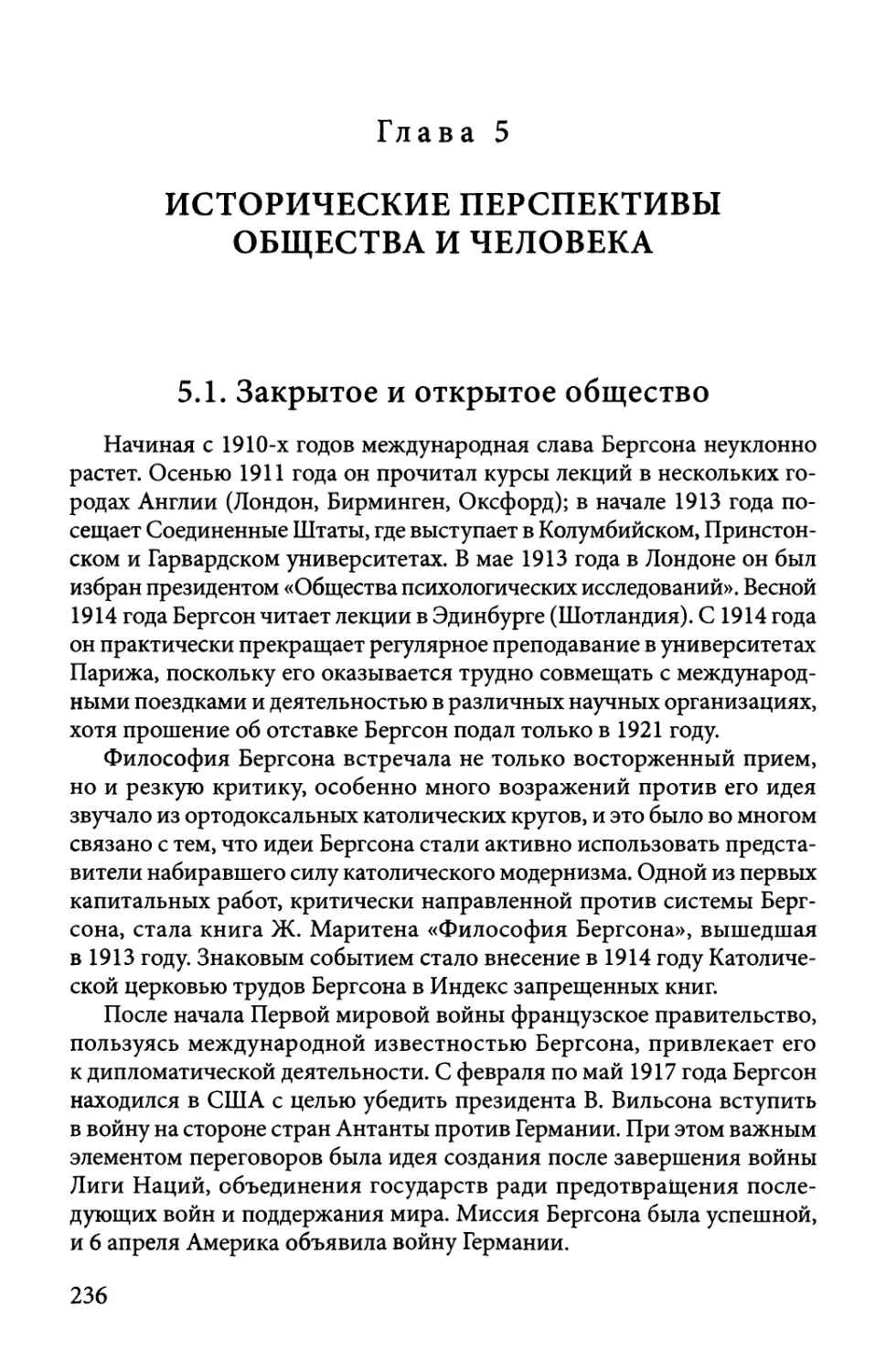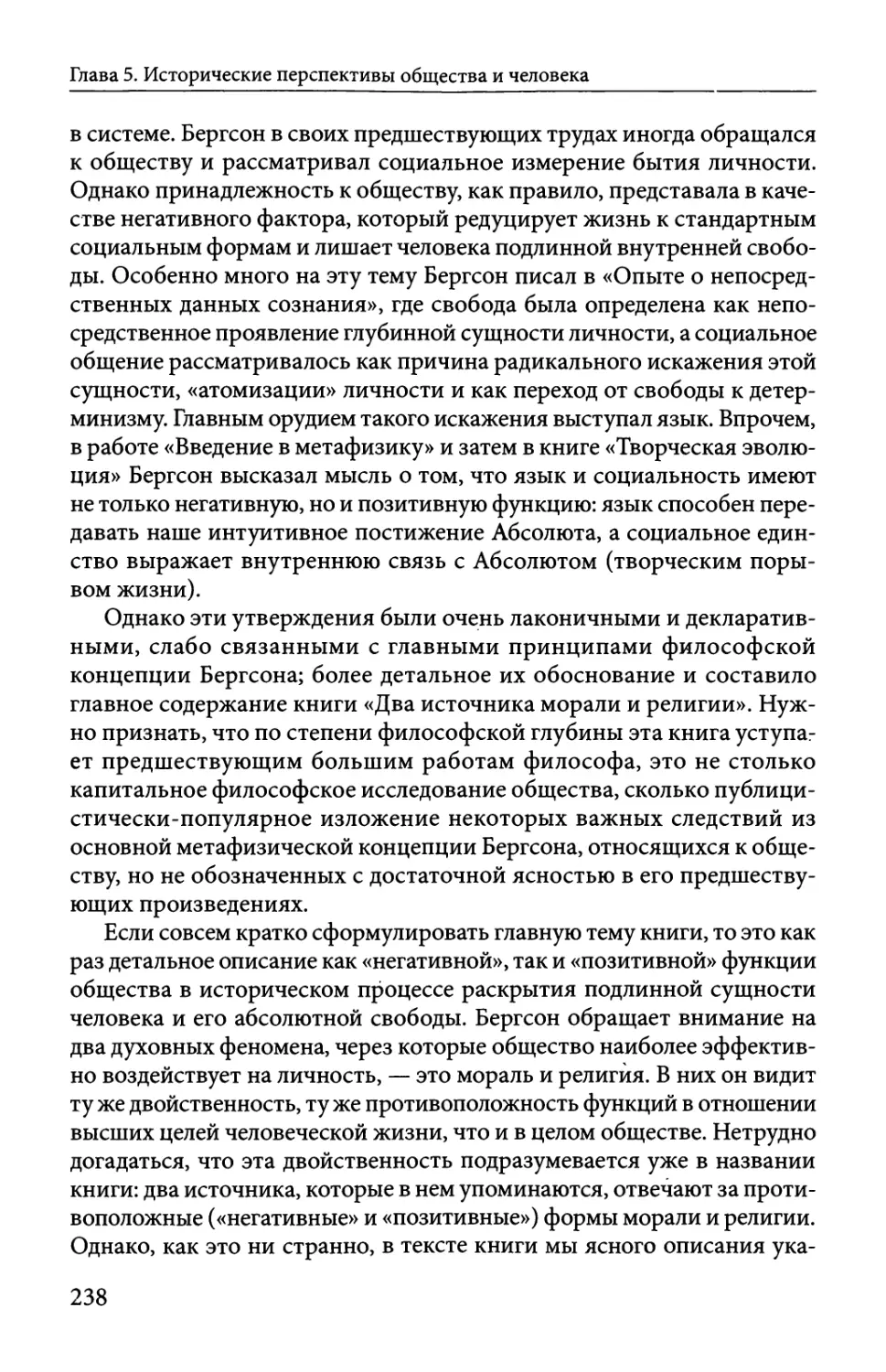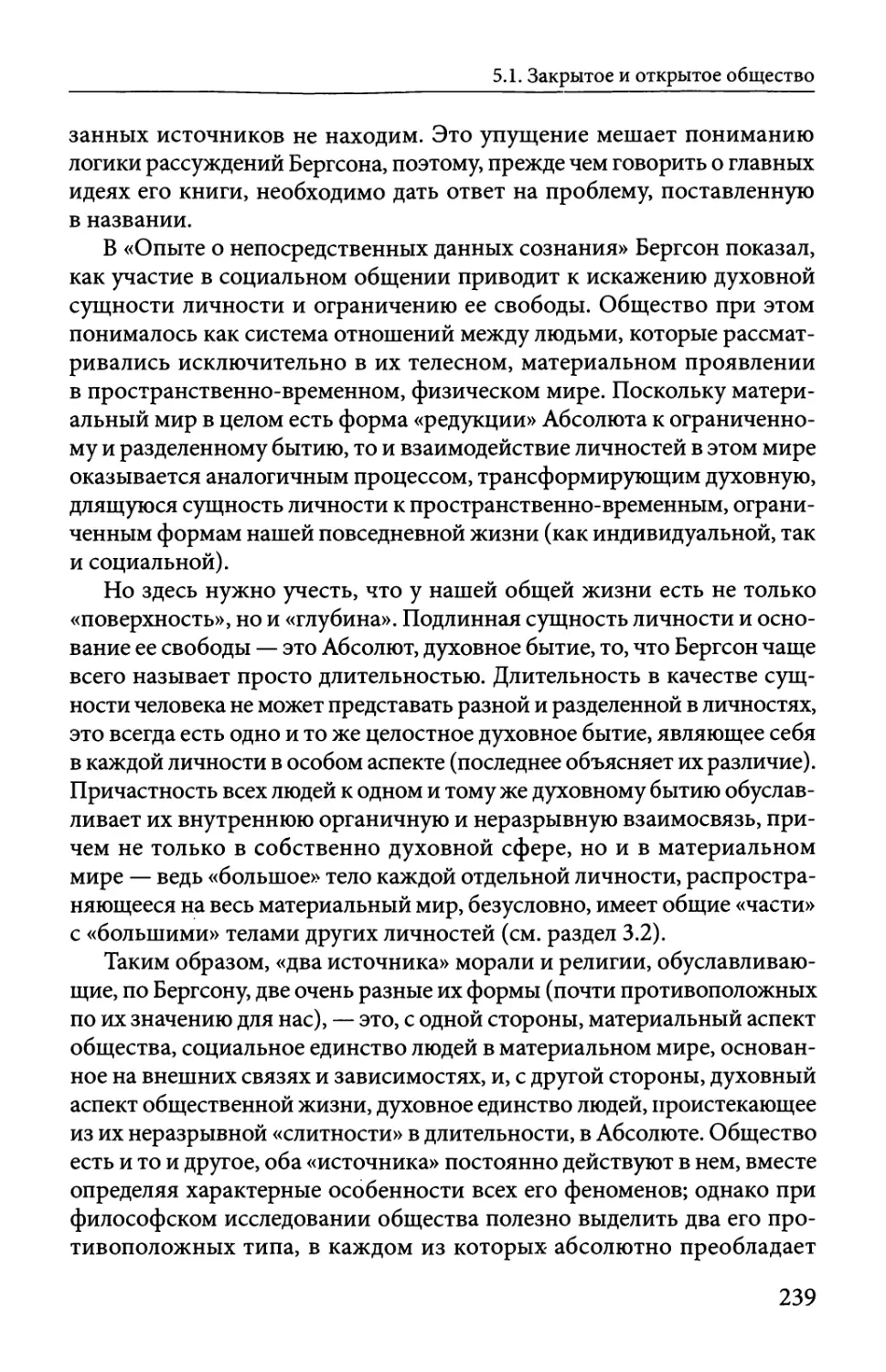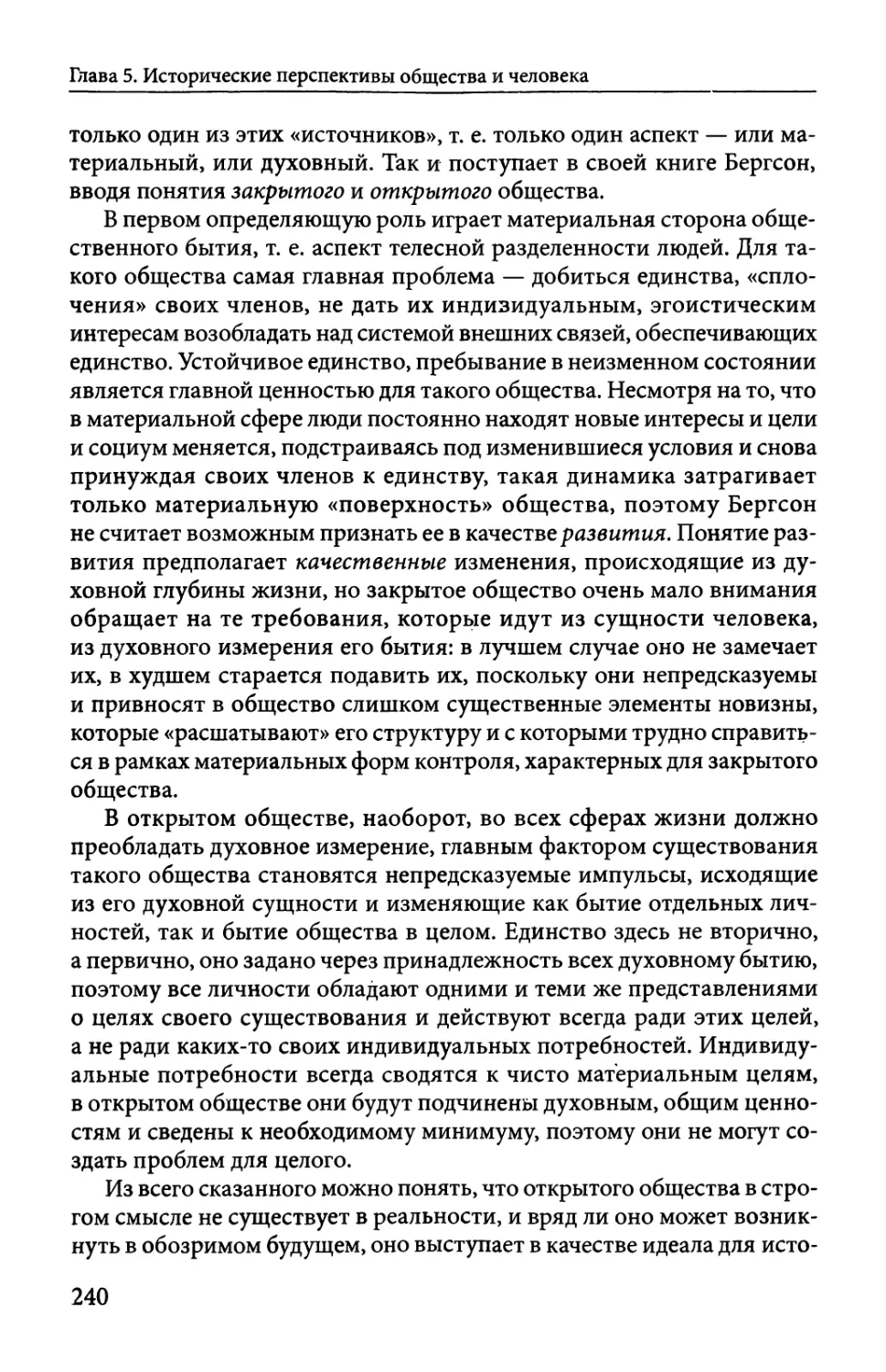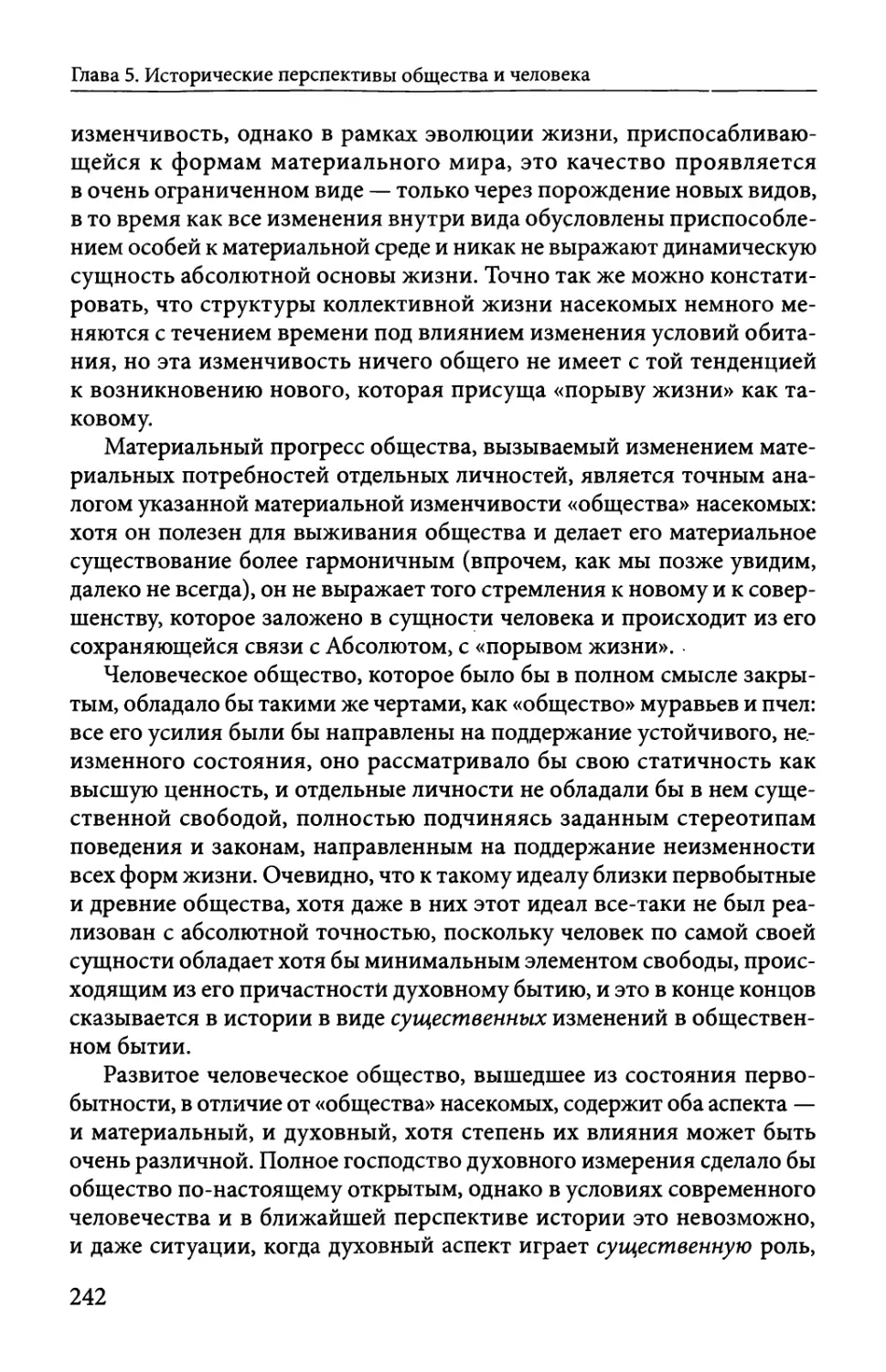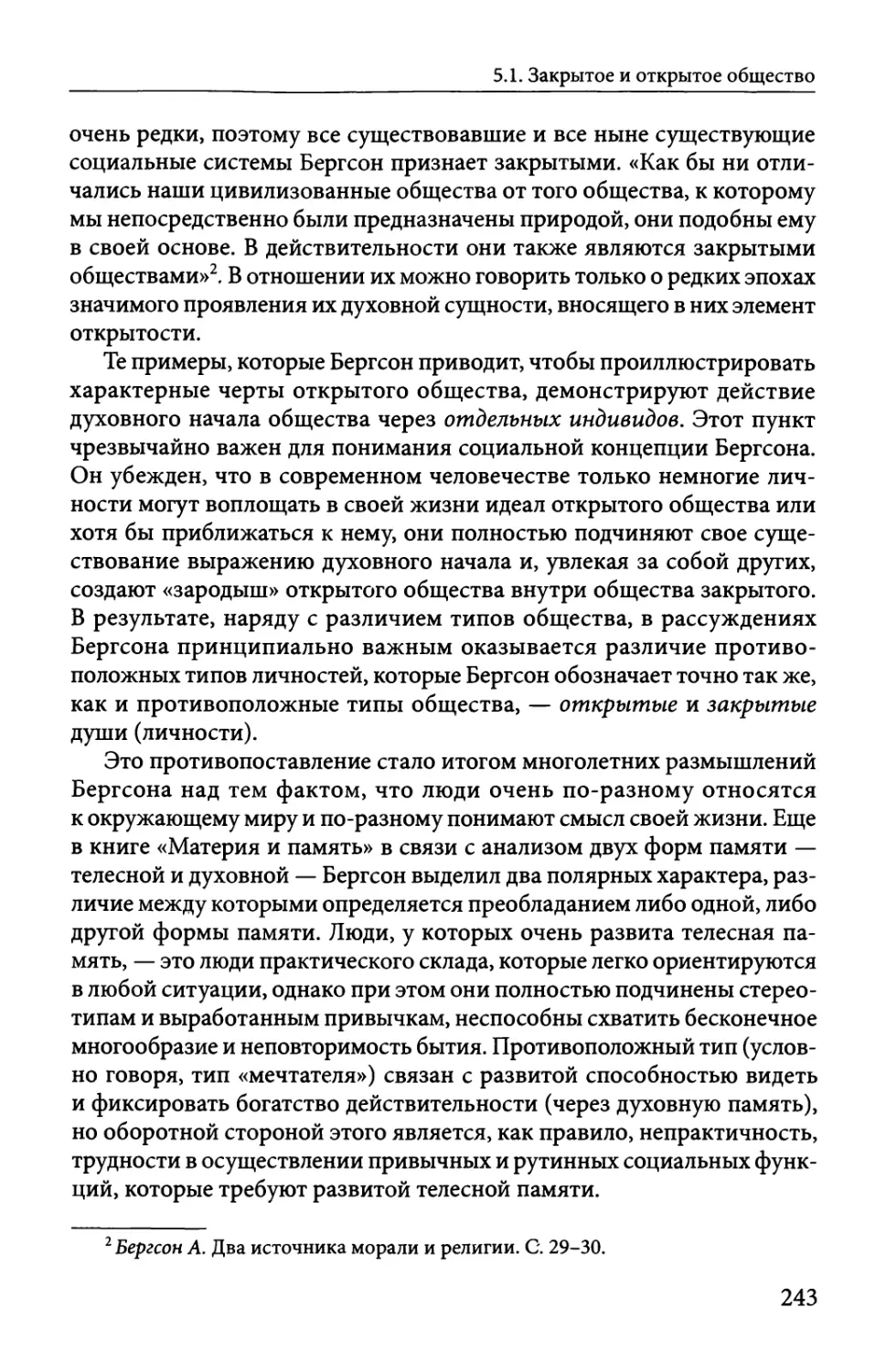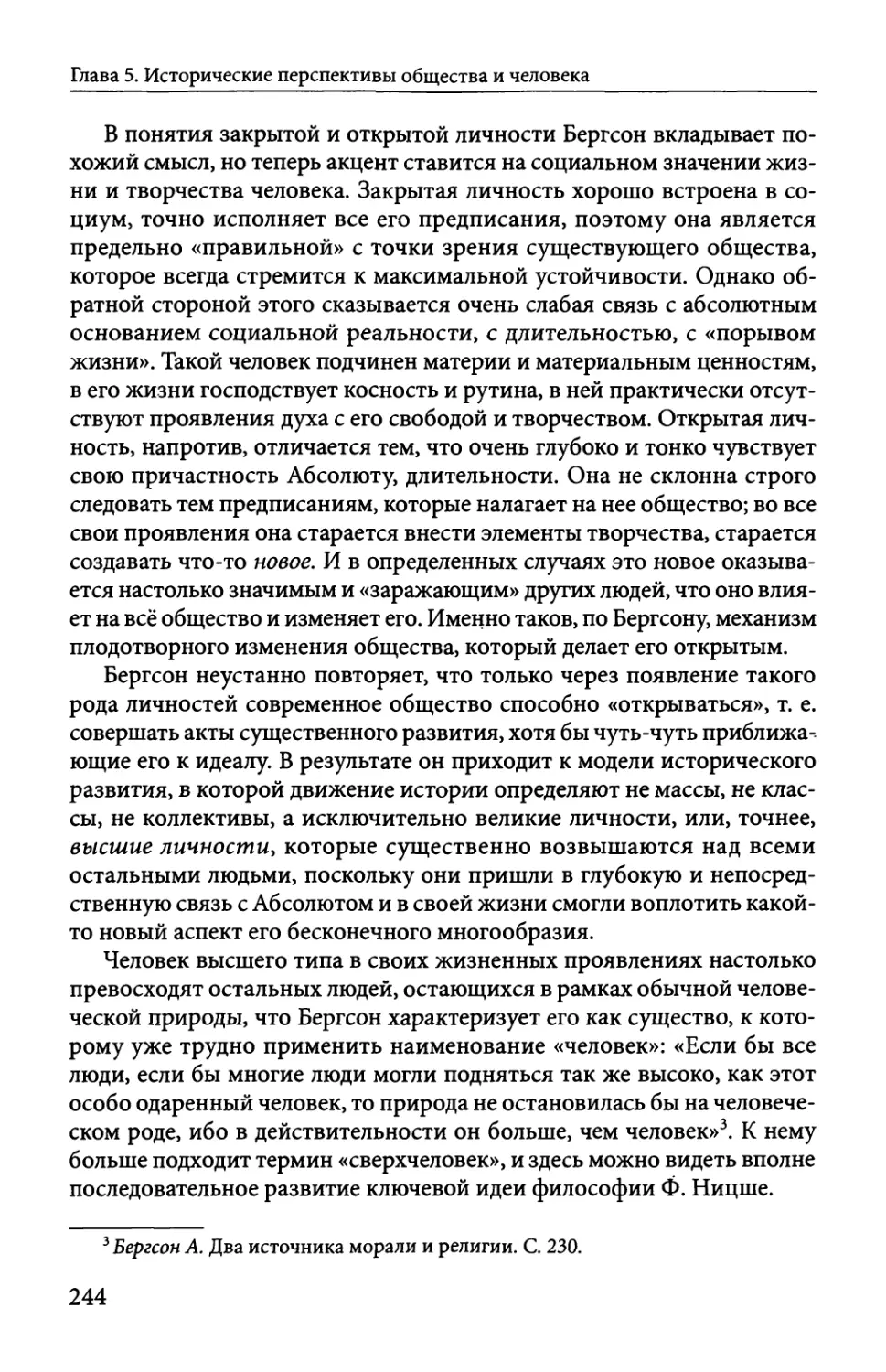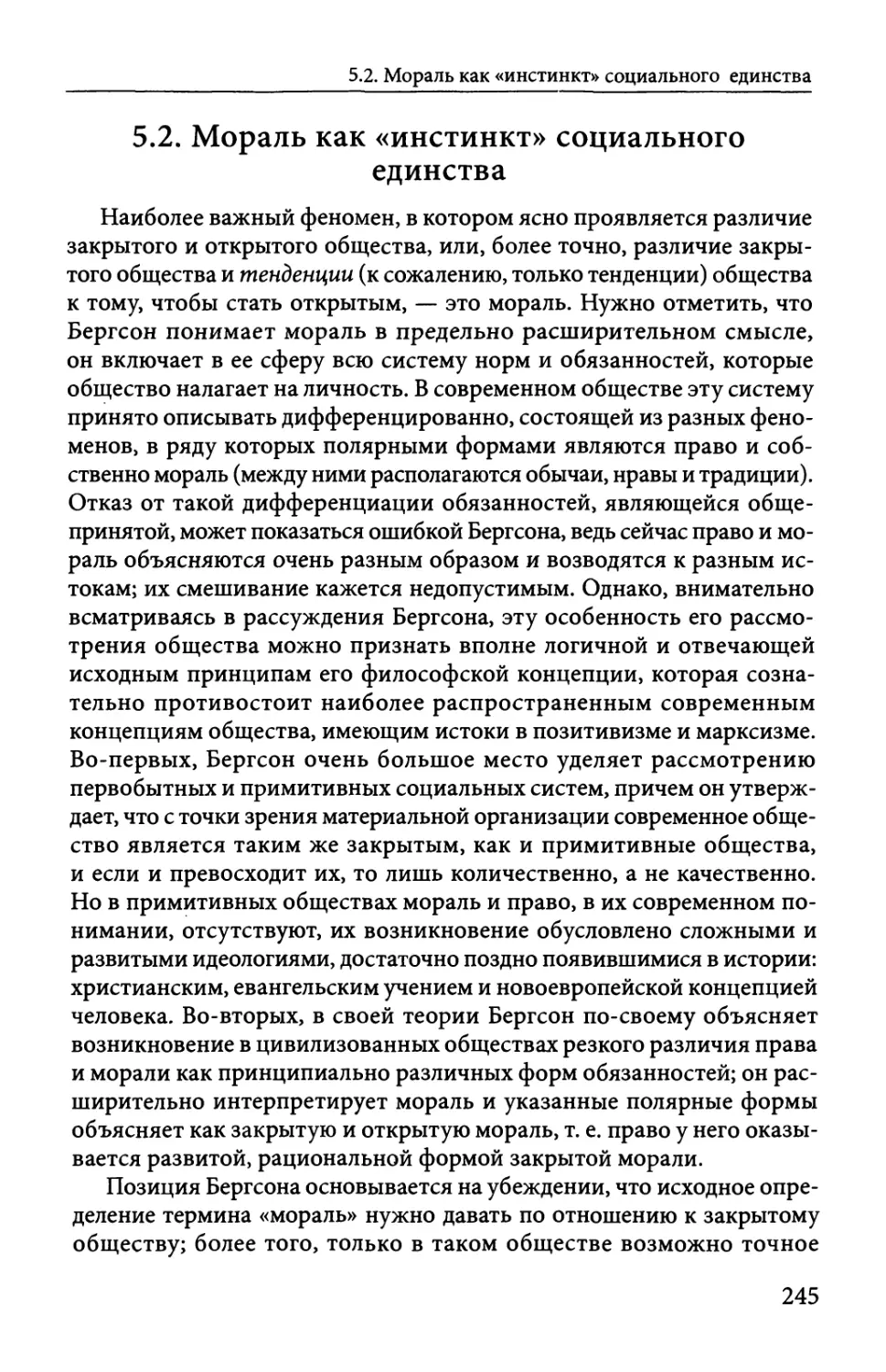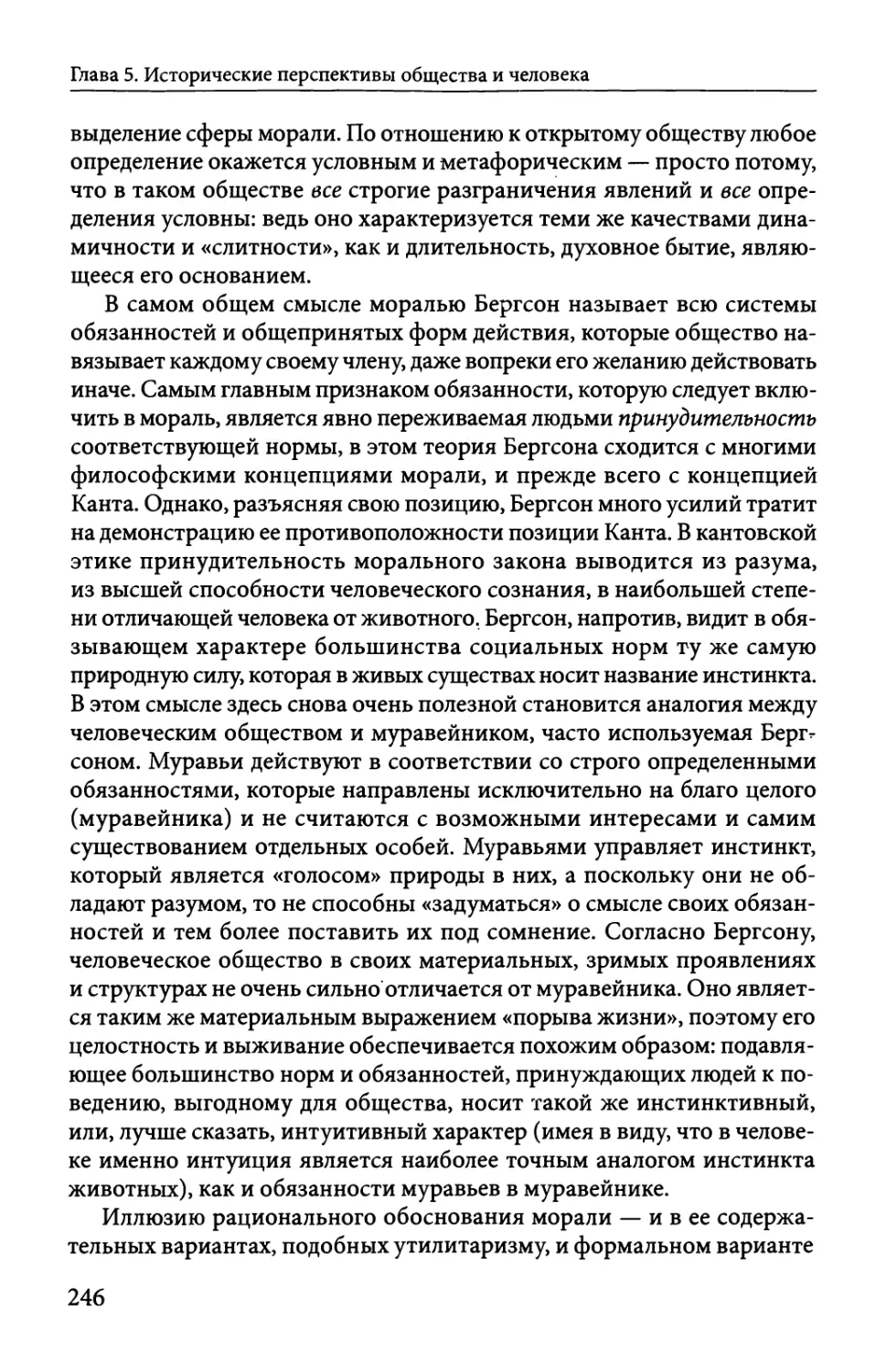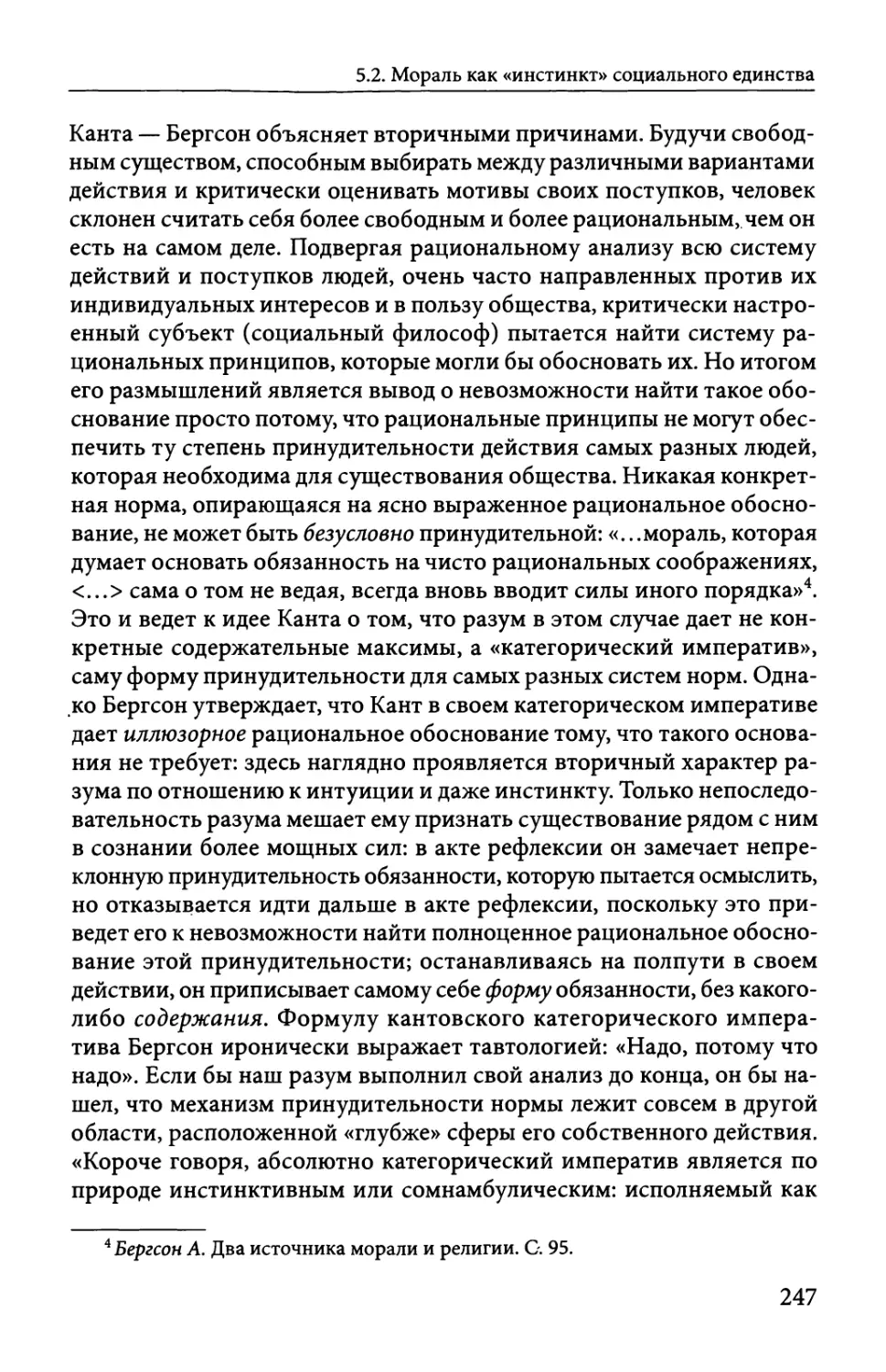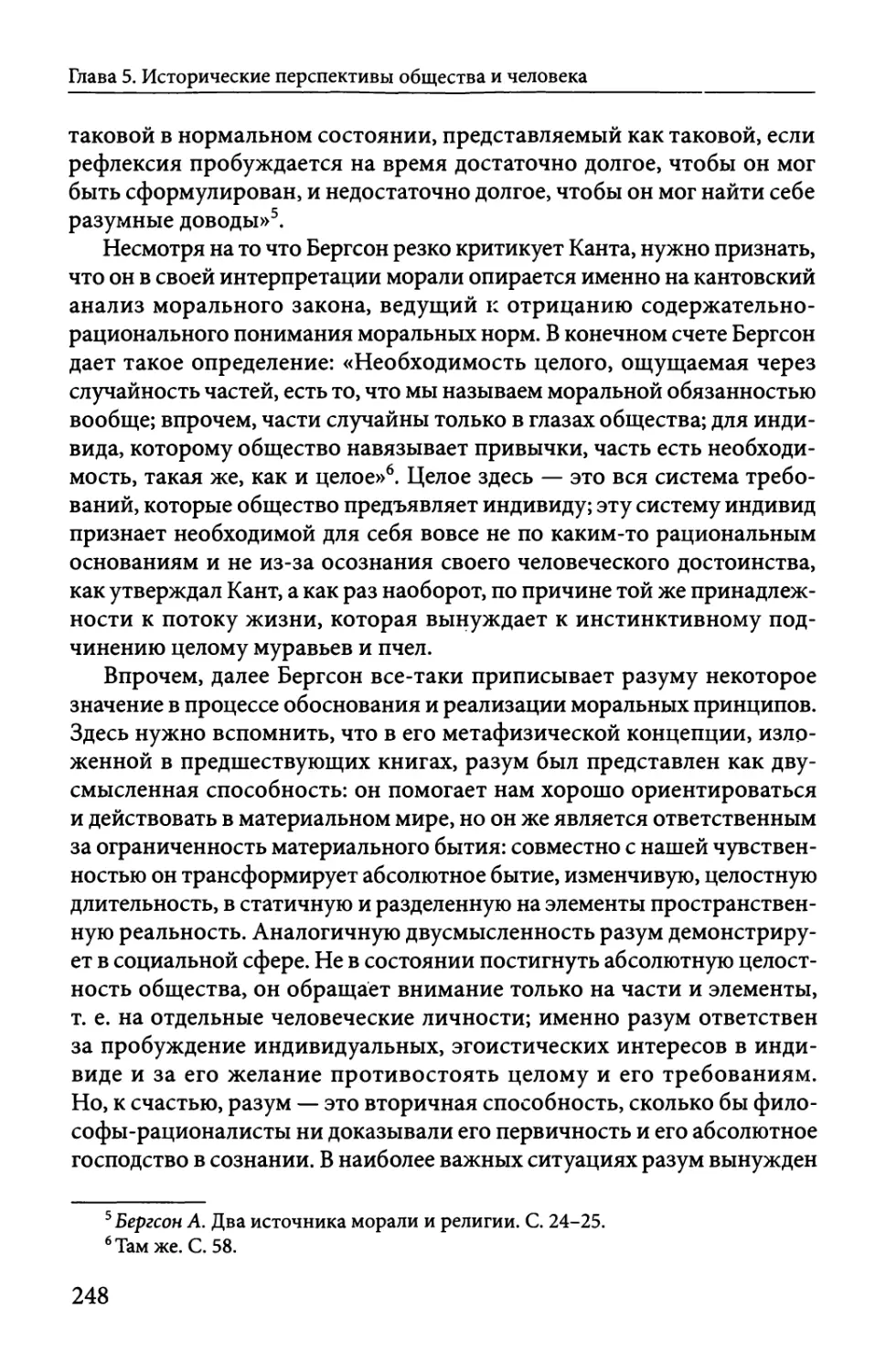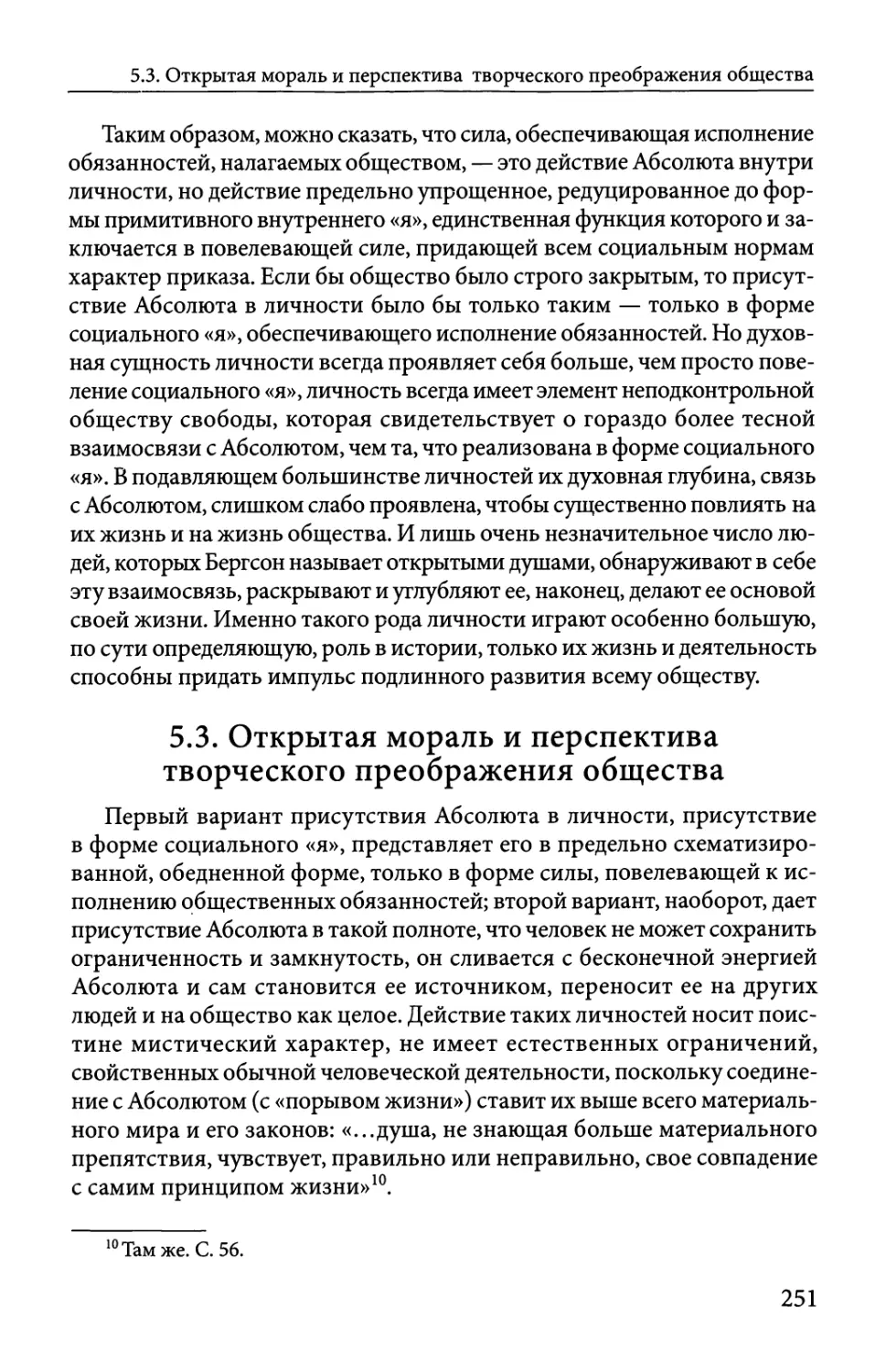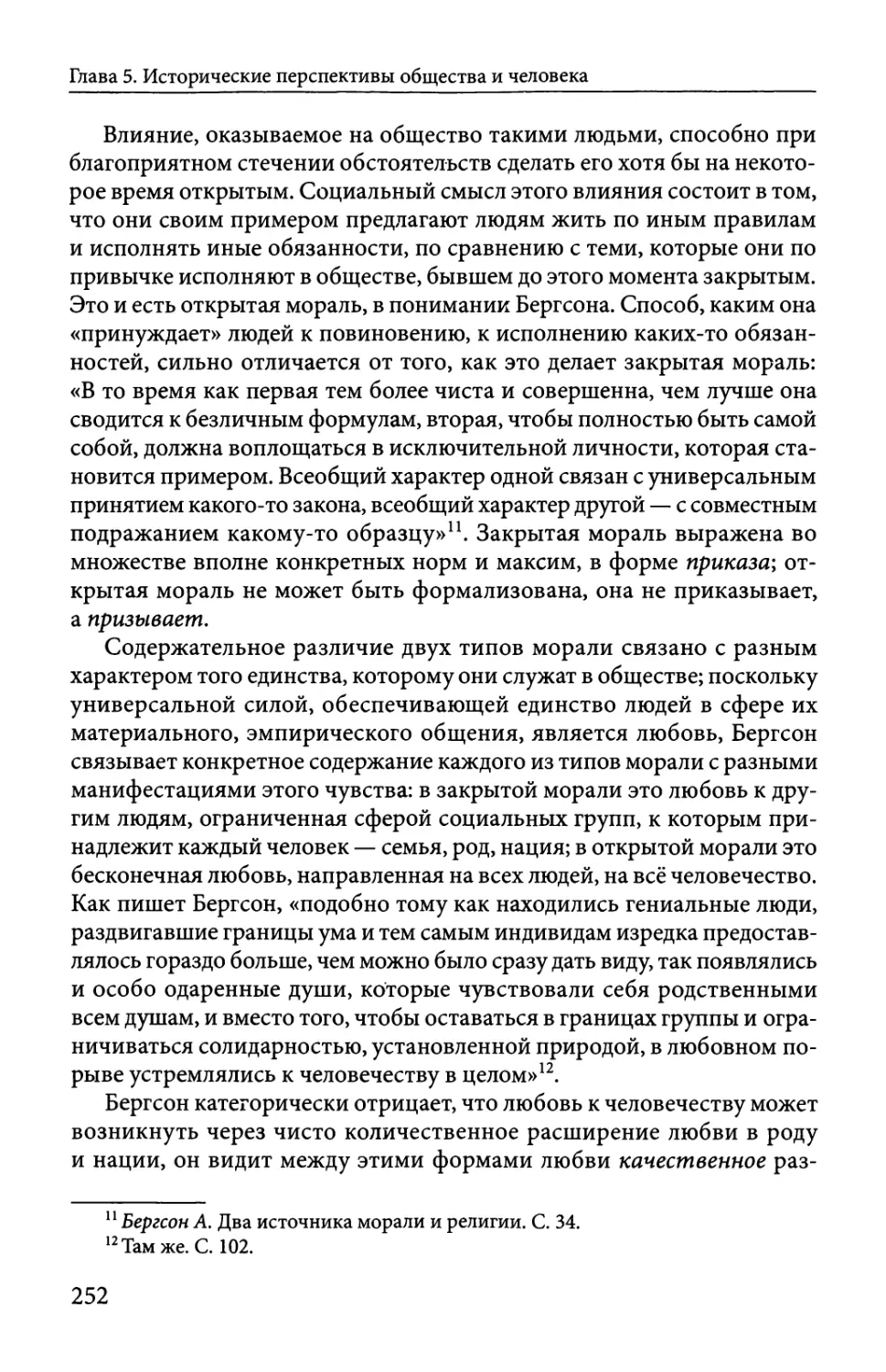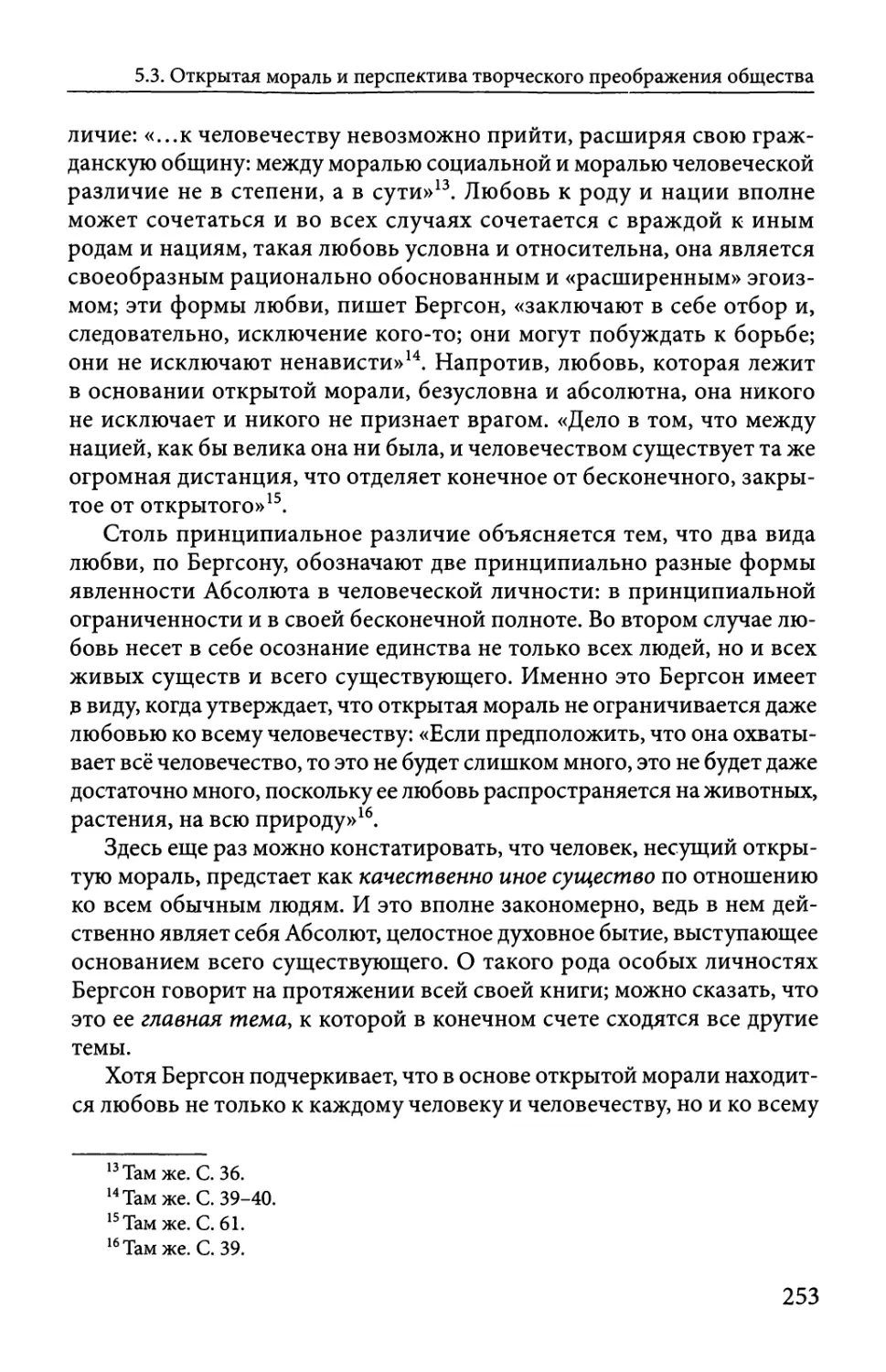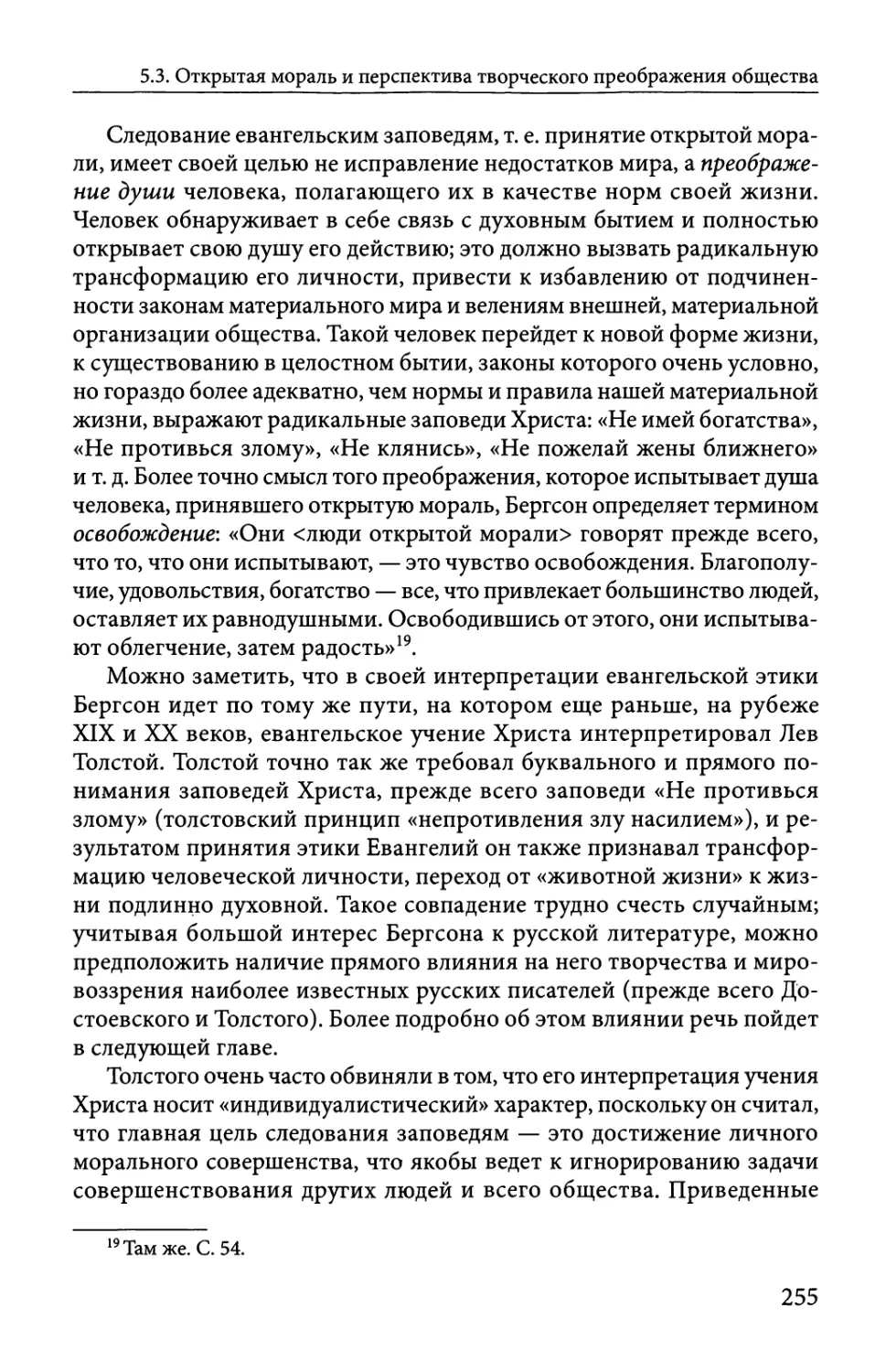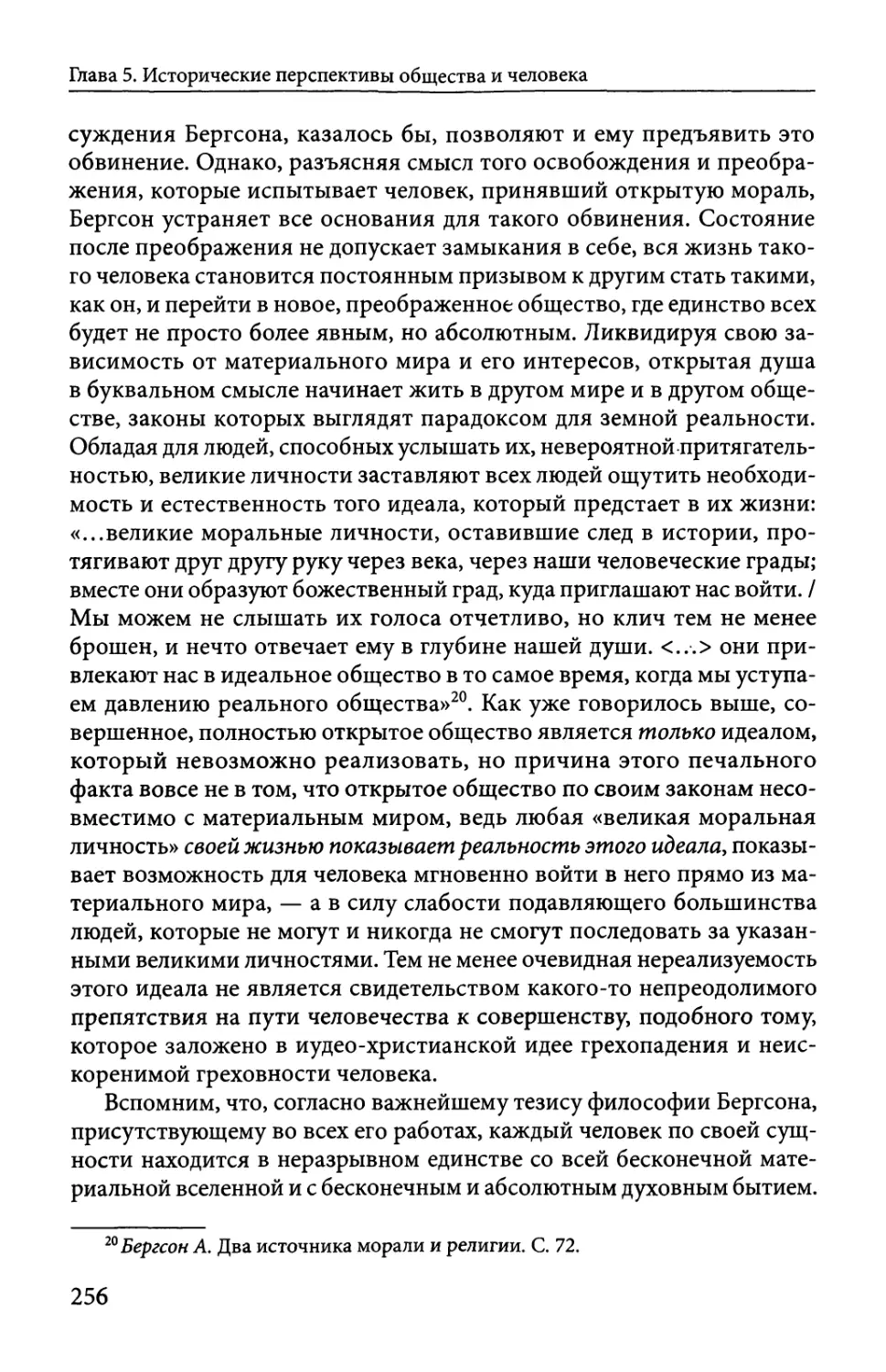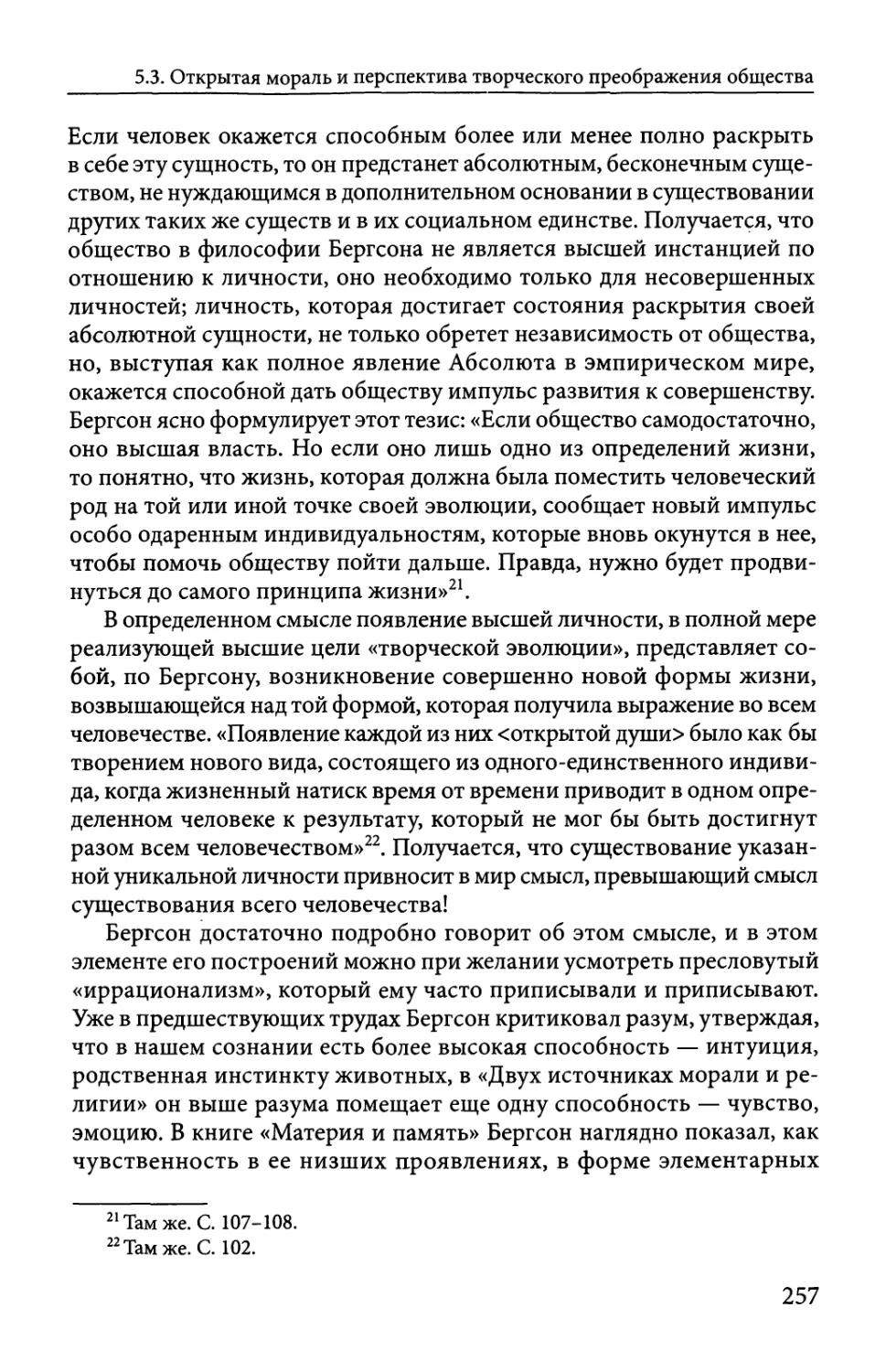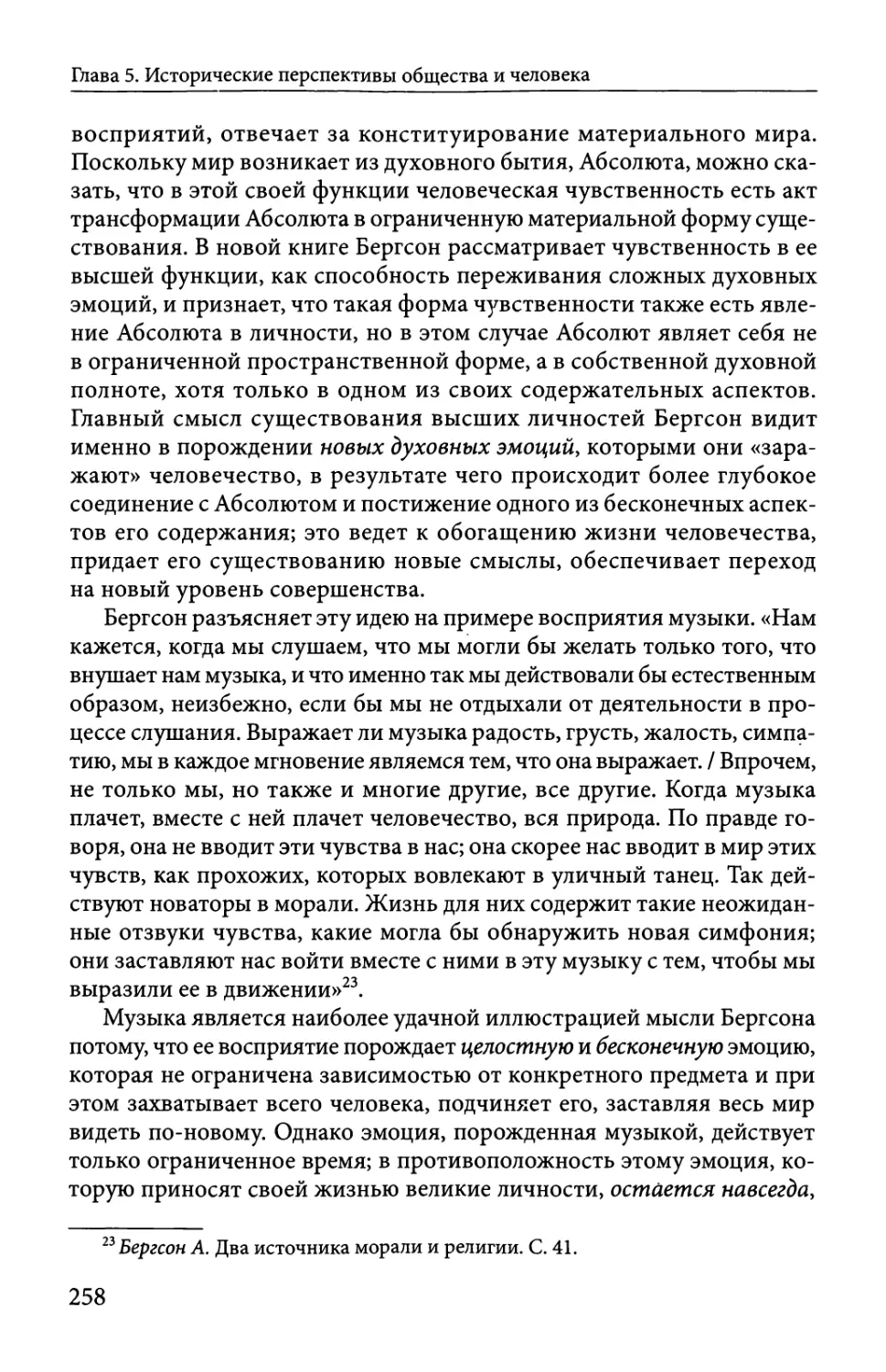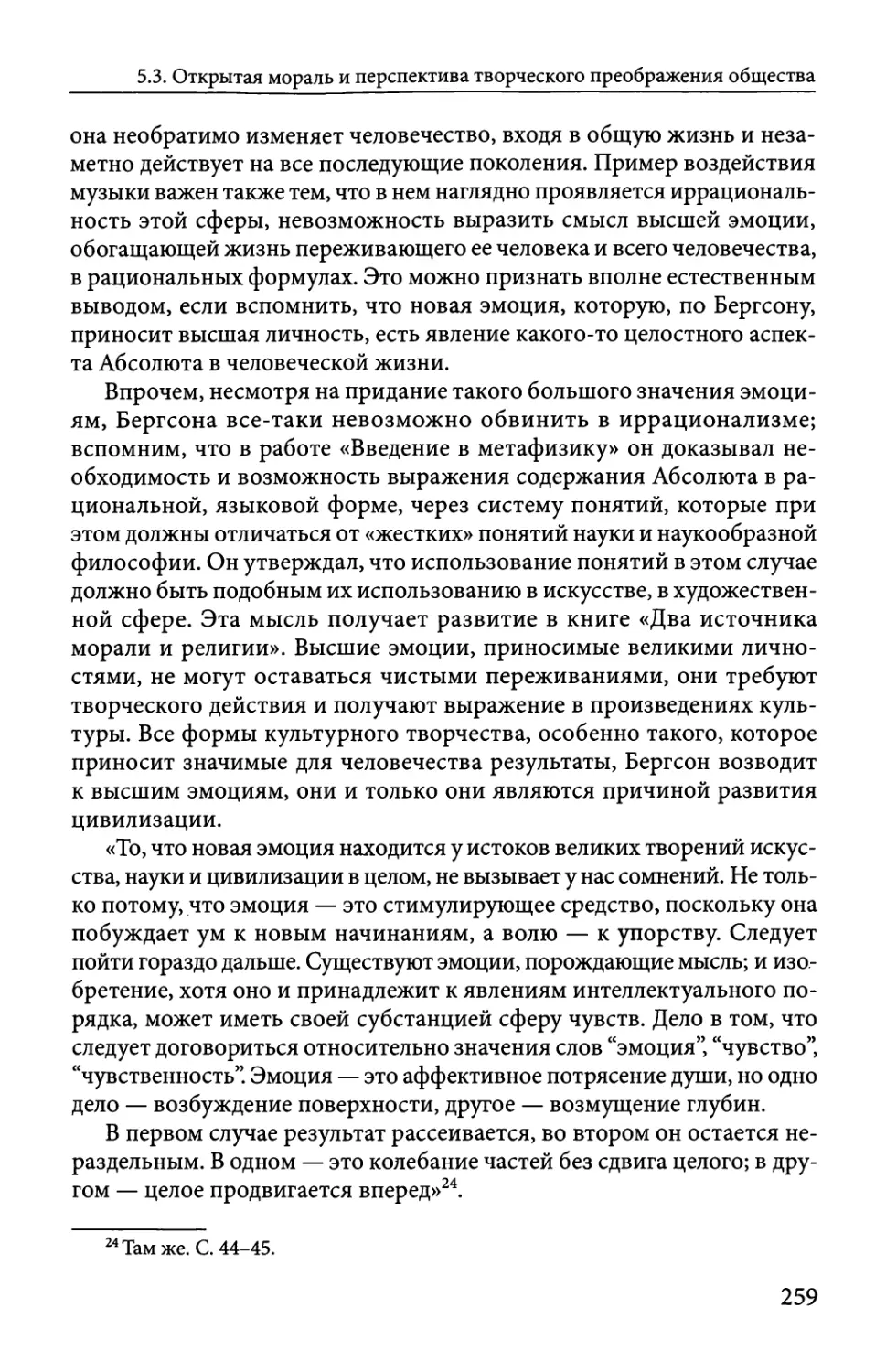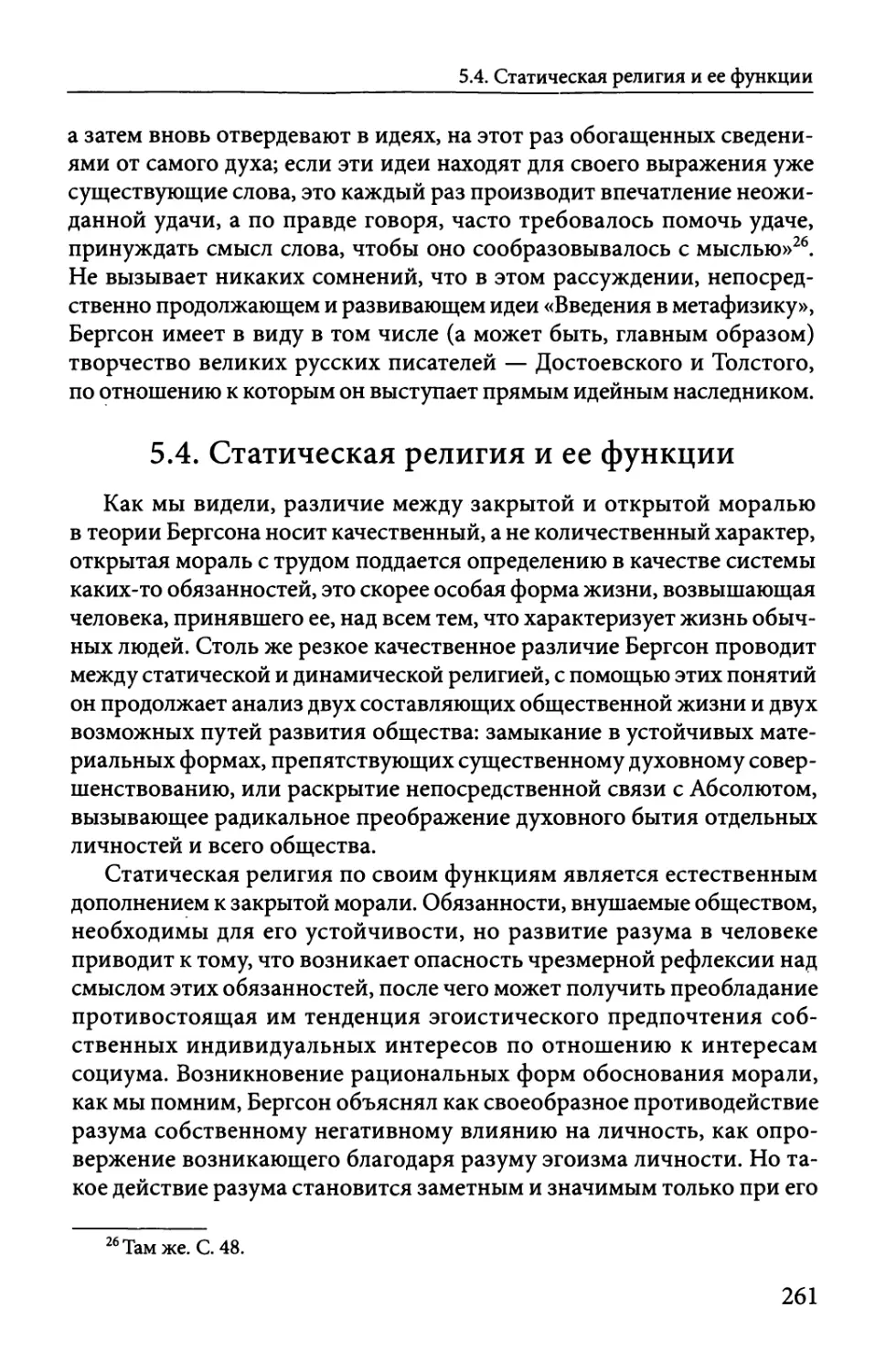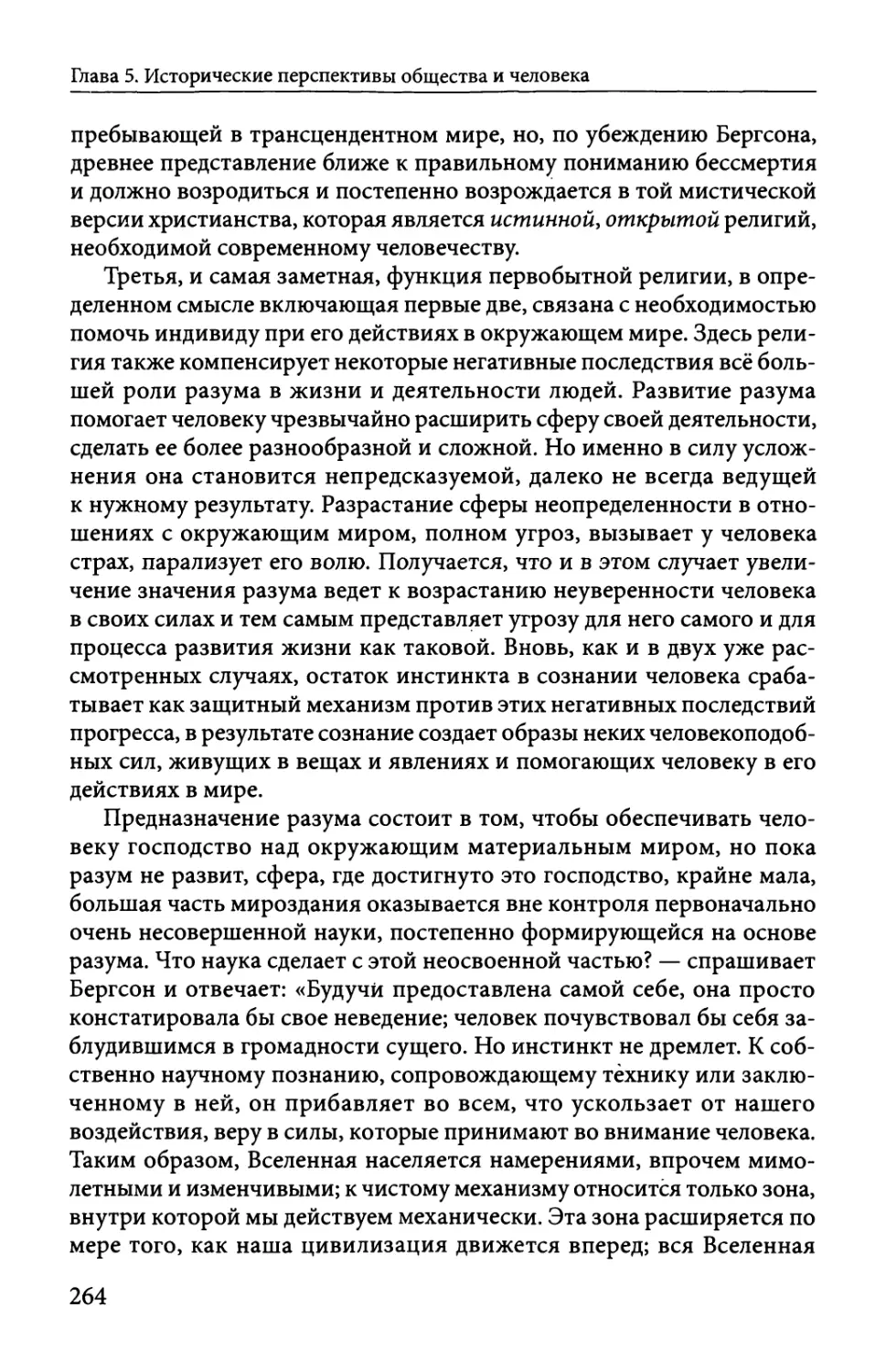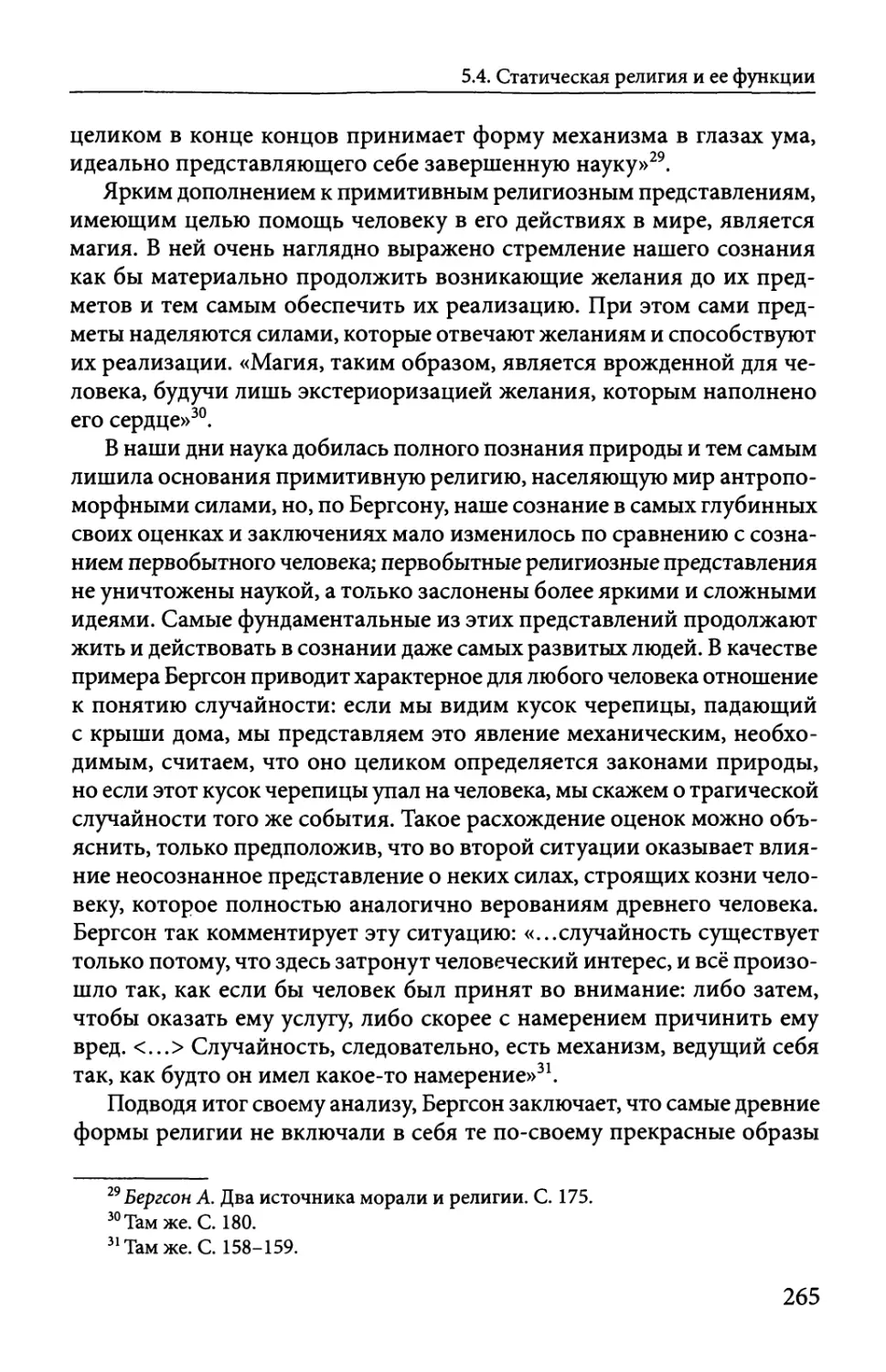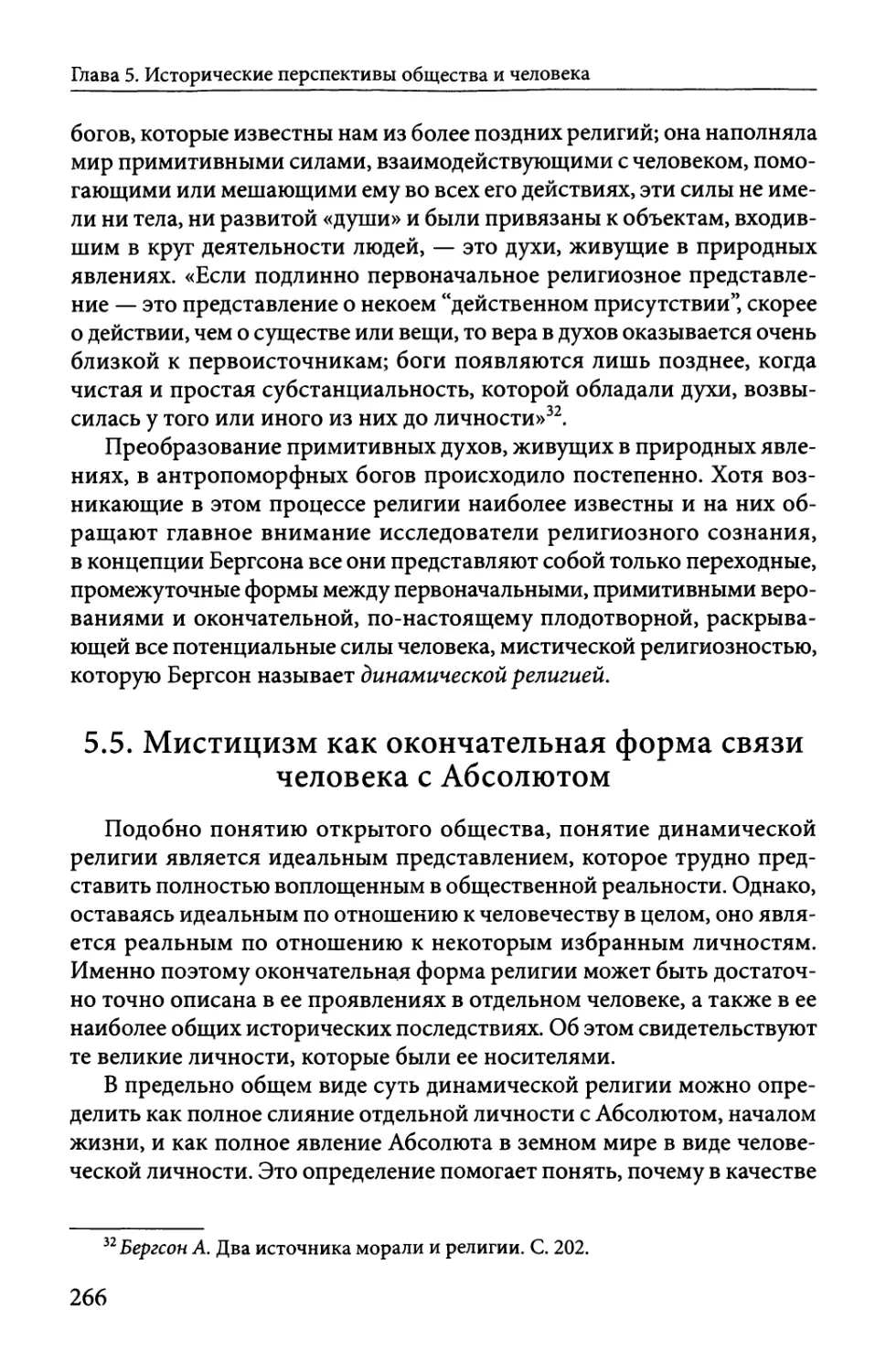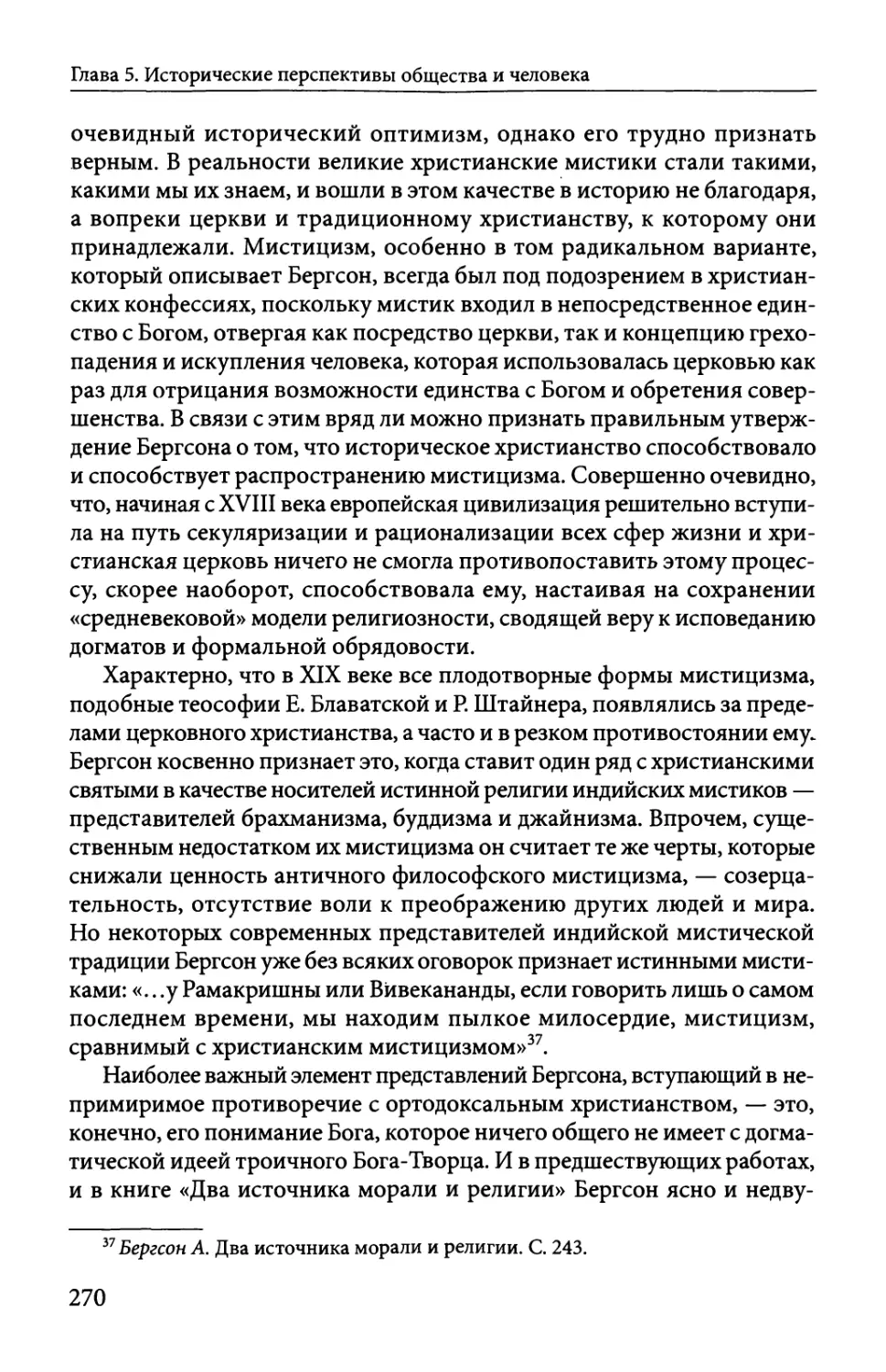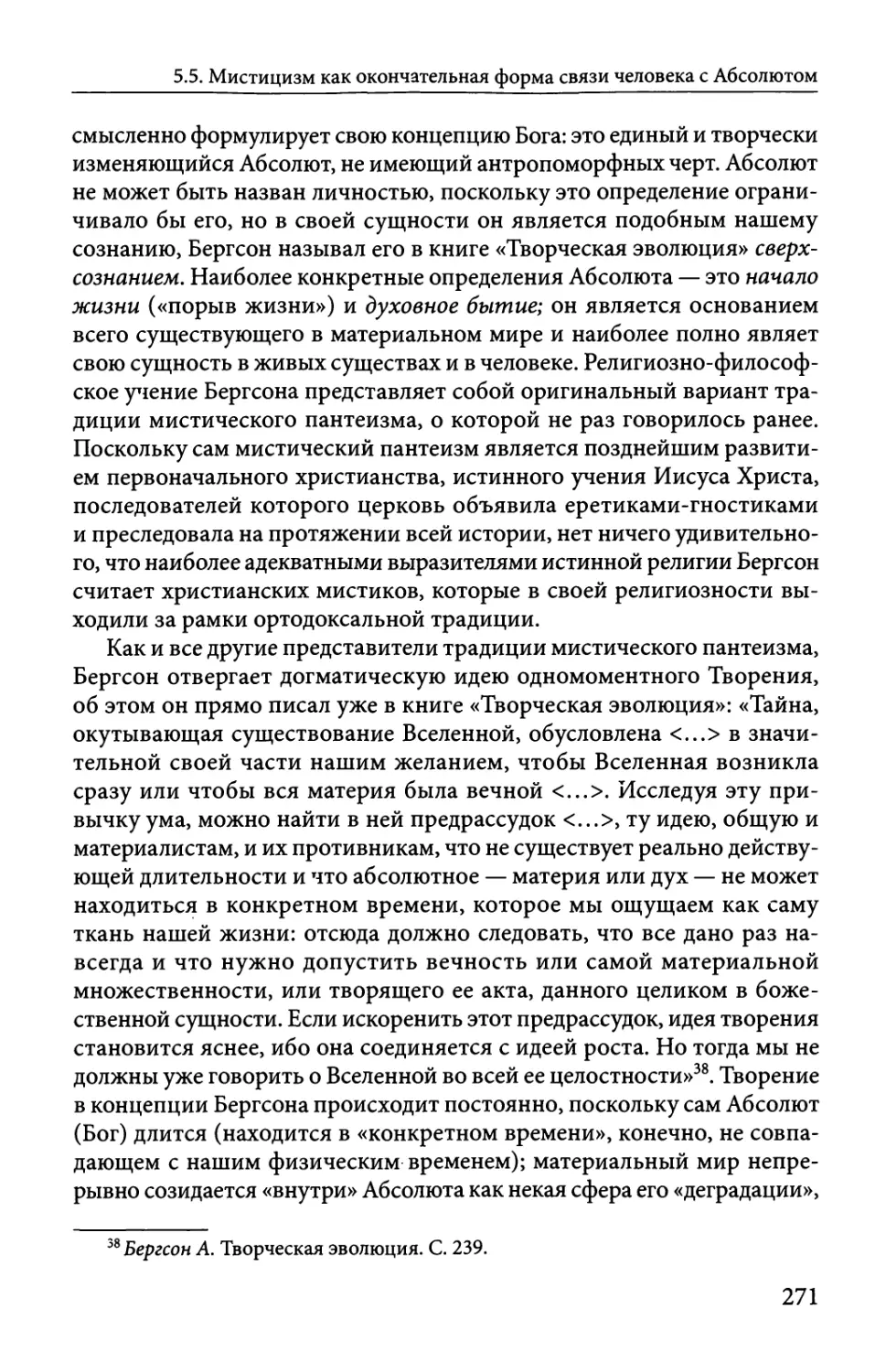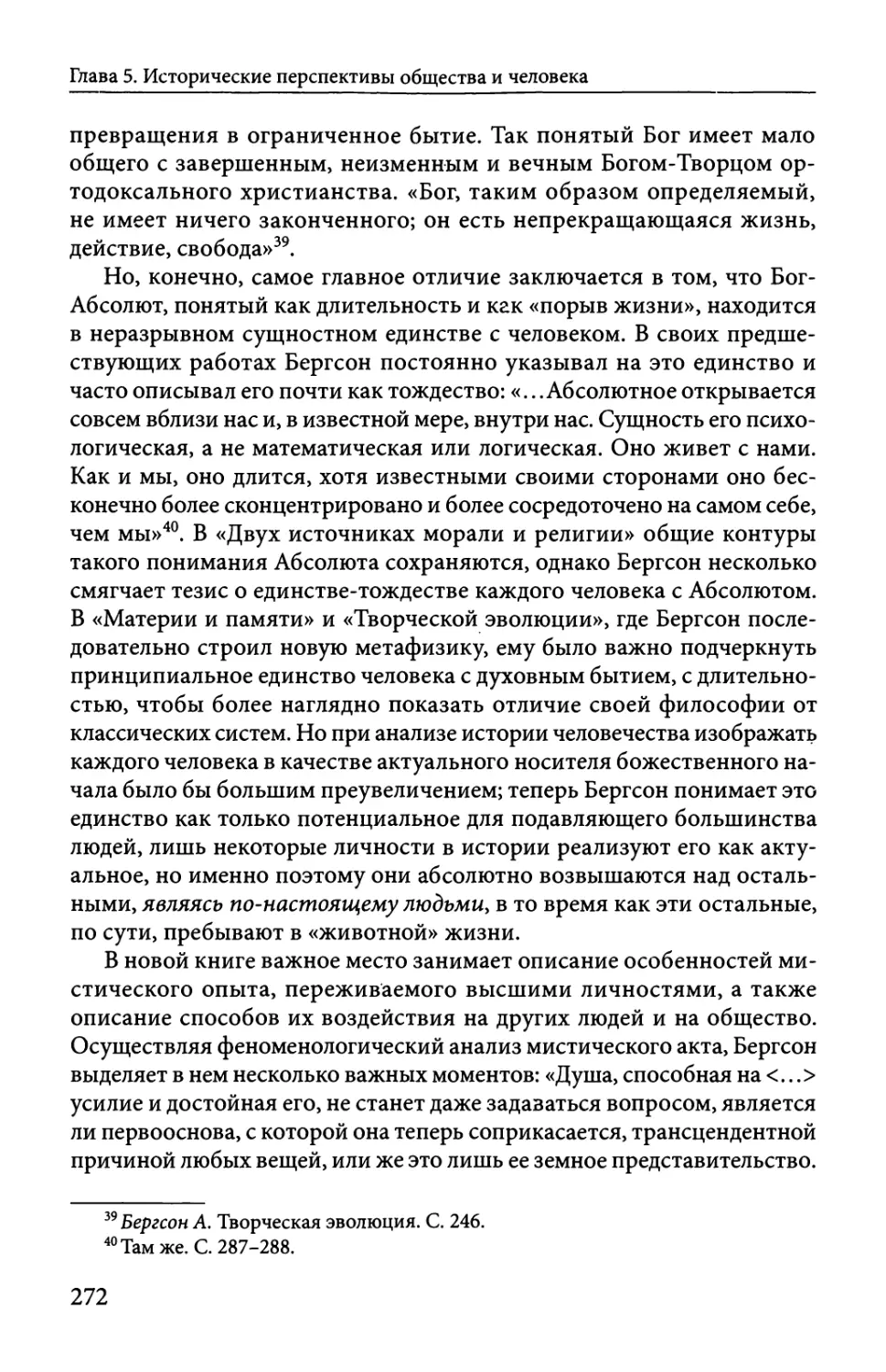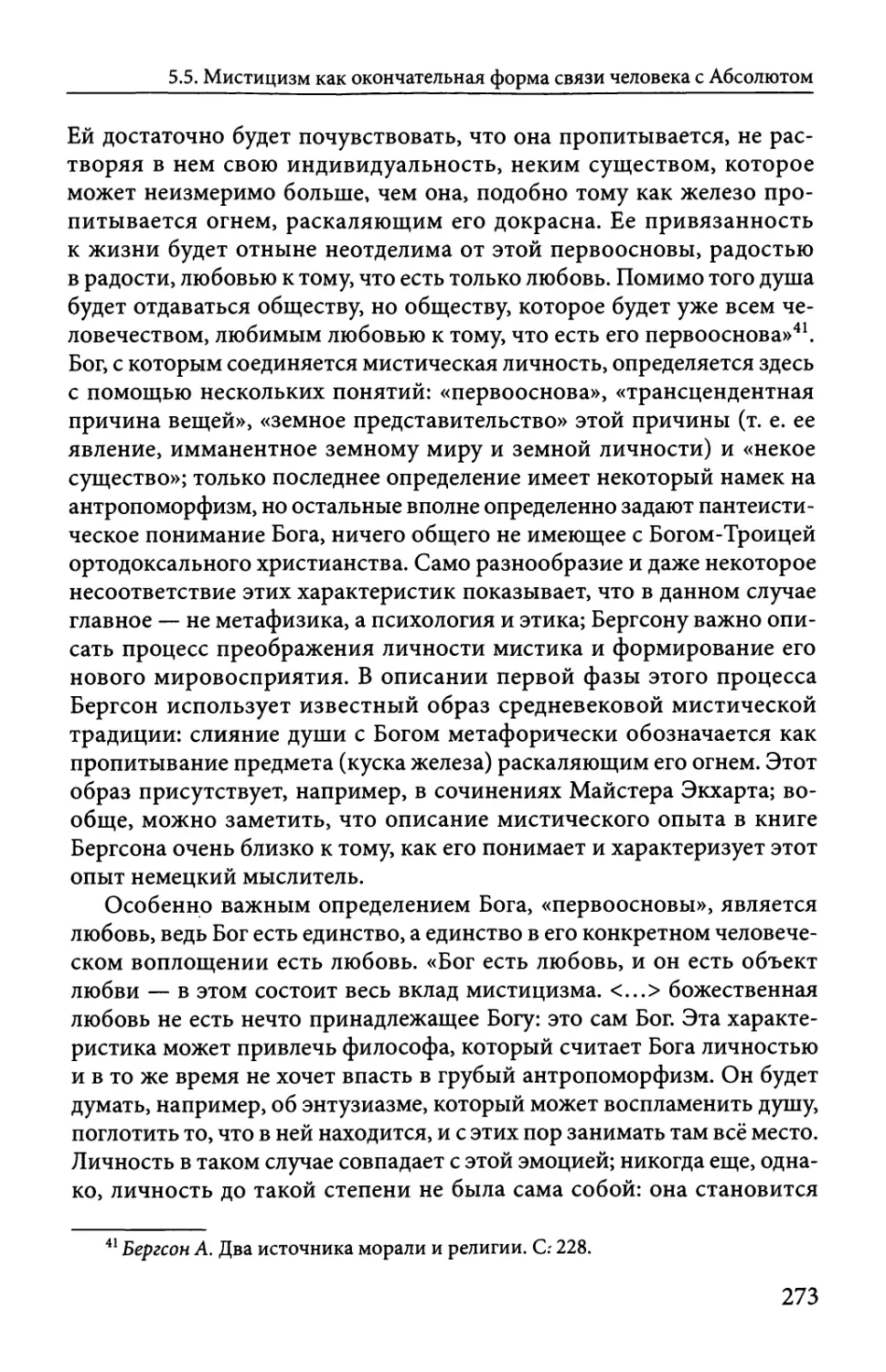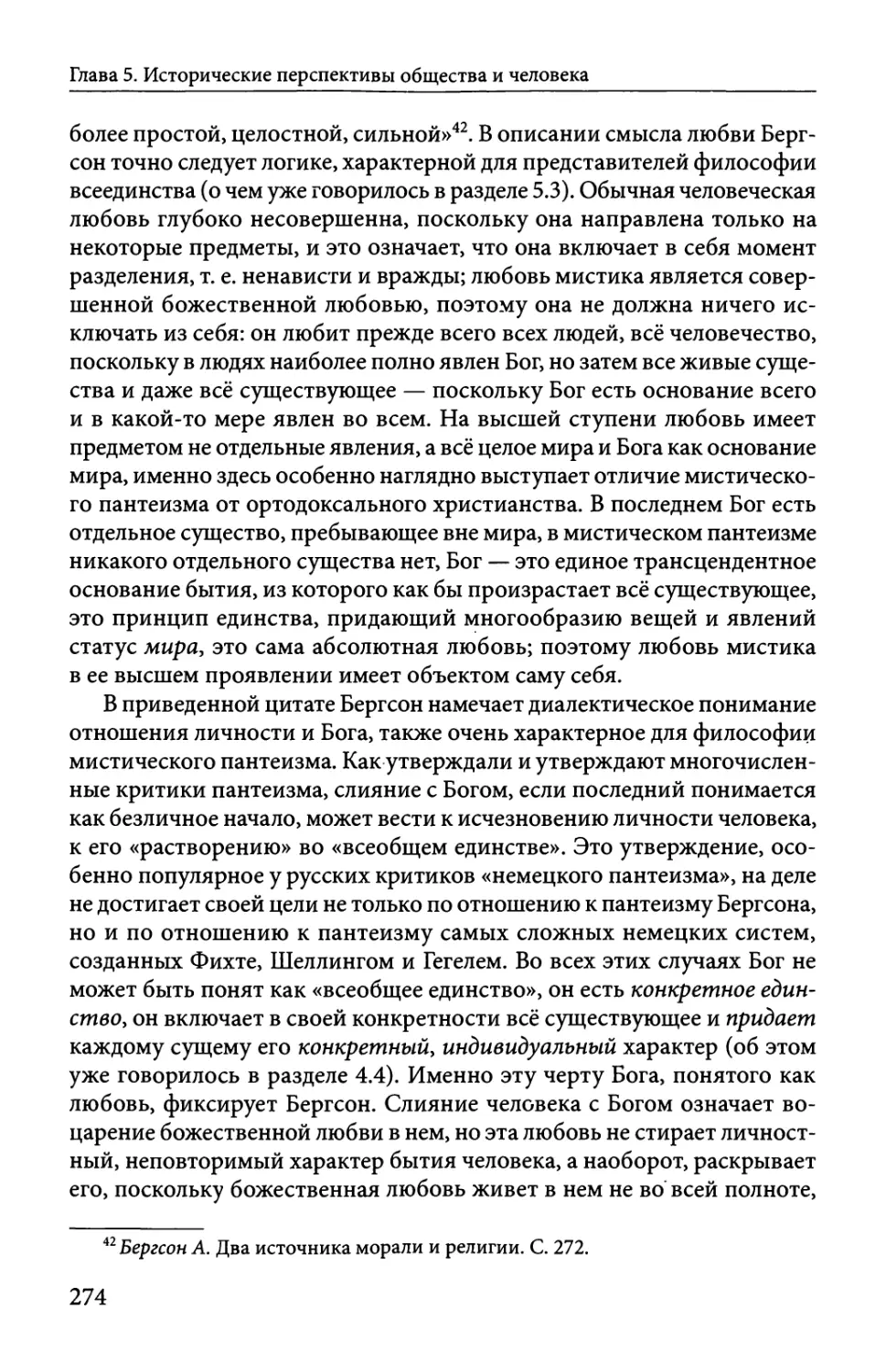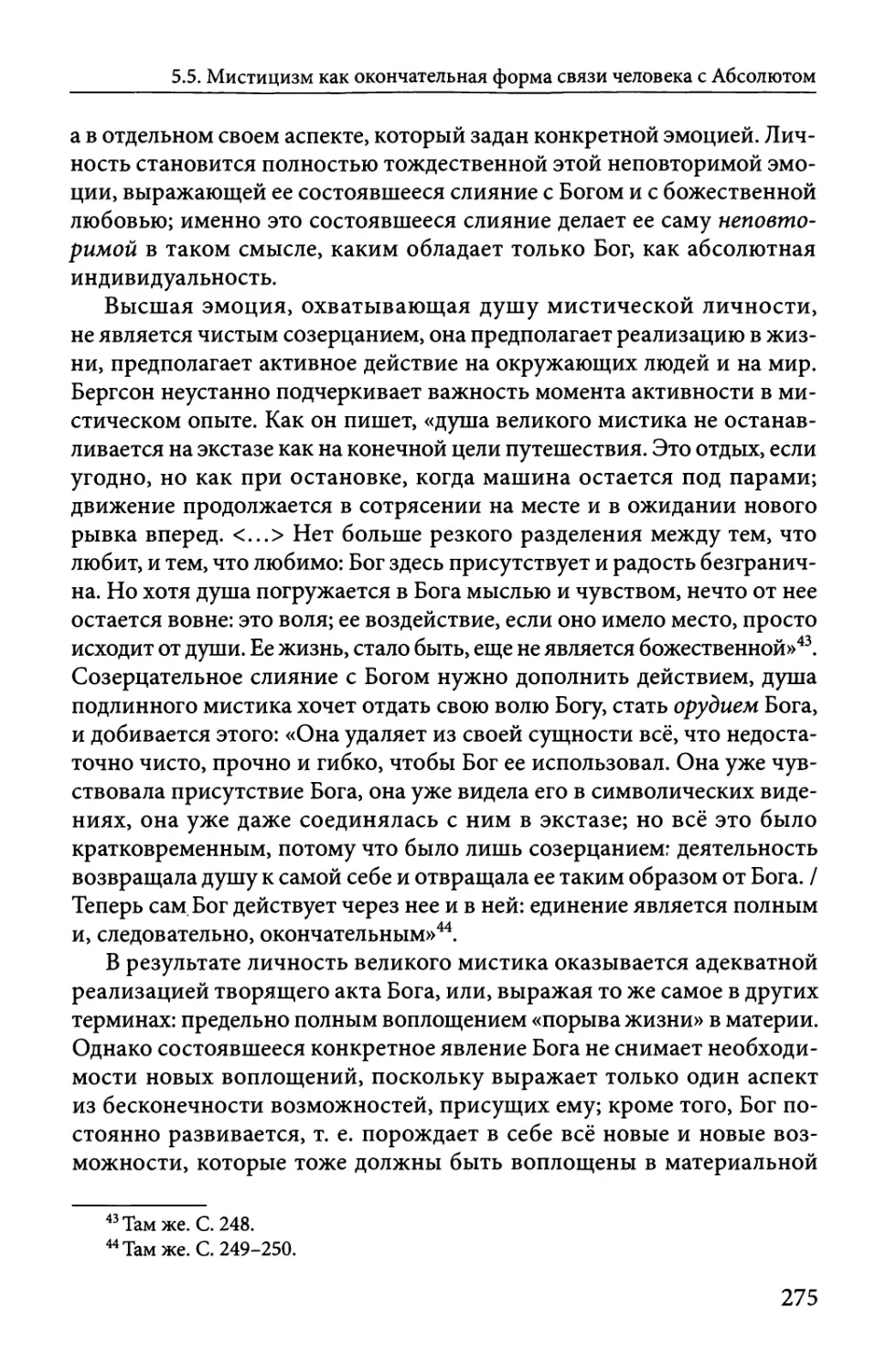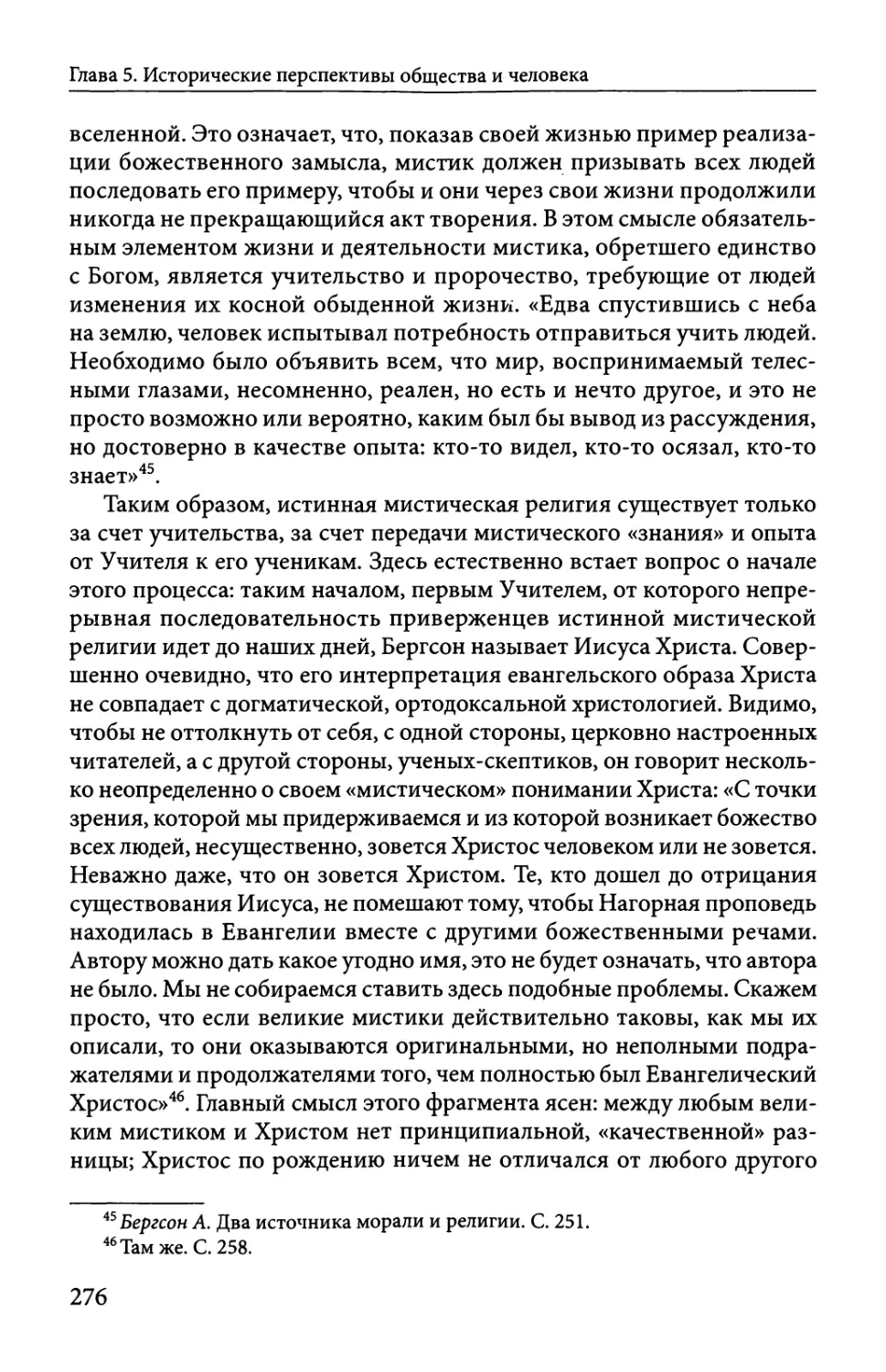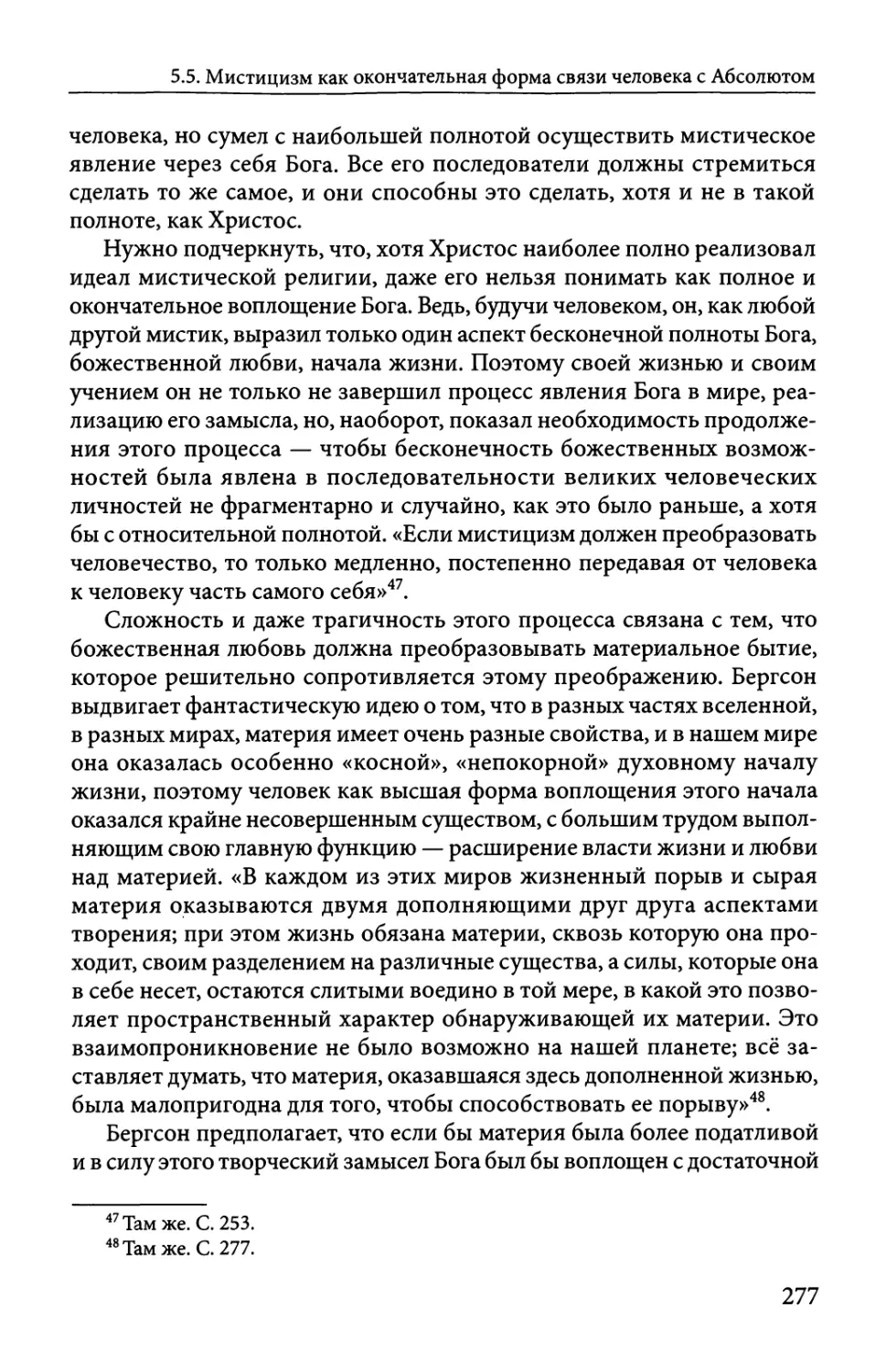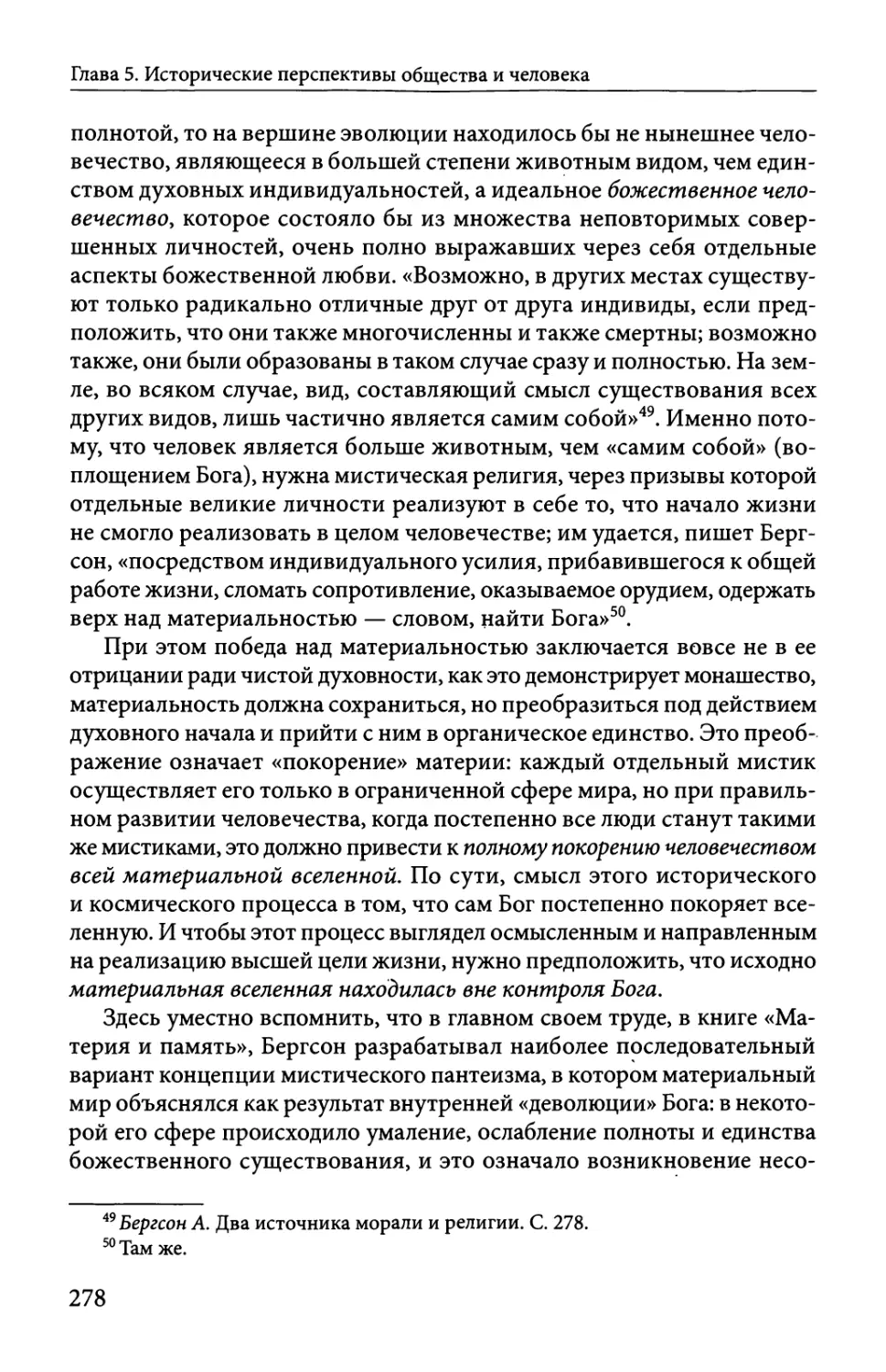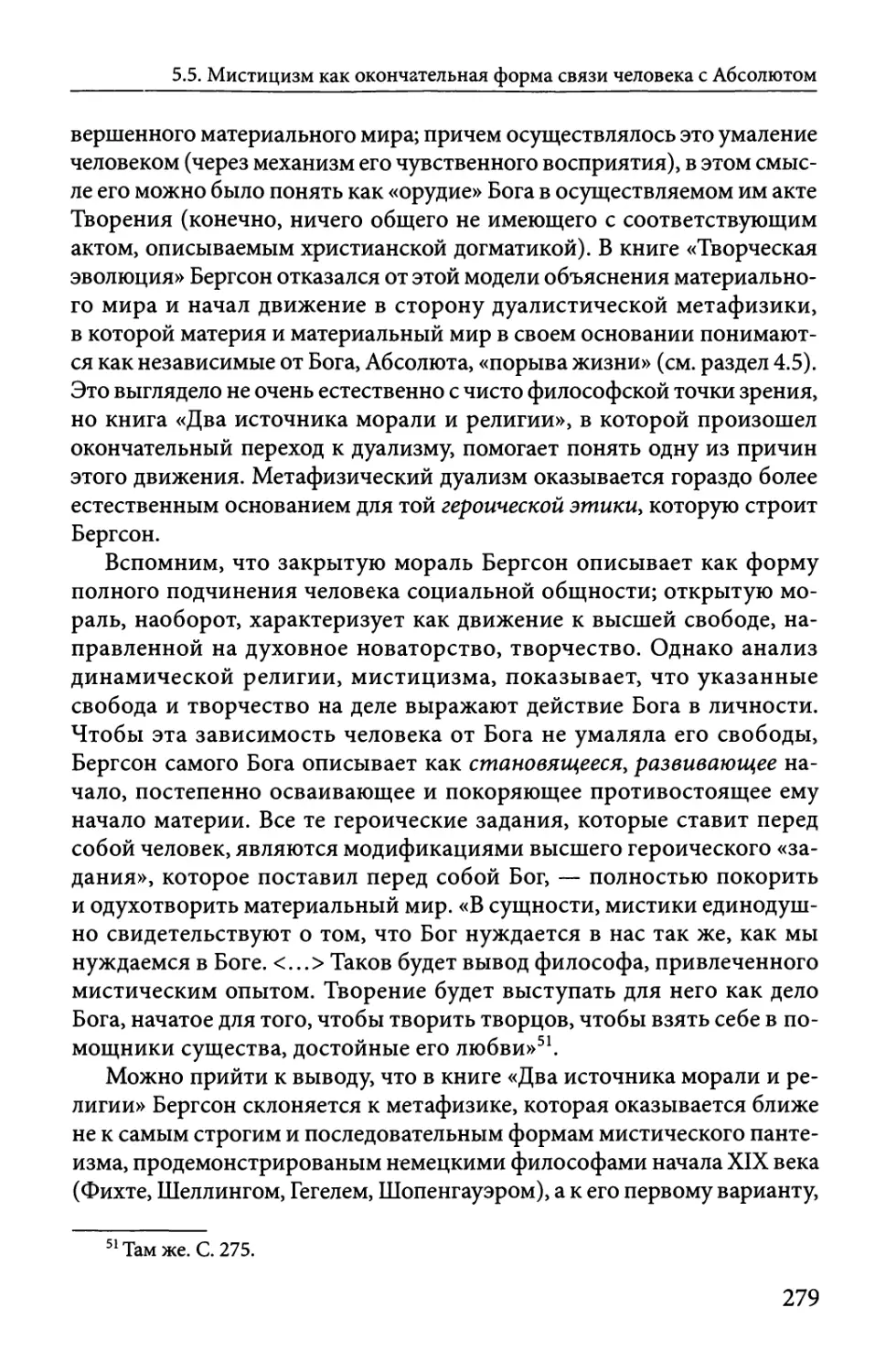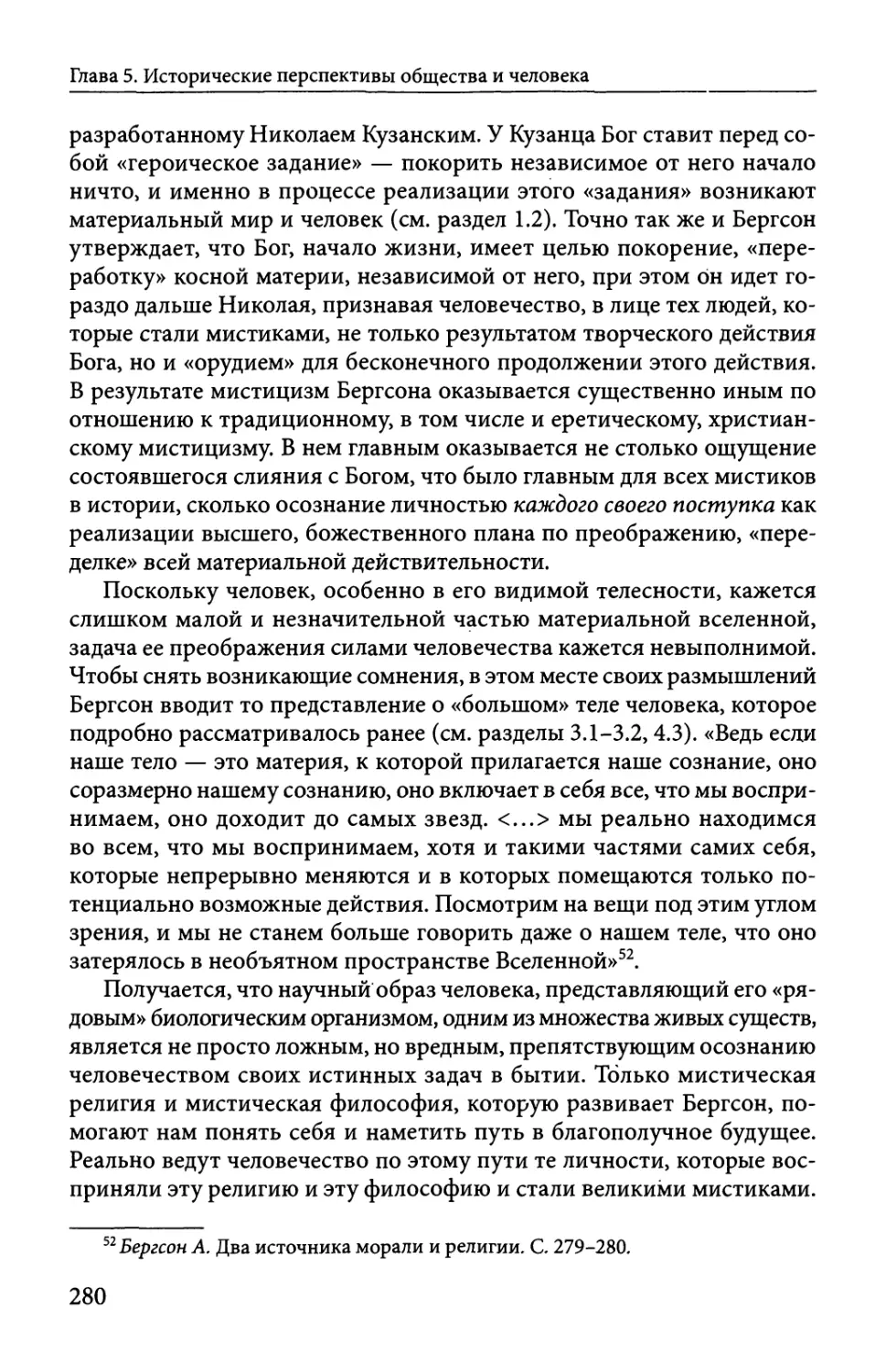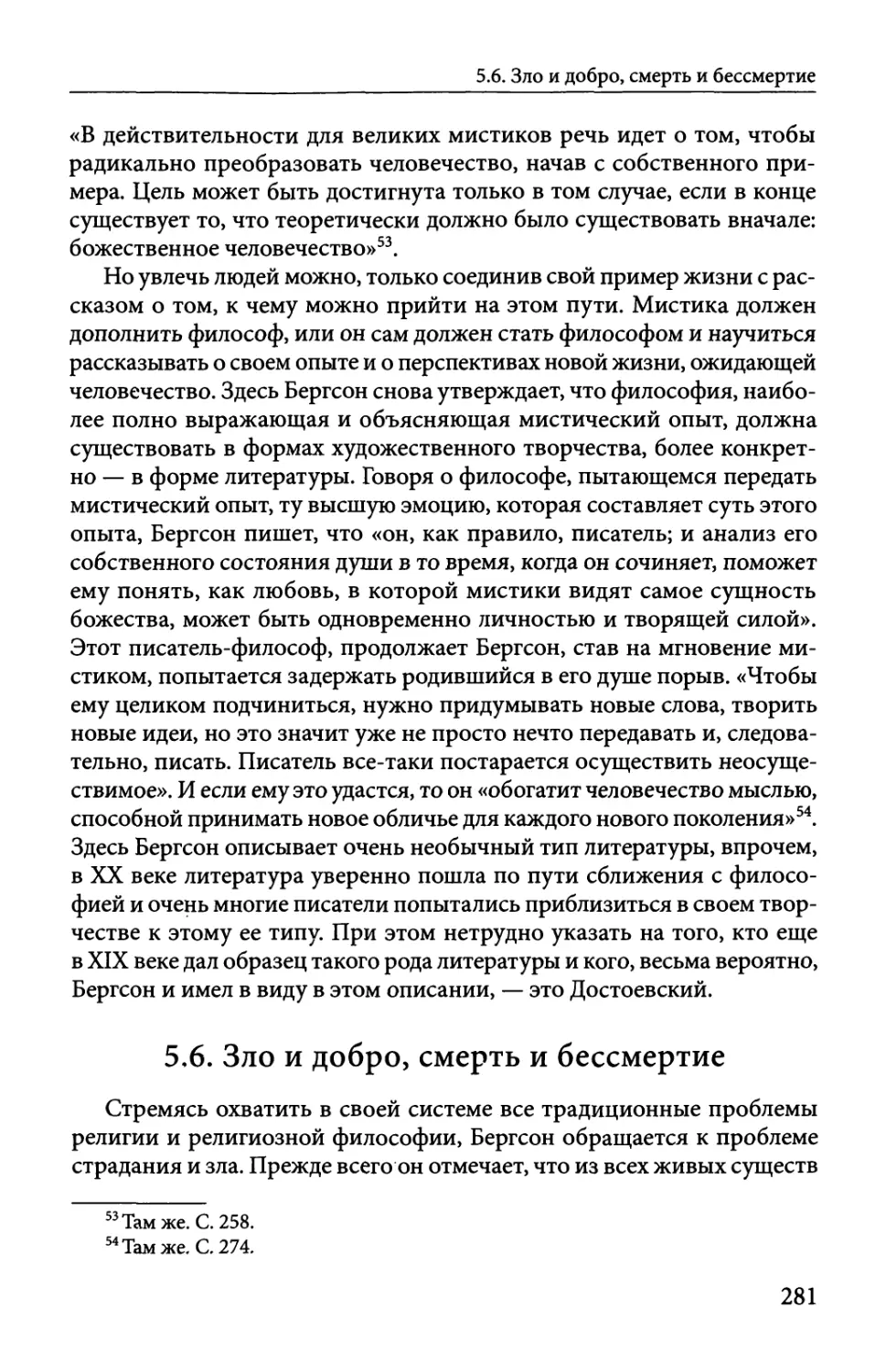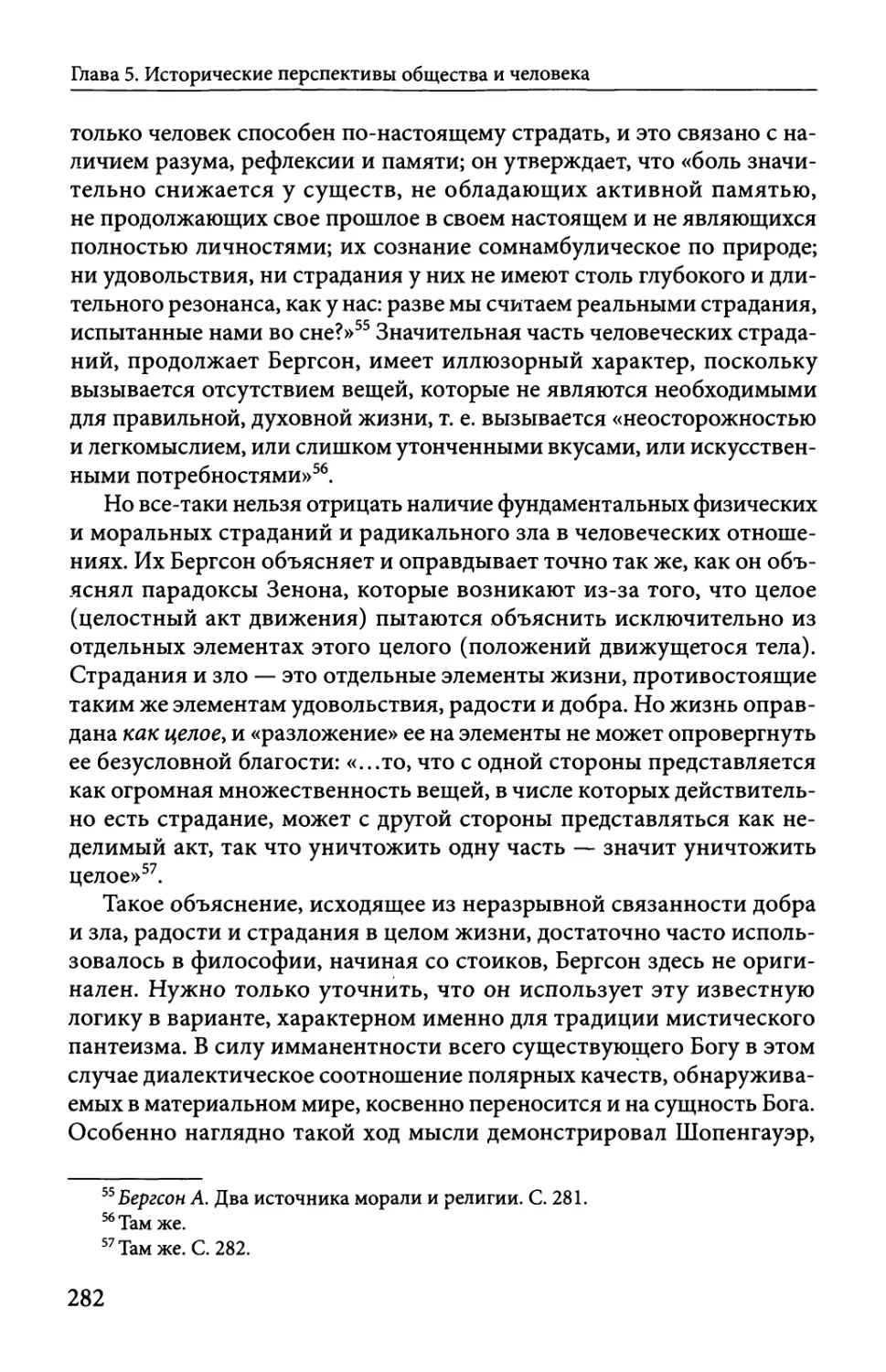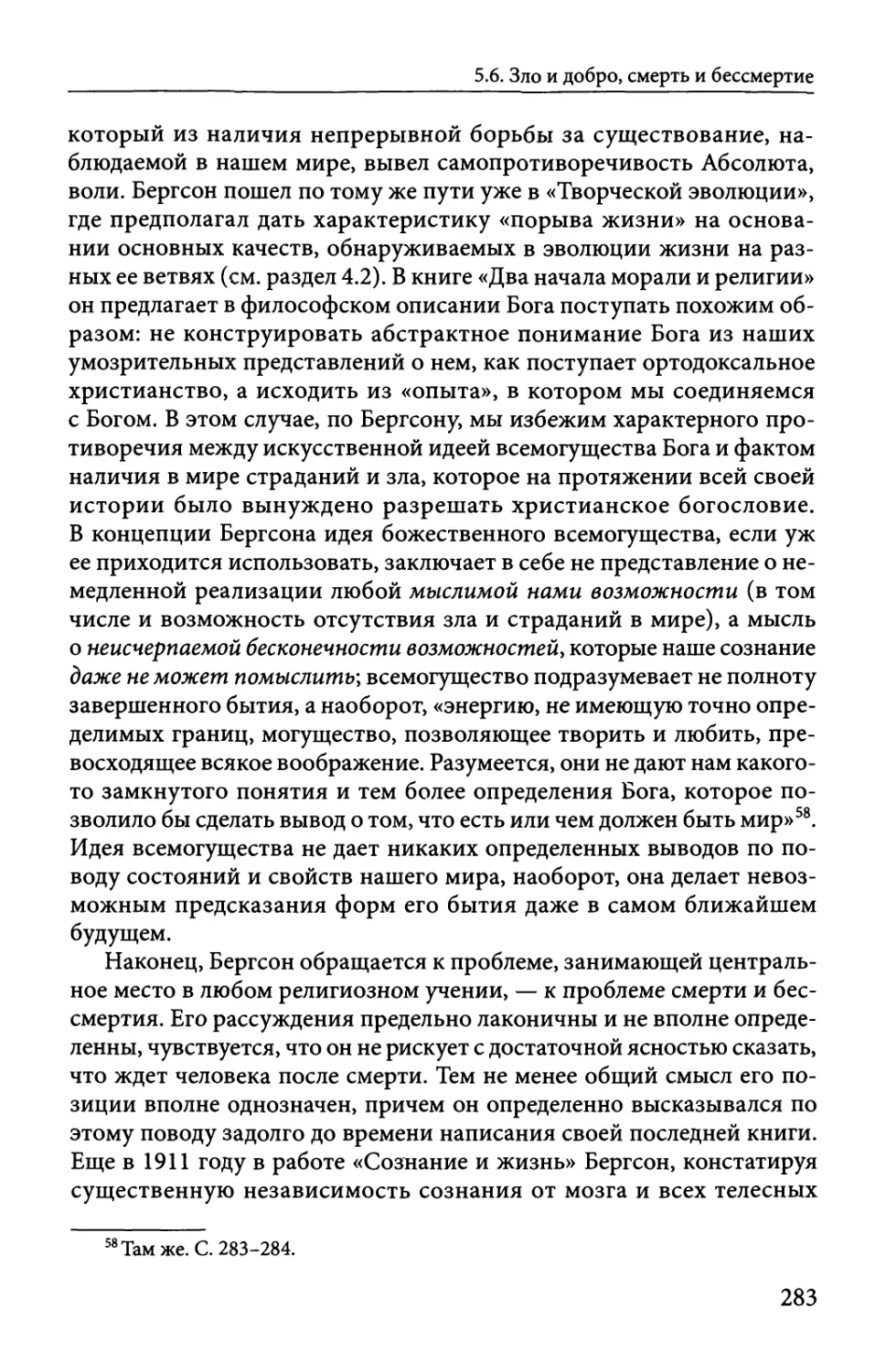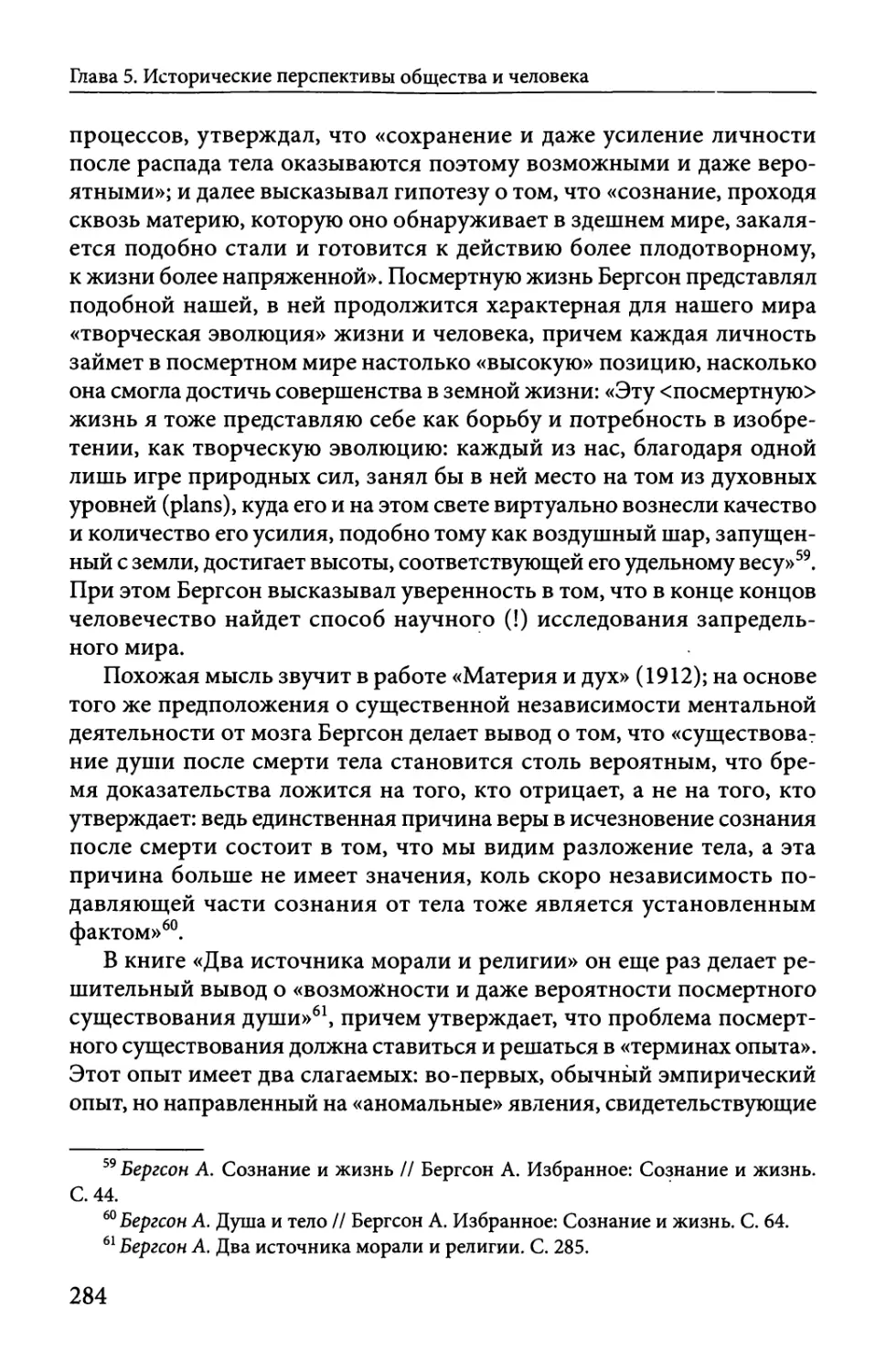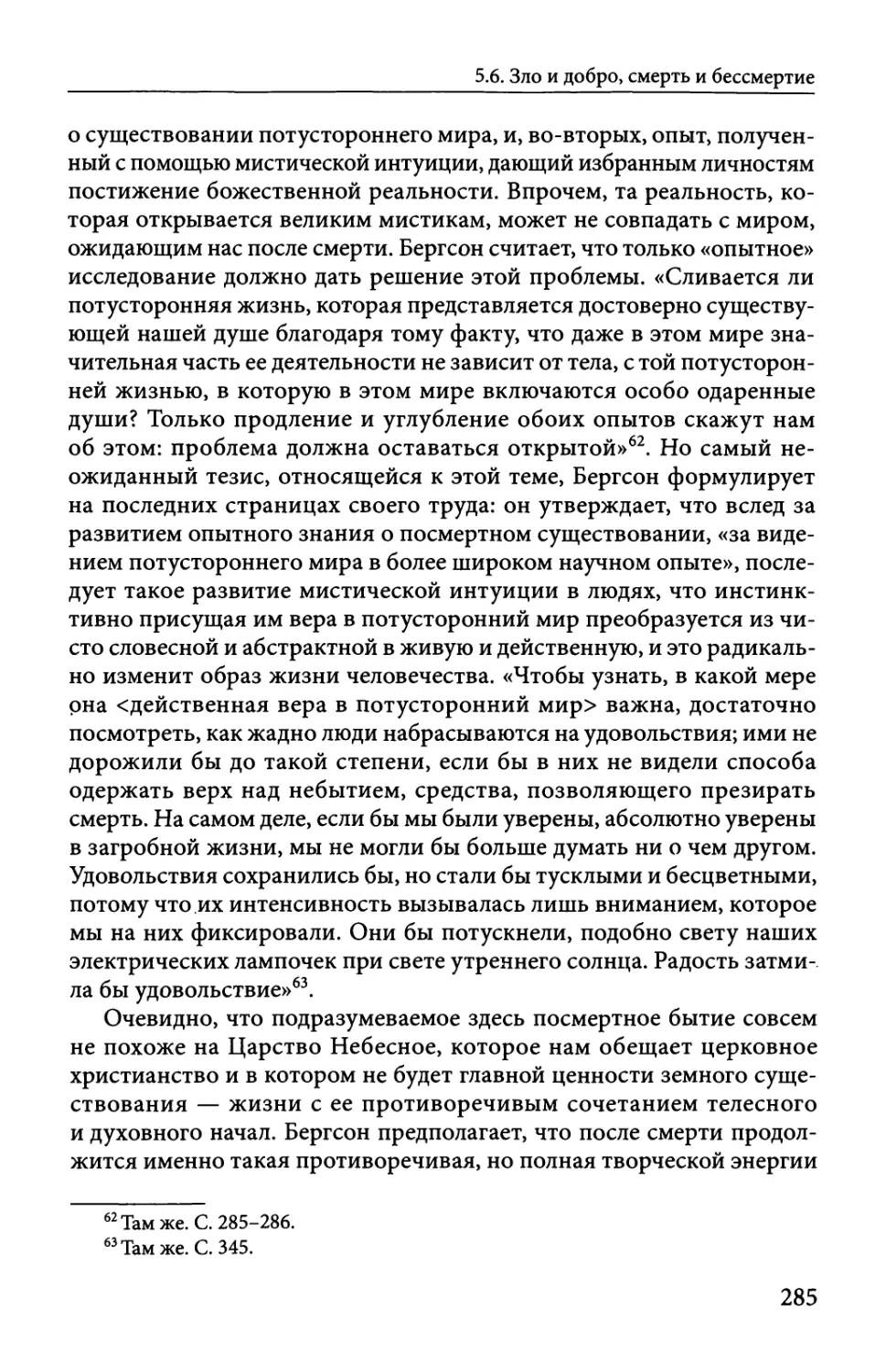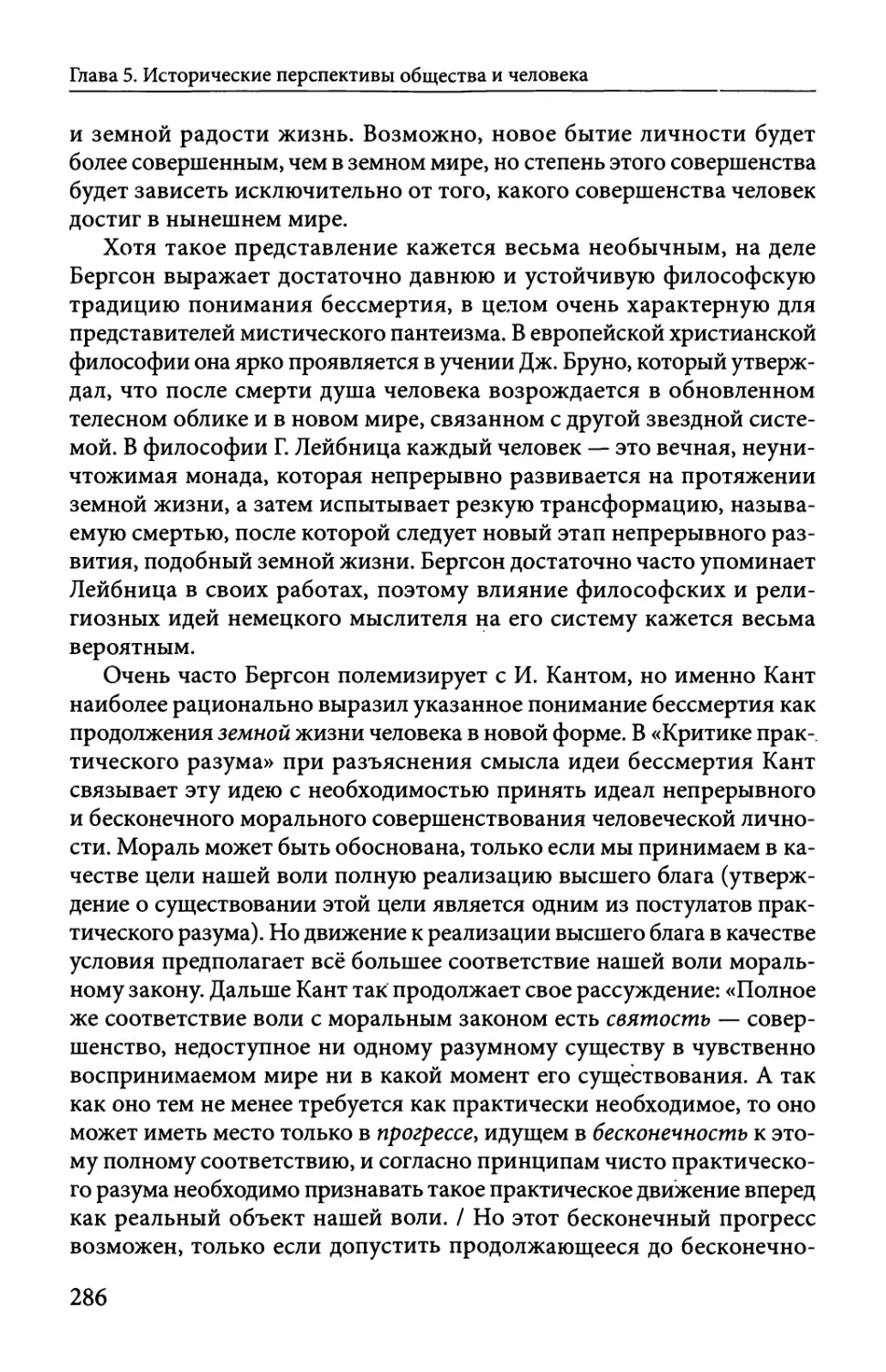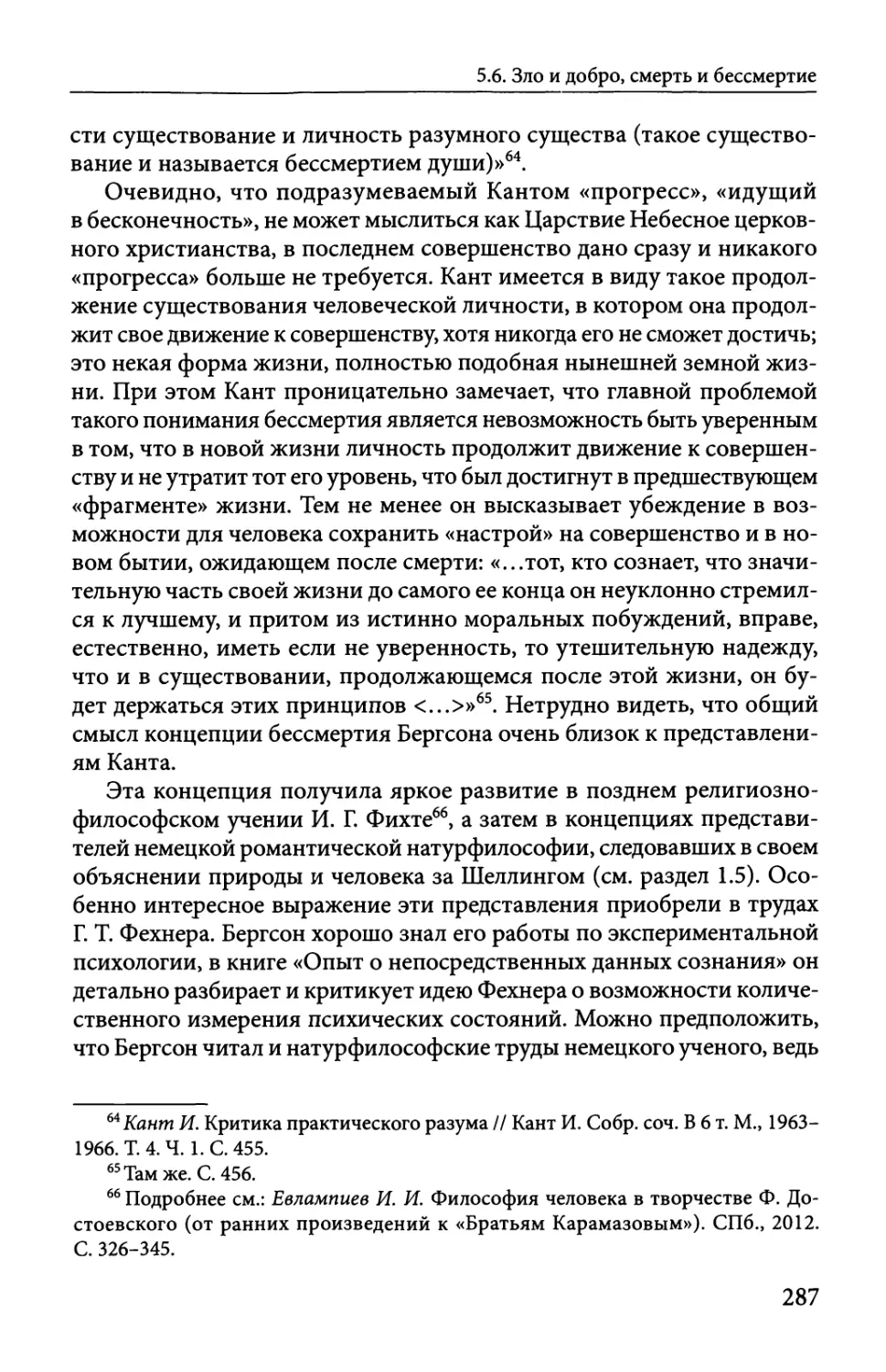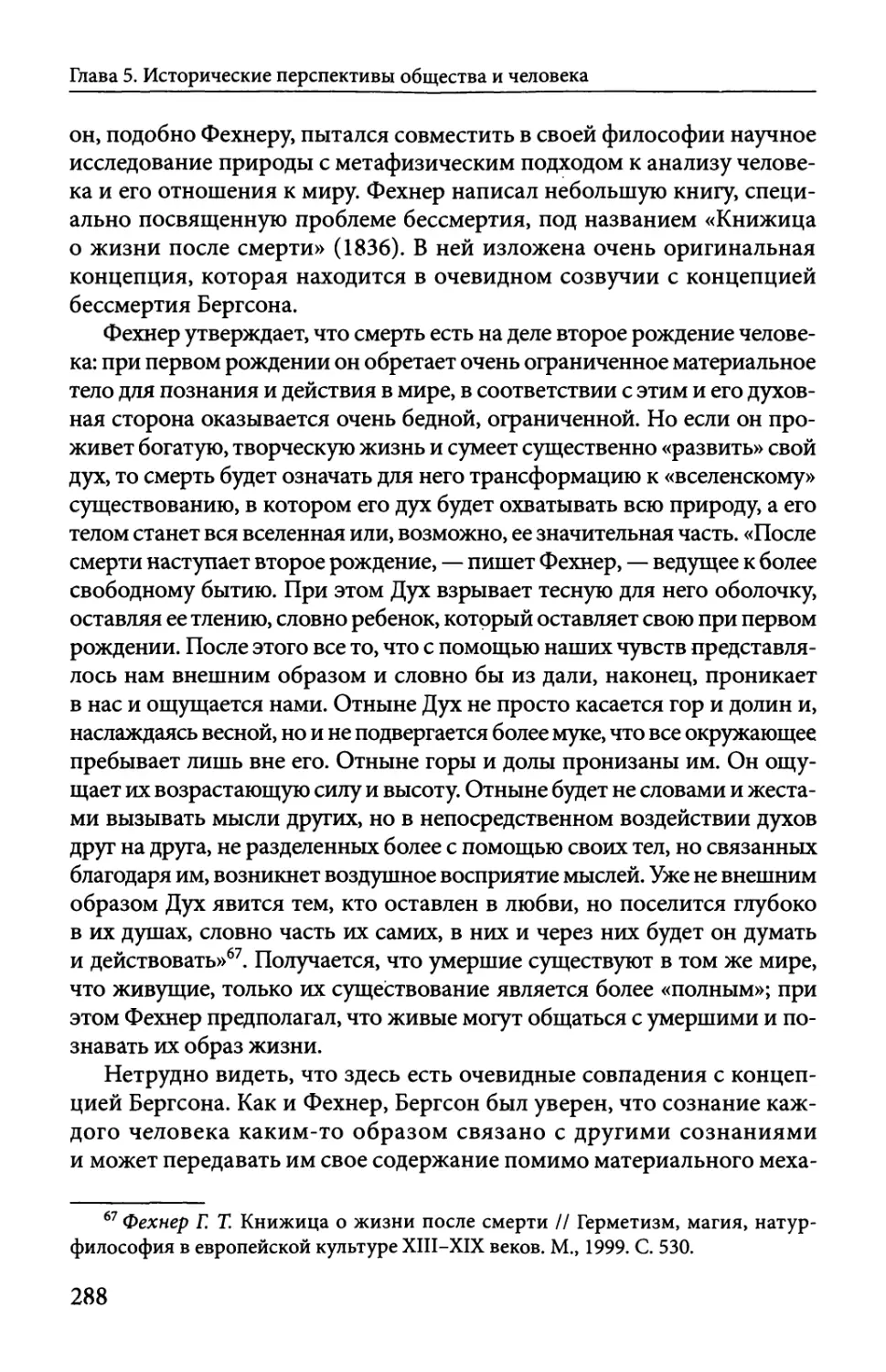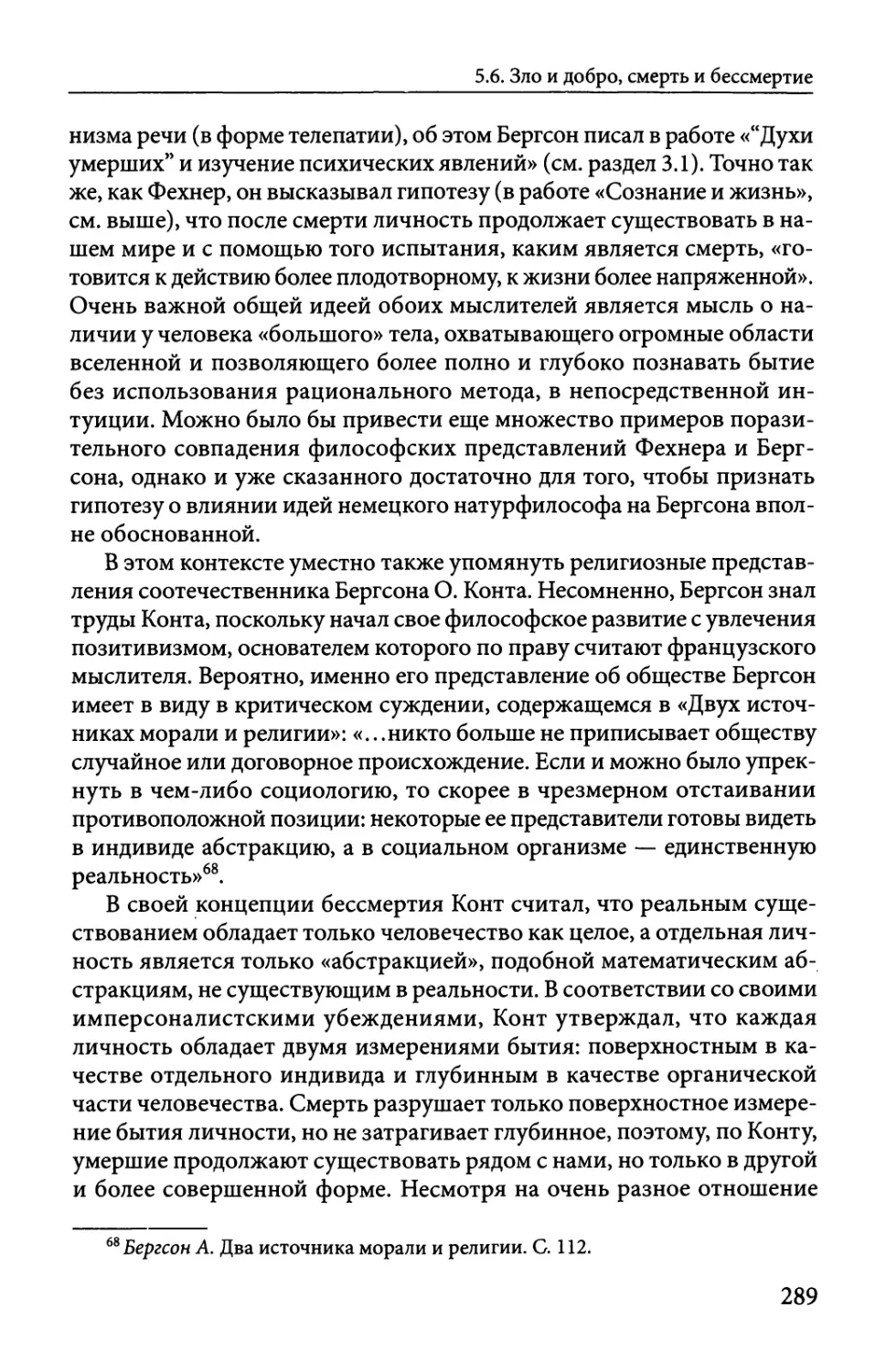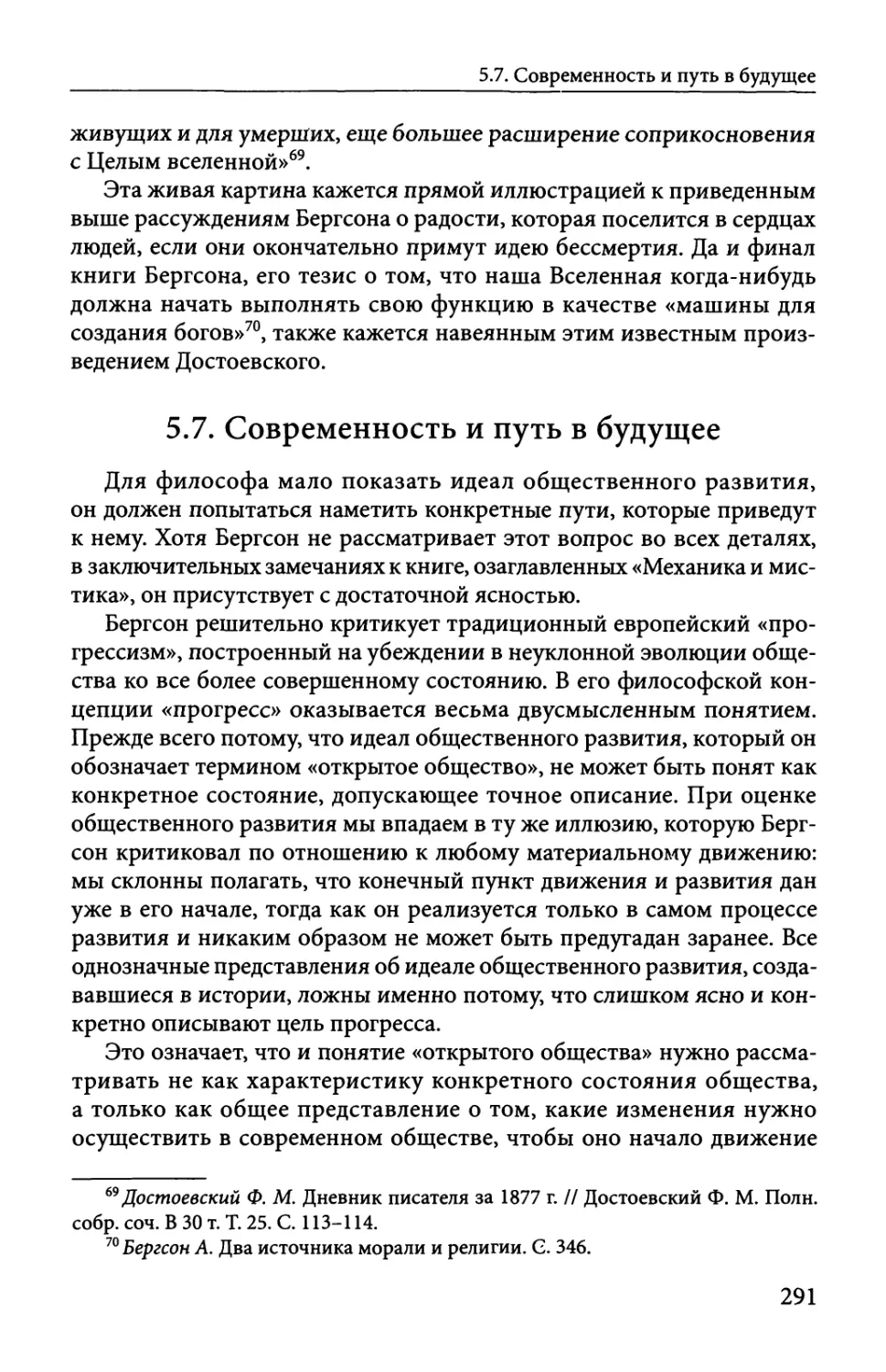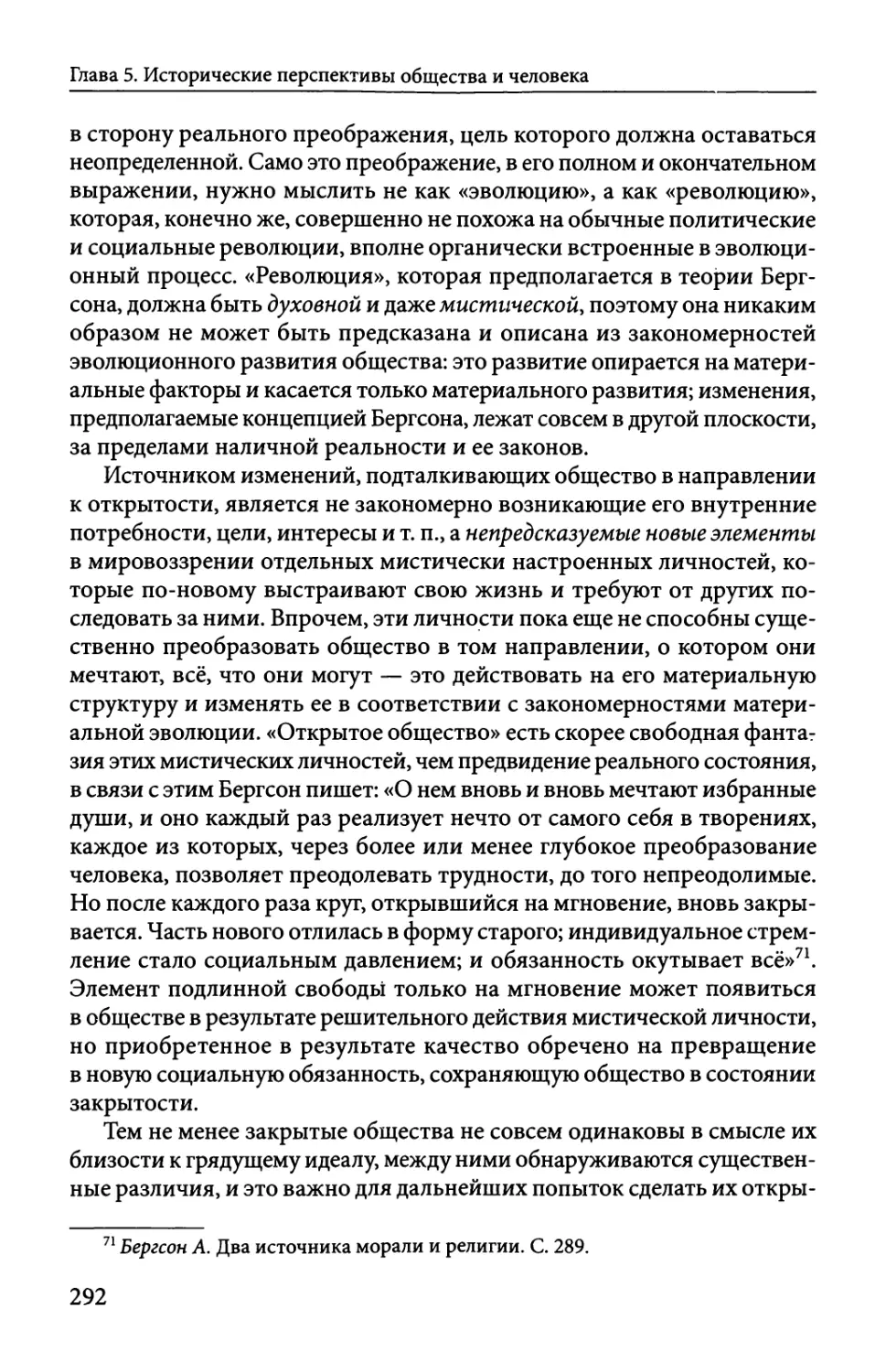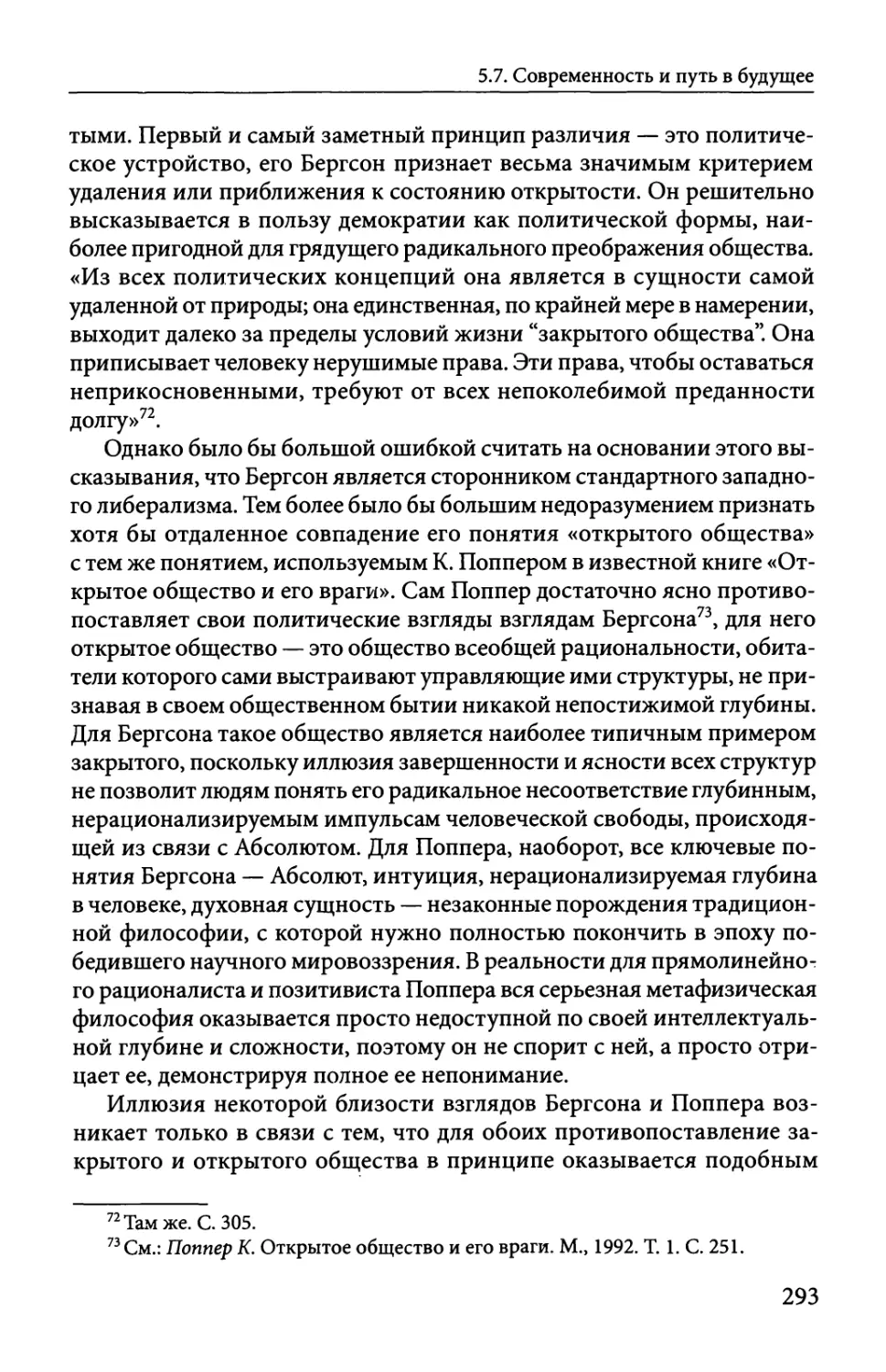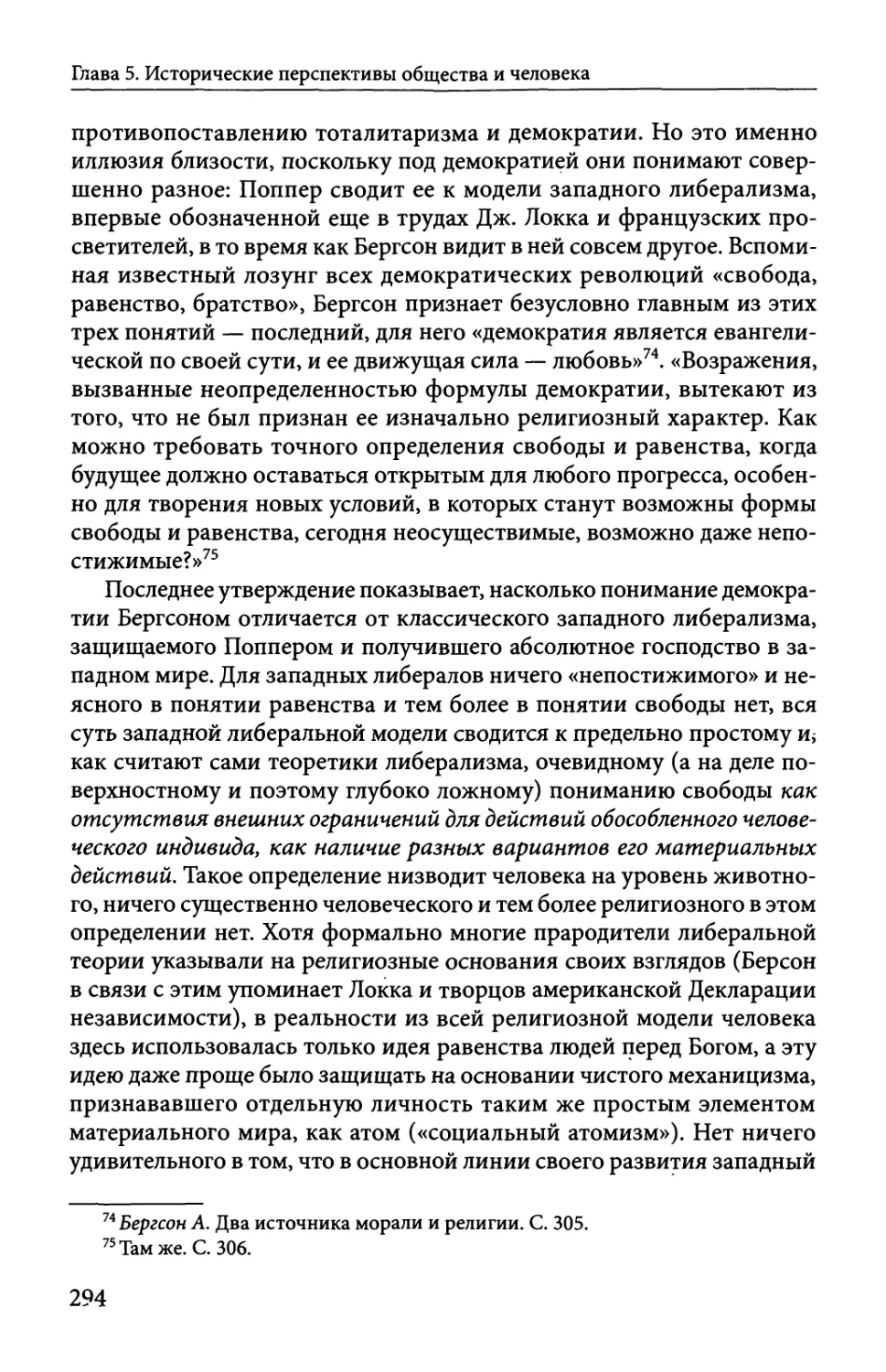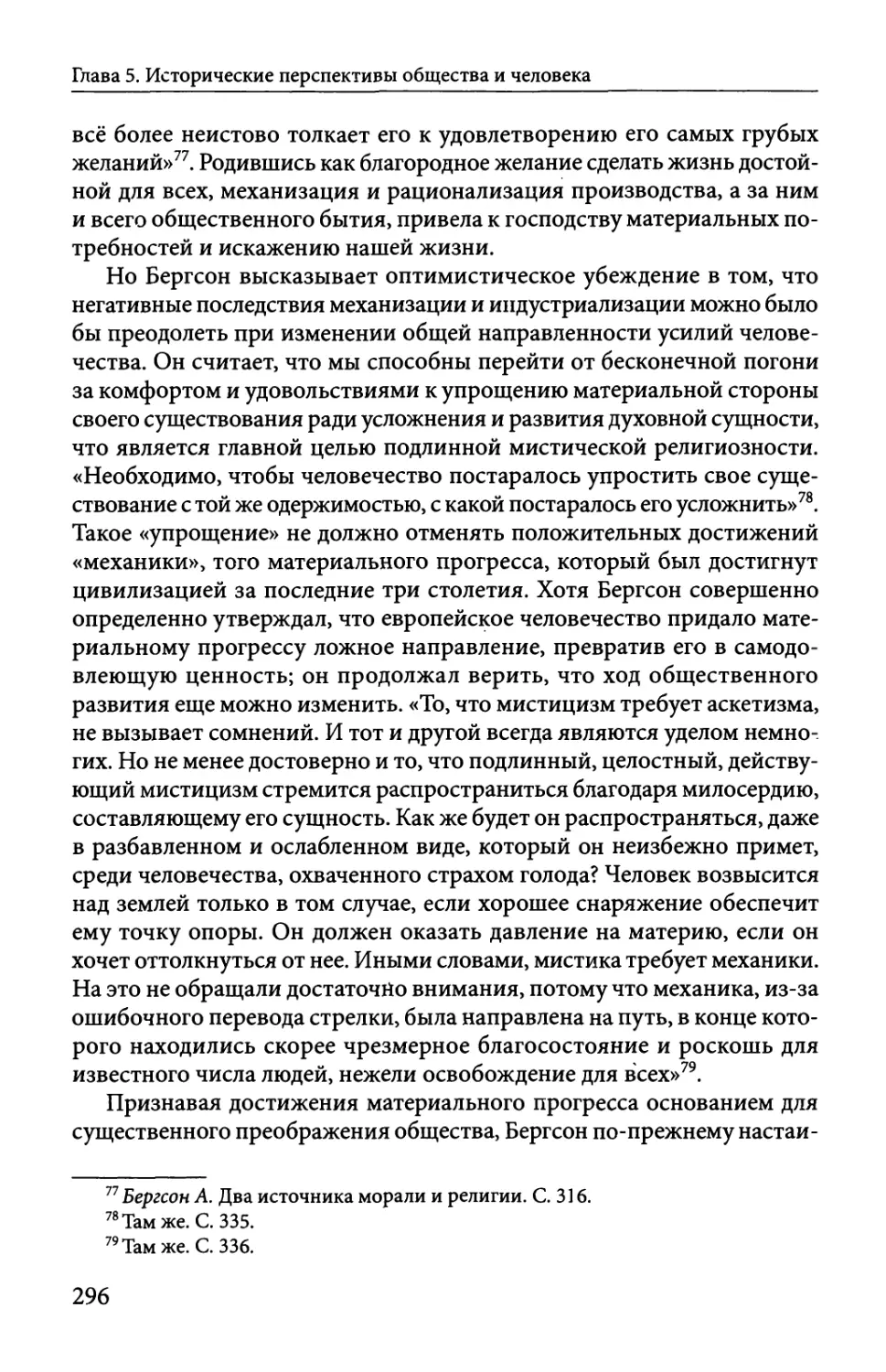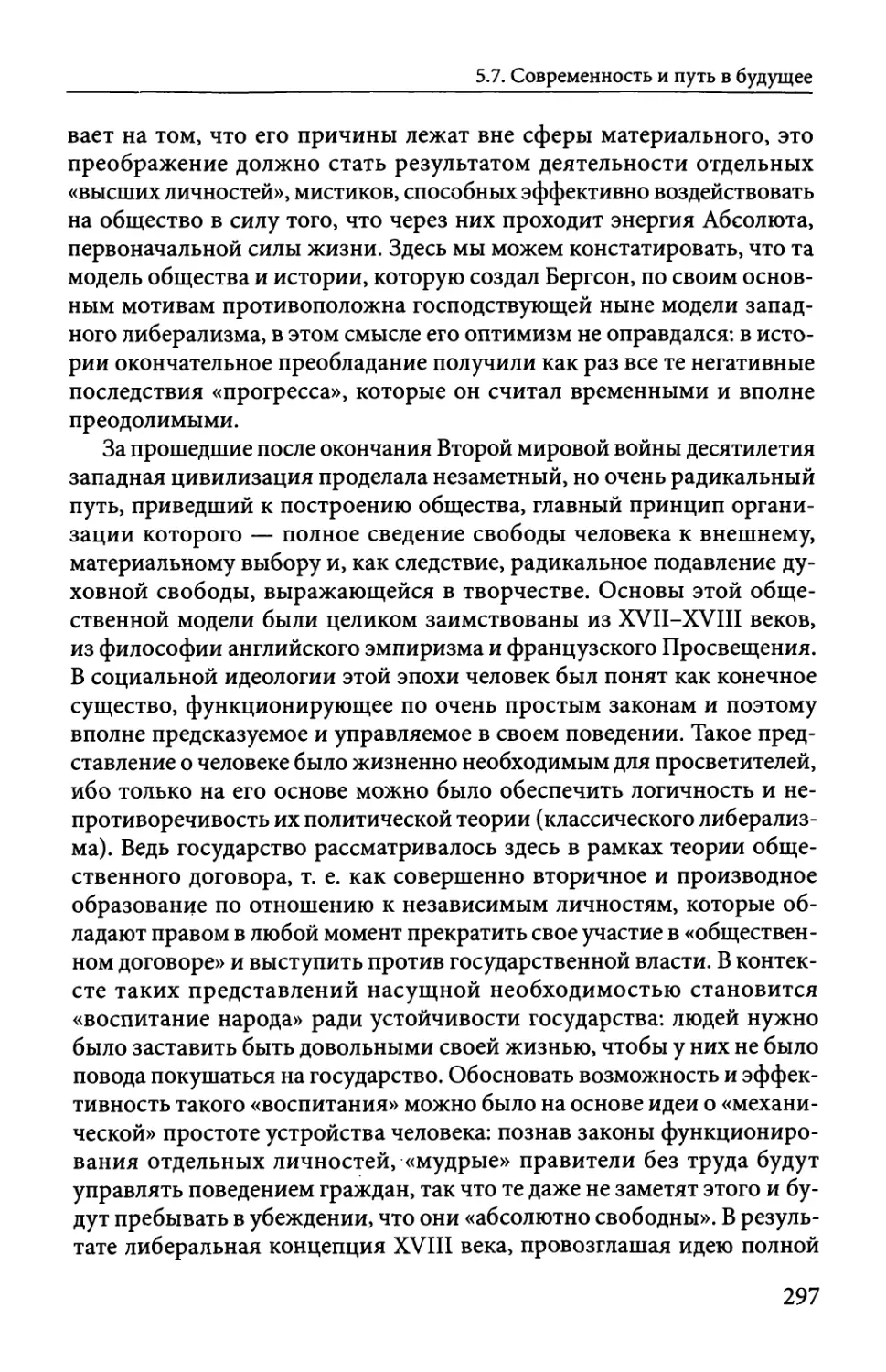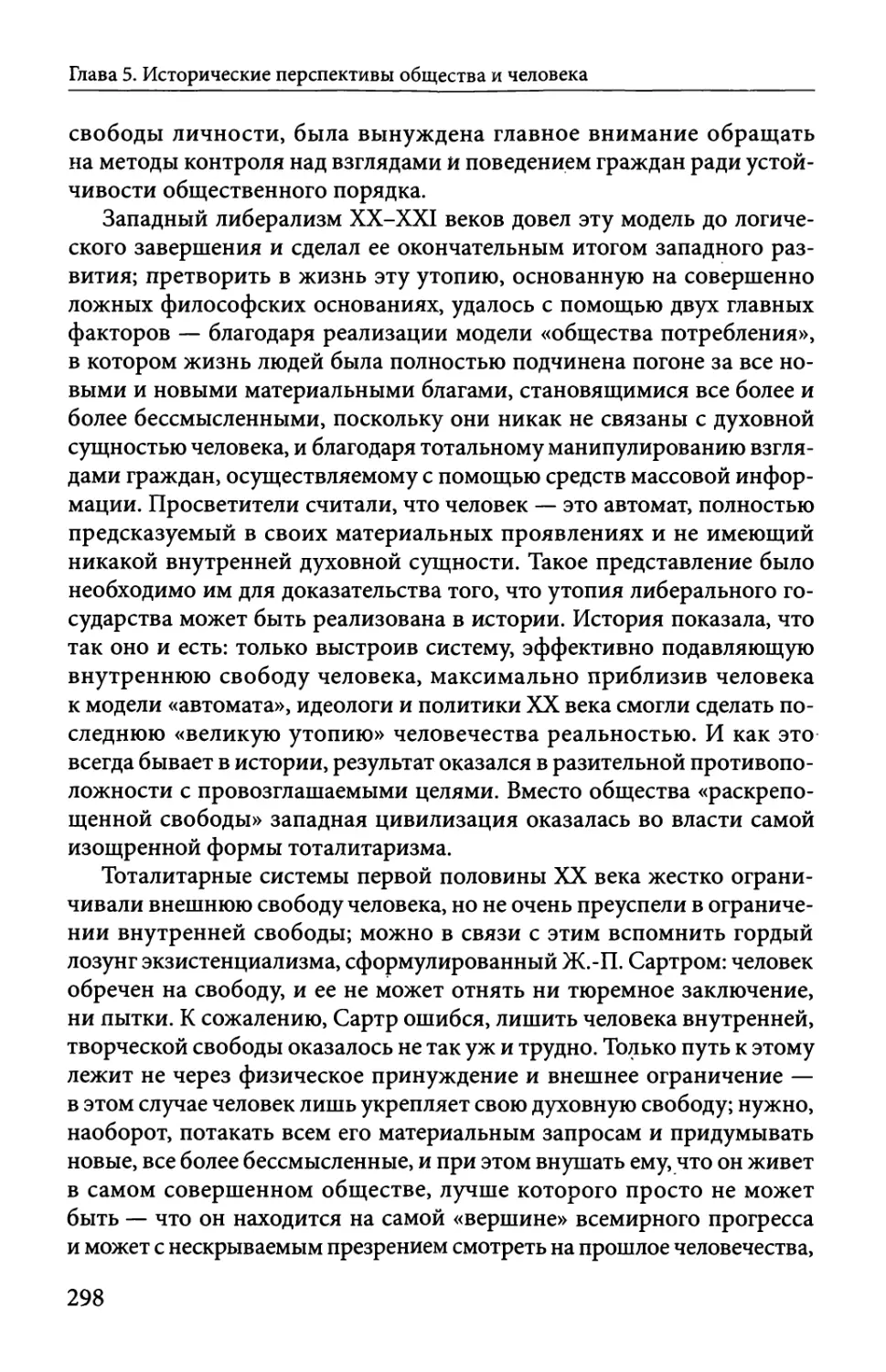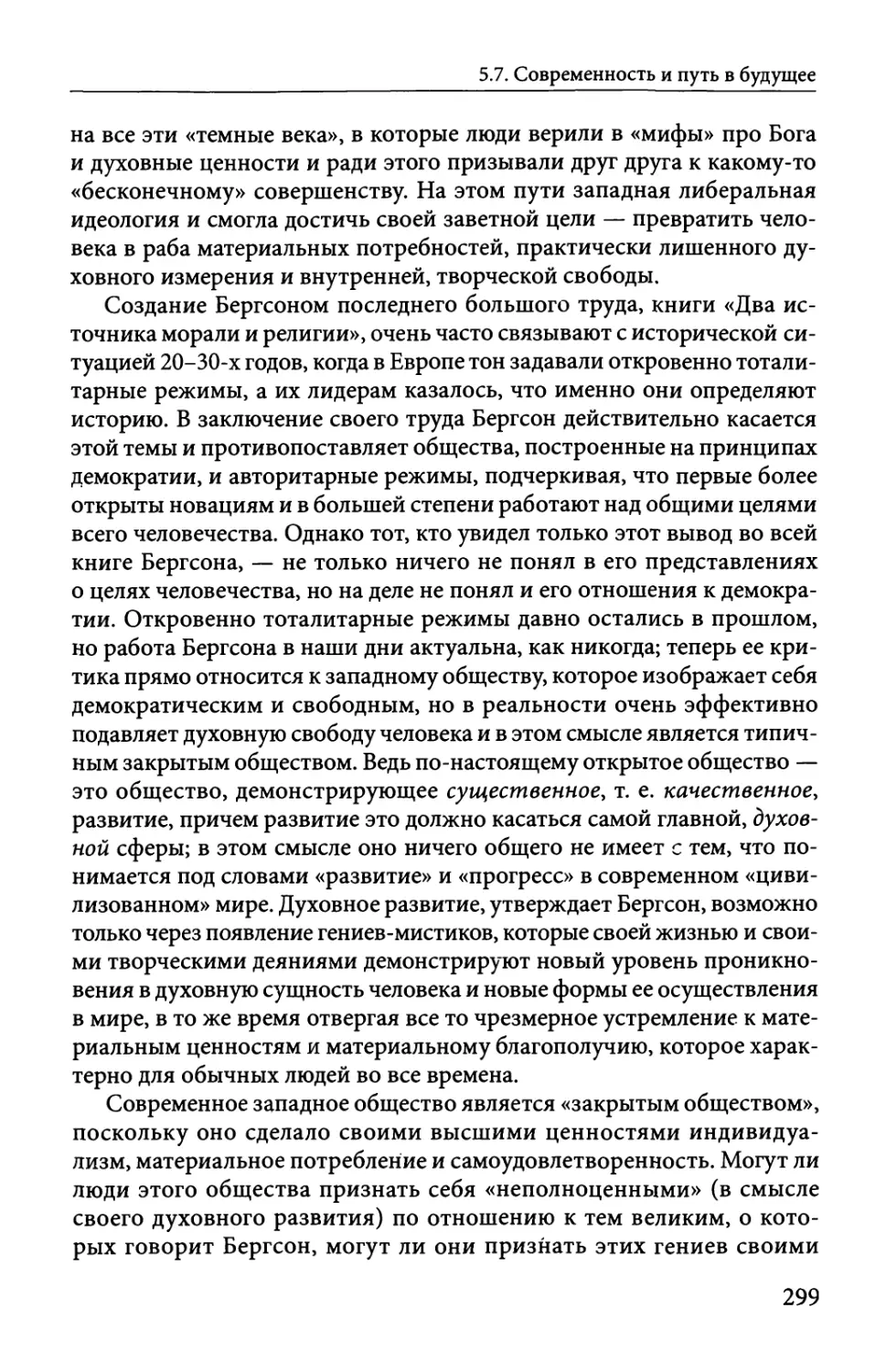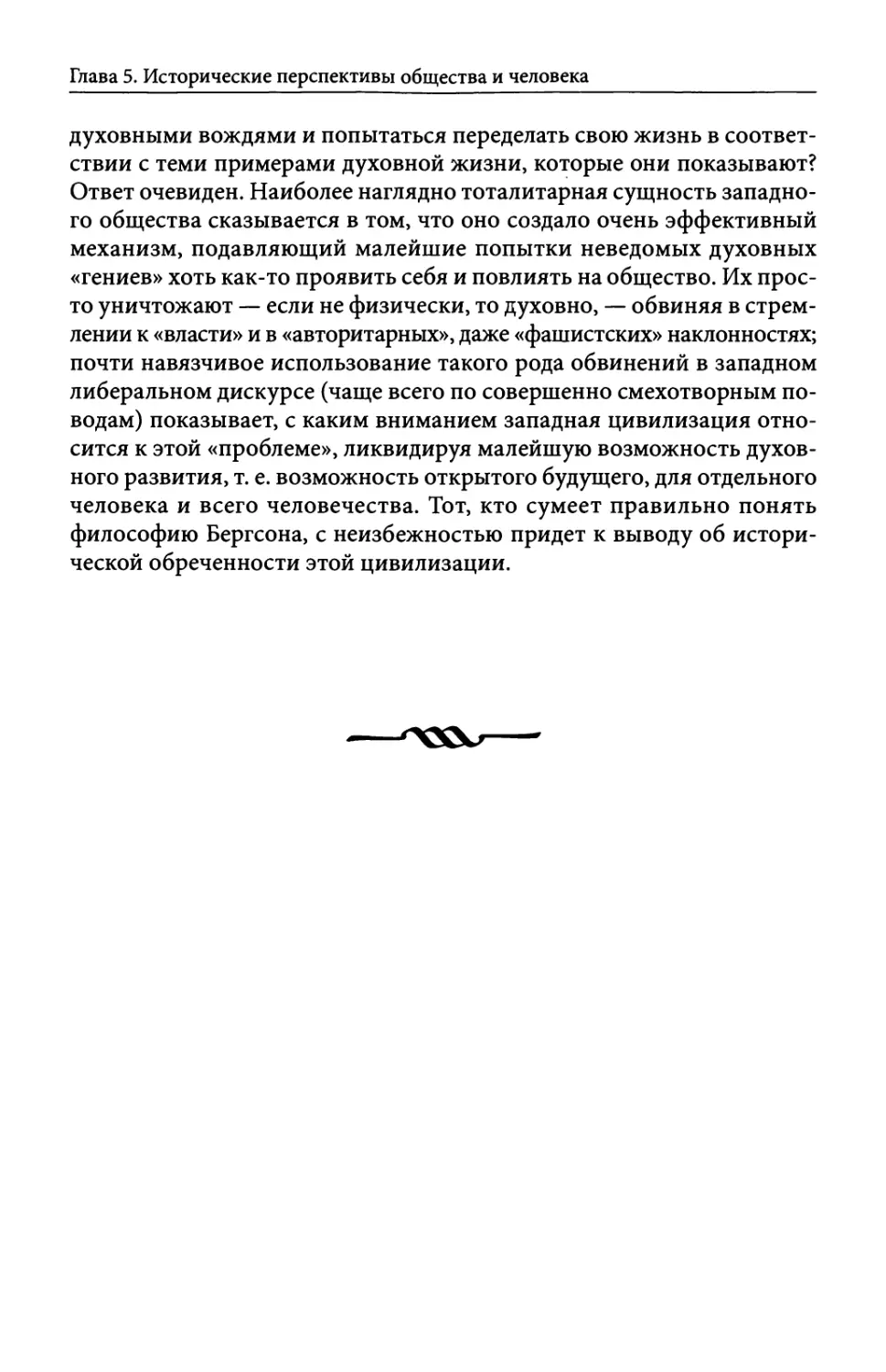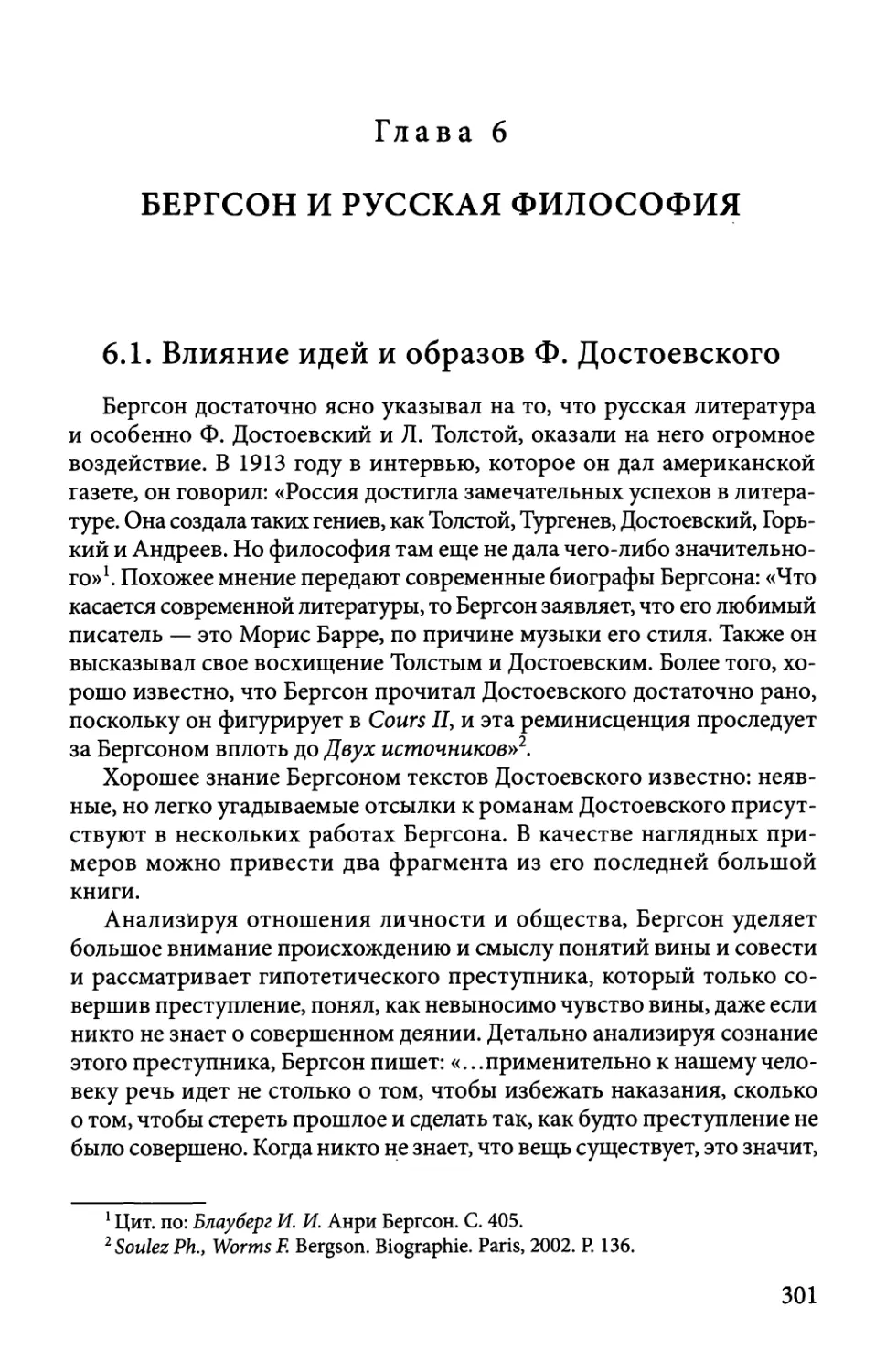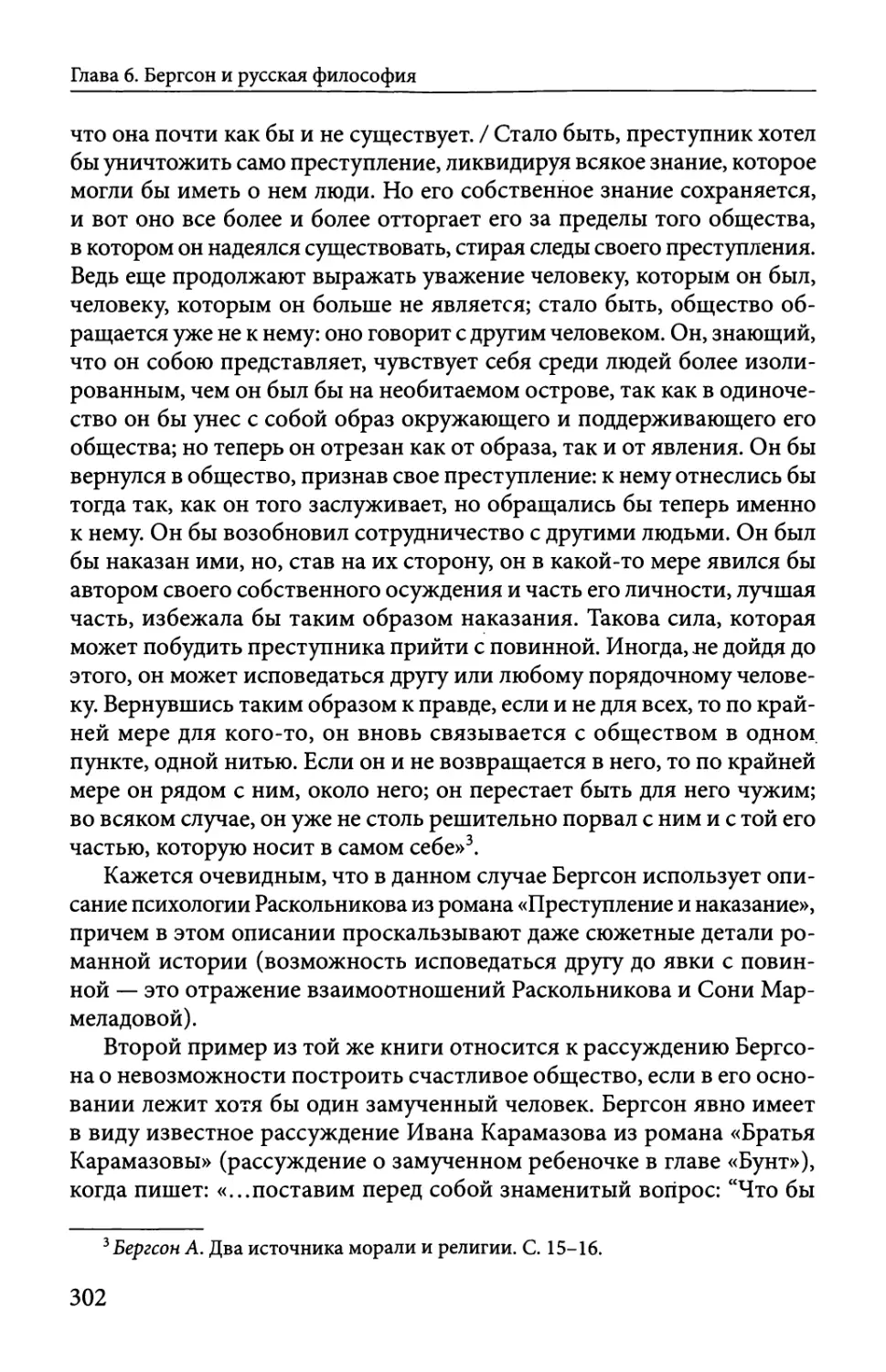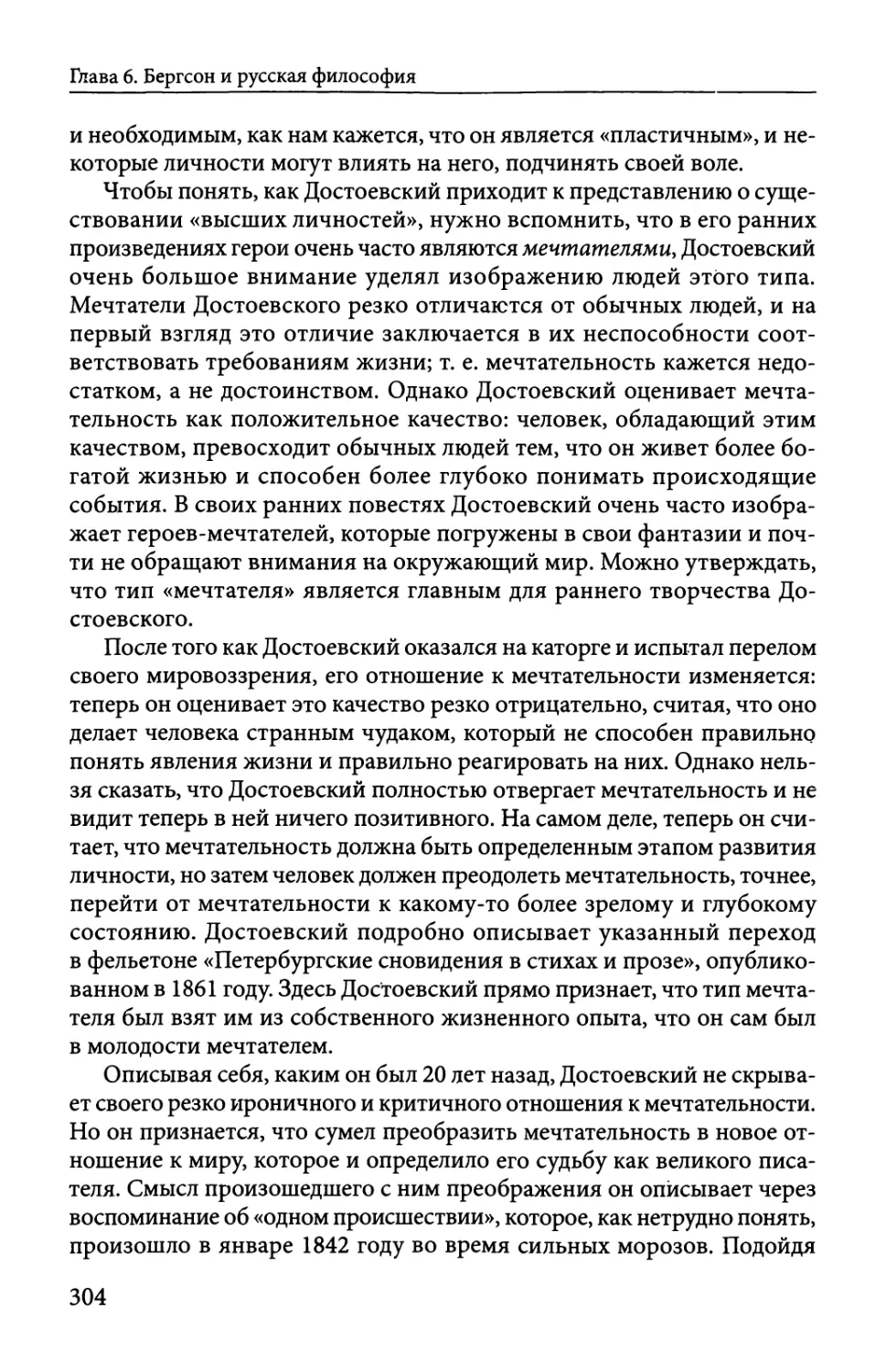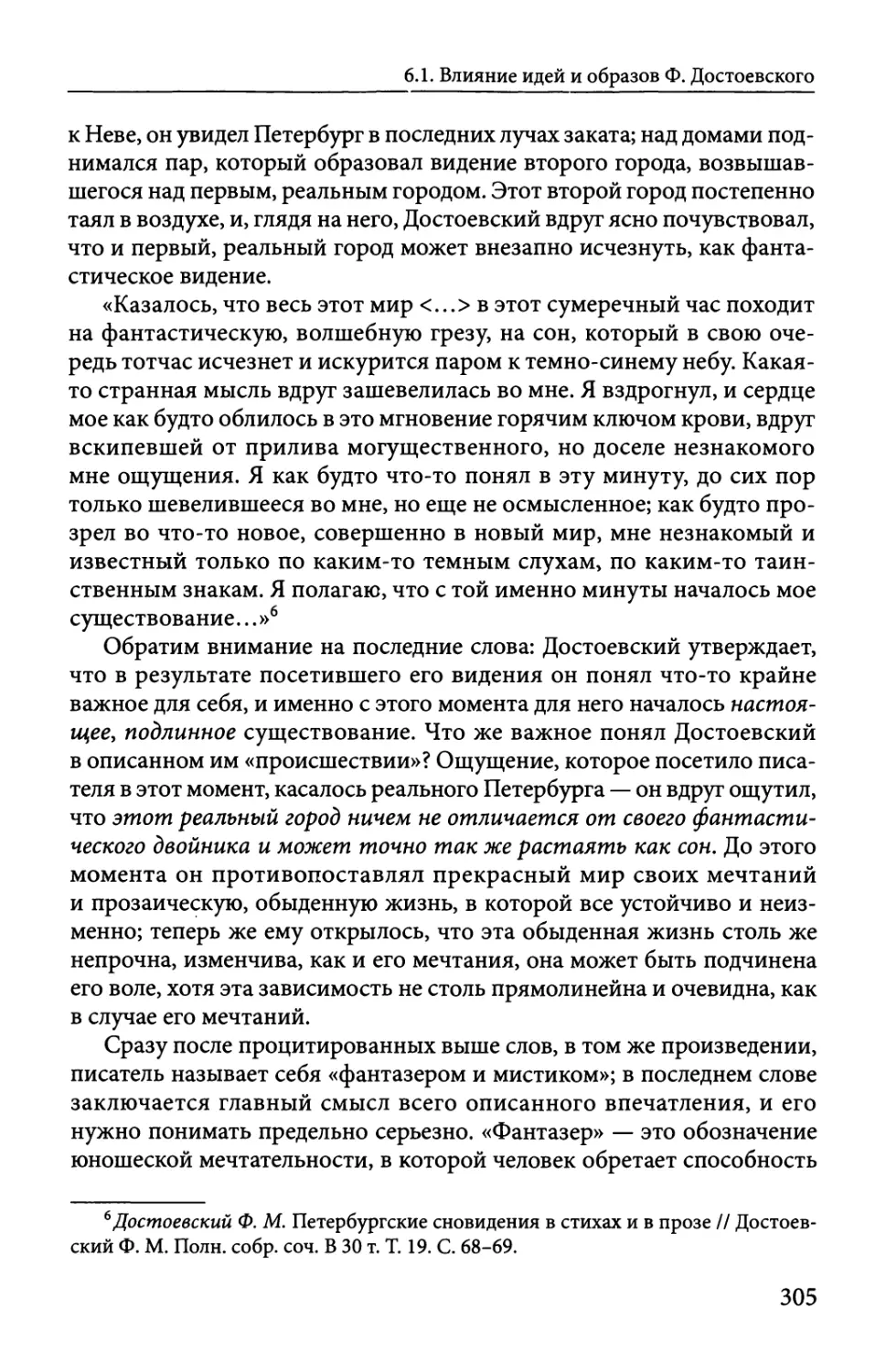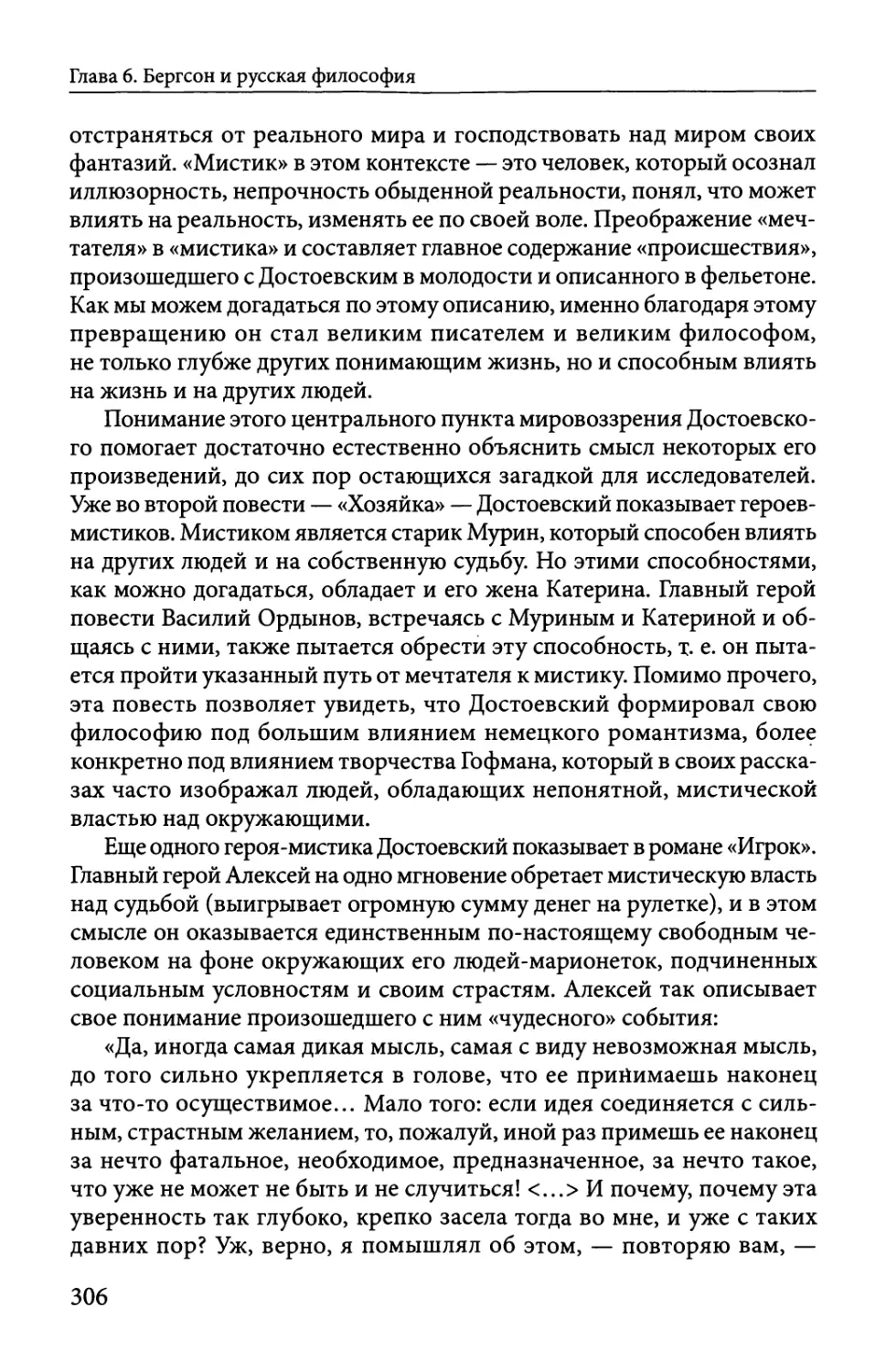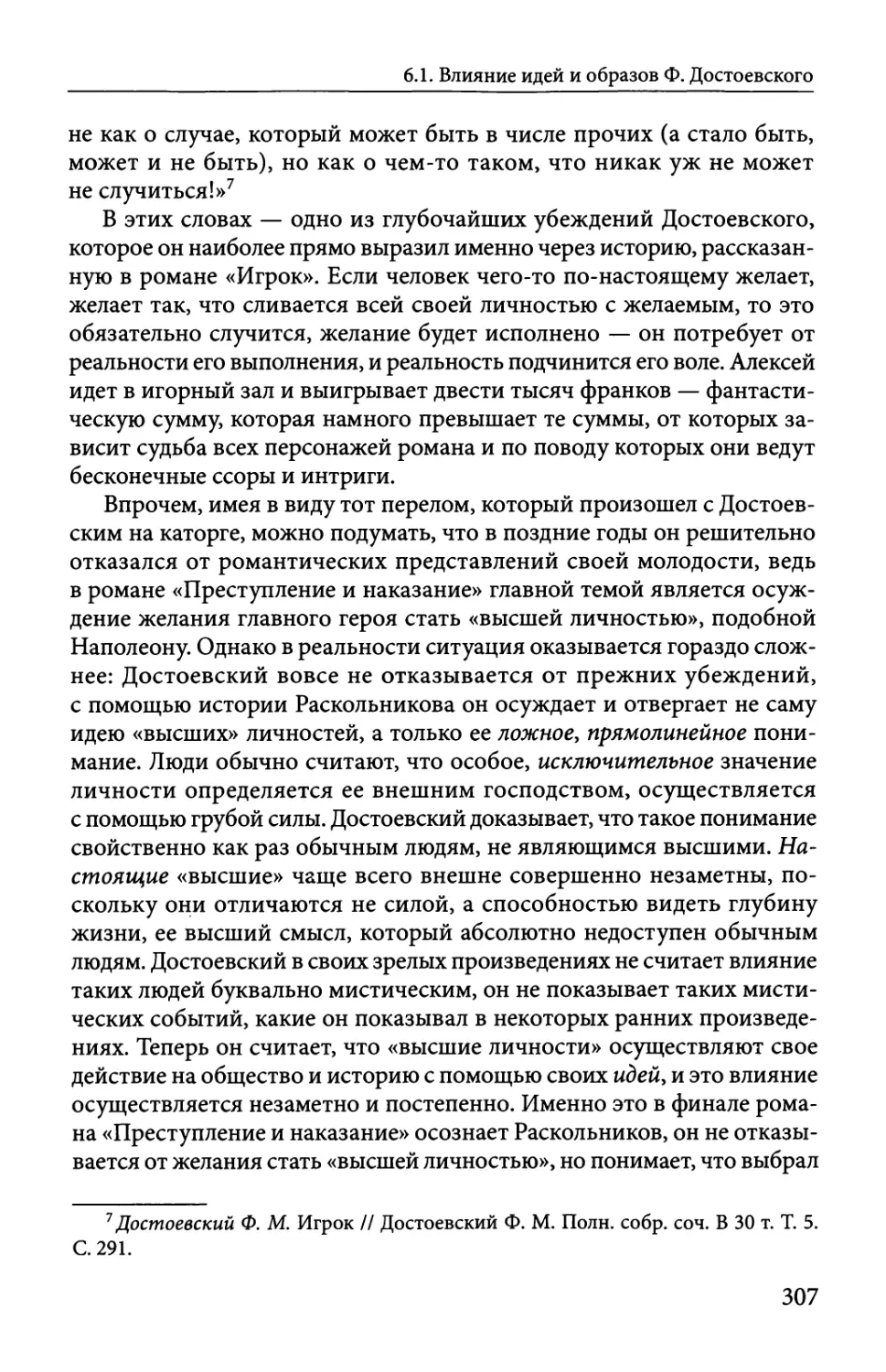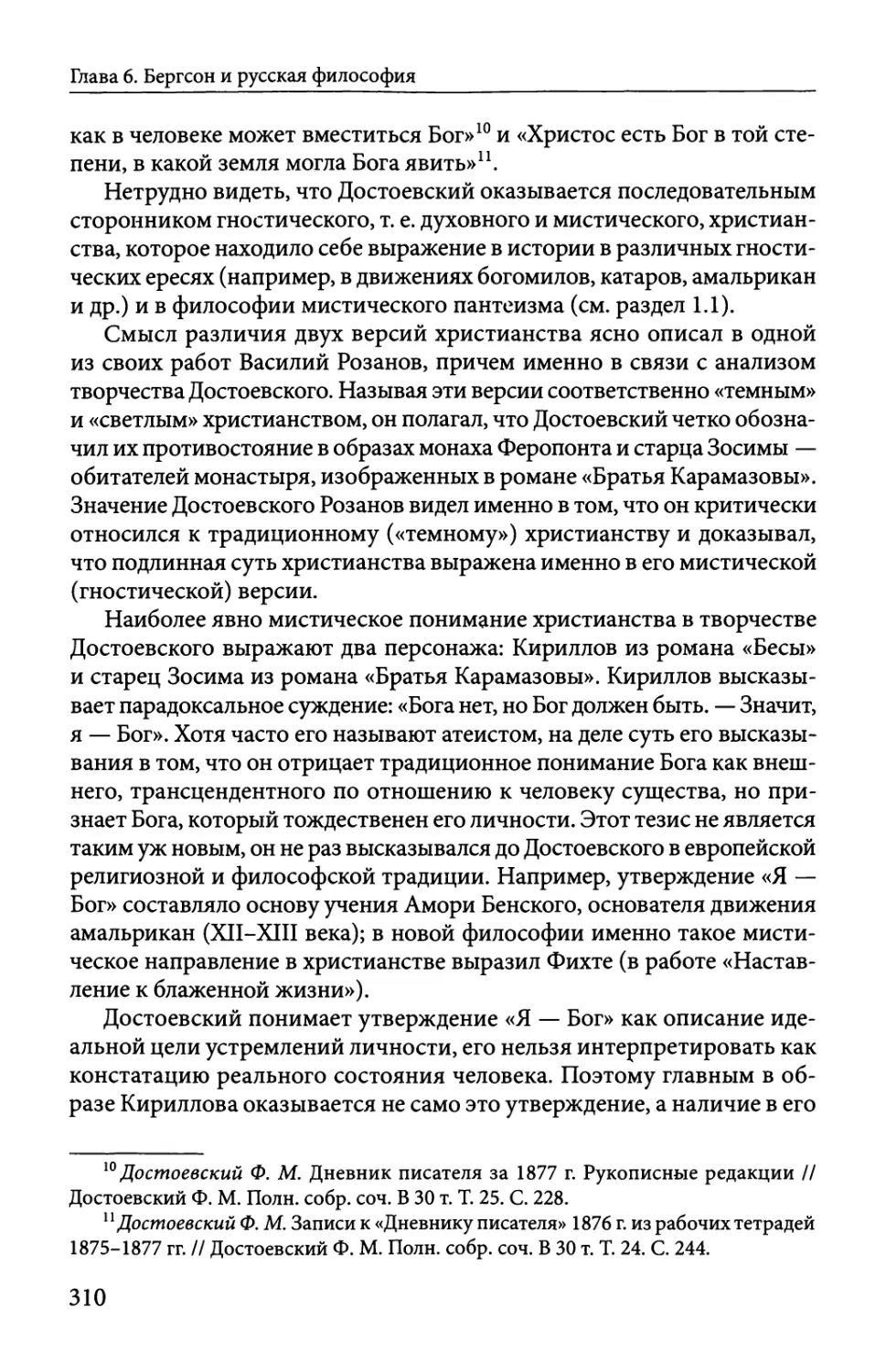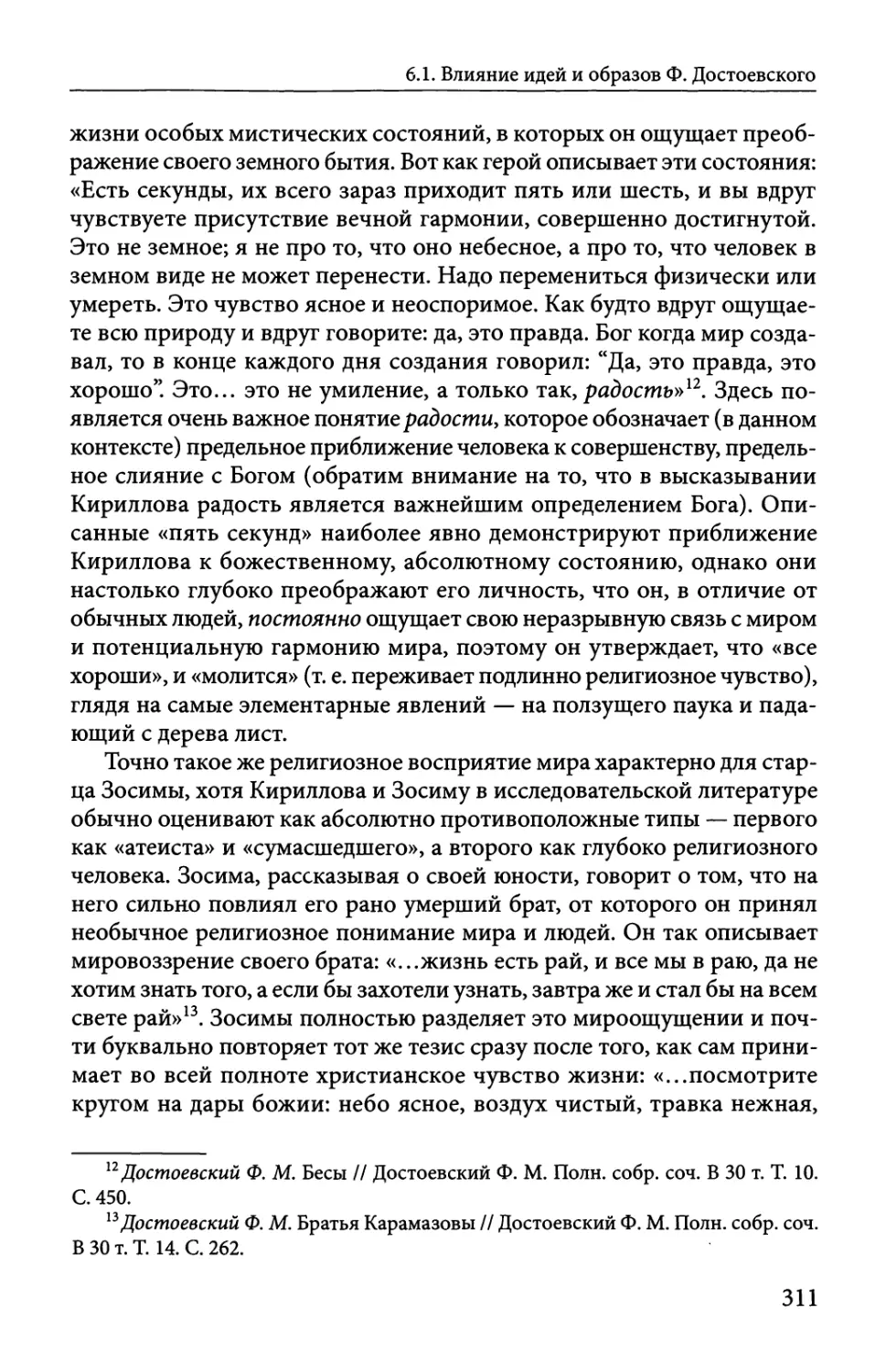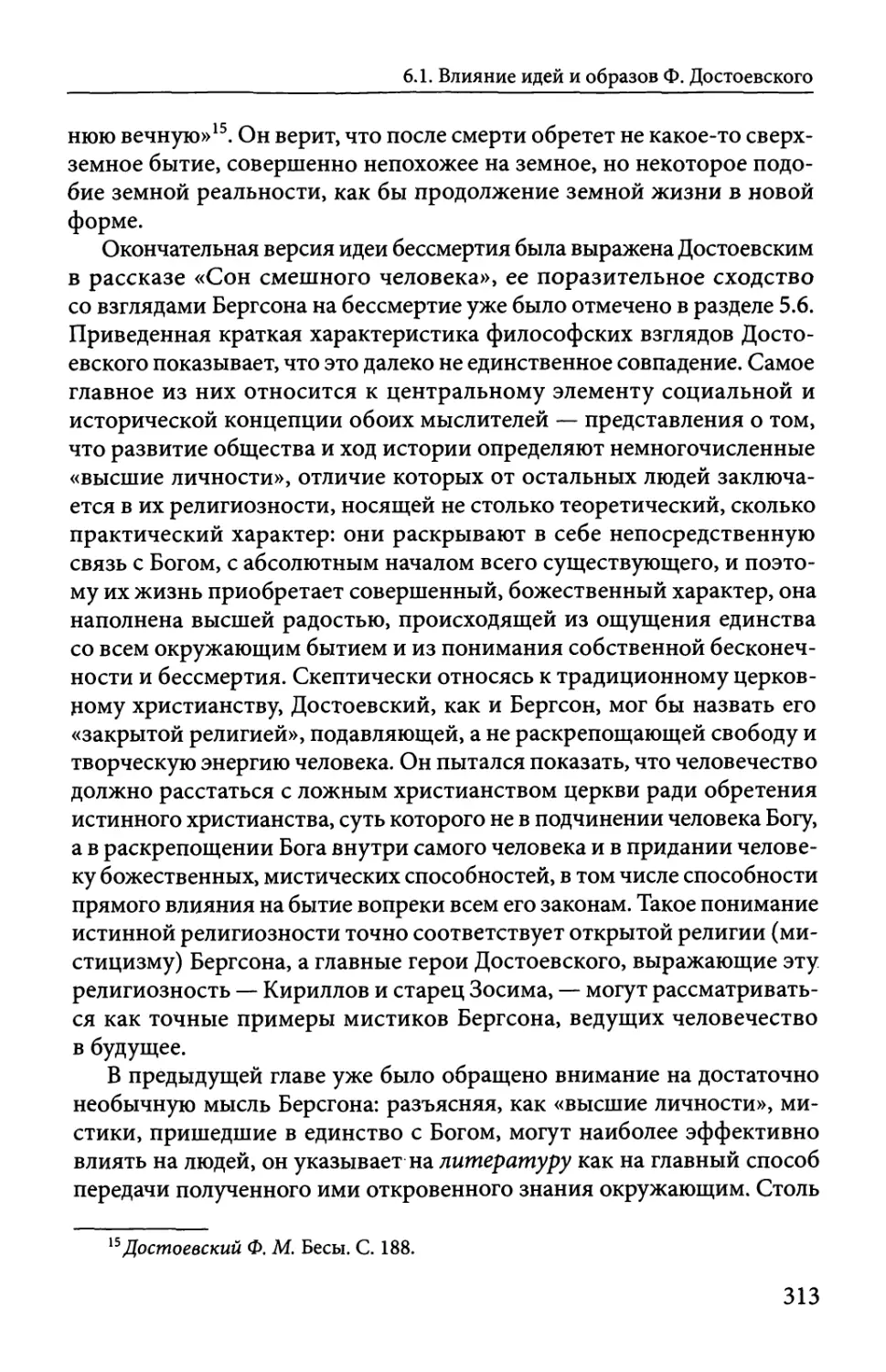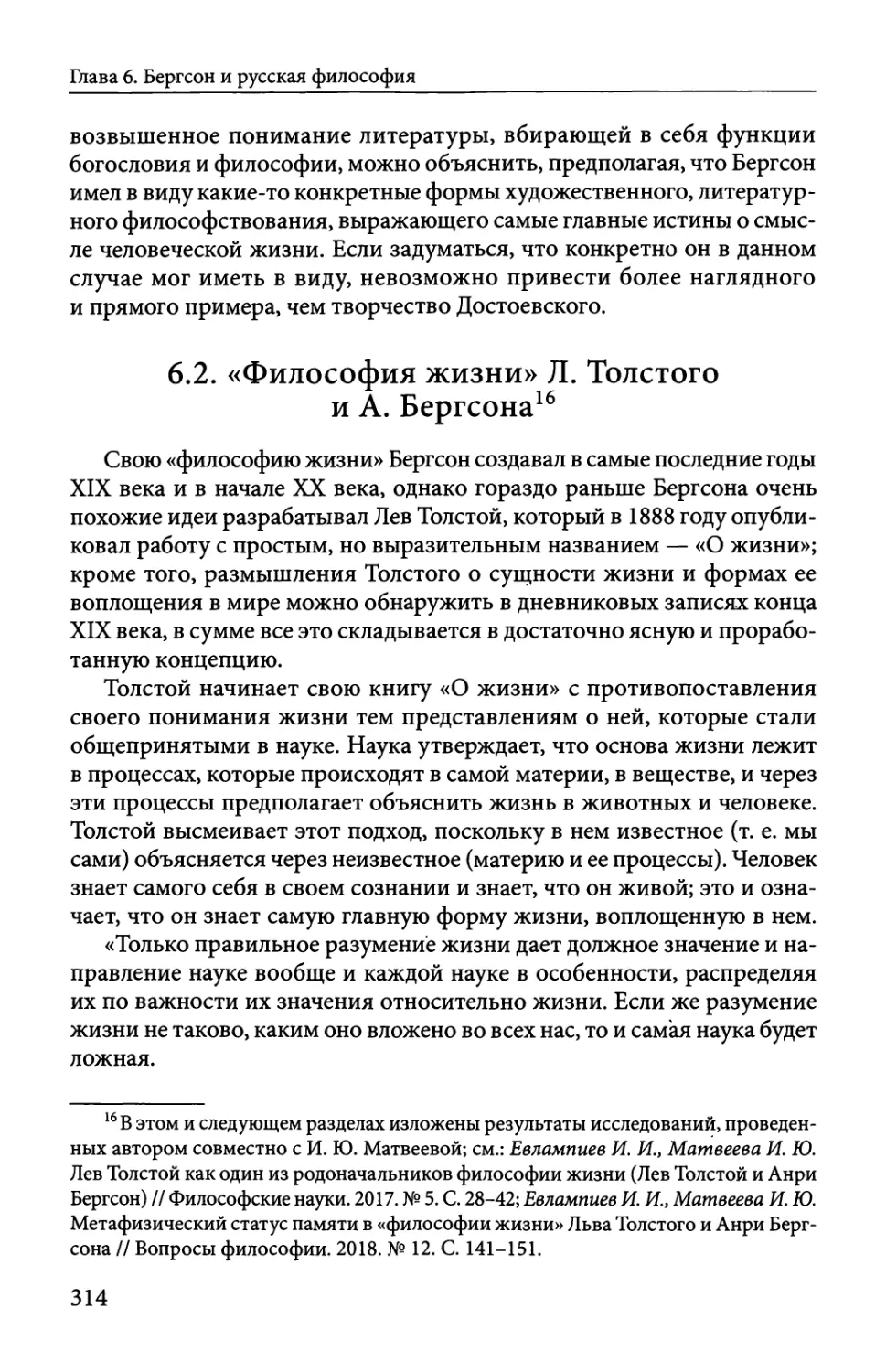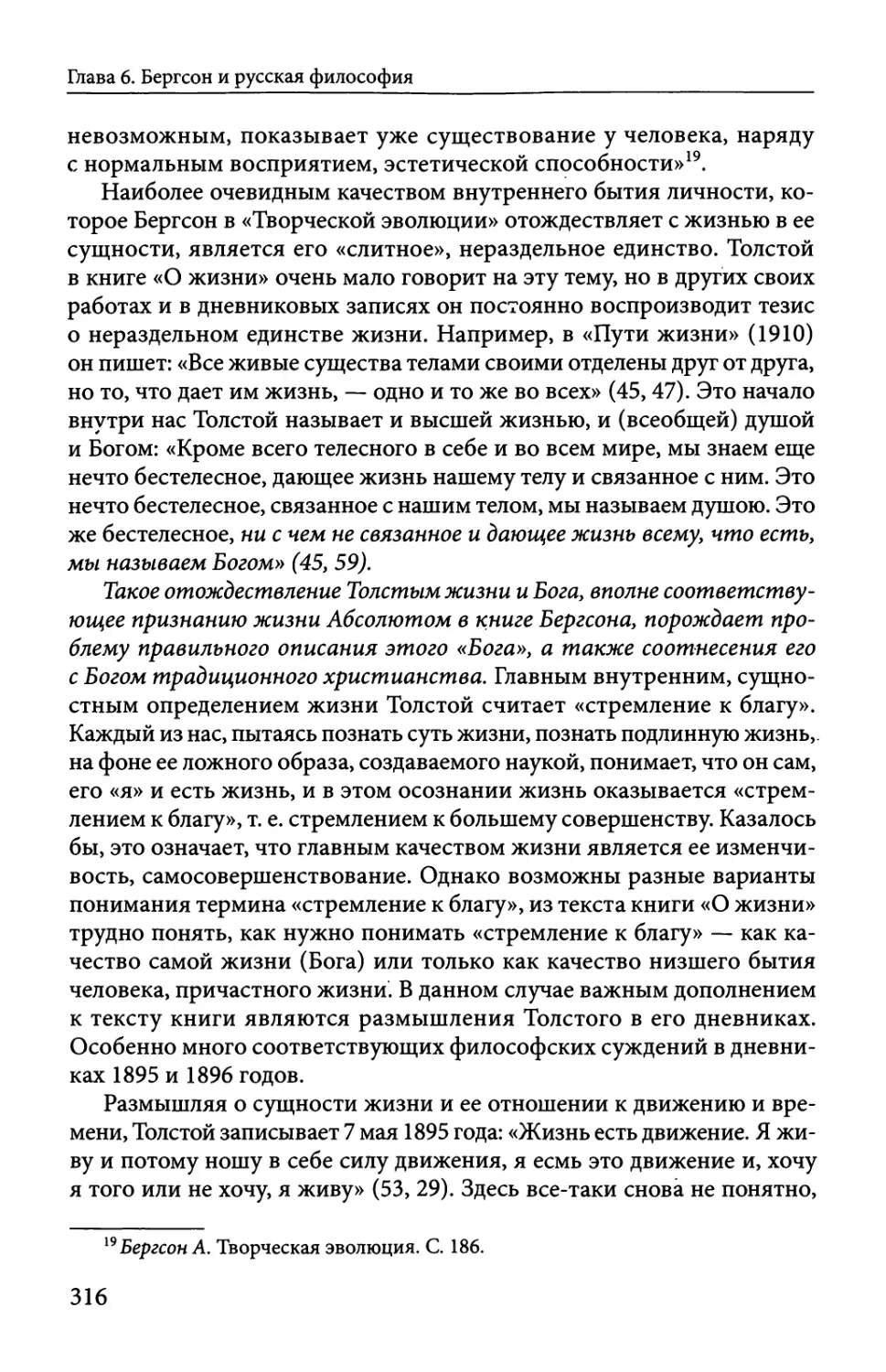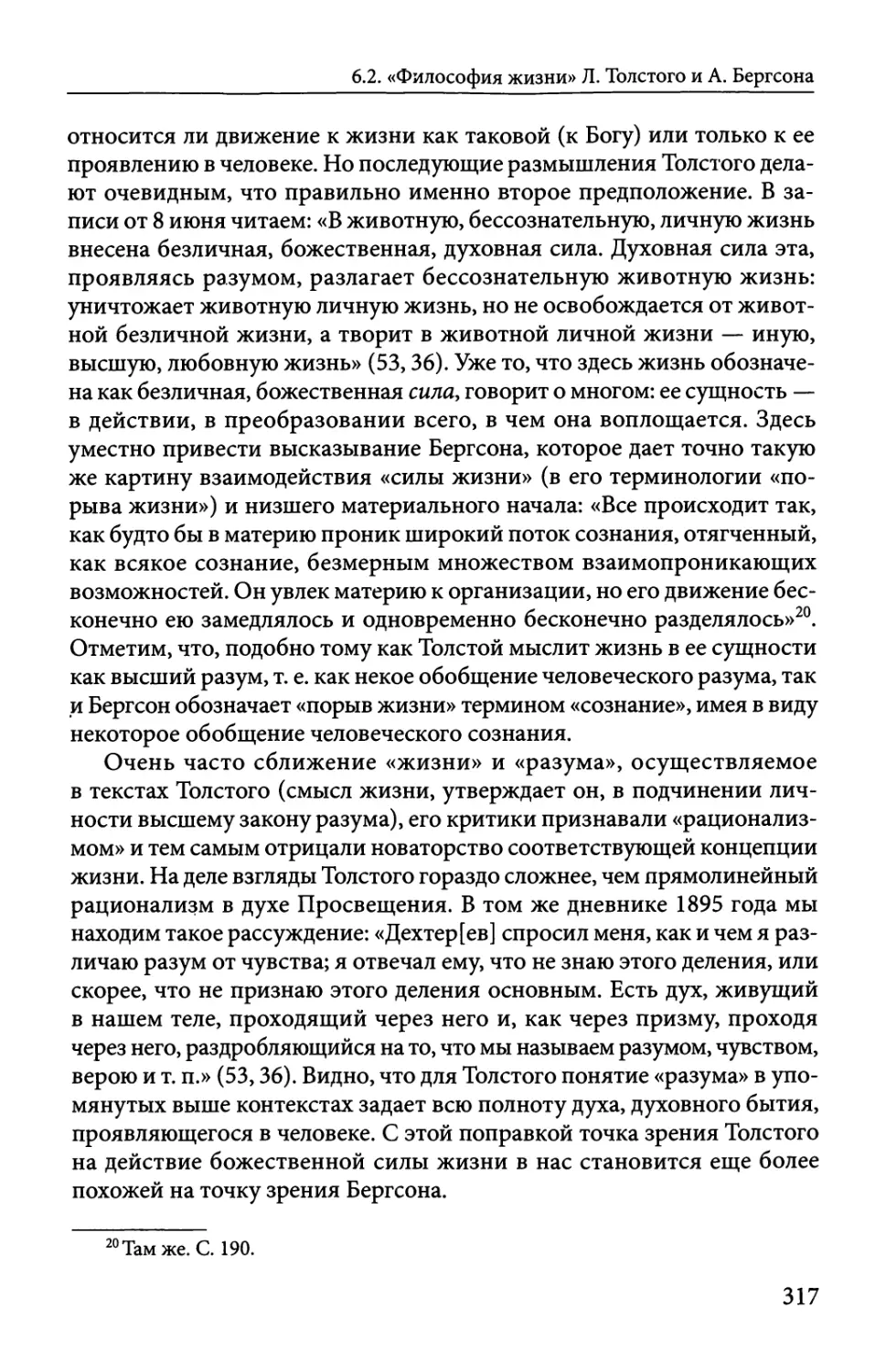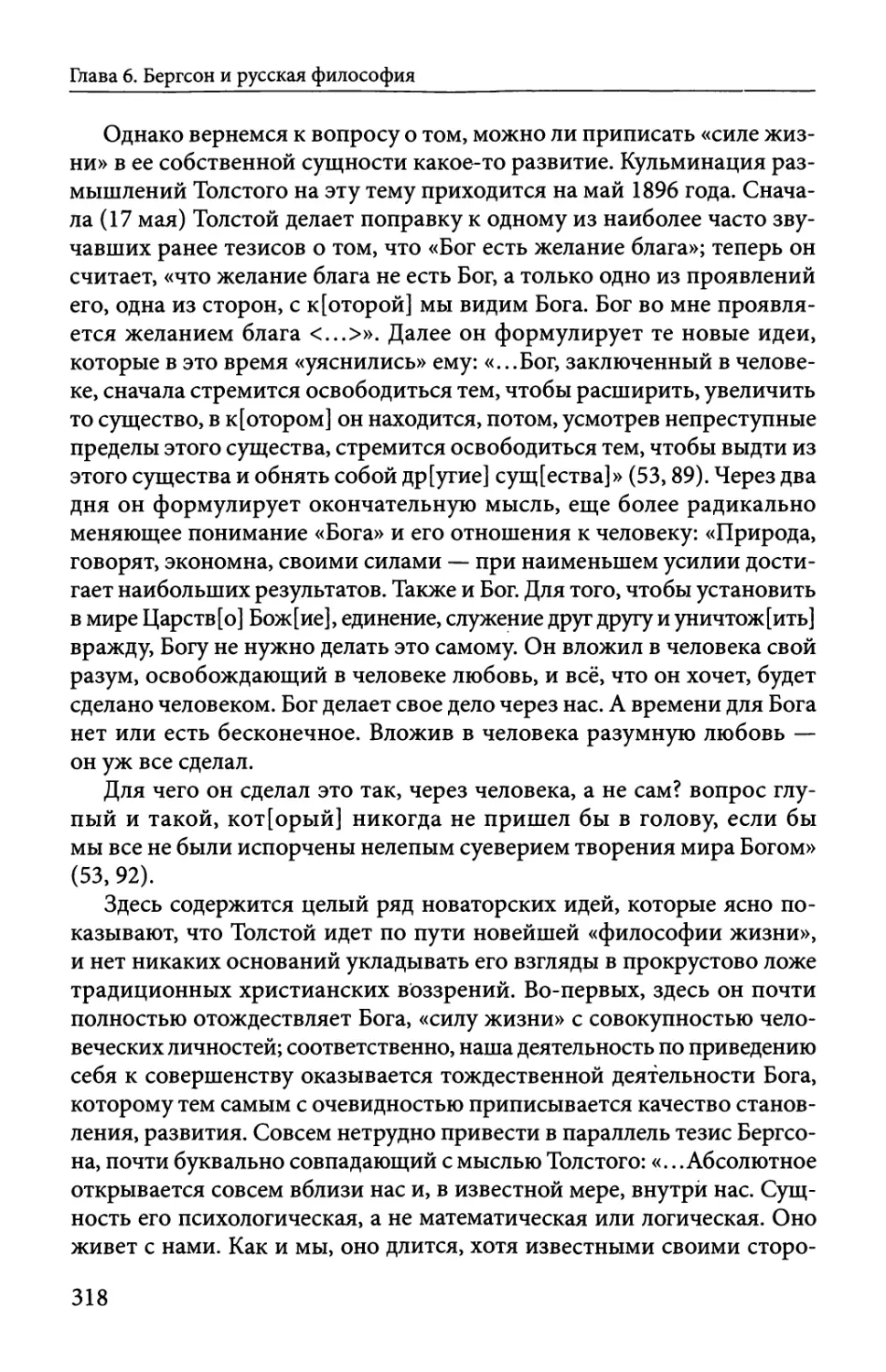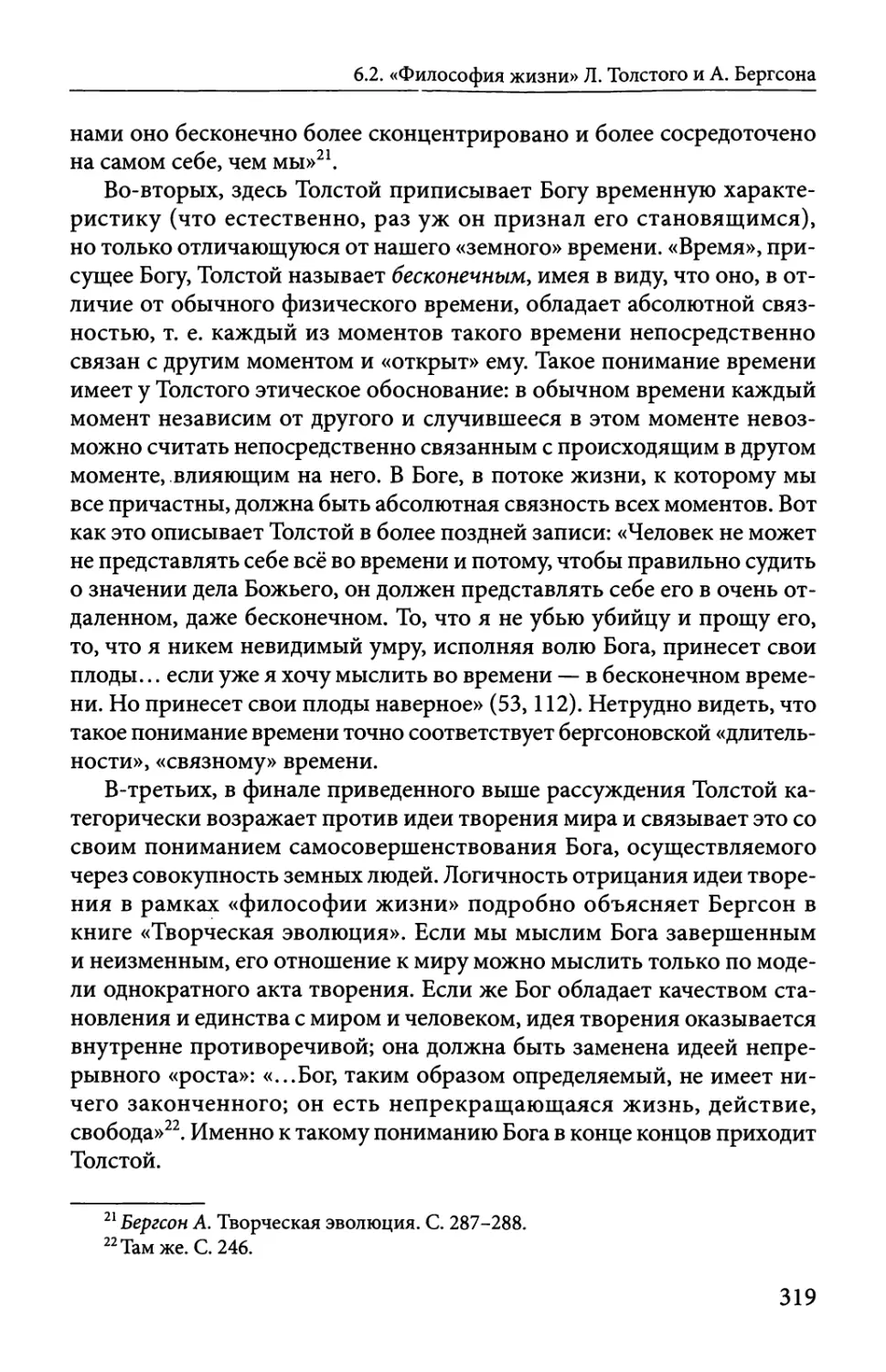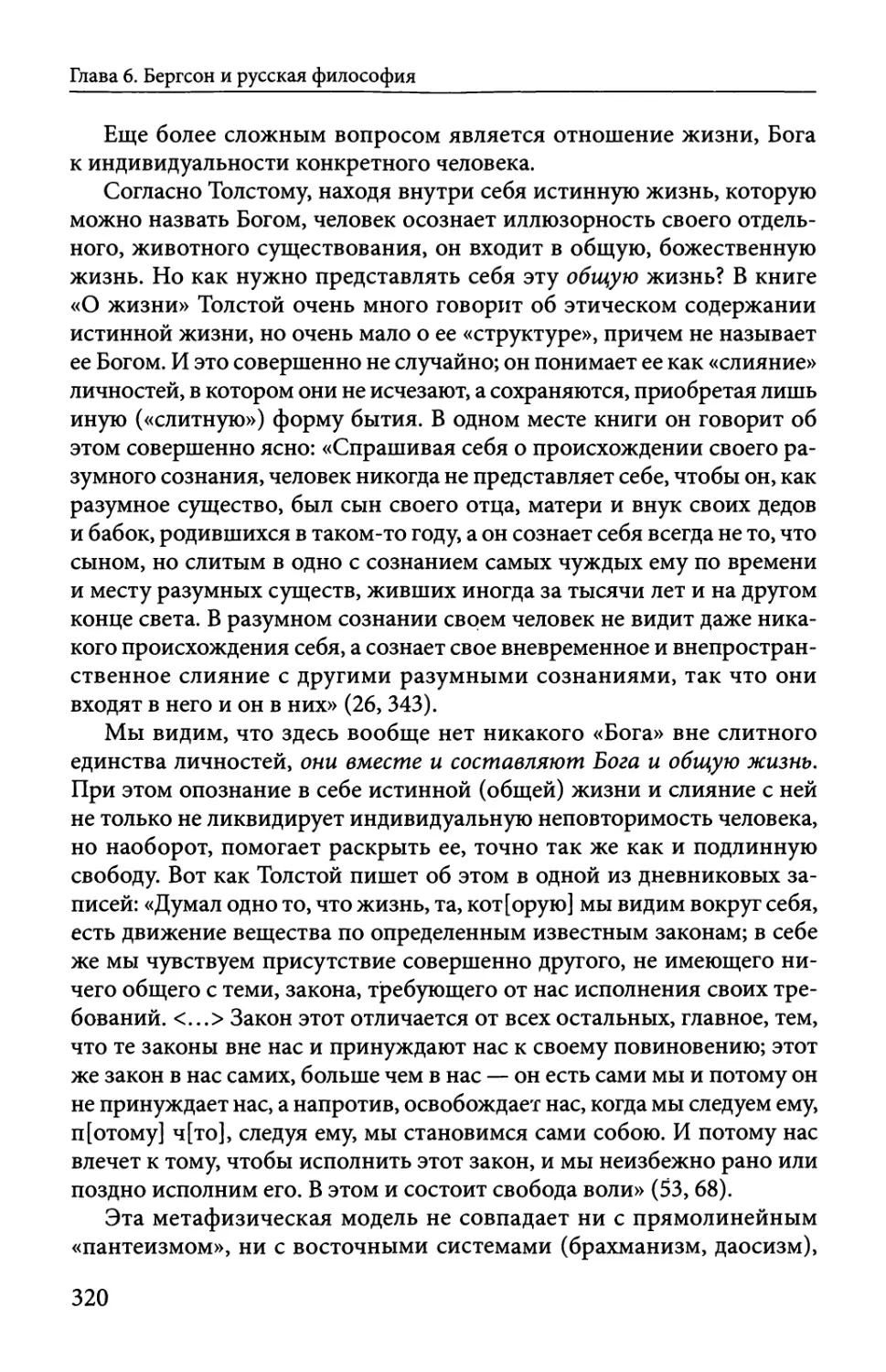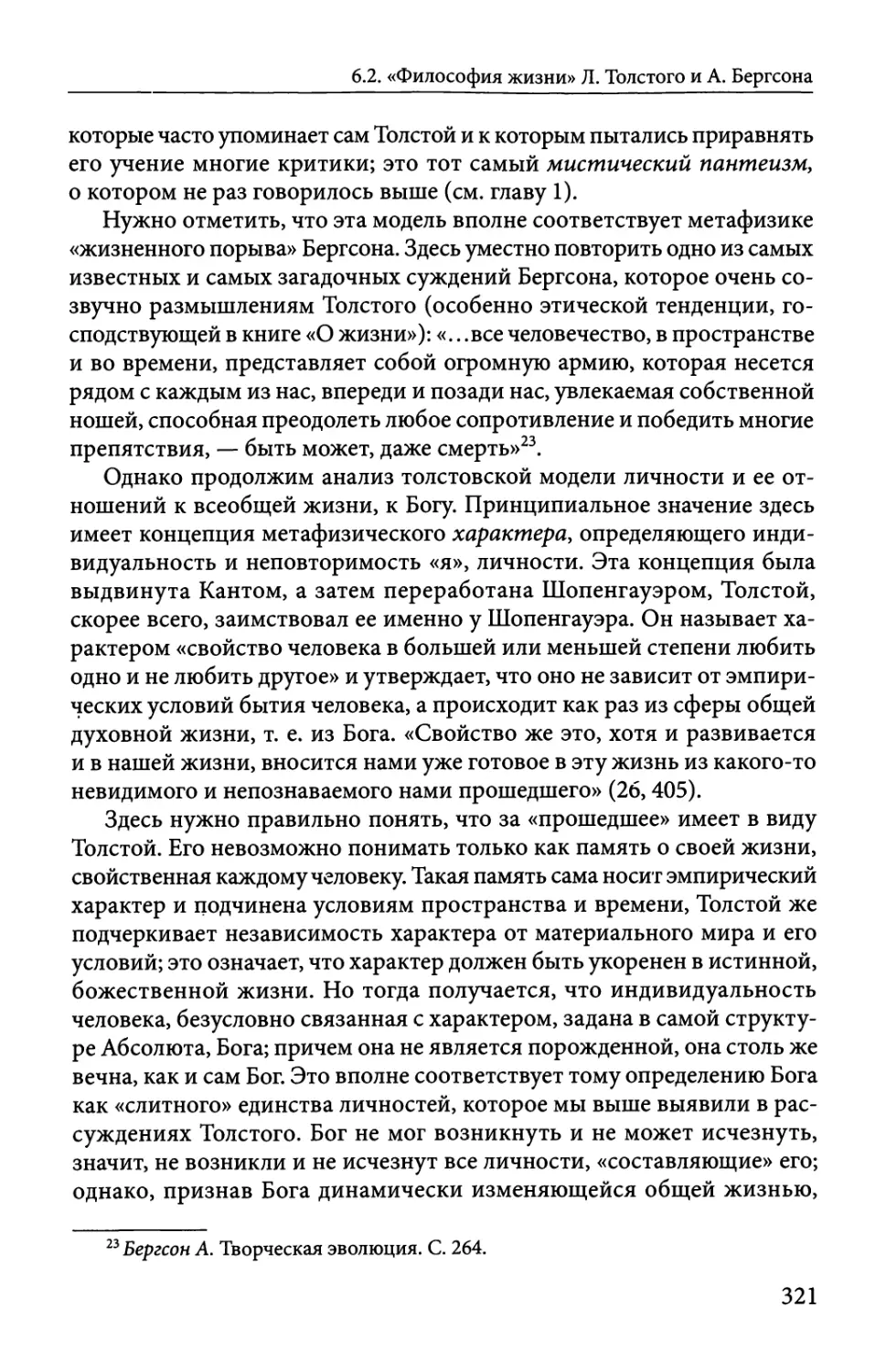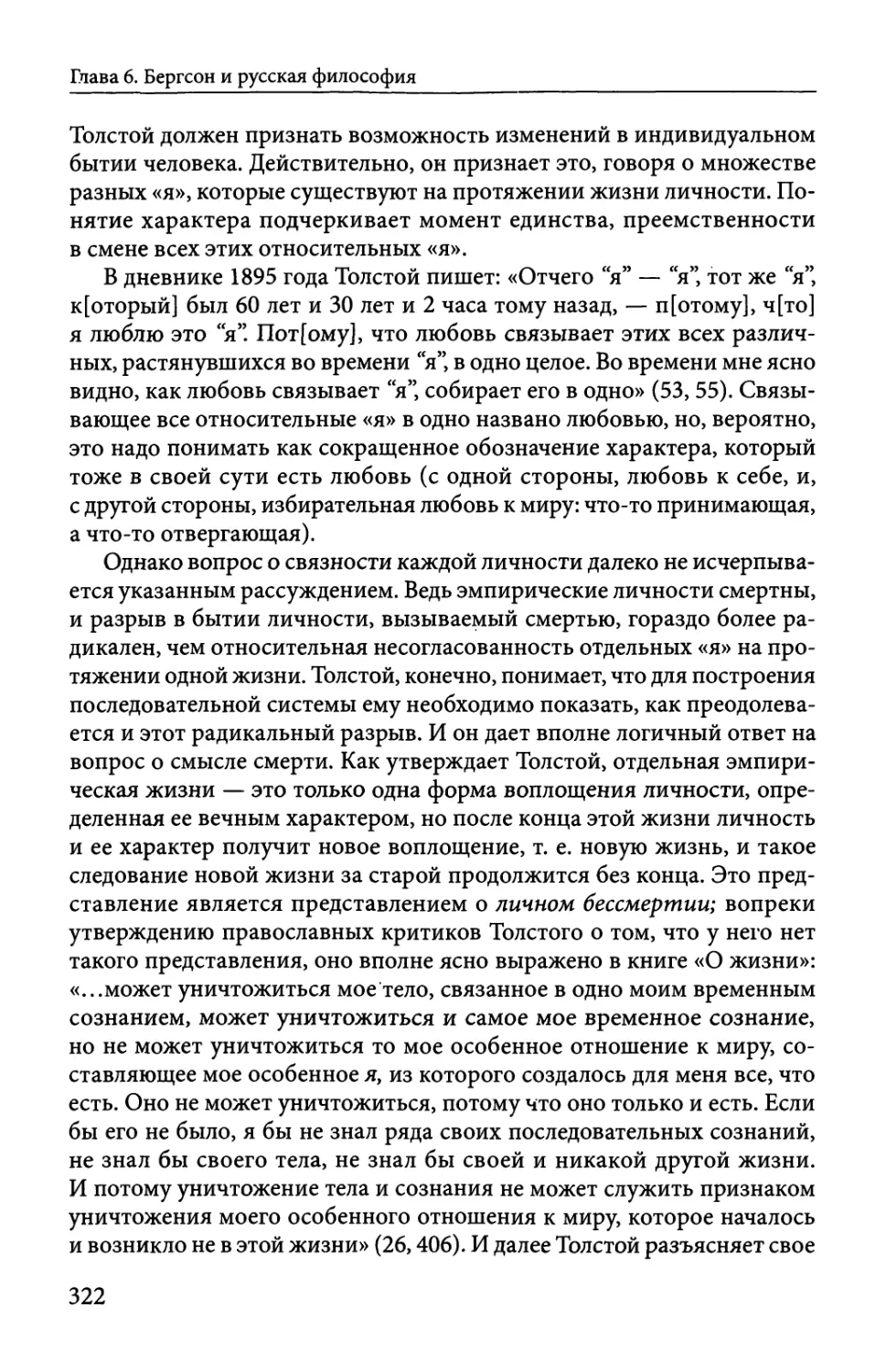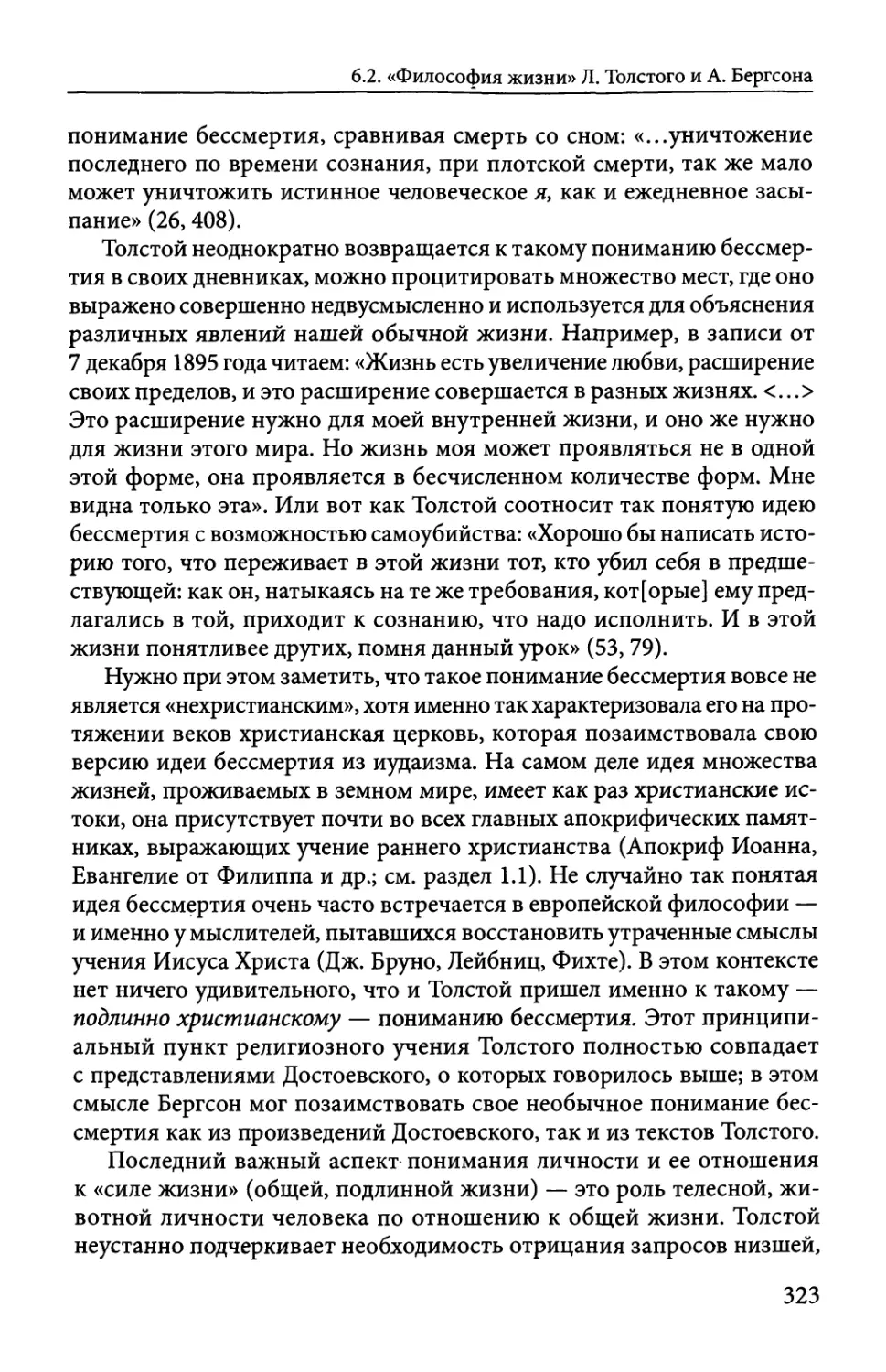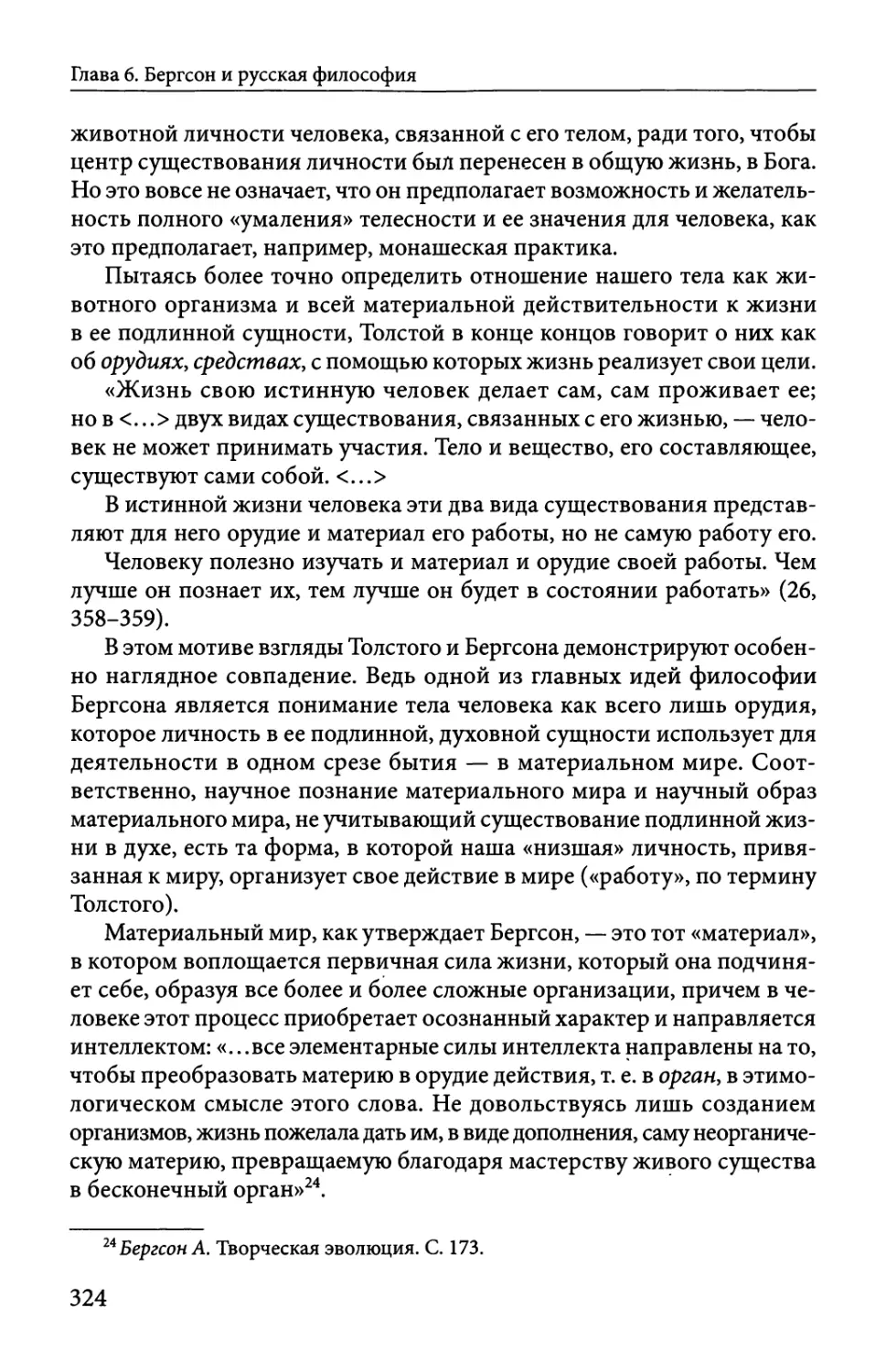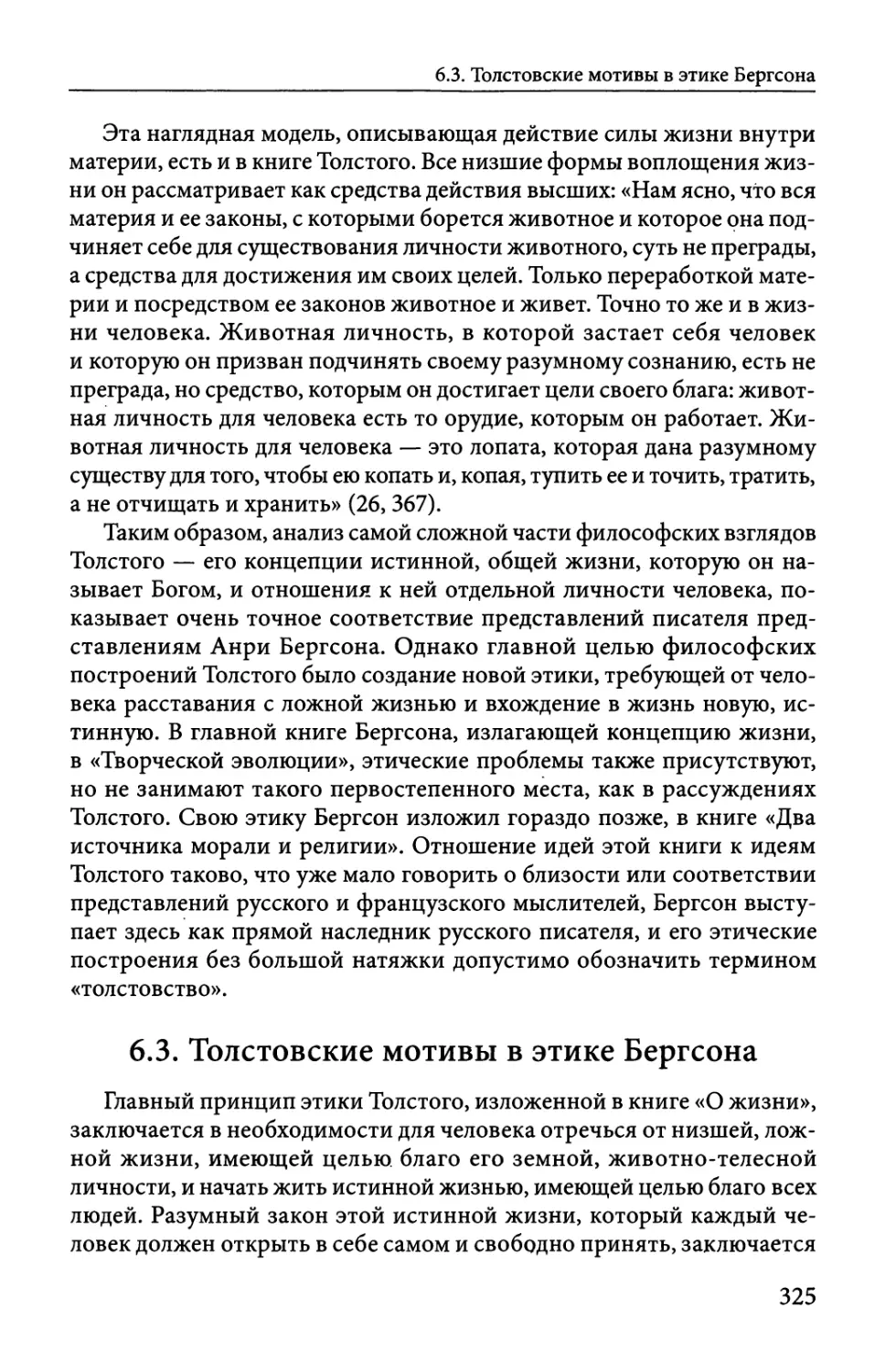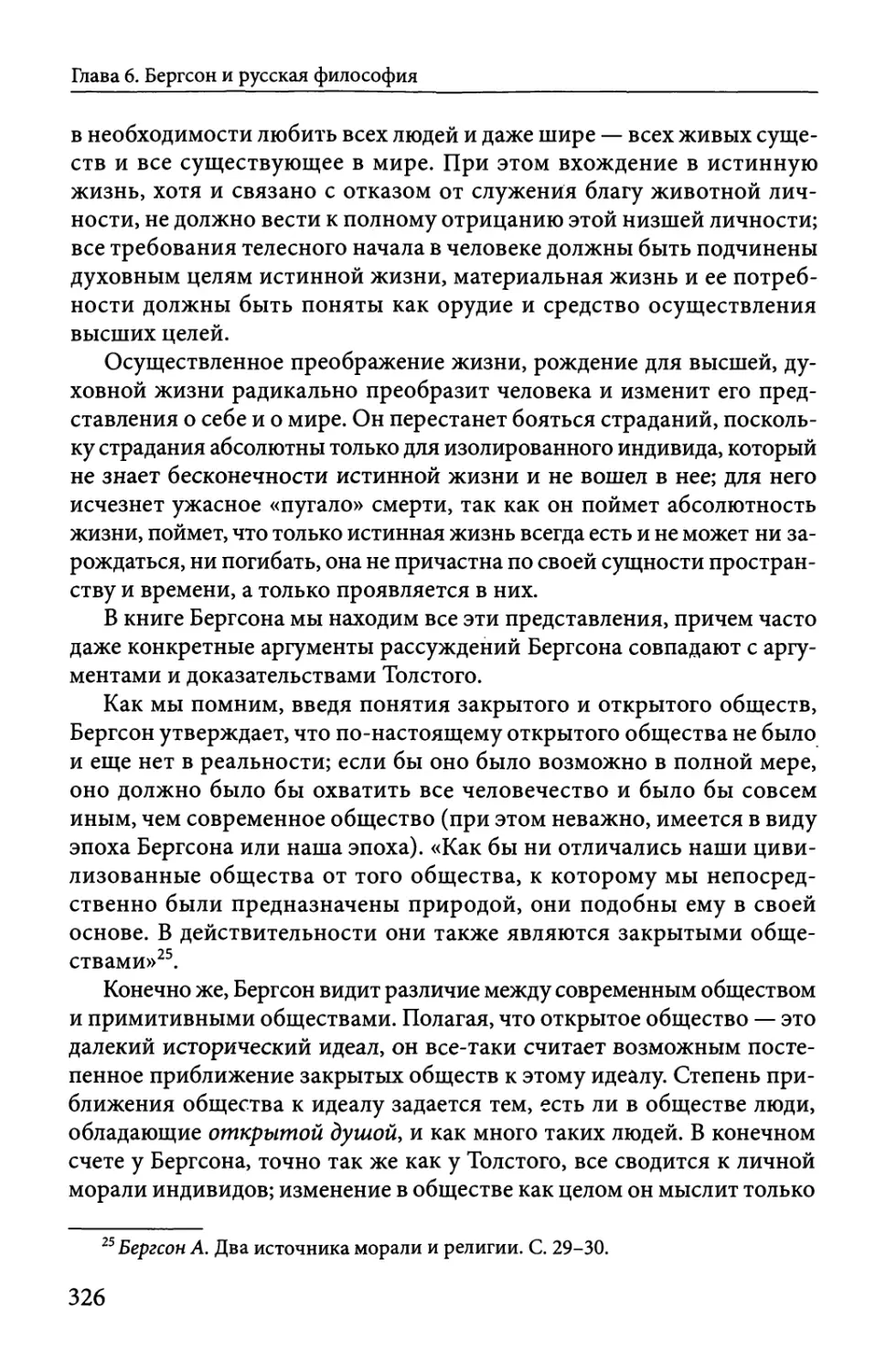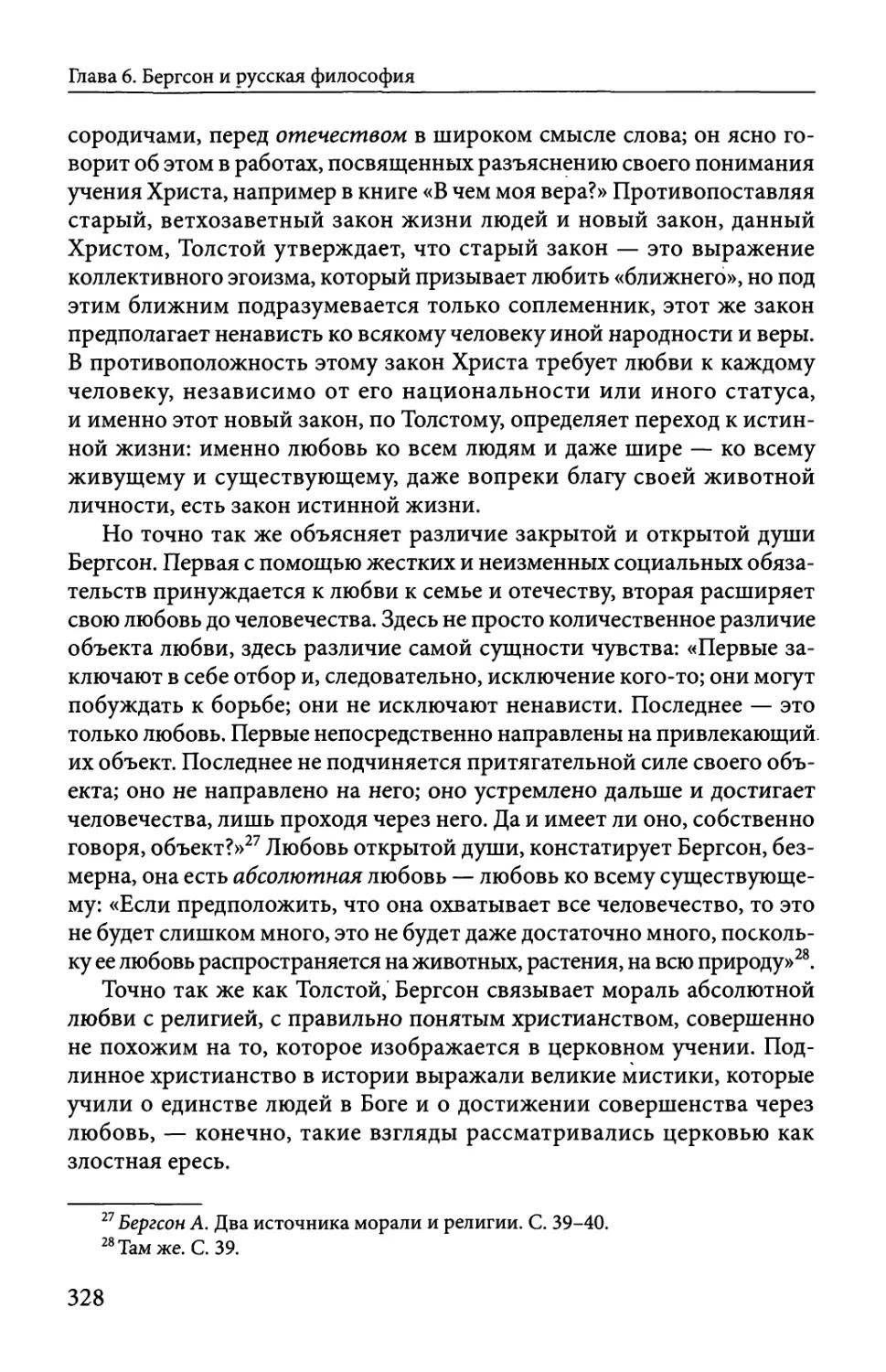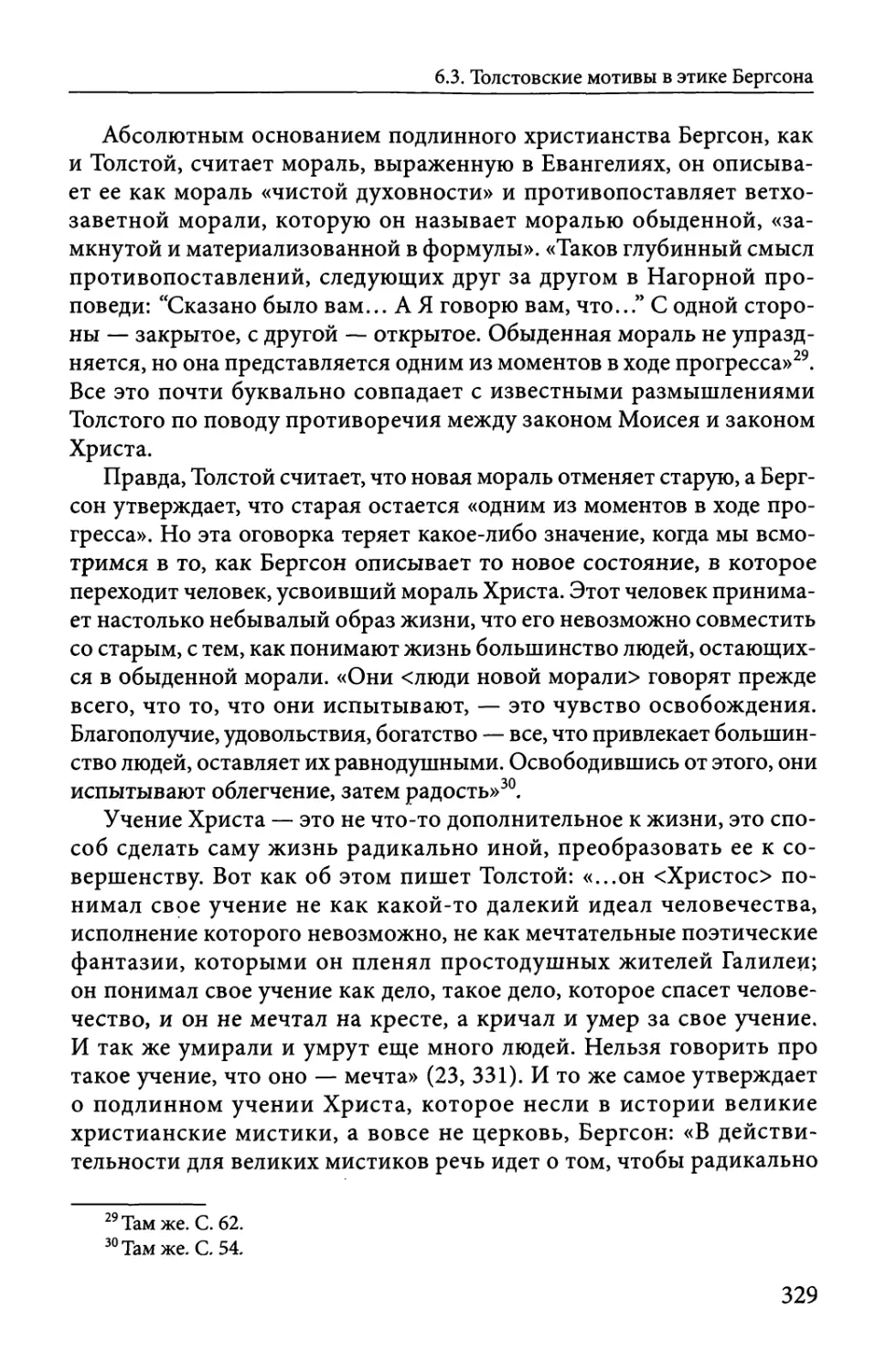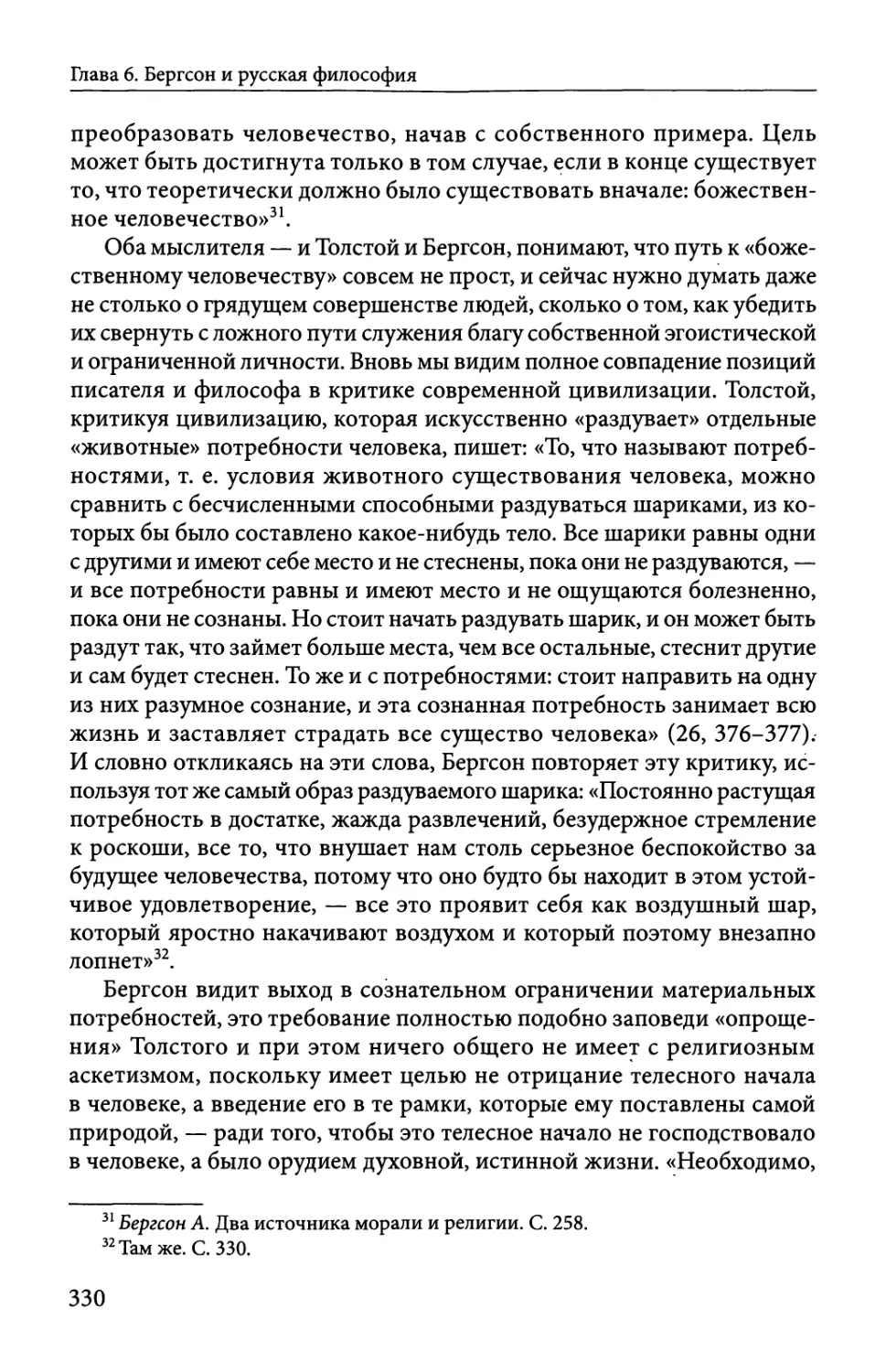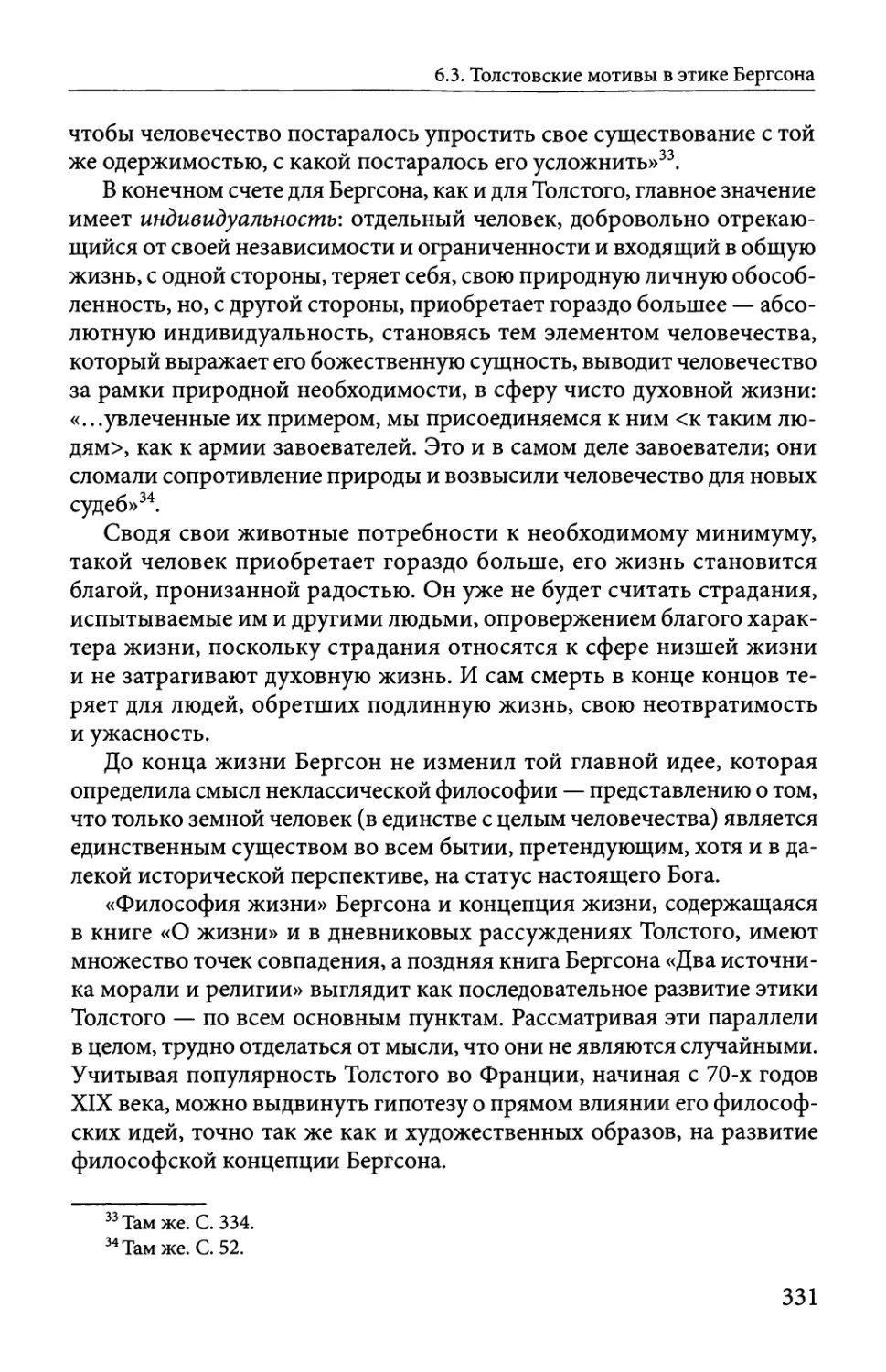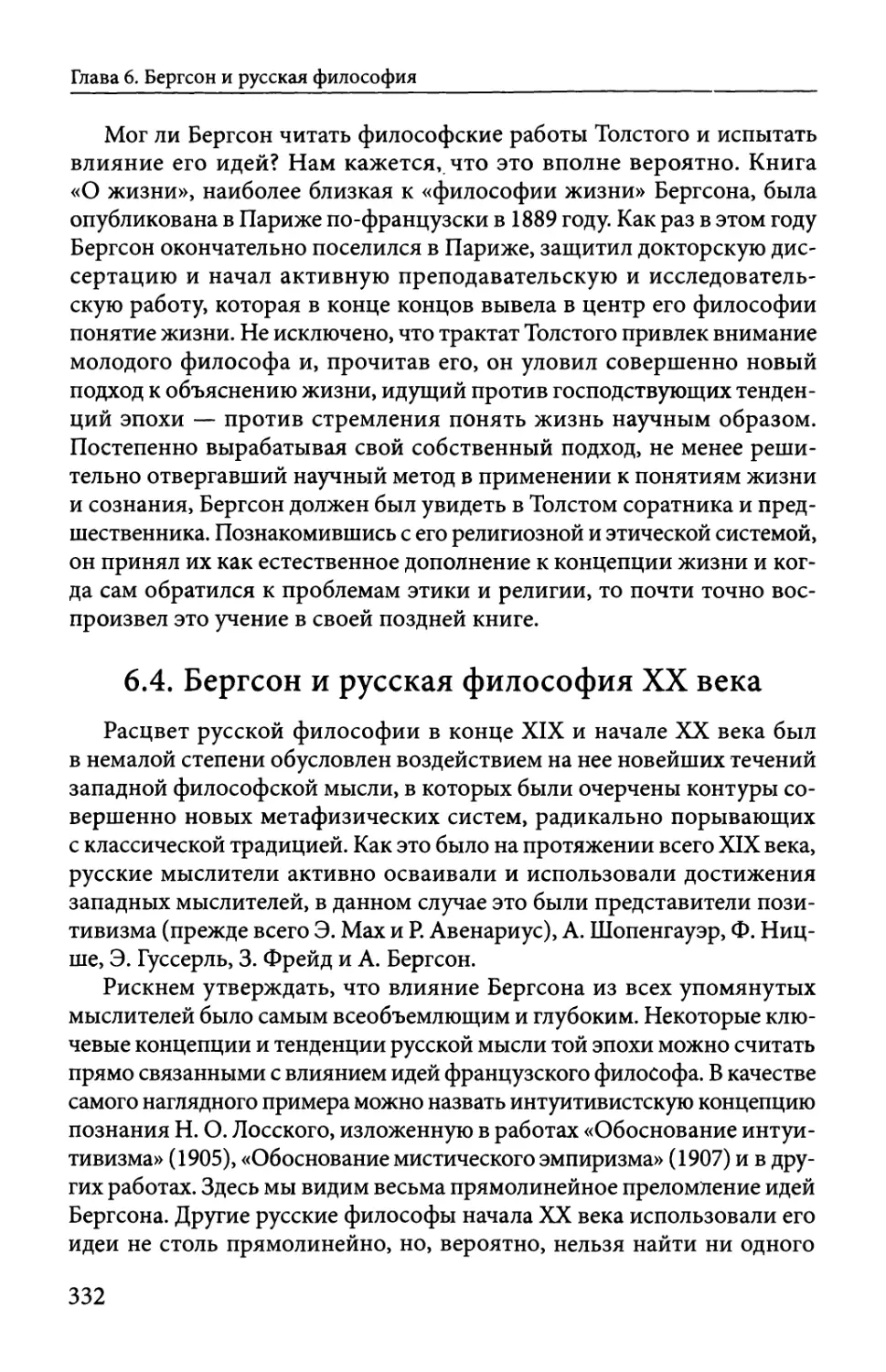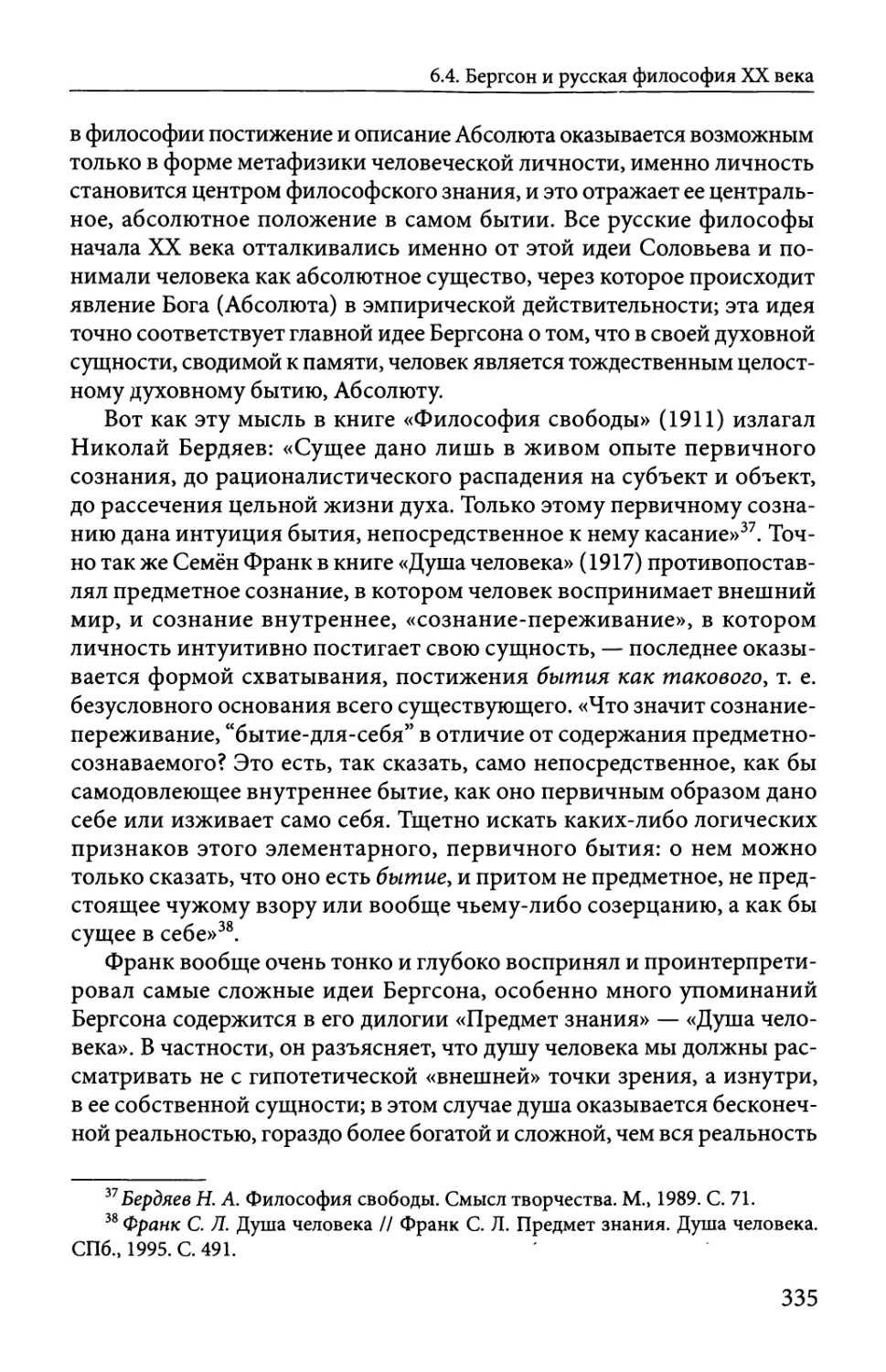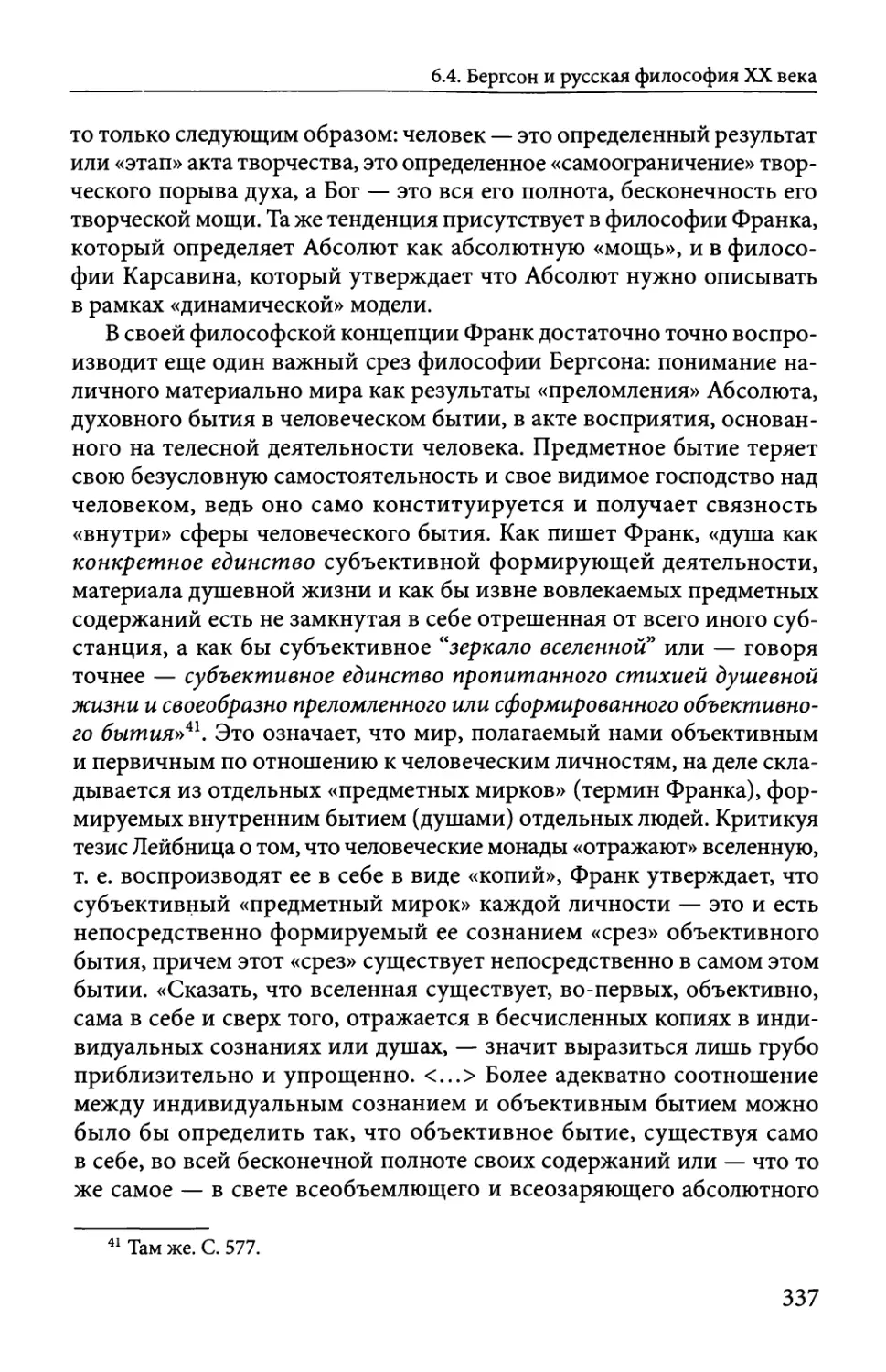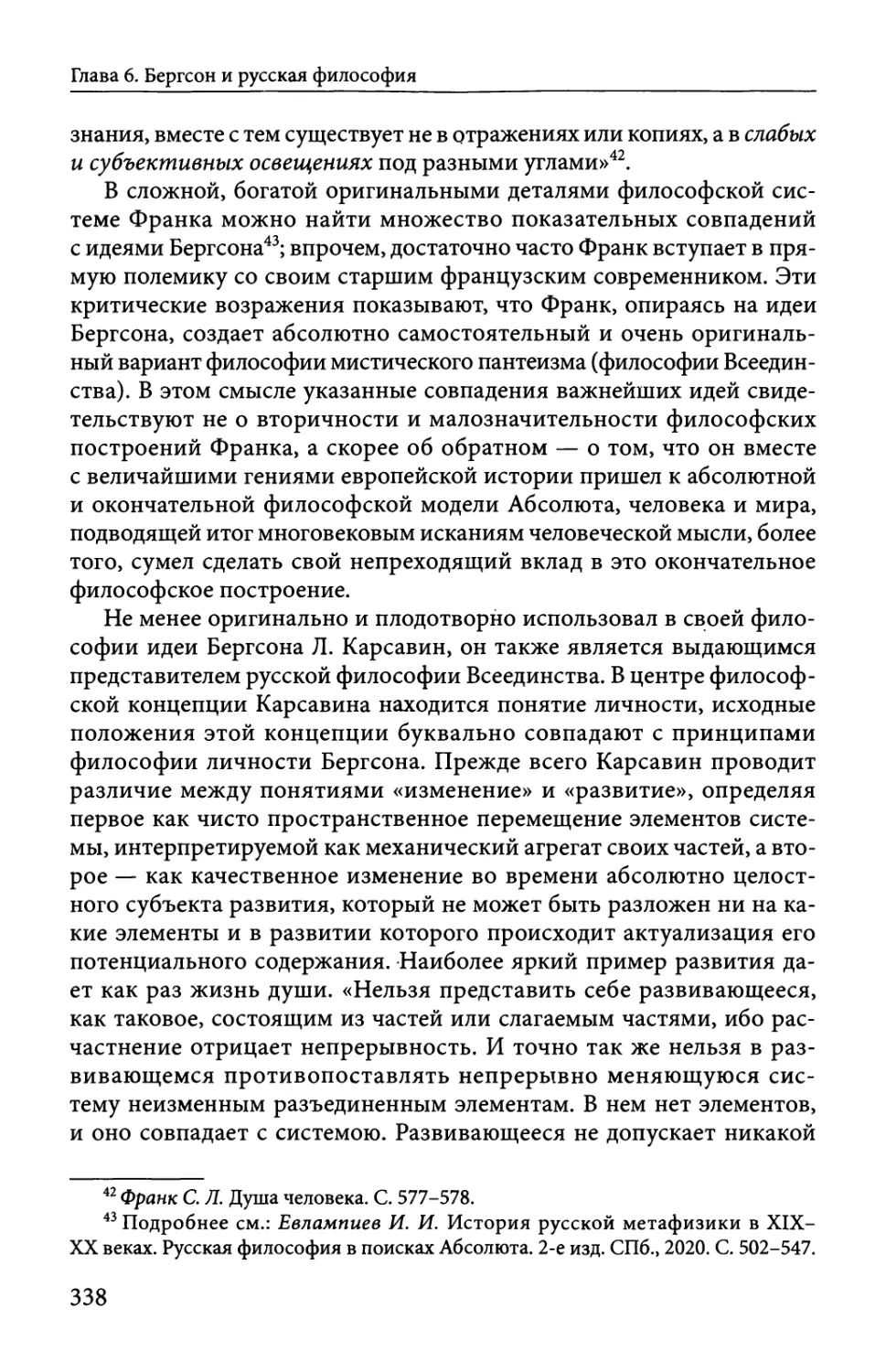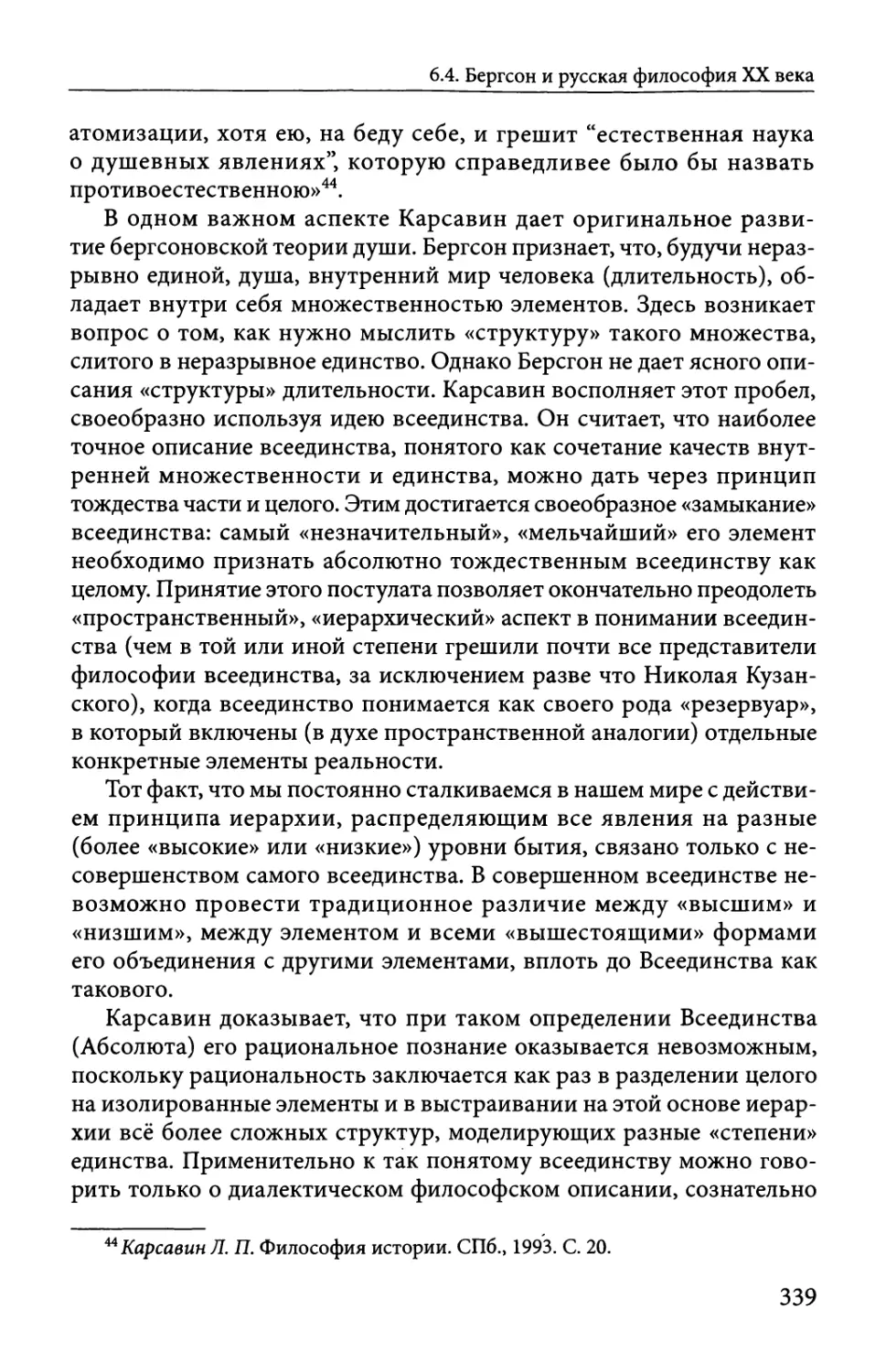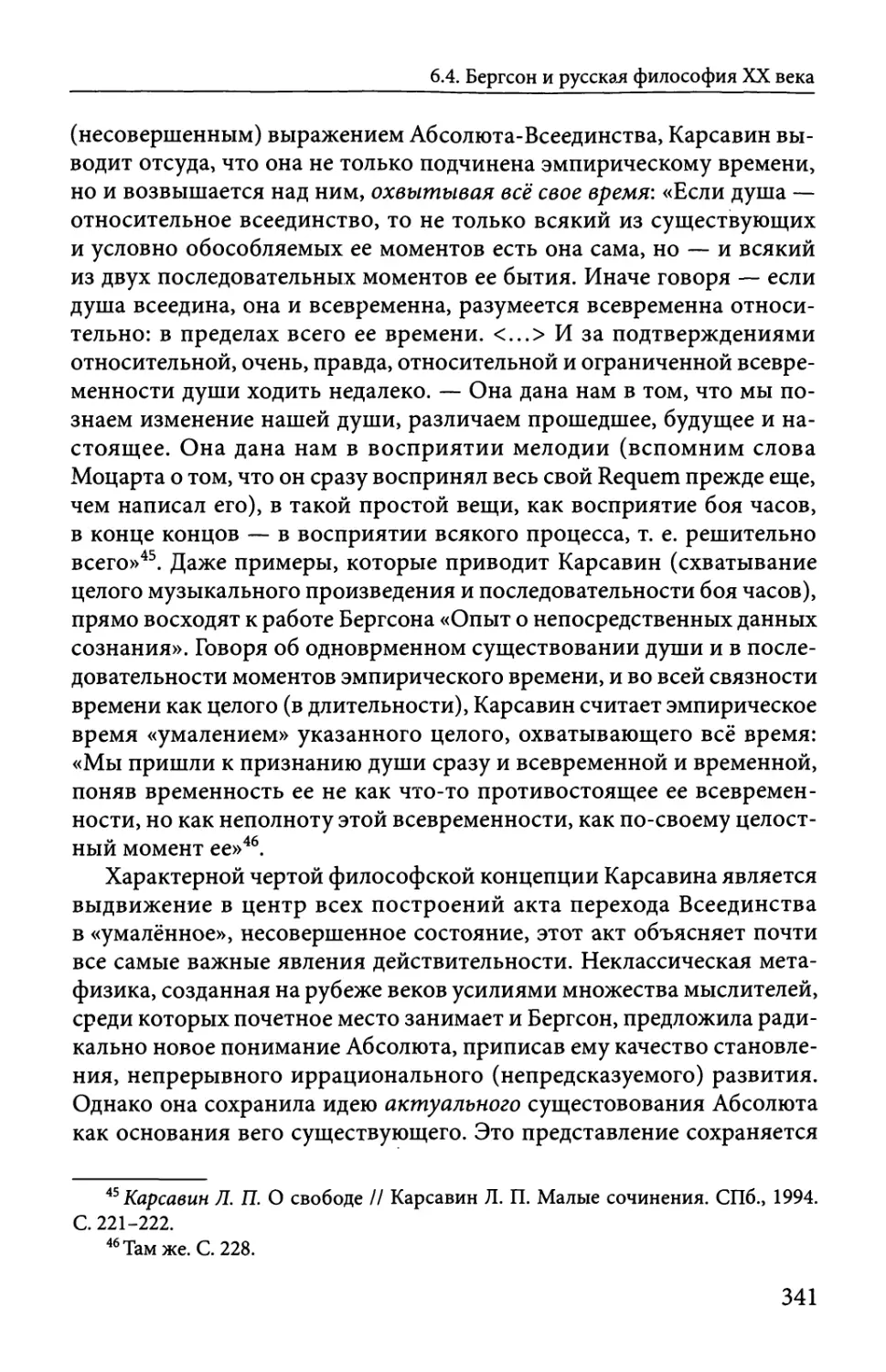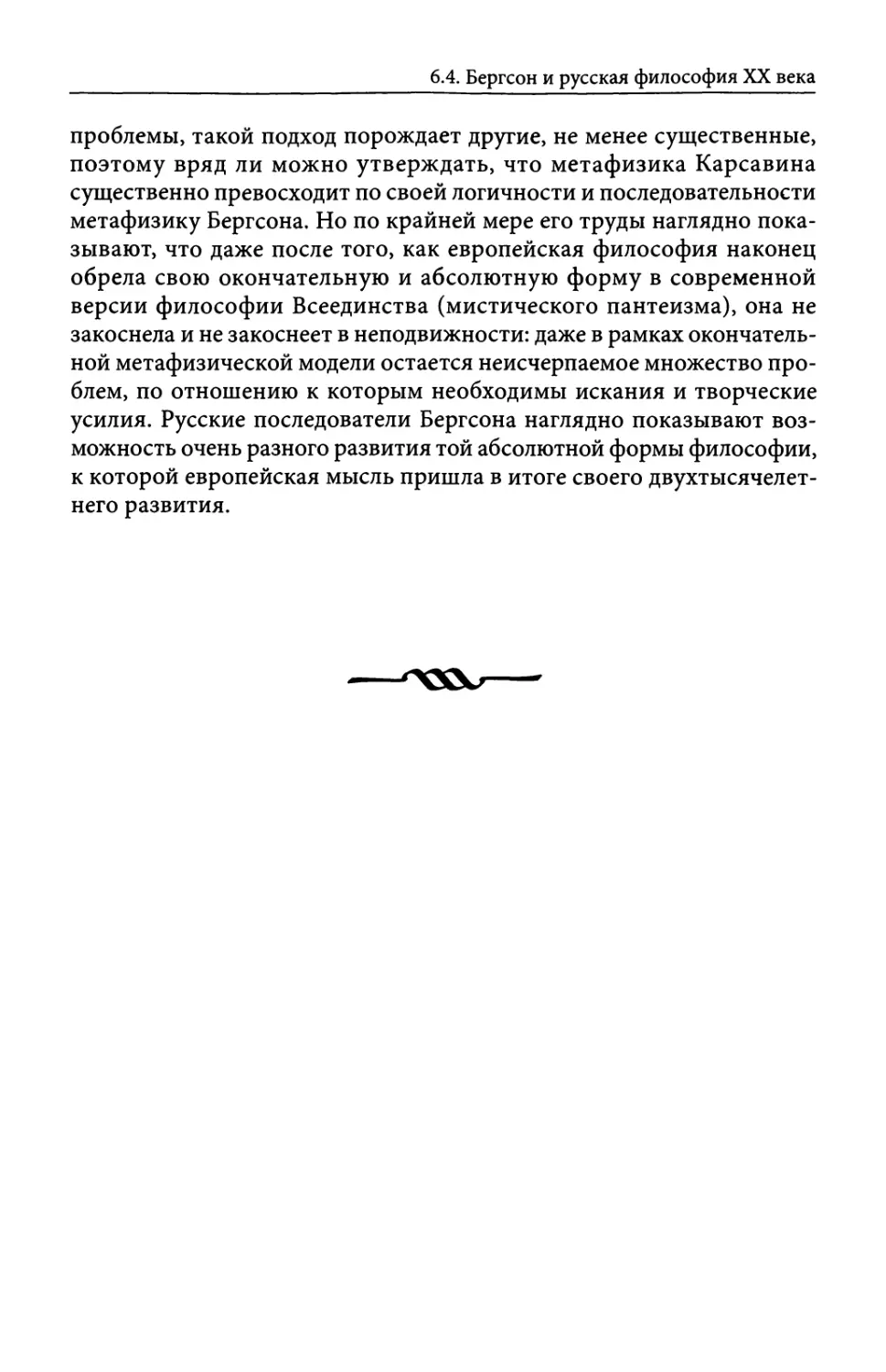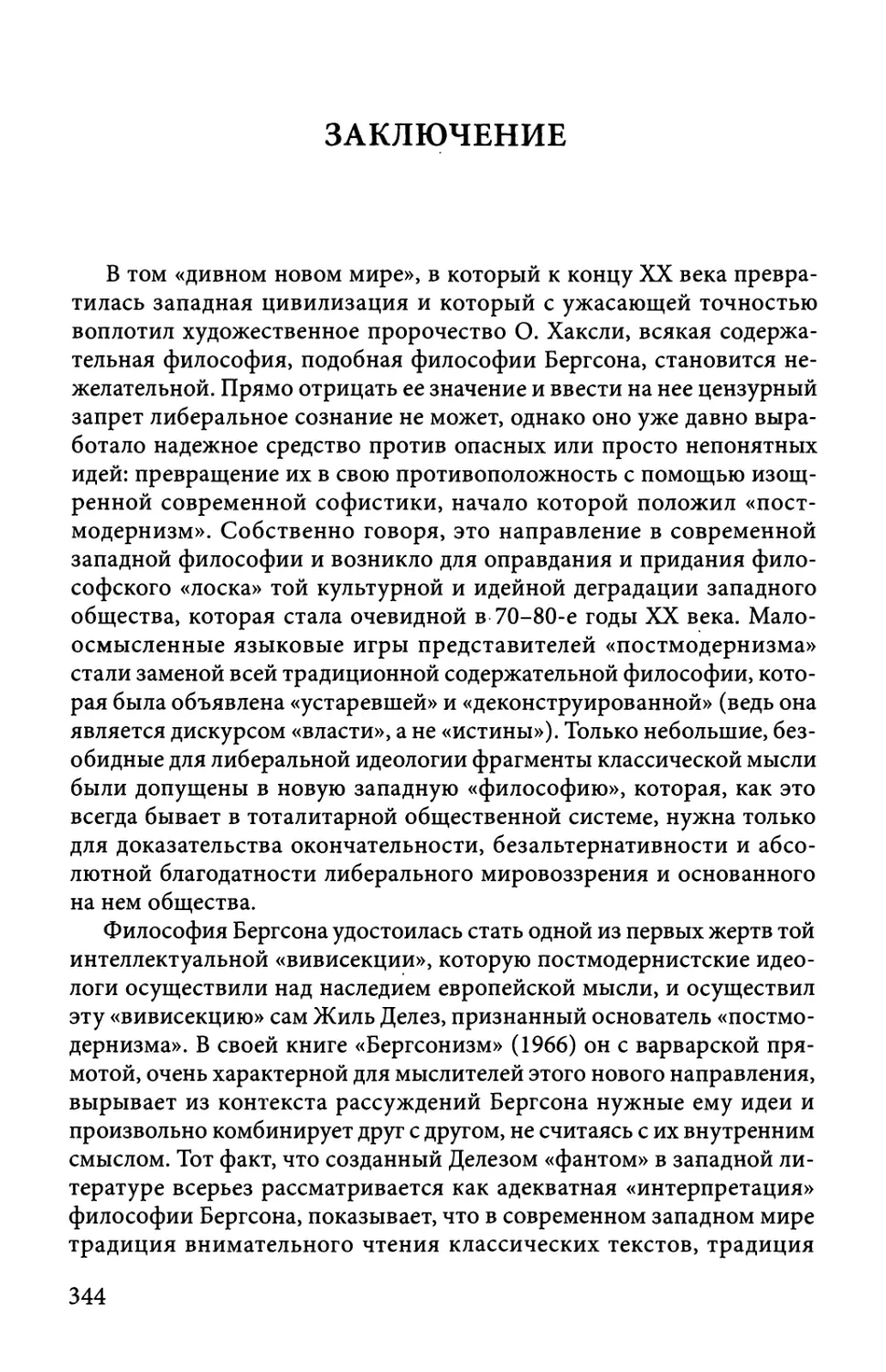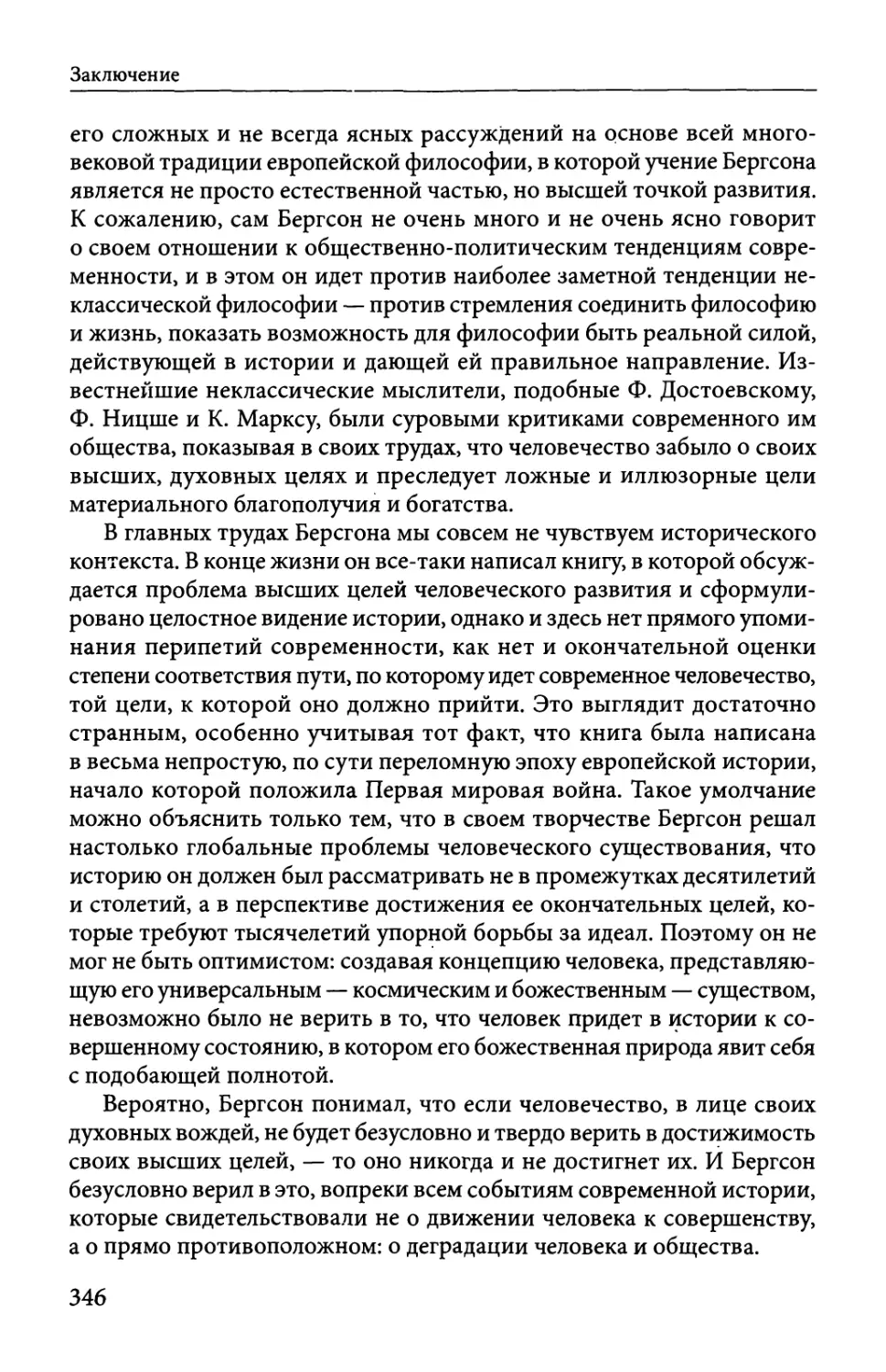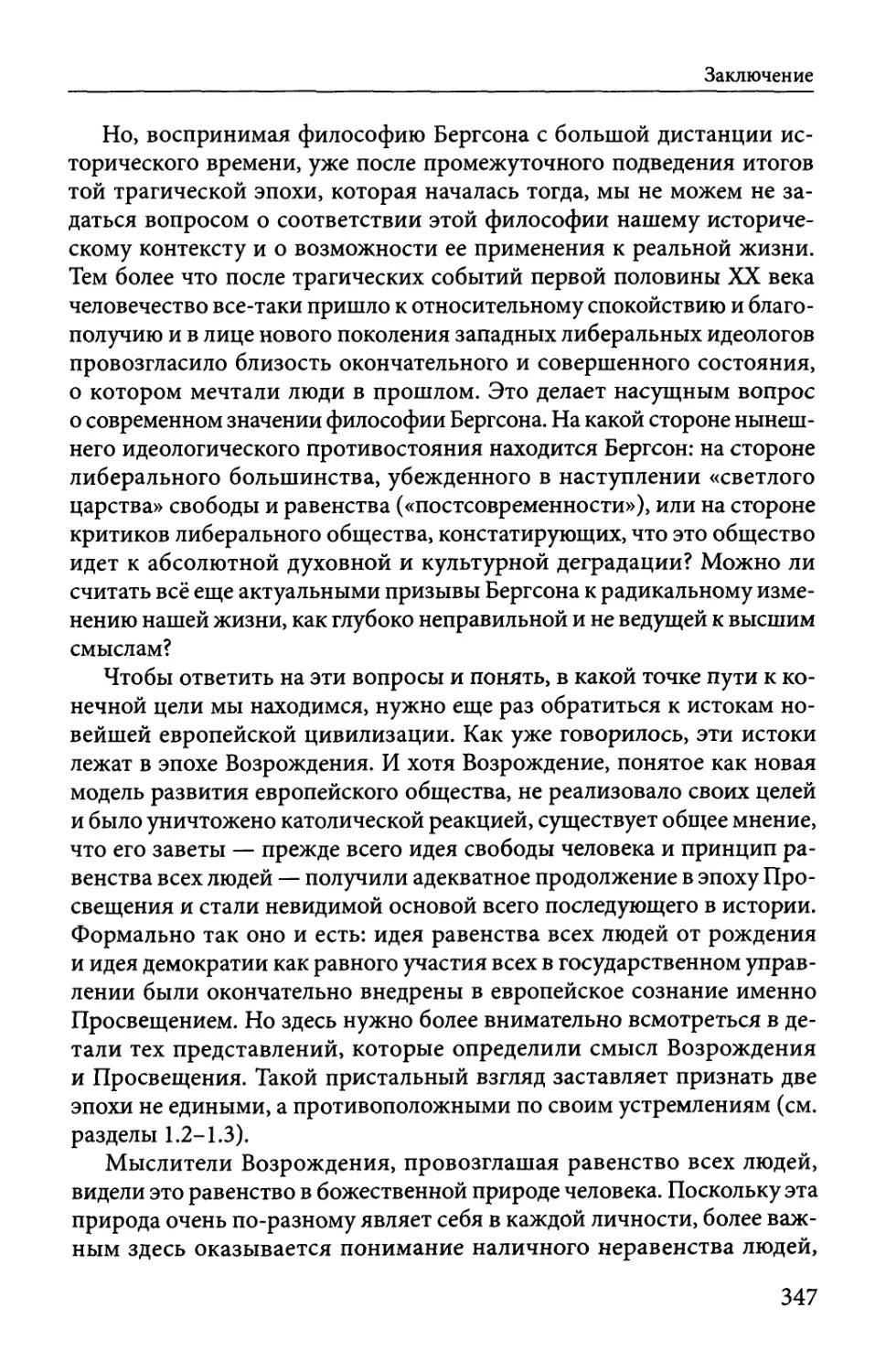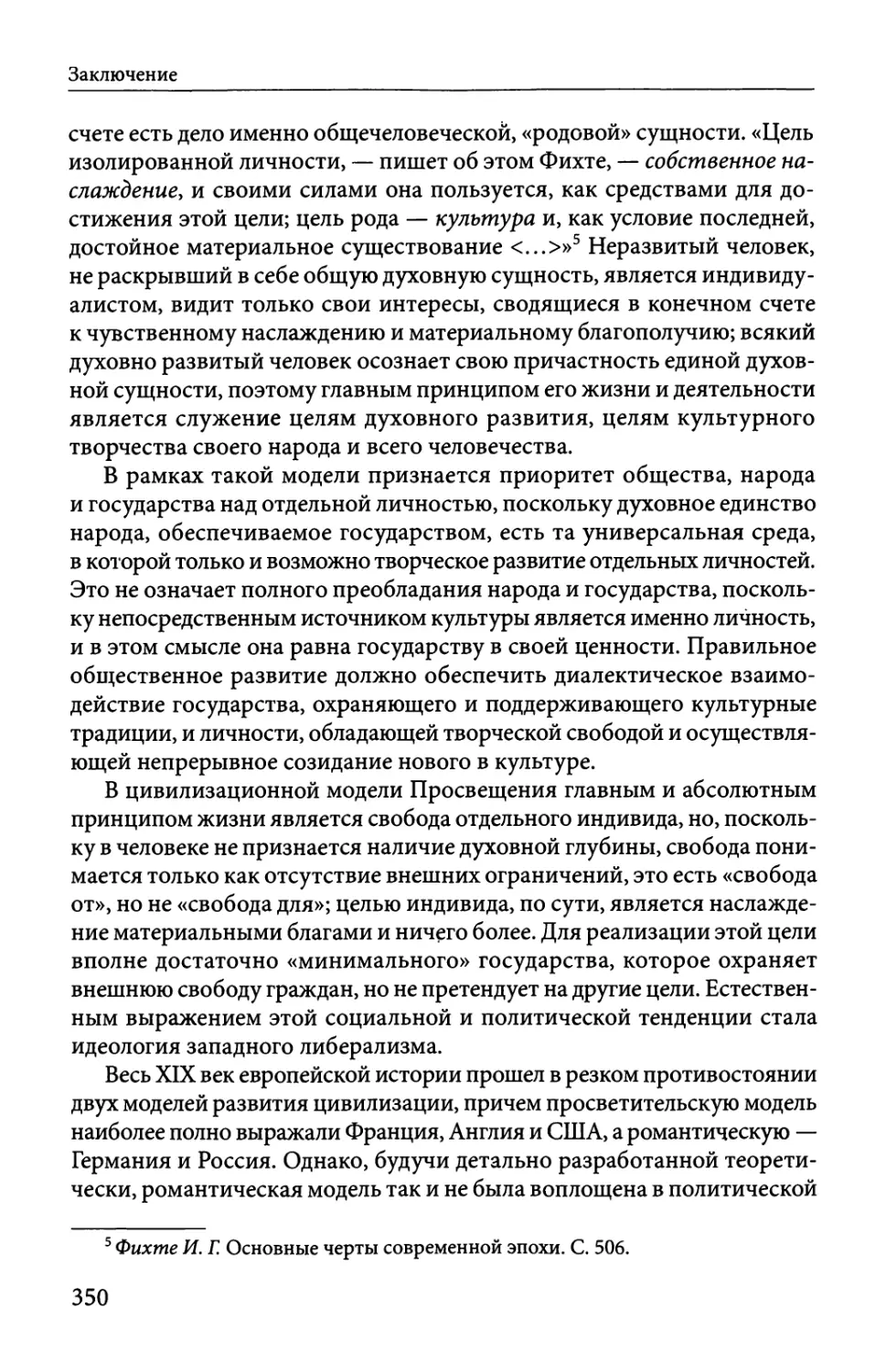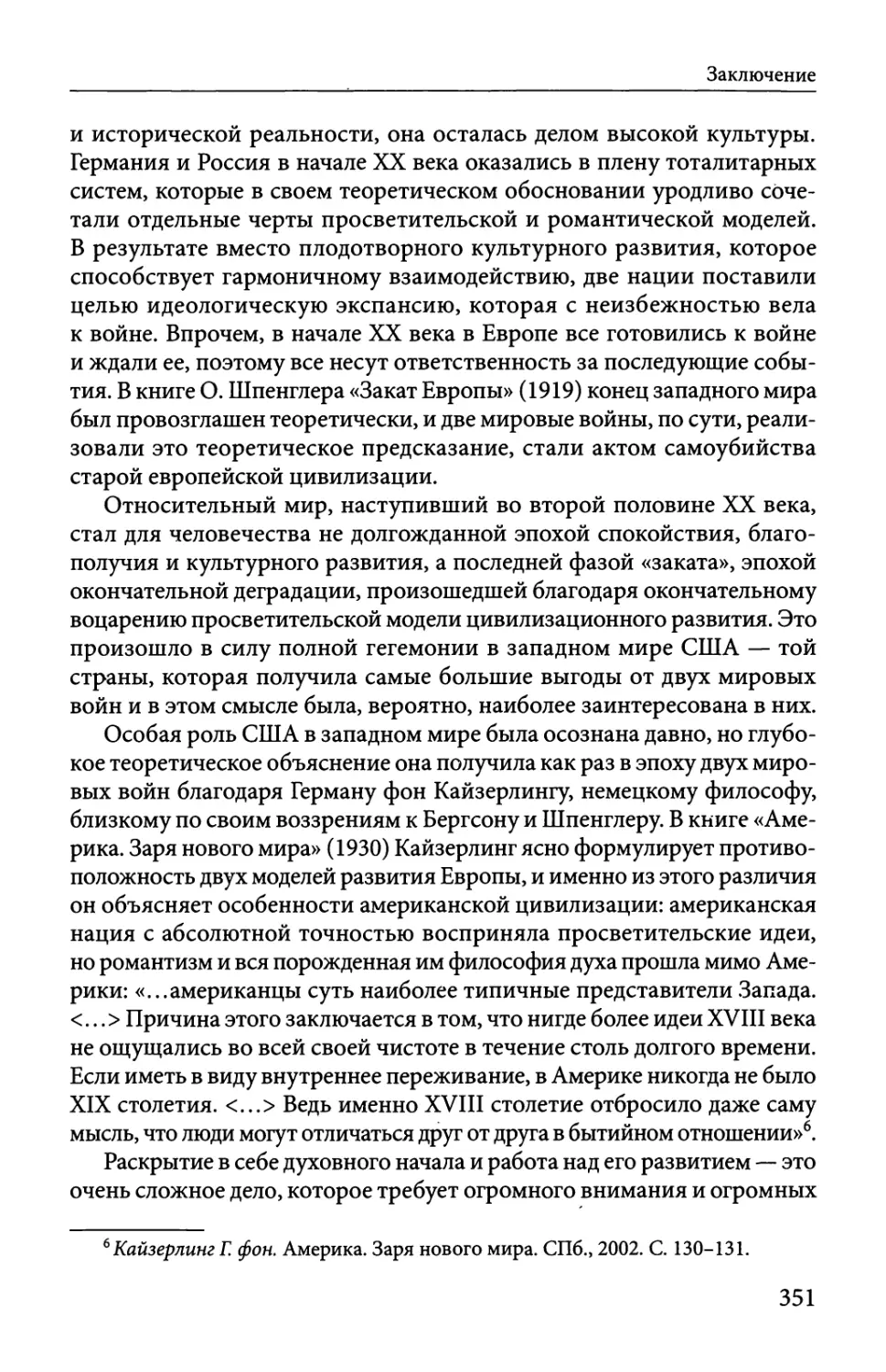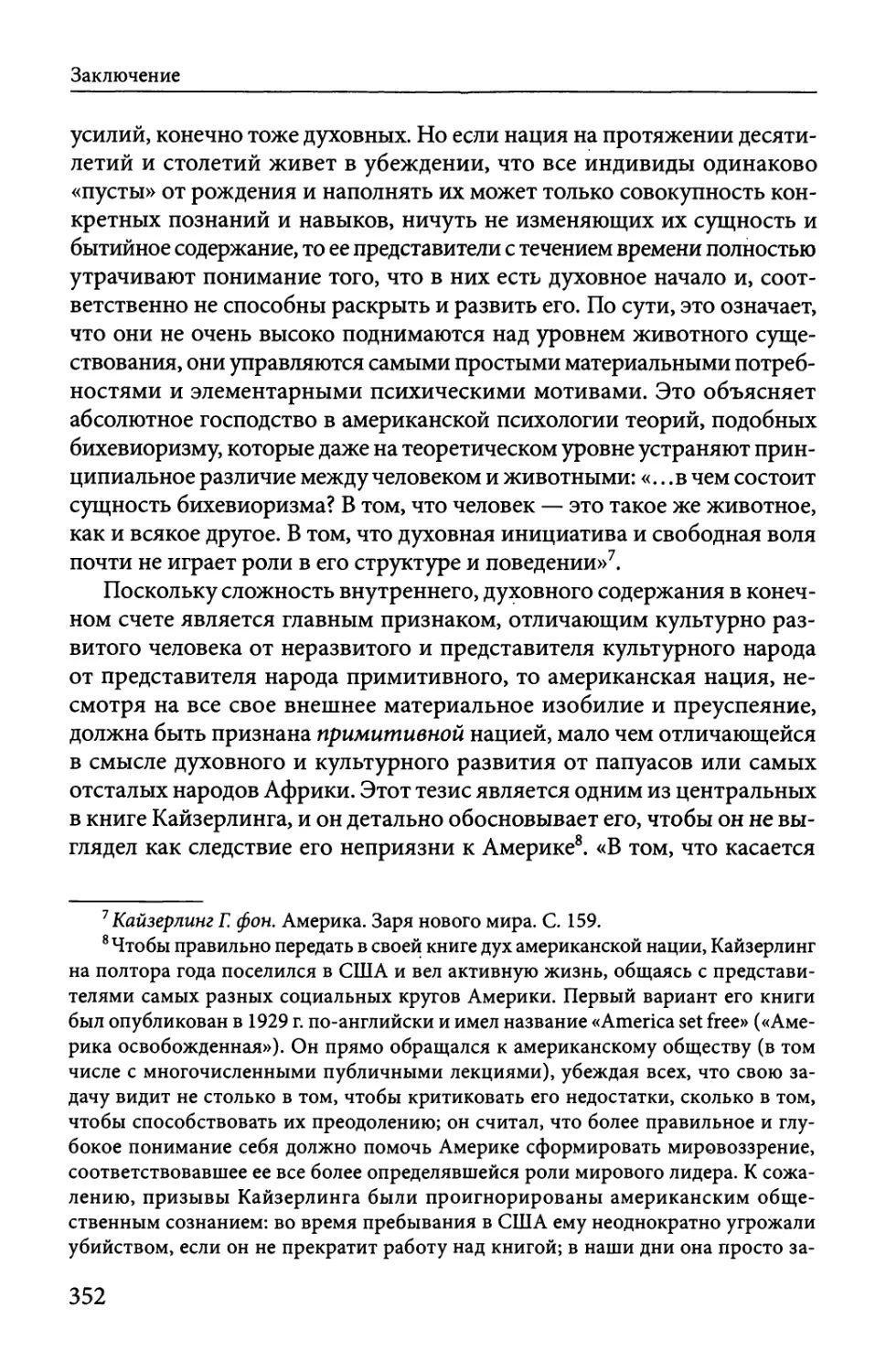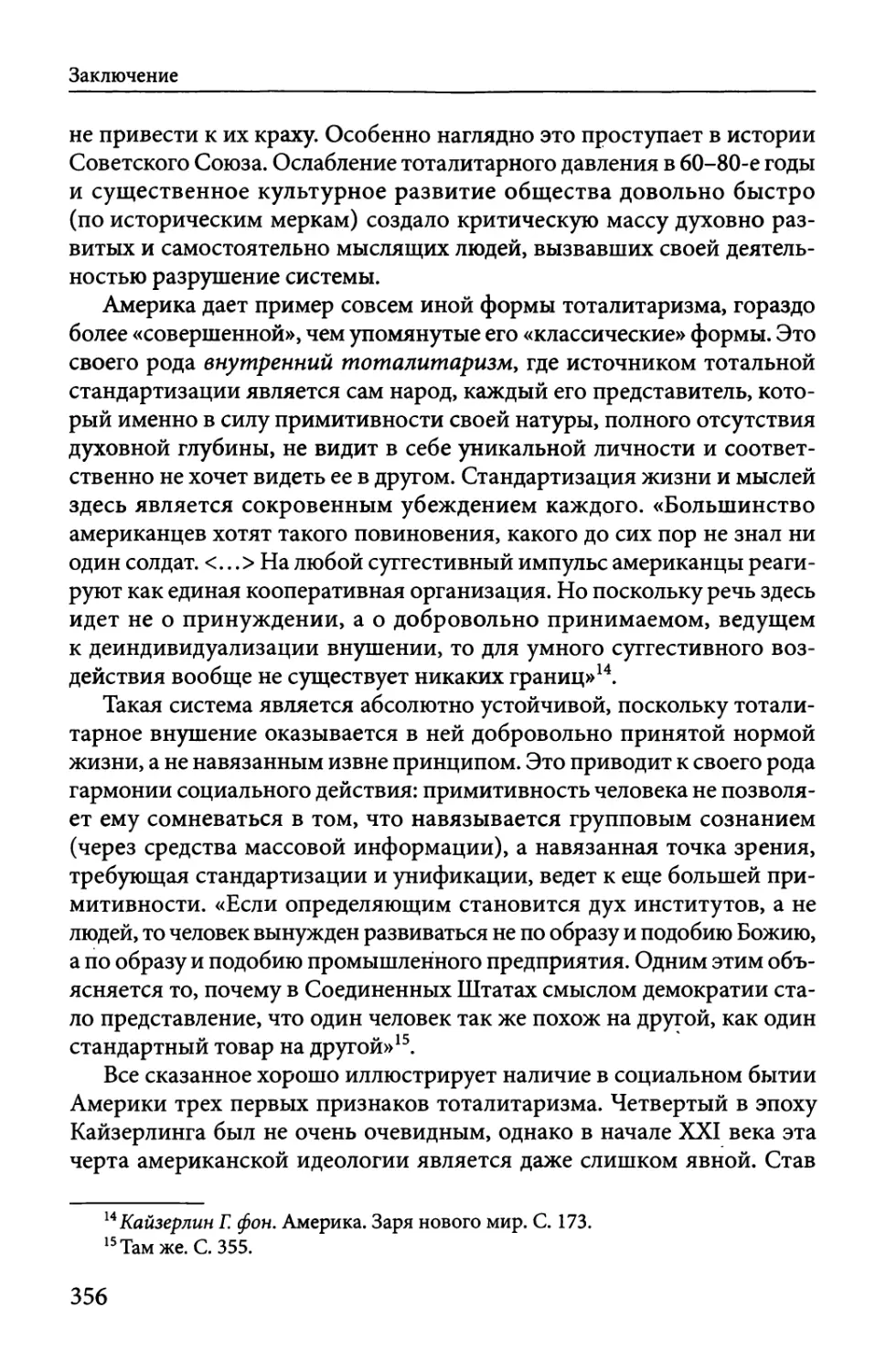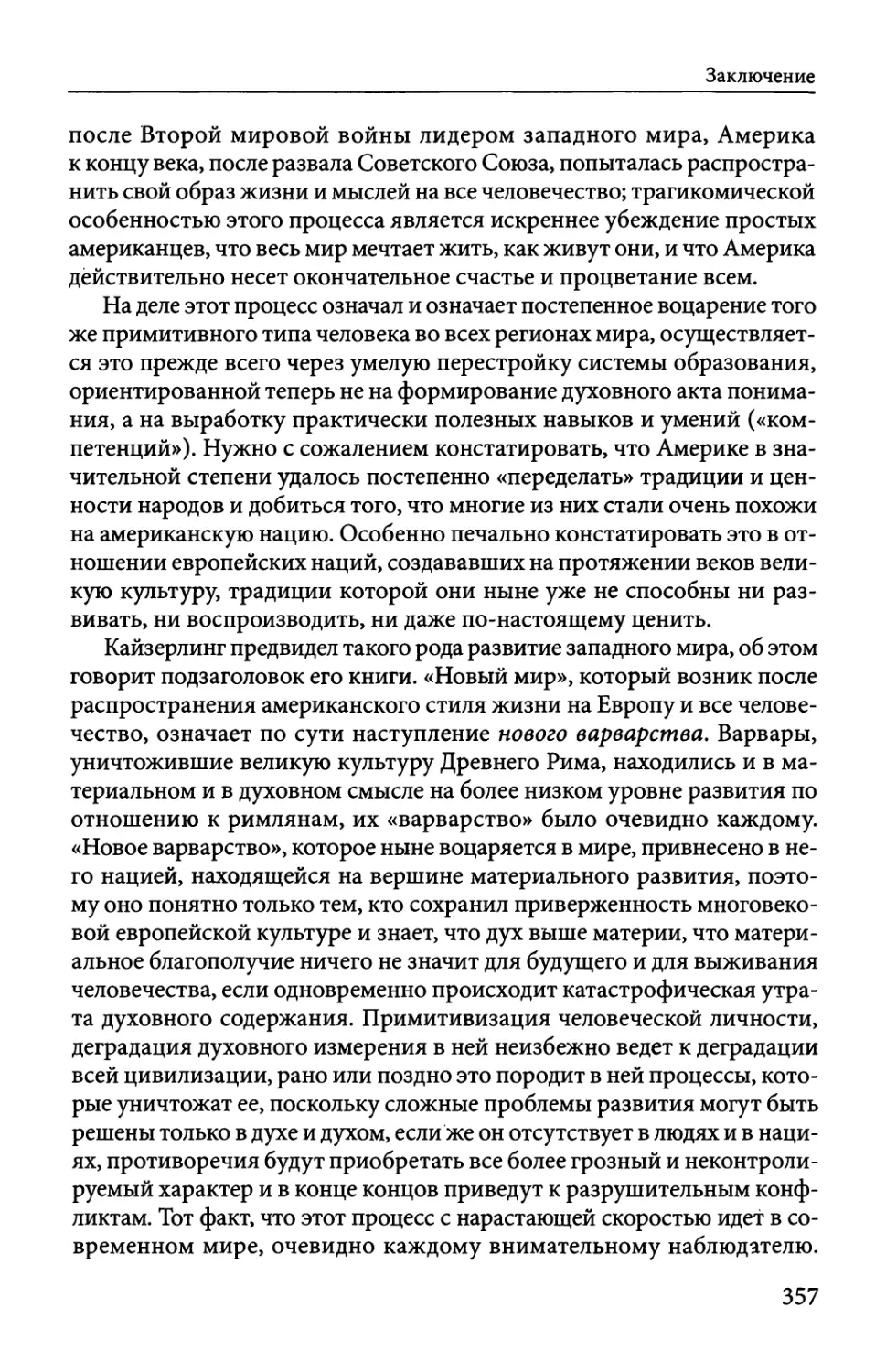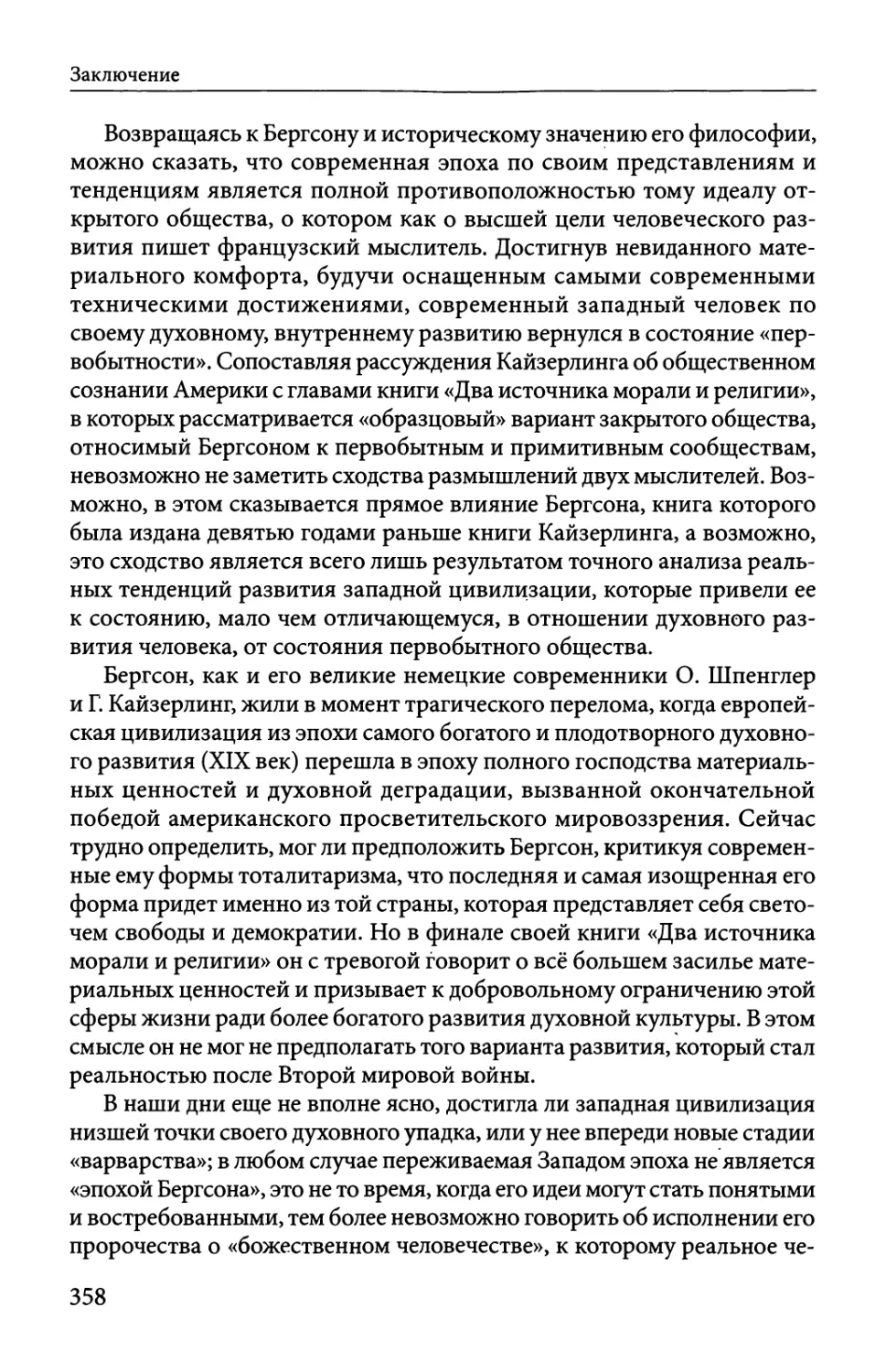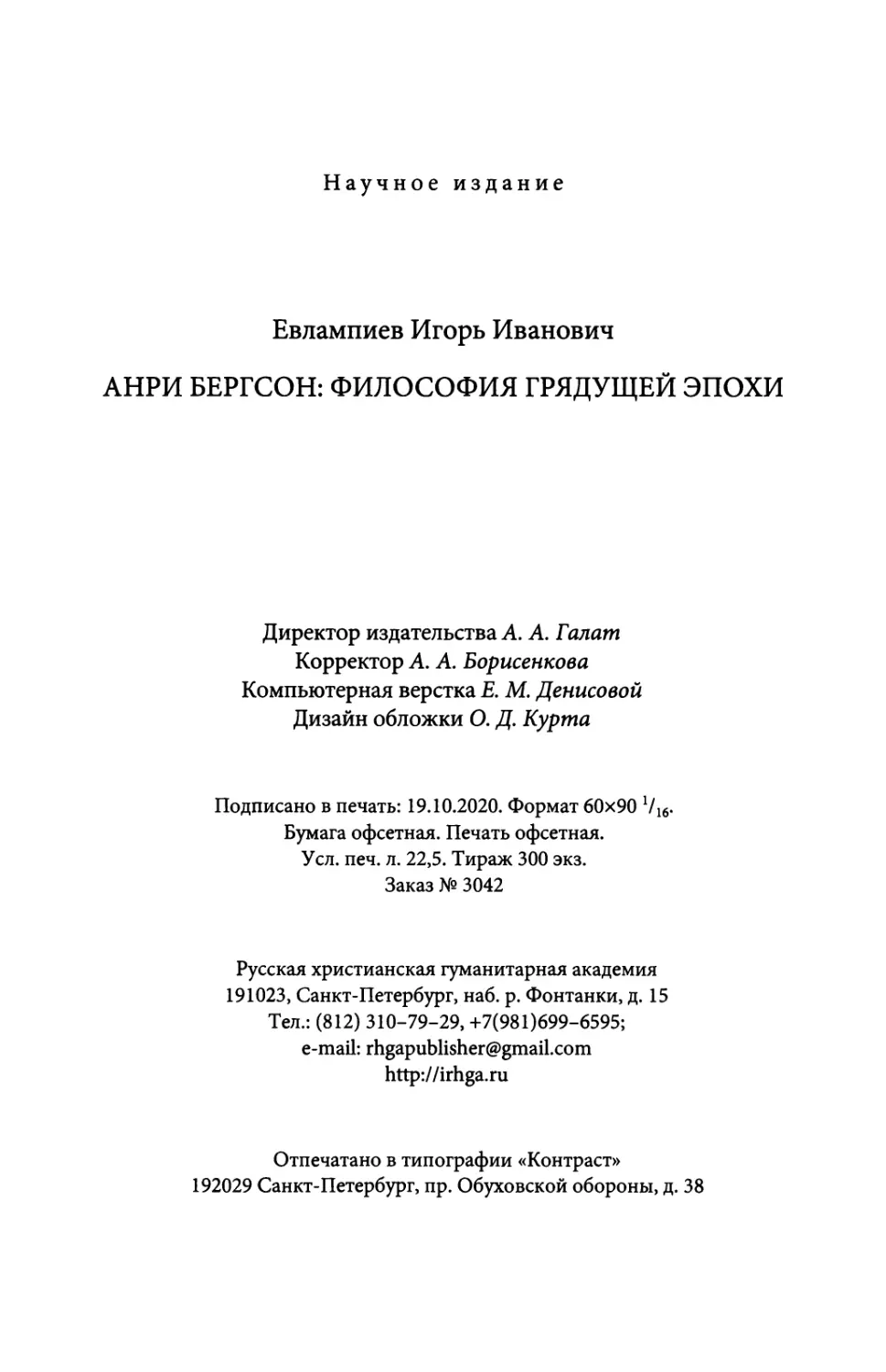Автор: Евлампиев И.И.
Теги: философия психология история философии монография учение процесс познания
ISBN: 978-5-907309-20-3
Год: 2020
Текст
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
И. И. Евлампиев
АНРИ БЕРГСОН:
ФИЛОСОФИЯ
ГРЯДУЩЕЙ ЭПОХИ
Издательство РХГА
Санкт-Петербург.
2020
УДК1
ББК 87.3
Е17
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
по проекту № 20-111-00028, не подлежит продаже
Евлампиев И. И.
Е17 Анри Бергсон: философия грядущей эпохи . — СПб.:
Издательство РХГА, 2020. — 360 с.
ISBN 978-5-907309-20-3
В монографии осуществлен всесторонний анализ системы Анри
Бергсона, одного из главных представителей европейской неклассической
философии. Показано, что, критикуя рационализм и сциентизм новой философии,
Бергсон чутко воспринял наследие классической философии; его учение
представлено как высшая точка развития традиции мистического пантеизма,
оригинальные версии которого создали такие выдающиеся мыслители, как
Николай Кузанский, Г. Лейбниц, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг, А.
Шопенгауэр и др. Рассмотрены новаторские концепции Бергсона относительно
процесса познания, эволюции живой материи, истории и будущего человечества,
изложенные в его главных трудах; особое внимание обращено на концепцию
времени и памяти, содержащуюся в книге «Материя и память». Детально
проанализировано влияние на философию Бергсона творчества Ф.
Достоевского и Л. Толстого.
Книга предназначена для специалистов в истории философии и всех, кто
интересуется развитием европейской философии и культуры двух последних
столетий.
УДК1
ББК 87.3
S
ISBN 978-5-907309-20-3
© И. И. Евлампиев, 2020
© Издательство РХГА, 2020
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 5
Г л а в а 1. Неклассическая философия и ее истоки 7
1.1. Христианские основания неклассической философии... 7
1.2. Главная линия развития европейской философии
и Николай Кузанский как ее родоначальник 19
1.3. Поворот к новой философии человека. Позднее
религиозно-философское учение Фихте 32
1.4. Зарождение неклассической «философии жизни»
в трудах Шеллинга и в немецкой романтической
натурфилософии XIX века 44
1.5. Развитие новых идей в философии А. Шопенгауэра
и Ф. Ницше 50
1.6. О возможном влиянии иудейских религиозных
представлений на Бергсона 55
Гл а в а 2. Человеческое сознание и его «законы» 63
2.1. Проблема познания: приоритет интуиции над научным
разумом 63
2.2. «Опыт о непосредственных данных сознания» 73
2.3. Структура личности и проблема свободы 87
Глав а 3. «Материя и память» 102
3.1. Человеческое восприятие и статус
материального мира 102
3.2. Память как измерение целостности бытия 118
3.3. Динамическое соотношение духа и материи 142
3.4. Концепция духовного бытия Бергсона и традиция
мистического пантеизма 159
3.5. Проблема изменчивости и творения нового , 172
3
Оглавление
Гл а в а 4. Новая теория эволюции 192
4.1. От аналитики сознания к эволюции жизни 192
4.2. Неклассическая телеология 200
4.3. Инстинкт, интеллект и интуиция 207
4.4. Новая метафизика и неклассическая рациональность... 215
4.5. Противоречия и достижения «Творческой эволюции»... 225
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека 236
5.1. Закрытое и открытое общество 236
5.2. Мораль как «инстинкт» социального единства 245
5.3. Открытая мораль и перспектива творческого
преображения общества 251
5.4. Статическая религия и ее функции 261
5.5. Мистицизм как окончательная форма связи человека
с Абсолютом 266
5.6. Зло и добро, смерть и бессмертие 281
5.7. Современность и путь в будущее 291
Глава 6. Бергсон и русская философия 301
6.1. Влияние идей и образов Ф. Достоевского 301
6.2. «Философия жизни» Л. Толстого и А. Бергсона 314
6.3. Толстовские мотивы в этике Бергсона 325
6.4. Бергсон и русская философия XX века 332
Заключение 344
ВВЕДЕНИЕ
Из всех европейских философов последних полутора столетий,
оставивших свой след в истории, Бергсон выглядит едва ли не самой
значительной фигурой. Несмотря на сложность его философских
построений, мало кто из предшественников, современников и преемников
пользовался при жизни такой оглушительной славой, как он. Главные
его идеи настолько прочно вошли в философский обиход, что их
используют все, часто даже не задумываясь об их глубоком, весьма
необычном содержании. А если еще учесть количество и тиражи изданий
трудов Бергсона на основных европейских языках, может создаться
твердое убеждение, что судьба его философского наследия вполне
благополучна.
Но внешняя слава очень обманчива, особенно если это слава
мыслителя. История много раз показывала, что по-настоящему новаторские
философские идеи идут наперекор здравому смыслу, обыденным
убеждениям и устоявшимся научным теориям. Нет ни одного примера,
когда идея или концепция, переворачивающая наши представления
о себе самих и о мире, сразу получила бы признание и при этом была
бы понята во всем объеме своего подлинного содержания. Глубинный
смысл новых идей становится общим достоянием и начинает работать
на будущее иногда через много десятилетий или даже через столетия
после их создания. А воплощение новых идей в жизнь, о чем, вероятно,
мечтает каждый мыслитель, — это вообще удел лишь очень малого
числа интеллектуальных «открытий».
Гибкость, художественная выразительность языка Бергсона
создавали иллюзию простоты и доступности, но нетривиальный смысл его
философии вряд ли был по-настоящему понят современниками. Из
известных мыслителей, которые внимательно читали книги Бергсона
и отзывались о них, видимо, только М. Хайдеггер смог дойти до сути
представлений французского мыслителя. Но и историческая дистанция,
которая часто помогает увидеть смысл новаторских концепций, не
способствовала пониманию идей Бергсона, — наоборот, с течением
времени европейское сознание все дальше уходило от гениальных интуиции,
которыми были наполнены его труды. Главной причиной этого был
радикальный кризис европейской культуры, перешедший в наши дни
в подлинную деградацию, воцарение в ней примитивных стереотипов,
5
Введение
возвращавших европейскую мысль в XVIII век, к просветительской
вере в простоту устройства мира и человека. Автономность личности,
культ рационального, научного познания, уверенность человека в том,
что он с помощью материальных орудий, техники сможет подчинить
себе природу, удовлетворенность своим положением в мире — вот те
ценности, которые стали господствовать в европейском
мировоззрении в конце XX века и которые очень далеки от того, что Бергсон видел
в качестве ориентиров, способных реально стимулировать прогресс
общества.
Адекватное понимание философии Бергсона ведет к признанию
ложности современной западной цивилизации, утратившей идеалы, которые
на протяжении столетий вдохновляли великих мыслителей Европы.
Из множества ценностей, созданных культурной Европой на протяжении
своей истории, Бергсон выбирает в качестве наиболее плодотворных,
позволяющих выйти на правильный путь развития и преодолеть кризис,
такие, которые прямо противоположны принятым в современном
либеральном обществе: убеждение в органическом единстве людей в общей
субстанции их духовной жизни, неудовлетворенность человека своим
наличным состоянием и бесконечное устремление к абсолютному
духовному совершенству, которое только в самых общих чертах предстает
воображению отдельных гениев, призывающих всех людей к
мистическому преображению своего бытия и тем стимулирующих духовное
развитие всего человечества. Не нужно говорить, насколько это
мироощущение далеко от современных стереотипов «правильной» жизни,
в ее личном и социально-политическом измерениях. Главные интенции
философии Бергсона не только не соответствуют основным
направлениям современной общественной идеологии, но глубоко враждебны им.
Абсурдные попытки представить философию Бергсона одним из
источников именно этой ложной идеологии, весьма характерные для
современной западной мысли, лучше всего показывают степень деградации
западной философии, для которой истина давно перестала быть главной
ценностью и которая имеет только одно устремление — доказать
историческую «безальтернативность», вечность того идеала материально-
благополучного, но косного, бездумного и бессмысленного
существования, в котором ныне пребывает западное общество.
Можно констатировать, что философия Бергсона остается великим
«спрятанным сокровищем» европейской мысли, и время обретения
этого сокровища для Европы еще не пришло.
Глава 1
НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
И ЕЕ ИСТОКИ
1.1. Христианские основания
неклассической философии
Во второй половине XIX века в европейской философии
происходили очень важные перемены: она перешла из классической в
неклассическую фазу своего развития. Подлинный смысл этого перелома до
сих пор остается не вполне осознанным; на первый план в его описании
обычно выдвигаются те или другие яркие особенности новой
философии, которые на деле являются второстепенными и не относятся
к сущности происходивших тогда процессов. Часто смысл этого
перелома видят в раскрытии иррациональных составляющих бытия мира
и человека и в придании им определяющей роли в нашей жизни
(волюнтаризм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше), или в появлении идеала
неклассической рациональности (неокантианство, феноменология Э.
Гуссерля), или в изменении самой формы философии, в ее ориентации
не на науку, а на искусство. Все эти черты действительно присутствуют
в неклассической философии и важны для ее понимания, однако на
деле они являются только следствиями гораздо более глубокого,
сущностного сдвига. Чем более значимой для истории является идейная
революция, тем большая историческая дистанция необходима, чтобы
понять ее смысл. Для правильного осмысления революции,
произведенной неклассической философией, ее нужно рассматривать в контексте
всей тысячелетней истории Европы; вызванные ею тенденции
радикально изменили облик европейской философии, складывавшийся на
протяжении многих столетий, здесь оказались затронутыми ее
глубочайшие источники. Несмотря на свое нарочитое противостояние всей
предшествующей, «классической» философии, неклассические
мыслители оказались гораздо более чуткими к заветам истории, чем их
предшественники, и если на первом плане в их построениях и оказалась
критика тех идей, которые выглядели до этого незыблемой основой
европейской мысли, то только потому, что они поняли неадекватность
7
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
этих идей современным задачам и обнаружили в прошлом более ценное
наследие, которое и пытались вернуть после долгих веков замалчиваний
и искажений.
Впервые Гегель понял, что философское знание в гораздо большей
степени, чем научное, зависит от собственной истории. В науке каждая
новая теория опровергает все предшествующие, объявляет их
ложными; в философии, наоборот, каждая продуманная система, давая новый
образ мира и человека, одновременно показывает относительную
правоту предшествующих философских теорий. Философы, только
отрицающие достижения своих предшественников, являются
творцами односторонних систем, наглядным примером здесь служит
материализм Просвещения. Можно уверенно утверждать, что таких
примеров было очень мало в истории; если мы и находим у многих великих
мыслителей отрицательное отношение к истории, оно чаще всего
является только методологическим, полемическим приемом: философ,
каким бы новатором и ниспровергателем старого он ни выступал,
всегда неявно опирается на наследие предшественников — именно
таким было реальное отношение к классической традиции
представителей неклассической философии второй половины XIX века (прежде
всего А. Шопенгауэра и Ф. Ницше).
Тот перелом, который осуществили в истории неклассические
мыслители, можно сопоставить только с великим деянием мыслителей
эпохи Возрождения; подобно тому как гуманисты XV-XVI веков, резко
критикуя своих средневековых предшественников за утрату
творческого начала в мышлении и жизни, через их головы обращались к
безусловным религиозным началам культуры, так и мыслители второй
половины XIX века, отвергая наследие новоевропейского
рационализма, пытались восстановить значение наиболее принципиальных
оснований европейской цивилизации.
Было бы ошибкой слишком доверчиво относиться к тем оценкам
происходящих перемен, которые высказывали непосредственные
участники идейных «революций», — это в равной степени относится
и к деятелям Возрождения, и к представителям неклассической
философии. Те, кто совершает грандиозное историческое деяние, как
правило, сами не способны правильно оценить его смысл — слишком мала
историческая дистанция для адекватности таких оценок. Именно
поэтому важнейшие исторические переломы очень долго остаются не
понятыми в их истинном значении. К сожалению, это продолжает быть
справедливым даже в отношении того перелома в истории, который
совершило Возрождение, тем более отсутствует правильное понимание
8
1.1. Христианские основания неклассической философии
смысла изменений, связанных с рождением неклассической философии.
При рассмотрении обоих исторических переворотов ускользает от
внимания тот факт, что центральной проблемой, определявшей их суть,
являлась судьба христианства.
Хотя чрезвычайно популярным является представление о том, что
истоком европейской цивилизации и культуры является Античность,
на деле это не соответствует действительности. По всем своим главным
слагаемым античное мировоззрение противоположно европейскому
мировоззрения, сформировавшемуся в Средние века. Античный
человек жил в конечном, легко обозримом Космосе, верил в полноту
и гармоничность всего существующего, не ставил себе чрезмерных
задач и полагал, что все цели его жизни вполне достижимы в этом
мире. Он совершенно не видел бесконечности, иррациональности,
загадочности своего бытия и бытия окружающего мира, точно так же
как не чувствовал безмерности задач, стоящих перед ним. Но именно
это является главными характерными чертами мировоззрения
европейского человека на всем протяжении его исторического развития.
Подлинным истоком этого мировоззрения является христианство,
поэтому, пытаясь понять логику становления и развития европейской
цивилизации, нужно иметь в виду именно действие христианства
в истории.
В общепринятой версии истории европейской философии роль
христианства, безусловно, учитывается, но оценка его значения
странным образом сочетает в себе выработанное в Средние века
представление христианской церкви о собственной богоизбранности и безаль-
тернативности с просветительским представлением о реакционности
любого религиозного мировоззрения, которое должно полностью
исчезнуть в «цивилизованном» обществе. В результате значение
христианства для развития философии признается не слишком
значительным. Считается, что Античность создала целый ряд великих
философских систем: от системы Платона и Аристотеля до стоицизма и
неоплатонизма, а рождение христианства привело только к внедрению
в эти системы нескольких новых идей — идеи Творения, идеи личного
Бога, идеи грехопадения и деградации земной реальности и др., которые
существенно не повлияли на указанные великие системы и в конце
концов (в Новое время) почти исчезли из философии, которая
постепенно освободилась от христианского влияния, и вообще стала
нерелигиозной.
Чтобы преодолеть это ложное представление об истории, нужно
прежде всего избавиться от церковного видения истории христианства.
9
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
На деле ортодоксальная традиция, получившая выражение в
догматике и в исторической церкви, сложилась и стала претендовать на полное
господство достаточно поздно (в середине II века), долгое время она
была малозаметна на фоне уже существовавшего и весьма развитого
раннехристианского мировоззрения, сторонников которого церковь,
восторжествовавшая в IV веке, стала называть еретиками-гностиками.
Именно это мировоззрение и есть настоящее, истинное христианство,
оно породило очень сложную форму философии, оказавшую
неизгладимое влияние на всю последующую культурную историю Европы.
Церковная идеология была враждебна философии и вообще любой
содержательной культуре, поэтому ее господство оказалось
практически бесплодным в интеллектуальном смысле, реальное развитие
философии даже в Средние века было возможно только благодаря
сохранению элементов раннего, истинного христианства (того, что ныне
принято называть «гностицизмом») внутри самой ортодоксальной,
церковной традиции. Именно эти важнейшие элементы интуитивно
улавливали великие мыслители европейской истории и строили на их
основе свои системы.
Первые зрелые формы христианской философии возникли уже
в первой половине II века, в системах великих христианских мыслителей
Валентина и Василида. Церковь на протяжении столетий уничтожала
все памятники, противоречившие ее учению, и вытравливала память
о великой философской традиции, возникшей вместе с
возникновением христианства. На протяжении двух веков, после начала научного
исследования истории раннего христианства (с конца XVIII века)
историки были вынуждены пользоваться только искаженными и
тенденциозными пересказами раннехристианских философских учений
в книгах первых борцов с ересями — Иринея Лионского, Ипполита
Римского, Епифания Кипрского, Тертуллиана и др. К счастью, в XX веке
произошло поистине мистическое событие, благодаря которому
европейская цивилизация получила возможность правильно понять свои
собственные религиозные истоки — были вновь обретены древнейшие
письменные памятники, на основе которых стало возможным
установить смысл раннего, истинного христианства, казалось бы навсегда
заклейменного ярлыком гностической ереси и уничтоженного церковью:
в 1945 году в местечке Наг-Хаммади (Египет) была найдена библиотека
древних христианско-гностических текстов, спрятанных кем-то в IV веке,
в эпоху, когда церковь начала решительную борьбу с «еретиками».
Из множества вновь найденных апокрифических памятников особое
значение имеют четыре: Апокриф Иоанна, Евангелие от Фомы, Еван-
10
1.1. Христианские основания неклассической философии
гелие от Филиппа и Евангелие Истины. Созданные не позднее
середины II века (Апокриф Иоанна, вероятно, существовал в какой-то форме
уже в конце I века; возможно, это вообще самый древний христианский
памятник, имеющий дохристианские истоки), эти тексты дают
достаточно связное представление о том, каким было неискаженное,
первоначальное христианство, позже вытесненное ортодоксальной
традицией1. Очень важно увидеть, что учение, излагаемое в этих памятниках,
имеет явные связи с Евангелием от Иоанна; рассмотренное в их
контексте и в связи с ними Евангелие от Иоанна само приобретает совсем
иной смысл, чем ему пытались придать церковные интерпретаторы,
оно оказывается центральной частью учения истинного христианства
и оказывается в очевидном противоречии с догматическим учением
церкви.
Наиболее заметным отличием гностической традиции от
ортодоксальной является резко отрицательное отношение к ортодоксальному
иудаизму. Эту черту раннего христианства мы знаем благодаря Мар-
киону, который одним из первых, около 144 года, выступил против тех
искажений, которое начали вносить в исходное христианское учение
идеологи Римской церкви2. Сам Иисус Христос был назореем (манде-
ем), членом радикальной антииудейской секты, которая объявила
иудаизм религией злого бога (Демиурга, Ялдабаофа), по сути религией
дьявола. Руководителем этой секты во времена Иисуса был Иоанн
Креститель; в этом смысле начало Евангелия от Иоанна, описывающее
преемственность Иисуса по отношению к Иоанну Крестителю как
великому пророку, можно считать исторически достоверным
изображением назорейских истоков христианского учения. Отвергнув
ключевые принципы иудейской религии, Иисус Назорей создал новаторское
учение, в котором полностью отсутствовала идея греховности и
радикального несовершенства человека и провозглашался невиданный
в истории тезис о тождестве Бога и человека. Этот тезис находится
в центре Евангелия от Иоанна, ортодоксальным богословам стоило
немалых трудов затушевать его и проинтерпретировать так, чтобы
устранить его несовместимость с основными положениями церковной
догматики.
1 См. об этом подробнее: Евлампиев И. И. Неискаженное христианство и его
первоисточники // Соловьевские исследования. 2016. Вып. 4; 2017. Вып. 1-4.
2 См.: Алексеев Дм. Античное христианство и гностицизм // Евангелие Истины.
Двенадцать переводов христианских гностических писаний. Ростов н/Д, 2008.
С. 19-26.
11
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
В Евангелии от Иоанна Христос постоянно говорит и о своем
неразрывном единстве с Отцом и о единстве-тождестве со своими учениками,
а через них и со всеми людьми. «Слова, которые говорю Я вам, говорю
не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14, 10).
«Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я
живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы
во Мне, иЯв вас» (Ин. 14,19-20; курсив мой. — И. Е.). «И славу, которую
Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во
Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня
и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 14,22-23; курсив мой. — К Е.).
В начале Евангелия от Иоанна Христос говорит о том, что он находится
в единстве-тождестве с Богом-Отцом; чем ближе момент расставания
Христа с учениками, тем чаще он повторяет тезис о своем единстве-
тождестве с учениками и всеми верующими в него. Эти два тезиса вместе,
безусловно, означают, что люди могут быть в непосредственном единстве
с Богом-Отцом, с тем Началом бытия, о котором говорится в первых
строках Евангелия от Иоанна. Приведенные выше слова из Ин. 14, 23
имеют особенно важный смысл: в них утверждается не просто единство
Бога, Иисуса и его учеников, но имманентность Иисуса Богу-Отцу,
а учеников Иисусу, т. е. имманентность человека Богу.
Сам Бог-Отец в учении Иисуса предстает как абсолютно
непознаваемый Абсолют, который не только выше всех возможных определений,
но и выше самого бытия, т. е. он является не-сущим Богом. В качестве
существующего он предстает в мире только в виде человека.
Разъяснению этого мотива учения посвящены очень важные слова Иисуса: «Бога
не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он
явил» (Ин. 1,17). Этот тезис повторяется в словах Иисуса в конце
тайной вечери, когда на недоумение учеников (Фомы и Филиппа), которые
не понимают, куда Христос уходит и почему утверждает, что они уже
видели Отца, он так отвечает им: «Если бы вы знали Меня, то знали бы
и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. <.. .> Видевший Меня
видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?» (Ин. 14, 7; 14, 9).
Слова Христа означают, что он есть полное и исчерпывающее «явление»
Бога в мире и никакого другого Бога существовать не может. Если
и можно говорить о каком-то Боге-Отце, не совпадающем со Христом,
то это как раз тот самый Бог, которого «никто никогда» не видел и не
может увидеть, т. е. это несуществующий (не-сущий), или, может быть,
лучше сказать, непроявленный в нашем мире Бог.
Точно такое же понимание Бога-Отца и его соотношения с
человеком присутствует в Апокрифе Иоанна. Но наиболее детальная фило-
12
1.1. Христианские основания неклассической философии
софская разработка этой исходной модели понимания Бога и его
отношений с человеком и миром содержится в Евангелии Истины
(согласно свидетельству Иринея Лионского, его автором был Валентин).
Здесь мы находим абсолютно оригинальную философскую концепцию
пантеистического типа, не имеющую прямых аналогий в античной
философии3. Бог, называемый здесь Отцом, изображается как не-сущий
Бог, находящийся выше всего существующего, но одновременно
содержащий в себе всё существующее. Важной проблемой этой
концепции является описание процесса «происхождения» мира из Отца. Этот
процесс не может быть назван Творением, поскольку первичные
существующие сущности появляются из Отца как бы сами собой,
спонтанно, воля Отца не участвует в их появлении. Это связано с тем, что
возникшие сущности не знают Отца (в силу того, что он является
не-сущим), т. е. сразу, в момент возникновения являются глубоко
несовершенными, а воля Отца не может хотеть творения
несовершенного. Но после появления мира Отец все равно присутствует в мире
(поскольку ничто не может существовать вне его воли) и имеет полное
знание о мире через свое присутствие в нем. Его воля, присутствующая
в мире, — это пространство и время: всё, что он творит по своей воле,
появляется в пространстве и во времени как существующее. Кроме
этого, в цельной полноте своей сущности он присутствует в мире в виде
человека, именно в этой идее Евангелие Истины наиболее прямо
продолжает развитие религиозной тенденции, заданной Евангелием
от Иоанна. Человек знает свое происхождение от Отца через призыв,
обращенный к нему: «Так что некто, если он знает, он свыше. Если он
призван, он слышит, он отвечает, и он обращается к призвавшему его,
он восходит к Нему, и он понимает, как он призван. Зная, он творит
волю призвавшего его, он хочет делать угодное Ему, он получает покой.
Имя его дается ему. Итак, тот, кто узнает, понимает, откуда он вышел
и куда идет»4.
Автор памятника пытается понять, что является источником
появления несовершенного существующего мира, и объявляет таким
источником саму непостижимую «глубину» Отца. «Изъян вещества не
возник из бесконечности Отца, приходящего дать время изъяну, хотя
никто не смог сказать, что Он придет так, Нетленный. Но она умножилась,
3 См.: Евлампиев И. И. Евангелие Истины и рождение христианской философии //
История философии. 2017. № 1. С. 15-26.
4 Евангелие Истины. Двенадцать переводов христианских гностических писаний.
С. 98.
13
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
глубина Отца, и она не была с Ним, мысль заблуждения, дело слабости,
которое легко исправить обретением пришедшего к Тому, Кто
возвратит его, ибо возвращение называют покаянием»5.
Иисус Христос в Евангелии Истины подобен каждому человеку,
поскольку он, как и любой человек, есть явление Отца в сфере
существующего, но он есть наиболее полное выражение сущности Отца
в нашем мире, полное знание о Нем. В этом смысле он является
абсолютным человеком и идеалом для каждого земного человека.
Одновременно он содержит в себе призывы, обращенные ко всем людям, поэтому
через единство с ним и через усвоение знания, которое он несет, каждый
человек осознает свое единство с Богом и идет по пути спасения.
Философская концепция Евангелия Истины является абсолютно
новаторской на фоне существовавшей в ту эпоху (1-Й века) античной
философии. Позже некоторые ее принципы были заимствованы
неоплатониками — прежде всего это касается идеи не-сущего Бога, — и
упоминались в истории философии только в связи с неоплатонизмом.
Теперь мы можем восстановить историческую справедливость и
признать неоплатонизм во многом вторичной системой, возникшей
благодаря переработке новаторских идей раннего (гностического)
христианства. В этом контексте становится понятной та яростная критика,
которую Плотин направляет против «гностиков» в своем известном
трактате. Ведь, если гностицизм был настолько второстепенным
течением в первые века христианского развития, как это изображает
традиционная (церковная) точка зрения, представляется странным
большое внимание основателя неоплатонизма к этому течению. На деле,
Плотин пытался дискредитировать тех, у кого заимствовал достаточно
существенные для своей системы философские принципы.
Недобросовестность плотиновской критики в трактате «Против гностиков»
проявляется в том, что он выдвигает на первый план мифологическую
систему христиан-гностиков, которую очень легко подвергнуть
философской критике, но которая уже в ту эпоху стала анахронизмом и
существовала практически независимо от строго философской
системы первоначального (гностического) христианства.
Вероятно, когда-нибудь история европейской культуры и
европейской философии будет очищена от многочисленных искажений,
внесенных в нее церковными идеологами, и тогда Евангелие Истины получит
должную оценку как подлинный исток всей последующей философской
5 Евангелие Истины. Двенадцать переводов христианских гностических писаний.
С. 104.
14
1.1. Христианские основания неклассической философии
мысли Европы. Всё самое ценное в европейской философии последующих
эпох так или иначе восходит к этому уникальному по своему значению
памятнику, наиболее полно выражающему подлинную,
раннехристианскую традицию. Это утверждение имеет непосредственное отношение
и к той революции, которую произвела в конце XIX века неклассическая
философия. Как будет ясно из дальнейшего, самый важный ее аспект
заключался не столько в отрицании ее представителями своей
преемственности по отношению к своим непосредственным
предшественникам, сколько в восстановлении явной и прямой связи с указанным
универсальным истоком европейской мысли.
В Средние века абсолютное господство церкви привело к тому, что
идеи раннего христианства не могли в явном виде влиять на философию;
на фоне монотонного ряда схоластических систем лишь изредка
появляются оригинальные мыслительные построения, подобные системам
Эриугены (IX век), Иоахима Флорского (XII век) и Майстера Экхарта
(XIII-XIV века), которые церковь неизменно признавала еретическими.
В этом контексте можно понять подлинное значение эпохи
Возрождения. Ее суть состояла в стремлении восстановить истинное
христианство после веков господства искаженного и ложного христианства
церкви. Неадекватность традиционных оценок Возрождения связана
как раз с тем, что эта его подлинная цель замещается иллюзорной:
гуманисты якобы стремились к возрождению античного идеала
красоты и, значит, имели языческую, антихристианскую тенденцию в
качестве основы своего мировоззрения. Распространенность этой точки
зрения связана исключительно с диктатом церкви, которая не могла
признать возможность существования христианства за пределами ее
ограды. На деле гуманисты Возрождения очень хорошо видели
расхождение между истинным к реальным христианством и пытались сделать
истинное реальным. Если бы это им удалось, то христианство стало бы
по-настоящему вселенским, пронизывающим все сферы общества
и стимулирующим его духовное развитие, действующим в культуре
и ради расцвета культуры, а не против нее, как это происходило и
происходит в ортодоксальной традиции.
Афористично точно суть того преобразования общества и культуры,
который намечался в деятельности великих мыслителей и художников
Возрождения, выразил В. Бибихин: эти преобразования были
направлены на то, чтобы «поэт и философ, вместо священнослужителя и
богослова, стал пророком Запада»6. Имея в виду именно эту цель, Бибихин
6 Бибихин В. В. Новый ренессанс. М., 1998. С. 346:
15
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
парадоксально утверждает, что суть подлинного, вечного
христианства в большей степени живет в стихах Данте и Петрарки,
посвященных Прекрасной Даме, чем в мертвых церковных обрядах и таинствах:
«.. .с самого начала через все ступени отношений между ренессансной
культурой и церковью неизменной проходит уверенность поэта,
художника, ученого, что вдохновение, самопознание, духовное усилие лучше
отвечают смыслу христианства, чем обряд, ритуал, культ, т. е.
уверенность, что христианство в своей сути не религия»7. Здесь имеется
в виду, что подлинно христианский образ жизни — это стремление
реализовать все творческие потенции человека в культуре, через
преображение земного бытия по законам добра и красоты, и по отношению
к этой цели все остальные признаки традиционной религии (догматика,
таинства, обряды, сама вера в трансцендентного Бога) оказываются
неважными.
Хотя Возрождение не сумело устранить господства церковного
христианства в жизни европейских народов, оно все-таки сумело
изменить ситуацию в сфере мысли, в философии; на некоторое время
мировоззрение истинного христианства стало основой философского
развития, все великие мыслители этой эпохи в той или иной степени
выразили в своих построениях необходимость смены религиозной
парадигмы. Особенно зрелое и оригинальное выражение новое
понимание христианства получило в философии Николая Кузанскрго8.
Учение Кузанца в общепринятой историко-философской
интерпретации определяют как «возрожденческий неоплатонизм», однако это дает
неадекватное представление о его положении в истории философии,
на деле оно имеет раннехристианские основания и непосредственно
связано с традицией, заданной Евангелием Истины.
Созданная Николаем Кузанским система, во всех своих основных
слагаемых совпадающая с системой, изложенной в Евангелии Истины, —
это мистический пантеизм; эта философская модель стала основой
всего последующего развития европейской философии, хотя
церковное сознание продолжало упорно противопоставлять ей свои
схоластические учения, основанные на модели всеведущего и всемогущего
Бога, пребывающего в «отдалении» от мира, в некой трансцендентной,
«небесной» сфере. К сожалению, с термином «пантеизм» до сих пор
7 Бибихин В. В. Новый ренессанс. С. 358.
8 См.: Евлампиев И. И. Учение Николай Кузанского о Боге, мире и человеке
в историко-философской перспективе // Coincidentia oppositorum: от Николая
Кузанского к Николаю Бердяеву. СПб., 2010. С. 47-82.
16
1.1. Христианские основания неклассической философии
связано множество ложных стереотипов, активно пропагандируемых
людьми церковного сознания, как правило плохо знающими
историю философии — по крайней мере, совершенно не осведомленными
о том, что в немецкой философии конца XVIII — начала XIX века этот
термин получил всестороннее освещение, в частности, в известном
«споре о пантеизме», а затем и в «споре о божественных вещах»,
которые были инициированы Ф. Г. Якоби; участвовавший в них Шеллинг
очень ясно высказался о сущности пантеизма и его роли в истории
философии.
Якоби справедливо утверждал, что в рамках научно-рационального
понимания природы мы видим мир как совокупность конечных
вещей и можем в рассудочном познании только переходить от одного
конечного явления к другому, но никогда не в состоянии дойти до
бесконечного, безусловного и абсолютного основания явлений. Из этого
справедливого наблюдения он делал вывод о том, что абсолютное
и бесконечное основание явлений (Бог) должно быть отделено от мира
и помещено в особую трансцендентную сферу. На это Шеллинг
справедливо возразил, что такое абсолютное разделение мира и Бога, в свою
очередь, лишает нас какой-либо возможности объяснить их связь.
Единственный выход — признать Бога и мир неразрывно связанными,
но саму их связь описывать как несимметричную, необратимую: все
вещи имманентны Богу, но Бог трансцендентен по отношению к вещам.
Как разъясняет Шеллинг в своем известном труде о человеческой
свободе, вещи немыслимы вне Бога, так как являются производными по
отношению к Богу, в то же время «Бог есть единственно и изначально
самостоятельное, само себя утверждающее, к которому все остальное
относится лишь как утверждаемое, как следствие к основанию. <...>
Именно из-за этого различия все единичные вещи, взятые в своей
совокупности, не могут, как обычно предполагается, составить Бога, ибо
нет такого соединения, посредством которого то, что по своей
природе производно, способно перейти в то, что по своей природе
изначально, так же как единичные точки окружности, взятые в своей
совокупности, не могут составить окружность, поскольку она как целое
необходимо предшествует им по своему понятию»9.
Утверждение об имманентности всех вещей Богу, который сам
является трансцендентным в отношении каждой вещи и всей их совокупности
9Шеллинг Ф. В. Й. Философские исследования о сущности человеческой
свободы и связанных с ней предметах // Шеллинг Ф. В. Й. Соч. В 2 т. М., 1987-1989. Т. 2.
С. 92.
17
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
(природы), и является точным и исчерпывающим философским
определением пантеизма, который не содержит никакого противоречия;
в то же время известное «определение» пантеизма как «тождество Бога
и мира» нужно признать просто курьезной нелепостью, повторять
которую после всех указанных споров, имевших место в немецкой
философии, может только тот, кто весьма посредственно знает историю
философии10.
Нужно также заметить, что в развиваемой Шеллингом версии
пантеизма отношение Бога и мира носит совсем иной характер, чем
отношение конечных явлений внутри мира. Последнее является
универсальной формой рационально познаваемого отношения, в то время как
первое нужно мыслить как находящееся за пределами традиционной
научной рациональности; оно допускает описание, но в рамках
особого рода дискурса, выходящего далеко за пределы того, что можно познать
на основе обычного научно-рационального метода11. Именно поэтому
такого рода отношение можно и нужно характеризовать как
«мистическое», оно является «непостижимым» в рамках традиционной
рациональности, что очень хорошо понимал Николай Кузанский.
Таким образом, пантеизм в смысле «мистического пантеизма»
является вполне легальной метафизической моделью; более того,
согласно Шеллингу, «вряд ли можно было бы отрицать, что каждое разумное
10 К сожалению, в наши дни история философии все в большей степени
становится разделом филологии, а не собственно философии; многие современные
«историки философии» считают, что их способность читать на языке оригинала
и проводить филологические и исторические параллели между разными текстами
мыслителя дает им право на обобщающие суждения об их философских идеях.
В большинстве таких случаев, к сожалению, отсутствует даже элементарное
понимание сути этих идей. Например, в современной книге о философии Николая
Кузанского читаем: «..."кардинал-пантеист" — это само по себе невозможное
и бессмысленное определение, т. к. пантеизм как отождествление Творца и
творения включен в число главных ересей, начиная с эпохи раннего Средневековья
осуждаемых католической церковью. Было бы странно, если бы современники
Николая Кузанского, а тем более люди церкви из его ближайшего окружения,
этого не заметили. Сам же Николай Кузанский нигде не настаивал на том, что он
пантеист» (Хорьков М. Е. Философия Николая Кузанского. М., 2015. С. 29).
Понятно, что исследователь, который с помощью таких «нравоучительно-школьных»
сентенций пытается решить сложнейшую философскую проблему отношения
Абсолюта и мира, вряд ли что-то слышал о строгом философском определении
пантеизма в трудах Шеллинга.
11 Подробнее см. в статье: Золотухин В. В. Спор о божественных вещах: конфликт
философских теологии // Вопросы философии. 2012. № 10. С. 150-159.
18
1.2. Главная линия развития европейской философии...
воззрение должно в том или ином смысле тяготеть к этому учению» .
Эта метафизическая модель составляет безусловный центр всей истории
европейской философии, все оригинальные и содержательные
философские системы в истории можно понять как ее творческое развитие
и уточнение. Те же системы, которые пытались и пытаются быть в
согласии с церковно-догматической моделью трансцендентного Бога,
отделенного от тварного мира, неизбежно оказываются
несостоятельными, неспособными последовательно и непротиворечиво объяснить
человека и его свободу.
1.2. Главная линия развития
европейской философии и Николай Кузанский
как ее родоначальник
В мистическом пантеизме Абсолют оказывается апофатическим,
непостижимым, ему невозможно приписать никаких предикатов,
свойств; в частности, он не является личностью и вообще не
существует в том смысле, в каком существуют вещи и явления окружающего нас
мира. Два известнейших раннехристианских памятника — Апокриф
Иоанна и Евангелие Истины, начинаются с описания именно такого
не-сущего Абсолюта. Но поскольку мы все-таки имеем какое-то
(мистическое, не рациональное) его постижение, невозможно отрицать его
«существование» в каком-то ином смысле, чем существование
окружающих явлений. Поэтому в более поздних формах этой философской
традиции появляется мысль о том, что существование Абсолюта носит
совершенно иной характер, чем существование предметного мира и его
содержимого. Наглядный пример такого различия дает поздняя
философия Фихте, о которой речь пойдет ниже: Абсолют обладает бытием,
но кроме этого, он совершает акт существования (экзистирует),
результатом этого акта и является бытие предметного мира, которое имеет
иной смысл, чем бытие Абсолюта в себе. Такое понимание
соотношения бытия Абсолюта и бытия предметного мира стало общим и в
различных вариантах повторялось в последующей философии: в системе
Гегеля это различие фиксируется как различие бытия (Sein) и
наличного бытия (Dasein), уже в XX веке ее по-своему повторил М. Хайдеггер,
которого также можно с полным основанием причислить к традиции
12 Шеллинг Ф. В. Й. Философские исследования о сущности человеческой
свободы и связанных с ней предметах. С. 90-91.
19
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
мистического пантеизма. Хотя он вслед за Ницше склоняется к
отрицанию чего-то абсолютного в бытии («Бог умер»), это отрицание
относится только к классической форме понимания Абсолюта,
происходящей из ортодоксального христианского учения; если же иметь
в виду неортодоксальную традицию, то философия Хайдеггера вполне
может быть названа «христианской», и в ней присутствует
неклассический Абсолют.
Второй исходный принцип мистического пантеизма объясняет
происхождение мира конечных вещей из Абсолюта, т. е. он дает свою
версию идеи Творения. В ортодоксальной идее Творения Бог
порождает тварный мир своей ясной и определенной волей, при этом мир
существует «вне» Бога, не меняет «состояния» Бога и не имеет прямой связи
с Богом; в противоположность этому, в концепции мистического
пантеизма мир есть иная форма бытия Абсолюта, он существует в
Абсолюте (как бы в некоторой его «внутренней сфере»), в неразрывной
связи с ним, но представляет собой некоторую форму его «деволюции»,
«деградации» от абсолютного и бесконечного состояния к состоянию
конечности и относительности. Этот акт не имеет рационального
объяснения, и его описание составляет самую сложную проблему в
философии мистического пантеизма.
Третий принцип касается понимания сущности человеческого бытия.
Мир возникает в Абсолюте как его несовершенная форма,
«модификация», и поэтому он не знает Абсолюта и своего тождества с ним.
Но полностью это сущностное тождество не может исчезнуть, поэтому
в мире есть существо, которое в наиболее полной форме сохраняет его
и может явить в формах самого мирового бытия — это и есть человек.
Четвертый принцип описывает развитие мира и человека как
стремление к полноте постижения Абсолюта, т. е. постижения своего
тождества с Абсолютом, и затем к «восстановлению» этого тождества
в реальности, в бытии. Учение Иисуса Христа, истинное христианство
и является выражением так понятой главной цели жизни человека
и исторического развития человечества. Иисус Христос — это первый
человек, до конца осознавший свое тождество с Богом и воплощающий
это знание в своей жизни; именно этот опыт жизни он выражает
своим учением.
Первое последовательное и полное воплощение концепции
мистического пантеизма, как уже было сказано, дал в своей философии
Николай Кузанский. Убеждение, что Бог является основой
существования каждой вещи, бесчисленное число раз повторяется в сочинениях
Николая. Например, он пишет (обращаясь к Богу): «Как ничто из суще-
20
1.2. Главная линия развития европейской философии...
ствующего не может уйти от своего собственного бытия, так ничто
не может уйти от твоей сущности, дающей сущностное бытие всему,
и от твоего взора <...>»13. Здесь утверждается, что вещь находится
в таком же отношение к сущности Бога, в каком она находится к
своему собственному бытию, т. е., действительно, каждая вещь
имманентна Богу, причем именно в сущностном смысле.
Говоря о том, что Единое, или Максимум (Бог), выше любых
конкретных определений, Николай пишет: «.. .каждая вещь в едином есть
само это единое, а оно — и единое и всё, и, значит, любая вещь в нем
есть всё»14. Простейшая и бесконечная сущность максимума есть
«простейшая сущность всех сущностей; все сущности настоящих, прошлых
и будущих вещей всегда и вечно пребывают актуально в этой сущности,
так что все сущности — это как бы сама же всеобщая сущность <.. .»>15.
Тем самым всё совпадает со всем в Абсолюте, разнообразие вещей
оказывается иллюзорным и несущественным на фоне его единства.
Всё сказанное позволяет утверждать, что Кузанец понимает Бога как
ВсеединствОу более того, Николай является родоначальником этой
концепции в новой философии (в древности ее элементы можно
найти и в философии Платона, и особенно в неоплатонизме).
Наиболее неожиданным в философии Кузанца оказывается
понимание соотношения мира и Бога. Казалось бы, католический кардинал
должен придерживаться строго ортодоксального смысла идеи Творения.
Однако мы находим у него весьма необычное понимание тварного мира
как случайного, получающегося в результате акта «ограничения»
собственного бытия Абсолютом (Богом). Этот аспект учения Николая
нагляднейшим образом демонстрирует характерное отличие
мистического пантеизма от философских концепций, основанных на
ортодоксальном христианстве. Во второй книге трактата «Об ученом незнании»
Николай использует понятие случайности творения для объяснения
множественности, различенности и разногласия вещей предметного
мира. «У всякого творения от Бога — единство, отличенность и связь
со Вселенной, и чем больше в нем единства, тем оно подобнее Богу;
но что его единство осуществляется в множественности,
отличенность — в смешении и связь — в разногласии, то это не от Бога и не
13 Николай Кузанский. О видении Бога // Николай Кузанский. Соч. В 2 т. М.,
1979-1980. Т. 2. С. 52.
14 Николай Кузанский. Об ученом незнании // Николай Кузанский. Соч. В 2 т.
Т. 1. С. 62.
15 Там же. С. 73.
21
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
от какой-то положительной причины, а потому, что так ему случилось
быть»16. И далее повторение той же мысли: «Кто сможет понять это —
что все вещи суть образ единой бесконечной формы и разнообразны
только оттого, что так их определил случай, как если бы творение было
неполным (occasionatus) Богом, как акциденция есть неполная
субстанция, а женщина — неполный мужчина? Сама по себе бесконечная
форма воспринимается только конечным образом, так что всякое
творение есть как бы конечная бесконечность или сотворенный Бог,
существующий наилучшим возможным образом, как если бы Творец
сказал: "Да будет", — и, поскольку не мог возникнуть Бог, который есть
сама вечность, получилось, что возникнуть смогло нечто наиболее
подобное Богу»17 (курсив мой. — И. Е.).
Интересно, что и в приведенной цитате, и в других местах трактата,
содержащих мысль о случайности тварного мира и тварных вещей,
постоянно звучат риторические вопросы-восклицания о том, как
трудно, если вообще возможно, понять сочетание божественной
необходимости с тварной случайностью, которую невозможно приписать Богу
и исток которой вне Бога.
Мысль о случайности тварного мира оказывается одной из
наиболее устойчивых в учении Николая Кузанского. В позднем трактате
«Об игре в шар» мы находим ее в точно таком же виде, как и в раннем
трактате «Об ученом незнании»: «Бог творит все, подверженное инако-
вости, изменению и разрушению — тоже. Но инаковости,
изменчивости и разрушения он не творит; он сама бытийность и творит не
погибель, а бытие. Разрушимость и изменчивость у вещей не от Творца,
но они случаются с вещами»18 (курсив мой. — И. Е.). И далее следует
предельно наглядная аналогия, помогающая понять эту мысль: «Как
горох, разом брошенный на ровную мостовую, разлетается так, что ни
одна горошина не движется и не останавливается наравне с другой,
а у каждой свое место и движение, однако вся инаковость и
разнообразие не от бросившего, который бросил все разом и одинаково,
но от случившихся обстоятельств, коль скоро невозможно, чтобы
[многие] горошины двигались одинаково и останавливались в одном
и том же месте»19.
16 Николай Кузанский. Об ученом незнании. С. 100.
17Тамже.С. 102.
18 Николай Кузанский. Об игре в шар // Николай Кузанский. Соч. В 2 т. Т. 2.
С. 292-293.
19Тамже.С293.
22
1.2. Главная линия развития европейской философии...
Совершенно очевидно, что и в приведенной аналогии с брошенным
горохом, и в предшествующих фрагментах причина случайности вещей
полагается вне Бога, как нечто относительно независимое от Бога.
Возвращаясь к первой из приведенных цитат и продолжая ее, мы тут же
узнаем, откуда проистекает случайность вещей, что является ее
источником: «Кто способен, соединив в творении абсолютную необходимость,
от которой оно происходит, со случайностью, без которой его нет,
понять его бытие? Не будучи ни Богом, ни ничем, творение стоит как бы
после Бога и прежде ничто, между Богом и ничто, как один из мудрых
сказал: "Бог — противоположность ничто через опосредование сущего"»20
(Николай цитирует изречение Гермеса Трисмегиста).
Николай признает существование ничто, которое оказывается
каким-то странным образом независимым от Бога. В трактате «Об
ученом незнании» мы находим противостояние двух противоположных
тенденций: с одной стороны, признание ничто в качестве
непонятного онтологического «двойника» Бога, вносящего непредсказуемость
и случайность в бытие тварного мира, с другой — представление
о безраздельной божественной необходимости, господствующей в мире
и проистекающей из бытийной полноты Бога, не допускающего рядом
с собой ничего самостоятельного. Как сложно и противоречиво
взаимодействуют между собой эти тенденции, можно понять из следующего
фрагмента: «Рассмотришь вещи без него <Бога. — И. Е.> — они так
же ничто, как число без единицы. Рассмотришь его без вещей — у него
бытие, у вещей ничто. Рассмотришь его, как он пребывает в вещах, —
окажется, что рассматриваешь вещь как некое бытие, в котором
пребывает Бог, и тем самым заблуждаешься, как ясно из предыдущей
главы: ведь бытие вещей не есть что-то другое [рядом с
божественным бытием], словно это две разные вещи, но все их бытие и есть
бытие-от. Рассмотришь вещь, как она пребывает в Боге, — она есть
Бог и единство.
Остается разве сказать, что множество вещей возникает благодаря
пребыванию Бога в ничто: отними Бога от творения — и останется
ничто»21.
В первом абзаце этой цитаты «ничто» понимается в прямом
смысле — как отсутствие чего бы то ни было наряду с бытием Бога, т. е.
начало фрагмента выражает пантеистическую тенденцию философии
Николая. Но в последней фразе происходит резкое переключение
20 Николай Кузанский. Об ученом незнании. С. 100.
21 Там же. С. 105.
23
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
смысла, понятие «ничто» вдруг преображается и выражает уже некое
особое начало, некое онтологическое «пространство», в котором может
пребывать Бог. Если ничто остается после отнятия Бога от творения,
то оно не является полностью зависимым от Бога и не сводится к
божественному бытию, представляя собой некое непостижимое начало
вне Бога. Эта идея, безусловно, нужна Николаю, чтобы нагляднее
описать возможность акта «самоограничения» Богом своего бытия,
превращения собственного бесконечного и абсолютного бытия в ограниченное
бытие тварного мира. Как мы увидим ниже, эта идея, нарушающая
строгость пантеистической метафизики Кузанца, не является
необходимой; в более поздних версиях философии мистического пантеизма
акт трансформации Абсолютом своего бытия в конечную форму
объясняется непосредственно из сущности Абсолюта, а не из полагания
независимого онтологического начала ничто «вне» Абсолюта. Для
Николая это оказывается необходимым, поскольку он мыслит Абсолют
как завершенное, вечное и неизменное сущее. Если бы он дошел до идеи
становящегося, динамического Абсолюта, которую в окончательной
форме выразил Бергсон, ему не нужно было бы прибегать к такой
дополнительной идее.
В некоторых рассуждениях Николая можно найти намек на
возможность понимания тварного мира как собственной формы
трансформации Абсолюта, однако, вплотную приблизившись к этой идее, он
отвергает ее. В трактате «Об искании Бога» Николай говорит о том, что
тварный мир возникает в результате «разнородного определения» того
исходного бесконечного света, каким является Бог. Что означает это
«разнообразное определение»? Это важно понять, поскольку в другой
фразе из того же трактата сказано совсем иное: «Исхождение мира
в бытие тоже произошло таким образом, что этот телесный мир стал,
чем он есть, через причастность свету, и телесные вещи считаются тем
более совершенными в телесном роде, чем больше они причастны
свету, как видно в четырех первоэлементах»22. В этих двух рядом стоящих
высказываниях можно усмотреть противоречие. С одной стороны,
многообразные творения есть «разнообразные определения» света,
с другой — они «причастны» свету. Возникает существенная неясность
по поводу того, есть ли в творении что-то помимо божественного
света. В одной фразе это как будто отрицается, в другой —
предполагается. Однако та аналогия, которую в заключение своего рассуждения
22 Николай Кузанский. Об искании Бога // Николай Кузанский. Соч. В 2 т. Т. 1.
С. 297.
24
1.2. Главная линия развития европейской философии...
приводит Николай, явно показывает, что ему более близко второе
предположение. Он пишет: «.. .разнообразное определение (terminatio)
этого неделимого и беспримесного света являет разнообразие творений
так же, как разнообразное определение света в прозрачной среде
являет разнообразные цвета, хотя сам свет с цветом не смешивается»23. Здесь
принципиально появление «прозрачной среды», которая существует
независимо от света и принимает его в силу каких-то внутренних
особенностей. Что выражает образ этой среды в случае божественного
света, мы уже знаем — это ничто. Таким образом, только задумавшись
над тем, нельзя ли описать многообразие конечных явлений тварного
мира просто за счет внутренней модификации самого Бога
(«божественного света»), Николай тут же отбрасывает это предположение,
понимая, насколько еретическим оно является. Он предпочитает
объяснять «модификацию» бытия Бога его взаимодействием с началом
ничто.
Центральный принцип мистического пантеизма — это полагание
тождества человека и Абсолюта, он ясно выражен в учении Николая
Кузанского, причем Николай делает акцент на динамическом смысле
этого тождества, он понимает его как бесконечный процесс выявление
в человеке его божественной сущности. Очень показательно, что в
связи с этим он отрицает радикальное значение смерти как абсолютного
прекращения земного бытия человека: «Поскольку каждая вещь не
смогла быть актуально всем, иначе она стала бы Богом <...>, то все
расположилось на разных ступенях и все вещи суть то, что они суть,
потому что не смогли быть другими и лучшими; скажем, то бытие,
которое не смогло быть сразу бессмертным, стало бессмертным во
временной последовательности»24. Кажется очевидным, что в этой
фразе речь идет о человеке, при этом бессмертие во временной
последовательности можно понять только одним образом — это бессмертие,
реализованное в земном мире и в земной природе человека. Ни о какой
непреодолимой греховности и ни о каком непреодолимом
несовершенстве земного человека здесь, конечно же, не может быть речи.
В понимании Христа Кузанец гораздо больше говорит о его
«человечности», чем о его «божественности», причем человечность Христа
понимается динамически^ как устремленная к абсолютному
совершенству. По существу, в своей интерпретации единства человеческой и
божественной природ в Христе Николай решительно смещает акцент
23 Там же.
24Николай Кузанский. Об ученом незнании. С. И1-112.
25
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
в сторону человечности; у него речь идет не о единстве статически
понятых природ (как в христологичёском догмате), а о процессе
движения человеческой природы к божественной, т. е. к абсолютному
совершенству. Именно поэтому для него Иисус Христос, как это ни
странно, значим не сам по себе, а как выражение общей тенденции
человечности к абсолютному совершенству (абсолютной
максимальности). В главе 3 третьей книги своего главного трактата, определяя
понятие «конкретного максимума» и доказывая, что только
человеческая природа может подходить к реализации такого максимума,
Николай использует именно «динамическую» терминологию,
подразумевающую, что сама эта природа возвышается до
максимальности: «.. .только срединная природа, связующее звено между низшей
и высшей, подходит для возвышения к максимуму могуществом
максимальной божественной бесконечности <...>. Как раз она, поднявшись
до соединения с максимальностью, оказалась бы поэтому полнотой
всех совершенств и универсума в целом и каждой отдельной вещи,
так что все через человека достигло бы своей высшей ступени»25
(курсив мой. — И. Е.).
И наконец, самое выразительное высказывание (непосредственно
продолжающее предыдущую цитату): «С другой стороны, человек
существует только конкретно, поэтому подняться до соединения
с максимумом было бы возможно только одному, воплотившему в себе
всю истину человека. Такой поистине был бы человеком так же, как
и Богом, и Богом так же, как человеком, — совершенством Вселенной,
имеющим первенство во всем»26. Конец этого фрагмента выглядит
вполне «благопристойно», здесь ясно проступает догмат о двух
природах Христа. Но если внимательно вчитаться в первое предложение,
то становится понятным, что эту мысль никаким образом
невозможно совместить с догматической формулой. Ведь здесь говорится о том,
что тот, кто поднимается до соединения с максимумом, исходно
является только человеком, а не Богом и лишь в конце указанного
процесса обретает божественную природу. При этом сам указанный
человек оказывается значимым не своей уникальной сущностью,
а в качестве выражения тенденции всей человеческой природы к
совершенству. Говорится же здесь об Иисусе Христе, и высказывается
одно из главных положений мистического пантеизма (истинного
христианства): Христос — это человек, который показал всем возмож-
Николай Кузанский. Об ученом незнании. С. 150-151.
Там же. С. 151.
26
1.2. Главная линия развития европейской философии...
ность явить в своей земной жизни тождество с Богом и обрести
совершенство, т. е., как говорит Николай, стать «бессмертным во
временной последовательности».
Ради справедливости нужно отметить, что в учении о человеке
Николая, как и в его концепции Творения, борются две противоположные
тенденции — одна откровенно еретическая (гностическая), вторая —
более близкая к догматической, хотя все-таки более похожая на
пантеистическую. Например, написав, что «человек поднимается до
соединения с этой <божественной, — И. Е.> потенцией», Николай далее
утверждает, что само это движение человека и его результат есть
«совершеннейшее действие максимальной, бесконечной и беспредельной
божественной потенции»27, т. е. он все-таки признает, что в движении
человека к Богу «движущей силой» является Бог, а не человек.
Наиболее остро столкновение этих двух тенденций проявляется,
когда Николай переходит от описания сущности Иисуса к
размышлениям о том, какие перспективы ждут каждого человека в его земной
жизни. С одной стороны, в приведенном выше фрагменте он
совершенно определенно утверждает, что «подняться до соединения с
максимумом было бы возможно только одному, воплотившему в себе всю
истину человека»28 (курсив мой. — И. £.). Но, с другой стороны, описывая
движение подлинно верующего человека к единению с Христом, он явно
отрицает какие-либо ограничения в его возможном возвышении к тому
же самому «максимуму», который воплощает Христос. «Поистине
велика сила веры, дающей человеку такое подобие Христу, что он
поднимается над чувственностью, избавляется от заражения (contagiis)
плотью <...>. Конечно же, это тот, кто в последовательном умерщвлении
плоти постепенно восходит через веру к единению с Христом; конечно,
это то глубокое единение, когда, насколько возможно на земном пути,
человек поглощается Господом. Вырвавшись за пределы всего
видимого и мирского, человек тогда достигнет полного совершенства своей
природы»29. И далее Николай говорит о том, что человечность Иисуса
Христа «существует только в Божестве и сливается с ним в невыразимом
ипостасном единстве так, что глубже и проще соединиться для истины
человеческой природы невозможно. Поэтому всякая разумная
природа, обратившаяся в этой жизни к Христу высшей верой, надеждой и
любовью, с сохранением своей личностной истины единится с Господом
Там же. С. 152.
Там же. С. 151.
Там же. С. 177.
27
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
Христом настолько, что — будь то ангел или человек, — существуя уже
только в нем, через него пребывает и в Боге. При этом истина тела
каждого поглощается и вбирается духом»30 (отметим внезапно
прорывающиеся в этих фрагментах спиритуализм, заставляющий вспомнить
античный гностицизм).
Итак, подлинно верующий оказывается способным подняться до
такого единения с Христом, что достигает «полного совершенства своей
природы» и при этом «существуя уже только в нем, через него
пребывает и в Боге». Эти выражения кажется естественным понимать в том
смысле, что такой человек оказывается тождественным Христу, т. е.
реализует то же состояние достигнутого максимума, что и Христос,
причем реализует это состояние — в своей земной жизни.
Еще более резко те же идеи выражены в трактате «О богосыновстве».
Характерно уже то, что в основе рассуждений Николая в этом
сочинении лежат слова из Евангелия от Иоанна: «Всем, кто принял Его, Он
дал власть быть сынами Божиими, — верующим по имя Его» (Ин. 1,
12). Николай интерпретирует эту фразу из Евангелия как констатацию
возможности для человека достигнуть «высшей полноты совершенства»,
обожения.
При этом он подчеркивает, что состояние богосыновства (обожения)
не выводит человека за пределы этого мира, в это состояние приходит
именно земной человек. «По-моему, мы становимся сынами Бога не так,
что делаемся тогда чем-то другим, чем теперь, но мы будем тогда по-
другому тем, чем, каждый на своей ступени, являемся ныне»31. Называя
это состояние «божественной жизнью» и «созерцанием истины», он тем
не менее добавляет, что «само это созерцание, пускай свободное от
относительности символов чувственного мира, все-таки не останется вне
модуса этого мира»32.
Как известно, понятие обожения являлось вполне «легальным»
и часто использовалось в христианском богословии (главным образом
в восточном). Однако при его интерпретации принципиальным было
все-таки полагание онтологической «дистанции» между Богом и обо-
жившимся человеком. В наиболее известном догматическом учении
этого типа, в исихазме, указанная онтологическая «дистанция»
сохранялась за счет различения божественной сущности и божественных
30 Николай Кузанский. Об ученом незнании. С. 181.
31 Николай Кузанский. О богосыновстве // Николай Кузанский. Соч. В 2 т. Т. 2.
С. 306.
32 Там же. С. 305.
28
1.2. Главная линия развития европейской философии...
энергий, действующих в мире. Обожение означало слияние с
божественными энергиями, но не совпадение с Богом по сущности. В
противоположность этому Кузанец в своей концепции богосыновства
утверждает именно совпадение человека с Богом по сущности. Вот как Николай
описывает это состояние: «Школа жизни и совершенства кончается,
и всякое движение интеллекта успокаивается, когда он видит себя в той
области, где пребывает учитель и художник всех возможных созданий,
Сын Бога, Слово, которым образованы небеса и всякое творение,
и видит, что сам подобен ему. Богосыновство возникает в нем тогда,
когда он обладает этим искусством; больше того, сам есть это
божественное искусство, в котором и через которое всё существует; больше
того, сам есть Бог и все вещи в той мере и тем способом, какими им
приобретена эта степень»33.
Если по прочтении этого фрагмента еще могут остаться сомнения
в том, что Николай отождествляет человека, находящегося в состоянии
об^жения, и Бога, то далее эти сомнения попностъю рассеиваются.
Говоря, что «богосыновство есть не что иное, как переход от туманных
символов и видимостей к единению с бесконечным разумным смыслом,
в котором и через который дух живет и понимает себя живущим»,
он далее поясняет, что «Бог не будет по отношению к самому этому духу
другим, разнящимся или отличным, и не будут другими ни
божественный смысл, ни божественное Слово, ни божественный Дух: всякие
инаковости и различия много ниже богосыновства»34. И далее еще раз
то же самое: «Если Бог есть единое, в котором всё единится, и он же
есть переливание единого во все вещи, делающее вещи тем, что они
суть, а в интеллектуальном созерцании быть единым, в котором всё,
и быть всем, в котором единое, совпадают, то мы подлинно обожива-
емся, когда возвышаемся до того, что становимся в едином им самим,
в котором всё, и во всем — единым»35.
Таким образом, Николай Кузанский ясно выразил смысл всех
принципов мистического пантеизма и создал последовательную философскую
систему, которая стала основой всех последующих вариантов
реализации этой плодотворной традиции. Как мы дальше увидим, философия
Бергсона также является талантливым преломлением этой традиции,
поэтому в ней обнаруживаются совершенно естественные параллели
с учением Николая Кузанского.
33Тамже.С307.
34Тамже.С.ЗП.
35 Там же. С. 312.
29
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
Однако эпоха Возрождения не смогла до конца реализовать свои
великие задачи. Католическая церковь в конце концов поняла ту
смертельную угрозу, которую несло ей новое мировоззрение, рожденное
эпохой Возрождения. Воплощение этого мировоззрения в жизнь
означало бы конец ложного, формального христианства и рождение
нового, творческого и свободного христианства, главной целью которого
было бы создание всё более возвышенных творений культуры, а не
доказательство человеческой немощи и смирение перед мифическим
Богом-Творцом. Против Возрождения единым фронтом выступили две
мощные силы: Контрреформация, пытавшаяся вернуть европейское
общество к средневековому миросозерцанию, и Реформация,
изменившая церковное сознание в понимании некоторых аспектов
религиозного учения, но ничуть не отменившая средневековую модель полного
подчинения человека церковному авторитету.
В результате, как признавали многие великие европейские
мыслители (Фихте, Герцен, Достоевский, Соловьев, Ницше), цивилизация
вернулась к средневековому пониманию человека, полностью
подчиненного Богу и обладающему свободой только в очень ограниченной
сфере своих внешних, материальных действий. Деятели Возрождения
призывали к раскрепощению бесконечных духовных глубин в
человеке, ради становления каждого человека «земным Богом»; в
противоположность этому новоевропейская философия не знала никаких
«бесконечных глубин» и признавала только мощь научного разума, всецело
рационального, т. е. конечного и неспособного действовать наперекор
общей мировой закономерности. По существу, научный разум выступил
в качестве нового веского защитника средневековой модели мироздания:
в Средние века люди полагали, что Бог непосредственно своей
свободной волей определяет каждое явление; в Новое время идея
божественного управления сохранилась, но она была дополнена представлением
о том, что руководство Бога над миром осуществляется с помощью
«механизма» всеобщей закономерности природы.
С XVIII века против традиции мистического пантеизма начинают
активную борьбу эмпирические, материалистические и позитивистские
формы философии, которые только по своей внешней форме
выглядели «новаторскими» и «современными», но по своей сущности были
выражением и прямым следствием церковного мировоззрения,
доказывавшего ничтожность человека, отсутствие в нем подлинной
свободы и творческих способностей. Материализм и атеизм Просвещения
и последующих веков европейской истории является «темным
двойником» и прямым порождением ортодоксального христианства, и здесь
30
1.2. Главная линия развития европейской философии...
мы обнаруживаем один из самых странных парадоксов в идейном
развитии европейской цивилизации. Ведь деятели Просвещения считали,
что они возвышают человека, выдвигая лозунг равенства всех людей
и отвергая любые формы религии, которая, по их убеждениям,
«унижала» человека, делая его «рабом» Бога. Однако итогом этой идейной
революции стало не освобождение человека от всех форм прежнего
гнета, в еще большее его «закабаление»: уничтожив зависимость
человека от Бога, просветители поставили его в полную зависимость от еще
более «бесчеловечного» начала — от природы и ее законов.
Прежнее господство Бога было гораздо «мягче», чем обнаруженное
просветителями господство мировой закономерности. Ведь в
традиционном христианском мировоззрении антропоморфный Бог
является своего рода «абсолютным человеком» и обладает абсолютной
свободой, поэтому его господство не устраняет значения нашей
человечности и сохраняет для нас сферу ограниченной свободы. Но
признание господства над человеком всеобщей природной
закономерности с неизбежностью ведет к тому, что человек понимается как
механический автомат, обладающий только иллюзией свободы,
которую должны умело поддерживать в нем и использовать в своих целях
правители государства.
Эпоха Возрождения совершила дерзновенную попытку возвысить
человека до Бога, это ясно выразил Пико делла Мирандола в тезисе
«Человек должен стать Богом на земле», ставшем главным лозунгом
этой великой эпох. Но Возрождение «не удалось», оно было подавлено
в своих главных идейных и культурных тенденциях, и европейская
цивилизация в XVII веке во многом вернулась к средневековому
образу мысли; самым заметным свидетельством этого возвращения
стало низведение человека до прежнего его положения в качестве
немощного существа, не имеющего значимого влияния на окружающее бытие.
Обычно эпоху Просвещения рассматривают в идейном смысле как
«продолжение» Возрождения, на деле Просвещение составляет его
прямую противоположность. XVIII век со своим материализмом
и атеизмом явился наследником Средних веков: материалистическое
и атеистическое мировоззрение стало естественным «развитием»
схоластической философии, не случайно, их общая черта, прямо
относящаяся к их сущности, — это резкое противостояние истинному
христианству, которое призывает человека раскрыть в себе Бога. Философия
Р. Декарта и Дж. Беркли, точно так же как философия Дж. Локка,
Д. Юма, П. Гольбаха и других просветителей, доказывала, что отдельная
личность — это незначительный «винтик» в колесах «мировой машины»
31
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
и главное достоинство человека — смирение перед законами природы
и божественным Провидением. В эту эпоху только Б. Спиноза и Г.
Лейбниц в своих системах пытались противостоять общей тенденции
к восстановлению в философии средневеково-ортодоксального
представления о человеке и его судьбе.
1.3. Поворот к новой философии человека.
Позднее религиозно-философское учение Фихте
По-настоящему решительное движение к возрождению в
философской форме учения истинного христианства связано с рубежом XVIII
и XIX веков, более точно, с рождением немецкого романтизма и
созданием великих систем немецкого идеализма — систем Канта, Фихте,
Шеллинга и Гегеля. Эта великая идейная традиция обозначает второй
поворотный момент в истории европейской культуры после
Возрождения. Подобно тому как гуманисты Возрождения протестовали против
абсолютного умаления человека в средневековой схоластике и в
средневековом христианстве как таковом, немецкие романтики и философы
начала XIX века протестовали против сведения человека к механизму
в эпоху Просвещения. По отношению к немецкому романтизму
господствуют точно такие же ложные исторические стереотипы, как и по от-т
ношению к эпохе Возрождения: романтикам приписывают своего рода
культурный «консерватизм», связанный с увлечение Средневековьем
и негативным отношением к «прогрессивному» мировоззрению
Просвещения. Такое представление ничего общего не имеет с
действительностью: романтики, если и восхищались Средневековьем, то только
за то, что людям той эпохи было присуще подлинное чувство веры,
которое в последующие эпохи постепенно стало утрачиваться. Самое
главное в их воззрениях — это понимание нерасторжимой связи
человека с бесконечным и абсолютным началом всего существующего,
поскольку только эта связь делает человека творческим, по-настоящему
божественным существом.
Знаковая книга, определившая развитие немецкого романтизма, —
сборник новелл и эссе В. Г. Вакенродера «Сердечные излияния
отшельника — любителя искусств» (1797), целиком посвящена искусству
эпохи Возрождения; ложное мнение о «средневековых» увлечениях
романтиков возникает, возможно, из-за того, что в их эпоху еще не
было самого понятия Возрождения, и они говорили о «позднем
Средневековье», имея в виду искусство XIV-XVI веков. Очищая наши исто-
32
1.3. Поворот к новой философии человека...
рические воззрения от лжи, внесенной в него церковным сознанием,
нужно увидеть в романтизме продолжение Возрождения, вторую
попытку восстановить истинное, неискаженное христианство и на его
основе понять человека как бесконечное, божественное, творческое
существо. И одновременно нужно признать, что Просвещение — это
естественное завершение Средневековья в его главной идейной
тенденции, навязывающей человеку представление о себе как о ничтожном
существе, целиком подчиненном внешнему закону, сковывающему его
волю: божественное Провидение было заменено механическими
законами Универсума.
Немецкая философия, возникшая как часть романтического
движения, дала вполне однозначное и ясное выражение той модели
человека, которая была задана учением Христа, изложенным в Евангелии
от Иоанна и в великих христианских апокрифах, а позже оформлена
в строгую философскую систему Николаем Кузанским. Уже Кант,
повторяя дерзание великих мыслителей Возрождения, совершает свой
«коперниканский переворот» и ставит человека в центр мироздания,
утверждает, что мир не мыслим без человека, человек — это
обязательный структурный элемент бытия, прежде всего того эмпирического
мира, который мы видим перед собой и который изучает наука, считая,
что он существует «сам по себе», независимо от нас. Наука, взращенная
Просвещением, убеждает нас в том, что человек — это незначительная
пылинка в мироздании, в такой же точно степени подчиненная
мировой закономерности и имеющая столь же малое значение, как любой
другой частный объект природы. В противоположность этому Кант
доказывает, что эмпирический мир в своих главных структурных
особенностях определен именно человеком, его сознанием; не только
пространство и время, но и все законы, которым подчиняется
реальность, не являются объективно существующими характеристиками
мира, а внесены в него нашим сознанием, возникают как следствие
нашего отношения к реальности. Наш рассудок является подлинным
«законодателем» природы, утверждает Кант, и это означает, что,
например, закон тяготения в ньютоновской механике описывает не реальное
отношение тел во Вселенной, а связь наших представлений о
реальности в сознании.
Обыденное сознание, даже признав под влиянием философских
рассуждений правоту такой точки зрения, продолжает спрашивать
о том, каковы «подлинные», «настоящие» отношения тел во Вселенной
вне нашего сознания и представления. При последовательном
проведении принципов философии Канта, нужно признать незаконность
33
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
такого вопроса: если даже какой-то мир и существует вне
человеческого представления (мира вещей в себе), его формы никаким образом не
могут быть зафиксированы в рациональном познании и в наших
высказываниях, именно потому, что он находится вне сознания и, значит,
недоступен ему. Тем не менее сам Кант вопреки этой очевидной логике
предполагает возможность двух «точек зрения» на мир — одной в
человеческом представлении, дающей субъективный образ бытия,
и другой вне представления и сознания, дающей бытие как таковое,
бытие в себе; это предположение порождает вопрос о том, как
возможно хотя бы самое элементарное описание бытия в себе (например, в виде
суждения о его существовании), ведь такое описание должно
строиться на каких-то «несубъективных» формах его постижения, а все формы
нашего познания не могут не быть субъективными, поскольку
произведены сознанием.
Кажется, что наиболее последовательное решение этой проблемы
заключается в отрицании существования объективной точки зрения
на бытие; по этому пути пошел Фихте в своей ранней, субъективно-
идеалистической системе. Всё, что мы можем помыслить, представить,
сказать, — всё это уже поставлено в рамки субъективности, уже
оформлено сознанием как тем универсальным органом, который действует
всегда и везде, «перерабатывая» бытие в себе — в бытие,
представленное сознанию в его (сознания) собственных формах. Тем не менее
полностью устранить противоположность позиций «субъективности»
и «объективности» нельзя, поскольку в этом случае будет невозможно
объяснить различие «правильного» восприятия мира и «иллюзии»,
точно так же как невозможно будет объяснить интерсубъективную
точку зрения на мир, не совпадающую с субъективным взглядом
отдельной личности. Поэтому Фихте различает личную субъективность,
субъективность отдельного относительного «я», и сверхличную
субъективность, связанную с абсолютным «я», с абсолютным сознанием,
которое включает в себя всё существующее.
Эта позиция, абсолютизирующая понятия субъективности и
сознания (пусть даже в форме сверхличного, абсолютного сознания),
превращающая мир в «устойчивую галлюцинацию» (по известным
словам Беркли), не могла остаться последним словом философии.
Сведение всего существующего к представлениям сознания делало
само сознание неким призрачным «театром теней». Фихте в конце
концов пересмотрел исходные принципы своего раннего
субъективного идеализма и перешел на совершенно иную, «объективистскую»
позицию, в рамках которой главным понятием становится бытие.
34
1.3. Поворот к новой философии человека...
подлинная реальность (одновременно она есть Бог) и главное
внимание обращается на положение человека в отношении этой реальности.
Его поздняя философия, хотя она была гораздо менее проработанной,
чем похожие на нее концепции Шеллинга и Гегеля, оказалась
чрезвычайно перспективной, в ней очевидно просматривается
предвосхищение идей неклассической философии, в том числе и философских
построений Бергсона, поэтому к его системе стоит присмотреться
внимательнее.
В поисках оснований для своего нового мировоззрения Фихте
прямо обращается к подлинному, неискаженному христианству
и именно главный его тезис о тождестве Бога и человека делает
основой своей поздней философии; особенно ясно эта преемственность
по отношению к учению Христа демонстрирует историческая
концепция Фихте, изложенная в дилогии «Основные черты современной
эпохи» — «Наставление к блаженной жизни». Фихте первым в
европейской философии прямо и недвусмысленно сформулировал мысль
о том, что в истории противостояли друг другу две версии
христианства, причем ортодоксальная, церковная традиция является вторичной
и искаженной версией по отношению к истинному христианству,
изложенному только в Евангелии от Иоанна (апокрифических текстов
Фихте не знал). «По нашему мнению, существуют две в высшей
степени различные формы христианства: христианство Евангелия Иоанна
и христианство апостола Павла, к единомышленникам которого
принадлежат остальные евангелисты, особенно Лука. Иисус Иоанна не
знает иного Бога, кроме истинного Бога, в котором мы все
существуем, живем и можем быть блаженны и вне которого — только смерть
и небытие, и (прием вполне правильный) с этой истиной он
обращается не к рассуждению, а к внутреннему, практически
пробуждаемому чувству истины в человеке, не зная никаких других доказательств,
кроме этого внутреннего»36.
Фихте ясно формулирует задачу новейшей философии: добиться
окончательного раскрытия истинного христианства в философской
форме, сделать его действенной и главной силой развития общества
и культуры, заменив им в этой роли полностью дискредитировавшее
себя церковное христианство. «Что было высшей и последней задачей
философии, если не верное постижение христианского учения и не
его исправление? Посредством чего приобрела философия во всех
36 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи // Фихте И. Г. Соч. В 2 т. СПб.,
1993. Т. 2. С. 456.
35
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
своих видах всеобщее влияние и каким путем разлилась она из
узкого круга посвященных по всему человечеству, если не при
посредстве религиозных представлений и не путем изложения религии
народу? В течение всего нового времени история философии
настоящего всегда является историей религиозных представлений будущего
<...»>37.
Очень характерно, что в начале XX века, когда в русской философии
происходило активное освоение новых, неклассических идей, русские
мыслители, пытавшиеся осмыслить истоки новой традиции, обратили
внимание на философию Фихте. О значении Фихте для формирования
концепций современной философии писали, в частности, С. Франк,
И. Ильин и Б. Вышеславцев, хотя впервые обратил на необычный
характер поздней философии Фихте еще Б. Чичерин в своем труде
«История политических учений»38. Наиболее важны в этом контексте работы
Ильина и Вышеславцева. Ильин утверждал, что Фихте первым в
европейской философии возвысил человека до Абсолюта, Бога, т. е. признал
сущностное тождество человека и Бога, и все качества человека перенес
на Бога. Система Фихте, утверждает Ильин, есть «антропоцентрический
пантеизм», главным понятием в ней оказывается понятие конкретного
человеческого духа. «Наукоунение не выходит за пределы человеческого
духа, ибо всё то, что с первого взгляда не есть человеческий дух, в
дальнейших рассуждениях оказывается или его бессознательной
субстанцией, или продуктом этой субстанции, в ней содержащимся. Поэтому
нет ничего, что не входило бы целиком в человеческий дух; кроме
человеческого духа, нет ничего-, человеческий дух есть единственный
предмет познания, единственное содержание философии»39. Даже
исходные акты Абсолютного «Я», утверждает Ильин, Фихте мыслит как
процесс в самом человеческом духе: «...все распадение на абсолютное
"Я" и относительное "Я" есть как бы предвечный разлад в человеческом
духе между его собственной абсолютной и относительной сущностью»40.
Человека, во всей его духовной конкретности, необходимо одновремен-
37 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 575.
38 Высоко оценивая значение позднего учения Фихте, Чичерин признал его
одним из «краеугольных камней великого философского здания, воздвигаемого
человеческим разумом в его историческом движении» (Чичерин Б. Н. История
политических учений. Т. 2. СПб., 2008. С. 615-616).
39 Ильин И. А. Кризис идеи субъекта в наукоучении Фихте Старшего // Евлампи-
ев И. И. Божественное и человеческое в философии Ивана Ильина. СПб., 1998. С. 461.
40Тамже.С462.
36
1.3. Поворот к новой философии человека...
но рассматривать и в качестве единичного индивида, и в качестве
Абсолюта, Бога, хотя последнее начало в нем скрыто, является, по словам
Ильина, «сверхчувственным внутрисубъективным началом» (т. е.
в определенном смысле и имманентно, и трансцендентно человеческой
личности).
Если учесть тот факт, что полагание человека центральным
элементом реальности и акцент на конкретности существования человека,
на конкретное содержание его жизни являются известными чертами
неклассической традиции, нужно будет признать, что Ильин
интерпретирует философию Фихте именно в «неклассическом» духе, т. е.
изображает ее как непосредственный исток указанной традиции. Впрочем,
позже, в книге «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога
и человека» (1918), Ильин похожим образом проинтерпретировал и
философию Гегеля, утверждая, что в ней Бог, Мировая Субстанция,
полностью сводится к совокупности несовершенных человеческих
личностей. Важно отметить, что такое понимание системы Гегеля, как
и всей немецкой романтической философии, не является «выдумкой»
Ильина, его повторяли в своих построениях и другие известные
мыслители начала XX века. Так, А. Кожев похожим образом утверждал, что
революционное значение Гегеля в истории религиозной мысли
заключалось в том, что он перенес на Бога все определения, которые
философия до этого применяла только для описания человека. «Достаточно
прочитать учебник христианского (я подчеркиваю, христианского)
богословия, в котором о Боге действительно говорится как о всецелом
и бесконечном Сущем, и прочитав, сказать: Сущее, о котором здесь
речь, — это я сам. Это, разумеется, просто. Однако еще и сегодня
подобное утверждение представляется абсурдным, чудовищным
преувеличением. Мы сочтем безумцем того, кто открыто скажет такое. А это
означает, что всерьез говорить об этом невероятно трудно. Должны
были миновать тысячелетия философской мысли, чтобы на свет
явился какой-нибудь Гегель и осмелился заявить такое»41. Кожев довел эту
логику до естественного итога — до утверждения, что Гегель пришел
к атеистическому мировоззрению, в котором вообще отрицается
существование Бога как абсолютного и бесконечного сущего (в духе
философии М. Хайдеггера42). Это утверждение Кожева является спорным,
однако можно согласиться с тем, что в философии Гегеля отношение
41 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 398-399.
42 Подробнее см.: Евлампиев И. И. Русская философия в европейском контексте.
СПб., 2017. С. 320-336.
37
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
Абсолюта и человека (человечества) является весьма сложным и
неоднозначным, допускающим разные трактовки. Поэтому, признавая,
что известнейшие немецкие философы начала XIX века — Фихте,
Шеллинг и Гегель — создали очень близкие по общему смыслу системы,
нужно констатировать, что именно Фихте выразил новую модель
религиозной философии и новое понимание отношения Бога и человека
в наиболее ясной и последовательной форме.
До сих пор почти единственным капитальным исследованием,
в котором философия Фихте рассматривается с точки зрения
содержащихся в ней новаторских, «неклассических» идей, остается книга
Б. Вышеславцева «Этика Фихте. Основы права и нравственности
в системе трансцендентальной философии», опубликованная более
ста лет назад, в 1914 г. В своей книге Вышеславцев констатирует, что
ранняя система Фихте в целом находится в рамках новоевропейского
рационализма, главной негативной чертой которого был догматизм —
стремление построить окончательную, и к тому же конечную, систему,
полностью описывающую всю реальность (включая Абсолют!). В этом
контексте субъективно-идеалистический характер ранней системы
Фихте можно считать ее достоинством, поскольку здесь сказалась
неудовлетворенность Фихте тем принижением метафизической роли
человека, которая была характерна для представителей
новоевропейской философии (за исключением разве что Г. Лейбница). По сути,
именно это и констатировал И. Ильин в своих статьях о Фихте,
которые мы цитировали выше. Однако в своей поздней философии Фихте
пошел еще дальше в формировании новых представлений о месте
человека в мире. Вышеславцев утверждает, что Фихте решительно
преодолел догматизм своей ранней системы и одновременно
избавился от чрезмерного субъективизма: теперь не столько отдельная
человеческая личность, сколько Абсолют (понятый в единстве с личностью)
становится главным объектом описания в его философии. «То, что
делает Фихте особенно нам близким, это онтологизм, неустанное
устремление κ Абсолютному, и иррационализм, преодоление догматического
рационализма»43.
Исходная проблема, давшая начало трансцендентальному идеализму
Канта и его преемников, связана с анализом тех актов сознания, которые
формируют в нем представление о предметном мире. Первоначально
Фихте шел по тому пути, который наметил Кант, и предполагал, что
43 Вышеславцев Б. Этика Фихте. Основы права и нравственности в системе
трансцендентальной философии. М., 1914. С. XVIII.
38
1.3. Поворот к новой философии человека...
в этих актах (осуществляемых абсолютным сознанием, Абсолютным
«я») некая неопределенная «материя» восприятия оформляется с
помощью категориальных форм, свойственных разуму. Замысел Науко-
учения и заключался в том, чтобы дать полное и исчерпывающее
описание всех этих актов, т. е. полное описание реальности в ее
трансцендентальном генезисе. Первоначально этот замысел был реализован
Фихте в рамках субъективного идеализма и рационалистического
догматизма. Пересматривая в позднем творчестве исходные принципы
своей философии, он представляет указанные акты, порождающие
наличный эмпирический мир, не как акты сознания (пусть даже и
абсолютного), а как акты самого бытия, определенные его структурой
и протекающие в нем самом; поскольку бытие Фихте описывает как
самодостаточное и ни от чего не зависящее, то теперь именно оно
выступает Абсолютом (Богом) в его философии.
Хотя Фихте по-прежнему утверждает, что акты, оформляющие
представление о мире, осуществляет «разум», но теперь с помощью этого
понятия обозначается особое структурное «качество» бытия, его
внутренняя способность «самопонимания», причем акты «самопонимания»
ведут к появлению «внутри» бытия как такового (иррационального
и бесконечного) его рационального и постигнутого «образа», этот
«образ» и есть мир наличного существования, предметный мир.
Выделив эту главную схему поздней системы Фихте, Вышеславцев
особенно большое внимание уделяет прояснению сути того исходного
«материала», из которого «конструируется» первичные факты,
составляющие реальный мир. Этот «материал» можно понимать только как
нечто абсолютно неопределенное, не имеющее формы, как абсолютно
иррациональное. В конце концов Фихте определяет это исходное как
жизнь и как первичное бытие, которое может только переживаться:
«Единая, абсолютная, только непосредственно переживаемая реальность»44
(курсив Вышеславцева), по словам самого Фихте. Возникает важный
вопрос о том, как эта «переживаемая реальность» соотносится с
Абсолютом. Может показаться, что она есть Абсолют, однако, если бы
Фихте действительно пришел к такому отождествлению, он по-настоящему
стал бы родоначальником неклассической философии (неклассической
«философии жизни»). Этого не происходит, он, конечно, различает
Абсолют и ту «переживаемую реальность», из которой разум
конструирует предметный мир. Это видно по совершенно различному описанию
этих онтологических инстанций.
"Там же. С. 26.
39
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
Главным качеством «переживаемой реальности», как уже было
сказано, является иррациональность, непостижимость, а поскольку она
еще описывается как жизнь, Вышеславцев делает вывод, что Фихте
мыслит эту реальность как непрерывно изменяющуюся,
становящуюся, что совсем близко к тому, как будут изображать Абсолют
неклассические мыслители, в том числе Бергсон: «Фихте первый сказал, что
абсолютное есть не вещь, а жизнь, действие, свобода; за ним
последовали Шеллинг и Гегель. То же самое и в тех же буквально выражениях
утверждает об абсолютном Бергсон»45. Однако здесь Вышеславцев идет
дальше, чем это позволяют сделать тексты Фихте. Посмотрим,
например, как Фихте в центральной работе позднего периода, цикле лекций
«Наставление к блаженной жизни», описывает абсолютное бытие: «..
.подлинное и истинное бытие не становится, не возникает, не происходит
из небытия. <...> в пределах этого бытия также не может возникнуть
ничто новое, образоваться ничто иное, ничто не может измениться
и обратиться, но оно есть, как оно есть, от века и пребудет неизменно
вовек. Ибо, будучи через себя самого, оно есть всецело, неделимо и без
изъяна всё, чем оно может быть и должно быть через себя. <.. .> бытие
следует мыслить абсолютно лишь как Одно, а не как многие и <.. .> его
должно мыслить лишь как замкнутую и законченную в себе самой
и абсолютно неизменную однообразность»46. Это описание,
заставляющее вспомнить концепцию Парменида, показывает, что Фихте здесь
находится полностью в рамках классической метафизики.
Однако оригинальность системы Фихте связана с тем, что помимо
бытия, которое самодостаточно, цельно и неизменно, он полагает
(наличное) существование бытия (Dasein), являющееся результатом
некоего акта (иногда он называет его актом экзистирования), в котором
бытие являет себя в виде образа, точнее, системы образов — это и есть
предметный мир. Как пишет Фихте, «я различаю бытие, внутреннее и
сокрытое в себе, и существование <...>. Это различение в высшей
степени важно, и только оно может придать ясность и надежность высшим
элементам познания. Что же такое, в частности, есть существование,
лучше всего можно выяснить действительным созерцанием этого
существования. А именно, я говорю: непосредственно и в своей основе
существование бытия есть сознание, или представление бытия <...>»47.
45 Вышеславцев Б. Этика Фихте. Основы права и нравственности в системе
трансцендентальной философии. С. 87.
46 Фихте И. Г. Наставление к блаженной жизни. М., 1997. С. 41.
47Тамже.С42.
40
1.3. Поворот к новой философии человека...
Бытие как таковое самодостаточно и неизменно, но в нем есть
тенденция к самосознанию, и именно она заставляет бытие прийти к
существованию, «явиться» как существующее (т. е. Фихте различает бытие
и существование); область существования оказывается многообразной
и изменчивой, поскольку в ней непрерывно и всё время по-разному
являет себя через системы образов внутреннее содержание бытия как
такового (абсолютного бытия). Тенденцию к самосознанию,
содержащуюся в бытии, Фихте продолжает называть «разумом», это позволяет
ему утверждать, что явленные, существующие образы бытия — это
сознание, представление и знание бытия. Но теперь «разум», «сознание»,
«представление» и «знание» — это характеристики и свойства самого
бытия, а не субъекта, человеческого или абсолютного. Человек только
«причастен» этим свойствам бытия; как осуществляется это «причастие»,
составляет еще одну, очень важную проблему философии Фихте.
Фихте фиксирует принципиальную разнородность и даже
противоположность абсолютного бытия и его существования, но
одновременно он подчеркивает и их нерасторжимое единство, обусловленное тем,
что бытие само по себе есть Абсолют и ничто не может пребывать вне
его «сферы». При этом, поскольку сама возможность сознания и
понимания появляется только в сфере существования, именно в этой
сфере, с одной стороны, должен быть осуществлен акт самосознания
как отличный от бытия и, с другой стороны, каким-то образом
должно быть «реконструировано» (в качестве «знания» о нем) бытие,
которое «породило» существование. Вот как этот двуединый процесс
описывает Фихте: «Бытие — как бытие, и оставаясь бытием, но отнюдь
не теряя своего абсолютного характера, не смешиваясь и не сливаясь
с существованием, — должно существовать. Оно должно поэтому
быть отличено от существования и противоположено ему, и притом —
поскольку, кроме абсолютного бытия, нет решительно ничего иного,
помимо его существования, — это отличение и противоположение
должно совершиться в самом же существовании, что в более четком
выражении будет означать следующее. Существование должно постичь,
познать и образовать само себя как простое существование и полагать
и образовывать в отношении с собой самим абсолютное бытие, простым
существованием которого именно и является оно само: своим бытием
в отношении к другому, абсолютному, существованию оно должно
уничтожить себя»48. Эта весьма темно выраженная мысль чрезвычайно
важна для понимания поздней системы Фихте. В сфере существования
Там же. С. 43-44.
41
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
бытие как таковое (Абсолют) не только приходит к пониманию или
сознанию себя как существующего, но и сознает себя в исходной,
«собственной» форме (до акта существования), причем сознает в
безусловном, абсолютном смысле — в противоположность относительности,
«призрачности» своей явленности в качестве существования. Это
означает, что в сфере существования возможно сознание (осознание)
двух «родов» бытия (т. е. одного и того же бытия в двух его «модусах») —
бытия явленного, существующего в качестве мира, и бытия как
такового, бытия Абсолюта в-себе.
Сознание и понимание бытия Абсолюта в сфере существования
есть религия в интерпретации Фихте, она находится за пределами
рациональных форм, т. е. понятий; но и бытие первого «рода», бытие
мира как явленного Абсолюта он не признает подчиненным
понятию. Именно в этом, вероятно, заключается один из самых важных
пунктов отличия поздней системы Фихте от ранней, и здесь Фихте
наиболее далеко продвигается в сторону будущей неклассической
метафизики. Хотя он все еще мыслит Абсолют в классическом духе,
как нечто подобное Субстанции и Мировому Разуму, он понимает,
что Абсолют бесконечен по своему содержанию, поэтому бытие мира,
который есть явленность Абсолюта, не может быть уложено в
рациональную систему понятий, оно столь же иррационально и бесконечно,
как сам Абсолют.
Таким образом, различение двух «родов» (или «модусов») бытия —
бытия Абсолюта в-себе и его же бытия как явленного в форме
существующего мира — позволяет оправдать мысль Вышеславцева об
иррациональности Абсолюта, которую мы приводили выше и которая
на первый взгляд противоречит собственным описаниям бытия
Абсолюта у Фихте: если и не сам Абсолют, то по крайней мере его явление
в форме бесконечного мира нужно признать иррациональным.
Разделяя и противопоставляя указанные «роды» бытия, нужно все
время помнить об их единстве, иначе невозможно будет понять еще
один важнейший тезис Фихте, который, согласно Вышеславцеву, тот
впервые сформулировал в Наукоучении 1801 г.: «.. .мы понимаем
всегда абсолютное, ибо, кроме него, нет ничего для понимания и все-таки
мы понимаем, что никогда его вполне не поймем»49. Эта идея ясно
выражена и в более позднем «Наставлении к блаженной жизни»:
«Абсолютное <...>, таким же образом как оно может быть лишь через себя
49 Вышеславцев Б. П. Этика Фихте. Основы права и нравственности в системе
трансцендентальной философии. С. 125.
42
1.3. Поворот к новой философии человека...
самое, может и существовать лишь через себя самое; а поскольку
существовать должно Оно само, а не что-то постороннее вместо него, —
коль скоро ведь ничто постороннее, кроме него, и не может быть
и существовать, — то оно существует прямо так, как оно есть в себе
самом: всецело, и неделимо, и без изъяна, и без переменчивости и пре-
ложения, как абсолютная однообразность, подобно тому как и
внутренне оно таково же. Реальная жизнь знания есть поэтому в корне
своем внутреннее бытие и сущность самого Абсолютного, и не что иное;
и между Абсолютным, или Богом, и знанием в глубочайшем жизненном
корне его нет никакого разделения, но оба совершенно едины друг
с другом»50.
Это означает, что бытие существующего мира хотя и не совпадает
с бытием Абсолюта как такового, но «внутренне» выражает его
сущность и едино с ним, поэтому человек, полно переживающий бытие
мира, сливающийся с ним в акте жизни, проникает до самого
Абсолюта и сливается с Абсолютом как таковым. Именно такое, религиозное
по своей сути, переживание мира и своего бытия в мире Фихте
называет началом пути к «блаженной жизни» — жизни в Боге. И только
неразвитость человека, его нежелание обрести высшую ступень
духовной жизни приводят к тому, что он оказывается неспособен на такое
отношение к жизни и к миру. Итогом рассмотрения сущности
подлинной религии, истинного (Иоаннова) христианства у Фихте выглядит
следующим образом: «...кроме Бога, решительно ничто не существует
поистине и в собственном смысле этого слова, не считая лишь знания;
а это знание есть само божественное существование, прямо и
непосредственно, и, насколько мы суть знание, мы сами, в глубочайшем
корне нашем, суть это божественное существование. Все прочее, что
еще может казаться нам существованием — вещи, тела, души, мы сами,
поскольку мы приписываем себе самостоятельное и независимое
бытие, — вовсе не существует поистине и само по себе, но существует
лишь в сознании и мышлении как сознаваемое и мыслимое, а не как бы
то ни было иначе»51.
Но если знание есть само божественное существование, оно не может
иметь ничего общего с обычным научным знанием, достигаемым в
соответствии с логически строгой и однозначной методологией
новоевропейского рационализма; понятия знания, понимания и
рациональности приобретают в поздней философии Фихте необычный смысл,
50 Фихте И. Π Наставление к блаженной жизни. С. 45.
51 Там же. С. 49-50.
43
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
прямо соотносящийся с построениями неклассических мыслителей
и с концептом неклассической рациональности. Идея бесконечного,
никогда не завершаемого рационального понимания (самопонимания,
самовыражения) Абсолюта, который сам по себе бесконечен, а в
явлении под формой существования еще и иррационален, т. е. не выразим
полностью ни в какой системе понятий, замещает у позднего Фихте
идею завершенной рациональной конструкции, полностью
описывающей Абсолют, которую Фихте надеялся построить в своей ранней
системе. Нужно признать, что Фихте выделяется из всех немецких
мыслителей первой половины XIX века тем, что наиболее явно и глубоко
осуществляет критику основных принципов новоевропейского
рационализма и тем самым намечает контуры совершенно новой модели
философского знания.
1.4. Зарождение неклассической
«философии жизни» в трудах Шеллинга
и в немецкой романтической натурфилософии
XIX века
Шеллингу принадлежит заслуга окончательного доказательства
центрального значения традиции мистического пантеизма в истории
европейской философии; в частности, как уже было отмечено, он дал
оправдание самому термину «пантеизм» для обозначения указанной
традиции и сам создал ее образцовый вариант.
Однако мы оставим в стороне зрелую систему Шеллинга, поскольку
для последующего изложения более наглядным примером
мистического пантеизма является система Фихте, в целом аналогичная системе
Шеллинга, мы обратим внимание на его ранние натурфилософские
сочинения, в них на первом плане не метафизическая конструкция,
в рамках которой объясняется, как Абсолют творит мир, а взаимосвязь
всех многообразных конкретных явлений природы, происходящих
от Абсолюта, — то, что составляет содержание конкретного научного
познания. Как мы дальше увидим, та же самая проблема будет
находиться в центре философских размышлений Бергсона, и в ее решении
он будет во многом повторять логику своего немецкого
предшественника, в этом смысле натурфилософию Шеллинга можно считать одной
из важных предпосылок философской системы Бергсона.
В модели всеединства Шеллинг обращает внимание не на сам
процесс «исхождения» явлений из Абсолюта, а на объяснение явлений и их
44
1.4. Зарождение неклассической «философии жизни» в трудах Шеллинга...
связей через усмотрение их неразрывных отношений с Абсолютом.
В отличие от чисто философских, метафизических построений Фихте,
он хочет добиться такого описания явлений природы, которое
согласовывалось бы с метафизической моделью всеединства, но
распространило бы ее на объяснение конкретных закономерностей природного
мира. Метод такого объяснения природных явлений Шеллинг
наглядно демонстрирует в трактате «О мировой душе».
В науке начала XIX века безраздельно господствовала
механистическая картина мира, в рамках которой любое сложное явление природы
сводилось к простейшим механическим явлениям — в конечном счете
к перемещению элементарных частиц (атомов) в пространстве. Шеллинг,
не отрицая эффективности и законности такого метода, утверждает,
что он не может дать окончательного объяснения, поскольку не доводит
его до идеи целого, до восстановления внутреннего единства явления
и демонстрации его единства со всем природным бытием. Скорее
наоборот, механическое описание выделяет в явлении элементарные
части и показывает их самостоятельность, а единство целого делает
вторичным и менее существенным.
Приоритет идеи целостности заставляет выдвигать на первый план
совсем не те научные понятия, которые приняты в качестве таковых
в механистической картине мира. Шеллинг утверждает, что главными
понятиями для науки при новом подходе должны стать жизнь, организм
и сознание. Они позволяют добиться единства в нашем описании
каждого явления и всей их природной совокупности. Объяснение,
построенное на этих понятиях, от целого движется к отдельным частям
и элементам, а не от элементов к целому, как в механистическом
(атомистическом) подходе. Те принципы, которые Шеллинг формулирует
в качестве основы для нового метода научно-философского объяснения,
выглядят непривычными для науки, но они естественны для философии,
исходящей из концепции всеединства. «Жизнь не есть свойство или
продукт животной материи, напротив, материя есть продукт жизни.
Организм не есть свойство некоторых созданий природы, напротив,
отдельные создания природы равны по своему числу такому же
количеству ограничений или отдельных способов созерцаний всеобщего
организма»51. Жизнь, по Шеллингу, — это самое глубокое и сущностное
определение любого явления природы, поскольку здесь наше научное
познание идет наиболее далеко, насколько это возможно для научного
52 Шеллинг Ф. В. И. О мировой душе // Шеллинг Ф. В. Й. Соч. В 2 т. М., 1987. Т. 1.
С. 125.
45
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
познания, к абсолютному истоку всего существующего. Наоборот,
неживое, чисто материальное и механическое, как следует из этих слов
Шеллинга, — это не сама реальность, а наш упрощенный, субъективный способ
восприятия и рассмотрения подлинно реального. Этот подход к
соотношению жизни и неживой материальной природы совершенно расходится
с подходом, который в XIX веке стал основой развития научного
познания жизни, но именно он приобрел неожиданную актуальность в
философии рубежа XIX и XX веков, в частности в философии Бергсона.
Все научные определения и понятия, по Шеллингу, должны как-то
соотноситься с понятием жизни и происходить из него. «Существенное
во всех вещах <...> есть жизнь; акцидентальное — лишь характер их
жизни, и даже мертвое в природе не мертво само по себе, а есть лишь
угасшая жизнь»53.
Наука ищет причину жизни внутри самих живых организмов, в их
частях и элементах, но она никогда не найдет ее там, поскольку части
оказываются всё проще и проще и всё дальше от сущности жизни (т. е.
от Абсолюта, от источника всего существующего). Поэтому Шеллинг
утверждает, что причина и основание жизни лежит вообще за
пределами материального организма, за пределами пространства и времени,
которые определяют именно «мертвую» форму жизни, но не ее
собственную сущность. Принцип жизни — единство, жизнь в нашем
материальном мире выражает единство и слитность всего, а материя,
пространство и время — это формы разделения в нашем мире. Начало
жизни духовно, ведь дух — это синоним единства. Это начало,
присутствующее везде и нигде — так как оно вне пространства и времени,
но действует в каждом живом организме, — Шеллинг называет мировой
душой.
Этот термин нужно признать крайне неудачным, поскольку он
помещает идеи Шелинга в классический, платоновский контекст и тем
самым придает им не совсем адекватный смысл; на деле Шеллинг
предвосхищает совершенно новые, неклассические формы понимания
жизни и всего бытия. Ведь в платоновской традиции душа отделена
от тела как независимая «субстанция», в философии Шеллинга всё по-
другому: хотя мировая душа находится вне живых организмов, она
слита с ними, непосредственно действует в них. Уже в своих ранних
натурфилософских трудах Шеллинг предстает как последовательный
пантеист. Только гораздо позже, в работе «Философские исследования
о сущности человеческой свободе и связанных с нею предметах» (1805),
53 Шеллинг Ф. В. Й. О мировой душе. С. 125.
46
1.4. Зарождение неклассической «философии жизни» в трудах Шеллинга...
он даст строгое определение пантеизма, которое мы приводили выше
(как учения о том, что всё существующее имманентно Богу, в то время
как Бог остается трансцендентным по отношению к миру и вещам).
Но уже в ранних работах отношение мировой души ко всему
существующему нужно понимать по той же модели: все живые существа
имманентны мировой душе (она действует в них), но в то же время по своей
сущности она находится «вне» живых организмов, вне физического
пространства и времени. Неживые сущности в философии Шеллинга
являются частным случаем живых, поэтому никак не нарушают эту
логику. Такое понимание отношения Абсолюта и мира объектов будет
очень характерно для неклассических систем конца XIX и XX века.
Именно так понимает отношение воли и мира объектов А. Шопенгауэр,
так же описывает отношение абсолютного эго с вещами Э. Гуссерль
в своей феноменологической философии, точно так же и Бергсон будет
описывать соотношение «длительности» (становящегося Абсолюта)
с миром материальных явлений.
Пространственно-временной механизм жизни, который исследует
наука, по Шеллингу, является только формой индивидуализации и
«стабилизации» (как бы «остановки») той силы жизни, которая
является причиной возникновения живого организма. Поэтому наука
никогда не сможет из исследования конкретной структуры живого
организма и процессов в нем понять точную динамическую причину
появления именно такого организма и конкретных форм его
существования и развития. Физические и химические процессы в организме
объясняют его неизменность и устойчивость, но наличие спонтанного,
непредсказуемого развития, нарушение стабильности, что и
составляет главное в существовании живого существа, невозможно объяснить
из его внутреннего механизма; это развитие происходит из действия
силы жизни, находящейся за пределами организма. Эта сила — чистое
и простое действие, интенсивность, абстрагированная от своего
результата в пространстве и времени54. Противопоставление чистого
духовного действия, простого по своей сущности и поэтому
несовместимого с формой пространства, и материального результата этого
действия, находящегося в пространстве и поэтому бесконечно
делимого, очевидно предвосхищает главную идею философии Бергсона —
противопоставление цельной «длительности» и ее материального
«двойника», механического движения, предстающего в виде ряда
независимых элементов, лишь внешним образом относящихся друг к другу.
54См.:тамже. С.203.
47
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
Явное совпадение ключевых идей Бергсона с идеями главного
представителя «немецкого пантеизма» было замечено уже современниками
французского мыслителя, и хотя сам Бергсон яростно возражал против
этого сопоставления (о причинах такой позиции речь пойдет ниже),
его нужно признать безусловно верным и важным для понимания
истоков его философии.
Человек как живое существо причастен силе жизни, пронизан ею,
более того, в форме нашего сознания нам непосредственно явлена связь
нашего организма с мировой душой, с единой силой жизни,
охватывающей мир и содержащей его в себе. Но сила жизни, присущая мировой
душе, являет себя также и опосредованно, в своих результатах —
в материальных формах живых организмов. Процесс возникновения
этих материальных форм Шеллинг описывает с помощью модели,
в целом подобной той, которую использовал еще Аристотель,
объяснявший возникновение любого сущего (живого и неживого) в
результате действия идеальных форм в бесформенной, пассивной материи.
Однако Шеллинг существенно модифицирует эту модель: сила жизни
создает саму материю; точнее, никакой материи как независимой
бесформенной субстанции вообще нет, есть материальные организмы, т. е.
сложные материальные структуры, непосредственно выражающие,
являющие духовную силу жизни. Соотношение силы жизни и ее
продуктов-организмов в данном случае подобно соотношению атрибутов
и субстанции в философии Спинозы, а не соотношению независимых
начал материи и формы в системе Аристотеля. Философия Шеллинга
монистична, а не дуалистична: дух непосредственно являет себя в
форме материальных объектов, а не действует в чуждом ему начале.
Для самого Шеллинга в его натурфилософии самым сложным и
интересным было выяснение форм взаимосвязи конкретных
материальных явлений с качествами и «структурами» духовного начала жизни,
мировой души. Однако с точки зрения современной науки этот аспект
его сочинений и сочинений его последователей кажется наименее
интересным и далеким от истины. В истории очень мало примеров
философов, профессионально занимавшихся проблемами конкретной
науки и добившихся в этом какого-то успеха. Гораздо более интересен
и оригинален собственно философский аспект построений немецких
натурфилософов, здесь они сумели выдвинуть ряд оригинальных идей,
совершенно по-новому описывающих бытие человека. Они стремились
доказать, что телесное и духовное начала в нашей жизни
взаимосвязаны гораздо более тесно, чем это предполагалось в классических
философских и религиозных концепциях.
48
1.4. Зарождение неклассической «философии жизни» в трудах Шеллинга...
В немецкой философии первой половины XIX в. сформировалась
целая школа натурфилософии, во многом следовавшая за Шеллингом,
но в еще большей степени ориентированная на анализ и
использование новейших достижений естествознания. Все известные ее
представители — И. Риттер, Л. Окен, Г. Т. Фехнер, Г. Г. Шуберт, К. Г. Карус
и др., были последовательными пантеистами, и это совершенно
естественно: предполагая неразрывную связь духа и материи, они
отрицали какую-либо чисто духовную (чисто божественную) реальность.
Всё существующее заключено в нашем мире, вне которого нет ничего,
хотя в самом мире можно предположить наличие каких-то пока
неведомых нам сфер; но они должны быть органично связанными
с земным миром и точно так же содержать в себе единство духовного
и материального.
При этом в прямой противоположности механистической
парадигме научного познания своей эпохи, объясняющего сложное через
простое и, в частности, психические и духовные явления — через
материальные, натурфилософы исходили из первичности вселенского духа;
рассматривая человека как единственного носителя духа, они считали,
что только философское исследование духа и человека может вести
к правильному пониманию конкретных материальных явлений. Как
писал Л. Окен, «духовное наличествует раньше, чем природа. Поэтому
натурфилософия должна начинаться с духа. <.. .> всё совокупное
царство животных, например, есть не что иное, как изображение отдельных
деятельностей или органов человека; не что иное, как
противоположенный человек. Точно так же природа есть не что иное, как изображение
отдельных действий духа. / Поэтому как зоология может называться
наукой о превращении людей в царство животных, так и
натурфилософия — наукой о превращении духа в природу»55.
Принцип всеобщего единства мироздания был безусловной и общей
основой для всей традиции философии всеединства, к которой
принадлежала и немецкая натурфилософия, но идея развития, эволюции
целого ко все более полному выявлению его внутреннего единства
и духовного совершенства определила неповторимые особенности этой
школы. Несовершенство духовной основы мира, мировой души, в
настоящем положении мира делает его, согласно немецким
мыслителям, существенно разделенным, нецельным, но в эволюционном
процессе душа совершенствуется, и это ведет мир ко все более целостному,
55 Окен Л. Учебник натурфилософии (избранное) // Герметизм, магия,
натурфилософия в европейской культуре XIII-XIX веков. М., 1999. С. 589.
49
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
«слитному» состоянию. Понятие эволюции имеет здесь
принципиально иной смысл, чем тот, который подразумевался в параллельно
разрабатывавшихся естественнонаучных концепциях эволюции жизни
(Ламарк, Дарвин). В построениях немецких натурфилософов эволюция
была определена стремлением единого духовного начала мира (мировой
души, Бога) к полноте выявления своей сущности.
1.5. Развитие новых идей в философии
А. Шопенгауэра и Ф. Ницше
Фихте и его соратники по немецкой философии начали процесс
окончательного философского раскрытия истинного христианства,
их наследники во второй половине XIX века продолжили это дело.
Объединяя самых ярких мыслителей этой эпохи под рубрикой
неклассической философии, их, по сложившейся традиции, резко
противопоставляют всем их предшественникам, прежде всего немецким мыслителям
начала XIX века, которых называют представителями немецкой
классической философии. Мы имеем здесь наглядный пример господства
ложного стереотипа, полностью закрывающего возможность
правильного понимания историко-философского процесса. Как мы видели,
указанные немецкие мыслители (Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель) в
своих главных идеях противостояли предшествующему классическому
новоевропейскому рационализму, поэтому объединение их с этой
традицией является грубой ошибкой. Не менее грубой ошибкой
является их противопоставление представителям неклассической традиции
(Шопенгауэру, Ницше, Бергсону и др.), хотя такое противопоставление
напрашивается из суждений самих неклассических мыслителей.
Однако в их оценках мы имеем пример добросовестного самообмана,
порожденного все теми же ложными стереотипами понимания. Именно
потому, что в общем мнении немецкие идеалисты начала XIX века
представали продолжателями новоевропейского наукообразного
рационализма; такие мыслители как Шопенгауэр и Ницше, отрицая
рационализм, выступали и против своих немецких предшественников, хотя
в реальности их философские устремления были близки друг к другу.
Столь же ложным стереотипом является мнение о том, что
неклассические мыслители были яростными противниками христианства;
на деле они были противниками только изжившего себя церковного
христианства. Выступая против него, они признавали необходимость
создания нового религиозного миропонимания, выраженного в
философской форме; пытаясь найти такое миропонимание, все они прони-
50
1.5. Развитие новых идей в философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше
цательно почувствовали необходимость возрождения неискаженного
(гностического) христианства и придания ему современной культурной
формы. Эту тенденцию можно найти в поздних рассуждениях
Шопенгауэра, признававшего свою принадлежность к традиции
мистического пантеизма, идущей от Майстера Экхарта и противопоставляемой им
традиционному «теизму», рассчитанному «на восприятие массы».
Подлинное христианство, по Шопенгауэру, жило только в еретических
системах гностиков, и только в этой форме оно на равных входит в круг
великих религиозных систем мира, к числу которых Шопенгауэр
причисляет брахманизм, буддизм и суфизм (интересно, что суфиев он
называет «гностиками ислама»): «Теизм, рассчитанный на восприятие
массы, помещает источник существования вне нас, как объект;
мистика же, а также суфизм, постепенно вводит его на различных ступенях
посвящения вновь в нас, как субъект, и адепт с удивлением и радостью
узнает в конце концов, что этот источник — он сам. Этот общий для
всех мистиков процесс мы находим у Мейстера Экхарта, отца немецкой
мистики, выраженным не только в форме предписания для
совершенного аскета — "не искать Бога вне самого себя" <...>, — но и в наивном
рассказе о том, как духовная дочь Экхарта, ощутив это преображение,
бросилась к нему с радостным возгласом: "Господин, разделите мою
радость, я стала Богом!"»56 Не менее решительно Шопенгауэр разводит
подлинное (гностическое) христианство и Ветхий Завет: «...самый дух
Ветхого Завета находится в антагонизме с духом Нового Завета»57.
Философски развертывая тезис о тождестве Бога и человека,
характерный для истинного христианства, Шопенгауэр полностью устраняет
различие между Абсолютом, определяющим все бытие мира (в
философии Шопенгауэра его трудно назвать Богом), и человеком. Абсолют
есть воля, но каждая человеческая личность также есть воля, причем
та же самая, всецелая и неразделимая воля как Абсолют. Вот как об этом
пишет Шопенгауэр: «...сущность в себе, явление которой есть мир,
не может — чем бы она ни была — <...> разъединять и разделять свою
истинную самость в безграничном пространстве <...>, эта бесконечная
протяженность относится только к ее явлению, сама же она полностью
и нераздельно присутствует в каждой вещи природы, в каждом живом
существе»58. Мы видим здесь очень талантливое развитие мистического
56 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. П. М., 1993. С. 599.
57Тамже.С605.
58Шопенгауэр А. О четверояком корне... Мир как воля и представление. Т. I.
Критика кантовской философии. М., 1993. С. 254.
51
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
пантеизма в форме философии всеединства; как и Николай Кузанский,
Шопенгауэр в основание своей философии полагает принцип единства-
тождества Абсолюта с каждым своим частным элементом, прежде всего
с человеческими личностями.
Но философия Шопенгауэра поставила больше проблем, чем
смогла решить. Радикальное решение проблемы соотношения человека и
Абсолюта (их отождествление) порождало необходимость различения
абсолютного и относительного в человеке, ведь нельзя же всё в нем
признать абсолютным. В метафизике Шопенгауэра весьма острой
оставалась и проблема отношения Абсолюта к эмпирической
реальности: понятие «объективации воли», которое Шопенгауэр применял
для описания этого отношения, было недостаточно ясным и
конструктивным.
В философии самого известного представителя неклассической
традиции, Фридриха Ницше, на первый взгляд вообще невозможно
найти никаких положительных суждений о христианстве и тем более
какого-то сближения с христианским учением; также кажется, что
Ницше избегает ясной постановки цроблемы отношения человека
к Абсолюту, особенно в том сугубо метафизическом плане, который
характерен для классических немецких идеалистов и Шопенгауэра.
Однако это впечатление обманчиво и дает совершенно ложный образ
великого немецкого мыслителя. Вопреки нелепым и необоснованным
современным интерпретациям, превращающим Ницше в
родоначальника «постметафизической философии», мы убеждены, что
непреходящее значение идей Ницше состоит не в отречении от метафизики,
а в ее преобразовании, в придании ей неклассической формы, которая
оказывается в парадоксальном созвучии с принципами истинного
христианства. В поздних трактатах Ницше, прежде всего в «Антихристе»,
мы видим очень высокую оценку подлинного «благовестил» Иисуса
Христа, понимаемого Ницше в той его интерпретации, которую ему
придали русские мыслители — Ф. Достоевский и Л. Толстой, а также
резкую критику церковного учения, враждебно настроенного по
отношению к истинному учению Иисуса59.
Тот факт, что в философии Ницше присутствует религиозная
и метафизическая глубина, очень ясно выразил М. Хайдеггер, хотя ему
же принадлежит и мысль о том, что Ницше явился «завершителем»
европейской метафизики как таковой. Согласно Хайдеггеру, поздний
59 См.: Евлампиев И. И. Русская философия в европейском контексте. СПб., 2017.
С 71-106.
52
1.5. Развитие новых идей в философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше
Ницше — тот мыслитель, который готовился написать свое главное
произведение «Переоценка всех ценностей», — приходит к
необходимости поставить перед собой метафизические и религиозные вопросы.
Особенно явно это проступает в идее вечного возвращения, именно
в ней Хайдеггер видит «выражение чистой "посюсторонней" религии
Ницше»60. Несомненно, Хайдеггер намекает на то, что в своей
метафизически-религиозной сути вечное возвращение может и должно
быть понято как вариант идеи бессмертия — идеи «посюстороннего
бессмертия», предполагающего бесконечное (т. е. абсолютное) бытие
человека (хотя и не лишенное смерти), — но именно в земной
действительности, а не в каком-то потустороннем «райском» мире61. Согласно
Хайдеггеру, в последние годы своей сознательной жизни Ницше даже
отказывается от прежнего радикального смысла тезиса «Бог умер»:
он различает «морального Бога» и подлинного Бога, находящегося
в нерасторжимом единстве с миром и человеком, т. е. понятого в духе
пантеизма. Теперь для Ницше ясно, что «умер» только первый Бог,
а во второго он продолжает верить как в ту «ось», вокруг которой
вращается все бытие. «Можем ли мы сказать, что здесь Ницше учит
пантеизму? <...> Если бы это было пантеизмом, тогда сначала надо было
бы спросить о том, что означает пан, всё, целое и что означает деос,
бог. Но в любом случае здесь задается вопрос! Стало быть, Бог не умер?
И да и нет! Да, он умер. Но какой Бог? Умер "нравственный" Бог,
христианский Бог, "Отец", к которому прибегают, ища спасения <...>.
Когда Ницше говорит "Бог мертв", речь идет о "нравственном" Боге,
и только о нем»62.
Ницше не просто по-своему повторил общий для неклассической
философии тезис о единстве человека и Абсолюта, он внес в него
совершенно новые мотивы, и они были связаны с известнейшей
концепцией его философии — с концепцией сверхчеловека. Ведь
«сверхчеловек» для Ницше одновременно и конечная цель развития
современного человека, и сам процесс движения к этой цели.
Совпадение человека и Абсолюта приобретает у Ницше характер
динамического процесса раскрытия в человеке его абсолютного содержания,
и это совсем не то же самое, что прежняя идея совпадения личности
60Хайдеггер М. Ницше. СПб., 2006. Т. 1. С. 332.
61 Подробнее см.: Евлампиев И. И. «Посюсторонняя» религиозность Ф.
Достоевского и Ф. Ницше (К вопросу о религиозном содержании неклассической
философии) // Вопросы философии. 2013. № 7. С. 121-132.
62 Хайдеггер М. Ницше. С. 278.
53
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
со статичным, заранее заданным, и к тому же чуждым земному бытию,
Абсолютом. Это в корне меняет характер изложения соответствующих
идей. При традиционном подходе, характерном даже для Шопенгауэра,
обоснование абсолютного значения человека осуществляется через
непосредственное приписывание личности свойств Абсолюта, и это
ведет к тому, что человек, «поднимаясь» до Абсолюта, лишается
признаков обычного земного существования. Чтобы стать абсолютным
центром мира, нужно отречься от земной жизни и от большинства
присущих человеку земных свойств. У Ницше все по-другому: не
только человек, но и грядущий сверхчеловек — это не готовое состояние,
а процесс движения, процесс преображения земных качеств человека
без их уничтожения. Поэтому ницшевский Заратустра, говоря о том
конечном состоянии человеческого общества, когда оно будет состоять
из подлинных «сверхчеловеков», парадоксальным образом называет
его не «Царством Сверхчеловека», как кажется естественным, а
Царством Человека^.
Ницше пытается прояснить и самую загадочную проблему в рамках
представления об абсолютности человека — прояснить, каким образом
человек в этом случае может пониматься не в качестве полностью
подчиненного окружающей реальности и ее законам, а наоборот — в
качестве формирующего реальность. Этой теме посвящен один из
фрагментов книги «Человеческое, слишком человеческое». «Мы смотрим на
все вещи сквозь человеческую голову, — пишет Ницше, — и не можем
отрезать эту голову; но все же не решен вопрос — что осталось бы
от мира, если бы ее все-таки отрезали»64. Далее Ницше пытается дать
свою версию ответа на поставленный вопрос: «.. .эта самая картина —
та, что ныне зовется нами, людьми, жизнью и опытом, — складывалась
постепенно, мало того, еще целиком и полностью охвачена
становлением, а потому не может рассматриваться как величина постоянная,
исходя из которой можно сделать или, на худой конец, отвергнуть вывод
об авторе <...>. Благодаря тому что мы уже тысячи лет смотрели на мир
с моральными, религиозными, эстетическими требованиями, со слепой
симпатией, страстью или страхом, прямо-таки купаясь в блаженстве
безобразий нелогического мышления, этот мир мало-помалу сделался
столь чудесно-многоцветным, ужасающим, полным глубинного смыс-
63 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Поли, собр» соч. В 13 т. М.,
2005-2016. Т. 4. С С 241.
64 Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Ницше Ф. Поли. собр. соч.
В 13 т. Т. 2. С. 26.
54
1.6. О возможном влиянии иудейских религиозных представлений на Бергсона
ла, волнующим, он обрел краски — а колористами были мы: именно
человеческий разум дал явлению явиться и перенес на вещи свои
ошибочные принципы. Он приходит в себя — поздно, очень поздно: и вот
мир опыта и вещь сама по себе кажутся ему столь разительно
отличными и отделенными друг от друга, что он отвергает умозаключение
от него к ней — или же на жутко-мистический лад требует отказаться
от нашего разума, нашей личной воли, дабы прийти к бытийному,
сначала самому сделавшись бытийным. <.. .> Со всеми этими воззрениями
покончит постоянный и неустанный процесс развития науки, который
когда-нибудь в конце концов справит свой величайший триумф в
истории становления мышления и итог которого сведется, возможно, к
такому тезису: то, что нынче мы называем миром, есть результат
множества заблуждений и фантазий, которые постепенно накапливались
в общей эволюции органического мира, срастались и теперь
унаследованы нами как совокупное богатство всего прошлого: как богатство,
поскольку на нем зиждется ценность нашей человеческой природы»65.
Здесь Ницше в большей степени задает вопрос, чем дает ответ.
Он только обозначает направления, в которых должна была двигаться
философия и наука, чтобы более конкретно и точно описать новое
понимание человека — как абсолютного центра реальности,
определяющего своим бытием все существующее. На первый взгляд эта задача
кажется невероятно сложной, требующей для своего выполнения
усилий множества незаурядных умов. Однако эпоха конца XIX —
начала XX века оказалась удивительно плодотворной, она сумела
породить не просто незаурядные, но гениальные умы, продвинувшие
философию и науку к таким горизонтам, которые не могли себе даже
представить мыслители недалекого прошлого. Задача, поставленная
в процитированном фрагменте Ницше, оказалась по силам одному
такому гениальному уму, его звали Анри Бергсон.
1.6. О возможном влиянии иудейских
религиозных представлений на Бергсона
Анри Бергсон родился в 1859 году в Париже в еврейской семье; его
отец Михаэль Бергсон происходил из польских евреев-хасидов, мать,
урожденная Кэтрин Левинсон, родилась и долгое время жила в
Донкастере (Англия) в семье врача. В 1868 году Анри начал обучение в одной
Там же. С. 33.
55
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
из известнейших школ Парижа — в Лицее Кондорсе; в 1870 году семья
Бергсонов переехала в Лондон, и Анри остался в Париже один, с
родными он виделся только на каникулах. В 1878 году он закончил Лицей
Кондорсе и поступил на отделение гуманитарных наук Высшего
педагогического института в Париже.
В1880 году Бергсон закончил Высший педагогический институт и
переехал в город Анже, где два года преподавал философию в лицее для
мальчиков и литературу в женском институте. Осенью 1883 года он
покидает Анже и начинает преподавать философию в Лицее Блеза
Паскаля в городе Клермон-Ферран в Оверни. В этом городе Бергсон прожил
5 лет, и это время он потратил не только на оттачивание навыков
университетского преподавателя, но и на накопление все новых знаний
из разных наук, которые позже станут основанием его собственной
философии. Особый интерес у молодого мыслителя вызывала
психология; в это время он впервые участвует в сеансах гипноза и пишет свою
первую научную статью «О бессознательной симуляции в состоянии
гипноза» (1886). В 1884 году Бергсон прочитал в университете публичную
лекцию о природе смеха, в дальнейшем эта тема станет одной из самых
заметных и известных в творчестве французского философа. В
лекциях по древнегреческой философии, которые Бергсон читал в Лицее
Блеза Паскаля, он особое внимание уделял философии Гераклита
и Парменида, а также анализу парадоксов Зенона Элейского о движении.
Исследователи находят здесь исток тех размышлений, которые
привели Бергсона к формированию важнейшего понятия своей философии,
понятия длительности.
Именно в Клермон-Ферране Бергсон поставил в центр своих
философских размышлений проблему времени. Осознав, что позитивистский
подход к этой проблеме, демонстрируемый Спенсером, слишком
поверхностен и не дает понимания сущности времени, он преодолевает
увлечение позитивизмом и углубляется в чистую философию и
метафизику. Итогом этой достаточно резкой смены интересов стали почти
одновременно написанные диссертации «Опыт о непосредственных
данных сознания» и «Идея места у Аристотеля» (на латинском языке).
Первая диссертация стала основанием всех последующих философских
построений Бергсона и одной из самых популярных его работ.
Осенью 1888 года Бергсон окончательно обосновывается в Париже,
где в 1889 году он защитил обе свои диссертации и получил степень
доктора философии. Дальше на протяжении многих лет Бергсон ведет
жизнь обычного университетского преподавателя, все больше времени
уделяя написанию своих философских трудов.
56
1.6. О возможном влиянии иудейских религиозных представлений на Бергсона
Биографические факты не дают никаких оснований
предполагать, что Бергсон испытал сколько-нибудь явное влияние иудейской
религиозности; к моменту завершения своего образования в Высшем
педагогическом институте он был увлечен проблемами научного
познания, по своему мировоззрению был близок к позитивизму
и достаточно равнодушен к религиозным вопросам. Это равнодушие
совершенно очевидно в его первом известном труде «Опыт о
непосредственных данных сознания» (1887). Однако начиная с работы
«Материя и память. Очерк взаимосвязи тела и духа» (1896)
религиозное измерение его философии становится все заметнее, а последний
большой труд «Два источника морали и религии» (1932) он целиком
посвятит изложению своего понимания религии и ее роли в истории
человечества.
Поскольку в своей философии Бергсона последовательно развивает
принципы европейской неклассической философии, скептически
настроенной против любых традиционных форм религии, мало кто из
исследователей задается вопросом о возможных связях мысли Бергсона
с традициями иудаизма и еврейской религиозной философии. Тем не
менее внимательный анализ указывает на то, что такие связи имеются:
общая метафизическая схема философии Бергсона в некоторых своих
слагаемых близка к представлениям о творении мира в
каббалистической традиции, а поздняя этика Бергсона очень напоминает
религиозную этику хасидизма.
Будучи «неклассической» по своим ключевым идеям, философия
Бергсона имеет глубокие основания в классической европейской
философии, является поздним оригинальным вариантом мистического
пантеизма, главной чертой которого является полагание всеприсутствия
Божества, признание того, что всё существующее существует в Боге
и благодаря Богу. Однако мистической пантеизм, будучи универсальной
и абсолютной формой философии, является главным направлением не
только в европейской христианской традиции, достаточно развитые
его формы можно обнаружить в древнеиндийской и древнекитайской
философии; очень интересное преломление он нашел и в поздних
(средневековых) религиозно-философских концепциях, возникших
в рамках иудейской религиозности.
Пантеистическое понимание отношений Бога, Абсолюта с миром
и человеком вполне соотносимо с концепцией Эйн-соф в
каббалистической философии; в этой концепции Бог пронизывает всё, не оставляя
никакого «места» для существования чего-либо, что не есть Бог.
Главной проблемой для всех форм пантеистической философии является
57
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
объяснение существования тварного, земного, материального мира
«внутри» или «на фоне» Бога — ведь в своей абсолютности Бог не
может допустить никакого независимого от него существования.
В каббалистической традиции ответ на этот вопрос дает концепция
цимцум, которая абсолютно оригинальна и не имеет явных аналогов
в других религиозных учениях66, в отличие, например, от концепции
Эйн-соф, которая не в меньшей степени характерна для
христианского гностицизма (возможно, именно оттуда она и была заимствована
творцами каббалистического учения). К концепции цимцум
предполагается, что в особом акте Бог «сжимает» себя в самом себе, «входит»
в самого себя, чтобы оставить «вне» себя некое «пустое пространство»,
в котором оказывается возможным возникновение и существование
мира, не совпадающего с Богом, — существование того, что не есть
Эйн-соф67.
Концепция цимцум иногда понималась символически, не как
описание реального процесса в Боге, а как выражение ограниченности
человеческого разума, не способного постичь Бога и акт Творения.
Однако при соотнесении с философией Бергсона и с другими
версиями христианского пантеизма (прежде всего с учением Николая Кузан-
ского) мы должны иметь в виду те интерпретации, которые понимают
акт цимцум буквально, как реальный процесс, приводящий к
изменению божественного существования. В этом контексте особенно важна
интерпретация, содержащаяся в сочинении Хаима Виталя (1542-1620)
(ученика Ицхака Лурии) «Эц Хаим» («Древо жизни»), ставшая в
дальнейшем особенно популярной, в том числе в хасидизме. Согласно этой
интерпретации, Бог, существуя исходно в абсолютной полноте Эйн-соф,
затем в одной точке сосредоточивается и удаляет себя за пределы этой
точки и ее окружения, в результате возникает место, где Бог
отсутствует, в этой сфере остается нечто подобное «пустому пространству».
Вот как это выражено в сочинении Виталя: «Эйн-соф сосредоточил
(цимцем) Себя в центральной точке, в самом центре света Своего...
Он сосредоточил свет этот и удалил его во все стороны от центральной
точки, и тогда от этой вот центральной точки осталось пустое
пространство, пустота, полный вакуум. Удаление это (цимцум) было
равномерным вокруг этой центральной, пустой точки, так что пустое
66 См.: Бурмистров К. Ю. «Он сжал Себя в Самом Себе»: каббалистическое
учение о «самоудалении» Бога (цимцум) и его интерпретации в европейской
культуре // История философии. 2009. № 14. С. 4.
67Тамже.С 5-8.
58
1.6. О возможном влиянии иудейских религиозных представлений на Бергсона
место это было кругом, совершенно равным во все стороны... потому
что и сам Эйн-соф сжал себя в форме круга равномерно во все
стороны... И вот после этого сжатия... осталось пустое место и совершенно
пустое пространство прямо в середине света Эйн-соф; уже было место,
в котором могли существовать вещи эманированные (ка-нээцалим)>
сотворенные (ка-нивраим), образованные (ha-йецарим) и сделанные
(ве-наасим)»68.
Получается, что материальный мир, в котором мы существуем,
появляется как следствие акта «умаления» божественного бытия,
«разложения» его полноты, и самым первым и прямым результатом
этого процесса является возникновение пустого пространства как
места для существования материальных вещей. Изложенная таким
образом концепция цимцум буквально совпадает с центральным
элементом метафизики Бергсона, изложенной в книге «Материя
и память» (ее можно сопоставить и с рассмотренной выше
концепцией Творения Николая Кузанского, если предположить, что ничто,
о котором в ней говорится, создано Богом в себе самом). В этой
книге центральной проблемой является описание процесса
трансформации связного и длящегося абсолютного бытия в ограниченный
пространственный и временной материальный мир. Эту
трансформацию Абсолюта в форму предметного мира Бергсон, как мы увидим
в главе 3, связывает с деятельностью человека, причем главную роль
в этом процессе играет чувственное восприятие. Именно восприятие
есть тот акт, в котором осуществляется «умаление» полноты
абсолютного (духовного) бытия до материального бытия, подчиненного
пространству.
Такое понимание соотношения абсолютного бытия и
материального мира может показаться близким к субъективному идеализму — ведь
материальный мир, «мир представления», в терминологии И. Канта,
оказывается результатом нашего субъективного восприятия абсолютной
реальности. Однако философия Бергсона ничего общего не имеет
с традиционным субъективным идеализмом, ведь Бергсон утверждает,
что указанный акт «редукции» абсолютного бытия к
пространственному бытию материального мира протекает в самом абсолютном бытии,
т. е. его источником является именно это бытие — как и в концепции
цимцум. Тот факт, что этот акт осуществляется в форме человеческого
восприятия, вовсе не делает его субъективным, ведь в философии
Бергсона, как мы увидим, сам человек и его сознание — это объективные
Там же. С. 8 (пер. К. Ю. Бурмистрова).
59
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
«слагаемые» абсолютного бытия. Человек является выражением
динамической «силы» бытия, которая, действуя в абсолютном бытии,
преобразует его самого в форму материального, пространственного мира.
В этом смысле главные характеристики нашего мира, пространство
и время, в той их математизированной форме, которую использует
наука, — это не столько объективные реальности, сколько «орудия»
трансформации абсолютного бытия в форму материального мира:
«...однородное пространство и однородное время — это и не свойства вещей,
и не существенные условия нашей способности их познавать: они
выражают, в абстрактной форме, двойную операцию уплотнения и
деления, которой мы подвергаем подвижную непрерывность реального,
чтобы обеспечить себе в ней точки опоры, наметить центры действия,
наконец, ввести в нее настоящие изменения; это — схемы нашего
действия на материю»69.
В исходной версии каббалистического учения сам Абсолют, Эйн-Соф
«редуцирует» себя в форму материального мира, однако в XIX-XX
веках, в хасидизме, это учение было трансформировано в смысле
особого акцента на интимное единство Бога и человека и на понимание
человека как «орудия» божественного действия в мире. В этом смысле
идея Бергсона о том, что человек, его восприятие, выступает «орудием»
божественного действия, создающего мир, можно счесть
доказательством близости взглядов Бергсона к религиозной концепции
хасидизма. Еще более очевидные параллели с хасидскими представлениями
демонстрирует этика Бергсона, изложенная в книге «Два источника
морали и религии».
В качестве двух главных характерных черт хасидизма можно
выделить, во-первых, особое внимание к эмоциональному переживанию
единства человека с Богом и, во-вторых, признание особой роли
праведников, цадиков, которые, находясь в единстве с Богом, являются
мистическими посредниками между Ним и остальными верующими,
обеспечивают им покровительство Бога.
Очень похожие черты составляют особенность этики Бергсона,
о которой мы еще будем говорить подробно (см. главу 5). Одной
из самых известных идей Бергсона является критика
«интеллектуализма», культа разума в традиционной европейской философии,
и выдвижение на первый план интуиции как универсальной формы
соединения человеческого сознания с абсолютным бытием и как фор-
69 Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собр. соч. В 4 т. М., 1991. Т. 1.
С. 293.
60
1.6. О возможном влиянии иудейских религиозных представлений на Бергсона
мы метафизического постижения смысла бытия. В своей последней
большой книге Бергсон уточняет понятие интуиции в том смысле, что
она всегда в нашей жизни предстает как особого рода эмоция, как
целостное настроение, как мироощущение, требующее после своего
принятия иного, чем раньше, поведения и образа жизни. Такая
эмоция, конечно, ничего общего не имеет с обычным психологическим
типом эмоции как чистого аффекта. Отображая целостность и все-
охватность Абсолюта, она сама целостна и всеохватна, она
пронизывает всю жизнь личности и изменяет ее всю целиком. «Красота теории
для меня малосущественна, — пишет Бергсон, — я всегда смогу сказать,
что не принимаю ее и, даже если я ее принимаю, буду стремиться
сохранять свободу вести себя по-своему. Но если присутствует
эмоциональная атмосфера, если я вдохнул ее, если эмоция
пронизывает меня, то, возбужденный ею, я буду действовать сообразно с ней.
Не по принуждению или по необходимости, а благодаря склонности,
которой я не хотел бы противиться»70. Эмоции такого типа
приобретают характер абсолютного истока всего ценного, значимого в
человеческой жизни. Способность переживать такую эмоцию,
двигающую вперед и отдельного человека, и все человечество, Бергсон
считает делом немногих избранных, которые становятся
проводниками непрерывного динамического воздействия Бога на мир и
человечество.
Отмеченные совпадения отдельных элементов метафизической
и этической системы Бергсона с некоторыми характерными
представлениями каббалы и хасидизма можно было бы признать случайными,
обусловленными общей атмосферой философских исканий рубежа
XIX-XX веков, для которой было характерно обращение к самым
разным религиозным источникам. Но, учитывая происхождение
Бергсона из польских хасидов, более естественным представляется гипотеза
о том, что в ранней юности он все-таки испытал воздействие
религиозных представлений, характерных для его среды, и это сказалось
в его творчестве. Подкрепить это предположение можно на основе
одной из очень характерных идей самого Бергсона. Важнейшим
слагаемым его представлений о человеке является признание
абсолютного значения памяти для существования личности: память сохраняет
все, что было в жизни человека, и все пережитое им продолжает
действовать на него, даже если он забыл многое из пережитого и не
замечает его действия.
Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. С. 49.
61
Глава 1. Неклассическая философия и ее истоки
Бергсон, как и каждый из нас, мог не помнить ясно тех важных
впечатлений и эмоций, которые получил в раннем детстве, но они
продолжали жить в нем и, возможно, в зрелом возрасте проявились,
повлияв на складывание самых оригинальных идей его философии.
Можно предположить, что это стало одним из факторов, сделавших его
выдающимся мыслителем, ведь первостепенное значение философии
Бергсона для европейской философии XX века заключается в том, что
в ней органично соединились представления, почерпнутые (явно или
неявно) из самых разных научных, философских и религиозных
источников — в том числе, возможно, и из оригинальных учений
еврейской религиозности.
Глава 2
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
И ЕГО «ЗАКОНЫ»
2.1. Проблема познания:
приоритет интуиции над научным разумом
Вторая половина XIX века была эпохой невероятного оптимизма
в представлениях о перспективах европейской цивилизации.
Могущество человеческого разума казалось безграничным, ему не могло быть
поставлено пределов, все проблемы, возникающие перед человечеством,
казались разрешимыми, идеалы Просвещения выглядели абсолютно
бесспорными и дающими великие плоды. Казалось бы, европейское
общество полностью преодолело ту ущербность собственных
оснований, которая была обусловлена нереализованностью идеалов
Возрождения.
Однако измена собственной глубинной сущности, отказ от
следования тому, что является твоим предназначением, никогда не проходит
даром, это общий закон человеческого бытия. Ложность форм жизни
и отсутствие подлинных идеалов не могли не сказываться на судьбе
отдельных личностей и всего общества. В глубине внешне
благополучной жизни Европы нарастали внутренние противоречия, которые рано
или поздно должны были привести ее к катастрофе. Эта катастрофа,
произошедшая в XX веке, оказалась гораздо ужаснее, чем это виделось
даже в самых негативных пророчествах XIX века, ее разрушительные
последствия европейская цивилизация, вероятно, уже не преодолеет
никогда.
Среди тех, кто проницательно видел скрытые признаки будущего
кризиса, было особенно много русских интеллектуалов; то, что еще
только зреет под поверхностью общественной жизни, лучше видно
с некоторой дистанции, с позиции отстранения; европейская «перифе-
рийность» России давала возможность такого отстраненного и
одновременно проницательного взгляда. В книге «С того берега», впервые
опубликованной по-немецки в 1850 году, А. Герцен писал по этому поводу:
«Странная судьба русских — видеть дальше соседей, видеть мрачнее
63
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
и смело высказывать свое мнение»1. И он выносит неутешительный
диагноз состояния современной ему Европы: «Мир, в котором мы
живем, умирает, т. е. те формы, в которых проявляется жизнь; никакие
лекарства не действуют более на обветшалое тело его; чтоб легко
вздохнуть наследникам, надобно его похоронить, а люди хотят непременно
его вылечить и задерживают смерть»2.
Еще раньше, в работе «Письма об изучении природы», Герцен
впервые в русской философской и исторической науке высказал мысль
о том, что все беды современной Европы происходят оттого, что ей не
удалось избавиться от феодального, средневекового мировоззрения;
великая эпоха XV-XVI веков (в эпоху Герцена еще не было понятия
Возрождения), не смогла передать свои идеалы следующим векам.
«Многие воображают, что последние три столетия <XVI-XVIII века>
так же отделены от Средних веков, как Средние века от древнего мира;
это несправедливо: века реформации и образованности представляют
последнюю фазу развития католицизма и феодальности; может быть,
они во многом перешли круг, которого очертание сделано было из
Ватикана, — но тем не менее они представляют органическое
продолжение предыдущего <...>. Ни Лютер, ни Вольтер не провели огненной
черты между былым и новым <...>»3. По мнению Герцена, попытка
итальянских гуманистов преобразовать европейское мировоззрение,
выдвинув на первый план идею творческого могущества человека,
потерпела неудачу, а лютеровская Реформация вместе с
Контрреформацией только закрепили господство антикультурных представлений
исторического христианства о греховности, несовершенстве и
немощности человека. «Чистое мышление — схоластика новой науки, так, как
чистый протестантизм есть возрожденный католицизм. Феодализм
пережил Реформацию; он проник во все явления новой жизни
европейской; дух его внедрился в ополчавшихся против него; правда, он
изменился, еще более правда, что рядом с ним возрастает нечто
действительно новое и мощное; но это новое, в ожидании
совершеннолетия, находится под опекой феодализма, живого, несмотря ни на
реформацию Лютера, ни на реформацию последних годов прошлого века»4.
1 Герцен А. И. С того берега // Герцен А. И. Собр. соч. В 9 т. М., 1954-1959. Т. 3.
С. 236.
2Тамже.С249.
3 Герцен А. И. Письма об изучении природы // Герцен А. И. Собр. соч. В 9 т. Т. 2.
С.228-229.
4 Там же. С. 252.
64
2.1. Проблема познания: приоритет интуиции над научным разумом
Позже похожие слова об обреченности европейской цивилизации
будет говорить Ф. Достоевский, во многом следуя в этом за Герценом.
В «Дневнике писателя» за 1880 год, возражая европейскому
оптимизму своего либерального оппонента А. Градовского, Достоевский пишет:
«Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего
и ужасного. Муравейник, давно уже созидавшийся в ней без церкви
и без Христа (ибо церковь, замутив идеал свой, давно уже и
повсеместно перевоплотилась там в государство), с расшатанным до
основания нравственным началом, утратившим всё, всё общее и всё
абсолютное, — этот созидавшийся муравейник, говорю я, весь подкопан.
Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь и, если ему
не отворят, сломает дверь. <...> Наступит нечто такое, чего никто
и не мыслит»5.
Наконец, через 10 лет после смерти Достоевского, в 1891 году, Вл.
Соловьев будет читать в С.-Петербурге речь «Об упадке средневекового
миросозерцания», и вслед за своими великими предшественниками
будет парадоксально утверждать, что даже накануне XX века
европейской человечество всё еще придерживается «средневекового
миросозерцания», не признающего существенного значения человека в
земном мире, и это, конечно же, не сулит ему в будущем ничего хорошего.
Однако русские наблюдатели западной жизни, правильно фиксируя
ее общее неблагополучие, чаще всего не занимались детальной
«аналитикой» причин нарастающего кризиса, а ведь таких причин было
много, и невозможно было понять без точного и конкретного
анализа, какие из них являются самыми принципиальными и глубокими.
И русские, и западные мыслители наиболее часто и наиболее веско
упоминали в этом контексте два радикальных недостатка Запада:
деградация христианской религиозности и чрезмерный рационализм,
выражающийся в абсолютном господстве науки и техники в
общественном сознании. Эти недостатки внутренне связаны между собой:
первый является более принципиальным в смысле глубоких
исторических причин кризиса западной цивилизации, второй выступает
в качестве наиболее заметного и явного фактора, определяющего
негативные черты в современном развитии культуры и общества. Как
мы увидим ниже, осмысление кризиса цивилизации станет одной
из важных целей философии Бергсона, но обращая внимание на
второй фактор, он будет интересоваться и глубинными причинами
5Достоевский Ф. М. «Дневник писателя» на 1880 год // Достоевский Ф. М. Поли,
собр. соч. В 30 т. Л., 1972-1990. Т. 26. С. 167.
65
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
современных процессов, не случайно его последняя книга будет
посвящена религиозным основаниям европейской цивилизации и
анализу истории христианства.
Разоблачение претензии науки на то, чтобы быть универсальным
ключом ко всем проблемам человечества, требовало внимательного
всматривания в закономерности развития и в структуру научного
сознания, что было доступно далеко не всем, особенно учитывая
чрезвычайную сложность науки конца XIX века. Здесь общие суждения
о радикальных пороках рационализма, которые высказывали
Шопенгауэр, Ницше и другие представители философского «иррационализма»
(в том числе русские), были недостаточны, хотя и правильны по сути.
Нужно было изнутри научного сознания увидеть и его достоинства,
и его недостатки и определить, какие иные формы познания
необходимо раскрыть в себе, чтобы, дополнив ими научное познание, получить
более глубокую и полную картину реальности, в которой мы
существуем. Это и стало главным делом Бергсона на первом этапе его
философского развития.
Последние два десятилетия XIX века и первое десятилетие XX века
были временем радикальных изменений в европейской науке. Были
сделаны такие открытия и выработаны такие идеи и представления,
которые показывали неудовлетворительность старой научной
картины мира, требовали решительного пересмотра оснований научного
познания. В 1881-1887 годах американские физики А. А. Майкельсон
и Э. У. Морли осуществляют серию экспериментов по определению
скорости движения Земли в эфире и получают результат,
противоречащий теоретическим предсказаниям (получалось, что Земля
неподвижна относительно окружающего ее эфира). Через два десятилетия
Эйнштейн именно на основе интерпретации результатов эксперимента
Майкельсона — Морли пришел к формулировке теории
относительности. В 1887-1905 годах в разных странах осуществляются
эксперименты по исследованию фотоэффекта, которые привели к краху
классической электродинамики и стимулировали создание новой теории
излучения, которая получила название квантовой теории. В 1896 году
А. А. Беккерель открывает явление радиоактивности, которое
заставило физиков радикально изменить представление о структуре материи
и начать разработку новейшей версии атомизма.
Все эти и многие другие открытия разрушили механистическую
картину мира, казавшуюся дотоле незыблемой, и потребовали от
ученых новых подходов к исследованию природы и новых идей для ее
объяснения. Как показала последующая история, эти новые подходы
66
2.1. Проблема познания: приоритет интуиции над научным разумом
и идеи настолько выходили за рамки привычных научных
представлений, что их невозможно было выработать без обращения к философии
и к ее «вечным» концепциям, которые в эпоху научного кризиса всегда
помогают увидеть «инварианты» научного познания, незаметные
изнутри его самого. В это время появились оригинальные направления
философского осмысления науки, способные, при внимательном к ним
отношении, помочь ученым в преодолении проблем, неразрешимых
с помощью старых научных методов. Особенно перспективно в этом
контексте выглядели неокантианство и феноменология Э. Гуссерля.
Однако эти новые философские интерпретации науки и ее проблем
оказались маловостребованными учеными той эпохи. Верх взяло их
традиционное негативное отношение к философским «абстракциям».
Кроме того, научное сообщество было убеждено, что современная
философия в ее наиболее «прогрессивной» версии окончательно
признала приоритет науки над собой и не претендует на какое-то
«учительство» по отношению к сообществу ученых. В качестве такой
«прогрессивной» версии философии выступал позитивизм,
постепенно получавший полное преобладание не только над умами ученых,
но и над умами философов; его характерной чертой было крайне
негативное отношение к традиционной философии, утверждавшей, что
она в своих метафизических построениях идет дальше науки и видит
реальность в более глубоких и правильных ее проявлениях, чем любая
научная теория.
На этом фоне начиналась научная деятельность Бергсона. Являясь
по основному образованию философом, он первоначально полностью
разделял главные тенденции эпохи. Глубоко изучив науку своего
времени, он видел в философии не более чем естественное дополнение
к науке и не предполагал возможности какого-то радикального
противоречия между представлениями философской теории познания
и конкретной методологией науки. Именно поэтому в первые годы
своей преподавательской деятельности в Клермон-Ферране Бергсон
примкнул к той «партии» своих коллег, которая ориентировалась
на позитивизм и более конкретно на философскую систему Г.
Спенсера, и критически относился к противоположной «партии»,
стоявшей на позициях познавательного критицизма И. Канта. Вспоминая
позже это время, он признавал, что лишь постепенно понял
философскую и научную неудовлетворительность концепции Спенсера,
особенно в отношении понятия времени. Исследования, которым
Бергсон занимался в 1883-1886 годах, привели его к открытию, «что
время не могло быть тем, что о нем говорили, что оно было чем-то
67
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
иным»6; написанная по итогам этих размышлений книга «Опыт о
непосредственных данных сознания» в качестве идейного центра имела
именно новое понимание времени, которое Бергсон обозначал
термином «чистая длительность» и считал доступным только
интуитивному', а не строго рациональному (в традиционном смысле этого
слова) постижению. Противостояние интуитивного и
рационального отношений к реальности, в первую очередь к реальности
собственного «я», с течением времени станет наиболее важным
методологическим принципом Бергсона, в этом пункте он самым явным образом
предстает как наследник своих предшественников по неклассической
философии, Шопенгауэра и Ницше, хотя в его системе идей интуити-
вистская критика научного знания не ведет к полному отрицанию
значения науки, а лишь показывает ее естественное место в общей
системе человеческого познания.
Признание первенства интуиции над рациональным знанием станет
отправной точкой той критики европейской цивилизации, которую
в поздних работах осуществит Бергсон и которая почти незаметна в его
первых известных трудах. Преимущество этой критики над более
известными и яркими суждениями современников и предшественников
Бергсона (подобных приведенным выше суждениям русских
мыслителей) заключается в том, что Бергсон ясно показывает самые глубокие
истоки радикальных недостатков европейского сознания, доступные
только проницательному философскому постижению. Эти недостатки
обусловлены не какими-то поверхностными социальными причинами,
а связаны с глубинной метафизикой нашего существования,
обусловлены всей историей европейского мировоззрения (тысячами лет
блаженства «безобразий нелогического мышления», как об этом пишет
Ницше; см. цитату, приведенную в главе 1). Неспособность
интуитивно постичь смысл чистой длительности — первый из сущностных
недостатков европейского сознания, констатируемых Бергсоном. С
очевидной горечью он говорит ό том, что подавляющее большинство его
современников не обладает той степенью проницательности, которая
свойственна ему самому и которую он считает абсолютно необходимой
современному человеку: «Мне потребовались годы, чтобы осознать,
а затем признать, что не все способны с той же легкостью, как я, жить,
6 Цит. по: Блауберг И. И. <Примечания к работе «Опыт о непосредственных
данных сознаниях»> // Бергсон А. Собр. соч. В 4 т. М., 1992. Т. 1. С. 317
(цитируются воспоминания Бергсона, записанные в 1922 г. писателем и литературным
критиком Шарлем Дю Бо).
68
2.1. Проблема познания: приоритет интуиции над научным разумом
погружаясь вновь и вновь в чистую длительность. Когда идея
длительности осенила меня в первый раз, я был убежден, что достаточно лишь
сообщить о ней, чтобы пелена спала, и полагал, что человек нуждается
лишь в том, чтобы его об этом уведомили. С той поры я убедился в том,
что все происходит совершенно иначе»7.
Разочарование Бергсона в системе Спенсера и в позитивистской
философии как таковой сопровождалось более внимательным
восприятием критицизма Канта, но и Кант не полностью удовлетворил
желание французского философа найти глубокие основания для
понимания человека и форм его деятельности в мире, важнейшей из
которых является наука. Бергсон не побоялся дойти в своем движении
от позитивизма до той формы философии, которая была объявлена
позитивизмом окончательно устаревшей, отошедшей в прошлое, —
до метафизики. Бергсон принадлежал к тем абсолютно
принципиальным и интеллектуально честным людям, которые в своем идейном
развитии идут до конца, не считаясь с трудностями и не боясь
отречься от своих прежних убеждений ради истины. Будучи первоначально
сторонником научного сознания и той формы философии, которая
признавала свою полную подчиненность научному сознанию, Бергсон
пришел к необходимости отвергнуть абсолютистские претензии науки
и позитивистской философии именно потому, что он с предельной
научной последовательностью проанализировал все истоки
существовавшей в его эпоху научной картины мира и все вытекающие из нее
следствия. Используя методологию самой науки, он показал ее
несамодостаточность, необходимость для ученых признать существование
более «высокого» знания, дающего основания научному познанию.
И поскольку выяснилось, что это знание дает метафизическая
философия, Бергсон без колебаний принял эту философию в качестве
высшей истины о мире и человеке. В этом смысле он оказался более
глубоким мыслителем, чем очень близкий ему по духу М. Хайдеггер;
последний продолжил критику метафизики, начатую Ницше, словно
не замечая (хотя в это трудно поверить), что его старший современник
естественным образом перешел от критической позиции к
демонстрации возможности и необходимости метафизики неклассического типа,
не имеющей недостатков классической метафизики, против которых
справедливо возражал Ницше.
Важным отправным пунктом размышлений Бергсона о научном
методе были апории Зенона, показывающие противоречивость наших
7Цит. по: Блауберг И. И. Анри Бергсон. М., 2003. С. 137-138.
69
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
представлений о пространстве и времени. Сами ученые с
пренебрежением относились и относятся к такого рода философским спекуляциям,
считая, что они возникают только из-за игнорирования подлинной
научной строгости в рассуждениях. Бергсон имел достаточно
разностороннее образование, чтобы признать, что философское мышление
является не менее глубоким и универсальным, чем научное, поэтому
он не считал, что от сформулированных Зеноном парадоксов можно
просто отмахнуться; он прекрасно понимал, что им нужно было дать
какое-то объяснение.
Уже давно было замечено, что парадоксы Зенона связаны с
проблемой соотношения дискретности и непрерывности в понимании
пространства и движения. Однако, чтобы философски грамотно решить
эту проблему, ее нужно было правильно обобщить, увидеть ее в
качестве частного случая более глобальной проблемы. В качестве такой
более общей проблемы Бергсон видит проблему объяснения нашего
сознания, которое также обладает и качеством непрерывности, и
качеством дискретности. Непрерывно оно, поскольку является
процессом, обладает целостной динамикой, а дискретно, поскольку
выражается в системе обособленных понятий, суждений и
умозаключений, т. е. фиксируется в высказываниях, в речи, обращенной к
другим людям.
При анализе психической жизни Бергсон исходит из положения,
которое он считает очевидным выводом из внимательного наблюдения
над собой, доступного каждому человеку, — это положение о
динамической цельности внутренней жизни. Свойство единства, с одной
стороны, и свойство непрерывного становления, развития — с другой,
являются важнейшими качествами сознания, всего нашего
внутреннего мира, причем они являются первоисходными, невыводимыми из
каких-то более фундаментальных и простых форм и качеств. Мы еще
не раз будем возвращаться к этому важнейшему положению, пока же
отметим, что в нем парадоксально сходятся два полюса философской
позиции Бергсона: здоровый эмпиризм научного сознания и понимание
того, что адекватное познание человека может быть осуществлено
только с помощью метафизических принципов.
Бергсон вместе с наукой своего времени был убежден, что основа
познания, в том числе и в том случае, когда речь идет о познании
самого сознания, может и должна быть найдена в акте непосредственного
наблюдения, в опыте, связывающем познающего субъекта с познаваемой
реальностью. Но ученые в рамках эмпирической методологии были
убеждены, что опыт всегда дает элементарные слагаемые познаваемой
70
2.1. Проблема познания: приоритет интуиции над научным разумом
реальности, полностью определенные и статичные в своей структуре.
Используя это убеждение, В. Вундт в 1870-е годы заложил основы
научной психологии, которая начинала именно с выявления элементарных
слагаемых психической жизни человека (ощущений, желаний, волевых
усилий и т. п.), подобно тому как физика начинала с фиксации
элементов материи и ее простейших свойств. Бергсон в этом пункте резко
разошелся с научным сознанием, он пришел к выводу, что если человек
осуществит действительно непосредственный опыт постижения себя,
то получит прямо противоположный результат по отношению к тому,
что дает в опыте природа: он найдет в себе в качестве первичных качеств
слитное и неразделимое единство многообразного психического
содержания и целостную непрерывную динамику этого содержания.
В целостности психической жизни безусловно присутствуют
многообразные «слагаемые» и «элементы», но их нельзя выделить и
зафиксировать как отдельные и независимые, они существуют в постоянной
неразрывной связи с целым и выражают все это целое (любая мысль,
эмоция или желание выражает всю личность). Первичным является
не совокупность простых, бессодержательных и независимых друг
от друга «атомов» психической жизни, как полагал Вундт и классическая
психология, но сложная внутри себя и одновременно неразделимая
целостность этой жизни, обладающая, кроме того, внутренним и
слитным становлением.
Нужно заметить, что, хотя Бергсон неоднократно признавал себя
сторонником философского эмпиризма, его метод
непосредственной фиксации духовной реальности внутреннего мира человека вряд
ли можно соотнести с классической формой эмпиризма, возникшего
в английской философии (в системах Дж. Локка и Д. Юма); более
правильно видеть исток этой методологии в философии Р. Декарта
и И. Канта (фиксация некоторых первичных «обстояний» и «очевид-
ностей» в сознании), а также с феноменологией Э. Гуссерля. Последняя
параллель является особенно интересной и плодотворной, многие
современные исследователи считают, что сопоставление концепций
сознания Гуссерля и Бергсона может дать более глубокое прочтение
как феноменологической философии, так и «философии жизни»
Бергсона8.
Представление о целостности нашего сознания, являющейся
следствием целостности всего бытия, несмотря на его расхождение
с обыденными представлениями и с научными концепциями XIX века,
Блауберг И. И. Анри Бергсон. С. 86.
71
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
было чрезвычайно характерно для европейской метафизики,
причем Бергсон берет это представление в самом радикальном его
варианте, имеющем очевидные связи с рассмотренной в главе 1 традицией
мистического пантеизма, родоначальником которой был Николай Ку-
занский, но прообраз которой может быть найден в раннехристианской
традиции (Евангелие Истины) и в поздней античной философии,
прежде всего в в системе Плотина — ее Бергсон внимательно изучал
в начале 1890-х годах. Формируя свои философские воззрения на
основании этой традиции, Бергсон вносит в нее важные и оригинальные
новшества.
В христианском платонизме, характерном для средневековой
философии, приоритет Единого и Целого, которые понимались в их полной
противоположности всему частному и единичному (т. е. в их
абстрактной «односторонности»), имел следствием отрицание значения
частного и единичного, это вело к резкому дуализму двух миров —
идеального мира Единого (Бога) и материального, земного мира, мира частных
и единичных явлений. Здесь единство и множественность оказывались
качествами, господствующими в разных сферах бытия: единство —
в совершенном мире Бога, а множественность — в несовершенном
земном мире. Общий метафизический и религиозный приоритет Бога
над миром обуславливал абсолютный приоритет единства над
множественностью.
В мистическом пантеизме никаких двух миров нет, реальность одна,
и именно она обладает и качеством нерасторжимого единства, и
качеством множественности, эти качества уравниваются в метафизическом
смысле: единство не «стирает» значения единичного, а
множественность не «разрушает» Единое, поскольку единичное внутри Единого
не получает самостоятельного существования; это оказывается
возможным на основании принципа тождества Единого и каждого
единичного^ входящего в него. Из этого следует, что каждое единичное
(каждое явление в мире) обладает таким же абсолютным значением,
как Единое, и через него можно познать это Единое (Бога). Верно
также обратное: познать единичное (любую вещь или явление) можно
только при условии познания его единства-тождества с Единым, т. е.
при условии познания самого Бога. Эту парадоксальную формулу
познания сформулировал уже Николай Кузанский: «Не зная целого,
нельзя познать части, так как целое определяет меру части. <.. .> Итак,
необходимо, чтобы знанию чего-нибудь одного предшествовало знание
целого и его частей. А поэтому, не зная Бога, который является
первообразом всего в мире, ничего нельзя знать о мире, а не зная мира,
72
2.2. «Опыт о непосредственных данных сознания»
ничего нельзя знать очевидно об его частях. Так, знанию о любой вещи
предшествует знание о Боге и о мире»9.
Приоритет постижения Единого (в особом интуитивном акте)
в процессе познания любого частного и единичного при
одновременном признании безусловного бытийного равноправия Единого
и единичного является метафизическим ядром традиции
мистического пантеизма. Это представление можно обнаружить и в
монадологии Лейбница, и в позднем религиозно-философском учении Фихте,
и в системе Гегеля. О последней нужно сказать особо, поскольку она
воспринималась и всё еще воспринимается как «апофеоз»
рационализма, ориентирующегося на науку и предполагающего единство
науки и философии. На деле это убеждение, которое пытался внушить
своим читателям сам Гегель, ничего общего не имеет с
действительностью. Философский метод Гегеля в основание полагает тот же самый
интуитивный акт постижения Единого, который является основанием
в теории познания Николая Кузанского. Ведь Гегель вводит понятие
спекулятивного мышления специально для того, чтобы обосновать
возможность таких понятий, которые, охватывая единичные явления
и давая их познание, одновременно включают все эти единичности,
во всей их иррациональной конкретности, в свой состав и тем самым
находятся в отношении к ним в состоянии «взаимопитания», т. е.
тождества. Ясно, что так понятое спекулятивное мышление весьма
далеко от рационального мышления науки. На эту принципиальную
сторону философского метода Гегеля обратили внимание уже в XX
веке два известнейших его интерпретатора, Иван Ильин и Александр
Кожев; мы еще вернемся к этой стороне философских представлений
Гегеля в главе 4.
2.2. «Опыт о непосредственных данных
сознания»
Бергсон полностью принимает принцип познавательного
приоритета интуиции целого по отношению к рациональному познанию
единичного и даже по отношению к эмпирическому схватыванию
этого единичного, но он вносит одно существенное изменение
в обычную логику мистического пантеизма. Он отказывается
применять указанный принцип ко всему существующему — этот принцип
9 Николай Кузанский. Книги простеца // Николай Кузанский. Соч. В 2 т. Т. 1.
С.424-425.
73
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
действует, по Бергсону, только в отношении психической сферы,
внутреннего мира человеческой личности. Такое разделение всей
действительности на две области, в одной из которых господствует
единство, а в другой — раздробленность, множественность, нельзя
признать достаточно естественным (оно возвращает нас к логике
платонизма); как мы увидим, Бергсон в конце концов от него
откажется. Однако в книге «Опыт о непосредственных данных сознания»
такое разделение было необходимо ему для того, чтобы подчеркнуть
принципиальное различие между материальной, физической
реальностью и внутренним бытием человека. Детальное сравнение и
противопоставление этих двух сфер бытия выступает главной целью данной
работы.
Наиболее важная часть книги — вторая глава, которая называется
«О множественности состояний сознания. Идея длительности».
Признавая, что главным качеством сознания, внутреннего мира человека,
является единство, Бергсон должен был как-то обосновать этот тезис,
вопреки тенденции классической психологии, которая
рассматривала психическую реальность, точно так же как природную,
составленной из множества элементарных слагаемых, которые
полагались первичными по отношению к образуемому из них единству.
Кроме того, Бергсон должен был пояснить, можно ли при таком
подходе к сознанию говорить о каком-то множестве состояний внутри
него и что это за множество, если над ним абсолютно преобладает
единство и целостность. Эти вопросы находятся в центре указанной
главы.
Глава начинается с прояснения смысла понятия числа и его
взаимосвязей с представлениями о пространстве и времени. Это кажется
не совсем логичным в контексте поставленных задач, однако на самом
деле выбор такого исходного пункта рассуждений вполне обоснован.
Ведь абстрактное философское представление о множественности как
антитезе единства слишком неопределенно для науки; для ученого
множественность прежде всего предстает в форме числа, т. е. того, что
дает конкретную и определенную характеристику рассматриваемого
множества и его свойств. Целое, в котором невозможно было бы
выделить определенной множественности, было бы неизмеримым и
поэтому недоступным для научного описания. Наука уверена, что такой
необычной целостности в мире не существует, это и означает, что она
исходит из абсолютной универсальности числа как ясной и
определенной характеристики любого объекта и явления, полагая ее полностью
эквивалентной множественности.
74
2.2. «Опыт о непосредственных данных сознания»
Число — это единство множественного, или, по-другому говоря,
число есть «синтез единого и множественного»10, причем акцент в этом
определении ставится, конечно же, на множественном содержании
числа; единство в этом случае «минимально», оно «допускается»
только потому, что без него было бы невозможно существование
целостного представления о множественном. Но вся суть этого представления
в демонстрации многого, не преобразованного единым; такое
соединение многого, как известно, называется агрегатом, в отличие от
организма, который есть единство многого, включающее в себя помимо
содержания самого многого также еще независимое содержание
единого, охватывающего многое.
В новейшей философии особенно известную философскую
концепцию числа создал И. Кант, связавший структуру числа с временем как
чистой (не-эмпирической) формой нашего чувственного восприятия
и одновременно противопоставивший число пространству, второй
чистой форме чувственного восприятия. Бергсон прямо не упоминает
концепцию Канта, но совершенно очевидно, что его рассуждения
направлены против нее. Ведь Кант считал, что времени, понятого как
форма порождения все нового и нового содержания, вполне
достаточно для объяснения числа: число можно свести к процессу «накопления»
все новых и новых единиц, т. е. понять его как последовательность
усложняющихся структур, переход между которыми осуществляется
во времени. Бергсон категорически не согласен с таким объяснением
числа, точнее, последовательности чисел. Прежде всего он замечает,
что, постоянно используя числа, мы настолько привыкаем к ним, что
считаем акт перехода от одного числа к следующему за ним, например
от числа 50 к числу 51, элементарным, не требующим полного
пересчета всех единиц, входящих в каждое число. Но такое использование
чисел, скрывающее их структуру, является сугубо символическим, здесь
числа используются не в собственной сущности, а как условные
символы этой сущности. Содержательное (математически корректное)
использование чисел обязательно должно демонстрировать их
структуру в развернутом, полном виде. Правильное описание перехода
от числа 50 к числу 51 должно включать в себя полный пересчет 50
единиц, входящих в первое число, и отдельный акт добавления еще одной
единицы, который и необходимо рассматривать как акт рождения
нового числа 51.
10 Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон А. Собр.
соч. В 4 т. Т. 1.С. 82.
75
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
Но если правильное представление о числе должно включать в себя
представление о наборе единиц, из которых оно состоит, возникает
сомнение в возможности свести акт порождения нового числа только
к форме времени. Время объясняет акт порождения последней
единицы, необходимой для создания следующего числа, но это только одно
из двух слагаемых сущности числа; другое (первое) слагаемое — это
удержание в сознании уже порожденных единиц, зафиксированных
в предшествующем числе. Без этого исходного полагания понять число
невозможно, поэтому каждый, кто мыслит число, его безусловно
предполагает. Однако такая безусловная предпосланность содержания
предшествующего числа требует для себя определенной мыслительной
формы. Поскольку все единицы, входящие в число, абсолютно
тождественны, существует опасность, что в процессе счета, порождающем
последовательность чисел, новая единица будет просто замещать старую,
и вместо накопления единиц в последовательности чисел (1, 2, 3...),
мы получим последовательность повторений одной и той же единицы
(1,1,1...). Та форма, с помощью которой наше сознание сохраняет все
прежние единицы как тождественные, но не совпадающие друг с другом
и сосуществующие, — это пространство.
Бергсон приходит к выводу, что пространство как форма сохранения
рядоположенных, сосуществующих единиц, является гораздо более
важным условием образования чисел, чем время. При этом нужно,
уточнить один важный момент. Поскольку в приведенном рассуждении
имеются в виду не наборы реальных предметов, а наборы абстрактных
тождественных единиц и числа как идеальные, математические
объекты, речь здесь идет об идеальном пространстве, в котором наше
сознание полагает сосуществующими указанные тождественные единицы.
Тот факт, что это идеальное пространство можно понимать как
обобщение и идеализацию реального трехмерного пространства физической
реальности, является второстепенным и даже запутывающим ситуацию,
поскольку в действительности идеальное пространство имеет совсем
другую сущность, чем представление о реальном пространстве; это
различие будет иметь большое значение в последующей философии
Бергсона. Однако в эпоху написания «Опыта о непосредственных
данных сознания» Бергсон склонялся к убеждению в правильности
ключевого принципа эмпиризма о происхождении всех исходных данных
нашего познания из непосредственного чувственного опыта, поэтому
он считает идеальное пространство обобщением того реального
пространства, которое является главной характеристикой материального
мира. Позже он откажется от убеждения в непосредственности эмпи-
76
2.2. «Опыт о непосредственных данных сознания»
рического опыта и придет к выводу, что сам опыт обусловлен некой
системой полаганий, которые уже не являются ни чувственными,
ни эмпирическими — скорее мистическими (!). На протяжении всей
своей творческой биографии Бергсон будет называть себя
приверженцем «здорового эмпиризма»; однако, как уже было сказано, в зрелой
форме его «эмпиризм» совершенно не похож на стандартный эмпиризм
новоевропейской философии, уже в «Материи и памяти» это скорее
нечто подобное феноменологии Э. Гуссерля, предполагающей
метафизическую нагруженность якобы «чисто эмпирических» полаганий.
Но пока, на самой ранней стадии своего творчества, Бергсон
считает, что именно из материального мира наше сознание «одалживает»
форму пространства, чтобы через обобщение этой формы — через
идеальное пространство — формировать число, которое затем
становится самым эффективным орудием описания физической реальности
в ее бесконечной и вариабельной множественности. При этом Бергсон
все-таки видит различие между самой физической реальностью и
пространством (реальным и идеальным), используемым для формирования
числа. Научное сознание склонно просто отождествлять
математическое пространство, которое участвует в образовании представлений
о числах (точнее, его наглядную трехмерную разновидность), и
физическое пространство материального мира, которое мы, в свою очередь,
склонны отождествлять с физической реальностью как таковой,
однако это нельзя признать правильным. Ведь идеальное пространство
фиксирует в абстрактной, обобщенной форме только одну сторону
физической реальности — ее однородную (отвлекающуюся от
качественных различий) множественность. Но в каждом объекте мира эта
сторона сочетается с другой — с качественным разнообразием
(множественностью) его распределенного в пространстве бытия. Абстрактное
математическое пространство полностью игнорирует эту сторону
явлений, поэтому его нельзя считать полностью соответствующим
реальности — это именно абстракция, существенно более бедная по своему
содержанию, чем та полнота бытия, которая развернута перед нами
в виде пространственного мира.
Теперь можно наконец обратиться к самому важному вопросу,
рассматриваемому Бергсоном в работе «Опыт о непосредственных данных
сознания» — к вопросу о сущности сознания, внутреннего мира
личности. Для научного познания проблемы здесь, собственно говоря, нет,
поскольку наука отрицает какую-то радикальную характерность бытия
личности по отношению к бытию природных явлений. Именно по
этому пути пошла «научная психология» В. Вундта. Здесь признается
77
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
общее качественное отличие психических явлений от природных
явлений — это нашло себе выражение в известном противопоставлении
«физических» и «психических» элементов опыта в позитивизме XIX-
XX веков, однако структура и формы внутреннего, психического бытия
признается психологией полностью аналогичными структуре и формам
природного бытия. Соответственно и форма абстрактного пространства
оказываются применимой к психической реальности в той же самой
мере, что и к физической. Поскольку форма пространства отражает
однородную множественность мира природы, ту же самую
характеристику психология приписывает внутреннему миру личности. Она
полагает, что в этом мире на равных сосуществуют самые разные
элементы, обладающие собственной качественной определенностью: мысли,
ощущения, желания, волевые импульсы, аффекты и т. п.
В этом контексте позиция Бергсона предстает по-настоящему
глубокой и новаторской, хотя, как уже отмечалось, она опирается на давнюю
философскую традицию мистического пантеизма. Бергсон
рассматривает внутренний мир человека как абсолютную целостность, не
обладающую той формой множественности, какую имеет предметный мир.
Это означает, что в психологической сфере невозможно выделить
элементы, являющиеся достаточно самостоятельными на фоне
единого. Именно поэтому к нему неприменима форма пространства.
Насильственное внедрение ее в эту сферу приводит к разделению слитной
целостности психического мира на элементы и обособление этих
элементов друг от друга и от целого. Но, обрывая взаимосвязи между
элементами и целым, мы искажаем это целое до такой степени, что то, что
получается в качестве результата познания, не имеет к этому целому
никакого отношения. Как пишет Бергсон, «множественность состояний
сознания, рассматриваемая в ее своеобразной чистоте, не имеет
ничего общего с раздельной множественностью, образующей число. Мы бы
сказали, что это качественная множественность. Короче, следовало бы
признать два рода множественности, два возможных значения слова
"различать", два понимания — качественное и количественное, —
разницы между тождественным и иным»11.
Целостность внутреннего мира не отрицает качественного
разнообразия его «элементов», однако говорить о них можно только условно,
поскольку они не являются определенными и независимыми в той
степени, как это привычно нам в отношении предметов физической
реальности. Здесь очень важно избежать явного или неявного исполь-
11 Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. С. 102.
78
2.2. «Опыт о непосредственных данных сознания»
зования пространственных аналогий, которые сразу приводят к ложной
модели. Тем не менее совсем уйти от соотнесения с пространством
невозможно, любой человек неизбежно представляет внутренний мир
в виде некоторого «объема», наполненного некоторым «содержанием»;
но нужно стараться представить соотношение этого «объема» с
отдельными элементами «содержания» не как соотношение
пространственной части и пространственного целого, а скорее как отношение «среза»,
«аспекта» целого к самому целому или как отношение одного измерения
пространства с целым пространством, ведь измерение пространства
присутствует в каждой его точке, полностью «слито» с ним как целым.
«Рассматриваемые сами в себе, глубокие состояния сознания не имеют
ничего общего с количеством; они являются чистым качеством. Они
настолько сливаются между собой, что нельзя сказать, составляют ли
они одно или многие состояния. Их даже нельзя исследовать с этой
точки зрения, тотчас не искажая их»12.
Напомним, что, согласно Бергсону, особенности своего
внутреннего мира каждый человек может установить в непосредственном
наблюдении, интроспекции. Поэтому не только допустимо, но даже
необходимо привести какие-то наглядные иллюстрации необычной
формы соотношения целого и элементов в сознании. Прежде всего
нужно отметить, что самая загадочная категория языка, категория «я»,
выражает как раз то всеохватывающее целое, которым является
внутренний мир каждой личности. Очень часто в истории философии «я»
интерпретировалось как нечто содержательно «пустое», как всего лишь
акт единства, не отражающий содержательное разнообразие этого
единства (трансцендентальное единство сознания И. Канта). Но ведь
«я» — это категориальное и языковое выражение акта самосознания;
само слово «я», конечно, не несет какого-то содержания, но акт, который
оно выражает, является бесконечно содержательным, поскольку
выражает полноту внутреннего мира личности. Как местоимение, как
грамматическая форма в предложении, «я» указывает на субъекта,
ничуть не уточняя его содержания, но как реальный акт,
осуществляемый этим субъектом, «я» включает в себе все содержание
внутреннего мира, и каждый человек, совершающий акт самосознания,
усматривает через него в себе это бесконечное содержание. Поскольку это
содержание предстает в форме неразрывного, слитного единства, его
нельзя более конкретно выразить и определить, можно только
«схватить» в живом, мгновенном акте интуиции.
12Тамже.С. 109.
79
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
Человек не может постоянно осуществлять акт самосознания, жить
одним этим актом; нормальная, обычная жизнь сознания
заключается в том, что во внутреннем мире получает преобладание какой-то из
его «элементов», человек может размышлять о какой-то идее, или
испытывать аффект, или настроиться на совершение поступка и т. п. Это
ничуть не умаляет единство сознания: несмотря на то что каждый
из указанных «элементов» как бы заполняет все сознание, полностью
«пронизывает» его, полнота целого, выявляемая актом самосознания,
актом «я», присутствует в любом из них. Ведь когда, например, человек
размышляет над какой-то идеей, он целиком существует как «я» в этом
размышлении и, значит, в нем целиком присутствует полнота
содержания сознания. Именно это каждый из нас имеет в виду, когда
говорит «Я мыслю», или «Я испытываю такое-то чувство», «Я желаю того-
то» и т. д. В каждом из этих случаев «я» целиком переходит в акт
мысли, чувства, желания и т. д. и живет в этом акте, а не так, что это
«я» существует само по себе и только «часть» себя отдает мысли,
чувству, желанию и т. д. Хотя нужно отметить, что сама языковая форма
выражения цельного акта уже искажает его и подталкивает к
неправильному пониманию.
Можно, казалось бы, возразить, что часто «я» одновременно и
мыслит, и испытывает аффект, и, возможно, пребывает еще в каких-то
своих «элементах», которые являются весьма разнородными. Однако
такие ситуации не противоречат сделанным выводам, ведь указанные
«элементы» существуют не отдельно друг от друга, а в полном
взаимопроникновении, слитности, поэтому здесь снова можно говорить об
одном «элементе», в котором живет «я», но только этот «элемент»
является синтезом, слитным единством двух (или множества) других.
В любом случае главным здесь является то, что тот элемент, в котором
живет «я», полностью проникает, заполняет собой целое (весь
внутренний мир личности), т. е. он становится тождественным целому;
«состояния сознания, — констатирует Бергсон, — даже последовательные,
проникают друг друга, и в самом простом из них может отразиться вся
душа»13. Снова нужно добавить, что само использование слов «один»,
«другой», «многие», «элемент» и т. д. по отношению к внутренней
жизни личности является чисто символическим и условным, точное
и буквальное применение этих слов уже связано с обособлением и
разделением элементов друг от друга и от целого, а это делать нельзя, если
мы пытаемся понять внутренний мир в его собственной сущности. Как
13 Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. С. 92.
80
2.2. «Опыт о непосредственных данных сознания»
пишет Бергсон, «самим словом "многие" мы уже изолируем эти
состояния друг от друга, внеполагаем их друг другу и размещаем в ряд
в пространстве»14.
Поскольку языковое выражение мышления является абсолютно
естественной функцией сознания, здесь остро встает вопрос о том, как
же осуществляется эта функция, если сознание в собственной
сущности несовместимо с разделением и обособлением, ведь без них
невозможен язык. Это действительно очень важная проблема, которой
Бергсон уделяет большое внимание и в «Опыте о непосредственных
данных сознания», и в последующих работах. Однако, прежде чем
говорить о ней, необходимо рассмотреть второе неотъемлемое качество
внутреннего мира личности, которое для Бергсона является еще более
важным, чем качество единства. Это качество становления, развития,
выражающееся в том, что сознанию присуща длительность, т. е.
временная характеристика.
«Открытие» длительности Бергсон считал своим самым главным
достижением, но во всей полноте исследование содержания этого
понятия и его роли в постижении сущности человека он произведет в
главной своей книге — «Материя и память». В «Опыте о непосредственных
данных сознания» он ограничивается демонстрацией
принципиального различия между длительностью и тем, что мы называем временем
материального мира. Именно здесь важную методологическую роль
играет резкое противопоставление физической реальности и
внутреннего мира личности (сознания). Неверное в том общем и радикальном
понимании, которое характерно для первой книги Бергсона, оно
помогает более ясно увидеть абсолютную противоположность
длительности и физического времени.
И в обыденном сознании, и в научных теориях господствует
убеждение в том, что исходным для всех вариантов понимания времени
является время физической реальности, время материального мира вне
нас, а время, которое мы ощущаем как наше внутреннее качество,
нужно рассматривать как частный случай указанной всеобщей физической
характеристики. Бергсон утверждает прямо противоположное: именно
непосредственно переживаемое нами время, которое составляет
неотъемлемое качество самосознания, является исходным; это и есть время
в чистом виде, время как таковое. А вот что такое время физической
реальности, можно установить только косвенным образом и в
результате сложных рассуждений.
14Тамже.С. 102.
81
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
Высказывая этот принципиальный тезис, Бергсон показывает, что
он в большей степени является философом, чем ученым. Он
учитывает весь тот анализ познания, который философия проделала после
Канта. С наивной, обыденной точки зрения нам представляется, что
мы видим мир сам по себе, но философия отвергает эту позицию,
доказывая, что всё, что нам дано, дано в сознании и, значит, уже
оформлено сознанием, облечено в его субъективные формы. В этом
смысле основополагающие качества самого сознания, если мы их
сумели выявить, оказываются по крайней мере не менее
фундаментальными, первичными, чем качества внешнего мира. Это относится и
к характеристике времени: при описании временной динамики
внутреннего мира нужно избежать использования аналогий с временем
физической реальности. Чтобы развести эти характеристики, Бергсон
вводит другой термин для обозначения времени внутреннего мира —
длительность.
Поскольку мы уже выяснили главную черту сознания — его
неразрывную целостность, связность, не допускающую обособления
отдельных «элементов», понять специфику длительности не так трудно.
Время всегда есть процесс порождения нового, по отношению к
сложному целому этот процесс можно представить себе как появление новых
элементов в структуре целого или новых состояний всего целого. Если
в физической реальности эти новые элементы и состояния существуют
как обособленные и самостоятельные, то во внутреннем мире, в силу
его общей природы, их нужно представлять неразрывно связанными
со старыми состояниями. В соответствии с этой логикой в
представлении о длительности нет той главной проблемы, с которой мы
сталкиваемся, постигая время материального мира, — нет безвозвратности
прошлого. Новое состояние, возникающее в моменте «теперь»,
неразрывно слито с состояниями, которые были до него; это означает, что
прошлое никуда не уходит и в определенном смысле сосуществует
с настоящим в нашем сознании.
Для доказательства этого утверждения Бергсон предлагает
каждому обратиться к собственной внутренней жизни и с очевидностью
увидеть, что вся суть личного бытия связана с тем, что сознание
длится во времени, сохраняя все предыдущие моменты в соединении с
состоянием в настоящем. Такое сохранение предыдущих состояний,
обеспечивающее «слитность» настоящего с тем, что было в прошлом,
есть память, и, конечно, для Бергсона точное и полное описание
памяти является одной из самых принципиальных задач. Но в «Опыте о
непосредственных данных сознания» он обходит эту проблему, вероятно
82
2.2. «Опыт о непосредственных данных сознания»
понимая, насколько она сложна и насколько далеко уведет его от тех
представлений, которые он поставил в центр своей работы. Здесь он
ограничивается определением главного понятия, длительности, не
касаясь сути памяти. «Что представляет собой длительность внутри нас?
Качественную множественность безо всякого сходства с числом;
органическое развитие, которое, однако, не является ростом количества;
чистую разнородность, не содержащую в себе никаких различных
качеств. Короче, моменты внутренней длительности не внеположны по
отношению друг к другу»15.
Итак, человеческая личность как внутреннее бытие, как сознание,
обладает длительностью, временной динамикой, в которой
порождаются все новые и новые состояния, не отрывающиеся от предыдущих,
а «нарастающие» на них, сохраняющие неразрывное единство с ними,
взаимную проникнутость; это и есть память, главное качество
человека, составляющее его сущность.
Но что же тогда есть время внешнего мира, физической реальности?
Ответ на этот вопрос в книге Бергсона не менее парадоксален, чем
описание времени в форме длительности. По существу, Бергсон
утверждает, что в физической реальности вообще нет времени! Физическое
время — это иллюзия, если под временем понимать некую связную
и цельную последовательность моментов и событий.
Можно сказать, что именно по отношению к процессу
динамического изменения материальной вселенной во всей силе проявляется
негативное влияние пространства как главной характеристики
материального бытия: в отличие от подлинного времени, которое
связывает все существующее, пространство разделяет все существующее;
это приводит к такому искажению времени, что оно полностью
утрачивает свою сущность. Самый наглядный пример проявления
физического времени — это движение материального тела в пространстве,
и именно в этом случае особенно очевидно отсутствие целостности
в ряде событий, определяемых временем. Ведь когда тело переходит
из одной точки пространства в соседнюю, оно перестает существовать
в той точке, из которой ушло, и существует только в новой точке, это
означает, что по отношению к целостному бытию мира процесс
механического движения является сугубо дискретным. Все
предшествующие положения движущегося тела, кроме того, который
наличествует в момент «теперь», уже не имеют бытия: тело всегда существует
только в одной точке своей траектории. Но если так, то непонятно,
15 Бергсон А. Опыт о непосредственных данных-сознания. С. 149.
83
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
почему мы говорим о теле как о движущемся и тем более как об
обладающем характеристикой времени. Этот ход мысли ясно
зафиксирован в том из парадоксов Зенона, который называется «Стрела».
Положение летящей стрелы, которую мы фиксируем в момент «теперь»,
существует изолированно от ее положений в прошлом, которых уже
нет в наличном бытии, но это и означает, что движения нет, а значит,
нет и времени.
Ученый-физик будет резко возражать против этих выводов. Он
станет утверждать, что нужно рассматривать траекторию движущегося
тела в целом-, он будет настаивать, что способен мысленно повторить
движение тела от точки к точке и представить себе его существование
в каждом последовательно сменяющемся состоянии, обеспечив тем
самым связность всего процесса. Но именно это естественное
возражение, при его правильной интерпретации, оборачивается против тех,
кто его высказывает, и доказывает, что по-настоящему время есть
только в нашем сознании. Ведь в указанном рассуждении физик
подменяет реальное существование тела в последовательности
пространственных точек — представлением о его существовании во всех этих
точках одновременно. Он, конечно, буквально не утверждает, что тело
существует одновременно во всех точках, но, представляя его
существующим последовательно в точках траектории, он все-таки неявно
полагает все пройденные состояния в своем сознании равноправными с тем,
которое является актуально существующим. И это равноправие всех
состояний существования оказывается более важным, чем мысль о том,
что актуальным существованием обладает только одно из этих
состояний, — ведь в итоге физик представляет траекторию движения как
целое, уже не выделяя в ней какой-то одной точки. Чтобы нарисовать
сплошную, связную траекторию движения тела, он должен мыслить все
положения тела существующими одновременно. Такое одновременное
существование, невозможное в материальном мире, возможно в
сознании, во внутреннем мире — за счет того, что положения тела в
пространстве сосуществуют с соответствующими состояниями нашего
внутреннего мира, где они и сохраняются (как полностью
эквивалентные, равноправные) благодаря связности длительности (т. е. памяти),
составляющей сущность сознания.
Получается, что убеждение физика в том, что он с помощью своих
схем и уравнений описывает движение тела в объективном мире вне
сознания, лишено оснований; на самом деле траектория существует
только в его сознании, и только там ее можно физически и
математически описывать; в самом материальном мире есть не движущееся тело,
84
2.2. «Опыт о непосредственных данных сознания»
а только набор положений тела в разных точках пространства, причем
материальная вселенная устроена так, что в момент «теперь» тело
существует (и покоится) только в одном положении, и каким-то неведомым
нам образом это состояние сменяется новым состоянием в новом
«теперь», причем оно никак не связано с предыдущим.
Вот как Бергсон разъясняет этот важный вывод своей первой книги.
«Когда я слежу глазами за движениями стрелки на циферблате часов,
соответствующими колебаниям маятника, я отнюдь не измеряю
длительность, как это, по-видимому, полагают: я только считаю
одновременности <мгновенные состояния вселенной. — И. £.>, а это уж нечто
совсем иное. Вне меня, в пространстве, есть лишь единственное
положение стрелки и маятника, ибо от прошлых положений ничего не
остается. Внутри же меня продолжается процесс организации или
взаимопроникновения фактов сознания, составляющих истинную
длительность. Только благодаря этой длительности я представляю себе
то, что я называю прошлыми колебаниями маятника, в тот же момент,
когда воспринимаю данное колебание. Уберем на мгновение "я",
которое мыслит эти так называемые последовательные колебания; в таком
случае всякий раз будет иметь место только одно-единственное
колебание маятника, даже одно-единственное его положение, и,
следовательно, не будет никакой длительности. Уберем, наоборот, маятник
и его колебания; тогда останется одна только разнородная длительность,
"я", без внешних по отношению друг к другу моментов, без связи
с числом. Итак, в нашем "я" существует последовательность без
взаимной внеположности, а вне "я" существует взаимная внеположность без
последовательности — взаимная внеположность, ибо данное колебание
резко отличается от предыдущего, более уже не существующего; но
последовательности здесь нет, ибо она существует только для
сознательного наблюдателя, который удерживает в своей памяти прошлое
и рядополагает два колебания или их символы во вспомогательном
пространстве»16.
В этом рассуждении Бергсон решительно противопоставляет друг
другу внутренний мир человеческих личностей, обладающий слитной
цельностью и длящийся в подлинном времени, и материальный мир,
существующий в вечном «теперь», обладающий пространственной
протяженностью и содержащий только отдельные несвязанные и
статичные состояния движущихся объектов. Здесь возникает совершенно
естественный вопрос: существует ли вообще движение в материальном
16 Бергсон А. Опыт о непосредственных данныхсознания. С. 96-97.
85
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
мире, движение как таковое7. Ведь из приведенного описания
вытекает, что есть образ движения, создаваемый нашим сознанием, но
объективного движения, наличного вне нашего сознания, как бы и не
существует. Несмотря на кажущуюся нелепость такого предположения,
все разъяснения Бергсона, касающиеся проблемы взаимоотношения
сознания и реальности во второй главе книги «Опыт о
непосредственных данных сознания», только подтверждают этот вывод. Он пишет:
«.. .каждое из так называемых последовательных состояний внешнего
мира существует в отдельности, и их множественность реальна только
для сознания, способного сначала их удержать, а затем рядополагать
их в пространстве внешним образом по отношению друг к другу.
Сознание сохраняет их благодаря тому, что эти разные состояния
внешнего мира порождают состояния сознания, которые взаимопроникают,
незаметно организуются в целое и вследствие самого этого
объединения связывают прошлое с настоящим»17. Как мы видим, Бергсон явно
и прямо утверждает, что в материальном мире все состояния
«существуют в отдельности» и они «организуются в целое» (например,
в целостное движение) только благодаря тому, что порождают
соответствующие им состояния сознания, которые связаны друг с другом
в силу принадлежности к длящейся «субстанции» внутреннего мира
личности.
На основе этой идеи Бергсон дает свою необычную интерпретацию
парадоксов Зенона. На протяжении столетий философская мысль
«боролась» с Зеноном и его выводом о том, что в мире нет движения;
Бергсон же, по сути, признает правоту Зенона в споре с теми, кто
считал, что защищает здравый смысл и научный разум от лживых,
софистических рассуждений. Можно сказать, что Зенон оказывается своего
рода предшественником Бергсона, он впервые замечает то, что потом
никто не замечал в европейской философии на протяжении более двух
тысяч лет, — что движение и временную длительность в их подлинном
содержании невозможно приписать самой реальности, что они есть
только субъективное «мнение», т. е. «собственное» содержание
человеческого сознания. Аргументация, которую использует Зенон, полностью
аналогична той, которая характерна для рассуждений Бергсона:
сколько бы мы ни фиксировали пространственных положений движущихся
тел, например Ахиллеса и черепахи, мы никогда не получим из них акта
движения, в котором Ахиллес обгоняет черепаху; этот акт есть только
в нашем непосредственном, не подверженном рациональному анализу
Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. С. 102.
86
2.3. Структура личности и проблема свободы
восприятии, которое нельзя признать объективным. Некоторые
высказывания Бергсона прямо воспроизводят логику рассуждений Зенона:
«.. .хотя движущееся тело и занимает последовательные положения в
пространстве, но действие, посредством которого оно переходит от одного
положения к другому, действие в чистой длительности, реальное только
для сознательного наблюдателя, ускользает от пространства. Мы в
данном случае имеем дело не с вещью, но с процессом: движение как переход
от одной точки к другой есть духовный синтез, процесс психический и,
следовательно, непространственный. <.. .> в движении следует различать
два элемента: пройденное пространство и действие, посредством
которого тело проходит его, последовательные положения и их синтез.
Первый из этих элементов есть однородное количество, второй реален
только в нашем сознании: это качество или интенсивность, что, по сути,
одно и то же»18. Физическое движение является реальным только для
сознания наблюдателя; более того, оно есть духовный синтез и
психический процесс. Это означает, что невозможно утверждать его
существование в той форме, как мы его представляем, в материальном мире.
Кажется, что здесь Бергсон ясно склоняется к субъективному идеализму.
Тем не менее вопреки всему сказанному он утверждает, что
«внешние предметы, по-видимому, длятся, как и мы»19, и это утверждение
трудно согласовать с предыдущими, в которых длительность
приписывалась только человеческому сознанию. Для того чтобы как-то разрешить
возникающее противоречие, нужно по-новому, не так, как это было
принято в классической философии, объяснить человеческое сознание.
Бергсон займется этим в следующей книге, в «Материи и памяти», и там
не только будет разрешено это противоречие, но будет явно показано,
что вся система развиваемых им идей ничего общего не имеет с
субъективным идеализмом.
2.3. Структура личности и проблема свободы
При том радикальном противопоставлении внутреннего мира
человека, длительности, с одной стороны, и пространственного
материального мира — с другой, которое осуществляет Бергсон, безусловно
главной задачей является детальное описание взаимодействия этих
двух сторон реальности. В полной мере эту задачу Бергсон выполнит
только в «Материи и памяти», однако в «Опыте о непосредственных
18 Там же. С. 98.
19Тамже.С96.
87
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
данных сознания» он не может совсем обойти ее, он рассматривает
самый понятный и простой ее элемент — описывает, как взаимодействие
с материальной реальностью изменяет наш внутренний мир, который
вынужден перестроиться по законам этой реальности.
Человек есть не только идеальное бытие, явленное во внутренней
(психической) сфере, но и бытие материальное, телесное,
принадлежащее к физическому, пространственному миру. Только в этом мире
осуществляется наше общение с другими людьми и выстраиваются
многообразные структуры социального бытия. Это означает, что все
смыслы, порождаемые в глубинах внутреннего мира, должны быть
транслированы в материальный мир и принять формы этого мира,
в том числе пространство, протяжение. Универсальным орудием, с
помощью которого осуществляется трансляция внутренних смыслов
нашего сознания в сферу материального мира и социального общения
людей, является язык, понятый как система материальных знаков,
комбинации которых и выражают указанные смыслы. Отдельные
элементы языка являются материальными объектами, они полностью
подобны многообразным предметам физической реальности и существуют
по ее законам. Это означает, что главные качества внутреннего мира —
слитное единство и становление в форме длительности — уже не
присутствуют в системе смыслов, которые несет язык, т. е. можно говорить
о радикальном искажении исходного содержания внутреннего мира
при его выражении в языке. Но это искажение неизбежно; более того,
мы практически всегда имеем дело именно с этими искаженными
формами, поскольку понимание другого человека и различного рода
социальных смыслов возможно только через них — ведь
непосредственно проникнуть во внутренний мир другого человека и пережить его
длительность мы не можем (по крайней мере, в первой своей книге
Бергсон не говорит о такого рода возможностях).
В результате практика социального общения, вся пронизанная
языковыми формами, заставляет каждого из нас выстраивать модель
собственной личности на основе смыслов, заданных языковыми
высказываниями, т. е. с использованием главной формы физической
реальности — однородного пространства. В случае языка пространство,
в котором осуществляется выстраивание отдельных материальных
структур для выражения смысла, является идеальным, абстрактным,
как и в случае с числом (см. выше), однако это не имеет существенного
значения: использование формы абстрактного пространства приводит
к разделению слитного единства личности на обособленные и
неизменные элементы, и этот процесс полностью подобен разделению
88
23. Структура личности и проблема свободы
материального бытия на обособленные и неизменные вещи в реальном
физическом пространстве. «Рассматриваемые сами по себе, —
утверждает Бергсон, — глубинные состояния сознания не имеют ничего
общего с количеством; они являются чистым качеством. Они настолько
сливаются между собой, что нельзя сказать, составляют ли они одно
или многие состояния. Их нельзя даже исследовать с этой точки зрения,
тотчас не искажая их. Длительность, порождаемая ими, есть
длительность, моменты которой не образуют числовой множественности;
охарактеризовать эти моменты, сказав, что они охватывают друг
друга, — значит уже их различить. <...> Но чем полнее осуществляются
условия социальной жизни, тем сильнее становится поток, выносящий
изнутри наружу наши переживания, которые тем самым мало-помалу
превращаются в вещи; они отделяются не только друг от друга, но и от
нас самих. Мы воспринимаем тогда их исключительно в однородной
среде, где отливаем их в застывшие образы, и сквозь призму слова,
придающего им привычную окраску. Так образуется второе "я",
покрывающее первое "я", существование которого слагается из раздельных
моментов, а состояния отрываются друг от друга и без труда
выражаются в словах»20.
Когда человек попадает в незнакомый город, каждая встречаемая
им ситуация воспринимается как новая и неповторимая. Эта
неповторимость каждого впечатления сохранится и в дальнейшем, но,
привыкнув ходить по улицам этого города, он будет говорить о похожести
этих улицу домов и прохожих, с помощью языка он отождествит
элементы своих неповторимых впечатлений, сведет их в общие понятия и
сделает однообразие основой своего постижения реальности.
Неповторимость впечатлений не исчезнет, но основанная на них картина
мира будет заслонена общими представлениями, использование
которых гораздо проще и эффективнее в смысле социальной значимости,
чем использование более близких к реальности, но не подчиняющихся
общим правилам первичных впечатлений.
Нетрудно понять, что каждый человек существует как бы на двух
принципиально разнородных уровнях — на глубинном уровне своего
подлинного «я», где все состояния, все реакции на мир целостны и
неповторимы, но именно поэтому они невыразимы в ясной языковой
форме, и на внешнем уровне, где выстраиваются отношения к миру
и себе подобным и господствует стандартная определенность и
расчлененность на отдельные ясные элементы благодаря тому, что все смыслы
Бергсон А. Опыт о непосредственных данныхсознания. С. 109.
89
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
фиксируются в языке. Соотношение этих уровней является важной
характеристикой личности. Если в человеке преобладает глубинный
уровень «я», то он является непредсказуемым, спонтанным и творчески
богатым в своих проявлениях; если же в «я» главным является внешний
уровень, если в нем господствует пространственная модель,
заимствованная из материальной реальности, он является стандартным,
закономерным и предсказуемым — как сама эта реальность.
Сформулированная двухуровневая модель «я» позволяет Бергсону
дать очень оригинальное решение проблемы психологического
детерминизма. Перенесение принципа детерминизма с природных явлений
на психическую сферу было совершенно естественным следствием
принятия классической психологией естественнонаучного (по сути,
механистического) метода. Психологический «атомизм»,
рассматривающий сознание как агрегат относительно независимых и неизменных
элементов, заключал в себе идею предсказуемого развития психической
жизни. Достаточно было установить точные законы связи неизменных
элементов сознания (главными из них полагались законы ассоциации),
чтобы можно было предсказывать последствия психических актов
и состояний, т. е. полагать человеческую психику столь же
детерминированной, как процессы в материальной природе.
Бергсон считает эту концепцию ложной, поскольку по своей сути
сознание цельно и не может быть представлено как набор независимых
«атомов»; однако, учитывая тот факт, что мы вынуждены транслировать
свои внутренние состояния в языковые формы и тем самым
представлять свое «я» в качестве системы статичных элементов, он
частично оправдывает психологический детерминизм. Последний
оказывается вполне законной концепцией применительно к тому внешнему
слою «я», который сформирован языком и социальным общением.
Поскольку в своем существовании каждый человек есть синтез
глубинного «я» и внешнего «я», его поведение определяется и тем и
другим, т. е. оно является соединением свободы и детерминизма.
Согласно Бергсону, мы можем поступать свободно, но можем быть
полностью детерминированы в своем поведении; возможно и
произвольное сочетание этих противоположных типов поведения, в
результате чего оказывается, что наша свобода допускает количественно
разные степени (!).
Свобода — это самое фундаментальное, основополагающее качество
человеческого «я», взятого в его подлинной сущности, поэтому Бергсон
определяет это качество очень просто: этим качеством обладает всё
то, что идет из глубины «я», из длительности, из цельной временной
90
2.3. Структура личности и проблема свободы
динамики личности. Свобода не требует никакого отдельного
определения по отношению к личности, взятой в ее собственном внутреннем
бытии, ведь это внутреннее бытие, как подробно разъяснялось выше,
противоположно по своим качествам закономерной материальной
реальности. На уровне своего глубинного «я» каждый из нас свободен
по самой сущности этого «я»; как пишет Бергсон, «свободное решение
исходит от всей души в ее целостности. Наши поступки тем более
свободны, чем больше динамическая группа переживаний, с которыми они
связаны, стремится отождествиться с нашим основным "я"»21.
Парадоксальность и неуловимость нашей свободы заключается как
раз том, что она не допускает никакого рационального определения
и объяснения, ведь всякое объяснение, как и любой рациональный акт
познания, имеет дискурсивную, понятийную и, значит, дискретную,
«пространственную» форму (конечно, здесь имеется в виду идеальное
«пространство» нашего понятийного мышления). Свобода
постигается нами интуитивно, в непосредственном акте самосознания, и только
в такой форме она и может быть «доказана»; как только человек
пытается дать свободе общезначимое обоснование, он приходит к ее
отрицанию. «Наше "я", непогрешимое в своих непосредственных
утверждениях, чувствует и объявляет себя свободным. Но как только оно
пытается объяснить себе свою свободу, оно видит себя как бы
преломленным сквозь призму пространства. Отсюда исходит механический
символизм, одинаково непригодный как для доказательства тезиса
о свободе воли, так и для его объяснения и опровержения»22.
Только потому, что каждый из нас живет не только «в глубине»,
но и «на поверхности», появляется возможность детерминированности
поведения. Символизируя свои состояния в виде обособленных
элементов, личность привыкает к этому вторичному образу до такой
степени, что этот образ часто заслоняет глубинное «я». Это и приводит
к детерминизму: поведение человека может в существенной степени
определяться именно этим «атомизированным» образом, а его
отдельные элементы будут закономерно предопределять различные поступки
человека.
«Итак, — подводит итог Бергсон, — существуют два различных "я",
одно из которых является как бы внешней проекцией другого, его
пространственным и, скажем так, социальным представлением. Мы
достигаем первого из них в углубленном размышлении, представляющем
21 Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. С. 123.
22 Там же. С. 129-130.
91
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
наши внутренние состояния как живые, непрерывно возникающие
существа, как взаимопроникающие состояния, не поддающиеся
никакому измерению, последовательность которых в длительности не
имеет ничего общего с рядоположностыо в однородном пространстве.
Но моменты, когда мы вновь постигаем самих себя, очень редки, и
поэтому мы редко бываем свободными. Большей частью мы существуем
как бы вне самих себя. Мы замечаем только обесцвеченный призрак
нашего "я", лишь тень его, которую чистая длительность отбрасывает
в однородное пространство. Наше существование развертывается
скорее в пространстве, чем во времени; мы живем больше для
внешнего мира, нежели для себя; больше говорим, чем мыслим; больше
подвергаемся действиям, чем действуем сами. Действовать свободно —
значит вновь овладевать самим собой, снова помещать себя в чистую
длительность»23.
Любопытно, что в рамках такой модели личности наличие или
отсутствие свободы в поступках никак не отражается на их моральном
качестве, здесь Бергсон снова возражает Канту. Поступок человека,
бросившегося в горящий дом и спасшего ребенка, мы безусловно
оценим очень высоко в моральном смысле, но эта оценка никак не связана
с тем, свободным или детерминированным он был. Этот поступок,
по Бергсону, может быть и абсолютно свободным, и абсолютно
детерминированным, всё зависит от соотношения глубинного и внешнего
уровней в личности действующего человека. Представим себе, что он
воспитан в строгих моральных правилах и в результате такого
воспитания создал социальный образ своей личности, в котором
представляет себя безусловно моральным, благородным, призванным помогать
ближним. Господство этих элементов (моральность, благородство,
готовность помочь и др.) в собственном образе, предъявляемым другим
и самому себе, с неизбежностью заставляет человека совершать одни
поступки (морально позитивные) и не совершать другие (негативные).
Даже если из глубины его подлинного «я» поднимается протест против
совершения опасного для жизни действия (свободный в своей
сущности!), именно признание в себе ясного и обособленного (!) качества
моральности заставляет такого человека все-таки совершить
героический поступок, который в этом случае является полностью
детерминированным (определенным указанным качеством).
Но можно представить себе и другое соотношение мотивов в
рассматриваемой ситуации. Могло быть так, что в системе ясных социаль-
Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. С. 151.
92
2 3. Структура личности и проблема свободы
ных представлений этого человека о себе и своем отношении к миру
победили чувство опасности и здравый смысл, доказывающий
невозможность оказать помощь. Но внезапно родившийся в глубине «я»
импульс заставил пренебречь этими ясными рациональными
представлениями и породил героический поступок. В этом случае мы
должны будем оценить этот поступок как свободный.
Поскольку моральная ценность поступка прямо не связана со
степенью свободы при его выполнении, оказывается, что свобода не
всегда нужна и полезна. Как утверждает Бергсон, в повседневной
жизни нам очень часто проще совершать поступки, следуя долгу и
подчиняясь предписаниям социального, «атомизированного» образа
собственной личности: «.. .большинство наших повседневных действий
совершаются именно так, что благодаря кристаллизации в нашей
памяти определенных ощущений, чувств, идей мы отвечаем на внешние
впечатления движениями, которые, будучи сознательными и даже
разумными, во многом напоминают рефлекторные акты»24. Бывает и
так, что человек сознательно переводит себя именно в такую,
детерминированную форму поведения, отстранив свое глубинное «я» с его
свободой, чтобы гарантировать эффективность сложной деятельности.
Каждый находится в такой ситуации, вставая рано утром по звонку
будильника и совершая автоматические действия ради заранее
заданного результата.
Тенденция к детерминированности поведения поддерживается
социальной средой, ведь предсказуемый и социально управляемый
человек является идеалом для любой социальной общности, как бы она
ни была организована. Это приводит к тому, что «атомизированная»
модель личности, ее внешняя, поверхностная форма существования,
согласованная с закономерностями материального мира и как бы
подстроенная под них, почти полностью заслоняет и подавляет глубинное
«я», с его временным становлением (длительностью) и подлинной
свободой. Огромное количество (если не подавляющее большинство)
людей во все эпохи проживало свою жизнь, даже не подозревая о сути
своего «я» и своей свободы. Более того, в некоторые эпохи философы
оправдывали это убеждение, доказывая, что человек является таким
же естественным объектом природы, как и все вещи вокруг, и так же
точно управляется природными законами. Так было в Античности,
когда человек рассматривался как естественная часть Космоса; это же
убеждение вдохновляло деятелей Просвещения, основывавших веру
Там же. С. 123.
93
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
в идеальное устройство общества на идее абсолютной предсказуемости
поведения человека; такое же представление стало нормой в различных
версиях позитивистской философии, признающей, что человека можно
полностью познать «научным» образом.
Но все-таки прогресс человеческой цивилизации и развитие
культуры возможны только благодаря людям, вполне осознавшим свою
внутреннюю свободу и способным совершать творческие акты,
исходящие из непредсказуемой и непознаваемой глубины их личности.
Таких людей очень мало в сравнении с теми, кто живет и действует
по модели механических автоматов, но только они оставляют свой след
в истории. Позже обозначенное здесь противопоставление двух типов
личности («закрытой» и «открытой») станет важным элементом
объяснения общества и его развития в последней книге Бергсона «Два
источника морали и религии» (см. главу 5).
Учитывая популярность «атомистического» и «механистического»
объяснения человека, его очевидное преобладание и в обыденном
сознании, и в господствующих философских направлениях XIX века,
нетрудно понять, почему свою первую большую работу Бергсон
полностью посвящает доказательству особого характера внутреннего бытия
личности, невозможности описать это бытие в рамках тех форм
и законов, которые мы применяем к материальному миру, природе.
Он доказывает, что главной формой познания мира является про-,
странство — всё остальное в природном бытии выводится из этой
формы и обосновывается ею. Именно пространство обеспечивает
возможность точной фиксации множественности в явлениях, т. е.
точный счет и количественное измерение всех характеристик и
параметров, из чего вытекает идея закономерной связи характеристик
и явлений, идея всеобщей природной закономерности, которой
подчинены абсолютно все явления.
Об идее измерения следует сказать особо, ведь ей Бергсон
посвящает всю первую главу книги «Опыт о непосредственных данных сознания».
Значение этой темы вполне понятно, поскольку именно способность
измерять характеристики любых явлений и на основе этого
устанавливать законы и предсказывать будущее наука выставляет главным
признаком своего универсального значения, своего «могущества» в сфере
познания. Измерение, хотя оно и основано на числе, кажется иным по
своей сущности, чем счет и число, ведь число — абстрактно, является
результатом работы нашего сознания, а измерение выглядит предельно
конкретной процедурой, полностью укорененной в эмпирической
действительности. Однако Бергсон показывает, что процедура измере-
94
2.3. Структура личности и проблема свободы
ния, точно так же как и абстрактная идея числа, применима только
к тем явлениям, которые можно рассматривать в пространстве. Число
фиксирует множество предметов, расположенных в пространстве,
а процедура измерения, в ее самом общем смысле, определяет меру
самого пространства. Измерение пространства сводится к измерению
соотношения одной его части (выбранной в качестве эталона длины)
с другими его частями. В свою очередь, измеряя длину какого-то тела,
мы измеряем пространство, занимаемое этим телом.
Хотя ученые измеряют много разных характеристик материальных
явлений, наука в своем естественном развитии однозначно доказала,
что все эти процедуры сводятся в конечном счете к измерению частей
пространства. Вся сложность конкретной процедуры измерения и
заключается в необходимости сконструировать процесс, с помощью
которого интенсивная характеристика предметов или явлений, т. е.
характеристика, буквально не «распростертая» в пространстве,
закономерно сводится к некоторой пространственной протяженности.
Наиболее наглядно это видно на примере измерения температуры тела.
Температура — это типичная интенсивная величина, заданная в одной
точке (строго говоря, в маленьком объеме тела), но измеряем мы ее
с помощью термометра, в котором температура «развертывается»
в пространстве и превращается по строгому закону в длину столбика
ртути, спирта или воды, в зависимости от типа термометра. То же
самое справедливо в отношении процедур измерения всех других
физических параметров тел, буквально не связанных с пространством:
массы, давления, плотности, тепловой и химической энергии и т. д.
Отдельно нужно сказать о процедуре измерения промежутков
времени: она также основана на сведении времени к пространству. Все
традиционные часы в качестве главного своего элемента содержат
особую пространственную шкалу, вдоль которой происходит
перемещение некоторых материальных объектов (их движение и есть
пространственная «модель» времени) и на которой делаются периодические
отметки, соответствующие разным моментам времени. Особенно
наглядна эта процедура в механических часах со стрелками: здесь
промежуток времени определяется длиной реального
пространственного пути, пройденного стрелками в своем круговом движении по
циферблату. В современных атомных часах эта связь времени с
пространством, казалось бы, была разорвана, поскольку в них время
определяется на основании подсчета числа атомов, испытавших
преобразование в процессе радиоактивного распада. Однако,
учитывая анализ понятия числа, который провел Бергсон, можно сделать
95
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
заключение, что и в этом случае время сводится к пространству,
но только более сложным способом — через понятия числа, счета.
Бергсон использует эти выводы для демонстрации невозможности
применять процедуры измерения к явлениям психической жизни, т. е.
к внутреннему миру личности как таковому, который он мыслит
полностью противоположным физической реальности. Внутренний мир не
находится в пространстве и никаким образом не может быть соединен
с формой пространства (даже абстрактного), у нас нет способа
посчитать количество отдельных (психических) явлений и соотнести их друг
с другом в количественном смысле, т. е. ввести некоторую
пространственную шкалу, на которой можно закономерно отмечать
различные «интенсивности» психических состояний. Этот вывод подробно
обосновывается Бергсоном во второй главе своей книги, однако он
уделяет большое внимание этой проблеме и в первой главе, для того
чтобы объяснить, почему же мы, в явном противоречии с этой истиной,
постоянно пытаемся сравнивать «силу» психических состояний и тем
самым исходим из убеждения, что способны интуитивно «измерять»
их. Любой из нас считает естественным говорить о нарастании силы
любви или ненависти, радости или печали, подразумевая в каждом
случае именно внутреннее психическое состояние личности. Как пишет
Бергсон, «нам кажется очевидным, что мы испытываем более
интенсивную боль, когда удаляют зуб, чем когда у нас вырывают волосы.
Художник знает, что картина известного мастера ему доставляет
большее удовольствие, чем вывеска магазина»25. Отталкиваясь именно
от этого убеждения обыденного сознания, научная психология
пытается выработать строгие процедуры измерения психических состояний,
полностью аналогичные процедурам измерения физических параметров
объектов.
Бергсон показывает истоки этой иллюзии. Она связана с двумя очень
разными факторами. Первый заключается в том, что всякое психическое
состояние, будучи включено в целостность психической жизни,
способно перестраивать ее и окрашивать своим колоритом все остальные
состояния, способно становиться центром сознания, подчинять себе
всё в нем. Универсальным примером такого процесса выступает
превращение «смутного желания» в «глубокую страсть»; Бергсон так
описывает это превращение, сопровождающееся перестройкой всего
внутреннего мира личности: «...слабая интенсивность этого желания
сначала состояла в том, что оно казалось вам изолированным и как бы
Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. С. 53.
96
2.3. Структура личности и проблема свободы
чуждым всей остальной части вашей внутренней жизни. Но мало-
помалу оно проникало в большее число психических элементов и
окрашивало их, так сказать, в свой собственный цвет. И вот вам кажется,
что ваша точка зрения на все окружающее изменилась. Разве не верно,
что когда вы охвачены глубокой страстью, то предметы уже не
производят на вас прежнего впечатления? Вы чувствуете, что все ваши
ощущения и представления посвежели и вы словно переживаете второе
детство»26.
Наш рассудок в рамках принятых для него методов пытается
описать указанную перестройку сознания как количественный процесс,
в котором родившееся новое чувство охватывает все большее и
большее число элементов, постепенно распространяясь на целое. Однако
Бергсон не признает такое описание адекватным и вместе с ним
отрицает возможность количественной шкалы для этого процесса.
Ведь в сознании отдельные его слагаемые не выделены и не
обособленны друг от друга, поэтому распространение нового чувства нельзя
уложить в количественную модель увеличения числа элементов,
подчиненных чувству. Здесь можно говорить только об изменение качества
всей внутренней психической жизни, в которой действует новое
чувство.
Второй фактор, подталкивающий к количественным оценкам
процессов изменения психических состояний, заключается в том, что
всякое психическое, идеальное состояние сопровождается
определенным телесным проявлением, т. е. буквально мускульным напряжением
в теле. Здесь принципиальное значение имеет неустранимая
двойственность природы человека, его принадлежность материальному миру,
в котором каждое явление внутреннего мира личности имеет
определенный коррелят. Имея в виду наиболее распространенные и
известные сильные эмоции — острое желание, яростный гнев, страстную
любовь, бешеную ненависть, — Бергсон утверждает, что «интенсивность
этих сильных эмоций есть не что иное, как сопровождающее их
мускульное напряжение»27.
Все материальные явления являются измеримыми, и практика нашей
повседневной жизни вырабатывает в нас способность мгновенного
интуитивного определения степени и силы соответствующего
телесного (мускульного) явления. Хотя в сочетании психического состояния
и мускульного усилия первое господствует и полностью заслоняет
Там же. С. 54.
Там же. С. 63.
97
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
своего материального двойника, именно последний незаметно вносит
количественный аспект в оценку психического явления. Особенно
просто этот механизм замещения «качества» «количеством» выглядит
в тех случаях, когда внутреннее, психическое состояние есть реакция
на явления внешнего мира (это прежде всего ощущения). Поскольку
такие случая являются наиболее понятными и привычными для нашей
жизни, именно они задают общую модель оценки психических явлений.
Пример этого дает процесс усиления боли. Слабая боль всегда точно
локализована, поскольку она порождает мускульную реакцию в очень
небольшой области тела; по мере нарастания боли она «расплывается»,
переносится на все более и более обширные участки; это означает, что
мускульная реакция охватывает все больший объем тела. Именно это
расширение и дает нам основание говорить о количественном
увеличении боли, хотя, по Бергсону, если мы возьмем само психическое
ощущение боли, отделенное от мускульной реакции тела, то мы
должны будем признать, что в каждый момент оно является качественно
другим, но его невозможно количественно сопоставить с
предшествующими ощущениями.
Еще один наглядный пример искусственного внесения в психические
состояния количественных отношений, характерных для физической
реальности, дает процесс «усиления» чувства тепла при приближении
к источнику огня. Бергсон настаивает, что и в этом случае сами
ощущения являются качественно определенными, но несравнимыми
количественно. Однако из каждодневной практики (так же, как и из учебника
физики) мы знаем, что при приближении к источнику тепла его поток,
направленный на окружающие объекты, увеличивается в соответствии
с определенной количественной закономерностью, и именно это знание,
накладываясь на последовательность разных ощущений тепла,
придает им видимость количественного «усиления». «Так как мы больше
говорим, чем мыслим, — подводит итог Бергсон, — а окружающие нас
внешние предметы имеют для нас большее значение, чем наше
субъективное состояние, то в наших интересах объективировать эти состояния
и вводить в них так широко, как это возможно, представления об их
внешней причине. И по мере роста нашего знания мы всё больше
и больше замечаем за интенсивным экстенсивное, за качеством
количество, всё больше пытаемся ввести количество в качество и трактовать
наши ощущения как величины. Физика, роль которой состоит в том,
чтобы подвергнуть исчислению внешнюю причину наших внутренних
состояний, менее всего занимается самими этими состояниями: она их
всегда сознательно смешивает с их причиной. А значит, она поддержи-
98
2.3. Структура личности и проблема свободы
вает и усиливает эту иллюзию здравого смысла. Должен был настать
момент, когда наука, привыкшая смешивать количество с качеством
и ощущение с раздражением, начала измерять первые теми же
приемами, что и последние <...>»28.
Согласно Бергсону, психические состояния, явления внутреннего
мира, не обладают количественной мерой, их нельзя измерять и
соотносить в количественном смысле; им можно приписать только
абсолютную качественную разнородность: каждое имеет свою
качественную определенность и этим полностью отличается от другого, столь
же качественно определенного явления. Но при этом надо помнить,
что, сколь бы разнородными ни были эти явления, они находятся
в неразрывном единстве, в «слитности» и целостности внутреннего
мира.
Рассуждения Бергсона, доказывающие невозможность
количественных оценок психических явлений, выглядят логичными и
убедительными, однако против них все-таки можно выдвинуть один контраргумент.
Напомним, что он говорил о двух факторах, способствующих внесению
количественных представлений в оценку психических состояний. Его
анализ второго фактора, связанного с внедрением в наши оценки
знания о материальных коррелятах (причинах или следствиях) психических
состояний, является безупречным и не может быть поставлен под
сомнение. Но вот рассуждения, касающиеся действия первого фактора,
не являются достаточно однозначными и доказательными. Здесь речь
идет о внутреннем процессе перестройки «структуры» сознания,
психической сферы, который заканчивается подчинением всей этой сферы
отдельному чувству или аффекту и которые именно поэтому
признаются нашим рассудком количественно возрастающими в своей
интенсивности. Бергсон считает, что количественная оценка в данном случае
привносится искусственно из материального мира, а не задается
структурой самого процесса, но можно ли признать этот вывод верным? Ведь
процесс преобразования сознания действительно предстает как
постепенное усиление господства нового чувства, заканчивающееся
превращением этого чувства в главное качество, охватывающее всё
содержание внутреннего мира. Даже если здесь невозможно говорить
о точном количественном описании, это «усиление влияния» является
не чисто качественной разнородностью состояний, а именно процессом
нарастания, направленного изменения, т. е. подразумевает некий
неопределенный количественный рост.
Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. С. 80.
99
Глава 2. Человеческое сознание и его «законы»
Это возражение против непреклонного мнения Бергсона о
неприменимости количественных характеристик к психическим состояниям
представляется вполне обоснованным еще и потому, что в следующей
своей книге, в «Материи и памяти», он признает возможность
применения неопределенной характеристики пространства (протяжения)
к совокупности психических явлений (подробнее см. в разделе 3.3) —
т. е. явно смягчит свою позицию, выраженную в «Опыте о
непосредственных данных сознания» по поводу принципиального различия
физической реальности и внутреннего мира личности.
Но все-таки в первой книге ему важно было осуществить
однозначное разграничение двух форм бытия, поэтому он игнорирует
аргументы против такого однозначного разграничения. Главным итогом
работы «Опыт о непосредственных данных сознания» стало описание
внутреннего мира человека в его резкой противопоставленности
материальному миру. Внутренний мир обладает неразложимой цельностью
и непрерывно длится, свободно порождая из себя все новые и новые
состояния, которые качественно отличаются друг от друга и не
поддаются количественной оценке. Внешний мир распростерт в
пространстве, и именно поэтому все его элементы существуют независимо друг
от друга, они легко сопоставимы в однородном пространстве и
поэтому обладают количественной характеристикой. При этом каждое
состояние мира в целом самодостаточно и никак не связано с предшет
ствующими и последующими состояниями, поэтому в строгом смысле
он не обладает временной характеристикой, а существует в вечном
«теперь».
Выраженная в книге Бергсона в таком общем виде, основная схема
соотношения внутреннего мира личности и внешнего мира физической
реальности не является абсолютно беспрецедентной. Можно заметить,
что она очень похожа на центральную метафизическую схему
философии Шопенгауэра, который очень похожим образом понимал
соотношение целостной сущности мира (воли) и
пространственно-временного мира; об этом мы будем подробнее говорить в следующей главе.
Бергсон понимал необходимость более детального объяснения
взаимодействия между двумя «мирами» — внешним, разделенным,
и внутренним, единым, но из этой сложной задачи он в первой книге
рассмотрел только самый простой аспект — выяснил, как
взаимодействие с материальным миром искажает внутренний мир личности,
вводит в него разделение, количественную определенность,
закономерность и детерминированность. В результате он пришел к выводу,
что личность существует на двух очень разных уровнях — на поверх-
100
2.3. Структура личности и проблема свободы
ностном, в виде внешнего, социального «я», выстроенного по
законам пространственного мира, и на внутреннем, в виде глубинного
«я», не подчиненного никакой закономерности и поэтому
невыразимого, но именно поэтому абсолютно свободного. Таким образом,
наряду с обоснованием противоположности личности и мира
Бергсон доказывает наличие существенного разделения внутри самой
личности.
Однако философия должна мыслить всё бытие, разделенное на
личности и мир, единым, точно так же необходимо представлять единой
личность каждого человека; Бергсон обосновывает оба этих единства
в следующей книге — «Материя и память» (1896). Если в первой книге
доказывалась самостоятельность бытия личности, ее неподчиненность
пространственной определенности мира, то во второй Бергсон идет
гораздо дальше и доказывает, что на деле мир и личность все-таки
едины, но не потому, что мир включает в себя личность и господствует
над ней, а наоборот, потому, что внутреннее бытие личности есть
главное измерение всего бытия, и этому измерению подчинена его частная
форма — бытие мира.
Глава 3
«МАТЕРИЯ И ПАМЯТЬ»
3.1. Человеческое восприятие и статус
материального мира
В предисловии к своему главному труду, книге «Материя и память»,
Бергсон формулирует задачу, которую предполагает выполнить:
проанализировать взаимодействие духа и тела в человеческой личности
и через описание этого конкретного отношения решить также
известнейшую проблему философии о соотношении духа и материи как
таковых. Уже здесь видна новизна используемой Бергсоном методологии.
Ту проблему, которая на протяжении всей истории философии
рассматривалась как наиболее общая и важная, он считает возможным
свести к частной задаче, имеющей в виду дух и тело отдельной
личности. Это можно считать одним из свидетельств принадлежности
Бергсона к неклассической философии, представители которой очень,
негативно относились к общим построениям и придавали особую
ценность качеству конкретности как в отношении бытия, так и в
отношении знания.
При этом Бергсон оригинально сочетает методы традиционной
метафизики, для которой проблема соотношения духа и материи была
одной из основных, и характерные для новой эпохи научные методы
исследования человека и его психики, на первый взгляд несовместимые
с метафизическим рассмотрением. Итогом такого необычного
сочетания подходов становится метафизика нового типа, построенная
на существенно иных принципах по отношению к тем, которые были
характерны для нее в прошлом. Бергсон начинает с того, что прямо
отрицает два наиболее популярных варианта решения поставленной
им проблемы — субъективный идеализм и материалистический
реализм. В рассуждениях Бергсона эти противоположные философские
направления удивительным образом сближаются — в том смысле, что
они в равной степени не соответствуют нашему интуитивному
убеждению о присутствии в нашем чувственном опыте самой объективной
реальности, материи. В первом из них материя вообще исчезает, по-
102
3.1. Человеческое восприятие и статус материального мира
скольку все предметы сводятся к системам идеальных представлений,
существующих только в сознании; во втором материя признается
субстратом всего существующего, но в ней на основе теории первичных
и вторичных качеств, сформулированной Локком и Беркли,
противопоставляются сущность и явление, и это означает, что данный нам
в непосредственном чувственном восприятии мир признается только
субъективной «видимостью» (точно так же, как в субъективном
идеализме!), за которой якобы находится невоспринимаемая «подлинная»
реальность, обладающая только качествами протяжения, плотности
и действия.
Резко противопоставляя свою философскую позицию указанным
направлениям, Бергсон называет ее дуализмом, в том смысле, что в ней
доказывается равная реальность и материи, и духа, в их несводимости
друг к другу. Это утверждение невозможно признать достаточно точным,
ведь философский дуализм в истории всегда постулировал абсолютную
самостоятельность материи по отношению к духу, как это имело место,
например, в теории двух субстанций Декарта. Как мы увидим ниже,
Бергсон в конце концов все-таки «выводит» материю из духа, поэтому
полного равноправия духа и материи в его философии нет.
Более важно в позиции Бергсона то, что он отказывается различать
в материи явление и скрытую сущность; в материи все ее формы
и свойства непосредственно открыты нашим чувствам, она ровно такая,
какой ее представляет нам чувственное восприятие. Имея в виду такое
понимание материи, Бергсон называет отдельные элементы
материального мира «образами», которые «есть нечто большее, чем то, что
идеалист называет представлением, но меньшее, чем тс, что реалист
называет вещью — вид сущего, расположенный на полпути между
"вещью" и "представлением"»1. В таком понимании реальности видно
влияние позитивистской философии, которая через абсолютизацию
непосредственного опыта (непосредственной данности всех явлений)
пыталась избавиться от «скрытой сущности» вещей и дать
окончательное обоснование научному познанию. Тот факт, что эта идея является
важным достижением позитивизма, отмечали многие мыслители той
эпохи, даже очень критично настроенные по отношению к этому
философскому направлению. Например, об этом писал Вл. Соловьев
в своей первой крупной работе «Кризис западной философии (против
позитивистов)». Отрицая общее значение позитивизма, Соловьев тем
не менее признавал, что «философская мысль в моменте позитивизма
1 Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 160.
103
Глава 3. «Материя и память»
пришла к <.. .> несомненным и великой важности результатам»2;
главным из таких результатов как раз и является обоснование всей полноты
рационального познания через идею непосредственного «внешнего
опыта», за которым не нужно полагать никаких метафизических
«конструкций». Из этого позитивисты (Соловьев имеет в виду О. Конта)
выводили второй важный результат — констатацию того, что вне
опыта все-таки существует подлинная реальность, которую они
признавали абсолютно непознаваемой именно потому, что по отношению
к ней неприменимы все традиционные методы рационального
познания. В этом пункте Соловьев решительно разошелся с позитивизмом;
соглашаясь с неприменимостью рационального метода познания
к подлинной реальности (к Абсолюту), он доказывал, что она все-таки
постигается в особом «внутреннем опыте», который отличается и
от обычного чувственного опыта, и от всех форм рационального
знания, имея характер непосредственной интуиции, обращенной внутрь
личности.
Соловьев в своих размышлениях указывал на Шопенгауэра как
на мыслителя, открывшего новый путь для обоснования знания на
основе новой метафизики. Это очень верная и важная констатация:
философия Шопенгауэра сыграла огромную роль в становлении идей,
характерных для неклассической философии, она стала важным
источником и для Бергсона (об этом уже говорилось ранее). Шопенгауэр-,
подобно позитивистам, критиковал классическую философию за явно
неудовлетворительную метафизическую модель реальности: полагая
Абсолют отделенным от предметного мира (мира представления
у Канта и его наследников), классическая философия утверждала, что
Абсолют порождает этот мир по законам причинной связи, которая,
как доказал Кант, имеет смысл только внутри этого мира! Шопенгауэр
изменил исходную метафизическую модель: отношение Абсолюта
и мира должны быть поняты не по закону достаточного основания
(частным случаем которого является причинность), но по закону
тождества — Абсолют тождествен предметному миру, хотя в то же время
отличен от него. Разъясняя это парадоксальное отношение, он называл
мир «объективацией» Абсолюта, т. е. понимал его как акт «явленности»
целостного и единого Абсолюта («явленности» в себе самом!) в качестве
разделенного и множественного, под формами пространства и времени.
Все вещи и явления мира, по Шопенгауэру, имеют две стороны в своем
2 Соловьев В. С. Кризис западной философии (против позитивистов) //
Соловьев В. С. Соч. В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 44.
104
3.1. Человеческое восприятие и статус материального мира
бытии — абсолютно нераздельные, подобные двум сторонам листа
бумаги — явленную пространственно-временную предметность и
скрытую сущность, лишенную пространственной и временной
характеристик и поэтому единую для всех вещей и явлений. Эта последняя
и есть Абсолют, наиболее адекватно мы его открываем в интуитивном
постижении собственной личности, точнее в той ее стороне, которая
носит название воли.
Отождествление Абсолюта именно с волей личности кажется
не очень логичным, Соловьев справедливо критиковал Шопенгауэра
за это и предложил свой вариант той же идеи, безусловно более
последовательный: Абсолют оказывается доступным человеку в
интуитивном акте постижения собственной личности во всей целостности
ее внутренней сущности, — то, что мы схватываем здесь, конечно,
резко отличается от «внешнего» образа личности как материально-
телесного и социального существа. Так понятую главную тенденцию
новой метафизики можно без труда обнаружить в философии
Бергсона, в этом он является естественным наследником великих
родоначальников неклассической философии — А. Шопенгауэра и Ф. Ницше
(можно было бы добавить в этот ряд Ф. Достоевского, но это требует
отдельного разговора; см. главу 6).
Может показаться, что в указанной тенденции нет ничего особенно
новаторского, ведь, как уже отмечалось, в истории европейской
философии можно найти и другие примеры понимания человеческой
личности как метафизического Абсолюта, определяющего всё
существующее. В этом, в частности, состоял тот «коперниканский переворот»,
который совершил в новоевропейской философии Кант. Однако в
построениях неклассической философии произошел гораздо более
радикальный сдвиг в оценке человека: Кант не мог дойти до того, чтобы
утверждать абсолютность конкретно-эмпирической личности, в его
философии абсолютен «ноуменальный» человек, или, точнее,
«ноуменальное измерение» в каждом человеке, а оно для каждого из нас
является чем-то запредельным и неясным. Напротив, Шопенгауэр и Ницше
в качестве абсолютного начала бытия полагают то, что понятно
каждому из нас и может быть легко обнаружено в интуитивном постижении
себя — волю (у Шопенгауэра) и жизнь (у Ницше).
Бергсон идет еще дальше по этому пути, как мы увидим, в его
философии личность каждого человека во всей ее внутренней полноте, в ее
конкретном духовном бытии, оказывается связанной со всем
мирозданием, именно она определяет связность и цельность мироздания;
это и означает, что личность можно рассматривать как Абсолют,
105
Глава 3. «Материя и память»
в новом, неклассическом смысле этого понятия. При этом Бергсон, как
и Кант, противопоставляет внешний облик человека и его внутреннюю
сущность, последняя оказывается вполне постижимой для самого
человека, хотя и с помощью совершенно иных методов, чем методы
рационального познания. Собственно говоря, именно это было
результатом книги «Опыт о непосредственных данных сознания»: внутренняя
сущность человека, обладающая качествами неразложимой цельности
и становления (длительности), была признана в метафизическом
смысле более фундаментальной, чем пространственно-временной
материальный мир. Теперь, в новой книге, Бергсон ставит целью «вывести»
мир из той духовной «субстанции», которая была обнаружена им
в человеке.
Философские концепции, доказывающие первичность человека по
отношению к миру, конечно, не были популярны в кругу
ученых-естественников; наоборот, наука в своем развитии вплоть до начала XX века
всё в большей степени признавала зависимость человека от природы
и ее законов. На этом фоне Бергсон предпринимает поистине
героическую попытку сделать принцип метафизической первичности человека
доступным именно для научного сообщества, поэтому он пытается
обосновать его с помощью аргументов, понятных любому ученому-
естественнику, хотя и несколько непривычных в философском
сочинении, каковым является «Материя и память».
Вернемся к исходному принципу этой книги, дающему определение
мира как совокупности «образов». Приняв это определение, Бергсон
все-таки различает материальный мир как таковой и тот мир, который
предстает человеку в его непосредственном восприятии. Здесь важным
оказывается различие между «образом» и «восприятием», последнее
оказывается более частным понятием, чем первое: «восприятие» — это
то, что непосредственно дано здесь и сейчас, а «образ» — это то, что
имеет возможность стать восприятием при определенных условиях.
Материальный мир как таковой есть совокупность всех «образов», мир
непосредственного восприятия также есть совокупность «образов»,
но более бедная и ограниченная совокупность, чем мир как таковой,
поскольку он состоит только из тех «образов», которые стали
наличными восприятиями.
Анализируя это различие, можно заключить, что Бергсон частично
возвращается к отвергнутому им ранее противопоставлению двух
уровней существования материального мира (явление и сущность),
теперь оно обусловлено различием между существованием в
ограниченной форме, данной непосредственному восприятию, и «полным»
106
3.1. Человеческое восприятие и статус материального мира
существованием, не совсем явленным в непосредственной чувственной
форме. В самом мире это различие определено за счет разных форм
взаимодействия «образов». Мир нашего непосредственного
восприятия задается весьма ограниченной сферой взаимодействия «образов»
с одним выделенным «образом» — человеческим телом, в то время как
материальный мир в его полноте характеризуется бесконечной
системой взаимодействий каждого «образа» с каждым другим. В связи
с этим Бергсон пишет: «...я называю материей совокупность образов,
а восприятием материи те же самые образы в их отношении к
возможному действию одного определенного образа, моего телг»ъ. И далее он
подчеркивает, что материя «как таковая» богаче нашего восприятия
именно из-за бесконечной полноты системы взаимосвязей между
«образами» (отдельными элементами материи): «образ» в его полном
существовании отличает «необходимость действовать каждой из
своих точек на все точки других образов, противопоставлять каждому
внешнему воздействию равное и противоположно направленное
противодействие, одним словом, необходимость быть проводником
всевозможных изменений, распространяющихся в бесконечности
вселенной»4. Понятно, что представление о бесконечном воздействии,
которое здесь имеется в виду, не может иметь характер
непосредственного восприятия и не дано нам в чувственном опыте. Однако Бергсон
настаивает, что такое представление не является чистой «фантазией»,
оно необходимо для объяснения всей системы нашего знания о мире.
Ведь мир непосредственного восприятия — это мир настоящего, и мы
никогда не могли поставить его в связь с прошлым и дать связную
картину мирового развития, позволяющую предсказывать будущее,
если бы наряду с этим миром непосредственного восприятия нам не
был бы каким-то образом дан и его «контекст», объемлющее его целое,
т. е. материальный мир в его полноте. «Только при этом условии
возможно познание вселенной, а так как это познание существует, так как
научному знанию удается предвидеть будущее, то гипотеза, лежащая
в его основе, не может считаться произвольной»5.
Принятие этой гипотезы — существование материального мира
как такового — порождает важную задачу — объяснить, как «образы»
из своей непроявленной, как бы полной и объективной формы
переходят в наше чувственное восприятие, становятся «субъективными».
3 Бергсон А. Материя и память. С. 169.
4 Там же. С. 179.
5 Там же. С. 172.
107
Глава 3. «Материя и память»
В этой части построений Бергсона очень важное значение имеет
критика характерного для психологии его времени представления о том, что
в формировании восприятия главную роль играет нейрофизиологическая
деятельность мозга, который ученые рассматривали как нечто подобное
фотоаппарату, копирующему объективную действительность в виде
идеальных образов-дубликатов. Для того чтобы показать нелепость этой
модели, Бергсон совмещает метафизический подход к проблеме с
естественнонаучным, он предлагает взглянуть на основные этапы эволюции
живых организмов и оценить смысл происходящих в структуре нервной
системы изменений; ведь человеческий мозг как материальный,
биологический объект похож по своей структуре и функциям на спинной
мозг живых организмов и возникает, согласно общепринятым научным
представлениям, в естественном эволюционном процессе усложнения
реакций живых организмов на воздействие среды.
Рассмотрение всего процесса эволюции жизни ведет к пониманию
того, что человеческое восприятие нельзя интерпретировать как некую
форму «теоретического» постижения мира. Оно является одним из
аспектов сложной реакции на мир, свойственной всем живым
организмам, начиная от самых примитивных их форм; именно анализ
деятельных оснований восприятия помогает понять его суть. Простейшие
организмы обладают раздражимостью, которая и является отдаленным
прообразом восприятия. Суть раздражимости в том, что организм,
восприняв внешнее воздействие, тут же осуществляет реакцию на него,
поэтому «восприятие» в этой элементарной форме не может
сохраниться (т. е. стать собственно восприятием, каким мы его знаем), оно тут
же реализуется в движении, в ответном действии.
По мере совершенствования живых организмов появляется и
развивается нервная система. При этом происходит существенное
усложнение исходной модели «восприятия» (в форме раздражимости), но ее
принципиальная суть не изменяется. Благодаря усложнению нервной
системы и органов чувств прежде всего увеличивается
пространственная дистанция между организмом и теми объектами внешней среды,
от которых можно получить воздействие. Это приводит к появлению
временного зазора между внешним воздействием и реакцией:
пространственная дистанция делает угрозу, связанную с объектом, не столь
моментальной, позволяет подготовиться к ней. Таким образом в ходе
эволюции реакция организма отодвигается во времени от
испытанного воздействия и становится более разнообразной, многовариантной.
Однако само однозначное и строго закономерное соотношение
стимула и реакции не изменяется.
108
3.1. Человеческое восприятие и статус материального мира
И вот, наконец, последняя стадия развития — появление
человеческого мозга. Что здесь происходит? Как утверждает Бергсон, ничего
принципиально нового и радикального. Сенсорные клетки головного
мозга, которые физиологи считают связанными с формированием
восприятия, расположены между конечными разветвлениями
центростремительных волокон, отвечающих за передачу возбуждений,
порожденных внешним воздействием на органы чувств, и двигательными
клетками, отвечающими за осуществление мускульных реакций,
телесных движений. Тем самым головной мозг, как и спинной, обеспечивает
переход внешних воздействий в реакции на них; никаких «образов
вещей», как утверждают традиционные теории восприятия, он породить
не может. «Спинной мозг превращает возбуждения, которым он
подвергается, во вполне законченные движения; головной мозг
продолжает их, превращая в зарождающиеся реакции, но и в том и в другом
случае роль нервной материи состоит в том, чтобы проводить,
опосредовать или тормозить движения между ними»6.
Отличие головного мозга от спинного только в том, что здесь
появляется, как пишет Бергсон, некая индетерминация. Спинной мозг не
может выбирать, он передает импульс от органов чувств к моторному
механизму и порождает реакцию. А вот головной мозг может либо
передать, либо не передать импульс; это происходит из-за того, что
в головном мозгу импульс порождает не одну строго определенную
реакцию, а множество разных и из-за этого жесткая связь стимула и
реакции как бы размывается, рассеивается во множестве
зарождающихся, но не выполняемых (виртуальных) движений. Получается, что
появление головного мозга у самых сложных живых существ ничего
принципиально не добавляет к сложившейся в ходе эволюции схеме
реакции на внешние воздействия. Скорее наоборот, здесь кое-что
утрачивается: исчезает жесткая замкнутость «восприятия» (внешнего
стимула) на действие. Но именно это и позволяет, утверждает Бергсон,
восприятию стать таким, каким мы его знаем в нашем опыте, —
«теоретическим» познанием реальности, а не одним из звеньев в цепочке
стимул-нервная система-реакция.
Здесь Бергсон делает одну необходимую оговорку: он подчеркивает,
что на этом этапе исследования объяснение восприятия не является
полным и окончательным. На самом деле восприятие не является
одномоментным, оно обладает временной длительностью, а это означает,
что в его формировании участвует память. В своей итоговой форме
6 Бергсон А. Материя и память. С. 170-171.
109
Глава 3. «Материя и память»
восприятие — это сложный синтез собственно мгновенного восприятия
и его модификаций в памяти. Упрощая ситуацию, Бергсон предлагает
первоначально рассмотреть восприятие как мгновенный акт, без
временной глубины. Уже затем полученная упрощенная модель может быть
сделана более адекватной за счет рассмотрения роли памяти.
Возьмем простейшую ситуацию: некоторый световой источник —
световая точка Ρ — воздействует на сетчатку глаза и порождает
восприятие. Как оно формируется? В организме животного возбуждение,
вызванное светящейся точкой и порожденное зрительным нервом,
дошло бы до спинного мозга и породило определенную реакцию —
например, животное повернуло бы голову, чтобы светящая точка не
беспокоила его; таким образом, стандартная работа механизма
«стимул-нервная система-реакция» привела бы к исчезновению
беспокоящего воздействия из «жизненного мира» живого существа. В
человеке все происходит по-другому: возбуждение, пройдя через
спинной мозг, доходит до головного, но здесь вместо того, чтобы
возвратиться к периферии и реализоваться в движении, оно рассеивается в
массе виртуальных, только зарождающихся движений, т. е. не
заканчивается так, как заканчивается любое возбуждение у животных. Это
приводит к тому, что светящаяся точка Ρ не исчезает, а оказывается
выделенной на фоне всей остальной реальности, она как бы входит
в структуру жизненного опыта человека и именно благодаря этому
получает статус восприятия. Те элементы реальности, воздействие
от которых завершается стандартной, обычной для всего живого
реакцией, в силу этого «исчезают», перестают существовать для организма
(в том числе для человека), они больше не представляют интереса; но тот
элемент, который породил нервное возбуждение без естественного
завершения в виде двигательной реакции, как бы продолжает
«тревожить», «беспокоить» организм своим существованием, это и означает,
что он входит в состав телесной стороны личности, т. е. постоянно и
прямо влияет на ее жизнедеятельность; именно это мы называем
(получается, что не вполне правильно) присутствием этого элемента «в
сознании» в форме восприятия. Описанный механизм Бергсон называет
«индетерминацией воления» (действия), его и реализует головной мозг
своей нейрофизиологической деятельностью. Но при этом он не
порождает ничего нового, никакой «копии» реальности, никакого
субъективного образа. Результатом деятельности мозга является различение
внутри самой реальности отдельного объекта («образа»), вычленение
его на фоне других и интеграция в жизненный опыт организма, в живую
телесность личности.
110
3.1. Человеческое восприятие и статус материального мира
Главный и необычный итог такой модели объяснения
восприятия — признание восприятия не копией реального объекта, а самим
этим объектом, в его определенном аспекте, который связан с
некоторой формой телесной деятельности человека (его организма). Имея
в виду приведенный выше пример воздействия светящейся точки на
глаз, Бергсон пишет: «Можно будет, пожалуй, сказать, что
раздражение, пройдя через эти <нервные> элементы и достигнув центра,
обращается там в сознательный образ, который затем выявляется в точке
Р. Но употреблять такие выражения — значит просто подчиняться
требованиям научного метода, а совсем не описывать реальный
процесс. На самом деле нет непротяженного образа, который
образовывался бы в сознании и проецировался затем в точку Р. В
действительности точка Р, лучи, ею испускаемые, сетчатка и нервные элементы
образуют единое целое, световая точка Ρ составляет часть этого
целого, и именно в Р, а не в каком-то другом месте образуется и
воспринимается образ Р»7.
На основании этих рассуждений Бергсон признает, что любой
объект материальной вселенной, который стал предметом
чувственного восприятия человека, тем самым становится и частью его
телесности: личность существует в этом объекте не в меньшей степени,
чем в физиологическом теле! Поскольку все объекты во вселенной
могут потенциально стать предметом чувственного восприятия, она
вся потенциально является «телом» каждой человеческой личности;
более того, и актуально личность существует в огромной области
вселенной — в той, которая в данный момент является предметом
чувственного созерцания. Столь необычное — поистине
мистическое! — понимание человеческой телесности и отношения человека
к материальному миру в книге «Материя и память» не лежит на
поверхности, создается впечатление, что Бергсон боится прямо высказать
его, чтобы не отпугнуть потенциальных читателей, которые в
большинстве своем доверяют научному образу мира и человека, не
допускающему таких экзотических идей. Тем не менее именно эту мысль
Бергсон защищал в дискуссии на тему «Дух и материя»,
состоявшейся в Философском обществе вскоре после издания книги «Материи
и памяти»: «...ваше "я" не в большей мере пребывает в вашем мозге,
чем во внешнем объекте; оно — повсюду, где находится одно из его
представлений, иными словами, оно виртуально (или бессознательно)
1 Бергсон А. Материя и память. С. 183.
111
Глава 3. «Материя и память»
пребывает во всем воспринимаемом, а актуально во всем воспринятом»8.
Это же убеждение выражено в одном из писем, адресованных Жоржу
Лешала, с которым Бергсон обсуждал только что опубликованную
книгу «Материя и память»: «По моему мнению, мы действительно
находимся в любой точке, доступной нашему восприятию. Во всяком
случае, это самый естественный способ выражения: усвоить иной
способ, отдать предпочтение тактильному восприятию и свести свое
реальное присутствие к той, очень ограниченной, части пространства,
где осуществляется наше тактильное влияние, нас побудили
потребности действия»9.
Наконец, необходимость именно такой интерпретации этой идеи
прямо подтверждается Бергсоном в поздней книге «Два источника
морали и религии». Здесь он вспомнил концепцию телесности
человека, которая появилась в его более ранней книге, и отметил ее
принципиальное значение для современного мировоззрения. «Люди
неустанно повторяют, что человек мало что значит на земле, а земля —
во Вселенной. Тем не менее даже своим телом человек занимает далеко
не столь ничтожное место, которое ему обычно отводят <...>. Ведь если
наше тело — это материя, к которой прилагается наше сознание, оно
соразмерно нашему сознанию, оно включает в себя все, что мы
воспринимаем, оно доходит до самых звезд. <...> мы реально находимся
во всем, что мы воспринимаем, хотя и такими частями самих себя,
которые непрерывно меняются и в которых помещаются только
потенциально возможные действия. Посмотрим на вещи под этим углом
зрения, и мы не станем больше говорить даже о нашем теле, что оно
затерялось в необъятном пространстве Вселенной»10.
Таким образом, согласно теории Бергсона, восприятие — это сам
реальный объект, который, став восприятием, входит в состав
телесности человека. Этот вывод очевидно противоречит истине,
безусловно принимаемой и всеми материалистами, и всеми идеалистами,
о том, что восприятие, в своей непосредственности, есть элемент
сознания и в своей идеальности противостоит материальному бытию.
Но Бергсон настаивает на том, что современная наука требует для
своего обоснования совершенно новой философий, которая должна
8 Бергсон А. Дискуссия с Бине на тему «Дух и материя» // Бергсон А. Избранное:
сознание и жизнь. М., 2010. С. 271.
9 Бергсон А. Письма Ж. Лешала // Бергсон А. Избранное: сознание и жизнь.
С 301.
10 Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. С. 278-280.
112
3.1. Человеческое восприятие и статус материального мира
отказаться от устаревших стереотипов новоевропейского
рационализма. На место противопоставления материального и идеального,
сознания и бытия, должен прийти принцип их единства. Нужно понять
сознание как своего рода структурное свойство самого бытия — всего
бесконечного и цельного бытия (не сводимого, как мы увидим ниже,
к бытию материальному). Именно это и является отправной точкой
бергсоновской метафизики; как он пишет, «для образа быть и быть
сознательно воспринятым — состояния, различающиеся между собой
лишь по степени, а не по природе»11. Вместо того чтобы объяснять
сознание в качестве эпифеномена телесных (мозговых) процессов, как
поступают материалисты, или полагать его вообще вне предметного
бытия, что характерно для идеализма, Бергсон помещает его
непосредственно в бытие. Соответственно, акт восприятия оказывается
«внутренним» делом самого бытия, в этом акте воспринимаемый
предмет с помощью некой особой системы отношений выделяется
и фиксируется на фоне всей совокупности объектов, связанных
между собой некоторой всеобщей системой отношений (о ней уже
говорилось выше).
При этом Бергсон соглашается с тем, что тело играет очень важную
роль в жизни каждой человеческой личности, но эта роль вторична,
к сущности сознания тело не имеет отношения. Тело, как утверждает
Ёергсон, является только орудием действия нашего сознания. Впрочем,
сознание наиболее заметно проявляет себя в материальном мире
именно через действие, поэтому тело все-таки важно для «идентификации»
сознания конкретной личности в его отличии от сознания другой
личности. Сознание каждого из нас «расположено» в одном и том же
бесконечном мире, существует в единстве с одной и той же материальной
основой мира, поэтому все сознания составляют некоторое единство,
своего рода «мировое сознание», и лишь в связи с тем, что каждая
личность обладает особым телом и осуществляет особые формы
деятельности с помощью своего тела, можно говорить о различии
индивидуальных сознаний внутри указанного «мирового сознания»; эта мысль
стала для Бергсона особенно важной в поздних работах, посвященных
обществу и культуре: «...отчетливые разделения создаются
пространством. Наши тела обособлены друг от друга в пространстве, и наши
сознания, будучи связанными с телами, разделены промежутками.
Но если они лишь какой-то частью соединены с телами, позволительно
предположить, что в остальной части существует взаимопроникновение.
11 Бергсон А. Материя и память. С. 180.
113
Глава 3. «Материя и память»
Возможно, что между различными сознаниями ежеминутно происходят
обмены, сравнимые с явлениями эндосмоса»12. Из этого Бергсон
выводит возможность непосредственного взаимодействия сознаний,
не использующего телесный механизм мозга, подобного телепатии. Это
непосредственное взаимодействие допускает исследование в рамках
науки, только при этом нужно отказаться от ложной предпосылки
о жесткой связи всех процессов в сознании с нейрофизиологическими
процессами, протекающими в мозгу.
Бергсон дает собственную оригинальную интерпретацию
аргументов традиционной психологии в пользу зависимости сознания от
мозга, он трактует эти аргументы в прямо противоположном смысле,
чем ученые-психологи. Нельзя отрицать, что при разрушении
определенных участков мозга исчезают определенные психические
функции и сознание «ослабевает». Но, согласно Бергсону, частичное
разрушение мозга приводит на самом деле только к выпадению
определенных форм действия, материального проявления сознания в
мире, а вовсе не к исчезновению его самого. Понятно, что чем меньше
у сознания возможностей действия, тем менее оно заметно, проявлено
в мире. Поскольку у нас нет иного способа опознать существование
сознания в другом человеке, как через его действия, их отсутствие
выглядит как исчезновение сознания, хотя на деле оно ничего не теряет
в своей сущности.
Поскольку восприятие есть реальный объект, вошедший одной
из своих сторон в жизненный мир личности, сознание каждого
человека определенным образом присутствует в бесконечном количестве
объектов; можно даже сказать, что оно присутствует в каждом
элементе бытия, но это присутствие является как бы потенциальным, непро-
явленным. Человек актуализирует его, делает явным в том случае,
когда по отношению к этому элементу бытия реализует некоторую
телесную деятельность, т. е. между этим элементом и его телом
возникает взаимосвязь через указанную деятельность (она может быть
весьма опосредованной, как, например, в случае, когда астроном
наблюдает в телескоп далекую звезду). Поэтому тело и механизмы его
деятельности необходимы для формирования восприятия, притом что
само восприятие не является деятельностью и дополнительно по
отношению к ней. Прояснение роли тела в формировании восприятия
помогает понять, почему в отношении одного и того же объекта разные
12 Бергсон А. «Духи умерших» и изучение психических явлений // Бергсон А.
Избранное: сознание и жизнь. С. 77.
114
3.1. Человеческое восприятие и статус материального мира
люди формируют очень разные восприятия. Как уже говорилось,
восприятие по своей сути есть сам объект. Но объект в очень
ограниченной форме предстает в восприятии, он получает статус восприятия
через некоторую деятельность тела, через связь тела и объекта. В связи
с различием тел субъектов и форм их деятельности один и тот же
объект по-разному входит в экзистенциальный опыт разных субъектов,
т. е. он реализует себя в их опыте по-разному — в каждом опыте
только частично.
Бергсон понимал, что концепция объективности восприятий,
согласно которой восприятие — это сам материальный объект, а не его
«копия» в сознании, должна вызвать многочисленные возражения.
Поэтому он детально рассматривает наиболее веские аргументы против
этой концепции. Первый из них заключается в указании на то, что
любое элементарное восприятие (например, восприятие светящейся
точки) при усилении интенсивности неизбежно переходит в аффект,
в частности в боль, т. е. в чисто субъективное и непротяженное
психическое состояние. Непонятно, как это можно объяснить, если полагать,
что восприятие — это сам объект, объективный «образ», находящийся
вне тела, в мире.
Для того чтобы отвести это возражение, Бергсон рассматривает
сущность боли как наиболее распространенного аффекта. Любое
травматическое действие на организм приводит к мгновенной мускульной
реакции, цель которой — уйти от указанного воздействия. Но
воздействие всегда носит локальный характер, поэтому и первоначальная
реакция также локализована в той части тела, которая затронута им.
Именно эта часть пытается уйти от воздействия, но, естественно,
не может этого сделать в силу целостности тела, невозможности
одного элемента двигаться независимо от целого. Психический коррелят
такого рода усилия, возникающего в затронутом элементе тела, но не
способного привести к реальному движению и уходу от
травматического воздействия, и есть боль. Подобным же образом Бергсон
объясняет все другие аффективные состояния: аффект — это реальное
усилие, совершаемое телом над самим собой и приводящее к изменению
его состояния.
При таком понимании аффектов и боли, как их частного случая,
аффективные состояния, с одной стороны, и восприятия — с другой,
различаются не по интенсивности, как утверждают все психологические
теории, а по существу. Восприятие всегда связано с отделенным от
тела объектом; поскольку такой объект не представляет
непосредственного интереса, реакция, зарождающаяся в ответ на его воздействие,
115
Глава 3. «Материя и память»
является виртуальной, а не реальной, это и приводит к тому, что объект
получает статус восприятия. Когда же объект реально воздействует
на тело, его уже нельзя просто «созерцать», нужно телесно реагировать
на него, точнее, не на него самого, а на те изменения, которые он вносит
в тело своим действием; это означает, что виртуальное действие
переходит в реальное усилие, совершаемое телом над самим собой,
психическая сторона этого усилия и есть аффект, при этом объект, вызвавший
его, уже не фиксируется в качестве восприятия. Именно так животные
реагируют на внешние воздействия, в этом смысле они испытывают
нечто подобное нашим аффектам, но не способны формировать
восприятия.
Такой способ понимания аффектов позволяет Бергсону утверждать,
что поверхность нашего тела задает границу между восприятиями
и аффектами. «Наши аффективные чувства, следовательно, относятся
к нашим восприятиям, как реальное действие нашего тела к его
возможному, или виртуальному, действию. Его виртуальное действие
касается других предметов и вырисовывается в среде этих предметов;
его реальное действие касается его самого и вследствие этого
прочерчивается в нем самом. В конце концов все происходит так, как будто
путем действительного возврата реальных или виртуальных действий
к точкам их приложения или исхода внешние образы оказываются
отраженными нашим телом в окружающее его пространство, а реальные
действия задержанными им внутри его субстанции. А поэтому его
поверхность, общая граница внешнего и внутреннего, образует
единственную часть протяжения, которая одновременно и воспринимается,
и чувствуется»13. При этом оказывается, что аффекты (боль, эмоции
и т. п.), так же как и восприятия, имеют локализацию: все восприятия
находятся вне тела, а аффекты — в теле. Наконец, Бергсон замечает,
что, строго говоря, не бывает чистых восприятий и чистых аффектов,
они всегда возникают вместе, поскольку виртуальное действие тела
в отношении внешних объектов всегда сопровождается хотя бы
минимальным его действием в отношении себя, и наоборот. Когда воздействие,
идущее от объектов, не представляет угрозы или интереса,
господствует восприятие, которое полностью подавляет аффект; когда объекты
существенно угрожают нам или интересуют нас, тогда начинает
преобладать аффект (в частности, боль), поскольку тело, как любой живой
организм, не может не реагировать на ставшую реальной опасность.
В связи с этим никакого перехода восприятий в аффекты в действитель-
13 Бергсон А. Материя и память. С. 192.
116
3.1. Человеческое восприятие и статус материального мира
ности не бывает: происходит постепенное возрастание аффекта,
который всегда присутствовал, но был незаметен на фоне ясного
восприятия; в определенный момент аффект становится настолько
сильным, что заслоняет восприятие.
Еще одно весьма веское возражение против концепции
объективности восприятий (их совпадения с самими объектами) заключается
в указании на сны и галлюцинации; в этих случаях мы имеем в
сознании образы, которые очевидно субъективны и никак не могут быть
отождествлены с реальными объектами. Соглашаясь с очевидной
субъективностью образов в этих случаях, Бергсон утверждает, что здесь
проявляется второе измерение восприятия, которое было пока
оставлено в стороне, — память. Сны и галлюцинации не столько
опровергают изложенную теорию «мгновенных» восприятий, сколько
показывают ее недостаточность для полного объяснения; ее обязательно
нужно дополнить концепцией памяти: реальное восприятие всегда
состоит из двух слагаемых — «мгновенного» объективного измерения
восприятия и субъективного измерения, прибавляемого памятью;
именно последнее, выходя на первый план, определяет субъективный
характер снов и галлюцинаций.
Но прежде чем перейти к самому важному элементу системы идей
Бергсона, к его концепции памяти, обратим внимание на еще одну
проблему, которая возникает в связи с его объяснением восприятия.
Вспомним, что в книге «Опыт о непосредственных данных сознания»
главная мысль Бергсона состояла в резком противопоставлении форм
бытия мира и человека. Главная характеристика мира — пространство —
противопоставлялось главной характеристике внутреннего бытия
человека — времени, длительности. Как мы помним, Бергсон настаивал
на невозможности применения формы пространства к внутреннему
миру. Теперь же, доказывая, что чистое, «мгновенное» восприятие есть
реальный объект, расположенный в пространстве, он само сознание
располагает в материальном мире, т. е. в пространстве.
Несмотря на видимость противоречия, новые идеи Бергсона не
противоречат старым, а уточняют их. Противоречие в данном случае
возникает, только если мы неявно принимаем традиционную модель
отношения человека к миру, в которой человек субстанциально
отличается от всей окружающей действительности, представляет собой нечто
самодостаточное, способное существовать без мира, в отстранении от
него. Но в том-то и дело, что философия Бергсона ниспровергает ложные
стереотипы в понимании человека, заданные классическим
новоевропейским рационализмом. Если мы отказываемся от декартовской теории
117
Глава 3. «Материя и память»
двух независимых субстанций и признаем, что человек существует
в неразрывном единстве с миром, с окружающим бытием, тогда
рассмотренную ранее мысль Бергсона о принципиальной разнородности
двух «миров» — одного, расположенного в пространстве, и другого,
длящегося во времени, нужно понимать не в смысле
противоположности двух обособленных «сфер» бытия, а в смысле противоположности
двух измерений в целостном бытии (в каждой его точке!), причем
второе из этих измерений, связанное с человеком, нужно полагать главным,
определяющим. При таком подходе можно утверждать, что все бытие
является «неловекоразмерным» (у Бергсона такого термина нет, его
позже ввел М. Хайдеггер), поскольку каждый элемент бытия обладает
слагаемым, которое есть в своей сути человеческое бытие. Это
уточнение помогает правильно понять некоторые суждения в книге «Материя
и память, которые на первый взгляд прямо противоречат идеологии
«Опыта о непосредственных данных сознания»: «Нет никакой
необходимости полагать, с одной стороны, пространство с невоспринятыми
движениями, с другой — сознание с непротяженными ощущениями.
Наоборот, субъект и объект соединяются в экстенсивном восприятии,
так как субъективный аспект восприятия состоит в сжатии,
совершаемом памятью, а объективная реальность материи сводится к
многочисленным и последовательным возбуждениям, на которые это
восприятие внутренне разлагается»14.
Такая связь объекта и субъекта, пространства и сознания означает,
что понять бытие, его конкретные формы существования, его законы
невозможно, если первоначально не понято содержание его главного
измерения — человеческого бытия. Метафизическая концепция,
разъясняющая сущность человеческого бытия, должна стать основанием
и психологии как конкретного знания о человеке, и всех естественных
наук как конкретного знания о мире. Поскольку суть того измерения
бытия, которое проявляется в мире как человеческое бытие, сводится
у Бергсона к феномену памяти, соответствующая метафизическая
концепция оказывается учением о памяти.
3.2. Память как измерение целостности бытия
Восприятие, которое было бы «мгновенным», было бы
полностью объективным, совпадая с самим объектом восприятия. Но, как
уже говорилось, на самом деле оно обладает временной длительно-
14 Бергсон А. Материя и память. С. 201.
118
3.2. Память как измерение целостности бытия
стью; это означает, что на «мгновенное» восприятие, осуществляемое
в данный момент, наслаиваются воспоминания, причем их влияние
может быть настолько существенным, что само объективное,
«мгновенное» восприятие почти полностью заслоняется ими (этим
объясняется возможность обманов и иллюзий, когда человек видит и слышит
совсем не то, что присутствует в действительности). Для того чтобы
правильно понять и механизм внедрения воспоминаний в восприятия,
и саму структуру полного восприятия, нужно уточнить статус
воспоминания.
Бергсон прежде всего разоблачает еще одно капитальное
заблуждение традиционных психологических теорий, согласно которому
воспоминание — это не что иное, как ослабленное восприятие, т. е.
между восприятием и воспоминанием разница — в интенсивности,
а не в сущности. Именно из этого заблуждения вытекает ложная
теория о хранении воспоминаний в различных отделах мозга. Ведь, как
мы видели, мозг играет существенную роль в формировании
«мгновенных», объективных восприятий (через механизм подготовки
реакций, движений тела); если же воспоминания — это ослабленные
восприятия, то можно думать, что они тоже определяются
деятельностью мозга.
Бергсон утверждает, что воспоминания имеют совершенно иную
сущность, чем восприятия, механизм их вызова из памяти
принципиально отличается от механизма формирования восприятий. В основе
этого различия Бергсон вновь полагает отношение к действию.
Воспоминания и все прошлое — это то, что уже не действует и не подвержено
действию; настоящее же всегда доступно нашему действию и изменению.
В этом же, по Бергсону, лежит основание принципиального различия
между идеальным и материальным, оно связано вовсе не с разным
характером и сущностью соответствующих элементов бытия, а с
возможностью или невозможностью стать объектом нашего действия:
«...прошлое — это только идея, настоящее же идеомоторно»15. Бергсон
вполне справедливо считает, что такая точка зрения преодолевает
противостояние идеализма и материализма; ведь при этом подходе само
различие между «материей» и «идеей» становится относительным,
обусловленным разным контекстом рассмотрения одних и тех же
элементов бытия; одновременно здесь обеспечивается неразрывное единство
материального и идеального в каждом акте восприятия. Наше
восприятие совпадает с объектом в той степени, в какой мы сконцентрированы
15Тамже.С. 199.
119
Глава 3. «Материя и память»
на действии, замыкающем в моменте настоящего, и организуется
субъектом в той степени, в какой «мгновенное» восприятие связывается
в памяти с другими восприятиями, которые находятся уже вне
возможности нашего действия на них, т. е. в прошлом. «Память,
практически неотделимая от восприятия, включает прошлое в настоящее,
сжимает таким образом в единой интуиции множество моментов
длительности и благодаря этому, из-за своего двойного действия,
является причиной того, что мы de facto воспринимаем материю в нас,
тогда как de jure мы воспринимаем ее в ней самой»16. Имеется в виду,
что de jure, по исходной модели восприятия, мы воспринимаем сами
материальные объекты, но de facto из-за действия памяти все
воспринимаемое нами есть концентрированное выражение образов памяти,
т. е. существует в нас самих.
Ошибочность всех традиционных концепций памяти Бергсон
видит в том, что они не различают двух форм памяти и, соответственно,
двух форм акта узнавания, в котором наиболее наглядно и
конструктивно проявляет себя память. С одной стороны, человек — это
материальное тело, расположенное среди других тел, воспринимающее от
них действия и осуществляющее действия в отношении их. С другой
стороны, человек — это идеальное сознание, т. е. система
образов-воспоминаний, задающих временную длительность нашего бытия.
В связи с этим память реализуется в двух формах: в форме двигатель*?
них механизмов тепа и в форме самостоятельных
образов-воспоминаний сознания.
Это различие Бергсон демонстрирует с помощью наглядного
примера. Как происходит заучивание заданного урока, например
стихотворения? Нужно многократно повторять текст, корректируя ошибки,
и в конце концов стихотворение будет выучено, Это означает, что,
сказав первое слово, человек без запинки произнесет стихотворение
вслух. Мы говорим, что человек запомнил стихотворение именно
потому, что он смог его прочитать от начала до конца. В данном случае
в основе запоминания лежит многократно повторенная и ставшая
автоматической деятельность моторного, телесного механизма; если не
осуществлять периодическую тренировку возникшего навыка, он может
исчезнуть — стихотворение будет забыто, человек не сможет его
произнести или произнесет с большими пробелами. Но даже после того,
как стихотворение будет напрочь забыто в указанном смысле,
останется иная память — образы-воспоминания тех моментов, когда стихо-
16 Бергсон А. Материя и память. С. 202.
120
3.2. Память как измерение целостности бытия
творение разучивалось и воспроизводилось. Эта память устроена совсем
по-другому: она мгновенно дает нам целостную «картину» прошлого
в определенный момент времени, хотя механизм, с помощью которого
эта «картина» возникает в памяти, ускользает от нашего внимания,
остается загадочным и непонятным.
Только вторую форму памяти можно назвать истинной памятью,
первая же, телесно-моторная память, — это, как пишет Бергсон,
«привычка, освещаемая памятью»17. Она свойственна животным не в
меньшей степени, чем человеку, и не требует сознания в его человеческой
форме. «Когда собака встречает хозяина радостным лаем и лаской, она
без сомнения его узнает; но содержит ли в себе это узнавание вызов
прошлого образа и сближение его с наличным восприятием? Не
состоит ли оно скорее в том, что животное осознает некоторую особую
установку или манеру поведения, усвоенную его телом, установку,
постепенно сложившуюся под воздействием близких отношений
к хозяину и механически вызываемую теперь при одном его
восприятии? <...> узнавание здесь должно быть скорее переживаемым, чем
мыслимым»18. Подавляющая часть феноменов, связанных с действием
телесной памяти, не замечается людьми, поскольку это просто
автоматические привычки, которые не так-то легко заметить. Когда
человек идет домой по привычной дороге и не контролирует себя, можно
сказать, что здесь помнит путь не его сознание, а его тело, которое
оказалось хорошо «натренированным» благодаря множеству
повторений этого пути. Иллюзия интеллектуальной нагруженности (т. е.
сознательности) этой памяти возникает только потому, что привычные
телесные движения могут выражать духовное содержание, как в случае
прочтения заученного стихотворения. Однако это содержание
является привходящем и второстепенным для самого приобретенного
навыка, ведь человек точно так же может выучить стихотворение на
языке, который он не понимает. В этом случае сам процесс
запоминания будет более долгим, но это только показывает, что духовная память
способствует обретению телесного навыка, по сущности же она вовсе
не связана с ним.
Телесная память позволяет человеческому телу под влиянием
внешних восприятий, аналогичных уже бывшим ранее, осуществить в
настоящем действие, аналогичное тому, которое оно осуществляло
в прошлом. При этом достаточно очевидно, что новое действие никогда
Там же. С. 209.
Там же. С. 208.
121
Глава 3. «Материя и память»
не будет в точности таким же, как в прошлом, т. е. этот вид памяти,
строго говоря, не является памятью в том прямом смысле, который мы
обычно вкладываем в это понятие (в смысле буквального повторения,
«воскрешения» прошлого). Как пишет Бергсон, телесная память «уже
не представляет нашего прошедшего, она его проигрывает; если она
еще заслуживает название памяти, то не потому, что сохраняет давние
образы, а потому, что продолжает их полезное действие до настоящего
момента»19.
Память наглядно проявляет себя в актах узнавания вещей, ситуаций,
людей и т. п., поэтому Бергсон разъясняет смысл различия двух форм
памяти через детальное описание актов узнавания. В одном случае это
автоматическое телесное действие в ответ на появление определенного
объекта или ситуации, это узнавание задается самим объектом, который
вызывает реакцию нашего телесно-мускульного механизма, подобную
той, что была в прошлом. Во втором случае это подлинно человеческое,
идеальное узнавание, т. е. придание ясного смысла восприятию,
появившемуся в сфере нашего внимания.
Акт узнавания является главным актом нашего сознания, точно так
же как и «сознания» животных, как бы ни понимать этот термин
применительно к животным. В частности, он входит в качестве
важнейшего слагаемого в рассмотренный ранее акт восприятия. Ведь объект
«воспринят», когда он как-то определен, зафиксирован в сознании,
когда ему придан (идеальный) смысл. Но определение всегда есть
подведение неизвестного и неопределенного под уже известное. Все, что
встречается нам в нашей жизни, опознается за счет сопоставления и
отождествления с уже известным и встреченным ранее. Даже если кто-
то станет утверждать, что встретил что-то абсолютно новое, чего он не
видел никогда раньше, на деле это новое для него будет проявлено
через уже известные смысловые элементы. Например, человек, который
впервые увидел землю, покрытую белым снегом, конечно, будет прав,
утверждая, что видит нечто абсолютно новое. Однако при первой
встрече с этим новым явлением он будет признавать отдельные
элементы своего восприятия подобными белому порошку, белому
покрывалу или белой вате — объектам, которые он видел ранее. Имея в виду
эту логику, Бергсон принимает в качестве своеобразной аксиомы, что
акт узнавания всегда есть отождествление объекта непосредственного
восприятия с образом такого же точно или аналогичного объекта,
извлеченным с помощью памяти из прошлого.
19 Бергсон А. Материя и память. С. 208.
122
3.2. Память как измерение целостности бытия
Впрочем, такая формулировка смысла акта узнавания еще не может
считаться корректной; ведь она предполагает, что происходит
сравнение и отождествление двух равноправных образов обладающих
смыслом. На деле акт узнавания нельзя объяснить на этом пути; при такой
его интерпретации мы попадаем в логический круг: в этом случае
приходится признать, что восприятие в настоящем уже осмыслено, т. е.
узнано в качестве какого-то определенного нечто, которое мы
сравниваем с образом аналогичного объекта в прошлом. Но если оно узнано
как определенное, непонятно, зачем нужно его сопоставление с
образами прошлого. Этот логический круг Бергсон находит во всех
традиционных психологических теориях узнавания, основанных на
принципе «ассоциации идей»; только благодаря тому, что создатели этих теорий
не продумывают до конца оснований своих построений, они могут
делать вид, что их теории являются последовательными и
непротиворечивыми. Даже если признать, что первичный акт узнавания не дает
еще окончательного смысла и поэтому второй акт необходим для
формирования этого окончательного смысла, проблема структуры и
содержания этого второго акта останется нерешенной, пока мы не
выясним, как происходил первичный акт узнавания.
Избежать логического круга в данном случае можно, только если
признать, что акт придания смысла восприятию заключается в
наложении осмысленного образа из прошлого на полностью неопределенное
восприятие, полученное в настоящем. Строго говоря, это означает, что
наше сознание только тогда узнает объект как вполне осмысленный,
когда оно на место исходного полностью неопределенного восприятия
накладывает образ объекта, воспринятого и осмысленного в прошлом;
именно образ прошлого объекта и становится образом объекта,
воспринятого в настоящем.
Но и такое понимание акта узнавания не кажется ясным, пока мы
не ответим на два очевидных вопроса. Во-первых, как в этом случае
нужно понимать исходное присутствие в сознании восприятия, не
имеющего ясного смысла, полностью неопределенного? Во-вторых, как
все-таки в нашем опыте появляется нечто новое, не встреченное ранее,
если всё, что мы узнаём, есть то, что уже было в прошлом? Второй
вопрос не ставится самим Бергсоном и не имеет ясного ответа в его книге,
мы рассмотрим его позже (см. раздел 3.5). А вот первый поставлен
достаточно явно и имеет логичный ответ.
Вспомним проведенный ранее анализ процесса формирования
«мгновенного», объективного восприятия, не учитывающего роль
памяти. Бергсон приходит к выводу, что такое мгновенное восприятие
123
Глава 3. «Материя и память»
есть «сам объект» (или сам «объективный образ», по терминологии
Бергсона), только схваченный в определенном аспекте, который
задается с помощью особого отношения тела к этому объекту. Нужно
признать, что это описание было неточным, поскольку оно предполагало,
что это «мгновенное» восприятие, не учитывающее действие памяти,
дает нам определенный и осмысленный образ объекта. На самом деле,
как теперь становится ясным, это мгновенное восприятие имеет
результатом некоторую неопределенную «данность» объекта. Важно понять,
что это такое.
Формирование мгновенного восприятия, как мы видели, происходит
в результате установления особого отношения между объектом и телом
человека, в результате чего объект определенной своей стороной входит
в жизненный мир личности. Более конкретно это отношение есть
телесно-двигательный акт, который Бергсон обозначает как первую форму
памяти и который, по сути, даже не есть память, а просто
автоматическая реакция на объект, который уже встречался в прошлом. Именно
благодаря этой реакции объект делается «своим», привычным,
занимает в жизненном мире личности определенное место в постоянной
связи с телом и в качестве своеобразного дополнения к телу. Очевидно,
что такое телесное узнавание не придает объекту никакого идеального
смысла и не приводит к формированию его образа в сознании, такое
узнавание в равной степени присуще и животным, и человеку. Полуг
чается, что объект дан в жизненном мире, но не обладает ясной и
определенной смысловой характеристикой. Такую данность объектов
мы понимаем с трудом, поскольку подавляющее большинство объектов
материального мира дано нам не в этой первичной, «животной» форме,
но одновременно и в форме, свойственной человеку и его сознанию —
как обладающие идеальным смыслом и представленные в виде
определенного, конкретного образа. Тем не менее в некоторых ситуациях
присутствует только такое первичное узнавание, эти ситуации
особенно важны для прояснения механизма узнавания. Например, при
привычном использовании какого-либо орудия человек в процессе своей
деятельности не фиксирует внимания на нем и может не замечать его
как самостоятельный элемент реальности, орудие дано именно в его
телесно-практической форме. Точно так же, когда человек, глубоко
задумавшись, идет по улицам знакомого города, он «имеет в виду» дома,
столбы и все многообразные объекты, которые встречаются ему на
пути, но он не фиксирует их образов и не воспринимает их как
самостоятельные элементы реальности. Наконец, феномен сомнамбулизма,
когда человек привычным образом действует в привычной среде,
124
3.2. Память как измерение целостности бытия
но при этом не обладает ясным сознанием и не формирует осмысленных
образов вещей, которые его окружают, дает наиболее точное выражение
состояния телесного узнавания в его чистой форме, без соединения
с духовным узнаванием.
Может показаться, что такое телесное, автоматическое узнавание
вообще не может быть соотнесено с сознанием, не может признаваться
сознательным узнаванием, ведь оно не имеет в качестве результата
приписывания идеального смысла (образа) объекту. Однако здесь ясно
выступает одна из характерных черт концепции сознания Бергсона.
Для него сознание не является особой субстанцией, отделенной от
материального мира, оно «слито» с миром, существует в самом мире,
поэтому телесная деятельность человека является вполне законным
элементом сознания, его низшим уровнем; на этом уровне и происходит
первичное, телесное узнавание, не имеющее результатом формирования
осмысленных образов. Только после этого осуществляется главная
функция сознания — наделение объектов идеальным смыслом, их
духовное узнавание. Прежде чем переходить к анализу этой второй
стадии восприятия и узнавания объектов материальной реальности,
обратим внимание на одну важную деталь механизма первичного,
телесного узнавания, которая в корне меняет представление о структуре
восприятия.
Бергсон неоднократно утверждает, что различие между двумя
формами, или уровнями, акта восприятия заключается в том, что первая
форма является «мгновенной», а вторая обладает длительностью и
поэтому связана с действием памяти. Но проделанный выше анализ
заставляет усомниться в правильности этого тезиса, ведь телесное
узнавание, составляющее сущность первой формы акта восприятия, есть
некий телесно-моторный процесс, который имеет определенную
временную длительность, поэтому его никак нельзя назвать «мгновенным».
Это уточнение не опровергает рассуждения Бергсона, но заставляет
признать логику развития исходных принципов его концепции более
сложной, чем могло показаться вначале. Ведь еще в «Опыте о
непосредственных данных сознания» он признавал, вопреки главным идеям
этой книги, что материальная действительность обладает длительностью,
временным измерением, подобным длительности нашего сознания.
Теория телесной памяти и телесного узнавания, развитая в «Материи
и памяти», дает наглядное доказательство этого предположения,
показывает его необходимость для построения новой модели отношения
материи и духа. Хотя Бергсон часто утверждает, что, в отличие от духа,
материя существует в постоянно возобновляемом «теперь», в моменте
125
Глава 3. «Материя и память»
настоящего, эти утверждения нужно признать ошибочными или,
по крайней мере, неточными. «Мгновенное» настоящее есть только
математическая абстракция, нужная научному сознанию, чтобы
предельно просто описывать материальный мир, но, когда мы говорим
об этом мире как о реальном и данном нам в восприятии, мы должны
признать, что его настоящее есть некоторая длительность,
аналогичная длительности нашей духовной памяти, но все-таки не совпадающая
с ней. О том, каков характер этой «материальной» длительности, мы еще
будем говорить ниже.
Возможно, кто-то возразит против полученного вывода, что вовсе
не обязательно считать обладающим временной длительностью само
восприятие, если ею обладает процесс получения восприятия. Однако
против этого нужно еще раз повторить, что, по исходным принципам
теории восприятия Бергсона, процесс восприятия, протекающий
в телесном организме человека, и само восприятие (воспринимаемый
предмет) составляют неразрывное целое, в котором слагаемые
дополняют друг друга и невозможны друг без друга. Если одно из реально
существующих слагаемых единого процесса обладает длительностью,
то ею должно обладать и второе слагаемое. Можно помыслить
«мгновенное» восприятие, но эта мысль будет чистой «фикцией», подобной
понятию отдельной точки в пространстве и одного мгновения на оси
времени, она не будет ничему соответствовать в реальности и будет
порождать в наших рассуждениях противоречия, подобные тем,
которые продемонстрировал Зенон в своих апориях.
Дополнительность воспринимаемого предмета и обеспечивающего
его телесного процесса является принципиальным положением теории
восприятия Бергсона, оно ведет к весьма необычному выводу
относительно характера нашей телесности. Нетрудно понять, что единство
процесса и объекта, являющегося центром этого процесса, безусловно
предполагает непосредственное включение этого объекта в процесс.
Но в акте восприятия человек фиксирует объекты, существенно
удаленные от него и весьма значительные по размерам; возникает вопрос
о том, как можно объяснить такие восприятия, если в качестве
процессов, фиксирующих соответствующие объекты, рассматривать
только моторные процессы в теле — ведь эти процессы удалены в
пространстве от воспринимаемого предмета и весьма незначительны в своем
протяжении по сравнении с ним. Здесь напрашивается вывод, который
продолжает и развивает тезис, обозначенный ранее: поскольку наша
телесность распространяется далеко за пределы биологического тела,
нет никаких оснований ограничивать систему процессов, которая кон-
126
3.2. Память как измерение целостности бытия
ституирует всё богатство наших восприятий, только процессами
в биологическом теле. Каждый человек не только телесно существует
в огромной сфере материального мира, но и может непосредственно
вызывать самые различные материальные процессы в этой сфере, хотя
в подавляющем большинстве случаев не осознает, что именно он
является их источником.
Этот тезис придает теории познания Бергсона не
рационалистический, а интуитивистский и мистический характер. Полная
человеческая телесность далеко не ограничивается собственно биологическим
телом, она охватывает огромные области пространства, доступные
восприятию личности, а в пределе совпадает (в определенном частном
аспекте) со всем материальным миром. Поэтому рационально
объяснимая и довольно простая в своей структуре деятельность
биологического тела (вместе с обуславливающими ее процессами в нервной
системе и головном мозгу) на деле является только «вершиной
айсберга», только наиболее проявленным в материальном мире слагаемым
бесконечно многообразной деятельности, которую осуществляет
«полное», «большое» тело человека, охватывающее всю вселенную.
Только при таком расширении смысла телесной деятельности тезис
Бергсона о том, что она является основой любого восприятия,
получает подлинное обоснование. Если ограничить ее телесно-мускульной
деятельностью тела, такое утверждение будет трудно признать
логичным в его теории.
Тот факт, что орудие деятельности можно рассматривать как
дополнение и своего рода продолжение тела, давно признавался
философами. Но одного этого факта совершенно недостаточно для
построения теории познания нового типа, к которой пришел Бергсон; тело
человека и используемые им орудия — это только самая заметная и,
вероятно, самая важная, но все-таки весьма малая часть той сложной
структуры деятельности, которая обуславливает все восприятия
отдельной личности (мир представления); правильное объяснение
в данном случае возможно только на основе предположения о том,
что тело и его орудия осуществляют деятельность в контексте всей
материальной вселенной, т. е. что вся вселенная является своего рода
орудием личности.
Это утверждение выглядит как типичное метафизическое положение,
не вызывающее доверия у людей научного сознания в силу
невозможности дать ему конструктивного, основанного на опытных данных
доказательства; тем не менее некоторые рассуждения Бергсона, проводимые
в более поздней книге — «Творческая эволюция», можно рассматривать
127
Глава 3. «Материя и память»
как такого рода доказательства. Выше уже не раз говорилось, что
телесная память и телесное узнавание в какой-то степени свойственны всем
живым организмам, поэтому определенные выводы об их человеческой
форме можно сделать из наблюдения над животными. Бергсон в
«Творческой эволюции» подробно рассматривает особенности отношения
к миру животных и приходит к выводу, что их инстинктивная
деятельность, при всей ее простоте по сравнению с деятельностью человека,
обладает одним огромным преимуществом: она каким-то непонятным
образом согласована с окружающей средой и с существованием других
организмов. Это похоже на некое интуитивное «знание»
окружающего мира; но поскольку у животных отсутствует собственно знание
в привычной нам рациональной форме, их интуитивное «знание»
можно интерпретировать только как очень детальное телесное
узнавание мира и его явлений. Это означает, что телесное узнавание и
соответствующая телесная деятельность даже очень простых живых
организмов распространяются далеко за пределы их биологического
тела (в книге «Творческая эволюция» Бергсон приводит несколько
наглядных примеров, иллюстрирующих этот тезис, мы рассмотрим их
в разделе 4.3). Если такая способность есть у простейших живых
организмов, непонятно, почему хотя бы в какой-то минимальной степени
(необходимой для объяснения восприятия) в ней нужно отказывать
человеку, который является вершиной биологической эволюции. Ра:
дикальный недостаток человека в сравнении с животным, по Бергсону,
состоит как раз в том, что мы, беспредельно развивая рациональное
познание мира, полностью подавили в себе первоначальное
интуитивное единство с ним, лежащее в основании инстинктивной
деятельности животных.
Как было сказано выше, телесное узнавание не может давать ясного
образа предмета, хотя Бергсон часто говорит об этом акте так, как будто
в результате какой-то образ формируется. Но если образа еще нет, то что
же тогда дает акт телесного узнавания? Его главный результат в том, что
предмет выделяется из контекста, из какого-то первоначального
целостного представления о мире; главная функция телесного узнавания —
в разделении слитного неопределенного единства бытия на столь же
неопределенные, но выделенные и обособленные элементы, каждый из
которых, кроме того, поставлен в соответствие с уже встречавшимися
раньше фрагментами бытия (это и есть собственно узнавание).
Наделение узнанного фрагмента бытия ясным и определенным образом
происходит на следующем этапе — в духовном узнавании. Необходимо
теперь присмотреться к этому, самому важному этапу акта восприятия.
128
3.2. Память как измерение целостности бытия
В процессе духовного узнавания основную роль играет духовная
память, она извлекает образ объекта из прошлого и накладывает его
на неопределенное первичное узнавание; в результате объекту
придается смысл, он становится тем же объектом, который был
встречен и узнан в прошлом. «Практически мы воспринимаем только
прошлое»20 — вот один из принципиальных тезисов бергсоновской
концепции сознания. При этом роль первичного узнавания
заключается не только в том, что оно дает неопределенную бытийную основу
для образа, извлекаемого из прошлого, но и в том, что оно
подсказывает, в какой конкретно момент прошлого нужно отправиться
духовной памяти, чтобы найти образ, соответствующий встреченному
объекту.
Этот процесс является очень сложным, в нем чистое воспоминание,
извлеченное из прошлого, должно проникнуть в настоящее и прийти
в координацию с телесной деятельностью, придавая смысл тому
фрагменту реальности, который выделен этой деятельностью. «Чистое
воспоминание, по мере своего осуществления, стремится вызвать
в теле все соответствующие ему ощущения. Но эти ощущения, также
виртуальные, чтобы сделаться реальными, должны приводить в
действие тело, сообщать ему те движения и положения, обычной
предпосылкой которых они являются. <...> Поступательное движение
реализации виртуального образа — это не что иное, как ряд переходов,
посредством которых этот образ добивается от тела полезных действий.
Возбуждение же сенсорных центров составляет последний из этих
переходов: это прелюдия к двигательной реакции, начало действия
в пространстве. Другими словами, виртуальный образ развивается
в направлении виртуального ощущения, а виртуальное ощущение —
в направлении реального движения: это движение, реализуясь,
осуществляет сразу и ощущение, естественным продолжением которого оно
является, и образ, стремящийся соединиться с ощущением»21. Как
видно из этого описания, воспоминание, выбранное нашим
сознанием для формирования осмысленного восприятия, предельно активно,
оно не просто накладывается на неопределенный элемент
реальности, а само вмешивается в телесный процесс, выделяющий этот
элемент; по сути, оно организует этот процесс таким образом,
чтобы его результат был согласован с ним самим. Именно поэтому
Бергсон постоянно повторяет, что в акте восприятия и узнавания роль
20 Бергсон А. Материя и память. С. 254.
21 Там же. С. 242.
129
Глава 3. «Материя и память»
памяти, т. е. субъективного элемента, настолько значительная, что
иногда она полностью заслоняет и вытесняет объективное основание
этого восприятия.
Этот факт помогает объяснить возникновение ошибок восприятия,
точно так же как и возможность устойчивых «иллюзий», когда человек
очень долго видит в реальности совсем не то, что существует
объективно. Ошибки восприятия особенно часто происходят в тех случаях,
когда оно происходит в резко меняющихся внешних условиях. Бергсон
приводит такой пример: в сумерках, в ветряную и дождливую погоду
человек идет по лесу, едва различая предметы вокруг; внезапно
впереди на дороге он видит бегущего волка — даже не успев испугаться,
он всматривается внимательнее и видит вместо волка трепещущийся
на ветру куст. Можно сказать, что первоначальный образ волка был
«иллюзорным», а окончательный образ куста «настоящим», однако это
словоупотребление ничего не объясняет, а лишь затушевывает
реальную и очень сложную проблему узнавания объектов. Фиксация
сознанием в качестве окончательного и устойчивого образа куста не
делает менее значимым тот факт, что в первое мгновение оно придало
совсем другой смысл исходному неопределенному и неосмысленному
восприятию объекта. Это неопределенное восприятие является
полностью объективным, как было выяснено выше, но именно поэтому оно
не имеет смысла; чтобы оно получило смысл и могло быть узнано, оно
должно быть совмещено с каким-то извлеченным из памяти
осмысленным образом-воспоминанием, этот образ-воспоминание
накладывается на объективное восприятие и замещает его. Это и происходит в
рассмотренном примере: сознание извлекает из какого-то слоя памяти
осмысленный образ-воспоминание волка и накладывает его на
объективное, но еще совершенно неопределенное и неосмысленное
восприятие куста; в результате происходит ошибочное узнавание волка. Затем
оно замещается правильным узнаванием куста, когда соответствующий
образ-воспоминание извлекается из другого слоя прошлого и
накладывается на объективное восприятие вместо первого, ошибочного
образа.
Нетривиальность проблемы различения двух форм памяти и
узнавания связана с тем, что они всегда присутствуют вместе и
поддерживают друг друга. Причем их отношение является парадоксальным:
телесно-моторное узнавание в принципе является исходным и наиболее
принципиальным моментом всего сложного процесса осмысленного
узнавания предмета, оно выделяет предмет из бесконечного слитного
контекста окружающего мира и включает в сферу собственной телес-
130
3.2. Память как измерение целостности бытия
ности человека, делает его «привычным» и «подручным» в смысле его
использования и обращения с ним, но при этом в итоге, после
окончательного формирования восприятия, оно целиком вытесняется
осмысленным, духовным узнаванием, за которое отвечает память. Кроме того,
как мы видели, уже выбранное из прошлого воспоминание может
активно формировать саму структуру телесного узнавания, как бы
доказывая сознанию, что оно выбрано правильно. Тем не менее акты
духовного узнавания, связанные с обращением к прошлому, исходно
определены именно структурой телесного узнавания и вызываются им,
оно «подсказывает» сознанию, что из прошлого нужно выбирать для
придания предмету смысла.
Хотя в своей окончательной форме восприятие всегда имеет два
слагаемых: телесное «опознание» предмета, выступающее бытийной
основой всего восприятия, и субъективный образ, непосредственно
присутствующий в сознании и задающий смысл воспринятого
предмета, наше обыденное сознание видит только второе слагаемое, и это
является его самой главной ошибкой, являющейся причиной
различного рода иллюзий. Первое слагаемое с трудом поддается анализу и
рациональному описанию, однако именно его присутствие в
восприятии реального мира не позволяет нам перепутать последнее со сном
или признать «устойчивой галлюцинацией», по выражению Беркли;
это же телесно-моторное слагаемое отвечает за то неуловимое, но
чрезвычайно важное «чувство реальности», которое отличает восприятие
настоящего от воспоминаний и образов сна.
Хотя Бергсон не устает подчеркивать, что исходное, объективное,
«чистое» (по его собственной терминологии) восприятие имеет совсем
другую сущность, чем субъективный образ предмета, который мы
в подавляющем большинстве случаев и считаем собственно
восприятием, он сам иногда сопоставляет два слагаемых восприятия таким
образом, что возникает впечатление об их однородности, подобии.
«Чистое» восприятие в некоторых описаниях Бергсона в книге
«Материя и память» кажется существующим в форме такого же
визуального образа, каким мы представляем субъективный аспект
восприятия, сформированный с помощью памяти. Однако такое понимание
было бы грубой ошибкой. Объективное восприятие целиком
определяется работой телесного механизма, его движениями; именно
особая система таких движений выделяет и фиксирует предмет из того
бытийного контекста, в котором он существует. Первичную,
объективную данность «выделенного» и «зафиксированного» в нашем
жизненном опыте предмета Бергсон иногда называет непосредственной
131
Глава 3. «Материя и память»
интуицией, и это гораздо более правильный термин, чем термин
«образ». «Непосредственная интуиция» только на втором этапе
узнавания «вытесняется» образами, пришедшими из памяти.
«Несомненно, что действительная и, так сказать, сиюминутная интуиция,
на основе которой развертывается наше восприятие внешнего мира,
представляет собой нечто весьма малое по сравнению со всем тем, что
прибавляет к ней память. Воспоминание о предшествовавших
аналогичных интуициях полезнее этой мгновенной интуиции, так как оно
связано в нашей памяти с целым рядом последующих событий и может
тем самым лучше просветить нас при принятии решения, — именно
поэтому оно замещает действительную интуицию, на долю которой
выпадает только <...> задача вызвать воспоминание, воплотить его,
сделать активным, а тем самым и действительным. <...> совпадение
восприятия с воспринимаемым объектом существует скорее в
принципе, чем на деле. Нужно учитывать, что восприятие становится
в конце концов лишь поводом к воспоминанию, что практически мы
измеряем степень реальности степенью полезности, что нам в итоге
во всех отношениях выгодно обратить непосредственные интуиции,
которые совпадают, в сущности, с самой действительностью, в простые
знаки реального»22.
Как видно из этого описания, «действительная (непосредственная)
интуиция», т. е. сама реальность, входит в наш опыт не как собственно
восприятие, а как основа, или «тело», восприятия. Это означает, что она
дана совсем не так, как обычный образ и обычное восприятие, ее
данность чисто интуитивная, не выраженная в ясных рациональных
формах. Это особое «чувство», обозначающее присутствие чего-то, что мы
не можем определить в ясном сознании. Именно желание определить
это неизвестное нечто и заставляет сознание обратиться к прошлому
и начать формирование ясного образа неопределенного предмета.
Можно еще раз повторить очень важный вывод теории восприятия
Бергсона: наше постижение реальности складывается из двух очень
неравных по явленности в сознании слагаемых — из интуитивного,
данного в особом «чувстве», схватывания реальности в ее собственном
бытии и из вторичного и субъективного выражения этой реальности
через слитную совокупность образов.
Классические теории познания не обращали большого внимания
на телесно-деятельностный аспект нашего отношения к миру. Все
внимание уделялось результирующему познавательному образу реально-
Бергсон А. Материя и память. С. 198.
132
3.2. Память как измерение целостности бытия
сти — тому, что Кант назвал «миром представления» и виртуозно
объяснил в качестве творения нашего чистого идеального сознания.
Даже в тех системах, подобных марксизму, в которых материальная
деятельность признавалась важным фактором познания, она не
рассматривалась как нечто первичное в актах познания, как нечто
интуитивно данное, предваряющее самые элементарные восприятия.
Бергсон констатирует, что новейшие философские и психологические
теории памяти и восприятия точно так же, как и классические теории
сознания, не видят этого первичного, телесного аспекта памяти, а
поэтому не способны правильно объяснить всё самое главное в сознании
и в самом нашем бытии. Поэтому он считает необходимым детально
обосновать различие между телесной и духовной памятью. Самым
простым и известным феноменом, в котором духовная память
демонстрирует свою непохожесть на телесную, является сон; Бергсон
объясняет его как полное раскрепощение духовной (подлинной) памяти,
которая больше не сдерживается и не ограничивается наличной
действительностью, а извлекает самые разные образы прошлого,
произвольно комбинируя их (в этом смысле в феномене сна большую роль
играет и фантазия). Характерным признаком духовной памяти
является ее спонтанность, произвольность: она позволяет внезапно
вспомнить, наглядно представить момент прошлого, находящийся на
произвольной временной дистанции — то, что было вчера, или то, что было
двадцать лет назад.
Расхождение между телесной и духовной памятью демонстрирует
простой психологический эксперимент: испытуемым предъявляют
на короткое время односложную фразу, которую нужно запомнить,
но при этом они все время должны повторять про себя какой-нибудь
слог или простое слово. Участники эксперимента приходили к
странному результату: они утверждали, что прекрасно помнят
предъявляемую фразу в виде идеального образа, но совершенно не в состоянии
произнести ее вслух, т. е. духовная память выполнила свою функцию,
а телесная нет. Причина этого феномена достаточно ясна: когда
моторный механизм тела занят выполнением одного навыка, он не может
освоить другой; в материи, в пространстве один элемент бытия всегда
несовместим с другим. В духовной же памяти этой проблемы нет, здесь
все образы существуют совместно и не препятствуют вызыванию друг
друга.
Еще один выразительный феномен, демонстрирующий внутреннюю
сложность памяти, — психическая слепота, которая выражается в том,
что человек с нормальным зрением не узнает привычных предметов,
133
Глава 3. «Материя и память»
т. е. фактически не видит их. Этот феномен очень трудно объяснить
в рамках традиционной психологии, признающей восприятия и
воспоминания однородными по своей сущности. Если человек является
физиологически зрячим, ничто не мешает формированию у него
нормального восприятия вещи, и невозможно понять, почему не
осуществляется акт узнавания, т. е. отождествления этого восприятия
с однородным по отношению к нему воспоминанием. В концепции
Бергсона все получает естественное объяснение. Первичный акт
узнавания в нашей жизни всегда является телесно-моторным актом,
т. е. он связан с телесной памятью, которая определяет навыки
практического оперирования с вещами. «Узнавать предмет обихода прежде
всего означает уметь им пользоваться»23. И только после того, как
моторная память выполнила первичное узнавание, на первый план
выходит идеальная память, которая связана с вызыванием образов
прошлого, т. е. настоящих воспоминаний, наложение которых на
восприятие придает ему полноценный смысл, завершая тем самым
процесс узнавания.
Феномен психической слепоты связан, по Бергсону, с нарушением
работы механизма моторного узнавания: хотя больной сохранил
способность формировать обычные восприятия с помощью духовного
узнавания, он в силу определенной патологии механизма моторной
деятельности не в состоянии осуществлять с вещами привычные
операции в практической сфере, поэтому он не может начать процесс их
осмысленного узнавания, ему не на что опереться в реальности.
Правильность такой интерпретации подтверждается тем парадоксальным
фактом, что многие больные, страдающие психической слепотой,
способны были восстановить в воображении (в идеальной сфере)
образы тех вещей, сталкиваясь с которыми в действительности они не
могли узнать их, т. е. не могли осуществлять с ними привычные
действия. Интересно, что обычные слепые достаточно быстро
осваиваются в любом незнакомом помещении и тактильно узнают предметы,
больной же психологической слепотой, который не узнавал своей
собственной комнаты, не смог освоиться в ней и после нескольких
месяцев тренировок. Это наглядно показывает, что причиной
психической слепоты является радикальные дефекты именно механизма
моторного узнавания. Поскольку этот механизм полностью
управляется головным мозгом, нет ничего удивительного, что психическая
слепота часто возникает при травматическом воздействии на мозг.
Бергсон А. Материя и память. С. 216.
134
3.2. Память как измерение целостности бытия
Но этот факт ничуть не свидетельствует в пользу того, что мозг «хранит
воспоминания», ведь во многих случаях, как было указано, больные
полностью сохраняли воспоминания о вещах и обстановке, которые
они не могли узнать.
Моторная память наиболее значима в практической сфере, и она
даже способна вытеснить идеальную память — в том случае, когда
деятельность, связанная с восприятием, становится автоматической.
Однако без идеальной, духовной памяти она вообще не могла бы быть
человеческой памятью, поскольку моторной памятью обладают и
животные. Идеальная память дает самый важный и заметный элемент
восприятия — осмысленный образ предмета, однако ее работа менее
заметна, чем работа телесно-моторной памяти. Это порождает странную
ситуацию: хотя все явные результаты действия памяти связаны с ее
духовной составляющей и они по своему объему неизмеримо
превосходят результаты действия телесной памяти (ведь в ней фиксируется
каждый момент нашего прошлого), когда речь идет о механизме работы
памяти, мы склонны видеть только телесную память. «Когда психологи
говорят о воспоминании как о приобретенной извилине, как о
впечатлении, которое, повторяясь, отпечатывается все глубже, — пишет
Бергсон, — они забывают, что огромное большинство наших
воспоминаний связано с событиями и подробностями нашей жизни, сущность
которых в том, что они относятся к определенному моменту времени
и, следовательно, уже никогда не воспроизводятся. Воспоминания,
приобретаемые усилием воли, повторением, редки, исключительны.
Наоборот, регистрация памятью единственных в своем роде фактов
и образов происходит каждое мгновение. Но так как заученные
воспоминания наиболее полезны, их замечают в первую очередь. А
поскольку приобретение этих воспоминаний при помощи повторения
одного и того же усилия подобно уже известному процессу привычки,
то воспоминание этого рода предпочитают выдвинуть на первый план,
делают из него образец воспоминаний, а в спонтанном запоминании
видят то же самое явление в зачаточном состоянии, как бы первое
чтение урока, заучиваемого наизусть. Но как можно не признать, что
существует радикальное различие между тем, что должно быть
образовано через повторение, и тем, что по самой своей природе
повториться не может?»24
В итоге в сформированном восприятии мы видим только статичный
образ и упускаем телесный процесс, составляющий основание образа
Там же. С. 209.
135
Глава 3. «Материя и память»
и обеспечивающий само различие настоящего и прошлого,
действительности и воспоминания, а при анализе механизма памяти,
наоборот, видим только повторяющиеся действия тела и обеспечивающие
их процессы в нервной системе и упускаем акты духовной памяти.
Это приводит к тому, что оба слагаемых памяти и вся ее работа
в целом оказываются неразрешимой загадкой и для науки, и для
философии.
Особенно явно значение духовной памяти как главного слагаемого
человеческой памяти выступает в феномене внимания. Суть внимания
в том, что, не ограничиваясь первым актом узнавания предмета или
ситуации, наше сознание еще раз осуществляет тот же акт, но
пытается найти в прошлом дополнительные воспоминания, которые
добавляются к полученным ранее, составившим восприятие в первом акте,
и делают его более сложным и детальным. Кажется, что внимание
должно целиком зависеть от активности духовной памяти, поскольку
результатом внимательного восприятия является более сложный набор
смыслов, обнаруживаемых в объекте. Вот как Бергсон описывает
процесс все более и более внимательного рассмотрения предмета: «.. .наша
память направляет на полученное восприятие схожие с ним прошлые
образы, набросок которых был уже намечен нашими движениями.
Таким образом она заново воссоздает наличное восприятие или, скорее,
дублирует это восприятие, накладывая на него то его собственный обу
раз, то образ-воспоминание того же рода. Если удержанный или
восстановленный в памяти образ не покрывает всех деталей
воспринятого образа, то вызываются более глубокие и отдаленные регионы
памяти, до тех пор, пока другие уже известные детали не спроециру-
ются на неузнанные, незнакомые. Такой процесс может продолжаться
без конца, так как память укрепляет и обогащает восприятие, которое,
в свою очередь, развиваясь все более и более, притягивает к себе все
большее число дополнительных воспоминаний»25.
Однако объяснение внимательного восприятия оказывается
невозможным без учета взаимодействия и дополнительности телесной и
духовной памяти. Как и в случае обычного восприятия, в случае
внимательного исходным и определяющим является телесно-моторное
узнавание. Оно осуществляется повторно по отношению к предмету,
который уже воспринят в сознании в виде ясного образа.
Недостаточность этого образа заставляет человека осуществлять повторное
телесное узнавание, которое в сочетании с уже имеющимся образом позво-
Бергсон А. Материя и память. С. 222.
136
3.2. Память как измерение целостности бытия
ляет «прочертить» в предмете больше деталей, сделать его телесное
узнавание более богатым. Подобно тому как первичный акт телесного
узнавания выделил из слитного бытийного контекста отдельный
фрагмент бытия, составляющий основу исходного восприятия предмета,
так и вторичное узнавание уже в самом опознанном предмете
выделяет его отдельные элементы как основу нового, более внимательного
восприятия. Нужно еще раз подчеркнуть, что более богатое телесное
узнавание, как и первичное узнавание в его исходной телесной форме,
не является рационально понятым и выразимым, оно чисто
интуитивно и должно быть осмыслено с помощью нового образа или системы
образов, разъясняющих детали, что осуществляется на следующем
этапе, когда в действие вновь вступает духовная память.
Тот факт, что акт внимательного восприятия начинается с нового
телесного узнавания, более сложного и богатого деталями, чем первое
узнавание, бывшее основой исходного акта восприятия, ясно
проявляется в том, что акт внимания интуитивно признается нами как некое
усилие, и это усилие буквально ведет к напряжению и усталости, что
очевидно намекает на его телесную природу. В качестве наглядного
примера внимательного восприятия Бергсон приводит ситуацию
восприятия речи людей, говорящих на иностранном языке. Пока человек
не освоил соответствующий язык в совершенстве, ему требуется
значительное усилие, чтобы настроиться на понимание смысла разговора.
Не настроившись на внимательное восприятие, он слышит не
осмысленные слова, а равномерный «шум», не имеющий содержания. Но
когда он совершит усилие внимания, этот «шум» вдруг распадется на
отдельные звуковые элементы — слова и фразы, которым на следующем
этапе можно будет придать ясный смысл. Здесь два этапа
внимательного восприятия — телесное и духовное узнавание, предстают четко
отделенными друг от друга: первичное телесное узнавание
заключается в разделении непрерывного «шума» на отдельные слова и фразы,
а последующее духовное узнавание — в придании им идеального
смысла на основе знания соответствующего языка.
Второй из этих актов вполне понятен, но вот первый снова рождает
проблему, о которой уже упоминалось выше и которая выглядит
неразрешимой: чтобы выделить слова и фразы из непрерывно звучащей
речи, уже необходимо опознать их как независимые и как-то
осмысленные; получается, что первый акт уже требует частичной реализации
второго, хотя второй невозможен до того, как выполнен первый (слова
невозможно понять, пока они не выделены из слитного целого речи).
Данный пример важен тем, что в описанной ситуации легко увидеть,
137
Глава 3. «Материя и память»
какими методами осуществляется телесное узнавание: человек прежде
всего повторяет, артикулирует чужую речь и только на этой основе
осуществляет ее смысловое понимание. Такое повторение и есть акт
телесного узнавания: в телесном «аккомпанементе» чужой речи
слушающий структурирует ее, выделяет слова и фразы, еще не понимая их;
понимание осуществляется следом за этим, на основании воспоминаний
о смыслах выделенных слов и фраз, воспринятых в процессе обучения
языку.
Этот частный пример помогает понять общую схему не только
внимательного, но и любого восприятия. В его основании всегда лежит
некая деятельность тела, понятая в широком смысле, как совокупность
мускульных реакций, каким-то образом соотносящая тело с
воспринимаемым предметом, воспроизводящая его формы. При этом нужно
иметь в виду важное дополнение к этому тезису Бергсона, о котором
говорилось выше: мускульная деятельность тела является только
центральным и наиболее явным элементом гораздо более обширной
системы действий и порожденных ими процессов, которые захватывают
большие области пространства — вплоть до воспринимаемого
объекта. В частном случае понимания речи смысл указанной системы
действий вполне нагляден, поскольку он исчерпывается собственно
мускульными усилиями речевого аппарата, но в общем случае
восприятия произвольного предмета ее смысл и структура совершенно
неочевидны. Тем не менее тезис о первостепенном значении для познания
указанной системы действий, захватывающей все пространство между
телом человека и воспринимаемым объектом, является абсолютно
принципиальным в философии Бергсона.
Вернемся к описанию процесса внимательного восприятия.
Осуществленное более сложное телесное узнавание предмета приводит к
осознанию несоответствия между ним и прежним (до акта внимания)
восприятием, сознание снова отправляется в прошлое на поиски новых
воспоминаний, которые накладываются на первоначальное восприятие,
и в наличном объекте «прочерчивается» гораздо больше деталей, чем
раньше. В результате такого процесса память накладывает на
мгновенное объективное восприятие целую систему «сплавленных» друг
с другом образов-воспоминаний, аналогичных сформированному ранее
и детализирующих его смысл. Как уже было отмечено, в этом процессе
возможны ошибки, когда память наложит на наличное восприятие
несоответствующие воспоминания, заслоняющие его самого, а также
полная независимость соответствующей «субъективной» стороны
восприятия от «объективной», как во сне и при галлюцинации. Правиль-
138
3.2. Память как измерение целостности бытия
ное, адекватное восприятие (узнавание) предполагает согласованную
и взаимодополнительную работу телесной и духовной памяти, хотя
окончательный результат почти полностью определен духовной
памятью, ведь реальное восприятие есть система «сплавленных» образов-
воспоминаний, которые были предоставлены сознанию именно
духовной памятью. Здесь еще раз можно напомнить важный вывод: на деле
то, что мы называем «телесной памятью», вообще не является памятью
в собственном смысле этого слова, это система телесных действий,
в центре которого находится моторно-двигательный механизм тела,
они осуществляются в настоящем и обеспечивают нормальную работу
духовной памяти, т. е. собственно памяти.
В духовной памяти не только заключена сущность собственно
памяти, она составляет сущность всего человеческого бытия. Память мы
обычно понимаем как «воскрешение» образов прошлого, т. е.
ушедшего, уже не существующего бытия. Нужно осознать, до какой степени
концепция памяти у Бергсона не соответствует этому обыденному
представлению. Он часто использует такую же терминологию и те же
выражения (например, «образ-воспоминание» или «образ прошлого»),
которые мы используем, имея в виду эту концепцию здравого смысла.
Однако он вкладывает в соответствующие термины совсем иное
содержание. Его позиция в вопросе о сущности памяти настолько же
радикально противостоит общепринятым воззрениями на память, как
его концепция восприятия противостоит распространенным
представлениям о «фотографировании» органами чувств и мозгом реальных
вещей. Как мы помним, Бергсон настаивает, что в акте восприятия мы
вовсе не дублируем объективную реальность, а схватываем ее саму
в себе. Тем самым он снимает пространственную границу между
человеком и миром, устраняет пространственную ограниченность
человека, утверждает, что человек существует не в теле, а в мире — во всем
мире. Точно так же и в понятии памяти он отрицает наличие какого-то
идеального дублирования прошлого в сознании. Центральный тезис
концепции памяти Бергсона выглядит так: «.. .мы никогда не достигли
бы прошлого, если бы сразу не были в нем расположены»26. Прошлое,
которое встает перед нами в акте воспоминания, — это оно само, а не
его дубликат, это то самое состояние мира, которое было и, как нам
кажется, ушло, но на самом деле продолжает существовать в полном,
едином бытии, включающем все его отдельные состояния, связанные
с отдельными моментами физического времени.
Бергсон А. Материя и память. С. 244.
139
Глава 3. «Материя и память»
Через свою концепцию памяти Бергсон приходит к своеобразной
онтологии, которая составляет невидимый центр его философской
системы. В рамках этой онтологии материальный мир, распростертый
в пространстве перед нами, — это только один «срез» «полного» бытия,
которое включает не только бытие мира в настоящем, но и все его
состояния во все моменты прошлого. Непосредственно и наглядно нам
дано только бытие мира в момент «теперь», однако все прошлые
состояния продолжают существовать в «полном» бытии. Человеческое
бытие в такой онтологической конструкции оказывается
расположенным не столько в мире настоящего, в мире «теперь», сколько в «полном»
бытии, охватывающем всё прошлое; более того, именно человеческое
бытие (в аспекте длительности) обеспечивает связь между всеми
мгновенными состояниями материального мира, расположенными на линии
из прошлого в настоящее; сутью человеческого бытия является
расположенность сразу во всех этих мгновенных состояниях мира.
Духовная память и выражает эту суть: в акте воспоминания человек
выявляет свое продолжающееся присутствие в том срезе бытия, которое он
называет прошлым. В этом смысле в концепции Бергсона требует
объяснения не наша способность внезапно во всех деталях вспомнить
событие или ситуацию, которые были много лет назад, а тот факт, что
мы очень многое из того, что было с нами, как раз не в состоянии
вспомнить. Проблемой здесь является акт забывания, а не акт воспог
минания.
Объяснение обоих этих актов в концепции Бергсона выглядит
парадоксальным с точки зрения здравого смысла, но совершенно
естественным в рамках его подхода. Психологи напрасно ищут механизм
воспоминания, такого механизма в нашем сознании нет — по самой своей
онтологической сущности мы расположены во всех моментах прошлого
и помним всё. Но природа, в целях более эффективного действия в
настоящем, наделила нас механизмом забывания, его работу и нужно
изучать, чтобы понять, почему так избирательна наша память. Если бы
все прошлые срезы бытия присутствовали перед нами наряду с моментом
настоящего, это сделало бы наше восприятие мира гораздо более сложным
и привело бы к тому, что ориентация и действие в настоящем были бы
затруднены. Блокируя наше совершенно естественное восприятие
бесконечно многообразного прошлого, механизм забывания заставляет нас
настраиваться на настоящее и на эффективное действие в нем через
управление своим телом — одним из элементов этого настоящего.
Идея особого механизма забывания находит себе выразительное
подтверждение в историях людей с необычными способностями, среди
140
3.2. Память как измерение целостности бытия
которых особенно интересны для рассматриваемой темы мнемоники,
способные без малейшего труда запомнить и воспроизвести наборы
из сотен бессмысленных чисел или слов. Нас поражает такая
способность, поскольку в обыденной жизни мы все, как и профессиональные
психологи, полагаем, что усилие запоминания реализуется только через
многократно повторяющиеся упражнения, т. е. в форме
телесно-моторной памяти. Но каждый из нас интуитивно чувствует, что для этого
вида памяти результат, который с легкостью демонстрирует мнемоник,
абсолютно недоступен. Очевидно, что этот результат достигается
другим путем и с помощью совсем иного механизма. На деле он
является следствием определенной психической патологии, а именно
следствием сбоя в работе психического механизма забывания. Это приводит
к тому, что ближайшее прошлое не блокируется, не забывается должным
образом, как это свойственно каждому нормальному человеку; его
моменты оказываются для сознания не менее реальными и не менее
«доступными», чем момент настоящего. Поэтому, чтобы вспомнить
последовательность чисел, которые ему только что диктовали, такому
человеку нужно последовательно направлять свое внимание на
соответствующие моменты прошлого и, вновь пребывая в них, еще раз
услышать произносимые числа и последовательно воспроизвести их
в настоящем. Воспроизведение сотни продиктованных чисел в таком
случае ничем не отличается от повторения числа, которое было
произнесено только что. Характерно, что для людей с подобными
способностями их «талант» является на деле тяжелым бременем, существенно
усложняющим жизнь, делающим ее поистине патологической. И это
связано как раз с «наложением» прошлого на настоящее, с
неспособностью их сознания воспринимать прошлое как несущественное, как
ушедшее.
Помимо прочего в рамках своей концепции памяти Бергсон дает
очень естественное философское обоснование идее о существовании
огромной сферы бессознательного в человеческом сознании. Эта идея
традиционно связывается с именем Зигмунда Фрейда, однако
философские построения Фрейда являются чрезвычайно наивными и не
выдерживающими серьезной критики. Значение психоаналитической
теории Фрейда в этом контексте связано только с наглядной
демонстрацией «безбрежности» нашей памяти, с демонстрацией того
факта, что на деле мы помним гораздо больше, чем нам кажется, причем
даже то, что давно забыто, при определенных условиях можно
привести к ясному осознанию. Бергсон в проведении идеи
бессознательного идет гораздо дальше, чем Фрейд-. Последний утверждает,
141
Глава 3. «Материя и память»
что только некоторые события и ситуации прошлого влияют на
личность в настоящем, причем это влияние он в основном считает
негативным (влияние невротических комплексов). Бергсон же
убежден, что все моменты прошлого продолжают потенциально
существовать и действовать в нас, хотя мы этого и не замечаем. Наиболее
явно прошлое действует в характере человека, ведь характер во всех
его сложнейших нюансах — это спрессованное прошлое, в котором
каждый момент что-то определяет в нашей личности. «Наша
прошлая психологическая жизнь вся целиком обуславливает наше
настоящее состояние, не детерминируя его с необходимостью; также
вся целиком она обнаруживается и в нашем характере, хотя ни
одного из прошлых состояний в нашем характере явным образом не
видно. Соединяясь, эти два условия обеспечивают каждому прошлому
психологическому состоянию реальное, хотя и бессознательное
существование»27.
В этом рассуждении реальность прошлого обосновывается
психологически^ через идею непрерывности временного существования
человеческой личности. Гораздо более важным является метафизический
смысл идеи объективного существования прошлого. Ведь, как уже
говорилось, согласно Бергсону, человеческая память сохраняет не
столько прошлые состояния одного частного элемента реальности
(собственной личности в ее телесном выражении), сколько состояния
всего материального мира в целом. Это слагаемое философии Бергсона
особенно важно, но и особенно трудно для понимания, поэтому о нем
нужно сказать отдельно.
3.3. Динамическое соотношение духа
и материи
Подлинную память Бергсон подчеркнуто именует духовной памятью,
а иногда и просто духом, понимая этот термин в традиционном для
европейской философии смысле. Это кажется достаточно странным,
учитывая стремление Бергсона преодолеть негативные тенденции
классической философии; ведь дух — это одно из характернейших
понятий классических систем. Однако для него важно, что дух, при
любом его определении, обладает в качестве самой главной
характеристики абсолютной целостностью, слитностью всех своих внутренних
27 Бергсон А. Материя и память. С. 253.
142
3.3. Динамическое соотношение духа и материи
элементов и состояний; именно в этом он противостоит материи как
форме бытия, в которой господствует разделенность и обособленность
элементов и состояний. Поскольку в философии Бергсона дух
является еще и саморазвивающимся началом, он выглядит очень похожим
на центральное понятие системы Гегеля. Кажется, что две концепции
различаются разным пониманием положения и роли отдельных
личностей в структуре подлинного духовного бытия: у Гегеля дух в своем
объективном развитии мало зависит от «субъективных духов», от
отдельных личностей, а у Бергсона он полностью сводится к некому
единству, синтезу личных форм духовной памяти. Однако, если иметь
в виду уже упоминавшуюся выше новейшую интерпретацию
философии Гегеля (И. Ильин, А. Кожев), можно утверждать, что Гегель
придает гораздо большее значение роли отдельных личностей в
структуре духа, чем это казалось его первым прямолинейным
интерпретаторам. Если же учесть те изменения, которые были внесены Бергсоном
в свою философскую концепцию в следующей книге — «Творческая
эволюция», можно признать его взгляды гораздо более близкими
к объективному идеализму Гегеля, чем это кажется при прочтении
«Материи и памяти». Принципиальное отличие представлений
Бергсона от представлений его немецкого предшественника заключается
в том, что он мыслит развитие духа полностью спонтанным и не
подчиненным никакой заранее определенной закономерности, в то время
как наличие такой закономерности (описываемой в Логике) является
одним из важных элементов системы Гегеля. Но самой важной
особенностью концепции Бергсона является более сложное описание связи
духа и материи в сравнении с достаточно прямолинейной гегелевской
концепцией перехода духа в «инобытие».
В «Опыте о непосредственных данных сознания» слитная и
динамически развивающаяся реальность духа (нашего внутреннего мира)
просто противопоставлялась множественной, пространственно
разделенной, фиксированной в своих формах реальности материального
мира, проблема взаимодействия материи и духа здесь практически не
затрагивалась. Но в «Материи и памяти» эта проблема вышла на первый
план, Бергсон попытался понять, как материальный мир
взаимодействует с духом и как возникает из него, в результате он создал очень
оригинальную и сложную модель отношения духа и материи. К
сожалению, эта сторона философии Бергсона остается менее известной и
исследованной, чем другие, более яркие ее слагаемые, хотя на деле
именно здесь находится идейный центр его системы, задающий смысл всех
остальных элементов.
143
Глава 3. «Материя и память»
Вспомним, как Бергсон понимает материальную действительность.
Он различает, с одной стороны, мир, данный нам в чувственном
опыте и состоящий из актуальных образов-восприятий, и, с другой
стороны, материальный мир как таковой, состоящий из аналогичных
«образов», не данных в восприятии, но более многообразных в своем
содержании, чем воспринимаемые образы. При этом Бергсон
настаивает на том, что это различие не является принципиальным, оно лишь
«количественно», а не «качественно», не относится к сущности
материальной реальности: «Наши заключения о чистом восприятии можно,
в действительности, резюмировать так: в материи есть нечто сверх
того, но не отличное от того, что дано фактически. Сознающее
восприятие, без сомнения, не достигает материю целиком, так как, будучи
сознающим, оно состоит в разделении или в "различении" в этой
материи того, что касается различных наших потребностей. Но между
таким восприятием материи и самой материей разница только в
степени, а не по существу, так как чистое восприятие относится к материи
как часть к целому. Это означает, что материя не смогла бы обнаружить
сил иного рода, чем те, которые мы в ней воспринимаем. Она не имеет,
не может скрывать в себе таинственных свойств»28. Однако если мы
более внимательно всмотримся в то, как Бергсон описывает «полную»
материальную реальность, стоящую «за» миром, данным в восприятии,
то нам придется признать, что последнее его утверждение нельзя
признать правильным: два мира все-таки достаточно существенно
отличаются друг от друга.
Бергсон неустанно повторяет, что свойства непосредственно
воспринимаемого мира заданы нашей телесной деятельностью в
отношении его, т. е. взаимодействием тела с материальным окружением. Здесь
вновь приходится обратиться к уже обсуждавшемуся выше вопросу
о правильном понимании этой деятельности. Во многих случаях
можно подумать, что Бергсон имеет в виду только деятельность
биологического тела и ничего более. Но как раз в этом случае высказанный им
тезис невозможно было бы обосновать. Принципиальное свойство
телесной деятельности в ее обыденном, самоочевидном понимании —
ограниченность, она охватывает только очень небольшую сферу
«ближайшего» бытия. В то же время Бергсон утверждает, что материальные
объекты в полноте их бытия (в материальном мире как таковом) также
находятся во взаимодействии друг с другом, но их отношения друг
к другу имеют совершенно иной характер, чем отношения к ним на-
Бергсон А. Материя и память. С. 201.
144
3.3. Динамическое соотношение духа и материи
шего тела: их действия полностью «пронизывают» и «охватывают» всё
бытие, не имея тех ограничений, которые присущи нашей
деятельности. Это означает, что указанная «полная» материальная реальность
не имеет привычных нам пространственных форм и больше похожа
на слитный внутренний мир личности, чем на физический мир,
известный нам по непосредственному восприятию. Бергсон прямо
констатирует сходство «полной» материальной реальности с сознанием:
«Протяженная материя, рассматриваемая в целом, подобна сознанию,
где все уравновешено, компенсировано и нейтрализовано; она
действительно допускает неделимость нашего восприятия»29. Само понятие
отдельной материальной вещи в указанной «полной» реальности
становится условным. Вещи «перетекают» друг в друга, сливаются в
единство, обладают целостной динамикой. В итоге различие между
внутренним миром личности и материальным миром в его «полноте» —
то, что было важнейшим положением книги «Опыт о непосредственных
данных сознания», — почти исчезает. И совершенно очевидно, что так
понятый материальный мир качественно отличается от мира
непосредственного восприятия, т. е. тезис Бергсона, который мы
обсуждаем, оказывается неверным.
Эта проблема несколько смягчается, если признать, что в
концепции Бергсона телесная деятельность человека, лежащая в основании
телесного узнавания предметов, — это нечто гораздо более сложное
и объемлющее, чем просто мускульная деятельность биологического
тела. Об этом уже говорилось выше, здесь можно только повторить,
что, принимая идею Бергсона о существовании «большого» тела
человека, охватывающего значительную (если не всю) материальную
вселенную, нужно и телесную деятельность понимать как осуществляемую
не только собственно биологическим телом, но и этим «большим» телом,
эта деятельность охватывает значительные области вселенной. Роль
биологического тела и его достаточно простых форм мускульной
активности заключается в том, что они находятся в центре системы гораздо
более сложных форм деятельности, осуществляемых «большим» телом,
и управляют ими.
При таком понимании материальной деятельности человека она
является такой же бесконечной и всеохватной, как и гипотетическое
взаимодействие всех элементов бытия в материальном мире как
таковом, поэтому тезис Бергсона о том, что мир нашего восприятия и
материальный мир в его полноте являются подобными друг другу,
Там же. С. 298.
145
Глава 3. «Материя и память»
оказывается вполне допустимым. Тем не менее этот тезис не может
быть рационально-научно обоснован, поскольку те формы
деятельности, которые «продолжают» действия биологического тела в
окружающей действительности, не подлежат (по крайней мере пока)
научному исследованию; это — чисто философское положение, логично
вытекающее из исходных принципов концепции познания Бергсона,
но не дающее никакого конкретного описания нашей подлинной
«расположенности» в мире.
Однако против идеи Бергсона о материальном мире как
таковом (в его «полноте») можно выдвинуть и чисто философские
возражения. Использование весьма радикальной и неверифицируемой
идеи о взаимодействии каждого элемента материального бытия
с каждым другим, точно так же как явное сходство
сконструированного таким образом мира с внутренним миром личности (т. е. с духовным
бытием), делает сомнительным обозначение его как «материального».
Гораздо более логичным и последовательным в концепции Бергсона
было бы отождествить материальное с наличным в восприятии. Это
предположение не только естественно вытекает из всей логики
рассуждений Бергсона, оно даже прямо сформулировано в «Материи
и памяти»: «В более общем виде можно сказать, что в той
непрерывности становления, которая есть сама реальность, настоящий момент
конституируется посредством почти мгновенного среза, который наше
восприятие делает в протекающей массе, и это срез, собственно,
и есть то, что мы называем материальным миром. Наше тело
занимает в нем центральное место, именно тело мы непосредственно
воспринимаем как протекающее, и в его актуальном состоянии
сосредоточена актуальность нашего настоящего. Материя как нечто
протяженное в пространстве должна, по нашему мнению, определяться как
непрерывно начинающееся заново настоящее, наше же настоящееу
напротив, и есть сама материальность нашего существования, т. е.
совокупность ощущений и движений — и ничего сверх этого. И эта
совокупность определенна и неповторима для каждого момента
длительности, потому что ощущения и движения занимают места в
пространстве, а в одном и том же месте не может быть нескольких вещей
сразу»30 (курсив мой. — И. £.).
Как мы видим, в этом высказывании материальный мир — это «срез»,
который наше восприятие делает в целостности протекающего бытия,
и он не может быть ничем, как только результатом акта восприятия.
Бергсон А. Материя и память. С. 247.
146
3.3. Динамическое соотношение духа и материи
Получается, что этим рассуждением Бергсон опровергает свое
предположение о некой «полной» материальной реальности, которая якобы
стоит за миром, данным в восприятии. Чем же можно объяснить
возникновение этого противоречия? И возможно ли, что Бергсон не видел
его? Думается, что этого не может быть. Здесь скорее нужно говорить
о неточности выражения, может быть сознательно допущенной ради
того, чтобы не вступать в очевидное противоречие с обыденным и
научным отношением к материальному миру. Сведение материальной
реальности к системе восприятий отдельных людей очень похоже на
традиционный субъективный идеализм; Бергсон не хотел, чтобы
его поняли в этом смысле, поэтому-то он и защищает идею
«объективной», «полной» материальной реальности, не сводимой к восприятиям.
Но у этой идеи нет никаких оснований в его философии, более того,
она вносит путаницу в его систему, поскольку подразумеваемый здесь
«материальным мир» оказывается в гораздо большей степени похож
на наше сознание, чем на тот мир, который дан нам в непосредственном
восприятии.
На самом деле объяснение материального мира через акты
человеческого восприятия в концепции Бергсона ничего общего не имеет
с субъективным идеализмом, поскольку восприятия здесь не
являются субъективными, это объективные акты, протекающие в самой
реальности и как бы вырезающие пространственно определенные вещи
из целостного, текучего и бесформенного, бытия. Само это бытие уже
не должно называться материальным; «полное» бытие есть бытие
духовное, доступ к нему дает память, и в нем человек составляет не просто
локальную часть, но важнейшее измерение. Точнее, все люди в
совокупности составляют творческое, деятельное начало этого духовного
бытия, и действие этого «начала» выражается как раз в том, что они
своей деятельностью формируют внутри духовного бытия
материальный мир. Именно «коллективная» человеческая сущность, т. е.
родовой человек, является фундаментальным измерением бытия,
отдельные же личности — это вторичные образования, выделяющиеся из
единой человеческой сущности в процессе ее действия в материальном
мире и во многом только в отношении к материальному миру; в
отношении к полному духовному бытию представление об отдельной
личности не имеет столь большого значения, здесь «действует» слитное
единство личностей, точнее, здесь личности не настолько выделяются
из человеческого единства, чтобы о них можно было говорить в
сущностном смысле. Бергсон указывает на этот факт, говоря о развитии
сознания детей: «Психологи, изучавшие раннее детство, знают, что
147
Глава 3. «Материя и память»
представление наше вначале безлично. Только мало-помалу, благодаря
индукции, оно принимает наше тело за центр и становится нашим
представлением»31.
Указанная общечеловеческая деятельность оказывается в
философии Бергсона точным аналогом творящей деятельности Бога, с
помощью которой Бог, согласно традиционным религиозным
концепциям, создает мир. Действительно, в «Материи и памяти» и в других
работах Бергсон постоянно повторяет мысль о том, что вся система
телесной, материальной деятельности людей — ив актуальных, и в
виртуальных ее формах — обеспечивает формирование объективного
измерения нашего восприятия; но это и означает, что указанная
деятельность «формирует» материальный мир, ведь, согласно
рассмотренной ранее теории восприятия Бергсона, объективные, «мгновенные»
восприятия есть сами вещи. Теперь, опираясь на проделанный анализ
понятия материального мира, можно дать окончательное описание
процессу возникновения наших восприятий, который одновременно
есть процесс формирования материального мира.
Напомним, что реальное восприятие включает не только
объективное измерение, обусловленное телесной (по сути, животной)
деятельностью, но и субъективное измерение, формируемое с помощью
духовной памяти. При этом нужно заметить, что в контексте только
что рассмотренной модели отношения материального мира к полнот
му (духовному) бытию различие «объективного» и «субъективного»
измерений восприятия нужно признать имеющим исключительно
психологический смысл, с метафизической точки зрения оба
измерения объективны, поскольку протекают в одном и том же духовном
бытии. Как уже не раз говорилось выше, реальное восприятие
формируется в равной степени и телесной деятельностью, и
деятельностью, связанной с работой духовной памяти: последняя соединяет
множество образов из прошлого и, синтезировав их в некоторое
единство, «накладывает» полученное смысловое содержание на
неопределенный фрагмент бытия, выделенный в самой реальности телесной
деятельностью. Так и возникает окончательное целостное восприятие,
включающее в себя неопределенное объективное (материальное)
основание и ясно очерченное и осмысленное субъективное (духовное)
содержание.
Чтобы еще дальше продвинуться в понимании структуры
восприятия и структуры материального мира, формируемого актами восприя-
31 Бергсон А. Материя и память. С. 185.
148
3.3. Динамическое соотношение духа и материи
тия, нужно разобраться в особенностях духовной деятельности,
определяющей смыслы воспринимаемых объектов. В своей сути духовная
память — это акт, в котором бытие личности в настоящем, в моменте
«теперь», соединяется с ее бытием в определенные моменты прошлого.
Именно в этом заключается онтологический характер памяти, не
копирующей прошлое и не хранящей его, а просто связывающей бытие
личности в настоящим с бытием прошлого. Но бытие прошлого устроено
совсем иначе, чем бытие настоящего, ведь настоящее материально,
а прошлое идеально, принадлежит к полному, духовному бытию, частью
которого является внутреннее бытие личности. Прошлое принадлежит
длительности, в которой всё соединено со всем, все элементы бытия
существуют в единстве, в слитности. Поэтому духовная память дает
бытие прошлого в принципиально иной форме по сравнению с
разделенным бытием настоящего — в его цельности, а не в разделенности.
Эта цельность имеет два «измерения». Во-первых, предстает цельным
восприятие материального мира в каждый отдельный момент
прошлого; хотя в настоящем мы видим мир разделенным на независимые вещи,
как только он переходит в прошлое, становится «воспоминанием»,
он изменяет свою структуру: образы вещей «сливаются» в единство,
поскольку в соответствующем «срезе» бытия уже отсутствует действие
нашего телесного механизма, а ведь именно он обеспечивает четкое
«разделение» материального мира на отдельные элементы. Во-вторых,
цельным предстает сама длительность прошлого: сливаются в
нераздельное единство все моменты прошлого и все «срезы» бытия,
соответствующие этим моментам.
Продуманные до конца в своем значении эти особенности
духовного бытия (прошлого) заставляют внести существенные дополнения
в ту модель восприятия, которую Бергсон описывает в книге «Материя
и память». Причем изменения приходится вносить в понимание обоих
этапов процесса восприятия. Как уже говорилось выше, первый этап —
телесное узнавание — невозможно понимать как мгновенный акт:
поскольку его обосновывает телесная деятельность, которая имеет
определенную длительность, он также имеет длительность. В этом
смысле и настоящее есть определенная длительность, а не мгновение.
Теперь мы похожие выводы должны сделать относительно второго
этапа процесса восприятия — формирования субъективного элемента
восприятия с помощью памяти. Бергсон часто утверждает, что память
отправляется в прошлое, чтобы осмыслить воспринимаемый предмет,
и выбирает из определенного момента прошлого ясный
образ-воспоминание, которое накладывается на неопределенное телесное узнавание
149
Глава 3. «Материя и память»
предмета в настоящем. Мы должны признать это описание
существенно неточным: во-первых, невозможно выделить и зафиксировать в
памяти отдельный, мгновенный образ («срез») мира, можно выделять
только «отрезки», интервалы длительности, да и то в неразрывной
связи со всей длительностью прошлого; во-вторых, невозможно вырвать
из целостного представления о мире в определенный момент
прошлого (т. е. из целостного воспоминания) отдельный, ясно очерченный
образ предмета.
Двигаясь в прошлое, духовная память извлекает из него не один
момент (это в принципе невозможно), а связные «отрезки», причем
не в изолированности от всего остального прошлого, а во
взаимосвязи с ним. Получается, что прошлое может «работать» в настоящем
только целиком, но при этом из него могут выступать, иметь
главенствующее значение, отдельные «отрезки», особенно значимые для
придания смысла воспринимаемому предмету. При этом должен
существовать некоторый механизм, обеспечивающий выделение
определенного «отрезка» прошедшего. Должно быть какое-то основание
такого выделения. Бергсон неоднократно.подчеркивает, что совершаемые
в настоящем телесные действия подсказывают сознанию, в какой момент
прошлого нужно заглянуть, чтобы осуществить духовное, смысловое
узнавание предмета. Но как это конкретно осуществляется? Вероятно,
нужно предположить, что действия, обуславливающие телесное
узнавание объектов, тоже каким-то образом фиксируются в духовной
памяти (уже не как собственно действия, а как образы-воспоминания
действия); именно они и выступают маркером определенного
момента прошлого. Осуществление таких же точно или подобных действий
в настоящем дает возможность соотнести настоящее с теми
моментами («отрезками») прошлого, в которых осуществлялась эта или
подобная деятельность.
Но все-таки память о деятельности имеет совсем иной характер, чем
деятельность, которая осуществляется в настоящем, поэтому в
воспоминании мир не столь ясно структурирован, как это имело место
в его восприятии в настоящем (в бывшем, но ушедшем настоящем).
Этот факт непосредственно известен каждому из нас: вспоминая какой-
то эпизод прошлого, мы понимаем, что в нем предметы не столь
фиксированы в своих пространственных формах, не столь ясно
определены, как это было, когда они непосредственно переживались в настоящем.
Мы скорее помним смыслы предметов и явлений, чем их ясные формы.
Это совершенно естественно; ведь главная функция телесного
механизма узнавания состоит в выделении предметов из целостности бытия,
150
3.3. Динамическое соотношение духа и материи
в конституировании их четких пространственных форм, но, переходя
в прошлое, становясь воспоминанием, образ мира делается иным,
различие предметов остается, но при отсутствии телесного действия оно
уже не столь выражено, многообразие элементов мира предстает
в свойственной духовной памяти «слитной» форме. Предметы
выделяются своим смысловым «ядром», но одновременно они образуют
неразделимое единство. Вновь нужно констатировать, что прошлое,
входящее в настоящее с помощью духовной памяти, может действовать
в нем только как целое, но в его действии «акцентируется», выходит на
первый план некоторая «область», соответствующая тому предмету,
который воспринимается и познается в настоящем. Эта выделенная
«область» в итоге и задает конкретное содержание воспринимаемого
предмета.
Нужно добавить, что и «отрезок» временной длительности, и
«область» внутри целостного образа мира, о которых здесь говорится,
нужно понимать как неопределенные в своем протяжении; они не могут
иметь четких границ, поскольку в духовном бытии такие границы
невозможны в силу его фундаментального качества цельности, слитности
и отсутствия в нем формы пространства. Ясность границ характерна
только для предметов материального мира, она обеспечивается
телесной деятельностью, внутреннее же содержание предметов задается
тем, что в указанные границы сознание вкладывает всю слитную
память как целое, но в этом целом «акцентированы» отдельные «отрезки»
и «области» в отмеченном выше смысле. Хотя описанная процедура
вкладывания всего прошлого в воспринимаемый предмет кажется
чрезвычайно экзотической и непонятной, в книге Бергсона есть
изящный пример, который дает наглядную иллюстрацию этому процессу.
Вспомним приведенное выше определение характера человека: «Наша
прошлая психологическая жизнь вся целиком обуславливает наше
настоящее состояние, не детерминируя его с необходимостью; также
вся целиком, она обнаруживается и в нашем характере, хотя ни
одного из прошлых состояний в нашем характере явным образом не
видно. Соединяясь, эти два условия обеспечивают каждому прошлому
психологическому состоянию реальное, хотя и бессознательное
существование»32.
Бергсон говорит о «психологической жизни», но на самом деле здесь
дано описание важнейшего качества онтологической структуры
человека. В своей сущности человеческая личность — это вся совокупность
Бергсон А. Материя и память. С. 253.
151
Глава 3. «Материя и память»
памяти, существующей в слитном виде, как целостное единство; это
означает, что действие человека в настоящем, в материальном мире,
нужно понимать как воплощение, «вкладывание» в настоящее (в
форму материальных поступков) всего слитного духовного единства
памяти. Вся совокупность таких воплощений (телесных форм и поступков)
и есть человеческая личность в ее явленности в материальном мире.
При этом с психологической точки зрения каждый из нас имеет свою
собственную память, но с онтологической — память (длительность)
одна на всех, ведь мы существуем в одном мире и в одном и том же
духовном бытии. Может возникнуть вопрос о том, почему же личности
столь различны, если в них действует одна и та же память. Ответ на
этот вопрос очевиден: пребывая в одном и том же духовном бытии,
мы своими актами структурируем это бытие, т. е. трансформируем его
в материальный мир и в собственную телесность, по-разному, поэтому
и слитное целое прошлого оказывается явленным в настоящем
различным образом — в виде одного и того же материального мира,
но представленного в опыте отдельных индивидов с существенными
модификациями; последние происходят прежде всего из различий
в телесной стороне личностей, а эти различия, в свою очередь,
являются материальным воплощением характера.
Такая модель явленности всего прошлого в настоящем в виде
отдельного элемента этого настоящего — абсолютно универсальна;
по сути, все элементы настоящего определены именно таким образом.
В частности, содержание каждого предмета, который мы
воспринимаем, возникает в результате «вложения» в пространственную форму,
определенную телесной деятельностью, всей целостности прошлого
с определенным акцентом на отдельные его «отрезки» и «области»,
задающие идеальный смысл предмета. Такое понимание механизма
действия прошлого в настоящем заставляет существенно
скорректировать те высказывания Бергсона, в которых он описывает восприятие
как синтез объективного основания и субъективного образа,
заимствованного из прошлого. Это утверждение кажется естественным понять
в том смысле, что в акте духовного узнавания сознание выбирает
конкретный и обособленный образ-воспоминание предмета,
принадлежащий только одному или нескольким моментам прошлого. Но если
бы субъективный аспект восприятия строился так, мы столкнулись бы
с очевидной проблемой. К упомянутым здесь образам-воспоминаниям,
извлеченным из прошлого, можно применить ту же модель объяснения:
в момент их формирования (в их настоящем) они были синтезом неких
образов-воспоминаний из прошлого. С очевидностью возникает ситуа-
152
3.3. Динамическое соотношение духа и материи
ция регресса в бесконечность: чтобы объяснить образ в настоящем,
мы переходим к образам в прошлом, но для их объяснения нужно идти
в еще более далекое прошлое и т. д. Непонятно, где же находятся
окончательные, определенные «из себя», а не из прошлого образы.
Эта проблема исчезает, если мы признаем, что не отдельные
моменты прошлого, а оно все в целом участвует в формировании образа
предмета, причем в каждом конкретном случае оно предстает с новыми
господствующими в нем «оттенками» и «качествами». Такое
представление о целостном действии прошлого в настоящем тем более
естественно, что, как уже говорилось, сама мысль о возможности выделить
один момент из целостности прошлого противоречит представлению
о его неразрывной связности.
Таким образом, в своем естественном развитии теория восприятия,
которую выдвинул Бергсон, от исходной, «наивной» формы, основанной
на стереотипах обыденного и научного сознания, переходит к по-
настоящему строгой и непротиворечивой форме, избавленной от
указанных стереотипов. В первом варианте мы предполагаем возможность
выбора с помощью памяти отдельных моментов прошлого и возможность
выделения четких образов отдельных предметов из целостных образов
мира, сформированных в эти моменты прошлого. Во втором и
окончательном варианте приходится признать, что духовная память входит
в настоящее всегда целиком, но при этом она маркирует
воспринимаемый предмет как определенный (как дерево, куст, дом и т. п.) только
потому, что в его структуре происходит выдвижение на первый план
определенных «отрезков» и «областей», задающих качественную
характерность предмета, его смысловое «ядро». Идеальные смыслы всех
предметов заданы в структуре духовного бытия, но их пространственно-
временная определенность есть только в настоящем, поскольку она
обеспечивается телесной деятельностью, осуществляемой в
материальном мире, который и есть то, что мы называем «настоящим». Это
настоящее также не является мгновенным, а имеет свою длительность,
но, по крайней мере, эта длительность не является всеобъемлющей, как
длительность духовного бытия, и поэтому она ближе к понятию
«мгновение», которое в строгой форме есть только математическая фикция.
Здесь можно вспомнить то объяснение парадоксов Зенона, которое
Бергсон дал в своей ранней книге. Наш интеллект постоянно
пытается представить целое или движущееся сложенными из отдельных
элементов или состояний покоя. Аналогичным образом и прошлое
научное сознание, точно так же как сознание обыденное,
представляет сложенным из отдельных, независимых моментов; действие памяти
153
Глава 3. «Материя и память»
оно представляет как ряд актов, являющих отдельные воспоминания,
на самом же деле каждый акт памяти целостен и осуществляется
сразу во всей целостности прошлого, подобно тому как и акт движения
осуществляется сразу во всем протяжении траектории, а не
складывается из отдельных состояний покоя. К сожалению, правильно выявив
эту ошибку нашего рационального понимания реальности, Бергсон
сам не избежал ее в своих философских построениях. Часто он
описывает формирование субъективного аспекта восприятия как
соединение отдельных образов-воспоминаний, извлеченных из отдельным
моментов прошлого, в этих случаях он с очевидностью сам совершает
такого рода ошибку.
Впрочем, можно предположить, что это не столько ошибка, сколько
невнимательность и неточность выражения. Ведь Бергсон в конце
концов четко фиксирует невозможность понимать настоящее как
«мгновенное», он признает, что настоящее (настоящее состояние
наличного материального мира) есть своеобразная длительность, сложным
образом взаимодействующая с длительностью нашей памяти. Хотя
наше сознание склонно мыслить настоящее в качестве отдельного
изолированного момента, такое представление является абстрактным,
не применимым к тому конкретному реальному настоящему, которое
существует перед нами. Материальный мир не чужд длительности,
и он не может быть описан как «мгновенный срез», осуществляемый
нашим восприятием, как это сформулировано в приведенной выше
цитате. Бергсон, вероятно, понимал неточность этого высказывания,
поскольку мысль о том, что материальный мир сам причастен
определенной длительности, неоднократно формулируется в его работах.
Еще в «Опыте о непосредственных данных сознания», вопреки главной
тенденции этой книги, он писал: «.. .внешние предметы, по-видимому,
длятся, как и мы»33. Аналогичное суждение есть в книге «Мысль и
движущееся»: «...материальный мир, взятый как целое, заставляет наше
сознание ждать: он сам ждет. Он либо длится, либо находится в
согласии с нашей длительностью»34. В конце книги «Материя и память»
Бергсон также обращается к этой теме и приходит к важным выводам,
которые мы рассмотрим чуть ниже.
Проведенный анализ процесса формирования наличного
материального мира в актах нашего восприятия заставляет задуматься о том,
33 Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. С. 96.
34Бергсон А. Мысль и движущееся. Введение. Часть вторая. О постановке
проблемы // Бергсон А. Избранное: сознание и жизнь. С. 101.
154
3.3. Динамическое соотношение духа и материи
насколько указанный мир в действительности является
«материальным». Материальное настоящее, мир нашего непосредственного
восприятия, есть длительность, определенная телесной деятельностью,
которая дает основу для разделения и фиксации отдельных
предметов, но недостаточна для придания им внутреннего смысла. Этот смысл
в материальную длительность вносит духовная память, причем она
вся целиком «вкладывается» в каждый отдельный элемент
материальной длительности «настоящего», обладая каждый раз своим
«колоритом», происходящим из господства в ней некоторых «отрезков»,
«областей». Этот акт есть акт окончательного, смыслового
узнавания предмета, и он безусловно определен духовной деятельностью
личности.
Важно понять соотношение двух форм деятельности личности
в процессе восприятия и узнавания, т. е. в процессе «творения» мира
наличного восприятия. Вспомним, что главным качеством
материального мира Бергсон раньше считал его пространственность, причем
оценивал это качество негативно, поскольку оно приводит к
разрушению исходной цельности бытия; за формирование пространства
отвечает низшая деятельность, связанная с телесным механизмом. Но
поскольку на материальную объективность накладываются синтетические
образы памяти, в наличном мире, который мы имеем в
непосредственном восприятии, пространство не присутствует в чистом виде, оно
составляет невидимый фон всех элементов бытия, а на первом плане
в каждом из этих элементов — субъективные образы памяти, которые
сформированы и внесены в воспринимаемую действительность
духовной деятельностью. Нетрудно понять, что указанные образы обладают
всеми свойствами целостного духовного бытия, поскольку они и есть
это целостное бытие, явленное в ограниченной форме: они
качественно неповторимы, взаимосвязаны с окружающими образами,
динамически меняются и, самое главное, обладают бесконечным содержанием,
поскольку в них присутствует в концентрированном виде вся глубина
духовной памяти.
Всё сказанное дает объяснение той странной неоднозначности,
которая присутствует в описаниях материального мира в книге
«Материя и память». Строго говоря, никакого чисто материального мира
вообще не существует! Мир, представленный в нашем восприятии,
не является строго материальным, поскольку качественное содержание
каждого восприятия — это духовное содержание, это «явленность»
в настоящем того целостного духовного бытия, которое составляет
основу всего существующего. Это означает, что и в так называемом
155
Глава 3. «Материя и память»
«материальном мире» все его наиболее явные содержания — прежде
всего содержания образов отдельных предметов — являются
духовными, бесконечными и длящимися. Снова мы видим принципиальное
противоречие в рассуждениях Бергсона, связанных с пониманием
материального мира — главной проблемы книги «Материя и память».
Бергсон утверждает в приведенной ранее цитате, что материальный
мир — именно как только материальный — нужно представлять как
мгновенный «срез» протекающего (духовного) бытия, он
конституируется как наличный в одном мгновении настоящего. Но это
представление не соответствует реальному миру, поскольку в его структуре
неотъемлемо присутствует духовная память, которая вносит в него
временную глубину и бесконечное содержание прошлого (в виде
субъективных образов, выражающих это прошлое в конкретной
ограниченной форме). Нужно признать, что и в этом высказывании, и в
других случаях Бергсон вводит нас в заблуждение, когда говорит о
«материальном мире»; на деле он имеет в виду вовсе не собственно
материальный мир, а данный нам в восприятии духовно-материальный мир,
в котором слагаемое, внесенное духовной памятью, гораздо
существеннее и заметнее, чем «материя» и «пространство».
Собственно материальный мир, имеющий ясно выраженную форму
пространства, делимого в строгом математическом смысле, можно
оправдать, только если признать его абстрактным, научным представг
лением, извлеченным нашим интеллектом, настроенным на управление
деятельностью тела, из того целостного духовно-материального мира,
который представлен в восприятии. Мы возвращаемся к важному
тезису, который был сформулирован в предыдущей главе, но который
только теперь может быть осмыслен в своем значении: строго говоря,
форма однородного и делимого пространства есть только идеальное
представление, а не реальность; она значима только для научного
сознания, которое пытается выдать свои представления за «познание»
мира, хотя на деле они являются абстрактными схемами, до предела
обедняющими и искажающими реальность, фиксирующими в ней
только то, что связано с телесной деятельностью, но упускающими
самое главное содержание. Как пишет Бергсон, однородное
пространство обладает «лишь реальностью схемы или символа. Оно имеет
значение для поступков существа, действующего на материю, но не для
работы ума, размышляющего о ее сущности»35. Из этого следует, что
научное понятие пространства и его теории ничуть не помогают понять
Бергсон А. Материя и память. С. 298.
156
3.3. Динамическое соотношение духа и материи
даже материю, не говоря уже о «полном» бытии, являющемся в своей
главной сути бытием духовным.
Однако этот вывод вовсе не означает, что духовное и тем более
материальное бытие лишены протяженности; тот факт, что наука
способна описывать протяжение только через форму однородного и
делимого (математического) пространства, ничуть не доказывает
универсальность и обязательность этой формы, на деле есть протяженность}
недоступная научному познанию, причем именно она является
подлинной протяженностью реального мира. Бергсон абсолютно
недвусмысленно приписывает и материальному, и духовному (!) бытию
свойство протяженности. Но только эта протяженность является
конкретной и неделимой, в отличие от абстрактно-однородной и
делимой протяженности математического пространства. В результате
описание пространства, в многообразии его возможных форм, в
«Материи и памяти» оказывается полностью аналогичным описанию
времени, подробно проанализированному в «Опыте о
непосредственных данных сознания». Подобно тому как время имеет истинную и
ложную формы, предстает как реальная длительность и как иллюзорное
физическое время, не имеющее отношения к подлинной реальности,
так и пространство явлено нам, с одной стороны, в виде реальной
качественно определенной и поэтому неделимой протяженности
(протяженности непосредственных чувственных образов предметов) и, с
другой стороны, в виде иллюзорного, только воображаемого однородного
математического пространства.
Именно эта идея дает возможность окончательно решить проблему
соотношения духа и материи, точнее, показать ложность традиционных
подходов к ее решению, преодоление которых делает указанную
проблему почти тривиальной, не требующей больших усилий для своего
решения. Ведь сложность этой проблемы всегда видели в том, что
материя обладает характеристиками пространства и времени, а дух
и духовное бытие — нет. В учении Бергсона дух, «полное» бытие,
точно так же имеет пространственное и временное протяжение, как и
материя, но только это не те однородные математические структуры,
которые нам навязывает научное сознание, а качественные и поэтому
неопределенные формы протяжения и длительности. В «Материи
и памяти» он противопоставляет свое учение как метафизическому
догматизму, признающему математические формы пространства
и времени реальными качествами вещей, так и критицизму,
полагающему их формами нашего восприятия: «...между метафизическим
догматизмом, с одной стороны, и критической философией, с другой,
157
Глава 3. «Материя и память»
находится место для учения, которое видит в однородном времени
и пространстве принципы деления и уплотнения, вносимые в
реальность ради действия, а не познания. Это учение признает всегда
реальную длительность и реальную протяженность и усматривает, наконец,
истоки всех трудностей уже не в этой длительности и не в этом
протяжении, действительно принадлежащих вещам и непосредственно
обнаруживающих себя нашему разуму, но в однородном времени и
пространстве, которые мы протягиваем под ними, чтобы делить
непрерывность, фиксировать становление и обеспечивать точки опоры нашей
деятельности»36.
Главным объектом критики Бергсона становится наука и научное
сознание, которые создают принципиально искаженный образ мира,
но выдают его за истинное знание, в то время как даже обыденное
восприятие дает гораздо более правильную и полную картину реальности.
Главные формы искажения — это как раз однородные и бесконечно
делимые математические формы пространства и времени; как
утверждает Бергсон, эти формы в очень малой степени могут быть признаны
отражением реальности, это искусственные орудия нашей деятельности
в мире, причем деятельности низшей, животной, совсем не
учитывающей глубинную суть реальности. Только интуиция, опирающаяся на
непосредственное восприятие и отвергающая ложный образ мира,
создаваемый наукой, способна «схватить» в едином акте подлинную
сущность реальности. И только философское знание, отвергающее
научный метод и на основе своих собственных методов раскрывающая
содержание указанной интуиции, дает более или менее адекватную
картину мироздания и правильно определяет место человека в нем.
При этом здесь, конечно, имеется в виду философия особого типа,
осознавшая ложность того пути, по которому пошла новоевропейская
философия, ориентирующаяся на науку и научный образ мира и
забывшая, что по своему происхождению она является знанием, бесконечно
превосходящим науку. Из такого понимания философии и исходит
Бергсон.
В соответствии с той метафизикой, которая выстроена в книге
«Материя и память», реальность предстает в нашем сознании и познании
на четырех уровнях: «полное», духовное бытие, доступное только
духовной памяти и интуиции; бытие мира, данного в непосредственном
восприятии; бытие материального мира как такового; и, наконец, бытие
«математической» вселенной, которую выстраивает наука на основании
Бергсон А. Материя и память. С. 293-294.
158
3.4. Концепция духовного бытия Бергсона и традиция мистического пантеизма
формы однородного и бесконечно делимого пространства и
аналогичной формы однородного «опространствленного» времени. Последний
уровень в наименьшей степени является реальным, это скорее
идеализированный и абстрактный (т. е. существенно искаженный) образ
существующего, тем не менее он навязчиво предлагается господствующим
научным сознанием в качестве «подлинной действительности».
Предположение о существовании материального мира как такового
наиболее спорно: Бергсон настаивает на том, что необходимо полагать
в качестве основания мира наличного восприятия, но на деле этот
гипотетический мир практически не различим за миром наличного
восприятия, являющимся безусловно действительным для обыденного
сознания. Однако и последний не является окончательной реальностью,
в смысле метафизической первичности, — подлинной и первичной
реальностью является духовное бытие.
Нужно заметить, что последовательное развитие идей Бергсона
приводит к выводам, которые явно противоречат некоторым его
исходным положениям. Вспомним, что в самом начале книги «Материя
и память» он дал яркое определение материального мира как
совокупности «образов». Завершая анализ изложенной в книге концепции,
можно сказать, что это определение является по меньшей мере неясным.
Ведь если «образ» понимать так, как это понимали позитивисты — как
данное здесь и сейчас мгновенное восприятие (так и думает
большинство читателей), то это определение неверно, концепция восприятия
Бергсона однозначно опровергает его. Если же считать, что «образы» —
это сложные духовные образования, «внутри» которых присутствует
вся бесконечность прошлого, как и получилось в итоге, то этот термин
ничего не поясняет и только запутывает ситуацию. По крайней мере,
такое понимание «образов» прямо противоположно позитивистскому
подходу, поскольку предполагает в каждом наличном феномене не
данную непосредственно бесконечную глубину, выявление которой
требует сложного философского анализа, далекого по своей
методологии от научного познания.
3.4. Концепция духовного бытия Бергсона
и традиция мистического пантеизма
Из упомянутых выше четырех уровней реальности три «низших»
происходят из «высшего», из духовного бытия, причем той «силой»,
которая вызывает преобразование «полного» духовного бытия во все
более и более ограниченные формы, является сознание человека,
159
Глава 3. «Материя и память»
понятое как неотъемлемое и всюду присутствующее измерение этого
духовного бытия. Как мы увидим далее (см. раздел 3.5), в философии
Бергсона главной функцией сознания, человеческого бытия, является
творчество, постоянное порождение нового, поэтому оно может быть
понято как творческий «аспект» духовного бытия, отвечающий за его
динамическое развитие. Процесс, в. котором из духовного бытия
формируется мир наличного восприятия, является наиболее заметным
и очевидным слагаемым этого непрерывного творчества. Выше уже
отмечалось сходство этого процесса с актом перехода Духа в инобытие
в системе Гегеля — в обоих случаях результатом этого процесса
является конституирование материального мира из полноты духовного
бытия. Однако эта аналогия не является единственно возможной; более
того, гегелевский вариант описания этого процесса не может считаться
и самым показательным. Раньше уже не раз говорилось о том, что
учение Бергсона — это талантливое развитие традиции мистического
пантеизма. Но в рамках этой традиции проблема объяснения
предметного мира, мира конечных объектов на фоне Всеединства,
абсолютного бытия, обладающего целостностью, слитной взаимосвязью
элементов, получила достаточно ясное решение. Все представители
мистического пантеизма так или иначе объясняли этот процесс;
сопоставление концепции Бергсона с этими объяснениями помогает более
ясно понять идеи французского мыслителя.
Наиболее простой и наглядной является концепция
родоначальника всей этой традиции, Николая Кузанского, о которой уже
говорилось в главе 1. В рамках пантеистической метафизики
Николай понимает Бога не как антропоморфного творца мира, а как
абсолютное бытие, охватывающее и включающее в себя бытие всех
конечных вещей. В связи с этим и возникает проблема различения
существования конечных вещей в предметном мире, и их
существования в Боге, в слитном единстве всего. Ранее (в разделе 1.2) мы
описали концепцию Творения Николая, в которой тварный мир
объясняется как модификация Бога, возникающая в результате его
соединения с началом ничто. Однако в сочинениях Кузанца есть и
другой подход к решению проблемы различения мира и Бога, в гораздо
большей степени соотносящийся с философскими построениями
Бергсона.
Главный тезис своей пантеистической концепции Николай
выражает в следующем суждении (оно в разных вариантах несколько
раз приводится в его трактатах): «...всё существующее мировым
образом находится в мире, а немировым — в Боге, так как там всё боже-
160
3.4. Концепция духовного бытия Бергсона и традиция мистического пантеизма
ственно»37. Все вещи окружающего нас мира существуют
одновременно в двух «модусах» — в мире и в Боге, и эти «модусы»
принципиально различны; вещи одновременно и имманентны Богу, и
отличны от него. В трактате «О возможности-бытии» существование вещей
в Боге характеризуется тем, что здесь имеет равный бытийный статус
всё то, что в мире является только возможностью, противостоящей
реальному бытию (актуальное бытие более совершенно, чем
соответствующая возможность, поэтому вещь, пребывающая в Боге, т. е.
в совершенстве, должна все свои возможности иметь как актуальное
бытие). Эту разницу можно описать и по-другому: вещи приобретают
«мировой» статус за счет разделения бытия и возможности, которые
в «модусе» существования в Боге совпадали. Можно сказать, что
предметный мир вместе со всеми обособленными вещами возникает в
результате акта различения, протекающего в божественном бытии.
В Боге вещи существуют как бесконечно многообразные,
неограниченные в своих качествах и проявлениях, поскольку здесь они
связаны со всем иным и равно реализуют все свои бесконечные
возможности, а в мире — как конечные и ограниченные в своем бытии. Вот
как об этом пишет Николай: «.. .раз возможность и действительность
в Боге тождественны, то Бог действительно есть всё то, о чем можно
сказать, что оно может быть. Ведь не может быть ничего, чем Бог не
являлся бы действительно. Это легко заметит всякий, кто обратит
внимание, что абсолютная возможность совпадает с действительным
бытием. Иное дело — солнце. Хотя солнце действительно является
тем, что оно есть, однако не тем, чем оно может быть: ведь оно может
быть иначе, чем оно есть действительно»38.
Описывая «модус» существования вещей в Боге, Николай
утверждает, что это существование определено принципом тождества части
и целого (т. е. каждая вещь, имманентная Богу, равна ему самому), это
связано с тем, что в его философии Бог, Абсолют понимается как
Всеединство (см. раздел 1.2). По отношению к вещам в «модусе» их бытия
в мире принцип тождества части и целого уже не действует — точнее,
он действует не во всей своей полноте, ограниченным образом; ибо
если бы он совсем не действовал, ни одна часть не могла бы постигать
смысл целого — т. е. человек в своем мировом бытии не мог бы
постигать мир в целом и Бога, на что он, согласно Николаю, все-таки
37 Николай Кузанский. О возможности-бытии // Николай Кузанский. Соч. В 2 т.
Т. 2. С. 178.
38 Там же. С. 141.
161
Глава 3. «Материя и память»
способен. Но ограничение этого принципа ведет к самостоятельности
частей на фоне целого, и это означает, что в тварном мире
присутствует не только и не столько единство вещей, сколько их разделение.
Каждая вещь тождественна сама себе, но отличается от другой
самотождественной вещи.
Тем не менее даже в тварном мире вещь может обладать бытием
только в силу сохраняющегося («умаленного») тождества с Богом, при
этом сами вещи в отношении друг друга оказываются
противостоящими и противоборствующими — каждая из них словно бы борется за то,
чтобы только она обладала полнотой абсолютного бытия (Бога) и,
значит, вобрала бы в себя весь мир. В результате божественное Всеединство
как бы размножается в бесконечное множество относительных,
небожественных единств — отдельных вещей и явлений. Вот как об этом
пишет Николай. «Когда для яснейшего воспроизведения
недосягаемости, которая совпадает с абсолютным тем же, сущее соревнуется в
уподоблении тому же путем отождествления себя с самим собой и, значит,
резкого расподобления с каждым другим, так что бесконечность, или
недосягаемость, развертывается в максимально доступной для
природы приобщающихся яркости этого расподобления, то получается, что
приобщение к одной и той же сущности развивает у них противонаправ-
ленность сил. Сохраняя тождество самим себе, они в свою очередь
стремятся отождествлять — скажем, горячее стремится горячить,
холодное охлаждать, — и, поскольку горячее зовет негорячее к тождеству
с собой, а холодное зовет нехолодное к тождеству с собой, возникает
борьба и с ней становление, разрушение и всякая подобная временность,
текучесть, неустойчивость и разнообразие движений»39. В тварном мире
абсолютное бытие («то же») как бы входит в каждую вещь и действует
в ней в соответствии с отдельным, частным аспектом своего
содержания, одновременно действуя против себя в другой вещи.
Получается, что именно существование тварного мира приводит
к тому, что всё бесконечное многообразие качеств и свойств, присущее
абсолютному бытию, Всеединству, как бы развертывается в
последовательность реально существующих вещей и явлений. Не будь
тварного мира, всё внутреннее богатство Абсолюта осталось бы «непро-
явленным», и это означает, что мир необходим Богу для того, чтобы
явить себя и свою сущность. При этом Бог не может явить себя
«частично», он в каждом случае являет себя целиком, но при этом он
39 Николай Кузанский. Диалог о становлении // Николай Кузанский. Соч. В 2 т.
Т. 1. С. 341-342.
162
3.4. Концепция духовного бытия Бергсона и традиция мистического пантеизма
может сделать себя самого определенным только в отношении
отдельного аспекта своей полноты, это и есть сущность отдельной вещи
или явления. Николай прямо выражает мысль, что множественность
вещей и число как ее точное выражение сами по себе являются
необходимыми для Бога и определены божественной волей:
«Множественность вещей произошла оттого, что божественный ум одно
понимает так, а другое — иначе. И если рассмотреть это тщательно,
то ты обнаружишь, что множественность вещей есть только способ
понимания со стороны божественного ума. Так, полагаю, можно
неопровержимо утверждать, что первообразом вещей в духе Создателя
является число. На это указывает привлекательность и красота,
которые присущи всем вещам и состоят в соразмерности, а последняя —
в числе»40.
Но множественность вещей в Боге не есть множественность
разделенная, в Боге всё существует в слитном состоянии, т. е. не
проявляет себя в полной мере именно как множественное. Только переходя
в разделенность, множественность становится явной и определенной,
это и происходит в форме тварного мира. Откуда же берется
обособленность вещей и явлений, ведь Бог сам по себе не может «разделиться»
на отдельные сущности? Кузанец понимает сложность этой проблемы
и пытается дать ей наиболее естественное решение. Он различает и
противопоставляет сущность вещей (т. е. сами вещи в их божественном
«модусе», в их существовании в божественном всеединстве) и вещи как
таковые, т. е. вещи в их разделенном состоянии, в мировом «модусе».
И далее он констатирует противоположность сущностей вещей и вещей
самих по себе в смысле их способа существования: «сущности (essentiae)
вещей неразрушимы, как и единство, на основе которого возникает
являющееся бытием (entitas) число», в то же время «вещи существуют
всякий раз таким именно образом, на основании различия,
возникающего не от сущности числа, но в виде случайного следствия при
умножении единства. Способность отличаться, таким образом, не
принадлежит к сущности ни одной вещи. Различие способствует исчезновению,
так как является разделением, от которого происходит разрушение.
Поэтому оно не принадлежит к сущности вещи»41. Различие вещей,
характерное для тварного мира, здесь описано как случайное, но
именно оно приводит к такому радикальному качеству тварных вещей как
их уничтожимость, «смертность». Понятно, что такая «случайность»
40 Николай Кузанский. Книги простеца. С. 407-408.
41 Там же. С. 408-409.
163
Глава 3. «Материя и память»
должна иметь внебожественное происхождение; несомненно, здесь
Николай имеет в виду необычное (и совершенно еретическое)
представление о том, что тварный мир получается в результате «вхождения»
Бога в начало ничто, которое понимается как независимое от Бога
(см. раздел 1.2).
Можно увидеть в этих идеях оригинальное повторение той модели
реальности, которую создал Платон и неоплатоники и к которой
европейские мыслители обращались на протяжении двух тысячелетий. Ведь
сущности вещей, о которых говорит Николай, можно сопоставить
с платоновскими идеями (эйдосами), существующими в «слитной»
форме в Боге или (что то же самое) в чисто идеальном мире, лишенном
признаков разделения и пространственности. Начало ничто,
примешивающееся к вещам в акте Творения, — это платоновское пространство
(материя), определяющее разделенность вещей, их изменчивость
и уничтожимость. Как мы увидим ниже, Бергсон также использует эту
модель в своем понимании отношения материального мира и мира
духовного, несмотря на весьма критическое отношение к платоновской
философии.
Вспомним теперь некоторые положения теории познания Николая
Кузанского. Саму возможность рационального знания Николай Ку-
занский соотносит с возможностью разделить и изолировать вещи,
привести их в форму определенной конечности. Только конечное
и определенное бытие можно измерять, и именно это является делом
нашего ума: «...умом (mens) является то, от чего возникает граница
и мера (mensura) всех вещей. Я полагаю, стало быть, что его называют
mens — от mensurare»42 (mensurare на латыни означает «измерять»).
Из такого понимания рационального познания следует, что оно
искажает бытие вещей, рациональность дает вещи не в их подлинной
сути, т. е. не в связи с Богом, а в предельно упрощенной и обедненной
«мировой» форме, в отделении от Бога и друг от друга. Ясно, что само
абсолютное бытие (Бог) таким образом не может быть познано.
В трактатах Николая это утверждение повторяется много раз:
«Начало же всех вещей есть то, через что, в чем и из чего производится
всё способное быть произведенным, и однако же начала нельзя
достигнуть посредством какой бы то ни было произведенной вещи.
Начало есть то, через что, в чем и из чего познается всё познаваемое,
и всё же оно остается недоступным для разума»43. Или еще более
42 Николай Кузанский. Книги простеца. С. 388.
43 Там же. С. 364-365.
164
3.4. Концепция духовного бытия Бергсона и традиция мистического пантеизма
лаконично: «Бог — не корень противоречивых [понятий]; Он сама
простота, которая прежде всякого корня»44.
Самым оригинальным положением гносеологии Кузанца
оказывается тезис о точно такой же непостижимости сущности каждой вещи,
какая свойственна Богу. В силу приведенного выше отождествления
сущности конкретной вещи с абсолютным бытием («тем же») сущность
каждой вещи так же бесконеннау как абсолютное бытие (Бог), и, значит,
не может быть рационально познана (т. е. точно измерена). Вот как
об этом пишет Николай:
«Язычник. Откуда же мне известно, что такое человек, что такое
камень и все остальное, что я знаю?
Христианин. Ты ничего из этого не знаешь, а только думаешь, что
знаешь. Ведь если я тебя спрошу о сути того, что тебе будто бы
известно, ты подтвердишь, что саму истину человека или камня выразить не
можешь. А твое знание, что человек — это не камень, идет не от знания
человека, знания камня и знания их различия, а от опознания
привходящих признаков, различия действий и фигур, распознавая которые
ты налагаешь различные имена. Имена налагает движение
различающего разума»45.
Рационально познаваемая система объектов располагается «между»
двумя полюсами: полной (бесконечной) сущностью отдельной вещи
и абсолютной бесконечностью божественного Всеединства. Мир,
познанный рационально-научным образом (познаваемый с помощью
сравнения и измерения), оказывается у Николая полным аналогом кан-
товского «мира явлений», он представляет собой совокупность конечных
объектов, сформированных нашим познанием, системой наших конечных
человеческих «искусств», которые «являются некоторыми
отображениями искусства бесконечного и божественного»46. Даже кантовский
субъективизм частично присутствует в воззрениях Николая! Ведь он
именно ум признает «орудием», от которого происходит «граница и мера
всех вещей». Наше представление о мире, основанное на обыденном
опыте и развернутое в рационально-научное знание, согласно Кузанцу,
есть только система конечных «имен», понятий, которые «налагает»
на вещи различающий разум. При этом сами вещи, бесконечная глубина
их сущности остается недостижимой для такого представления и знания.
44Николай Кузанский. О сокрытом Боге // Николай Кузанский. Соч. В 2 т. Т. 1.
С. 286.
45 Там же. С. 284.
46 Николай Кузанский. Книги простеца. С. 390.
165
Глава 3. «Материя и память»
Помимо рационального знания Николай признает более высокое
знание интуитивно-мистического типа; способность, которая
отвечает за это знание, обозначается Николаем как интеллект, здесь
сказывается средневековая (схоластическая) традиция использования этого
термина, интеллект противопоставлялся рассудку и разуму как
божественная, бесконечная способность, в противоположность конечным
человеческим способностям. Ее суть в слиянии человеческой личности
с Богом (точнее было бы сказать «растворение» в Боге), что дает
непосредственное «знание» Бога и всего существующего. Объясняя отличие
этого высшего постижения от обычного рационального знания,
Николай утверждает, что интеллект «выше всего понимаемого, т. е.
рационального (rationabilia). Рациональное понимается интеллектом, но
интеллекта в области рационального не найти, ведь интеллект тоже как
бы глаз, а рассудочное — цвета. При желании рассмотри это подробнее
и ясно увидишь, что интеллект есть как бы свободное видение,
истинный и простой судья всех рассуждений, не смешанный ни с какими
видами рассуждений, так что его интуитивное суждение
разнообразием рациональной области не замутняется»47. Очевидно, что лучше
всего для указанной высшей способности познания подходит название
интуиции.
Метафизическая концепция Бергсона имеет много сходных черт
с онтологией Николая Кузанского. Можно сказать, что Бергсон более
детально прорабатывает ту же самую схему отношений абсолютного
бытия с предметным миром и человеком. Подлинное, духовное бытие,
которое обладает характеристикой длительности, изображается
Бергсоном как «слитное», пронизанное взаимосвязями, т. е. как Всеединство.
Механизм восприятия объектов в сознании заключается в ограничении
их бесконечных связей со всем иным, а также в ограничении их
бесконечных способов быть тем или иным образом, в «редукции» их к
конечной форме, включающей только конечный набор свойств, имеющих
практическое значение, связанных с осуществлением телесного
(предельно ограниченного) действия. «В известном смысле можно было бы
сказать, что восприятие, присущее любой материальной, лишенной
сознания точке, при всей своей моментальности, бесконечно более
обширно и полно, чем наше, так как эта точка получает и передает
воздействия всех точек материального мира, тогда как нашего сознания
достигают лишь некоторые его части и некоторые стороны. Сознание —
при внешнем восприятии — собственно, и состоит в таком отборе.
47'Николай Кузанский. Об искании Бога. С. 291.
166
3.4. Концепция духовного бытия Бергсона и традиция мистического пантеизма
Но в неизбежной обедненности нашего сознательного восприятия есть
нечто положительное и уже предупреждающее о появлении разума: это
"le discernement" в этимологическом смысле этого слова, т. е.
способность различения»48. Весь механизм телесного существования
человека, по Бергсону, обеспечивает ограничение бесконечной полноты бытия,
бесконечной системы взаимосвязей между его элементами и тем самым
фиксацию в бытии ряда пространственно ограниченных и
относительно независимых объектов, которые и составляют материальный мир.
Поскольку главным качеством духовного бытия является его связное
временное течение, то ограничение, которое низводит его до набора
ограниченных материальных объектов, есть прежде всего разрыв
временной слитности (длительности), фиксация в ней одного отрезка в его
относительной независимости от непрерывного временного контекста
(это и есть настоящее, которое, как мы видели, также имеет свою
собственную «ограниченную» длительность): «Чтобы превратить его <об-
раза, элемента бытия. — И. Е.> чистое и простое существование в
представление, достаточно разом устранить то, что за ним следует, то, что
ему предшествует, а также то, что его наполняет, сохранив лишь его
внешнюю кору, поверхностную оболочку»49. Вырванные из своих
бесконечных взаимосвязей с остальным бытием, отдельные образы стано-
рятся ограниченными представлениями нашего сознания.
Телесная деятельность, по Бергсону, формирует только объективную
основу полного восприятия, которое помимо этой основы обладает
и духовным, субъективным слагаемым, через который материальный
образ, существующий в настоящем, связывается с глубиной прошлого.
За это слагаемое восприятия отвечает духовная память, и можно сказать,
что ее работа имеет прямо противоположный смысл по отношению
к только что описанной работе сознания, направленной на разделение
и ограничение полноты духовного бытия. Духовная память, наоборот,
вкладывает в полученный пространственный, ограниченный элемент —
субъективный духовный образ, обладающий бесконечной глубиной
и бесконечным содержанием, так как он содержит в некотором
«слитном» виде все содержание прошлого, так или иначе связанное с
указанным элементом, существующим в настоящем.
Получается, что в концепции Бергсона качественная сущность
каждой вещи (выраженная в ее наглядном визуальном облике) является
бесконечной и непостижимой (для рационального познания) — точно
Бергсон А. Материя и память. С. 180-181.
Там же. С. 178-179.
167
Глава 3. «Материя и память»
так же, как и в концепции Николая Кузанского. Ведь она представляет
собой слитный образ прошлого, задающий смысл данной вещи, а
прошлое, в силу его внутренних духовных свойств, может входить в эту
вещь только целиком, в своей актуальной бесконечности; получается,
что сущность каждой вещи — это «частная» форма Всеединства
(духовного бытия); мы видим здесь точное повторение той модели объяснения
бытия вещей через «размножение» Абсолюта («того же»), которая
присутствовала в приведенной выше цитате из трактата Кузанца.
Бесконечность качественного содержания каждой вещи проявляется в том
очевидном факте, что ее можно внимательно рассматривать (в простом
восприятии и в научном познании) сколь угодно долго, все время
выявляя в ней новые и новые детали, т. е. всё новое и новое содержание.
Согласно концепции, излагаемой в «Материи и памяти», главная
функция разума, рациональной способности сознания — в ограничении,
в редукции бесконечного содержания и бесконечных взаимосвязей
бытия к конечным формам; причем это характерно для разума как
в аспекте его отношения к наличной реальности, так и в аспекте его
отношения к прошлому: разум точно так же ограничивает
безграничность памяти, бесконечность взаимосвязей элементов прошлого, как
он ограничивает бесконечность взаимосвязей элементов
материального настоящего. Правильное понимание сознания в аспекте его
рациональной деятельности в философии Бергсона лишает его функции
«прожектора», освещающего бесконечные глубины бытия, как считало
большинство философов в истории, и превращает в «закройщика»,
который вырезает из непрерывной «ткани» духовной реальности
небольшие однозначные формы, чтобы дальше создать из них прочную
материальную реальность, удобную для обитания и эффективной
практической деятельности. В этом смысле представленность в ясном
рациональном сознании ни в каком смысле не является универсальным
критерием существования определенных элементов бытия: тот факт,
что огромные области прошлого кажутся абсолютно утраченными для
сознания, вовсе не означает, что они перестали существовать, — ведь
не считаем же мы несуществующими те области материальной
реальности, которые в данный момент не воспринимаются сознанием;
«верните сознанию его настоящую роль: тогда не будет больше причин
утверждать, что однажды воспринятое прошлое стирается, как нет
причин предполагать, что материальные предметы перестают
существовать, когда я перестаю их воспринимать»50.
Бергсон А. Материя и память. С. 249.
168
3.4. Концепция духовного бытия Бергсона и традиция мистического пантеизма
Таким образом, именно наше сознание производит ограничение
бесконечности и взаимозависимости «полного» духовного бытия,
порождая из него сначала мир нашего непосредственного восприятия,
а затем (с помощью научной абстракции) представление о чисто
материальном мире мгновенного настоящего и, наконец, об однородном
и полностью измеримом мире, замкнутом в математические формы
трехмерного пространства и одномерного времени. Переход от
духовного бытия к миру непосредственного восприятия, а от него к
абстракциям чисто материального мира и мира, заключенного в математические
формы пространства и времени, связан со всё большим замыканием
субъекта на телесной, практической деятельности и со всё большим
сужением духовной деятельности, интуиции, связывающей субъекта
со всем бесконечным бытием.
Низший уровень понимания бытия, мир математических
абстракций пространства и времени, является предельно схематической
моделью, порожденной нашим умом, он получается при выделении
«чистой» формы мира и полном устранении связей этой формы с
бесконечностью духовного бытия. Если бы этот мир стал реальностью,
то в нем люди оказались бы полностью редуцированными до
состояния механических автоматов, очень точно вписанных в эту реальность
и в ее однозначные законы, но именно поэтому не обладающих ни
каплей свободы. Мир материального бытия, существующий в
моменте настоящего, — это мир животного состояния, мир инстинктивных
реакций, уже не полностью детерминированных, обладающих
минимальной долей произвола, но всё еще далеких от подлинной свободы.
Только мир наличного восприятия — это мир человеческого,
свободного бытия, поскольку он уже не является чисто материальным и
существует, по своему главному содержанию, не только в настоящем
(которое само обладает некоторой длительностью), но и в глубине
прошлого. В этом мире каждая вещь в ее качественной
определенности — это выражение бесконечности духовного бытия. Тем не менее,
будучи замкнутым в мире наличного бытия, человек не имеет полной
свободы. Только развитая интуиция, поднимающая человека над этим
миром к духовному бытию, дает окончательное понимание подлинной
свободы; с помощью интуиции человек сливается с Абсолютом
и осознает себя тем его измерением, в котором идет непрерывный
процесс творения, распространяющийся на все бытие и делающий
его непредсказуемо новым. Однако добиться такого интуитивного
проникновения в духовное бытие очень трудно, поскольку
навязанный нам стиль жизни заставляет придавать первостепенное значение
169
Гяава 3. «Материя и память»
телесной деятельности в материальном мире и делает очень трудным
восстановление интуитивного единства с Абсолютом. Важнейшей
целью философии Бергсона является доказательство безусловной
ценности этого единства, которого можно добиться только через
преодоление негативных привычек практицизма, привитых нам
неправильно ориентированной цивилизацией; если бы мы сумели это сделать,
«мы восстановили бы интуицию в ее первозданной чистоте и вновь
соприкоснулись бы с реальным»51.
Как и Николай Кузанский, Бергсон резко противопоставляет
рациональное и интуитивное знание: первое относится к ограниченному
миру, который конституируется нашей телесной деятельностью и
отражается в научном познании, в образе однородной, математически
исчисляемой вселенной; второе открывает бесконечную полноту
духовного бытия, при этом результат, который получится в акте интуиции,
невозможно назвать «знанием» в строгом смысле слова, он может быть
выражен только в философском дискурсе особого типа.
В нескольких пунктах между учением Николая Кузанского и
философией Бергсона можно заметить существенные различия. Всеединство
Бергсона — это духовное бытие, открывающее себя, приходящее
к ясному осознанию себя в человеческой личности (через акт
интуиции)52; в учении Николая, конечно, нет такого акцента на человеческом
бытии как универсальной форме «явленности» Абсолюта-Всеединства,
Впрочем, Бергсон очень далек от абсолютизации личности,
характерной для многих философских концепций XIX-XX веков. Как мы уже
отметили выше, для него личность есть вторичное образование, лишь
постепенно конституирующее себя через фиксацию материального
тела и его отношений с окружающими элементами бытия, поэтому
личность имеет важный смысл только в отношении материального
мира, в абсолютном, духовном бытии человек существует в
«слитности» с другими и представление о его личности, связанное с его
обособленностью и самостоятельностью, не имеет существенного
значения.
Есть еще один важный мотив учения Николая Кузанского, который
отсутствует в построениях Бергсона. Как уже говорилось выше (см. раз-
51 Бергсон А. Материя и память. С. 276.
52 Тезис о том, что интуиция есть непосредственное видение духом самого себя,
есть форма познания духом самого себя, особенно подчеркивается Бергсоном
в позднем «Введении» к сборнику «Мысль и движущееся» (1922); см.: Блауберг И. И.
Анри Бергсон. С. 448,456.
170
3.4. Концепция духовного бытия Бергсона и традиция мистического пантеизма
дел 1.2), пытаясь более детально описать процесс, в котором из
Абсолюта-Всеединства «проистекает» земной мир, Николай указывал на
метафизическое начало ничто как на причину разделения слитного
единства Абсолюта и трансформации его в форму предметного,
пространственно-временного мира: «.. .множество вещей возникает
благодаря пребыванию Бога в ничто: отними Бога от творения — и
останется ничто»53. В книге «Творческая эволюция» Бергсон отводит целую
главу опровержению тезиса об онтологической реальности ничто.
Предполагая, что он в какой-то степени знал такое метафизическое
объяснение процесса возникновения материального мира из
Абсолюта, очень характерное для мистического пантеизма (в XX веке Л.
Карсавин признал эту модель «Творения» за абсолютно универсальную для
этой традиции54, подробнее см. раздел 6.5), можно указать на две
причины, в силу которых Бергсон выступал против идеи ничто. Первая
причина связана с важнейшей новаторской чертой философии
Бергсона, с его желанием преодолеть негативные стереотипы классической
метафизики, в том числе представление о завершенности, вечности,
неизменности Абсолюта. Принимая общую модель возникновения мира
из Абсолюта (у него это духовное бытие) через его трансформацию
к формам конечности и пространственности, он не считал необходимым
для объяснения акта такой трансформации прибегать к ничто как
фактору, «внешнему» по отношению к Абсолюту. У Бергсона Абсолют
сам по себе обладает динамикой, внутренней изменчивостью и
тенденцией к постоянной трансформации своего бытия. Вторая причина
является больше «ситуативной» и не относится к сути философских
построений Бергсона. Возможно, понимая значение системы
рассуждений Николая Кузанского для традиции мистического пантеизма,
он хотел продемонстрировать непричастность своих построений к
указанной традиции. Скорее всего, здесь действовали стереотипы
научного сознания его эпохи, порожденные абсолютистскими претензиями
науки и господством позитивистской философии: подавляющее
большинство ученых и многие философы в конце XIX — начале XX века
неприязненно относилось к философии «мистического» типа,
нарушающей критерии научной рациональности. Здесь проницательность
изменила Бергсону: отрицая связи своей философии с мистическим
53 Николай Кузанский. Об ученом незнании. С. 105.
54 См.: Карсавин Л. П. Saligia, или Весьма краткое и душеполезное размышление
о Боге, мире, человеке, зле и семи смертных грехах // Карсавин Л. П. Малые
сочинения. СПб., 1993. С. 24-57.
171
Глава 3. «Материя и память»
пантеизмом и излагая основы своей метафизики таким образом, чтобы
они ничем не напоминали известные системы этого направления,
он придал своей философии гораздо менее последовательную и
логичную форму, чем это могло бы быть при открытом следовании этой
традиции. Об этом подробнее пойдет речь в следующей главе, в связи
с той метафизикой, которую Бергсон пытался выстроить в книге
«Творческая эволюция».
3.5. Проблема изменчивости
и творения нового
Принципиальное отличие метафизики Бергсона от «стандартных»
версий метафизики мистического пантеизма состоит в том, что в ней
признается непрерывное становление Абсолюта, духовного бытия,
и это означает, что в наличном перед нами мире постоянно возникают
принципиально новые явления и их закономерности. Это же
обосновывает возможность и значимость творчества в человеческой
деятельности, причем это творчество нужно понимать в достаточно
радикальном смысле, как порождение абсолютно новых предметов, невозможных
в рамках естественных природных процессов.
Но это неизбежное и важное утверждение порождает существенную
трудность в связи с тем, что оно не очень согласуется с
проанализированной выше концепцией восприятия, объясняющей структуру
мира в координации с сознанием человека. Всё предыдущее описание
показывало, что именно сознание человека совместно с телесной
деятельностью выделяет из слитного единства духовного бытия ясно
оформленные вещи и явления и тем самым формирует реальность,
в которой мы существуем. Как уже было сказано, эту реальность
невозможно назвать «материальным миром», как казалось поначалу и
как часто утверждает сам Бергсон. Главное слагаемое этой
реальности — «образы» вещей, в их непосредственной данности, являются
на самом деле духовными элементами, они задают сущность вещей
через явленность всей целостности духовного бытия, в котором
выделено, «акцентировано» некоторое его содержание, определяющее
сущность вещи.
В данном случае важно подчеркнуть, что полнота духовного
бытия берется нашим сознанием из прошлого, из бытия, которое когда-то
было прожито как настоящее, т. е. уже прошло обработку сознанием.
Но буквально это означает, что мы в настоящем «повторяем» прошлое
в несколько модифицированном виде, и эта модификация сводится
172
3.5. Проблема изменчивости и творения нового
просто к различной комбинации элементов прошлого. Может
показаться, что в такой модели невозможно обосновать появление чего-то
нового: всё существующее в настоящем просто повторяет в новых
комбинациях то, что было в прошлом. Это, конечно, совершенно
не соответствует духу философии Бергсона, в которой творческое
изменение реальности предполагается принципиальным, существенным
и не может быть сведено к комбинации старого.
Пытаясь увидеть источник нового в нашем восприятии мира, мы
можем указать в качестве такого источника только на исходный этап
процесса восприятия — на акт телесного действия в настоящем,
обеспечивающий выделение обособленных элементов реальности в нашем
опыте. Как мы помним, этот первый этап восприятия формирует
основу, на которую на втором этапе накладывается образ предмета,
сформированный из всего прошлого опыта, т. е. их духовного бытия,
взятого в сфере прошлого. Сама указанная основа выстраивается с помощью
телесной деятельности из того же самого духовного бытия, но данного
в настоящем. Духовное бытие является Абсолютом в метафизике
Бергсона, поэтому именно оно обладает первичной формой становления,
изменчивости, от которой происходят все формы становления,
развития и порождения нового в нашем мире. Однако духовное бытие,
которое составляет наше прошлое, кажется невозможным понимать
как творчески изменчивое, становящееся, ведь прошлое остается таким,
каким оно было зафиксировано в настоящем, сохраняя в неизменности
всё произошедшее. Изменчивость и непредсказуемость можно
естественным образом приписать только тому «срезу» духовного бытия,
которое составляет настоящее. Поскольку из него «выкраивается»
объективная основа восприятия, именно этой основе необходимо
приписать те элементы новизны, из которых происходит все новое и
творческое в нашем опыте.
Такое объяснение является абсолютно естественным, но оно
порождает уже обсуждавшуюся ранее трудность, связанную с тем, что
телесная деятельность дает только интуитивное основание для
восприятия, в то время как всё конкретное содержание восприятия дает
прошлое, в котором, казалось бы, нет изменчивости. Признавая, что
всё новое, встречающееся в нашем опыте, является исходно только
«интуитивным», мы должны объяснить, каким образом оно
приобретает рациональный характер, сохраняя свою новизну, обогащая старое
знание и старый опыт.
Чтобы дать объяснение этому процессу, нужно более внимательно
присмотреться к различию двух сфер бытия Абсолюта (духовного
173
Глава 3. «Материя и память»
бытия): его бытия в прошлом и в настоящем. В прошлом духовное
бытие предстает уже структурированным и разделенным на
предметы и явления благодаря тому, что всё, что содержится в прошлом,
когда-то было настоящим, т. е. было подвергнуто тому же процессу
разделения на элементы, который осуществляется в каждое новое
мгновение нашей жизни. В противоположность этому, духовное
бытие, входящее в настоящее, находится в своем собственном состоянии,
еще не модифицированном восприятием, оно есть Абсолют в себе,
в нем еще отсутствует разделение на элементы. Настоящее и есть тот
процесс, через который Абсолют из состояния «в себе» переходит в
состояние мира, т. е., используя известный термин Гегеля, в состояние
«для себя»: через человека (через восприятие и телесную деятельность)
Абсолют становится «открытым», «проявленным» в своем конкретном
содержании.
Естественно предположить, что именно в момент вхождения
в настоящее, в состоянии «в себе», Абсолют предстает
непредсказуемо новым, в то время как в сфере прошлого он уже возведен в
форму определенности и разделенности, в форму «для себя», и поэтому
качество изменчивости в нем отсутствует или, по крайней мере,
скрыто. Человеческое восприятие совместно с телесной деятельностью
осуществляет акт трансформации духовного бытия (Абсолюта)
в состояние определенности, и те элементы, которые выступают из
духовного бытия в пространственно-временной мир, оказываются
непредсказуемо новыми, хотя и связанными с аналогичными
элементами (предметами и явлениями), уже зафиксированными в сфере
прошлого.
Однако отмеченная выше трудность этим рассуждением еще не
преодолена. Ведь телесная деятельность человека, лежащая в
основании восприятия, очень ограничена по своим формам в силу
ограниченности самих материальных элементов бытия (хотя она и гораздо
шире, чем непосредственно Явные моторные реакции биологического
организма); можно сказать, что она аналогична деятельности
животных, определяющей их инстинктивное поведение, и качественно не
отличается от животной деятельности. Поэтому она предельно
стандартна, в ней не может появиться ничего принципиально нового — хотя
бы в силу того, что телесные механизмы деятельности неизменны
и не могут осуществлять ничего иного, чем предназначено их
природной структурой.
Ответ на это недоумение заключается в том, что, по теории
Бергсона, телесная деятельность только создает условия для того, чтобы сам
174
3.5. Проблема изменчивости и творения нового
реальный объект стал восприятием, вошел в сферу человеческой
телесности. Можно добавить, что в этом процессе объект не столько
фиксируется в качестве уже существующего в мире, сколько
конституируется, «творится» из духовного бытия. Нет ничего противоречивого
в том, что достаточно ограниченная и повторяющаяся телесная
деятельность создает условия для явления самого духовного бытия, самого
Абсолюта по-новому в форме привычного объекта, в котором
проявляются новые индивидуальные моменты. Таким образом, телесная
деятельность действительно позволяет войти новому в наш опыт.
Но остается вопрос о том, как из сформированной основы восприятия
(непосредственной интуиции объекта) возникает осмысленный образ
объекта. Невозможно говорить об обогащении нашего опыта, если
новое не будет преобразовано в осмысленный образ. Образ же, как уже
было не раз сказано, формируется из прошлого, и мы снова попадаем
в тот круг, которого пытались избежать.
Здесь полезно вспомнить, что Бергсон при анализе понятия
внимания и внимательного восприятия пришел к точно такой же модели
отношения телесного узнавания и духовного осмысления объекта.
Внимательное восприятие начинается, утверждает Бергсон, с нового
телесного узнавания, «прочерчивающего» новое содержание в объекте,
но затем это новое содержание осмысливается через обращение к
прошлому и формирование более сложного и богатого образа объекта.
Но почему сформированный образ способен дать новые смыслы,
будучи модификацией образов прошлого, которые, казалось бы, не
содержат ничего нового? Неразрешимая на уровне рационально-научного
подхода, оперирующего теми смыслами, которые мы берем готовыми
из уже оформленного опыта, эта проблема разрешима только при
переходе на метафизический уровень, при более внимательном
рассмотрении соотношения человеческого и мирового бытия как
взаимосвязанных измерений Абсолюта.
Выше мы признали, что первичный акт телесного узнавания
объекта (первый этап акта восприятия) способен дать новое (хотя
только в форме интуиции), поскольку в нем происходит взаимодействие
человека с духовным бытием в статусе настоящего, т. е. в полноте его
сущности, обладающей нераздельной слитностью и изменчивостью,
творческим развитием. В противоположность этому, прошлое есть
то же самое духовное бытие в.статусе определенности и разделенно-
сти на осмысленные и завершенные элементы, в которых, как
кажется естественным предположить, уже нет становления и новизны.
Однако можно заметить, что последнее предположение, абсолютно
175
Глава 3. «Материя и память»
закономерное в рамках обычного рационального мышления, не может
быть признано правильным в рамках метафизики, принятой
Бергсоном. Ведь, если прошлое есть модифицированный Абсолют, оно не
может быть полностью обособленно от того же самого Абсолюта
«в себе», входящего в сферу настоящего, точно так же как оно не
может рассматриваться как полностью лишенное важнейшего качества
Абсолюта — становления, творческой изменчивости. Условно говоря,
Абсолют в статусе прошлого только «на поверхности» оказывается
разделенным на элементы, обладающие однозначным и неизменным
смыслом (образы прошлого), в своей «глубине» он остается тем же
слитным и становящимся Абсолютом. Это наиболее очевидно
проявляется в том, что, даже став прошлым, образ каждого предмета
сохраняет бесконечное содержание: он, как и Абсолют, обладает
полностью определенной и неизменной «поверхностью» и
бесконечно изменчивой и поэтому неопределенной «глубиной». В качестве
воспоминания образ объекта выступает в сознании только своей
сохраняющейся и неизменной «поверхностью», но, соединяясь с
интуицией нового объекта, опознанного в настоящем, он проявляет свою
«глубину» и входит в образ нового объекта в совершенно новом
содержании.
Строго говоря, это означает, что в метафизике Бергсона прошлое
не является неизменным, оно может обрести новый смысл в каждом
своем элементе (а значит, и в целом)! Это, конечно, нельзя понимать
как произвольную отмену старого смысла явлений и приписывание
им нового смысла: новый смысл всегда входит как дополнительный
элемент в структуру прошлого образа. Смыслы прошлых образов и
явлений не отменяются, а обогащаются, у них обнаруживаются
дополнительные внутренние нюансы и аспекты. Однако в результате
такого обогащения итоговый смысл явления может оказаться весьма
отличным от исходного, а возможно, даже противоположным. Это
вполне фундаментальное качество изменчивости прошлого в конечном
счете и делает возможным появление в настоящем всего того нового,
с чем сталкивается человек. Ведь это новое должно быть ясно
осмыслено, чтобы войти в наш опыт, а осмысленность появляется за счет
формирования образа объекта из образов прошлого. Впрочем, само
по себе прошлое не может изменяться, это происходит только от
соединения его с настоящим и с актом деятельного освоения мира,
который человек осуществляет в настоящем. Можно сказать, что
каждое новшество имеет исток в настоящем, но в силу неразрывной
связи настоящего и прошлого оно, чтобы стать ясной и определенной
176
3.5. Проблема изменчивости и творения нового
частью нашего опыта, требует изменения прошлого — ему
необходимо найти для себя опору в прошлом опыте.
Несомненно, именно способность по-новому осмыслить прошлое,
придать его явлениям и событиям более сложный и богатый смысл
отличает человека от животных. Вероятно, их восприятие обладает
той же принципиальной способностью, что и восприятие человека, —
оно выделяет из духовного бытия ограниченные формы того мира,
в котором они существуют. Но этот мир является абсолютно
неизменным; даже если подлинная духовная реальность, стоящая за ним,
«предлагает» им что-то новое, это новое не может войти в жизненный
опыт животных, поскольку они не помнят прошлого, не обладают им,
как мы, а ведь только прошлое могло бы раскрыть, разъяснить смысл
нового на фоне уже известного. Из этого можно сделать еще один
любопытный вывод: животные не знают индивидуального, они видят
в мире только однородное и общее — они знают только категории
вещей, а не отдельные вещи. Это кажется противоречащим нашему
обыденному представлению, согласно которому способность
абстракции, формирования общих представлений («красное вообще» или
«роза вообще») принадлежит только человеческому разуму, а
животные воспринимают непосредственно реальные, т. е. индивидуальные,
вещи. Но Бергсон убедительно показывает, что два полюса нашего
осмысления и познания мира — общие и индивидуальные
представления — в равной степени являются результатом сложной обработки
первичного акта восприятия, который представляет реальность как
нечто среднее между полнотой индивидуальности и строгостью
абстракции. «Это становится ясным, если мы обратимся к целиком
утилитарному происхождению нашего восприятия вещей. В
конкретной ситуации нас больше всего интересует и мы прежде всего должны
уловить ту ее сторону, которая может отвечать какой-то нашей
склонности или потребности: потребность же непосредственно
направлена на подобие или качество, ей нечего делать с индивидуальными
различиями. Восприятие животных вынуждено обычно ограничиваться
таким выделением полезного. Травоядное привлекает трава вообще:
цвет и запах травы, ощущаемые и переживаемые как силы <...>,
составляют единственные непосредственные данные внешнего
восприятия. <...> сходство выделяется здесь не в результате какой-то
операции психологической природы: это сходство действует объективно,
как сила, вызывающая тождественные реакции согласно чисто
физическому закону, по которому одни и те же совокупные следствия
должны следовать из одних и тех же глубинных причин. Если соляная
177
Глава 3. «Материя и память»
кислота всегда одинаково действует на углекислую известь — будь то
мрамор или мел, то разве кто-нибудь утверждает, что кислота
различает в этих видах характерные черты своего рода? <... > Словом,
можно проследить — от минерала до растения, от растения до простейших
сознательных существ, от животного до человека — прогресс той
операции, с помощью которой вещи и существа улавливают в
окружающем то, что их привлекает, что их практически интересует, не
нуждаясь в абстракции, а просто потому, что всё остальное в окружающем
их не захватывает: это тождество реакции на внешне различные
действия и есть тот зародыш, из которого человеческое сознание
развивает общие идеи»55.
Оказывается, что есть два типа «сходного», «общего»: одно —
исходное, представленное в качестве действия в настоящем, другое —
полученное в результате работы нашего ума, в результате обработки
указанного исходного действия. «Сходство, из которого он <ум> исходит, — это
сходство прочувствованное, прожитое, или, если угодно, выделяемое
автоматически. То же, к которому он приходит, — это сходство, разумно
воспринимаемое, или мыслимое»56. Если мы вспомним, что именно
телесная деятельность в настоящем является основой «творения» мира,
конституирования его конкретной предметной формы, то можно сделать
вывод, что первичные формы такого конституирования являются
именно «общими», а не «индивидуальными», в том первичном смысле,
о котором пишет Бергсон. Здесь получает оправдание концепция
Творения, характерная для средневековых реалистов, которые утверждали,
что Бог творит мир, оформляя материю с помощью общих понятий.
Некоторое сходство есть и с моделью саморазвития Духа в философии
Гегеля, ведь Дух конкретизирует себя, выявляет свое содержание также
с помощью категориальных форм, т. е. с помощью «общего». Но обратим
внимание на принципиальное отличие бергсоновской модели «творения»
мира от модели логического саморазвития Духа в философии Гегеля.
У Гегеля указанное саморазвитие происходит именно в сфере чистого
духа, материальный мир — вторичен, он появляется в особом и,
условно говоря, «более позднем» акте «перехода духа в инобытие». Для
Бергсона же абсолютно принципиальным является неразрывная связанность
того «общего», которое существует первичным образом, в сфере
непосредственного бытия, с телесной деятельностью, с некими первичными
материальными процессами. Поэтому гораздо более ясным и корректным
Бергсон А. Материя и память. С. 260-261.
Там же. С. 261.
178
3.5. Проблема изменчивости и творения нового
является соотнесение его концепции не с гегелевской философией,
а с натурфилософией Шеллинга и его последователей в немецкой мысли
(см. раздел 1.4), для которых исходной аксиомой было утверждение
о неразрывной координации духа и материи. Впрочем, немецкие
натурфилософы не предполагают «творения» мира в актах восприятия
и деятельности, а для Бергсона это важнейший и очень характерный
тезис, обеспечивающий единство всей системе идей.
На том этапе анализа философии Бергсона, до которого мы теперь
дошли, можно уточнить смысл указанного акта «творения». Уже не раз
говорилось, что той «областью», где происходит конституирование,
оформление предметного мира, является настоящее, причем это
именно «область», длительность, а не мгновение. Смысл того процесса,
который протекает в указанной области, можно понять только условно,
с помощью символов, метафор, но важно правильно подобрать эти
метафоры и символы, чтобы не упустить важных элементов смысла.
В первом приближении можно сказать, что настоящее как бы делит
весь бесконечный «океан» Абсолюта на две части: перемещаясь внутри
него, оно оставляет позади себя сферу, которую мы называем
«прошлым», в ней содержание Абсолюта проявлено как многообразное
и множественное, в то время как в сфере впереди Абсолют является
слитным, нераздельным единством, в котором его содержание не
выявлено и не зафиксировано.
Сам процесс трансформации Абсолюта в сфере настоящего можно
представить как действие иерархической системы всё более и более
сложных и конкретных «сил», приводящих к разделению слитного
единства на многообразие элементов и явлений. В основании этой
иерархии находятся общие «силы», которые осуществляют разделение
абсолютного (духовного) бытия на «слои» реальности, включающие
однотипные явления природы (механические движения, тяготение,
магнетизм, свет, химизм и т. п.). Примеры такого разделения природы
на связанные и взаимодействующие сферы Бергсон дает в приведенной
выше цитате, где сопоставляет действие кислоты на мрамор и мел и
тяготение травоядных животных к растительной пище. Если бы
Бергсон стал более детально описывать действие указанных общих «сил»
и порождаемых их действием «областей» реальности, то, скорее всего,
у него получилось бы нечто подобное натурфилософским построениям
Шеллинга или построениям Гегеля в «Философии природы». В качестве
более близкого к Бергсону примера такого метода объяснения эволюции
мироздания можно указать на концепцию Вл. Соловьева, изложенную
в работе «Чтения о Богочеловечестве» (в Десятом чтении).
179
Глава 3. «Материя и память»
В указанной иерархии «сил», оформляющих предметный мир,
самыми важными и «мощными» (т. е. в наибольшей степени
определяющими наличные формы предметов и явлений) нужно признать те,
которые связаны с человеком и его сознанием. Здесь мы в очередной
раз сталкиваемся с уже известной трудностью: в метафизике Бергсона
восприятие, опирающееся на материально-телесную деятельность
человека, является главным фактором, конституирующим
материальный мир, всё бесконечное мироздание; но кажется нелепым
приписывать такую функцию весьма ограниченной деятельности
человеческого тела. Избежать этой трудности можно только за счет признания
у человека помимо биологического тела также и «большого тела»,
охватывающего все мироздание и управляющего многообразными силами
мироздания. Именно деятельность «большого тела» может быть
признана источником всех форм предметного мира. Хотя мы не осознаем
ее, в принципе именно мы управляем этой деятельностью. Как
правило, это происходит бессознательно, но может в определенных
условиях приобрести вполне осознанный характер, и тогда субъект этой
деятельности станет мистиком, влияющим на все окружающее. Таким
образом, человек не просто наблюдает за процессами природы, на самом
деле именно он (чаще всего в форме человечества, коллективного
субъекта) управляет этими процессами и организует их в стройное единство
мироздания.
В тех случаях, когда такого рода идеи выражали мыслители,
приверженные классическим формам метафизики (например, уже
упомянутые Шеллинг, Гегель и Соловьев), возникало непреодолимое
противоречие между двумя способами описания эволюции
мироздания. С одной стороны, эволюция природы от первых форм ее
организации до появления человека описывалась в рамках
объективно-идеалистической модели, как всё более полное проявление в материальном
мире ее духовной сущности (Души мира у Шеллинга и Соловьева,
Абсолютного Духа у Гегеля). С другой стороны, эпоха развития
мироздания с участием человека описывалась уже в рамках субъективно-
идеалистической модели, и здесь мир оказывался представлением
человеческого сознания. Это противоречие чрезвычайно наглядно
проступает в концепции Соловьева, который был безусловным
сторонником идей Канта и Шопенгауэра и интерпретировал мир как
представление человека, но одновременно был привержен научной
точке зрения на эволюцию природы и живых организмов вплоть до
человека. Сочетание этих двух подходов в описании эволюции
материального мира заставляет поставить естественный и практически
180
3.5. Проблема изменчивости и творения нового
неразрешимый вопрос: чьим «представлением» являлась природа
до появления человека? И как вообще можно говорить о «появлении»
человека, если он сам как сознающий субъект является основанием
всей природы?
В неклассической метафизике Бергсона эти вопросы получают
естественный ответ, можно сказать, они просто исчезают в связи с более
точным и сложным определением понятий «человек», «сознание»,
«эволюционный процесс» и т. д. В конечном счете здесь вообще
исчезает принципиальное различие между главными философскими
моделями реальности: материализмом, объективным идеализмом и
субъективным идеализмом. В философии Бергсона эти философские
направления оказываются относительно различными способами
описания одного и того же процесса, протекающего в слитном
Абсолюте и приводящего к выделению в нем сферы многообразной,
разделенной и организованной реальности предметного мира.
Понятие «человек» в метафизике Бергсона охватывает в своем
полном смысле основные «силы», действующие в сфере настоящего,
преобразующие слитный Абсолют в многообразие предметов и явлений.
Понятие «сознание» в своем полном содержании задает организацию
всей сферы разделенного Абсолюта (единство сферы настоящего и
сферы прошлого). Подобно тому как своим «большим телом» человек
охватывает всё мироздание, всю сферу настоящего, управляя всеми
процессами в ней, точно так же своим сознанием он охватывает всё
прошлое — причем не только свое ограниченное личное прошлое,
но всё прошлое мироздания. Ведь длительность, которую человек
обнаруживает внутри себя как свою сущность и которая, по сути,
тождественна его сознанию, — это слитное единство всех моментов, всего
прошлого. Хотя внутри длительности моменты обладают относительной
разделенностью и последовательностью, позволяющей говорить о них
как о моментах прошлого, но они не отделены друг от друга, и, кроме
того, не существует границы, которая прерывала бы их ряд, уходящий
в бесконечность прошлого. Именно поэтому прошлое каждого
человека бесконечно и совпадает с прошлым всего мироздания. Хотя
«освещенная» часть прошлого, доступная для осознания и реализации в действии,
конечна (личное прошлое человека), это вовсе не означает, что его
сознание не может проникнуть в «темную» часть, за пределами личной
жизни. Ведь «темные» промежутки есть и внутри личной жизни —
например, время сна; не будем же мы утверждать, что во время сна
человек и его сознание не существовали, но точно так же нельзя утверждать,
что человека (в широком смысле этого понятия) не было в том прошлом
181
Глава 3. «Материя и память»
мироздания, где отсутствовали формы биологических организмов,
называемые человеческими телами. Философия Бергсона является
весьма радикальным примером мистической философии, и одним из ее
выводов, радикально расходящихся с рационально-научной картиной
мира, является возможность «вспомнить» то, что было не только до
рождения конкретного человека, но и до появления человека как
такового; это следует из бесконечности и неразрывного единства
длительности, для которой само деление на прошлое и настоящее является
относительным.
Когда мы представляем себе картины далекого прошлого и говорим,
что тогда еще не было человека, мы должны понимать, что имеем
в виду человека в узком смысле, как биологический вид, но само
представление о прошлом уже предполагает контекст длительности, т. е.
человеческое бытие, понятое в более широком смысле. Вспомним
пример, который Бергсон приводил в работе «Опыт о
непосредственных данных сознания»: человек, который говорит, что он видел
падающую звезду и чертит рукой в небе траекторию звезды, на деле говорит
о некоторой структуре внутри длительности, а не о процессе в
материальном мире. Поэтому даже при рассмотрении самого простого
материального движения необходимо иметь в виду человеческое
бытие как основание этого движения. Точно так же при рассмотрении
далекого прошлого, где нет человека в узком биологическом смысле,
он присутствует как универсальное метафизическое основание
природы, как длительность.
Тем не менее эволюционный процесс, в котором возникает
человек в узком смысле, как биологический вид Homo sapiens, также
требует объяснения. Понимая это, Бергсон свою следующую
книгу — «Творческая эволюция» — посвятил именно этой проблеме.
Однако, как мы увидим, в этой книге он проявил слабость, пытаясь
согласовать свою метафизику с научной картиной мира и в итоге
существенно ослабил ее новаторство и не дошел до тех необычных
выводов, которые напрашивались в книге «Материя и память».
Попробуем в заключение восполнить этот недостаток и обозначить
выводы, следуя внутренней логике развития идей Бергсона в этой
главной его книге.
Эволюционный процесс, в котором из вечно существовавшего
«большого тела» человечества постепенно выделяются конкретные
индивидуальные тела отдельных личностей, можно понять как
усложнение и доведение до предельно конкретной «локальной» формы
процесса «структурирования» Абсолюта, процесса выделения из его
182
3.5. Проблема изменчивости и творения нового
слитного целого глубокого и сложного содержания. Биологическое
тело человека, представляя собой верхнюю точку всей системы
различных «сил», действующих внутри Абсолюта и преобразующих его
в многообразный и организованный материальный мир, вносит
особенно большой вклад в этот процесс, однако осуществляет оно свою
функцию вовсе не своей чисто биологической стороной. Его
биологическая деятельность полностью подобна деятельности животных и
даже уступает ей в способности освоить, подчинить себе в каком-то
определенном отношении окружающую среду. Свой вклад в дело
«творения» мироздания, бесконечно превышающий возможности
биологической деятельности животных, наше тело вносит не
биологической, а социальной деятельностью, и прежде всего деятельностью
языковой. Именно ее Бергсон сопоставляет и противопоставляет
инстинктивной деятельности животных, говоря о бесконечном
преимуществе человека над животными: «...интеллект, подражая работе
природы, также создал моторные устройства, на этот раз
искусственные, чтобы с помощью ограниченного числа этих устройств отвечать
на неограниченную множественность индивидуальных предметов:
совокупность этих механизмов образует членораздельную речь»57.
Кажется естественным понять эти слова как утверждение о том, что
наше сознание «отвечает» на встречаемую им множественность
индивидуальных предметов, но мы уже знаем, что это привычная
«оговорка» Бергсона, потакающая обыденному и научному сознанию:
в реальности дело идет о творении, созидании того множества
индивидуальных предметов, которые мы воспринимаем перед собой
в материальном мире. Мы приходим к еще одному поистине
мистическому выводу из метафизики Бергсона. В начале данной главы,
разбирая его теорию восприятия, мы пришли к выводу, что в основании
восприятия предметного мира лежит телесная деятельность человека;
там мы вслед за Бергсоном понимали эту телесную деятельность как
обычные моторные реакции тела на внешние воздействия. Теперь же
выясняется, что главной формой телесных движений,
обуславливающих восприятие, является осмысленная речь. Именно она
организует всю систему иных форм деятельности (явных и скрытых)
отдельных индивидов и общества в целом и, значит, управляет процессом
«творения» и организации материальной вселенной, постоянно
протекающим в сфере настоящего в форме человеческого восприятия.
Выше уже было отмечено, что человечество в философии Бергсона
Бергсон А. Материя и память. С. 261.
183
Глава 3. «Материя и память»
выступает в качестве своеобразного земного «Бога», в этом смысле нет
ничего удивительного, что этот «Бог» творит окружающий мир с
помощью своего Слова, которое представляет собой всю совокупность
человеческих языков.
Приведенная оценка человеческого языка является прямо
противоположной той его весьма негативной оценке, которая была выражена
Бергсоном в книге «Опыт о непосредственных данных сознания».
Однако там язык рассматривался только как средство социального
общения, имеющего целью подчинение отдельной личности обществу.
В этой своей функции он действительно резко ограничивает свободу
индивида, вводя его поведение в систему социальных норм. Но теперь
речь идет о другой функции языка, и она является уже сугубо
положительной, поскольку через нее свобода человека получает
возможность реализовывать себя в творческих актах, созидающих мир во всей
его индивидуальности. Находясь на вершине иерархии форм
материальной деятельности, творящей мир, языковая деятельность вносит
в рождающиеся предметы и явления неповторимую конкретность
и индивидуальность. Но именно это качество, именно
индивидуальность явлений, выделяемых из слитного единства Абсолюта, в
наибольшей степени выражает его бесконечное, глубинное содержание,
при наличии этого качества возникающий мир оказывается наиболее
совершенным, гармоничным и согласованным с человеком как высшей
формы явленности Абсолюта. Такой совершенный индивидуальный
мир есть окончательная цель того процесса конкретизации и
оформления Абсолюта, который протекает в сфере настоящего, поэтому,
возникнув, он фиксируется памятью в качестве личного прошлого
человека и в конечном счете составляет главную сферу Абсолюта,
явившего богатство своего содержания.
Здесь можно заметить еще один тонкий момент. Из всего
сказанного нетрудно сделать вывод, что мир в той неповторимо индивидуальной
и гармоничной форме, о котором мы только что сказали, существует
объективно только в том прошлом, которое охватывается личной
жизнью одного или многих людей; но мир в тех сферах прошлого, где
еще не было телесно обособленных личностей с их языковой
деятельностью, на деле является гораздо более «бедным» и «обобщенным»,
чем мы представляем его себе в своем воображении. В те эпохи
действовали только общие «силы», не связанные с конкретной телесностью
человека, в результате мир не мог иметь тех неповторимо
индивидуальных черт, которые в него вносит подлинно человеческая, языковая
и культурная, деятельность.
184
3.5. Проблема изменчивости и творения нового
Однако и этот тезис не является окончательным, уточняя его,
мы можем прийти к выводу, что наше представление о далеком
прошлом как столь же конкретном и индивидуальном, как и окружающая
реальность, все-таки не является ложным. Вспомним о том, что было
сказано выше в связи с творческим элементом в деятельности
человека. Мы создаем новое, причем именно в форме конкретных и
индивидуальных явлений, не только в сфере настоящего, но и в сфере
прошлого — в силу неразрывного единства прошлого и настоящего
в длительности, т. е. в структуре Абсолюта. Но это означает, что ту
«конкретизацию» и «индивидуализацию» реальности, которую
человек не смог осуществить в далеком прошлом (просто потому, что его
там не было), он постепенно осуществляет в постоянно длящемся
настоящем, создавая для себя образ этого далекого прошлого; для
этого нужно только делать усилия по соединению прошлого с
настоящим, а в этом и состоит работа познания, понятая в ее самом полном,
метафизическом смысле.
Таким образом, способность видеть индивидуальное и
неповторимое и размышлять о его смысле — это «роскошь» восприятия,
доступная только человеку, и она обусловлена взаимной
дополнительностью двух его способностей: наличием духовной памяти, охватыва-
.ющей всё прошлое, и бесконечно разнообразной по своему духовному
смыслу языковой деятельностью в настоящем. Память представляет
прошлое в неизменных формах предметного бытия, но одновременно
она дает основу для того, чтобы в каждом сохраненном образе раскрыть
бесконечную глубину Абсолюта, «оживить» его вечное становление и,
за счет перенесения этого образа в настоящее, увидеть и в самом этом
образе, и в каждом новой объекте, фиксируемом в настоящем,
неповторимую индивидуальность, небывалое новое содержание.
Непосредственным орудием, осуществляющим раскрытие индивидуальности
в образах, является языковая деятельность в настоящем: управляя
всеми видимыми и невидимыми формами материальной деятельности,
участвующими в выявлении содержания Абсолюта, она оказывается
настолько сложной и конкретной, что позволяет сформировать (при
совместном действии памяти) абсолютно индивидуальные формы
предметного мира, обогащающие наше представление о реальности
и нашу память.
Здесь необходимо учесть, что далеко не все люди способны
подняться до подлинно человеческого существования и реализовать через
себя описанные способности. Вспомним, что Бергсон придавал большое
значение различию двух типов людей — условно говоря, мечтателей
185
Глава 3. «Материя и память»
и прагматиков. Первые очень хорошо умеют обращаться с прошлым,
они с легкостью вызывают нужные им воспоминания и строят из них
своеобразный выдуманный мир, но гораздо хуже ориентируются
в настоящем, не всегда правильно реагируют на требования
окружающего мира. Вторые, наоборот, очень точно и эффективно поступают
в конкретной ситуации, обращающейся к ним с ясным требованием,
но не могут произвольно вызывать прошлое для более свободной
интерпретации настоящего. Проведенные рассуждения позволяют придать
этому различию еще более глубокий смысл. До сих пор было не совсем
ясно, каким образом можно на основании воспоминаний, на основании
сохраненного прошлого выстраивать фантастический, мечтательный
мир, отличающийся от всего, что было в прошлом. Теперь это
становится понятным, при этом качество «мечтательности», о котором
говорит Бергсон, оказывается еще более важным: оно означает не просто
способность произвольно вызывать воспоминания, но гораздо
большее — способность в вызванных воспоминаниях раскрыть их глубину,
из которой можно извлечь новые смыслы, обогащающие не только их
самих, но и наше восприятие мира в настоящем. В противоположность
этому человек прагматического типа не просто ограничен в
возможностях вызывать воспоминания и жить воспоминаниями, он и мир
настоящего воспринимает гораздо более бедно и однообразно, чем
мечтатель, он с трудом опознает индивидуальное и неповторимое
и живет главным образом в общем и повторяющемся, как это
характерно для животных.
Впрочем, оба этих типа являются односторонними, несмотря даже
на преимущество первого над вторым; высший человеческий тип
должен быть определен как гармоничное сочетание двух описанных, в нем
должны быть равно сильны обе способности: и способность
произвольно извлекать воспоминания, необходимые для осмысления мира,
возникающего в настоящем, и способность осуществлять деятельность,
точно согласующую человека с окружающей реальностью (полнотой
настоящего). По сути, именно этот тип определяет гениальность
личности, и все выдающиеся личности в истории выражали именно его.
Только люди этого типа являются подлинными творцам, они не
только могут «раскрепостить» свое прошлое ради того, чтобы усмотреть
неповторимо индивидуальный характер настоящего, но своей
деятельностью способны создавать в настоящем новые объекты, в которых
предельно полно выражается содержание, извлеченное из
«раскрепощенного» прошлого. Именно таковы великие произведения искусства —
объекты, в которых мы явственно ощущаем присутствие абсолютно
186
3.5. Проблема изменчивости и творения нового
новых смыслов, выходящих за пределы всего обыденного, дающих
почувствовать энергию динамического Абсолюта. А поскольку высшей
формой деятельности в настоящем, обуславливающей степень влияния
человека на мир, Бергсон признает языковую деятельность,
подлинными гениями для него оказываются творцы слова, великие писатели.
Этот вывод в контексте книги «Материя и памяти» кажется не вполне
логичным, но в книге «Два источника морали и религии» Бергсон
совершенно определенно сделает его: высшие личности, пришедшие
в непосредственное единство с Богом, которых он называет мистиками,
одновременно должны быть писателями, выражающими обретенное
ими Откровение в слове и таким образом радикально влияющими
на всех людей и на историю.
Описанный выше механизм фиксации нового и
индивидуального в мире помимо объяснения феномена творчества также
помогает окончательно понять значение настоящего и статус
материального мира. Бергсон во всех своих работах настойчиво повторяет,
что наш разум упрощает и ограничивает бесконечно богатое и слитное
духовное бытия, когда превращает его в материальный мир. Поэтому
создается впечатление, что этот процесс нужно оценивать только
как «деградацию» бытия, и он не имеет позитивного значения ни
ç точки зрения самого Абсолюта, ни с точки зрения потребностей
и целей человека. Теперь можно уверенно сказать, что это
впечатление является ошибочным. «Раскрепощение» прошлого, о котором
говорилось выше, — это самый главный элемент нашего опыта, через
который энергия Абсолюта приобретает конструктивные формы и
непосредственно определяет нашу жизнь. Но это «раскрепощение»
становится возможным только благодаря настоящему и актам
телесной, в том числе языковой, деятельности в настоящем,
провоцирующей активность сознания по отношению к воспоминаниям, к
прошлому. Именно в настоящем наша деятельность порождает
интуиции новых объектов, которые затем оформляются в ясные восприятия
и становятся новым знанием о неизвестной нам ранее реальности.
Акты восприятия Бергсон часто называет способом «раскройки»
слитного духовного бытия в разнообразные формы предметного,
материального мира. Классическая метафизика предполагала, что всё,
возникающее из Абсолюта, уже в каком-то виде (как возможность)
существовало в нем в полноте своего содержания. Бергсон создает
радикальный вариант неклассической метафизики, и ее главное
отличие от классической в том и состоит, что Абсолют понимается
как становящийся и открытый в своем содержании. Те предметы
187
Глава 3. «Материя и память»
и явления, которые формируются нашим восприятием и нашей
материальной деятельностью в настоящем, ни в каком виде не предсуще-
ствовали в Абсолюте; это означает, что они непосредственно
творятся в этом акте, а человек оказывается творящим «органом» Абсолюта,
Бога. В этом и состоит смысл настоящего как главного
метафизического акта: в нем происходит раскрытие Абсолюта, явление его
«темной» глубины в форме ясного, оформленного и потенциально
гармоничного мира.
В традиционной идее Творения, одинаковой для всех
догматических форм религий, создание всего существующего происходит
одномоментно, и возникшие вещи уже не меняются в своей общей
сущности. В философии Бергсона творение продолжается постоянно,
каждая вещь, появляющаяся в нашем опыте, непосредственно
выходит из Абсолюта как оформленная и определенная в тот момент
настоящего, когда предстает перед нами. Уходя в прошлое, она
сливается с другими вещами и явлениями, но сохраняет свое содержание
и свою относительную самостоятельность в длительности. В силу
сохраняющегося единства прошлого с настоящим прошлое
продолжает участвовать в тех актах творения нового, которые постоянно
осуществляются в настоящем, при этом содержание каждого
элемента прошлого само может изменяться, выявлять в себе новые и новые
смыслы — также в силу связи с настоящим. Это означает, что акт
творения каждой вещи не ограничен настоящим, он продолжается и
в прошлом, вещь обретает там всё более и более конкретное и
индивидуальное содержание, всё полнее отражает некоторый аспект
содержания Абсолюта.
Здесь можно понять, как в метафизике Бергсона решается
проблема соотношения индивидуального и общего. Как уже было сказано
выше, в акте восприятия сознание первично фиксирует «общее»,
но только не абстрактное общее нашего разума, а практическое,
жизненное общее самого бытия. Восприятие приобретает индивидуальный
характер только благодаря наложению образов прошлого, в строгом
смысле только прошлое обладает качеством индивидуальности. Но при
этом нужно добавить, что формируется это качество не сразу, а по
мере удаления от настоящего образа, ставшего воспоминанием.
Прошлое остается «живым», оно выявляет в себе всё новые и новые черты
и детали, это качество и есть творческое воображение человека, и оно
обусловлено внутренним развитием Абсолюта. Причем работает
воображение только при взаимодействии образа-воспоминания с
настоящим, поэтому мы не ошибаемся, когда говорим, что в настоящем
188
3.5. Проблема изменчивости и творения нового
воспринимаем индивидуальный объект, но только эту
индивидуальность ему придает прошлый образ. Механизмы восприятия и
творческого воображения в этом смысле дополняют друг друга и
замыкаются в круг: настоящее воздействует на прошлое, раскрепощая его
внутреннюю жизнь и заставляя быть всё более индивидуальным,
а прошлое (образ-воспоминание), соединяясь с настоящим, придает
ему индивидуальность.
Самым сложным в концепции Бергсона оказывается описание
механизма образования и действия абстрактного общего. Оно, с одной
стороны, опирается на то практическое, жизненное общее, которое
задано телесными действиями в настоящем (главную роль здесь
играет языковое действие, дающее словесное выражение общему), и,
с другой стороны, должно охватывать все индивидуальные образы-
объекты, распределенные в прошлом. Формально соединить эти
полярные феномены, понятые в изолированности друг от друга и от
духовной деятельности памяти, которая связывает их, невозможно.
Но если поставить именно указанную духовную деятельность в центр
рассмотрения, проблема решается, и общее понятие приобретает свою
естественную функцию: ведь оно есть главный феномен сферы
сознания, духа, и его смысл — в переходе от акта первоначальной
«раскройки» Абсолюта на большие, внутренне недифференцированные сферы
бытия к выявлению индивидуальных образов-объектов внутри этих
сфер. «Сущность общей идеи в действительности состоит в том, чтобы
непрерывно обращаться между сферой действия и сферой чистой
памяти». В сфере действия, продолжает Бергсон, общая идея
приобретает «ясную форму телесной установки или произносимого слова»,
а в памяти «будет иметь не менее ясный вид тысячи индивидуальных
образов, в которых будет дробиться ее хрупкое единство. Вот почему
психология, которая держится уже законченного, знакома только с
вещами и игнорирует прогрессии, не увидит в этом колебательном
движении ничего, кроме экстремумов, между которыми оно совершается;
она отождествит общую идею то ли с действием, которое ее
осуществляет, или словом, которое ее выражает, то ли с беспредельным
по числу множеством образов, составляющих ее эквивалент в памяти.
Но суть дела в том, что общая идея ускользает от нас, стоит нам
вознамериться укрепить ее у того или другого из этих двух экстремумов. Она
состоит в двойном течении, идущем от одного из них к другому, всегда
готовая то кристаллизоваться в словах, то рассеяться в воспоминаниях»58.
Бергсон А. Материя и память. С. 262.
189
Глава 3. «Материя и память»
Такое понимание общих понятий делает совершенно естественной их
центральную роль в актах восприятия, тождественных актам творения
объектов: ведь в них задана вся сложная структура взаимодействия
телесных действий и работы памяти, обеспечивающая формирование
образов объектов.
В новой версии идеи Творения, которую создает Бергсон, не
столько Бог, сколько человек является главным «органом» Творения, он
выступает своего рода «телом» и «сознанием» Абсолюта, реализующим
его стихийные, «темные» импульсы в ясной, творчески осмысленной
форме. Причем получается, что люди далеко не в равной степени
участвуют в акте Творения и имеют очень разное значение в качестве
«орудия» и «сознания» Абсолюта. Те, кто являются крайними
«прагматиками» в обозначенном выше смысле, почти ничего не вносят в акт
Творения, мало отличаясь от животных; только те, кто легко способен
обращаться к своему прошлому и может «раскрепощать» его
внутреннее скрытое богатство, применяя его для творчества в настоящем через
слово, — являются главными агентами процесса созидания мира во все
новых и новых его формах. Обычные люди, составляющие большинство
человечества, живут настоящим и только неявно используют прошлое,
даже не зная об этом; но высшие личности живут больше в прошлом,
при этом они правильно видят в прошлом не только и не столько
«прошлое», сколько вневременное и вечное — видят Абсолют, явивший свое
содержание в осмысленной и рациональной форме и поэтому
способный быть основанием для новых творческих актов, осуществляемых
в настоящем.
Философия Бергсона ведет к своему рода духовному
аристократизму, к представлению об особой роли высших, творческих
личностей, причем не только в организации общества и в ходе истории,
но в самом бытии мира, который «держится» только деятельностью
этих великих личностей. В этом смысле культура и творчество — это
главное в бытии, это и есть наиболее точное явление Бога в
материальной действительности. В метафизике Бергсона происходит
оборачивание аристотелевской модели творчества, согласно которой
человек в своем творчестве буквально повторяет творчества
Мирового Разума (Нуса). У Бергсона, наоборот, акт созидания мира,
происходящий в каждое мгновение настоящего, является повторением и
«рутинной» формой акта творения великих произведений искусства,
последний и является абсолютным актом Абсолюта, в котором
Абсолют являет себя в форме наиболее ценных и богатых содержанием
объектов.
190
3.5. Проблема изменчивости и творения нового
В книге «Материя и память» все приведенные выводы далеко не
очевидны, их можно сделать, только умея читать между строк; однако
в книге «Два источника морали и религии» Бергсон явно пришел
к ним, он создал последовательную теорию высших личностей,
мистиков, имеющих особенно большое значение в обществе и в истории.
В этой поздней книге, носящей больше публицистический, чем
метафизический характер, Бергсон не дает капитального философского
обоснования этой теории, но именно поэтому ее истоки важно увидеть
в его главном труде, где со всей полнотой развернута концепция
человеческого бытия как памяти — как главного измерения Абсолюта.
Глава 4
НОВАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
4.1. От аналитики сознания
к эволюции жизни
В начале 1890-х годов Бергсон преподает историю философии и
особенно внимательно изучает труды Платона, стоиков, «Метафизику»
Аристотеля, учение Лейбница. В 1897-1898 годах его внимание
привлекает философия Плотина, он читает в Коллеж де Франс, одном из
известнейших высших учебных заведений Парижа, курс, посвященный
Плотину. Это становится важной вехой в окончательном становлении
его философской системы, влияние идей Плотина в его последующих
трудах будут отмечать все исследователи, да и сам Бергсон будет часто
упоминать Плотина и ссылаться на его труды. В феврале 1898 года
Бергсон начинает преподавать в Высшем педагогическом институте, там,
где почти 20 лет назад он начинал свою философскую карьеру. На
рубеже XIX и XX веков его лекции в Коллеж де Франс и в Высшем
педагогическом институте привлекают внимание молодого поколения
интеллектуалов, среди слушателей Бергсона оказываются известные
в будущем представители литературной и философской элиты: Шарль
Пеги, Жак Маритен и его жена Раиса, Габриэль Марсель, Этьен Жильсон
и др. 14 декабря 1901 года Бергсон был избран в Академию юридических
и политических наук и становится ее активным членом, постоянно
выступающим на заседаниях с различными сообщениями и рецензиями
на выходящие из печати книги.
В 1901-1906 годах Бергсон создает ряд небольших трудов, в которых
разрабатывает отдельные конкретные проблемы своей уже
оформившейся системы и постепенно движется к новой большой книге. Среди
этих трудов речь «Об интеллекте» (1902), статья «Интеллектуальное
усилие» (1902), маленькая монография «Введение в метафизику» (1903),
доклад «Психо-физиологический паралогизм» (1904) и др. В феврале
1904 года он читает в Академии юридических и политических наук речь,
посвященную покойному Феликсу Равессону, признавая последнего
своим учителем. В 1904 году Бергсон становится преемником Габриэля
192
4.1. От аналитики сознания к эволюции жизни
Тарда в качестве руководителя кафедры философии Нового времени
в Коллеж де Франс. Начинается период самой интенсивной и
плодотворной академической работы Бергсона, связанный с известным
университетом Парижа, он продлится до 1921 года, когда Бергсон оставит
свой пост из-за болезни. В 1905 году Бергсон встречается в Париже
с известным американским философом Уильямом Джемсом (они
переписывались с 1902 года), и это событие становится кульминацией
творческой дружбы двух выдающихся мыслителей, продолжавшейся
вплоть до смерти Джемса в 1910 году.
В марте 1906 года Бергсон просит руководство Коллеж де Франс
дать ему отпуск до начала следующего учебного года, он приступает
к формулировке нового варианта своей философской системы, в
котором акцент будет сделан на проблеме эволюции жизни во вселенной
и положении человека в этом процессе; книга «Творческая эволюция»
была опубликована в следующем, 1907 году и стала самым известным
и самым обсуждаемым трудом Бергсона. В отличие от
предшествующих работ, вызывавших по большей части критические и
недоуменные отклики, «Творческая эволюция» встретила безоговорочное
признание, многие рецензенты работы высказывали откровенное
восхищение богатством и оригинальностью идей, не остался без
внимания и великолепный литературный стиль автора. Имея в виду
именно эту книгу, Нобелевский комитет в 1927 году присудил
Бергсону премию по литературе.
Одним из первых свое восхищение Бергсону высказал У. Джемс,
в письме от 13 июня 1907 года он признал себя и французского
мыслителя соратниками в сражении против интеллектуализма, при этом
метафорически назвал Бергсона генералом в этом сражении, а себя —
простым солдатом1. Популярность книги отразилась и в академической
деятельности Бергсона, его лекции в Коллеж де Франс в 1907-1914 годах
проходили при полном аншлаге, причем очень часто посетители (не
только его студенты) буквально сражались за право занять место в
аудитории. Известность Бергсона очень быстро приобретает
всеевропейский характер, его главные труды в 1910-е годы переводятся на
основные европейские языки, в том числе на русский. В 1913-1914 годы
в С.-Петербурге выходит 5-томное собрание сочинений Бергсона.
Книга «Творческая эволюция», по общему мнению, считается
главной работой Бергсона, в которой он выразил самые важные свои идеи.
Однако, на наш взгляд, это убеждение трудно признать верным, оно
1 См.: Блауберг И. И. Анри Бергсон. С. 362.
193
Глава 4. Новая теория эволюции
показывает, что Бергсон в наши дни является непонятым мыслителем.
Указанное мнение можно защищать только в том случае, если не
принимать во всей полноте и системности идей предыдущей книги —
«Материя и память», которая, вне всяких сомнений, является главным
творением французского мыслителя. Возможно, Бергсон после
публикации этой книги осознал, что изложенные в ней идеи практически
недоступны для понимания философской публики, и, начиная новую
книгу, он сознательно ограничил изложение самыми явными и
простыми идеями, смирившись с тем, что его главные идеи не получат
достойного отклика. Книга «Творческая эволюция» дает существенно
облегченный вариант намеченной ранее философской системы;
последующая популярность этой книги помогла широкому
распространению указанного облегченного варианта, но тем самым еще
больше затруднила понимание философии Бергсона в ее самых важных
и оригинальных слагаемых.
В предисловии к новой книге Бергсон прямо утверждает, что его
целью является построение совершенно новой философии, которая
даст адекватное описание жизни. Однако нужно сказать, что понятие
жизни в книге используется не столько в новаторском философском
смысле, заданном мыслителями конца XIX века, сколько в
традиционном естественнонаучном содержании. В связи с этим «философия
жизни» этой книги отличается от той оригинальной неклассической
философии жизни, которую обозначил в своих трудах Ф. Ницше и
которую сам Бергсон развивал в предыдущих работах.
Начиная изложение, Бергсон вновь формулирует самую известную
свою идею, изложенную уже в «Опыте о непосредственных данных
сознания». Он говорит об особом характере внутреннего мира
человека, о его принципиальной динамической «текучести», которая
фиксируется в понятии длительности, подлинного времени. Бергсон
резко противопоставляет эту идею «атомистической» концепции
субъекта, согласно которой в основе личности видят неизменное
и «пустое» «я», в котором появляются и сменяют друг друга
качественно разнородные состояния. Это представление, господствовавшее
в «научной» психологии, полностью закрывает возможность понять
временную динамику личного бытия, поскольку само «я» признается
неизменным, а его состояния просто замещают друг друга в условном
внутреннем «пространстве», без подлинного перехода и развития.
«Ибо "я", которое не меняется, — не длится; и психологическое
состояние, остающееся тождественным самому себе, пока не сменится
следующим состоянием — также не длится. Как бы мы ни выстраива-
194
4.1. От аналитики сознания к эволюции жизни
ли тогда эти состояния одно возле другого на поддерживающем их "я",
никогда эти неизменные тела, нанизанные на неизменное, не составят
текучей длительности»2.
Возвращаясь к правильному пониманию внутреннего мира как
длительности, Бергсон воспроизводит еще одну важную свою идею —
представление о сохранении всего прошлого: «.. .прошлое сохраняется
само собой, автоматически. Без сомнения, в любой момент оно следует
за нами целиком: все, что мы чувствовали, думали, желали со времен
раннего детства, всё это тут — всё тяготеет к настоящему, готовому
к нему присоединяться, всё напирает на дверь сознания, стремящегося
его отстранить. Мозговой механизм для того и создан, чтобы оттеснять
в бессознательное почти всю совокупность прошлого и вводить в
сознание лишь то, что может осветить данную ситуацию, помочь
готовящемуся действию — одним словом, привести к полезному труду»3.
Подчеркивая, что «мозговой механизм» отвечает не за сохранение
воспоминаний, а наоборот, за их забывание, блокировку, чтобы они не
мешали эффективной деятельности в настоящем, Бергсон заставляет
читателя, уже знакомого с его идеями, вспомнить важнейшее слагаемое
книги «Материя и память». Однако теперь эта идея не доводится до той
необычной онтологии, которая вела в предыдущей книге к целой серии
метафизических проблем, подобных проблеме описания свойств
«полного» бытия, которое нужно признать бытием духовным. Теперь
Бергсон формулирует свою идею таким образом, что она сближается
с обыденными и научными воззрениями на память, согласно которым
воспоминания — это не сама реальность, а система ее вторичных
образов, сохраняющихся в силу какого-то механизма сознания и в неком
особом «месте» в сознании. Прямо вопрос о статусе воспоминания
теперь не ставится, и это умолчание позволяет читателям, не знакомым
с самыми сложными и «экзотическими» идеями Бергсона (а таковых
читателей подавляющее большинство), думать, что Бергсон привержен
обычным представлениям о роли мозга в хранении воспоминаний:
можно предположить, что мозг блокирует воспоминания, но и хранит
их — одно другому не противоречит.
Итак, исходным положением новой книги является признание
фундаментальной творческой изменчивости человеческого бытия: для
личности «существовать», констатирует Бергсон, «это значит
изменяться; изменяться — значит созревать, созревать же — это бесконечно
2 Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998. С. 41-42.
3 Там же. С. 42.
195
Глава 4. Новая теория эволюции
созидать самого себя»4. И дальше он задает вопрос о том, можно ли
это же утверждать о существовании вообще, о существовании мира
вне личности. Наука отрицает принципиальное развитие вещей,
поскольку она доказывает, что все объекты физической реальности
состоят из мельчайших неизменных элементов, в этом случае
изменение сводится к перемещению элементарных тел в пространстве,
а такое перемещение всегда обратимо, т. е. объект в целом всегда
может вернуться в исходное состояние. По этому поводу Бергсон
повторяет то, что он писал в четвертой главе «Материи и памяти»:
он признает, что такая абстрактная модель искажает действительность,
на самом деле Вселенная, точно так же как и каждый из нас, длится,
обладает подлинным временем и творческой энергией. Это означает,
что Вселенная так же целостна и так же пронизана взаимосвязями,
как и внутренний мир личности. Но тогда встает тот же самый вопрос,
который играл принципиальную роль в «Материи и памяти»: каким
же образом формируется мир нашего восприятия, разделенный на
независимые твердые тела? Бергсон повторят тезис о том, что эти
твердые тела обладают ясными очертаниями только в нашем
восприятии, которое целиком зависимо от форм нашей телесной
деятельности в отношении этих тел. В «Материи и памяти» разъяснение
смысла этого тезиса составляло одну из главных задач, причем эта
задача далеко не была выполнена, Бергсон скорее дал краткий
набросок ее решения, который требовал развития в сложную
метафизическую концепцию. Но в «Творческой эволюции», повторив этот тезис,
он оставляет его в стороне; более того, он ставит под сомнение его
универсальность, он добавляет, что в мире, который распростерт
перед нами, есть особые объекты, которые обладают четкими
формами не только в нашем восприятии, но по самой природе, независимо
от восприятия: «...если деление материи на изолированные тела
зависит от нашего восприятия, а организация замкнутых систем
материальных точек — от нашей науки, то живое тело было изолировано
и замкнуто самой природой. Оно состоит из разнородных частей,
дополняющих друг друга. Оно выполняет различные функции,
связанные друг с другом»5.
Это любопытное утверждение не имеет аналогов в предшествующем
творчестве Бергсона, и оно вызывает массу вопросов, которые
необходимо было бы прояснить, чтобы сделать концепцию жизни более ясной.
4 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 44-45.
5 Там же. С. 48.
196
4.1. От аналитики сознания к эволюции жизни
Кажется, что его невозможно понимать буквально, по отношению
к внешней форме живых существ, ведь по своей форме они никак не
отличаются от неорганических объектов; более ранний тезис Бергсона
о происхождении внешних форм тел из восприятия и телесной
деятельности человека кажется универсальным, в равной степени
относящимся и к неорганическим, и к органическим объектам. Если
пространственные формы тел определены актами отношения человека к ним,
совершенно непонятно, как можно провести принципиальное различие
между неживыми и живыми телами, между домами, столами, стульями
и т. п., с одной стороны, и деревьями, животными, людьми — с другой.
Утверждение Бергсона об особом характере форм живых тел требует
безусловного уточнения, например, в том смысле, что акты, в которых
фиксируется отношение к живым телам, имеют другой характер, чем
акты, фиксирующие отношение к неживым объектам (что совершенно
не очевидно). Вообще, в новой книге Бергсон гораздо меньше внимания
уделяет идее, происходящей из «критицизма» Канта, о том, что все наши
представления о реальности нужно соотносить с актами сознания,
направленными на реальность. Бергсон незаметно переходит от
«критической», подлинно философской позиции к позиции «объективистской»,
характерной для науки, предполагающей, что философ может познать
сущность жизни и закономерности ее развития, не учитывая факт
обусловленности познания актами сознания, формами восприятия (как
бы их ни понимать). Тем самым он отказывается от центрального
элемента той новой (неклассической) метафизики, контуры которой он
наметил в «Материи и памяти».
Важнейшим принципом этой новой метафизики было понимание
человеческой личности, человеческого бытия в его подлинной сути
(ничего общего не имеющей с нашей наличной телесностью) в качестве
главного измерения бытия как такового — «полного», духовного бытия.
Это означало, что все возможные формы познания должны
основываться на познании человеческого бытия и анализе форм его
творческого саморазвития в мире. Это справедливо даже по отношению
к научному познанию, философское же познание, безусловно, должно
основываться на первоначальном постижении человеческого бытия,
неразрывно связанного со всем существующим. Однако в «Творческой
эволюции» такой подход к построению философии исчезает. Поэтому,
хотя Бергсон и утверждает, что строит совершенно новую философию
жизни, на деле он отступает от самых характерных принципов
неклассической философии. Его построения сближаются с философским
«мейнстримом» эпохи, хотя в них и присутствует ряд оригинальных
197
Глава 4. Новая теория эволюции
идей в понимании эволюции жизни. Сама же жизнь, как уже было
сказано, здесь интерпретируется близко к традиционному витализму,
как некая объективная субстанциальная сила, действующая в материи
и организующая ее во все более и более сложные формы. Человек при
этом оказывается высшей формой развития жизни только на одной
из трех ветвей эволюции, т. е. он перестает быть метафизически
первичным элементом реальности, как это было в «Материи и памяти».
В начале книги на некоторое время Бергсон почти совсем забывает
про человека и его сознание, он обращает внимание исключительно
на «живые тела», на живые организмы. Поскольку он, как мы видели,
признал их выделенными и обособленными «по природе» в той форме,
как они существуют в нашем восприятии и в нашем познании, такое
рассмотрение, не учитывающее факт существования сознания и форм
его познавательной активности, может выглядеть законным в логике
новой работы, но не соответствует важнейшим идеям предыдущей
книги.
Центральная часть «Творческой эволюции», включающая вторую
и третью главы, посвящена описанию эволюции жизни и демонстрации
того, что правильное ее понимание должно основываться на той же
самой идее подлинного времени (длительности) и «слитного»
творческого саморазвития, которая объясняет сущность внутреннего мира
человека. Одновременно Бергсон доказывает, что традиционная
научная рациональность, основанная на механическом подходе, на
сложении целого из элементарных частей, не способна даже приблизительно
схватить сущность жизни.
Поскольку жизнь столь же едина и «слитна», как и внутренний мир
личности, ее нужно понимать как целое, выходящее за рамки
отдельного живого индивида. Жизнь есть динамический «поток»,
охватывающий всю материю; уточняя и конкретизируя эту идею, Бергсон
вводит понятие «первоначального порыва жизни»6, проявляющегося
в разных точках пространства в виде отдельных живых организмов:
«.. .нельзя уже будет говорить о жизни вообще как об абстракции или
о простой рубрике, в которую вписываются все живые существа.
В известный момент, в известной точке пространства зародилось
конкретное течение: это течение жизни, проходя через организуемые
им одни за другими тела, переходя от поколения к поколению,
разделялось между видами и рассеивалось между индивидами, ничего
не теряя в силе, скорее наращивая интенсивность по мере движения
6 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 111.
198
4.1. От аналитики сознания к эволюции жизни
вперед»7. Здесь получает определенное обоснование высказанная
ранее идея о том, что живые организмы по самой своей природе
являются индивидуальными телами, резко обособленными от
окружающей среды. Подобно тому как наше сознание через механизм телесной
деятельности «вырезает» из целостной реальности ясно очерченные
объекты, твердые тела, так и порыв жизни формирует внутри слитной
материи живые организмы, обладающие определенной формой и
отделенные от остальной реальности.
В рамках такой аналогии вполне закономерно, что Бергсон
понимает указанный порыв жизни как нечто аналогичное сознанию (иногда
он даже говорит о нем как о «сверхсознании»): «...чем больше
фиксируешь внимание на этой непрерывности жизни, тем больше замечаешь,
что органическая эволюция приближается к эволюции сознания, где
прошлое напирает на настоящее и выдавливает из него новую форму,
несоизмеримую с предшествующими»8. Эта аналогия делает понятным
переход от рассмотрения человеческого сознания в его отношении
к бытию к рассмотрению эволюции жизни в целом, ведь теперь
сознание понимается только как одна из форм развития жизни
(«сверхсознания»). Однако это оправдание, вполне приемлемое для ученого и
для философа-позитивиста, не является достаточным и убедительным
.для философа-метафизика, особенно если он принадлежит к
неклассической традиции. В новой метафизике, как мы уже говорили, сознание,
причем именно в его конкретной человеческой форме, перестает быть
одной из форм бытия и выступает как универсальное определение (или
измерение) бытия как такового (во всех его возможных формах),
поэтому та позиция, которую занимает Бергсон в книге «Творческая
эволюция», полагающая сознание особой «субстанцией» или «силой» внутри
бытия, не выдерживает строгой философской критики и должна быть
признана догматической, не продумывающей до конца свои
собственные основания.
В рамках такого подхода анализ эволюции жизни оказывается для
Бергсона задачей по крайней мере не менее важной, чем традиционный
философский анализ сознания; он претендует на то, чтобы своей
книгой заложить основы совершенно новой философии, призванной дать
окончательное решение не только проблемы жизни, но и проблемы
человека. При анализе жизни на первом плане в его рассуждениях
оказывается проблема телеологии.
7 Там же. С. 60.
8 Там же. С. 61.
199
Глава 4. Новая теория эволюции
4.2. Неклассическая телеология
Понимание жизни в качестве аналога сознания заставляет вспомнить
известные телеологические концепции, объяснявшие жизнь и ее
эволюцию через идею Мирового Разума, несущего в себе универсальный
«план» всего живого. Критика Бергсоном телеологии в ее традиционных
формах, идущих от Аристотеля, — это важнейшее слагаемое книги
«Творческая эволюция»; если читать текст книги бегло, может
показаться, что Бергсон точно так же отвергает телеологическое объяснение
жизни, как он отвергает механицизм. Совершенно очевидно, что
традиционные формы телеологии не совместимы с теми новыми
принципами понимания жизни и человека, которые Бергсон выдвигает
в своей философии.
Согласно телеологическому объяснению, жизнь в целом и каждый
отдельный организм возникают и существуют в соответствии с
заранее заданным планом, который предопределяет конечное
состояние каждого организма и всего живого в целом. Такое
представление приводит к выводу, что в «развитии», которое демонстрирует
жизнь, нет самого главного — творческого порождения нового;
всё, что может быть итогом развития, уже задано в некой идеальной
сфере до начала этого процесса. Это, в свою очередь, означает, что
время, характеризующее такой процесс, не является «подлинным»
в том смысле, который постоянно имеет в виду Бергсон и который
предполагает появление новых, непредсказуемых состояний
длящегося объекта или субъекта. Бергсон парадоксальным образом
уравнивает классическую телеологию и механицизм: в телеологии
окончательная цель развития задана заранее, в механицизме она
реализуется в результате действия однозначных законов, что также
означает ее предопределенность. В обоих случаях сам временной
процесс оказывается несущественным на фоне сформированного или
предуказанного заранее конечного состояния, время не может
породить непредсказуемых состояний. «Радикальный механицизм
предполагает метафизику, в которой целостность реального дается сразу
в вечности и где видимая длительность вещей выражает только
несовершенство духа, который не может познать всего одновременно. <.. .>
Но радикальный телеологизм также представляется нам неприемлемым,
и по тем же основаниям. Доктрина целесообразности в ее крайней
форме <...> предполагает, что вещи и существа лишь реализуют
начертанную однажды программу. Но если в мире нет ничего
непредвиденного, ни изобретения, ни творчества, то время тоже становится
200
4.2. Неклассическая телеология
бесполезным. Как и в механистической гипотезе, здесь предполагается,
что всё дано. Таким образом понимаемый телеологизм является тем же
механицизмом, только навыворот. Он вдохновляется тем же
постулатом, с одним лишь различием: тот огонь, которым он, по его мнению,
освещает наш путь, он помещает не позади нас, а впереди, по ходу
движения наших конечных интеллектов вдоль совершенно иллюзорной
последовательности вещей. Импульс прошлого он заменяет
притяжением будущего»9.
Тем не менее Бергсон считает, что телеология обладает
преимуществом над механицизмом: если механицизм невозможно защитить, его
нужно признать несовместимым с идеями подлинного времени и
творчества, то телеология неудовлетворительна только в ее традиционной,
классической форме — в форме финализма, но она может быть
реформирована, приведена к такому виду, который уже вполне согласуется
с ключевыми принципами нового подхода к человеку, заданного
неклассической философией. Эту новую форму телеологического
объяснения жизни (и всего бытия в целом) можно назвать неклассической
телеологией10. Очень важно понять, в чем ее сущность.
В рассуждениях Бергсона большое значение имеет различие внешней
и внутренней целесообразности. Внешняя целесообразность — это
объяснение форм существования тех или иных объектов через
признание их необходимым средством для существования более значимых
объектов или субъектов. Такого типа телеология была особенно
популярна в древности, ее известным примером является объяснение
существования животных и растений как необходимых средств для
обеспечения существования человека. Идея внешней целесообразности
подвергалась особенно резкой критике в истории. Главной тенденцией
в философском обосновании телеологии стал переход к идее
внутренней целесообразности. Под последней понималось такое объяснение,
которое подчиняет развитие объекта не какой-то внешней для него
цели, а его собственному конечному состоянию, которое обладает
совершенством, законченностью по отношению ко всем предшествующим
состояниям.
Элементы внутренней целесообразности современные
исследователи находят уже у Аристотеля (в концепции формы как цели развития
вещи) и Лейбница. Но в ясном виде различие двух типов телеологии
9 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 71.
10 Подробнее см.: Евлампиев И. Я., Куприянов В. А. Телеология в классической
и неклассической философии. СПб., 2019.
201
Глава 4. Новая теория эволюции
впервые выразил И. Кант. Именно в немецкой классической философии
внутренняя целесообразность была определена как принципиальная
альтернатива традиционной внешней целесообразности, и на ней была
основана более правильная версия телеологии.
Однако Бергсон отвергает именно внутреннюю телеологию, считая,
что новую, неклассическую телеологию можно построить на идее
внешней целесообразности. Это связано с его идеей о глобальном единстве
всего потока жизни. Внутренняя телеология в ее классической форме
означает, что существование развивающегося объекта (например,
живого организма) направлено к его собственному совершенству,
развитие подчинено цели создания его окончательного гармоничного
состояния. Бергсон же отрицает и полную самостоятельность
отдельного организма, и его естественное совершенство. Живые организмы
чаще всего не являются совершенными и не могут рассматриваться как
абсолютная цель жизненного порыва. Более правильно утверждение,
что все они являются только средством для реализации бесконечных
потенций жизни как целого. Именно в этом смысле нужно понимать
слова Бергсона о том, что «целесообразность может быть только
внешней: в противном случае она — ничто»11.
Конечно, внешнюю целесообразность здесь нужно понимать
совершенно в ином смысле, чем в классических ее версиях, выстроенных
по известной модели: трава существует для коровы, ягненок для
волка. В новой телеологии отдельные живые существа являются
средством не для других существ и не для какого-то заранее заданного
плана совершенной организации, а для продолжающегося и никогда
не завершающегося движения жизни в целом, для «порыва жизни»,
о котором говорилось выше. И по отношению к этому порыву так
понятая целесообразность уже является внутренней: жизнь в целом
целесообразна для себя самой. В концепции Бергсона сама
противоположность внешней и внутренней целесообразности оказывается
в значительной степени преодоленной. «Если в области жизни
существует целесообразность, она охватывает всю жизнь в едином
неразрывном объятии»12. При этом необходимо отрицать заранее заданный
план совершенной организации; жизнь имеет целью полноту своей
собственной творческой активности, но эта активность ничем не
ограничена, поэтому предсказать и тем более предписать ей ее будущие
формы невозможно.
11 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 73.
12Тамже.С75.
202
4.2. Неклассическая телеология
Но не является ли тогда сам тезис о существовании особой
неклассической телеологии не имеющим никакого конкретного содержания?
Ведь если он сводится к утверждению о творческом характере жизни,
то трудно понять, зачем это утверждение нужно, что оно дает для
конкретного объяснения жизненных процессов.
Пытаясь дать более ясное выражение новому пониманию
телеологии, Бергсон в качестве наглядного примера приводит факт
одинакового устройства глаза (органа зрения) на разных ветвях эволюции
живых организмов. Он показывает, что ни чистый механицизм, ни
дарвинизм, также имеющий механистическое обоснование, ни
традиционная телеология не способны объяснить формирование органа
с идентичной структурой у организмов, обитающих в совершенно
разных условиях. Вместо того чтобы объяснять сходство органа
внутренними материальными причинами или навязанным извне планом,
Бергсон предлагает в самой жизни увидеть две стороны: материальную
организацию и жизненный порыв, имеющий нематериальный характер
(Бергсон несколько раз называет его «психическим», т. е.
сопоставляет с человеческим сознанием, с духом). Наличие одинаковой
организации на разных ветвях эволюции связано с тем, что в соответствующих
организмах воплощается один и тот же «порыв жизни», который в силу
его целостности не имеет проблем с тем, чтобы проявиться как
тождественный в самых разных точках пространства, в самых разных
организмах; «с той поры как виды в процессе дальнейшей своей
эволюции начали расходиться от общего ствола, они углубляют это
расхождение. И всё же в определенных пунктах, если принять гипотезу
общего порыва, они могут и даже должны развиваться тождественным
образом»13.
Далее Бергсон подробно разъясняет мысль о полной
противоположности простоты и цельности порыва жизни в себе и сложности
и многообразности тех структур, которые ему соответствуют в
материальном мире и которые он порождает. Приводимые им примеры очень
остроумны и наглядны, однако они обходят стороной самый главный
вопрос, который возникает по отношению к этой концепции: является
ли одинаковая структурная организация материи, возникшая под
действием жизни, следствием некоторой постоянной структурной
организации самого порыва жизни? И можно ли вообще говорить о
структурной организации этого порыва, можно ли его структуру как-то
описать?
13 Там же. С. 112.
203
Глава 4. Новая теория эволюции
Если попытаться продолжить мысль Бергсона и все-таки поставить
этот вопрос в явной форме, то, как кажется, на него нужно дать
положительный ответ. Безусловно, Бергсон предполагает, что «порыв
жизни» имеет определенную внутреннюю структуру, которая должна
допускать какое-то хотя бы символическое описание. Именно на
основе этого утверждения можно дать разъяснение сущности
неклассической телеологии: она должна быть понята как утверждение о
сохранении структурного единства «порыва жизни», о том, что жизнь
при всем многообразии ее форм подчинена некой системе принципов,
которые определяют сохраняющееся соотношение ее различных
направлений развития — хотя и не предопределяют конкретные формы
организации на каждом из направлений. Тем не менее на основе
анализа указанных принципов внутренней организации «порыва жизни»
можно сделать предположения о возможном характере будущего
развития. Бергсон делает ряд таких предположений, и в определенном
смысле их можно считать главным результатом книги «Творческая
эволюция». Это означает, что введение идеи неклассической
телеологии является для нее принципиальным; отрицание телеологии в
любом смысле означало бы признание будущего развития жизни
абсолютно иррациональным, непредсказуемым даже в самых общих
своих тенденциях.
Предлагаемая Бергсоном модель соотношения «порыва жизни»
и материальной организации живых существ, им порождаемой, явно
повторяет некоторые представления, уже появлявшиеся в философии
XIX века. Прежде всего возникает ассоциация с описанием
соотношения воли и ее материальных, пространственно-временных
объективации в философии А. Шопенгауэра, родоначальника неклассической
философии. Выше эта известная модель уже упоминалась (см. главу 1);
в ней можно найти те же самые главные моменты, что и в концепции,
созданной Бергсоном в «Творческой эволюции». Шопенгауэр
утверждает, что воля является абсолютно целостной и что она не подчинена
характеристикам пространства и времени в их «мировых» формах, но
обладает постоянной динамикой, внутренней «мощью»,
выражающейся в непредсказуемых творческих импульсах. В то же время ее
«объективации», ее воплощения в материи становятся пространственно
протяженными, разделенными на независимые объекты и явления,
последовательно сменяющими друг друга во времени. Цельный и
сконцентрированный порыв воли как бы развертывается в пространстве
и времени материального мира в форме бесконечного многообразия
вещей и явлений.
204
4.2. Неклассическая телеология
Нетрудно видеть совпадение общих контуров теории объективации
воли у Шопенгауэра и концепции «порыва жизни», организующего
материю в живые организмы, у Бергсона. Это совпадение особенно
наглядно в тех случаях, когда Бергсон называет «порыв жизни» волей
и волевым устремлением. Развитие указанной исходной модели в
книге Бергсона также во многом следует логике немецкого философа.
Шопенгауэр в своем главном философском труде, книге «Мир как воля
и представление», приводит огромный эмпирический материал,
показывающий многообразие, противоречивость, внутреннюю борьбу
в сфере жизни, и на этой основе делает выводы о соответствующих
внутренних качествах воли. Анализ материального, пространственно-
временного мира объективации позволяет ему что-то сказать о
невидимом основании этого мира — воле.
Ту же самую последовательность идей мы находим в книге
Бергсона. Во второй и третьей главах он дает детальный анализ всего
разнообразия живых организмов и основных направлений их
развития, усложнения, приспособления к среде. На этой основе он
пытается понять особенности самого «порыва жизни» и сделать
выводы о возможных направлениях его будущего, более глубокого и
полного, воплощения в материю. «Исследование эволюционного
движения будет <...> состоять в том, чтобы различить известное число
расходящихся направлений, оценить значение того, что
совершалось на каждом из них, — одним словом, определить природу
разъединенных тенденций и их "дозировку". Комбинируя затем друг с
другом эти тенденции, можно добиться приближения к неделимому
движущему началу, давшему импульс этим тенденциям, или, скорее,
достичь его имитации»14. Воспроизведение в философском познании,
хотя бы очень приблизительно и относительно, структуры «порыва
жизни» (его имитация) составляет одну из важнейших задач книги
Бергсона.
Согласно механицизму, жизнь только приспосабливается к
имеющимся обстоятельствам; согласно классической телеологии, она
реализует заранее заданный и неизменный план; в той концепции
неклассической телеологии, которую строит Бергсон, жизнь
постоянно творит новые и новые формы организации, но эти формы
укладываются в несколько направлений развития, соотношение
между которыми можно описать с помощью довольно простой
системы принципов. Эти принципы и задают новое понимание целе-
14 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 123.
205
Глава 4. Новая теория эволюции
сообразности, поэтому именно их необходимо прежде всего
понять и конкретизировать.
Рассматривая всю систему живых организмов, Бергсон прежде
всего выделяет два направления развития жизни — животные и
растения — и фиксирует эмпирически значимый принцип различия между
ними: «...живое существо естественно тяготеет к тому, что для него
более удобно, и растения и животные выбрали для себя два различных
рода удобства в способе добывания необходимых им углерода и азота.
Первые непрерывно и автоматически извлекают эти элементы из
окружающей среды; вторые путем прерывистого, сконцентрированного
в нескольких мгновениях, сознательного действия ищут эти элементы
в организмах, их уже усвоивших»15.
Растения очень точно вписались в среду, приспособились к ней
настолько, что почти слились с ней и поэтому потеряли существенную
степень самостоятельности и сознательности; они демонстрируют
самый негативный вариант реализации «порыва жизни». Позитивные
результаты развития жизни целиком определяются степенью
подвижности организмов, именно подвижность задает более полное
воплощение «порыва жизни» в материи и в конце концов ведет к появлению
человеческого сознания как высшей формы такого воплощения.
Однако появление человека и его выход за пределы богатой и
разнообразной сферы животных описывается Бергсоном в большей степет
ни не как важнейший скачок в развитии жизни, а как рождение
нового ее направления; оно оказывается не в меньшей степени
отличающимся от направления развития всех животных, чем это последнее
от направления развития растений. Человек вырабатывает
совершенно иную форму действия, движения по отношению к той, которая
характерна для животных: вместо инстинкта его движением
управляет интеллект.
В результате Бергсон приходит к окончательной классификации
направлений организации жизни, реализующих различные воплощения
исходно целостного «порыва жизни». «Растительное оцепенение,
инстинкт и интеллект, — вот, таким образом, элементы, совпадающие
в жизненном импульсе, общем для растений и животных, и
разделившиеся по мере своего роста, проявляясь по пути развития в самых
непредвиденных формах. Фундаментальное заблуждение, которое,
начиная с Аристотеля, исказило большую часть философий природы,
состоит в том, что в жизни растительной, инстинктивной иразум-
15 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 133.
206
4.3. Инстинкт, интеллект и интуиция
ной усматривают три последовательные ступени развития одной
и той же тенденции тогда как это — три расходящихся направления
одной деятельности, разделившейся в процессе своего роста»16.
Поскольку растительная жизнь стала своего рода тупиком развития
жизни, дальше Бергсона интересует только различие инстинкта и
интеллекта, как полярных направлений организации жизни, при этом он
сразу констатирует невозможность точных рациональных определений
этих понятий: «...ни интеллект, ни инстинкт не поддаются застывшим
определениям: это тенденции, а не готовые вещи»17. Это означает, что
инстинкт и интеллект Бергсон рассматривает в их общем философском
смысле, а не в каких-то конкретных научных определениях, которые, как
правило, выглядят ясными и простыми, но именно поэтому не
адекватны реальности и не дают понимания различия человека и животного.
4.3. Инстинкт, интеллект и интуиция
Всё более сложные формы организации жизни определяются всё
более сложными формами движения и деятельности соответствующих
существ, этот критерий Бергсон признает абсолютно универсальным
для понимания «прогресса» в воплощении «порыва жизни» в материи.
В этой связи инстинкт и интеллект должны быть поняты как разные
способы совершенствования деятельности. Поскольку сложная
деятельность живых организмов невозможна без использования каких-то
орудий, это различие сводится к очень разному характеру используемых
орудий и знаний о них.
«В распоряжении инстинкта находится приспособленное орудие:
это орудие, которое создается и исправляется само собою, которое, как
все произведения природы, демонстрирует бесконечную сложность
частей и чудесную простоту функционирования, выполняя тотчас же,
в нужный момент, без всякого затруднения, нередко с поразительным
совершенством то, что оно призвано выполнить. Зато оно сохраняет
почти постоянную структуру, ибо оно меняется лишь вместе с
изменением вида»18. Орудие, о котором здесь идет речь, — это орган
животного, данный ему от рождения и поэтому неизменный в своих
функциях. В противоположность этому, человеческий интеллект, управляя
деятельностью, создает для нее искусственные орудия, и в этом
16 Там же. С. 151.
17Тамже.С. 152.
18Тамже.С. 155.
207
Глава 4. Новая теория эволюции
состоит как его достоинство, так и его недостаток по сравнению
с инстинктом. Как пишет Бергсон, «орудие, созданное с помощью
интеллекта, есть орудие несовершенное. Его можно получить лишь ценой
усилия, им почти всегда трудно пользоваться. Но, созданное из
неорганизованной материи, оно может принимать любую форму, служить
для какого угодно употребления, выводить живое существо из
всякого вновь возникающего затруднения и увеличивать безгранично его
возможности»19.
В концепции Бергсона инстинкт и интеллект едины в своем главном
качестве — и тот и другой нужны для управления орудийной
деятельностью, поэтому здесь нет столь радикального их противопоставления,
какое присутствует в некоторых научных и философских теориях,
не признающих единого жизненного основания для бытия животных
и человека. Бергсон показывает, что самые развитые приобретенные
инстинкты почти ничем не отличаются от низших форм интеллекта,
и, в свою очередь, интеллект в своих самых элементарных
проявлениях часто «замирает» и превращается в нечто почти неотличимое от
инстинкта (с точки зрения поведения), например, если деятельность
человека становится рутинной, автоматической. В этом смысле
главной функцией сознания является очерчивание сферы возможных
действий до исполнения реального действия; но при начале
реального действия сознание сокращается почти до нуля. «Там, где
вырисовывается много одинаково возможных действий и нет ни одного
действия реального (как на совещании, не приводящем ни к какому
решению), сознание бывает интенсивным. Там же, где реальное
действие является единственно возможным (как в деятельности типа
сомнамбулической, или, в целом, автоматической), сознание
отсутствует. <...> С этой точки зрения сознание живого существа можно
определить как арифметическую разность между деятельностью
потенциальной и деятельностью реальной. Оно служит мерой
разрыва представления и действия»20.
В силу существенного различия орудий, используемых
животными и человеком, должны различаться между собой и те формы
знания, которые связаны соответственно с инстинктом и интеллектом.
Орудийная деятельность может быть эффективной только при
наличии знания о структуре и методах применения орудия, также
необходимо хотя бы минимальное знание тех объектов, к которым
19 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 156.
20Тамже.С159.
208
4.3. Инстинкт, интеллект и интуиция
прикладывается деятельность. Поскольку животные от природы
наделены естественными орудиями деятельности в виде их органов,
то та же природа дала им инстинктивное, но очень полное знание
о функционировании их органов и о тех объектах, к которым органы
применяются. Это «знание» оказывается совершенно иным, чем знание,
которое может получить человек. Ограниченность возможностей
естественных орудий (органов) животные компенсируют настолько
глубоким и всеохватным «знанием» тех объектов, по отношению
к которым они действуют, что оно выглядит безусловно
превосходящим наше человеческое знание, выстроенное рациональным образом
с помощью интеллекта.
Бергсон приводит многочисленные примеры инстинктивного
поведения, предполагающее настолько глубокое постижение объектов,
на которые направлена деятельность живого существа, что его
невозможно представить достижимым с помощью рациональной
методологии, используемой человеком, и тем более не объяснимым на путях
дарвиновской теории эволюции. Например, некоторые насекомые
поражают свою жертву в тех местах, где находятся их нервные центры,
не убивая, но парализуя их, делая их неподвижными. Ни один
энтомолог, сколько бы детально он ни изучал строение нервной системы
насекомого, не сможет этого сделать; тем более формирование столь
точной инстинктивной деятельности не может быть объяснено методом
«проб и ошибок», здесь присутствует именно своеобразное «знание»,
хотя оно и не имеет привычной нам формы пассивного созерцания и
целиком слито с деятельностью. Это знание нужно объяснять совсем
иным образом, чем обычное человеческое знание; Бергсон использует
здесь онтологический подход: он считает, что «врожденное знание»
животных, на котором построены инстинкты, происходит из их
непосредственного бытийного единства с объектом действия. Это означает,
что тело одного живого существа как бы продолжается в теле другого,
и поэтому инстинктивная реакция одного живого организма
непосредственно охватывает другой организм, он оказывается подчиненным
инстинктивному действию наравне с субъектом этого действия.
Предположение о продолжении телесности живых организмов
за пределами их собственной биологической сферы дает простую и
очень наглядную иллюстрацию того тезиса, который был необходим
для придания последовательности бергсоновской концепции
восприятия, развитой в «Материи и памяти» (см. разделы 3.2-3.3). Там
приходилось предполагать, что телесность отдельного человека не
ограничивается его биологическим телом, а захватывает большие области
209
Глава 4. Новая теория эволюции
материальной вселенной, в пределе совпадая со всей вселенной. По
отношению к человеку этот тезис выглядит как нечто мистическое и
неприемлемое с научно-рациональной точки зрения. Однако, как мы
видим, в отношении простейших живых организмов (насекомых)
аналогичное предположение носит вполне рациональный характер,
позволяя объяснять особенности из инстинктивных действий. Но если
гипотеза о продолжении телесности за пределы собственного
биологического тела выглядит вполне обоснованной для самых простых
живых существ, непонятно, почему нужно отрицать это качество
применительно к человеку.
Впрочем, в «Творческой эволюции» эта гипотеза уже не очень
нужна Бергсону, в отличие от предыдущей книги. Выше уже говорилось,
что в новой книге он отказывается от самой глубокой метафизической
идеи «Материи и памяти» — от представления о том, что наше
человеческое восприятие онтологически формирует материальный мир. Эта
идея вытекала из еще более фундаментальной мысли о том, что само
человеческое бытие является главным и универсальным измерением
всего (духовного) бытия, т. е. существование каждого человека не
ограничивается его физическим телом и даже материальной вселенной,
а распространяется на всё бесконечное духовное бытие. Стремясь
сделать свою философию более «популярной», доступной широкой
публике, Бергсон отказывается от этих идей (или, по крайней мере,
от явного их проведения), но в этом случае исчезают основания для
утверждения о том, что материальный мир сформирован нашим
восприятием. В большинстве случаев он формулирует свои мысли в полном
согласии с точкой зрения обыденного сознания, не сомневающегося
в самостоятельном существовании материального мира, независимого
от нашего восприятия и самого нашего существования. Сохраняется
только утверждение, что однородное трехмерное пространство и
одномерное время, используемые в научном познании мира, являются
конструкциями нашего сознания, необходимыми для эффективного
выполнения действий в отношение материальных объектов. В
результате позиция Бергсона становится похожей на умеренный субъективный
идеализм: он предполагает, что материальный мир существует
независимо от сознания, однако тот образ материального мира, который
дает нам наука, является субъективной конструкцией нашего сознания,
полученной в результате его взаимодействия с объективной
реальностью. Такая позиция в начале XX века была достаточно популярной
среди философствующих ученых и среди философов позитивистской
ориентации (например, ее разделяли А. Пуанкаре и Г. Гельмгольц).
210
4.3. Инстинкт, интеллект и интуиция
Снова, как и в «Материи и памяти», Бергсон повторяет мысль о том,
что все наши представления о мире — и обыденные, и научные — не
являются строго «созерцательными», а подчинены тому, чтобы
выстроить картину мира, наиболее удобную для действия в нем. Именно
поэтому наш интеллект переводит сложные и цельные качества мира
в их упрощенные схемы: непрерывное и слитное бытие превращается
в систему строго определенных в своей пространственной форме,
независимых друг от друга и неизменных (твердых) тел, а цельные акты
движения — в наборы статичных положений, фиксирующих основные
фазы движения (прежде всего начальное и конечное состояния).
В результате главным качеством интеллекта в отношении
материального мира и его объектов оказывается способность «разлагать по
любому закону и воссоединять в любую систему»21. Это качество
позволяет достаточно легко создавать все более и более сложные орудия
деятельности и «проектировать» саму эту деятельность, но при этом
глубокая сущность реальности остается за пределами возможностей
интеллекта.
В «Опыте о непосредственных данных сознания» Бергсон
рассматривал роль языка в нашей жизни и обращал внимание на его
негативную роль: язык заставляет нас «дробить» цельную внутреннюю
реальность личности на замкнутые элементы, обладающие неизменным
содержанием и радикально искажающими собственный смысл этой
реальности. В «Творческой эволюции» он повторяет эту мысль и дает
ей дальнейшее развитие, но одновременно указывает и на позитивную
роль языка, на то, что он может способствовать внутренней
трансформации сознания и тем самым прогрессу самого человека.
Главным элементом интеллекта является понятие, которое
соответствует главному элементу языка — слову. Бергсон теперь именно
понятия рассматривает как главное «орудие», с помощью которого
интеллект «раскраивает» целостную (духовную) реальность, превращая
ее в предметный мир, состоящий из независимых твердых тел, не
обладающих подлинными движениями; «чтобы мыслить самого себя
ясно и отчетливо, интеллект должен видеть себя в форме
прерывистости. Понятия, действительно, представляются внешними друг другу,
как предметы в пространстве. Они столь же стабильны, как предметы,
по образцу которых они создаются. Соединенные вместе, они
составляют "умопостигаемый мир", который своими существенными
чертами сходен с миром твердых тел, — только элементы его более легки,
21 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 170.
211
Глава 4. Новая теория эволюции
прозрачны, более удобны для работы с ними интеллекта, чем чистый
и простой образ конкретных вещей»22. На основании этого Бергсон
приходит к выводу, что философия Платона с ее особым внепростран-
ственным и вневременным (вечным) миром идей является наиболее
точной философской моделью интеллекта. В «подлинном» мире идей
Платона нет ни движения, ни творчества (как рождения нового),
каждая идеальная «вещь» имеет точное, фиксированное определение, а все
взаимосвязи между ними носят внешний характер. Это и есть
идеальная модель материальной реальности, наиболее удобная для
интеллекта в его практическом приложении — в управлении телесной
деятельностью человека. В этом смысле постоянное преобладание разных форм
платонизма в европейской философии выступает, по Бергсону,
наглядным свидетельством господства интеллекта в общественном сознании
и в практической деятельности человечества.
Однако интеллект способен увидеть собственную ограниченность,
и это связано как раз с динамичностью языка, который позволяет
интеллекту не только мыслить и выражать в речи смыслы, относящиеся
к реальным вещам, но и рефлектировать, делать предметом
рационального анализа самого себя. Философия, которую строит Бергсон, дает
пример такой рефлексии интеллекта над самим собой, позволяющей
ему увидеть все свои недостатки. Увидев их и до конца осознав свою
ограниченность, интеллект может попытаться выйти за положенные
ему пределы. Это он может сделать, признав преимущество инстинкта
животных и пытаясь раскрепостить в себе ту же способность к
непосредственному, «сверхрациональному», «бытийному» знанию, которую
демонстрирует (хотя и в очень ограниченной форме) инстинкт. В
сфере человеческого сознания эту способность, если она будет обретена
интеллектом, уже нельзя будет называть инстинктом, поскольку
последний демонстрирует ее в до-человеческой, предельно примитивной
форме. В человеческом сознании раскрепощение той же способности
означает действие интуиции. Понятие интуиции, уже появлявшееся
в философии Бергсона, теперь становится ее центром; именно это
понятие задает высшую форму раскрытия возможностей человеческого
сознания, а значит, и высшую форму развития жизни. Если человек
в ходе истории достигнет раскрепощения в себе этой способности,
он превратится в существо, которое будет значительно «выше»
человека, он станет «сверхчеловеком» — в смысле, близким к тому, в котором
этот термин использовал Ф. Ницше. Описание Бергсоном процесса
Бергсон А. Творческая эволюция. С. 172-173.
212
4.3. Инстинкт, интеллект и интуиция
трансформации интеллекта делает эту аналогию предельно прозрачной:
«Интеллект, поглощаемый своим первоначалом, снова переживет
в обратном порядке свой собственный генезис. Но такая работа не
может осуществиться сразу; по необходимости она будет
коллективной и постепенной. Она будет состоять в обмене впечатлениями,
которые, поправляя друг друга, накладываясь одни на другие, приведут
к тому, что человеческая природа в нас расширится и превзойдет саму
себя»23.
Ницше придавал особое значение правильной философии, которая
сумеет разоблачить ложность существующей цивилизации и покажет
человеку истинный путь развития, имеющий конечной исторической
целью превращения его в сверхчеловека. В этом пункте Бергсон
полностью следует за своим немецким предшественником. В своем обычном
и неизменном применении интеллект порождает науку и научную
картину мира и не может породить ничего другого. Поэтому его
трансформация, раскрепощение в нем элементов интуиции и общая
перестройка сознания и самого человека возможны только при таком
развитии интеллекта, которое лежит за пределами его обычных научных
форм, преодолевает ограниченность этих форм. Это и должна описывать
правильная философия, которую пытается построить Бергсон. Ее
главным принципом является предельно критичное отношение к науке
и научному познанию. Если философия и дальше будет следовать за
наукой, как это происходит в позитивизме и других аналогичных
направлениях XIX-XX веков, то ее уделом будет просто повторение
научной модели реальности или, если интеллект осознает, что научное
знание не всемогуще, признание подлинной реальности непознаваемой.
Если же философия будет строиться с учетом научного знания, но
одновременно в критическом противостоянии ему, с тем чтобы задать
совершенно новую форму отношения к реальности, основанную не
собственно на интеллекте, а на интуиции, то она наметит путь к более
высокой форме познания, в которой наше сознание не будет
заниматься конструированием субъективного образа реальности, а проникнет
в нее и сольется с ней.
Интеллект хорошо настроен на освоение инертной материи,
поэтому его познание неживого является если и не абсолютным, то
допустимым в качестве основания для более полного знания. Но в применении
к явлениям жизни он не способен дать даже такого предварительного
знания, здесь его использование может иметь только негативные
Там же. С. 199.
213
Глава 4. Новая теория эволюции
последствия для нашего познания и творческого развития. «Поэтому
в этой новой области науку должна сопровождать философия, чтобы
научная истина дополнялась познанием другого рода, которое можно
назвать метафизическим. Тем самым возвышается всякое наше
познание, и научное и метафизическое. Мы пребываем, мы движемся,
мы живем в абсолютном. Наше знание об абсолютном, конечно, и
тогда не полно, но оно не является внешним или относительным.
Благодаря совместному и последовательному развитию науки и философии
мы постигаем само бытие в его глубинах»24. Можно заметить, что
в своей смелой программе по объединению науки и философии (при
полном приоритете философии) ради постижения самого бытия, т. е.
Абсолюта, Бергсон возрождает на новом уровне программу немецкой
натурфилософии, которую развивали в первой половине XIX века
Шеллинг и его идейные наследники (см. раздел 1.4). Хотя в конце века
из-за развития позитивизма и преобладания тенденции к полной
независимости науки от философии это движение оказалось полностью
дискредитированным, философская концепция Бергсона, буквально
повторяя ключевые положения натурфилософии, доказывает ее
глубокую правоту в отношении науки.
В процитированном высказывании подлинная реальность,
абсолютное, есть длительность, духовное бытие в его полноте; в
результате Бергсон возвращается к самой главной идее своей философии.
Но если раньше — ив «Опыте о непосредственных данных сознания»,
и в начале книги «Творческая эволюция», — говоря о длительности,
он считал, что она может только переживаться, может постигаться
только в непосредственности нашей внутренней жизни, то теперь он
считает возможным построение философии, которая способна дать
знание о творчески становящемся бытии, т. е. о сущности жизни. Это
будет особого рода знание, полученное не с помощью интеллекта,
а с помощью интуиции; причем в качестве наглядного примера знания
этого нового типа Бергсон указывает на эстетические восприятия:
«Внутрь же самой жизни нас могла бы ввести интуиция — т. е. инстинкт,
ставший бескорыстным, осознающим самого себя, способным
размышлять о своем предмете и расширять его бесконечно. / То, что
усилие подобного рода не является невозможным, показывает уже
существование у человека, наряду с нормальным восприятием,
эстетической способности»25.
Бергсон А. Творческая эволюция. С. 205.
Там же. С. 186.
214
4.4. Новая метафизика и неклассическая рациональность
В лекции 1911 года «Восприятие изменчивости» Бергсон еще более
явно формулирует мысль о том, что именно искусство и
художественное восприятие дают модель для того способа познания, который может
стать альтернативой традиционному научному познанию и породить
новую форму философии, не следующей за наукой, а дополняющей ее
и возвышающейся над ней: «Чего добивается искусство, если не того,
чтобы заставить нас открыть в природе и духе, вне нас и в нас самих,
массу вещей, которые не обнаруживаются с ясностью нашими
чувствами и нашим сознанием?»26 Но искусство все-таки очень далеко от
любого типа рационального рассуждения, а философия не может
полностью порвать с рациональностью, как и с наукой. Поэтому
Бергсон предполагает, что новая философия, лишенная недостатков своих
классических версий, должна выработать новую форму
рациональности, неклассическую рациональность, генетически связанную с
традиционными формами рациональности, но преодолевающая их
ограниченность в постижении абсолютной реальности.
4.4. Новая метафизика
и неклассическая рациональность
Бергсон решительно утверждает, что нужно создать метафизику
нового типа, которая давала бы описание Абсолюта, понятого как
длящееся бытие, как бытие, обладающее характеристикой творческого
становления, подлинного времени. Но что это за метафизика? Чем она
будет отличаться от многочисленных версий классической метафизики?
И что за новый метод должен лежать в ее основе? Всем этим вопросам
Бергсон посвятил работу «Введение в метафизику», предварявшую
книгу «Творческая эволюция» (она была опубликована в 1903 году,
за четыре года до книги).
Метафизику Бергсон понимает во вполне классическом смысле —
это знание об абсолютном (Абсолюте), причем определение
абсолютного оказывается также вполне в русле многовековых традиций
классической философии: «...оно в полном смысле слова есть то, что оно
есть»27. Это означает, что абсолютное Бергсон понимает как безусловное
26 Бергсон А. Восприятие изменчивости // Бергсон А. Творческая эволюция.
Материя и память. Харьков, 1999. С. 932.
27 Бергсон А. Введение в метафизику // Бергсон А. Творческая эволюция.
Материя и память. С. 1174. Это определение очень близко к одному из определений
Бога в схоластической традиции, оно впервые появляется у Августина и Боэция.
215
Глава 4. Новая теория эволюции
бытие, как бытие, которое полностью самостоятельно, само себя
обосновывает и одновременно дает основание всему остальному
небезусловному бытию (всему, существующему относительным образом).
Различие с классическими концепциями Абсолюта проявляется
только в том, что Бергсон отрицает за Абсолютом такие качества, как
вечность и неизменность (завершенность); наоборот, Абсолют — это
временное становление и творческое порождение нового. Наконец,
в полном согласии с классической метафизикой, Бергсон приписывает
Абсолюту бесконечность, однако он объясняет ее не как внутреннее,
собственное качество Абсолюта, а как «внешнюю» характеристику,
связанную с процессом «преломления», «отражения» Абсолюта в
другом. «Созерцаемое изнутри, абсолютное является <.. .> вещью простой;
рассматриваемое же извне, т. е. относительно другой вещи, оно
становится по отношению к выражающим его знакам, золотой монетой,
размен которой на мелкую монету может продолжаться бесконечно.
То же, что в одно и то же время схватывается как неделимое и
поддается неистощимому исчислению, по самому определению своему,
есть бесконечное»28.
Это описание вызывает некоторое недоумение: абсолютное Бергсон
называет «вещью», по отношению к которой существуют какие-то
другие «вещи». Такой способ описания Абсолюта невозможно признать
правильным и адекватным своему предмету; можно только удивляться,
почему Бергсон не вспоминает здесь о пантеистической онтологии
«Материи и памяти», в рамках которой высказанный тезис имеет
совершенно иной и гораздо более ясный смысл: абсолютное (Абсолют)
нужно понимать как «полное», духовное бытие, охватывающее всё
существующее, а его «размножение» в бесконечность — это его
трансформация в предметный мир, осуществляемая внутри него самого
нашим сознанием, которое понимается как универсальное измерение
духовного бытия, Абсолюта. К сожалению, в поздних работах Бергсона
эта ясная и перспективная метафизическая модель отсутствует.
Бергсон проводит принципиальное различие между постижением
Абсолюта и познанием материального мира. Последнее основывается
Пытаясь понять смысл отличия Бога от сотворенных вещей, оба мыслителя
утверждали, что Бог есть бытие, которое полностью совпадает со своей сущностью,
а сотворенные вещи — нет. «Разные вещи — просто быть чем-нибудь и быть чем-
нибудь по своей сущности <...>. Для всего простого его бытие и то, что оно есть,
одно и то же, для сложного — не одно и то же» (Боэций. «Утешение Философией»
и другие трактаты. М., 1990. С. 162).
28 Бергсон А. Введение в метафизику. С. 1175.
216
4.4. Новая метафизика и неклассическая рациональность
на аналитическом методе, который всегда сопоставляет неизвестное
с уже известным, т. е. никогда не дает нового. «Всякий анализ есть,
таким образом, перевод, развитое в символах представление,
получаемое с последовательных точек зрения, с которых и отмечаются
соприкосновения нового предмета, который изучают, с теми, которые
считаются уже известными»29. Но у нас есть еще интуиция, именно она
схватывает Абсолют в его непосредственности, простоте и
непредсказуемости, из этого и проистекает возможность метафизики. «Если
существует средство владеть реальностью абсолютно, вместо того чтобы
познавать ее относительно, помещаться в нее, вместо того чтобы
усваивать точки зрения на нее, иметь о ней интуицию, вместо того чтобы
делать ее анализ, словом, схватывать ее помимо всякого выражения,
перевода или символического представления, то это и будет
метафизика. Таким образом, метафизика есть наука, имеющая притязание
обходиться без символов»30.
Под символами и символическим представлением Бергсон
подразумевает традиционную рациональность и ее главный метод —
оперирование строго определенными общими и абстрактными
понятиями. Как мы помним, для Бергсона все понятия — это условные
точки зрения на абсолютное (Абсолют), передающие подлинную
реальность очень искаженно и неполно, причем он категорически
отвергает мысль, что при использовании большого количества разных
понятий, дающих разные «углы зрения» на реальность, можно избежать
искажений и более полно восстановить ее содержание и как-то
выразить его.
Для Бергсона радикальное несоответствие традиционных
понятий содержанию актов интуиции, приводящее к невозможности
понятийного выражения указанных содержаний, имеет почти
абсолютный характер. Но как же тогда строить метафизику, возможность
которой он предположил, если нельзя использовать привычные
системы понятий? Бергсон утверждает, что в конечном счете содержание
метафизического «знания» должно быть усвоено непосредственно
в акте интуиции; этот акт обязательно должен совершить тот, кто
«изучает» метафизику, и пока он его не совершил, его познание не
будет иметь никакого содержания. Тем не менее это не означает, что
метафизика не обладает словесным выражением; философ,
разрабатывающий ее, все-таки может и должен писать тексты, а не просто
Там же.
Там же. С. 1176.
217
Глава 4. Новая теория эволюции
«медитировать» в молчании. Но все тексты, которые могут быть здесь
созданы, имеют подсобный, «инструментальный» характер; они
необходимы для подготовки сознания читателя к совершению
интуитивного акта соединения с Абсолютом. Это означает, что новая
метафизика не обязана быть такой же строгой и однозначной, как наука,
ее тексты должны быть ближе к художественной литературе, чем
к научному трактату, и использовать не строгие системы понятий,
а художественные образы, которые призваны стимулировать
способность к интуитивному слиянию с подлинной реальностью,
заслоненной от нас конструкциями нашего прагматически настроенного
разума.
Вот как Бергсон описывает методологию метафизического
познания в его новой, неклассической форме: «Единственной задачей
философа должно быть здесь побуждение к известной работе, которую
у большинства людей стремятся сковать привычки разума, более
полезные для жизни. Но образ имеет по крайней мере то преимущество,
что он удерживает нас в конкретном. Никакой образ не заменит
интуиции длительности, но много различных образов, заимствованных
из очень различных разрядов вещей, смогут путем сосредоточения их
действия на одной точке направить сознание как раз в тот пункт, где
может быть схвачена известная интуиция. Выбирая образы, по
возможности не имеющие между собою связи, можно воспрепятствовать
какому бы то ни было из них узурпировать место интуиции, которую
он предназначен вызвать, ибо в таком случае он тотчас же будет
изгнан своими соперниками. Заставляя все их, несмотря на различие их
аспектов, требовать от нашего духа один и тот же род внимания и,
так сказать, одинаковую степень напряжения, можно мало-помалу
приучить сознание к совершенно специальному и вполне
определенному состоянию, такому именно, какое оно должно будет принимать,
чтобы являться перед самим собою без покрова. Но нужно еще будет,
чтобы оно согласилось на это усилие. Ибо ничто не будет ему
показано. Оно будет только помещено в такое положение, которое ему
нужно принять, чтобы сделать требуемое усилие и самому прийти
к интуиции»31.
Тем не менее содержание акта интуиции не сможет составить
никакого «знания», если оно останется в своей непосредственности
в сознании субъекта метафизического познания. Бергсон вынужден
допустить возможность выражения этого содержания в некотором
31 Бергсон А. Введение в метафизику. С. 1180.
218
4.4. Новая метафизика и неклассическая рациональность
общезначимом виде, т. е. все-таки с использованием понятий. Однако
он решительно утверждает, что для полноценного, неискаженного
выражения содержания акта интуиции нужно создавать особые
понятия, отличающиеся от общих понятий традиционной научной
рациональности. «Конечно, понятия для нее <метафизики. — И. Е.>
необходимы, ибо все другие науки работают обыкновенно над
понятиями, а метафизика не может обойтись без других наук. Но самой
собой в собственном смысле слова она является только тогда, когда
она переходит за понятие или, по крайней мере, когда она
освобождается от понятий неподатливых, вполне законченных, чтобы создавать
понятия иные, совершенно не похожие на те, какими мы обычно
пользуемся, — я хочу сказать, создавать представления гибкие,
подвижные, почти текучие, всегда готовые принять ускользающие
формы интуиции»32.
Философ, который провозглашает необходимость новой формы
метафизического знания и, кроме того, столь ясно описывает метод
построения этого знания, конечно, своими собственными
сочинениями должен демонстрировать реализацию указанного метода и
результаты новой метафизики. Однако, анализируя главные труды Бергсона с
этой точки зрения, мы с удивлением обнаружим, что он совершенно не
следует своим собственным рекомендациям. Если и можно найти здесь
многочисленные художественные образы, действительно помогающие
интуитивно схватить смысл его идей, то никакого отказа от
традиционных научных и философских понятий не происходит. И несмотря
на эту непоследовательность, нужно признать, что Бергсону удается
выполнить ту задачу, которую он ставит перед новой метафизикой:
он подводит своего читателя к интуитивному пониманию подлинной
реальности,, т. е. длительности; более того, его описания дают, хотя и не
во всем ясные и однозначные, но достаточно осмысленные и
общезначимые понятийные описания и длительности, и творческой эволюции,
и духовного бытия, и памяти и всех других ключевых концептов его
версии новой метафизики. Но тем самым он дает наглядное
опровержение самым радикальным тезисам собственной программы движения
к новой модели метафизического знания, в частности тезису о
непригодности традиционных понятий для выражения неклассической
метафизики.
Здесь проявляется общая характерная черта понимания
представителями неклассической традиции истории философии и возможных
Там же. С. 1183.
219
Глава 4. Новая теория эволюции
перспектив развития философии. Все они в начале своей философской
работы исходили из необходимости провести резкую грань между
старой, классической философией и неклассической парадигмой
философствования. Однако по мере развития исходных принципов в связные
системы происходило существенное смягчение отношения к «классике»,
идея преемственности философского знания постепенно возвращалась
в их размышления, а идея полного разрыва с традицией замещалась
идеей модификации классических концепций ради выявления в них
совершенно нового содержания. Так Шопенгауэр в начале своего
главного труда «Мир как воля и представление» отвергает практически всю
старую философию и презрительно называет своих непосредственных
предшественников в немецкой философии (Фихте, Шеллинга, Гегеля)
«шарлатанами» и «болтунами», однако на последних страницах
второго тома работы (в главах 48-50), написанных двумя десятками лет
позже, уже в эпоху начинающейся известности его идей, он вдруг
признает свою философию последней фазой развития древней мистической
и пантеистической традиции, идущей от христианских гностиков,
Иоанна Скота Эриугены и Мейстера Экхарта к Шеллингу (!). Точно так
же и Ницше, резко нападая во всех своих главных трактатах на
христианство и классическую философию, в «Антихристе», в конце своей
сознательной жизни, вдруг объявляет все историческое христианство
радикальным искажением учения Христа, но само это учение признает
близким к учению Заратустры, т. е. рассматривает свою философию как
некоторое развитие неортодоксальной христианской традиции
(«подлинного христианства»)33.
Точно такой же «казус» происходит с Бергсоном. Очень критично
относясь к науке и к значительной части классической философии,
он ставит задачу построения новой метафизики, которая почти ничего
общего не должна иметь с тем, чем метафизика была до XX века.
Однако при выполнении этой задачи он отступает от строгости своего
плана и, по сути, использует значительные элементы старой
метафизики (в частности, во многом повторяет идеи Шеллинга и немецкой
натурфилософии; см. раздел 1.4). Пониманию причин этой
непоследовательности помогает рассмотрение самого принципиального
момента в критике Бергсоном принципов старой метафизики — его
отношения к использованию категорий единого и многого в классических
системах.
33 Подробнее см.: Евлампиев И. И. Русская философия в европейском контексте.
С. 96-107.
220
4.4. Новая метафизика и неклассическая рациональность
Согласно Бергсону, ни одна версия классической метафизики
не смогла правильно описать соотношение единства и
множественности в длительности, в подлинном бытии, поскольку категории
единого и многого, которые использовали классические мыслители,
являются «абстрактными» и «пустыми», а длительность, в противоположность
этому, есть «подвижное, изменчивое, окрашенное, живое единство»34.
Но кого он критикует в данном случае? Ясно, что имеются в виду
новоевропейский рационализм в его наиболее прямолинейном проведении.
Можно согласиться с Бергсоном: в основной, «массовой» тенденции
новоевропейской философии полностью преобладала наукообразная
рациональность, требующая понятийной однозначности и сводящая
все понятия к пустоте и абстрактности точных логических определений.
Но если мы возьмем великих мыслителей и Нового времени, и более
ранних эпох, принадлежащих к традиции мистического пантеизма,
то увидим, что в их системах понятия единого и многого очень часто
использовались вовсе не в их общем логическом определении, а
именно в той «подвижной», «текучей» форме, которую Бергсон требует для
них в своей программе новой метафизики, — здесь они имеют
интуитивное содержание, которое не может быть выражено через строго
логические определения.
Наглядный пример такого использования понятий единства и
множества дает уже философия Николая Кузанского, о которой не раз
говорилось выше. Рассматривая Абсолют, Николай признает его таким
Единым, которое не только логически включает любую конкретную
вещь, но и тождественно этой вещи в содержательном смысле; именно
поэтому, по Кузанцу, Абсолют может быть назван именем каждой вещи
(например, «солнцем»). Такому Единому, конечно же, невозможно дать
точное логическое определение, его содержание постигается в интуиции,
понимаемой как слияние сознания с ним (как Абсолютом), и это
вполне соответствует требованиям Бергсона.
Сказанное относится ко всей традиции мистического пантеизма,
Николай наиболее ясно выражает главные принципы этого
философского направления, но все они с большей или меньшей полнотой могут
быть найдены у более ранних и у более поздних мыслителей — у
Иоанна Скота Эриугены, Мейстера Экхарта, Джордано Бруно, Якоба Бёме,
Спинозы, Лейбница, Шелинга, Фихте и даже Гегеля. Бергсон
справедливо критикует самое известное формально-логическое направление
новоевропейской философии, но он странным образом не замечает
34 Бергсон А. Введение в метафизику. С. 1184.
221
Глава 4. Новая теория эволюции
в системах ее великих представителей противоположной, интуитивист-
ской тенденции, которая в начале XX века была уже достаточно хорошо
известна и из которой следует возможность построения новой
метафизики без радикального разрыва с классической философией.
Как уже говорилось выше, особенно радикальной
переинтерпретации в начале XX века подверглась философия Гегеля; одной из наиболее
распространенных и известных идей неогегельянства стало как раз
утверждение о несводимости гегелевских спекулятивных понятий
к понятиям формально-логическим. Собственно говоря, сам Гегель
подчеркивает различие абстрактных, общих понятий, порождаемых
рассудком, и спекулятивных понятий разума, обладающих странным
качеством «спекулятивной конкретности». Первые интерпретаторы
философии Гегеля не обратили достаточного внимания на эту
важнейшую особенность методологии Гегеля — скорее всего, они просто не
поняли сути «спекулятивной конкретности». Но в неогегельянстве этому
принципу было придано должное значение, в результате в своем
главном измерении система Гегеля была понята не как
формально-логическое знание, а как знание интуитивное.
Известный русский неогегельянец, Иван Ильин, утверждал, что
спекулятивное понятие Гегеля соединяет в себе формально-логический
смысл, характерный для абстрактных понятий, с процессуальностью,
«живым ритмом» длящегося во времени мышления. «Согласно этой
теории мышление и смысл, слившись воедино, образуют живой,
движущийся смысл, понятие, меняющееся в содержании своем. Тогда как
современный логик готов допустить процесс в мышлении, но не в
смысле созерцающее мышление, ушедшее в смысл, вносит в него начало
процесса. Героическая интуиция Гегеля права в стремлении замереть
в мыслительном созерцании смысла; однако она не ограничивается
этим; но обогащает смысл собою, вносит в него себя, со своими
свойствами, атрибутами и категориями, и тем самым меняет его природу.
И в результате этого смысл, сохраняя всю видимую объективность свою,
обнаруживает ряд свойств, совершенно непостижимых для
неподготовленного ума. Смысл начинает жить так, как это свойственно только
живому мышлению-, а мышление получает такую объективность, такие
свойства, которые присущи только смыслу»35. Похожие утверждения
о том, что спекулятивные понятия совмещают в себе
формально-логический смысл и иррационально-интуитивное содержание, формулиро-
35 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека.
СПб., 1994. С. 66.
222
4.4. Новая метафизика и неклассическая рациональность
вали по отношению к гегелевской системе известные французские
неогегельянцы А. Валь, Ж. Ипполит, А. Кожев. Все это свидетельствует
в пользу того, что своим спекулятивным понятиям Гегель пытался
придать ту самую интуитивную гибкость, которая, по мнению Бергсона,
позволяет адекватно отражать смысл реальной длительности.
Очень похожие выводы, но уже по поводу философии Фихте, делал
Борис Вышеславцев в своей книге «Этика Фихте. Основы права и
нравственности в системе трансцендентальной философии» (о чем уже
говорилось в главе 1). В своей интерпретации философской системы
позднего Фихте Вышеславцев прямо апеллирует к идеям Бергсона и
утверждает, что Фихте удалось в своем учении дать вполне адекватное
описание становящегося, длящегося Абсолюта. «Фихте первый сказал,
что абсолютное есть не вещь, а жизнь, действие, свобода; за ним
последовали Шеллинг и Гегель. То же самое и в тех же буквально
выражениях утверждает об абсолютном Бергсон»36. Такое мнение, по сути,
устраняющее какое-либо различие между системами немецкой
философии XIX века и Бергсоном, трудно признать полностью справедливым,
однако оно, по крайней мере, показывает, что традиционная точка
зрения, проводящая абсолютную границу между классической и
неклассической философией, является ложной.
Любопытно, что как раз философия Бергсона, ставшая
чрезвычайно популярной в 1910-е годы, стимулировала более пристальное
внимание к классическому наследию, и это привело проницательных
историков философии к выводу, что та новая метафизика, которую строит
Бергсон, на деле не является беспрецедентно оригинальной, а только
продолжает и завершает давнюю традицию мистического пантеизма,
в которую входят самые яркие мыслители Европы. Здесь уместно
вспомнить, что на складывание взглядов Бергсона очень большое
влияние оказало изучение философии Плотина; многочисленные ссылки на
Плотина в работах Бергсона показывают, что он продолжал ценить
учение великого античного мистика на протяжении всей своей жизни.
Плотин является одним из признанных родоначальников традиции
мистического пантеизма, внимание к нему французского мыслителя
можно признать косвенным свидетельством его интуитивного
тяготения к указанной традиции. На деле Бергсон не только с полным правом
может быть отнесен к этой традиции, он является одним из ее
выдающихся завершителей.
36 Вышеславцев Б. П. Этика Фихте. Основы права и нравственности в системе
трансцендентальной философии. С. 87.
223
Глава 4. Новая теория эволюции
Здесь стоит особо сказать об одной распространенной путанице
в понятиях, которая затрудняет правильное осмысление и истории
философии в целом, и таких сложных систем, как система Бергсона. Он
сам неоднократно и ясно говорит о том, что платоновская традиция
в философии, платонизм в широком смысле, всегда играл и
продолжает играть исключительно негативную роль и в строгой философии,
и в обыденном мировосприятии людей, заимствующих из философии
наиболее простые и понятные идеи; и это связано с тем, что платонизм
признает вечное и неизменное бытие выше изменчивости и времени,
т. е. предполагает, что «от неизменяемости к становлению переходят
путем уменьшения или ослабления»37. Негативное отношение к
платонизму Бергсон часто переносит и на неоплатонизм, изображая его как
естественное продолжение платоновской философии. В результате в
отношении Плотина возникает странная двойственность оценок, которая
не позволяет признать точку зрения Бергсона на историю философии
достаточно ясной.
Чтобы правильно понять отношение Бергсона к Плотину, нужно
ясно увидеть, что под «платонизмом» он имеет в виду исключительно
платонизм в широком понимании — ту историческую тенденцию,
которая сформировалась в христианскую эпоху и в которой самым
главным является противостояние высшего (божественного),
вечного, неизменного и завершенного, бытия и низшего (земного) бытия,
распределенного в пространстве и меняющегося во времени. Любой
историк философии знает, что философия самого Платона не
укладывается в эту схему, она гораздо богаче ее. Тем более неоплатонизм не
имеет ничего общего с этой прямолинейной метафизической схемой.
Неоплатонизм в Средние века и в эпоху Возрождения стал широким
течением, очень далеко отклонившимся от философии античных
неоплатоников. В средневековом и возрожденческом неоплатонизме на
первый план вышла идея всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости
разных «слоев» бытия и вообще всех элементов мирового целого. Имея
это в виду, можно сказать, что в христианской философии «платонизм»
и «неоплатонизм», понятые как общие философские парадигмы,
демонстрируют не столько единство, сколько противоположность
своих ключевых идей. Это легко понять, если сравнить, например,
философию средневекового «платоника» Августина и философию
возрожденческого «неоплатоника» Николая Кузанского. По всем
основным пунктам — от идеи Творения до представлений о задачах
37 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 303.
224
4.5. Противоречия и достижения «Творческой эволюции»
человека в мире и пути спасения — мы найдем здесь
противоположность, а не единство или преемственность.
Можно только пожалеть, что Бергсон не прояснил для себя очень
разный смысл понятий «платонизм» и «неоплатонизм» применительно
к разным эпохам истории. Эта непроясненность и порождает некоторые
противоречия в его рассуждениях. «Платонизм» практически во всех
его текстах — это не философия Платона, а христианский платонизм
послеантичной философии, который несовместим с основными
принципами бергсоновской метафизики, поэтому отношение к нему может
быть только отрицательным. А вот неоднозначное отношение Бергсона
к философии Плотина связано с тем, что, с одной стороны, в ней есть
элементы, сближающие ее с христианским платонизмом позднейших
эпох, но, с другой стороны, есть и то, что позже стало основой
мистического пантеизма, который в основных своих слагаемых полностью
согласуется с философией Бергсона.
4.5. Противоречия и достижения
«Творческой эволюции»
Если попытаться в лаконичной форме описать метафизику, которую
Бергсон строит в «Творческой эволюции», то она окажется упрощенной
версией метафизики, сформулированной в «Материи и памяти».
Последняя была явно монистической: в Абсолюте, в «полном» духовном
бытии осуществляется акт его трансформации к ограниченной и
частной форме — материальному миру, представленному нам в
непосредственном восприятии, причем этот акт осуществляет особое измерение
абсолютного бытия — человеческое бытие, т. е. сознание. Смысл
указанного акта трансформации сводится к ограничению бесконечного
спектра возможностей, слитно присутствующих в абсолютном бытии
(в этом аспекте оно есть длительность), и в обособлении отдельных
элементов бытия друг от друга, в разрушении их слитного единства.
В книге «Творческая эволюция» мы находим другую модель,
гораздо менее последовательную, а в чем-то и противоречивую.
Метафизика Бергсона приобретает дуалистические черты. Он утверждает,
что все происходящее в реальности обусловлено взаимодействием
целостного, слитного, динамичного «порыва жизни» с косной
материей, ограничивающей и сдерживающей этот «порыв». «Порыв
жизни» Бергсон называет также сознанием, имея в виду, однако, не
человеческое, а некое «абсолютное» сознание, частным случаем которого
выступает наше сознание. На место акта внутренней трансформации
225
Глава 4. Новая теория эволюции
абсолютного бытия к ограниченной форме материального мира он
ставит акт взаимодействия абсолютного сознания («порыва жизни»)
и материи. «Все происходит так, как будто бы в материю проник
широкий поток сознания, отягченный, как всякое сознание, безмерным
множеством взаимопроникающих возможностей. Он увлек материю
к организации, но его движение бесконечно ею замедлялось и
одновременно бесконечно разделялось»38.
Как можно видеть, описание акта трансформации остается тем же,
он понимается как ограничение спектра возможностей и разделение
самих этих возможностей и связанных с ними явлений
материального мира. Однако если в исходной версии метафизики этот акт был
внутренне присущ абсолютному бытию, и это было вполне в духе тех
концепций, которые создавались в традиции мистического пантеизма
(особенно явные параллели возникают по отношению к учению
Николая Кузанского), то в новой версии метафизики, возникающей
в «Творческой эволюции», акт трансформации задается
взаимодействием двух загадочных начал, для ясного описания которых явно не
хватает феноменальных оснований. Абсолютное сознание, которое
теперь вводит Бергсон, — это «сверхсознание», и оно вряд ли может
быть доступно для нашего постижения, ведь наше сознание является
только его частным случаем, частной и ограниченной формой;
адекватное постижение абсолютного сознания «изнутри» этой частной
формы в ее наличном, очень несовершенном состоянии
представляется затруднительным. Напомним, что в концепции «Материи и
памяти» человеческое сознание рассматривалось как измерение
абсолютного бытия, пронизывающее все абсолютное бытие и поэтому в
определенном смысле тождественное ему; абсолютное, т. е. духовное,
бытие было полностью открыто для человеческого сознания, в акте
интуиции наше сознание могло достигнуть полного слияния с ним.
В «Творческой эволюции» идея такого слияния остается, но теперь
она предстает как далекий идеал, к которому человечество еще долго
будет двигаться в истории.
Еще больше проблем возникает при попытке понять, что такое
материя в метафизике «Творческой эволюции» и каким образом можно
обосновать ее существование. Внимательное размышление показывает,
что феноменального обоснования этому второму началу дать вообще
невозможно. Тот материальный мир, который мы имеем в
непосредственном восприятии, Бергсон по-прежнему считает возникающим
Бергсон А. Творческая эволюция. С. 190.
226
4.5. Противоречия и достижения «Творческой эволюции»
в актах, осуществляемых нашим сознанием. Но человеческое сознание
есть частная и ограниченная форма абсолютного сознания, поэтому
материальный мир, возникающий в координации с этим ограниченным
сознанием, не может быть универсальным началом, ограничивающим
само абсолютное сознание.
Бергсон в новой книге постоянно подчеркивает, что материя сама
по себе совсем не такова, как она выглядит в непосредственном
восприятии: с одной стороны, «материя, рассматриваемая как неделимое
целое, должна быть скорее течением, чем вещью»39; с другой стороны,
«материальность тела не оканчивается там, где мы его осязаем. Тело
присутствует везде, где ощутимо его влияние»40. Это означает, что
материя в ее подлинной сущности, рассматриваемая вне форм нашего
непосредственного восприятия, точно так же текуча и слитна, как
и абсолютное сознание, которое она должна ограничивать. Учитывая,
что так понятая материя является «ненаблюдаемой» (невоспринимае-
мой), можно сделать неожиданный, но неизбежный вывод о том, что
ее вообще невозможно отличить от первого начала, от «порыва жизни»,
абсолютного сознания; получается, что полагание материи как второго
начала нужно только для того, чтобы более наглядно описать акт
самоограничения абсолютного сознания-бытия. Такая наглядность идет
навстречу привычкам обыденного мышления, которое не очень
хорошо представляет себе самодеятельность, предпочитая разделять
действующее само на себя начало на два слагаемых — действующее,
активное и подвергающееся действию, пассивное. Но если не считаться
с требованиями обыденного мышления, нужно признать, что
конструкция двух начал в «Творческой эволюции» является искусственной,
не имеет под собой оснований, и гораздо логичнее было бы вернуться
к представлению об одном начале — абсолютном (духовном) бытии,
которое ограничивает себя само с помощью особого внутреннего акта,
выделяющего из него непосредственно воспринимаемый нами
материальный мир.
Впрочем, две последние главы «Творческой эволюции» заставляют
предположить, что у излагаемой здесь дуалистической метафизики
есть еще один косвенный исток. Она коррелирует с развиваемой
Бергсоном концепцией двух типов порядка; обнаруживая их в мире,
наш разум склонен относить каждый к своей сфере бытия, в качестве
которых он как раз и фиксирует материю и «порыв жизни» (абсолютное
Там же. С. 194.
Там же. С. 196.
227
Глава 4. Новая теория эволюции
сознание-бытие). Первый тип порядка Бергсон называет математи-
ческим, автоматическим или механическим^ его открывает в
природе наука; второй получает наименование живого или волевого
порядка, его описать гораздо сложнее, поскольку он формально
выглядит как отсутствие закономерности и повторяемости, а только эти
характеристики мы привыкли считать признаками какого-либо
порядка. Но Бергсон дает совершенно иное определение понятия
порядка: его наличие в природе обозначает присутствие в ней сознания,
духа, соответственно фиксация порядка в явлениях есть акт, в котором
наше сознание как бы узнает себя в этих явлениях. Поскольку наше
человеческое сознание есть, с одной стороны, проявление
абсолютного сознания-бытия и, с другой стороны, источник деятельности,
в которой возникает упорядоченный материальный мир, оно может
узнавать себя в двух очень разных формах: либо усматривая свое
единство с абсолютным основанием мира, либо находя себя в
материальных результатах своей деятельности. «Вообще говоря, реальность
упорядочена именно в той мере, в какой она соответствует нашему
мышлению. Порядок есть, следовательно, определенное согласие
между субъектом и объектом. Это — дух, находящий себя в вещах.
Но <.. .> он может идти в двух противоположных направлениях. Либо
он следует своему естественному направлению — тогда это будет
развитие в форме напряжения, непрерывное творчество, свободная
деятельность; либо он поворачивает назад, и эта инверсия, доведенная
до конца, приводит к протяжению, к необходимой взаимной
детерминации элементов, ставших внешними по отношению друг к другу, —
словом, к геометрическому механизму»41. Если математический
порядок не требует обоснования, наука только и делает, что доказывает
нам его присутствие в окружающем мире, то другой тип порядка
не так очевиден в своей характерности. Наиболее явным его примером
Бергсон считает произведение искусства. «О явлениях
астрономических говорят, что они выказывают удивительный порядок; тем
самым подразумевается, что их можно предвидеть математически. И не
менее удивительный порядок находят в симфонии Бетховена,
которая является творением гения, оригинальным и, следовательно,
непредвиденным»42.
Бергсон, конечно, не считает эти два типа порядка равноправными,
он доказывает, что только волевой порядок является содержательным,
41 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 224-225.
42 Там же. С. 225-226.
228
4.5. Противоречия и достижения «Творческой эволюции»
а математический скорее должен быть понят как отсутствие подлинно
содержательного порядка, определяемого «порывом жизни» (теперь
Бергсон часто называет его волей). Если главными качествами
абсолютного бытия (длительности) является становление и творчество
(порождение нового), то строгая закономерность и повторяемость,
исключающие реальную динамику и порождение нового, свидетельствуют
об отсутствии действия абсолютного бытия, о его «исчезновении»
из основания явлений. Однако очевидно, что оно не может исчезнуть,
оно всегда присутствует в каждом реальном явлении; в результате
можно сделать вывод (который уже присутствовал в книге «Материя
и память»), что полностью закономерная, необходимая, строго
математическая вселенная является только абстрактной фикцией, ее
невозможно считать адекватным образом реальности: материальный мир
ни при каких условиях не может быть таким, каким его описывает
математическое естествознание43.
В любой реальной ситуации абсолютное бытие обязательно так или
иначе проявляет себя, поэтому математический порядок, обозначающий
именно отсутствие его действия, никогда не соответствует реальности:
даже прилагая его в научном описании к какой-либо области мира,
беспристрастный исследователь вынужден констатировать, что он
постоянно нарушается порядком противоположного типа — волевым
и жизненным, который вносит в явления непредсказуемость и
творческую энергию. Но в силу давней убежденности людей в абсолютной
непогрешимости науки, нарушение математической закономерности
явлений всегда признается воцарением беспорядка, рассматривается
не как иной порядок, а как отсутствие какого-либо порядка. Разоблачая
эту совершенно ложную иллюзию, Бергсон настойчиво подчеркивает,
что идея беспорядка противоречива и не может быть обоснована; мир
потому и является миром, что он всегда обладает целостностью и
имеет упорядоченную организацию, и она ни при каких условиях не может
быть им утрачена. Беспорядок мог бы воцариться в какой-то области
действительности, если бы она оказалась совсем вне координации
43 Детальное развитие представления о математическом порядке как описании
«воображаемого», «фиктивного» мира, из которого как бы вынуты все
содержательные связи и который в этом смысле наиболее близок к абсолютному
«хаосу», содержится в философии Льва Карсавина, который в целом дает очень
талантливое и оригинальное развитие принципов, выдвинутых Бергсоном;
см.: Карсавин Д. П. Философия истории. СПб., 1993. С. 193-197 (см. также
раздел 6.4).
229
Глава 4. Новая теория эволюции
с сознанием человека или абсолютным сознанием, эквивалентным
«порыву жизни». Но такой области в реальности быть не может,
поскольку абсолютное бытие-сознание есть сущность всего реального,
и оно проявляет себя везде, значит, в каждом фрагменте
действительности есть волевой, творческий порядок, подобный порядку
произведения искусства.
При всей естественности идеи двух типов порядка в философии
Бергсона, описание их сущности и их отношений друг к другу нельзя
признать полностью ясным. С одной стороны, Бергсон утверждает, что
математический порядок есть «приостановка» волевого порядка, т. е.
отсутствие действия «порыва жизни». Но, с другой стороны, по
Бергсону, этот порядок обеспечивается нашим сознанием, которое
конституирует мир ради эффективной деятельности в нем; учитывая, что наше
сознание само является проявлением «порыва жизни», причем
достаточно развитым его проявлением, математический порядок
невозможно считать следствием полного отсутствия «порыва жизни», ведь он
возникает в результате действия его важнейшей частной формы!
Можно попытаться снять возникающее противоречие с помощью указания
на то, что Бергсон делает ответственным за математический порядок
не все сознание человека, а только одну его функцию — интеллект,
который не столько выражает «порыв жизни», сколько
«противодействует» ему, пытаясь быть в согласии с законами материального мира.
Но и это не дает полного решения проблемы. Ведь, как мы видели,
Бергсон предполагает, что интеллект может преодолеть свою
негативную функцию и, подражая инстинкту животных, превратиться в
интуицию, которая не противодействует «порыву жизни», а постигает его
и способствует его действию. Получается, что интеллект может
действовать как в пользу «порыва жизни», так и против него, т. е. он
обладает противоречивыми тенденциями в отношении реализации задач,
заключенных в «порыве жизни». Но раз интеллект, как и сознание
в целом, является частной формой самого «порыва жизни», указанную
противоположность тенденций можно приписать самому этому
порыву. Здесь еще раз уместно задать вопрос, который уже был
сформулирован выше: нужно ли в таком случае вводить материю как начало,
которое противодействует «порыву жизни»? Не проще ли это
противодействие найти внутри него самого?
Это тем более естественно, что материя так и не получает ясного
определения в «Творческой эволюции» и остается некой загадкой. Еще
раз присмотримся к тому, как Бергсон обосновывает ее существование.
Неоднократно утверждая, что математический порядок природы
230
4.5. Противоречия и достижения «Творческой эволюции»
определен человеческим сознанием, его главной способностью —
интеллектом, Бергсон подчеркивает, что этот порядок не дает
никакого положительного определения материальному миру и материи как
его основанию. По словам Бергсона, «в основе природы нет никакой
определенной системы математических законов, а математика вообще
представляет собою только направление, в которое попадает материя»44.
Это связано с тем, что математика, особенно в современной
абстрактной форме, представляет собой знание, которое является чисто
формальным, не имея никакого материального содержания. Например,
наиболее известная математическая структура — абстрактное
трехмерное пространство, моделирующее реальное пространство мира,
есть система внешних отношений между отдельными точками
пространства. Суть этого математического понятия — именно в
отношениях между точками, сами же субъекты отношений (точки) никак не
определены, это как бы результат «аннулирования», «уничтожения»
материальных объектов, которые реально существуют в мире; на
место этих объектов подставляется одно и то же совершенно
бессодержательное математическое понятие, обозначающее «пустое место»,
«ничто».
Это означает, что математический порядок не определяет сущности
.материи, а только дает общий намек на ее существование, дает только
форму ее существования. Порядок противоположного типа, волевой
и живой, свидетельствует о действии «порыва жизни» и также ничего
не говорит о материи. Получается, что материя есть некая «вещь в себе»,
которой невозможно приписать конкретные качества. Научный образ
пространственно-временного мира есть только абстрактный конструкт
нашего интеллекта, причем заранее можно сказать, что материя сама
по себе (искомое нами метафизическое начало) не соответствует этому
конструкту. Поскольку никаких иных конкретных данных, в которых
можно увидеть проявление этой материи самой по себе, у нас нет, она
оказывается, в свою очередь, просто идеальным представлением,
выражающим внутреннюю противоречивость «порыва жизни». Описание,
которое Бергсон дает этой материи самой по себе, не оставляет
никакого сомнения, что именно так ее и нужно понимать: «В
действительности жизнь есть движение, материальность есть обратное движение,
и каждое из этих движений является простым; материя, формирующая
мир, есть неделимый поток, неделима также жизнь, которая
пронизывает материю, вырезая в ней живые существа. Второй из этих потоков
^Бергсон А. Творческая эволюция. С. 222.
231
Глава 4. Новая теория эволюции
идет против первого, но первый все же получает нечто от второго:
поэтому между ними возникает modus vivendi, который и есть организация»45.
Но если материя столь же «проста», как «порыв жизни», и есть точно
такой же «поток» (т. е. длительность), какой смысл в ее
противопоставлении «порыву жизни»? Не лучше ли говорить о внутренних
противоположных тенденциях в едином и целостном потоке жизни? Зачем
нужно явно нарушать принцип целостности потока жизни, разделяя
его на два «встречных» потока?
Снова можно констатировать, что монистическая метафизика
«Материи и памяти» является гораздо более логичной и отвечающей
внутренней сути идей Бергсона, чем дуалистическая метафизика «Творческой
эволюции», вводящая загадочное начало материи в качестве некоего
«темного двойника» «порыва жизни». Мы уже не раз проводили
параллели между метафизикой воли Шопенгауэра и метафизикой «порыва
жизни» Бергсона; по отношению к философской концепции «Творческой
эволюции» это кажется особенно естественным, поскольку Бергсон
здесь очень часто называет «порыв жизни» именно «волей». Можно
вспомнить, что важнейшим качеством воли у Шопенгауэра является ее
внутренняя противоречивость, ее способность действовать против
себя самой, что порождает в пространственно-временном мире
объективации противоречия между отдельными формами жизни и
непримиримую борьбу между живыми организмами. Это слагаемое
философии Шопенгауэра кажется вполне логичным, но вряд ли бы мы сочли
естественным разделение воли на два метафизических начала, которые
боролись бы друг с другом. По крайней мере, для обоснования этой
идеи потребовалось бы продемонстрировать феноменальные основания
для каждого из этих волевых начал, но такие основания очевидно
отсутствуют.
Точно такая же ситуация складывается в отношении бергсоновской
«материи самой по себе», которая не может совпадать ни с абстрактным
конструктом математической пространственно-временной вселенной,
ни с миром непосредственного восприятия, который, как было
убедительно показано в «Материи и памяти», содержит неустранимое (и даже
господствующее в его структуре!) измерение духовного бытия (памяти).
Не имея никаких феноменальных оснований для своего
самостоятельного метафизического существования, понятие материи является
абсолютной фикцией, нарушающей естественную логику «новой
метафизики» Бергсона.
45 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 246-247.
232
4.5. Противоречия и достижения «Творческой эволюции»
В связи со всем сказанным становится понятным, почему Бергсон
в последней главе книги «Творческая эволюция» уделяет удивительно
много внимания идее ничто и тратит значительные усилия на
опровержение представления о метафизической реальности ничто. Ведь
монистическая метафизика «Материи и памяти», полагающая в качестве
Абсолюта целостную длительность, при ее последовательном
проведении сталкивалась с проблемой более детального описания того
внутреннего акта, в котором длительность как абсолютное бытие
трансформируется в относительное и ограниченное бытие материального
мира. Эта проблема является достаточно стандартной для традиции
мистического пантеизма, о чем уже говорилось выше, и ее решение
очень часто искалось на пути введения онтологически реального ничто,
как некоего иррационального слагаемого самого Абсолюта (см.
раздел 1.2). Пытаясь избежать этой «стандартной» модели развития
метафизики мистического пантеизма, Бергсон направляет свою критику на
ее главный момент — на предположение об онтологической реальности
ничто. Однако выбранный им путь оказался ничуть не более
плодотворным и последовательным, чем это отвергнутое направление. В
результате книга «Творческая эволюция», являясь самой популярной в
наследии Бергсона, оказывается и самой непоследовательной, самой
противоречивой в своих метафизических основаниях.
Тем не менее, несмотря на все свои очевидные недостатки, эта
книга занимает центральное место в творческой биографии
Бергсона, поскольку в ней гораздо более ясно и прямо, чем в
предшествующих работах, выражены главные результаты его философских
построений.
Прежде всего здесь показано, что жизнь в целом и человек как
высшая форма жизни составляют метафизическую сущность мироздания.
Соответственно и правильное познание мироздания должно
заключаться в адекватном познании жизни и человеческого бытия. Наука
в ее нынешнем виде, точно так же как и позитивистски настроенная
философия, не в состоянии даже приблизиться к такому адекватному
познанию, поскольку они используют очень ограниченную модель
реальности, приспособленную к практической деятельности человека
и схватывающую только самые поверхностные свойства явлений.
Научно-философская картина мира должна быть радикально
перестроена, на место модели чисто физической вселенной, не предполагающей
ничего живого и сознательного в своих основаниях, должна прийти
модель мира, «которая была бы <.. .> перевернутой психологией». «Все,
что кажется положительным физику и геометру, становится, с этой
233
Глава 4. Новая теория эволюции
новой точки зрения, остановкой или нарушением истинной
позитивности, которая должна определяться в понятиях психологических»46.
В последнем высказывании Бергсон явно намекает на то, что человек,
его сознание, является центральным «персонажем» в той драматической
борьбе, которую жизнь ведет за свое наиболее полное воплощение
в мироздании. Поскольку «порыв жизни» обладает абсолютной
целостностью, то и вся совокупность живых организмов в своей сущности
едина; поэтому человек, находясь на самой вершине эволюции,
выражает все движение жизни в целом, является своего рода «самосознанием»
всего целостного потока жизни. В связи с этим правильное
мироощущение людей должно прежде всего подразумевать осознание своего
неразрывного единства со всем человечеством и со всем живым в мире,
причем и в этом мироощущении, и в соответствующих новых формах
отношения человека к окружающей действительности основную роль
должна играть интуиция, вобравшая в себя интеллект как свое
собственное несовершенное выражение. Если отдельные люди и все человечество
в целом сумеют развить в себе именно такое мироощущение, то они
встанут на путь непредставимого для нас прогресса, который приведет
к поистине мистическому преображению человечества и всей
действительности. Бергсон ярко изображает эту перспективу в самом конце
третьей главы своей книги. «Как крошечная пылинка едина со всей
нашей солнечной системой, увлекаемая вместе с нею в том неделимом
нисходящем движении, которое есть сама материальность, так и все
организованные существа, от низшего до самого возвышенного, с перво-
истоков жизни до нашей эпохи, повсюду и во все времена, только и
делают, что выявляют единый импульс, обратный движению материи и
неделимый в себе самом. Все живые существа держатся друг за друга и все
уступают одному и тому же колоссальному напору. Животное
опирается на растение, человек возвышается над животными, и все человечество,
в пространстве и во времени, представляет собой огромную армию,
которая несется рядом с каждым из нас, впереди и позади нас,
увлекаемая собственной ношей, способная преодолеть любое сопротивление
и победить многие препятствия, — быть может, даже смерть»47.
46 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 212. Это высказывание Бергсона
заставляет вспомнить ключевой тезис натурфилософии Шеллинга: «Существенное
во всех вещах <...> есть жизнь; акциденталъное — лишь характер их жизни, и даже
мертвое в природе не мертво само по себе> а есть лишь угасшая жизнь»
{Шеллинг Ф. В. К О мировой душе. С. 125).
47 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 264.
234
4.5. Противоречия и достижения «Творческой эволюции»
К сожалению, в XX веке человечество точно так же не
прислушивалось к голосам своих пророков, как оно не прислушивалось к ним во
все предшествующие эпохи. Ни в науке, ни в философии идеи
Бергсона не получили существенного развития; очевидно, что никакого
революционного поворота философии в сторону новой метафизики,
на что надеялся Бергсон, не произошло. Западноевропейская философия
во второй половине XX века испытала не просто кризис, а подлинную
катастрофу, которая привела ее к таким примитивным формам
(постмодернизм, аналитическая философия и проч.), которых в европейской
философии не было со времен вульгарного материализма Просвещения.
Но причины этой катастрофы лежат не в собственно интеллектуальной,
а в политической плоскости, поэтому говорить об этом нужно в рамках
анализа общественных и политических процессов, происходивших
в Западной Европе во второй половине XX века. Мы затронем эту тему
в следующей главе.
Есть определенная ирония судьбы в том, что идеей, наиболее часто
упоминаемой в связи с книгой «Творческая эволюция», оказалась идея
«самоорганизации», превращенная И. Пригожиным в целую «теорию
самоорганизации». Тот высший «волевой порядок», который Бергсон
предполагал объяснить в рамках новой метафизики и противопоставить
.любым формам ложного математизированного понимания мироздания,
современная наука благополучно объявила «хаосом» и «беспорядком»
и распространила свою власть на эту сферу бытия, установив и здесь
математический порядок «самоорганизации». Можно констатировать,
что самое главное в наследии Бергсона так и остается в наши дни
непонятым и невостребованным.
Глава 5
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА
5.1. Закрытое и открытое общество
Начиная с 1910-х годов международная слава Бергсона неуклонно
растет. Осенью 1911 года он прочитал курсы лекций в нескольких
городах Англии (Лондон, Бирминген, Оксфорд); в начале 1913 года
посещает Соединенные Штаты, где выступает в Колумбийском, Принстон-
ском и Гарвардском университетах. В мае 1913 года в Лондоне он был
избран президентом «Общества психологических исследований». Весной
1914 года Бергсон читает лекции в Эдинбурге (Шотландия). С 1914 года
он практически прекращает регулярное преподавание в университетах
Парижа, поскольку его оказывается трудно совмещать с
международными поездками и деятельностью в различных научных организациях,
хотя прошение об отставке Бергсон подал только в 1921 году.
Философия Бергсона встречала не только восторженный прием,
но и резкую критику, особенно много возражений против его идея
звучало из ортодоксальных католических кругов, и это было во многом
связано с тем, что идеи Бергсона стали активно использовать
представители набиравшего силу католического модернизма. Одной из первых
капитальных работ, критически направленной против системы
Бергсона, стала книга Ж. Маритена «Философия Бергсона», вышедшая
в 1913 году. Знаковым событием стало внесение в 1914 году
Католической церковью трудов Бергсона в Индекс запрещенных книг.
После начала Первой мировой войны французское правительство,
пользуясь международной известностью Бергсона, привлекает его
к дипломатической деятельности. С февраля по май 1917 года Бергсон
находился в США с целью убедить президента В. Вильсона вступить
в войну на стороне стран Антанты против Германии. При этом важным
элементом переговоров была идея создания после завершения войны
Лиги Наций, объединения государств ради предотвращения
последующих войн и поддержания мира. Миссия Бергсона была успешной,
и 6 апреля Америка объявила войну Германии.
236
5.1. Закрытое и открытое общество
С июня по сентябрь 1918 года Бергсон снова находился в Америке,
на этот раз поводом к его поездке стало тяжелое положение союзников
в связи с Брест-Литовским миром и выходом России из войны. Бергсон
должен был убедить В. Вильсона в необходимости восстановления
Восточного фронта с помощью американских военных сил. План,
который Бергсон привез американскому правительству, включал в себя
интервенцию в Россию и помощь антибольшевистским силам ради
восстановления России в качестве союзника в войне против Германии.
Этот план не был реализован, поскольку вскоре в нем отпала
необходимость, союзники без помощи России и активизации Восточного
фронта переломили ход войны и летом 1919 года склонили Германию
к подписанию мирного договора на своих условиях. Тогда же была
создана Лига Наций, за которую так ратовал Бергсон. В сентябре 1921 года
при Лиге Наций была создана Международная комиссия по
интеллектуальному сотрудничеству, которая стала основой ЮНЕСКО. Комиссия
включала 12 человек, среди которых были Бергсон, А. Эйнштейн,
М. Складовска-Кюри. В апреле 1922 года Бергсон стал первым
президентом этой комиссии. В программе комиссии было установление
контактов между учеными и интеллектуалами различных стран ради
поддержки высокого уровня образования, культуры, науки в условиях
очевидного кризиса цивилизации.
В конце 1920-х годов Бергсон был вынужден резко сократить участие
в разных научных и общественных организациях в связи с тем, что его
настигла тяжелая болезнь, с которой он не расставался до конца жизни.
В 1925 году он испытал первый приступ ревматизма, и в последующем
болезнь постоянно прогрессировала, принося огромные страдания
и делая трудной любую деятельность. Он практически не выходил
из своей квартиры в Париже на бульваре Босежур, дом 47, но продолжал
по мере сил работать: отвечал на письма, принимал гостей, писал
небольшие работы, уточняющие отдельные детали уже давно
сформированной системы. В эти же годы он сумел завершить давно задуманный
труд, посвященный проблемам общества и истории, — книгу «Два
источника морали и религии» (1932).
Активная политическая и общественная деятельность Бергсона
способствовала переориентации его внимания на общественные
проблемы, однако этот новый интерес был обусловлен и чисто
теоретическими причинами. Бергсон претендовал на построение новой
метафизики, которая должна была доказать центральное положение человека
в мироздании, но осуществить философское описание человека без
описания общества было невозможно, этот раздел должен был быть
237
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
в системе. Бергсон в своих предшествующих трудах иногда обращался
к обществу и рассматривал социальное измерение бытия личности.
Однако принадлежность к обществу, как правило, представала в
качестве негативного фактора, который редуцирует жизнь к стандартным
социальным формам и лишает человека подлинной внутренней
свободы. Особенно много на эту тему Бергсон писал в «Опыте о
непосредственных данных сознания», где свобода была определена как
непосредственное проявление глубинной сущности личности, а социальное
общение рассматривалось как причина радикального искажения этой
сущности, «атомизации» личности и как переход от свободы к
детерминизму. Главным орудием такого искажения выступал язык. Впрочем,
в работе «Введение в метафизику» и затем в книге «Творческая
эволюция» Бергсон высказал мысль о том, что язык и социальность имеют
не только негативную, но и позитивную функцию: язык способен
передавать наше интуитивное постижение Абсолюта, а социальное
единство выражает внутреннюю связь с Абсолютом (творческим
порывом жизни).
Однако эти утверждения были очень лаконичными и
декларативными, слабо связанными с главными принципами философской
концепции Бергсона; более детальное их обоснование и составило
главное содержание книги «Два источника морали и религии».
Нужно признать, что по степени философской глубины эта книга уступаг
ет предшествующим большим работам философа, это не столько
капитальное философское исследование общества, сколько
публицистически-популярное изложение некоторых важных следствий из
основной метафизической концепции Бергсона, относящихся к
обществу, но не обозначенных с достаточной ясностью в его
предшествующих произведениях.
Если совсем кратко сформулировать главную тему книги, то это как
раз детальное описание как «негативной», так и «позитивной» функции
общества в историческом процессе раскрытия подлинной сущности
человека и его абсолютной свободы. Бергсон обращает внимание на
два духовных феномена, через которые общество наиболее
эффективно воздействует на личность, — это мораль и религия. В них он видит
туже двойственность, туже противоположность функций в отношении
высших целей человеческой жизни, что и в целом обществе. Нетрудно
догадаться, что эта двойственность подразумевается уже в названии
книги: два источника, которые в нем упоминаются, отвечают за
противоположные («негативные» и «позитивные») формы морали и религии.
Однако, как это ни странно, в тексте книги мы ясного описания ука-
238
5.1. Закрытое и открытое общество
занных источников не находим. Это упущение мешает пониманию
логики рассуждений Бергсона, поэтому, прежде чем говорить о главных
идеях его книги, необходимо дать ответ на проблему, поставленную
в названии.
В «Опыте о непосредственных данных сознания» Бергсон показал,
как участие в социальном общении приводит к искажению духовной
сущности личности и ограничению ее свободы. Общество при этом
понималось как система отношений между людьми, которые
рассматривались исключительно в их телесном, материальном проявлении
в пространственно-временном, физическом мире. Поскольку
материальный мир в целом есть форма «редукции» Абсолюта к
ограниченному и разделенному бытию, то и взаимодействие личностей в этом мире
оказывается аналогичным процессом, трансформирующим духовную,
длящуюся сущность личности к пространственно-временным,
ограниченным формам нашей повседневной жизни (как индивидуальной, так
и социальной).
Но здесь нужно учесть, что у нашей общей жизни есть не только
«поверхность», но и «глубина». Подлинная сущность личности и
основание ее свободы — это Абсолют, духовное бытие, то, что Бергсон чаще
всего называет просто длительностью. Длительность в качестве
сущности человека не может представать разной и разделенной в личностях,
это всегда есть одно и то же целостное духовное бытие, являющее себя
в каждой личности в особом аспекте (последнее объясняет их различие).
Причастность всех людей к одном и тому же духовному бытию
обуславливает их внутреннюю органичную и неразрывную взаимосвязь,
причем не только в собственно духовной сфере, но и в материальном
мире — ведь «большое» тело каждой отдельной личности,
распространяющееся на весь материальный мир, безусловно, имеет общие «части»
с «большими» телами других личностей (см. раздел 3.2).
Таким образом, «два источника» морали и религии,
обуславливающие, по Бергсону, две очень разные их формы (почти противоположных
по их значению для нас), — это, с одной стороны, материальный аспект
общества, социальное единство людей в материальном мире,
основанное на внешних связях и зависимостях, и, с другой стороны, духовный
аспект общественной жизни, духовное единство людей, проистекающее
из их неразрывной «слитности» в длительности, в Абсолюте. Общество
есть и то и другое, оба «источника» постоянно действуют в нем, вместе
определяя характерные особенности всех его феноменов; однако при
философском исследовании общества полезно выделить два его
противоположных типа, в каждом из которых абсолютно преобладает
239
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
только один из этих «источников», т. е. только один аспект — или
материальный, или духовный. Так и поступает в своей книге Бергсон,
вводя понятия закрытого и открытого общества.
В первом определяющую роль играет материальная сторона
общественного бытия, т. е. аспект телесной разделенности людей. Для
такого общества самая главная проблема — добиться единства,
«сплочения» своих членов, не дать их индивидуальным, эгоистическим
интересам возобладать над системой внешних связей, обеспечивающих
единство. Устойчивое единство, пребывание в неизменном состоянии
является главной ценностью для такого общества. Несмотря на то, что
в материальной сфере люди постоянно находят новые интересы и цели
и социум меняется, подстраиваясь под изменившиеся условия и снова
принуждая своих членов к единству, такая динамика затрагивает
только материальную «поверхность» общества, поэтому Бергсон
не считает возможным признать ее в качестве развития. Понятие
развития предполагает качественные изменения, происходящие из
духовной глубины жизни, но закрытое общество очень мало внимания
обращает на те требования, которые идут из сущности человека,
из духовного измерения его бытия: в лучшем случае оно не замечает
их, в худшем старается подавить их, поскольку они непредсказуемы
и привносят в общество слишком существенные элементы новизны,
которые «расшатывают» его структуру и с которыми трудно
справиться в рамках материальных форм контроля, характерных для закрытого
общества.
В открытом обществе, наоборот, во всех сферах жизни должно
преобладать духовное измерение, главным фактором существования
такого общества становятся непредсказуемые импульсы, исходящие
из его духовной сущности и изменяющие как бытие отдельных
личностей, так и бытие общества в целом. Единство здесь не вторично,
а первично, оно задано через принадлежность всех духовному бытию,
поэтому все личности обладают одними и теми же представлениями
о целях своего существования и действуют всегда ради этих целей,
а не ради каких-то своих индивидуальных потребностей.
Индивидуальные потребности всегда сводятся к чисто материальным целям,
в открытом обществе они будут подчинены духовным, общим
ценностям и сведены к необходимому минимуму, поэтому они не могут
создать проблем для целого.
Из всего сказанного можно понять, что открытого общества в
строгом смысле не существует в реальности, и вряд ли оно может
возникнуть в обозримом будущем, оно выступает в качестве идеала для исто-
240
5.1. Закрытое и открытое общество
рического развития человека; Бергсон вполне ясно говорит об этом:
«...мистическое общество, которое охватывает человечество в целом
и, вдохновленное общей волей, движется к непрерывно обновляемому
творению более полного человечества, очевидно, <.. .> не
осуществится в будущем»1. В реальности, помимо закрытых обществ, могут
существовать только общества отрывающиеся, как их называет Бергсон,
т. е. только частично и только на некоторое время воплощающие
идеал подлинного духовного развития.
Более точному пониманию различия закрытого и открытого
общества помогает сопоставление первого из них с «обществами» насекомых.
Факт чрезвычайного сходства муравейника или роя пчел с человеческим
обществом уже не раз использовался в различных социологических
концепциях. Однако, вероятно, только в концепции Бергсона эта
аналогия оказывается не случайной и косвенной, а прямой, обоснованной
самой сущностью жизни, по-разному проявляющейся и в насекомых,
и в человеке. Бергсон в новой своей книге повторяет тезис, высказанный
в книге «Творческая эволюция»: животные и человек в структуре
общего потока жизни расположены не в иерархической последовательности
по отношению друг к другу, а на соседних линиях эволюции, в связи
с этим в некоторых точках развития они могут сближаться,
демонстрируя одинаковые формы жизни. Структуры их коллективного
существования оказываются похожими не в силу случайных обстоятельств,
а именно потому, что в них проявлены одни и те же закономерности
трансляции исходного «порыва жизни» (носящего духовный характер)
в сферу материи, в пространственно-временной мир. В этом смысле
«общество» муравьев и пчел Бергсон считает точным аналогом
закрытого человеческого общества, поэтому наиболее заметные черты
коллективной жизни насекомых помогают понять особенности социальной
организации человечества.
Двумя главными особенностями «общества» насекомых является
принципиальная неизменность его материальной структуры и
абсолютное отсутствие свободы у отдельных особей, их полное
подчинение заранее заданным формам поведения. Обе эти черты выражают
тот факт, что в насекомых «порыв жизни» нашел себе весьма
совершенное выражение в смысле их приспособленности к законам
материального мира, их встроенности в этот мир, но при этом связь
возникших существ с самим «порывом жизни» практически
оборвалась. Ведь характерной чертой последнего является непредсказуемая
1 Бергсон А. Два источника морали и религии. М:, 1998. С. 89.
241
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
изменчивость, однако в рамках эволюции жизни,
приспосабливающейся к формам материального мира, это качество проявляется
в очень ограниченном виде — только через порождение новых видов,
в то время как все изменения внутри вида обусловлены
приспособлением особей к материальной среде и никак не выражают динамическую
сущность абсолютной основы жизни. Точно так же можно
констатировать, что структуры коллективной жизни насекомых немного
меняются с течением времени под влиянием изменения условий
обитания, но эта изменчивость ничего общего не имеет с той тенденцией
к возникновению нового, которая присуща «порыву жизни» как
таковому.
Материальный прогресс общества, вызываемый изменением
материальных потребностей отдельных личностей, является точным
аналогом указанной материальной изменчивости «общества» насекомых:
хотя он полезен для выживания общества и делает его материальное
существование более гармоничным (впрочем, как мы позже увидим,
далеко не всегда), он не выражает того стремления к новому и к
совершенству, которое заложено в сущности человека и происходит из его
сохраняющейся связи с Абсолютом, с «порывом жизни».
Человеческое общество, которое было бы в полном смысле
закрытым, обладало бы такими же чертами, как «общество» муравьев и пчел:
все его усилия были бы направлены на поддержание устойчивого,
неизменного состояния, оно рассматривало бы свою статичность как
высшую ценность, и отдельные личности не обладали бы в нем
существенной свободой, полностью подчиняясь заданным стереотипам
поведения и законам, направленным на поддержание неизменности
всех форм жизни. Очевидно, что к такому идеалу близки первобытные
и древние общества, хотя даже в них этот идеал все-таки не был
реализован с абсолютной точностью, поскольку человек по самой своей
сущности обладает хотя бы минимальным элементом свободы,
происходящим из его причастности духовному бытию, и это в конце концов
сказывается в истории в виде существенных изменений в
общественном бытии.
Развитое человеческое общество, вышедшее из состояния
первобытности, в отличие от «общества» насекомых, содержит оба аспекта —
и материальный, и духовный, хотя степень их влияния может быть
очень различной. Полное господство духовного измерения сделало бы
общество по-настоящему открытым, однако в условиях современного
человечества и в ближайшей перспективе истории это невозможно,
и даже ситуации, когда духовный аспект играет существенную роль,
242
5.1. Закрытое и открытое общество
очень редки, поэтому все существовавшие и все ныне существующие
социальные системы Бергсон признает закрытыми. «Как бы ни
отличались наши цивилизованные общества от того общества, к которому
мы непосредственно были предназначены природой, они подобны ему
в своей основе. В действительности они также являются закрытыми
обществами»2. В отношении их можно говорить только о редких эпохах
значимого проявления их духовной сущности, вносящего в них элемент
открытости.
Те примеры, которые Бергсон приводит, чтобы проиллюстрировать
характерные черты открытого общества, демонстрируют действие
духовного начала общества через отдельных индивидов. Этот пункт
чрезвычайно важен для понимания социальной концепции Бергсона.
Он убежден, что в современном человечестве только немногие
личности могут воплощать в своей жизни идеал открытого общества или
хотя бы приближаться к нему, они полностью подчиняют свое
существование выражению духовного начала и, увлекая за собой других,
создают «зародыш» открытого общества внутри общества закрытого.
В результате, наряду с различием типов общества, в рассуждениях
Бергсона принципиально важным оказывается различие
противоположных типов личностей, которые Бергсон обозначает точно так же,
как и противоположные типы общества, — открытые и закрытые
души (личности).
Это противопоставление стало итогом многолетних размышлений
Бергсона над тем фактом, что люди очень по-разному относятся
к окружающему миру и по-разному понимают смысл своей жизни. Еще
в книге «Материя и память» в связи с анализом двух форм памяти —
телесной и духовной — Бергсон выделил два полярных характера,
различие между которыми определяется преобладанием либо одной, либо
другой формы памяти. Люди, у которых очень развита телесная
память, — это люди практического склада, которые легко ориентируются
в любой ситуации, однако при этом они полностью подчинены
стереотипам и выработанным привычкам, неспособны схватить бесконечное
многообразие и неповторимость бытия. Противоположный тип
(условно говоря, тип «мечтателя») связан с развитой способностью видеть
и фиксировать богатство действительности (через духовную память),
но оборотной стороной этого является, как правило, непрактичность,
трудности в осуществлении привычных и рутинных социальных
функций, которые требуют развитой телесной памяти.
2 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 29-30.
243
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
В понятия закрытой и открытой личности Бергсон вкладывает
похожий смысл, но теперь акцент ставится на социальном значении
жизни и творчества человека. Закрытая личность хорошо встроена в
социум, точно исполняет все его предписания, поэтому она является
предельно «правильной» с точки зрения существующего общества,
которое всегда стремится к максимальной устойчивости. Однако
обратной стороной этого сказывается очень слабая связь с абсолютным
основанием социальной реальности, с длительностью, с «порывом
жизни». Такой человек подчинен материи и материальным ценностям,
в его жизни господствует косность и рутина, в ней практически
отсутствуют проявления духа с его свободой и творчеством. Открытая
личность, напротив, отличается тем, что очень глубоко и тонко чувствует
свою причастность Абсолюту, длительности. Она не склонна строго
следовать тем предписаниям, которые налагает на нее общество; во все
свои проявления она старается внести элементы творчества, старается
создавать что-то новое. И в определенных случаях это новое
оказывается настолько значимым и «заражающим» других людей, что оно
влияет на всё общество и изменяет его. Именно таков, по Бергсону, механизм
плодотворного изменения общества, который делает его открытым.
Бергсон неустанно повторяет, что только через появление такого
рода личностей современное общество способно «открываться», т. е.
совершать акты существенного развития, хотя бы чуть-чуть
приближающие его к идеалу. В результате он приходит к модели исторического
развития, в которой движение истории определяют не массы, не
классы, не коллективы, а исключительно великие личности, или, точнее,
высшие личности, которые существенно возвышаются над всеми
остальными людьми, поскольку они пришли в глубокую и
непосредственную связь с Абсолютом и в своей жизни смогли воплотить какой-
то новый аспект его бесконечного многообразия.
Человек высшего типа в своих жизненных проявлениях настолько
превосходят остальных людей, остающихся в рамках обычной
человеческой природы, что Бергсон характеризует его как существо, к
которому уже трудно применить наименование «человек»: «Если бы все
люди, если бы многие люди могли подняться так же высоко, как этот
особо одаренный человек, то природа не остановилась бы на
человеческом роде, ибо в действительности он больше, чем человек»3. К нему
больше подходит термин «сверхчеловек», и здесь можно видеть вполне
последовательное развитие ключевой идеи философии Ф. Ницше.
3 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 230.
244
5.2. Мораль как «инстинкт» социального единства
5.2. Мораль как «инстинкт» социального
единства
Наиболее важный феномен, в котором ясно проявляется различие
закрытого и открытого общества, или, более точно, различие
закрытого общества и тенденции (к сожалению, только тенденции) общества
к тому, чтобы стать открытым, — это мораль. Нужно отметить, что
Бергсон понимает мораль в предельно расширительном смысле,
он включает в ее сферу всю систему норм и обязанностей, которые
общество налагает на личность. В современном обществе эту систему
принято описывать дифференцированно, состоящей из разных
феноменов, в ряду которых полярными формами являются право и
собственно мораль (между ними располагаются обычаи, нравы и традиции).
Отказ от такой дифференциации обязанностей, являющейся
общепринятой, может показаться ошибкой Бергсона, ведь сейчас право и
мораль объясняются очень разным образом и возводятся к разным
истокам; их смешивание кажется недопустимым. Однако, внимательно
всматриваясь в рассуждения Бергсона, эту особенность его
рассмотрения общества можно признать вполне логичной и отвечающей
исходным принципам его философской концепции, которая
сознательно противостоит наиболее распространенным современным
концепциям общества, имеющим истоки в позитивизме и марксизме.
Во-первых, Бергсон очень большое место уделяет рассмотрению
первобытных и примитивных социальных систем, причем он
утверждает, что с точки зрения материальной организации современное
общество является таким же закрытым, как и примитивные общества,
и если и превосходит их, то лишь количественно, а не качественно.
Но в примитивных обществах мораль и право, в их современном
понимании, отсутствуют, их возникновение обусловлено сложными и
развитыми идеологиями, достаточно поздно появившимися в истории:
христианским, евангельским учением и новоевропейской концепцией
человека. Во-вторых, в своей теории Бергсон по-своему объясняет
возникновение в цивилизованных обществах резкого различия права
и морали как принципиально различных форм обязанностей; он
расширительно интерпретирует мораль и указанные полярные формы
объясняет как закрытую и открытую мораль, т. е. право у него
оказывается развитой, рациональной формой закрытой морали.
Позиция Бергсона основывается на убеждении, что исходное
определение термина «мораль» нужно давать по отношению к закрытому
обществу; более того, только в таком обществе возможно точное
245
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
выделение сферы морали. По отношению к открытому обществу любое
определение окажется условным и метафорическим — просто потому,
что в таком обществе все строгие разграничения явлений и все
определения условны: ведь оно характеризуется теми же качествами
динамичности и «слитности», как и длительность, духовное бытие,
являющееся его основанием.
В самом общем смысле моралью Бергсон называет всю системы
обязанностей и общепринятых форм действия, которые общество
навязывает каждому своему члену, даже вопреки его желанию действовать
иначе. Самым главным признаком обязанности, которую следует
включить в мораль, является явно переживаемая людьми принудительность
соответствующей нормы, в этом теория Бергсона сходится с многими
философскими концепциями морали, и прежде всего с концепцией
Канта. Однако, разъясняя свою позицию, Бергсон много усилий тратит
на демонстрацию ее противоположности позиции Канта. В кантовской
этике принудительность морального закона выводится из разума,
из высшей способности человеческого сознания, в наибольшей
степени отличающей человека от животного. Бергсон, напротив, видит в
обязывающем характере большинства социальных норм ту же самую
природную силу, которая в живых существах носит название инстинкта.
В этом смысле здесь снова очень полезной становится аналогия между
человеческим обществом и муравейником, часто используемая
Бергсоном. Муравьи действуют в соответствии со строго определенными
обязанностями, которые направлены исключительно на благо целого
(муравейника) и не считаются с возможными интересами и самим
существованием отдельных особей. Муравьями управляет инстинкт,
который является «голосом» природы в них, а поскольку они не
обладают разумом, то не способны «задуматься» о смысле своих
обязанностей и тем более поставить их под сомнение. Согласно Бергсону,
человеческое общество в своих материальных, зримых проявлениях
и структурах не очень сильно отличается от муравейника. Оно
является таким же материальным выражением «порыва жизни», поэтому его
целостность и выживание обеспечивается похожим образом:
подавляющее большинство норм и обязанностей, принуждающих людей к
поведению, выгодному для общества, носит такой же инстинктивный,
или, лучше сказать, интуитивный характер (имея в виду, что в
человеке именно интуиция является наиболее точным аналогом инстинкта
животных), как и обязанности муравьев в муравейнике.
Иллюзию рационального обоснования морали — и в ее
содержательных вариантах, подобных утилитаризму, и формальном варианте
246
5.2. Мораль как «инстинкт» социального единства
Канта — Бергсон объясняет вторичными причинами. Будучи
свободным существом, способным выбирать между различными вариантами
действия и критически оценивать мотивы своих поступков, человек
склонен считать себя более свободным и более рациональным, чем он
есть на самом деле. Подвергая рациональному анализу всю систему
действий и поступков людей, очень часто направленных против их
индивидуальных интересов и в пользу общества, критически
настроенный субъект (социальный философ) пытается найти систему
рациональных принципов, которые могли бы обосновать их. Но итогом
его размышлений является вывод о невозможности найти такое
обоснование просто потому, что рациональные принципы не могут
обеспечить ту степень принудительности действия самых разных людей,
которая необходима для существования общества. Никакая
конкретная норма, опирающаяся на ясно выраженное рациональное
обоснование, не может быть безусловно принудительной: «.. .мораль, которая
думает основать обязанность на чисто рациональных соображениях,
<...> сама о том не ведая, всегда вновь вводит силы иного порядка»4.
Это и ведет к идее Канта о том, что разум в этом случае дает не
конкретные содержательные максимы, а «категорический императив»,
саму форму принудительности для самых разных систем норм.
Однако Бергсон утверждает, что Кант в своем категорическом императиве
дает иллюзорное рациональное обоснование тому, что такого
основания не требует: здесь наглядно проявляется вторичный характер
разума по отношению к интуиции и даже инстинкту. Только
непоследовательность разума мешает ему признать существование рядом с ним
в сознании более мощных сил: в акте рефлексии он замечает
непреклонную принудительность обязанности, которую пытается осмыслить,
но отказывается идти дальше в акте рефлексии, поскольку это
приведет его к невозможности найти полноценное рациональное
обоснование этой принудительности; останавливаясь на полпути в своем
действии, он приписывает самому себе форму обязанности, без какого-
либо содержания. Формулу кантовского категорического
императива Бергсон иронически выражает тавтологией: «Надо, потому что
надо». Если бы наш разум выполнил свой анализ до конца, он бы
нашел, что механизм принудительности нормы лежит совсем в другой
области, расположенной «глубже» сферы его собственного действия.
«Короче говоря, абсолютно категорический императив является по
природе инстинктивным или сомнамбулическим: исполняемый как
4 Бергсон А. Два источника морали и религии. G. 95.
247
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
таковой в нормальном состоянии, представляемый как таковой, если
рефлексия пробуждается на время достаточно долгое, чтобы он мог
быть сформулирован, и недостаточно долгое, чтобы он мог найти себе
разумные доводы»5.
Несмотря на то что Бергсон резко критикует Канта, нужно признать,
что он в своей интерпретации морали опирается именно на кантовскии
анализ морального закона, ведущий к отрицанию содержательно-
рационального понимания моральных норм. В конечном счете Бергсон
дает такое определение: «Необходимость целого, ощущаемая через
случайность частей, есть то, что мы называем моральной обязанностью
вообще; впрочем, части случайны только в глазах общества; для
индивида, которому общество навязывает привычки, часть есть
необходимость, такая же, как и целое»6. Целое здесь — это вся система
требований, которые общество предъявляет индивиду; эту систему индивид
признает необходимой для себя вовсе не по каким-то рациональным
основаниям и не из-за осознания своего человеческого достоинства,
как утверждал Кант, а как раз наоборот, по причине той же
принадлежности к потоку жизни, которая вынуждает к инстинктивному
подчинению целому муравьев и пчел.
Впрочем, далее Бергсон все-таки приписывает разуму некоторое
значение в процессе обоснования и реализации моральных принципов.
Здесь нужно вспомнить, что в его метафизической концепции,
изложенной в предшествующих книгах, разум был представлен как
двусмысленная способность: он помогает нам хорошо ориентироваться
и действовать в материальном мире, но он же является ответственным
за ограниченность материального бытия: совместно с нашей
чувственностью он трансформирует абсолютное бытие, изменчивую, целостную
длительность, в статичную и разделенную на элементы
пространственную реальность. Аналогичную двусмысленность разум
демонстрирует в социальной сфере. Не в состоянии постигнуть абсолютную
целостность общества, он обращает внимание только на части и элементы,
т. е. на отдельные человеческие личности; именно разум ответствен
за пробуждение индивидуальных, эгоистических интересов в
индивиде и за его желание противостоять целому и его требованиям.
Но, к счастью, разум — это вторичная способность, сколько бы
философы-рационалисты ни доказывали его первичность и его абсолютное
господство в сознании. В наиболее важных ситуациях разум вынужден
5 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 24-25.
6 Там же. С. 58.
248
5.2. Мораль как «инстинкт» социального единства
признать свою зависимость от более глубоких сил бытия и
способностей сознания, именно это и происходит при возникновении
коллизии между обязанностями, интуитивно навязываемыми индивиду
обществом, и эгоистическими интересами, внушенными разумом.
Разум, несмотря на свою ограниченность, осознает опасность этой
коллизии для существования общества, а значит, и для существования
индивида и исправляет проблему, созданную им самим, —
выстраивает систему рациональных аргументов, опровергающих приоритет
эгоистических интересов над моральной обязанностью. Как пишет
Бергсон, ум — это «способность, которую индивид естественным
образом использует, чтобы избавлять себя от трудностей жизни; она не
будет следовать в направлении силы, которая действует в интересах
рода и которая, если и принимает во внимание индивида, делает это
в интересах рода. Эта способность будет прямо вести к эгоистическим
решениям. Но это будет лишь первым ее движением. Она не сможет
не считаться с силой, невидимое давление которой она испытывает.
Поэтому она убедит сама себя, что умный эгоизм должен предоставить
место всем другим эгоизмам. А если этот ум принадлежит философу,
он сконструирует теоретическую мораль, в которой
взаимопроникновение личного интереса и общего интереса будет доказано и в
которой обязанность будет сведена к ощущаемой нами необходимости
думать о другом, если мы хотим разумно быть полезными самим
себе»7.
В конце концов Бергсон дает лаконичную и емкую формулу
социальной функции разума: «Как только ум потревожит инстинкт, сразу
потребуется, чтобы ум постарался вернуть всё на свое место и устранить
то, что он натворил. <.. .> ум просто создал препятствие для препятствия,
исходившего от него самого. <...> сопротивление идет от ума,
сопротивление сопротивлению также, а наиболее существенное —
необходимость — имеет другое происхождение»8.
Упоминаемое здесь «наиболее существенное», т. е. необходимость
социальных действий, совершаемых индивидами, конечно, нуждается
в дополнительном объяснении. Сила, принуждающая людей исполнять
обязанности, не приходит извне, она внутренне присуща каждому
человеку. Если задаться вопросом о ее происхождении, то ответ может
быть только один: это проявление глубинной духовной сущности
человека, длительности. Но этот вывод порождает очевидную проблему:
7 Там же. С. 99.
8 Там же. С. 100-101.
249
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
ведь закрытое общество, полностью подобное коллективным
организациям насекомых, характеризуется Бергсоном как материальная
структура, не имеющая плодотворных связей с длительностью. Как же
совместить эти утверждения? Трудность устраняется, если мы поймем,
что длительность, будучи Абсолютом, должна определять всё
существующее, но это определение носит в разных ситуациях очень разный
характер: одни явления сохраняют непосредственную, живую взаимосвязь
с длительностью и поэтому могут демонстрировать ее важнейшие
качества — единство и творческую изменчивость, другие оказываются как
бы ее «мертвыми отпечатками», сохраняющими указанные качества в
предельно формальной и внешней форме, поскольку связь с Абсолютом
здесь оказывается почти утраченной. К последним и относится
материальный аспект общественной жизни, полное преобладание которого
во всех социальных явлениях означает, что общество остается закрытым.
Тем не менее материальная сторона общества, его внешняя
организация должна иметь в себе хотя бы минимальное проявление того
качества длительности, без которого общество просто не могло бы
существовать, — единства, взаимозависимости своих элементов, прежде
всего человеческих личностей. На уровне отдельной личности это
минимальное проявление единства и выступает как действие
непонятной для самой личности силы, живущей в ней, принуждающей к
исполнению обязанностей, наложенных обществом. Поскольку в
материальной сфере мы привыкли представлять всё существующее в виде
отдельных независимых сущностей, мы интуитивно превращаем
указанную силу в независимого субъекта, в особое «я», присутствующее
в каждом из нас, носящее социальный характер, говорящее от имени
общества. Как пишет Бергсон, «ошибочно упрекали чисто социальную
мораль в пренебрежении индивидуальным долгом. Даже если
теоретически мы были обязаны только по отношению к другим людям, мы
в действительности были обязаны по отношению к самим себе,
поскольку социальная солидарность существует лишь с того момента, как
Я социальное прибавляется в каждом из нас к Я индивидуальному.
Культивирование этого "социального Я" составляет сущность нашей
обязанности в отношении общества. В каждом из нас присутствует
что-то от общества, иначе обязанность не имела бы над нами никакой
власти; и мы едва ли испытываем потребность в том, чтобы
добираться до общества, нам достаточно самих себя, если мы обнаруживаем
в себе его присутствие»9.
9 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 12.
250
5.3. Открытая мораль и перспектива творческого преображения общества
Таким образом, можно сказать, что сила, обеспечивающая исполнение
обязанностей, налагаемых обществом, — это действие Абсолюта внутри
личности, но действие предельно упрощенное, редуцированное до
формы примитивного внутреннего «я», единственная функция которого и
заключается в повелевающей силе, придающей всем социальным нормам
характер приказа. Если бы общество было строго закрытым, то
присутствие Абсолюта в личности было бы только таким — только в форме
социального «я», обеспечивающего исполнение обязанностей. Но
духовная сущность личности всегда проявляет себя больше, чем просто
повеление социального «я», личность всегда имеет элемент неподконтрольной
обществу свободы, которая свидетельствует о гораздо более тесной
взаимосвязи с Абсолютом, чем та, что реализована в форме социального
«я». В подавляющем большинстве личностей их духовная глубина, связь
с Абсолютом, слишком слабо проявлена, чтобы существенно повлиять на
их жизнь и на жизнь общества. И лишь очень незначительное число
людей, которых Бергсон называет открытыми душами, обнаруживают в себе
эту взаимосвязь, раскрывают и углубляют ее, наконец, делают ее основой
своей жизни. Именно такого рода личности играют особенно большую,
по сути определяющую, роль в истории, только их жизнь и деятельность
способны придать импульс подлинного развития всему обществу.
5.3. Открытая мораль и перспектива
творческого преображения общества
Первый вариант присутствия Абсолюта в личности, присутствие
в форме социального «я», представляет его в предельно
схематизированной, обедненной форме, только в форме силы, повелевающей к
исполнению общественных обязанностей; второй вариант, наоборот, дает
присутствие Абсолюта в такой полноте, что человек не может сохранить
ограниченность и замкнутость, он сливается с бесконечной энергией
Абсолюта и сам становится ее источником, переносит ее на других
людей и на общество как целое. Действие таких личностей носит
поистине мистический характер, не имеет естественных ограничений,
свойственных обычной человеческой деятельности, поскольку
соединение с Абсолютом (с «порывом жизни») ставит их выше всего
материального мира и его законов: «...душа, не знающая больше материального
препятствия, чувствует, правильно или неправильно, свое совпадение
с самим принципом жизни»10.
Там же. С. 56.
251
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
Влияние, оказываемое на общество такими людьми, способно при
благоприятном стечении обстоятельств сделать его хотя бы на
некоторое время открытым. Социальный смысл этого влияния состоит в том,
что они своим примером предлагают людям жить по иным правилам
и исполнять иные обязанности, по сравнению с теми, которые они по
привычке исполняют в обществе, бывшем до этого момента закрытым.
Это и есть открытая мораль, в понимании Бергсона. Способ, каким она
«принуждает» людей к повиновению, к исполнению каких-то
обязанностей, сильно отличается от того, как это делает закрытая мораль:
«В то время как первая тем более чиста и совершенна, чем лучше она
сводится к безличным формулам, вторая, чтобы полностью быть самой
собой, должна воплощаться в исключительной личности, которая
становится примером. Всеобщий характер одной связан с универсальным
принятием какого-то закона, всеобщий характер другой — с совместным
подражанием какому-то образцу»11. Закрытая мораль выражена во
множестве вполне конкретных норм и максим, в форме приказа;
открытая мораль не может быть формализована, она не приказывает,
а призывает.
Содержательное различие двух типов морали связано с разным
характером того единства, которому они служат в обществе; поскольку
универсальной силой, обеспечивающей единство людей в сфере их
материального, эмпирического общения, является любовь, Бергсон
связывает конкретное содержание каждого из типов морали с разными
манифестациями этого чувства: в закрытой морали это любовь к
другим людям, ограниченная сферой социальных групп, к которым
принадлежит каждый человек — семья, род, нация; в открытой морали это
бесконечная любовь, направленная на всех людей, на всё человечество.
Как пишет Бергсон, «подобно тому как находились гениальные люди,
раздвигавшие границы ума и тем самым индивидам изредка
предоставлялось гораздо больше, чем можно было сразу дать виду, так появлялись
и особо одаренные души, которые чувствовали себя родственными
всем душам, и вместо того, чтобы оставаться в границах группы и
ограничиваться солидарностью, установленной природой, в любовном
порыве устремлялись к человечеству в целом»12.
Бергсон категорически отрицает, что любовь к человечеству может
возникнуть через чисто количественное расширение любви в роду
и нации, он видит между этими формами любви качественное раз-
11 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 34.
12 Там же. С. 102.
252
5.3. Открытая мораль и перспектива творческого преображения общества
личие: «...к человечеству невозможно прийти, расширяя свою
гражданскую общину: между моралью социальной и моралью человеческой
различие не в степени, а в сути»13. Любовь к роду и нации вполне
может сочетаться и во всех случаях сочетается с враждой к иным
родам и нациям, такая любовь условна и относительна, она является
своеобразным рационально обоснованным и «расширенным»
эгоизмом; эти формы любви, пишет Бергсон, «заключают в себе отбор и,
следовательно, исключение кого-то; они могут побуждать к борьбе;
они не исключают ненависти»14. Напротив, любовь, которая лежит
в основании открытой морали, безусловна и абсолютна, она никого
не исключает и никого не признает врагом. «Дело в том, что между
нацией, как бы велика она ни была, и человечеством существует та же
огромная дистанция, что отделяет конечное от бесконечного,
закрытое от открытого»15.
Столь принципиальное различие объясняется тем, что два вида
любви, по Бергсону, обозначают две принципиально разные формы
явленности Абсолюта в человеческой личности: в принципиальной
ограниченности и в своей бесконечной полноте. Во втором случае
любовь несет в себе осознание единства не только всех людей, но и всех
живых существ и всего существующего. Именно это Бергсон имеет
3 виду, когда утверждает, что открытая мораль не ограничивается даже
любовью ко всему человечеству: «Если предположить, что она
охватывает всё человечество, то это не будет слишком много, это не будет даже
достаточно много, поскольку ее любовь распространяется на животных,
растения, на всю природу»16.
Здесь еще раз можно констатировать, что человек, несущий
открытую мораль, предстает как качественно иное существо по отношению
ко всем обычным людям. И это вполне закономерно, ведь в нем
действенно являет себя Абсолют, целостное духовное бытие, выступающее
основанием всего существующего. О такого рода особых личностях
Бергсон говорит на протяжении всей своей книги; можно сказать, что
это ее главная тема, к которой в конечном счете сходятся все другие
темы.
Хотя Бергсон подчеркивает, что в основе открытой морали
находится любовь не только к каждому человеку и человечеству, но и ко всему
13 Там же. С. 36.
14Тамже.С. 39-40.
15Тамже.С61.
16 Там же. С. 39.
253
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
существующему, все-таки основное ее содержание связано именно
с человечеством. Точным и достаточно полным выражением этой
морали Бергсон называет евангельскую этику, учение Иисуса Христа в его
исходном до-догматическом содержании. Это содержание он считает
соответствующим другим великим этическим учениям древности:
«Во все времена появлялись исключительные люди, в которых эта
мораль воплощалась. До христианских святых человечество знало
мудрецов Греции, пророков Израиля, буддийских арагантов и других.
Именно к ним всегда обращались за этой полной моралью, которую лучше
было бы назвать абсолютной»17. Ясно, что при таком подходе главным
в христианстве и христианской этике Бергсон считает совсем не то, что
таковым считается в ортодоксальной, церковной традиции.
Чтобы понять мораль Евангелий как точное воплощение открытой
морали, необходимо, по Бергсону, интерпретировать ее в самом
радикальном, т. е. прямом, смысле. И в ортодоксальном богословии, и в
различных философских интерпретациях евангельского учения слишком
радикальный смысл заповедей Христа сглаживался за счет того, что
они принимались в качестве «идеальных» норм, не применимых
буквально к нашей несовершенной жизни. В противоположность этому
Бергсон настаивает именно на буквальном понимании заповедей.
«Мораль Евангелия — это главным образом мораль открытой души;
не были ли правы те, кто заметил, что она граничит с парадоксом и даже
с противоречием в самых точных своих рекомендациях? Если
богатство — это зло, то не повредим ли мы бедным, отдавая им то, чем
обладаем? Если тот, кто получил пощечину, подставляет другую щеку,
то чем становится справедливость, без которой, однако, нет и
милосердия? Но парадокс разрушается, противоречие исчезает, если принять
во внимание намерение этих правил, состоящее в том, чтобы вызвать
некоторое состояние души. Не для бедных, а для себя богатый должен
отдать свое богатство: блаженны нищие "по велению своего духа"!
Прекрасное не в том, чтобы быть лишенным собственности, и даже не
в том, чтобы самому себя лишить ее, а в том, чтобы не почувствовать
лишения. Поступок, через который открывается душа, имеет своим
результатом расширение и возвышение к чистой духовности морали,
замкнутой и материализованной в формулы; последняя становится
в этом случае по отношению к первой чем-то вроде моментального
фотоснимка, сделанного во время движения»18.
17 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 34.
18 Там же. С. 62.
254
5.3. Открытая мораль и перспектива творческого преображения общества
Следование евангельским заповедям, т. е. принятие открытой
морали, имеет своей целью не исправление недостатков мира, а
преображение души человека, полагающего их в качестве норм своей жизни.
Человек обнаруживает в себе связь с духовным бытием и полностью
открывает свою душу его действию; это должно вызвать радикальную
трансформацию его личности, привести к избавлению от
подчиненности законам материального мира и велениям внешней, материальной
организации общества. Такой человек перейдет к новой форме жизни,
к существованию в целостном бытии, законы которого очень условно,
но гораздо более адекватно, чем нормы и правила нашей материальной
жизни, выражают радикальные заповеди Христа: «Не имей богатства»,
«Не противься злому», «Не клянись», «Не пожелай жены ближнего»
и т. д. Более точно смысл того преображения, которое испытывает душа
человека, принявшего открытую мораль, Бергсон определяет термином
освобождение: «Они <люди открытой морали> говорят прежде всего,
что то, что они испытывают, — это чувство освобождения.
Благополучие, удовольствия, богатство — все, что привлекает большинство людей,
оставляет их равнодушными. Освободившись от этого, они
испытывают облегчение, затем радость»19.
Можно заметить, что в своей интерпретации евангельской этики
Бергсон идет по тому же пути, на котором еще раньше, на рубеже
XIX и XX веков, евангельское учение Христа интерпретировал Лев
Толстой. Толстой точно так же требовал буквального и прямого
понимания заповедей Христа, прежде всего заповеди «Не противься
злому» (толстовский принцип «непротивления злу насилием»), и
результатом принятия этики Евангелий он также признавал
трансформацию человеческой личности, переход от «животной жизни» к
жизни подлинно духовной. Такое совпадение трудно счесть случайным;
учитывая большой интерес Бергсона к русской литературе, можно
предположить наличие прямого влияния на него творчества и
мировоззрения наиболее известных русских писателей (прежде всего
Достоевского и Толстого). Более подробно об этом влиянии речь пойдет
в следующей главе.
Толстого очень часто обвиняли в том, что его интерпретация учения
Христа носит «индивидуалистический» характер, поскольку он считал,
что главная цель следования заповедям — это достижение личного
морального совершенства, что якобы ведет к игнорированию задачи
совершенствования других людей и всего общества. Приведенные
19 Там же. С. 54.
255
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
суждения Бергсона, казалось бы, позволяют и ему предъявить это
обвинение. Однако, разъясняя смысл того освобождения и
преображения, которые испытывает человек, принявший открытую мораль,
Бергсон устраняет все основания для такого обвинения. Состояние
после преображения не допускает замыкания в себе, вся жизнь
такого человека становится постоянным призывом к другим стать такими,
как он, и перейти в новое, преображенное общество, где единство всех
будет не просто более явным, но абсолютным. Ликвидируя свою
зависимость от материального мира и его интересов, открытая душа
в буквальном смысле начинает жить в другом мире и в другом
обществе, законы которых выглядят парадоксом для земной реальности.
Обладая для людей, способных услышать их, невероятной
притягательностью, великие личности заставляют всех людей ощутить
необходимость и естественность того идеала, который предстает в их жизни:
«...великие моральные личности, оставившие след в истории,
протягивают друг другу руку через века, через наши человеческие грады;
вместе они образуют божественный град, куда приглашают нас войти. /
Мы можем не слышать их голоса отчетливо, но клич тем не менее
брошен, и нечто отвечает ему в глубине нашей души. <...> они
привлекают нас в идеальное общество в то самое время, когда мы
уступаем давлению реального общества»20. Как уже говорилось выше,
совершенное, полностью открытое общество является только идеалом,
который невозможно реализовать, но причина этого печального
факта вовсе не в том, что открытое общество по своим законам
несовместимо с материальным миром, ведь любая «великая моральная
личность» своей жизнью показывает реальность этого идеала,
показывает возможность для человека мгновенно войти в него прямо из
материального мира, — а в силу слабости подавляющего большинства
людей, которые не могут и никогда не смогут последовать за
указанными великими личностями. Тем не менее очевидная нереализуемость
этого идеала не является свидетельством какого-то непреодолимого
препятствия на пути человечества к совершенству, подобного тому,
которое заложено в иудео-христианской идее грехопадения и
неискоренимой греховности человека.
Вспомним, что, согласно важнейшему тезису философии Бергсона,
присутствующему во всех его работах, каждый человек по своей
сущности находится в неразрывном единстве со всей бесконечной
материальной вселенной и с бесконечным и абсолютным духовным бытием.
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 72.
256
5.3. Открытая мораль и перспектива творческого преображения общества
Если человек окажется способным более или менее полно раскрыть
в себе эту сущность, то он предстанет абсолютным, бесконечным
существом, не нуждающимся в дополнительном основании в существовании
других таких же существ и в их социальном единстве. Получается, что
общество в философии Бергсона не является высшей инстанцией по
отношению к личности, оно необходимо только для несовершенных
личностей; личность, которая достигает состояния раскрытия своей
абсолютной сущности, не только обретет независимость от общества,
но, выступая как полное явление Абсолюта в эмпирическом мире,
окажется способной дать обществу импульс развития к совершенству.
Бергсон ясно формулирует этот тезис: «Если общество самодостаточно,
оно высшая власть. Но если оно лишь одно из определений жизни,
то понятно, что жизнь, которая должна была поместить человеческий
род на той или иной точке своей эволюции, сообщает новый импульс
особо одаренным индивидуальностям, которые вновь окунутся в нее,
чтобы помочь обществу пойти дальше. Правда, нужно будет
продвинуться до самого принципа жизни»21.
В определенном смысле появление высшей личности, в полной мере
реализующей высшие цели «творческой эволюции», представляет
собой, по Бергсону, возникновение совершенно новой формы жизни,
возвышающейся над той формой, которая получила выражение во всем
человечестве. «Появление каждой из них <открытой души> было как бы
творением нового вида, состоящего из одного-единственного
индивида, когда жизненный натиск время от времени приводит в одном
определенном человеке к результату, который не мог бы быть достигнут
разом всем человечеством»22. Получается, что существование
указанной уникальной личности привносит в мир смысл, превышающий смысл
существования всего человечества!
Бергсон достаточно подробно говорит об этом смысле, и в этом
элементе его построений можно при желании усмотреть пресловутый
«иррационализм», который ему часто приписывали и приписывают.
Уже в предшествующих трудах Бергсон критиковал разум, утверждая,
что в нашем сознании есть более высокая способность — интуиция,
родственная инстинкту животных, в «Двух источниках морали и
религии» он выше разума помещает еще одну способность — чувство,
эмоцию. В книге «Материя и память» Бергсон наглядно показал, как
чувственность в ее низших проявлениях, в форме элементарных
21 Там же. С. 107-108.
22 Там же. С. 102.
257
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
восприятий, отвечает за конституирование материального мира.
Поскольку мир возникает из духовного бытия, Абсолюта, можно
сказать, что в этой своей функции человеческая чувственность есть акт
трансформации Абсолюта в ограниченную материальной форму
существования. В новой книге Бергсон рассматривает чувственность в ее
высшей функции, как способность переживания сложных духовных
эмоций, и признает, что такая форма чувственности также есть
явление Абсолюта в личности, но в этом случае Абсолют являет себя не
в ограниченной пространственной форме, а в собственной духовной
полноте, хотя только в одном из своих содержательных аспектов.
Главный смысл существования высших личностей Бергсон видит
именно в порождении новых духовных эмоций, которыми они
«заражают» человечество, в результате чего происходит более глубокое
соединение с Абсолютом и постижение одного из бесконечных
аспектов его содержания; это ведет к обогащению жизни человечества,
придает его существованию новые смыслы, обеспечивает переход
на новый уровень совершенства.
Бергсон разъясняет эту идею на примере восприятия музыки. «Нам
кажется, когда мы слушаем, что мы могли бы желать только того, что
внушает нам музыка, и что именно так мы действовали бы естественным
образом, неизбежно, если бы мы не отдыхали от деятельности в
процессе слушания. Выражает ли музыка радость, грусть, жалость,
симпатию, мы в каждое мгновение являемся тем, что она выражает. / Впрочем,
не только мы, но также и многие другие, все другие. Когда музыка
плачет, вместе с ней плачет человечество, вся природа. По правде
говоря, она не вводит эти чувства в нас; она скорее нас вводит в мир этих
чувств, как прохожих, которых вовлекают в уличный танец. Так
действуют новаторы в морали. Жизнь для них содержит такие
неожиданные отзвуки чувства, какие могла бы обнаружить новая симфония;
они заставляют нас войти вместе с ними в эту музыку с тем, чтобы мы
выразили ее в движении»23.
Музыка является наиболее удачной иллюстрацией мысли Бергсона
потому, что ее восприятие порождает целостную и бесконечную эмоцию,
которая не ограничена зависимостью от конкретного предмета и при
этом захватывает всего человека, подчиняет его, заставляя весь мир
видеть по-новому. Однако эмоция, порожденная музыкой, действует
только ограниченное время; в противоположность этому эмоция,
которую приносят своей жизнью великие личности, остается навсегда.
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 41.
258
5.3. Открытая мораль и перспектива творческого преображения общества
она необратимо изменяет человечество, входя в общую жизнь и
незаметно действует на все последующие поколения. Пример воздействия
музыки важен также тем, что в нем наглядно проявляется
иррациональность этой сферы, невозможность выразить смысл высшей эмоции,
обогащающей жизнь переживающего ее человека и всего человечества,
в рациональных формулах. Это можно признать вполне естественным
выводом, если вспомнить, что новая эмоция, которую, по Бергсону,
приносит высшая личность, есть явление какого-то целостного
аспекта Абсолюта в человеческой жизни.
Впрочем, несмотря на придание такого большого значения
эмоциям, Бергсона все-таки невозможно обвинить в иррационализме;
вспомним, что в работе «Введение в метафизику» он доказывал
необходимость и возможность выражения содержания Абсолюта в
рациональной, языковой форме, через систему понятий, которые при
этом должны отличаться от «жестких» понятий науки и наукообразной
философии. Он утверждал, что использование понятий в этом случае
должно быть подобным их использованию в искусстве, в
художественной сфере. Эта мысль получает развитие в книге «Два источника
морали и религии». Высшие эмоции, приносимые великими
личностями, не могут оставаться чистыми переживаниями, они требуют
творческого действия и получают выражение в произведениях
культуры. Все формы культурного творчества, особенно такого, которое
приносит значимые для человечества результаты, Бергсон возводит
к высшим эмоциям, они и только они являются причиной развития
цивилизации.
«То, что новая эмоция находится у истоков великих творений
искусства, науки и цивилизации в целом, не вызывает у нас сомнений. Не
только потому, что эмоция — это стимулирующее средство, поскольку она
побуждает ум к новым начинаниям, а волю — к упорству. Следует
пойти гораздо дальше. Существуют эмоции, порождающие мысль; и
изобретение, хотя оно и принадлежит к явлениям интеллектуального
порядка, может иметь своей субстанцией сферу чувств. Дело в том, что
следует договориться относительно значения слов "эмоция", "чувство",
"чувственность". Эмоция — это аффективное потрясение души, но одно
дело — возбуждение поверхности, другое — возмущение глубин.
В первом случае результат рассеивается, во втором он остается
нераздельным. В одном — это колебание частей без сдвига целого; в
другом — целое продвигается вперед»24.
24Тамже.С.44-45.
259
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
Проводя различие между низшими и высшими эмоциями, Бергсон
именно последние признает главным источником всех творческих
достижений человечества. Низшие эмоции порождаются окружающими
нас предметами или представлениями разума, поэтому они вторичны
и выражают только конечные предметные смыслы; напротив, высшие
эмоции не зависят от предметного бытия и выражают абсолютные
смыслы, поскольку в явном виде раскрывают новый аспект содержания
Абсолюта в отдельной личности. Это означает, что они возвышаются
над разумом, являются сверхрациональнымщ но не иррациональными;
как пишет Бергсон, «эмоция, именно потому, что она безгранично
разрешима в идеях, есть больше чем идея; она суперинтеллектуальна»25.
Высшие эмоции не только могут, но и должны порождать идеи для того,
чтобы получить относительно адекватное выражение в сфере
материального бытия; более того, их значение в жизни человечества и
осуществляется через эти идеи: ведь большинство людей не способно так
же непосредственно, как высшие личности, переживать новую эмоцию,
поэтому для них эта эмоция должна быть переведена в
интеллектуальную, рациональную форму, должна быть «разъяснена» — только после
этого она будет способна привлечь и увлечь их.
Очень показательно, что в качестве главного примера такой
трансляции эмоции в идеи Бергсон упоминает не науку или философию,
а литературу, это вполне соответствует тому, что он писал в работе
«Введение в метафизику». Ведь литература, с одной стороны, есть самый
рациональный жанр искусства, поскольку она основана на языке и
немыслима вне относительно рациональной формы выражения, но,
с другой стороны, она не в меньшей степени, чем другие жанры
искусства (включая самый иррациональный жанр — музыку), способна
выражать высшие эмоции, действие Абсолюта в личности и во всем
человечестве. При этом Бергсон признает, что высшую, метафизическую
функцию может выполнять не любой вид литературы, а только особая
ее разновидность. «Тот, кто занимается сочинением литературных
произведений, мог заметить различие между умом, предоставленным
самому себе, и умом, который пожирает своим огнем оригинальная и
единственная эмоция, рождающаяся из слияния автора и его темы, т. е.
из интуиции. В первом случае ум работает холодно, комбинируя
между собой давно отлитые в слова идеи, которые общество
доставляет ему в надежном состоянии. Во втором случае кажется, что
материалы, обеспечиваемые умом, сначала расплавляются в единую смесь,
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 90.
260
5.4. Статическая религия и ее функции
а затем вновь отвердевают в идеях, на этот раз обогащенных
сведениями от самого духа; если эти идеи находят для своего выражения уже
существующие слова, это каждый раз производит впечатление
неожиданной удачи, а по правде говоря, часто требовалось помочь удаче,
принуждать смысл слова, чтобы оно сообразовывалось с мыслью»26.
Не вызывает никаких сомнений, что в этом рассуждении,
непосредственно продолжающем и развивающем идеи «Введения в метафизику»,
Бергсон имеет в виду в том числе (а может быть, главным образом)
творчество великих русских писателей — Достоевского и Толстого,
по отношению к которым он выступает прямым идейным наследником.
5.4. Статическая религия и ее функции
Как мы видели, различие между закрытой и открытой моралью
в теории Бергсона носит качественный, а не количественный характер,
открытая мораль с трудом поддается определению в качестве системы
каких-то обязанностей, это скорее особая форма жизни, возвышающая
человека, принявшего ее, над всем тем, что характеризует жизнь
обычных людей. Столь же резкое качественное различие Бергсон проводит
между статической и динамической религией, с помощью этих понятий
он продолжает анализ двух составляющих общественной жизни и двух
возможных путей развития общества: замыкание в устойчивых
материальных формах, препятствующих существенному духовному
совершенствованию, или раскрытие непосредственной связи с Абсолютом,
вызывающее радикальное преображение духовного бытия отдельных
личностей и всего общества.
Статическая религия по своим функциям является естественным
дополнением к закрытой морали. Обязанности, внушаемые обществом,
необходимы для его устойчивости, но развитие разума в человеке
приводит к тому, что возникает опасность чрезмерной рефлексии над
смыслом этих обязанностей, после чего может получить преобладание
противостоящая им тенденция эгоистического предпочтения
собственных индивидуальных интересов по отношению к интересам
социума. Возникновение рациональных форм обоснования морали,
как мы помним, Бергсон объяснял как своеобразное противодействие
разума собственному негативному влиянию на личность, как
опровержение возникающего благодаря разуму эгоизма личности. Но
такое действие разума становится заметным и значимым только при его
Там же. С. 48.
261
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
достаточном развитии, т. е. в эпоху цивилизации; кроме того,
рациональное опровержение разумом собственных аргументов выглядит
убедительным для представителей культурной элиты, но не для
простых людей, поэтому оно не может быть достаточно эффективной
и универсальной формой противодействия нарастающему эгоизму
и индивидуализму.
Возникновение самых древних форм религии в истории Бергсон
объясняет прежде всего тем, что они оказалась эффективным способом
выполнения той же функции, которую выполняет закрытая мораль, —
принуждения к исполнению системы обязанностей, интуитивно
найденных социумом для поддержания собственной устойчивости.
Объединяя их в понятии статической религии, Бергсон видит сущность
этих древнейших религиозных представлений в порождении системы
фантомных образов, выдающих себя за реальные восприятия или
воспоминания, которые противодействуют «разлагающему» действию
разума, доказывающего индивиду, что его собственные интересы
должны быть ему дороже общественных обязанностей. Самой древней
формой статической религии является мифология, Бергсон связывает
ее с остатками животного инстинкта в нас, с непосредственным
действием природы в человеческих существах.
«Истина <...> в том, что ум посоветует вначале стать эгоистом.
Именно в эту сторону ринется умное существо, если ничто его не оста-,
новит. Но природа не дремлет. Тотчас же перед открытой преградой
возник страж, запрещавший вход и отталкивавший нарушителя.
В данном случае это бог — покровитель гражданской общины, который
защищает, угрожает, пресекает. Ум в действительности сообразуется
с теперешними восприятиями или с теми более или менее образными
остатками восприятии, которые называют воспоминаниями.
Поскольку инстинкт существует уже лишь в состоянии следа или
потенциальной возможности, поскольку он недостаточно силен, чтобы осуществлять
какие-то акты или препятствовать им, он должен порождать
иллюзорное восприятие или по крайней мере подделку под воспоминание,
достаточно точную и яркую, чтобы ум определялся ею. С этой первой
точки зрения религия, таким образом, есть защитная реакция природы
против разлагающей силы ума»27.
В этой своей функции первобытная религия очень близка к морали,
поскольку, как и последняя, она обосновывает систему обязанностей,
налагаемых социумом на индивидов. Но эту функцию Бергсон не счи-
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 130.
262
5.4. Статическая религия и ее функции
тает ни единственной, ни самой важной в структуре развитых форм
религиозного сознания. Более заметными являются еще две функции,
выходящие на первый план по мере усложнения общества и его
отношений с миром.
Вторая функция религии связана с пониманием человеком
собственной смертности. Животные, не обладая умом и осознанием
собственного существования, не знают о том, что они смертны. Но
разум человека позволяет заглядывать в будущее и, в частности,
открывает человеку истину о его смерти. Размышления о своей
конечности неизбежно приводят личность в пессимистическое настроение,
ослабляет привязанность к жизни и препятствует эффективной
деятельности в настоящем. В связи с этим важнейшая функция любой
религии заключается в доказательстве — рациональном или чаще
образно-интуитивном — бессмертия личности. «Если жизненный
порыв отвлекает все другие живые существа от представления о
смерти, то мысль о смерти должна замедлить у человека движение жизни.
<...> Идее о том, что смерть неизбежна, она <природа>
противопоставляет образ продолжения жизни после смерти; этот образ,
запущенный ею в сферу ума, где только что обосновалась идея, ставит все
на место; нейтрализация идеи образом обнаруживает тогда само
равновесие природы, удерживающейся, чтобы не поскользнуться. Мы
оказываемся, таким образом, перед лицом совершенно особой игры
образов и идей, которая <...> характеризует религию при ее
возникновении. С этой второй точки зрения религия есть защитная реакция
природы против созданного умом представления о неизбежности
смерти»28.
При этом Бергсон признает наиболее известную версию идеи
бессмертия — мысль о бессмертии души человека, одним из известнейших
выразителей которой был Платон, достаточно поздней по своему
происхождению и связанной с рациональной обработкой более древних
верований; исходным и чисто интуитивным было совсем другое,
в определенном смысле противоположное представление — мысль
о продолжении существования телесной оболочки человека в виде
призрака или «тени». Умершие, в воззрении древних людей, не должны
были уходить «слишком далеко» от живущих, потусторонний мир
находился рядом с земным миром, его обитатели должны были посещать
живущих и влиять на их дела. В конце концов это представление было
вытеснено богословской концепцией бессмертия бестелесной души,
Там же. С. 139-140.
263
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
пребывающей в трансцендентном мире, но, по убеждению Бергсона,
древнее представление ближе к правильному пониманию бессмертия
и должно возродиться и постепенно возрождается в той мистической
версии христианства, которая является истинной, открытой религий,
необходимой современному человечеству.
Третья, и самая заметная, функция первобытной религии, в
определенном смысле включающая первые две, связана с необходимостью
помочь индивиду при его действиях в окружающем мире. Здесь
религия также компенсирует некоторые негативные последствия всё
большей роли разума в жизни и деятельности людей. Развитие разума
помогает человеку чрезвычайно расширить сферу своей деятельности,
сделать ее более разнообразной и сложной. Но именно в силу
усложнения она становится непредсказуемой, далеко не всегда ведущей
к нужному результату. Разрастание сферы неопределенности в
отношениях с окружающим миром, полном угроз, вызывает у человека
страх, парализует его волю. Получается, что и в этом случает
увеличение значения разума ведет к возрастанию неуверенности человека
в своих силах и тем самым представляет угрозу для него самого и для
процесса развития жизни как таковой. Вновь, как и в двух уже
рассмотренных случаях, остаток инстинкта в сознании человека
срабатывает как защитный механизм против этих негативных последствий
прогресса, в результате сознание создает образы неких
человекоподобных сил, живущих в вещах и явлениях и помогающих человеку в его
действиях в мире.
Предназначение разума состоит в том, чтобы обеспечивать
человеку господство над окружающим материальным миром, но пока
разум не развит, сфера, где достигнуто это господство, крайне мала,
большая часть мироздания оказывается вне контроля первоначально
очень несовершенной науки, постепенно формирующейся на основе
разума. Что наука сделает с этой неосвоенной частью? — спрашивает
Бергсон и отвечает: «Будучи предоставлена самой себе, она просто
констатировала бы свое неведение; человек почувствовал бы себя
заблудившимся в громадности сущего. Но инстинкт не дремлет. К
собственно научному познанию, сопровождающему технику или
заключенному в ней, он прибавляет во всем, что ускользает от нашего
воздействия, веру в силы, которые принимают во внимание человека.
Таким образом, Вселенная населяется намерениями, впрочем
мимолетными и изменчивыми; к чистому механизму относится только зона,
внутри которой мы действуем механически. Эта зона расширяется по
мере того, как наша цивилизация движется вперед; вся Вселенная
264
5.4. Статическая религия и ее функции
целиком в конце концов принимает форму механизма в глазах ума,
идеально представляющего себе завершенную науку»29.
Ярким дополнением к примитивным религиозным представлениям,
имеющим целью помощь человеку в его действиях в мире, является
магия. В ней очень наглядно выражено стремление нашего сознания
как бы материально продолжить возникающие желания до их
предметов и тем самым обеспечить их реализацию. При этом сами
предметы наделяются силами, которые отвечают желаниям и способствуют
их реализации. «Магия, таким образом, является врожденной для
человека, будучи лишь экстериоризацией желания, которым наполнено
его сердце»30.
В наши дни наука добилась полного познания природы и тем самым
лишила основания примитивную религию, населяющую мир
антропоморфными силами, но, по Бергсону, наше сознание в самых глубинных
своих оценках и заключениях мало изменилось по сравнению с
сознанием первобытного человека; первобытные религиозные представления
не уничтожены наукой, а только заслонены более яркими и сложными
идеяхми. Самые фундаментальные из этих представлений продолжают
жить и действовать в сознании даже самых развитых людей. В качестве
примера Бергсон приводит характерное для любого человека отношение
к понятию случайности: если мы видим кусок черепицы, падающий
с крыши дома, мы представляем это явление механическим,
необходимым, считаем, что оно целиком определяется законами природы,
но если этот кусок черепицы упал на человека, мы скажем о трагической
случайности того же события. Такое расхождение оценок можно
объяснить, только предположив, что во второй ситуации оказывает
влияние неосознанное представление о неких силах, строящих козни
человеку, которое полностью аналогично верованиям древнего человека.
Бергсон так комментирует эту ситуацию: «...случайность существует
только потому, что здесь затронут человеческий интерес, и всё
произошло так, как если бы человек был принят во внимание: либо затем,
чтобы оказать ему услугу, либо скорее с намерением причинить ему
вред. <...> Случайность, следовательно, есть механизм, ведущий себя
так, как будто он имел какое-то намерение»31.
Подводя итог своему анализу, Бергсон заключает, что самые древние
формы религии не включали в себя те по-своему прекрасные образы
29 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 175.
30Тамже.С. 180.
31 Там же. С. 158-159.
265
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
богов, которые известны нам из более поздних религий; она наполняла
мир примитивными силами, взаимодействующими с человеком,
помогающими или мешающими ему во всех его действиях, эти силы не
имели ни тела, ни развитой «души» и были привязаны к объектам,
входившим в круг деятельности людей, — это духи, живущие в природных
явлениях. «Если подлинно первоначальное религиозное
представление — это представление о некоем "действенном присутствии", скорее
о действии, чем о существе или вещи, то вера в духов оказывается очень
близкой к первоисточникам; боги появляются лишь позднее, когда
чистая и простая субстанциальность, которой обладали духи,
возвысилась у того или иного из них до личности»32.
Преобразование примитивных духов, живущих в природных
явлениях, в антропоморфных богов происходило постепенно. Хотя
возникающие в этом процессе религии наиболее известны и на них
обращают главное внимание исследователи религиозного сознания,
в концепции Бергсона все они представляют собой только переходные,
промежуточные формы между первоначальными, примитивными
верованиями и окончательной, по-настоящему плодотворной,
раскрывающей все потенциальные силы человека, мистической религиозностью,
которую Бергсон называет динамической религией.
5.5. Мистицизм как окончательная форма связи
человека с Абсолютом
Подобно понятию открытого общества, понятие динамической
религии является идеальным представлением, которое трудно
представить полностью воплощенным в общественной реальности. Однако,
оставаясь идеальным по отношению к человечеству в целом, оно
является реальным по отношению к некоторым избранным личностям.
Именно поэтому окончательная форма религии может быть
достаточно точно описана в ее проявлениях в отдельном человеке, а также в ее
наиболее общих исторических последствиях. Об этом свидетельствуют
те великие личности, которые были ее носителями.
В предельно общем виде суть динамической религии можно
определить как полное слияние отдельной личности с Абсолютом, началом
жизни, и как полное явление Абсолюта в земном мире в виде
человеческой личности. Это определение помогает понять, почему в качестве
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 202.
266
5.5. Мистицизм как окончательная форма связи человека с Абсолютом
связующего звена между самыми древними верованиями и
окончательной, динамической религиозностью выступают антропоморфные
религии — от языческого политеизма до иудаизма и ортодоксального
христианства. Окончательная историческая форма религии наглядно
показывает, что Абсолют сам по себе не имеет антропоморфного
облика, это есть безличное начало жизни, присутствующее везде и
являющееся основанием всего существующего. Но это начало жизни
наиболее полно являет себя именно в человеке, великие религиозные
личности в истории наглядно доказывают этот факт. По мере развития
своего сознания человек осознавал этот факт, и двумя важными
этапами на этом пути было придание антропоморфного облика духам,
обитающим в природе, и затем возникновение идеи единого Бога, через
которую пришло понимание абсолютного превосходства личности,
соединившейся с Абсолютом, над обычными людьми. Объясняя таким
образом причины возникновения антропоморфных религиозных
верований, Бергсон явно следует логике Л. Фейербаха, который в
известной книге «Сущность христианства» первым выразил истину о том,
что, придавая богам и Богу свои личностные черты, человек
постепенно осознавал, что он сам является единственным носителем
божественного начала. Фейербах делал отсюда вывод, что если когда-нибудь
в истории возникнет окончательная, истинная религия, то она
непременно будет «религией человека»; динамическая религия Бергсона и
является вариантом такой «религии человека». Впрочем, нельзя не
увидеть существенного различия между представлениями Фейербаха
и Бергсона: Фейербах ничего не говорит о бесконечной и абсолютной
сущности человека, можно подумать, что он «обожествляет»
непосредственно эмпирического человека, в его конечной земной природе; для
Бергсона же важно, что эмпирический человек только выражает,
реализует в формах материального мира бесконечное и абсолютное
начало жизни. И поскольку он утверждает, что только малое число людей
по-настоящему полно осуществляет это, здесь все-таки необходимо
проводить различие между Богом «в себе» (самим началом жизни) и
человеком в его наличном эмпирическом бытии, как несовершенном
воплощении Бога в материи.
Закрытая мораль и статическая религия имеют один и тот же исток:
это реакция природы (остатка инстинкта в нас) против последствий
развития разума в отдельном индивиде, угрожающих устойчивости
социальной общности, к которой он принадлежат. Только с течением
времени мораль и религия становятся различными социальными
феноменами. Однако в перспективе превращения закрытой морали
267
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
в открытую, а статической религии в динамическую должен произойти
обратный процесс; по сути, в своих окончательных и совершенных
формах мораль и религия — это один и тот же феномен, взятый в
различных аспектах. Открытая мораль определяется Бергсоном как образ
жизни личности, сумевшей полностью явить в себе свою духовную
сущность, т. е. прийти в существенное единство с Абсолютом, началом
жизни. Практически то же самое определение Бергсон дает
динамической (окончательной) религии, которую он чаще именует мистицизмом:
«Великим мистиком оказывается индивидуальность, способная
преодолевать границы, предопределенные виду его материальностью,
продолжающая и продлевающая таким образом божественное деяние»33.
В этом определении акцент сделан на значении жизни великого
мистика для реализации окончательных целей жизни. Он может иметь такое
значение потому, что, слившись с началом жизни, существует уже не
столько как индивидуальное ограниченное существо, сколько как
воплощение и орудие этого начала. Приведенное определение помимо
прочего помогает увидеть, в чем все-таки различаются мораль и
религия, даже по достижении ими своих окончательных форм. Открытая
мораль показывает путь преображения человека с точки зрения его
влияния на других, заражения их своим примером для следования по
тому же пути. В динамической религии то же самое преображение
личности и ее новая жизнь связываются с реализацией высших смыслов,
человеческого существования, совпадающих с высшими целями действия
Бога в мире.
Рассматривая историческое развитие религиозных представлений,
Бергсон первые элементы динамической религии находит в языческих
мистериях, прежде всего в греческом дионисизме, орфизме и
пифагорействе. Признавая не очень значительным их мистический элемент,
состоявшееся слияние личности с богом, он тем не менее считает эти
религиозные движения очень важными, поскольку в них религиозная
практика стала преобладать над теорией. Недостатком греческой
философии Бергсон считает как раз ее чисто созерцательное,
теоретическое настроение, что не позволяло теоретическому мистицизму
стать практическим, жизненным, т. е. подлинным, отвечающим своей
глубинной задаче. «Можно предположить, что развитие греческой
мысли было делом одного только разума, а наряду с ним, независимо
от него, время от времени в некоторых предрасположенных к этому
душах производилось усилие, направленное на то, чтобы по ту сторо-
33 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 237.
268
5.5. Мистицизм как окончательная форма связи человека с Абсолютом
ну ума прийти к видению трансцендентной реальности, к
соприкосновению с ней, к ее раскрытию»34. Только Плотина Бергсон признает
действительным мистиком, сумевшим теоретические ходы
диалектической философии приспособить для выражения жизненного,
подлинного мистицизма.
Эта тема — противопоставление религиозной «теории» и
мистической практики — является одной из важнейших для Бергсона. Он
довольно мало и не очень ясно говорит о христианской догматике и об
ортодоксальном учении церкви — весьма вероятно, он не хотел задевать
своих читателей-католиков. Но все-таки можно понять, что он
противопоставляет по своей сущности мистицизм как истинную динамическую
религию и историческое христианство; последнее является своего рода
«подсобным орудием» для первого. Все мировые религии Бергсон
понимает как упрощенные и рационализированные версии того
невыразимого Откровения, которое каждый мистик обретает в своем опыте
слияния с Богом. Они разъясняют обычным людям смысл акта
соединения с Богом и призывают их осуществить его, хотя в реальности его
смогут осуществить только единицы. Как пишет Бергсон, «мы
представляем себе религию как осуществленную процессом научного
охлаждения кристаллизацию того, что мистицизм, пылая, влил в душу
человечества. Через религию все могут добиться немного того, чем полностью
обладали некоторые особенно одаренные. Правда, ей пришлось принять
многое для того, чтобы самой быть принятой. Человечество хорошо
понимает новое только в том случае, если оно продолжает старое.
Старым же было, с одной стороны, то, что соорудили греческие философы,
а с другой стороны, то, что вообразили античные религии. Не
вызывает сомнений, что христианство многое получило или, точнее, многое
извлекло из тех и из других»35. В результате христианство оказывается
по своему основному содержанию такой же статической религией, как
все древние религии; свою позитивную функцию оно выполняет,
только когда призывает людей к осуществлению мистического опыта:
«сущностью новой религии должно было быть распространение
мистицизма»36.
Как можно понять, Бергсон был уверен, что христианство в
истории выполнило эту свою функцию и помогло постепенному
распространению истинного мистицизма. В этом убеждении сказывается его
34 Там же. С. 236-237.
35 Там же. С. 256.
36 Там же. С. 257.
269
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
очевидный исторический оптимизм, однако его трудно признать
верным. В реальности великие христианские мистики стали такими,
какими мы их знаем, и вошли в этом качестве в историю не благодаря,
а вопреки церкви и традиционному христианству, к которому они
принадлежали. Мистицизм, особенно в том радикальном варианте,
который описывает Бергсон, всегда был под подозрением в
христианских конфессиях, поскольку мистик входил в непосредственное
единство с Богом, отвергая как посредство церкви, так и концепцию
грехопадения и искупления человека, которая использовалась церковью как
раз для отрицания возможности единства с Богом и обретения
совершенства. В связи с этим вряд ли можно признать правильным
утверждение Бергсона о том, что историческое христианство способствовало
и способствует распространению мистицизма. Совершенно очевидно,
что, начиная с XVIII века европейская цивилизация решительно
вступила на путь секуляризации и рационализации всех сфер жизни и
христианская церковь ничего не смогла противопоставить этому
процессу, скорее наоборот, способствовала ему, настаивая на сохранении
«средневековой» модели религиозности, сводящей веру к исповеданию
догматов и формальной обрядовости.
Характерно, что в XIX веке все плодотворные формы мистицизма,
подобные теософии Е. Блаватской и Р. Штайнера, появлялись за
пределами церковного христианства, а часто и в резком противостоянии ему.
Бергсон косвенно признает это, когда ставит один ряд с христианскими
святыми в качестве носителей истинной религии индийских мистиков —
представителей брахманизма, буддизма и джайнизма. Впрочем,
существенным недостатком их мистицизма он считает те же черты, которые
снижали ценность античного философского мистицизма, —
созерцательность, отсутствие воли к преображению других людей и мира.
Но некоторых современных представителей индийской мистической
традиции Бергсон уже без всяких оговорок признает истинными
мистиками: «.. .у Рамакришны или Вйвекананды, если говорить лишь о самом
последнем времени, мы находим пылкое милосердие, мистицизм,
сравнимый с христианским мистицизмом»37.
Наиболее важный элемент представлений Бергсона, вступающий в
непримиримое противоречие с ортодоксальным христианством, — это,
конечно, его понимание Бога, которое ничего общего не имеет с
догматической идеей троичного Бога-Творца. И в предшествующих работах,
и в книге «Два источника морали и религии» Бергсон ясно и недву-
37 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 243.
270
5.5. Мистицизм как окончательная форма связи человека с Абсолютом
смысленно формулирует свою концепцию Бога: это единый и творчески
изменяющийся Абсолют, не имеющий антропоморфных черт. Абсолют
не может быть назван личностью, поскольку это определение
ограничивало бы его, но в своей сущности он является подобным нашему
сознанию, Бергсон называл его в книге «Творческая эволюция»
сверхсознанием. Наиболее конкретные определения Абсолюта — это начало
жизни («порыв жизни») и духовное бытие; он является основанием
всего существующего в материальном мире и наиболее полно являет
свою сущность в живых существах и в человеке.
Религиозно-философское учение Бергсона представляет собой оригинальный вариант
традиции мистического пантеизма, о которой не раз говорилось ранее.
Поскольку сам мистический пантеизм является позднейшим
развитием первоначального христианства, истинного учения Иисуса Христа,
последователей которого церковь объявила еретиками-гностиками
и преследовала на протяжении всей истории, нет ничего
удивительного, что наиболее адекватными выразителями истинной религии Бергсон
считает христианских мистиков, которые в своей религиозности
выходили за рамки ортодоксальной традиции.
Как и все другие представители традиции мистического пантеизма,
Бергсон отвергает догматическую идею одномоментного Творения,
об этом он прямо писал уже в книге «Творческая эволюция»: «Тайна,
окутывающая существование Вселенной, обусловлена <...> в
значительной своей части нашим желанием, чтобы Вселенная возникла
сразу или чтобы вся материя была вечной <...>. Исследуя эту
привычку ума, можно найти в ней предрассудок <...>, ту идею, общую и
материалистам, и их противникам, что не существует реально
действующей длительности и что абсолютное — материя или дух — не может
находиться в конкретном времени, которое мы ощущаем как саму
ткань нашей жизни: отсюда должно следовать, что все дано раз
навсегда и что нужно допустить вечность или самой материальной
множественности, или творящего ее акта, данного целиком в
божественной сущности. Если искоренить этот предрассудок, идея творения
становится яснее, ибо она соединяется с идеей роста. Но тогда мы не
должны уже говорить о Вселенной во всей ее целостности»38. Творение
в концепции Бергсона происходит постоянно, поскольку сам Абсолют
(Бог) длится (находится в «конкретном времени», конечно, не
совпадающем с нашим физическим временем); материальный мир
непрерывно созидается «внутри» Абсолюта как некая сфера его «деградации»,
38 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 239.
271
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
превращения в ограниченное бытие. Так понятый Бог имеет мало
общего с завершенным, неизменным и вечным Богом-Творцом
ортодоксального христианства. «Бог, таким образом определяемый,
не имеет ничего законченного; он есть непрекращающаяся жизнь,
действие, свобода»39.
Но, конечно, самое главное отличие заключается в том, что Бог-
Абсолют, понятый как длительность и как «порыв жизни», находится
в неразрывном сущностном единстве с человеком. В своих
предшествующих работах Бергсон постоянно указывал на это единство и
часто описывал его почти как тождество: «.. .Абсолютное открывается
совсем вблизи нас и, в известной мере, внутри нас. Сущность его
психологическая, а не математическая или логическая. Оно живет с нами.
Как и мы, оно длится, хотя известными своими сторонами оно
бесконечно более сконцентрировано и более сосредоточено на самом себе,
чем мы»40. В «Двух источниках морали и религии» общие контуры
такого понимания Абсолюта сохраняются, однако Бергсон несколько
смягчает тезис о единстве-тождестве каждого человека с Абсолютом.
В «Материи и памяти» и «Творческой эволюции», где Бергсон
последовательно строил новую метафизику, ему было важно подчеркнуть
принципиальное единство человека с духовным бытием, с
длительностью, чтобы более наглядно показать отличие своей философии от
классических систем. Но при анализе истории человечества изображать
каждого человека в качестве актуального носителя божественного
начала было бы большим преувеличением; теперь Бергсон понимает это
единство как только потенциальное для подавляющего большинства
людей, лишь некоторые личности в истории реализуют его как
актуальное, но именно поэтому они абсолютно возвышаются над
остальными, являясь по-настоящему людьми, в то время как эти остальные,
по сути, пребывают в «животной» жизни.
В новой книге важное место занимает описание особенностей
мистического опыта, переживаемого высшими личностями, а также
описание способов их воздействия на других людей и на общество.
Осуществляя феноменологический анализ мистического акта, Бергсон
выделяет в нем несколько важных моментов: «Душа, способная на <.. .>
усилие и достойная его, не станет даже задаваться вопросом, является
ли первооснова, с которой она теперь соприкасается, трансцендентной
причиной любых вещей, или же это лишь ее земное представительство.
Бергсон А. Творческая эволюция. С. 246.
Там же. С. 287-288.
272
5.5. Мистицизм как окончательная форма связи человека с Абсолютом
Ей достаточно будет почувствовать, что она пропитывается, не
растворяя в нем свою индивидуальность, неким существом, которое
может неизмеримо больше, чем она, подобно тому как железо
пропитывается огнем, раскаляющим его докрасна. Ее привязанность
к жизни будет отныне неотделима от этой первоосновы, радостью
в радости, любовью к тому, что есть только любовь. Помимо того душа
будет отдаваться обществу, но обществу, которое будет уже всем
человечеством, любимым любовью к тому, что есть его первооснова»41.
Бог, с которым соединяется мистическая личность, определяется здесь
с помощью нескольких понятий: «первооснова», «трансцендентная
причина вещей», «земное представительство» этой причины (т. е. ее
явление, имманентное земному миру и земной личности) и «некое
существо»; только последнее определение имеет некоторый намек на
антропоморфизм, но остальные вполне определенно задают
пантеистическое понимание Бога, ничего общего не имеющее с Богом-Троицей
ортодоксального христианства. Само разнообразие и даже некоторое
несоответствие этих характеристик показывает, что в данном случае
главное — не метафизика, а психология и этика; Бергсону важно
описать процесс преображения личности мистика и формирование его
нового мировосприятия. В описании первой фазы этого процесса
Бергсон использует известный образ средневековой мистической
традиции: слияние души с Богом метафорически обозначается как
пропитывание предмета (куска железа) раскаляющим его огнем. Этот
образ присутствует, например, в сочинениях Майстера Экхарта;
вообще, можно заметить, что описание мистического опыта в книге
Бергсона очень близко к тому, как его понимает и характеризует этот
опыт немецкий мыслитель.
Особенно важным определением Бога, «первоосновы», является
любовь, ведь Бог есть единство, а единство в его конкретном
человеческом воплощении есть любовь. «Бог есть любовь, и он есть объект
любви — в этом состоит весь вклад мистицизма. <...> божественная
любовь не есть нечто принадлежащее Богу: это сам Бог. Эта
характеристика может привлечь философа, который считает Бога личностью
и в то же время не хочет впасть в грубый антропоморфизм. Он будет
думать, например, об энтузиазме, который может воспламенить душу,
поглотить то, что в ней находится, и с этих пор занимать там всё место.
Личность в таком случае совпадает с этой эмоцией; никогда еще,
однако, личность до такой степени не была сама собой: она становится
41 Бергсон А. Два источника морали и религии. С: 228.
273
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
более простой, целостной, сильной»42. В описании смысла любви
Бергсон точно следует логике, характерной для представителей философии
всеединства (о чем уже говорилось в разделе 5.3). Обычная человеческая
любовь глубоко несовершенна, поскольку она направлена только на
некоторые предметы, и это означает, что она включает в себя момент
разделения, т. е. ненависти и вражды; любовь мистика является
совершенной божественной любовью, поэтому она не должна ничего
исключать из себя: он любит прежде всего всех людей, всё человечество,
поскольку в людях наиболее полно явлен Бог, но затем все живые
существа и даже всё существующее — поскольку Бог есть основание всего
и в какой-то мере явлен во всем. На высшей ступени любовь имеет
предметом не отдельные явления, а всё целое мира и Бога как основание
мира, именно здесь особенно наглядно выступает отличие
мистического пантеизма от ортодоксального христианства. В последнем Бог есть
отдельное существо, пребывающее вне мира, в мистическом пантеизме
никакого отдельного существа нет, Бог — это единое трансцендентное
основание бытия, из которого как бы произрастает всё существующее,
это принцип единства, придающий многообразию вещей и явлений
статус мира, это сама абсолютная любовь; поэтому любовь мистика
в ее высшем проявлении имеет объектом саму себя.
В приведенной цитате Бергсон намечает диалектическое понимание
отношения личности и Бога, также очень характерное для философии
мистического пантеизма. Как утверждали и утверждают
многочисленные критики пантеизма, слияние с Богом, если последний понимается
как безличное начало, может вести к исчезновению личности человека,
к его «растворению» во «всеобщем единстве». Это утверждение,
особенно популярное у русских критиков «немецкого пантеизма», на деле
не достигает своей цели не только по отношению к пантеизму Бергсона,
но и по отношению к пантеизму самых сложных немецких систем,
созданных Фихте, Шеллингом и Гегелем. Во всех этих случаях Бог не
может быть понят как «всеобщее единство», он есть конкретное
единство, он включает в своей конкретности всё существующее и придает
каждому сущему его конкретный, индивидуальный характер (об этом
уже говорилось в разделе 4.4). Именно эту черту Бога, понятого как
любовь, фиксирует Бергсон. Слияние человека с Богом означает
воцарение божественной любви в нем, но эта любовь не стирает
личностный, неповторимый характер бытия человека, а наоборот, раскрывает
его, поскольку божественная любовь живет в нем не во всей полноте,
42 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 272.
274
5.5. Мистицизм как окончательная форма связи человека с Абсолютом
а в отдельном своем аспекте, который задан конкретной эмоцией.
Личность становится полностью тождественной этой неповторимой
эмоции, выражающей ее состоявшееся слияние с Богом и с божественной
любовью; именно это состоявшееся слияние делает ее саму
неповторимой в таком смысле, каким обладает только Бог, как абсолютная
индивидуальность.
Высшая эмоция, охватывающая душу мистической личности,
не является чистым созерцанием, она предполагает реализацию в
жизни, предполагает активное действие на окружающих людей и на мир.
Бергсон неустанно подчеркивает важность момента активности в
мистическом опыте. Как он пишет, «душа великого мистика не
останавливается на экстазе как на конечной цели путешествия. Это отдых, если
угодно, но как при остановке, когда машина остается под парами;
движение продолжается в сотрясении на месте и в ожидании нового
рывка вперед. <...> Нет больше резкого разделения между тем, что
любит, и тем, что любимо: Бог здесь присутствует и радость
безгранична. Но хотя душа погружается в Бога мыслью и чувством, нечто от нее
остается вовне: это воля; ее воздействие, если оно имело место, просто
исходит от души. Ее жизнь, стало быть, еще не является божественной»43.
Созерцательное слияние с Богом нужно дополнить действием, душа
подлинного мистика хочет отдать свою волю Богу, стать орудием Бога,
и добивается этого: «Она удаляет из своей сущности всё, что
недостаточно чисто, прочно и гибко, чтобы Бог ее использовал. Она уже
чувствовала присутствие Бога, она уже видела его в символических
видениях, она уже даже соединялась с ним в экстазе; но всё это было
кратковременным, потому что было лишь созерцанием: деятельность
возвращала душу к самой себе и отвращала ее таким образом от Бога. /
Теперь сам Бог действует через нее и в ней: единение является полным
и, следовательно, окончательным»44.
В результате личность великого мистика оказывается адекватной
реализацией творящего акта Бога, или, выражая то же самое в других
терминах: предельно полным воплощением «порыва жизни» в материи.
Однако состоявшееся конкретное явление Бога не снимает
необходимости новых воплощений, поскольку выражает только один аспект
из бесконечности возможностей, присущих ему; кроме того, Бог
постоянно развивается, т. е. порождает в себе всё новые и новые
возможности, которые тоже должны быть воплощены в материальной
43 Там же. С. 248.
44 Там же. С. 249-250.
275
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
вселенной. Это означает, что, показав своей жизнью пример
реализации божественного замысла, мистик должен призывать всех людей
последовать его примеру, чтобы и они через свои жизни продолжили
никогда не прекращающийся акт творения. В этом смысле
обязательным элементом жизни и деятельности мистика, обретшего единство
с Богом, является учительство и пророчество, требующие от людей
изменения их косной обыденной жизни. «Едва спустившись с неба
на землю, человек испытывал потребность отправиться учить людей.
Необходимо было объявить всем, что мир, воспринимаемый
телесными глазами, несомненно, реален, но есть и нечто другое, и это не
просто возможно или вероятно, каким был бы вывод из рассуждения,
но достоверно в качестве опыта: кто-то видел, кто-то осязал, кто-то
знает»45.
Таким образом, истинная мистическая религия существует только
за счет учительства, за счет передачи мистического «знания» и опыта
от Учителя к его ученикам. Здесь естественно встает вопрос о начале
этого процесса: таким началом, первым Учителем, от которого
непрерывная последовательность приверженцев истинной мистической
религии идет до наших дней, Бергсон называет Иисуса Христа.
Совершенно очевидно, что его интерпретация евангельского образа Христа
не совпадает с догматической, ортодоксальной христологией. Видимо,
чтобы не оттолкнуть от себя, с одной стороны, церковно настроенных
читателей, а с другой стороны, ученых-скептиков, он говорит
несколько неопределенно о своем «мистическом» понимании Христа: «С точки
зрения, которой мы придерживаемся и из которой возникает божество
всех людей, несущественно, зовется Христос человеком или не зовется.
Неважно даже, что он зовется Христом. Те, кто дошел до отрицания
существования Иисуса, не помешают тому, чтобы Нагорная проповедь
находилась в Евангелии вместе с другими божественными речами.
Автору можно дать какое угодно имя, это не будет означать, что автора
не было. Мы не собираемся ставить здесь подобные проблемы. Скажем
просто, что если великие мистики действительно таковы, как мы их
описали, то они оказываются оригинальными, но неполными
подражателями и продолжателями того, чем полностью был Евангелический
Христос»46. Главный смысл этого фрагмента ясен: между любым
великим мистиком и Христом нет принципиальной, «качественной»
разницы; Христос по рождению ничем не отличался от любого другого
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 251.
Там же. С. 258.
276
5.5. Мистицизм как окончательная форма связи человека с Абсолютом
человека, но сумел с наибольшей полнотой осуществить мистическое
явление через себя Бога. Все его последователи должны стремиться
сделать то же самое, и они способны это сделать, хотя и не в такой
полноте, как Христос.
Нужно подчеркнуть, что, хотя Христос наиболее полно реализовал
идеал мистической религии, даже его нельзя понимать как полное и
окончательное воплощение Бога. Ведь, будучи человеком, он, как любой
другой мистик, выразил только один аспект бесконечной полноты Бога,
божественной любви, начала жизни. Поэтому своей жизнью и своим
учением он не только не завершил процесс явления Бога в мире,
реализацию его замысла, но, наоборот, показал необходимость
продолжения этого процесса — чтобы бесконечность божественных
возможностей была явлена в последовательности великих человеческих
личностей не фрагментарно и случайно, как это было раньше, а хотя
бы с относительной полнотой. «Если мистицизм должен преобразовать
человечество, то только медленно, постепенно передавая от человека
к человеку часть самого себя»47.
Сложность и даже трагичность этого процесса связана с тем, что
божественная любовь должна преобразовывать материальное бытие,
которое решительно сопротивляется этому преображению. Бергсон
выдвигает фантастическую идею о том, что в разных частях вселенной,
в разных мирах, материя имеет очень разные свойства, и в нашем мире
она оказалась особенно «косной», «непокорной» духовному началу
жизни, поэтому человек как высшая форма воплощения этого начала
оказался крайне несовершенным существом, с большим трудом
выполняющим свою главную функцию — расширение власти жизни и любви
над материей. «В каждом из этих миров жизненный порыв и сырая
материя оказываются двумя дополняющими друг друга аспектами
творения; при этом жизнь обязана материи, сквозь которую она
проходит, своим разделением на различные существа, а силы, которые она
в себе несет, остаются слитыми воедино в той мере, в какой это
позволяет пространственный характер обнаруживающей их материи. Это
взаимопроникновение не было возможно на нашей планете; всё
заставляет думать, что материя, оказавшаяся здесь дополненной жизнью,
была малопригодна для того, чтобы способствовать ее порыву»48.
Бергсон предполагает, что если бы материя была более податливой
и в силу этого творческий замысел Бога был бы воплощен с достаточной
47Тамже.С253.
48 Там же. С. 277.
277
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
полнотой, то на вершине эволюции находилось бы не нынешнее
человечество, являющееся в большей степени животным видом, чем
единством духовных индивидуальностей, а идеальное божественное
человечество, которое состояло бы из множества неповторимых
совершенных личностей, очень полно выражавших через себя отдельные
аспекты божественной любви. «Возможно, в других местах
существуют только радикально отличные друг от друга индивиды, если
предположить, что они также многочисленны и также смертны; возможно
также, они были образованы в таком случае сразу и полностью. На
земле, во всяком случае, вид, составляющий смысл существования всех
других видов, лишь частично является самим собой»49. Именно
потому, что человек является больше животным, чем «самим собой»
(воплощением Бога), нужна мистическая религия, через призывы которой
отдельные великие личности реализуют в себе то, что начало жизни
не смогло реализовать в целом человечестве; им удается, пишет
Бергсон, «посредством индивидуального усилия, прибавившегося к общей
работе жизни, сломать сопротивление, оказываемое орудием, одержать
верх над материальностью — словом, найти Бога»50.
При этом победа над материальностью заключается вовсе не в ее
отрицании ради чистой духовности, как это демонстрирует монашество,
материальность должна сохраниться, но преобразиться под действием
духовного начала и прийти с ним в органическое единство. Это
преображение означает «покорение» материи: каждый отдельный мистик
осуществляет его только в ограниченной сфере мира, но при
правильном развитии человечества, когда постепенно все люди станут такими
же мистиками, это должно привести к полному покорению человечеством
всей материальной вселенной. По сути, смысл этого исторического
и космического процесса в том, что сам Бог постепенно покоряет
вселенную. И чтобы этот процесс выглядел осмысленным и направленным
на реализацию высшей цели жизни, нужно предположить, что исходно
материальная вселенная находилась вне контроля Бога.
Здесь уместно вспомнить, что в главном своем труде, в книге
«Материя и память», Бергсон разрабатывал наиболее последовательный
вариант концепции мистического пантеизма, в котором материальный
мир объяснялся как результат внутренней «деволюции» Бога: в
некоторой его сфере происходило умаление, ослабление полноты и единства
божественного существования, и это означало возникновение несо-
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 278.
Там же.
278
5.5. Мистицизм как окончательная форма связи человека с Абсолютом
вершенного материального мира; причем осуществлялось это умаление
человеком (через механизм его чувственного восприятия), в этом
смысле его можно было понять как «орудие» Бога в осуществляемом им акте
Творения (конечно, ничего общего не имеющего с соответствующим
актом, описываемым христианской догматикой). В книге «Творческая
эволюция» Бергсон отказался от этой модели объяснения
материального мира и начал движение в сторону дуалистической метафизики,
в которой материя и материальный мир в своем основании
понимаются как независимые от Бога, Абсолюта, «порыва жизни» (см. раздел 4.5).
Это выглядело не очень естественно с чисто философской точки зрения,
но книга «Два источника морали и религии», в которой произошел
окончательный переход к дуализму, помогает понять одну из причин
этого движения. Метафизический дуализм оказывается гораздо более
естественным основанием для той героической этики, которую строит
Бергсон.
Вспомним, что закрытую мораль Бергсон описывает как форму
полного подчинения человека социальной общности; открытую
мораль, наоборот, характеризует как движение к высшей свободе,
направленной на духовное новаторство, творчество. Однако анализ
динамической религии, мистицизма, показывает, что указанные
свобода и творчество на деле выражают действие Бога в личности.
Чтобы эта зависимость человека от Бога не умаляла его свободы,
Бергсон самого Бога описывает как становящееся, развивающее
начало, постепенно осваивающее и покоряющее противостоящее ему
начало материи. Все те героические задания, которые ставит перед
собой человек, являются модификациями высшего героического
«задания», которое поставил перед собой Бог, — полностью покорить
и одухотворить материальный мир. «В сущности, мистики
единодушно свидетельствуют о том, что Бог нуждается в нас так же, как мы
нуждаемся в Боге. <...> Таков будет вывод философа, привлеченного
мистическим опытом. Творение будет выступать для него как дело
Бога, начатое для того, чтобы творить творцов, чтобы взять себе в
помощники существа, достойные его любви»51.
Можно прийти к выводу, что в книге «Два источника морали и
религии» Бергсон склоняется к метафизике, которая оказывается ближе
не к самым строгим и последовательным формам мистического
пантеизма, продемонстрированым немецкими философами начала XIX века
(Фихте, Шеллингом, Гегелем, Шопенгауэром), а к его первому варианту,
51 Там же. С. 275.
279
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
разработанному Николаем Кузанским. У Кузанца Бог ставит перед
собой «героическое задание» — покорить независимое от него начало
ничто, и именно в процессе реализации этого «задания» возникают
материальный мир и человек (см. раздел 1.2). Точно так же и Бергсон
утверждает, что Бог, начало жизни, имеет целью покорение,
«переработку» косной материи, независимой от него, при этом он идет
гораздо дальше Николая, признавая человечество, в лице тех людей,
которые стали мистиками, не только результатом творческого действия
Бога, но и «орудием» для бесконечного продолжении этого действия.
В результате мистицизм Бергсона оказывается существенно иным по
отношению к традиционному, в том числе и еретическому,
христианскому мистицизму. В нем главным оказывается не столько ощущение
состоявшегося слияния с Богом, что было главным для всех мистиков
в истории, сколько осознание личностью каждого своего поступка как
реализации высшего, божественного плана по преображению,
«переделке» всей материальной действительности.
Поскольку человек, особенно в его видимой телесности, кажется
слишком малой и незначительной частью материальной вселенной,
задача ее преображения силами человечества кажется невыполнимой.
Чтобы снять возникающие сомнения, в этом месте своих размышлений
Бергсон вводит то представление о «большом» теле человека, которое
подробно рассматривалось ранее (см. разделы 3.1-3.2, 4.3). «Ведь если
наше тело — это материя, к которой прилагается наше сознание, оно
соразмерно нашему сознанию, оно включает в себя все, что мы
воспринимаем, оно доходит до самых звезд. <...> мы реально находимся
во всем, что мы воспринимаем, хотя и такими частями самих себя,
которые непрерывно меняются и в которых помещаются только
потенциально возможные действия. Посмотрим на вещи под этим углом
зрения, и мы не станем больше говорить даже о нашем теле, что оно
затерялось в необъятном пространстве Вселенной»52.
Получается, что научный образ человека, представляющий его
«рядовым» биологическим организмом, одним из множества живых существ,
является не просто ложным, но вредным, препятствующим осознанию
человечеством своих истинных задач в бытии. Только мистическая
религия и мистическая философия, которую развивает Бергсон,
помогают нам понять себя и наметить путь в благополучное будущее.
Реально ведут человечество по этому пути те личности, которые
восприняли эту религию и эту философию и стали великими мистиками.
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 279-280.
280
5.6. Зло и добро, смерть и бессмертие
«В действительности для великих мистиков речь идет о том, чтобы
радикально преобразовать человечество, начав с собственного
примера. Цель может быть достигнута только в том случае, если в конце
существует то, что теоретически должно было существовать вначале:
божественное человечество»53.
Но увлечь людей можно, только соединив свой пример жизни с
рассказом о том, к чему можно прийти на этом пути. Мистика должен
дополнить философ, или он сам должен стать философом и научиться
рассказывать о своем опыте и о перспективах новой жизни, ожидающей
человечество. Здесь Бергсон снова утверждает, что философия,
наиболее полно выражающая и объясняющая мистический опыт, должна
существовать в формах художественного творчества, более
конкретно — в форме литературы. Говоря о философе, пытающемся передать
мистический опыт, ту высшую эмоцию, которая составляет суть этого
опыта, Бергсон пишет, что «он, как правило, писатель; и анализ его
собственного состояния души в то время, когда он сочиняет, поможет
ему понять, как любовь, в которой мистики видят самое сущность
божества, может быть одновременно личностью и творящей силой».
Этот писатель-философ, продолжает Бергсон, став на мгновение
мистиком, попытается задержать родившийся в его душе порыв. «Чтобы
ему целиком подчиниться, нужно придумывать новые слова, творить
новые идеи, но это значит уже не просто нечто передавать и,
следовательно, писать. Писатель все-таки постарается осуществить
неосуществимое». И если ему это удастся, то он «обогатит человечество мыслью,
способной принимать новое обличье для каждого нового поколения»54.
Здесь Бергсон описывает очень необычный тип литературы, впрочем,
в XX веке литература уверенно пошла по пути сближения с
философией и очень многие писатели попытались приблизиться в своем
творчестве к этому ее типу. При этом нетрудно указать на того, кто еще
в XIX веке дал образец такого рода литературы и кого, весьма вероятно,
Бергсон и имел в виду в этом описании, — это Достоевский.
5,6. Зло и добро, смерть и бессмертие
Стремясь охватить в своей системе все традиционные проблемы
религии и религиозной философии, Бергсон обращается к проблеме
страдания и зла. Прежде всего он отмечает, что из всех живых существ
53 Там же. С. 258.
"Там же. С. 274.
281
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
только человек способен по-настоящему страдать, и это связано с
наличием разума, рефлексии и памяти; он утверждает, что «боль
значительно снижается у существ, не обладающих активной памятью,
не продолжающих свое прошлое в своем настоящем и не являющихся
полностью личностями; их сознание сомнамбулическое по природе;
ни удовольствия, ни страдания у них не имеют столь глубокого и
длительного резонанса, как у нас: разве мы считаем реальными страдания,
испытанные нами во сне?»55 Значительная часть человеческих
страданий, продолжает Бергсон, имеет иллюзорный характер, поскольку
вызывается отсутствием вещей, которые не являются необходимыми
для правильной, духовной жизни, т. е. вызывается «неосторожностью
и легкомыслием, или слишком утонченными вкусами, или
искусственными потребностями»56.
Но все-таки нельзя отрицать наличие фундаментальных физических
и моральных страданий и радикального зла в человеческих
отношениях. Их Бергсон объясняет и оправдывает точно так же, как он
объяснял парадоксы Зенона, которые возникают из-за того, что целое
(целостный акт движения) пытаются объяснить исключительно из
отдельных элементах этого целого (положений движущегося тела).
Страдания и зло — это отдельные элементы жизни, противостоящие
таким же элементам удовольствия, радости и добра. Но жизнь
оправдана как целое, и «разложение» ее на элементы не может опровергнуть
ее безусловной благости: «...то, что с одной стороны представляется
как огромная множественность вещей, в числе которых
действительно есть страдание, может с другой стороны представляться как
неделимый акт, так что уничтожить одну часть — значит уничтожить
целое»57.
Такое объяснение, исходящее из неразрывной связанности добра
и зла, радости и страдания в целом жизни, достаточно часто
использовалось в философии, начиная со стоиков, Бергсон здесь не
оригинален. Нужно только уточнить, что он использует эту известную
логику в варианте, характерном именно для традиции мистического
пантеизма. В силу имманентности всего существующего Богу в этом
случае диалектическое соотношение полярных качеств,
обнаруживаемых в материальном мире, косвенно переносится и на сущность Бога.
Особенно наглядно такой ход мысли демонстрировал Шопенгауэр,
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 281.
Там же.
Там же. С. 282.
282
5.6. Зло и добро, смерть и бессмертие
который из наличия непрерывной борьбы за существование,
наблюдаемой в нашем мире, вывел самопротиворечивость Абсолюта,
воли. Бергсон пошел по тому же пути уже в «Творческой эволюции»,
где предполагал дать характеристику «порыва жизни» на
основании основных качеств, обнаруживаемых в эволюции жизни на
разных ее ветвях (см. раздел 4.2). В книге «Два начала морали и религии»
он предлагает в философском описании Бога поступать похожим
образом: не конструировать абстрактное понимание Бога из наших
умозрительных представлений о нем, как поступает ортодоксальное
христианство, а исходить из «опыта», в котором мы соединяемся
с Богом. В этом случае, по Бергсону, мы избежим характерного
противоречия между искусственной идеей всемогущества Бога и фактом
наличия в мире страданий и зла, которое на протяжении всей своей
истории было вынуждено разрешать христианское богословие.
В концепции Бергсона идея божественного всемогущества, если уж
ее приходится использовать, заключает в себе не представление о
немедленной реализации любой мыслимой нами возможности (в том
числе и возможность отсутствия зла и страданий в мире), а мысль
о неисчерпаемой бесконечности возможностей, которые наше сознание
даже не может помыслить; всемогущество подразумевает не полноту
завершенного бытия, а наоборот, «энергию, не имеющую точно
определимых границ, могущество, позволяющее творить и любить,
превосходящее всякое воображение. Разумеется, они не дают нам какого-
то замкнутого понятия и тем более определения Бога, которое
позволило бы сделать вывод о том, что есть или чем должен быть мир»58.
Идея всемогущества не дает никаких определенных выводов по
поводу состояний и свойств нашего мира, наоборот, она делает
невозможным предсказания форм его бытия даже в самом ближайшем
будущем.
Наконец, Бергсон обращается к проблеме, занимающей
центральное место в любом религиозном учении, — к проблеме смерти и
бессмертия. Его рассуждения предельно лаконичны и не вполне
определенны, чувствуется, что он не рискует с достаточной ясностью сказать,
что ждет человека после смерти. Тем не менее общий смысл его
позиции вполне однозначен, причем он определенно высказывался по
этому поводу задолго до времени написания своей последней книги.
Еще в 1911 году в работе «Сознание и жизнь» Бергсон, констатируя
существенную независимость сознания от мозга и всех телесных
Там же. С. 283-284.
283
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
процессов, утверждал, что «сохранение и даже усиление личности
после распада тела оказываются поэтому возможными и даже
вероятными»; и далее высказывал гипотезу о том, что «сознание, проходя
сквозь материю, которую оно обнаруживает в здешнем мире,
закаляется подобно стали и готовится к действию более плодотворному,
к жизни более напряженной». Посмертную жизнь Бергсон представлял
подобной нашей, в ней продолжится характерная для нашего мира
«творческая эволюция» жизни и человека, причем каждая личность
займет в посмертном мире настолько «высокую» позицию, насколько
она смогла достичь совершенства в земной жизни: «Эту <посмертную>
жизнь я тоже представляю себе как борьбу и потребность в
изобретении, как творческую эволюцию: каждый из нас, благодаря одной
лишь игре природных сил, занял бы в ней место на том из духовных
уровней (plans), куда его и на этом свете виртуально вознесли качество
и количество его усилия, подобно тому как воздушный шар,
запущенный с земли, достигает высоты, соответствующей его удельному весу»59.
При этом Бергсон высказывал уверенность в том, что в конце концов
человечество найдет способ научного (!) исследования
запредельного мира.
Похожая мысль звучит в работе «Материя и дух» (1912); на основе
того же предположения о существенной независимости ментальной
деятельности от мозга Бергсон делает вывод о том, что «существоват
ние души после смерти тела становится столь вероятным, что
бремя доказательства ложится на того, кто отрицает, а не на того, кто
утверждает: ведь единственная причина веры в исчезновение сознания
после смерти состоит в том, что мы видим разложение тела, а эта
причина больше не имеет значения, коль скоро независимость
подавляющей части сознания от тела тоже является установленным
фактом»60.
В книге «Два источника морали и религии» он еще раз делает
решительный вывод о «возможности и даже вероятности посмертного
существования души»61, причем утверждает, что проблема
посмертного существования должна ставиться и решаться в «терминах опыта».
Этот опыт имеет два слагаемых: во-первых, обычный эмпирический
опыт, но направленный на «аномальные» явления, свидетельствующие
59 Бергсон А. Сознание и жизнь // Бергсон А. Избранное: Сознание и жизнь.
С. 44.
60 Бергсон А. Душа и тело // Бергсон А. Избранное: Сознание и жизнь. С. 64.
61 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 285.
284
5.6. Зло и добро, смерть и бессмертие
о существовании потустороннего мира, и, во-вторых, опыт,
полученный с помощью мистической интуиции, дающий избранным личностям
постижение божественной реальности. Впрочем, та реальность,
которая открывается великим мистикам, может не совпадать с миром,
ожидающим нас после смерти. Бергсон считает, что только «опытное»
исследование должно дать решение этой проблемы. «Сливается ли
потусторонняя жизнь, которая представляется достоверно
существующей нашей душе благодаря тому факту, что даже в этом мире
значительная часть ее деятельности не зависит от тела, с той
потусторонней жизнью, в которую в этом мире включаются особо одаренные
души? Только продление и углубление обоих опытов скажут нам
об этом: проблема должна оставаться открытой»62. Но самый
неожиданный тезис, относящейся к этой теме, Бергсон формулирует
на последних страницах своего труда: он утверждает, что вслед за
развитием опытного знания о посмертном существовании, «за
видением потустороннего мира в более широком научном опыте»,
последует такое развитие мистической интуиции в людях, что
инстинктивно присущая им вера в потусторонний мир преобразуется из
чисто словесной и абстрактной в живую и действенную, и это
радикально изменит образ жизни человечества. «Чтобы узнать, в какой мере
она <действенная вера в потусторонний мир> важна, достаточно
посмотреть, как жадно люди набрасываются на удовольствия; ими не
дорожили бы до такой степени, если бы в них не видели способа
одержать верх над небытием, средства, позволяющего презирать
смерть. На самом деле, если бы мы были уверены, абсолютно уверены
в загробной жизни, мы не могли бы больше думать ни о чем другом.
Удовольствия сохранились бы, но стали бы тусклыми и бесцветными,
потому что их интенсивность вызывалась лишь вниманием, которое
мы на них фиксировали. Они бы потускнели, подобно свету наших
электрических лампочек при свете утреннего солнца. Радость
затмила бы удовольствие»63.
Очевидно, что подразумеваемое здесь посмертное бытие совсем
не похоже на Царство Небесное, которое нам обещает церковное
христианство и в котором не будет главной ценности земного
существования — жизни с ее противоречивым сочетанием телесного
и духовного начал. Бергсон предполагает, что после смерти
продолжится именно такая противоречивая, но полная творческой энергии
Там же. С. 285-286.
Там же. С. 345.
285
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
и земной радости жизнь. Возможно, новое бытие личности будет
более совершенным, чем в земном мире, но степень этого совершенства
будет зависеть исключительно от того, какого совершенства человек
достиг в нынешнем мире.
Хотя такое представление кажется весьма необычным, на деле
Бергсон выражает достаточно давнюю и устойчивую философскую
традицию понимания бессмертия, в целом очень характерную для
представителей мистического пантеизма. В европейской христианской
философии она ярко проявляется в учении Дж. Бруно, который
утверждал, что после смерти душа человека возрождается в обновленном
телесном облике и в новом мире, связанном с другой звездной
системой. В философии Г. Лейбница каждый человек — это вечная,
неуничтожимая монада, которая непрерывно развивается на протяжении
земной жизни, а затем испытывает резкую трансформацию,
называемую смертью, после которой следует новый этап непрерывного
развития, подобный земной жизни. Бергсон достаточно часто упоминает
Лейбница в своих работах, поэтому влияние философских и
религиозных идей немецкого мыслителя на его систему кажется весьма
вероятным.
Очень часто Бергсон полемизирует с И. Кантом, но именно Кант
наиболее рационально выразил указанное понимание бессмертия как
продолжения земной жизни человека в новой форме. В «Критике
практического разума» при разъяснения смысла идеи бессмертия Кант
связывает эту идею с необходимостью принять идеал непрерывного
и бесконечного морального совершенствования человеческой
личности. Мораль может быть обоснована, только если мы принимаем в
качестве цели нашей воли полную реализацию высшего блага
(утверждение о существовании этой цели является одним из постулатов
практического разума). Но движение к реализации высшего блага в качестве
условия предполагает всё большее соответствие нашей воли
моральному закону. Дальше Кант так продолжает свое рассуждение: «Полное
же соответствие воли с моральным законом есть святость —
совершенство, недоступное ни одному разумному существу в чувственно
воспринимаемом мире ни в какой момент его существования. А так
как оно тем не менее требуется как практически необходимое, то оно
может иметь место только в прогрессе, идущем в бесконечность к
этому полному соответствию, и согласно принципам чисто
практического разума необходимо признавать такое практическое движение вперед
как реальный объект нашей воли. / Но этот бесконечный прогресс
возможен, только если допустить продолжающееся до бесконечно-
286
5.6. Зло и добро, смерть и бессмертие
сти существование и личность разумного существа (такое
существование и называется бессмертием души)»64.
Очевидно, что подразумеваемый Кантом «прогресс», «идущий
в бесконечность», не может мыслиться как Царствие Небесное
церковного христианства, в последнем совершенство дано сразу и никакого
«прогресса» больше не требуется. Кант имеется в виду такое
продолжение существования человеческой личности, в котором она
продолжит свое движение к совершенству, хотя никогда его не сможет достичь;
это некая форма жизни, полностью подобная нынешней земной
жизни. При этом Кант проницательно замечает, что главной проблемой
такого понимания бессмертия является невозможность быть уверенным
в том, что в новой жизни личность продолжит движение к
совершенству и не утратит тот его уровень, что был достигнут в предшествующем
«фрагменте» жизни. Тем не менее он высказывает убеждение в
возможности для человека сохранить «настрой» на совершенство и в
новом бытии, ожидающем после смерти: «...тот, кто сознает, что
значительную часть своей жизни до самого ее конца он неуклонно
стремился к лучшему, и притом из истинно моральных побуждений, вправе,
естественно, иметь если не уверенность, то утешительную надежду,
что и в существовании, продолжающемся после этой жизни, он
будет держаться этих принципов <...>»65. Нетрудно видеть, что общий
смысл концепции бессмертия Бергсона очень близок к
представлениям Канта.
Эта концепция получила яркое развитие в позднем религиозно-
философском учении И. Г. Фихте66, а затем в концепциях
представителей немецкой романтической натурфилософии, следовавших в своем
объяснении природы и человека за Шеллингом (см. раздел 1.5).
Особенно интересное выражение эти представления приобрели в трудах
Г. Т. Фехнера. Бергсон хорошо знал его работы по экспериментальной
психологии, в книге «Опыт о непосредственных данных сознания» он
детально разбирает и критикует идею Фехнера о возможности
количественного измерения психических состояний. Можно предположить,
что Бергсон читал и натурфилософские труды немецкого ученого, ведь
64 Кант И. Критика практического разума // Кант И. Собр. соч. В 6 т. М., 1963-
1966. Т. 4. 4.1. С. 455.
65 Там же. С. 456.
66 Подробнее см.: Евлампиев И. И. Философия человека в творчестве Ф.
Достоевского (от ранних произведений к «Братьям Карамазовым»). СПб., 2012.
С. 326-345.
287
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
он, подобно Фехнеру, пытался совместить в своей философии научное
исследование природы с метафизическим подходом к анализу
человека и его отношения к миру. Фехнер написал небольшую книгу,
специально посвященную проблеме бессмертия, под названием «Книжица
о жизни после смерти» (1836). В ней изложена очень оригинальная
концепция, которая находится в очевидном созвучии с концепцией
бессмертия Бергсона.
Фехнер утверждает, что смерть есть на деле второе рождение
человека: при первом рождении он обретает очень ограниченное материальное
тело для познания и действия в мире, в соответствии с этим и его
духовная сторона оказывается очень бедной, ограниченной. Но если он
проживет богатую, творческую жизнь и сумеет существенно «развить» свой
дух, то смерть будет означать для него трансформацию к «вселенскому»
существованию, в котором его дух будет охватывать всю природу, а его
телом станет вся вселенная или, возможно, ее значительная часть. «После
смерти наступает второе рождение, — пишет Фехнер, — ведущее к более
свободному бытию. При этом Дух взрывает тесную для него оболочку,
оставляя ее тлению, словно ребенок, который оставляет свою при первом
рождении. После этого все то, что с помощью наших чувств
представлялось нам внешним образом и словно бы из дали, наконец, проникает
в нас и ощущается нами. Отныне Дух не просто касается гор и долин и,
наслаждаясь весной, но и не подвергается более муке, что все окружающее
пребывает лишь вне его. Отныне горы и долы пронизаны им. Он
ощущает их возрастающую силу и высоту. Отныне будет не словами и
жестами вызывать мысли других, но в непосредственном воздействии духов
друг на друга, не разделенных более с помощью своих тел, но связанных
благодаря им, возникнет воздушное восприятие мыслей. Уже не внешним
образом Дух явится тем, кто оставлен в любви, но поселится глубоко
в их душах, словно часть их самих, в них и через них будет он думать
и действовать»67. Получается, что умершие существуют в том же мире,
что живущие, только их существование является более «полным»; при
этом Фехнер предполагал, что живые могут общаться с умершими и
познавать их образ жизни.
Нетрудно видеть, что здесь есть очевидные совпадения с
концепцией Бергсона. Как и Фехнер, Бергсон был уверен, что сознание
каждого человека каким-то образом связано с другими сознаниями
и может передавать им свое содержание помимо материального меха-
67 Фехнер Г. Т. Книжица о жизни после смерти // Герметизм, магия,
натурфилософия в европейской культуре XIII-XIX веков. М., 1999. С. 530.
288
5.6. Зло и добро, смерть и бессмертие
низма речи (в форме телепатии), об этом Бергсон писал в работе «"Духи
умерших" и изучение психических явлений» (см. раздел 3.1). Точно так
же, как Фехнер, он высказывал гипотезу (в работе «Сознание и жизнь»,
см. выше), что после смерти личность продолжает существовать в
нашем мире и с помощью того испытания, каким является смерть,
«готовится к действию более плодотворному, к жизни более напряженной».
Очень важной общей идеей обоих мыслителей является мысль о
наличии у человека «большого» тела, охватывающего огромные области
вселенной и позволяющего более полно и глубоко познавать бытие
без использования рационального метода, в непосредственной
интуиции. Можно было бы привести еще множество примеров
поразительного совпадения философских представлений Фехнера и
Бергсона, однако и уже сказанного достаточно для того, чтобы признать
гипотезу о влиянии идей немецкого натурфилософа на Бергсона
вполне обоснованной.
В этом контексте уместно также упомянуть религиозные
представления соотечественника Бергсона О. Конта. Несомненно, Бергсон знал
труды Конта, поскольку начал свое философское развитие с увлечения
позитивизмом, основателем которого по праву считают французского
мыслителя. Вероятно, именно его представление об обществе Бергсон
имеет в виду в критическом суждении, содержащемся в «Двух
источниках морали и религии»: «.. .никто больше не приписывает обществу
случайное или договорное происхождение. Если и можно было
упрекнуть в чем-либо социологию, то скорее в чрезмерном отстаивании
противоположной позиции: некоторые ее представители готовы видеть
в индивиде абстракцию, а в социальном организме — единственную
реальность»68.
В своей концепции бессмертия Конт считал, что реальным
существованием обладает только человечество как целое, а отдельная
личность является только «абстракцией», подобной математическим
абстракциям, не существующим в реальности. В соответствии со своими
имперсоналистскими убеждениями, Конт утверждал, что каждая
личность обладает двумя измерениями бытия: поверхностным в
качестве отдельного индивида и глубинным в качестве органической
части человечества. Смерть разрушает только поверхностное
измерение бытия личности, но не затрагивает глубинное, поэтому, по Конту,
умершие продолжают существовать рядом с нами, но только в другой
и более совершенной форме. Несмотря на очень разное отношение
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 112.
289
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
к значению личности в мире, можно увидеть определенное сходство
воззрений Конта и Бергсона в том смысле, что оба не принимают
традиционную церковную идею бессмертия и представляют смерть как
трансформацию личности к какому-то более совершенному бытию
в материальном мире.
Наконец, можно указать на еще одного мыслителя, очень много
размышлявшего о бессмертии и создавшего оригинальную концепцию,
которая, скорее всего, была известна Бергсону и могла повлиять на его
взгляды, — это Достоевский. Более подробно сходство философских
концепций русского и французского мыслителей будет рассмотрено
в следующей главе, здесь в связи с идеей бессмертия уместно упомянуть
только поздний рассказ Достоевского «Сон смешного человека»,
который был опубликован в 1877 году в составе «Дневника писателя».
Герой рассказа в результате фантастического путешествия попадает на
планету, являющуюся точной копией нашей Земли, там он оказывается
в обществе людей, полностью подобных земным людям, но достигших
совершенства в своем коллективном бытии. Описывая совершенных
людей, герой рассказа подчеркивает отсутствие в их жизни
традиционных религиозных представлений и церковной организации («у них
не было храмов»), тем не менее из его слов можно заключить, что они
сохранили глубокую религиозность, которая стала подлинной, так как
заменила их «абстрактную» веру действенной верой-знанием, дающей
твердое убеждение в посмертном бытии, подобном земному, и
возможность общения с ушедшими в иной мир. «Между ними не было
ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит.
Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью.
У них почти совсем не было болезней, хотя и была смерть; но старики
их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними
людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их
светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь
умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного,
восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они
соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что
земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не
понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо,
были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для
них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное,
живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было
веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная
радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для
290
5.7. Современность и путь в будущее
живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения
с Целым вселенной»69.
Эта живая картина кажется прямой иллюстрацией к приведенным
выше рассуждениям Бергсона о радости, которая поселится в сердцах
людей, если они окончательно примут идею бессмертия. Да и финал
книги Бергсона, его тезис о том, что наша Вселенная когда-нибудь
должна начать выполнять свою функцию в качестве «машины для
создания богов»70, также кажется навеянным этим известным
произведением Достоевского.
5.7. Современность и путь в будущее
Для философа мало показать идеал общественного развития,
он должен попытаться наметить конкретные пути, которые приведут
к нему. Хотя Бергсон не рассматривает этот вопрос во всех деталях,
в заключительных замечаниях к книге, озаглавленных «Механика и
мистика», он присутствует с достаточной ясностью.
Бергсон решительно критикует традиционный европейский «про-
грессизм», построенный на убеждении в неуклонной эволюции
общества ко все более совершенному состоянию. В его философской
концепции «прогресс» оказывается весьма двусмысленным понятием.
Прежде всего потому, что идеал общественного развития, который он
обозначает термином «открытое общество», не может быть понят как
конкретное состояние, допускающее точное описание. При оценке
общественного развития мы впадаем в ту же иллюзию, которую
Бергсон критиковал по отношению к любому материальному движению:
мы склонны полагать, что конечный пункт движения и развития дан
уже в его начале, тогда как он реализуется только в самом процессе
развития и никаким образом не может быть предугадан заранее. Все
однозначные представления об идеале общественного развития,
создававшиеся в истории, ложны именно потому, что слишком ясно и
конкретно описывают цель прогресса.
Это означает, что и понятие «открытого общества» нужно
рассматривать не как характеристику конкретного состояния общества,
а только как общее представление о том, какие изменения нужно
осуществить в современном обществе, чтобы оно начало движение
69 Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1877 г. // Достоевский Ф. М. Поли,
собр. соч. В 30 т. Т. 25. С. 113-114.
70 Бергсон А. Два источника морали и религии. G. 346.
291
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
в сторону реального преображения, цель которого должна оставаться
неопределенной. Само это преображение, в его полном и окончательном
выражении, нужно мыслить не как «эволюцию», а как «революцию»,
которая, конечно же, совершенно не похожа на обычные политические
и социальные революции, вполне органически встроенные в
эволюционный процесс. «Революция», которая предполагается в теории
Бергсона, должна быть духовной и даже мистической, поэтому она никаким
образом не может быть предсказана и описана из закономерностей
эволюционного развития общества: это развитие опирается на
материальные факторы и касается только материального развития; изменения,
предполагаемые концепцией Бергсона, лежат совсем в другой плоскости,
за пределами наличной реальности и ее законов.
Источником изменений, подталкивающих общество в направлении
к открытости, является не закономерно возникающие его внутренние
потребности, цели, интересы и т. п., а непредсказуемые новые элементы
в мировоззрении отдельных мистически настроенных личностей,
которые по-новому выстраивают свою жизнь и требуют от других
последовать за ними. Впрочем, эти личности пока еще не способны
существенно преобразовать общество в том направлении, о котором они
мечтают, всё, что они могут — это действовать на его материальную
структуру и изменять ее в соответствии с закономерностями
материальной эволюции. «Открытое общество» есть скорее свободная фантат
зия этих мистических личностей, чем предвидение реального состояния,
в связи с этим Бергсон пишет: «О нем вновь и вновь мечтают избранные
души, и оно каждый раз реализует нечто от самого себя в творениях,
каждое из которых, через более или менее глубокое преобразование
человека, позволяет преодолевать трудности, до того непреодолимые.
Но после каждого раза круг, открывшийся на мгновение, вновь
закрывается. Часть нового отлилась в форму старого; индивидуальное
стремление стало социальным давлением; и обязанность окутывает всё»71.
Элемент подлинной свободы только на мгновение может появиться
в обществе в результате решительного действия мистической личности,
но приобретенное в результате качество обречено на превращение
в новую социальную обязанность, сохраняющую общество в состоянии
закрытости.
Тем не менее закрытые общества не совсем одинаковы в смысле их
близости к грядущему идеалу, между ними обнаруживаются
существенные различия, и это важно для дальнейших попыток сделать их откры-
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 289.
292
5.7. Современность и путь в будущее
тыми. Первый и самый заметный принцип различия — это
политическое устройство, его Бергсон признает весьма значимым критерием
удаления или приближения к состоянию открытости. Он решительно
высказывается в пользу демократии как политической формы,
наиболее пригодной для грядущего радикального преображения общества.
«Из всех политических концепций она является в сущности самой
удаленной от природы; она единственная, по крайней мере в намерении,
выходит далеко за пределы условий жизни "закрытого общества". Она
приписывает человеку нерушимые права. Эти права, чтобы оставаться
неприкосновенными, требуют от всех непоколебимой преданности
долгу»72.
Однако было бы большой ошибкой считать на основании этого
высказывания, что Бергсон является сторонником стандартного
западного либерализма. Тем более было бы большим недоразумением признать
хотя бы отдаленное совпадение его понятия «открытого общества»
с тем же понятием, используемым К. Поппером в известной книге
«Открытое общество и его враги». Сам Поппер достаточно ясно
противопоставляет свои политические взгляды взглядам Бергсона73, для него
открытое общество — это общество всеобщей рациональности,
обитатели которого сами выстраивают управляющие ими структуры, не
признавая в своем общественном бытии никакой непостижимой глубины.
Для Бергсона такое общество является наиболее типичным примером
закрытого, поскольку иллюзия завершенности и ясности всех структур
не позволит людям понять его радикальное несоответствие глубинным,
^рационализируемым импульсам человеческой свободы,
происходящей из связи с Абсолютом. Для Поппера, наоборот, все ключевые
понятия Бергсона — Абсолют, интуиция, нерационализируемая глубина
в человеке, духовная сущность — незаконные порождения
традиционной философии, с которой нужно полностью покончить в эпоху
победившего научного мировоззрения. В реальности для
прямолинейного рационалиста и позитивиста Поппера вся серьезная метафизическая
философия оказывается просто недоступной по своей
интеллектуальной глубине и сложности, поэтому он не спорит с ней, а просто
отрицает ее, демонстрируя полное ее непонимание.
Иллюзия некоторой близости взглядов Бергсона и Поппера
возникает только в связи с тем, что для обоих противопоставление
закрытого и открытого общества в принципе оказывается подобным
72Тамже.С305.
73 См.: Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1. С. 251.
293
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
противопоставлению тоталитаризма и демократии. Но это именно
иллюзия близости, поскольку под демократией они понимают
совершенно разное: Поппер сводит ее к модели западного либерализма,
впервые обозначенной еще в трудах Дж. Локка и французских
просветителей, в то время как Бергсон видит в ней совсем другое.
Вспоминая известный лозунг всех демократических революций «свобода,
равенство, братство», Бергсон признает безусловно главным из этих
трех понятий — последний, для него «демократия является
евангелической по своей сути, и ее движущая сила — любовь»74. «Возражения,
вызванные неопределенностью формулы демократии, вытекают из
того, что не был признан ее изначально религиозный характер. Как
можно требовать точного определения свободы и равенства, когда
будущее должно оставаться открытым для любого прогресса,
особенно для творения новых условий, в которых станут возможны формы
свободы и равенства, сегодня неосуществимые, возможно даже
непостижимые?»75
Последнее утверждение показывает, насколько понимание
демократии Бергсоном отличается от классического западного либерализма,
защищаемого Поппером и получившего абсолютное господство в
западном мире. Для западных либералов ничего «непостижимого» и
неясного в понятии равенства и тем более в понятии свободы нет, вся
суть западной либеральной модели сводится к предельно простому щ
как считают сами теоретики либерализма, очевидному (а на деле
поверхностному и поэтому глубоко ложному) пониманию свободы как
отсутствия внешних ограничений для действий обособленного
человеческого индивида, как наличие разных вариантов его материальных
действий. Такое определение низводит человека на уровень
животного, ничего существенно человеческого и тем более религиозного в этом
определении нет. Хотя формально многие прародители либеральной
теории указывали на религиозные основания своих взглядов (Берсон
в связи с этим упоминает Локка и творцов американской Декларации
независимости), в реальности из всей религиозной модели человека
здесь использовалась только идея равенства людей перед Богом, а эту
идею даже проще было защищать на основании чистого механицизма,
признававшего отдельную личность таким же простым элементом
материального мира, как атом («социальный атомизм»). Нет ничего
удивительного в том, что в основной линии своего развития западный
74 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 305.
75 Там же. С. 306.
294
5.7. Современность и путь в будущее
либерализм очень быстро избавился от связи с какими бы то ни было
религиозными идеями и в наши дни уже прямо выступает как
воинствующая антирелигиозная идеология.
В своих рассуждениях о демократии Бергсон определяет свободу
как главное качество духовного начала в человеке, связывающего его
с Богом: свобода — это способность активной реализации своей
духовной сущности в материальном мире, полное господство духовного
начала над материальным в человеческой жизни. Такое понимание
свободы, демократии и либерализма исходит не из примитивной философии
английского эмпиризма (Гоббс, Локк, Юм) и крайних форм
рационализма и механицизма Просвещения, а из немецкой идеалистической
философии, прежде всего из философии Канта, получившей сложное
развитие в политических идеях Фихте и Гегеля. Сам Бергсон не делает
особого акцента на резкой противоположности своего понимания
демократии по отношению к господствующей традиции западного
либерализма, однако необходимость такого различия для правильного
понимания его идей не вызывает сомнений. Это различие было
достаточно хорошо проанализировано в немецкой и русской политической
философии второй половины XIX — начала XX века, хотя
воинствующие сторонники современного либерализма, уже давно ставшего
своеобразной изощренной формой тоталитаризма, не признают никаких
иных форм своей идеологии, кроме его «догматически строгой» версии,
заданной Локком, Гольбахом и Поппером76.
Второй заметный признак «прогресса», упоминаемый Бергсоном,
связан с развитием индустрии и возрастанием материального богатства,
который привел к существенному снижению уровня бедности и
возрастанию комфорта жизни среднего европейца. Эту черту современной
цивилизации Бергсон не считает однозначно положительной. «Долгое
время считалось, что индустриализм и механизация принесут счастье
человеческому роду. Сегодня мы охотно отнесли бы на их счет бедствия,
от которых мы страдаем. Говорят, что никогда человечество так не
жаждало удовольствий, роскоши, богатства. Как будто неодолимая сила
76 Подробнее см.: Евлампиев И. И. Актуальные уроки русского
либерализма. Статья первая: критика западной традиции // Вопросы философии. 2015.
№ 6; Евлампиев И. И. «Закат западного мира» и его метафизические и
исторические причины // Вопросы философии. 2019. № 11. Интересно, что, критикуя
Бергсона, Поппер уверенно называет его последователем Гегеля, а ведь
философию последнего либералы его типа рассматривают как главное теоретическое
основание тоталитаризма (см.: Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2.
С. 75, 359).
295
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
всё более неистово толкает его к удовлетворению его самых грубых
желаний»77. Родившись как благородное желание сделать жизнь
достойной для всех, механизация и рационализация производства, а за ним
и всего общественного бытия, привела к господству материальных
потребностей и искажению нашей жизни.
Но Бергсон высказывает оптимистическое убеждение в том, что
негативные последствия механизации и индустриализации можно было
бы преодолеть при изменении общей направленности усилий
человечества. Он считает, что мы способны перейти от бесконечной погони
за комфортом и удовольствиями к упрощению материальной стороны
своего существования ради усложнения и развития духовной сущности,
что является главной целью подлинной мистической религиозности.
«Необходимо, чтобы человечество постаралось упростить свое
существование с той же одержимостью, с какой постаралось его усложнить»78.
Такое «упрощение» не должно отменять положительных достижений
«механики», того материального прогресса, который был достигнут
цивилизацией за последние три столетия. Хотя Бергсон совершенно
определенно утверждал, что европейское человечество придало
материальному прогрессу ложное направление, превратив его в
самодовлеющую ценность; он продолжал верить, что ход общественного
развития еще можно изменить. «То, что мистицизм требует аскетизма,
не вызывает сомнений. И тот и другой всегда являются уделом
немногих. Но не менее достоверно и то, что подлинный, целостный,
действующий мистицизм стремится распространиться благодаря милосердию,
составляющему его сущность. Как же будет он распространяться, даже
в разбавленном и ослабленном виде, который он неизбежно примет,
среди человечества, охваченного страхом голода? Человек возвысится
над землей только в том случае, если хорошее снаряжение обеспечит
ему точку опоры. Он должен оказать давление на материю, если он
хочет оттолкнуться от нее. Иными словами, мистика требует механики.
На это не обращали достаточно внимания, потому что механика, из-за
ошибочного перевода стрелки, была направлена на путь, в конце
которого находились скорее чрезмерное благосостояние и роскошь для
известного числа людей, нежели освобождение для всех»79.
Признавая достижения материального прогресса основанием для
существенного преображения общества, Бергсон по-прежнему настаи-
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 316.
Там же. С. 335.
Там же. С. 336.
296
5.7. Современность и путь в будущее
вает на том, что его причины лежат вне сферы материального, это
преображение должно стать результатом деятельности отдельных
«высших личностей», мистиков, способных эффективно воздействовать
на общество в силу того, что через них проходит энергия Абсолюта,
первоначальной силы жизни. Здесь мы можем констатировать, что та
модель общества и истории, которую создал Бергсон, по своим
основным мотивам противоположна господствующей ныне модели
западного либерализма, в этом смысле его оптимизм не оправдался: в
истории окончательное преобладание получили как раз все те негативные
последствия «прогресса», которые он считал временными и вполне
преодолимыми.
За прошедшие после окончания Второй мировой войны десятилетия
западная цивилизация проделала незаметный, но очень радикальный
путь, приведший к построению общества, главный принцип
организации которого — полное сведение свободы человека к внешнему,
материальному выбору и, как следствие, радикальное подавление
духовной свободы, выражающейся в творчестве. Основы этой
общественной модели были целиком заимствованы из XVII-XVIII веков,
из философии английского эмпиризма и французского Просвещения.
В социальной идеологии этой эпохи человек был понят как конечное
существо, функционирующее по очень простым законам и поэтому
вполне предсказуемое и управляемое в своем поведении. Такое
представление о человеке было жизненно необходимым для просветителей,
ибо только на его основе можно было обеспечить логичность и
непротиворечивость их политической теории (классического
либерализма). Ведь государство рассматривалось здесь в рамках теории
общественного договора, т. е. как совершенно вторичное и производное
образование по отношению к независимым личностям, которые
обладают правом в любой момент прекратить свое участие в
«общественном договоре» и выступить против государственной власти. В
контексте таких представлений насущной необходимостью становится
«воспитание народа» ради устойчивости государства: людей нужно
было заставить быть довольными своей жизнью, чтобы у них не было
повода покушаться на государство. Обосновать возможность и
эффективность такого «воспитания» можно было на основе идеи о
«механической» простоте устройства человека: познав законы
функционирования отдельных личностей, «мудрые» правители без труда будут
управлять поведением граждан, так что те даже не заметят этого и
будут пребывать в убеждении, что они «абсолютно свободны». В
результате либеральная концепция XVIII века, провозглашая идею полной
297
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
свободы личности, была вынуждена главное внимание обращать
на методы контроля над взглядами й поведением граждан ради
устойчивости общественного порядка.
Западный либерализм XX-XXI веков довел эту модель до
логического завершения и сделал ее окончательным итогом западного
развития; претворить в жизнь эту утопию, основанную на совершенно
ложных философских основаниях, удалось с помощью двух главных
факторов — благодаря реализации модели «общества потребления»,
в котором жизнь людей была полностью подчинена погоне за все
новыми и новыми материальными благами, становящимися все более и
более бессмысленными, поскольку они никак не связаны с духовной
сущностью человека, и благодаря тотальному манипулированию
взглядами граждан, осуществляемому с помощью средств массовой
информации. Просветители считали, что человек — это автомат, полностью
предсказуемый в своих материальных проявлениях и не имеющий
никакой внутренней духовной сущности. Такое представление было
необходимо им для доказательства того, что утопия либерального
государства может быть реализована в истории. История показала, что
так оно и есть: только выстроив систему, эффективно подавляющую
внутреннюю свободу человека, максимально приблизив человека
к модели «автомата», идеологи и политики XX века смогли сделать
последнюю «великую утопию» человечества реальностью. И как это
всегда бывает в истории, результат оказался в разительной
противоположности с провозглашаемыми целями. Вместо общества
«раскрепощенной свободы» западная цивилизация оказалась во власти самой
изощренной формы тоталитаризма.
Тоталитарные системы первой половины XX века жестко
ограничивали внешнюю свободу человека, но не очень преуспели в
ограничении внутренней свободы; можно в связи с этим вспомнить гордый
лозунг экзистенциализма, сформулированный Ж.-П. Сартром: человек
обречен на свободу, и ее не может отнять ни тюремное заключение,
ни пытки. К сожалению, Сартр ошибся, лишить человека внутренней,
творческой свободы оказалось не так уж и трудно. Только путь к этому
лежит не через физическое принуждение и внешнее ограничение —
в этом случае человек лишь укрепляет свою духовную свободу; нужно,
наоборот, потакать всем его материальным запросам и придумывать
новые, все более бессмысленные, и при этом внушать ему, что он живет
в самом совершенном обществе, лучше которого просто не может
быть — что он находится на самой «вершине» всемирного прогресса
и может с нескрываемым презрением смотреть на прошлое человечества,
298
5.7. Современность и путь в будущее
на все эти «темные века», в которые люди верили в «мифы» про Бога
и духовные ценности и ради этого призывали друг друга к какому-то
«бесконечному» совершенству. На этом пути западная либеральная
идеология и смогла достичь своей заветной цели — превратить
человека в раба материальных потребностей, практически лишенного
духовного измерения и внутренней, творческой свободы.
Создание Бергсоном последнего большого труда, книги «Два
источника морали и религии», очень часто связывают с исторической
ситуацией 20-30-х годов, когда в Европе тон задавали откровенно
тоталитарные режимы, а их лидерам казалось, что именно они определяют
историю. В заключение своего труда Бергсон действительно касается
этой темы и противопоставляет общества, построенные на принципах
демократии, и авторитарные режимы, подчеркивая, что первые более
открыты новациям и в большей степени работают над общими целями
всего человечества. Однако тот, кто увидел только этот вывод во всей
книге Бергсона, — не только ничего не понял в его представлениях
о целях человечества, но на деле не понял и его отношения к
демократии. Откровенно тоталитарные режимы давно остались в прошлом,
но работа Бергсона в наши дни актуальна, как никогда; теперь ее
критика прямо относится к западному обществу, которое изображает себя
демократическим и свободным, но в реальности очень эффективно
подавляет духовную свободу человека и в этом смысле является
типичным закрытым обществом. Ведь по-настоящему открытое общество —
это общество, демонстрирующее существенное, т. е. качественное,
развитие, причем развитие это должно касаться самой главной,
духовной сферы; в этом смысле оно ничего общего не имеет с тем, что
понимается под словами «развитие» и «прогресс» в современном
«цивилизованном» мире. Духовное развитие, утверждает Бергсон, возможно
только через появление гениев-мистиков, которые своей жизнью и
своими творческими деяниями демонстрируют новый уровень
проникновения в духовную сущность человека и новые формы ее осуществления
в мире, в то же время отвергая все то чрезмерное устремление к
материальным ценностям и материальному благополучию, которое
характерно для обычных людей во все времена.
Современное западное общество является «закрытым обществом»,
поскольку оно сделало своими высшими ценностями
индивидуализм, материальное потребление и самоудовлетворенность. Могут ли
люди этого общества признать себя «неполноценными» (в смысле
своего духовного развития) по отношению к тем великим, о
которых говорит Бергсон, могут ли они признать этих гениев своими
299
Глава 5. Исторические перспективы общества и человека
духовными вождями и попытаться переделать свою жизнь в
соответствии с теми примерами духовной жизни, которые они показывают?
Ответ очевиден. Наиболее наглядно тоталитарная сущность
западного общества сказывается в том, что оно создало очень эффективный
механизм, подавляющий малейшие попытки неведомых духовных
«гениев» хоть как-то проявить себя и повлиять на общество. Их
просто уничтожают — если не физически, то духовно, — обвиняя в
стремлении к «власти» и в «авторитарных», даже «фашистских» наклонностях;
почти навязчивое использование такого рода обвинений в западном
либеральном дискурсе (чаще всего по совершенно смехотворным
поводам) показывает, с каким вниманием западная цивилизация
относится к этой «проблеме», ликвидируя малейшую возможность
духовного развития, т. е. возможность открытого будущего, для отдельного
человека и всего человечества. Тот, кто сумеет правильно понять
философию Бергсона, с неизбежностью придет к выводу об
исторической обреченности этой цивилизации.
Глава 6
БЕРГСОН И РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
6.1. Влияние идей и образов Ф. Достоевского
Бергсон достаточно ясно указывал на то, что русская литература
и особенно Ф. Достоевский и Л. Толстой, оказали на него огромное
воздействие. В 1913 году в интервью, которое он дал американской
газете, он говорил: «Россия достигла замечательных успехов в
литературе. Она создала таких гениев, как Толстой, Тургенев, Достоевский,
Горький и Андреев. Но философия там еще не дала чего-либо
значительного»1. Похожее мнение передают современные биографы Бергсона: «Что
касается современной литературы, то Бергсон заявляет, что его любимый
писатель — это Морис Барре, по причине музыки его стиля. Также он
высказывал свое восхищение Толстым и Достоевским. Более того,
хорошо известно, что Бергсон прочитал Достоевского достаточно рано,
поскольку он фигурирует в Cours П> и эта реминисценция проследует
за Бергсоном вплоть до Двух источников»2.
Хорошее знание Бергсоном текстов Достоевского известно:
неявные, но легко угадываемые отсылки к романам Достоевского
присутствуют в нескольких работах Бергсона. В качестве наглядных
примеров можно привести два фрагмента из его последней большой
книги.
Анализируя отношения личности и общества, Бергсон уделяет
большое внимание происхождению и смыслу понятий вины и совести
и рассматривает гипотетического преступника, который только
совершив преступление, понял, как невыносимо чувство вины, даже если
никто не знает о совершенном деянии. Детально анализируя сознание
этого преступника, Бергсон пишет: «.. .применительно к нашему
человеку речь идет не столько о том, чтобы избежать наказания, сколько
о том, чтобы стереть прошлое и сделать так, как будто преступление не
было совершено. Когда никто не знает, что вещь существует, это значит,
1 Цит. по: Блауберг И. И. Анри Бергсон. С. 405.
2 Soulez Ph., Worms Ε Bergson. Biographie. Paris, 2002. P. 136.
301
Глава 6. Бергсон и русская философия
что она почти как бы и не существует. / Стало быть, преступник хотел
бы уничтожить само преступление, ликвидируя всякое знание, которое
могли бы иметь о нем люди. Но его собственное знание сохраняется,
и вот оно все более и более отторгает его за пределы того общества,
в котором он надеялся существовать, стирая следы своего преступления.
Ведь еще продолжают выражать уважение человеку, которым он был,
человеку, которым он больше не является; стало быть, общество
обращается уже не к нему: оно говорит с другим человеком. Он, знающий,
что он собою представляет, чувствует себя среди людей более
изолированным, чем он был бы на необитаемом острове, так как в
одиночество он бы унес с собой образ окружающего и поддерживающего его
общества; но теперь он отрезан как от образа, так и от явления. Он бы
вернулся в общество, признав свое преступление: к нему отнеслись бы
тогда так, как он того заслуживает, но обращались бы теперь именно
к нему. Он бы возобновил сотрудничество с другими людьми. Он был
бы наказан ими, но, став на их сторону, он в какой-то мере явился бы
автором своего собственного осуждения и часть его личности, лучшая
часть, избежала бы таким образом наказания. Такова сила, которая
может побудить преступника прийти с повинной. Иногда, не дойдя до
этого, он может исповедаться другу или любому порядочному
человеку. Вернувшись таким образом к правде, если и не для всех, то по
крайней мере для кого-то, он вновь связывается с обществом в одном
пункте, одной нитью. Если он и не возвращается в него, то по крайней
мере он рядом с ним, около него; он перестает быть для него чужим;
во всяком случае, он уже не столь решительно порвал с ним и с той его
частью, которую носит в самом себе»3.
Кажется очевидным, что в данном случае Бергсон использует
описание психологии Раскольникова из романа «Преступление и наказание»,
причем в этом описании проскальзывают даже сюжетные детали
романной истории (возможность исповедаться другу до явки с
повинной — это отражение взаимоотношений Раскольникова и Сони Мар-
меладовой).
Второй пример из той же книги относится к рассуждению
Бергсона о невозможности построить счастливое общество, если в его
основании лежит хотя бы один замученный человек. Бергсон явно имеет
в виду известное рассуждение Ивана Карамазова из романа «Братья
Карамазовы» (рассуждение о замученном ребеночке в главе «Бунт»),
когда пишет: «...поставим перед собой знаменитый вопрос: "Что бы
3 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 15-16.
302
6.1. Влияние идей и образов Ф. Достоевского
мы сделали, если бы узнали, что для спасения народа, для самого
существования человечества где-то невиновный человек осужден на вечные
муки?" Мы бы, возможно, согласились с этим, если бы подразумевалось,
что некое волшебное зелье заставило бы нас забыть и никогда больше
ничего не знать об этом. Но если бы необходимо было знать и думать
об этом, необходимо сказать нам, что этот человек подвергается
жестоким мучениям для того, чтобы мы могли существовать, что в этом
основное условие существования вообще, — ну, нет, лучше уж
согласиться, чтобы ничего больше не существовало, лучше дать взорвать
планету!»4
Такого рода примеры, использующие мотивы творчества
Достоевского, во множестве присутствуют в работах Бергсона, и его биографы
уже давно обратили на них внимание. Однако гораздо важнее увидеть
сходство некоторых ключевых философских идей, особенно тех,
которые можно рассматривать как оригинальные и специфичные именно
для философских воззрений Достоевского и Бергсона.
Безусловная близость философских мировоззрений Достоевского
и Бергсона связана с тем, что оба они являются талантливыми
представителями традиции мистического пантеизма. Однако это сходство
видно только стороннему исследователю, хорошо знающему все тексты
(в том числе рукописные) Достоевского, в его основных
произведениях эта тенденция не так очевидна. Если мы хотим понять, какие его
идеи могли прямо повлиять на Бергсона, нужно говорить не об этом
скрытом основании мировоззрения Достоевского, а о представлениях,
явно выраженных в известнейших произведениях.
Вероятно, самое важное, что Достоевский хотел сказать в своем
творчестве, — это новое понимание человека, резко отличающееся
от традиционных представлений5. Достоевский очень рано пришел
к убеждению, что люди не равны между собой, некоторые выделяются
тем, что они обладают особой способностью влиять на других людей
и даже на мир вокруг, поэтому они играют особую роль в человеческом
обществе. В «Дневнике писателя» за 1876 год он назовет таких людей
«высшими типами», хотя они чаще всего не являются «высшими»
и «великими» в буквальном смысле. Эта мысль связана с еще одной
важной идеей, выраженной во многих произведениях писателя, — с его
загадочным убеждением, что мир не является таким уж прочным
4 Там же. С. 80-81.
5 Подробно об этом см.: Евлампиев И. И. Философия человека в творчестве
Ф. Достоевского (от ранних произведений к «Братьям Карамазовым»). СПб., 2012.
303
Глава 6. Бергсон и русская философия
и необходимым, как нам кажется, что он является «пластичным», и
некоторые личности могут влиять на него, подчинять своей воле.
Чтобы понять, как Достоевский приходит к представлению о
существовании «высших личностей», нужно вспомнить, что в его ранних
произведениях герои очень часто являются мечтателями, Достоевский
очень большое внимание уделял изображению людей этого типа.
Мечтатели Достоевского резко отличаются от обычных людей, и на
первый взгляд это отличие заключается в их неспособности
соответствовать требованиям жизни; т. е. мечтательность кажется
недостатком, а не достоинством. Однако Достоевский оценивает
мечтательность как положительное качество: человек, обладающий этим
качеством, превосходит обычных людей тем, что он живет более
богатой жизнью и способен более глубоко понимать происходящие
события. В своих ранних повестях Достоевский очень часто
изображает героев-мечтателей, которые погружены в свои фантазии и
почти не обращают внимания на окружающий мир. Можно утверждать,
что тип «мечтателя» является главным для раннего творчества
Достоевского.
После того как Достоевский оказался на каторге и испытал перелом
своего мировоззрения, его отношение к мечтательности изменяется:
теперь он оценивает это качество резко отрицательно, считая, что оно
делает человека странным чудаком, который не способен правильно
понять явления жизни и правильно реагировать на них. Однако
нельзя сказать, что Достоевский полностью отвергает мечтательность и не
видит теперь в ней ничего позитивного. На самом деле, теперь он
считает, что мечтательность должна быть определенным этапом развития
личности, но затем человек должен преодолеть мечтательность, точнее,
перейти от мечтательности к какому-то более зрелому и глубокому
состоянию. Достоевский подробно описывает указанный переход
в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе»,
опубликованном в 1861 году. Здесь Достоевский прямо признает, что тип
мечтателя был взят им из собственного жизненного опыта, что он сам был
в молодости мечтателем.
Описывая себя, каким он был 20 лет назад, Достоевский не
скрывает своего резко ироничного и критичного отношения к мечтательности.
Но он признается, что сумел преобразить мечтательность в новое
отношение к миру, которое и определило его судьбу как великого
писателя. Смысл произошедшего с ним преображения он описывает через
воспоминание об «одном происшествии», которое, как нетрудно понять,
произошло в январе 1842 году во время сильных морозов. Подойдя
304
6.1. Влияние идей и образов Ф. Достоевского
к Неве, он увидел Петербург в последних лучах заката; над домами
поднимался пар, который образовал видение второго города,
возвышавшегося над первым, реальным городом. Этот второй город постепенно
таял в воздухе, и, глядя на него, Достоевский вдруг ясно почувствовал,
что и первый, реальный город может внезапно исчезнуть, как
фантастическое видение.
«Казалось, что весь этот мир <...> в этот сумеречный час походит
на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою
очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-
то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце
мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг
вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого
мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор
только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто
прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и
известный только по каким-то темным слухам, по каким-то
таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое
существование... »6
Обратим внимание на последние слова: Достоевский утверждает,
что в результате посетившего его видения он понял что-то крайне
важное для себя, и именно с этого момента для него началось
настоящее, подлинное существование. Что же важное понял Достоевский
в описанном им «происшествии»? Ощущение, которое посетило
писателя в этот момент, касалось реального Петербурга — он вдруг ощутил,
что этот реальный город ничем не отличается от своего
фантастического двойника и может точно так же растаять как сон. До этого
момента он противопоставлял прекрасный мир своих мечтаний
и прозаическую, обыденную жизнь, в которой все устойчиво и
неизменно; теперь же ему открылось, что эта обыденная жизнь столь же
непрочна, изменчива, как и его мечтания, она может быть подчинена
его воле, хотя эта зависимость не столь прямолинейна и очевидна, как
в случае его мечтаний.
Сразу после процитированных выше слов, в том же произведении,
писатель называет себя «фантазером и мистиком»; в последнем слове
заключается главный смысл всего описанного впечатления, и его
нужно понимать предельно серьезно. «Фантазер» — это обозначение
юношеской мечтательности, в которой человек обретает способность
6 Достоевский Ф. М. Петербургские сновидения в стихах и в прозе //
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. В 30 т. Т. 19. С. 68-69.
305
Глава 6. Бергсон и русская философия
отстраняться от реального мира и господствовать над миром своих
фантазий. «Мистик» в этом контексте — это человек, который осознал
иллюзорность, непрочность обыденной реальности, понял, что может
влиять на реальность, изменять ее по своей воле. Преображение
«мечтателя» в «мистика» и составляет главное содержание «происшествия»,
произошедшего с Достоевским в молодости и описанного в фельетоне.
Как мы можем догадаться по этому описанию, именно благодаря этому
превращению он стал великим писателем и великим философом,
не только глубже других понимающим жизнь, но и способным влиять
на жизнь и на других людей.
Понимание этого центрального пункта мировоззрения
Достоевского помогает достаточно естественно объяснить смысл некоторых его
произведений, до сих пор остающихся загадкой для исследователей.
Уже во второй повести — «Хозяйка» — Достоевский показывает героев-
мистиков. Мистиком является старик Мурин, который способен влиять
на других людей и на собственную судьбу. Но этими способностями,
как можно догадаться, обладает и его жена Катерина. Главный герой
повести Василий Ордынов, встречаясь с Муриным и Катериной и
общаясь с ними, также пытается обрести эту способность, т. е. он
пытается пройти указанный путь от мечтателя к мистику. Помимо прочего,
эта повесть позволяет увидеть, что Достоевский формировал свою
философию под большим влиянием немецкого романтизма, более
конкретно под влиянием творчества Гофмана, который в своих
рассказах часто изображал людей, обладающих непонятной, мистической
властью над окружающими.
Еще одного героя-мистика Достоевский показывает в романе «Игрок».
Главный герой Алексей на одно мгновение обретает мистическую власть
над судьбой (выигрывает огромную сумму денег на рулетке), и в этом
смысле он оказывается единственным по-настоящему свободным
человеком на фоне окружающих его людей-марионеток, подчиненных
социальным условностям и своим страстям. Алексей так описывает
свое понимание произошедшего с ним «чудесного» события:
«Да, иногда самая дикая мысль, самая с виду невозможная мысль,
до того сильно укрепляется в голове, что ее принимаешь наконец
за что-то осуществимое... Мало того: если идея соединяется с
сильным, страстным желанием, то, пожалуй, иной раз примешь ее наконец
за нечто фатальное, необходимое, предназначенное, за нечто такое,
что уже не может не быть и не случиться! <.. .> И почему, почему эта
уверенность так глубоко, крепко засела тогда во мне, и уже с таких
давних пор? Уж, верно, я помышлял об этом, — повторяю вам, —
306
6.1. Влияние идей и образов Ф. Достоевского
не как о случае, который может быть в числе прочих (а стало быть,
может и не быть), но как о чем-то таком, что никак уж не может
не случиться!»7
В этих словах — одно из глубочайших убеждений Достоевского,
которое он наиболее прямо выразил именно через историю,
рассказанную в романе «Игрок». Если человек чего-то по-настоящему желает,
желает так, что сливается всей своей личностью с желаемым, то это
обязательно случится, желание будет исполнено — он потребует от
реальности его выполнения, и реальность подчинится его воле. Алексей
идет в игорный зал и выигрывает двести тысяч франков —
фантастическую сумму, которая намного превышает те суммы, от которых
зависит судьба всех персонажей романа и по поводу которых они ведут
бесконечные ссоры и интриги.
Впрочем, имея в виду тот перелом, который произошел с
Достоевским на каторге, можно подумать, что в поздние годы он решительно
отказался от романтических представлений своей молодости, ведь
в романе «Преступление и наказание» главной темой является
осуждение желания главного героя стать «высшей личностью», подобной
Наполеону. Однако в реальности ситуация оказывается гораздо
сложнее: Достоевский вовсе не отказывается от прежних убеждений,
с помощью истории Раскольникова он осуждает и отвергает не саму
идею «высших» личностей, а только ее ложное, прямолинейное
понимание. Люди обычно считают, что особое, исключительное значение
личности определяется ее внешним господством, осуществляется
с помощью грубой силы. Достоевский доказывает, что такое понимание
свойственно как раз обычным людям, не являющимся высшими.
Настоящие «высшие» чаще всего внешне совершенно незаметны,
поскольку они отличаются не силой, а способностью видеть глубину
жизни, ее высший смысл, который абсолютно недоступен обычным
людям. Достоевский в своих зрелых произведениях не считает влияние
таких людей буквально мистическим, он не показывает таких
мистических событий, какие он показывал в некоторых ранних
произведениях. Теперь он считает, что «высшие личности» осуществляют свое
действие на общество и историю с помощью своих идей, и это влияние
осуществляется незаметно и постепенно. Именно это в финале
романа «Преступление и наказание» осознает Раскольников, он не
отказывается от желания стать «высшей личностью», но понимает, что выбрал
7 Достоевский Ф. М. Игрок // Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. В 30 т. Т. 5.
С. 291.
307
Глава 6. Бергсон и русская философия
неправильный образец для подражания: он хотел стать подобным
Наполеону и господствовать над людьми с помощью силы и власти,
а нужно было стать подобным Иисусу Христу и властвовать с помощью
идей — с помощью учения о божественной природе человека.
Наиболее детально проблему «высших» личностей Достоевский
обсуждает в «Дневнике писателя» за 1876 и 1877 годы, здесь писатель
достаточно определенно высказывает свою окончательную точку зрения
на эту проблему: он очень резко и эмоционально противопоставляет
обычных людей и «лучших людей», которых он теперь называет
«высшими типами», и считает, что именно они незаметно определяют ход
истории:
«О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком — еще слишком
долго будет привлекать человека к земле, но не в высших типах его.
Между тем высшие типы ведь царят на земле и всегда царили, и
кончалось всегда тем, что за ними шли, когда восполнялся срок, миллионы
людей. Что такое высшее слово и высшая мысль? Это слово, эту мысль
(без которых не может жить человечество) весьма часто произносят
в первый раз люди бедные, незаметные, не имеющие никакого значения
и даже весьма часто гонимые, умирающие в гонении и в неизвестности.
Но мысль, но произнесенное ими слово не умирают и никогда не
исчезают бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только раз были
произнесены, — и это даже поразительно в человечестве. В следующем
же поколении или через два-три десятка лет мысль гения уже
охватывает всё и всех, увлекает всё и всех, — и выходит, что торжествуют не
миллионы людей и не материальные силы, по-видимому столь
страшные и незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а незаметная
вначале мысль, и часто какого-нибудь, по-видимому, ничтожнейшего
из людей»8.
Настоящие «высшие» личности («высшие типы») не обладают
никакой внешней, очевидной силой и кажутся любому обычному
человеку «ничтожнейшим из людей», поэтому их влияние на
общество, на ход истории оказывается сложным, не заметным сразу.
Причем влияют они на людей с помощью своих идей; далее Достоевский
поясняет, что это религиозные идеи, задающие религиозное отношение
к жизни, и внушающие убеждение в бессмертии. Достоевский
утверждает, что без идеи бессмертия человек не может жить, и все мы, даже
не осознавая этого, верим в свое бессмертие. Дальше писатель еще
8 Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 г. // Достоевский Ф. М. Поли,
собр. соч. В 30 т. Т. 24. С. 47.
308
6.1. Влияние идей и образов Ф. Достоевского
раз подчеркивает, что все самые главные идеи человечества вытекают
из идеи бессмертия: «Без высшей идеи не может существовать ни
человек, ни нация. А высшая же идея на земле лишь одна и именно —
идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные "высшие"
идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной
вытекают»9.
Это, конечно же, не означает, что Достоевский возвращается к
старым религиозным представлениям. Он понимает бессмертие очень
необычным образом, совершенно не так, как это принято в церковной,
догматической традиции. И именно это необычное понимание идеи
бессмертия делает его представления о человеке вполне современными
и актуальными.
Прежде всего нужно отметить, что он берет идею бессмертия
и другие религиозные идеи не из исторического христианства и не из
церковного учения, а из немецкой философии начала и середины
XIX века. Молодой Достоевский (до каторги) находился под влиянием
немецкого романтизма (Гофман, Шиллер), зрелый Достоевский (после
каторги) очень многое заимствует из немецкой философии,
порожденной романтизмом, — прежде всего здесь нужно упомянуть философские
системы Фихте, Шеллинга и Гегеля, а также Артура Шопенгауэра и
школу немецкой романтической натурфилософии, о которой уже шла
речь выше. В традиционном, историческом христианстве главным
понятием является антропоморфный Бог, которому подчинены
материальный мир и человек. В новой версии христианства, которую
особенно ясно формулирует в своей философии Фихте, главным понятием
является человек, а Бог — это обозначение глубинной сущности
человека, которую человек должен реализовать, воплотить в своей жизни.
Лишь очень малому количеству людей удается добиться этого, «явить»
через себя Бога, и такие люди становятся «высшими личностями»,
которые особенно сильно влияют на других и на ход истории. Образцом
такой «высшей личности» для Фихте и Достоевского является Иисус
Христос. В традиционном христианстве Иисус Христос есть Бог,
полностью воплотившийся в человека; в современной версии христианства,
которую выражает Достоевский, Иисус Христос есть первый человек,
который достаточно полно «явил» через себя Бога и поэтому обрел
особенно большую духовную силу и власть над людьми. Именно такое
понимание христианства и образа Христа содержится в двух известных
высказываниях Достоевского: «Христианство есть великое учение о том,
9 Там же. С. 48.
309
Глава 6. Бергсон и русская философия
как в человеке может вместиться Бог»10 и «Христос есть Бог в той
степени, в какой земля могла Бога явить»11.
Нетрудно видеть, что Достоевский оказывается последовательным
сторонником гностического, т. е. духовного и мистического,
христианства, которое находило себе выражение в истории в различных
гностических ересях (например, в движениях богомилов, катаров, амальрикан
и др.) и в философии мистического пантеизма (см. раздел 1.1).
Смысл различия двух версий христианства ясно описал в одной
из своих работ Василий Розанов, причем именно в связи с анализом
творчества Достоевского. Называя эти версии соответственно «темным»
и «светлым» христианством, он полагал, что Достоевский четко
обозначил их противостояние в образах монаха Феропонта и старца Зосимы —
обитателей монастыря, изображенных в романе «Братья Карамазовы».
Значение Достоевского Розанов видел именно в том, что он критически
относился к традиционному («темному») христианству и доказывал,
что подлинная суть христианства выражена именно в его мистической
(гностической) версии.
Наиболее явно мистическое понимание христианства в творчестве
Достоевского выражают два персонажа: Кириллов из романа «Бесы»
и старец Зосима из романа «Братья Карамазовы». Кириллов
высказывает парадоксальное суждение: «Бога нет, но Бог должен быть. — Значит,
я — Бог». Хотя часто его называют атеистом, на деле суть его
высказывания в том, что он отрицает традиционное понимание Бога как
внешнего, трансцендентного по отношению к человеку существа, но
признает Бога, который тождественен его личности. Этот тезис не является
таким уж новым, он не раз высказывался до Достоевского в европейской
религиозной и философской традиции. Например, утверждение «Я —
Бог» составляло основу учения Амори Венского, основателя движения
амальрикан (XII—XIII века); в новой философии именно такое
мистическое направление в христианстве выразил Фихте (в работе
«Наставление к блаженной жизни»).
Достоевский понимает утверждение «Я — Бог» как описание
идеальной цели устремлений личности, его нельзя интерпретировать как
констатацию реального состояния человека. Поэтому главным в
образе Кириллова оказывается не само это утверждение, а наличие в его
10 Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1877 г. Рукописные редакции //
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. В 30 т. Т. 25. С. 228.
11 Достоевский Ф. М. Записи к «Дневнику писателя» 1876 г. из рабочих тетрадей
1875-1877 гг. // Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. В 30 т. Т. 24. С. 244.
310
6.1. Влияние идей и образов Ф. Достоевского
жизни особых мистических состояний, в которых он ощущает
преображение своего земного бытия. Вот как герой описывает эти состояния:
«Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг
чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой.
Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в
земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или
умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг
ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог когда мир
создавал, то в конце каждого дня создания говорил: "Да, это правда, это
хорошо". Это... это не умиление, а только так, радость»12. Здесь
появляется очень важное понятие радости, которое обозначает (в данном
контексте) предельное приближение человека к совершенству,
предельное слияние с Богом (обратим внимание на то, что в высказывании
Кириллова радость является важнейшим определением Бога).
Описанные «пять секунд» наиболее явно демонстрируют приближение
Кириллова к божественному, абсолютному состоянию, однако они
настолько глубоко преображают его личность, что он, в отличие от
обычных людей, постоянно ощущает свою неразрывную связь с миром
и потенциальную гармонию мира, поэтому он утверждает, что «все
хороши», и «молится» (т. е. переживает подлинно религиозное чувство),
глядя на самые элементарные явлений — на ползущего паука и
падающий с дерева лист.
Точно такое же религиозное восприятие мира характерно для
старца Зосимы, хотя Кириллова и Зосиму в исследовательской литературе
обычно оценивают как абсолютно противоположные типы — первого
как «атеиста» и «сумасшедшего», а второго как глубоко религиозного
человека. Зосима, рассказывая о своей юности, говорит о том, что на
него сильно повлиял его рано умерший брат, от которого он принял
необычное религиозное понимание мира и людей. Он так описывает
мировоззрение своего брата: «...жизнь есть рай, и все мы в раю, да не
хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем
свете рай»13. Зосимы полностью разделяет это мироощущении и
почти буквально повторяет тот же тезис сразу после того, как сам
принимает во всей полноте христианское чувство жизни: «...посмотрите
кругом на дары божий: небо ясное, воздух чистый, травка нежная,
12 Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. В 30 т. Т. 10.
С. 450.
13 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.
В 30 т. Т. 14. С. 262.
311
Глава 6. Бергсон и русская философия
птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни
безбожные и глупые не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только
нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей,
обнимемся мы и заплачем...»14 Стоит отметить важную деталь: в этой
фразе безбожие человека отождествляется с неспособностью «захотеть
понять», что жизнь есть рай, т. е. вера в Бога в своей сущности
сводится к тому, что демонстрирует Кириллов, — к внутреннему
преображению человека, открывающему его неразрывное единство с миром и
с другими людьми и выявляющему божественное основание бытия
человека и мира. В этом смысле «захотеть понять» — это, конечно же,
не обычное интеллектуальное понимание, а мистическое усилие,
раскрывающее Бога внутри личности; его в нашем мире могут осуществлять
лишь единицы, призванные быть пророками и святыми, но
потенциально этой способностью обладают все.
Для уяснения философских взглядов Достоевского и характера его
религиозности нужно различить две принципиально разнородные
формы веры: веру в существование Бога-творца, который «управляет»
миром и человеком, находясь «вне» их (это является ядром
традиционного, церковного христианства), и веру в Иисуса Христа и бессмертие
человека. Первая форма веры практически не упоминается Достоевским
и его главными героями. Напротив, во второй форме веры, по
Достоевскому, заключена сама суть религии, религиозного освящения жизни;
ее обретение является важнейшим условием нормального
существования каждого человека.
Поскольку человек содержит в себе божественное начало, он не
может прекратить своего существования, идея бессмертия является
важнейшей идеей христианства Достоевского. Но понимает он эту
идею совсем не так, как это принято в традиционном христианстве,
в учении христианской церкви. Церковное учение утверждает, что
смерть прерывает земную жизнь человека и после этого начинается
совсем другое существование в Царстве Небесном, в особом
божественном бытии. Согласно воззрениям Достоевского, человек уже
в земной жизни является божественным, абсолютным существом,
поэтому его земная жизнь не может прерваться, смерть — это
трансформация земной жизни от одной формы к другой. Так понимает
бессмертие один из главных героев-идеологов Достоевского —
Кириллов. На вопрос Ставрогина: «Вы стали веровать в будущую вечную
жизнь?» — Кириллов отвечает: «Нет, не в будущую вечную, а в здеш-
' Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. С. 336.
312
6.1. Влияние идей и образов Ф. Достоевского
нюю вечную»15. Он верит, что после смерти обретет не какое-то
сверхземное бытие, совершенно непохожее на земное, но некоторое
подобие земной реальности, как бы продолжение земной жизни в новой
форме.
Окончательная версия идеи бессмертия была выражена Достоевским
в рассказе «Сон смешного человека», ее поразительное сходство
со взглядами Бергсона на бессмертие уже было отмечено в разделе 5.6.
Приведенная краткая характеристика философских взглядов
Достоевского показывает, что это далеко не единственное совпадение. Самое
главное из них относится к центральному элементу социальной и
исторической концепции обоих мыслителей — представления о том,
что развитие общества и ход истории определяют немногочисленные
«высшие личности», отличие которых от остальных людей
заключается в их религиозности, носящей не столько теоретический, сколько
практический характер: они раскрывают в себе непосредственную
связь с Богом, с абсолютным началом всего существующего, и
поэтому их жизнь приобретает совершенный, божественный характер, она
наполнена высшей радостью, происходящей из ощущения единства
со всем окружающим бытием и из понимания собственной
бесконечности и бессмертия. Скептически относясь к традиционному
церковному христианству, Достоевский, как и Бергсон, мог бы назвать его
«закрытой религией», подавляющей, а не раскрепощающей свободу и
творческую энергию человека. Он пытался показать, что человечество
должно расстаться с ложным христианством церкви ради обретения
истинного христианства, суть которого не в подчинении человека Богу,
а в раскрепощении Бога внутри самого человека и в придании
человеку божественных, мистических способностей, в том числе способности
прямого влияния на бытие вопреки всем его законам. Такое понимание
истинной религиозности точно соответствует открытой религии
(мистицизму) Бергсона, а главные герои Достоевского, выражающие эту
религиозность — Кириллов и старец Зосима, — могут
рассматриваться как точные примеры мистиков Бергсона, ведущих человечество
в будущее.
В предыдущей главе уже было обращено внимание на достаточно
необычную мысль Берсгона: разъясняя, как «высшие личности»,
мистики, пришедшие в единство с Богом, могут наиболее эффективно
влиять на людей, он указывает на литературу как на главный способ
передачи полученного ими откровенного знания окружающим. Столь
15 Достоевский Ф. М. Бесы. С. 188.
313
Глава 6. Бергсон и русская философия
возвышенное понимание литературы, вбирающей в себя функции
богословия и философии, можно объяснить, предполагая, что Бергсон
имел в виду какие-то конкретные формы художественного,
литературного философствования, выражающего самые главные истины о
смысле человеческой жизни. Если задуматься, что конкретно он в данном
случае мог иметь в виду, невозможно привести более наглядного
и прямого примера, чем творчество Достоевского.
6.2. «Философия жизни» Л. Толстого
и А. Бергсона16
Свою «философию жизни» Бергсон создавал в самые последние годы
XIX века и в начале XX века, однако гораздо раньше Бергсона очень
похожие идеи разрабатывал Лев Толстой, который в 1888 году
опубликовал работу с простым, но выразительным названием — «О жизни»;
кроме того, размышления Толстого о сущности жизни и формах ее
воплощения в мире можно обнаружить в дневниковых записях конца
XIX века, в сумме все это складывается в достаточно ясную и
проработанную концепцию.
Толстой начинает свою книгу «О жизни» с противопоставления
своего понимания жизни тем представлениям о ней, которые стали
общепринятыми в науке. Наука утверждает, что основа жизни лежит
в процессах, которые происходят в самой материи, в веществе, и через
эти процессы предполагает объяснить жизнь в животных и человеке.
Толстой высмеивает этот подход, поскольку в нем известное (т. е. мы
сами) объясняется через неизвестное (материю и ее процессы). Человек
знает самого себя в своем сознании и знает, что он живой; это и
означает, что он знает самую главную форму жизни, воплощенную в нем.
«Только правильное разумение жизни дает должное значение и
направление науке вообще и каждой науке в особенности, распределяя
их по важности их значения относительно жизни. Если же разумение
жизни не таково, каким оно вложено во всех нас, то и самая наука будет
ложная.
16 В этом и следующем разделах изложены результаты исследований,
проведенных автором совместно с И. Ю. Матвеевой; см.: Евлампиев И. К, Матвеева И. Ю.
Лев Толстой как один из родоначальников философии жизни (Лев Толстой и Анри
Бергсон) // Философские науки. 2017. № 5. С. 28-42; Евлампиев И. К, Матвеева И. Ю.
Метафизический статус памяти в «философии жизни» Льва Толстого и Анри
Бергсона // Вопросы философии. 2018. № 12. С. 141-151.
314
6.2. «Философия жизни» Л. Толстого и А. Бергсона
Не то, что мы назовем наукой, определит жизнь, а наше понятие
о жизни определит то, что следует признать наукой. И потому, для того,
чтобы наука была наукой, должен быть прежде решен вопрос о том, что
есть наука и что не наука, а для этого должно быть уяснено понятие
о жизни»17.
Знание жизни является непосредственным, самоочевидным; чтобы
его получить, нужно просто отбросить то, что является внешним,
вторичным в нашем бытии, и тогда мы ясно поймем себя как живых
и полностью поймем смысл жизни. Хотя Толстой и говорит о том, что
познание подлинной, внутренней жизни человека дает разум и жизнь
подлежит закону разума, в этом контексте «разум» означает совсем не
то же самое, что «научный разум»; здесь более уместным было бы
понятие интуиции, которое использует Бергсон, ведь Толстой признает,
что знание своей жизни не имеет рациональной формы и выразимо
только в религии и в философии, а также в художественных образах,
но не в науке, поскольку последняя сама возникает только на основании
интуитивного знания о жизни. В качестве универсальных примеров
учений, правильно говорящих о сути жизни, Толстой называет учение
Конфуция, философию брахманизма (браминов) и стоиков, учения
Будды и Христа.
Бергсон похожим образом понимает соотношение науки и
философии (метафизики). Жизнь для него есть Абсолют, который
является высшей целью познания и познается только в себе самом. Это
познание не может дать наука и научный разум, это возможно только
с помощью метафизического (т. е. религиозно-философского)
познания. «Если существует средство владеть реальностью абсолютно,
вместо того чтобы познавать ее относительно, помещаться в нее,
вместо того чтобы усваивать точки зрения на нее, иметь о ней
интуицию, вместо того чтобы делать ее анализ, словом, схватывать ее
помимо всякого выражения, перевода или символического
представления, то это и будет метафизика»18. При этом интуицию, которая
открывает нам сущность жизни, Бергсон соотносит не с научным
разумом, а с эстетической способностью, т. е. с искусством и его
художественной образностью. «Внутрь же самой жизни нас могла бы
ввести интуиция <...>. То, что усилие подобного рода не является
17 Толстой Л. К О жизни // Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90 т. М.; Л., 1928-1958.
Т. 26. С. 321. Далее ссылки на Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого даются
прямо в тексте с указанием тома и страниц.
18 Бергсон А. Введение в метафизику. С. 1176.
315
Глава 6. Бергсон и русская философия
невозможным, показывает уже существование у человека, наряду
с нормальным восприятием, эстетической способности»19.
Наиболее очевидным качеством внутреннего бытия личности,
которое Бергсон в «Творческой эволюции» отождествляет с жизнью в ее
сущности, является его «слитное», нераздельное единство. Толстой
в книге «О жизни» очень мало говорит на эту тему, но в других своих
работах и в дневниковых записях он постоянно воспроизводит тезис
о нераздельном единстве жизни. Например, в «Пути жизни» (1910)
он пишет: «Все живые существа телами своими отделены друг от друга,
но то, что дает им жизнь, — одно и то же во всех» (45, 47). Это начало
внутри нас Толстой называет и высшей жизнью, и (всеобщей) душой
и Богом: «Кроме всего телесного в себе и во всем мире, мы знаем еще
нечто бестелесное, дающее жизнь нашему телу и связанное с ним. Это
нечто бестелесное, связанное с нашим телом, мы называем душою. Это
же бестелесное, ни с чем не связанное и дающее жизнь всему, что есть,
мы называем Богом» (45, 59).
Такое отождествление Толстым жизни и Бога, вполне
соответствующее признанию жизни Абсолютом в книге Бергсона, порождает
проблему правильного описания этого «Бога», а также соотнесения его
с Богом традиционного христианства. Главным внутренним,
сущностным определением жизни Толстой считает «стремление к благу».
Каждый из нас, пытаясь познать суть жизни, познать подлинную жизнь,,
на фоне ее ложного образа, создаваемого наукой, понимает, что он сам,
его «я» и есть жизнь, и в этом осознании жизнь оказывается
«стремлением к благу», т. е. стремлением к большему совершенству. Казалось
бы, это означает, что главным качеством жизни является ее
изменчивость, самосовершенствование. Однако возможны разные варианты
понимания термина «стремление к благу», из текста книги «О жизни»
трудно понять, как нужно понимать «стремление к благу» — как
качество самой жизни (Бога) или только как качество низшего бытия
человека, причастного жизни. В данном случае важным дополнением
к тексту книги являются размышления Толстого в его дневниках.
Особенно много соответствующих философских суждений в
дневниках 1895 и 1896 годов.
Размышляя о сущности жизни и ее отношении к движению и
времени, Толстой записывает 7 мая 1895 года: «Жизнь есть движение. Я
живу и потому ношу в себе силу движения, я есмь это движение и, хочу
я того или не хочу, я живу» (53, 29). Здесь все-таки снова не понятно,
Бергсон А. Творческая эволюция. С. 186.
316
6.2. «Философия жизни» Л. Толстого и А. Бергсона
относится ли движение к жизни как таковой (к Богу) или только к ее
проявлению в человеке. Но последующие размышления Толстого
делают очевидным, что правильно именно второе предположение. В
записи от 8 июня читаем: «В животную, бессознательную, личную жизнь
внесена безличная, божественная, духовная сила. Духовная сила эта,
проявляясь разумом, разлагает бессознательную животную жизнь:
уничтожает животную личную жизнь, но не освобождается от
животной безличной жизни, а творит в животной личной жизни — иную,
высшую, любовную жизнь» (53,36). Уже то, что здесь жизнь
обозначена как безличная, божественная сила, говорит о многом: ее сущность —
в действии, в преобразовании всего, в чем она воплощается. Здесь
уместно привести высказывание Бергсона, которое дает точно такую
же картину взаимодействия «силы жизни» (в его терминологии
«порыва жизни») и низшего материального начала: «Все происходит так,
как будто бы в материю проник широкий поток сознания, отягченный,
как всякое сознание, безмерным множеством взаимопроникающих
возможностей. Он увлек материю к организации, но его движение
бесконечно ею замедлялось и одновременно бесконечно разделялось»20.
Отметим, что, подобно тому как Толстой мыслит жизнь в ее сущности
как высший разум, т. е. как некое обобщение человеческого разума, так
и Бергсон обозначает «порыв жизни» термином «сознание», имея в виду
некоторое обобщение человеческого сознания.
Очень часто сближение «жизни» и «разума», осуществляемое
в текстах Толстого (смысл жизни, утверждает он, в подчинении
личности высшему закону разума), его критики признавали
«рационализмом» и тем самым отрицали новаторство соответствующей концепции
жизни. На деле взгляды Толстого гораздо сложнее, чем прямолинейный
рационализм в духе Просвещения. В том же дневнике 1895 года мы
находим такое рассуждение: «Дехтер[ев] спросил меня, как и чем я
различаю разум от чувства; я отвечал ему, что не знаю этого деления, или
скорее, что не признаю этого деления основным. Есть дух, живущий
в нашем теле, проходящий через него и, как через призму, проходя
через него, раздробляющийся на то, что мы называем разумом, чувством,
верою и т. п.» (53,36). Видно, что для Толстого понятие «разума» в
упомянутых выше контекстах задает всю полноту духа, духовного бытия,
проявляющегося в человеке. С этой поправкой точка зрения Толстого
на действие божественной силы жизни в нас становится еще более
похожей на точку зрения Бергсона.
Там же. С. 190.
317
Глава 6. Бергсон и русская философия
Однако вернемся к вопросу о том, можно ли приписать «силе
жизни» в ее собственной сущности какое-то развитие. Кульминация
размышлений Толстого на эту тему приходится на май 1896 года.
Сначала (17 мая) Толстой делает поправку к одному из наиболее часто
звучавших ранее тезисов о том, что «Бог есть желание блага»; теперь он
считает, «что желание блага не есть Бог, а только одно из проявлений
его, одна из сторон, с к[оторой] мы видим Бога. Бог во мне
проявляется желанием блага <...»>. Далее он формулирует те новые идеи,
которые в это время «уяснились» ему: «...Бог, заключенный в
человеке, сначала стремится освободиться тем, чтобы расширить, увеличить
то существо, в к[отором] он находится, потом, усмотрев непреступные
пределы этого существа, стремится освободиться тем, чтобы выдти из
этого существа и обнять собой др[угие] сущ[ества]» (53,89). Через два
дня он формулирует окончательную мысль, еще более радикально
меняющее понимание «Бога» и его отношения к человеку: «Природа,
говорят, экономна, своими силами — при наименьшем усилии
достигает наибольших результатов. Также и Бог. Для того, чтобы установить
в мире Царств [о] Бож[ие], единение, служение друг другу и уничтож[ить]
вражду, Богу не нужно делать это самому. Он вложил в человека свой
разум, освобождающий в человеке любовь, и всё, что он хочет, будет
сделано человеком. Бог делает свое дело через нас. А времени для Бога
нет или есть бесконечное. Вложив в человека разумную любовь —
он уж все сделал.
Для чего он сделал это так, через человека, а не сам? вопрос
глупый и такой, кот[орый] никогда не пришел бы в голову, если бы
мы все не были испорчены нелепым суеверием творения мира Богом»
(53, 92).
Здесь содержится целый ряд новаторских идей, которые ясно
показывают, что Толстой идет по пути новейшей «философии жизни»,
и нет никаких оснований укладывать его взгляды в прокрустово ложе
традиционных христианских воззрений. Во-первых, здесь он почти
полностью отождествляет Бога, «силу жизни» с совокупностью
человеческих личностей; соответственно, наша деятельность по приведению
себя к совершенству оказывается тождественной деятельности Бога,
которому тем самым с очевидностью приписывается качество
становления, развития. Совсем нетрудно привести в параллель тезис
Бергсона, почти буквально совпадающий с мыслью Толстого: «.. .Абсолютное
открывается совсем вблизи нас и, в известной мере, внутри нас.
Сущность его психологическая, а не математическая или логическая. Оно
живет с нами. Как и мы, оно длится, хотя известными своими сторо-
318
6.2. «Философия жизни» Л. Толстого и А. Бергсона
нами оно бесконечно более сконцентрировано и более сосредоточено
на самом себе, чем мы»21.
Во-вторых, здесь Толстой приписывает Богу временную
характеристику (что естественно, раз уж он признал его становящимся),
но только отличающуюся от нашего «земного» времени. «Время»,
присущее Богу, Толстой называет бесконечным, имея в виду, что оно, в
отличие от обычного физического времени, обладает абсолютной
связностью, т. е. каждый из моментов такого времени непосредственно
связан с другим моментом и «открыт» ему. Такое понимание времени
имеет у Толстого этическое обоснование: в обычном времени каждый
момент независим от другого и случившееся в этом моменте
невозможно считать непосредственно связанным с происходящим в другом
моменте, влияющим на него. В Боге, в потоке жизни, к которому мы
все причастны, должна быть абсолютная связность всех моментов. Вот
как это описывает Толстой в более поздней записи: «Человек не может
не представлять себе всё во времени и потому, чтобы правильно судить
о значении дела Божьего, он должен представлять себе его в очень
отдаленном, даже бесконечном. То, что я не убью убийцу и прощу его,
то, что я никем невидимый умру, исполняя волю Бога, принесет свои
плоды... если уже я хочу мыслить во времени — в бесконечном
времени. Но принесет свои плоды наверное» (53,112). Нетрудно видеть, что
такое понимание времени точно соответствует бергсоновской
«длительности», «связному» времени.
В-третьих, в финале приведенного выше рассуждения Толстой
категорически возражает против идеи творения мира и связывает это со
своим пониманием самосовершенствования Бога, осуществляемого
через совокупность земных людей. Логичность отрицания идеи
творения в рамках «философии жизни» подробно объясняет Бергсон в
книге «Творческая эволюция». Если мы мыслим Бога завершенным
и неизменным, его отношение к миру можно мыслить только по
модели однократного акта творения. Если же Бог обладает качеством
становления и единства с миром и человеком, идея творения оказывается
внутренне противоречивой; она должна быть заменена идеей
непрерывного «роста»: «...Бог, таким образом определяемый, не имеет
ничего законченного; он есть непрекращающаяся жизнь, действие,
свобода»22. Именно к такому пониманию Бога в конце концов приходит
Толстой.
Бергсон А. Творческая эволюция. С. 287-288.
Там же. С. 246.
319
Глава 6. Бергсон и русская философия
Еще более сложным вопросом является отношение жизни, Бога
к индивидуальности конкретного человека.
Согласно Толстому, находя внутри себя истинную жизнь, которую
можно назвать Богом, человек осознает иллюзорность своего
отдельного, животного существования, он входит в общую, божественную
жизнь. Но как нужно представлять себя эту общую жизнь? В книге
«О жизни» Толстой очень много говорит об этическом содержании
истинной жизни, но очень мало о ее «структуре», причем не называет
ее Богом. И это совершенно не случайно; он понимает ее как «слияние»
личностей, в котором они не исчезают, а сохраняются, приобретая лишь
иную («слитную») форму бытия. В одном месте книги он говорит об
этом совершенно ясно: «Спрашивая себя о происхождении своего
разумного сознания, человек никогда не представляет себе, чтобы он, как
разумное существо, был сын своего отца, матери и внук своих дедов
и бабок, родившихся в таком-то году, а он сознает себя всегда не то, что
сыном, но слитым в одно с сознанием самых чуждых ему по времени
и месту разумных существ, живших иногда за тысячи лет и на другом
конце света. В разумном сознании своем человек не видит даже
никакого происхождения себя, а сознает свое вневременное и внепростран-
ственное слияние с другими разумными сознаниями, так что они
входят в него и он в них» (26, 343).
Мы видим, что здесь вообще нет никакого «Бога» вне слитного
единства личностей, они вместе и составляют Бога и общую жизнь.
При этом опознание в себе истинной (общей) жизни и слияние с ней
не только не ликвидирует индивидуальную неповторимость человека,
но наоборот, помогает раскрыть ее, точно так же как и подлинную
свободу. Вот как Толстой пишет об этом в одной из дневниковых
записей: «Думал одно то, что жизнь, та, кот[орую] мы видим вокруг себя,
есть движение вещества по определенным известным законам; в себе
же мы чувствуем присутствие совершенно другого, не имеющего
ничего общего с теми, закона, т]ребующего от нас исполнения своих
требований. <...> Закон этот отличается от всех остальных, главное, тем,
что те законы вне нас и принуждают нас к своему повиновению; этот
же закон в нас самих, больше чем в нас — он есть сами мы и потому он
не принуждает нас, а напротив, освобождает нас, когда мы следуем ему,
п[отому] ч[то], следуя ему, мы становимся сами собою. И потому нас
влечет к тому, чтобы исполнить этот закон, и мы неизбежно рано или
поздно исполним его. В этом и состоит свобода воли» (53, 68).
Эта метафизическая модель не совпадает ни с прямолинейным
«пантеизмом», ни с восточными системами (брахманизм, даосизм),
320
6.2. «Философия жизни» Л. Толстого и А. Бергсона
которые часто упоминает сам Толстой и к которым пытались приравнять
его учение многие критики; это тот самый мистический пантеизм,
о котором не раз говорилось выше (см. главу 1).
Нужно отметить, что эта модель вполне соответствует метафизике
«жизненного порыва» Бергсона. Здесь уместно повторить одно из самых
известных и самых загадочных суждений Бергсона, которое очень
созвучно размышлениям Толстого (особенно этической тенденции,
господствующей в книге «О жизни»): «.. .все человечество, в пространстве
и во времени, представляет собой огромную армию, которая несется
рядом с каждым из нас, впереди и позади нас, увлекаемая собственной
ношей, способная преодолеть любое сопротивление и победить многие
препятствия, — быть может, даже смерть»23.
Однако продолжим анализ толстовской модели личности и ее
отношений к всеобщей жизни, к Богу. Принципиальное значение здесь
имеет концепция метафизического характера, определяющего
индивидуальность и неповторимость «я», личности. Эта концепция была
выдвинута Кантом, а затем переработана Шопенгауэром, Толстой,
скорее всего, заимствовал ее именно у Шопенгауэра. Он называет
характером «свойство человека в большей или меньшей степени любить
одно и не любить другое» и утверждает, что оно не зависит от
эмпирических условий бытия человека, а происходит как раз из сферы общей
духовной жизни, т. е. из Бога. «Свойство же это, хотя и развивается
и в нашей жизни, вносится нами уже готовое в эту жизнь из какого-то
невидимого и непознаваемого нами прошедшего» (26,405).
Здесь нужно правильно понять, что за «прошедшее» имеет в виду
Толстой. Его невозможно понимать только как память о своей жизни,
свойственная каждому человеку. Такая память сама носит эмпирический
характер и подчинена условиям пространства и времени, Толстой же
подчеркивает независимость характера от материального мира и его
условий; это означает, что характер должен быть укоренен в истинной,
божественной жизни. Но тогда получается, что индивидуальность
человека, безусловно связанная с характером, задана в самой
структуре Абсолюта, Бога; причем она не является порожденной, она столь же
вечна, как и сам Бог. Это вполне соответствует тому определению Бога
как «слитного» единства личностей, которое мы выше выявили в
рассуждениях Толстого. Бог не мог возникнуть и не может исчезнуть,
значит, не возникли и не исчезнут все личности, «составляющие» его;
однако, признав Бога динамически изменяющейся общей жизнью,
Бергсон А. Творческая эволюция. С. 264.
321
Глава 6. Бергсон и русская философия
Толстой должен признать возможность изменений в индивидуальном
бытии человека. Действительно, он признает это, говоря о множестве
разных «я», которые существуют на протяжении жизни личности.
Понятие характера подчеркивает момент единства, преемственности
в смене всех этих относительных «я».
В дневнике 1895 года Толстой пишет: «Отчего "я" — "я", тот же "я",
к[оторый] был 60 лет и 30 лет и 2 часа тому назад, — п[отому], ч[то]
я люблю это "я". Пот[ому], что любовь связывает этих всех
различных, растянувшихся во времени V, в одно целое. Во времени мне ясно
видно, как любовь связывает "я", собирает его в одно» (53, 55).
Связывающее все относительные «я» в одно названо любовью, но, вероятно,
это надо понимать как сокращенное обозначение характера, который
тоже в своей сути есть любовь (с одной стороны, любовь к себе, и,
с другой стороны, избирательная любовь к миру: что-то принимающая,
а что-то отвергающая).
Однако вопрос о связности каждой личности далеко не
исчерпывается указанным рассуждением. Ведь эмпирические личности смертны,
и разрыв в бытии личности, вызываемый смертью, гораздо более
радикален, чем относительная несогласованность отдельных «я» на
протяжении одной жизни. Толстой, конечно, понимает, что для построения
последовательной системы ему необходимо показать, как
преодолевается и этот радикальный разрыв. И он дает вполне логичный ответ на
вопрос о смысле смерти. Как утверждает Толстой, отдельная
эмпирическая жизни — это только одна форма воплощения личности,
определенная ее вечным характером, но после конца этой жизни личность
и ее характер получит новое воплощение, т. е. новую жизнь, и такое
следование новой жизни за старой продолжится без конца. Это
представление является представлением о личном бессмертии; вопреки
утверждению православных критиков Толстого о том, что у него нет
такого представления, оно вполне ясно выражено в книге «О жизни»:
«...может уничтожиться мое тело, связанное в одно моим временным
сознанием, может уничтожиться и самое мое временное сознание,
но не может уничтожиться то мое особенное отношение к миру,
составляющее мое особенное я, из которого создалось для меня все, что
есть. Оно не может уничтожиться, потому что оно только и есть. Если
бы его не было, я бы не знал ряда своих последовательных сознаний,
не знал бы своего тела, не знал бы своей и никакой другой жизни.
И потому уничтожение тела и сознания не может служить признаком
уничтожения моего особенного отношения к миру, которое началось
и возникло не в этой жизни» (26,406). И далее Толстой разъясняет свое
322
6.2. «Философия жизни» Л. Толстого и А. Бергсона
понимание бессмертия, сравнивая смерть со сном: «...уничтожение
последнего по времени сознания, при плотской смерти, так же мало
может уничтожить истинное человеческое я, как и ежедневное
засыпание» (26,408).
Толстой неоднократно возвращается к такому пониманию
бессмертия в своих дневниках, можно процитировать множество мест, где оно
выражено совершенно недвусмысленно и используется для объяснения
различных явлений нашей обычной жизни. Например, в записи от
7 декабря 1895 года читаем: «Жизнь есть увеличение любви, расширение
своих пределов, и это расширение совершается в разных жизнях. <.. .>
Это расширение нужно для моей внутренней жизни, и оно же нужно
для жизни этого мира. Но жизнь моя может проявляться не в одной
этой форме, она проявляется в бесчисленном количестве форм. Мне
видна только эта». Или вот как Толстой соотносит так понятую идею
бессмертия с возможностью самоубийства: «Хорошо бы написать
историю того, что переживает в этой жизни тот, кто убил себя в
предшествующей: как он, натыкаясь на те же требования, кот[орые] ему
предлагались в той, приходит к сознанию, что надо исполнить. И в этой
жизни понятливее других, помня данный урок» (53, 79).
Нужно при этом заметить, что такое понимание бессмертия вовсе не
является «нехристианским», хотя именно так характеризовала его на
протяжении веков христианская церковь, которая позаимствовала свою
версию идеи бессмертия из иудаизма. На самом деле идея множества
жизней, проживаемых в земном мире, имеет как раз христианские
истоки, она присутствует почти во всех главных апокрифических
памятниках, выражающих учение раннего христианства (Апокриф Иоанна,
Евангелие от Филиппа и др.; см. раздел 1.1). Не случайно так понятая
идея бессмертия очень часто встречается в европейской философии —
и именно у мыслителей, пытавшихся восстановить утраченные смыслы
учения Иисуса Христа (Дж. Бруно, Лейбниц, Фихте). В этом контексте
нет ничего удивительного, что и Толстой пришел именно к такому —
подлинно христианскому — пониманию бессмертия. Этот
принципиальный пункт религиозного учения Толстого полностью совпадает
с представлениями Достоевского, о которых говорилось выше; в этом
смысле Бергсон мог позаимствовать свое необычное понимание
бессмертия как из произведений Достоевского, так и из текстов Толстого.
Последний важный аспект понимания личности и ее отношения
к «силе жизни» (общей, подлинной жизни) — это роль телесной,
животной личности человека по отношению к общей жизни. Толстой
неустанно подчеркивает необходимость отрицания запросов низшей,
323
Глава 6. Бергсон и русская философия
животной личности человека, связанной с его телом, ради того, чтобы
центр существования личности был перенесен в общую жизнь, в Бога.
Но это вовсе не означает, что он предполагает возможность и
желательность полного «умаления» телесности и ее значения для человека, как
это предполагает, например, монашеская практика.
Пытаясь более точно определить отношение нашего тела как
животного организма и всей материальной действительности к жизни
в ее подлинной сущности, Толстой в конце концов говорит о них как
об орудиях, средствах, с помощью которых жизнь реализует свои цели.
«Жизнь свою истинную человек делает сам, сам проживает ее;
но в <.. .> двух видах существования, связанных с его жизнью, —
человек не может принимать участия. Тело и вещество, его составляющее,
существуют сами собой. <...>
В истинной жизни человека эти два вида существования
представляют для него орудие и материал его работы, но не самую работу его.
Человеку полезно изучать и материал и орудие своей работы. Чем
лучше он познает их, тем лучше он будет в состоянии работать» (26,
358-359).
В этом мотиве взгляды Толстого и Бергсона демонстрируют
особенно наглядное совпадение. Ведь одной из главных идей философии
Бергсона является понимание тела человека как всего лишь орудия,
которое личность в ее подлинной, духовной сущности использует для
деятельности в одном срезе бытия — в материальном мире.
Соответственно, научное познание материального мира и научный образ
материального мира, не учитывающий существование подлинной
жизни в духе, есть та форма, в которой наша «низшая» личность,
привязанная к миру, организует свое действие в мире («работу», по термину
Толстого).
Материальный мир, как утверждает Бергсон, — это тот «материал»,
в котором воплощается первичная сила жизни, который она
подчиняет себе, образуя все более и более сложные организации, причем в
человеке этот процесс приобретает осознанный характер и направляется
интеллектом: «.. .все элементарные силы интеллекта направлены на то,
чтобы преобразовать материю в орудие действия, т. е. в орган, в
этимологическом смысле этого слова. Не довольствуясь лишь созданием
организмов, жизнь пожелала дать им, в виде дополнения, саму
неорганическую материю, превращаемую благодаря мастерству живого существа
в бесконечный орган»24.
Бергсон А. Творческая эволюция. С. 173.
324
6.3. Толстовские мотивы в этике Бергсона
Эта наглядная модель, описывающая действие силы жизни внутри
материи, есть и в книге Толстого. Все низшие формы воплощения
жизни он рассматривает как средства действия высших: «Нам ясно, что вся
материя и ее законы, с которыми борется животное и которое она
подчиняет себе для существования личности животного, суть не преграды,
а средства для достижения им своих целей. Только переработкой
материи и посредством ее законов животное и живет. Точно то же и в
жизни человека. Животная личность, в которой застает себя человек
и которую он призван подчинять своему разумному сознанию, есть не
преграда, но средство, которым он достигает цели своего блага:
животная личность для человека есть то орудие, которым он работает.
Животная личность для человека — это лопата, которая дана разумному
существу для того, чтобы ею копать и, копая, тупить ее и точить, тратить,
а не отчищать и хранить» (26, 367).
Таким образом, анализ самой сложной части философских взглядов
Толстого — его концепции истинной, общей жизни, которую он
называет Богом, и отношения к ней отдельной личности человека,
показывает очень точное соответствие представлений писателя
представлениям Анри Бергсона. Однако главной целью философских
построений Толстого было создание новой этики, требующей от
человека расставания с ложной жизнью и вхождение в жизнь новую,
истинную. В главной книге Бергсона, излагающей концепцию жизни,
в «Творческой эволюции», этические проблемы также присутствуют,
но не занимают такого первостепенного места, как в рассуждениях
Толстого. Свою этику Бергсон изложил гораздо позже, в книге «Два
источника морали и религии». Отношение идей этой книги к идеям
Толстого таково, что уже мало говорить о близости или соответствии
представлений русского и французского мыслителей, Бергсон
выступает здесь как прямой наследник русского писателя, и его этические
построения без большой натяжки допустимо обозначить термином
«толстовство».
6.3. Толстовские мотивы в этике Бергсона
Главный принцип этики Толстого, изложенной в книге «О жизни»,
заключается в необходимости для человека отречься от низшей,
ложной жизни, имеющей целью благо его земной, животно-телесной
личности, и начать жить истинной жизнью, имеющей целью благо всех
людей. Разумный закон этой истинной жизни, который каждый
человек должен открыть в себе самом и свободно принять, заключается
325
Глава 6. Бергсон и русская философия
в необходимости любить всех людей и даже шире — всех живых
существ и все существующее в мире. При этом вхождение в истинную
жизнь, хотя и связано с отказом от служения благу животной
личности, не должно вести к полному отрицанию этой низшей личности;
все требования телесного начала в человеке должны быть подчинены
духовным целям истинной жизни, материальная жизнь и ее
потребности должны быть поняты как орудие и средство осуществления
высших целей.
Осуществленное преображение жизни, рождение для высшей,
духовной жизни радикально преобразит человека и изменит его
представления о себе и о мире. Он перестанет бояться страданий,
поскольку страдания абсолютны только для изолированного индивида, который
не знает бесконечности истинной жизни и не вошел в нее; для него
исчезнет ужасное «пугало» смерти, так как он поймет абсолютность
жизни, поймет, что только истинная жизнь всегда есть и не может ни
зарождаться, ни погибать, она не причастна по своей сущности
пространству и времени, а только проявляется в них.
В книге Бергсона мы находим все эти представления, причем часто
даже конкретные аргументы рассуждений Бергсона совпадают с
аргументами и доказательствами Толстого.
Как мы помним, введя понятия закрытого и открытого обществ,
Бергсон утверждает, что по-настоящему открытого общества не было
и еще нет в реальности; если бы оно было возможно в полной мере,
оно должно было бы охватить все человечество и было бы совсем
иным, чем современное общество (при этом неважно, имеется в виду
эпоха Бергсона или наша эпоха). «Как бы ни отличались наши
цивилизованные общества от того общества, к которому мы
непосредственно были предназначены природой, они подобны ему в своей
основе. В действительности они также являются закрытыми
обществами»25.
Конечно же, Бергсон видит различие между современным обществом
и примитивными обществами. Полагая, что открытое общество — это
далекий исторический идеал, он все-таки считает возможным
постепенное приближение закрытых обществ к этому идеалу. Степень
приближения общества к идеалу задается тем, есть ли в обществе люди,
обладающие открытой душой, и как много таких людей. В конечном
счете у Бергсона, точно так же как у Толстого, все сводится к личной
морали индивидов; изменение в обществе как целом он мыслит только
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 29-30.
326
6.3. Толстовские мотивы в этике Бергсона
через изменение морали отдельных людей, дающих образец поведения
для всех остальных. При этом он, как и Толстой, считает эту мораль
давно известной, уже ставшей реальностью в отдельных людях и вовсе
не требующей какого-то «осовременивания», усовершенствования.
Примеры великих учений, которые раскрывали суть этой морали,
приводимые Бергсоном, буквально повторяют соответствующий список
из книги Толстого: «Во все времена появлялись исключительные люди,
в которых эта мораль воплощалась. До христианских святых
человечество знало мудрецов Греции, пророков Израиля, буддийских арагантов
и других. Именно к ним всегда обращались за этой полной моралью,
которую лучше было бы назвать абсолютной»26.
Описывая разницу между людьми закрытой и открытой души,
Бергсон фиксирует здесь то же самое различие, которое Толстой проводит
между человеком, живущим ложной жизнью, направленной на благо
его собственной животной личности, и человеком, вошедшим в
истинную жизнь и желающим блага всем людям, всему существующему.
Может показаться, что в описании закрытой души Бергсон
расходится с Толстым, поскольку он характеризует человека, ею обладающего,
как полностью покорного социальным обязательствам, принуждающим
его к служению семье, роду, нации, в то время как Толстой утверждает,
что человек ложной жизни служит интересам собственной животно-
телесной личности. Однако никакого противоречия или даже
существенного различия представлений здесь нет. Нужно иметь в виду, что
Толстой говорит о человеке современного общества, а Бергсон для
большей наглядности берет примитивное, первобытное общество,
в котором все люди являются людьми закрытой души и общество
является абсолютно закрытым. Описывая примитивное общество,
Бергсон совершенно правильно констатирует полную растворенность
блага отдельной личности в благе сообщества как целого. В этом случае
благо отдельной личности предполагает строгое исполнение обязательств,
обеспечивающих устойчивость сообщества. В результате можно сказать,
что Толстой и Бергсон говорят об одном и том же, только первый
обращает внимание на сущность ложной, низшей жизни (ее
направленность на благо себе), а второй — на эмпирическое проявление этой
сущности в общественной жизни (исполнение обязательств,
обеспечивающих благо себе).
Собственно говоря, Толстой безусловно понимал дополнительность
блага себе и социальных обязательств перед «своими» — соплеменниками,
Там же. С. 34.
327
Глава 6. Бергсон и русская философия
сородичами, перед отечеством в широком смысле слова; он ясно
говорит об этом в работах, посвященных разъяснению своего понимания
учения Христа, например в книге «В чем моя вера?» Противопоставляя
старый, ветхозаветный закон жизни людей и новый закон, данный
Христом, Толстой утверждает, что старый закон — это выражение
коллективного эгоизма, который призывает любить «ближнего», но под
этим ближним подразумевается только соплеменник, этот же закон
предполагает ненависть ко всякому человеку иной народности и веры.
В противоположность этому закон Христа требует любви к каждому
человеку, независимо от его национальности или иного статуса,
и именно этот новый закон, по Толстому, определяет переход к
истинной жизни: именно любовь ко всем людям и даже шире — ко всему
живущему и существующему, даже вопреки благу своей животной
личности, есть закон истинной жизни.
Но точно так же объясняет различие закрытой и открытой души
Бергсон. Первая с помощью жестких и неизменных социальных
обязательств принуждается к любви к семье и отечеству, вторая расширяет
свою любовь до человечества. Здесь не просто количественное различие
объекта любви, здесь различие самой сущности чувства: «Первые
заключают в себе отбор и, следовательно, исключение кого-то; они могут
побуждать к борьбе; они не исключают ненависти. Последнее — это
только любовь. Первые непосредственно направлены на привлекающий,
их объект. Последнее не подчиняется притягательной силе своего
объекта; оно не направлено на него; оно устремлено дальше и достигает
человечества, лишь проходя через него. Да и имеет ли оно, собственно
говоря, объект?»27 Любовь открытой души, констатирует Бергсон,
безмерна, она есть абсолютная любовь — любовь ко всему
существующему: «Если предположить, что она охватывает все человечество, то это
не будет слишком много, это не будет даже достаточно много,
поскольку ее любовь распространяется на животных, растения, на всю природу»28.
Точно так же как Толстой, Бергсон связывает мораль абсолютной
любви с религией, с правильно понятым христианством, совершенно
не похожим на то, которое изображается в церковном учении.
Подлинное христианство в истории выражали великие мистики, которые
учили о единстве людей в Боге и о достижении совершенства через
любовь, — конечно, такие взгляды рассматривались церковью как
злостная ересь.
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 39-40.
Там же. С. 39.
328
6.3. Толстовские мотивы в этике Бергсона
Абсолютным основанием подлинного христианства Бергсон, как
и Толстой, считает мораль, выраженную в Евангелиях, он
описывает ее как мораль «чистой духовности» и противопоставляет
ветхозаветной морали, которую он называет моралью обыденной,
«замкнутой и материализованной в формулы». «Таков глубинный смысл
противопоставлений, следующих друг за другом в Нагорной
проповеди: "Сказано было вам... А Я говорю вам, что..." С одной
стороны — закрытое, с другой — открытое. Обыденная мораль не
упраздняется, но она представляется одним из моментов в ходе прогресса»29.
Все это почти буквально совпадает с известными размышлениями
Толстого по поводу противоречия между законом Моисея и законом
Христа.
Правда, Толстой считает, что новая мораль отменяет старую, а
Бергсон утверждает, что старая остается «одним из моментов в ходе
прогресса». Но эта оговорка теряет какое-либо значение, когда мы
всмотримся в то, как Бергсон описывает то новое состояние, в которое
переходит человек, усвоивший мораль Христа. Этот человек
принимает настолько небывалый образ жизни, что его невозможно совместить
со старым, с тем, как понимают жизнь большинство людей,
остающихся в обыденной морали. «Они <люди новой морали> говорят прежде
всего, что то, что они испытывают, — это чувство освобождения.
Благополучие, удовольствия, богатство — все, что привлекает
большинство людей, оставляет их равнодушными. Освободившись от этого, они
испытывают облегчение, затем радость»30.
Учение Христа — это не что-то дополнительное к жизни, это
способ сделать саму жизнь радикально иной, преобразовать ее к
совершенству. Вот как об этом пишет Толстой: «...он <Христос>
понимал свое учение не как какой-то далекий идеал человечества,
исполнение которого невозможно, не как мечтательные поэтические
фантазии, которыми он пленял простодушных жителей Галилеи;
он понимал свое учение как дело, такое дело, которое спасет
человечество, и он не мечтал на кресте, а кричал и умер за свое учение.
И так же умирали и умрут еще много людей. Нельзя говорить про
такое учение, что оно — мечта» (23, 331). И то же самое утверждает
о подлинном учении Христа, которое несли в истории великие
христианские мистики, а вовсе не церковь, Бергсон: «В
действительности для великих мистиков речь идет о том, чтобы радикально
Там же. С. 62.
Там же. С. 54.
329
Глава 6. Бергсон и русская философия
преобразовать человечество, начав с собственного примера. Цель
может быть достигнута только в том случае, если в конце существует
то, что теоретически должно было существовать вначале:
божественное человечество»31.
Оба мыслителя — и Толстой и Бергсон, понимают, что путь к
«божественному человечеству» совсем не прост, и сейчас нужно думать даже
не столько о грядущем совершенстве людей, сколько о том, как убедить
их свернуть с ложного пути служения благу собственной эгоистической
и ограниченной личности. Вновь мы видим полное совпадение позиций
писателя и философа в критике современной цивилизации. Толстой,
критикуя цивилизацию, которая искусственно «раздувает» отдельные
«животные» потребности человека, пишет: «То, что называют
потребностями, т. е. условия животного существования человека, можно
сравнить с бесчисленными способными раздуваться шариками, из
которых бы было составлено какое-нибудь тело. Все шарики равны одни
с другими и имеют себе место и не стеснены, пока они не раздуваются, —
и все потребности равны и имеют место и не ощущаются болезненно,
пока они не сознаны. Но стоит начать раздувать шарик, и он может быть
раздут так, что займет больше места, чем все остальные, стеснит другие
и сам будет стеснен. То же и с потребностями: стоит направить на одну
из них разумное сознание, и эта сознанная потребность занимает всю
жизнь и заставляет страдать все существо человека» (26, 376-377).
И словно откликаясь на эти слова, Бергсон повторяет эту критику,
используя тот же самый образ раздуваемого шарика: «Постоянно растущая
потребность в достатке, жажда развлечений, безудержное стремление
к роскоши, все то, что внушает нам столь серьезное беспокойство за
будущее человечества, потому что оно будто бы находит в этом
устойчивое удовлетворение, — все это проявит себя как воздушный шар,
который яростно накачивают воздухом и который поэтому внезапно
лопнет»32.
Бергсон видит выход в сознательном ограничении материальных
потребностей, это требование полностью подобно заповеди
«опрощения» Толстого и при этом ничего общего не имеет с религиозным
аскетизмом, поскольку имеет целью не отрицание телесного начала
в человеке, а введение его в те рамки, которые ему поставлены самой
природой, — ради того, чтобы это телесное начало не господствовало
в человеке, а было орудием духовной, истинной жизни. «Необходимо,
Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 258.
Там же. С. 330.
330
6.3. Толстовские мотивы в этике Бергсона
чтобы человечество постаралось упростить свое существование с той
же одержимостью, с какой постаралось его усложнить»33.
В конечном счете для Бергсона, как и для Толстого, главное значение
имеет индивидуальность: отдельный человек, добровольно
отрекающийся от своей независимости и ограниченности и входящий в общую
жизнь, с одной стороны, теряет себя, свою природную личную
обособленность, но, с другой стороны, приобретает гораздо большее —
абсолютную индивидуальность, становясь тем элементом человечества,
который выражает его божественную сущность, выводит человечество
за рамки природной необходимости, в сферу чисто духовной жизни:
«...увлеченные их примером, мы присоединяемся к ним <к таким лю-
дям>, как к армии завоевателей. Это и в самом деле завоеватели; они
сломали сопротивление природы и возвысили человечество для новых
судеб»34.
Сводя свои животные потребности к необходимому минимуму,
такой человек приобретает гораздо больше, его жизнь становится
благой, пронизанной радостью. Он уже не будет считать страдания,
испытываемые им и другими людьми, опровержением благого
характера жизни, поскольку страдания относятся к сфере низшей жизни
и не затрагивают духовную жизнь. И сам смерть в конце концов
теряет для людей, обретших подлинную жизнь, свою неотвратимость
и ужасность.
До конца жизни Бергсон не изменил той главной идее, которая
определила смысл неклассической философии — представлению о том,
что только земной человек (в единстве с целым человечества) является
единственным существом во всем бытии, претендующим, хотя и в
далекой исторической перспективе, на статус настоящего Бога.
«Философия жизни» Бергсона и концепция жизни, содержащаяся
в книге «О жизни» и в дневниковых рассуждениях Толстого, имеют
множество точек совпадения, а поздняя книга Бергсона «Два
источника морали и религии» выглядит как последовательное развитие этики
Толстого — по всем основным пунктам. Рассматривая эти параллели
в целом, трудно отделаться от мысли, что они не являются случайными.
Учитывая популярность Толстого во Франции, начиная с 70-х годов
XIX века, можно выдвинуть гипотезу о прямом влиянии его
философских идей, точно так же как и художественных образов, на развитие
философской концепции Бергсона.
33 Там же. С. 334.
34Тамже.С52.
331
Глава 6. Бергсон и русская философия
Мог ли Бергсон читать философские работы Толстого и испытать
влияние его идей? Нам кажется, что это вполне вероятно. Книга
«О жизни», наиболее близкая к «философии жизни» Бергсона, была
опубликована в Париже по-французски в 1889 году. Как раз в этом году
Бергсон окончательно поселился в Париже, защитил докторскую
диссертацию и начал активную преподавательскую и
исследовательскую работу, которая в конце концов вывела в центр его философии
понятие жизни. Не исключено, что трактат Толстого привлек внимание
молодого философа и, прочитав его, он уловил совершенно новый
подход к объяснению жизни, идущий против господствующих
тенденций эпохи — против стремления понять жизнь научным образом.
Постепенно вырабатывая свой собственный подход, не менее
решительно отвергавший научный метод в применении к понятиям жизни
и сознания, Бергсон должен был увидеть в Толстом соратника и
предшественника. Познакомившись с его религиозной и этической системой,
он принял их как естественное дополнение к концепции жизни и
когда сам обратился к проблемам этики и религии, то почти точно
воспроизвел это учение в своей поздней книге.
6.4. Бергсон и русская философия XX века
Расцвет русской философии в конце XIX и начале XX века был
в немалой степени обусловлен воздействием на нее новейших течений
западной философской мысли, в которых были очерчены контуры
совершенно новых метафизических систем, радикально порывающих
с классической традицией. Как это было на протяжении всего XIX века,
русские мыслители активно осваивали и использовали достижения
западных мыслителей, в данном случае это были представители
позитивизма (прежде всего Э. Мах и Р. Авенариус), А. Шопенгауэр, Ф.
Ницше, Э. Гуссерль, 3. Фрейд и А. Бергсон.
Рискнем утверждать, что влияние Бергсона из всех упомянутых
мыслителей было самым всеобъемлющим и глубоким. Некоторые
ключевые концепции и тенденции русской мысли той эпохи можно считать
прямо связанными с влиянием идей французского философа. В качестве
самого наглядного примера можно назвать интуитивистскую концепцию
познания Н. О. Лосского, изложенную в работах «Обоснование
интуитивизма» (1905), «Обоснование мистического эмпиризма» (1907) и в
других работах. Здесь мы видим весьма прямолинейное преломление идей
Бергсона. Другие русские философы начала XX века использовали его
идеи не столь прямолинейно, но, вероятно, нельзя найти ни одного
332
6.4. Бергсон и русская философия XX века
представителя религиозной линии развития русской философии,
который бы не испытал влияния Бергсона. Впрочем, это нельзя считать
какой-то негативной чертой русской мысли. Учитывая, что сам Бергсон,
с большой долей вероятности, использовал достижения русской
религиозной мысли второй половины XIX века (Достоевского и Толстого),
можно сказать, что представители этой мысли следующей эпохи
проницательно увидели созвучие идей французского мыслителя с
национальными традициями и восприняли его как талантливого
продолжателя этих традиций. В конечном счете было бы правильнее говорить
не о зависимости русской философии начала XX века от Бергсона,
а о созвучии и общих устремлениях. В этом смысле прослеживание
совпадений и соответствий между концепциями французского и русских
мыслителей важно как для понимания развития русской философии,
так и для лучшего понимания идей самого Бергсона. Также стоит
отметить, что наиболее известные русские мыслители — Н. Бердяев,
С. Франк, Л. Карсавин — не только заимствовали у Бергсона важные
идеи, но и активно полемизировали с ним, защищая свой
альтернативный взгляд на общие проблемы (прежде всего это относится к
проблеме времени). В этом смысле исследование взаимосвязей между
философией Бергсона и русской мыслью начала XX века представляет
собой весьма важную задачу, которая пока выполнена далеко не в
полной мере35.
В конечном счете близость исходных принципов философского
понимания человека у Бергсона и русских мыслителей была связана с тем,
что в своей главной линии русская философия безусловно принадлежит
к традиции мистического пантеизма, а Бергсона можно назвать великим
завершителем этой традиции в новейшей европейской философии.
По истокам своих философских мировоззрений Бергсон и его русские
современники были единомышленниками, они различались только
по способу развития исходных принципов и по некоторым частным
следствиям из них. Совпадение исходных принципов
философствования хорошо видно на примере философии Вл. Соловьева.
35 Наиболее капитальной работой на эту тему (хотя больше фактологической
и биографической, чем идейно-аналитической) остается книга: Нетеркотт Ф.
Философская встреча: Бергсон в России (1907-1917). М., 2008. Ценный обзор темы
содержится в отдельной главе книги: Блауберг И. И. Анри Бергсон. М., 2003.
С. 591-626. Также можно отметить выход антологии, показывающей, в каких
конкретных формах происходило отражение идей французского мыслителя в русской
философии: А. Бергсон: pro et contra. СПб., 2015.
333
Глава 6. Бергсон и русская философия
Рассматривая в работе «Кризис западной философии (против
позитивистов)» историю европейской философии и ее попытки описать
Абсолют, Соловьев признает все эти попытки неудачными и
незавершенными. Ведь Абсолют — это то, что существует безусловно, в то
время как в западной философии Абсолют предполагалось найти либо
на основе опыта (в эмпиризме), либо через форму понятия (в
рационализме). В первом случае мы неизбежно приходим к чему-то
относительному, зависимому от контекста опытного познания, во втором —
к чему-то абстрактному, вторичному по отношению к познавательной
деятельности ограниченного субъекта. Поскольку рационалистическая
традиция породила особенно много вариантов понимания Абсолюта
(от субстанции Декарта до Абсолютного Духа Гегеля), Соловьев
именно ее критике уделяет особенно большое внимание; эта тема —
«критика отвлеченных начал» — становится важнейшей темой его ранних
работ.
Отвергая все прежние философские модели Абсолюта, Соловьев
полагает, что истинный путь к Абсолюту лежит через особый
внутренний опыт, который, конечно, ничего общего не имеет с традиционным
понятием внутреннего опыта (характерном, например, для философии
Локка) как формы восприятия своих психологических состояний. В со-
ловьевском внутреннем опыте самое главное — отсутствие различия
между субъектом и объектом. Это, по его убеждению, возможно только
по отношению к той основе, на которой базируется обычный опыт
субъекта (как внешний, так и внутренний) и из которой вырастает само
различие субъекта и объекта. По сути, это и есть Абсолют. «Внутреннее
познание, — утверждает Соловьев, — потому-то и есть истинное и
действительное, что в нем нет никакой реальности, никакого внешнего
предмета, что в нем познающее и познаваемое не пребывают вне и
отдельно друг от друга, а только различаются»36. Получается, что
абсолютное начало доступно нашему познанию в форме тождества
познаваемого и познающего, отсюда с необходимостью следует, что его познание
не может быть ничем иным как интуитивным постижением своей
собственной цельной личности, — постижением своей личности не в
отдельных и частных проявлениях, а во всем ее богатстве и полноте,
во всей ее иррационально-жизненной конкретности и цельности.
При таком подходе к проблеме Абсолюта (Бога) последний
оказывается неразрывно связанным с человеческой личностью, соответственно,
36 Соловьев В. С. Кризис западной философии (против позитивистов) //
Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 48.
334
6.4. Бергсон и русская философия XX века
в философии постижение и описание Абсолюта оказывается возможным
только в форме метафизики человеческой личности, именно личность
становится центром философского знания, и это отражает ее
центральное, абсолютное положение в самом бытии. Все русские философы
начала XX века отталкивались именно от этой идеи Соловьева и
понимали человека как абсолютное существо, через которое происходит
явление Бога (Абсолюта) в эмпирической действительности; эта идея
точно соответствует главной идее Бергсона о том, что в своей духовной
сущности, сводимой к памяти, человек является тождественным
целостному духовному бытию, Абсолюту.
Вот как эту мысль в книге «Философия свободы» (1911) излагал
Николай Бердяев: «Сущее дано лишь в живом опыте первичного
сознания, до рационалистического распадения на субъект и объект,
до рассечения цельной жизни духа. Только этому первичному
сознанию дана интуиция бытия, непосредственное к нему касание»37.
Точно так же Семён Франк в книге «Душа человека» (1917)
противопоставлял предметное сознание, в котором человек воспринимает внешний
мир, и сознание внутреннее, «сознание-переживание», в котором
личность интуитивно постигает свою сущность, — последнее
оказывается формой схватывания, постижения бытия как такового, т. е.
безусловного основания всего существующего. «Что значит сознание-
переживание, "бытие-для-себя" в отличие от содержания предметно-
сознаваемого? Это есть, так сказать, само непосредственное, как бы
самодовлеющее внутреннее бытие, как оно первичным образом дано
себе или изживает само себя. Тщетно искать каких-либо логических
признаков этого элементарного, первичного бытия: о нем можно
только сказать, что оно есть бытие, и притом не предметное, не
предстоящее чужому взору или вообще чьему-либо созерцанию, а как бы
сущее в себе»38.
Франк вообще очень тонко и глубоко воспринял и
проинтерпретировал самые сложные идеи Бергсона, особенно много упоминаний
Бергсона содержится в его дилогии «Предмет знания» — «Душа
человека». В частности, он разъясняет, что душу человека мы должны
рассматривать не с гипотетической «внешней» точки зрения, а изнутри,
в ее собственной сущности; в этом случае душа оказывается
бесконечной реальностью, гораздо более богатой и сложной, чем вся реальность
37 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 71.
38 Франк С. Л. Душа человека // Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека.
СПб., 1995. С 491.
335
Глава 6. Бергсон и русская философия
материального мира. «Тогда, — утверждает Франк, — не может быть
и речи о том, что душевная жизнь есть совокупность процессов,
объективно совершающихся во времени, локализованных в теле, и через
эту двойную определенность приуроченных к определенным маленьким
местам объективно-предметного мира; напротив, душевная жизнь
предстанет нам тогда как великая неизмеримая бездна, как особая,
в своем роде бесконечная вселенная, находящаяся в каком-то совсем
ином измерении бытия, чем весь объективный
пространственно-временной мир»39.
Как и Бергсон, Франк подчеркивает абсолютную слитность души,
внутреннего мира личности — она едина в такой степени, что
невозможно даже помыслить ее в виде совокупности, агрегата частей. «Это
единство — не такого рода как механическое целое, слагающееся из
суммы своих частей и потому, очевидно, не могущее присутствовать
в каждой отдельной своей части. Напротив, это есть некоторое
первичное единство, данное сразу в своей целостности и потому не
требующее для своего обнаружения обзора всей совокупности своих
временных проявлений. В каждый данный миг и во всяком единичном
душевном явлении присутствует (правда, с большей или меньшей
актуальностью и явственностью) душевная жизнь как единство
целого; ведь для того, чтобы, например, определить "характер"
какого-нибудь человека, т. е. своеобразие его душевного строя как целого, нет.
надобности знать жизнь этого человека от колыбели до могилы»40.
Здесь Франк приближается к определению всеединства души (и, значит,
к определению Всеединства как такового) через принцип тождества
части и целого, что станет главным в построениях Льва Карсавина
(см. ниже).
Внутреннее бытие человека, тождественное абсолютному
духовному бытию, русские мыслители, точно так же как Бергсон, изображали
как динамическое, становящееся. Например, Бердяев называет
внутреннее бытие человека «первобытием» и «свободным духом». По
Бердяеву, дух невозможно определить как что-то завершенное и
законченное, он есть «чистый акт», такой «акт», в котором неразделимы
моменты «потенциальности» и «актуальности».'При этом «дух»
у Бердяева есть одновременно и сущность Бога, и сущность человека.
Человек и Бог — это как бы моменты свободного духа как
творческого акта. Если можно как-то различить понятия «Бог» и «человек»,
Франк С. Л. Душа человека. С. 465-466.
Там же. С. 433.
336
6.4. Бергсон и русская философия XX века
то только следующим образом: человек — это определенный результат
или «этап» акта творчества, это определенное «самоограничение»
творческого порыва духа, а Бог — это вся его полнота, бесконечность его
творческой мощи. Та же тенденция присутствует в философии Франка,
который определяет Абсолют как абсолютную «мощь», и в
философии Карсавина, который утверждает что Абсолют нужно описывать
в рамках «динамической» модели.
В своей философской концепции Франк достаточно точно
воспроизводит еще один важный срез философии Бергсона: понимание
наличного материально мира как результаты «преломления» Абсолюта,
духовного бытия в человеческом бытии, в акте восприятия,
основанного на телесной деятельности человека. Предметное бытие теряет
свою безусловную самостоятельность и свое видимое господство над
человеком, ведь оно само конституируется и получает связность
«внутри» сферы человеческого бытия. Как пишет Франк, «душа как
конкретное единство субъективной формирующей деятельности,
материала душевной жизни и как бы извне вовлекаемых предметных
содержаний есть не замкнутая в себе отрешенная от всего иного
субстанция, а как бы субъективное "зеркало вселенной или — говоря
точнее — субъективное единство пропитанного стихией душевной
жизни и своеобразно преломленного или сформированного
объективного бытия»41. Это означает, что мир, полагаемый нами объективным
и первичным по отношению к человеческим личностям, на деле
складывается из отдельных «предметных мирков» (термин Франка),
формируемых внутренним бытием (душами) отдельных людей. Критикуя
тезис Лейбница о том, что человеческие монады «отражают» вселенную,
т. е. воспроизводят ее в себе в виде «копий», Франк утверждает, что
субъективный «предметный мирок» каждой личности — это и есть
непосредственно формируемый ее сознанием «срез» объективного
бытия, причем этот «срез» существует непосредственно в самом этом
бытии. «Сказать, что вселенная существует, во-первых, объективно,
сама в себе и сверх того, отражается в бесчисленных копиях в
индивидуальных сознаниях или душах, — значит выразиться лишь грубо
приблизительно и упрощенно. <...> Более адекватно соотношение
между индивидуальным сознанием и объективным бытием можно
было бы определить так, что объективное бытие, существуя само
в себе, во всей бесконечной полноте своих содержаний или — что то
же самое — в свете всеобъемлющего и всеозаряющего абсолютного
41 Там же. С. 577.
337
Глава 6. Бергсон и русская философия
знания, вместе с тем существует не в отражениях или копиях, а в слабых
и субъективных освещениях под разными углами»42.
В сложной, богатой оригинальными деталями философской
системе Франка можно найти множество показательных совпадений
с идеями Бергсона43; впрочем, достаточно часто Франк вступает в
прямую полемику со своим старшим французским современником. Эти
критические возражения показывают, что Франк, опираясь на идеи
Бергсона, создает абсолютно самостоятельный и очень
оригинальный вариант философии мистического пантеизма (философии
Всеединства). В этом смысле указанные совпадения важнейших идей
свидетельствуют не о вторичности и малозначительности философских
построений Франка, а скорее об обратном — о том, что он вместе
с величайшими гениями европейской истории пришел к абсолютной
и окончательной философской модели Абсолюта, человека и мира,
подводящей итог многовековым исканиям человеческой мысли, более
того, сумел сделать свой непреходящий вклад в это окончательное
философское построение.
Не менее оригинально и плодотворно использовал в своей
философии идеи Бергсона Л. Карсавин, он также является выдающимся
представителем русской философии Всеединства. В центре
философской концепции Карсавина находится понятие личности, исходные
положения этой концепции буквально совпадают с принципами
философии личности Бергсона. Прежде всего Карсавин проводит
различие между понятиями «изменение» и «развитие», определяя
первое как чисто пространственное перемещение элементов
системы, интерпретируемой как механический агрегат своих частей, а
второе — как качественное изменение во времени абсолютно
целостного субъекта развития, который не может быть разложен ни на
какие элементы и в развитии которого происходит актуализация его
потенциального содержания. Наиболее яркий пример развития
дает как раз жизнь души. «Нельзя представить себе развивающееся,
как таковое, состоящим из частей или слагаемым частями, ибо рас-
частнение отрицает непрерывность. И точно так же нельзя в
развивающемся противопоставлять непрерывно меняющуюся
систему неизменным разъединенным элементам. В нем нет элементов,
и оно совпадает с системою. Развивающееся не допускает никакой
42 Франк С. Л. Душа человека. С. 577-578.
43 Подробнее см.: Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX-
XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. 2-е изд. СПб., 2020. С. 502-547.
338
6.4. Бергсон и русская философия XX века
атомизации, хотя ею, на беду себе, и грешит "естественная наука
о душевных явлениях", которую справедливее было бы назвать
противоестественною»44.
В одном важном аспекте Карсавин дает оригинальное
развитие бергсоновской теории души. Бергсон признает, что, будучи
неразрывно единой, душа, внутренний мир человека (длительность),
обладает внутри себя множественностью элементов. Здесь возникает
вопрос о том, как нужно мыслить «структуру» такого множества,
слитого в неразрывное единство. Однако Берсгон не дает ясного
описания «структуры» длительности. Карсавин восполняет этот пробел,
своеобразно используя идею всеединства. Он считает, что наиболее
точное описание всеединства, понятого как сочетание качеств
внутренней множественности и единства, можно дать через принцип
тождества части и целого. Этим достигается своеобразное «замыкание»
всеединства: самый «незначительный», «мельчайший» его элемент
необходимо признать абсолютно тождественным всеединству как
целому. Принятие этого постулата позволяет окончательно преодолеть
«пространственный», «иерархический» аспект в понимании
всеединства (чем в той или иной степени грешили почти все представители
философии всеединства, за исключением разве что Николая Кузан-
ского), когда всеединство понимается как своего рода «резервуар»,
в который включены (в духе пространственной аналогии) отдельные
конкретные элементы реальности.
Тот факт, что мы постоянно сталкиваемся в нашем мире с
действием принципа иерархии, распределяющим все явления на разные
(более «высокие» или «низкие») уровни бытия, связано только с
несовершенством самого всеединства. В совершенном всеединстве
невозможно провести традиционное различие между «высшим» и
«низшим», между элементом и всеми «вышестоящими» формами
его объединения с другими элементами, вплоть до Всеединства как
такового.
Карсавин доказывает, что при таком определении Всеединства
(Абсолюта) его рациональное познание оказывается невозможным,
поскольку рациональность заключается как раз в разделении целого
на изолированные элементы и в выстраивании на этой основе
иерархии всё более сложных структур, моделирующих разные «степени»
единства. Применительно к так понятому всеединству можно
говорить только о диалектическом философском описании, сознательно
44 Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993. С. 20.
339
Глава 6. Бергсон и русская философия
выстроенном на основе таких фундаментальных противоречий, как
тождество целого и части.
Тождество всеединства как целого и любой его части помимо
прочего означает, что основополагающая интуиция всеединства, задающая
его диалектическое содержание, может относиться к любой его части,
любому элементу; всё, что можно будет сказать об этом элементе (в его
отношении к своим собственным частям), будет справедливо и по
отношению к всеединству как таковому. Но мы, несомненно, обладаем
такой интуицией по отношению к своей личности. В результате
приведенное рассуждение дает обоснование тому методу построения
диалектики всеединства, который Карсавин использует в книгах
«Философия истории» (1923) и «О личности» (1929). Эксплицируя содержание
конкретной интуиции, в которой каждый из нас постигает всю
полноту своей личности, Карсавин, по сути, описывает Абсолют-Всеединство.
Этот подход можно рассматривать как оригинальную версию той же
философской методологии, которую применяет Бергсон, вводя понятие
длительности как становящегося Абсолюта и утверждая, что каждая
человеческая личность в своей духовной сущности есть эта самая
длительность.
Как и все другие сторонники мистического пантеизма, Карсавин
описывает материальный мир как некую форму «разложения»,
«ослабления» Абсолюта-Всеединства, крайней формой этого «разложение»
он называет структуру математического пространства, которая есть
форма абсолютного разделения бытия на независимые элементы
(точки пространства). Чем ближе реальность к этой крайней форме,
тем больше к ней применимо рационально-научное описание, которое
совершенно не применимо к самому человеку, сохраняющему в себе
состояние абсолютного единства (длительности). Акт перехода от
Абсолюта к материальному миру Карсавин понимает в полном
соответствии с общей моделью, характерной для традицией мистического
пантеизма от Евангелия Истины до Николая Кузанского, — как
внедрение в Абсолют независимого от него начала ничто (см. разделы
1.1-1.2), эту метафизическую модель он подробно описывает в первом
своем чисто философском произведении «Saligia, или Весьма краткое
и душеполезное размышление о Боге, мире, человеке, зле и семи
смертных грехах» (1919), стилизованный под анонимный средневековый
трактат.
Наиболее прямо идеи Бергсона присутствуют в статье Карсавина
«О свободе» (1921), где он создает концепцию всевременности души.
Предполагая, что душа, сущность человека является «умаленным»
340
6.4. Бергсон и русская философия XX века
(несовершенным) выражением Абсолюта-Всеединства, Карсавин
выводит отсуда, что она не только подчинена эмпирическому времени,
но и возвышается над ним, охвытывая всё свое время: «Если душа —
относительное всеединство, то не только всякий из существующих
и условно обособляемых ее моментов есть она сама, но — и всякий
из двух последовательных моментов ее бытия. Иначе говоря — если
душа всеедина, она и всевременна, разумеется всевременна
относительно: в пределах всего ее времени. <...> И за подтверждениями
относительной, очень, правда, относительной и ограниченной всевре-
менности души ходить недалеко. — Она дана нам в том, что мы
познаем изменение нашей души, различаем прошедшее, будущее и
настоящее. Она дана нам в восприятии мелодии (вспомним слова
Моцарта о том, что он сразу воспринял весь свой Requem прежде еще,
чем написал его), в такой простой вещи, как восприятие боя часов,
в конце концов — в восприятии всякого процесса, т. е. решительно
всего»45. Даже примеры, которые приводит Карсавин (схватывание
целого музыкального произведения и последовательности боя часов),
прямо восходят к работе Бергсона «Опыт о непосредственных данных
сознания». Говоря об одноврменном существовании души и в
последовательности моментов эмпирического времени, и во всей связности
времени как целого (в длительности), Карсавин считает эмпирическое
время «умалением» указанного целого, охватывающего всё время:
«Мы пришли к признанию души сразу и всевременной и временной,
поняв временность ее не как что-то противостоящее ее всевремен-
ности, но как неполноту этой всевременности, как по-своему
целостный момент ее»46.
Характерной чертой философской концепции Карсавина является
выдвижение в центр всех построений акта перехода Всеединства
в «умалённое», несовершенное состояние, этот акт объясняет почти
все самые важные явления действительности. Неклассическая
метафизика, созданная на рубеже веков усилиями множества мыслителей,
среди которых почетное место занимает и Бергсон, предложила
радикально новое понимание Абсолюта, приписав ему качество
становления, непрерывного иррационального (непредсказуемого) развития.
Однако она сохранила идею актуального сущестовования Абсолюта
как основания вего существующего. Это представление сохраняется
45 Карсавин Л. П. О свободе // Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб., 1994.
С. 221-222.
46Тамже.С228.
341
Глава 6. Бергсон и русская философия
в философии Бергсона: длительность в первых двух его главных
книгах и «порыв жизни» в «Творческой эволюции» выступают актуально
существующим Абсолютом, который отражается, воплощается в
несовершенной форме в земной действительности и затем из этой
несовершенной формы стремится к полноте вопощения. В этом случае
возникает вопрос о том, зачем вообще Абсолюту нужно вопрощаться
в несовершенную земную действительность, если он уже полностью
и актуально существует в некоей собственной сфере бытия. Вероятно,
Карсавин остро ощущал неустранимость этого вопроса, поэтому он
устранил последний рудимент классической метафизики,
присутствующий даже в метафизике Бергсона, — представление о полном
актуальном существовании Абсолюта.
Карсавин полагает, что Абсолют претерпевает в неком
метафизическом времени акт «деградации», «умаления» через соединение с
противостоящим ему началом ничто, в этом акте он исчезает как
«полноценный» Абсолют, наступает метафизическая «эпоха», в которой в мире
нет Абсолюта — ни в какой возможной форме. Поэтому при объяснении
мира и его закономерностей и форм Карсавин прибегает только к
понятию «умаленного всеединства», т. е. «несовершенного Абсолюта».
Это заставляет его к каждому полаганию качеств, происходящих из
наличия у мира и его элементов абсолютного основания, добавлять
прилагательные «умалённый» и «несовершенный». В результате
размышления Карсавина приобретают крайне сложный, «диалектический»
характер (часто на грани утраты смысла), но нужно признать, что во
многих важных случаях именно эта методология помогает ему дать
точное описание закономерностей земной реальности в ее связи с
несовершенным Абсолютом.
Внимательно всматриваясь в ход философских построений
Бергсона, мы можем заметить, что и в его логике принцип «умаления»
некоей полной реальности играет достаточно важную роль. Например,
наличный материальный мир и все его предметы («образы») Бергсон
описывает как ограниченные формы бытия элементов «полной»
(абсолютной) реальности (см. раздел 3.1). Тем не менее к длительности,
к духовному бытию, понятому как Абсолют, он не применяет условие
«умаленности», несовершенства. Это порождает проблему описания
перехода от Абсолюта к несовершенному миру и вопрос о том, имеет
ли существенное значение несовершенный мир на фоне
продолжающего существовать Абсолюта. Карсавин устраняет все эти трудности
через отрицание существования «полноценного» Абсолюта после
возникновения его «умаленной» формы. Впрочем, устраняя одни
342
6.4. Бергсон и русская философия XX века
проблемы, такой подход порождает другие, не менее существенные,
поэтому вряд ли можно утверждать, что метафизика Карсавина
существенно превосходит по своей логичности и последовательности
метафизику Бергсона. Но по крайней мере его труды наглядно
показывают, что даже после того, как европейская философия наконец
обрела свою окончательную и абсолютную форму в современной
версии философии Всеединства (мистического пантеизма), она не
закоснела и не закоснеет в неподвижности: даже в рамках
окончательной метафизической модели остается неисчерпаемое множество
проблем, по отношению к которым необходимы искания и творческие
усилия. Русские последователи Бергсона наглядно показывают
возможность очень разного развития той абсолютной формы философии,
к которой европейская мысль пришла в итоге своего двухтысячелет-
него развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В том «дивном новом мире», в который к концу XX века
превратилась западная цивилизация и который с ужасающей точностью
воплотил художественное пророчество О. Хаксли, всякая
содержательная философия, подобная философии Бергсона, становится
нежелательной. Прямо отрицать ее значение и ввести на нее цензурный
запрет либеральное сознание не может, однако оно уже давно
выработало надежное средство против опасных или просто непонятных
идей: превращение их в свою противоположность с помощью
изощренной современной софистики, начало которой положил
«постмодернизм». Собственно говоря, это направление в современной
западной философии и возникло для оправдания и придания
философского «лоска» той культурной и идейной деградации западного
общества, которая стала очевидной в 70-80-е годы XX века.
Малоосмысленные языковые игры представителей «постмодернизма»
стали заменой всей традиционной содержательной философии,
которая была объявлена «устаревшей» и «деконструированной» (ведь она
является дискурсом «власти», а не «истины»). Только небольшие,
безобидные для либеральной идеологии фрагменты классической мысли
были допущены в новую западную «философию», которая, как это
всегда бывает в тоталитарной общественной системе, нужна только
для доказательства окончательности, безальтернативности и
абсолютной благодатности либерального мировоззрения и основанного
на нем общества.
Философия Бергсона удостоилась стать одной из первых жертв той
интеллектуальной «вивисекции», которую постмодернистские
идеологи осуществили над наследием европейской мысли, и осуществил
эту «вивисекцию» сам Жиль Делез, признанный основатель
«постмодернизма». В своей книге «Бергсонизм» (1966) он с варварской
прямотой, очень характерной для мыслителей этого нового направления,
вырывает из контекста рассуждений Бергсона нужные ему идеи и
произвольно комбинирует друг с другом, не считаясь с их внутренним
смыслом. Тот факт, что созданный Делезом «фантом» в западной
литературе всерьез рассматривается как адекватная «интерпретация»
философии Бергсона, показывает, что в современном западном мире
традиция внимательного чтения классических текстов, традиция
344
Заключение
уважительного и вдумчивого отношения к великой истории
европейской философии, полностью утрачена.
В качестве главной тенденции философии Бергсона, связанной
с понятием длительности, Делез видит только критику «тоталитаризма»
традиционной философии, якобы сводящей многое, конкретное и
различенное к абстрактному Единому: «...критика Бергсона двунаправ-
лена, поскольку осуждает — в обеих формах негативного — одно
и то же игнорирование различий по природе, рассматриваемых, порой,
как "вырождения", а порой, как противоположности. Суть бергсонов-
ского проекта в том, чтобы помыслить различия по природе
независимо от любых форм отрицания: в бытии имеются различия, и все-таки
в нем нет ничего негативного»1. И еще об этом же: «Целое никогда
"не дано". В актуальном же царствует несводимый ни к чему
плюрализм — миров столько, сколько живых существ, и каждый "закрыт"
в себе»2. Легко увидеть истинный социально-культурный смысл этих
тезисов, прикрытый абстрактной философской терминологией: Делез
делает Бергсона защитником главного либерального принципа —
принципа «толерантности», который был выдвинут ради благородной
заботы о всех «слабых» и «убогих», не способных отвечать идеалу
духовного совершенства человека, а на деле превратился в весьма
эффективный способ уничтожения всей сферы духа, поскольку ради
сохранения «равенства» запрещает какое-либо развитие выше уровня
некультурной массы. Мыслителя, который в работе «Введение в
метафизику» решительно противостоял возникшей в конце XIX века
тенденции к отрицанию метафизики и доказывал невозможность
построения содержательной философии без понятия единого Абсолюта,
модифицированного в соответствии с новейшими идеями, Делез
превращает в сторонника радикального «плюрализма» (т. е. в
предшественника «постмодернизма»), приписывая ему идею множества
«абсолютов» и критикуя явно присутствующую в трудах Бергсона
тенденцию к полаганию единого Абсолюта-длительности как
«непоследовательность» и «заблуждение»3.
Что можно противопоставить этому бессовестному извращению идей
великого философа? Только правду, только тщательную интерпретацию
1 Делез Ж. Бергсонизм // Делез Ж. Эмпиризм и субъективность: опыт о
человеческой природе по Юму. Критическая философия Канта: учение о способностях.
Бергсонизм. Спиноза. М., 2001. С. 260.
2 Там же. С. 314.
3 См.: там же. С. 288-290.
345
Заключение
его сложных и не всегда ясных рассуждений на основе всей
многовековой традиции европейской философии, в которой учение Бергсона
является не просто естественной частью, но высшей точкой развития.
К сожалению, сам Бергсон не очень много и не очень ясно говорит
о своем отношении к общественно-политическим тенденциям
современности, и в этом он идет против наиболее заметной тенденции
неклассической философии — против стремления соединить философию
и жизнь, показать возможность для философии быть реальной силой,
действующей в истории и дающей ей правильное направление.
Известнейшие неклассические мыслители, подобные Ф. Достоевскому,
Ф. Ницше и К. Марксу, были суровыми критиками современного им
общества, показывая в своих трудах, что человечество забыло о своих
высших, духовных целях и преследует ложные и иллюзорные цели
материального благополучия и богатства.
В главных трудах Берсгона мы совсем не чувствуем исторического
контекста. В конце жизни он все-таки написал книгу, в которой
обсуждается проблема высших целей человеческого развития и
сформулировано целостное видение истории, однако и здесь нет прямого
упоминания перипетий современности, как нет и окончательной оценки
степени соответствия пути, по которому идет современное человечество,
той цели, к которой оно должно прийти. Это выглядит достаточно
странным, особенно учитывая тот факт, что книга была написана
в весьма непростую, по сути переломную эпоху европейской истории,
начало которой положила Первая мировая война. Такое умолчание
можно объяснить только тем, что в своем творчестве Бергсон решал
настолько глобальные проблемы человеческого существования, что
историю он должен был рассматривать не в промежутках десятилетий
и столетий, а в перспективе достижения ее окончательных целей,
которые требуют тысячелетий упорной борьбы за идеал. Поэтому он не
мог не быть оптимистом: создавая концепцию человека,
представляющую его универсальным — космическим и божественным — существом,
невозможно было не верить в то, что человек придет в истории к
совершенному состоянию, в котором его божественная природа явит себя
с подобающей полнотой.
Вероятно, Бергсон понимал, что если человечество, в лице своих
духовных вождей, не будет безусловно и твердо верить в достижимость
своих высших целей, — то оно никогда и не достигнет их. И Бергсон
безусловно верил в это, вопреки всем событиям современной истории,
которые свидетельствовали не о движении человека к совершенству,
а о прямо противоположном: о деградации человека и общества.
346
Заключение
Но, воспринимая философию Бергсона с большой дистанции
исторического времени, уже после промежуточного подведения итогов
той трагической эпохи, которая началась тогда, мы не можем не
задаться вопросом о соответствии этой философии нашему
историческому контексту и о возможности ее применения к реальной жизни.
Тем более что после трагических событий первой половины XX века
человечество все-таки пришло к относительному спокойствию и
благополучию и в лице нового поколения западных либеральных идеологов
провозгласило близость окончательного и совершенного состояния,
о котором мечтали люди в прошлом. Это делает насущным вопрос
о современном значении философии Бергсона. На какой стороне
нынешнего идеологического противостояния находится Бергсон: на стороне
либерального большинства, убежденного в наступлении «светлого
царства» свободы и равенства («постсовременности»), или на стороне
критиков либерального общества, констатирующих, что это общество
идет к абсолютной духовной и культурной деградации? Можно ли
считать всё еще актуальными призывы Бергсона к радикальному
изменению нашей жизни, как глубоко неправильной и не ведущей к высшим
смыслам?
Чтобы ответить на эти вопросы и понять, в какой точке пути к
конечной цели мы находимся, нужно еще раз обратиться к истокам
новейшей европейской цивилизации. Как уже говорилось, эти истоки
лежат в эпохе Возрождения. И хотя Возрождение, понятое как новая
модель развития европейского общества, не реализовало своих целей
и было уничтожено католической реакцией, существует общее мнение,
что его заветы — прежде всего идея свободы человека и принцип
равенства всех людей — получили адекватное продолжение в эпоху
Просвещения и стали невидимой основой всего последующего в истории.
Формально так оно и есть: идея равенства всех людей от рождения
и идея демократии как равного участия всех в государственном
управлении были окончательно внедрены в европейское сознание именно
Просвещением. Но здесь нужно более внимательно всмотреться в
детали тех представлений, которые определили смысл Возрождения
и Просвещения. Такой пристальный взгляд заставляет признать две
эпохи не едиными, а противоположными по своим устремлениям (см.
разделы 1.2-1.3).
Мыслители Возрождения, провозглашая равенство всех людей,
видели это равенство в божественной природе человека. Поскольку эта
природа очень по-разному являет себя в каждой личности, более
важным здесь оказывается понимание наличного неравенства людей,
347
Заключение
определенного разной степенью их духовного развития. В этом
контексте идея равенства оказывалась не констатацией того, что имеется
в реальности, а скорее заданием для каждого человека — требованием
к тому, чтобы стать более развитым в духовном смысле, чтобы
предельно полно явить в себе Бога.
Просвещение, наоборот, понимало идею равенства как констатацию
сущностного и неизменного тождества всех индивидов, причем это
тождество было обусловлено пустотой их внутреннего содержания
(знаменитая tabula rasa Дж. Локка), а не бесконечной полнотой
божественной сущности.
Соответствующее различие возникает и в понимании свободы.
Возрождение приписывает духовно развитому человеку творческую
свободу, являющуюся ограниченным выражением абсолютной творческой
свободы Бога. Просвещение же вообще не признает внутренней
свободы в человеке; поскольку у человека нет самобытной сущности,
он представляет собой такую же механическую комбинацию атомов,
как и любое другое явление природы, и точно так же управляется
законами природы. Хотя просветители без устали повторяли лозунг
о неотъемлемой свободе, присущей человеку, эту свободу они
понимали только как отсутствие внешних ограничений, что ничуть не
отменяло предопределенности всех поступков человека.
В результате Возрождение и Просвещение, имея в виду одни и те
же задачи и будучи в равной степени нацеленными на преодоление
средневекового мировоззрения, пришли к очень разным
представлениям о человеке и перспективах его исторического развития. Внешняя
радикальность просветительского мировоззрения, которая казалась
эффективной альтернативой средневековым представлениям,
существенно снижалась его примитивизмом, в результате в своих
последствиях (прежде всего в отрицании внутренней духовной
бесконечности и внутренней свободы человека) оно парадоксальным образом
возвращалось к Средневековью. Возрождение давало более сложную
и неоднозначную альтернативу средневековому образу мысли: его
идеологи использовали вполне традиционную религиозную систему
понятий, поэтому их тезисы не выглядели как нечто новаторское
по отношению к средневековым принципам жизни. Тем не менее при
последовательном развитии этих тезисов именно они вели к
действительно новой системе идей, дающей вполне точный портрет
человека новой эпохи, нового стиля жизни и мышления. Деятели
Возрождения не смогли довести свои исходные тезисы до значимых
результатов, эту задачу они передали следующим эпохам: ее подхватил
348
Заключение
и продолжил романтизм через два столетия после того, как она была
поставлена перед европейской цивилизацией.
Романтизм справедливо считают реакцией на Великую французскую
революцию и на прямолинейный рационализм, явившийся следствием
Просвещения. Однако нужно подчеркнуть, что критика относилась
только к методам решения ключевых задач, поставленных
Просвещением, сами же эти задачи романтизм понимал точно так же, как и
предшествовавшая эпоха: преодоление средневекового мировоззрения
и средневекового образа человека.
Именно романтизм и порожденная им немецкая идеалистическая
философия начала XIX века завершили то радикальное преобразование
средневекового мировоззрения, которое было начато Возрождением.
В этом философском движении все люди были признаны в равной
степени носителями божественного духовного начала, это привело
к разрушению средневекового иерархического представления об
обществе, которое было основой господства церкви над всеми сферами
жизни. Бесконечная глубина человеческого духа была понята
романтиками и немецкими идеалистами как та область, где человек
соединяется с Богом без всяких посредников; каждому открыты равные
возможности для проникновения в эту сферу — чтобы сделать внутренние
отношения с Богом основой своей жизни, чтобы придать своей жизни
творческий, т. е. божественный, характер.
Последующая история Европы с точки зрения ее «окончательных»
перспектив и целей должна быть понята как противостояние двух
цивилизационных моделей, в центре которых находятся
противоположные представления о человеке: «человек есть механический
автомат» и «человек есть Бог», — модели Просвещения и модели романтизма.
В этих моделях очень по-разному описываются цели
общественного развития и пути их достижения. Романтизм признает целью
развития раскрытие в жизни людей полноты их духовной сущности и их
внутренней свободы, это достигается через творческое созидание
культуры. В своем идеальном образе европейская цивилизация, как
утверждал Фихте, может быть названа «царством культуры»4. При
этом немецкие философы-идеалисты, вышедшие из романтизма,
доказывали необходимость диалектического понимания соотношений
индивидуального и общего в духовной сущности человека. Каждый
человек развивает свое духовное содержание только на основе
общечеловеческой духовной сущности; творение культуры в конечном
4 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 532.
349
Заключение
счете есть дело именно общечеловеческой, «родовой» сущности. «Цель
изолированной личности, — пишет об этом Фихте, — собственное
наслаждение, и своими силами она пользуется, как средствами для
достижения этой цели; цель рода — культура и, как условие последней,
достойное материальное существование <...>»5 Неразвитый человек,
не раскрывший в себе общую духовную сущность, является
индивидуалистом, видит только свои интересы, сводящиеся в конечном счете
к чувственному наслаждению и материальному благополучию; всякий
духовно развитый человек осознает свою причастность единой
духовной сущности, поэтому главным принципом его жизни и деятельности
является служение целям духовного развития, целям культурного
творчества своего народа и всего человечества.
В рамках такой модели признается приоритет общества, народа
и государства над отдельной личностью, поскольку духовное единство
народа, обеспечиваемое государством, есть та универсальная среда,
в которой только и возможно творческое развитие отдельных личностей.
Это не означает полного преобладания народа и государства,
поскольку непосредственным источником культуры является именно личность,
и в этом смысле она равна государству в своей ценности. Правильное
общественное развитие должно обеспечить диалектическое
взаимодействие государства, охраняющего и поддерживающего культурные
традиции, и личности, обладающей творческой свободой и
осуществляющей непрерывное созидание нового в культуре.
В цивилизационной модели Просвещения главным и абсолютным
принципом жизни является свобода отдельного индивида, но,
поскольку в человеке не признается наличие духовной глубины, свобода
понимается только как отсутствие внешних ограничений, это есть «свобода
от», но не «свобода для»; целью индивида, по сути, является
наслаждение материальными благами и ничего более. Для реализации этой цели
вполне достаточно «минимального» государства, которое охраняет
внешнюю свободу граждан, но не претендует на другие цели.
Естественным выражением этой социальной и политической тенденции стала
идеология западного либерализма.
Весь XIX век европейской истории прошел в резком противостоянии
двух моделей развития цивилизации, причем просветительскую модель
наиболее полно выражали Франция, Англия и США, а романтическую —
Германия и Россия. Однако, будучи детально разработанной
теоретически, романтическая модель так и не была воплощена в политической
5 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 506.
350
Заключение
и исторической реальности, она осталась делом высокой культуры.
Германия и Россия в начале XX века оказались в плену тоталитарных
систем, которые в своем теоретическом обосновании уродливо
сочетали отдельные черты просветительской и романтической моделей.
В результате вместо плодотворного культурного развития, которое
способствует гармоничному взаимодействию, две нации поставили
целью идеологическую экспансию, которая с неизбежностью вела
к войне. Впрочем, в начале XX века в Европе все готовились к войне
и ждали ее, поэтому все несут ответственность за последующие
события. В книге О. Шпенглера «Закат Европы» (1919) конец западного мира
был провозглашен теоретически, и две мировые войны, по сути,
реализовали это теоретическое предсказание, стали актом самоубийства
старой европейской цивилизации.
Относительный мир, наступивший во второй половине XX века,
стал для человечества не долгожданной эпохой спокойствия,
благополучия и культурного развития, а последней фазой «заката», эпохой
окончательной деградации, произошедшей благодаря окончательному
воцарению просветительской модели цивилизационного развития. Это
произошло в силу полной гегемонии в западном мире США — той
страны, которая получила самые большие выгоды от двух мировых
войн и в этом смысле была, вероятно, наиболее заинтересована в них.
Особая роль США в западном мире была осознана давно, но
глубокое теоретическое объяснение она получила как раз в эпоху двух
мировых войн благодаря Герману фон Кайзерлингу, немецкому философу,
близкому по своим воззрениям к Бергсону и Шпенглеру. В книге
«Америка. Заря нового мира» (1930) Кайзерлинг ясно формулирует
противоположность двух моделей развития Европы, и именно из этого различия
он объясняет особенности американской цивилизации: американская
нация с абсолютной точностью восприняла просветительские идеи,
но романтизм и вся порожденная им философия духа прошла мимо
Америки: «...американцы суть наиболее типичные представители Запада.
<.. .> Причина этого заключается в том, что нигде более идеи XVIII века
не ощущались во всей своей чистоте в течение столь долгого времени.
Если иметь в виду внутреннее переживание, в Америке никогда не было
XIX столетия. <...> Ведь именно XVIII столетие отбросило даже саму
мысль, что люди могут отличаться друг от друга в бытийном отношении»6.
Раскрытие в себе духовного начала и работа над его развитием — это
очень сложное дело, которое требует огромного внимания и огромных
6 Кайзерлинг Г. фон. Америка. Заря нового мира. СПб., 2002. С. 130-131.
351
Заключение
усилий, конечно тоже духовных. Но если нация на протяжении
десятилетий и столетий живет в убеждении, что все индивиды одинаково
«пусты» от рождения и наполнять их может только совокупность
конкретных познаний и навыков, ничуть не изменяющих их сущность и
бытийное содержание, то ее представители с течением времени полностью
утрачивают понимание того, что в них есть духовное начало и,
соответственно не способны раскрыть и развить его. По сути, это означает,
что они не очень высоко поднимаются над уровнем животного
существования, они управляются самыми простыми материальными
потребностями и элементарными психическими мотивами. Это объясняет
абсолютное господство в американской психологии теорий, подобных
бихевиоризму, которые даже на теоретическом уровне устраняют
принципиальное различие между человеком и животными: «... в чем состоит
сущность бихевиоризма? В том, что человек — это такое же животное,
как и всякое другое. В том, что духовная инициатива и свободная воля
почти не играет роли в его структуре и поведении»7.
Поскольку сложность внутреннего, духовного содержания в
конечном счете является главным признаком, отличающим культурно
развитого человека от неразвитого и представителя культурного народа
от представителя народа примитивного, то американская нация,
несмотря на все свое внешнее материальное изобилие и преуспеяние,
должна быть признана примитивной нацией, мало чем отличающейся
в смысле духовного и культурного развития от папуасов или самых
отсталых народов Африки. Этот тезис является одним из центральных
в книге Кайзерлинга, и он детально обосновывает его, чтобы он не
выглядел как следствие его неприязни к Америке8. «В том, что касается
7 Кайзерлинг Г. фон. Америка. Заря нового мира. С. 159.
8 Чтобы правильно передать в своей книге дух американской нации, Кайзерлинг
на полтора года поселился в США и вел активную жизнь, общаясь с
представителями самых разных социальных кругов Америки. Первый вариант его книги
был опубликован в 1929 г. по-английски и имел название «America set free»
(«Америка освобожденная»). Он прямо обращался к американскому обществу (в том
числе с многочисленными публичными лекциями), убеждая всех, что свою
задачу видит не столько в том, чтобы критиковать его недостатки, сколько в том,
чтобы способствовать их преодолению; он считал, что более правильное и
глубокое понимание себя должно помочь Америке сформировать мировоззрение,
соответствовавшее ее все более определявшейся роли мирового лидера. К
сожалению, призывы Кайзерлинга были проигнорированы американским
общественным сознанием: во время пребывания в США ему неоднократно угрожали
убийством, если он не прекратит работу над книгой; в наши дни она просто за-
352
Заключение
жизни, — пишет он, — всегда и везде важны не факты, а то, что они
означают. В любых внешних рамках человек может быть как
прогрессивным, так и примитивным, как варваром, так и культурным
человеком. А в данном случае мы обнаруживаем, что как раз господствующие
идеи и идеалы современной цивилизованной Америки <...>
соответствуют не прогрессивному, а примитивному состоянию»9.
Духовная примитивность ведет к однотипности представлений,
и Кайзерлинг приводит целый ряд наглядных признаков абсолютного
господства группового сознания в американской жизни. Среди них —
отсутствие чувства интимности и желание жить «напоказ» и нравиться
всем окружающим. «Почти абсолютное отсутствие интимности и
всепоглощающее тотальное присутствие общества напоминает
примитивную жизнь в открытых хижинах, где господствует полное тождество
индивида со своими соплеменниками»10. Сюда же можно отнести, как
это ни покажется странным, и стремление к абсолютной
рационализации и даже механизации жизни. Эта характеристика примитивности
станет понятной, если мы учтем, что человек развитой духовной жизни
прекрасно понимает значение интуитивного и иррационального, ведь
бесконечность духа не может быть уложена в конечные рациональные
формы. Но человек, лишенный духовной жизни, стремится к простоте
и однотипности — это и есть наиболее наглядная характерная черта
жизни примитивных народов, склонных к регулированию всего и вся
с помощью ритуалов. Подобными же «ритуалами» пронизана жизнь
Америки, но только они, в отличие от складывавшихся столетиями и
религиозно обоснованных ритуалов первобытных племен, направлены
не на усложнение и дифференциацию жизни (что и означает ее прогресс,
развитие), а на унификацию и достижение максимального успеха во
внешней, материальной сфере. Это приводит к тому, что блокируются
малейшие возможности для отдельных личностей все-таки открыть
в себе духовное измерение и начать работу над ним ради большего
совершенства; параллельно с накоплением материальных ценностей
и материальным развитием нация становится все более примитивной
во внутреннем, духовном смысле: «.. .с каждым новым успешным годом
нация все больше развивается в направлении духовной слепоты»11.
малчивается — краткий биографический очерк о Кайзерлинге в английском
варианте Википедии вообще не содержит упоминания о ней.
9Кайзерлин Г. фон. Америка. Заря нового мира. С. 135.
10Тамже.С.47-48.
11 Там же. С. 177.
353
Заключение
Здесь нужно сделать одно важное замечание. Конечно, в любом
обществе и в любой нации есть духовно развитые и духовно неразвитые
люди. Но у культурных европейских наций, воспринявших
мировоззрение романтизма, в качестве одного из главных принципов
социальной организации стал приоритет духовно и культурно развитых
индивидов, т. е. тех, кто формирует интеллектуальную, культурную и
политическую элиту в обществе. По традиции она формировалась
главным образом из представителей аристократии. В XIX веке по мере
демократизации общества и развития системы образования возникла
естественная тенденция к ее расширению за счет представителей
народа. В Америке же, как утверждает Кайзерлинг, господствует прямо
противоположная тенденция, принуждающая всех быть такими же, как
человек «с улицы», не обладающий никаким духовным развитием.
Самый неожиданный вывод Кайзерлинга касается американского
понятия демократии. Нация, которая гордится тем, что в наибольшей
степени воплотила идеалы свободы и демократии, и до наших дней
приводится как образец действенности либеральных ценностей, на деле
реализовала в своем общественном устройстве самую изощренную
и своего рода «совершенную» форму тоталитаризма. Сам Кайзерлинг
не использует это понятие, которое вошло в европейский политический
дискурс только после Второй мировой войны, но оно представляется
очень точно отражающим его выводы. Нужно заметить, что понятие
«тоталитаризм» имеет разное содержание в политико-экономическом
и философском контекстах. Мы имеем в виду именно последний; для
философа тоталитаризм определяется четырьмя главными признаками:
во-первых, такая общественная система характеризуется абсолютным
преобладанием группового сознания над личным, ведущим к
унификации личностей, подавлению значения их уникальности,- во-вторых,
здесь очень эффективно осуществляется навязывание всем индивидам
одного и того же мировоззрения, которое воспринимается как
абсолютная истина и не подвергается ни малейшему сомнению; в-третьих,
люди в такой системе не желают и не могут понять, что другие
индивиды и народы могут иметь иное мировоззрение, иные системы
ценностей и образ жизни, чем они, поэтому они одобрительно относятся
к подавлению всякого инакомыслия в своей среде; в-четвертых, такая
система полагает себя «совершенной» и «окончательной» общественной
организацией и поэтому стремится заставить весь мир жить по тем же
образцам и нормам, по которым живет она.
О присутствии первой и самой главной черты в общественной
системе Америки уже было сказано. Обнаружить другие признаки также
354
Заключение
не составляет труда. Вновь обратимся к книге Кайзерлинга. Он
постоянно подчеркивает, что «уникальная» особенность американцев —
это отсутствие в их жизни внутреннего, духовного измерения. Но
именно развитость духа дает человеку самостоятельность мышления и
способность критической оценки агрессивно навязываемого мнения.
В американской нации именно эти качества отсутствуют: «...этот
человеческий тип должен в чрезвычайно высокой степени мыслить
посредством лозунгов. Лозунги всегда подразумевают абстракции и
поспешные обобщения. В результате человек, для которого они
составляют главную радость, очень часто проходит мимо истинного смысла
ситуации, непосредственное понимание которого составляет главное
преимущество интуитивного дара. В конечном счете такой человек
всякий раз, когда он излагает свои мысли, начинает казаться плоским
и напоминает неодушевленный механизм»12. Это ведет к тому, что
американская «демократия» оказывается требованием к абсолютной
«стандартизации» людей и их представлений о жизни: «...у так
называемой страны свободы практически нет понимания свободы мысли.
Американец по своему существу догматичен. <.. .> Возможности
стандартизации и массового внушения кажутся на американской почве
неограниченными. <.. .> подлинной душой этой стандартизации
является инстинктивная вера каждого в то, что то, что хорошо для одного,
должно быть хорошо и для всех»13.
Здесь нужно сделать еще одно замечание по поводу понятия
тоталитаризма. В качестве «классических» примеров тоталитарных систем
обычно называют сталинизм 30-х годов и немецкий фашизм. Не
вдаваясь в дискуссионную проблему правомерности объединения этих
общественных систем под одним понятием, заметим, что в них мы
имеем, так сказать, «внешний тоталитаризм», в котором источником
тотальной стандартизации образа жизни и мыслей людей является
партия, группа вождей, которая хотя и выступает от имени народа,
далеко не отражают его представлений. В этом случае существенным
для устойчивости режима является подавление самостоятельности
мышления граждан, чтобы они не могли критически оценивать
навязываемые им истины. Но поскольку эти режимы обладали сложной
идеологией, они допускали необходимость духовного развития граждан,
правда в строго определенном направлении, необходимом для
усвоения господствующего мировоззрения. Это в конце концов не могло
12 Кайзерлин Г. фон. Америка. Заря нового мир. С. 25.
13Тамже.С83.
355
Заключение
не привести к их краху. Особенно наглядно это проступает в истории
Советского Союза. Ослабление тоталитарного давления в 60-80-е годы
и существенное культурное развитие общества довольно быстро
(по историческим меркам) создало критическую массу духовно
развитых и самостоятельно мыслящих людей, вызвавших своей
деятельностью разрушение системы.
Америка дает пример совсем иной формы тоталитаризма, гораздо
более «совершенной», чем упомянутые его «классические» формы. Это
своего рода внутренний тоталитаризм, где источником тотальной
стандартизации является сам народ, каждый его представитель,
который именно в силу примитивности своей натуры, полного отсутствия
духовной глубины, не видит в себе уникальной личности и
соответственно не хочет видеть ее в другом. Стандартизация жизни и мыслей
здесь является сокровенным убеждением каждого. «Большинство
американцев хотят такого повиновения, какого до сих пор не знал ни
один солдат. <.. .> На любой суггестивный импульс американцы
реагируют как единая кооперативная организация. Но поскольку речь здесь
идет не о принуждении, а о добровольно принимаемом, ведущем
к деиндивидуализации внушении, то для умного суггестивного
воздействия вообще не существует никаких границ»14.
Такая система является абсолютно устойчивой, поскольку
тоталитарное внушение оказывается в ней добровольно принятой нормой
жизни, а не навязанным извне принципом. Это приводит к своего рода
гармонии социального действия: примитивность человека не
позволяет ему сомневаться в том, что навязывается групповым сознанием
(через средства массовой информации), а навязанная точка зрения,
требующая стандартизации и унификации, ведет к еще большей
примитивности. «Если определяющим становится дух институтов, а не
людей, то человек вынужден развиваться не по образу и подобию Божию,
а по образу и подобию промышленного предприятия. Одним этим
объясняется то, почему в Соединенных Штатах смыслом демократии
стало представление, что один человек так же похож на другой, как один
стандартный товар на другой»15.
Все сказанное хорошо иллюстрирует наличие в социальном бытии
Америки трех первых признаков тоталитаризма. Четвертый в эпоху
Кайзерлинга был не очень очевидным, однако в начале XXI века эта
черта американской идеологии является даже слишком явной. Став
14Кайзерлин Г. фон. Америка. Заря нового мир. С. 173.
15 Там же. С. 355.
356
Заключение
после Второй мировой войны лидером западного мира, Америка
к концу века, после развала Советского Союза, попыталась
распространить свой образ жизни и мыслей на все человечество; трагикомической
особенностью этого процесса является искреннее убеждение простых
американцев, что весь мир мечтает жить, как живут они, и что Америка
действительно несет окончательное счастье и процветание всем.
На деле этот процесс означал и означает постепенное воцарение того
же примитивного типа человека во всех регионах мира,
осуществляется это прежде всего через умелую перестройку системы образования,
ориентированной теперь не на формирование духовного акта
понимания, а на выработку практически полезных навыков и умений
(«компетенций»). Нужно с сожалением констатировать, что Америке в
значительной степени удалось постепенно «переделать» традиции и
ценности народов и добиться того, что многие из них стали очень похожи
на американскую нацию. Особенно печально констатировать это в
отношении европейских наций, создававших на протяжении веков
великую культуру, традиции которой они ныне уже не способны ни
развивать, ни воспроизводить, ни даже по-настоящему ценить.
Кайзерлинг предвидел такого рода развитие западного мира, об этом
говорит подзаголовок его книги. «Новый мир», который возник после
распространения американского стиля жизни на Европу и все
человечество, означает по сути наступление нового варварства. Варвары,
уничтожившие великую культуру Древнего Рима, находились и в
материальном и в духовном смысле на более низком уровне развития по
отношению к римлянам, их «варварство» было очевидно каждому.
«Новое варварство», которое ныне воцаряется в мире, привнесено в
него нацией, находящейся на вершине материального развития,
поэтому оно понятно только тем, кто сохранил приверженность
многовековой европейской культуре и знает, что дух выше материи, что
материальное благополучие ничего не значит для будущего и для выживания
человечества, если одновременно происходит катастрофическая
утрата духовного содержания. Примитивизация человеческой личности,
деградация духовного измерения в ней неизбежно ведет к деградации
всей цивилизации, рано или поздно это породит в ней процессы,
которые уничтожат ее, поскольку сложные проблемы развития могут быть
решены только в духе и духом, если же он отсутствует в людях и в
нациях, противоречия будут приобретать все более грозный и
неконтролируемый характер и в конце концов приведут к разрушительным
конфликтам. Тот факт, что этот процесс с нарастающей скоростью идет в
современном мире, очевидно каждому внимательному наблюдателю.
357
Заключение
Возвращаясь к Бергсону и историческому значению его философии,
можно сказать, что современная эпоха по своим представлениям и
тенденциям является полной противоположностью тому идеалу
открытого общества, о котором как о высшей цели человеческого
развития пишет французский мыслитель. Достигнув невиданного
материального комфорта, будучи оснащенным самыми современными
техническими достижениями, современный западный человек по
своему духовному, внутреннему развитию вернулся в состояние
«первобытности». Сопоставляя рассуждения Кайзерлинга об общественном
сознании Америки с главами книги «Два источника морали и религии»,
в которых рассматривается «образцовый» вариант закрытого общества,
относимый Бергсоном к первобытным и примитивным сообществам,
невозможно не заметить сходства размышлений двух мыслителей.
Возможно, в этом сказывается прямое влияние Бергсона, книга которого
была издана девятью годами раньше книги Кайзерлинга, а возможно,
это сходство является всего лишь результатом точного анализа
реальных тенденций развития западной цивилизации, которые привели ее
к состоянию, мало чем отличающемуся, в отношении духовного
развития человека, от состояния первобытного общества.
Бергсон, как и его великие немецкие современники О. Шпенглер
и Г. Кайзерлинг, жили в момент трагического перелома, когда
европейская цивилизация из эпохи самого богатого и плодотворного
духовного развития (XIX век) перешла в эпоху полного господства
материальных ценностей и духовной деградации, вызванной окончательной
победой американского просветительского мировоззрения. Сейчас
трудно определить, мог ли предположить Бергсон, критикуя
современные ему формы тоталитаризма, что последняя и самая изощренная его
форма придет именно из той страны, которая представляет себя
светочем свободы и демократии. Но в финале своей книги «Два источника
морали и религии» он с тревогой говорит о всё большем засилье
материальных ценностей и призывает к добровольному ограничению этой
сферы жизни ради более богатого развития духовной культуры. В этом
смысле он не мог не предполагать того варианта развития, который стал
реальностью после Второй мировой войны.
В наши дни еще не вполне ясно, достигла ли западная цивилизация
низшей точки своего духовного упадка, или у нее впереди новые стадии
«варварства»; в любом случае переживаемая Западом эпоха не является
«эпохой Бергсона», это не то время, когда его идеи могут стать понятыми
и востребованными, тем более невозможно говорить об исполнении его
пророчества о «божественном человечестве», к которому реальное че-
358
Заключение
ловечество должно приблизиться в конце истории. Скорее, сейчас
можно говорить о том, что исполнились те негативные пророчества, которые
еще в XIX веке высказывали русские критики Запада (см. раздел 2.1).
Однако мыслитель, который утверждал, что подлинное
предназначение человека (любого и каждого человека!) состоит в том, чтобы стать
мистиком, добиться непосредственного, прямого соединения с Богом
и стать «орудием» божественного действия в мире, сам не мог не быть
мистиком и пророком, поэтому мы должны верить его оптимизму, его
видению иной, грядущей эпохи, в которую упадок цивилизации и
духовный кризис человеческой личности сменится подъемом,
возникновением нового общества, состоящего из духовно развитых и творческих
индивидов. Поэтому задача тех, кто остается приверженным ценностям
великой европейской культуры, состоит по крайней мере в том, чтобы
сохранить наследие Бергсона, защитить его от искажений, вносимых
современными «интерпретаторами», и попытаться сделать подлинный
смысл его идей понятным и доступным для всех, кто разделяет те же
вечные ценности духовной культуры. В нынешних условиях у нас не
остается ничего иного, как верить, что эти усилия приблизят указанную
грядущую эпоху, в которую идеи Бергсона вместе с идеями других
великих европейских и русских мыслителей снова станут основой
общественного мировоззрения и будут определять отношение людей друг
к другу, к окружающему миру и к Богу.
Научное издание
Евлампиев Игорь Иванович
АНРИ БЕРГСОН: ФИЛОСОФИЯ ГРЯДУЩЕЙ ЭПОХИ
Директор издательства А. А. Галат
Корректор А. А. Борисенкова
Компьютерная верстка Е. М. Денисовой
Дизайн обложки О. Д. Курта
Подписано в печать: 19.10.2020. Формат 60x90 716.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,5. Тираж 300 экз.
Заказ № 3042
Русская христианская гуманитарная академия
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 15
Тел.: (812) 310-79-29, +7(981)699-6595;
e-mail: rhgapublisher@gmail.com
http://irhga.ru
Отпечатано в типографии «Контраст»
192029 Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 38