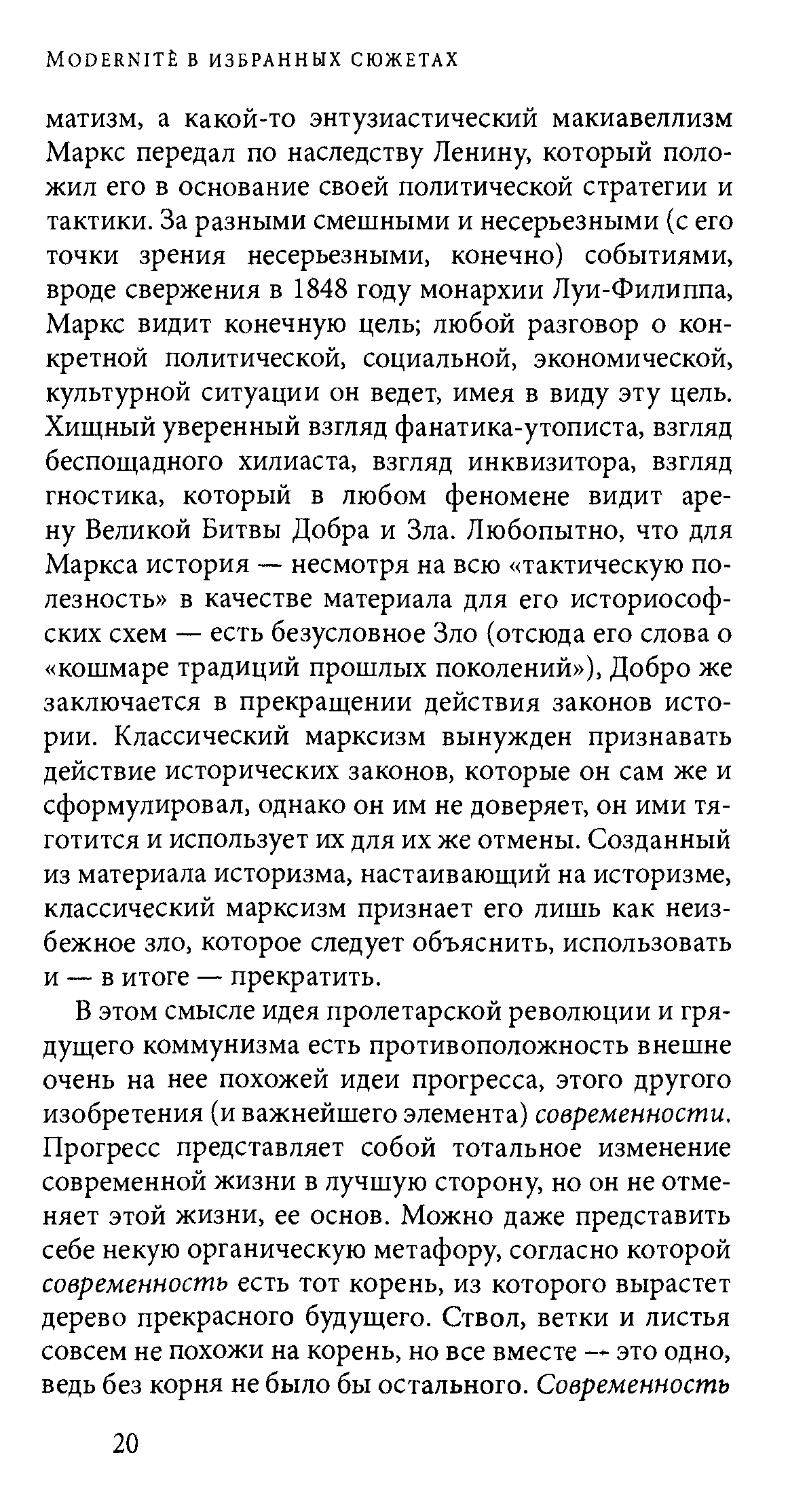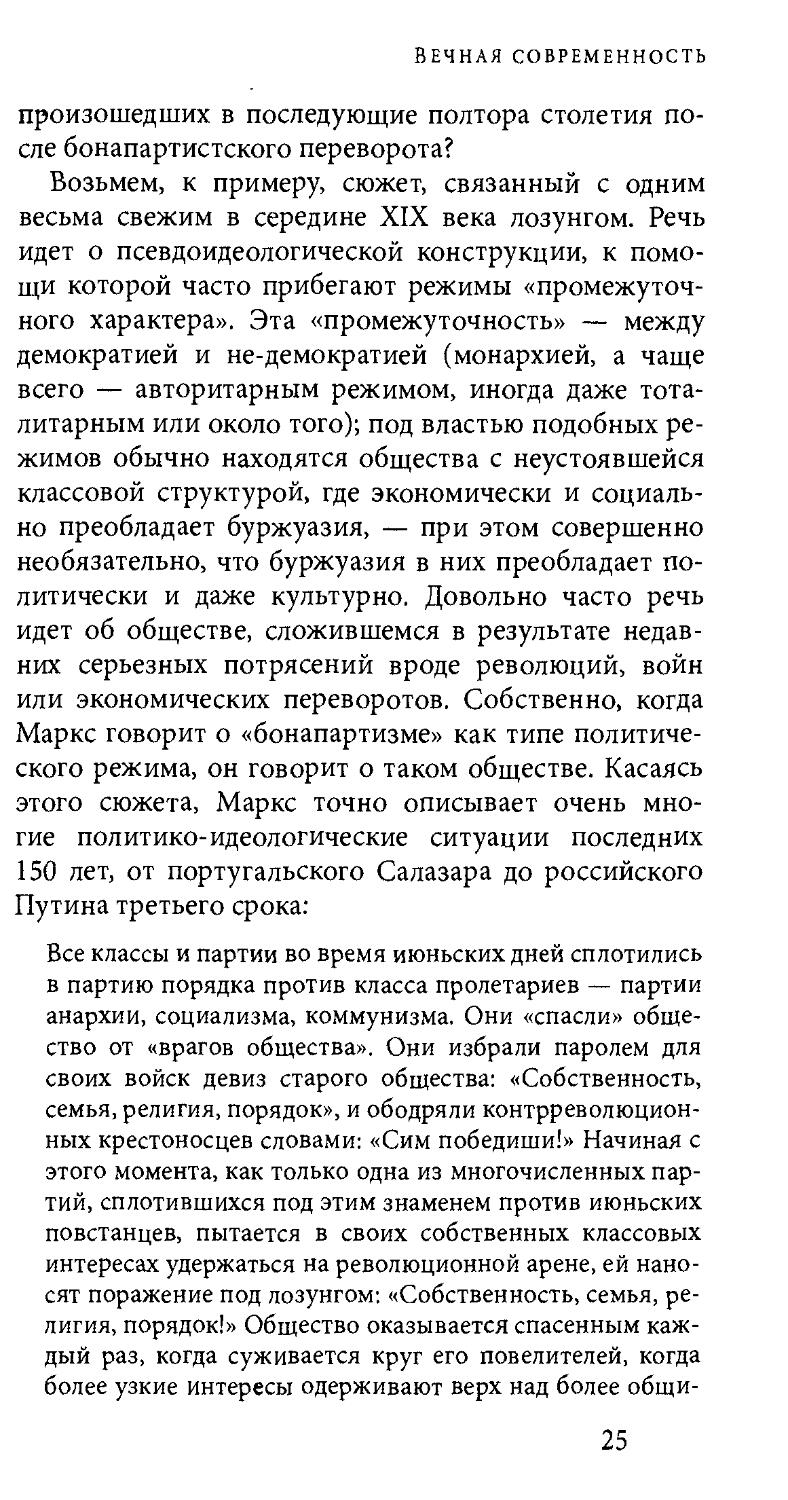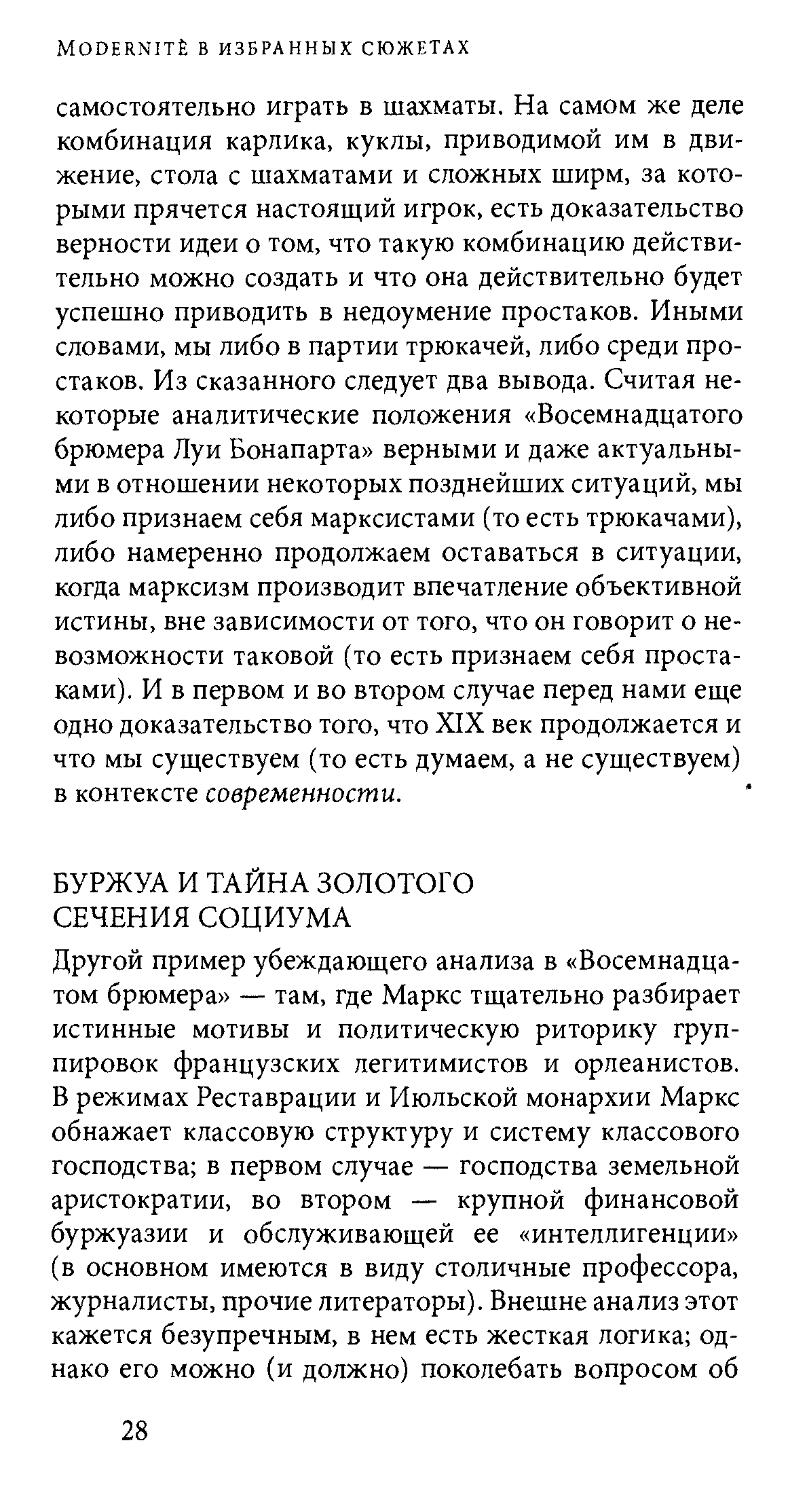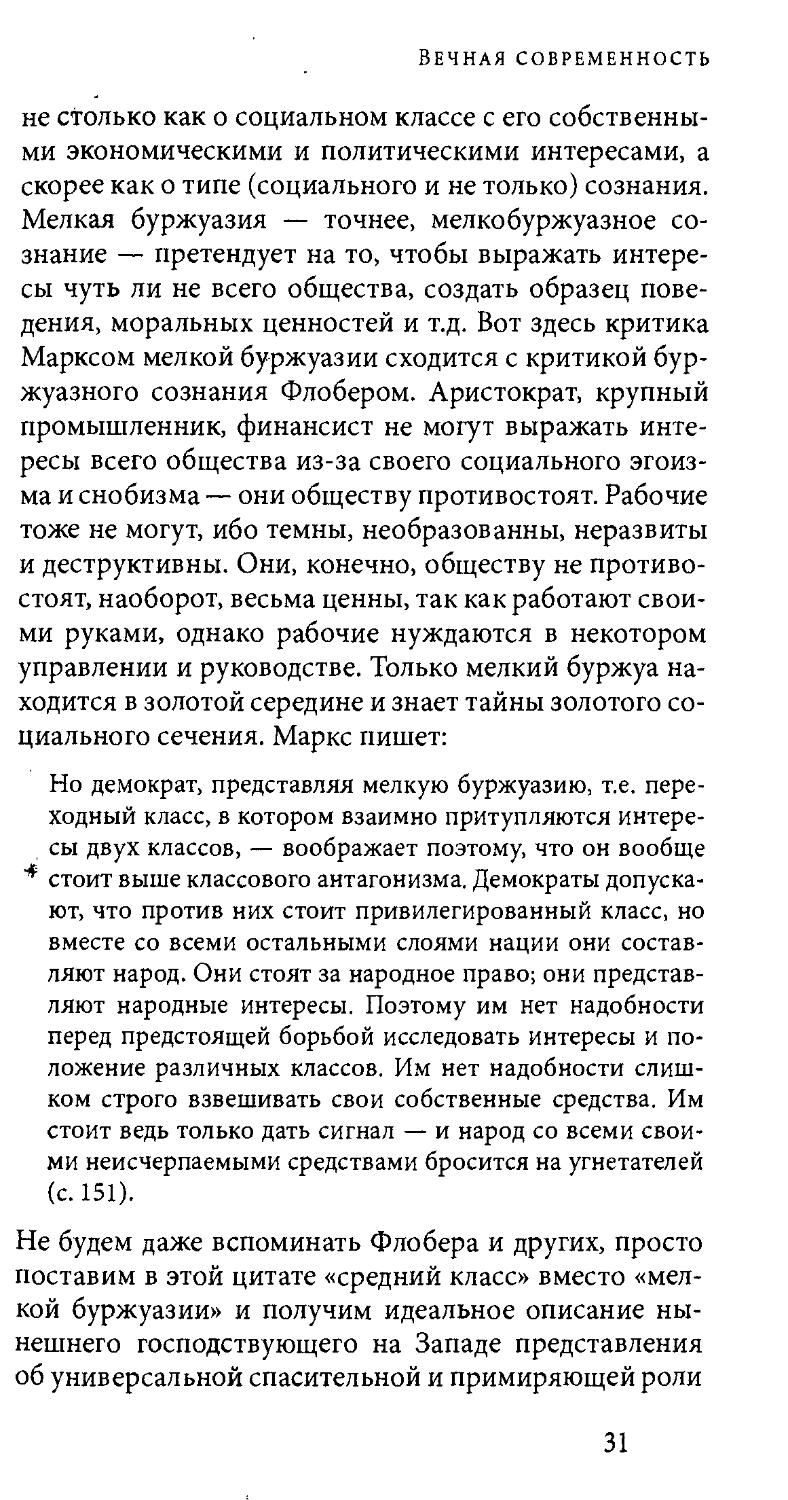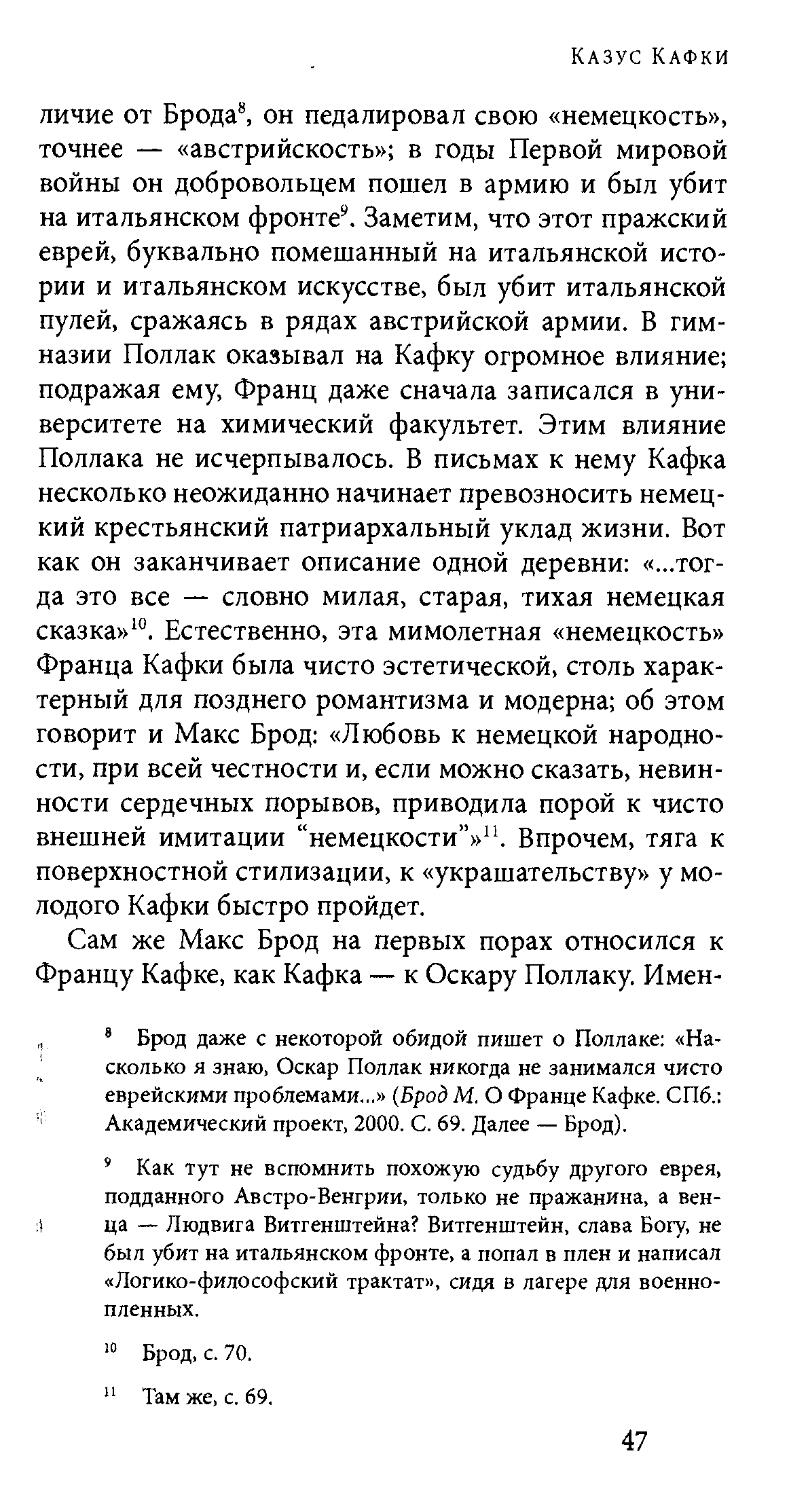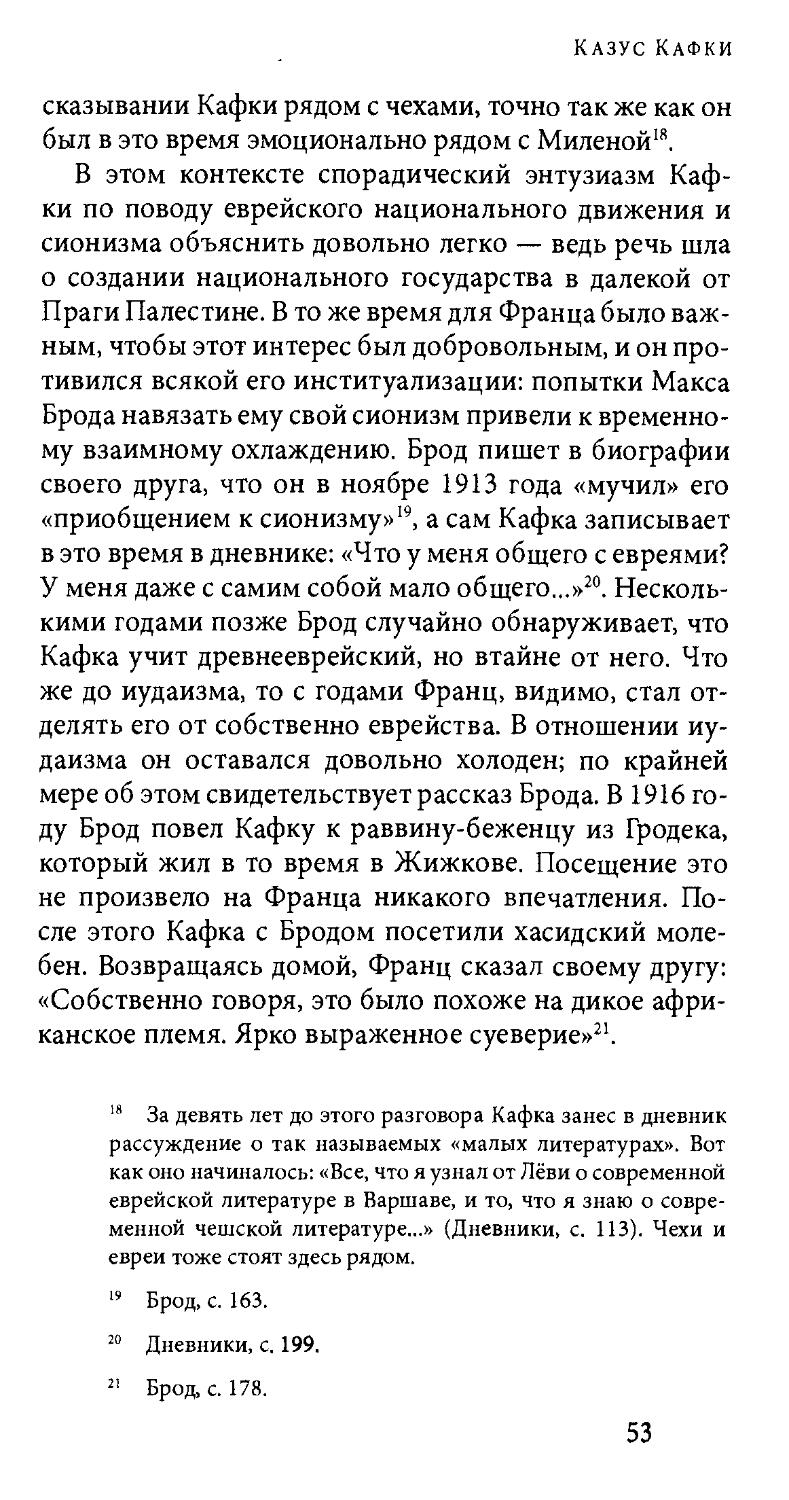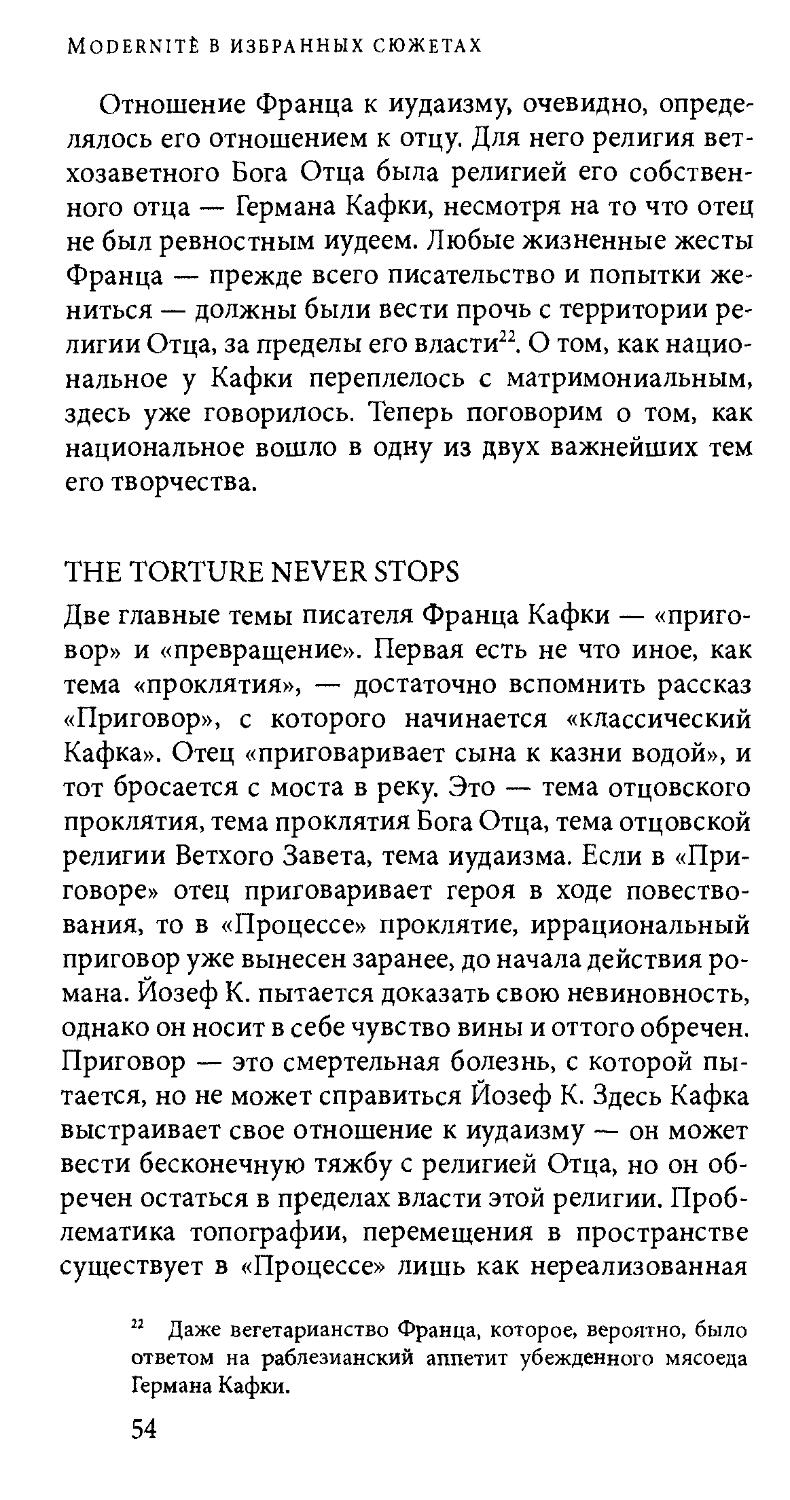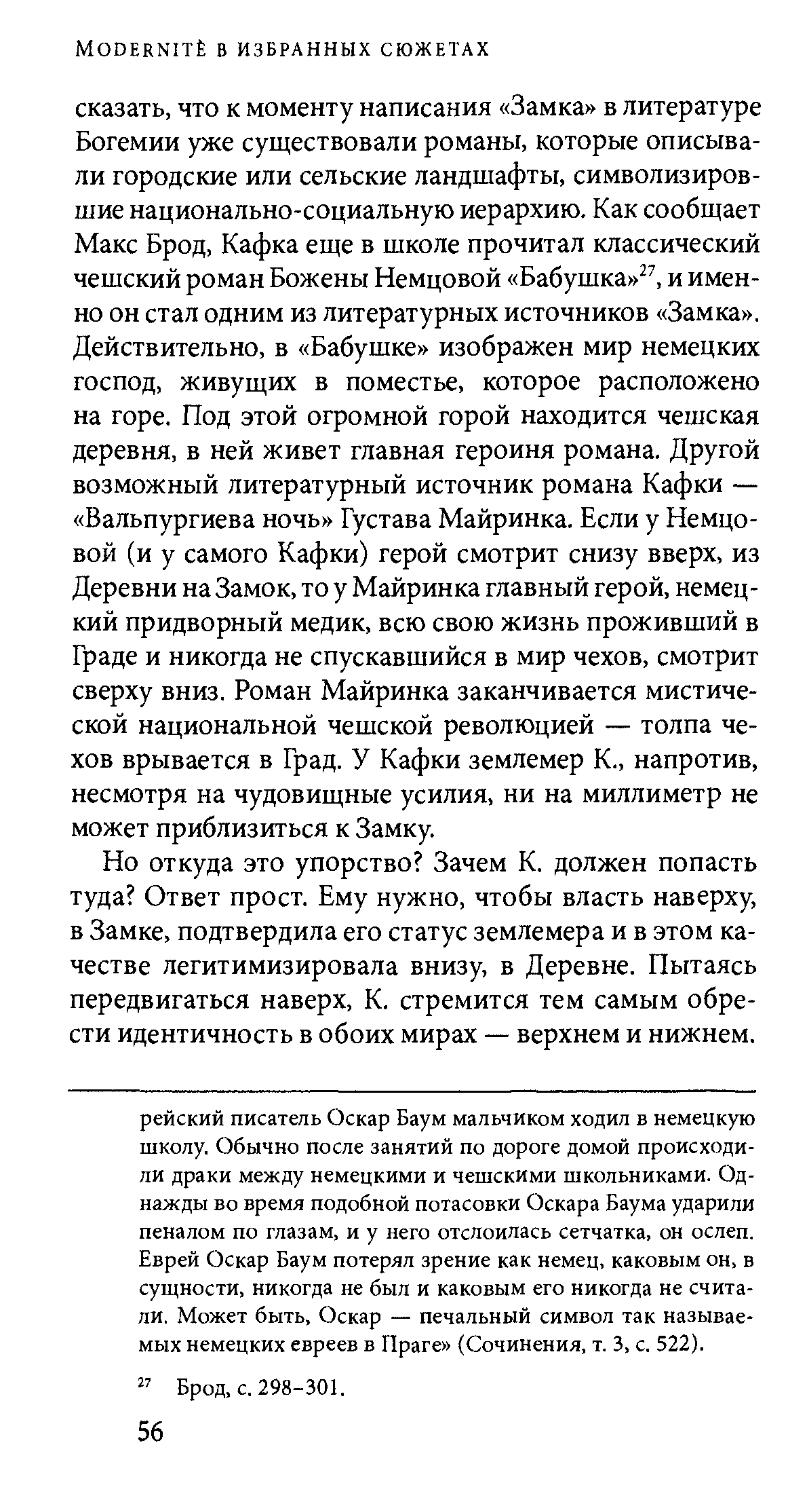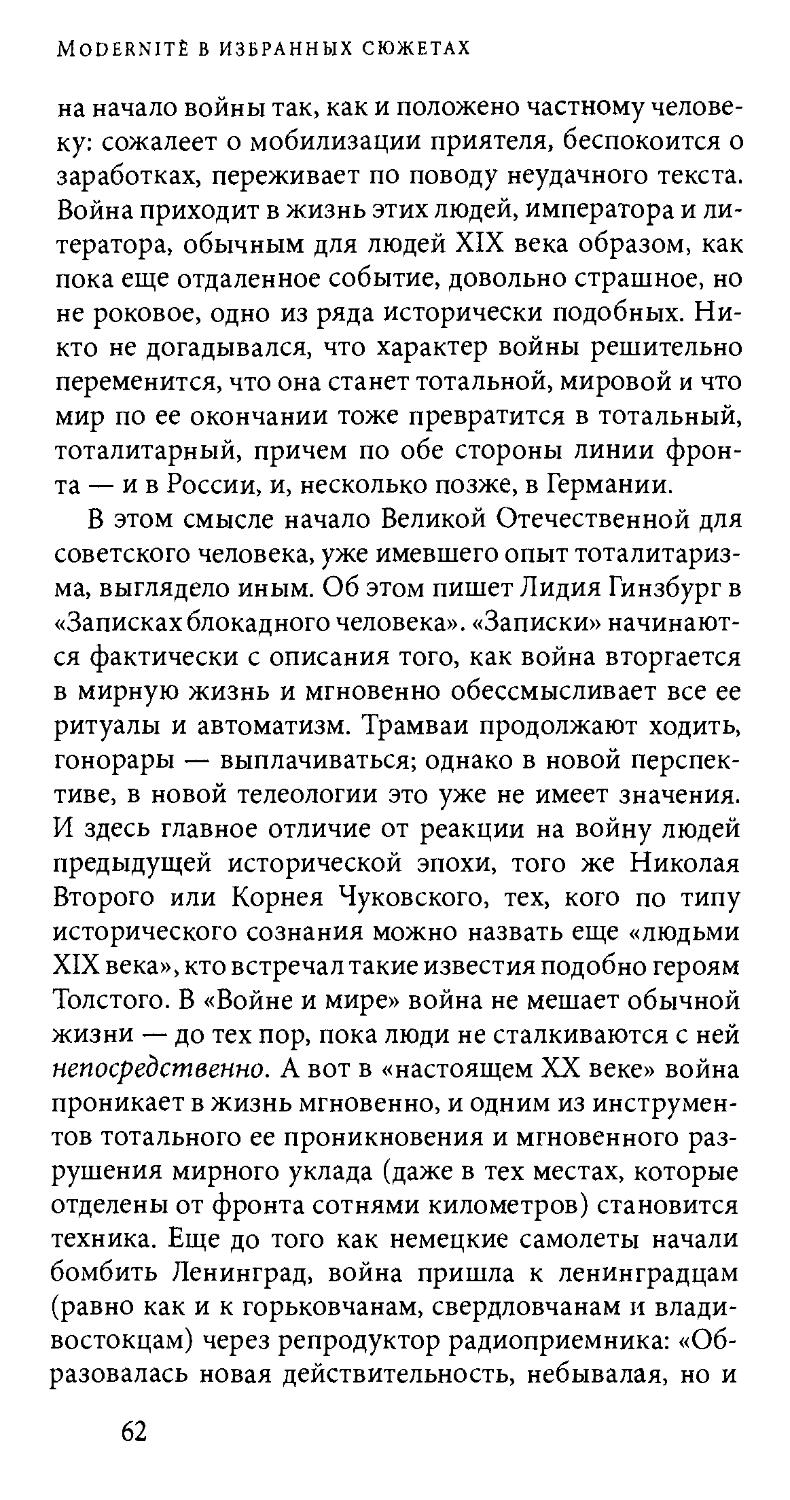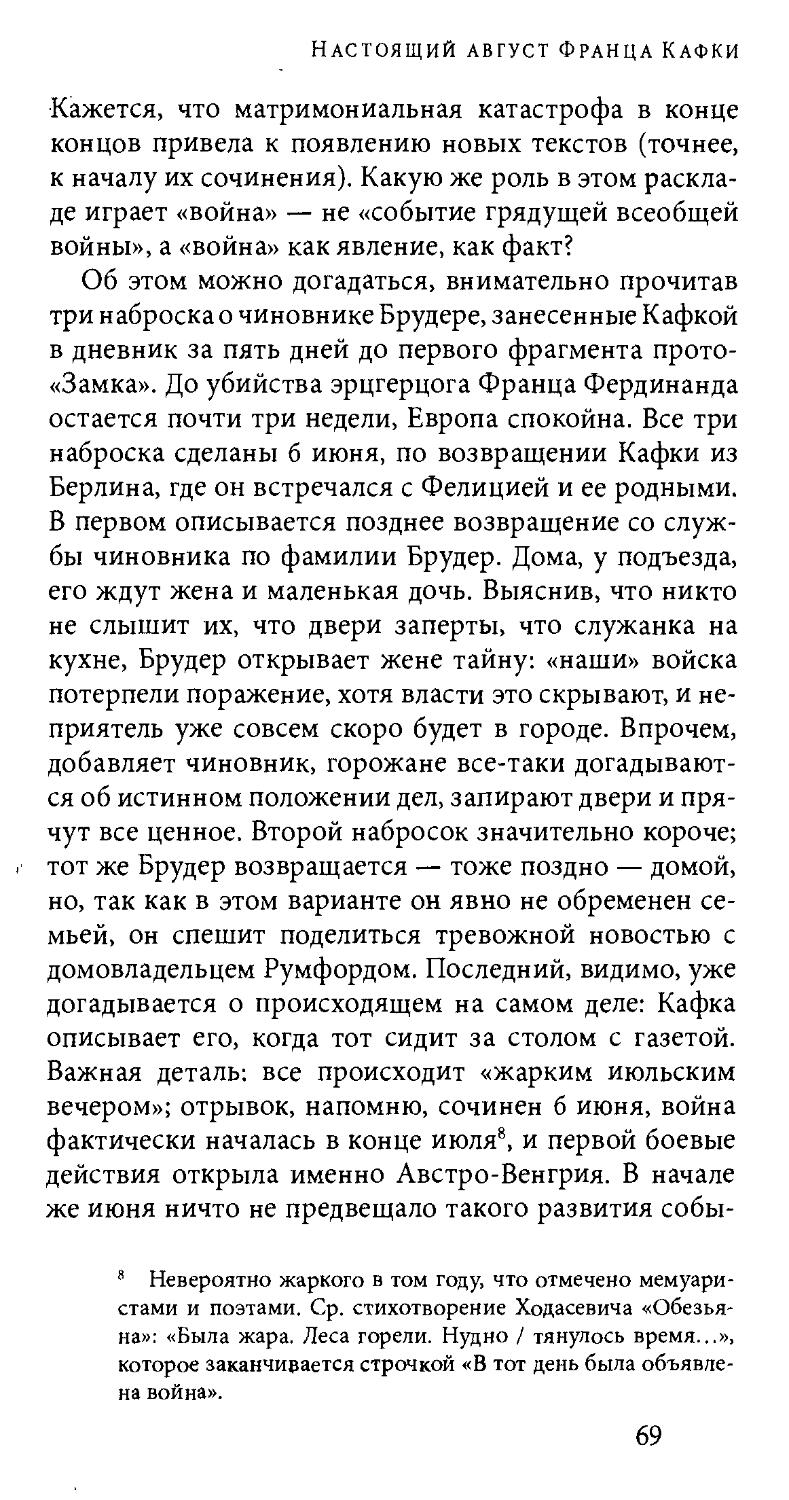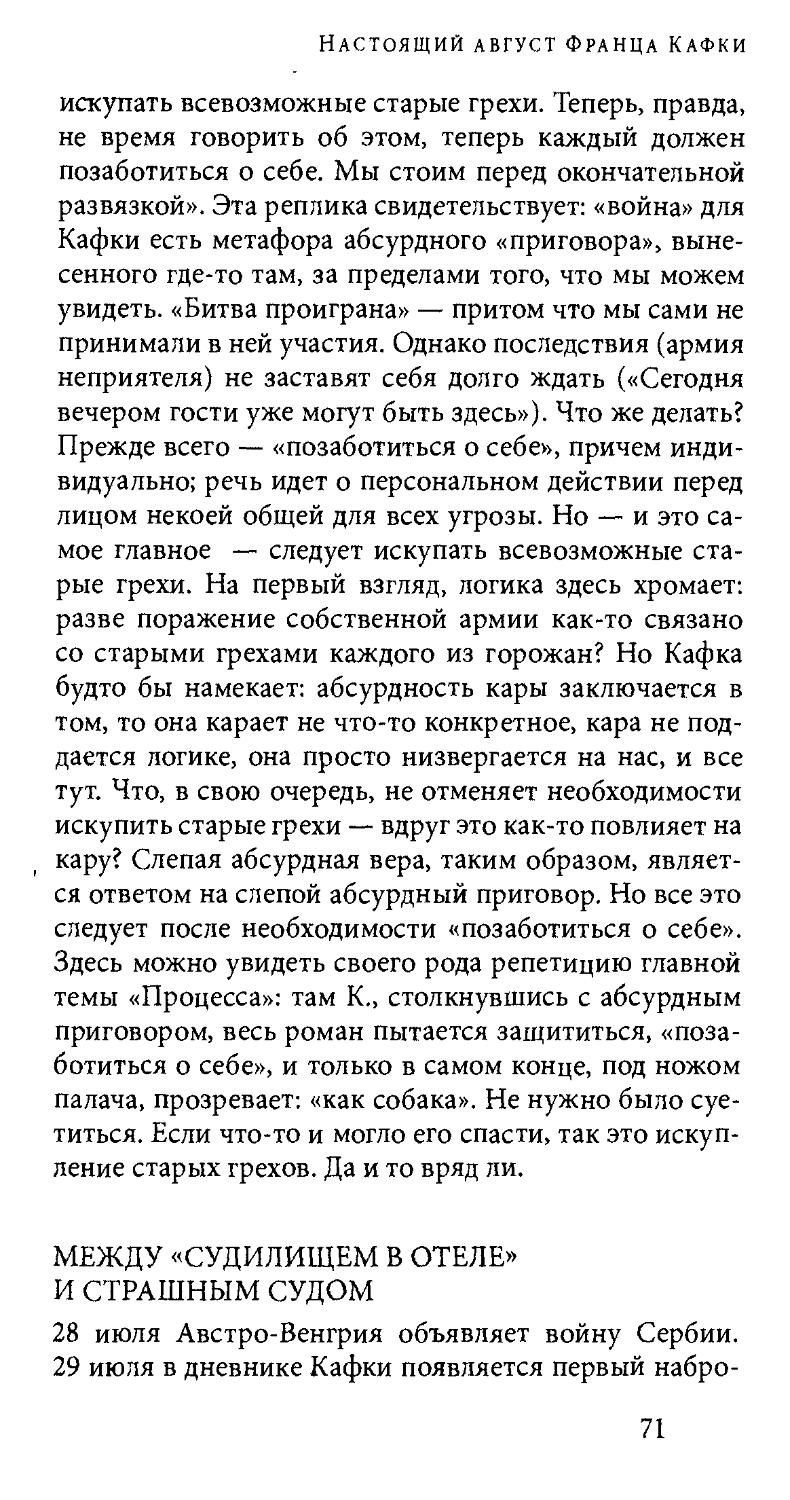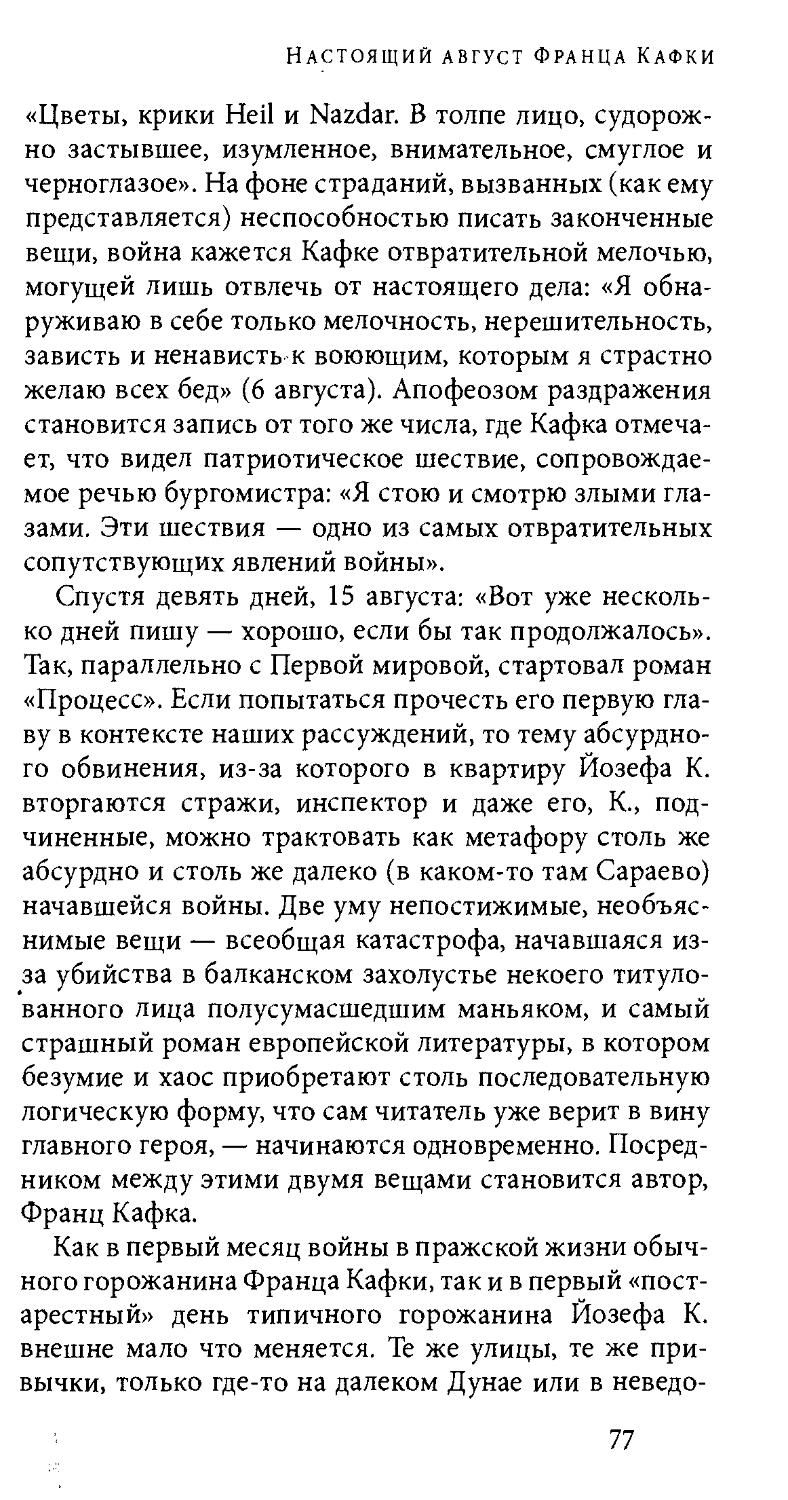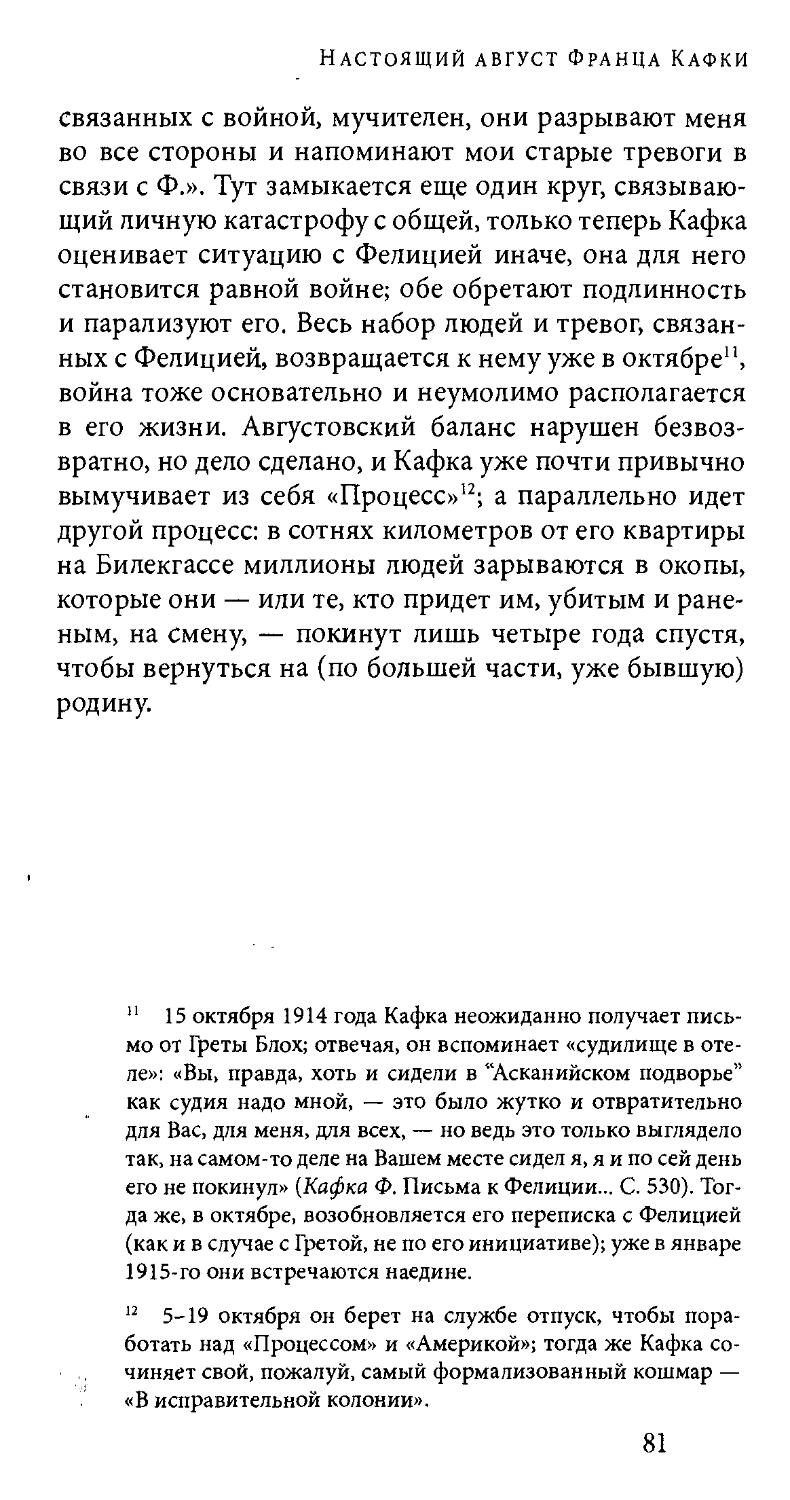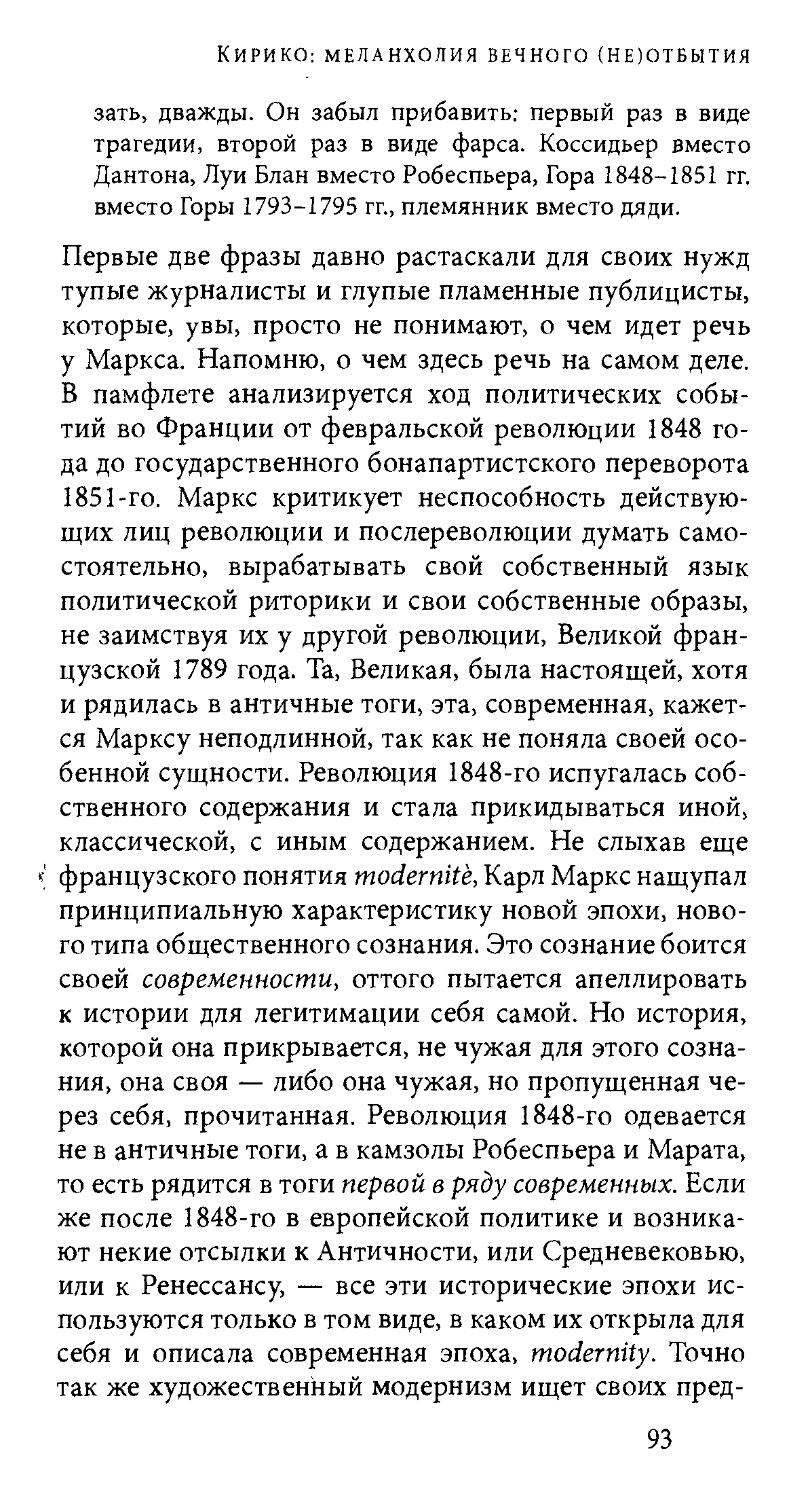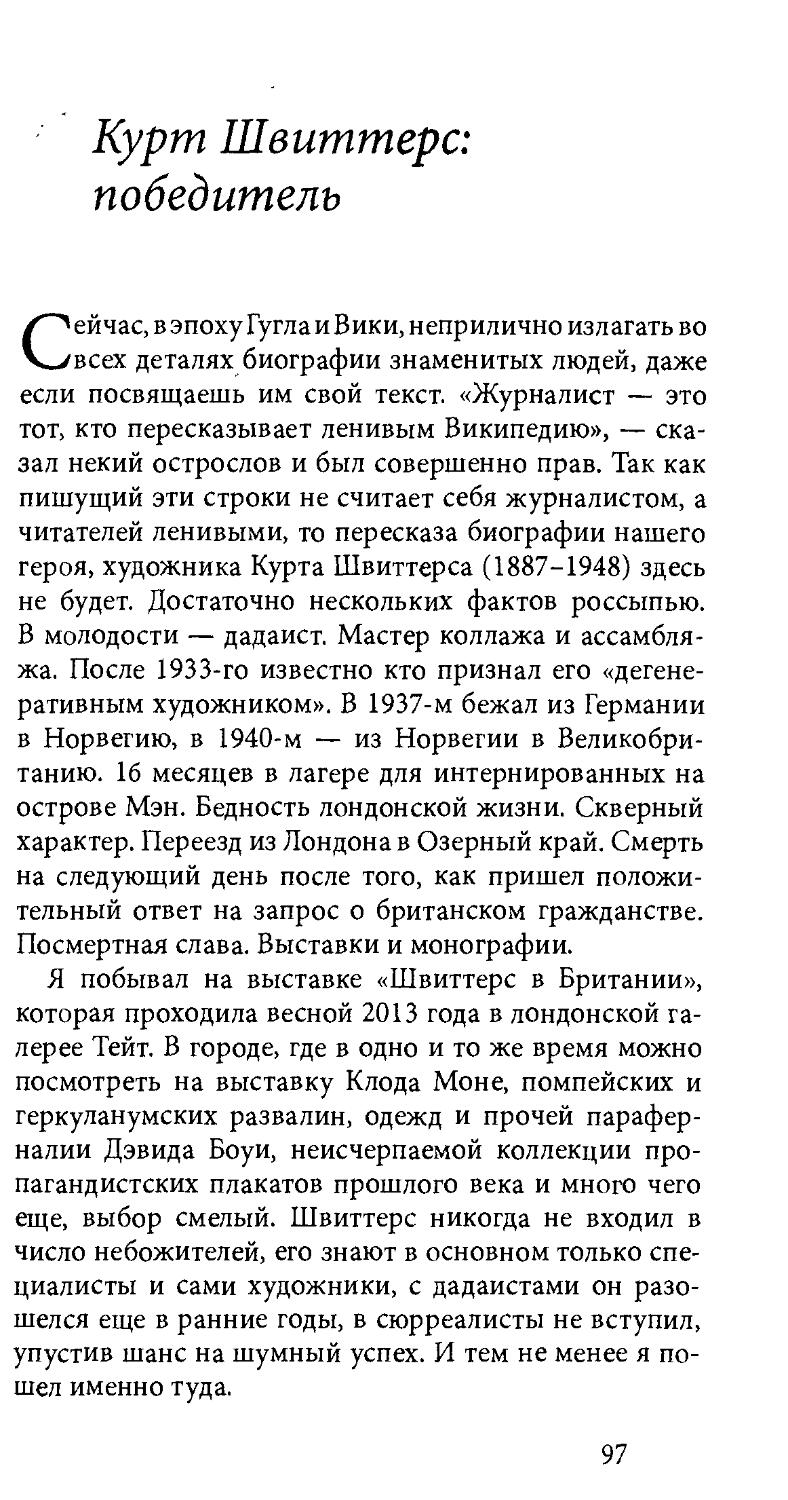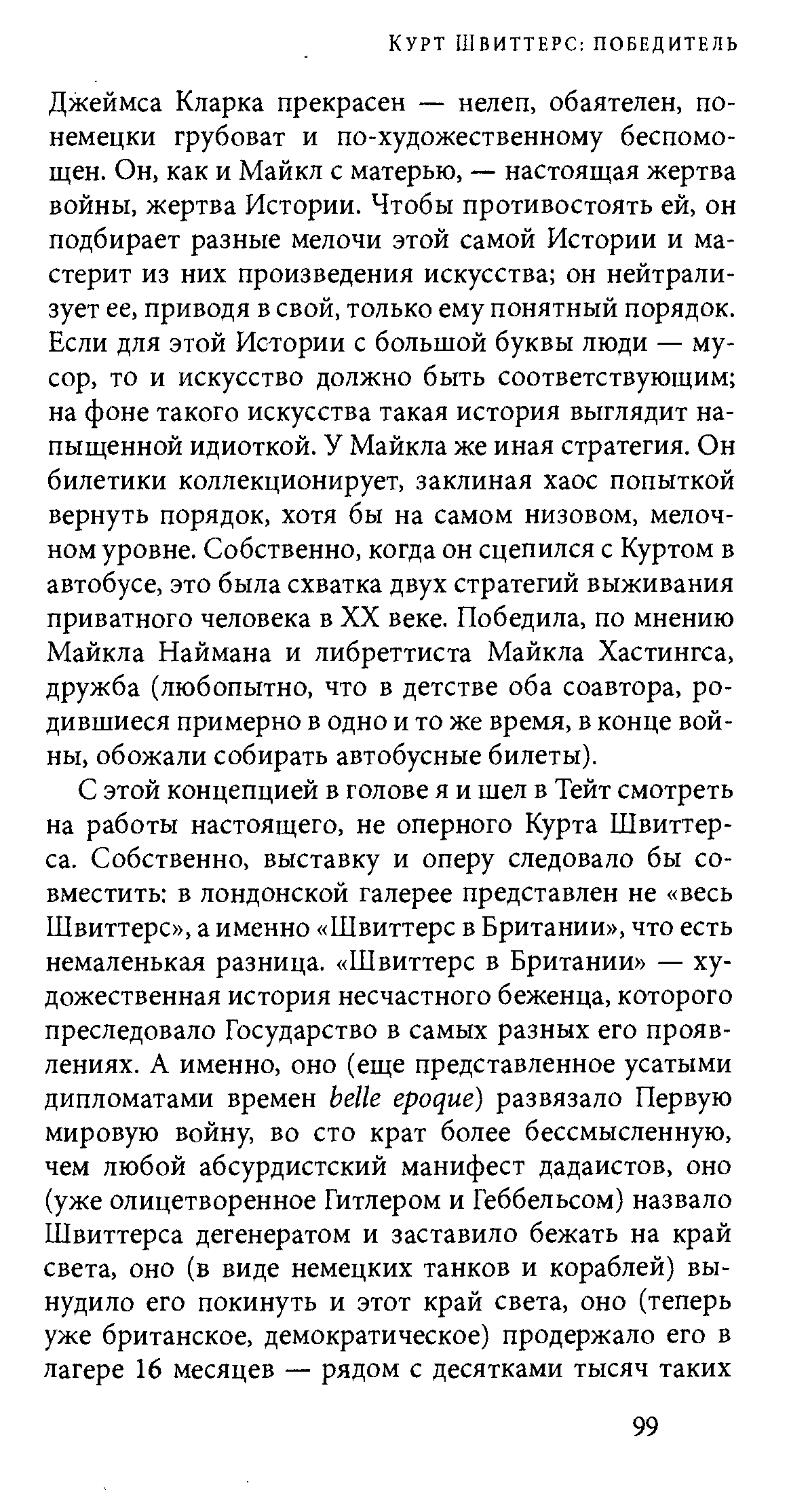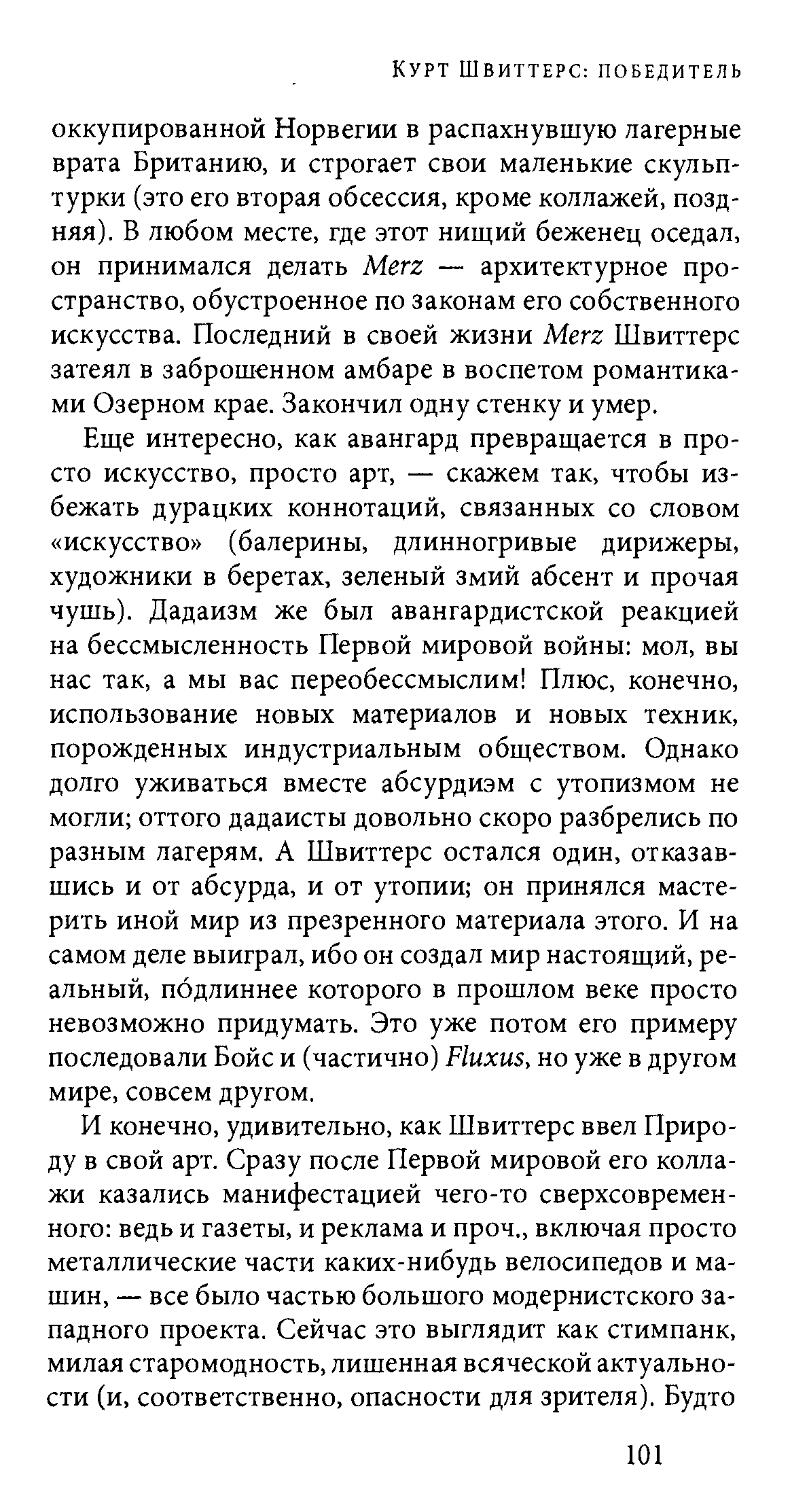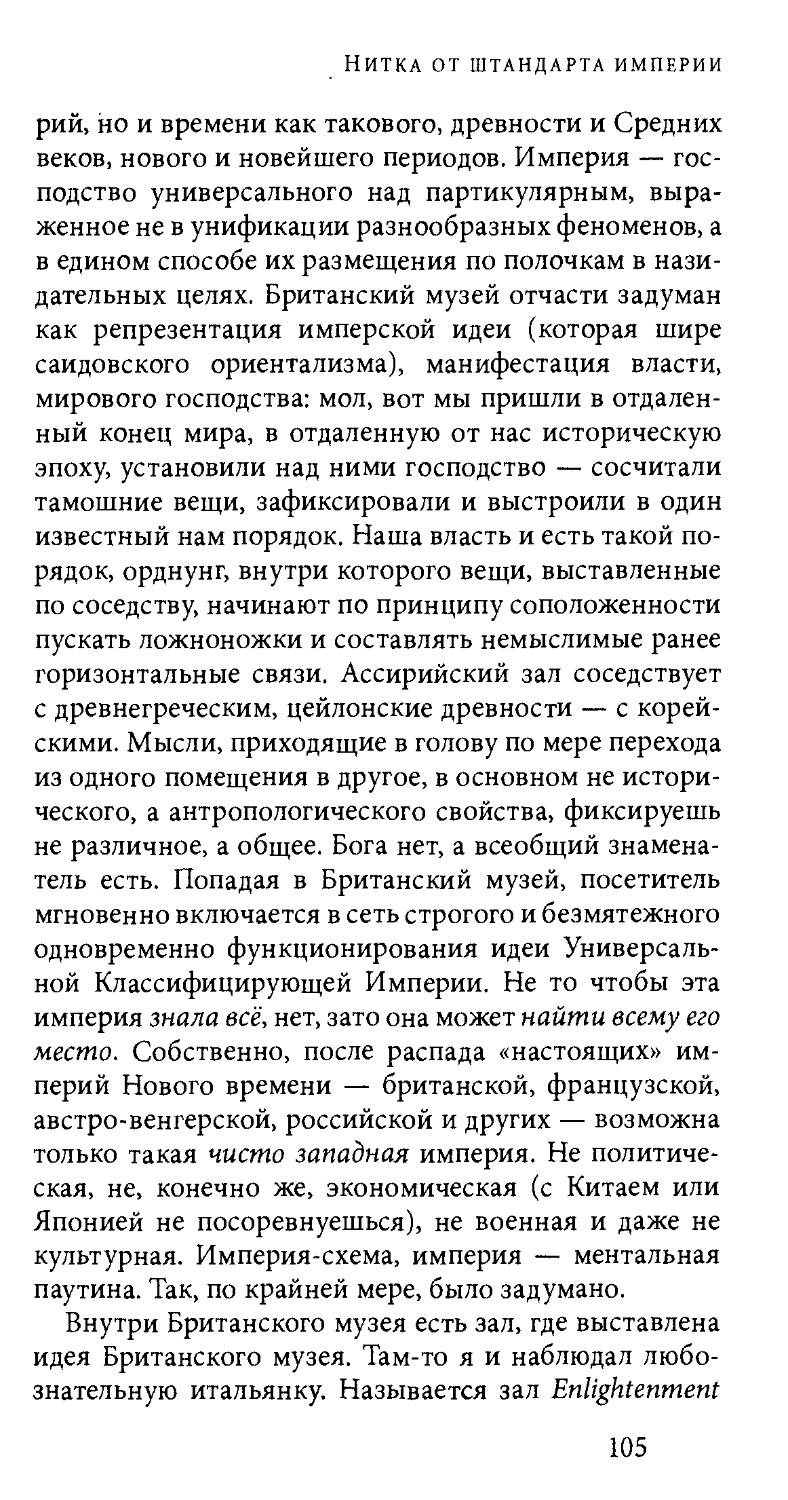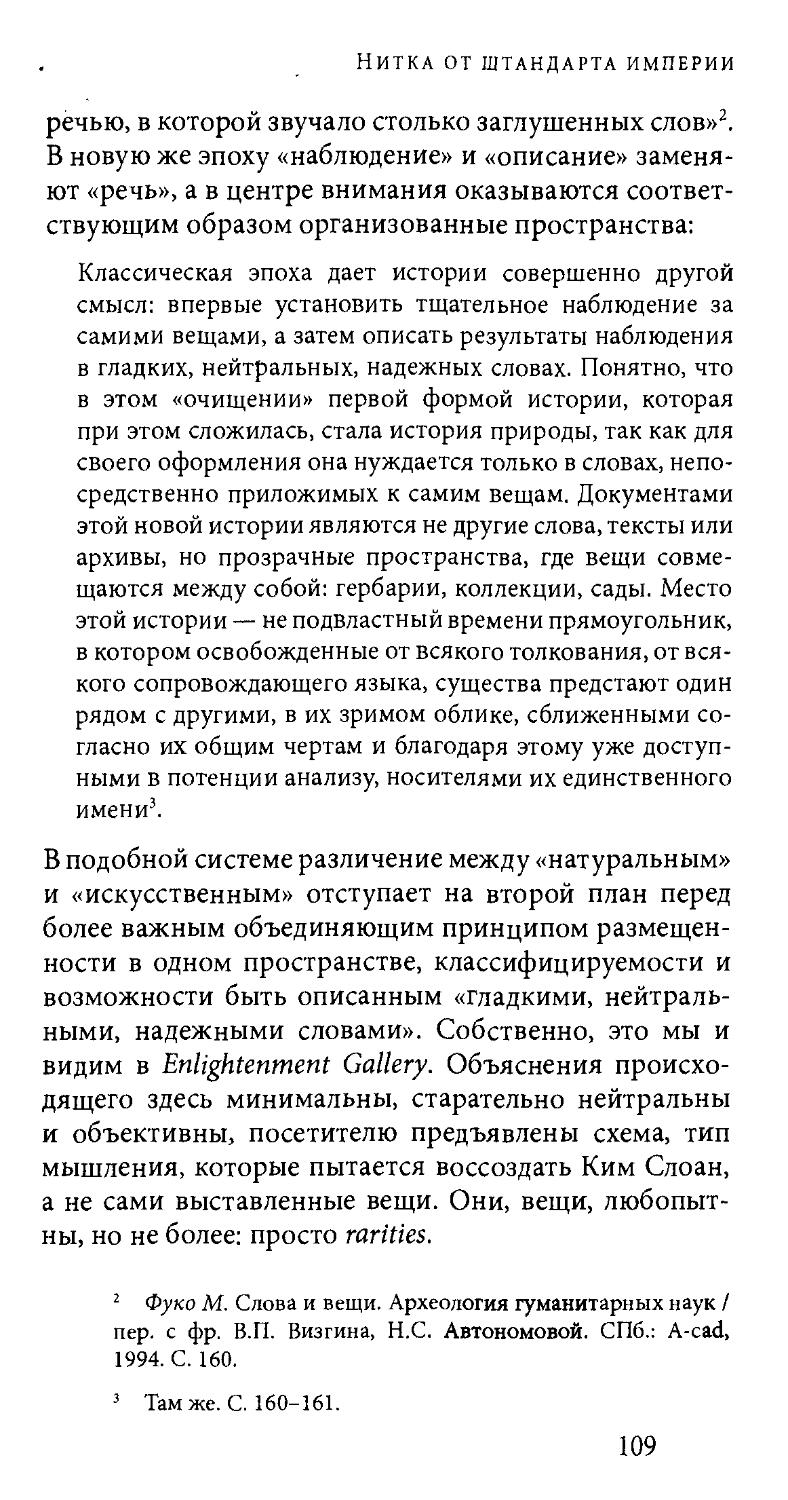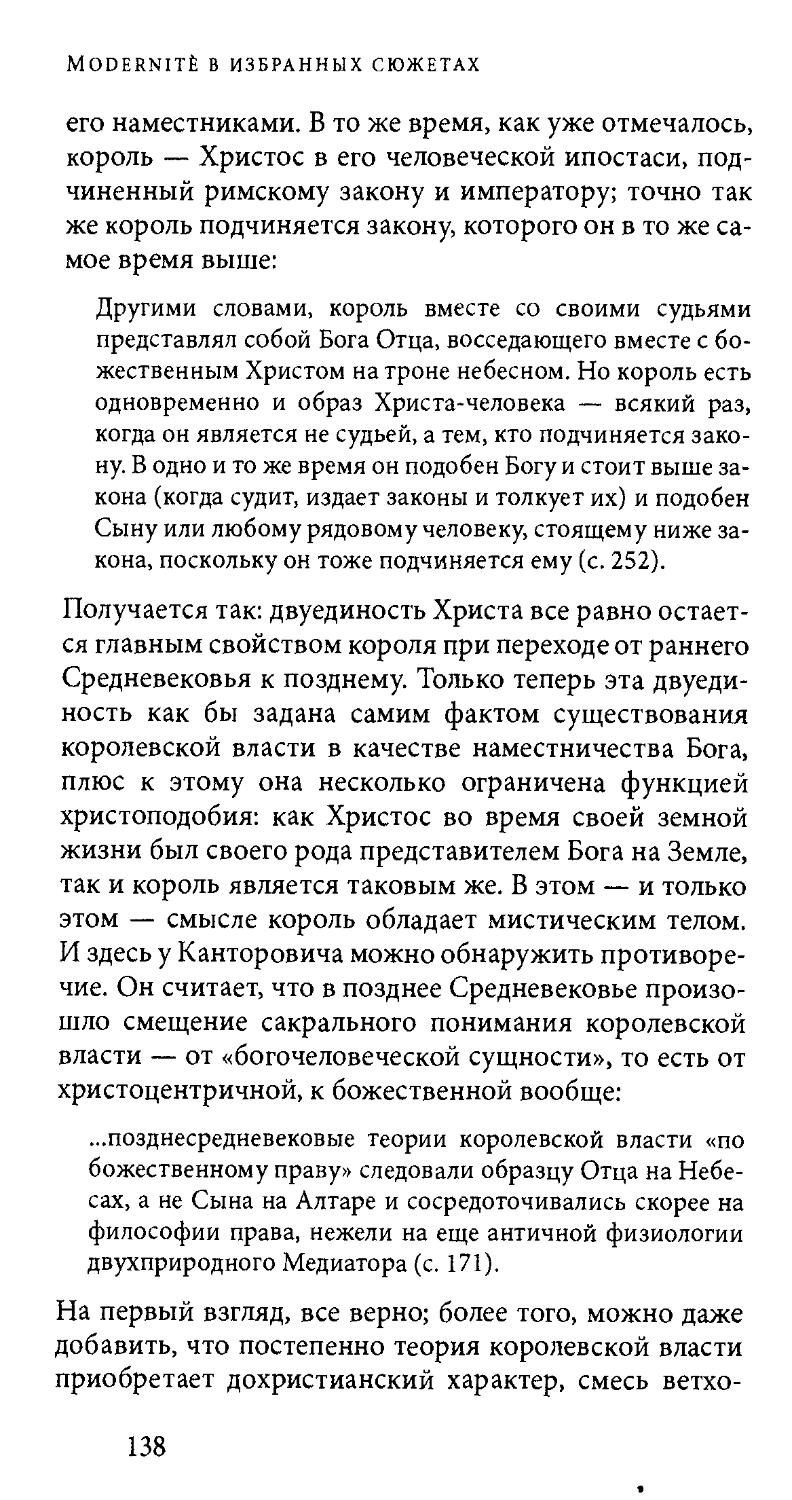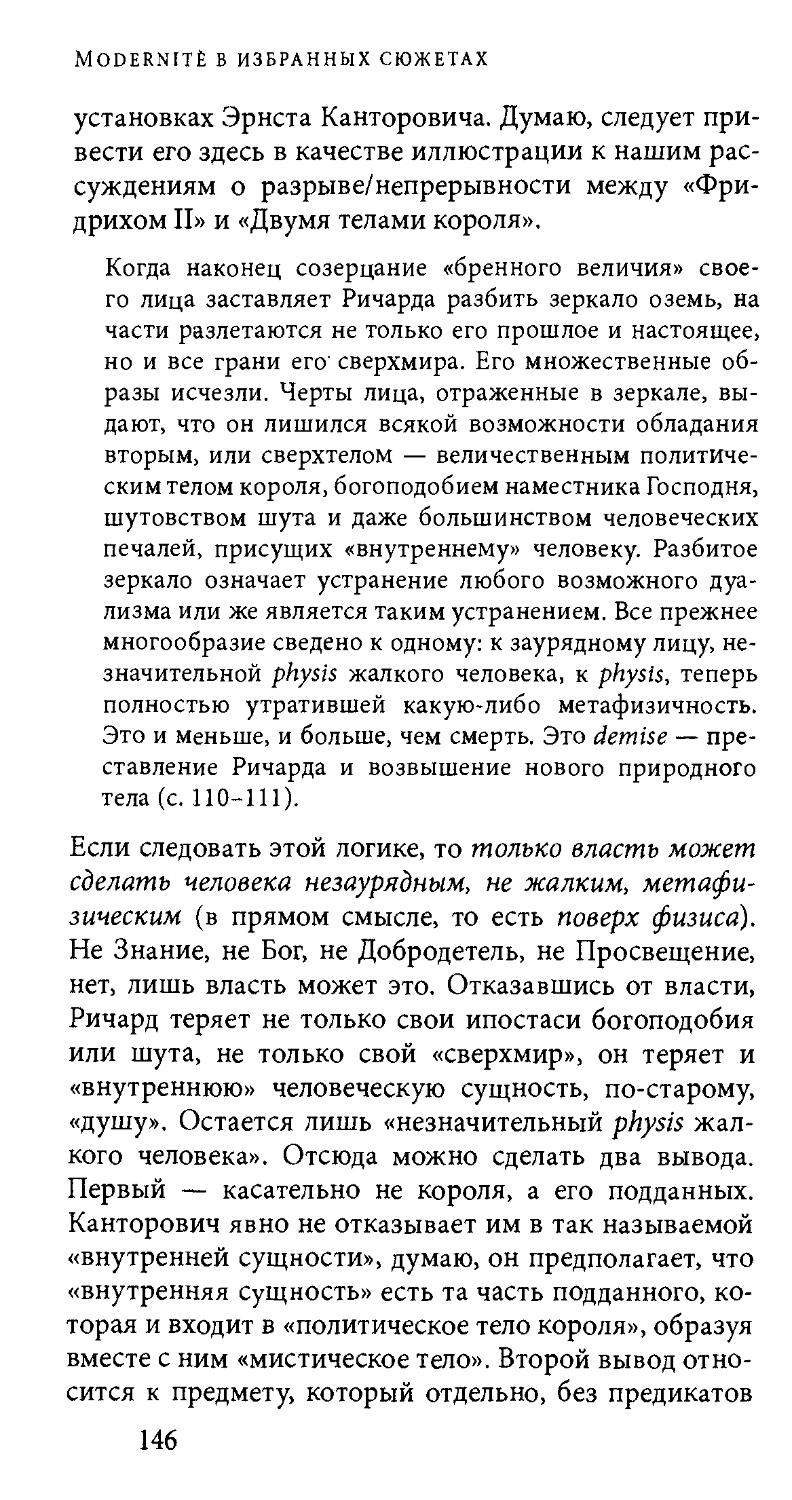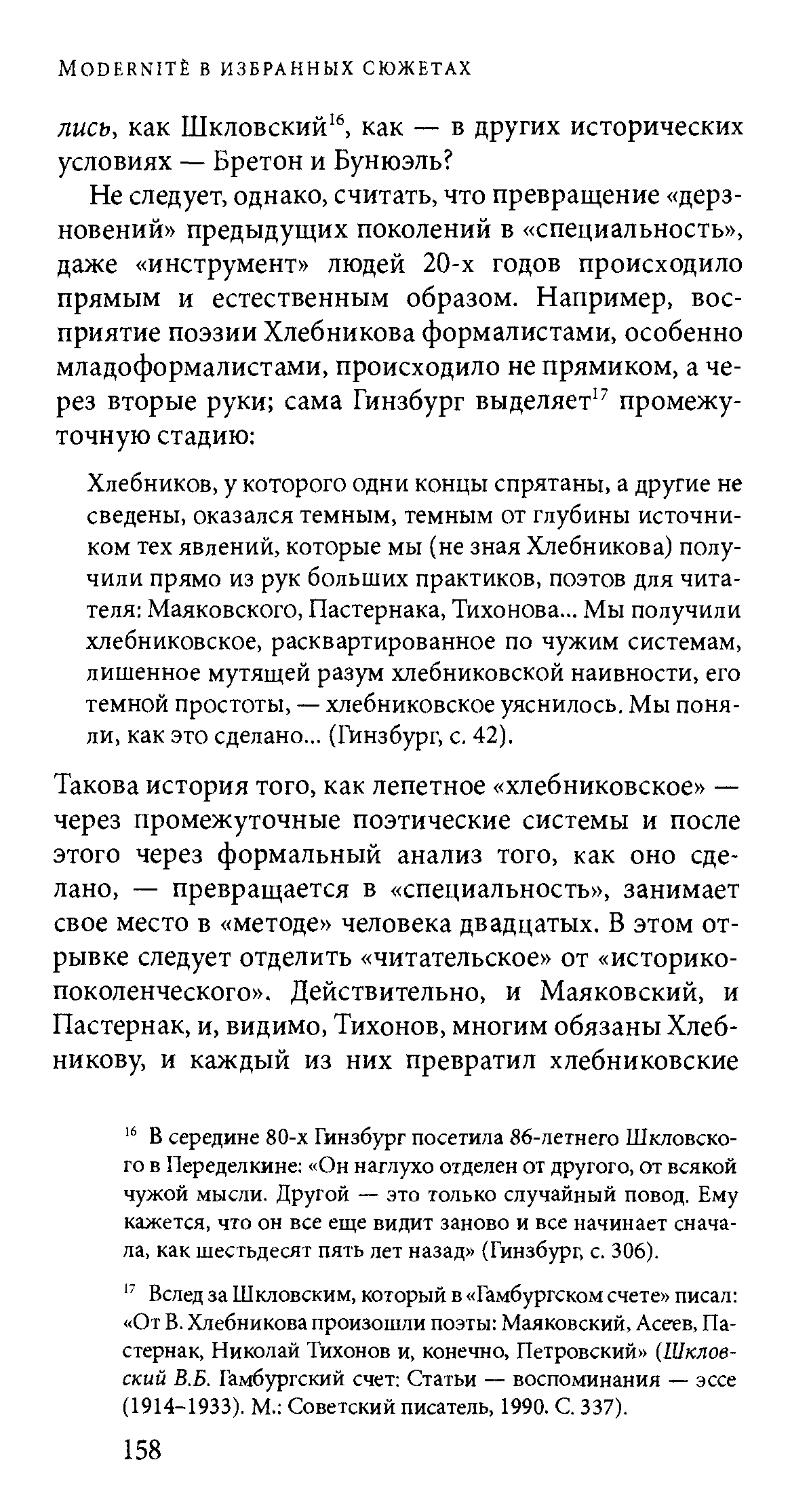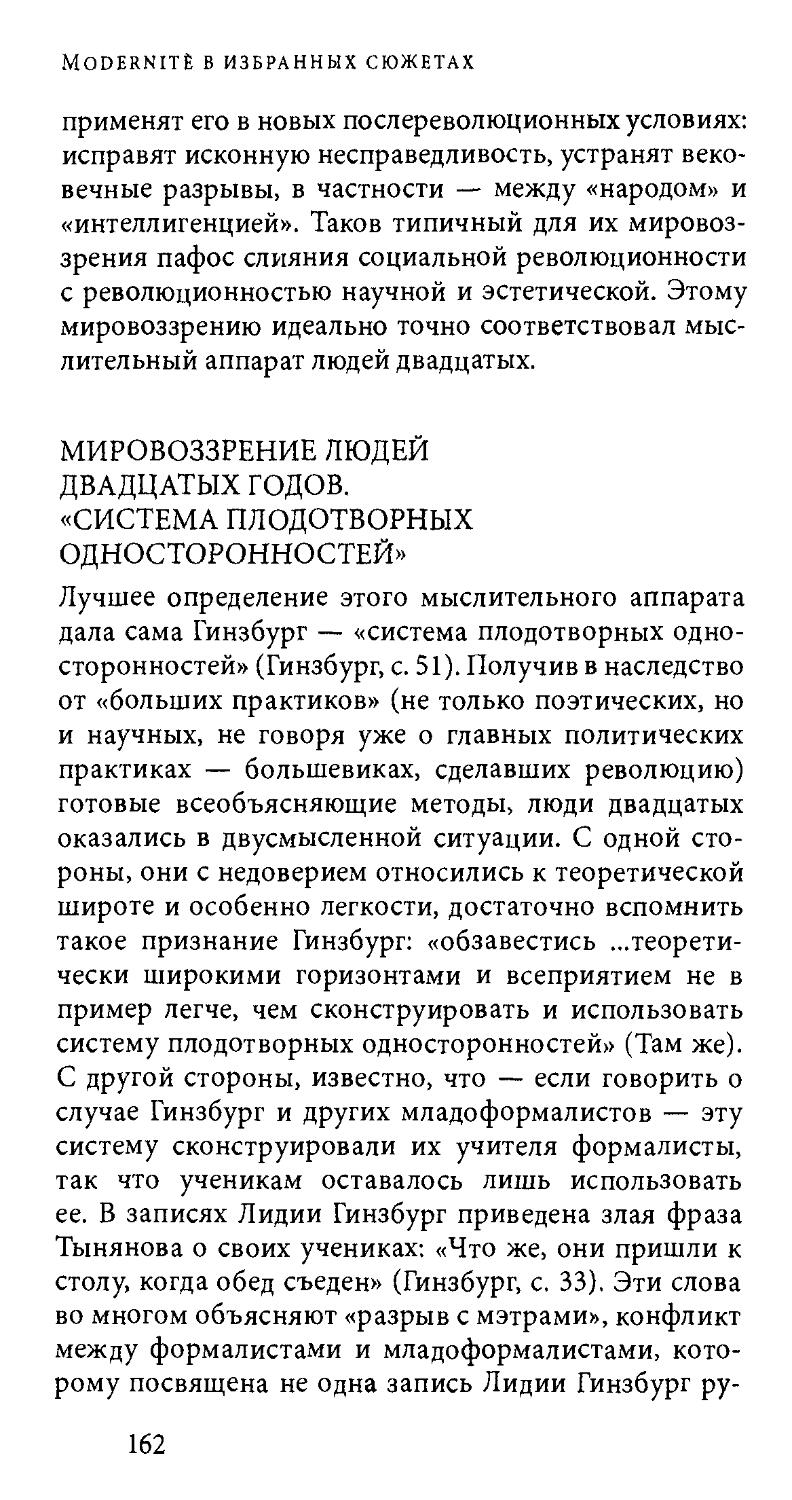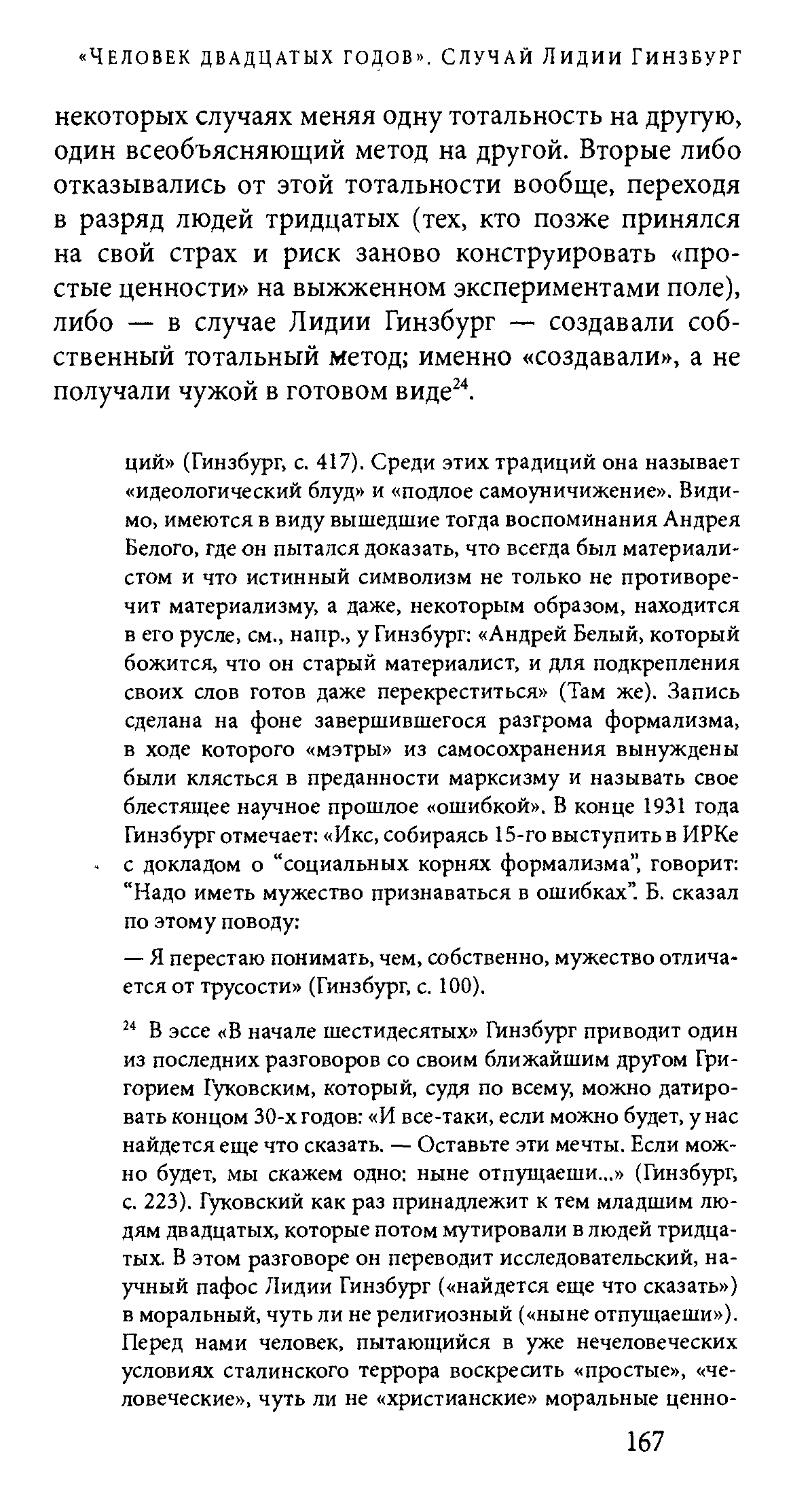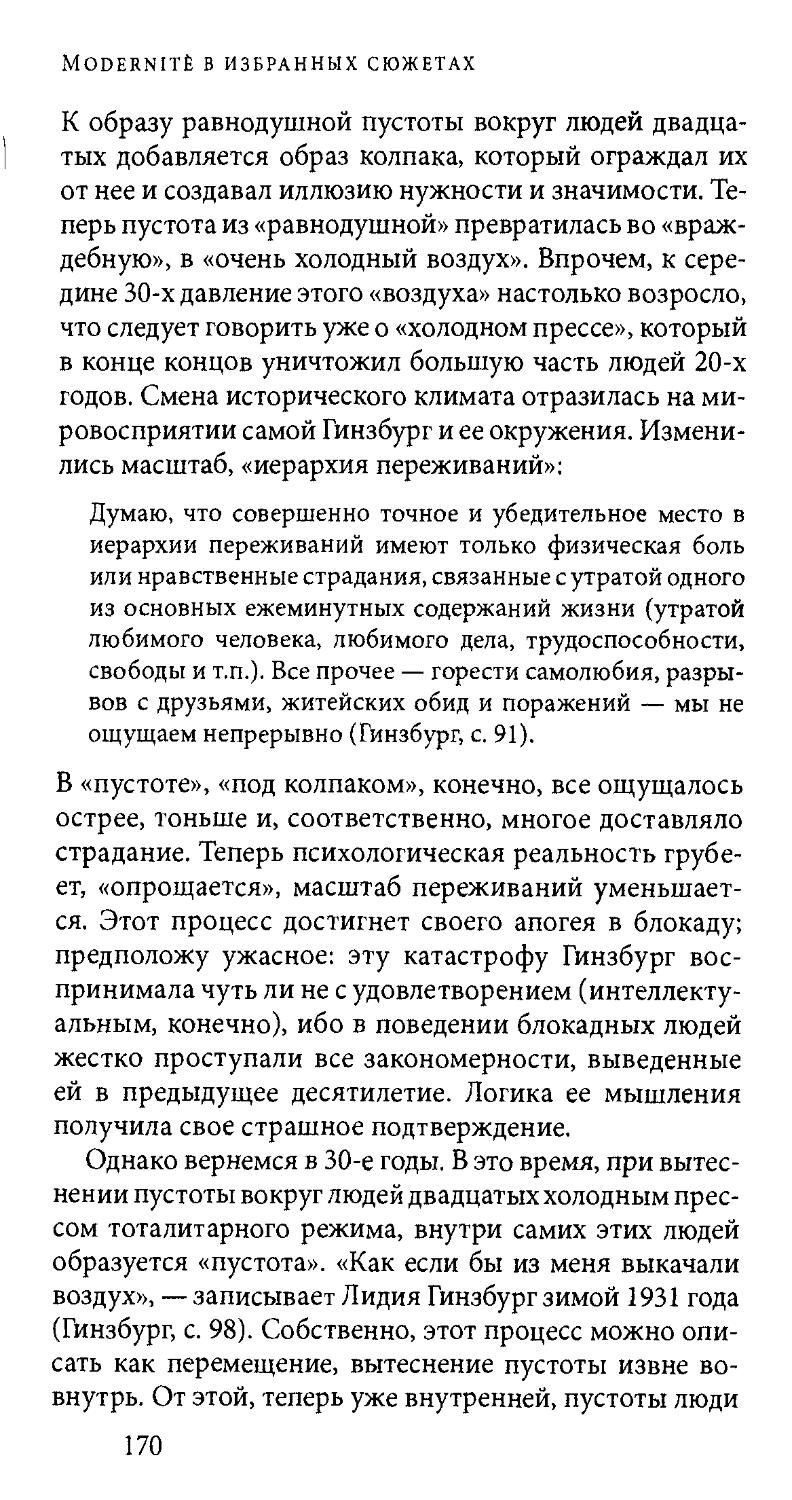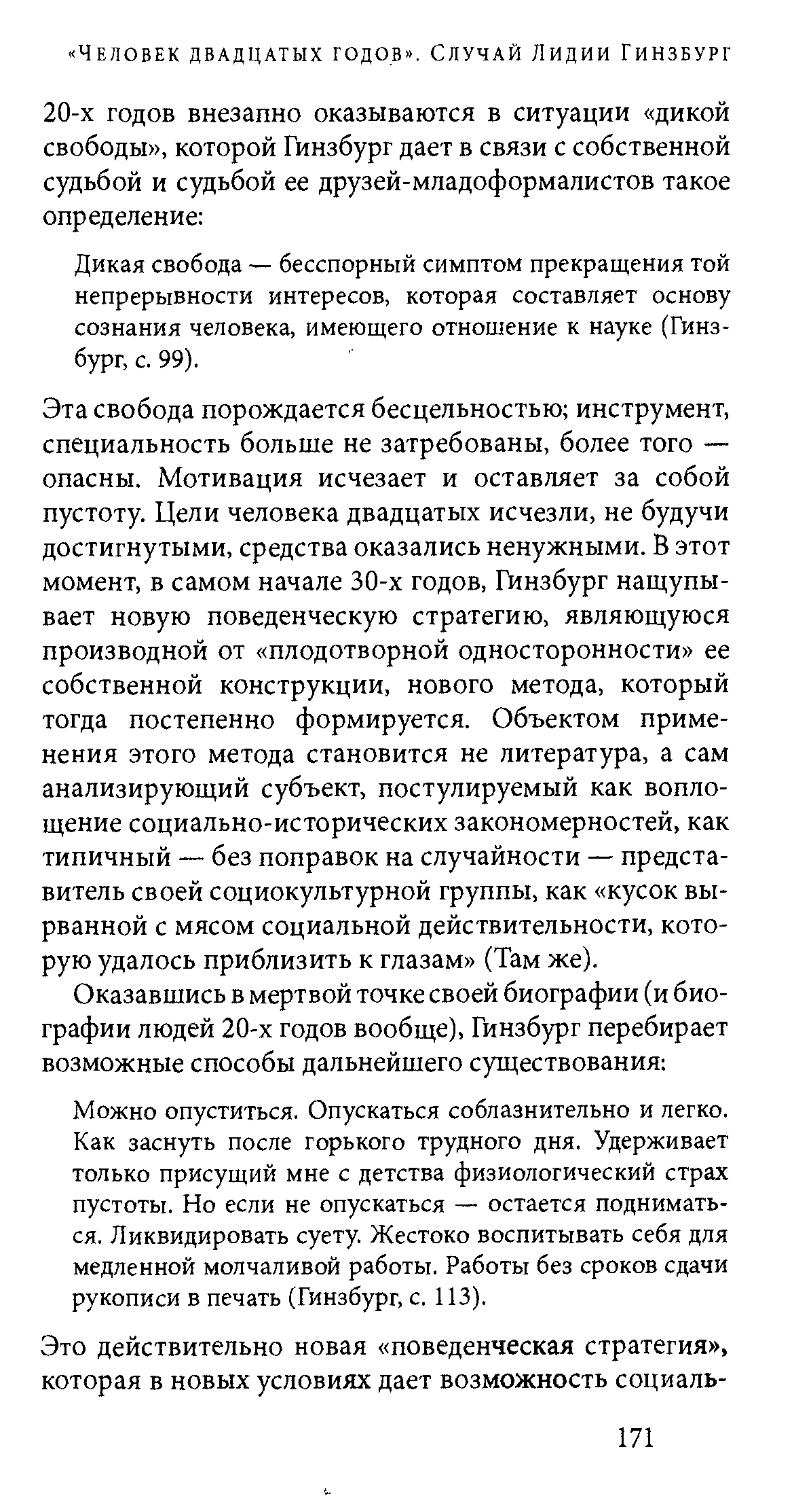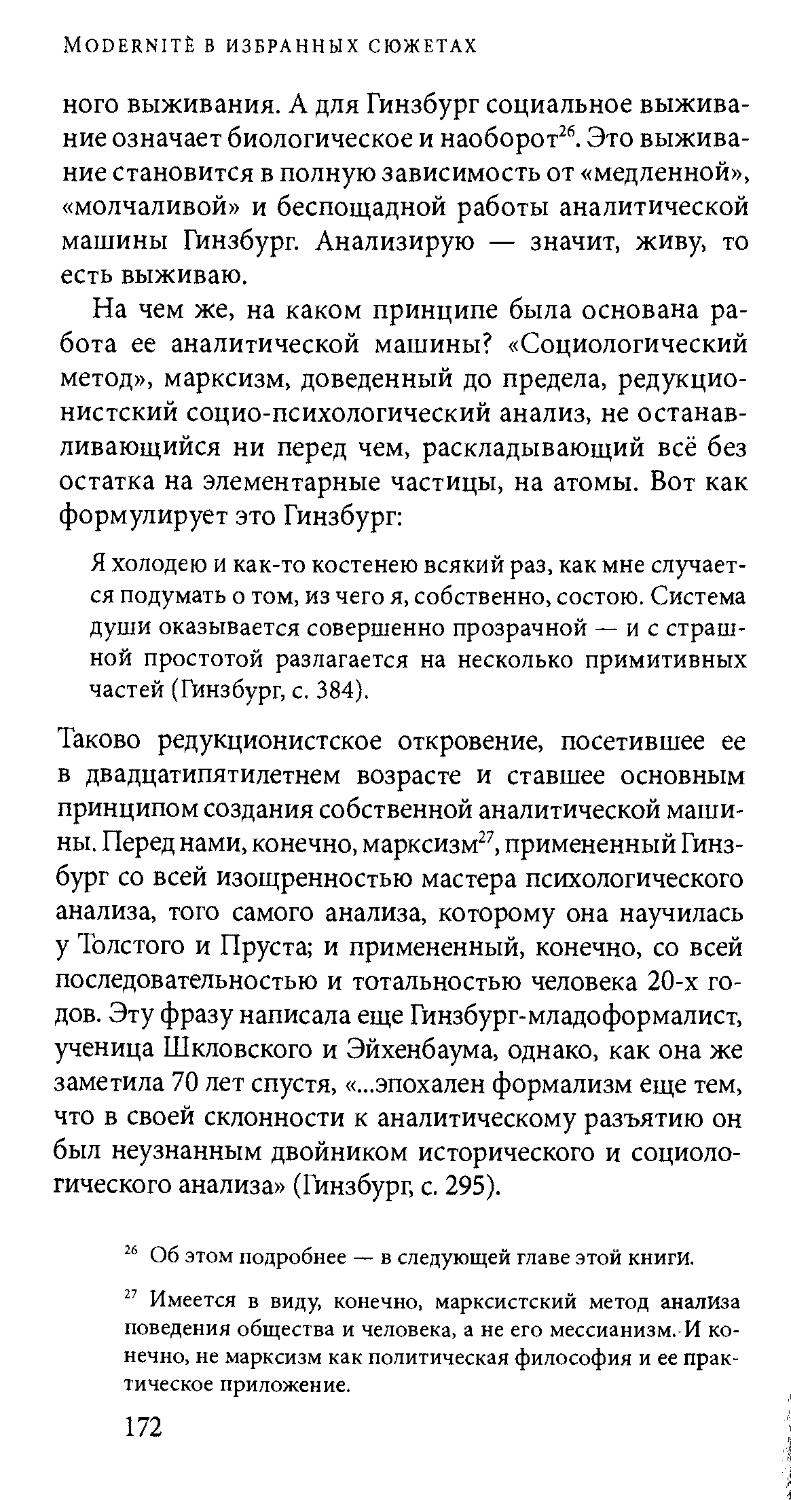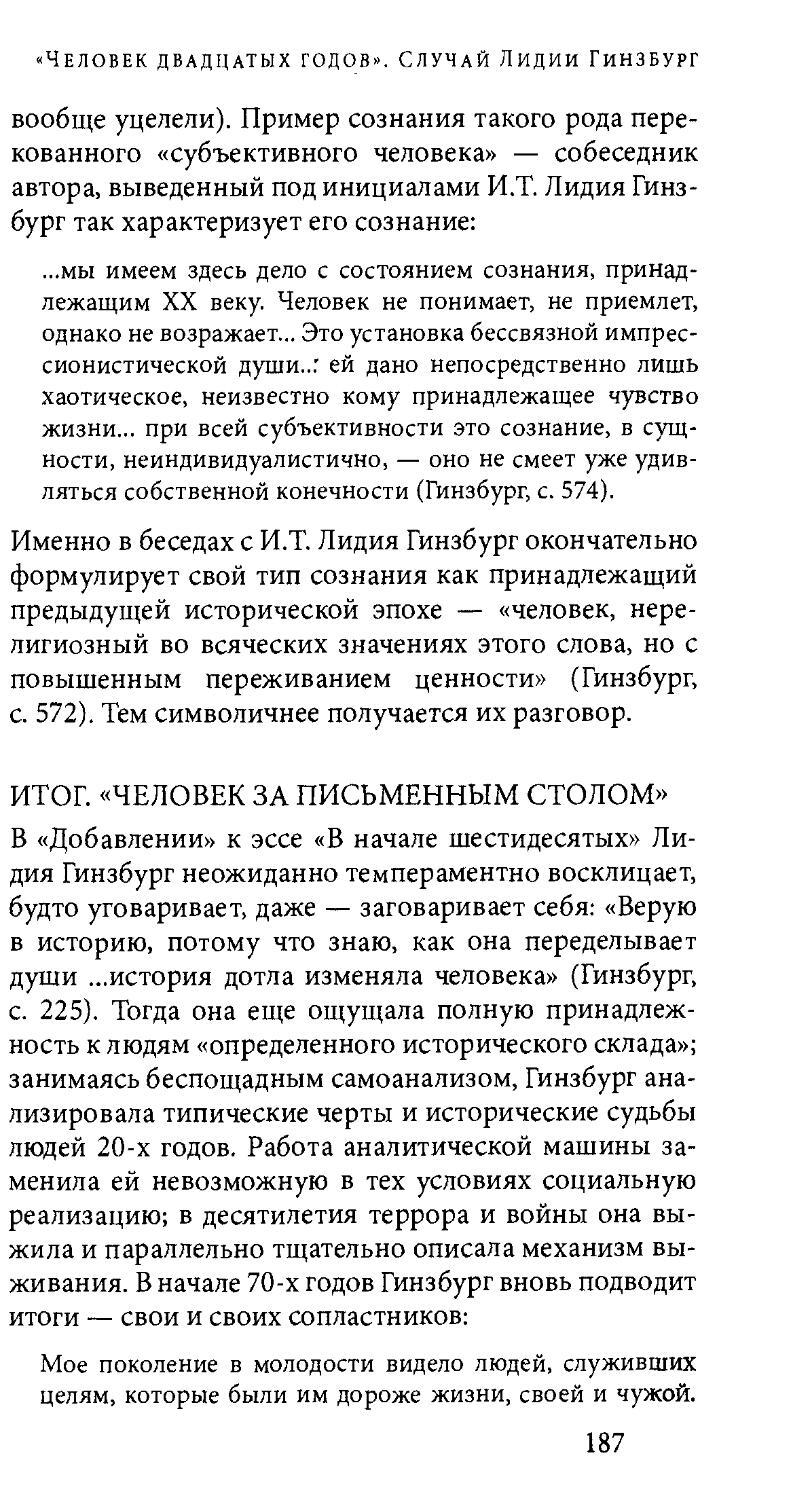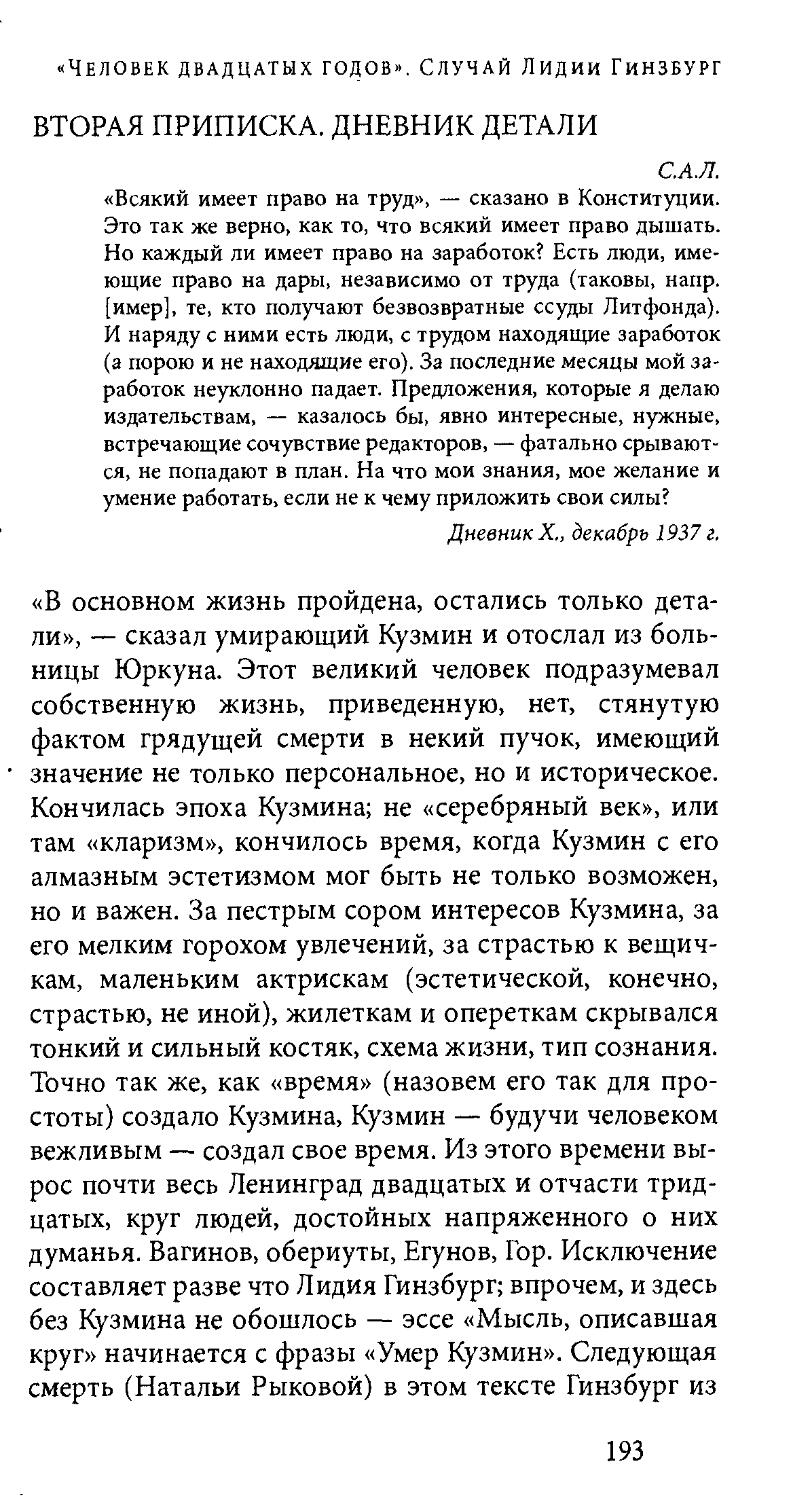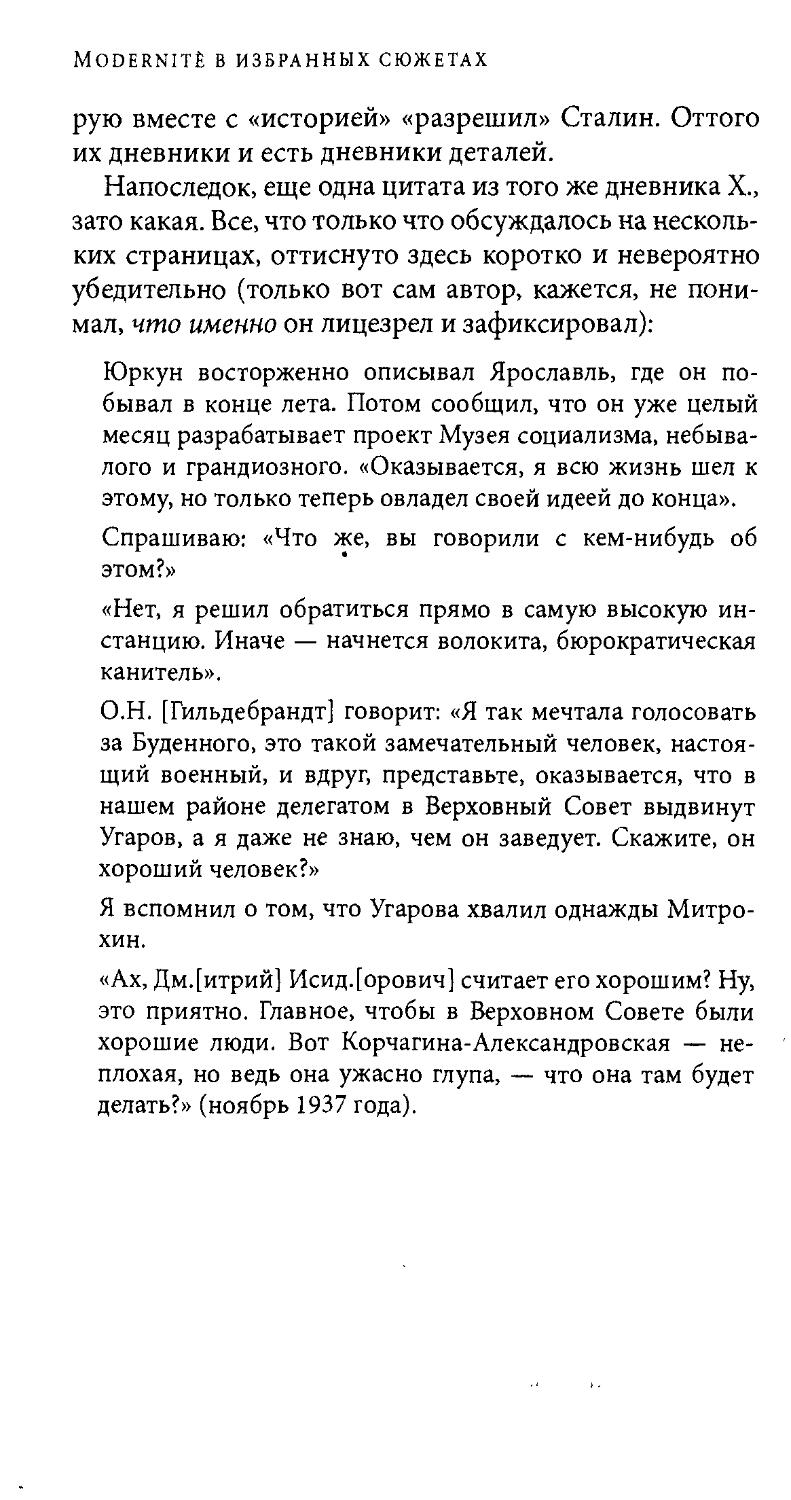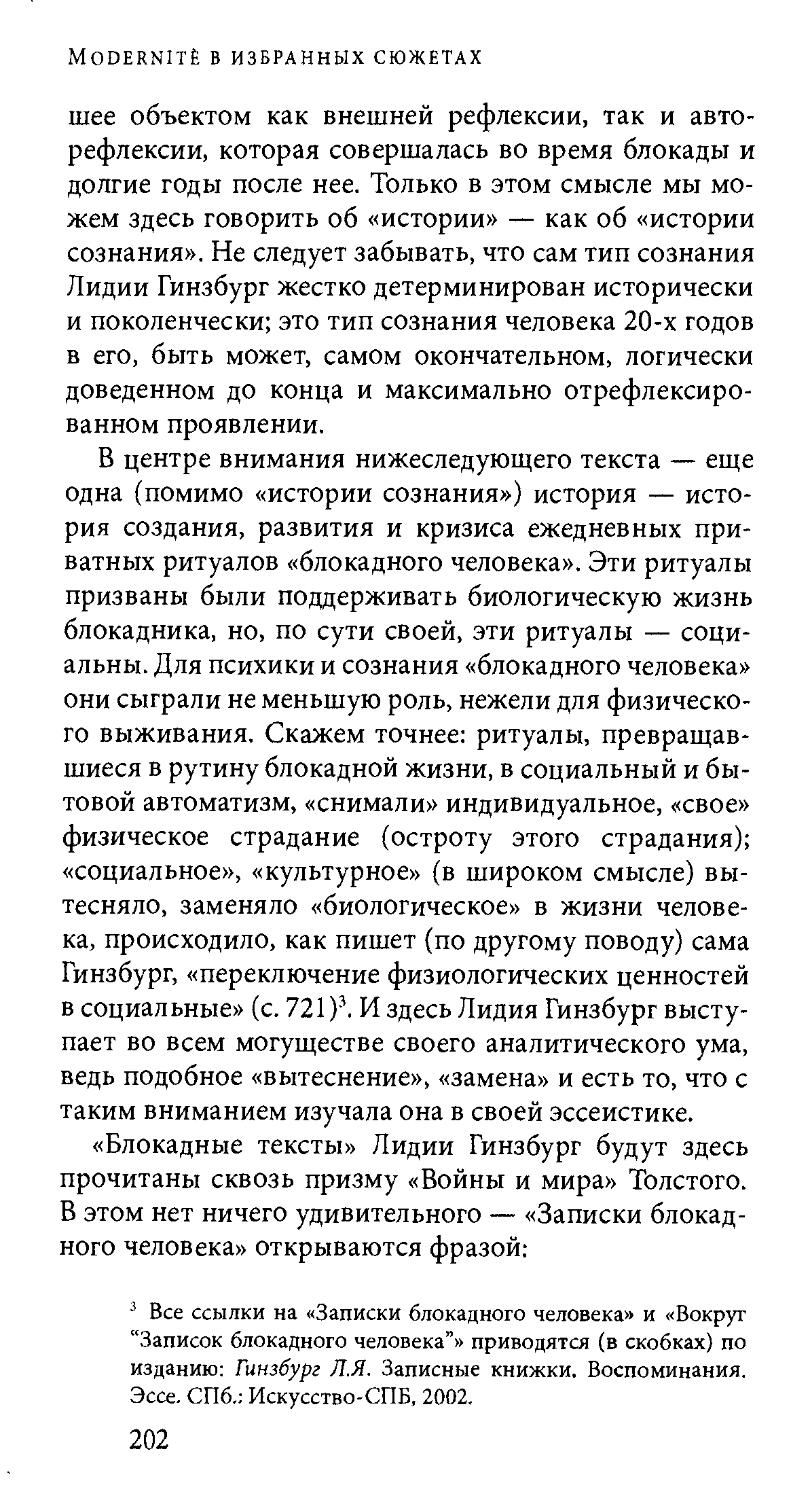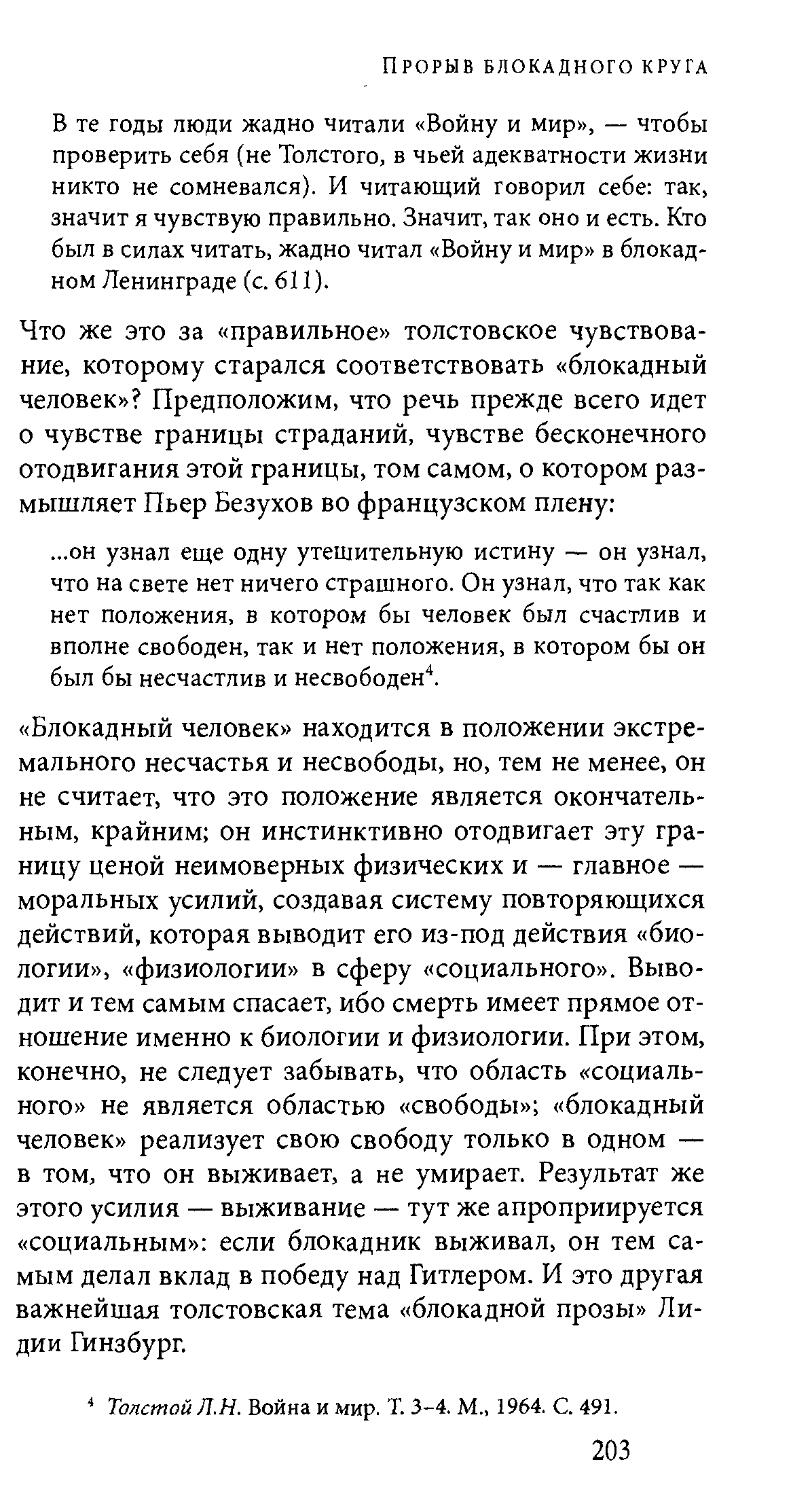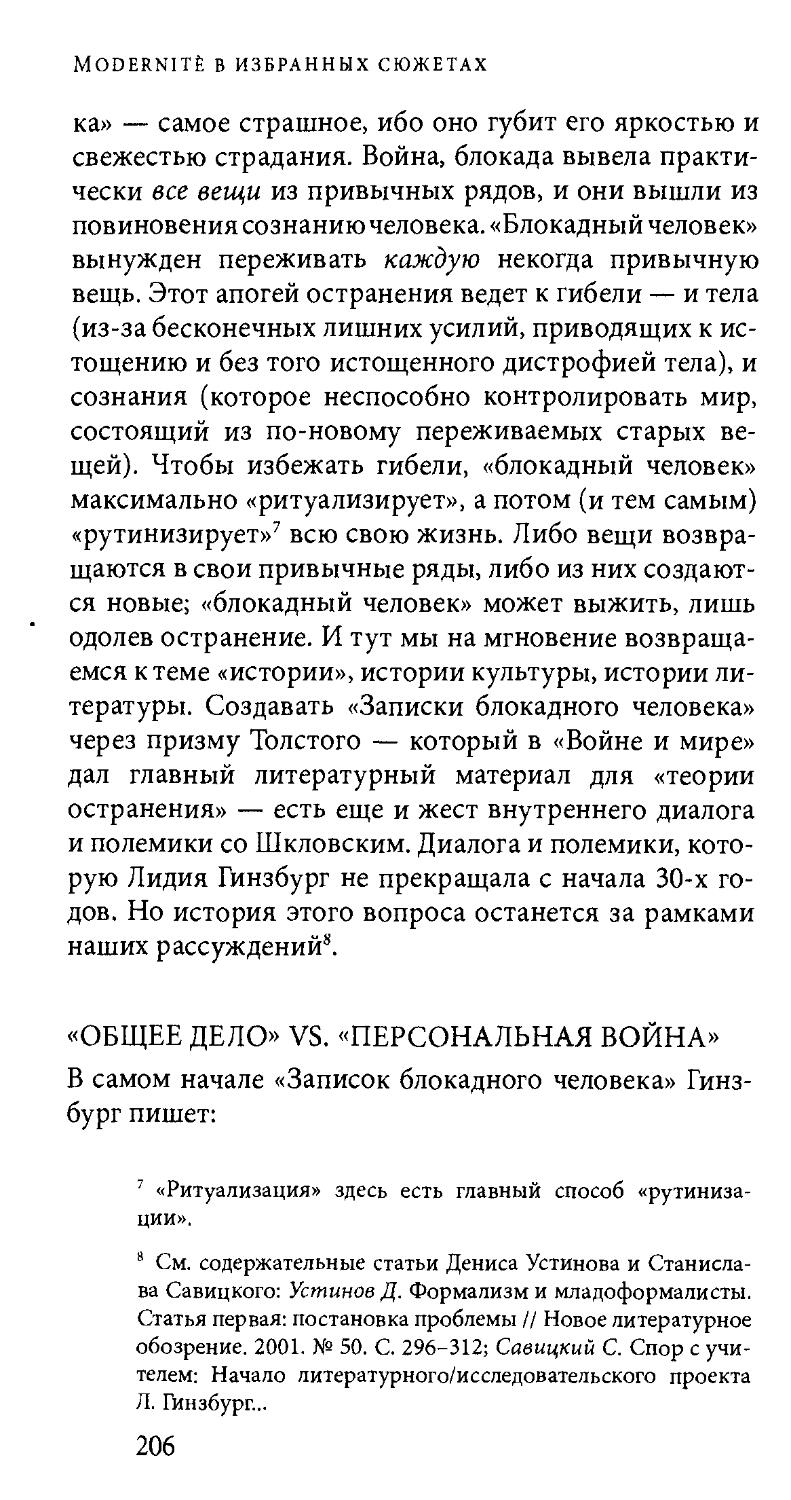Автор: Корбин Кирилл
Теги: общие вопросы лингвистики, литературы и филологии литературоведение сознание
ISBN: 978-5-7598-1250-0
Год: 2015
Текст
Кирилл Кобрин
Е Р И Я
ГСЛЕДОВАННЯ
КУЛЬТУРЫ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
Кирилл Кобрин Modernite в избранных сюжетах Некоторые случаи частного и общественного сознания XIX—XX веков
В Ы С Ш А Я
ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ
СЕРИЯ
ИССЛЕДОВАН
КУЛЬТУ
И Я
Р Ы
MODERNITE
В ИЗБРАННЫХ
СЮЖЕТАХ
Некоторые случаи частного и общественного сознания XIX—XX веков
КИРИЛЛ КОБРИН
Издательский дом
Высшей школы экономики
МОСКВА, 2015
УДК
ББК
80
83
К55
Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ
Рецензент
кандидат философских наук, доцент факультета философии НИУ ВШЭ КИРИЛЛ МАРТЫНОВ
Кобрин, К.
К55 Modernity в избранных сюжетах. Некоторые случаи частного и общественного сознания XIX-XX веков [Текст] / К. Кобрин; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 240 с. — (Исследования культуры). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-1250-0 (в пер.).
Книга «Modernity в избранных сюжетах» посвящена разным сюжетам — и одной теме. Эта тема — «современность», исторический период, пересоздавший наш мир, перевернувший его гораздо последовательнее, нежели любые изменения, которые случились в мире с момента появления христианства. В русской обыденной речи «современное» значит то, что происходит сейчас и противостоит прошлому, «истории». Однако во французском и английском языках это понятие имеет свои хронологические рамки и свое собственное содержание. Так что речь в книге идет не о «современности», а о modernite, понятии, введенном Шарлем Бодлером. Modernity modernity — это Новое и Новейшее время, эпоха промышленного производства, технологических революций, свободного рынка, массового общества и массовых идеологий.
Автора книги интересует, как было устроено сознание некоторых людей, создавших эту эпоху и участвовавших в ее развитии — или противостоявших ей.
Книга адресована широкому кругу читателей, имеющих вкус к исторической рефлексии.
УДК 80
ББК 83
ISBN 978-5-7598-1250-0
© Кобрин К., 2015
© Оформление. Издательский дом
Высшей школы экономики, 2015
СОДЕРЖАНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
MODERNITE:
КЛАССОВАЯ БОРЬБА,
НАЦИОНАЛИЗМ, ВОЙНА, ЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК............7
ВЕЧНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ
(ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
«ВОСЕМНАДЦАТОГО БРЮМЕРА ЛУИ БОНАПАРТА»).......9
КАЗУС КАФКИ (ПОИСК
) НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ' В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ)........40
НАСТОЯЩИЙ АВГУСТ ФРАНЦА КАФКИ.................60
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
MODERNITE:
МОДЕРНИЗМ, ВОЙНА, МУСОР ПРОШЛОГО...................83
КИРИКО: МЕЛАНХОЛИЯ ВЕЧНОГО (НЕ)ОТБЫТИЯ..........85
КУРТ ШВИТТЕРС: ПОБЕДИТЕЛЬ....97
НИТКА ОТ ШТАНДАРТА
ИМПЕРИИ: АРХЕОЛОГИЯ МУЗЕЙНОГО ПРОЕКТА...........103
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
TOTAL MODERNITE-.
МЕХАНИЗМЫ РЕФЛЕКСИИ.......................117
ДРОБЯЩИЕСЯ ТЕЛА ВЛАСТИ......119
«ЧЕЛОВЕК ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ». СЛУЧАЙ ЛИДИИ ГИНЗБУРГ.......151
ПРОРЫВ БЛОКАДНОГО КРУГА.....201
MODERNITi:
КЛАССОВАЯ БОРЬБА, НАЦИОНАЛИЗМ, ВОЙНА, ЧАСТНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
'ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ
Вечная современность
(ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
«ВОСЕМНАДЦАТОГО БРЮМЕРА ЛУИ БОНАПАРТА»)
Своей бессонной мыслью, как
* огромным шалым прожектором, он
раскатывал по черному небу истории; гигантскими световыми щупальцами шарил в пустоте времен; выхватывал из мрака тот или другой кусок, сжигал его ослепительным блеском исторических законов и равнодушно предоставлял ему снова окунуться в ничтожество, как будто ничего не случилось.
Осип Мандельштам.
* «Девятнадцатый век»
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
В 1864 году в Лондоне, в концертном зале Сент-
Мартинс Холл в Ковент-Гардене, был создан Первый Интернационал (Международное товарищество трудящихся); в учредительном собрании участвовал Карл Маркс, которого избрали в руководство новой организации. Ему же поручили написать Учредительный манифест и Временный устав товарищества. Сто лет спустя, в 1964-м, Исайя Берлин в эссе «Марксизм и Интернационал в XIX веке»1 дал компактное, удивительно ясное изложение теории Маркса и ее дальнейших приключений; автор приурочил свой текст к столетнему юбилею Первого Международного товарищества трудящихся. За двенадцать лет до учредительного собрания Первого Интернационала в Сент-Мартинс Холл Карл Маркс публикует в немецко
1 Берлин И. Философия свободы. Европа. 2-е изд. / пер. М. Рубинштейн. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 366-423.
9
ModernitE в избранных сюжетах
язычном журнале «Die Revolution», который издавался в США эмигрантом Йозефом Вейдемейером, большой политический памфлет «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», где по горячим следам анализирует развитие событий во Франции от февральской революции 1848 года до установления Второй Империи. Маркс сочинял свою работу в то время, когда перспективы нового (названного им «бонапартистским») режима были весьма туманны; выводы автора оказались точными, и это позволило переиздать работу при жизни Маркса в 1869-м, за год до краха режима Наполеона III. В предисловии к первому переизданию Маркс пишет, что практически не менял текст семнадцатилетней давности; тем самым он намекает: содержащийся там новый подход к политическому анализу гораздо важнее политической текучки — оттого, к примеру, можно не разъяснять немецкому читателю 1869 года французских персоналий 1849-го. Иными словами, перед нами теоретическое сочинение, один из краеугольных камней здания теории классовой борьбы и пролетарской революции; более того, «Восемнадцатое брюмера» — кажется, первое сочинение Маркса, где он методично и сознательно применил только что созданную им концепцию к важнейшему политическому событию того времени, сильно повлиявшему на всю Европу. И хотя в предисловии к первому переизданию Маркс утверждает, что взялся за этот труд из желания помочь соратнику, затеявшему радикальный политический еженедельник, однако, как часто бывает, искушение использовать новейшую всеобъясняющую революционную концепцию для объяснения свежайшей революции европейского масштаба (не говоря уж о том, что к началу 1852 года во многих других европейских странах бушевавшие там революции только-только затихли или были подавлены) пересилило случайный, чуть ли не «заказной» характер работы. Шедевры необязательно рождаются из намерения создать таковые, неспешно трудясь в тиши кабинетов, после кропотливой предва
10
Вечная современность
рительной работы и уединенных прогулок по сельской местности. Часто — если мысль автора уже «готова» к работе, а на горизонте не маячит ни кабинета, ни свободного времени, ни даже тропинки посреди мирных пажитей — все происходит по-иному, и из злобы дня на свет божий является нетленная ценность (или кажущаяся таковой). Видимо, то же самое произошло и с «Восемнадцатым брюмера Луи Бонапарта», которое, конечно же, есть своего рода шедевр политической мысли и идеологического расчета.
Более того, в третьем, посмертном немецком издании памфлета, в 1889-м (напомню, в том году был создан Второй Интернационал) «Восемнадцатое брюмера» уже названо Энгельсом «гениальным», после чего в его предисловии следует такой пассаж:
Именно Маркс впервые открыл великий закон движения истории, закон, по которому всякая историческая борьба — совершается ли она в политической, религиозной, философской или в какой-либо иной идеологической области — в действительности является только более или менее ясным выражением борьбы общественных классов, а существование этих классов и вместе с тем и их столкновения между собой в свою очередь обусловливаются степенью развития их экономического положения, характером и способом производства и определяемого им обмена. Этот закон, имеющий для истории такое же значение, как закон превращения энергии для естествознания, послужил Марксу и в данном случае ключом к пониманию истории французской Второй республики. На этой истории он в данной работе проверил правильность открытого им закона, и даже спустя тридцать три года все еще следует признать, что это испытание дало блестящие результаты2.
Итак, если первое немецкое переиздание было затеяно, чтобы напомнить читателю — а это был уже чита
2 Энгельс Ф. Предисловие к третьему немецкому изданию работы К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21. М.: Гос. изд-во полит, лит., 1961. С. 258-259.
11
ModernitE в избранных сюжетах
тель совсем иной, нежели в 1852-м, перед нами аудитория Первого Интернационала — основные положения теории классовой борьбы, то второе уже торжествующе предъявляло социал-демократической аудитории Второго Интернационала не только теоретическую, но и практическую политическую правоту Маркса. Вторая Империя бесславно рухнула, обнажив свое гнилое нутро, о котором так много сказано в «Восемнадцатом брюмера», парижская буржуазия совершила еще одну революцию, вновь, точно по Марксу, обнажившую слабость ее самой, после чего последовала Парижская Коммуна — то есть предсказанная Марксом революция социальная, пролетарская (тут совсем неважно, что первоначально теоретик отнесся к практикам-коммунарам довольно прохладно и недоверчиво).
Как видим, теснейшим образом оказываются связаны две революции (1848-1849 и 1870-1871), два Интернационала (Первый и Второй) и два сочинения примерно одной величины: «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Карла Маркса и «Марксизм и Интернационал в XIX веке» Исайи Берлина. На пересечении этих событий и текстов я попытаюсь построить свой собственный текст. Главным объектом анализа станет «Восемнадцатое брюмера»; эссе Берлина (само по себе замечательное!) присутствует здесь почти незримо и упоминается лишь в нескольких местах. Наконец, я привлек и иной материал, которого нет ни у Маркса, ни у Берлина, — сюжеты, связанные с общественной, культурной и идеологической историей Второй Империи. Главный из них — понятие современность, modernite, появившееся (усилиями Шарля Бодлера) именно в эти годы и именно в Париже. Как известно, Вальтер Беньямин первым свел вместе Маркса и Бодлера в анализе этого сюжета; с тех пор в трудах по культурной истории и истории идей такое сочетание стало чуть ли не классическим; однако, несмотря на внимание к теме, сегодня вряд ли можно говорить о ее исчерпанности. В частности, принципиально важным
12
Вечная современность
представляется вопрос о нашей собственной позиции в отношении этого ключевого периода истории Запада, когда Париж был, по выражению Беньямина, «столицей девятнадцатого века». Где находится сегодняшнее западное сознание — вне или внутри того периода, определение (и даже само содержание) которого было отчеканено между 18 брюмера Луи Бонапарта и судом над «Госпожой Бовари»? Сейчас наиболее распространенный ответ на этот вопрос — отрицательный, мол, современность в прошлом, мы давно уже в пост-пост-стадии ее; что же, посмотрим, можно ли поставить такой ответ под сомнение.
Для удобства изложения моих сумбурных мыслей — и для удобства чтения, конечно — нижеследующий текст разбит на небольшие главки. Каждая из них представляет собой интерпретацию того или иного положения работы Карла Маркса. Что касается самой мысли вновь обратиться (почти через 30 лет после первого знакомства с этим сочинением) к «Восемнадцатому брюмера Луи Бонапарта», то она пришла мне в голову при чтении замечательной книги Роберто Ка-лассо «La Folie Baudelaire»3.
КЛАССОВАЯ БОРЬБА
VS. ДУШНЫЕ КЛУБЫ ПАРФЮМА
Наиболее интересная сегодня тема «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» связана с соотношением истории, «повторяющейся дважды» (знаменитый зачин памфлета)4, и революционной интерпретации ис-
3 Здесь использован английский перевод этой книги: Са-lasso R. La Folie Baudelaire I transl. by A. McEwen. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2012.
4 «Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса» (Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд.
13
ModernitE в избранных сюжетах
тории, которая исходит из невиданного доселе принципа классовой борьбы. Ранние революции (от первой половины XVI века — если считать Реформацию «революцией», как это делали Маркс и Энгельс, — до второй половины XVIII века) одеваются в одежды прошлого, чтобы доказать свою значимость, правильность, чтобы легитимизировать себя. Новое приходит в одежде старого, все его паттерны, образы, риторические фигуры заданы старым временем. Полюсов тут два — Античность и Ветхий Завет. Первая модель — для светских революций, вторая — для Реформации и последующих протестантских движений; так сказать, Афины и Иерусалим, дуальная схема, которой, как мы помним, Лев Шестов исчерпывает европейскую традицию. В то же самое время консерватизм, любое охра-нительство, «контрреволюция» предпочитают в качестве материала для своих идейных построений совсем другие исторические эпохи, а также внеевропейские культуры — Новый Завет вместо Ветхого, Средние века вместо Античности, восточные деспотии и Китай вместо собственных Афин и Рима. Но вот уже после 1815-го происходит серьезное изменение: радикальные движения и перевороты намеренно подражают Великой французской революции (а некоторые и Войне за независимость североамериканских колоний). Возникает уже совсем другой, сознательно «модерновый» тип исторической легитимации, противостоящей охранительной. После 1815 года прогрессисты и радикалы, как и раньше, оглядываются назад, однако они намеренно близоруки и дальше Робеспьера (или, чуть позже для Европы и в качестве иного варианта, Бенджамина Франклина, Томаса Джефферсона и Джорджа Вашингтона) не видят ничего подходящего. Для Маркса такая «близорукость» есть воплощение He-
Т. 8. М.: Гос. изд-во полит, лит., 1957. С. 119). Дальнейшие ссылки на цитаты из этой работы приводятся в тексте в скобках.
14
ВЕЧНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ
подлинности; выход из ситуации неподлинности, прорыв к истине он видит не в возврате к ретроспективной «дальнозоркости», а в наведении фокуса исключительно на современность. В качестве инструмента анализа, единственно верного интерпретационного механизма он предлагает концепцию классовой борьбы, не укорененную в прошлом (прошлое может — и должно — быть объектом приложения этой концепции, но самой ее в прошлом не было). Новое прочитывается с помощью нового — в этом смысле Карл Маркс, вместе с Шарлем Бодлером, быть может, главный создатель концепции современности, произведенной из материала современности же. Современность становится источником и результатом самой себя; одновременно, как мы видим у Маркса, она частенько презирает эту свою особенность, мечтая полностью освободиться от любого прошлого.
Роберто Калассо отмечает:
Слово vulgarite введено в оборот госпожой де Сталь в 1800 году. Modernity мы встречаем у Теофиля Готье в 1852-м. Но в «Замогильных записках» Шатобриана, опубликованных в 1849 году, эти два слова стоят рядом в одной и той же фразе, описывающей неприятности, с которыми автор столкнулся на вюртембергской таможне: «Вульгарность, эта современность таможен и паспортов». Будто судьба назначила этим двум словам быть вместе. Что же было до того? Были вульгарные люди, но не было вульгарности. И были современные люди, но не было современности. (...) Современность; слово, которое появляется и курсирует между Готье и Бодлером во Второй Империи, в период чуть более десяти лет, между 1852 и 1863-м. И каждый раз оно предъявляется осторожно, с пониманием того, что представляешь своему языку чужака. Готье (1855): «Современность. Есть ли такое существительное? Чувство, которое оно выражает, настолько недавнее, что этого слова, скорее всего, нет в словаре». Бодлер (1863): «Он ищет чего-то такого, что нам позволено было бы назвать современностью, — так как нет лучшего слова, выражающего эту идею». Но что это была за
15
Modernity в избранных сюжетах
идея, столь свежая и неявная, для выражения которой не нашлось пока обозначения? Из чего была сделана современность? Злой Жан Руссо5 тут же провозгласил, что современность состоит из женских тел и безделушек. Артур Стивенс, защищая Бодлера, впервые назвал поэта человеком, «который, я думаю, изобрел само слово, современность». С помощью живописи и фривольности это слово ворвалось в словарь. И оно было обречено закрепиться там, разрастаясь, завоевывая — и опустошая — все новые области. Вскоре никто уже не помнил его скромнофривольного начала. У Бодлера, однако, это слово так и осталось в клубах пудры и парфюма6.
Обратим внимание на два обстоятельства. Первое: modernite появляется вместе со Второй Империей, идеально совпадая по времени с развитием зрелой марксистской теории. Там, где Готье хитрым ударом отправляет мяч современности на поле Бодлера, стоит и финальная точка «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» Карла Маркса. Второе: для Бодлера, выковавшего это понятие, современность искусства — а он в данном случае пишет именно об искусстве — это когда в качестве его объекта избираются не «освященные овощи» пленэра, а бордели, парки, танцзалы и бульвары, то есть то, что существует сейчас и в нынешнем виде относительно недавно появилось в городской жизни. Сам современный город с его пороками, непристойностью, доступными женщинами, окутанными душными клубами парфюма, есть воплощение modernite. Точно так же Маркс считал истинной революцией лишь ту, что мыслит себя частью современности и не рядится в «освященные древностью наряды» (с. 119).
Современность двойственна: она пытается возвести свою генеалогию к собственному прошлому и одновременно отрицает необходимость для себя генеало-
5 Литературный обозреватель середины XIX века, а не великий философ второй половины XVIII века.
6 Calasso R. Op. cit. Р. 166.
16
Вечная современность
гии как таковой. Художественный авангард XX века в своем начале еще сильнее обнажил эту двойственность: сбрасывая с корабля современности прошлое, он одновременно пытается нащупать предшественников, причем в самых случайных и нелогичных, казалось бы, контекстах, за пределами самогб механизма «близорукости». Современность не доверяет прошлому, даже своему собственному, но оказаться в ситуации «чистого настоящего» или даже «чистого будущего» боится. Отсюда попытки, к примеру, сюрреалистов составить список собственных великих — совершенно случайных — предшественников. Все кончается не взрывом, но убийственной иронией у Борхеса в эссе «Кафка и его предшественники» и его же мнимыми литературно-философскими родословными7. Борьба с «кошмаром традиций прошлых поколений» (с. 119) через его отрицание и попытку установить над ним власть посредством произвольного точечного выбора своих предшественников кончается полной мистификацией прошлого, окончательным лишением его любого смысла, кроме, разве что, декоративного (как у того же Борхеса, а в худшем случае, как у его эпигонов типа Милорада Павича).
ТЮРЬМА СОВРЕМЕННОСТИ
Переходим к следующему вопросу: зачем революции, этому главному (наряду с прогрессом) изобретению современности, этот старый прикид? Ответ Маркса таков: до поры до времени революция стыдится (или даже боится) своего истинного содержания, пытаясь предложить себе и другим нечто более «благородное» и «законное» (что значит — укорененное в истории, в «традиции прошлых поколений»). Иными словами, революция боится своей новизны, своей современ
7 Борхес Х.Л. Собр. соя.: в 4 т. Т. 2. Новые расследования: Произведения 1942-1969 годов. СПб.: Амфора, 2000. С. 421-423. — ----- --------
MODERNITi В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
ности, боится себя именно как «революции». Первые революции обращаются к Древней Греции и Древнему Риму, а вот последующие — собственно, к первым революциям. Оттого столь принципиально важны Война за независимость США и Великая французская революция. Но дальше возникает следующий вопрос. Почему Маркс считает, что в середине XIX века такое мышление постыдно и неподлинно? Ответ прост: поменялось само содержание революции. Буржуазные политические революции превращаются в социальные (с перспективой чисто пролетарских). Так как после пролетарских ничего не будет и сама история (или «предыстория», как ее отчего-то называл Маркс) прекратится вместе с действием ее законов, то и новые революции должны искать свою силу и привлекательность в образе будущего, а не прошлого. Именно так можно прокомментировать пассаж:
Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со всяким суеверным почитанием старины. Прежние революции нуждались в воспоминаниях о всемирно-исторических событиях прошлого, чтобы обмануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственное содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы (с. 122).
Тут, помимо прочего, любопытно использование слова «поэзия» применительно к «социальной революции». С одной стороны, Маркс явно подменяет ключевое для современности, только обретающее нынешний свой смысл понятие «идеология» — «поэзией»; с другой стороны, вместо слова «поэзия» современный человек поставил бы в эту фразу понятное для него слово «образ» или «имидж»: «Социальная революция XIX века может черпать материал для создания своего имиджа только из будущего, а не из прошлого», — так, види
18
Вечная современность
мо, выразился бы сегодняшний Маркс. Отметим также, что ведь само «будущее» есть всего лишь «образ», «имидж» — получается, что имидж настоящего сооружается из имиджа будущего, который, безусловно, состоит из материалов настоящего. Круг замыкается, мы оказываемся в той же тюрьме современности.
ПРЕТЕРПЕТЬ СОВРЕМЕННОСТЬ, НЕ БОЛЕЕ ТОГО
Часть пролетариата пускается на доктринерские эксперименты, создание меновых банков и рабочих ассоциаций — другими словами, в такое движение, в котором он отказывается от мысли произвести переворот в старом мире, пользуясь совокупностью заложенных в самом старом мире могучих средств, а пытается осуществить свое освобождение за спиной общества, частным путем, в пределах ограниченных условий своего существования и потому неизбежно терпит неудачу. Пролетариат, по-видимому, не в состоянии ни обрести свое прежнее революционное величие в самом себе, ни почерпнуть новую энергию из вновь заключенных союзов, пока все классы, с которыми он боролся в июне, не будут так же повергну-ты, как и он сам (с. 126).
Конечно, ни пролетариат per se, ни его экономическое и любое иное состояние Маркса само по себе не интересует; он видит в пролетариате лишь агента сокрушительной, финальной революции, которая разрушит старый мир и остановит, окончит историю. Оттого совершенно неважно, пытается ли пролетариат улучшить свое положение здесь и сейчас с помощью всевозможных касс взаимопомощи и прочего; наоборот, в каком-то смысле, чем хуже рабочим, тем быстрее им откроется неприкрытая истина эксплуатации и одновременно истина обреченности старого мира, тем скорее они нанесут удар в самую цель, не размениваясь на всякие мелочи, вроде Законодательного собрания, парламентской жизни вообще и т.д. Этот даже не праг
19
MODERNITY В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
матизм, а какой-то энтузиастический макиавеллизм Маркс передал по наследству Ленину, который положил его в основание своей политической стратегии и тактики. За разными смешными и несерьезными (с его точки зрения несерьезными, конечно) событиями, вроде свержения в 1848 году монархии Луи-Филиппа, Маркс видит конечную цель; любой разговор о конкретной политической, социальной, экономической, культурной ситуации он ведет, имея в виду эту цель. Хищный уверенный взгляд фанатика-утописта, взгляд беспощадного хилиаста, взгляд инквизитора, взгляд гностика, который в любом феномене видит арену Великой Битвы Добра и Зла. Любопытно, что для Маркса история — несмотря на всю «тактическую полезность» в качестве материала для его историософских схем — есть безусловное Зло (отсюда его слова о «кошмаре традиций прошлых поколений»), Добро же заключается в прекращении действия законов истории. Классический марксизм вынужден признавать действие исторических законов, которые он сам же и сформулировал, однако он им не доверяет, он ими тяготится и использует их для их же отмены. Созданный из материала историзма, настаивающий на историзме, классический марксизм признает его лишь как неизбежное зло, которое следует объяснить, использовать и — в итоге — прекратить.
В этом смысле идея пролетарской революции и грядущего коммунизма есть противоположность внешне очень на нее похожей идеи прогресса, этого другого изобретения (и важнейшего элемента) современности. Прогресс представляет собой тотальное изменение современной жизни в лучшую сторону, но он не отменяет этой жизни, ее основ. Можно даже представить себе некую органическую метафору, согласно которой современность есть тот корень, из которого вырастет дерево прекрасного будущего. Ствол, ветки и листья совсем не похожи на корень, но все вместе -* это одно, ведь без корня не было бы остального. Современность
20
Вечная современность
корня вырастает в дерево — и все дерево станет современностью. Коммунизм в классическом марксистском варианте видит в современности комбинацию безобразного больного корня и его выкорчевывателя; марксист объявляет выкорчевывателю его миссию, объясняя строение корня, согласно которому сам корень породил и своего убийцу, и неизбежность своей окончательной гибели. Акт выкорчевывания корня делает выкорчевывателя свободным от корня — соответственно, от современности. В сущности, даже неважно, что будет в яме, оставшейся от корня; оттого в революционном марксизме столь неясны контуры светлого будущего.
Поэтому не совсем верны расхожие представления об истинном отношении Маркса к (чуть ли не изобретенной им) дуальной схеме «прогрессивное» vs. «реакционное». Марксистский подход к прошлому и настоящему лишь отчасти укладывается в эту схему; границей ее влияния является как раз «крах старого мира». Исайя Берлин пишет о законах общественного развития, открытых Марксом: «Более того, эти законы определяют, что прогрессивно, а что реакционно, то есть что соответствует исконно присущим человеку целям, а что им противоречит»8. Это верно, но в определенным рамках. «Прогрессивное» хорошо лишь до предела старого общества, оно способствует прогрессу, который, в понимании Маркса, противоречит идее прогресса, характерной для современности, точнее — для буржуазного сознания. Марксистская «прогрессивность» — способность общественных (и прочих) явлений подталкивать старый мир к его концу. И все. В этом смысле «революционный» и «прогрессивный» — разные вещи. «Прогрессивное» несознательно телеологически способствует неизбежному падению мира эксплуатации; революционное выкорчевывает этот мир, являясь прологом к миру новому,
Берлин И. Указ. соч. С. 370.
21
MODERNITfc В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
дивному. Оттого «прогрессивное» есть второй сорт в отношении «революционного» — его можно только благожелательно терпеть до поры до времени, не более. Так, собственно говоря, и современность для Маркса (который не знал самого понятия, но много сделал для становления и определения смысла этой эпохи) — то, что революционеру стоит претерпеть, ведь иначе нельзя9. Радикальный отказ от прошлого, в том числе и от прошлого внутри современности, — вот одна из главных задач истинного революционера.
ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ТРЮКАЧА И ПРОСТАКА
Вышесказанное не отменяет удивительной проницательности политического и идеологического анализа, который Маркс проделывает в «Восемнадцатом брюмера». Главный недостаток этого текста, пожалуй, стилистический — важные пункты тонут в потоке эмоциональной, многословной, почти графоманской политической публицистики. Но не следует забывать: перед нами памфлет на злободневную тему, написанный для немецкого радикального издания, выходящего в Америке. В нынешних условиях господства маркетинга, истерических поисков target audience и «медийной ниши», задача, стоявшая 160 лет назад перед Карлом Марксом, была бы трудновыполнимой. Маркс не имел никакого представления, для кого он пишет, — и, соответственно, что именно следует объяснять, на чем сосредоточить внимание, какую лексику использовать и т.д. Судя по тексту «Восемнадцатого брюмера» (и, кажется, в отличие от некоторых других вещей, которые он сочинял для «New York Daily
’ «Капиталистический строй не был для него ни стихийным бедствием, ни чьим-то злым умыслом; происхождение этого строя вполне объяснимо, он неизбежен и, в конце концов, служит благу человечества, поскольку история рациональна» (Берлин И. Указ. соч. С. 403).
22
Вечная современность
Tribune» — но не всех), Маркса совершенно не заботило, знает ли его читатель политических деятелей и французские реалии, о которых он с таким жаром повествует. Памфлет написан как бы в никуда — ив этом одна из причин его убедительности. «Восемнадцатое брюмера» есть результат действия двух факторов. Во-первых, автор пытается прояснить для самого себя некоторые собственные представления историкополитического характера — они и есть «опорные пункты анализа» в публицистическом потоке. Уже сам факт фамильярного использования имен разных французских деятелей говорит о характере этого текста: он сделан для себя и нескольких «своих», которые не только поймут, о ком идет речь, они поймут и причину такого отношения к главным и второстепенным героям «Восемнадцатого брюмера». Во-вторых, в то же время Маркс предвидит некую воображаемую будущую, возможную аудиторию (оттого через 12 лет переиздает памфлет почти без изменений). Для подобной (немецкоязычной!) аудитории разные Ледрю-Роллены и генералы Кавеньяки совершенно не важны — точно так же, как и сама история с ее фактами не важна, она бессмысленна, ибо ничего не объясняет профану. Зато важны выводы и упомянутые мною «опорные пункты анализа»; эти «пункты» не теряют актуальности до тех пор, пока старый мир, мир буржуазии не кончится. Их и следует изучать.
Любопытно, что почти во всех этих пунктах Маркс (кажется) совершенно прав — в любом случае, верим мы сейчас в неизбежный конец старого мира и наступление вечного прекрасного будущего или же являемся сторонниками усовершенствования того мира, в котором живем и конца которого не ожидаем. Кажущаяся правот а Маркса смущает, ведь исходные установки этого анализа исключают его, так сказать, объективность: как известно, марксизм вообще отвергает какую бы то ни было объективность, заменяя ее правильной ангажированностью, ангажированностью собой. «Учение
23
MODERNITfc В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
Маркса всесильно, потому что оно верно», — писал Ленин. Над этой фразой много потешались, не понимая одного: она имеет в виду неизбежное конечное торжество коммунизма как единственно возможный способ доказательства верности положений марксизма. Марксизм всесилен (то есть торжествует, то есть не только может всё, он уже это «всё» совершает прямо на наших глазах), оттого (нам здесь и сейчас очевидно, что он) верен. Данная формула тавтологична, как замечают ее критики, но именно в тавтологии ее мощь. Попробуем ее перевернуть: марксизм верен, оттого что всесилен. От перемены мест смысл не меняется; мы видим все ту же могущественную формулу, которую бессмысленно доказывать или опровергать, — ибо эти действия возможны лишь исходя из существования «объективной истины». В марксизме объективной истины не существует. Исайя Берлин точно формулирует это качество учения Маркса:
Понятие беспристрастной оценки, объективного описания мира, а тем более беспристрастия в действии признается абсурдным. Я наблюдаю мир глазами своей эпохи, своей культуры и, разумеется, своего класса; мое мировоззрение формируют классовые интересы. Реализм и его центральное положение, гласящее, что факты принадлежат объективному миру и могут быть увидены без всякого пристрастия и без всякой оценки, равноценен тому, чтобы видеть в человеке существо, по природе своей преследующее некие цели10.
Все вышесказанное давно известно; Исайя Берлин не единственный, кто анализировал эту удивительную особенность марксистского учения. Но возникает следующий вопрос: отчего же тогда проведенный Марксом политический анализ событий, предшествующих установлению бонапартистского режима во Франции, не только кажется нам объективно верным, он кажется нам актуальным и в отношении других ситуаций,
10 Берлин И. Указ. соч. С. 374.
24
ВЕЧНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ
произошедших в последующие полтора столетия после бонапартистского переворота?
Возьмем, к примеру, сюжет, связанный с одним весьма свежим в середине XIX века лозунгом. Речь идет о псевдоидеологической конструкции, к помощи которой часто прибегают режимы «промежуточного характера». Эта «промежуточность» — между демократией и не-демократией (монархией, а чаще всего — авторитарным режимом, иногда даже тоталитарным или около того); под властью подобных режимов обычно находятся общества с неустоявшейся классовой структурой, где экономически и социально преобладает буржуазия, — при этом совершенно необязательно, что буржуазия в них преобладает политически и даже культурно. Довольно часто речь идет об обществе, сложившемся в результате недавних серьезных потрясений вроде революций, войн или экономических переворотов. Собственно, когда Маркс говорит о «бонапартизме» как типе политического режима, он говорит о таком обществе. Касаясь этого сюжета, Маркс точно описывает очень многие политике-идеологические ситуации последних 150 лет, от португальского Салазара до российского Путина третьего срока:
Все классы и партии во время июньских дней сплотились в партию порядка против класса пролетариев — партии анархии, социализма, коммунизма. Они «спасли» общество от «врагов общества». Они избрали паролем для своих войск девиз старого общества: «Собственность, семья, религия, порядок», и ободряли контрреволюционных крестоносцев словами: «Сим победиши!» Начиная с этого момента, как только одна из многочисленных партий, сплотившихся под этим знаменем против июньских повстанцев, пытается в своих собственных классовых интересах удержаться на революционной арене, ей наносят поражение под лозунгом: «Собственность, семья, религия, порядок!» Общество оказывается спасенным каждый раз, когда суживается круг его повелителей, когда более узкие интересы одерживают верх над более общи
25
MODERNITfc В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
ми интересами. Всякое требование самой простой буржуазной финансовой реформы, самого шаблонного либерализма, самого формального республиканизма, самого плоского демократизма одновременно наказывается как «покушение на общество» и клеймится как «социализм». Под конец самих верховных жрецов «религии и порядка» пинками сгоняют с их пифийских треножников, среди ночи стаскивают с постели, впихивают в арестантскую карету, бросают в тюрьму или отправляют в изгнание, их храм сравнивают с землей, им затыкают рот, ломают их перья, рвут их закон — во имя религии, собственности, семьи и порядка. Пьяные толпы солдат расстреливают стоящих на своих балконах буржуа — фанатиков порядка, оскверняют их семейную святыню, бомбардируют для забавы их дома — во имя собственности, семьи, религии и порядка (с. 128).
Тут интересна политическая логика постреволюционного времени, как его описывает Маркс.
Необходимость для власти балансировать между несколькими социальными группами приводит одновременно к двум совершенно разным процессам. С одной стороны, власть пытается найти политический лозунг, который заменил бы ей политическую (то есть более социально однородную, более классовую) платформу, — она же не может в такой ситуации поставить только на один класс! В таком случае в ход идут ценности не узко-политические, а как бы над-политические, над-экономические, ценности (псевдо-)морального порядка. Они по (исторической) природе своей буржуазны, но апеллируют к неким фантомным добуржу-азным «традиционным» (чуть ли не к так называемым «вечным») ценностям. Каждый из участников этого нового общественного договора видит в них свое; сама же власть держит себя на дистанции, сохраняя за собой лишь роль «протектора» ценностей, предоставляя обществу самому играть в них, давая выход своему постреволюционному охранительному страху. С другой стороны, чтобы вести такую политическую и идеологическую игру, власть должна быть очень под
26
Вечная современность
вижной, внимательной, расчетливой и монолитной. Оттого она все время отсекает от себя неустойчивые элементы; власть концентрируется, пока не оказывается представлена довольно узкой группой. В этом ее сила, но в этом и ее слабость: «Общество оказывается спасенным каждый раз, когда суживается круг его повелителей, когда более узкие интересы одерживают верх над более общими интересами».
Но вернемся к вопросу, заданному несколькими абзацами выше. Отчего марксов анализ конкретной политической ситуации рубежа 1840-1850-х годов до сегодняшнего дня кажется нам верным? Еще раз: Маркс принципиально считал, что объективного анализа не бывает, соответственно, и свой анализ он считал необъективным, ангажированным, исходящим из неких разделяемых им интересов. Получается ли, что признавая ход его мысли верным, мы тем самым заранее отказываем себе в объективности и автоматически разделяем марксистские взгляды относительно классовой борьбы и грядущего триумфа коммунизма? Или Маркс в данном конкретном случае оказывается «верным» не оттого, что учение его «всесильно», он просто так, случайно, ненароком попал в десятку, метясь совершенно в другую цель?
Ответить на такой вопрос очень сложно, ведь мы столкнулись со знаменитым логическим трюком марксизма, с одной стороны, исключающим полемику с ним на его же поле, и с другой — исключающим правомерность существования любых иных полей. Более того, от разоблачения этот трюк ничуть не проигрывает, он продолжает быть эффективным и даже эффектным. Можно сколько угодно указывать обманщику на карлика, хитроумно упрятанного внутри механической куклы, играющей в шахматы, но в ответ мы не получим ни смущения, ни даже попыток оправдаться. Нам скажут лишь, что подобный трюк является единственно возможным и тот, кто вопит об обмане, верит в нелепые чудеса вроде механических кукол, умеющих
27
MODERNITY В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
самостоятельно играть в шахматы. На самом же деле комбинация карлика, куклы, приводимой им в движение, стола с шахматами и сложных ширм, за которыми прячется настоящий игрок, есть доказательство верности идеи о том, что такую комбинацию действительно можно создать и что она действительно будет успешно приводить в недоумение простаков. Иными словами, мы либо в партии трюкачей, либо среди простаков. Из сказанного следует два вывода. Считая некоторые аналитические положения «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» верными и даже актуальными в отношении некоторых позднейших ситуаций, мы либо признаем себя марксистами (то есть трюкачами), либо намеренно продолжаем оставаться в ситуации, когда марксизм производит впечатление объективной истины, вне зависимости от того, что он говорит о невозможности таковой (то есть признаем себя простаками). И в первом и во втором случае перед нами еще одно доказательство того, что XIX век продолжается и что мы существуем (то есть думаем, а не существуем) в контексте современности.
БУРЖУА И ТАЙНА ЗОЛОТОГО
СЕЧЕНИЯ СОЦИУМА
Другой пример убеждающего анализа в «Восемнадцатом брюмера» — там, где Маркс тщательно разбирает истинные мотивы и политическую риторику группировок французских легитимистов и орлеанистов. В режимах Реставрации и Июльской монархии Маркс обнажает классовую структуру и систему классового господства; в первом случае — господства земельной аристократии, во втором — крупной финансовой буржуазии и обслуживающей ее «интеллигенции» (в основном имеются в виду столичные профессора, журналисты, прочие литераторы). Внешне анализ этот кажется безупречным, в нем есть жесткая логика; однако его можно (и должно) поколебать вопросом об
28
Вечная современность
исходных данных. Действительно ли в эпоху Реставрации так экономически и политически была сильна земельная аристократия, не опирался ли тот режим на иную социальную базу, не выражал ли и чьих-то иных интересов? То же самое можно сказать и по поводу Июльской монархии. Ответы же следует искать в специальных исторических работах, в исследованиях по социально-экономической ситуации во Франции в первой половине XIX века. Нас же сейчас интересует не это — обратим внимание на саму по себе логику рассуждений автора. Перед нами типичный марксизм: логика рассуждения есть одновременно предлагаемая нам логика классовой борьбы, которая является логикой истории (самая интересная часть эссе Исайи Берлина посвящена как раз этой фундаментальной особенности учения Маркса). Внутри все стройно и последовательно; но дальше мы наблюдаем странный трюк: внезапный конец/отмена истории, логики истории, логики классовой борьбы, самбй классовой борьбы. Извне последовательного марксова рассуждения появляется идея конечного краха старого общества и триумфа коммунизма. Эта идея не только ставит в кавычки историю как нечто, имеющее начало и конец (Маркс называет «историю» «предысторией», но у него тут свой резон), она в некотором смысле ставит в кавычки сам марксизм как рационалистический европейский проект с его собственной логикой. Здесь мы опять видим явное предвосхищение будущего конфликта авангарда и концепции современности; современность, modernity (и ее художественный продукт, модернизм) имеет свою логику, современность отвергает прошлое — но логически доказывая, на каких основаниях это делает. Более того, она — будучи в каком-то смысле, как это ни странно, по-буржуазному добропорядочной — создает свою собственную историю со своим «близоруким» прошлым. В этом вся идея современности. По той же причине Маркс — агент modernity,
29
ModernitE в избранных сюжетах
но только отчасти. Стоит явиться в марксовых рассуждениях некоей внешней, отменяющей все предыдущее силе — и Маркс перестает быть современным; так и художественный авангард с культом дикости и экзотических древних цивилизаций в каком-то смысле намеренно отказывается быть современным.
Сознание современности находится между историей (то есть наделяемым смыслом прошлым), не доверяя ей, но признавая ее как концепцию (и видя себя продуктом собственного прошлого), — и будущим, в котором современность сохранится в радикально улучшенном виде. С точки зрения Маркса, такая позиция является мелкобуржуазной; заметим, что «мелкобуржуазное» у Маркса применительно к типу сознания (если убрать жесткие социально-экономические критерии) равняется «буржуазному» в европейском понимании, сформулированном Бодлером и Флобером. Анализируя поведение Горы в Национальном собрании в 1849 году, Маркс отмечает, что она на некоторое время объединила интересы пролетариата и мелкой буржуазии, убрав крайности, «демократизировав» требования первого — и «социализировав» до того чисто политические, «демократические» требования второй. Гибрид же (Маркс этого не говорит прямо, но подразумевает) получился все равно мелкобуржуазным (то есть «буржуазным») по сути: пролетариат, пожертвовав качеством требований, фактически перестал выполнять свою главную, с марксистской точки зрения, функцию — быть инструментом низвержения старого мира. Вместо этого пролетариат озаботился его улучшением (сюда входят и столь презираемые Марксом «права человека») — и улучшением своего положения в улучшающемся мире. В итоге пролетариат, потеряв свое историческое предназначение, потерял идентичность, превращаясь в мелких буржуа. Под последними Маркс имеет в виду не просто обычных лавочников и ремесленников; в «Восемнадцатом брюмера» он развивает крайне интересную мысль о мелкой буржуазии
30
Вечная современность
не столько как о социальном классе с его собственными экономическими и политическими интересами, а скорее как о типе (социального и не только) сознания. Мелкая буржуазия — точнее, мелкобуржуазное сознание — претендует на то, чтобы выражать интересы чуть ли не всего общества, создать образец поведения, моральных ценностей и т.д. Вот здесь критика Марксом мелкой буржуазии сходится с критикой буржуазного сознания Флобером. Аристократ, крупный промышленник, финансист не могут выражать интересы всего общества из-за своего социального эгоизма и снобизма — они обществу противостоят. Рабочие тоже не могут, ибо темны, необразованны, неразвиты и деструктивны. Они, конечно, обществу не противостоят, наоборот, весьма ценны, так как работают своими руками, однако рабочие нуждаются в некотором управлении и руководстве. Только мелкий буржуа находится в золотой середине и знает тайны золотого социального сечения. Маркс пишет:
Но демократ, представляя мелкую буржуазию, т.е. переходный класс, в котором взаимно притупляются интересы двух классов, — воображает поэтому, что он вообще
* стоит выше классового антагонизма. Демократы допускают, что против них стоит привилегированный класс, но вместе со всеми остальными слоями нации они составляют народ. Они стоят за народное право; они представляют народные интересы. Поэтому им нет надобности перед предстоящей борьбой исследовать интересы и положение различных классов. Им нет надобности слишком строго взвешивать свои собственные средства. Им стоит ведь только дать сигнал — и народ со всеми своими неисчерпаемыми средствами бросится на угнетателей (с. 151).
Не будем даже вспоминать Флобера и других, просто поставим в этой цитате «средний класс» вместо «мелкой буржуазии» и получим идеальное описание нынешнего господствующего на Западе представления об универсальной спасительной и примиряющей роли
31
MODERNITfc В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
среднего класса. Как мы видим, Маркс предвосхитил нынешнюю мантру11. Дело не только в проницательности (почти гениальной) автора «Восемнадцатого брюмера»; если серьезно подумать, начинает казаться, что в каком-то (и очень важном!) смысле мы действительно живем в мире Карла Маркса. Если так, то современность, modernity, как способ политического мышления продолжается — значит, и XIX век пока не кончился.
СОВРЕМЕННОСТЬ БЕЗ БЕРЕГОВ
Итак, буржуазное сознание претендует на универсальность. Оно претендует на то, что только оно может представлять интересы народа, интересы нации, оно является источником идеи справедливости, прав человека и демократии. Его универсальность сообщает всем своим вышеперечисленным плодам универсальный характер. Более того, только его — буржуазного сознания и самой буржуазии — прошлое породило настоящее, в том числе и революционное. В определенном смысле это сознание, оборачиваясь назад, оказывается в циклическом времени мифа, а не линейном времени истории, так как постоянно проигрывает по кругу одни и те же сюжеты из собственного прошлого. Претендуя на универсальность, буржуазное сознание претендует на всеобщность этой универсальности; оно разрешает все загадки и дает ответы на все вопросы, от биологии до экономики, от философии до мате
11 Смотри также рассуждения Маркса о среднем классе в «Заключении» (только его оценка этой роли, по понятным причинам, противоположная). В каком-то смысле, универсализму буржуазии, среднего класса Маркс противопоставляет еще больший универсализм пролетариата; если первая выражает интересы нации, то второй — человечества в целом. Исайя Берлин отмечает: «Он отождествлял интересы одной группы, или класса, — эксплуатируемого пролетариата, — с интересами всего человечества в целом» (Берлин И. Указ. соч. С. 369).
32
Вечная современность
матики. С помощью науки и техники оно подчиняет себе весь мир — мир людей, вещей, мыслей. Буржуазное сознание видит себя беспредельно самодостаточным и беспредельно саморасширяющимся; главный инструмент саморасширения — идея прогресса. Будущее этого сознания есть будущее современности, а не всего человечества со всей его историей. Будущее представляется лишь направлением, куда из настоящего изливается поток прогресса.
Иными словами, современность есть просто иное название для окончательного триумфа буржуазного сознания. Не стоит особенно высокомерно взирать с теоретических высот на бодлеровские клубы парфюма и пудры — из какой еще пены должна явиться миру Афродита-Буржуазия?
Но вернемся к первым абзацам «Восемнадцатого брюмера» о старых тряпках, в которые рядятся революции второй трети XIX века. Здесь можно обнаружить намек на то, как именно буржуазное сознание, современность, будучи всеобщим и всепоглощающим, обращается с чужой историей, с тем, что было до нее. Нет, современность не отказывает ей в существовании, наоборот, она вытаскивает из забвения целые народы и историко-культурные эпохи — как великие археологи XIX — начала XX века открыли современному им миру Трою, Древнее Междуречье, микенскую культуру и т.д. Но современность делает это не из чистого любопытства (что не отменяет чистоты помыслов многих ее героев, конечно): без этих вырытых из земли как бы ненужных старых вещей, без чужой истории всеобщность триумфа буржуазного сознания будет неполной. Так многие империи, одержимые идеей бесконечного расширения господства, не могут остановиться и «из принципа» завоевывают одну ненужную заморскую территорию за другой. Открыв и описав эти неизвестные ранее куски чужого прошлого, современность закрепляет свое господство над ними с помощью музеев, архивов
33
MODERNITfc В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
и объемистых библиографий. Раннему периоду формирования буржуазного сознания до его господства, накануне наступления современности было еще выгодно прагматически и символически использовать чужое прошлое, не считая его пока чужим, обретая в нем свою легитимность, — как Великая французская революция использовала Античность. Укрепившись, победив тем или иным образом, современность отказалась от этой идеи как недостойной своей универсальности — вместо использования чужого прошлого буржуазное сознание стало считать себя продолжением исключительно своей историй, через которую и стало прочитывать ту, другую историю — причем любую, по своей прихоти выхваченную, как писал Мандельштам12, из тьмы веков.
И здесь вновь возникает вопрос: по-прежнему ли мы живем в ту самую эпоху современности7 С точки зрения нашего знания о прошлом (о чужом прошлом, о котором только что шла речь) — конечно, да. Наше историческое знание покоится почти исключительно на результатах трудов историков, филологов, лингвистов, археологов, археографов, издателей XIX — первой половины XX века. Даже если мы воображаем, что далеко ушли, скажем, от «историографии Лавис-са и Рамбо»13 (а на самом деле мы не ушли далеко, достаточно посмотреть на 99 процентов нынешней научно-популярной и академической исторической продукции), но движемся мы по рельсам, сделанным из лависсрамбовской стали; более того, сама идея того, что можно перемещаться по рельсам, в само-движущемся экипаже, принадлежит тем же условным
12 См. эпиграф к этому тексту.
13 Нарицательный термин, введенный французскими историками Школы Анналов, который обозначает типичную позитивистскую историографию конца XIX века. Эрнест Лависс и Альфред Рамбо — авторы и редакторы подробных многотомных обобщающих изданий вроде «Histoire generate du IV siecle a nos jours».
34
Вечная современность
Лависсу и Рамбо. Они — наши немного старомодные дядюшки, на чье наследство мы живем, чьи капиталы мы вкладываем в ультрасовременные проекты.
Но вот что интересно. Это универсальное знание современности о любом чужом прошлом существует, релевантно, вообще имеет смысл только в своих собственных пределах, то есть в пределах modernity и буржуазного сознания14. Вне этого его просто нет. Здесь проходит граница всеобщих притязаний современности, как бы она ни старалась не замечать эту границу. Любое сознание, для которого Ксеркс важнее царя Леонида, а споры о датах жизни Будды не имеют ни малейшего значения и смысла, находится за пределами современности. Соответственно, перед буржуазным сознанием встает вопрос, как относиться к данному факту. Самое простое — включить это несовременное в собственную современную картину как неперевариваемый элемент, сами же его дискретность и неперевариваемость лишь подчеркивают универсальный и всеобщий характер современности, так как только она задает рамки и возможность одновременного сосуществования самой себя и отсутствия самой себя. Так возникает идея мультикультурализма, которая есть прямое продолжение бесконечной экспансии современности, буржуазного сознания иными средствами. Мультикультурализм — не признак ослабления или даже конца modernity, наоборот — показатель того, что этот тип сознания жив, силен, способен на самые рискованные и изощренные авантюры. И тогда мы вновь вынуждены констатировать, что в каком-то очень важном смысле живем в XIX веке.
14 Значит, не один марксизм имеет сложные отношения с объективной истиной. Только Маркс честно отказывал такой истине в существовании вообще, а буржуазное сознание наивно считает себя носителем таковой.
35
ModernitE в избранных сюжетах
АПОЛОГИЯ БОГЕМЫ
В четвертой главе своей книги15 Роберто Калассо приводит письмо Бодлера другу, где он рассказывает о своем странном сне. В сновидении поэт оказывается в борделе, который в то же самое время представляет собой торжество современности. Бордель как чуть ли не идеальный образ общества — эта идея пришла в голову не одному Бодлеру, но только он связал вместе ее, современность (одно из его определений истинно современного художника — тот, который рисует проституток) и богему. Богема современна, богема испытывает жгучий интерес к борделям; в каком-то смысле богемный человек, как и обитатели борделя (и как и сам Шарль Бодлер), принадлежит если не к отбросам современного общества, но уж, по крайней мере, к тем, кто находится за пределами жесткой социальной структуры. В то же время богема важна, ибо только она наиболее остро выражает современность — и понимает ее как никто иной. Странным образом к теме богемы обращается и Маркс в связи с анализом социальной базы бонапартистского движения. Он пишет:
...его16 всюду сопровождали члены Общества 10 декабря. Это общество возникло в 1849 году. Под видом создания благотворительного общества парижский люмпен-пролетариат был организован в тайные секции, каждой из которых руководили агенты Бонапарта, а во главе всего в целом стоял бонапартистский генерал. Рядом с промотавшимися кутилами сомнительного происхождения и с подозрительными средствами существования, рядом с авантюристами из развращенных подонков буржуазии в этом обществе встречались бродяги, отставные солдаты, выпущенные на свободу уголовные преступники, беглые каторжники, мошенники, фигляры, лаццарони, карманные воры, фокусники, игроки, сводники, содержатели публичных домов, носильщики, писаки, шарманщики, тряпичники, точильщики, лудильщики, нищие — сло-
15 Calasso R. Op. cit. Р. 127-154.
16 Луи Бонапарта.
36
Вечная современность
'вом, вся неопределенная, разношерстная масса, которую обстоятельства бросают из стороны в сторону и которую французы называют la boheme (с. 167).
Такое вот странное описание богемы — и не менее странное выставление ее в качестве чуть ли не главной силы, поддержавшей Луи-Наполеона. Что это значит?
На первый взгляд очевидно: марксова теория классовой борьбы оперировала большими социальными понятиями. Все не попадающее под главное определение, исходящее из недвусмысленного отношения к средствам производства, оказывалось под сомнением и раздражало. Дело даже не в том, что подозрительные субъекты «выбивались из схемы», все гораздо серьезнее: они ускользали от марксистской телеологической идентификации. То есть Маркса интересует ответ не на вопрос «кто они?», а «для чего они?». И тут начинается самое интересное. Для Маркса с его идеей (мелко-)буржуазного сознания, претендующего на универсальность и всеобщность, такой вопрос стоять не должен. Богема есть необходимый элемент современного общества, довольно важный — так как именно здесь, за пределами жесткой классовой схемы, неприкрыто, безо всякого стыда реализуются интенции современности. Богема как бы не принадлежит никому, она состоит, по марксову же определению, из «подонков»; именно поэтому она является идеальным авангардом будущего бонапартистского режима, который покоится на комбинации интересов различных классов. Луи-Наполеон разом и революционен, и реакционен; он народен и автократичен; он подозрителен к органам представительной демократии (последовательно их ослабляя и уничтожая); он предпочитает апеллировать прямо к «народу» — либо не спрашивать разрешения на свои действия вообще. Он сам «подонок», он сам «богема». Получается, что в определенные моменты политической истории именно такого рода люди способны создать балансирующую между разными группами населения систему власти.
37
ModernitE в избранных сюжетах
Но если переключиться из чисто социально-политического контекста современности в культурный, мы увидим, что здесь богема выполняет ту же самую функцию. Она презирает устоявшиеся культурные иерархии и предлагает прямое высказывание поверх (или вбок от) социокультурного заказа, опосредованного этими иерархиями и соответствующими институциями. Она рабски зависит от имущих классов (за счет подачек которых и существует), но все время нападает на них и даже постоянно оскорбляет их. Она презирает низшие классы и низовую «обывательскую» культуру — и в то же время в своем бунте против истеблишмента делает вид, что солидаризируется с «простыми людьми», особенно с самыми социальными низами. Наконец, богема принципиально современна (более того, претендует на то, чтобы диктовать культурную моду) и даже революционна, но вместе с тем она же часто щеголяет своей старомодностью, отрицает буржуазный прогресс, тяготеет к архаике и т.д. В этом смысле очень важно, что именно Вторая Империя породила богему в ее классическом — и существующем до сих пор! — виде. Если нужны какие-то еще доказательства, что мы по-прежнему живем в XIX веке, в современности, в эпоху господства буржуазного сознания, то это обстоятельство есть одно из главных.
Маркс в «Восемнадцатом брюмера» крайне злобно настроен в отношении тех, кого он называет богемой; любопытно также, что его критика носит почти исключительно моральный характер. Кажется, перед нами не идеолог пролетарской революции и пророк грядущего конца старого мира и триумфа коммунизма, а обыватель и ханжа (и это при том, что ханжой Маркс не был ни в коем случае17). В чем же дело? Маркса раздражает не только то, что «подонки», «люмпены» есть исключение из установленных им же правил; его
17 «Маркса приводили в бешенство все рассуждения об универсальной морали и общечеловеческих принципах», — пишет Берлин (Берлин И. Указ. соч. С. 396).
38
Вечная современность
бесит легкость, с которой этот «сброд» решает политические задачи (а в то же самое время и культурные, о чем Маркс не знал), оказавшиеся не по зубам пролетариату (и другим «нормальным» классам). «Богема» при таком раскладе вовсе не символ грядущего скорого разложения старого порядка, а совершенно необходимый — и успешно действующий, несмотря на всю внешнюю свою расхлябанность, — элемент структуры современного мира. Маркс достаточно проницателен, чтобы понимать это. Отсюда злость и странные всплески обывательского морализма. Через 12 лет после написания «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта», создавая Первый Интернационал, Маркс столкнется с тем, что богема оказалась не только действеннее пролетариата и его идеологов, она подвижнее, гибче и в каком-то смысле действительно эффективнее. Глядя из начала XXI века, наблюдая символы, знаки и слова окружающего нас мира, которые придумали дадаисты, Энди Уорхол, Ги Дебор, контркультура шестидесятых-семидесятых и прочие агенты хаоса и анархии, мы должны признать, что богема победила. А пролетариат, спросите вы? Он просто исчез.
Казус Кафки
(ПОИСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ)
Франц Кафка похоронен на Новом еврейском кладбище в Праге. Макс Брод утверждает, что обнаружил в архиве своего покойного друга не меньше страниц с упражнениями в древнееврейском языке, нежели литературных сочинений, дневников и писем на немецком. В Великобритании и США Кафку часто называют «чешским» писателем, да и нынешние власти Чехии не прочь украсить портретом Кафки местный культурно-исторический иконостас. Подход — типично «территориальный»: писатель жил на территории нынешней Чехии, потому он чешский. Такой подход выгоден и для ретроспективного формирования «чешской (прежде всего, «пражской») культурной традиции», и в более приземленных интересах развития туристической индустрии в Праге1. В Совет
1 Ярчайший пример — «музей Франца Кафки» на Малой Стране, в туристическом средневековом пражском районе, который почти никак не связан с жизнью писателя. Музей этот — наряду с пражским же музеем Альфонса Мухи или венской квартирой-музеем Фрейда — представляет собой совершенно новую, «коммерческую» разновидность персональных музеев; обычно они создаются частными лицами для получения прибыли. Билеты в такие музеи стоят дорого, экспозиция состоит в основном из «вещей той эпохи», которые могли бы окружать «писателя К.», «художника М.», «психоаналитика Ф.». В эпоху создания национальных государств музеи создавались как памятники формирования наций и национальных культур; сама структура этих музеев । предполагала, что выставленные вещи уже логикой своего размещения в музейных залах должны вести зрителя к осознанию важности и уникальности исторического пути того или иного народа (или того или иного писателя, художника, ученого). Идея нации и национальной культуры возникала из сочетания предметов, специальным образом размещен-
40
Казус Кафки
ском Союзе в начале 60-х годов, когда Кафку начали переводить на русский, его называли «австрийским» писателем. Это подход уже не территориальный, а «паспортный»; идентичность становится продолжением подданства (или гражданства). Нередко можно встретить упоминание о «немецком писателе Франце Кафке» (здесь налицо «языковая прописка») и, конечно же, о «еврейском писателе Кафке» — в данном случае торжествует этнический подход. Даже в первом раунде обсуждения против каждого из этих подходов можно высказать серьезные возражения. Самый слабый из способов идентификации — территориальный. Часто писатель живет на некоей территории, но пишет на языке, здесь не распространенном, и принадлежит иной культурной традиции. Витольд Гом-брович долго жил в Аргентине, потом во Франции, однако он польский писатель. Пауль Цел ан — не французский поэт, Адам Мицкевич — не русский, Джеймс Джойс — не итальянский, не французский, не швейцарский прозаик. Можно, конечно, судить по месту рождения, но тогда Хулио Кортасар — бельгийский писатель и поэт. К тому же, территория, на которой жил Кафка, называлась сначала Богемией, потом Чехией; большую часть своей жизни он был подданным Австро-Венгерской империи, меньшую — гражданином Чехословакии. Значит ли это, что до 1918 года он был богемским писателем, а потом — чешским? Подобные претензии можно предъявить и тем, кто пытается установить идентичность Кафки «по паспорту». Иначе получается, что он — австро-венгерский писатель, ставший потом чехословацким. Конечно,
ных в залах. Количество исторических вещей переходило в качество национальной идеи. В случае же «новых музеев» не идея, например, «великого писателя» эманировала из совокупности собранных в музее личных его вещей; наоборот, «идея великого писателя» придает «истинность» выставлен-и, ным (довольно случайным) предметам. Идея «торжества истории» заменяется идеей «торжества контекста».
41
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
можно было бы назвать Кафку немецким писателем — ведь он писал по-немецки и публиковался в немецких издательствах. Но если Роберта Музиля или Йозефа Рота называют австрийскими писателями, то в таком случае как мы можем назвать Кафку немецким? И наконец, о последнем варианте, исходящем из национальности Франца Кафки. Он был евреем, происходил из правоверной еврейской семьи, однако сам не был религиозным иудеем, иврит учил, да не выучил, писал исключительно по-немецки. Если он — еврейский писатель, то Мандельштам уж точно — еврейский поэт.
Столкнувшись с такими, на первый взгляд, неразрешимыми сложностями, обратим внимание на два важнейших обстоятельства. Во-первых, на уникальное мультиэтническое и многокультурное сообщество, которым была Прага конца XIX — начала XX века. Во-вторых, попытаемся выяснить, с какой религией, культурой, литературой, с какой историей, наконец, с каким народом отождествлял (или хотел отождествлять) себя Франц Кафка. Но начнем все-таки с Праги.
СИСТЕМА КООРДИНАТ: МЕСТО
В 1910 году в Праге, третьем по численности городе Австро-Венгерской империи, проживало около 230 тысяч человек; с пригородами (включая районы, которые сейчас фактически находятся в центре города, например Жижков) — около 600 тысяч. Чуть меньше 91 процента населения города составляли чехи, около 9 процентов — немцы2 *. Евреи при переписи записывались либо в состав первых, либо в состав вторых. Историк Петер Демец приводит такие данные: к 1900 году 14 576 пражских евреев декларировали, что они являются чешскоязычными, all 599 настаивали
2 Salfellner Н. Franz Kafka and Prague. Prague: Vitalis Prague,
1996. P. 7.
42
Казус Кафки
на том, что их язык — немецкий3. При этом, конечно, ключевые экономические, социальные и культурные позиции занимали отнюдь не чехи; современник Кафки Эгон Эрвин Киш писал: «Трудно себе представить такое явление, как немецкий пролетариат»4. В городе говорили в основном на двух языках, но, конечно же, языком элиты был по большей части немецкий. Это не значит, что на чешском говорили только низы общества; многие немцы — и, конечно, евреи — знали его, но знание это было вынужденным и чаще всего определялось необходимостью вести дела. Пражские евреи знали, конечно, идиш, или «жаргон», религиозные евреи и активисты недавно созданного сионистского движения учили древнееврейский, но в повседневной жизни чуть меньше половины их были немецкоязычными. Евреи из богемской провинции, наоборот, были ближе к чехам — так, отец Кафки Герман знал чешский язык и, как считает друг и биограф Франца Кафки Макс Брод, некоторое время даже симпатизировал чешским националистам. Не следует забывать и еще одно важное историческое обстоятельство — в конце XIX века пражское гетто подверглось радикальной перестройке и фактически перестало быть «еврейским сердцем» Праги — одним из ее трех «этнических сердец». Эмансипацию пражских евреев можно проследить на примере семьи Кафки — они никогда не жили в бывшем гетто, и Герман Кафка никогда не держал там свой магазин. Наоборот, среди адресов его лавки был даже дворец Кинских на Староместской площади, тот самый, в котором размещалась немецкая гимназия, где учился Франц.
Культурная жизнь города текла тремя параллельными потоками — немецким, еврейским и чешским. Самым полноводным из них был немецкий: два лучших
’ Demetz Р. Prague in Black and Gold. The History of The City. Harmondsworth: Penguin Books, 1998. P. 317.
4 Salfellner H. Op. cit. P. 8.
43
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
театра, университет, концертный зал, пять средних школ и несколько ежедневных газет. Однако чешский национальный элемент оказывал все более сильное давление на немецкий — начиная еще со времени так называемого «Чешского Возрождения». В Праге были чешские театры, чешский Технический университет, конечно же, чешские школы, газеты, клубы. С ростом экономического могущества чешских буржуа чешский язык, где только возможно, вытеснял немецкий. В результате немецкий культурный элемент пражской жизни — очень сильный и плодотворный, подаривший мировой литературе не только Франца Кафку, но и Густава Майринка или Франца Верфеля, — оказался изолирован. Две пражские литературы — немецкоязычная и чешская — развивались совершенно параллельно, практически не пересекаясь, точно так же, как представители обеих литератур сидели в одном и том же кафе «Монмартр» в Старом Городе, однако друг с другом почти не общались. Действительно, Франц Кафка и Ярослав Гашек, не замечающие друг друга в тесном зале, битком набитом веселящейся богемой, — вот что может быть символом пражской культурной ситуации начала прошлого века. Но не следует забывать и другое. Пражских литератур было две, но они делили одни и те же темы, — оттого некоторые исследователи сейчас говорят о едином «пражском литературном тексте»5. Евреям приходилось выбирать между двумя этими потоками. Богатые, городские евреи чаще всего вливались в пражский немецкий культурный поток, более бедные, пригородные и провинциальные — тяготели к чешскому. Вспомним Германа Кафку. Родившись в деревне Осек в Южной Богемии, он в молодости старался выдавать себя за чешского обывателя. Но разбогатев, Герман Кафка несколько сменил национально-социальную ориентацию и воспитал
5 См., напр.: Бобраков-Тимошкин А.Е. «Пражский текст» в чешской литературе конца XIX — начала XX веков: автореф. дис.... канд. филол. наук. М., 2004.
44
Казус Кафки
детей в немецком духе, не порывая при этом с чешской пражской жизнью (в отличие от своей жены, он вообще предпочитал говорить по-чешски) и продолжая в то же время посещать синагогу. В знаменитом «Письме отцу» Франц Кафка даже упрекнет Германа Кафку в том, что тот поставил себя выше всех народов, участником жизни которых он так или иначе был: «Ты мог, например, ругать чехов, немцев, евреев, причем не только за что-то одно, а за все, и в конце концов никого больше не оставалось, кроме Тебя»6. Впрочем, как мы увидим, в поисках национальной идентичности сын не оказался последовательнее отца — хотя и совсем по другим причинам.
Итак, национально-культурная ситуация Праги начала прошлого века, одной из столиц Австро-Венгерской империи, предлагала начинающему писателю из обеспеченной семьи местных евреев выбор — пусть небогатый, но все-таки выбор. Он мог остаться в рамках еврейской словесности — благо литература на идиш переживала тогда бурный рост, завоевывая все новые жанровые области. Он мог бы, при известных желании и настойчивости, писать по-чешски — а чешская литература тогда переживала столь же бурный расцвет. Наконец, Франц Кафка мог бы стать тем, кем он в конце концов стал — пражским немецкоязычным автором. Почему был сделан именно этот выбор? Насколько он был осознанным? Исчерпывает ли это определение — пражский немецкоязычный автор — позицию самого Кафки?
СИСТЕМА КООРДИНАТ:
ОБРАЗОВАНИЕ, ОКРУЖЕНИЕ, СЛУЖБА, ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ
Франц Кафка получил немецкое образование. Он учился в немецкой школе, закончил немецкий универ
6 Кафка Ф. Сочинения: в 3 т. Т. 3. М.: Худ. лит.; Харьков: Фолио, 1994. С. 36. Далее — Сочинения.
45
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
ситет. Его родным языком был немецкий — других он основательно так и не смог выучить, хотя довольно прилежно занимался древнегреческим, французским и древнееврейским. По-чешски он мог сносно читать, изъясняться7 и даже вставлял в письма Милене Есенской чешские выражения. Родственники Франца тоже в основном придерживались немецкой культурной ориентации, хотя стоило бы привести пример его троюродного дяди Бруно Кафки, который во времена империи был одним из лидеров немецких либералов в Праге, а после создания независимой Чехословакии стал депутатом чехословацкого парламента. О том, как сочетались немецкий и чешский культурные элементы в детстве Кафки, говорит такой факт, приведенный Максом Бродом: ко дням рождения родителей Франц сочинял маленькие пьесы, которые разыгрывали его сестры. Одна из этих пьес называлась «Георг фон По-дебрад». Георг фон Подебрад — немецкий вариант имени чешского национального героя, средневекового короля Иржи из Подебрад. В патриотической чешской историографии этот монарх считался чуть ли не единственным «национальным» королем в череде чужих правителей. Обратим внимание на оба обстоятельства: на выбор Францем героя пьесы и на его выбор способа написания имени этого героя.
В гимназии Франц Кафка подружился с двумя мальчиками из еврейских семей — Максом Бродом и Оскаром Поллаком. Судьба Брода известна — в немалой степени из-за того, что он был близким другом, душеприказчиком, издателем, биографом и интерпретатором Кафки. Макс Брод — автор многочисленных сочинений в различных жанрах, убежденный сионист, в конце концов уехавший в Палестину. Менее известен Оскар Поллак. После гимназии Поллак увлекся изучением итальянского барокко, истории папства и стал серьезным специалистом в этих областях. В от
7 «Разумеется, я понимаю по-чешски», — пишет он Милене в апреле 1920 года (Сочинения, т. 3, с. 278).
46
Казус Кафки
личие от Брода8, он педалировал свою «немецкость», точнее — «австрийскость»; в годы Первой мировой войны он добровольцем пошел в армию и был убит на итальянском фронте9. Заметим, что этот пражский еврей, буквально помешанный на итальянской истории и итальянском искусстве, был убит итальянской пулей, сражаясь в рядах австрийской армии. В гимназии Поллак оказывал на Кафку огромное влияние; подражая ему, Франц даже сначала записался в университете на химический факультет. Этим влияние Поллака не исчерпывалось. В письмах к нему Кафка несколько неожиданно начинает превозносить немецкий крестьянский патриархальный уклад жизни. Вот как он заканчивает описание одной деревни: «...тогда это все — словно милая, старая, тихая немецкая сказка»10. Естественно, эта мимолетная «немецкость» Франца Кафки была чисто эстетической, столь характерный для позднего романтизма и модерна; об этом говорит и Макс Брод: «Любовь к немецкой народности, при всей честности и, если можно сказать, невинности сердечных порывов, приводила порой к чисто внешней имитации “немецкое™”»11. Впрочем, тяга к поверхностной стилизации, к «украшательству» у молодого Кафки быстро пройдет.
Сам же Макс Брод на первых порах относился к Францу Кафке, как Кафка — к Оскару Поллаку. Имен-
, 8 Брод даже с некоторой обидой пишет о Поллаке: «На-
' сколько я знаю, Оскар Поллак никогда не занимался чисто
еврейскими проблемами...» (Брод М. О Франце Кафке. СПб.: Академический проект, 2000. С. 69. Далее — Брод).
9 Как тут не вспомнить похожую судьбу другого еврея, подданного Австро-Венгрии, только не пражанина, а вен-:1 ца — Людвига Витгенштейна? Витгенштейн, слава Богу, не был убит на итальянском фронте, а попал в плен и написал «Логико-философский трактат», сидя в лагере для военнопленных.
10 Брод, с. 70.
11 Тамже, с. 69.
47
MODERNITfc В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
но Кафка повлиял на формирование литературных пристрастий Брода, обратив его внимание на Штефана Георге, Роберта Вальзера и старых китайских поэтов. Компания довольно пестрая, включающая немецкого поэта-символиста и швейцарского немецкоязычного прозаика12. Вообще же, Кафка читал очень много и очень разных авторов — и вместе с Бродом, и сам по себе. Дневники и письма Кафки, воспоминания Брода, «Разговоры с Кафкой» Яноуха13 пестрят именами писателей и названиями книг на разных языках — от диалогов Платона и «Бхагавадгиты» до Флобера, Достоевского, Франсиса Жамма, Честертона и даже Михаила Кузмина. Почти нет только чешских книг — за одним14 очень важным исключением. Но об этом чуть позже.
После окончания юридического факультета университета и недолгой службы в итальянской страховой фирме, контора которой находилась в Праге, Франц Кафка в 1908 году устроился в полугосудар-ственную «Компанию по страхованию рабочих от несчастных случаев в Королевстве Богемия, Прага», где и проработал до своего раннего ухода на пенсию по болезни в 1920 году. Эта компания, бесперебойно снабжавшая Кафку материалом для конструирования бюрократических и судебных кошмаров «Процесса» и «Замка», представляла собой уменьшенную копию устройства жизни в многонациональной Праге, да и в Богемии тоже. До распада Австро-Венгрии и провозглашения независимой Чехословакии в «Компании» на большинстве должностей работали немцы или
12 Проза Вальзера способствовала формированию несколько инфантильного повествовательного стиля Кафки в ранних коротких вещах и «Америке».
13 Вне зависимости от того, является ли последняя книга мистификацией или нет.
14 Если не брать в расчет нескольких чешских авторов, которых Кафка лично знал, — например, Михаэля Мареша.
48
Казус Кафки
онемеченные евреи. Именно они страховали чешских рабочих — других в Богемии почти не было. Этническая стратификация была воплощена как в вертикальном характере процесса страхования (находящиеся на социальном верху немцы страхуют находящихся в социальном низу чехов), так и в горизонтальном, топографическом разделении на некий немецкий центр экономической, социальной и юридической власти и окружающий его (и подчиняющийся ему) мир чехов. Франц Кафка, который довольно часто выезжал на провинциальные фабрики расследовать на месте обстоятельства несчастных случаев с рабочими, прекрасно чувствовал последнее обстоятельство. Более того, по просьбе отца он несколько раз был вынужден путешествовать в чешские пригороды Праги, чтобы вести переговоры с жившими там работниками отцовского магазина. Записи в «Дневнике» об этих поездках можно считать'первыми набросками к «Замку»:
Не знаю, кем я кажусь в ее (местной чешской старухи. — К. К.) глазах, равнодушным, пристыженным, молодым или старым, нахальным или привязчивым, держащим руки на животе или за спиной, мерзнущим или разгоря-ченным, любителем животных или коммерсантом... кем кажусь участникам собрания, непрерывной цепочкой тянущимся из трактира в писсуар и обратно, высокомерным или смешным, евреем или христианином и т.д.15
Обратим внимание, что здесь, на чешской периферии Праги, внизу этносоциальной лестницы, Кафку начинают волновать вопросы идентификации — кем он выглядит в глазах местных жителей. Это упражнение в идентификации, начинаясь с эмоциональных состояний, заканчивается вопросом национального свойства; «еврей или христианин?» в случае Праги начала XX века — это не о религиозной принадлежности, а о национальной.
15 Кафка Ф. Дневники / вступ. ст., сост., пер. и коммент. Е.А. Кацева. М.: Аграф, 1998. С. 57. Далее — Дневники.
49
MODERNITt В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
Другим символом национальной ситуации в тогдашней Праге был сам город как архитектурноландшафтный ансамбль. Над Старым и Новым городом, населенными «обычными» людьми, высился (и высится) Град — императорская резиденция, находящаяся на горе и увенчанная башнями Собора Святого Витта. В этой резиденции австрийские императоры почти не жили, не считая полусумасшедшего мага-любителя Рудольфа Второго, страсть которого к Праге фактически стоила ему власти. Град был пустым местом власти: «пустым» — потому, что императоры жили совсем в другом городе, «власти» — потому, что Град все-таки продолжал быть имперской резиденцией, и его немногочисленное население составляли отчасти служители императорского двора. Так топографическая карта горизонтальной власти (в частности, власти одного народа над другим) в Богемии, центром которой была Прага, дополнялась вертикалью власти в самой Праге, явленной пражским Градом. В этой системе национально-властных координат развивались жизненные и литературные сюжеты Франца Кафки.
МИР ОТЦА И МИР ЖЕНЩИН
Главные жизненные сюжеты Кафки — попытки женитьбы и отношения с отцом — на самом деле являются одним сюжетом.-Я не буду рассматривать этот сюжет так, как его обычно рассматривают, — психоаналитически; более того, его религиозная интерпретация, начало которой положил еще Макс Брод, будет занимать нас только как один из способов разговора о национальной самоидентификации Франца Кафки. С этого разговора — об отношении писателя к иудаизму — и начну. Дело в том, что для Кафки (как и практически для любого молодого человека из правоверной еврейской семьи того времени) определение своей принадлежности к иудаизму почти полностью
50
Казус Кафки
совпадало с определением своей принадлежности к еврейству. Герман Кафка исправно посещал синагогу вместе с сыном, однако особого религиозного рвения не проявлял; в «Письме отцу» Франц упрекнет его в том, что такое превращение религиозного таинства в формальность надолго внушило ему отвращение к иудаизму. Сам Кафка относился к иудаизму (и еврейской жизни) двойственно. С одной стороны, он периодически проявлял нешуточный интерес к тому или иному аспекту этой религии, к некоторым сюжетам еврейской истории и культуры. Например, в 1910 году он близко сошелся с еврейской театральной труппой из Лемберга (Львова), посещал их представления и даже, несмотря на все свое отвращение к публичной деятельности, устроил вечер одного из актеров по имени Лёви, с которым подружился. Увлечение еврейским театром в немалой степени было связано с увлечением актрисой этого театра госпожой Чиссик; так для Франца Кафки поиски национальнорелигиозной идентификации оказались тесно связаны с миром женщин. Первые реализовывались во втором. Еще одним любопытным обстоятельством стало то, что театральная труппа, в судьбе которой принял столь горячее участие Кафка, была из-за пределов Богемии, из мира польско-русского еврейства, который (именно в силу нахождения далеко от Праги) обладал особой притягательностью для него. С тех пор почти любое движение Франца в направлении идентификации себя как еврея было связано с женщиной, причем с женщиной, имеющей отношение к миру за пределами Праги и Богемии. Первая невеста Кафки, Фелиция Бауэр, была из Берлина, знакомство их началось с обсуждения гипотетической совместной поездки в Палестину. Во время второй помолвки с Фелицией Франц мечтает устроить их совместную жизнь именно в Берлине. О желании уехать в столицу Германии он пишет в это время в дневнике, упоминает в разговорах с Бродом, сообщает роди
51
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
телям. С известного момента Берлин начинает даже ассоциироваться у Франца с Фелицией. Последнюю и, пожалуй, единственную свою счастливую любовь, Дору Диамант, Кафка находит в Германии в летнем лагере еврейского Народного Дома. Как актеры Лёви, госпожа Чиссик и другие, Дора происходит из мира польского еврейства: она была дочерью хасидского раввина, знала древнееврейский, но бежала из дома в Берлин. В Берлине же они с Францем и поселились — до тех пор, пока из-за экономического кризиса не вынуждены были уехать сначала в Прагу, а затем в Австрию, где Кафка и умер.
Итак, Франц Кафка пытался стать евреем посредством женщин, женщин не пражанок16, и за пределами Праги. Его любовная связь с чешкой Миленой Есенской, жившей тогда в Вене, также была попыткой идентификации и — одновременно — бегства из Праги. Через эту связь Кафка попытался приблизиться к чешскому миру: он регулярно читал статьи Милены в пражских чешских газетах, а она перевела на свой родной язык «Кочегара». Любопытно, что в «Разговорах с Яноухом», которые, если верить публикаторам, происходили в разгар романа Франца с Миленой, Кафка решительно встает на сторону чехов в их историческом споре с немцами. Яноух предлагает — для лучшего взаимопонимания обеих наций — издать чешскую историю на немецком языке. Кафка отвечает следующее: «Бесполезно. Кто станет ее читать? Разве что чехи и евреи. Немцы определенно не станут, они ведь не стремятся узнавать, понимать, читать. Они хотят только владеть и править...»17. Показательно, что евреи стоят в этом вы-
16 Единственное исключение — его вторая невеста Юлия Вохрыцек. С ней, местной жительницей, Кафка познакомился в самом центре Праги, в Риегровых садах. В этом случае географическое перемещение было заменено на социальное — взбираясь с Юлией по склону парка, Франц одновременно опускался вниз по социальной лестнице.
17 Сочинения, т. 3, с. 522.
52
Казус Кафки
сказывании Кафки рядом с чехами, точно так же как он был в это время эмоционально рядом с Миленой18.
В этом контексте спорадический энтузиазм Кафки по поводу еврейского национального движения и сионизма объяснить довольно легко — ведь речь шла о создании национального государства в далекой от Праги Палестине. В то же время для Франца было важным, чтобы этот интерес был добровольным, и он противился всякой его институализации: попытки Макса Брода навязать ему свой сионизм привели к временному взаимному охлаждению. Брод пишет в биографии своего друга, что он в ноябре 1913 года «мучил» его «приобщением к сионизму»19, а сам Кафка записывает в это время в дневнике: «Что у меня общего с евреями? У меня даже с самим собой мало общего...»20. Несколькими годами позже Брод случайно обнаруживает, что Кафка учит древнееврейский, но втайне от него. Что же до иудаизма, то с годами Франц, видимо, стал отделять его от собственно еврейства. В отношении иудаизма он оставался довольно холоден; по крайней мере об этом свидетельствует рассказ Брода. В 1916 году Брод повел Кафку к раввину-беженцу из Гродека, который жил в то время в Жижкове. Посещение это не произвело на Франца никакого впечатления. После этого Кафка с Бродом посетили хасидский молебен. Возвращаясь домой, Франц сказал своему другу: «Собственно говоря, это было похоже на дикое африканское племя. Ярко выраженное суеверие»21.
18 За девять лет до этого разговора Кафка занес в дневник рассуждение о так называемых «малых литературах». Вот как оно начиналось: «Все, что я узнал от Лёви о современной еврейской литературе в Варшаве, и то, что я знаю о современной чешской литературе...» (Дневники, с. ИЗ). Чехи и евреи тоже стоят здесь рядом.
19 Брод, с. 163.
20 Дневники, с. 199.
21 Брод, с. 178.
53
MODERNITt В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
Отношение Франца к иудаизму, очевидно, определялось его отношением к отцу. Для него религия ветхозаветного Бога Отца была религией его собственного отца — Германа Кафки, несмотря на то что отец не был ревностным иудеем. Любые жизненные жесты Франца — прежде всего писательство и попытки жениться — должны были вести прочь с территории религии Отца, за пределы его власти22 * *. О том, как национальное у Кафки переплелось с матримониальным, здесь уже говорилось. Теперь поговорим о том, как национальное вошло в одну из двух важнейших тем его творчества.
THE TORTURE NEVER STOPS
Две главные темы писателя Франца Кафки — «приговор» и «превращение». Первая есть не что иное, как тема «проклятия», — достаточно вспомнить рассказ «Приговор», с которого начинается «классический Кафка». Отец «приговаривает сына к казни водой», и тот бросается с моста в реку. Это — тема отцовского проклятия, тема проклятия Бога Отца, тема отцовской религии Ветхого Завета, тема иудаизма. Если в «Приговоре» отец приговаривает героя в ходе повествования, то в «Процессе» проклятие, иррациональный приговор уже вынесен заранее, до начала действия романа. Йозеф К. пытается доказать свою невиновность, однако он носит в себе чувство вины и оттого обречен. Приговор — это смертельная болезнь, с которой пытается, но не может справиться Йозеф К. Здесь Кафка выстраивает свое отношение к иудаизму — он может вести бесконечную тяжбу с религией Отца, но он обречен остаться в пределах власти этой религии. Проблематика топографии, перемещения в пространстве существует в «Процессе» лишь как нереализованная
22 Даже вегетарианство Франца, которое, вероятно, было
ответом на раблезианский аппетит убежденного мясоеда
Германа Кафки.
54
КАЗУС КАФКИ
"возможность избавления23. Вот эту — вторую — важнейшую тему Кафка развивает в первом и третьем своих романах: «Америке» и «Замке».
В «Америке» она представлена достаточно просто — в качестве темы ссылки. Франц Кафка хотел бежать — в Берлин, в Палестину, все равно. Карл Россман выслан в Америку «за то, что его соблазнила забеременевшая от него служанка»24. Освободиться от власти религии Отца и свободно обрести свою идентичность, в том числе и национальную, — вот о чем мечтал писатель. Берлин или Палестина являются для Кафки географическими точками, где должно произойти определение его матримониального и национального статуса. Напротив, высылка Карла Россмана в Америку — высылка в никуда, на другую планету, в мир, свободный от национальных и прочих идентичностей. А вот в «Замке» дело обстоит, скорее, наоборот. В ландшафте власти, возведенном в этом романе, воплощена иерархическая национальная структура имперской Богемии25. Крестьяне (под которыми подразумевались чехи) — внизу, в Деревне; господа всех рангов (немцы) — наверху, в Замке. Землемер К., пытающийся приблизиться к Замку и одновременно наладить связи в Деревне, подозрительно похож на пражского еврея, собственно, на самого Кафку26. Надо
23 В знаменитой притче путник должен лишь сделать движение, переместиться, войти в ворота, предназначенные только для него. Но он проводит жизнь в ожидании, бездействуя. Не переместившись, он не смог пережить превращение, трансформацию, метаморфозу в иное качество.
24 Сочинения, т. 1, с. 289. »
25 Воплощена постфактум, ибо роман писался после распада Австро-Венгрии и провозглашения независимости Чехословакии. Старая, имперская, многонациональная Прага стала превращаться в столицу национального государства. В этом смысле одним из возможных определений «Замка» может быть «исторический роман».
26 О другом возможном месте еврея между немцами и чехами читаем у Яноуха: «Кафка рассказал, что пражский ев-
55
MODERNITt В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
сказать, что к моменту написания «Замка» в литературе Богемии уже существовали романы, которые описывали городские или сельские ландшафты, символизиров-шие национально-социальную иерархию. Как сообщает Макс Брод, Кафка еще в школе прочитал классический чешский роман Божены Немцовой «Бабушка»27, и именно он стал одним из литературных источников «Замка». Действительно, в «Бабушке» изображен мир немецких господ, живущих в поместье, которое расположено на горе. Под этой огромной горой находится чешская деревня, в ней живет главная героиня романа. Другой возможный литературный источник романа Кафки — «Вальпургиева ночь» Густава Майринка. Если у Немцовой (и у самого Кафки) герой смотрит снизу вверх, из Деревни на Замок, то у Майринка главный герой, немецкий придворный медик, всю свою жизнь проживший в Граде и никогда не спускавшийся в мир чехов, смотрит сверху вниз. Роман Майринка заканчивается мистической национальной чешской революцией — толпа чехов врывается в Град. У Кафки землемер К., напротив, несмотря на чудовищные усилия, ни на миллиметр не может приблизиться к Замку.
Но откуда это упорство? Зачем К. должен попасть туда? Ответ прост. Ему нужно, чтобы власть наверху, в Замке, подтвердила его статус землемера и в этом качестве легитимизировала внизу, в Деревне. Пытаясь передвигаться наверх, К. стремится тем самым обрести идентичность в обоих мирах — верхнем и нижнем.
рейский писатель Оскар Баум мальчиком ходил в немецкую школу. Обычно после занятий по дороге домой происходили драки между немецкими и чешскими школьниками. Однажды во время подобной потасовки Оскара Баума ударили пеналом по глазам, и у него отслоилась сетчатка, он ослеп. Еврей Оскар Баум потерял зрение как немец, каковым он, в сущности, никогда не был и каковым его никогда не считали. Может быть, Оскар — печальный символ так называемых немецких евреев в Праге» (Сочинения, т. 3, с. 522).
27 Брод, с. 298-301.
56
Казус Кафки
Пока же, до подтверждения своего статуса, он лишен любой идентичности: отсюда мучительная неопределенность и двусмысленность его положения. Мы даже не знаем, как выглядит К. (или Йозеф К. из «Процесса», о котором известно лишь, что у него черные глаза). Оба эти героя не имеют характерных черт внешности и не обладают, собственно, характером. Они не идентифицируются иначе, нежели через обстоятельства, в которые попадают либо в силу некоего загадочного приговора (в «Процессе»), либо в силу перемещения в некую топографическую точку (в «Замке»). Проблема национальной самоидентификации Франца Кафки находится именно здесь. Его «приговор», его «проклятие» — еврейство; топографическая точка, где (уже после вынесения «приговора») тянется нескончаемый и безрезультатный процесс его самостоятельной национальной (и не только национальной) идентификации, — Прага. Выходы из этой ситуации, которые Кафка пытался найти, — географическое перемещение, бегство в Палестину и сознательное признание своего еврейства (то есть превращение «проклятия», «приговора» в «выбор») или бегство в Берлин и женитьба, с которой связано новое определение его социального статуса, — все это не удалось. Идентификация предполагает выбор одного из многого, упрощение, «бритву Оккама»28, приводимую в действие силой воли. Пражская ситуация многоязычия, многоукладное™, мультикультурности была для Франца Кафки невыносимой — она удерживала его, не давая привести в действие чудотворную бритву. Вместо простого взмаха руки Кафка был обречен на кошмарный процесс ежесекундного определения себя по отношению к еврейству, к немцам, к чехам. Сам этот процесс оказался единственно возможной его идентичностью. Франц Кафка не был ни «чешским», ни «немецким», ни «еврейским» писателем. Он не смог (и не мог) завершить
28 О «бритве Оккама» применительно к Кафке пишет Роберто Калассо (Calasso R. К. N.Y.: Alfred A. Knopf, 2005).
57
ModernitE в избранных сюжетах
поиски национальной идентичности, точно так же как не мог завершить все три своих романа. И в том и в другом случае представить себе окончание просто невозможно.
P.S. КАФКА И СЕЙЧАС
Франц Кафка умер, когда национально-культурный контекст Чехии, Праги уже радикально менялся. Распад Австро-Венгрии, создание двухнациональной Чехословакии, резкое ослабление немецкого элемента пражской жизни — все это привело к исчезновению условий, в которых мог возникнуть сам «казус Кафки». Национальное, даже порой националистическое, чехословацкое государство передало политическую, экономическую и культурную власть в стране титульным нациям, и те, кто к ним не принадлежал, отныне должны были определять свою идентичность по отношению к чехам и словакам. В Праге — только к чехам. Пражская немецкая литература в межвоенный период постепенно умирает, перед местными молодыми евреями, мечтающими о писательстве, уже не стоит тот выбор, который стоял перед Кафкой. Они должны писать на чешском. Вторая мировая война, немецкий протекторат окончательно очистили Прагу от нечешских национальных групп — евреи были уничтожены, немцев после войны выслали. В течение сорока с лишним лет чехословацкая столица была фактически моноэтническим городом с соответствующей (в некоторых случаях чрезвычайно развитой) культурой. Нельзя сказать, что у послевоенных чешских, пражских писателей не было тоски по «национальному другому». Например, один из лучших (если не самый лучший) из этих авторов, Богумил Грабал, населил свою прозу последним иноэтническим элементом, оставшимся в Праге и Чехии, — цыганами.
Ситуация вновь изменилась в 90-е годы. Прага опять стала разноязыкой. Сюда ринулись беженцы из
58
Казус Кафки
бывшей Югославии, с Кавказа, приехали десятки тысяч экономических эмигрантов из Украины, Молдавии и даже России. Вьетнамская община Праги чуть ли не больше всех вышеперечисленных. Прагу наводнили туристы. В начале девяностых чешская столица — романтический и очень дешевый город — стала модным местом для жизни западноевропейской и американской молодежи; заговорили о «новом Париже двадцатых», а район Жижков называли даже «новым Сохо». И хотя Парижа из Праги не вышло, большинство приехавших быстро разочаровалось и вернулось домой (или откочевало в другие модные города, например в Берлин), здесь остались тысячи экс-патриатов, создавших свой, достаточно замкнутый, мир. Наконец, экономический рост привел в Чехию и Прагу тысячи иностранных бизнесменов. Нечехов в Праге сейчас гораздо больше, чем до Первой мировой войны. Однако это уже совсем иная ситуация, нежели, скажем, в 1913 году. Прага перестала быть местом национальной идентификации, иностранцы замкнуты здесь в собственных культурных гетто, связанных с метрополией, а не с местной господствующей культурой. В чешской столице живут десятки англоязычных, русскоязычных и даже франкоязычных литераторов, художников и музыкантов, однако у них не возникает проблемы идентичности — по крайней мере, в связи с окружающей их культурой. «Новый Кафка» в нынешней Праге невозможен — и не только потому, что каждый писатель, тем более великий, неповторим.
Настоящий август Франца Кафки
Разразилась война, безо всякого приличествующего уважения к писателям-изгнанникам...
Ричард Эппман
Вспыхнула большая война. Настало время, по сравнению с которым все, из-за чего мы до сих пор страдали, превратилось в какую-то сказочную страну, сверкающую розовым блеском детства.
Макс Брод'
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. ВОЙНА И МИР
14-го июля. Понедельник. Чудная погода продолжается. Утром погулял полчаса; затем принял Григоровича и в 12 ч. Танеева. Завтракали одни. От 3 час. поиграли в теннис. В 6 час. принял Маклакова. Интересных известий было мало, но из доклада письменного Сазонова [видно, что] австрийцы, по-видимому, озадачены слухом о наших приготовлениях и начинают говорить. Весь вечер читал.
15-го июля. Вторник. Принял доклад Сухомлинова и Янушкевича. Завтракали: Елена и Вера Черногорская. В 2 1/2 принял в Больш. дворце представителей съезда военного морского духовенства с о. Шавельским во главе. Поиграл в теннис. В 5 час. поехали с дочерьми в Стрельницу к тете Ольге и пили чай с ней и Митей. В 8 1/2 принял Сазонова, кот. сообщил, что сегодня в полдень Австрия объявила войну Сербии. Обедали: Ольга и Арсеньев (деж.). Читал и писал весь вечер.
1 Брод М. О Франце Кафке. СПб.: Академический проект, 2000. С. 174.
60
Настоящий август Франца Кафки
Николаю Второму этих дневниковых записей2 (особенно «чудной погоды» и игры в теннис) не простили многие. На самом деле несчастного императора можно упрекать во многом, только не в отсутствии джентльменского спокойствия: война — войной (за время его правления это была третья, однако две первые происходили очень далеко от Европы), но не пристала же монарху обывательская истерика, как у героев Достоевского или Чехова (недаром, как отмечал Набоков, в царской семье автора «Крыжовника» считали декадентом). Война начинается, не первая, слава Богу, и не последняя; это драма, но не трагедия; наконец, долг православной России поддержать православную Сербию и — уже потом — республиканскую (и тем самым несколько сомнительную) союзную Францию. Такова была логика Николая Второго; многие сочтут ее опрометчивой, порочной и даже антигуманной, но она порождена социальным статусом автора дневника. Так, и никак иначе, война вторглась в жизнь русского императора — та самая война, что уничтожила его империю, а в конце концов и его самого вместе с семьей.
Что же до подданных русского императора, частных людей, обывателей, то в их сознание рубеж июля-августа 1914-го вошел без анестезии сословной дисциплины и сопровождался целым спектром страхов и надежд. Корней Чуковский записывает в тот же день 15 июля, когда Николай Второй играл в теннис, а потом Сухомлинов докладывал ему, что Австрия объявила войну Сербии: «Война... Бена берут в солдаты. Очень жалко». (Речь идет о Бенедикте Лившице, с которым Чуковский недавно сошелся.) Автор дневника продолжает: «У меня все спуталось. Если война, Сытинскому делу не быть. Значит, у меня ни копейки. Моя последняя статейка — о Чехове — почти бездарна, а я корпел над нею с января»3. Журналист Чуковский реагирует
2 Даты здесь приводятся по старому стилю.
3 Чуковский К'.И. Дневник (1901-1929). М.: Советский писатель, 1991. С. 68-69.
61
ModernitE в избранных сюжетах
на начало войны так, как и положено частному человеку: сожалеет о мобилизации приятеля, беспокоится о заработках, переживает по поводу неудачного текста. Война приходит в жизнь этих людей, императора и литератора, обычным для людей XIX века образом, как пока еще отдаленное событие, довольно страшное, но не роковое, одно из ряда исторически подобных. Никто не догадывался, что характер войны решительно переменится, что она станет тотальной, мировой и что мир по ее окончании тоже превратится в тотальный, тоталитарный, причем по обе стороны линии фронта — ив России, и, несколько позже, в Германии.
В этом смысле начало Великой Отечественной для советского человека, уже имевшего опыт тоталитаризма, выглядело иным. Об этом пишет Лидия Гинзбург в «Записках блокадного человека». «Записки» начинаются фактически с описания того, как война вторгается в мирную жизнь и мгновенно обессмысливает все ее ритуалы и автоматизм. Трамваи продолжают ходить, гонорары — выплачиваться; однако в новой перспективе, в новой телеологии это уже не имеет значения. И здесь главное отличие от реакции на войну людей предыдущей исторической эпохи, того же Николая Второго или Корнея Чуковского, тех, кого по типу исторического сознания можно назвать еще «людьми XIX века», кто встречал такие известия подобно героям Толстого. В «Войне и мире» война не мешает обычной жизни — до тех пор, пока люди не сталкиваются с ней непосредственно. А вот в «настоящем XX веке» война проникает в жизнь мгновенно, и одним из инструментов тотального ее проникновения и мгновенного разрушения мирного уклада (даже в тех местах, которые отделены от фронта сотнями километров) становится техника. Еще до того как немецкие самолеты начали бомбить Ленинград, война пришла к ленинградцам (равно как и к горьковчанам, свердловчанам и владивостокцам) через репродуктор радиоприемника: «Образовалась новая действительность, небывалая, но и
62
Настоящий август Франца Кафки
похожая на прежнюю в большей мере, чем это казалось возможным»4. Трамваи еще ходят, гонорары — выдают, а действительность — новая. Это — действительность сознания, которая потом, с началом бомбежек и голода, становится физической действительностью непосредственной близости смерти.
Но вернемся в 1914 год. Франц Кафка — а его считают чуть ли не главным экспертом XX века по тоталитаризму — заметил начало Первой мировой только 31 июля, через три дня после того как Австро-Венгрия, подданным которой он являлся, вторгается в Сербию (ни одного упоминания предшествующих событий, начиная от убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, в его дневнике нет): «У меня нет времени. Всеобщая мобилизация»5. Целый август 1914 года, уже когда война действительно стала всеобщей, Кафка едва замечал ее, будучи погружен в частные переживания и литературные планы. Впоследствии стало ясно, что этот месяц оказался чуть ли не самым важным в его писательской судьбе. В нижеследующем тексте я попытаюсь набросать схему механизма, связывающего почти незаметную жизнь страхового клерка, писателя-дилетанта Франца Кафки с невиданным доселе миром тотальной войны.
ДАЛЕКИЕ РАСКАТЫ
Нельзя сказать, что до августа 1914-го Кафку не интересовало «событие войны». К примеру, он довольно много читал о наполеоновском времени: и мемуары (в дневник он выписывает целые страницы из «Воспоминаний генерала Марселлина де Марбо» Пауля
4 Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 613.
5 Все цитаты из дневников Франца Кафки приводятся по изд.: Кафка Ф. Дневники... Одному пассажу во вступительной статье к изданию я обязан побуждением написать этот текст.
63
ModernitE в избранных сюжетах
Хольцхайзена, из книги «Немцы в России 1812» и проч.)> и, кажется, даже исторические труды. Трудно сказать, что привлекало его в этой эпохе: то ли сверхчеловеческая фигура самого Бонапарта, то ли, наоборот, толстовские «война» и «мир». В начале 1914 года Кафка читает мемуары графини Лулу Тюрхайм «Моя жизнь. Воспоминания об австрийском большом свете, 1788-1819». Кажется странным, что Кафку заинтересовала эта книга, изданная в Мюнхене в 1913 году. Ее хронологические рамки почти совпадают с эпохой великих европейских потрясений: начало — за год до взятия Бастилии, конец — через четыре года после Ватерлоо. Можно даже сказать, что перед нами, некоторым образом, аристократическая дилетантская версия «Войны и мира». Запись в дневнике Кафки от 24 января 1914 года:
Наполеоново время: празднество за празднеством, все торопятся «вкусить радостей кратких мирных времен». С другой стороны, они мгновенно поддаются напору, они действительно не могут терять времени. Тогдашняя любовь выражалась в повышенной восторженности и большей самоотверженности. «Нынче минутная слабость не прощается»6.
6 Кафка рекомендует эту книгу в письме Грете Блох от 11 февраля (Кафка Ф. Письма к Фелиции и другая корреспонденция, 1912-1917 / пер. с нем., предисл., сост. М.Л. Рудницкого. М.: Ad Marginem, 2004. С. 425). Отрывок из сочинения графини Тюрхайм, цитируемый здесь, представляется исполненным символизма, если вспомнить двусмысленную переписку Франца с фройляйн Блох, которую Кафка первоначально пытался превратить в посредницу в своих отношениях с Фелицией Бауэр; в результате эти отношения постепенно приобрели характер довольно странного (впрочем, сугубо эпистолярного) треугольника — об этом см. дальше. В таком контексте выражения вроде «вкусить радостей кратких мирных времен» и особенно «тогдашняя любовь выражалась в повышенной восторженности» выглядят в дневнике Кафки подозрительно. В течение марта 1914 года Кафка несколько раз настойчиво интересовался у Греты Блох, читает ли она мемуары Тюрхайм.
64
Настоящий август Франца Кафки
’ Так в дневнике Кафки 1914 года появляется «война» — за пять месяцев до ее начала (обратим внимание: 15 декабря 1913 года он отмечает, что читает книгу Германа Шаффштайна «Мы юноши 1870-71. Воспоминания о моем детстве». В этой записи есть такая фраза: «С подавляемыми рыданиями перечитывал вдохновенные сцены о победах»). Что это? Случайность? Предчувствие? Ведь та часть Европы, где обитал Кафка, не знала боевых действий уже более полувека (со времен австро-прусской войны 1866 года), по меркам континента очень долго. И вот что еще интересно: тема «войны и мира» представлена в его дневнике как тема «войны и любви». В конце концов окажется, что именно так Первая мировая вошла в жизнь самого Кафки — сразу после краха его первой помолвки с Фелицией Бауэр.
СТАРЫЕ ГРЕХИ ЧИНОВНИКА БРУДЕРА
После 24 января в дневнике Кафки не появляется ничего хотя бы отдаленно «военного» (точнее, «предвоенного») — вплоть до б июня, когда он делает несколь-f ко набросков о некоем чиновнике Брудере (об этих чрезвычайно важных текстах и их отношении к еще не начатому тогда «Процессу» — чуть ниже), и потом — 11 июня, когда он сочиняет фрагмент под названием «Искушение в деревне», который, как считается, был наброском к «Замку». Получается, что оба главных своих романа Кафка начинает летом 1914-го: один накануне «сараевского кризиса», другой — в первый месяц боевых действий. Тупик, в котором Кафка, как ему самому казалось, очутился к 1914 году (и который толкнул его к злосчастной помолвке с Фелицией), мог быть преодолен двумя способами: житейским (матримониальным, семейно-географическим) и писательским. Оба в первой половине 1914 года казались ему одинаково возможными (и одновременно, как обычно у него, одинаково невозможными), одинаково подлин
65
ModernitE в избранных сюжетах
ными. Первый вариант (женитьба и переезд в Берлин) есть не что иное, как бегство из Праги (если под «Прагой» понимать и жизнь с родителями, чиновничью карьеру и проч.)- Второй — вырваться из круга «коротких вещей», взяться за большое сочинение, за роман, который втиснул бы в себя все (или почти все).
Что же такое это все в понимании Кафки в 1914 году? Ситуация абсурдной вины и обреченности на казнь («Процесс») и ситуация вечного ожидания у подножия власти («Замок»), Обе они, на первый взгляд, не имеют отношения к «ситуации войны», особенно войны нового типа, которая разразилась в 1914 году. Эта война (и последующие в XX веке) была «тотальной», а не «персональной» (какую, к примеру, пытался вести Пьер Безухов против Наполеона, бродя по горящей Москве с пистолетом); тема же двух романов Кафки — персональная трагедия человека, попавшего в деперсонализированную ситуацию хорошо организованного абсурда. Но, если вдуматься, это и есть ситуация первой в истории человечества тотальной войны в самом ее начале, в августе-октябре 1914 года. Как это обычно бывало в Новое время, противоборствующие стороны готовились совсем не к той войне, которая в результате разразилась. И Франция, и Германия, и Австро-Венгрия, и даже Британия (хотя руководство последней вообще не предполагало участвовать в масштабных наземных операциях, английская армия была добровольческой и по тем временам немногочисленной) намеревались вести маневренные боевые действия. В памяти еще была франко-прусская война 1870-1871 годов и австро-прусская 1866-го, когда армии быстро передвигались по территории, осаждали города и изредка встречались на полях сражений. Этот «героический» период военного искусства буржуазной эпохи закончился самой что ни на есть отвратительной, бесчеловечной «окопной войной», когда солдат мог просидеть несколько месяцев (если не лет) в траншеях, быть убитым снарядом, задохнуть
66
Настоящий август Франца Кафки
ся от иприта, умереть от тифа или дизентерии, так и не размяв ног ни в одной атаке, ни разу не крикнув «ура!», не насадив молодецки ни одного врага на свой штык. Всему виной технологии: изобретение пулеметов, колючей проволоки, отравляющих газов и прогресс в развитии артиллерии. В «вечном споре меча и щита» к концу 1914 года решительно победил щит. Последним «человеческим» событием на Западном фронте стал так называемый «бег к морю», когда осенью 1914-го французы и англичане, с одной стороны, и немцы — с другой, стремясь охватить позиции друг друга, наперегонки бросились к побережью Северного моря. Не преуспел никто; впервые в истории образовалась сплошная «линия фронта». Наступать бессмысленно; стотысячные потери при попытках прорвать линию фронта в 1915 году (например, под Аррасом) подтвердили это. Война стала «тотальной»; исход ее решали не храбрость солдат, не искусство офицеров, не стратегический гений полководцев, а умение обеспечить армию ресурсами, в производстве которых участвовало все население от мала до велика. Главные сражения происходили на заводах, на продовольственных складах, в конторах, обеспечивающих инфраструктуру поставок фронту и лояльность населения. Война (вслед за капиталистическим производством) из еще отчасти «штучного занятия» окончательно превратилась во всеобщий конвейер, в деперсонализированный механизированный абсурд. Впрочем, люди, которые ее вели, были еще из старого, не тотального, «штучного» мира, из эпохи фин де сьекль (fin de sidcle). Потом либо их истребили, либо они сами переродились, но тогда они еще представляли собой как бы личности, персоны, сколь бы комичными порой ни казались. У них может не быть ярких черт характера и прочей параферналии романтического индивидуализма, но они насквозь пропитаны еще понятиями, представлениями, предрассудками эпохи, когда «психология личности» преобладала над «психологией толпы». Этот
67
MODERNITS В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
набор черт человека завершившегося мира заменяет им характер, создает некий эрзац личности, который, столкнувшись с окончательно деперсонализированным новым миром, выглядит уже как личность настоящая. Как ни странно, нечто похожее происходит с гашековским бравым солдатом Швейком; идиотизм его является, конечно, не «здравым смыслом», как утверждают некоторые, а механической пародией на здравый смысл, которая, столкнувшись с бесчеловечным милитаристско-полицейским абсурдом (хотя до кафкианского ему далеко — он слишком пестр, вонюч и даже живописен), кажется чем-то «подлинным» и «настоящим».
В этом смысле романы Кафки — такой же отчет о столкновении людей старого мира с ситуацией новых «тотальных» войны и мира, как и книга Ярослава Гашека. Только Гашек реагировал постфактум на уже произошедший исторический слом, а Кафка проанализировал логику этого столкновения еще до того, как она в полной мере проявила себя в действительности и в сознании тогдашних людей. Еще раз: Кафка не «предвосхитил» то, что произошло в Европе начиная с августа 1914 года, он с дотошностью законника и чувствительностью невротика сделал выводы из цайтгай-ста, породившего Первую мировую (и последующие мировые и локальные войны). Чудовищное совпадение его выводов и «дивного нового мира» говорит о новом типе литературной гениальности, о гениальности частного человека, в случае Кафки — чуть ли не самого частного в литературе европейского модерна.
Вернемся к попыткам Кафки вырваться из тупика 1914-го. В дневнике он мучительно размышляет о своих отношениях с Фелицией и о предстоящем браке7; вместо же размышлений о будущих книгах там — бесконечные наброски, иногда связанные между собой.
7 Впрочем, в то же время он ведет двойную эпистолярную игру, «влюбляя» в себя Грету Блох, некоторым образом даже «приручая» ее, «приучая к себе».
68
Настоящий август Франца Кафки
Кажется, что матримониальная катастрофа в конце концов привела к появлению новых текстов (точнее, к началу их сочинения). Какую же роль в этом раскладе играет «война» — не «событие грядущей всеобщей войны», а «война» как явление, как факт?
Об этом можно догадаться, внимательно прочитав три наброска о чиновнике Брудере, занесенные Кафкой в дневник за пять дней до первого фрагмента прото-«Замка». До убийства эрцгерцога Франца Фердинанда остается почти три недели, Европа спокойна. Все три наброска сделаны б июня, по возвращении Кафки из Берлина, где он встречался с Фелицией и ее родными. В первом описывается позднее возвращение со службы чиновника по фамилии Брудер. Дома, у подъезда, его ждут жена и маленькая дочь. Выяснив, что никто не слышит их, что двери заперты, что служанка на кухне, Брудер открывает жене тайну: «наши» войска потерпели поражение, хотя власти это скрывают, и неприятель уже совсем скоро будет в городе. Впрочем, добавляет чиновник, горожане все-таки догадываются об истинном положении дел, запирают двери и прячут все ценное. Второй набросок значительно короче; тот же Брудер возвращается — тоже поздно — домой, но, так как в этом варианте он явно не обременен семьей, он спешит поделиться тревожной новостью с домовладельцем Румфордом. Последний, видимо, уже догадывается о происходящем на самом деле: Кафка описывает его, когда тот сидит за столом с газетой. Важная деталь: все происходит «жарким июльским вечером»; отрывок, напомню, сочинен б июня, война фактически началась в конце июля8, и первой боевые действия открыла именно Австро-Венгрия. В начале же июня ничто не предвещало такого развития собы
8 Невероятно жаркого в том году, что отмечено мемуаристами и поэтами. Ср. стихотворение Ходасевича «Обезьяна»: «Была жара. Леса горели. Нудно / тянулось время...», которое заканчивается строчкой «В тот день была объявлена война».
69
ModernitE в избранных сюжетах
тий (по крайней мере, для обывателей, а не дипломатов), так что мы сталкиваемся с удивительным, чуть ли не мистическим, даром предчувствования. Отметим еще, что в двух отрывках Кафка обыгрывает тему начавшейся войны в двух вариантах жизни чиновника Брудера: семейном и холостяцком. Война и брак (или его отсутствие) здесь неотделимы друг от друга.
Третий отрывок несколько иной. Кафка описывает городскую сцену, которая происходит, судя по всему, на следующий день после первой (или второй). «Наши» войска отступают через город, за прохождением арьергарда по улице наблюдает группа чиновников городской ратуши. Сценография отрывка не отсылает к какому-то конкретному городу, например к Праге: обе пражские ратуши хоть и находятся на площадях (Староместской и Карловой), но тамошний ландшафт довольно плосок, оттого фраза «стремительно исчезал по круто поднимающейся от площади боковой улице» к этим местам отношения не имеет. Перед нами типический европейский город, можно предположить, что немецкий или австрийский (учитывая фамилию Брудер) и, видимо, небольшой — в больших городах главные площади с ратушей обычно не находятся у подножия горы или холма, куда карабкаются боковые улицы. Еще одна интересная деталь: на глазах чиновников отступает кавалерия; значение этого рода войск к 1914 году резко упало по сравнению даже с последней третью XIX века, однако окончательное превращение всадников в экзотику на полях сражений произошло уже после начала Первой мировой, после того как маневренная война сменилась позиционной. Иными словами, перед нами антураж еще австро-прусской войны, если и вовсе не времен графини Тюрнхайм; однако в старых декорациях разыгрывается новая драма. В конце отрывка Брудер отвечает некоему молодому человеку, спросившему, означает ли отступление войск, что «битва проиграна»: «Совершенно верно. В этом не может быть сомнения. Мы должны
70
Настоящий август Франца Кафки
искупать всевозможные старые грехи. Теперь, правда, не время говорить об этом, теперь каждый должен позаботиться о себе. Мы стоим перед окончательной развязкой». Эта реплика свидетельствует: «война» для Кафки есть метафора абсурдного «приговора», вынесенного где-то там, за пределами того, что мы можем увидеть. «Битва проиграна» — притом что мы сами не принимали в ней участия. Однако последствия (армия неприятеля) не заставят себя долго ждать («Сегодня вечером гости уже могут быть здесь»). Что же делать? Прежде всего — «позаботиться о себе», причем индивидуально; речь идет о персональном действии перед лицом некоей общей для всех угрозы. Но — и это самое главное — следует искупать всевозможные старые грехи. На первый взгляд, логика здесь хромает: разве поражение собственной армии как-то связано со старыми грехами каждого из горожан? Но Кафка будто бы намекает: абсурдность кары заключается в том, то она карает не что-то конкретное, кара не поддается логике, она просто низвергается на нас, и все тут. Что, в свою очередь, не отменяет необходимости искупить старые грехи — вдруг это как-то повлияет на кару? Слепая абсурдная вера, таким образом, является ответом на слепой абсурдный приговор. Но все это следует после необходимости «позаботиться о себе». Здесь можно увидеть своего рода репетицию главной темы «Процесса»: там К., столкнувшись с абсурдным приговором, весь роман пытается защититься, «позаботиться о себе», и только в самом конце, под ножом палача, прозревает: «как собака». Не нужно было суетиться. Если что-то и могло его спасти, так это искупление старых грехов. Да и то вряд ли.
МЕЖДУ «СУДИЛИЩЕМ В ОТЕЛЕ» И СТРАШНЫМ СУДОМ
28 июля Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. 29 июля в дневнике Кафки появляется первый набро
71
Modernite в избранных сюжетах
сок о Йозефе К.; специалисты считают, что с него началась работа над «Процессом». Как мы видим, роман и Первая мировая стартуют практически одновременно. Повторюсь: было бы преувеличением утверждать, что «Процесс» — ответ Кафки на начавшуюся войну; нет, это всего лишь два феномена, одновременно порожденные одним и тем же историческим периодом и одним и тем же типом европейского общественного сознания. Не «отклик», а явление того же уровня, но в другой сфере человеческой деятельности.
Некоторые исследователи и знатоки Кафки (не все, конечно, но, к примеру, Элиас Канетти) называют «Процесс» метафорой того «судилища в отеле», что было устроено в Берлине Фелицией9. На внешнем, «психическом» уровне с этим нельзя не согласиться. Разоблачение двуличного жениха, разрыв помолвки, крах надежд на брак, которые лелеял Кафка, — все это вполне соответствует абсурдному необъяснимому «приговору», вынесенному Йозефу К. Однако Кафка понимал (хотя и не хотел признаваться себе), что перспектива женитьбы его ужасает, что сама Фелиция нужна ему только как предлог освободиться от проклятия жизни с родителями в Праге, от не лишенного приятности существования обеспеченного клерка с культурными претензиями. Кафка хотел бежать от устроенной, прочной, внешне благополучной жизни с налаженными социальными связями, с устоявшимися бытовыми ритуалами. С его слабым здоровьем, с его довольно высокими (хотя и почти аскетическими — одно другому не противоречит) запросами, с его неспособностью к поденному литературному труду
9 12 июля 1914 года Фелиция Бауэр организовала в берлинской гостинице «Асканишер Хоф» («Асканийское подворье») «товарищеский суд» над своим женихом с участием Греты Блох и собственной сестры Эрны Бауэр. Грета представила собравшимся послания Кафки и обвинила его в двойной игре. Помолвка была разорвана, что не помешало, впрочем, уже три месяца спустя возобновить переписку с Францем и Грете, и Фелиции.
72
Настоящий август Франца Кафки
(а он, в частности, собирался в Берлине зарабатывать на хлеб журналистикой) все это похоже на сознательное, обдуманное самоубийство. И то, что помолвка расстроилась, выглядит не как приговор, а, скорее, как отсрочка приговора. Поэтому, несмотря на потрясение, зафиксированное Кафкой в дневнике почти две недели спустя («...я просто грущу о самом себе и потому безутешен», 23 июля), его записи не оставляют ощущения свершившейся катастрофы10. Наоборот, Кафка необычайно многословен и старательно описывает чуть ли не все, что попадалось ему на глаза за
10 Что подтверждает отрывок из его письма Максу Броду и Феликсу Вельчу, посланного в конце июля — в те самые дни, когда он занес в дневник отчет о крахе матримониальных планов: «Помолвка моя расторгнута, пробыл три дня в Берлине, все были мне добрыми друзьями, и я был всем добрым другом; впрочем, я знаю точно, что так — лучше всего, и поскольку необходимость произошедшего столь ясна, то я в отношении всего этого дела не так встревожен, как можно было бы предполагать» (Неизвестный Кафка / пер. с нем. Г.Б. Ноткина. СПб.: Академический проект, 2003. С. 272). Поначалу кажется: Кафка здесь просто храбрится, он неискренен, пытаясь избежать унизительного сочувствия друзей, однако сам факт, что упоминание о роковом событии затерялось в письме среди описаний его пребывания на курорте, говорит о многом. На истинный характер отношения Франца к Фелиции намекает и изложенная в том же дружеском послании история о том, как он в Травемюнде решил отказаться от вегетарианства («мнимое упрямство, которое стоило мне помолвки») и как ему от этого было плохо. Думаю, биографам Кафки стоило бы задуматься о такой версии событий: Фелицию Бауэр не меньше, нежели чудовищный характер жениха, раздражало его бытовое поведение, отказ от мяса, алкоголя, культ здорового образа жизни. Любопытно также, что в зимне-весенней переписке с Гретой Блох Кафка уговаривает ее попробовать вегетарианство, спать с открытым окном, больше гулять и даже называет себя «природным целителем» (см., например, письмо от 18 марта 1914 года в: Кафка Ф. Письма к Фелиции... С. 446). Кажется, мы так и не узнаем никогда, как Грета реагировала на бесцеремонное (пусть и эпистолярное) вторжение малознакомого человека в ее телесный мир.
73
ModernitE в избранных сюжетах
последующие после «судилища» несколько дней. Начинает он с отеля, где произошло роковое событие: описание комнаты, жары, слуги, запахов, собственной нерешительности по поводу того, раздавить клопа или нет (он даже приводит мнение горничной по поводу оного клопа), — все это по объему превышает фиксацию произошедшей катастрофы. То же самое и в абзаце о вечере рокового дня. Кафка вспоминает, как сидел в саду под липами и страдал животом. Далее следует любопытнейший пассаж о «контролере» (видимо, служителе парка или общественного сада, который собирает плату с посетителей): с обычной для него маниакальной дотошностью Кафка рассуждает о том, кто этот человек, какие вопросы его существование вызывает в сознании наблюдающих его, «куда он девает перед сном руки» и даже «смог ли бы и я выполнять такую работу». Особенность художественной (она же экзистенциальная) оптики Кафки заключается в том, что она наводится не на сам предмет, а на некую его частность, которая в силу оказанного внимания вырастает до ужасающих, монструозных размеров, застилая собой все, заслоняя целое. Но деталь не отменяет целого — целое свершается, происходит во всей своей чудовищной сущности где-то на периферии, только иногда являя нам результаты своего существования. Кафкианский ужас возникает от сочетания незначительности объекта пристального наблюдения и страшной необратимости полускрытого значительного. Дело не в том, что незначительное является «проявлением» значительного; вопреки традиционной логике и детерминизму, они сосуществуют на равных, будто в кошмарном сне, где убежать от убийцы невозможно из-за гипертрофированной проблемы с завязыванием ботиночных шнурков. То, что произошло с Кафкой 12 июля, он фиксирует в дневнике именно таким образом.
Сам же фрагмент от 29 июля, где впервые появляется Йозеф К., представляет собой своего рода набросок
74
Настоящий август Франца Кафки
альтернативной версии финала «Приговора» (1912), первого настоящего шедевра Кафки. Герой приходит в купеческий клуб после «крупной ссоры с отцом»; перед нами все — и тема Отца, и даже род занятий (коммерция) — как в том рассказе. В фрагменте от 29 июля, кажется, ничего не происходит; герой просто заходит в клуб и размышляет на тему «молчаливых прислужников», которые якобы делают «все, чего от них ожидают». Швейцар заведения, к которому относятся эти слова, однако, не выполняет внутреннего приказа Йозефа К., он смотрит вовсе не на него, а в окно. В этом скрытом бунте «прислужников» содержится некая неявная угроза; эта тема будет одной из главных в «Замке»; получается, что истоки этого романа тоже лежат в августе 1914 года.
Можно предположить, что на рубеже июля-августа происходит «смычка» предыдущего и последующего этапов творчества Кафки — не только тематическая (от «приговора» к «процессу» в прямом смысле этих слов), но и жанровая, от коротких (за исключением «Америки») вещей к попыткам сочинить большие романы. Причем если «Америка» была вдохновлена Диккенсом, то «Процесс» уже полностью вырос сам из себя («Замок» тут несколько в стороне — вспомним его зависимость от «Бабушки» Вожены Немцовой).
После фрагмента про Йозефа К. в тот же день 29 июля следует еще один набросок, а затем — пассаж, который невозможно квалифицировать ни как обычную запись, ни как еще один отрывок чего-то. Там есть такие слова: «Вещи, над которыми я начал работать, не удались». Это относится и к фрагменту про Йозефа К., и к прочим; перед нами свидетельство того, что Кафка именно в этот момент, момент личной (псевдо)ката-строфы и начала катастрофы общеевропейской, лихорадочно начинает сразу несколько вещей. Он, будто торопясь стартовать между «судилищем в отеле» и Страшным Судом начинающейся войны, пытается войти в последнюю с надежным оружием в руках, не
75
ModernitE в избранных сюжетах
со щитом, но с мечом. Оттого 30 июля в дневнике целых четыре наброска; два о человеке, который открыл собственное дело и ищет совета, два — о некоем директоре страхового общества «Прогресс». На другой день Кафка пишет: «У меня нет времени. Всеобщая мобилизация». Такое ощущение, что он бежит с войной наперегонки. Не следует за ней, на нее реагируя, а именно движется параллельно.
ХРУПКИЙ БАЛАНС
Итак, война начинается. В дневнике Кафки она появляется двумя событиями: общим («мобилизация») и личным (в армию призваны мужья его сестер; одна из них, Валли, переезжает с детьми в родительскую квартиру, Франц же временно перебирается в ее квартиру на Билекгассе). «Теперь я получу в награду одиночество», — записывает он 31 июля. В сущности, Кафка выигрывает от всеобщего бедствия: месяцем раньше он пытался отдалиться от родительского дома сложным, опасным (и безнадежным) путем женитьбы на Фелиции, теперь же, после краха матримониальной затеи, другой крах, всеобщий, европейский, отчасти решает эту задачу. Кафка получает в свое распоряжение бытовое одиночество и хотя не уверен, что это действительно «награда» («Одиночество — это наказание», — пишет он в дневнике), все-таки пытается быть честным перед самим собой: «Меня мало задело всеобщее бедствие». Что подтверждается записью от 2 августа, вполне в духе той самой ремарки Николая Второго: «Германия объявила России войну. После обеда школа плавания».
Если верить дневнику, Кафка в эти дни занят исключительно собой и отрывается от привычного самоедства только для того, чтобы записать: «Вдоль Грабена тянулась артиллерия». Но даже эта несомненно военная деталь нужна ему для зарисовки в духе не появившегося еще экспрессионистического кино:
76
Настоящий август Франца Кафки
«Цветы, крики Heil и Nazdar. В толпе лицо, судорожно застывшее, изумленное, внимательное, смуглое и черноглазое». На фоне страданий, вызванных (как ему представляется) неспособностью писать законченные вещи, война кажется Кафке отвратительной мелочью, могущей лишь отвлечь от настоящего дела: «Я обнаруживаю в себе только мелочность, нерешительность, зависть и ненависть к воюющим, которым я страстно желаю всех бед» (6 августа). Апофеозом раздражения становится запись от того же числа, где Кафка отмечает, что видел патриотическое шествие, сопровождаемое речью бургомистра: «Я стою и смотрю злыми глазами. Эти шествия — одно из самых отвратительных сопутствующих явлений войны».
Спустя девять дней, 15 августа: «Вот уже несколько дней пишу — хорошо, если бы так продолжалось». Так, параллельно с Первой мировой, стартовал роман «Процесс». Если попытаться прочесть его первую главу в контексте наших рассуждений, то тему абсурдного обвинения, из-за которого в квартиру Йозефа К. вторгаются стражи, инспектор и даже его, К., подчиненные, можно трактовать как метафору столь же абсурдно и столь же далеко (в каком-то там Сараево) начавшейся войны. Две уму непостижимые, необъяснимые вещи — всеобщая катастрофа, начавшаяся из-за убийства в балканском захолустье некоего титулованного лица полусумасшедшим маньяком, и самый страшный роман европейской литературы, в котором безумие и хаос приобретают столь последовательную логическую форму, что сам читатель уже верит в вину главного героя, — начинаются одновременно. Посредником между этими двумя вещами становится автор, Франц Кафка.
Как в первый месяц войны в пражской жизни обычного горожанина Франца Кафки, так и в первый «постарестный» день типичного горожанина Йозефа К. внешне мало что меняется. Те же улицы, те же привычки, только где-то на далеком Дунае или в неведо
77
MODERNITE в избранных сюжетах
мой канцелярии на окраине города судьбы и Европы, и самого обычного банковского клерка предрешены. И первая, и второй еще некоторое время делают вид, будто ничего особенного не происходит (вспомним попытки К. представить происходящее либо нелепой шуткой, либо пустяком), но тяжкая убежденность в необратимости приговора делает эту суету особенно жалкой и бессмысленной.
Параллельно с началом «Процесса» Кафка сочиняет удивительную вещь, один из своих маленьких шедевров, который, увы, мало известен за пределами узкого круга знатоков. Это текст (сложно сказать, отрывок или законченная новелла) под названием «Воспоминание о дороге на Кальду». «Воспоминание...» датировано в дневнике 15-м августа и идет сразу за той записью, в которой Кафка отмечает, что много пишет и что (это важно!) его жизнь обрела смысл: «...моя размеренная, пустая, бессмысленная холостяцкая жизнь имеет оправдание». Здесь сконцентрирован главный сюжет жизни Кафки 1914 года: рухнувшая помолвка, попытка дезертировать из удобной буржуазной жизни, писательство. Брак и бегство не удаются, но, оказывается, можно оставаться там, где ты есть, тем, кто ты есть, освободившись от ступора неписания. Совершить этот трюк позволила война. Причем война не превращается в «тему», она — будучи, как мы отмечали, порождена тем же состоянием сознания, что и «Процесс», — становится великим освободителем Кафки, выводя его из состояния «ложного бегства», из ситуации подмены экзистенциального свершения (писательство) бытовым (женитьба). Война, еще не начавшись, окончательно добивает первую помолвку Франца Кафки, так же как чахотка расправится со второй попыткой в 1917 году. Абсолютно постороннее, нелепое, непостижимое, ненужное для Кафки событие, начало Первой мировой, апроприируется им, оставаясь столь же внешним и враждебным (и — что очень важно — неподлинным). На некоторое время
78
Настоящий август Франца Кафки
в сознании Кафки устанавливается хрупкий баланс, тончайшее равновесие между войной как средством выхода из внутреннего кризиса, способом наилучшего бытового устройства и войной как неприятным внешним событием, чреватым в будущем (но только в будущем!) неявными угрозами. Войны как «конца старого мира» в системе координат Кафки августа 1914 года нет; «конец старого мира» разыгрывается не на полях сражений, а между строк романа, начатого им одновременно с этой войной. Подлинна книга, а не война.
15 августа к этой системе добавляется элемент под названием «Россия». Россия, пусть умеренно, всегда интересовала Кафку; он — прилежный читатель Достоевского, Герцена и даже Михаила Кузмина, поклонник русского балета и танцовщицы Евгении Эдуардовой. С политической же точки зрения для многих интеллигентных чехов времен поздней Австро-Венгерской империи Россия была страной загадочной, но дружественной; конечно, к 1914 году времена Ганки прошли, но не стоит и приуменьшать значение «русской темы» для становящегося чешского национального сознания: первый чехословацкий президент Масарик написал многотомную историю России, а первый премьер Крамарж славился своей русофилией. Чешские националисты (далеко не все, безусловно) видели в России союзника в борьбе с «немцами» за независимость. Конечно, Кафка не разделял (и не мог разделять) этих настроений, однако он отлично их знал.
И вот Россия, необъятная страна, где всегда было политически неспокойно, страна бунтующих писателей Достоевского и Герцена становится врагом в войне. Возникает большое литературное искушение — использовать ее как тему и как сюжет, однако Кафка сделал это совершенно по-своему, подобно тому как он использовал в своем первом незаконченном романе Америку, которой никогда не видел и которая в силу этого могла сыграть роль «своего чужого». Иными словами, война подсказала Кафке идею придумать
79
MODERNITJ в избранных сюжетах
собственную Россию и поместить туда своего типического героя. Что, собственно говоря, и проделывается в «Воспоминании о дороге на Кальду».
В этой «России» нет ровным счетом ничего «русского». Перед нами все та же Центральная Европа, только расстояния увеличены в десятки раз. Главное в «Воспоминании» — одиночество и заброшенность; все остальное, включая крыс, атакующих хижину героя, станционного смотрителя на никому не нужной станции никому не нужной ветки — внешние обстоятельства. Опыт почти тотального одиночества и фантастической заброшенности и есть «Россия», против которой Австро-Венгрия (вместе с ее подданным Францем Кафкой) ведет войну. Война даровала Кафке бытовое одиночество, война ведется с Россией, одиночество описывается как «Россия». Круг замыкается.
Итак, на одной чаше экзистенциальных весов Кафки в августе 1914 года — война, одиночество, «Воспоминание о дороге на Кальду». На другой — «Процесс». Долго это равновесие сохраняться не может — роман перевешивает, «Кальда» остается непродолженной (или наскоро завершенной), начинает мучить одиночество (к концу 1914 года возобновляются контакты Франца с Фелицией), а война из назойливой декоративной темы становится одной из главных, превращается из неподлинного фактора частной жизни писателя в подлинный. 21 августа Кафка записывает в дневник: «Наверное, будет правильно, если над “русским рассказом” я буду работать всегда только после “Процесса”». К «Воспоминанию о дороге на Кальду» он уже никогда не вернется; еще не зная этого, Кафка добавляет: «...совсем бесполезным это не было». К концу месяца работать и над «Процессом» становится все тяжелее, в дневнике это фиксируется 29, 30 августа и 1 сентября. А 13 сентября Кафка впервые подробно описывает свои чувства в связи с войной (а не ее пропагандистскими проявлениями, вроде пражских манифестаций начала августа). Ключевая фраза здесь: «Ход мыслей,
80
Настоящий август Франца Кафки
связанных с войной, мучителен, они разрывают меня во все стороны и напоминают мои старые тревоги в связи с Ф.». Тут замыкается еще один круг, связывающий личную катастрофу с общей, только теперь Кафка оценивает ситуацию с Фелицией иначе, она для него становится равной войне; обе обретают подлинность и парализуют его. Весь набор людей и тревог, связанных с Фелицией, возвращается к нему уже в октябре11, война тоже основательно и неумолимо располагается в его жизни. Августовский баланс нарушен безвозвратно, но дело сделано, и Кафка уже почти привычно вымучивает из себя «Процесс»12; а параллельно идет другой процесс: в сотнях километров от его квартиры на Билекгассе миллионы людей зарываются в окопы, которые они — или те, кто придет им, убитым и раненым, на смену, — покинут лишь четыре года спустя, чтобы вернуться на (по большей части, уже бывшую) родину.
11 15 октября 1914 года Кафка неожиданно получает письмо от Греты Блох; отвечая, он вспоминает «судилище в отеле»: «Вы, правда, хоть и сидели в “Асканийском подворье” как судия надо мной, — это было жутко и отвратительно для Вас, для меня, для всех, — но ведь это только выглядело так, на самом-то деле на Вашем месте сидел я, я и по сей день его не покинул» {Кафка Ф. Письма к Фелиции... С. 530). Тогда же, в октябре, возобновляется его переписка с Фелицией (как и в случае с Гретой, не по его инициативе); уже в январе 1915-го они встречаются наедине.
12 5-19 октября он берет на службе отпуск, чтобы поработать над «Процессом» и «Америкой»; тогда же Кафка сочиняет свой, пожалуй, самый формализованный кошмар — «В исправительной колонии».
81
MODERNITS:
МОДЕРНИЗМ, ВОЙНА,
МУСОР ПРОШЛОГО
*1 А С Т Ь
ВТОРАЯ
Кирико: Меланхолия вечного (не)отбытия
В 1914 году Джорджо де Кирико нарисовал картину под название^ «Вокзал Монпарнас. Меланхолия отъезда» (или даже «Меланхолия отбытия»). Кирико было 26 лет, он находился на пике своего первого, «метафизического» периода, который, собственно, и прославил его несколько лет спустя. С подачи Аполлинера работы Кирико стали известны французским модернистам, которые чуть позже (если в отношении Первой мировой можно использовать слово «чуть») стали французскими авангардистами — или не стали, но передали свое знание о завораживающем «сверхреальном» итальянце дальше по культурной цепочке. Де Кирико стал одним из тех, на кого молились сюрреалисты, — и даже пытались рекрутировать его в авангардистский батальон под командованием майора Бретона, но итальянец резко сменил стиль, мировоззрение, все что угодно. Он увлекся совсем другой живописью, на сюрреалистические команды отвечал раздраженным неповиновением, всячески обзывал членов движения, после чего вовсе выпал из их обоймы — чтобы попасть в обойму тех, кого так любят арт-дилеры, кураторы и конносьеры. Кирико прожил очень долгую жизнь: умер в 1978-м девяностолетним классиком модернизма, пережившим, как уверяют многие, его кончину. За семь лет до смерти Кирико вышло первое издание книги Ихаба Хассана «The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature».
Но вернемся в 1914-й, к «Вокзалу Монпарнас».
Ненаучно выражаясь, перед нами один из шедевров живописи XX века, чистейшая, дистиллированная пустота, отъединенность, меланхолия. Как чаще
85
M0DERNIT6 В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
всего бывает на ранних картинах Кирико, здесь нет ни одного человека, только знаки и символы цивилизации, окружающей художника. В каком-то смысле перед нами ее портрет — если не целиком «западной цивилизации эпохи modernity», то уж точно способа ее мышления. Все изображенное здесь имеет отдельное бытие, ничто никак не соотносится с находящимся рядом. Вдалеке, на линии горизонта, идет железнодорожный состав, состоящий из паровоза, тендера и грузовой платформы — или паровоза и двух тендеров. Не предполагается, что эта машина перевозит людей. Из широкой трубы паровоза поднимается большой клуб белого дыма; вместе с циферблатом больших часов на (видимо, вокзальной) башне и полосок на стенке слева на переднем плане, в которую упирается желтая дорога, спускающаяся сверху картины вниз, это единственный белый цвет на полотне. Дым похож то ли на султан над гусарским кивером, то ли даже на большой тюрбан на голове турецкого султана, вроде знаменитого тициановского портрета Сулеймана Великолепного. Но ни гусаров, ни султанов, ни великолепия нет на «Вокзале Монпарнас». Нет и быть не может.
86
КИРИКО: МЕЛАНХОЛИЯ ВЕЧНОГО (НЕ)ОТБЫТИЯ
Башня с часами построена из красного кирпича, в английском стиле. Сложно сказать, была ли такая башня на настоящем вокзале Монпарнас, — он был возведен в 1840 году (и получил тогда название Западный вокзал), а в 1969-м полностью перестроен, так что теперь понять, как он выглядел в 1914-м, довольно сложно. Гугл молчит. Из доступных мне изображений вокзала хронологически самое близкое к картине — фотография 1920 года, уже после войны. Перед нами довольно скучное здание, безо всякой меланхолии. Более того, никакой башни, подобной той, что нарисована на картине Кирико, нет и в помине.
Банальный фасад вокзала; запомнить его совершенно невозможно, ведь точно такой же можно обнаружить у тысяч зданий, построенных в Европе в начале эпохи modernity. Сам фасад есть воплощение буржуазного урбанистического мира, покоящегося на идее
87
MODERNITt В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
технического и социального прогресса, рыночной экономики и (относительного) эгалитаризма. Каждый может зайти в это здание, купить билет одного из трех классов (эгалитаризм в том, что каждый может купить, но далеко не каждый покупает) и отправиться на поезде, чуде научно-технической мысли и экономической мощи, в другой город (это урбанистическая эпоха). Отправиться, как говорило изначальное название вокзала, на запад. Или приехать с запада. Кстати говоря, именно поезд, пришедший с запада, на некоторое время сделал скучный фасад вокзала Монпарнас прекрасным, драматичным, даже символичным. 22 октября 1895 года нагонявший график скорый поезд Гранвиль — Париж ворвался под своды вокзала, но не смог вовремя затормозить, снес тупиковый упор в конце пути, пробил внешнюю стену фасада и рухнул локомотивом на прилегающую к станции Пляс де Ренн. Происшествие так взволновало всех, что фото живописной аварии обрело невиданную популярность.
Несмотря на внушительные масштабы происшествия, последствия его были не столь уж фатальны. Ранения и травмы получили 163 пассажира и члена поездной бригады, жертва оказалась всего одна. Звали ее Мари-Огюстен Агиляр, она была женой мелкого торговца, который базировался под фасадом вокзала. В тот роковой день Мари-Огюстен зашла навестить
88
КИРИКО: МЕЛАНХОЛИЯ ВЕЧНОГО (НЕ)ОТБЫТИЯ
мужа, он попросил ее постоять у прилавка, пока он сходит за газетой. Стоило ему удалиться, как сверху посыпались огромные блоки стены, а за ними упал поезд. Бедную женщину убило кирпичами. В те времена идея социальной ответственности не была чужда бизнесу — вдовцу, на руках у которого осталось двое детей, железнодорожная компания назначила пенсию, она же оплатила похороны Мари-Огюстен. Ответственность имеет две стороны — машинист был вынужден заплатить штраф 50 франков, кондуктор — 25. О дальнейшей судьбе овдовевшего торговца ничего не известно.
Любопытно, что на фото аварии, как и на картине Кирико, нет ни одного человека; только сваливший
89
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
ся паровоз, свисающий со стены угольный тендер, в бреши фасада виднеется первый из пассажирских вагонов. Тем, кто ехал 22 октября 1895 года из Гран-вилля, повезло — окажись тормозной путь их поезда чуть длиннее, они вылетели бы на Пляс де Ренн вслед за паровозом. И тогда жертв было бы больше. К сожалению, я нигде не смог найти указания о времени прискорбного происшествия — не исключено, что Кирико знал его, и оттого на его картине часы показывают 14:27 или 14:28. Точнее разглядеть невозможно.
На башне и на большом флагштоке, что установлен на левой стене вокзала, — множество флажков. Судя по всему, дует сильный ветер, отчего все они строго параллельны земле, справа налево на картине. В то же время дым из трубы паровоза поднимается вертикально, что доказывает интуитивное представление, возникающее при первом же беглом знакомстве с этой работой: все объекты на ней существуют совершенно отдельно, абсолютно безразличные к присутствию остальных. Поезд едет сам по себе. Ветер дует сам по себе. Связка бананов, которую можно часто увидеть на других картинах Кирико того периода, — тоже совершенно суверенна. На самом деле перед нами случайный набор кантовских вещей в себе, по-лотреамоновски размещенных на одном условном столе. Холодность, тоска, мечта о чем-то далеком и не имеющим сбыться, меланхолия — вот те вещи, которые подразумеваются под «метафизикой». Есть «физика» — физический материальный мир с его законами. Есть то, что «после-физики», «через-физику», — то, что могло бы объединить ее с миром отсутствующих на этой картине людей; как выясняется, между этими мирами — абсолютная космическая пустота, безвоздушное пространство, открытое для толкований.
Если мы сопоставим картину 1914 года с фото 1920-го, то увидим удивительную вещь: Кирико довольно точно нарисовал левое (если стать спиной к фасаду) крыло вокзала. Он обнажил его символиче
90
КИРИКО:.МЕЛАНХОЛИЯ ВЕЧНОГО (НЕ)ОТБЫТИЯ
скую архитектуру, которая смешивает Древний Рим, викторианскую Англию и странную идею условной Африки или даже Южной Америки; на последнее указывают и желтая дорога, и бананы, да и сам поезд, идущий с запада, с Атлантического побережья. Вопрос о маршруте здесь очень важен. С одной стороны, мы действительно знаем, что на этот парижский вокзал приходили (и приходят) поезда с западного направления — Нант, Брест и т.д. С другой — на горизонте солнце то ли восходит, то ли (скорее всего) садится, значит, там либо восток, либо запад. Получается, что поезд идет либо с юга (и тогда идущая от него желтая, солнечного цвета дорога и бананы получают дополнительное подтверждение), либо с севера (и тогда нам за художника придется выстраивать более хитрую концепцию, мол, едут они с севера, но хотят попасть на юг, то есть, по географии этой картины, вниз, где лежит связка экзотических фруктов). Наконец, можно предположить, что этот состав не едет, а стоит у перрона и разводит пары в ожидании пассажиров. Тогда все верно. Поезд отбывает. Настоящее продолженное. Меланхолия отбытия.
В год создания этого безлюдного шедевра миллионы людей сели в поезда и, одетые в шинели, снабженные патронташами, винтовками и прочим военным снаряжением, отправились в окопы Первой мировой. Пустой метафизический ландшафт, нарисованный де Кирико, зарос пушечным мясом, которое выравнивали в колонны и мерно наполняли им вагоны. Так было на запад от Рейна, на восток от Рейна, на восток от Западной Двины, даже на восток от Волги и далее везде. Впрочем, и на юг от вокзала Монпарнас тоже — до самого Кейптауна и Дурбана. Мир modernity, опутанный сетью железных дорог, перевозил миллионы солдат с одного своего конца на другой. Там их и убивали.
И вот здесь мы приходим к самому интересному, к тому, что такое была/есть современность, modernity, и как из этого появляется модернизм.
91
ModernitE в избранных сюжетах
Modernity — это не заводы, паровые двигатели, эмансипация женщин и всеобщее избирательное право, не телефоны и воздухоплавательные аппараты, не дагерротипы и синематограф. То есть она — все это вместе (и миллионы других вещей и феноменов тоже), но суммой их современность не исчерпывается. Modernity — тип общественного сознания и способ мышления; самым важным в нем является отношение к прошлому, настоящему и будущему — плюс, конечно, отношение «натуры творящей» к «натуре сотворенной», Культуры к Природе (учитывая, что настоящей «творящей натуры», Бога, здесь нет — он, как известно, умер). Modernity порождает модернизм как способ художественного мышления, несущий в себе те же, что у родителя, черты. Иными словами, если мы живем (думаем) в modernity, значит, мы создаем художественный модернистский мир, чем бы он ни прикидывался — поздним романтизмом, декадансом, собственно, тем, что искусствоведы и литературоведы называют «модернизмом», соцреализмом, постмодернизмом. До тех пор пока работает мыслительная парадигма modernity, характерное для нее соотношение «слов и вещей» (спасибо, МФ!), был, есть и будет (вое-) производиться модернизм. Соответственно, «Вокзал Монпарнас» и, к примеру, «Воспоминание о дороге на Кальду» сделаны на одной и той же фабрике, только, будучи шедеврами, не на конвейере, а где-то в укромном уголку, руками, не используя машины, в свободное от основной конвейерной деятельности время.
Теперь же пришло время сказать несколько слов о технологических принципах, на которых основаны эта фабрика и это производство.
За 62 года до картины Кирико, прозаического отрывка Кафки и начала Первой мировой Карл Маркс открыл «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» известным пассажем:
Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так ска
92
КИРИКО: МЕЛАНХОЛИЯ ВЕЧНОГО (НЕ)ОТБЫТИЯ
зать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Коссидьер вместо Дантона, Луи Блан вместо Робеспьера, Гора 1848-1851 гг. вместо Горы 1793-1795 гг., племянник вместо дяди.
Первые две фразы давно растаскали для своих нужд тупые журналисты и глупые пламенные публицисты, которые, увы, просто не понимают, о чем идет речь у Маркса. Напомню, о чем здесь речь на самом деле. В памфлете анализируется ход политических событий во Франции от февральской революции 1848 года до государственного бонапартистского переворота 1851-го. Маркс критикует неспособность действующих лиц революции и послереволюции думать самостоятельно, вырабатывать свой собственный язык политической риторики и свои собственные образы, не заимствуя их у другой революции, Великой французской 1789 года. Та, Великая, была настоящей, хотя и рядилась в античные тоги, эта, современная, кажется Марксу неподлинной, так как не поняла своей особенной сущности. Революция 1848-го испугалась собственного содержания и стала прикидываться иной, классической, с иным содержанием. Не слыхав еще французского понятия modernite, Карл Маркс нащупал принципиальную характеристику новой эпохи, нового типа общественного сознания. Это сознание боится своей современности, оттого пытается апеллировать к истории для легитимации себя самой. Но история, которой она прикрывается, не чужая для этого сознания, она своя — либо она чужая, но пропущенная через себя, прочитанная. Революция 1848-го одевается не в античные тоги, а в камзолы Робеспьера и Марата, то есть рядится в тоги первой в ряду современных. Если же после 1848-го в европейской политике и возникают некие отсылки к Античности, или Средневековью, или к Ренессансу, — все эти исторические эпохи используются только в том виде, в каком их открыла для себя и описала современная эпоха, modernity. Точно так же художественный модернизм ищет своих пред
93
MODERNITJ в избранных сюжетах
шественников исключительно в modernity — либо в иных временах и культурах, но непременно трансформированных посредством modernity.
Само по себе «не свое» модернизм не интересует, ему важно предварительно чисто механически прочесть и апроприировать его, — а потом уже можно и взять в высокий культурный оборот. Так японская графика прочитывается через парижский буржуазный дух конца XIX века, гейши превращаются в дам с камелиями, нормативная эстетика видов горы Фудзи — в особого рода постимпрессионистические, чисто декоративные пейзажи. В «чистом», «прямом» виде для модернизма не существует ничего другого. Ему важнее его собственный микроскоп, бинокль, мощный прожектор, с помощью которых он выхватывает из тьмы и разглядывает куски «чужой культурной реальности», нежели сама эта реальность. «Закон», «метод» первичен, материал, к которому он применяется, — почти случаен. Перед нами торжество метода — как в марксизме, фрейдизме, нацизме, неолиберализме, символизме, конструктивизме, магическом реализме. Был такой (увы, забытый сейчас) роман кубинского писателя Алехо Карпентера «Превратности метода»; он повествовал о нелегком ремесле диктатора; собственно, тема та же, что и в «Восемнадцатом брюмера», — методология бонапартизма, авторитаризма, типичного феномена modernity. И конечно, главными философами модернизма были те, что либо конструировали метод, не интересуясь ничем иным, кроме его логики (Витгенштейн, структуралисты), либо декон-струировали свой — и любые иные — методы (постструктуралисты, деконструктивисты и т.д.).
В последний раз вернемся к «Вокзалу Монпарнас» и «Кальде». Картина Кирико представляет собой набор важнейших символов modernity (вокзал, поезд) и заимствований из других эпох и культур, пропущенных через методологическую линзу современности (стена вокзала напоминает римские акведуки, бананы, этот
94
КИРИКО: МЕЛАНХОЛИЯ ВЕЧНОГО (НЕ)ОТБЫТИЯ
намек на далекие жаркие страны, на самом деле прочитываются как аллегория колониализма). Сама эпоха, ее цайтгайст явлены рамками картины, а внутри них уже можно поместить что угодно в каком угодно сочетании. Детали не важны — и одновременно не неважны, детали лежат на столе, важен стол, который есть не что иное, как метафора метода. По той же причине «Вокзал Монпарнас» пуст; людей нет, ибо они могут испортить идеальную метафизику вещей и символов современности. У Кафки все еще интереснее. Там есть Россия, которая в этом отрывке играет ту же роль, что и картинные рамки у Кирико. Россия в «Кальде» — нигде, место, определяемое не временем (историей), а пространством (расстоянием); в отличие от текучего неулавливаемого хронологиями времени, пространство можно измерить, проведя по нему линию железной дороги. Все, чем занимается герой «Кальды», есть не что иное, как последовательность готовых методов, которые он применяет/не применяет к окружающей пустой пространственной, плоской жизни. Истории здесь нет, времени (кроме кругового, смены времен года) тоже, есть явленная под видом непонятной России Природа — и явленная в виде несчастного смотрителя Культура с набором ее инструментов.
Парадигма модернизма и ее источник, модерновый способ мышления, модерновый тип общественного сознания, никуда не делись сегодня. Ни modernity, ни модернизм не умерли; как в конце XIX века или в середине XX, они просто меняют одежды, интонации, аранжировки. Джойс в «Улиссе» переписал почти всю английскую литературу. Беккет, чтобы не переписывать Джойса, перешел с английского на французский. Наконец, Пьер Менар слово в слово переписал кусок главы «Дон Кихота» — получился очень современный текст. Это отчего-то нарекли постмодернизмом и заявили, что модернизм мертв, — при том, что перед нами совершенно наглый модернистский, даже авангардистский жест. Знаю-знаю, сейчас опытный культу-
95
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
ролог укажет мне на шизофрению и релятивизм всего, что имеет приставку «пост-», и сравнит с паранойей и редукционизмом всего того, что имеет приставку «пост-». Но разве сконструировать главу своего романа в виде пастиша на все написанное до тебя — это не «пост-»? А разве тупо, буква в букву переписать кусок книги XVII века — не паранойя? Наконец, если Маркс называл революцию 1848-го фарсом, то чем — если двигаться по хронологической нисходящей — была Парижская Коммуна? А русский 1917-й? Комическими куплетами? Тогда получается, что картавый Ленин с очкариком Троцким — постмодернисты не хуже Гилберта и Джорджа.
В общем, все остается на своих местах уже почти 200 лет. Пустой вокзал. Вечные 14:27 или 14:28. Поезд дымит на горизонте. Солнце то ли восходит, то ли садится. Никто никуда не отбывает. Отсюда и меланхолия. Впрочем, можно славно убить время, меланхолически жуя бананы и пялясь в пустоту.
Курт Швиттерс: победитель
Сейчас, вэпоху ГуглаиВики, неприлично излагать во всех деталях биографии знаменитых людей, даже если посвящаешь им свой текст. «Журналист — это тот, кто пересказывает ленивым Википедию», — сказал некий острослов и был совершенно прав. Так как пишущий эти строки не считает себя журналистом, а читателей ленивыми, то пересказа биографии нашего героя, художника Курта Швиттерса (1887-1948) здесь не будет. Достаточно нескольких фактов россыпью. В молодости — дадаист. Мастер коллажа и ассамбля-жа. После 1933-го известно кто признал его «дегенеративным художником». В 1937-м бежал из Германии в Норвегию, в 1940-м — из Норвегии в Великобританию. 16 месяцев в лагере для интернированных на острове Мэн. Бедность лондонской жизни. Скверный характер. Переезд из Лондона в Озерный край. Смерть на следующий день после того, как пришел положительный ответ на запрос о британском гражданстве. Посмертная слава. Выставки и монографии.
Я побывал на выставке «Швиттерс в Британии», которая проходила весной 2013 года в лондонской галерее Тейт. В городе, где в одно и то же время можно посмотреть на выставку Клода Моне, помпейских и геркуланумских развалин, одежд и прочей параферналии Дэвида Боуи, неисчерпаемой коллекции пропагандистских плакатов прошлого века и много чего еще, выбор смелый. Швиттерс никогда не входил в число небожителей, его знают в основном только специалисты и сами художники, с дадаистами он разошелся еще в ранние годы, в сюрреалисты не вступил, упустив шанс на шумный успех. И тем не менее я пошел именно туда.
97
MODERNITt в избранных сюжетах
За этим — помимо старого любопытства по поводу непревратившейся в сюрреалистов части дадаистской группы — стояли и собственные сентиментальные соображения. Девять лет назад, в 2004 году я оказался в пражском Ставовском театре на опере под названием «Man and Boy: Dada». Признаюсь честно: это был первый в моей жизни поход в оперу (второй я совершил в 2007-м на премьеру недавно раскопанной в архивах немецкой барочной оперы «Борис Годунов». Она была написана... в 1710 году, и московские бояре выглядели в ней натуральными индейцами — наивные, жестокие и все в перьях). Преодолеть лень и нелюбовь к жанру меня заставило название и — прежде всего — имя композитора; оперу сочинил Майкл Найман, которого я (вот оно, guilty pleasure'.) обожаю со времен первого просмотра кинофильма «Повар, вор, его жена и ее любовник». То есть я догадывался, что будет интересно, но никак не мог предположить, что настолько.
Man — это Курт Швиттерс, живущий в изгнании в Лондоне. Он беден, как церковная мышь, ребячлив, не очень твердо владеет английским и проводит время в поисках мусорка жизни для своих коллажей. В частности, он собирает автобусные билетики (все верно: я их видел в Тейт в его работах, очень красивые, пожелтевшие, солидные, надежный дизайн шрифта, масса интересной информации). Забыл сказать: время действия — 1945 год. Война только закончилась.
Воу — это 12-летний мальчик Майкл, который собирает те же самые билетики для коллекции. В одном из автобусов Курт и Майкл схватываются из-за особо ценного экземпляра, по ходу оперы ссора переходит в дружбу, добавляется и третий персонаж — мать Майкла, с которой художник заводит дурашливый платонический роман. Собственно, всё. Музыка в опере — самая минималистическая, постановка — тоже: типичный продукт честной европейской арт-бедности XXI столетия, без излишеств, но очень стильно. И даже трогательно, как ни странно. Швиттерс в исполнении
98
КУРТ ШВИТТЕРС: ПОБЕДИТЕЛЬ
Джеймса Кларка прекрасен — нелеп, обаятелен, по-немецки грубоват и по-художественному беспомощен. Он, как и Майкл с матерью, — настоящая жертва войны, жертва Истории. Чтобы противостоять ей, он подбирает разные мелочи этой самой Истории и мастерит из них произведения искусства; он нейтрализует ее, приводя в свой, только ему понятный порядок. Если для этой Истории с большой буквы люди — мусор, то и искусство должно быть соответствующим; на фоне такого искусства такая история выглядит напыщенной идиоткой. У Майкла же иная стратегия. Он билетики коллекционирует, заклиная хаос попыткой вернуть порядок, хотя бы на самом низовом, мелочном уровне. Собственно, когда он сцепился с Куртом в автобусе, это была схватка двух стратегий выживания приватного человека в XX веке. Победила, по мнению Майкла Наймана и либреттиста Майкла Хастингса, дружба (любопытно, что в детстве оба соавтора, родившиеся примерно в одно и то же время, в конце войны, обожали собирать автобусные билеты).
С этой концепцией в голове я и шел в Тейт смотреть на работы настоящего, не оперного Курта Швиттерса. Собственно, выставку и оперу следовало бы совместить: в лондонской галерее представлен не «весь Швиттерс», а именно «Швиттерс в Британии», что есть немаленькая разница. «Швиттерс в Британии» — художественная история несчастного беженца, которого преследовало Государство в самых разных его проявлениях. А именно, оно (еще представленное усатыми дипломатами времен belle epoque) развязало Первую мировую войну, во сто крат более бессмысленную, чем любой абсурдистский манифест дадаистов, оно (уже олицетворенное Гитлером и Геббельсом) назвало Швиттерса дегенератом и заставило бежать на край света, оно (в виде немецких танков и кораблей) вынудило его покинуть и этот край света, оно (теперь уже британское, демократическое) продержало его в лагере 16 месяцев — рядом с десятками тысяч таких
99
MODERNITfc В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
же бедолаг, которые, к несчастью, были обладателями немецких или австрийских паспортов. Если уж и говорить о судьбе европейских писателей, художников, поэтов, просто людей в прошлом столетии, то точнее формулы, чем название романа «Бегство без конца» еще одного беженца, австрийца Йозефа Рота, не придумать. Последние 11 лет своей жизни Курт Швиттерс то и дело ускользал от лап омундиренных идиотов; выставка в Тейт — о том, чем он занимался, ускользая.
Перед нами ответ художника на превратности его персональной судьбы. Он не претендует на то, чтобы пасти народы; более того, Швиттерс вообще не делает прямых высказываний. По большей части, он подбирает мусорок жизни и складывает его таким образом, что получается искусство. Заметим: «искусство» заключено здесь не только в самом жесте авангардиста, оно навсегда отпечатано в результате, что очень традиционно, даже консервативно. Если разглядывать коллажи Швиттерса издалека (обычно они небольшие), то создается впечатление, что перед тобой абстрактные полотна или даже рисунки, невероятно тонкие, лиричные, цветовой гаммой напоминающие даже (о, ужас!) сецессион. Подходишь ближе и видишь тщательнейшим образом уложенный прах повседневной жизни горожанина-европейца — те самые билетики, обрывки афиш, оторванные куски рекламок, фрагменты старых газет, черно-белых репродукций академической и романтической живописи и прочее, и прочее. Поражает маниакальная сосредоточенность человека, который все это дело подбирал, хранил, совмещал в коллаже; нет, не эскапизм, а серьезная конкуренция коллективной истории. Индивидуализм XX века только и может состоять из мусора коллективной жизни; все остальное — пошлость и бессмысленные понты.
Швиттерс будто говорит всем эти Гинденбургам, гитлерам, Сталиным, Черчиллям: вы делаете свое дело, а я свое, посмотрим, кто сделает его лучше. Его гоняют по Европе, а он сидит на ледоколе, который везет его из
100
Курт Швиттерс: победитель
оккупированной Норвегии в распахнувшую лагерные врата Британию, и строгает свои маленькие скульп-турки (это его вторая обсессия, кроме коллажей, поздняя). В любом месте, где этот нищий беженец оседал, он принимался делать Merz — архитектурное пространство, обустроенное по законам его собственного искусства. Последний в своей жизни Merz Швиттерс затеял в заброшенном амбаре в воспетом романтиками Озерном крае. Закончил одну стенку и умер.
Еще интересно, как авангард превращается в просто искусство, просто арт, — скажем так, чтобы избежать дурацких коннотаций, связанных со словом «искусство» (балерины, длинногривые дирижеры, художники в беретах, зеленый змий абсент и прочая чушь). Дадаизм же был авангардистской реакцией на бессмысленность Первой мировой войны: мол, вы нас так, а мы вас переобессмыслим! Плюс, конечно, использование новых материалов и новых техник, порожденных индустриальным обществом. Однако долго уживаться вместе абсурдизм с утопизмом не могли; оттого дадаисты довольно скоро разбрелись по разным лагерям. А Швиттерс остался один, отказавшись и от абсурда, и от утопии; он принялся мастерить иной мир из презренного материала этого. И на самом деле выиграл, ибо он создал мир настоящий, реальный, подлиннее которого в прошлом веке просто невозможно придумать. Это уже потом его примеру последовали Бойс и (частично) Fluxus, но уже в другом мире, совсем другом.
И конечно, удивительно, как Швиттерс ввел Природу в свой арт. Сразу после Первой мировой его коллажи казались манифестацией чего-то сверхсовременного: ведь и газеты, и реклама и проч., включая просто металлические части каких-нибудь велосипедов и машин, — все было частью большого модернистского западного проекта. Сейчас это выглядит как стимпанк, милая старомодность, лишенная всяческой актуальности (и, соответственно, опасности для зрителя). Будто
101
ModernitE в избранных сюжетах
понимая это, Швиттерс с какого-то момента принялся вводить в коллажи (и прочие свои штучки) природные элементы: куски дерева, ветки, листья, камни и т.д. Он показывает нам, как Культура (в его случае — история) дряхлеет, превращается в мусор, перемешивается с мелочью Природы, образуя в конце концов прекрасную, загадочную, волнующую картину. У беглеца без конца другой родины, кроме этой картины, нет.
P.S. Собираясь на выставку, я вспомнил вдруг, что ведь где-то у меня должна валяться программка оперы «Man and Воу». Отчего я так решил, непонятно: никогда не имел привычки хранить такого рода печатную продукцию, тем паче что совсем недавно был вынужден в связи с переездом в другую страну раздать три четверти своей библиотеки. То есть шансов на то, что программка найдется, практически не было. Но я решил-таки покопаться — и обнаружил ее рядом с большеформатной книгой, которую мне подарили в 2007-м на премьере барочного «Бориса Годунова». Сейчас я думаю: хорошо бы изорвать в клочья оба памятника моей персональной оперной истории, тщательно перемешать, высыпать обрывки на заранее подготовленный холст, смазанный по всей поверхности клеем, а сверху прилепить старое фото, на котором мой седьмой «А» царапает граблями весеннюю землю ПКиО Автозаводского района г. Горького. Фломастером пририсовать себе айподные наушнички, а учительнице написать на груди «Цой жив!». В правом нижнем углу приклеить обрывок постсоветской карикатуры, изображающей человека, наступающего на грабли.
Нитка от штандарта империи: археология музейного проекта
Невысокая итальянка лет двадцати в синей дутой куртке наклонилась над витриной. Там под стеклом лежат всякие старые штучки — сосуды непонятного предназначения, фигурки, амулеты. Рядом с каждым предметом — подпись: «Ритуальная чашка. Полинезия», «Фигурка Будды. Юго-Восточная Азия». Вроде бы обычный музей с его коллекцией полуслу-чайных вещей, выставленных в просветительских целях на всеобщее обозрение, но даже по музейным меркам все равно странновато — сложно придумать универсальный ключ к системе, согласно которой полинезийская чаша оказалась рядом с маленьким Буддой. Религия? Дальний Восток? Восток вообще? Третий мир? Отнюдь — ведь за спиной моей итальянки (а она перенесла свое внимание на мраморный бюст какого-то английского джентльмена XVII века) огромные книжные шкафы; там за стеклом стоят явно подобранные по цвету и основательности кожаных переплетов тома собрания сочинений Наполеона Бонапарта, статистических описаний Южного Уэльса и исторической эпопеи Гиббона. Нет, что-то другое — не религия и не экзотика. Впрочем, возможно, все-таки экзотика, ведь для этой итальянской туристки — как и для мирно бродящих по этому залу японцев, китайцев, русских и немцев — Наполеон, толстые фолианты вообще, упадок и разрушение Римской империи, полинезийские верования есть одно, то, что можно было бы как раз отнести к разряду экзотики, чужого, не своего, диковатого и занимательного одновременно. Справа от меня — вспышка холодного фотографического света, итальянка отдергивает руку от мрамор
103
ModernitE в избранных сюжетах
ного георгианского джентльмена, спешит юный смотритель, неодобрительно качая головой, мол, никаких здесь вспышек и прикосновений. Итальянцы правы, в этом зале темновато для обычного фото.
Британский музей в лондонском районе Блумсбери — одно из лучших мест на свете. Здесь всегда можно переждать ненастье, сходить в туалет, поглазеть на всяческие штучки, которые музейный магазин предлагает жаждущим отвлеченного туристам (один коврик для компьютерной мышки в виде плоского, будто по нему прошелся асфальтоукладчик, Розеттского камня чего стоит), попить кофе и даже съесть недорогой сэндвич, вообще просто посидеть в гигантском дворе под светлым куполом, подумать, почитать, записать что-нибудь неважное, но и не требующее отлагательств, в блокнотик или айпэд. Наконец — благо вход, как и во все остальные государственные британские музеи, бесплатный —- в твоем распоряжении (почти) все богатства этого мира. Я не преувеличиваю. Древний Египет с его фараонами, кошками и писцами; Ассирия, чьи орнаментально-кудрявобородые цари истребляют львов и осаждают вражеские города; вот прекрасные эллинские обнаженные тела, лошади, гоплиты в доспехах симметрично выделывают милитаристские коленца; европейское Средневековье, кабинет графики с рисунками самого Леонардо, а там дальше — азиатские залы, сотни кришн, будд, километры иероглифов, Океания, Полинезия, индейцы Америк, их тотемы, пернатые головные уборы, челны и луки со стрелами, да чего там только нет. В этом здании можно проводить сутки, недели, месяцы, не испытывая скуки, — ведь материал собран в Британском музее самый разнообразный, пестрый, эклектичный; но в то же время он разложен по специальным комнатам, снабжен классифицирующей логикой, пояснительными текстами. Перед нами Империя Западного Знания — лучший из памятников колониализму, если под последним понимать освоение не только террито
104
Нитка от штандарта империи
рий, но и времени как такового, древности и Средних веков, нового и новейшего периодов. Империя — господство универсального над партикулярным, выраженное не в унификации разнообразных феноменов, а в едином способе их размещения по полочкам в назидательных целях. Британский музей отчасти задуман как репрезентация имперской идеи (которая шире саидовского ориентализма), манифестация власти, мирового господства: мол, вот мы пришли в отдаленный конец мира, в отдаленную от нас историческую эпоху, установили над ними господство — сосчитали тамошние вещи, зафиксировали и выстроили в один известный нам порядок. Наша власть и есть такой порядок, орднунг, внутри которого вещи, выставленные по соседству, начинают по принципу соположенности пускать ложноножки и составлять немыслимые ранее горизонтальные связи. Ассирийский зал соседствует с древнегреческим, цейлонские древности — с корейскими. Мысли, приходящие в голову по мере перехода из одного помещения в другое, в основном не исторического, а антропологического свойства, фиксируешь не различное, а общее. Бога нет, а всеобщий знаменатель есть. Попадая в Британский музей, посетитель мгновенно включается в сеть строгого и безмятежного одновременно функционирования идеи Универсальной Классифицирующей Империи. Не то чтобы эта империя знала всё, нет, зато она может найти всему его место. Собственно, после распада «настоящих» империй Нового времени — британской, французской, австро-венгерской, российской и других — возможна только такая чисто западная империя. Не политическая, не, конечно же, экономическая (с Китаем или Японией не посоревнуешься), не военная и даже не культурная. Империя-схема, империя — ментальная паутина. Так, по крайней мере, было задумано.
Внутри Британского музея есть зал, где выставлена идея Британского музея. Там-то я и наблюдал любознательную итальянку. Называется зал Enlightenment
105
1 ModernitE в избранных сюжетах
Gallery (Галерея Просвещения) и находится справа от главного входа с Грейт-Рассел-стрит, надо просто обойти справа же бывший читальный зал — тот самый, где когда-то Маркс и Ленин. Сейчас в экс-читалке устраивают роскошные тематические выставки, которые предъявляют нам уже иной тип социокультурной заботы о просвещении людей. Однако главный зал, классический, идеально соответствующий тому типу исторического сознания, на котором воздвигнут Британский музей, покоится сама идея Британского музея, — все же сбоку, хотя лично я поместил бы его прямо на входе. Получилось бы нечто вроде инструктажа по западному мышлению об окружающем мире, руководство к правильному посещению музея. Впрочем, и так хорошо. Этот гигантский зал был построен в 1828 году, чтобы вместить библиотеку короля Георга Третьего; сейчас книги переехали в новое (прекрасное!) здание Британской библиотеки, а здесь в 2003 году, когда Британскому музею было 250 лет, открыли новый проект. Enlightenment Gallery окружена иными — уже не концептуально-тематическими — залами; если обойти бывший читальный зал слева, попадешь в быт и нравы индейцев, по правую и левую руку от индейцев — восточные и эллинские древности. Конечно же, почти никто из заглянувших в великолепную Enlightenment Gallery разницы не понимает и не чувствует, туристы разглядывают будд, мраморные бюсты и античные скульптуры, коллекции монет, инструментов и камушков с раковинами точно с тем же доброжелательным безразличием, как ассирийские барельефы или тех же будд, но уже в специализированных комнатах, там где Индия и Восток вообще.
Теперь о том, как устроена Enlightenment Gallery. Это длинная анфилада из трех комнат (две вытянутые, одна, в середине, квадратная, в ней, прямо у центрального входа со стороны Great Court, — огромная античная скульптурная ваза), вдоль которых тянутся
106
Нитка от штандарта империи
высокие застекленные шкафы с книгами и разными вещами; стенды, выстроенные в две симметричные линии, оставляют в галерее много пространства для передвижений публики. Впрочем, публики обычно немного. В стендах под стеклом — тоже всякие вещи и книги, но только, в отличие от шкафов, книги стоят в них поодиночке, раскрытые на важных для экспозиции страницах. Кое-где мраморные скульптуры — древнегреческие и древнеримские, а также бюсты британских собирателей, антиквариев и натуралистов, чьими беспрестанными трудами собрана местная коллекция. По верху Enlightenment Gallery идет огражденная перилами галерея с книжными шкафами; вход туда всегда закрыт. Потолок очень высокий, днем падает много света, вечером же освещение тускловатое, но равномерное, что создает у посетителей ощущение уютной, немного сонной, старомодной рациональности. Каждый из двух вытянутых залов виртуально разбит на три тематических части, а центральный зал целиком представляет собой одну часть — то есть всего разделов семь. Если двигаться по порядку, то вот они: «Природный мир», «Рождение археологии», «Искусство и цивилизация», «Классифицируя мир», «Древние тексты», «Религия и ритуал», «Торговля и открытия». Выставленные вещи сгруппированы в соответствии с тем, как куратор Ким Слоан понимала эти темы.
На первый взгляд, перед нами попытка классификации, которая имитирует классификации Века Просвещения. Темы разделов соотносятся друг с другом не исторически, не генетически, не логически, а исключительно по соседству внутри рамки, заданной понятием «Просвещение». Разделы как бы из разных рядов; более того, эта классификация (несмотря на то что такой тип мышления вроде бы претендует на вневременной, внеисторический, чисто формальный характер) включает историю самой себя же — см„ например, «Классифицируя мир». Чистота жанра нару
107
ModernitE в избранных сюжетах
шена намеренно; Ким Слоан подчеркнула условный характер собственного предприятия, поместив свой проект в исторические рамки плюс намекая, что отчасти находится в одной культурной эпохе с создателями Британского музея, натуралистами Века Просвещения, антиквариями эпохи рождения археологии. Нет, не постмодернизм, а намек на признание себя/нас принадлежащими к компании сэра Ганса Слоана1 *, Карла Линнея, Жана Д'Аламбера и других. О тщеславии в данном случае вряд ли стоит говорить; наоборот, тут чувствуется смирение и признание невеселого факта отсутствия прогресса.
Попробуем проследить логику перехода от одного раздела к другому. В 1763 году, когда Британский музей был открыт для публики, его экспозиция называлась Natural and Artificial Rarities. Обратим внимание на два обстоятельства. Первое — речь идет именно о «редкостях», вещах странных, «курьезах». Второе — несмотря на деление оных на «природные» и «изготовленные» (искусственные, сделанные руками людей), экспонаты перечисляются через союз «и», то есть их свойство («редкость») важнее их происхождения. Фуко уже писал о странном равнодушии людей Просвещения к глубокой пропасти, разделявшей, к примеру, для средневековых теологов natura creata пес creans и сотворенное человеком. В «Словах и вещах» Фуко говорит о возникновении еще в конце XVII века понятия «естественная история», в рамках которого схема, куда помещаются разные вещи, оказывается гораздо важнее самих вещей, их свойств, происхождения и проч. До того времени задачей историка было «заставить заговорить все заброшенные слова. Его существование определялось не столько наблюдением, сколько повторением сказанного, вторичным словом,
1 Его коллекция — вместе с рядом других — легла в основу
фонда Британского музея. Отметим также забавное совпадение фамилии крупнего донатора XVIII века с фамилией куратора XXI века.
108
Нитка от штандарта империи
речью, в которой звучало столько заглушенных слов»2. В новую же эпоху «наблюдение» и «описание» заменяют «речь», а в центре внимания оказываются соответствующим образом организованные пространства:
Классическая эпоха дает истории совершенно другой смысл: впервые установить тщательное наблюдение за самими вещами, а затем описать результаты наблюдения в гладких, нейтральных, надежных словах. Понятно, что в этом «очищении» первой формой истории, которая при этом сложилась, стала история природы, так как для своего оформления она нуждается только в словах, непосредственно приложимых к самим вещам. Документами этой новой истории являются не другие слова, тексты или архивы, но прозрачные пространства, где вещи совмещаются между собой: гербарии, коллекции, сады. Место этой истории — не подвластный времени прямоугольник, в котором освобожденные от всякого толкования, от всякого сопровождающего языка, существа предстают один рядом с другими, в их зримом облике, сближенными согласно их общим чертам и благодаря этому уже доступными в потенции анализу, носителями их единственного имени3.
В подобной системе различение между «натуральным» и «искусственным» отступает на второй план перед более важным объединяющим принципом размещенное™ в одном пространстве, классифицируемое™ и возможности быть описанным «гладкими, нейтральными, надежными словами». Собственно, это мы и видим в Enlightenment Gallery. Объяснения происходящего здесь минимальны, старательно нейтральны и объективны, посетителю предъявлены схема, тип мышления, которые пытается воссоздать Ким Слоан, а не сами выставленные вещи. Они, вещи, любопытны, но не более: просто rarities.
2 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. с фр. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. СПб.: A-cad, 1994. С. 160.
3 Там же. С. 160-161.
109
MODERNITfi В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
Итак, мы начинаем с природного мира, и — в рамках подобной логики вполне естественно — к нему примыкает мир древних вещей, «Рождение археологии». Однако уже здесь видна подмена. В качестве назидательно-просвещающего объекта нам предлагают не предметы, выкопанные археологами, а рождение этой области знания, точнее — рождение этого вида деятельности. Выставлены не отрытые артефакты, а, по сути, сама археология, точнее — ее начальная история. Просвещенческая классификация старается избегать истории классифицируемых вещей — «историей» в Век Разума становятся «наблюдение» и нейтральное «описание»; здесь же перед нами попытка установить некие корни нынешнего способа мышления и познания. А это нарушает чистоту попытки воссоздать в Enlightenment Gallery тип просвещенческого сознания, Порядок Разума. Здесь — как и в случае раздела «Классифицируя мир» — мы наблюдаем вторжение XIX века с его обсессией историей, даже Историей:
Подобно тому как Порядок для классической мысли не был лишь видимой гармонией вещей, их слаженностью, их законосообразностью или же их установленной симметрией, но пространством их собственного бытия, тем, что еще до всякого действительного познания устанавливает вещи в пространстве знания, подобно этому История, начиная с XIX века, определяет то место рождения всего эмпирического, из которого, вне всякой установленной хронологии, оно черпает свое собственное бытие4.
Именно: место рождения всего эмпирического. «Рождение археологии» — начало всех начал.
Дальше Enlightenment Gallery вроде бы не особенно отходит от заданных самой себе парадигмальных рамок, однако, если вдуматься, зазор между историческим Веком Просвещения и представленным в Британском музее Веком Просвещения же остается — и беспре
4 Фуко М. Указ. соч. С. 245.
ПО
Нитка от штандарта империи
станно держит посетителя в ситуации sapienti sat. Название раздела «Искусство и цивилизация» отсылает нас как к XIX веку с его однозначно положительными коннотациями «цивилизации» как чего-то противостоящего «варварству», так и к «цивилизационному подходу» в гуманитарном знании недавнего прошлого, который, уйдя из актуального академического поля, прописался по ведомству болтливой публицистики о том, как устроен мир. «Древние тексты» — разом и библеистика предшествующего Веку Просвещения барочного, контрреформационного XVII века, и источниковедение последующего XIX столетия. «Религия и ритуал» — это название заставляет вспомнить не только классический структурализм Леви-Стросса, но и разнообразные писания участников предвоенного парижского Коллежа социологии. Наконец, «Торговля и открытия» — чистый знак все того же XIX столетия с его обожествлением коммерческой деятельности, заменившей проповедь Слова Божьего на дальних пределах мира. Конечно, все вышесказанное в той или иной степени имеет отношение и к Веку Просвещения; так что Ким Слоан можно поздравить — она сыграла очень тонко, оставив сходство, но и одновременно искусно намекнув на приквел и сиквел Века Разума.
Если взяться за археологию исторических смыслов в Enlightenment Gallery, можно выделить три слоя, три историко-культурные эпохи, три разных типа сознания. Первый — Век Просвещения с его ясным и механическим мышлением, его страстью ко всему внешнему и поверхностному, гладкому и строго вер-тикальному/горизонтальному. Все строго распределено по разделам, разделы разбиты на витрины, в шкафах за стеклом стоят книги и артефакты. Похоже на то, как в XVIII веке, до Великой французской революции, вели военные действия: наемные армии маршируют в строгом соответствии с предписаниями стратегов и теоретиков, генералы тщательно рассчитывают маневры, похожие на математические действия и геометрические
111
ModernitE в избранных сюжетах
фигуры, — особенно если учитывать, что войска передвигались в те времена вдоль линий снабжения, старались далеко не отходить от своих баз, а в действиях против врага исходили прежде всего из желания перерезать его коммуникации. Само обмундирование армий эпохи Морица Саксонского и Фридриха Великого — пудреные парики, классические треуголки, высокие негнущие-ся сапоги — все выглядело иллюстрацией к классицистической литературе и «Энциклопедии» Д'Аламбера (или наоборот). Ну и, конечно, линейная тактика на поле боя, строго выровненные шеренги, полководцы, принимающие решения о наступлении и отступлении (и даже сдаче) после формальной процедуры, чуть ли не математической, в которую в качестве условий вводились численность своих и чужих войск, количество пушек и продовольствия и проч.
Да, на своем первом историческом уровне Enlightenment Gallery напоминает парад армии XVII века — шеренги книг, полководцами возвышаются античные скульптуры, бюсты натуралистов, антиквариев и коллекционеров напоминают сопровождающий генералов штаб, кавалерийские отряды божков за стеклом витрин, сабли, шлемы и иная военная параферналия. Но не следует забывать, что за всем этим строгим геометрическим великолепием располагается позднейший, вполне романтический контекст. Вся затея с Enlightenment Gallery — чисто историческая, более того — исторически-назидательная. Девятнадцатый век буквально молился на идею «генезиса», «происхождения», не зря одно из главных его сочинений называлось «Происхождение видов». История как таковая, сама по себе, идея Истории поглощает и «естественную историю», и «историю людей» — «происхождение» важнее того, что же именно «произошло». Ким Слоан как бы указывает нам на происхождение современного мира — и в то же самое время на дистанцию, отделяющую его от нас. Кураторское искусство заключается в том, чтобы эта дистанция не была ни слиш
112
Нитка от штандарта империи
ком большой, ни слишком маленькой, — посетитель не должен смотреть на человека Просвещения как на абсолютного Другого, но и залипания и полного растворения не нужно. Собственно, именно такую работу в идеале обязан проделывать настоящий историк.
Но все это в идеальном мире. На деле же смешение уровней XVIII и XIX веков все-таки происходит — если смотреть на Enlightenment Gallery из сегодняшнего дня. Сейчас уже сложно сказать, какой именно эпохе принадлежит идея бесконечной пространственной и временной экспансии Запада, чем она была обусловлена — желанием накинуть на мир сетку идеальной описательной классификации или желанием, узнав тайну происхождения мира, переделать его по-своему. И то и другое есть акт установления господства. И то и другое есть имперская парадигма. И то и другое лежит в основе нынешнего мира, как бы он ни изменился за последние 50 лет.
Третий, самый любопытный, культурный слой Enlightenment Gallery — нынешний. В Британском музее поставлен смелый социокультурный эксперимент на причастность посетителей к Новому времени, к modernity. При этом никто за результатом не следит: по крайней мере, я не встречал отчетов о поведении и реакциях людей, оказавшихся в Enlightenment Gallery. Процедура идентификации себя в отношении (как бы) собственного прошлого и (как бы) собственной эпохи не имеет внешнего наблюдателя; идеальным субъектом такой процедуры является тот, кто во время ее выполнения рефлексирует по поводу своих действий и возникающих при этом мыслей. Понятно, что ничего подобного не происходит в Enlightenment Gallery. Люди рассеянно бродят по галерее, разглядывают совершенно случайные предметы, интересуются техническим оборудованием и мебелью залов не меньше, чем экспонатами, фотографируются на фоне «больших красивых» вещей — в общем, поступают так, как обычно ведут себя люди в музеях. Знатоки не в счет; тем более, в отличие от худо
113
MODERNITfi В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
жественных музеев с их шедеврами и хронологически-и искусствоведчески-организованными коллекциями, в Enlightenment Gallery нет шедевров. Здесь вообще непонятно что собрано — культурный мусорок, исторический и естественно-научный Fluxus, по сути, лавка древностей, устроенная самым странным образом. Знатоками хлама в антикварных лавках были те, чьей профессией было вытащить ту или иную вещицу из неотклассифицированного хаоса в контекст Искусства или Истории, то есть в рамки системы универсальных (и имеющих стоимость, выраженную во всеобщем эквиваленте, в деньгах) ценностей. В Enlightenment Gallery все наоборот — старый хлам уже организован в систему, собственной ценности помимо нее он не имеет. Так что здесь требуются знатоки не вещей, а систем. Говоря по-старому, философы.
Удивительный проект, не предполагающий аудитории, кроме тех, кто предается мышлению о проектах. В этом смысле Enlightenment Gallery действительно предстает идеальной картиной Века Просвещения — который, напомню, называли «веком философов». От идеи собственно «просвещения» не остается ничего, никто никого просвещать не собирается — моя итальянская туристка (и любой другой посетитель) не вынесет отсюда ничего, отличного от посещения Национальной галереи, Лувра или Исторического музея на Красной площади. Историки мысли (и просто историки Нового и Новейшего времени) безо всякого Британского музея прочли Дидро, Монтескье, Фуко и далее по списку рекомендованной литературы — им совершенно не нужно еще одно подтверждение того, что они уже знают. Соответственно, нам предъявлен чистый объект для мышления, которое не является профессионально ограниченным. Ну да, по старинке, для философского.
Впрочем, здесь может быть еще одно объяснение. Попробуем перенести проблему из историко-культурной области в пространство contemporary art. Contemporary art не требует от артефакта никакого специального ис
114
Нитка от штандарта империи
кусства, «ремесла», оно просто помещает в концептуальные рамки все, что ему заблагорассудится. Собственно, современное искусство и есть эти рамки, ничего больше. Без них — и без соответствующей рефлексии по поводу рамок — его нет. Я бы прочел Enlightenment Gallery именно как арт-жест Ким Слоан, отважный и тщательно замаскированный. Проблема «просвещения», проблема «истории» вообще снимается этим жестом — «современность», выросшая из просветительской идеологии, предстает перед нами как законченный, завершенный, замкнутый на себе, не требующий понимания, идеально продуманный и сбалансированный, прекрасный, чужой, закончившийся художественный мир, нечто вроде пекинской оперы или японской чайной церемонии. Мы можем любоваться им, даже (как в случае чайной церемонии) пытаться имитировать — но он остается для нас непознаваемым. При этом, в отличие от экзотических восточных штук, мы понимаем, что имеем — или когда-то имели — к этому миру отношение. В чем оно заключалось? Что все эти вещи значили? Отчего мы волнуемся при виде идеально расположенных под витринным стеклом, снабженных ярлычками пыльных безделушек, камушков, ракушек и окаменевших черепов? Каким именно образом случайные старые тома в кожаных переплетах с золотым тиснением вызывают у нас сожаление о некогда существовавшей спокойной вере в познаваемость мира? Если мы еще задаем такие вопросы, то Enlightenment Gallery есть действительно главный арт-проект XXI века — ведь где-то там, среди выстроенных в образцовом порядке полков бесполезного теперь знания спрятана ниточка, ведущая от Ким Слоан к сэру Гансу Слоану. От гигантского, почти безграничного, внушающего священное почтение штандарта былой Империи Западного Знания осталась эта почти незаметная ниточка.
P.S. Еще одно соображение, которое, быть может, поставит под сомнение вышесказанное. Просветитель
115
ModernitE в избранных сюжетах
ская функция музея в XVIII веке, восприятие тогдашней публикой просветительской интенции вообще — нет ли у нас иллюзий по этому поводу? Не был ли Британский музей в то время такой же вещью в себе, как сегодня Enlightenment Gallery?
В 1782 году немецкий литератор Карл Филип Мориц, посетив Британский музей, написал следующее:
Компания, в которой я осматривал его, была самая разношерстная, некоторые люди обоего пола, насколько я понял, принадлежали к низшим классам; любой имеет право посетить Музей, так как он принадлежит всей Нации. С прискорбием отмечу, что видел только комнату, стеклянные шкафы, полки, но не сам Музей, так как мы перемещались по его отделам очень быстро. Джентльмен, сопровождавший нас, не делал особых усилий, чтобы скрыть свое презрение, которое он испытывал к моим попыткам установить с ним контакт, заметив в моих руках лишь немецкий путеводитель. Наш проход по анфиладе комнат был столь стремителен, что он занял чуть больше часа, сие не позволило мне ничего, кроме страстного взгляда, полного изумления, который я бросал на представленные там в изобилии сокровища природы, древности и словесности, в плодотворном изучении которых можно было бы провести годы; все это приводило в замешательство, ошеломляло, подавляло посетителя. («Путешествия немца по Англии: пешком по Англии в 1782 году»)5.
5 Цит. по онлайн-брошюре Британского музея «Accessing Enlightenment: Study Guide Contents»
(http://www.britishmuseum.org/pdf/British%20Museum%20 Study%20Pack%20Accessing%20Enlightenment.pdf).
116
TOTAL MODERNITE:
МЕХАНИЗМЫ
РЕФЛЕКСИИ
ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ
Дробящиеся
тела власти
...среди медиевистов весьма многие уважают Канторовича «платонически» — зная его труд в основном по пересказам, отдельным цитатам или отрывкам. Осилить несколько сотен страниц, наполненных знаниями весьма специального свойства, непросто, даже несмотря на юмор, которым Канторович пытается, в доброй старой англосаксонской традиции, иногда сдабривать свою работу. «Обычного» читателя может отпугнуть уже один только вид огромных «подвалов» с цитатами и ссылками на источники и научную литературу, украшающих едва ли не каждую страницу. Что касается академической публики, то справочный аппарат в книге Канторовича лишал дара речи американских, а позже и французских интеллектуалов своей пространностью, точностью и обстоятельностью. Уже из-за него одного о «Двух телах короля» нередко отзывались с восторгом как о недостижимом эталоне научного тщания. Правда, в Германии восклицаний такого рода не звучало — в тамошнем научном сообществе искони считалось само собой разумеющимся, что любое всерьез высказываемое утверждение следует снабжать исчерпывающими обоснованиями.
М.А. Бойцов. «Три книги Канторовича», предисловие к первому русскому переводу «Двух тел короля» Эрнста Хартвига Канторовича'
Ницше предложил две меры против «исторической болезни»: во-первых, строгое ограничение Исторического: с одной стороны Неисторическим (das Unhistorische), с другой — Надысторическим (das Uberhistorische). Неисторическое — это забвение, важнейшая жизненная сила (как писал Ницше в 1874 г., «без забвения жить вообще совершенно невозможно»). Надысторическое же — это те силы, которые отвращают взор от Становления и направляют его на то, что вечно и значение чего не меняется, а именно — на искусство и религию. Таким образом — и в этом заключается второе требование Ницше — истории, чтобы она могла
1 Канторович Э.Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии / пер. с англ. М.А. Бойцова, А.Ю. Серегиной. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. Далее страницы из этого издания указываются в тексте в скобках.
119
ModernitE в избранных сюжетах
вновь встать на службу жизни, следует перестать быть наукой. Именно такую позицию занимали в годы Веймарской республики члены кружка Георге.
О.Г. Эксле2
Книга, которую мало кто на самом деле прочел от корки до корки, книга знаменитая и, как сейчас любят говорить, «влиятельная», книга на самую актуальную в западном гуманитарном знании тему последних сорока примерно лет — о власти — впервые вышла в русском переводе в 2014 году. Семь с половиной сотен страниц, снабженных монструозными сносками, библиографией, именным указателем, превосходным предисловием сопереводчика и научного редактора (который и сам крупный медиевист) — кто бросится изучать все это в сегодняшней России? Тот, кто хотел, уже раньше открывал английский оригинал «Двух тел». Тот, кому было лень или недосуг, сейчас вряд ли примется изучать даже русское издание. «Широкая гуманитарная публика», понаслышке знающая о каких-то «двух телах» монарха (одно, скажем, принимает ванну, а другое заседает в Государственном совете) и встретившая у Фуко ссылку на некоего «Канторовица», русский перевод откроет и тут же закроет. Дело не в качестве перевода — он, по моим скромным наблюдениям, превосходный. И не в стиле автора; как точно указывает Михаил Бойцов, Канторович пишет очень хорошо (иногда скучновато, но одно другому не мешает — см. Гюстава Флобера). Получается, что в самой природе «Двух тел короля» есть нечто, отвергающее саму идею коммуникации как с академическим сообществом, так и с образованным читателем вообще. Эта книга кажется герметичной, но вовсе не предметом исследования. Более того, первая работа Эрнста Канторовича, «Император Фридрих II»,
2 Эксле О.Г. Немцы не в ладу с современностью. «Император Фридрих П» Эрнста Канторовича в политической полемике времен Веймарской республики // Одиссей. 1996. С. 223.
120
Дробящиеся тела власти
сразу по публикации стала очень популярной, в частности, увы, среди не самых приятных людей того времени (и XX века вообще) — ее читали и перечитывали Гиммлер и Гитлер, а Геринг подарил «Фридриха II» Муссолини. Если стиль Канторовича и изменился за 20 с лишним лет между «Фридрихом Вторым» и «Двумя телами короля», то только в сторону большего оттачивания. Плюс переход с немецкого на английский способствовал общей читабельности.
Писать рецензию на книгу, которая вышла 57 лет назад, только из-за того, что ее перевели на еще один европейский язык, — глупо и даже оскорбительно для российской гуманитарной публики. Но большой труд Эрнста Канторовича требует большого разговора — а он начался еще в конце пятидесятых и продолжается до сих пор (вообще об этом историке много спорят; среди выдающихся медиевистов нашего времени есть и его принципиальные противники — см. статью Отто Эксле, откуда я взял второй эпиграф к настоящему эссе). Мне кажется, еще одна реплика здесь не помешает — и вот в таком случае выход русского издания3 предлагает хороший повод. Тем более, что такого рода реплика уместна не как профессиональное высказывание медиевиста, а в рамках более широкого гуманитарного контекста, связанного прежде всего с социальными штудиями. Одним из базовых представлений, когда мы говорим/думаем об обществе, является коммуникация. Оттого особенно интересно попытаться понять, почему в «Двух телах короля» отсутствует возможность какой бы то ни было внешней коммуникации. Собственно, это тема о взаимоотношении истории, историографии и общества.
Итак, главный объект: книга Эрнста Канторовича «Два тела короля» как вещь в себе, как страшно слож
3 Оно является еще одним наглядным опровержением разговоров о безнадежности ситуации в русском академическом книгоиздании. Переводческая и редакторская работа Бойцова и Серегиной — образцовая.
121
MODERNITfi в избранных сюжетах
ный, избыточный жест в неведомой окружающим игре. Главная моя гипотеза (высказываю ее здесь априори): возможность коммуникации, обсуждения, воспроизводства и передачи знания в «Двух телах» отсутствует. Причем, как уже отмечалось, это не отсутствие коммуникации с «широкой публикой», а исключение самой идеи связи даже с собственным академическим содружеством (см. высказывание М. Бойцова). При этом любой, кто пишет о «Двух телах короля», попадает в странную, почти безвыходную ситуацию. Замысел книги и ее выводы можно спокойно описать в нескольких фразах — мол, в Средневековье и раннем Новом времени в результате смешения античной политической и юридической традиции и христианства сложилась концепция двухприродности короля, правителя. Двухприродность эта, исходящая как из христианской концепции двухприродности человека вообще (душа и тело), так и из двойственности легалистских представлений о Правосудии, Законе (Потенциальный Закон и Закон в Действии, Воплощенный), в течение семи-восьми веков, начиная с европейского раннего Средневековья, сильно менялась, наполнялась разными элементами, характерными для конкретного исторического контекста, и т.д. Однако сам принцип оставался неизменным: есть «физическое тело», собственно, короля, которое существует во времени, а есть его так называемое «политическое тело», которое является совокупностью разных элементов, оно, по сути, мистическое, освящено благодатью и пребывает в вечности. Апофеозом такого дуализма стали события Гражданской войны в Англии, когда решением парламента король Карл I был казнен. Трактовалось это событие не как сюжет «восставшие подданные судили и убили монарха», а как вполне законное действие политического тела короля (в частности, того элемента, что называется «король в парламенте») в отношении его физического тела. Грубо и очень приблизительно говоря, таково содержание этой книги. Притом в ней
122
Дробящиеся тела власти
почти 800 страниц, битком набитых фактами, их интерпретациями и интерпретациями интерпретаций. Некоторые разделы «Двух тел» — чистый экфразис, соответственно в книге представлен богатый изобразительный материал. Читая труд Канторовича, понимаешь, что это изобилие всего — слов, страниц, фактов, сносок, иллюстраций и проч. — неслучайно. Дело не в неспособности автора справиться с накопленным им богатейшим материалом, что бывает очень часто. Наоборот, книга сделана продуманно и даже элегантно, если гиганты бывают элегантными. О том, что стоит за всем этим, с какой странной разновидностью историографии нам в данном случае приходится иметь дело — обо всем этом я буду говорить ниже.
Сейчас же, для начала, очень простой вопрос: как писать о такой книге? Пересказ основной ее идеи годится для популярного радио- или телеобзора книжных новинок. Чтобы более серьезно говорить о «Двух телах», нужно идти след в след за автором с первой и до последней страницы. Так как заметок, рассуждений, вопросов у внимательного читателя возникает не меньше, чем суждений и фактов у Канторовича, такое «серьезное суждение» грозит оказаться величиной в сам читаемый труд. Получится уже не статья или эссе, а объемистое историографическое исследование. Патовая ситуация в квадрате: не только эту книгу читать дьявольски тяжело, о ней почти невозможно написать. Тем более, написать сегодня на русском по поводу первого русского перевода «Двух тел». Обратить свой разум в tabula rasa, прикинувшись, что эта книга только появилась, в связи с чем затеять ее обсуждение — наивный и ложный ход. Что же остается посередине, между заметкой в дюжину фраз и огромным тщательным исследованием, шедевром «искусства для искусства»? Почти ничего. Разве что вот такой вариант. Учитывая (и это отмечает в своем предисловии М. Бойцов), что каждая глава (а иногда даже и каждая подглавка) «Двух тел короля» есть вполне завершен
123
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
ный сюжет в себе, где, как в Алефе, отражена вся книга целиком, можно попытаться проанализировать лишь ее часть, один или несколько из мегасюжетов средней величины. Предпринять это, имея в виду сразу три историко-культурных контекста. Контекст конкретной эпохи, с которой в данный момент (в данной части книги) работает Канторович, контекст (и идейная биография) самого автора и сегодняшний контекст, 50 с лишним лет спустя после первого издания «Двух тел». Попытавшись понять, как сделан определенный кусок книги, мы поймем, как сделана вся она, не рискуя впасть в гигантоманию биографа или прилежного интерпретатора. Более того, возникает возможность обсудить тот самый главный вопрос — зачем нужно было создавать историографический шедевр, исключающий любую комммуникацию? Если это действительно был жест, то почему столь монструозносложный? К кому он был обращен? В итоге мы можем перейти к более общей проблеме, весьма сегодня актуальной — о границах того, что называют «историей», «историографией». Что такое «Два тела короля»? Сделанное с параноидальной немецкой тщательностью историческое исследование или что-то иное, лишь прикидывающееся академической штудией? Рассуждение на эту тему имеет отношение к нашим представлениям о функционировании, производстве и воспроизводстве знания о прошлом в XX веке — что не только совершенно необходимо для любого члена содружества гуманитариев, но также помогает понять историю (в частности, интеллектуальную) прошлого столетия и даже сегодняшнюю ситуацию.
Перед началом основной части анализа следует обратить внимание на несколько обстоятельств, касающихся самого автора и времени, в котором он жил. Эрнст Хартвиг Канторович родился в богатой еврейской семье промышленника-винокура в 1895 году в Познани, городе, бывшем тогда частью Германской империи. Неизбежный для тех времен и территорий
124
Дробящиеся тела власти
выбор между идентичностью собственной (еврейской), локальной (в данном случае — польской) и универсально-имперской (немецкой) был, естественно, сделан в пользу последней — точно так же как в славянской части другой немецкоязычной империи, Австро-Венгерской, подобный выбор был сделан в отношении юного Франца Кафки. Еврейство Канторовича, думаю, почти никак не сказалось на его интеллектуальной биографии, зато сильно отразилось на физической биографии его семьи и (в меньшей степени) его самого. Мать и двоюродная сестра Эрнста погибли в Терезине во время войны, сам он, несмотря на успех его первой книги среди нацистской верхушки и собственные крайне националистические взгляды, едва успел бежать из Третьего рейха в 1938-м. Так или иначе, Канторович воспитал себя, сделал себя немецким «культурным националистом», разделявшим элитистскую идею так называемой «тайной Германии», которую культивировали в кружке знаменитого поэта и «учителя» Штефана Георге4. Не получив сколь-нибудь серьезного образования, Канторович воевал на самых разнообразных фронтах Первой мировой, после ее окончания участвовал в боях с красными и поляками в Познани, а затем — в подавлении спартаковского восстания в Берлине и Мюнхене (был даже ранен). После установления презираемой им Веймарской республики он доучился-таки в университете (но не по той специальности, в которой позже прославился, не по медиевистике), познакомился с Георге и его окружением и принялся сосредоточенно трудиться над историческими сочинениями, благо средства семьи тогда позволяли ему не работать. До рубежа 1920-1930-х годов Канторович вообще не принадлежал к академической среде, да и потом, когда его
4 На русском языке подробное описание отношений между Канторовичем и Георге, а также общий анализ идей этого кружка — в предисловии к «Двум телам» и цитировавшейся статье Эксле.
125
MODERNITt В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
приняли сначала «гонорар-профессором», а в конце концов — и полным профессором во Франкфуртский университет, так и остался там белой вороной. Отметим это очень важное обстоятельство — историк, чьи труды, как считается, представляют собой плоды невероятной академической учености, на первом этапе своей деятельности был в Академии почти посторонним. Да и позже, уже в Америке, сохранял от нее некоторую дистанцию — хотя и прославился в Беркли как мужественный боец за невмешательство государства в университетскую автономию. Первый том «Фридриха Второго» вышел в 1927-м; к удовольствию непрофессионального читателя и ярости профессионального — без единой ссылки. Второй том, состоящий из одних ссылок и всей научной машинерии, скрытой за блестящим нарративом первого, — в 1931-м. Затем последовал приход нацистов к власти, амбивалентные отношения Канторовича (и его учителя Георге) с новым режимом, смерть Георге, начало преследований еврея — немецкого националиста, наконец, бегство сначала в Британию, а потом в США. В Соединенных Штатах Канторович осел в Беркли, где в 1946-м вышла его вторая книга «Laudes Regiae: A Study in Liturgical Acclamations and Mediaeval Ruler Worship», никакого шума не вызвавшая в силу как очень узкого предмета исследования, так и наступивших новых времен, когда мало кому было дела до средневековых способов восхваления правителей. С правителями, даже в США, у Канторовича случались нелады; в 1949-1950 годах он вместе с коллегами по Беркли выступил против маккартистских притязаний на свободу взглядов членов университетских корпораций и покинул Калифорнию. До самой смерти в 1963 году Эрнст Канторович работал в Принстоне. Там же в 1957-м вышли «Два тела короля». После войны Канторовича (который до декабря 1941 года получал оклад почетного профессора во Франкфурте) звали вернуться на родину. Естественно (и по разным причинам, в которые сейчас нет смысла
126
Дробящиеся тела власти
вдаваться), никакого энтузиазма это предложение не вызвало.
Обратим внимание на несколько пунктов биографии Канторовича, интеллектуальной и политической, которые могут нам пригодиться. Прежде всего, случай еврея, сознательно ставшего крайним немецким националистом, точнее, сделавшего себя таковым, был в 1920-1930-е годы нередок. Сошлюсь лишь на два примера. Пауль Витгенштейн, брат философа Людвига Витгенштейна, пианист-любитель, потерявший руку в Первой мировой войне, поддерживал австрийских крайне правых до самого аншлюса Австрии. Его семья преследовалась Гитлером, сам же Пауль оказался гонимым и из-за еврейского происхождения, и из-за тесных связей с политическими соперниками Гитлера на крайнем правом политическом фланге. Другой случай — Пауль Ландсберг, член кружка Штефана Георге, автор нашумевшей в свое время книги «Средневековье и мы» (там есть все расхожие правые идеи того времени — «консервативная революция», «революция Вечного» и даже «новое Средневековье»). Ландсберг раньше Канторовича понял, чем лично ему грозит приход к власти нацистов, поэтому с 1933 года он жил в Париже, Барселоне (откуда бежал во время Гражданской войны), в начале Второй мировой скрывался под чужим именем во Франции, но его-таки арестовали и отправили в Заксенхаузен, где певец Средневековья и критик либерализма и демократии погиб в 1944 году. Перед нами не истории страшного персонального заблуждения нескольких людей, а примеры того, куда заводила логика конструированной идентичности эпохи модерна — в тех случаях, когда такая «искусственная» культурная идентичность сталкивается с архаикой этнического национализма и расизма. Это очень важно понимать, имея в виду одну из главных тем «Двух тел ’ короля» — сконструированную сакральность власти монарха. В каком-то смысле эта книга рассказывает несколько десятков сюжетов о том, как людьми конструи-
127
MODERNITfc В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
руются некие идеологемы и юридические концепции («политическая теология», как сказано в подзаголовке работы), выдаваемые за сакральные и вечные. Что любопытно — сами авторы этих конструкций искренне считали их действительно сакральными.
Второе, «биографическое» соображение касается первой и последней книг Канторовича. Как они соотносятся—историко-идеологический шедевр, имевший самого разного читателя, но в основном восторженного, и очень странное чисто академическое сочинение («малочитабельное»), тем не менее, на сегодняшний день прославившее автора гораздо больше первого? Разница между «Фридрихом Великим» и «Двумя телами короля», безусловно, гигантская, не в последнюю очередь из-за разницы исторических контекстов написания и позиции самого автора. Между молодым наследником большого состояния, который мечтает о «вечном Средневековье» и «тайной Германии», и блестящим европейским профессором-эмигрантом в послевоенном Принстоне — пропасть. Но будем иметь в виду — это один и тот же человек, который последовательно додумывает одни и те же мысли и видит все написанное им в качестве частей единого замысла. Если с кем и сравнивать здесь Эрнста Канторовича, так это не с историками, а с гигантами литературного модернизма — разница между «Фридрихом Великим» и «Двумя телами короля» есть разница между «Портретом художника в юности» и «Улиссом» (и даже, в каком-то смысле, «Finnegans Wake»). Более того, есть еще одно сходство. Главные столпы европейского литературного модернизма были «любителями»; никого из них — ни Кафку, ни Джойса, ни Пруста — нельзя назвать «профессиональными писателями», «беллетристами». Точно так же Шпенглер не был «профессиональным историком» или «философом», да и Витгенштейн тоже. Иными словами, речь идет о людях, которые участвовали в огромном проекте по радикальной перестройке тогдашней культуры (и основы ее, миро
128
Дробящиеся тела власти
созерцания), — а необходимость этой перестройки можно было увидеть только со стороны, находясь на дистанции от устоявшейся буржуазной области профессиональной деятельности. Такое «аматерство», конечно, вызывало определенные комплексы, приходилось его маскировать — как Канторович прикрыл идеологический месседж первого тома «Фридриха Великого» вскрывающим машинерию историописания вторым томом. Тогда возникает вопрос: а как в таком контексте прочитываются избыточно оснащенные академическим орнаментом «Два тела короля»5?
5 Есть еще один пункт сходства, очень важный, но, за неимением места, я не буду его здесь подробно обсуждать. Классические произведения европейского литературного модернизма обычно упрекают, в лучшем случае, в «скуке», в худшем — в «нечитабельности». «Улисс» или «В поисках утраченного времени» неприлично не читать, но на самом деле мало кто их осилил (и мало кто в этом признается). Как мы видим, та же история произошла с «Двумя телами короля» («Фридриха» читали много, но и «Портрет художника в юности», а особенно «Дублинцы» — книги широко читаемые). В то же время никто не может упрекнуть Кафку или Джойса в том, что они «плохо и скучно пишут». Скука, нечитабельность, равнодушие к аудитории, стремление отказаться от внешних коммуникаций есть важнейшая сознательная черта европейского модернизма. Сегодняшняя слава «Двух тел короля» очень похожа на известность, к примеру, «Замка» или «Finnegans Wake». Я бы назвал две причины этой славы. Первая — персональная история автора, ибо все, что связано с поведением немецких интеллектуалов в 1920-1930-е годы, по понятным причинам вызывает неиссякающий интерес. Вторая — тема власти. Власть, ее анализ становится важнейшей темой постструктурализма, в частности, в силу того что до этого процветала «историческая антропология» анналистов, которую сама по себе власть интересовала мало (и это при том, что их библия — блоковские «Короли-чудотворцы»). Анналистов занимал отдельный человек, их притягивало социальное, их привлекали «процессы большой длительности», наконец, анналистов интересовала история идей — но почти исключительно применительно к обществу. Анналы и их союзники, по сути, были очень демократическим, левым, связанным с марксизмом, в то же вре-
129
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
Бойцов выделяет в книге «ядро», из которого, собственно, можно вычитать замысел «Двух тел» — это третья, четвертая, пятая и восьмая главы. Главы же первая и вторая составляют как бы введение, в ходе которого Канторович увлекается и «забывает», куда, собственно, ведет читателя (с. 43). Похоже на правду, только и само ядро можно разделить на несколько отдельных базовых сюжетов. Здесь я попробую на примере первых четырех глав (из них, по классификации Бойцова, две орнаментальные, а две принадлежат к разряду ключевых) проанализировать устройство и логику одного из таких сюжетов, а именно: рассуждения Канторовича о христианских и легалистских основаниях концепции «двусоставности» короля и его власти.
Исходная точка — любопытная (чуть ли не курьезная) концепция английских юристов раннего Нового времени о двух телах короля, физическом и политическом (с. 82-84). Что такое «физическое6 тело», более-менее понятно. «Политическое тело» состоит из соб
мя — национально-ориентированным (у французов) проектом гуманитарного знания. Только Филип Арьес составляет исключение. Канторович же является полной противоположностью анналистам — правый консерватор, мистик, равнодушный к социальной истории, сосредоточенный на власти и особенно на фигуре и статусе ее носителя. В каком-то смысле он равнодушен и к «историзму» как таковому; М. Бойцов отмечает в предисловии: Канторовича критиковали за подход к используемым им историческим документам, в котором не было места для конкретного контекста их создания. Тут уместно задать вопрос, отчего в 70-80-е годы прошлого века такой подход и такой интерес к власти вдруг стали столь важны для континентальной Западной Европы, прежде всего для Франции. Наконец, как верно отмечает Бойцов (с. 55), в моде на эту книгу Канторовича еще много от увлечения «телом» и «телесным» во французской мысли того времени. Любопытно, что этот интерес происходит из контекста совершенно Канторовичу чуждого, будучи явным следствием мая 68-го и «сексуальной революции».
6 «Природное» тело мне кажется более точным описанием ситуации, нежели «физическое».
130
Дробящиеся тела власти
ственно «короля» (в его политической ипостаси, то есть речь здесь идет об идее наследственной королевской власти как таковой, причем король — и эту тему Канторович подробно разберет в третьей главе — может быть приближен к ангелическому статусу7) и его подданных. Ситуация с телом (телами) подданного исключительно интересна. Она намечается вот в этом рассуждении:
Тем не менее форма, в которой судья Сауткот изложил эту старую идею — «он инкорпорирован с ними, а они — с ним», прямо указывает на политико-экклезиологичес-кую теорию corpus mysticum (мистического тела), действительно упоминавшуюся судьей Брауном в деле «Хэйле против Пети». Суд в этом случае рассматривал юридические последствия одного самоубийства, которое судьи стремились определить как фелонию. Лорд Дайер, главный судья, указал, что самоубийство является тройным преступлением. Оно представляет собой преступление против природы, так как противоречит закону самосохранения; преступление против Бога, так как нарушает шестую заповедь; наконец, оно суть преступление, совершенное «против короля, поскольку он теряет подданного и (как формулирует Браун), будучи
7 Мало какой пассаж из «Двух тел короля» дает столь точное представление об а-историзме автора, как этот, посвященный ангелическому статусу короля: «Нимб далее означал, что его конкретный “носитель” является представителем какого-то более общего “прототипа”, чего-то Неизменного посреди изменчивого земного времени, а также что в единении и связи с этим конкретным человеком состоит определенный образ власти, идущий из той бесконечной протяженности, которую в Средние века стали называть aevum. Поскольку же aevum считался обиталищем идей, Логосов или прототипов, как и “ангелов” (согласно христианской философии александрийцев), становится понятным, почему “политическое тело” короля у тюдоровских юристов получает в конце концов так много сходства со “святыми духами и ангелами” и почему rex christus Нормандского анонима также наделялся высшей природой Посредника — короля, являющегося человеком по природе и богом по благодати» (с. 160-161).
131
MODERNITt В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
главой, лишается одного из своих мистических членов» (с. 83-84).
Что еще более интересно, так это соответствие между корпоративным политическим (и даже «мистическим») телом короля и английской политической системой, где существовало такое понятие, как «король в парламенте» (с. 89). Как представляется, это и объясняет причину пристального внимания и активного использования английскими юристами раннего Нового времени концепции двух тел короля, ведь состав «политического тела» монарха оказывается чрезвычайно сложным. При этом такая сложность касается обеих частей дуальной системы «король» vs. «поданные»; подобно телу короля, делятся, дробятся тела его подданных. Линий деления несколько. Например: физическое тело подданного и его политическое тело. В отличие от короля, физическое тело подданного тоже частично является политическим, ибо составляет — вместе с другими — мистическое тело королевства. Физическое тело подданного подчиняется королю. Политическое тело подданного тоже не едино. Оно есть часть политического тела короля непосредственно — а также опосредованно, будучи представлено своими избранными представителями в парламенте. Более того, если часть политического тела подданного входит в политическое тело короля, то другая часть — в «политическое тело королевства»8. Тел подданного оказывается не два, а больше! Изначальное деление приводит к дальнейшему; все это начинает напоминать ядерную реакцию, которая, тем не менее, не приводит к взрыву, а продолжается бесконечно. Так задается настоящая тема книги — тема невозможности ухватить распадающуюся материю исторического описания и анализа,
8 «Ясно, что это король в своем политическом теле и глава политического тела королевства — король в парламенте, чья задача состоит в том, чтобы выступать заодно с лордами и общинами, причем, если понадобится, даже против собственного природного тела» (с. 90).
132
Дробящиеся тела власти
они заводят в тупик, изначальная идея «двоичности» оказывается поверхностной, прикрывая истинную монотонную дурную бесконечность. Король и подданный, составляя пару, в свою очередь, дробятся на два тела, эти новые тела распадаются еще на два — оценить дальнейший ход распада невозможно. То есть для читателя, идущего за автором, в каждой отдельной точке текста все кажется вполне логичным и понятным. Но стоит из этой точки оглянуться назад или посмотреть вперед, как становится ясно, что мы не следуем по некоему пути, нет, мы просто нигде.
Главный сюжет третьей главы книги — рассуждение о сакральном статусе средневекового короля как основе для формирования его «политического тела». Здесь Канторович делает хронологический прыжок из раннего Нового времени назад, к анонимному нормандскому трактату примерно 1100 года. Этот трактат почти целиком посвящен именно двойственной природе короля — природной и благодатной (цитата из этого документа приведена в «Двух телах короля»):
Власть царя есть власть Бога. Ведь она — Бога — по природе, а царя — по благодати. Следовательно, и царь тоже есть Бог и Христос, но по благодати; и что бы он ни делал, он делает это не только как человек, но как тот, кто стал Богом и Христом по благодати (с. 120).
Исключительно интересный пассаж, особенно в его собственном историко-культурном контексте. Власть от Бога — «по природе», так как Бог создал все, в том числе и власть. То есть власть — часть природы, по сути, часть порядка вещей. В то же время власть царя «по благодати» — это вещь, как бы обходящая порядок вещей, точно так же как Христос вмешался в порядок вещей своим рождением, проповедью, смертью и воскрешением, он обошел порядок вещей, установленный • Творцом. Получается, что у нормандского анонима царь есть как бы Христос, берущий на себя ответственность за грехи порядка вещей, оттого и проис
133
ModernitE в избранных сюжетах
ходит его благодать. Канторович (мимоходом) отмечает связь с обожествлением правителей в Античности, эллинистических государствах и Риме. Отчасти, как представляется, эта связь действительно существует; к тому же источник тут один — ведь обожествление Александра Македонского началось под восточным, ближневосточным и египетским влиянием. Но есть, конечно, и огромное отличие христианской традиции. Оно заключается вот в этом моральном содержании «благодати»: благодать дается не для «величия», а именно для «огибания» порядка вещей, преследуя цель Спасения. А ограниченность царя, его отличие от священника, заключается в том, что он спасает ограниченный контингент людей, только своих подданных.
Вот здесь и можно нащупать некоторую — теологическую, концептуальную, но вовсе не историческую — связь между идеями нормандского трактата 1100 года и концепцией «двух тел короля», возникшей 500 лет спустя. Сам же Канторович резюмирует так:
Король есть двойное существо — человеческое и божественное, точно так же как и Богочеловек, хотя король двухприроден и удвоен только по благодати и во времени, а не по природе и (после Вознесения) в Вечности: земной король не является удвоенным существом, а становится им в результате своего помазания и посвящения (с. 121).
Иными словами, Канторович берет только формальную схему уподобления правителя Христу — двухприродность, трактуемую исключительно диахронически («благодать», последовательно передающаяся от Бога), отказываясь видеть в его фигуре совмещение диахронического с синхроническим. Синхроническое же здесь выглядит так: Христос существует как бы параллельно, синхронно Богу Отцу, возможность огибания ветхозаветного порядка вещей уже заложена в его фигуре и в самом порядке вещей с самого начала. Идея власти, будучи частью божественного порядка вещей, содержит в себе возможность персонификации в лице
134
Дробящиеся тела власти
одного человека, который лично берет на себя ответственность за многих, «огибая» опять-таки порядок вещей, стягивая его на себя и обходя, — ибо власть не только от Бога Творца, но и от Христа Спасителя. Замечание же о «временности» двухприродности короля на самом деле относится и к Христу — он же «открывает», «начинает» время, родившись и воскреснув. Историческое время начинается с Христа, точно так же как историческое время правления того или иного короля начинается с его помазания на престол. По сути, перед нами два случая перехода от времени мифа (природного, вечного, ветхозаветного) к времени истории (Рождества, Воскресения, помазания, времени Нового Завета). Вот это и есть самое интересное здесь: ведь короли становятся «христианнейшими» только с момента помазания, с какой-то точки, и дальше история их правления вполне может соотноситься с жизнью Христа. В то же время здесь заложена довольно тонкая диалектика: начав персональную историю, будучи помазан и получив благодать, царь в то же время становится частью вечной власти Бога в профанном времени своих подданных, своего рода капсулой, внутри которой запаяна вечность. Здесь он не только подобен Христу, который есть та же человеческая капсула, в которую запаян Бог; он подобен человеку вообще, который носит в теле частичку бессмертной души. Если вообще стоит искать истоки концепции «двух тел короля», я бы обратил внимание именно на это обстоятельство — точка единства мистических (что в данном случае значит политических) тел короля и подданного именно здесь. Но в таком случае предмет исследования Канторовича окончательно растворяется. С одной стороны, если речь идет просто о двухприродности человека и его институций (в том числе власти), то идея двух тел короля становится невыносимо банальной, ибо и так все понятно, кроме нескольких деталей. С другой стороны, бесконечное деление каждого из тел (короля и подданного; о последнем, заметим, у элити-
135
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
ста Канторовича написано мало, а жаль) приводит к полному их исчезновению. Последнее не значит, что тема многоприродности власти в Средние века неважна, неинтересна или даже абсурдна. Отнюдь. Просто в таком случае сама дуалистическая метафора представляется крайне непродуктивной для разговора на эту тему. Впрочем, все вышесказанное имеет смысл, если речь идет об обычном историческом исследовании. Как мы видим, «Два тела короля» — вещь в несколько ином роде.
Тема эта продолжается в четвертой главе «Двух тел короля». Согласно Канторовичу, к пику Высокого Средневековья образ короля — двухприродного аналога Христа, «короля — викария Христа» превращается в образ короля — помазанника Божьего и «викария Бога» (Бога Отца, а не Христа). Тут возможно немало интерпретаций, однако самая очевидная (хотя и небесспорная) такова: подобие Христа стремится превратиться в своего рода самого Христа; отношения короля с Богом становятся параллельными отношениям Христа с Богом Отцом. Сам Христос в дальнейших теоретических и теологических выкладках уже не упоминается, так как это звено становится теперь избыточным:
Однако даже чисто потенциальная связь короля с двумя природами Христа стала исчезать, когда титулы «гех imago Christi» («король образ Христа») и «гех vicarius Christi» («король викарий Христа»), обычные в Высоком Средневековье, начали выходить из употребления, уступая место формулам «гех imago Dei» («король образ Бога») и «гех vicarius Dei» («король викарий Бога»). Конечно, представление о государе как подобии Бога или исполнителе его воли опиралось как на древний культ правителя, так и на Библию (с. 166).
Через две страницы Канторович совершенно справедливо указывает на одну из причин этого (и здесь нечастый случай, когда он действительно прочно стоит на позициях историзма): борьба за инвеституру по
136
Дробящиеся тела власти
степенно лишила королей духовного, мистического авторитета как «викариев Христа», все больше превращая их в «императоров», то есть представителей Бога, помазанных им для правления народом. В свою очередь, название «викарий Христа» в результате этой борьбы переходит к папам (а иногда даже и просто к священникам). В подтверждение этого Канторович приводит в примечании очень важное свидетельство (с. 168, примеч. 12):
...цитата из Амброзиастера (...), где говорится, что человек вообще имеет «власть от Бога и является его викарием» («imperium Dei quasi vicarius eius»), но в «Декрете» опущены следующие за этим слова «quia omnis rex Dei habet imaginem споскольку любой король несет в себе образ Бога>». Эти места характеризуют учение Амброзиастера, согласно которому король является викарием Бога Отца, а священник — викарием Христа.
Дальше этот процесс доходит до логического предела (с. 169), и происходит окончательное размежевание в способах сакрализации папской и императорской власти: папа есть викарий Христа, император (правитель, монарх, король) — наместник Бога в мире.
«Христоцентричный образ» правителя исчезает, отмечает Канторович, из чего, казалось бы, должна исчезнуть тема соотношения ранненововременной концепции «двух тел короля» и раннесредневековой концепции уподобления короля Христу, Но не все так просто. Как было сказано выше, в Высоком Средневековье король есть наместник Бога на Земле, но в то же самое время он как бы и Христос в собственном человеческом теле (с. 250). А в раннесредневековое время, как мы уже отмечали, король — наместник Христа на Земле, а не триединого Бога и не Бога Отца. Христос как бы исчезает из дискурса о короле и природе его власти — но при этом он все время присутствует, воплотившись в самогб короля. Христос есть фигура умолчания, в отличие от ситуации с иерархами католической церкви, которые называются теперь
137
MODERNITl В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
его наместниками. В то же время, как уже отмечалось, король — Христос в его человеческой ипостаси, подчиненный римскому закону и императору; точно так же король подчиняется закону, которого он в то же самое время выше:
Другими словами, король вместе со своими судьями представлял собой Бога Отца, восседающего вместе с божественным Христом на троне небесном. Но король есть одновременно и образ Христа-человека — всякий раз, когда он является не судьей, а тем, кто подчиняется закону. В одно и то же время он подобен Богу и стоит выше закона (когда судит, издает законы и толкует их) и подобен Сыну или любому рядовому человеку, стоящему ниже закона, поскольку он тоже подчиняется ему (с. 252).
Получается так: двуединость Христа все равно остается главным свойством короля при переходе от раннего Средневековья к позднему. Только теперь эта двуединость как бы задана самим фактом существования королевской власти в качестве наместничества Бога, плюс к этому она несколько ограничена функцией христоподобия: как Христос во время своей земной жизни был своего рода представителем Бога на Земле, так и король является таковым же. В этом — и только этом — смысле король обладает мистическим телом. И здесь у Канторовича можно обнаружить противоречие. Он считает, что в позднее Средневековье произошло смещение сакрального понимания королевской власти — от «богочеловеческой сущности», то есть от христоцентричной, к божественной вообще:
...позднесредневековые теории королевской власти «по божественному праву» следовали образцу Отца на Небесах, а не Сына на Алтаре и сосредоточивались скорее на философии права, нежели на еще античной физиологии двухприродного Медиатора (с. 171).
На первый взгляд, все верно; более того, можно даже добавить, что постепенно теория королевской власти приобретает дохристианский характер, смесь ветхо
138
Дробящиеся тела власти
заветного (Бог Отец в центре) и римского (традиция Римской империи и т.д.). Но повторим: не напоминают ли (в каком-то смысле) отношения между королем и Триединым Богом отношения Христа с Богом Отцом?
Канторович не отвечает на этот вопрос; здесь он бросает «чистую теологию», после чего неспешно и величественно перемещает предмет разговора в юридическую плоскость. В книге возникает давно ожидаемый персонаж — Фридрих II:
Помимо указания на вдохновение с небес, Фридрих II, как и любой другой средневековый правитель, утверждал, что он является наместником Бога. В самом важном месте — большом прологе к его «Liber augustalis» — император заявлял, что после грехопадения природная Необходимость, так же как и божественное Провидение, создали царей и князей и что им была поставлена задача «быть властителями жизни и смерти для своих народов, устанавливать, какими должны быть состояние, удел и положение каждого человека, являясь как бы вершителями божественного Провидения» (с. 197).
Получается, что источником богоподобной власти монарха является еще и необходимость создания и поддержания порядка в ситуации, возникшей после Грехопадения. Власть, таким образом, носит как бы вынужденный характер — должен же кто-то взять на себя заботу о потомках Адама и Евы и внести в их жизнь возможность следованию Правосудию и Справедливости! Символически принося себя в жертву этой обязанности, короли оказываются еще на одном пути христоподобия. Только сейчас эта жертва прочитывается уже не теологически, а юридически. Более того, говорит дальше Канторович, само отправление правосудия все более принимает характер религиозной службы, мессы, а юристы и знатоки права претендуют на тот же статус, что и священники. Они и считают себя своего рода священниками, отправляющими культ Божественного Правосудия и Справедливости. «Юридическое наступление» на теологию и область
139
MODERNITfc В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
священного знания происходит в легальных документах; Канторович отмечает:
Другими словами, светский авторитет сводов римского права представлялся юристам (именно как юристам) более ценным, важным и убедительным свидетельством, нежели священные книги, так что даже прямые цитаты из Библии приводились преимущественно кружным путем, а именно при посредничестве цитат из томов римского права (с. 198).
Применительно к роли короля это выглядит как процесс окончательного превращения христоподобного короля в агента, жертву и жреца Правосудия в одном лице;
По аналогии, государь уже не был christomimetes — проявлением Христа, вечного Царя; но он пока еще не был и представителем бессмертной нации; свою долю в бессмертии он получал в качестве ипостаси бессмертной идеи. Новая модель persona mixta (смешанного лица) родилась из самого права как такового, где lustitia стала образцовым божеством, а государь превратился одновременно и в воплощение этого божества, и в его Pontifex maximus (верховного жреца) (с. 231).
Но при всех изменениях функционально статус короля тот же — ведь и Христос есть и жертва, и жрец, приносящий жертву; он своего рода агент Бога Отца — и самого себя тоже. Чуть позже, уже в главе, посвященной английскому юристу XIII века Брактону, Канторович показывает, как в разных легалистских конструкциях конкретно меняется наполнение этой схемы; например, Закон заменяет Бога, оставляя неизменной роль короля:
...в тексте Брактона вновь появляются хорошо известные отношения между королем и Законом: король, сын Закона, становится его отцом. Это тот самый вид взаимодействия и взаимозависимости закона и короля, который можно обнаружить практически во всех политикоправовых теориях того периода (с. 244).
140
Дробящиеся тела власти
Иными словами, одна и та же двухприродность имеет разные импликации.
Но вернемся в исторический контекст раннего Нового времени, в котором разворачивается действие первой и отчасти второй главы книги Канторовича. Политическое тело короля и политическое тело королевства, как получается у Канторовича, — вещи разные. Политическое тело короля образует с подданными «мистическое тело», которое частично и составляет политическое тело королевства. «Король в парламенте», по Канторовичу, есть глава политического тела королевства. Отношения монарха и подданных, таким образом, — если даже оставить все малопостижимые логические дроби — строятся с помощью нескольких параллельных путей. Непосредственный путь — мистический; король и подданные — одно тело, которое, впрочем, то ли часть политического тела короля, то ли тела королевства. Опосредованный путь — через парламент, где король находится в качестве функции своего политического тела (и тела королевства тоже). Там между монархом и подданными располагаются члены обеих Палат. Любопытно, что чисто исторически Канторович — хотя ему такого рода рассуждения не очень свойственны, ибо довольно традиционны с точки зрения историографии, — трактует эту ситуацию как двойственность, характерную для феодальных отношений вообще. Речь об этом идет в четвертой главе книги, и связан такой поворот сюжета с вопросом о двойственности короля в отношении времени.
Канторович связывает эту двойственность с разницей между двумя ролями правителя. Один король находится в вечности, вне времени — тот, который владеет своим доменом и собирает налоги с подданных. Этот король «имеет отношение ко всем», здесь проявляется его прямая власть (мое выражение), не опосредованная сеньориально-вассальными отношениями. И эта власть (и владение доменом) не может быть отчуждена даже самим королем. Перед нами область так
141
ModernitE б избранных сюжетах
называемого «фиска» (fisc). Другой король находится внутри времени, и власть его опосредованна всей системой феодальных связей:
Это новое удвоение (geminatio) короля проистекает из установления внутри королевства особого, так сказать, экстерриториального или экстрафеодального королевства — «вечного домена». Его существование на протяжении более длительного срока, нежели жизнь отдельного короля, стало предметом общего и публичного интереса, потому что сохранность и целостность этого домена представляли собой вопрос, «касавшийся всех». Соответственно, разделительную линию следует провести между делами, затрагивавшими только короля в его отношениях с отдельными подданными, и делами, касавшимися всех подданных, т. е. всей политии, всего сообщества королевства. Правильнее было бы проводить различие не между королем как частным лицом и королем как лицом публичным, а между королем-феодалом и королем-фиском — при условии, что под «феодальными» мы понимаем преимущественно дела, затрагивающие личные отношения между сеньором и вассалом, а под «фискальными» — дела, которые «касаются всех» (с. 264-265).
Это исключительно интересное рассуждение имеет сразу несколько последствий и делает возможными довольно смелые выводы. Прежде всего, неожиданная параллель «короля христоподобного» (о котором у нас шла речь выше) и «короля фискального»; тот и другой святы (хотя второй как бы свят), что заставляет задуматься о происхождении высочайшего статуса фиска в европейской средневековой традиции вообще. Канторович лишь обозначает этот сюжет:
Однако прежде всего он приписывает неизменность и вечность не только церковной собственности, res sacrae или (как выражались другие) res Christi, но и res quasi sacrae или resfisci. Здесь и возникает кажущийся диким антитезис или сопоставление Christus-Fiscus, ранее совсем или почти совсем не привлекавшее внимания, — сравнение, которое, однако, отчетливо указывает на централь
142
ДРОБЯЩИЕСЯ ТЕЛА ВЛАСТИ
ную проблему политической мысли в период перехода от Средних веков к Новому времени (с. 265).
Другой вывод связан не с темой исследования Канторовича, а с самбй его книгой, с размыванием, обес-конечиванием ее предмета. Двойственность человекобожественная, двойственность короля-человека и короля-Бога, короля в роли викария Христа и короля в роли викария Бога Отца, короля, который выше Закона, и короля, который его ниже, короля — воплощения Закона и короля — его создателя, и, наконец, вот это (причем, далеко не последнее!): король вечный (владелец неотчуждаемого домена и собиратель подати) и король временнбй (сеньор — лишь элемент, пусть и важнейший, феодальных связей).
Итак, перед нами еще один пример дробящейся до бесконечности двойственности тел короля и самой идеи королевской власти. Таких сюжетов в книге Канторовича множество; как уже было отмечено, тщательно разбирать каждый из них в пределах небольшого эссе невозможно. Впрочем, таких примеров уже достаточно, чтобы обратиться к следующему нашему вопросу — к проблеме нечитабельности «Двух тел короля», к отсутствию у книги интенции коммуницировать с аудиторией, к загадке жанра этого труда. Завораживающий образ нескончаемо дробящихся тел, который изобрел автор, делает чтение книги Канторовича увлекательным и невозможным одновременно. Увлекательным в каждой отдельной точке — и невозможным как процесс, который к чему-то приводит. Канторович перебирает разные сюжеты двойственности, изощренно, тончайшим образом анализирует и интерпретирует один, после чего переходит к другому, который связан с предыдущим только этой самой формальной идеей двойственности. По сути, мы уже на первых страницах заранее знаем, «чем кончится книга», но важен не результат, а ее чтение, которое носит столь же двойственный, как и тело короля, характер: одновременно оно очень интересно и совсем
143
ModernitE б избранных сюжетах
неинтересно. Более того, каждый из использованных сюжетов вполне самодостаточен; самое удивительное, что Канторович не делает из них никаких, собственно, исторических выводов. Скажем, идея «вечного» фискального, чуть ли не христоподобного тела короля идеально ложится в разобранный в начале книги сюжет с телами короля в юридической практике Англии раннего Нового времени, прежде всего, с рассуждениями о «короле в парламенте». Ведь английский парламент и создавался в первую очередь для реализации идеи фиска как вечной власти короля; «король в парламенте» и есть воплощение этой вечной власти, сильно отличающейся от временной власти короля — феодального сеньора. Тогда получается, что в ходе Гражданской войны в Англии «вечный король», представленный в парламенте и парламентом как частью его политического тела, воевал с временным, феодальным, физическим телом короля. Но это только с одной стороны. С другой — Карл I (как и его предшественник Яков I) исходил из концепции божественного происхождения королевской власти, которая, судя по всему, не замечала у монарха никакой двуединости. Об этом у Канторовича ни слова — точно так же как и о том, было ли у подданных Карла I тоже «два тела», как и у их короля?
Примеров равнодушия Канторовича к главному условию его профессиональной деятельности — к историзму — в его труде множество. К примеру, во второй главе, где анализируется «Ричард II» Шекспира, можно встретить короткое наблюдение, которое следует за отрывком из монолога короля Ричарда:
Готов сменять я свой дворец на келью, Каменья драгоценные — на четки, Наряд великолепный — на лохмотья, Резные кубки — на простую миску.
Мой скипетр — на посох пилигрима. ,
Весь мой народ — на грубое распятье, И всю мою обширную страну —
144
Дробящиеся тела власти
На маленькую, тесную могилку, На тесную убогую могилку.
(III, 3,147-155)
За дрожью этих анафорических противопоставлений следует множество ужасающих образов из macabresse Высокой готики (с. 102).
Удивительно, откуда здесь взялась высокая готика? Канторович пишет о пьесе, сочиненной в 1595 году, в эпоху позднего Ренессанса. События в ней происходят в конце XIV века, уже после завершения периода Высокого Средневековья, на излете стиля «высокой готики». Трудно считать Шекспира, при всем его гении, столь тонким и добросовестным историком, чтобы он мог так точно реконструировать (или угадать) мироощущение культурной эпохи, завершившейся за 200 лет до него; особенно если учесть, что его познания в предмете явно ограничивались хроникой Холиншеда (1587). Получается, что для Канторовича «macabresse Высокой готики» является столь же общей, неизменяемой идеей, как «два тела короля» и многое другое. Впрочем, строго говоря, эти идеи не «вечные», так как имеют начало (невозможно говорить о macabresse высокой готики до высокой готики), но вот конец их открыт. Такого рода идеи, один раз возникнув, уже никуда не исчезают, существуя на горизонте сознания европейского9 общества, горизонте, с которым это сознание имеет возможность соотносить себя и свою конкретную историческую эпоху. Для Канторовича они находятся где-то между чистым историзмом, областью переменчивого, актуального, детерминированного и такими вечными понятиями, как «власть», «человек» и проч.
Второй мини-сюжет из второй главы кое-что проясняет в — как мне представляется, почти неизменных — политико-философских и даже идеологических
’ За пределы европейского общества Канторович здесь не заглядывает, несмотря на свой юношеский интерес к Востоку.
145
ModernitE б избранных сюжетах
установках Эрнста Канторовича. Думаю, следует привести его здесь в качестве иллюстрации к нашим рассуждениям о разрыве/непрерывности между «Фридрихом II» и «Двумя телами короля».
Когда наконец созерцание «бренного величия» своего лица заставляет Ричарда разбить зеркало оземь, на части разлетаются не только его прошлое и настоящее, но и все грани его' сверхмира. Его множественные образы исчезли. Черты лица, отраженные в зеркале, выдают, что он лишился всякой возможности обладания вторым, или сверхтелом — величественным политическим телом короля, богоподобием наместника Господня, шутовством шута и даже большинством человеческих печалей, присущих «внутреннему» человеку. Разбитое зеркало означает устранение любого возможного дуализма или же является таким устранением. Все прежнее многообразие сведено к одному: к заурядному лицу, незначительной physis жалкого человека, к physis, теперь полностью утратившей какую-либо метафизичность. Это и меньше, и больше, чем смерть. Это demise — преставление Ричарда и возвышение нового природного тела (с. 110-111).
Если следовать этой логике, то только власть может сделать человека незаурядным, не жалким, метафизическим (в прямом смысле, то есть поверх физиса). Не Знание, не Бог, не Добродетель, не Просвещение, нет, лишь власть может это. Отказавшись от власти, Ричард теряет не только свои ипостаси богоподобия или шута, не только свой «сверхмир», он теряет и «внутреннюю» человеческую сущность, по-старому, «душу». Остается лишь «незначительный physis жалкого человека». Отсюда можно сделать два вывода. Первый — касательно не короля, а его подданных. Канторович явно не отказывает им в так называемой «внутренней сущности», думаю, он предполагает, что «внутренняя сущность» есть та часть подданного, которая и входит в «политическое тело короля», образуя вместе с ним «мистическое тело». Второй вывод относится к предмету, который отдельно, без предикатов
146
ДРОБЯЩИЕСЯ ТЕЛА ВЛАСТИ
и различных контекстов, Канторович избегает даже называть. Я имею в виду власть. У Канторовича получается, что власть есть такая субстанция, нечто вроде идеи, или даже скорее некоего энергетического поля, в котором можно находиться (как это делает король своим политическим телом и как это делают его подданные тою частью своего тела, что имеет отношение к монарху) — и которое можно покинуть, как это делает в пьесе Шекспира Ричард II. Другой герой второй главы книги, Карл I, не следует примеру короля Ричарда, он, в отличие от шекспировского героя, не сдается. В случае Карла, как мы уже отмечали, политическое тело королевства в союзе с частью политического тела короля отстраняет другую часть политического тела короля и убивает его физическое тело.
Последнее рассуждение получает любопытную иллюстрацию из заключительного пассажа второй главы «Двух тел»:
Не следует удивляться и тому, что сам Карл I размышлял о своей трагической судьбе, используя выражения шекспировского «Ричарда II» и идею исконной двойственности природы короля. В некоторых копиях «Eikon Basilike» напечатана длинная печальная поэма, называемая «Величие в несчастье», которая приписывается Карлу I. В ней несчастный король, если, конечно, он в действительности был ее автором, совершенно ясно намекает на образ «двух тел короля»:
Мой сан моей же властию унизив, Сорвали с короля венец во имя Короля.
Вот так алмаз был пылью сокрушен (с. 112).
Казалось бы, все верно: в судьбе Ричарда II можно прочесть судьбу Карла I — но только если отказаться от историзма и не отличать короля, свергнутого аристократами в ходе междоусобной борьбы, от короля, против которого, используя терминологию Канторовича, взбунтовалось собственное политическое тело — и политическое тело королевства. Ричард после отречения — «некто», чистый physis; Карл же остается коро-
147
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
лем до конца. Его физическое тело гибнет в результате войны между разными частями его политического тела, войны, разорвавшей политическое тело его королевства. Канторович все это игнорирует; его интересует только универсальный характер власти, который как бы не зависит от исторических обстоятельств.
В завершение — о том, к какому жанру можно отнести «Два тела короля» и отчего эта книга не предполагает коммуникации и не учитывает наличие читателя. В способе мышления Канторовича мне видится если и не намеренный жест, то констатация нежелания мыслить «как историк». Точнее — «как обычный историк». Похоже, что прошлое Канторович трактует (и так устроена его книга) как довольно темное и бесформенное пространство, стянутое к нескольким важным сияющим точкам, где производятся и воспроизводятся универсальные смыслы. Эти точки коррелируют между собой, почти никак не обращая внимания на окружающий контекст. «Обычный историк» прокладывает дескриптивно-интерпретационные маршруты по этому пространству, часто включая в них эти точки, но совершенно не понимая их значения. Ему важно описать прохождение из пункта А в пункт Б, обстоятельства этого прохождения, побудительные мотивы и т.д. плюс вывести из всего этого некую мораль (в широком смысле этого слова). Канторович предлагает совершенно иной способ; собственно говоря, у него получается не историография, а нечто другое, к чему сложно подобрать название10. Отсюда, кстати, и страсть к из-
10 Бойцов пишет: «При желании можно заметить общее даже в основополагающем подходе к историческому рассказу: ведь хотя каждое отдельное суждение в “Двух телах” само по себе подкрепляется подробной ссылкой, связь между этими суждениями (как и между отдельными темами и частями книги) выстраивается порой на основаниях, остающихся для внешнего наблюдателя сокровенными. Когда читатель перестанет улавливать сквозную мысль ав-148
ДРОБЯЩИЕСЯ ТЕЛА ВЛАСТИ
быточным примечаниям, отдельным томам библиографических сносок (как с «Фридрихом Великим») и прочей совершенно барочной академической маши-нерии. К сияющим точкам универсальных смыслов тяготеет абсолютно все из того пространства прошлого, что лежит между ними; само это пространство не структурировано, оттого его элементы стягиваются к зонам напряжения, как все, что содержит железо, притягивается к магниту. К магниту могут притянуться совершенно разные металлические изделия и даже вещи, в которых есть лишь элемент металла. Вот так же причудливо притягиваются к теме Канторовича ссылки, цитаты, иллюстрации. Я уже не говорю о том, что во многом Канторович — наследник и одновременно оппонент великой юридической школы английской историографии второй половины XIX — начала XX века с присущими ей бездонными «подвалами» сносок. Но там они выполняли роль фундамента монументального здания позитивистского Знания, здесь же роль их переосмысляется — точно так же, как модернистский роман переосмыслил реалистический, психологический роман середины — второй половины XIX века. Здесь, как мне кажется, и можно найти общую точка отсчета у Канторовича и современного ему модернистского искусства и литературы.
Чего добивался автор «Двух тел короля»? Какой эффект хотел произвести, на какую коммуникацию
тора, теряющуюся, как ящерица среди камней, во все новых и новых ярких деталях, тонких наблюдениях и увлекательных примерах, — не стоит ни злиться на предполагаемую неискусность переводчика, ни терзаться сомнениями в собственных интеллектуальных способностях. Если отдельные блоки Канторович делает “честно”, на глазах у всех, то здание из них он возводит в глубокой тайне — и не на прежнем ли основании главным образом интуитивного ощущения “внутренней логики” исторического развития? А последнее уже очень близко по сути к принципам создания “Фридриха Второго”, сколько бы тысяч идеально сделанных сносок эту суть ни затемняли» (с. 42).
149
M0DERNIT6 В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
с публикой рассчитывал? Академический? В каком-то, очень ограниченном, смысле, да — на уровне отдельных, частных, тщательно и тонко выписанных сюжетов. Впрочем, релевантность некоторых из них оспаривается, как, в частности, в случае с тем же нормандским анонимом или, что уже совсем очевидно, миниатюрой из Аахенского Евангелия. Идеологический мессидж здесь тоже присутствует; судя по всему, он не изменился со времен «Фридриха II», потеряв только национальную окраску. Власть по характеру своему вечно двусоставна, причем ее мистическая вечная часть придает смысл временной, невечной, опосредованной. Впрочем, размыты и бесконечно дробятся оба тела, уловить и закрепить их с помощью рационального описания невозможно. Остается эстетическая область. В кружке Штефана Георге — вслед за Ницше — «историческое», преходящее считали болезнью, лекарствами от которой могло стать Неисторическое и Надысторическое. Физическое тело власти, physis, вообще и есть то самое Неисторическое, бесформенное забвение исторического. Надысторическое — то, что «отвращает взор от Становления и направляют его на то, что вечно и значение чего не меняется, а именно — на искусство и религию». Истории надо перестать быть историографией, превратившись в искусство и религию. Эрнст Канторович выполнил завет учителей — создал сложнейшее, отвлеченнейшее, самодостаточное произведение искусства о религии вечной власти, о политической теологии.
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
Это может быть книга о людях, выпавших из своего исторического контекста и сыгравших блистательные и бессмысленные моноспектакли в других, чужих театрах, для совершенно иной публики. Гениальные переростки, они попытались разобрать на простейшие детали окружающий их мир — с тем, чтобы понять, как он устроен, найти неполадки и наладить фабричное производство нового мира. Великие редукционисты в безнадежно синтетическую эпоху. Их главный урок в тотальности опыта, любого — эстетического, этического, научного. Каждый из них стремительно добрался до дна, некоторые даже смогли выбраться потом наверх, но уже поглупевшие от страха, глуховатые от кессонной болезни. Глубже них никто не нырял. Но, повторяю, дело не в том, что они там увидели, а в том, что донырнули. Таков их урок нам — любителям сёрфинга.
Д.К. Хотов
Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их.
Ю.Н. Тынянов
Толчком к написанию нижеследующего текста стало мимолетное юношеское воспоминание. Автор этих строк учился на историческом факультете в совершенно советские времена и два раза в год вынужден был (ближе к экзаменационной поре) просматривать фолианты по «Истории СССР» и «Истории КПСС». Изредка там попадались фотографии — счастливых тружеников фабрик и полей, прославленных ученых, мужественных военных и мудрых руководителей партии и государства. В те годы — в начале восьмидесятых — «оттепельные времена» еще казались отдаленной, но вполне живой эпохой, однако, читая только учебники, понять что-либо в ней было невозможно, потому оставалось уповать лишь на интуицию и догадки. Лучшей пищей для такого рода ретроспектив
151
M0DERNIT6 В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
ных прозрений были как раз иллюстрации к этим книгам; особенно меня интриговала фотография, на которой было изображено советское руководство начала шестидесятых. Лысый генсек Хрущев стоял в окружении более молодых своих соратников, чьи прически, несмотря на намечающуюся кое у кого лысину, не носили столь радикального характера. Иными словами, прически у них — Косыгина, Шелепина, Брежнева — были, а у Хрущева — нет. Только лысина. Конфликт партийных поколений, завершившийся мирным отстранением генсека в 1964 году, был наглядно проиллюстрирован разным подходом к имиджу. Лысина Хрущева меня занимала довольно долго, и, как-то в очередной раз размышляя о ней, я вспомнил Кису Воробьянинова, который после неудачных экспериментов с контрабандной краской был налысо брит Бендером, что, кажется, помогло ему мимикрировать под советские двадцатые. Потом — Маяковского, именно в то десятилетие расставшегося с шевелюрой и приобретшего канонический образ. Затем я вспомнил какой-то фильм, снятый в 60-е годы — о двадцатых. Там гологоловые комсомольцы с энтузиазмом строили важный индустриальный объект. «И лысых рать Европу голыми башками будет освещать». Так постепенно представление о 20-х годах XX века в СССР стало связываться у меня с гладко выбритым черепом. Почему, я не мог понять, до тех пор пока уже в самом конце восьмидесятых, на излете советского времени, не прочел следующего: «Это люди с наивным отношением к миру... Они думают, что, для того чтобы получить настоящие губы, нужно стереть с них губную помаду и что настоящая голова — та, с которой снят скальп... Не знаю, как назвать это мышление...». Выбритая голова — паллиатив черепа, с которого сняли скальп, символ редукции, являющейся ключевой характеристикой определенного исторического типа мышления, — вот что открыла мне в 1989 году Лидия Гинзбург. Какого именно типа
152
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург мышления — об этом я прочел несколько лет спустя в другой книге.
Александр Пятигорский в статье «Пастернак и “Доктор Живаго”. Субъективное изложение философии доктора Живаго» подробно проанализировал тип сознания так называемых «двадцатигодичников», к которым он отнес автора «Доктора Живаго» (но не героя этого романа!):
Пастернак двадцатых годов психологически принадлежал к миру нового искусства и делил с ним его особенности. И самой главной из этих особенностей было то, что люди нового искусства и новой науки тоже жили как бы одновременно на двух не сводимых друг к другу уровнях — мироощущения и мировоззрения (эту идею впервые высказал искусствовед Игорь Голомшток). На уровне мироощущения они были великими познавателями и трансформаторами вещей, образов и понятий... На уровне мировоззрения они были создателями концепций. Чаще — их соавторами: «авторы» не занимались ни искусством, ни наукой. Концепций, объясняющих другим людям природу и цели работы ученых и артистов1.
В этом тексте Пятигорский ретроспективно проанализировал тот самый тип мышления, который сам себя анализирует в записях и эссе Лидии Гинзбург. Можно не соглашаться с тем, что Пастернак был, как считает Пятигорский, «двадцатигодичником» (хотя бы психологически), но сам тип исторического сознания определен совершенно точно. Оставалось только понять, является ли это сознание характеристикой данного поколения.
Историю русской культуры XIX-XX веков2 с определенного времени, с 30-х годов позапрошлого века, часто представляют как историю борьбы и смены по-
1 Пятигорский А.М. Избранные труды. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 218.
2 Которой часто исчерпывается история политических движений в России.
153
MODERNITfi В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
колений. Сложно сказать, кто был здесь первым, однако уже Петр Андреевич Вяземский в письме Михаилу Погодину запросто роняет такую фразу: «Зачем вы на себя клепаете, что ваше поколение воспитано на стихах Ломоносова, Хераскова. Неужели до Пушкина никто из нас не читал Дмитриева, Жуковского, Батюшкова? Вот поколение, из которого вышел Пушкин»3. Письмо это написано в 1869'году, однако понятие «поколения»4 сложилось у Вяземского значительно раньше — лет за тридцать до того. Одной из главных мишеней «поколенческой критики» Вяземского был Герцен; последний, в свою очередь, не только в «Былом и думах» дал нелицеприятную оценку поколению «арзамасских гусей»5, но и подробно проанализировал собственное «первое молодое поколение»6. Кажется, именно Герцен вслед за Вяземским увидел в истории России историю российских поколений. «Отцы и дети» Тургенева закрепили этот «поколенческий» тип русского исторического мышления, а в «Бесах» политическая и нравственная драма современной Достоевскому России была разыграна именно как конфликт поколений7. Именно эту схему, сильно упростив, ввел в советское сознание Ленин: «Декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул... агитацию».
3 Вяземский П.А. Старая записная книжка. 1813-1877. М.: Захаров, 2003. С. 938.
4 И понятие это имеет иное содержание, нежели определение, данное «поколению» Далем: «одно колено, наличные люди или животные в данный срок».
5 Герцен AM. Собр. соч.: в 8 т. М.: Правда, 1975. Т. 4. С. 296; Т. 5. С. 110.
6 См. также о «чаадаевском поколении»: Там же. Т. 5. С. 116— 120, 231.
’ Роман фактически начинается с описания «поколения сороковых», неудивительно упоминание здесь же и Герцена (Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Т. 10. Л.: Наука, 1974. С. 8).
154
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
Однако, говоря о «людях 20-х годов», мы лишь отчасти говорим о поколении в этом смысле. Поколенческая схема применительно к межвоенному периоду применялась многократно8; например, за последние 30 лет она так или иначе использовалась — отреф-лексированно, что важно, — в книге Уола «Поколение 1914 года»9, статье Мариэтты Чудаковой «Заметки о поколениях в советской России»10 и в диссертации Ирины Каспэ о «незамеченном поколении» русской эмигрантской литературы11. Но здесь мы говорим несколько о ином. Люди 20-х годов — люди «определенного исторического склада», и «склад» этот связан с биологическим возрастом только опосредованно. Виктор Шкловский был «человеком 20-х годов» точно так же, как и его ученица Лидия Гинзбург, родившаяся на 15 лет позже. Важно не то, сколько лет в 20-е годы было человеку двадцатых, а то, как устроено было его мышление, мыслительный аппарат и насколько исторически обусловлен был этот аппарат12.
8 Не говоря уже о том, что именно тогда появилось известное понятие «потерянное поколение».
9 Wohl R. The Generation of 1914. Harvard, 1979.
10 Чудакова M. Заметки о поколениях в советской России // Новое литературное обозрение. 1998. № 30. С. 73-91.
” Каспэ И.М. Конструирование незамеченности: «младшее поколение первой волны» русской литературной эмиграции в Париже: автореф. дис. ... канд. культурологии. М.: РГГУ, 2004.
12 Здесь говорится о людях двадцатых только в контексте советской истории, о людях советских двадцатых. Между тем такой тип существовал и на Западе, но это уже тема отдельного исследования. Отметим только, что в обоих случаях мы имеем дело с пост-военным, пост-катастрофическим сознанием, только вот в СССР люди двадцатых были ориентированы «перспективно» если не утопически. Как писала Гинзбург: «они гигантски верили в жизнь, распахнутую революцией. В этом как раз их историческое право называться людьми 20-х годов» (Гинзбург Л. Записные книжки.
155
MODERNITfi В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
Нижеследующий текст представляет собой предварительную попытку описать такой аппарат одного из важнейших людей советских двадцатых — Лидии Гинзбург* 13.
Случай Гинзбург — уникальный. Ее мышление не только служит, так сказать, объектом исторического анализа; Лидия Гинзбург сама анализирует собственное мышление, рефлексия идет рука об руку с авторефлексией, субъект рефлексии постоянно превращается в объект, и наоборот. Все, что мы знаем о мышлении Гинзбург, мы получаем от шее же в готовом, отрефлек-сированном виде. Соответственно, и наша задача сводилась к тому, чтобы занять позицию вне мышления Гинзбург, заключить его в исторические скобки, исто-ризировать, безусловно утеряв при этом иные составляющие этого мышления, но таков уж скромный удел историка. Историка, который не претендует на роль философа или моралиста.
Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство, 2002. С. 192. Далее — Гинзбург).
13 Исключительно на материале ее записных книжек и эссе, то есть, так сказать, «прямых высказываний», не опосредованных обязательствами «научного дискурса» или «литературы вымысла». Литературоведческие работы Лидии Гинзбург здесь практически не рассматриваются, ибо представляют тему отдельного исследования. В стороне оставлен и ее роман «Агентство Пинкертона». Нижеследующий текст — результат внимательного, «медленного» чтения записей и эссеистики Гинзбург; мы старались не отвлекаться как на очевидные историко-культурные параллели, так и на напрашивающиеся возможности интерпретировать ее сочинения в любом из иных ключей. Автор также старался говорить о «формальном методе», «формальной школе» исключительно в контексте разговора о Лидии Гинзбург, а не наоборот. История русского формализма описана если и не исчерпывающе, то подробно, и мы отнюдь не претендуем на соучастие в этом важном и нужном деле.
156
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
ГЕНЕЗИС ЛЮДЕЙ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ
В середине 1920-х годов Лидия Гинзбург записывает:
Когда его (Шкловского) слушаешь, вспоминаешь его книги; когда его читаешь, вспоминаешь его разговоры... в рассказанном Шкловским анекдоте вижу его синтаксис, графическую конструкцию его фразы... сдвиги, перемещения и отступления являются для него литературным приемом, быть может 6 гораздо меньшей степени, чем для Стерна; они производное от его мыслительного аппарата14 (Гинзбург, с. 13).
Получается так, что Шкловский мыслил разложением формы. Соответственно, можно предположить (но не утверждать!), что «теория приема» формалистов описывала не только то, «как сделано произведение», а и как устроен их собственный мыслительный аппарат. Это устройство они передали своим ученикам, младшим современникам, «сопластникам»15 по 20-м годам — младоформалистам. Анализ генезиса людей двадцатых во многом может стать реконструкцией происхождения их мыслительного аппарата.
То, что для двух предыдущих поколений, «духовных отцов» и «старших братьев» людей 20-х годов, было результатом подвига, прорыва, дерзания с неизвестными последствиями (кубизм, разложение формы, футуристический сдвиг смысла и проч.), для них самих было уже естественным способом мышления. Естественным, а потому — неотрефлексированным. «Моя специальность — не понимать», — говорил Шкловский (Гинзбург, с. 14); заметим: не «потребность», а именно «специальность» — нечто оформленное, существующее в готовом виде. Не потому ли многие люди двадцатых, несмотря на все, порой искренние, попытки перестроиться под давлением исторических обстоятельств, оставались со своим способом мышления до самой смерти? Не потому ли многие из них неразвива-
14 Гинзбург, с. 13.
15 Этот термин Гинзбург позаимствовала у Герцена.
157
MODERNITfi В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
лисъ, как Шкловский16, как — в других исторических условиях — Бретон и Бунюэль?
Не следует, однако, считать, что превращение «дерзновений» предыдущих поколений в «специальность», даже «инструмент» людей 20-х годов происходило прямым и естественным образом. Например, восприятие поэзии Хлебникова формалистами, особенно младоформалистами, происходило не прямиком, а через вторые руки; сама Гинзбург выделяет17 промежуточную стадию:
Хлебников, у которого одни концы спрятаны, а другие не сведены, оказался темным, темным от глубины источником тех явлений, которые мы (не зная Хлебникова) получили прямо из рук больших практиков, поэтов для читателя: Маяковского, Пастернака, Тихонова... Мы получили хлебниковское, расквартированное по чужим системам, лишенное мутящей разум хлебниковской наивности, его темной простоты, — хлебниковское уяснилось. Мы поняли, как это сделано... (Гинзбург, с. 42).
Такова история того, как лепетное «хлебниковское» — через промежуточные поэтические системы и после этого через формальный анализ того, как оно сделано, — превращается в «специальность», занимает свое место в «методе» человека двадцатых. В этом отрывке следует отделить «читательское» от «историкопоколенческого». Действительно, и Маяковский, и Пастернак, и, видимо, Тихонов, многим обязаны Хлебникову, и каждый из них превратил хлебниковские
16 В середине 80-х Гинзбург посетила 86-летнего Шкловского в Переделкине: «Он наглухо отделен от другого, от всякой чужой мысли. Другой — это только случайный повод. Ему кажется, что он все еще видит заново и все начинает сначала, как шестьдесят пять лет назад» (Гинзбург, с. 306).
17 Вслед за Шкловским, который в «Гамбургском счете» писал: «От В. Хлебникова произошли поэты: Маяковский, Асеев, Пастернак, Николай Тихонов и, конечно, Петровский» (Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи — воспоминания — эссе (1914-1933). М.: Советский писатель, 1990. С. 337).
158
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург темные открытия в элементы своей поэтической системы. Действительно, можно было бы сказать, сильно преувеличивая, что и Маяковский, и ранний Пастернак, и ранний Тихонов — «Хлебниковы для бедных», то есть для «читателей». Но нам важно именно то, что людям двадцатых, например Лидии Гинзбург, революционный эстетический опыт Хлебникова был передан опосредованно, через людей предыдущего поколения, «старших братьев», людей 10-х годов, к которым, безусловно, относятся Пастернак и Маяковский18. Этот процесс передачи (и интерпретации) опыта людям 20-х годов — частный случай того, как создавался их мыслительный аппарат.
Передача действительно происходила через несколько рук, через несколько поколений. В записях 20-30-х годов Гинзбург пытается нащупать и хотя бы частично реконструировать эту систему наследования, причем вовсе не в духе тыняновской идеи наследования по боковой линии. Например, важнейшее место в ее ранних записях играет Блок. Он появляется — вполне в духе расхожих представлений того времени — как «живой мертвец», последний певец старого мира, «завершивший», запечатавший его своей собственной гибелью:
18 Но, конечно, не Тихонов, он вообще попал в это рассуждение Гинзбург по историческому недоразумению. В Тихонове в середине 20-х годов многие были склонны видеть большого поэта, см., напр., знаменитую запись Гинзбург:
Недели две тому назад Борису Михайловичу в час ночи позвонил Мандельштам, с тем, чтобы сообщить ему, что: — Появился Поэт! _?
— Константин Вагинов!
Б.М. спросил робко: «Неужели же вы в самом деле считаете, что он выше Тихонова?»
Мандельштам рассмеялся демоническим смехом и ответил презрительно: «Хорошо, что вас не слышит телефонная барышня!» (Гинзбург, с. 16).
Между прочим, вместе с Эйхенбаумом и Гинзбург это историческое недоразумение разделял и Шкловский.
159
ModernitE в избранных сюжетах
«Это было в небольшой аудитории, в 21-м году, за несколько месяцев до его смерти. Блок читал “Возмездие” глухим и ровным голосом, как бы не видя и не чувствуя слушающих» (Гинзбург, с. 15). Чуть позже Гинзбург вспоминает (в связи с Яковом Полонским) стихотворение Блока «Сердце — крашеный мертвец» и после дальнейших рассуждений на тему «поэтических итогов» называет Блока «великим проявителем литературного негатива последних десятилетий 19 века» (Гинзбург, с. 22). Блок «проявляет» и «закрывает» старый мир, поет последние его песни. Он, приветствовав «Двенадцатью» убившую его революцию, в последний раз появляется на публике, уже перед новыми людьми, будущими «людьми 20-х годов», с другой поэмой — «Возмездие». Молодая Гинзбург явно прочитывает в этом жесте символику возмездия — не только «старому миру», но и модернизму, «людям начала века», «духовным отцам» ее поколения. Страшная ирония заключается в том, что она с середины 30-х годов будет обречена писать свое «Возмездие» — обращенное к себе, к соратникам по двадцатым. А еще через 20 с лишним лет Гинзбург сама оказывается почти в той же ситуации, что и Блок. В эссе «В начале шестидесятых» она обращается к теме возмездия, исторического возмездия людям 20-х годов. Гинзбург пишет о непонимании тогдашними молодыми людьми (теми, кого потом назовут «шестидесятниками») трагедии людей двадцатых, об отсутствии у шестидесятников интереса к советскому социальному, экзистенциальному и эстетическому опыту предыдущих трех советских десятилетий. В этом она видит расплату: «Горькая расплата. И, как всегда, за общий грех против духа расплачиваются лучшие, потому что остальным-то наплевать...» (Гинзбург, с. 223). Однако расплачиваясь, Гинзбург, как по-своему и Блок19, все равно уверена в своей
” Который упоминается в этой главе.
160
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
правоте — в той исторически обусловленной правоте сорокалетней давности.
Лидия Гинзбург вообще часто вспоминает великих модернистов, «людей начала века», чем дальше — тем с большим неодобрением, даже отвращением. Вот, например, характерная запись 40-х годов:
Почему на символистах (модернистах, декадентах), несмотря на высокую культурность, новаторство и проч., тяготело все же проклятие пошлости? Вероятно, объяснение этому — в интеллектуально-эстетической изолированности от общей социальной жизни... Символисты никак не могли уйти от стилизации, то есть от вторичного, паразитического использования идей. Отсюда дух произвольности и произвола и угроза пошлости, тяготевшая даже над лучшими из них. Не говоря о худших» (Гинзбург, с. 166).
Это очень важное высказывание, в нем оттиснуты основные черты «гинзбургского метода», который к тому времени уже вполне сформировался (подозрительное отношение к «произволу», преклонение перед закономерностью, особенно — социальной, исторической). К тому же здесь проглядывает вся сложность отношений с «духовными отцами»: ведь не только символистов можно обвинить в «паразитическом» использовании чужих ценностей и идей, то же самое можно сказать, при определенном взгляде, и о людях двадцатых, прежде всего — младоформалистах. Причину этической и даже эстетической неполноценности символистов (и, шире, модернистов) Гинзбург видит в их изолированности от социальной жизни20. Упрек народнический, очень для нее характерный: людям 20-х годов казалось, что они возьмут инструмент, выкованный в алхимических лабораториях «духовных отцов» (новое искусство, новую науку), и
20 А после революции — в непонимании новых времен: «Людям символистической культуры свойственно глубокое непонимание революции, действительности эпохи» (Гинзбург, с. 417).
161
MODERNITfc В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
применят его в новых послереволюционных условиях: исправят исконную несправедливость, устранят вековечные разрывы, в частности — между «народом» и «интеллигенцией». Таков типичный для их мировоззрения пафос слияния социальной революционности с революционностью научной и эстетической. Этому мировоззрению идеально точно соответствовал мыслительный аппарат людей двадцатых.
МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛЮДЕЙ
ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ.
«СИСТЕМА ПЛОДОТВОРНЫХ ОДНОСТОРОННОСТЕЙ»
Лучшее определение этого мыслительного аппарата дала сама Гинзбург — «система плодотворных одно-сторонностей» (Гинзбург, с. 51). Получив в наследство от «больших практиков» (не только поэтических, но и научных, не говоря уже о главных политических практиках — большевиках, сделавших революцию) готовые всеобъясняющие методы, люди двадцатых оказались в двусмысленной ситуации. С одной стороны, они с недоверием относились к теоретической широте и особенно легкости, достаточно вспомнить такое признание Гинзбург: «обзавестись ...теоретически широкими горизонтами и всеприятием не в пример легче, чем сконструировать и использовать систему плодотворных односторонностей» (Там же). С другой стороны, известно, что — если говорить о случае Гинзбург и других младоформалистов — эту систему сконструировали их учителя формалисты, так что ученикам оставалось лишь использовать ее. В записях Лидии Гинзбург приведена злая фраза Тынянова о своих учениках: «Что же, они пришли к столу, когда обед съеден» (Гинзбург, с. 33). Эти слова во многом объясняют «разрыв с мэтрами», конфликт между формалистами и младоформалистами, которому посвящена не одна запись Лидии Гинзбург ру
162
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
бежа 20-30-х годов21. Учителя хотели, чтобы ученики вели себя так, как они сами вели себя десять лет назад, — то есть энтузиастически «конструировали», а не прилежно «использовали» систему плодотворных односторонностей; в то же время на уровне поведения «мэтры» не допускали ни малейшего отступления от установленных ими правил. Младоформалисты до какого-то момента на серьезный теоретический бунт готовы не были; позже Лидия Гинзбург на замену благоприобретенному формальному методу постепенно сконструировала свой метод социальнопсихологического анализа, свою «аналитическую машину», основанную на тотальном историзме; машину, работа которой до сих пор поражает воображение.
Действительно, «специальность», «инструмент22» не могут быть «многосторонними», будучи уже отжатым результатом предыдущего теоретического и практического опыта. Их можно «реализовывать», «применять творчески», «максимально использовать». Так возникают основные темы людей двадцатых в том виде, как они сформулированы в записях и эссе Лидии Гинзбург — «реализация» (прежде всего, «профессиональная реализация»), «творчество в условиях реализации» и «тотальность мировоззрения». Однако наличием «метода» (и безусловной воли к его применению) люди 20-х годов далеко не исчерпываются; особенно
21 См. также интереснейшую публикацию ее писем Борису Бухштабу конца 20-х годов: Гинзбург Л.Я. Письма Б.Я. Бух-штабу / подгот. текста, публ., примет, и вступ. заметка Д.В. Устинова // Новое литературное обозрение. 2001. № 49.
22 «Инструмент» понимается здесь прежде всего как «метод». Примерно то же самое Даниил Хармс называл «саблей»: «Получив саблю, можно приступать к делу и регестрировать мир» (Хармс Д. Собр. соч.: в 3 т. Т. 2: Новая антология. СПб.: Азбука, 2000. С. 283. Орфография авторская). А Виктор Шкловский писал в знаменитом письме Льву Якубинскому: «Наши книжки... хорошие как инструменты» (Шкловский, с. 306).
163
ModernitE в избранных сюжетах
не исчерпывается их генезис историей обретения этого метода, этой хармсовской «сабли». Важнейшая часть характеристики людей двадцатых — беспредельный энтузиазм, бешеная энергия, удивительный пафос, то, что вообще считается чуть ли не главными признаками этого советского десятилетия. Где их источник? Может быть, в осознании пропасти между старым укладом (социальным, культурным, даже биологическим) и новым методом преобразования жизни, который обосновали поколения предшественников (от Маркса до Хлебникова) и сконструировали непосредственные учителя? Отчасти так. Но, видимо, главным источником энтузиазма, энергии и пафоса людей 20-х годов была революция и открытые ей перспективы. Именно она создала представление, что мир можно изменить, преобразовав все его основы. Если для предыдущего поколения, для «отцов», революция была (и так и осталась) великой возможностью, то для них эта возможность перешла в разряд практических дел; так, по крайней мере, людям 20-х годов казалось.
Любопытно, что обратной стороной этих энтузиазма и пафоса стало удивительно интимное, лирическое отношение к методу, его логике, стройности, непротиворечивости, его плодотворной односторонности:
Я очень люблю закономерности... Я охотно принимаю случайные радости, но требую логики от поразивших меня бедствий. И логика утешает, как доброе слово (Гинзбург, с. 81).
Несколько раньше Гинзбург вспоминает о своем юношеском чтении Льва Толстого:
А Толстого я читала так всего, с письмами, с народными рассказами, с педагогическими статьями, испытывая всегда одно и то же чувство, которое не могу назвать иначе, как чувством влюбленности. Статьи о вегетарианстве и «Фальшивый купон» доставляли мне наслаждение немногим меньшее, чем «Война и мир», — важен был неповторимый толстовский метод. И все, где я только могла
164
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург его узнать, представлялось мне равноценным (Гинзбург, с. 34).
Именно так: не эстетическое наслаждение художественным произведением, а наслаждение неповторимым методом, пронизывающим все толстовские писания, наслаждение его несомненными и несокрушимыми логикой и тотальностью. Те же чувства испытывала юная Гинзбург к еще одному безупречному методу — марксизму:
Марксизм был притягателен для умов аналитических, разлагающих. Помню, как меня увлекло «18 брюмера Луи Бонапарта» — именно силой своей аналитической хватки, демонстрацией скрытых пружин исторического движения (Гинзбург, с. 293-294).
Лидия Гинзбург — человек, лирически переживающий логику, точно так же как ее учитель Виктор Шкловский лирически переживал механизм, мотор, машину. Тынянов говорит о нем: «Шкловский прежде всего монтер, механик... шофер... верит в конструкцию» (Гинзбург, с. 369). При этом Тынянов противопоставляет себя Шкловскому, утверждая: «А я, если хотите, детерминист. Я чувствую, как нечто переплескивается через меня. Я чувствую, что меня делает история» (Там же). Здесь Тынянов довольно близок к мировоззрению самой Гинзбург в том виде, в котором оно сформировалось позже — к концу 30-х годов. На что указывает это какое-то нутряное гегельянство? На то, что Тынянов не был человеком 20-х годов? На раскол в людях двадцатых? На то, что взгляды Тынянова стремительно эволюционировали, — но эта запись датирована 1925 годом... Или же на то, что в мировоззрении людей 20-х годов были глубокие противоречия? Два года спустя Гинзбург пишет о Тынянове — историческом романисте: «Он с восторгом говорил мне о том, что всех охаял: ни одного порядочного героя, все ошельмованы. “Каково снижение?” — спрашивал он с веселостью изобретателя» (Гинзбург, с. 383). Здесь Тынянов — ти-
165
ModernitE в избранных сюжетах
личный человек двадцатых: он радуется инструменту, методу, интимно его переживает. Оттого выглядит, по мнению Гинзбург, смешно и постыдно: «И этот человек, литературовед почти гениальный, не понимает, что он показывает публике давно заплесневелый фокус, которому название (обратное общее место) придумал еще И.С. Тургенев» (Гинзбург, с. 383). Заметим, что этот «фокус» не Тынянов изобрел, он его только «использовал», причем последовательно и тотально, вполне в духе людей 20-х годов. «Веселость изобретателя» ему присуща, но вот в данном случае, в отличие от научной сферы, Тынянов — вовсе не изобретатель. Пафос осуждающей ремарки Гинзбург — не в негодовании на то, что «ошельмованы» достойные исторические персонажи (Жуковский, Крылов и другие), а в том, что фокус — «заплесневелый», что он не сконструирован самим Тыняновым, что он — порождение определенного исторического контекста — не предназначен для вне-контекстуального, инструментального использования. В этом осуждении чувствуется зреющее недовольство младоформалистов. В другом месте Гинзбург с сомнением пишет о себе и своих друзьях: «...мы... стали что-то слишком умны, что-то слишком много понимаем» (Гинзбург, с. 51). Собственно, младоформалистам было положено быть не «умными» или «понимающими», а волевыми, последовательными и энергичными; так, видимо, хотели их учителя. И конечно, тотальными в реализации метода. В словах Гинзбург чувствуется страх человека 20-х годов потерять эту самую тотальность, являющуюся одним из источников уже упомянутых энергии и энтузиазма. Здесь, скорее всего, проходит граница между «старшими» и «младшими» людьми двадцатых — например, между формалистами и младоформалистами23. Первые — не сомневались, в
23 См., напр., запись Гинзбург 1933 года: «Во многих отношениях лучше насчитывать тридцать лет, чем сорок. Но, в частности, это лучше потому, что тридцатилетний возраст более или менее избавляет от символистических тради-166
«Человек двадцатых годов», случай Лидии Гинзбург некоторых случаях меняя одну тотальность на другую, один всеобъясняющий метод на другой. Вторые либо отказывались от этой тотальности вообще, переходя в разряд людей тридцатых (тех, кто позже принялся на свой страх и риск заново конструировать «простые ценности» на выжженном экспериментами поле), либо — в случае Лидии Гинзбург — создавали собственный тотальный метод; именно «создавали», а не получали чужой в готовом виде24.
ций» (Гинзбург, с. 417). Среди этих традиций она называет «идеологический блуд» и «подлое самоуничижение». Видимо, имеются в виду вышедшие тогда воспоминания Андрея Белого, где он пытался доказать, что всегда был материалистом и что истинный символизм не только не противоречит материализму, а даже, некоторым образом, находится в его русле, см., напр., у Гинзбург: «Андрей Белый, который божится, что он старый материалист, и для подкрепления своих слов готов даже перекреститься» (Там же). Запись сделана на фоне завершившегося разгрома формализма, в ходе которого «мэтры» из самосохранения вынуждены были клясться в преданности марксизму и называть свое блестящее научное прошлое «ошибкой». В конце 1931 года Гинзбург отмечает: «Икс, собираясь 15-го выступить в ИРКе - с докладом о “социальных корнях формализма”, говорит:
“Надо иметь мужество признаваться в ошибках”. Б. сказал по этому поводу:
— Я перестаю понимать, чем, собственно, мужество отличается от трусости» (Гинзбург, с. 100).
24 В эссе «В начале шестидесятых» Гйнзбург приводит один из последних разговоров со своим ближайшим другом Григорием Гуковским, который, судя по всему, можно датировать концом 30-х годов: «И все-таки, если можно будет, у нас найдется еще что сказать. — Оставьте эти мечты. Если можно будет, мы скажем одно: ныне отпущаеши...» (Гинзбург, с. 223). Гуковский как раз принадлежит к тем младшим людям двадцатых, которые потом мутировали в людей тридцатых. В этом разговоре он переводит исследовательский, научный пафос Лидии Гинзбург («найдется еще что сказать») в моральный, чуть ли не религиозный («ныне отпущаеши»). Перед нами человек, пытающийся в уже нечеловеческих условиях сталинского террора воскресить «простые», «человеческие», чуть ли не «христианские» моральные ценно-
167
ModernitE в избранных сюжетах
Столь же строга Гинзбург и к «серапионовым братьям», которые, по ее мнению, занимаются исключительно тем, что реализуют в прозе теоретические разработки формалистов (прежде всего, Шкловского): «Они, в сущности, простодушные мальчики, хотя воображают, что мудры как змии, потому что теоретики натаскали их на несколько никому не нужных стернианских трюков» (Гинзбург, с. 370). Заметим, что и здесь ее негодование вызывает именно автоматическое применение инструмента, доставшегося от учителей, которые, между прочим, и сами некритически (что для Гинзбург значит — неисторически) позаимствовали его у старых авторов. «Метод» вырождается в «трюк», если он не выкован во вполне определенных исторических условиях и не поддерживается определенным уровнем рефлексии. Но разве не ту же претензию можно было бы предъявить в конце 20-х годов и самим младоформалистам (и тогдашней Гинзбург), и вообще людям двадцатых? Видимо, именно в этом противоречии берет начало критический поколенческий самоанализ Лидии Гинзбург.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ МАШИНА ЛИДИИ ГИНЗБУРГ
«Люди эти, стоя в пустоте, полемически кричат в пустоту, а пустота не отвечает», — записывает Лидия Гинзбург в 1927 году (Гинзбург, с. 38). Речь идет о ЛЕФе и о его отношениях с властями, однако эту формулу вполне можно положить в основу анализа гинзбургской исторической концепции людей двадцатых. Пустота снаружи — важнейшая характеристика представлений Гинзбург о ситуации, складывавшейся
сти. Другой пример подобной мутации — поэзия позднего Заболоцкого.
168
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
вокруг нее самой и ее «сопластников» в 20-е годы. Что означает эта «пустота»? Прежде всего, отсутствие собеседника, невозможность диалога. Язык, на котором говорили люди двадцатых, был не очень понятен и латентно враждебен как новому советскому обществу, так и новой советской власти. Власть, которая еще не окончательно переродилась и не потеряла последних следов революционности, с трудом, но терпела этих людей, утверждавших, что они имеют инструменты, с помощью которых могут преобразовать мир25. До тех пор пока советская власть считала себя порождением революции (а не наследницей Российской империи), людям 20-х годов было разрешено не только существовать, но и действовать, ибо предполагалось, что их цели совпадают с общими. Но — действовать в одиночку, вне государственно-идеологической машины. Что же до советского общества, то оно, по большей части, перестало быть революционным в годы нэпа; знаменитый «энтузиазм двадцатых» (на самом деле, энтузиазм середины и второй половины 20-х годов) в массе своей имел вполне материальный пафос строительства, а не тотального преобразования и, тем более, не переустройства основ бытия. Отсюда и возникает пустота, окружавшая тогда людей двадцатых.
Ситуация резко меняется на рубеже десятилетий. Гинзбург удивительно тонко чувствует радикальный исторический слом, точно совпавший в СССР с хронологическим. В 1930 году она пишет (имея в виду младоформалистов, сотрудников Института истории искусств):
Эта зима уничтожила стеклянный колпак Института, под которым нам казалось, что мы «тоже люди», потому что нас слушало сто человек студентов и 5-10 из них — с пользой. Из-под колпака нас вынесло если не на свежий, то на очень холодный воздух (Гинзбург, с. 90).
25 Прямо об этом сказал Лев Троцкий в статье «Формальная школа в поэзии и марксизм», где он признал за формализмом «вспомогательное, служебно-техническое значение».
169
ModernitE в избранных сюжетах
К образу равнодушной пустоты вокруг людей двадцатых добавляется образ колпака, который ограждал их от нее и создавал иллюзию нужности и значимости. Теперь пустота из «равнодушной» превратилась во «враждебную», в «очень холодный воздух». Впрочем, к середине 30-х давление этого «воздуха» настолько возросло, что следует говорить уже о «холодном прессе», который в конце концов уничтожил большую часть людей 20-х годов. Смена исторического климата отразилась на мировосприятии самой Гинзбург и ее окружения. Изменились масштаб, «иерархия переживаний»:
Думаю, что совершенно точное и убедительное место в иерархии переживаний имеют только физическая боль или нравственные страдания, связанные с утратой одного из основных ежеминутных содержаний жизни (утратой любимого человека, любимого дела, трудоспособности, свободы и т.п.). Все прочее — горести самолюбия, разрывов с друзьями, житейских обид и поражений — мы не ощущаем непрерывно (Гинзбург, с. 91).
В «пустоте», «под колпаком», конечно, все ощущалось острее, тоньше и, соответственно, многое доставляло страдание. Теперь психологическая реальность грубеет, «опрощается», масштаб переживаний уменьшается. Этот процесс достигнет своего апогея в блокаду; предположу ужасное: эту катастрофу Гинзбург воспринимала чуть ли не с удовлетворением (интеллектуальным, конечно), ибо в поведении блокадных людей жестко проступали все закономерности, выведенные ей в предыдущее десятилетие. Логика ее мышления получила свое страшное подтверждение.
Однако вернемся в 30-е годы. В это время, при вытеснении пустоты вокруг людей двадцатых холодным прессом тоталитарного режима, внутри самих этих людей образуется «пустота». «Как если бы из меня выкачали воздух», — записывает Лидия Гинзбург зимой 1931 года (Гинзбург, с. 98). Собственно, этот процесс можно описать как перемещение, вытеснение пустоты извне вовнутрь. От этой, теперь уже внутренней, пустоты люди
170
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
20-х годов внезапно оказываются в ситуации «дикой свободы», которой Гинзбург дает в связи с собственной судьбой и судьбой ее друзей-младоформалистов такое определение:
Дикая свобода — бесспорный симптом прекращения той непрерывности интересов, которая составляет основу сознания человека, имеющего отношение к науке (Гинзбург, с. 99).
Эта свобода порождается бесцельностью; инструмент, специальность больше не затребованы, более того — опасны. Мотивация исчезает и оставляет за собой пустоту. Цели человека двадцатых исчезли, не будучи достигнутыми, средства оказались ненужными. В этот момент, в самом начале 30-х годов, Гинзбург нащупывает новую поведенческую стратегию, являющуюся производной от «плодотворной односторонности» ее собственной конструкции, нового метода, который тогда постепенно формируется. Объектом применения этого метода становится не литература, а сам анализирующий субъект, постулируемый как воплощение социально-исторических закономерностей, как типичный — без поправок на случайности — представитель своей социокультурной группы, как «кусок вырванной с мясом социальной действительности, которую удалось приблизить к глазам» (Там же).
Оказавшись в мертвой точке своей биографии (и биографии людей 20-х годов вообще), Гинзбург перебирает возможные способы дальнейшего существования:
Можно опуститься. Опускаться соблазнительно и легко. Как заснуть после горького трудного дня. Удерживает только присущий мне с детства физиологический страх пустоты. Но если не опускаться — остается подниматься. Ликвидировать суету. Жестоко воспитывать себя для медленной молчаливой работы. Работы без сроков сдачи рукописи в печать (Гинзбург, с. 113).
Это действительно новая «поведенческая стратегия», которая в новых условиях дает возможность социаль
171
M0DERNIT6 В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
ного выживания. А для Гинзбург социальное выживание означает биологическое и наоборот26. Это выживание становится в полную зависимость от «медленной», «молчаливой» и беспощадной работы аналитической машины Гинзбург. Анализирую — значит, живу, то есть выживаю.
На чем же, на каком принципе была основана работа ее аналитической машины? «Социологический метод», марксизм, доведенный до предела, редукционистский социо-психологический анализ, не останавливающийся ни перед чем, раскладывающий всё без остатка на элементарные частицы, на атомы. Вот как формулирует это Гинзбург:
Я холодею и как-то костенею всякий раз, как мне случается подумать о том, из чего я, собственно, состою. Система души оказывается совершенно прозрачной — и с страшной простотой разлагается на несколько примитивных частей (Гинзбург, с. 384).
Таково редукционистское откровение, посетившее ее в двадцатипятилетием возрасте и ставшее основным принципом создания собственной аналитической машины. Перед нами, конечно, марксизм27 * *, примененный Гинзбург со всей изощренностью мастера психологического анализа, того самого анализа, которому она научилась у Толстого и Пруста; и примененный, конечно, со всей последовательностью и тотальностью человека 20-х годов. Эту фразу написала еще Гинзбург-младоформалист, ученица Шкловского и Эйхенбаума, однако, как она же заметила 70 лет спустя, «...эпохален формализм еще тем, что в своей склонности к аналитическому разъятию он был неузнанным двойником исторического и социологического анализа» (Гинзбург, с. 295).
26 Об этом подробнее — в следующей главе этой книги.
27 Имеется в виду, конечно, марксистский метод анализа
поведения общества и человека, а не его мессианизм. И ко-
нечно, не марксизм как политическая философия и ее практическое приложение.
172
Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
Итак, марксизм, стыдливо называемый «социологическим методом», «социальным анализом». «Историческим, социально продиктованным является и самое интимное сознание человека», — пишет Гинзбург в переломном и для страны, и, конечно, для нее самой 1930 году (Гинзбург, с. 82). На этом принципе постепенно возводится весь ее новый метод, аналитическая машина, объектом которой становится сама Лидия Гинзбург как воплощение определенного исторического типа. Оставалось выработать персональный способ письма, персональный жанр, наиболее последовательно реализующий работу этой машины28. И Гинзбург создает его (собственно, она начинает писать так уже с середины двадцатых) — это «рассуждения», эссеистическийжанр, столь распространенный в европейской литературе Нового времени. Подсознательно Гинзбург всегда интересовалась именно такой прозой, по ее собственному определению, «промежуточной литературой». Помимо Толстого и Пруста, которых она любила именно за «метод», за «анализ», а не за художественную гениальность их прозы, героями Гинзбург были авторы «приватной» литературы — дневников, мемуаров, эссе: Вяземский29, Герцен, Сен-Симон. Кризис, исчерпанность художественного вымысла она поняла лучше ЛЕФовцев, став, по сути, чуть ли не единственным истинным представителем «литературы факта», за которую те ратовали. Об этом кризисе за тридцать с лишним лет до собственной книги «О психологической прозе»30, за сорок лет до
28 Обоснование этого жанра — в многочисленных текстах Шкловского первой половины — середины 20-х годов, см., напр., «Предисловие» к заметкам «О современной русской прозе»: «Намечается несколько возможностей: ...путь “записной книжки писателя”» (Шкловский, с. 191).
29 «Так возник Вяземский, интимно, вместе с моими по образцу Вяземского задуманными записными книжками» (Гинзбург, с. 303).
30 «О психологической прозе» — самая интимная из моих литературоведческих книг. Там говорится о промежуточной
173
M0DERNIT6 В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
итоговой статьи «Литература в поисках реальности» Гинзбург написала в «Заметках о прозе»31. Проанализировав кризис психологического романа XIX века, она переходит там к вопросу о том, как следует сейчас писать:
...фиксировать протекание жизни... чувство протекания, чувство настоящего, подлинность множественных и нерасторжимых элементов бытия. В переводе на специальную терминологию получается ...роман по типу дневника или, что мне все-таки больше нравится, — дневник по типу романа (Гинзбург, с. 142).
В этой фразе есть, конечно, известное противоречие с началом фрагмента, где роман и дневник противопоставляются как имеющие разную направленность: дневник перспективен («пишущий дневник продвигается наугад, не зная еще ни своей судьбы, ни судьбы своих знакомых»), роман — ретроспективен («роман обладает ретроспективной динамикой»). Как разрешить это противоречие? Представляется, что в формировании письма Лидии Гинзбург «Заметки о прозе» и фрагмент «Что такое линия?» выполняют роль «постулирования сюжета»; теперь — после того как сюжет определен32 — все известно. Что и позволяет ей впоследствии сделать из своих записей «дневник по
литературе, о важных вопросах жизни, о главных для меня писателях» (Гинзбург, с. 303).
31 Конец 30-х годов — вообще время жанровых поисков Лидии Гинзбург. Как представляется, они стали следствием еще и тематического кризиса — в текстах, датированных этим временем, новые темы не появляются, старые — анализируются не то чтобы «подробнее», нет, пожалуй, более «литературно», с большей «формальной заинтересованностью» (см., напр., фрагмент «Переутомление» из «Психологических чертежей»: Гинзбург, с. 138). Гинзбург пыталась нащупать большую прозаическую форму.
32 Определен, несмотря на возможные случайности: «кроме закономерности в каждой жизни есть случайности, стихийные бедствия, давление обстоятельств» (Гинзбург, с. 150).
174
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
типу романа», в котором уже есть шкала оценок и чувство закономерности происходящего. В сущности, это прустовский сюжет: «Пруст написал книгу в девяти томах и, дописав ее, сразу умер. Он считал: не имеет, собственно, смысла писать разные романы, когда тема одна — отношение писателя к миру» (Гинзбург, с. 141). В этом направлении и эволюционировало письмо Гинзбург. Если в 20-е и отчасти в 30-е годы ее записная книжка носит, скорее, «вяземский» характер, то теперь — «прустианский»; анализ33 * * решительно преобладает над фиксацией (которая у нее, конечно, тоже есть способ анализа — с помощью отбора).
ТВОРЧЕСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ
Формирование нового типа письма Лидии Гинзбург, безусловно, отражает изменения, произошедшие в 30-е годы с людьми двадцатых. Метод, «система плодотворных односторонностей», перестает в новых исторических условиях быть профессией, теряет социальную востребованность и становится у Гинзбург единственным содержанием творчества, более того — содержанием жизни. Между тем быть социально востребованным — не только стремление, но единственный настоящий творческий стимул человека двадцатых, один из столпов его мировоззрения. В отличие от людей 10-х годов он изначально не готов действовать на свой страх и риск, да еще и в равнодушно-враждебном окружении. Человек 20-х годов, порожденный революцией, «верящий в распахнутые революцией перспективы», не мог помыслить себя лишним в обществе, созданном той же революцией. Это не значило, что люди этого исторического типа хотели быть облагодетельствованными постре
33 В котором прустовский психологизм и толстовская ре-
дукция сплавлены с социальным марксистским анализом. Впрочем, прустовский психологизм, в отличие от толстов-
ского, тоже в высшей степени социален.
175
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
волюционным обществом, ждали материального или карьерного вознаграждения; нет, они хотели одного — чтобы их признали «своими»34 и дали им возможность реализоваться:
Каковы опознавательные признаки этого типа? Творческая способность и потребность ее реализации. И ради этой потребности готовность обойтись без материальных благ и места в иерархии. Способность хочет себя заявить — отсюда сочетание избытка мысли с участками тождества (Гинзбург, с. 293-294).
Изначально «реализация» не мыслилась ими вне «профессии». Для Гинзбург — которая была одним из первых русских писателей, сделавших важнейшей темой профессиональную деятельность человека, — «социальное» во многом определялось «профессиональным». Это характерно для людей двадцатых, которые в начале 30-х годов оказались в роли «спецов»35; затем в конце десятилетия, с появлением «новых кадров», надобность в них отпала36, и люди двадцатых — те, конечно, которые уцелели, — обнаружили себя маргиналами. Вот и драма выпадения Лидии Гинзбург из «социального» начинается после того, как она — в результате кампании против формалистов и закрытия ГИИИ — фактически потеряла возможность профессиональной научной деятельности. Именно в этих обстоятельствах рождается пафос — столь редких
34 Здесь также проявляются глубоко народнические корни их сознания.
35 В 1932 году Гинзбург записывает: «Мироощущение спеца, а не строителя. Отношения складываются из сочувствия, из созерцания и из профессиональной честности (тот именно вид честности, который я могу теоретически обосновать)» (Гинзбург, с. 107).
36 «В сущности, на любые места уже можно сажать любых людей, и они, невзирая на свои небольшие индивидуальные различия, будут делать то же самое», — так Гинзбург комментирует итоги сталинского грандиозного социального переворота.
176
«ЧЕЛОВЕК ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ». СЛУЧАЙ ЛИДИИ ГИНЗБУРГ
для русской литературы! — рассуждений Гинзбург о степенях творчества, профессии и халтуры. Эти рассуждения37 * появляются уже в ее записях исторического перелома 1920-1930-х годов; одна из них венчается весьма двусмысленной фразой: «Предпринятая сейчас идеологизация труда содержит первостепенной важности условия для человеческого счастья» (Гинзбург, с. 85). Это пишет человек 20-х годов, уставший от пустоты вокруг него, надеющийся на некий политический сдвиг, который восстановит справедливость и наполнит его труд, его профессию, его «специальность» общественной, «идеологической» значимостью. Тем самым будет преодолена пропасть между человеком 20-х годов, который, веря в открытые революцией возможности, обладает инструментом преобразования мира, и порожденным революцией обществом, в идеале — адресатом этого преобразования. В тридцатые наружная пустота действительно ушла, но пришедший ей на смену пресс тоталитарного государства уничтожил не только эти надежды, но и, по большей части, тех, кто их лелеял.
Будучи в конце 30-х годов практически выключенной из привычных социальных и профессиональных связей, Гинзбург формулирует строгую классификацию уровней деятельности, в которую вовлечены люди ее исторического типа:
Если различать две основные формы культурной деятельности — творчество и профессию, то можно различать и две их основные разновидности — высшую и низшую. Тогда получается градация: 1. Творчество — на душевном пределе и для себя. 2. Творческая работа — всерьез и для печати. 3. Профессиональная работа — добросовестное выполнение редакционных заданий. 4. Халтура — многоликая и самозарождающаяся. Каждый, действующий в культурной области, соотносится с какими-либо из этих
37 Опять же, не без влияния Шкловского. Очевидно, что
толчком рассуждений Лидии Гинзбург о халтуре стали «Заготовки II» из «Гамбургского счета» (Шкловский, с. 351).
177
MODERNITt В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
категорий приложением сил, а некоторые из нас имеют отношение ко всем четырем, что ведет к большой путанице и повсюду обеспечивает неудачу (Гинзбург, с. 130).
Гинзбург обречена теперь на неудачу на всех уровнях, от социального и творческого до экзистенциального; «неудачник» — вот главное определение уцелевшего в годы террора и войны человека двадцатых. Так и называется очень важное — подводящее, как тогда казалось, промежуточные итоги — эссе, написанное ею в 1944 году.
Следует пояснить, что ленинградская блокада означала для Лидии Гинзбург частичное, в сильно искаженном виде, возвращение ситуации начала тридцатых: в чрезвычайных обстоятельствах она была востребована как «спец»38, что на время реставрировало ее социальный статус (и, видимо, спасло от голодной смерти). Это мнимое возвращение заставляет Гинзбург вновь обратиться в «Неудачнике» к многим темам, которые занимали ее в тридцатые. Темы эти, полностью от-рефлексированные после «отжатия» опыта 30-х годов, закрываются, превращаясь уже в жизненные конструкции. Главная из них — проблема реализации и профессии. Гинзбург подводит итог: «.„он39 * уже вышел из периода, который можно было считать периодом трудной и неустроенной молодости, и прочно оказался в числе людей, состоящих при малых делах» (Гинзбург, с. 151). Отметим это «состоящих при малых делах». Тут чувствуется и горечь от нереализованного проекта переустройства мира, и трезвое осознание того, что человек двадцатых, имевший инструмент этого переустройства, вновь оказался «спецом», «при малых делах». Через несколько лет после написания
38 Гинзбург работала на радио. Эта служба подробно описана и проанализирована в «Записках блокадного человека».
39 Здесь, как и в некоторых других текстах, Лидия Гинзбург
пишет о себе в третьем лице мужского рода единственного числа.
178
«ЧЕЛОВЕК ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ». СЛУЧАЙ ЛИДИИ ГИНЗБУРГ этого эссе ситуация вновь изменится, и людей 20-х годов окончательно додавят, лишив в ходе травли конца сороковых и этих малых дел. Человек двадцатых еще не знает об этом. В конце войны у него даже вновь возникают иллюзии о некоей «общей жизни», которая могла бы его взять «таким, какой он есть, не обкорнанного, не урезанного» (Гинзбург, с. 155). Может быть, то была вообще последняя иллюзия человека этого исторического склада?40 Гинзбург решительно отвергает ее: «Она (общая жизнь. — К. К.) позволяет за себя умереть, но в остальном остается непроницаемой» (Там же). Эта последняя правда позволяет ей не прельститься еще более сильными иллюзиями «оттепели», этого пародийного повторения 20-х годов. Лидия Гинзбург прагматически использовала эпоху послаблений для того, чтобы издать книгу о Герцене и принципиально важную для себя работу «О лирике», однако решительно отказалась участвовать в попытках возрождения «духа двадцатых», в какой бы сфере они ни предпринимались — литературной или научной41.
Исчерпание темы реализации, осознание неудачи, конечно, вовсе не означают, что эти вещи автоматически уходят из сознания. Наоборот, они мучительно напоминают о себе при каждом удобном случае. В датированном серединой пятидесятых фрагменте пейзажный вид, «торжество заката» вызывает рассуждения о нереализованности, о «гнете несуществования»:
Призванные — в силу своей преобладающей способности — к созиданию форм и не реализовавшие эту способность, в хаосе несозданного, недодуманного, неосознанного, испытывают всегдашнее тупое беспокойство — гнет
40 По крайней мере некоторые, например Пастернак, восприняли начало войны с облегчением и даже с надеждами.
41 Ее эссе «В начале шестидесятых» можно прочесть как обоснование этого отказа.
179
MODERNITt В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
несуществования42. Оно присутствует при том, что кто-то параллельный и подменный бессмысленно проживает их жизнь (Гинзбург, с. 197).
Неудача выражается в «тупом беспокойстве», в раздвоении, однако Гинзбург понимает, что она-то, выводя эти строчки, анализируя «гнет несуществования», вносит в свое «несуществование» смысл, делая его «существованием». Анализирую — значит, существую.
ПОСЛЕДНИЕ ЛЮДИ XIX ВЕКА
В 1973 году Лидия Гинзбург записывает: «Моя тема: как человек определенного исторического склада подсчитывает свое достояние перед лицом небытия». Что это за «склад» и как он «складывался», уже говорилось выше; попробуем проанализировать одну из важнейших характеристик такого человека — его представления о «должном», генеалогию этих представлений, их реализацию в работе аналитической машины Гинзбург.
В середине двадцатых молодая Гинзбург сочувственно приводит чужую фразу: «Прежде всего, нужно быть как все» (Гинзбург, с. 24). Ее можно интерпретировать по-разному: и как проявление свойственного Гинзбург антиромантизма, и даже как проявление гордыни (в чем обвинил ее Сергей Довлатов, считая, что желание «быть как все» исходит из представления говорящего, что он не принадлежит ко «всем», что он их изначально выше). Еще одна интерпретация возникает, если эту фразу ввести в исторический контекст, — перед нами манифестация типичного для русского интеллигента народнического стремления преодолеть разрыв «со всеми» (под которыми подсознательно под
42 Несколько лет спустя она добавит к этому определению еще одну характеристику — «скучная лень»: «Торжество лени; не сладкой лени бездельников, но печальной и скучной лени рожденных тружениками и созидателями» (Гинзбург, с. 221).
180
«ЧЕЛОВЕК ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ». СЛУЧАЙ ЛИДИИ ГИНЗБУРГ
разумеваются «простые люди», «народ»43). Стремление это выглядит не совсем своевременным в середине советских двадцатых, через десять лет после революции, но этот анахронизм позволяет понять многое в истоках мировоззрения как самой Лидии Гинзбург, так и людей ее исторического склада, людей двадцатых.
В конце пятидесятых Гинзбург неожиданно заявляет:
Настоящее слово в искусстве — если оно еще возможно — вероятно, могли бы сказать именно мы. И не потому, что мы видели самое страшное, — там тоже многое видели. Но потому, что только мы на собственной коже испытали год за годом уход XIX века. Конец его великих иллюзий, его блистательных предрассудков, его высокомерия... всех пиршеств его индивидуализма (Гинзбург, с. 214).
Подводя итоги исторических судеб людей 20-х годов, она сочла необходимым упомянуть об уходе XIX века как о важнейшем событии, о котором теперь могли бы рассказать только они. Значит, какой-то очень важной частью люди двадцатых принадлежали к этому веку; более того, он во многом породил их, а уж действовать им пришлось совсем в других условиях. И главное, что унаследовала Гинзбург от XIX века, — представление о должном, понятие нормы. В эссе «О старости и инфантильности», одном из нескольких, посвященных проблеме реализации и творчества человека двадцатых, она рассуждает о вреде писания «в стол», о необходимости публиковаться хотя бы для того, чтобы иметь «железную проверку на нужность» и «критерии оценки» (Гинзбург, с. 188-189). Такие рассуждения вызывают недоумение у читателя, который обратит внимание на год написания эссе (1954) и вспомнит издательскую политику советской власти (да и судьбу самой Гинзбург, ведь
41 Об этой черте — см. в эссе «Поколение на повороте» (Гинзбург, с. 276-283).
181
MODERNITt В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
и этот текст был написан «в стол» и напечатан лишь 36 лет спустя). Между тем автор не лукавит, она действительно отстаивает «нормальный» подход к литературной деятельности, только вот эта «норма» явно взята из дореволюционных времен. Это — «буржуазная» норма, норма XIX века44. Драма Лидии Гинзбург, человека 20-х годов, — драма «человека нормы» в «а-нормальном» (с точки зрения XIX века) мире.
Отсюда в рассуждениях Гинзбург возникают совершенно неожиданные повороты, вроде отрицания писания в стол («акт холодный, ленивый и неприятный»: Гинзбург, с. 188). Еще более неожиданный пример: восстановление социальной и культурной иерархии в позднесталинской империи оценивается ею положительно45. Этот странный, на первый взгляд, ход мысли объяснить довольно просто. Гинзбург в 20-е и 30-е годы страдала от невозможности социализироваться, социально реализоваться, причем не только для себя; она жаждала логичной, закономерной возможности социальной реализации вообще, такой реализации, которую можно было бы оценивать, исходя из внешних, внеположных, объективных оснований, исходя
44 Такая черта вообще характерна для людей 20-х годов. Виктор Шкловский в «Третьей фабрике» рассуждает о «свободе искусства» вполне в духе представлений XIX века об этом предмете. Здесь и оппозиция «свобода — несвобода», и согласие лишь на традиционные для этих представлений виды «несвободы» — «от издателя» и «от женщины» (Шкловский, с. 312). Живя в XX веке, «сделав тот век чуть ли не своими руками (то есть «сделав революцию»), Шкловский пытается устроиться в «новом мире» согласно понятиям «старого мира».
45 «После странного висения и раскачивания в безвоздушном пространстве стали совершаться процессы, очень важные и отчасти плодотворные, несмотря на присущие им шокирующие черты. Один из них — образование привилегированных, процесс государственно важный и оздоровленный лежащим в его основе творчески-трудовым принципом» (Гинзбург, с. 173).
182
«Человек двадцатых годов», случай Лидии Гинзбург из очевидного для всех порядка вещей46. Естественно, в эти десятилетия такая реализация была невозможна, она вообще была невозможна в Советском Союзе, ибо представления об «объективных» критериях оценки (на самом деле позаимствованных из представлений XIX века) там были заменены совершенно другими — классовыми, политическими и проч. Окончание войны создало иллюзию «возвращения к нормальной жизни». Для Гинзбург, человека 20-х годов, человека, созданного революцией, эта «нормальная жизнь» удивительно похожа на дореволюционную. Видимо, говоря начиная с середины 20-х годов о необходимости «социальной реализации», она подсознательно имела в виду тип реализации, характерный для буржуазнодемократического общества — публикацию, общественное признание, успех или его отсутствие (в этом смысле неудивительна любовь Гинзбург к Прусту — тончайшему социальному аналитику, поэту сложноустроенного социально-кастового и классового общества). Конечно, «социальное положение» в СССР середины 40-х годов реализовывалось довольно примитивно; Гинзбург пишет о «грубой осязаемости распределяемых благ», незначительных «по сравнению с материальными благами буржуазного мира» (Гинзбург, с. 173), однако дело в принципе, а не в его проявлении. Более того, сама идея, что социальный статус выражается, в первую очередь, в количестве (и во вторую — в качестве) потребляемых продуктов питания, должна была быть очень близка Гинзбург, ибо она наглядно демонстрировала процесс превращения социального в биологическое и наоборот.
Анализируя а-нормальное советское общество, Гинзбург параллельно рассуждает о возможности со-
46 См., напр., совершенно «буржуазное» рассуждение: «Ни служба, ни семья сами по себе не делают человека взрослым. Взрослеет он от возрастающей ответственности, возрастающей независимости, возрастающего благосостояния» (Гинзбург, с. 194).
183
Modernity в избранных сюжетах
циальной реализации в совсем другом, «нормальном» обществе. Так проявляется типичная для человека 20-х годов пропасть между его революционным «инструментом» преобразования старого мира и базовыми мировоззренческими (в первую очередь, этическими) установками, полученными в наследство от этого самого старого мира, от XIX века, похороненного Первой мировой и Революцией.
«ЗАЩИТНАЯ МЕЧТА ОБ АБСОЛЮТЕ».
«ЧЕЛОВЕК ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ И СМЕРТЬ»
В эссе «Мысль, описавшая круг» Лидия Гинзбург анализирует поведение «человека редукции», «человека снижения», в сущности — человека двадцатых на свидании со смертью. Здесь механика редукции переносится с теоретических общественных и гуманитарных проблем на психологию, на анализ двух важнейших человеческих тем: любви и смерти; причем вторая тема оказывается в рабской зависимости от первой47. Вспомним цитату, с которой мы начали это рассуждение:
Это люди с наивным отношением к миру. Они уличают действительность. Уличают любовь прыщиком на носу любимой женщины, уличают смерть запахом тления... Они думают, что, для того чтобы получить настоящие губы, нужно стереть с них губную помаду и что настоящая голова — та, с которой снят скальп. Так по жизни
47 «Но без теории смерти — я все-таки рассчитываю на теорию, пригодную для жизни, — как ты установишь смысл труда, мысли, любви, государственной жизни» (Гинзбург, с. 547). «Смысл любви» установить невозможно без подходящей «теории смерти»; любовь не имеет самостоятельной ценности, она лишь является самым простым и верным способом «объективации», которая, в свою очередь, есть шаг в «историческое сознание» (Гинзбург, с. 569). И конечно же, все разговоры об «объективации» невозможны без «теории смерти», предполагающей наличие «объективных ценностей» по ту сторону роковой черты существования.
184
«ЧЕЛОВЕК ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ». СЛУЧАЙ ЛИДИИ ГИНЗБУРГ бродят люди, уверенные в том, что, сдирая с вещей кожу и кожицу, они получают сущность. Не знаю, как назвать это мышление. Во всяком случае, это тип мышления, противоположный символическому (Гинзбург, с. 545).
В «Мысли, описавшей круг» Лидия Гинзбург пытается редуцировать феномен смерти, разоблачить от социальных одежек, чтобы получить его сущность, — если, конечно, смерть вообще существует вне социального и исторического контекста. Главный вопрос при чтении этого текста — последователен ли до конца редукционизм автора? Описывая похоронные процедуры, последовавшие за смертью близкого ей человека, она одновременно анализирует придуманные цивилизацией механизмы снятия вещественных, телесных признаков смерти, пока не останавливается «перед не-снимаемым, перед мыслью о несуществовании» (Гинзбург, с. 546). Атеистическое сознание человека 20-х годов упирается в собственный предел, за которым ему, тем не менее, маячит нечто, куда невозможно заглянуть, не отказавшись от основ своего существования. Мысль Лидии Гинзбург описывает круг за кругом, наталкиваясь на эту границу. И это, конечно, проблематика XIX века, проблематика «индивидуалистического сознания XIX века», «неистребимого алогизма атеистического ума» (Гинзбург, с. 560).
Перебирая «механизмы отвлечения» от события смерти, Гинзбург движется от времен включенности этого события в цельную систему внеположных индивидууму ценностей (религии, философии, коллективистских социальных представлений) до времени господства индивидуализма конца XIX века, который, утеряв все эти «внеположные отвлечения», оказался лицом к лицу с физическим, телесным фактом смерти48. На анализе индивидуалистического сознания
48 Двигаясь, конечно, за Львом Толстым. Интересно, что, спустя примерно 40 лет после «Мысли, описавшей круг», «Смерть Ивана Ильича» стала одним из отправных пунктов важнейшего исследования истории западного отношения
185
ModernitJ в избранных сюжетах
Гинзбург, собственно, и останавливается, несмотря на то что она была свидетельницей краха эпохи, породившей этот тип индивидуализма, и замены ее совсем иным временем, когда носитель такого типа сознания оказался — вместе с людьми уже совсем нового времени — вовлеченным в конвейер смерти, созданный совсем по другим законам, конвейер коллективной, деиндивидуализированной, анонимной смерти. Создается впечатление, что, сочиняя «Мысль, описавшую круг», Лидия Гинзбург пыталась приготовить себя к персональному участию в событии коллективной смерти, перспектива которого в момент написания эссе, в конце 30-х годов, стала актуальнейшим, непосредственнейшим фактором жизни. В этом смысле символично движение сюжета «Мысли, описавшей круг»: от индивидуальных, поразивших воображение автора смертей Кузмина и Рыковой к всеприсутствию смерти вообще.
И несмотря на это важнейшее обстоятельство, работа аналитической машины Лидии Гинзбург останавливается, за редким исключением, на «кризисе индивидуалистического отношения к смерти». Автор остается «человеком XIX века». Единственный шаг, который делает Гинзбург в сторону темы «смерти XX века», — рассуждение о «социальной воспитуе-мости мысли о смерти»: «...мысль о смерти социально воспитуема. В особенности она воспитуема той системой оценок, которую социум внушает каждому, даже самому субъективному человеку» (Гинзбург, с. 563). Речь здесь идет не о религиозном воспитании прошедших эпох, речь — о коммунистическом, тоталитарном, массовом проекте, в рамках которого перековывали «самых субъективных людей» (тех, конечно, которые
к смерти — книги Филиппа Арьеса «Человек перед лицом смерти». Арьес, который не мог знать эссеистики Лидии Гинзбург, повторяет ход ее рассуждений на богатом историческим материале, в основном Средневековья и Нового времени.
186
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
вообще уцелели). Пример сознания такого рода перекованного «субъективного человека» — собеседник автора, выведенный под инициалами И.Т. Лидия Гинзбург так характеризует его сознание:
...мы имеем здесь дело с состоянием сознания, принадлежащим XX веку. Человек не понимает, не приемлет, однако не возражает... Это установка бессвязной импрессионистической души...' ей дано непосредственно лишь хаотическое, неизвестно кому принадлежащее чувство жизни... при всей субъективности это сознание, в сущности, неиндивидуалистично, — оно не смеет уже удивляться собственной конечности (Гинзбург, с. 574).
Именно в беседах с И.Т. Лидия Гинзбург окончательно формулирует свой тип сознания как принадлежащий предыдущей исторической эпохе — «человек, нерелигиозный во всяческих значениях этого слова, но с повышенным переживанием ценности» (Гинзбург, с. 572). Тем символичнее получается их разговор.
ИТОГ. «ЧЕЛОВЕК ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ»
В «Добавлении» к эссе «В начале шестидесятых» Лидия Гинзбург неожиданно темпераментно восклицает, будто уговаривает, даже — заговаривает себя: «Верую в историю, потому что знаю, как она переделывает души ...история дотла изменяла человека» (Гинзбург, с. 225). Тогда она еще ощущала полную принадлежность к людям «определенного исторического склада»; занимаясь беспощадным самоанализом, Гинзбург анализировала типические черты и исторические судьбы людей 20-х годов. Работа аналитической машины заменила ей невозможную в тех условиях социальную реализацию; в десятилетия террора и войны она выжила и параллельно тщательно описала механизм выживания. В начале 70-х годов Гинзбург вновь подводит итоги — свои и своих сопластников:
Мое поколение в молодости видело людей, служивших целям, которые были им дороже жизни, своей и чужой.
187
MODERNITfc В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
Оно прошло потом через пустыню страха (там, впрочем, образовалась своя повседневность с хождением в кино, поездками на дачу и научными интересами) и слепого желания выжить, которое обеспечивает спасительную непрерывность разрешаемых задач. Потом мы посильно участвовали в ренессансе, а в 70-х годах дожили до общества потерянных целей (Гинзбург, с. 266).
Здесь история людей двадцатых закончилась, да и в живых их к этому времени осталось немного. Выполнив свою историческую функцию, Лидия Гинзбург вновь оборачивается на прожитую жизнь и описывает ее (как часто это делала — в третьем лице) совершенно в других, «внеисторических» понятиях: «Свою жизнь он увидел простую, как остов, похожую на плохо написанную биографию. И вот он плачет над этой непоправимой ясностью» (Гинзбург, с. 261). Эта ясность уже не историческая, она — экзистенциальная. Гинзбург «снимает» свое прошлое, «история» для нее теперь кончилась, она уже не человек 20-х годов, а просто человек, точнее — «человек за письменным столом»49. Тут начинается новый разговор, но на старые темы; разговор, на первый взгляд, похожий на старый, однако — лишь на первый взгляд. «Человек за письменным столом» говорит здесь с позиции своего свершившегося и отрефлексированного исторического и экзистенциального опыта, позиция эта, великолепная в своем совершенстве, находится в пустоте50; теперь, после подведения итогов и перехода на иной уровень, на эту позицию, кажется, не влияет уже ничего, точнее — не влияет История. Аналитическая машина Гинзбург доведена до совершенства тем, что теперь работает сама по себе. Лидия Гинзбург начинает привыкать к новой роли — не свидетеля, участника
49 Так называлась книга прозы Лидии Гинзбург, изданная в 1989-м — предпоследнем году советской власти.
50 Но это уже совсем иная пустота, нежели та, о которой писала Гинзбург в начале тридцатых.
188
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург и судьи Великого и Ужасного Прошлого (эту роль в шестидесятые взяли на себя Анна Ахматова, Надежда Мандельштам и другие), а к роли существующего нигде голоса, разъясняющего механизм функционирования смыслов мира, прежде всего — советского мира. В 1980 году она с большим опозданием фиксирует: «Кажется, наступил мой последний период — неисторический» (Гинзбург, с. 296).
Однако, когда спустя пять лет советский мир стал рушиться, этот голос вновь обрел исторический контекст и перестал быть голосом «ниоткуда». Наступил последний «исторический» период Лидии Гинзбург. Ее записи эпохи «перестройки» не столь убедительны, как обычно, не столь логически чисты, их можно назвать даже неуверенными, эмоциональными. Аналитическая машина дает сбои — не только из-за возраста Гинзбург, но и из-за того, что позиция анализирующего, уже 20 лет находящегося вне объекта рефлексии, ставится под угрозу вновь — и совершенно неожиданно! — начавшейся Историей. Гинзбург сопереживает перипетиям перестроечных событий. История в последний раз нагнала ее — уже на исходе долгой жизни.
ПЕРВАЯ ПРИПИСКА. АПОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ «Поколение на повороте» — важнейший итоговый текст Лидии Гинзбург, своего рода апология людей 20-х годов, был написан в 1979 году. Начинается он с постановки вопроса об интеллигентском сознании и его отношении к пугачевщине, бунту, насилию «во имя блага»; о двойной интеллигентской оценке жестокости власти и жестокости революции. Иными словами, вновь ставится вопрос, поставленный авторами «Вех». Только вот ответ дается иной. Гинзбург оправдывает интеллигенцию, оправдывает людей 20-х годов — тем, что ими двигала эмоция, «чувство
189
MODERNITfc В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
распахнувшейся, взявшей вдруг разбег жизни», эмоция, которую невозможно объяснить не испытавшим ее, да и вообще, говорит она, «невозможно объяснить эмоцию» (Гинзбург, с. 277). Затем Гинзбург анализирует коллективное сознание «новой интеллигентской формации», появившейся в начале XX века. Интересно, что под это определение попали представители как минимум двух поколений (Ахматова, Маяковский, Мандельштам, Пастернак — люди 10-х годов и она — человек 20-х); вспоминается даже Блок, так что получается — трех поколений. Однако позже Гинзбург суживает тему и начинает говорить уже о своих «сопластниках». Она отмечает, что ее поколение, не заметившее нравственных издержек истории, само впоследствии стало издержками истории. Но Гинзбург оправдывает и это, утверждая, что когда ее поколение сочувствовало революции (со всеми издержками), оно все равно было нравственнее, чем потом, когда стало «понимать». «Понимание оказалось смесью равнодушия и страха» (Гинзбург, с. 279). Почему? Потому что «мы были нравственнее живым опытом иерархии высшего и низшего, пожертвования высшему низшим, что и составляет сущность этического акта» (Гинзбург, с. 280). То есть субъективно в отношении революции люди 20-х годов были нравственнее себя же в более поздние времена, — так считает она.
Следующий шаг ее рассуждения — переход от рефлексии по поводу сопластников к саморефлексии: «беру себя как явление типическое» (Там же). Лидия Гинзбург вспоминает свое поведение и чувства во время революции. После недолгой эйфории и последующего появления на улицах революционных матросов началось «расслоение поколения» — одни пошли в создающийся комсомол, другие в эмиграцию, а с третьими, к которым принадлежала Гинзбург, как раз оказалось сложнее всего. Третьи направились в сферы
190
Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
искусства и науки, переплавив революционный радикализм в эстетический и научный51 52, — «он-то и стал основным персонажем эпопеи шатаний, приближений и удалений, интеллигентской эпопеи 20-х, отчасти 30-х годов» (Гинзбург, с. 281). Гинзбург отмечает, что главным для людей третьей группы было найти «точку совместимости» с происходящим. Она выделяет три такие точки:
1) интеллигентская склонность к революции;
2) желание жить и действовать, помноженное на естественное желание оправдать происходящее (иначе как честному человеку жить и действовать?);
3) чувство конца старого мира.
В этом рассуждении Гинзбург опять смешивает людей десятых и людей двадцатых, уходя от точного определения последних. При этом — что важно — она ничего не говорит о содержании деятельности этой «третьей группы», ушедшей в сферы искусства и науки, то есть о том, что было у них действительно революционным. А ведь именно здесь корень двойственности людей 20-х годов — их неуверенного, смятенного, растерянного социального поведения (вполне естественного в тех условиях для людей тончайшего миросозерцания) и их тотальной революционности в сферах, где они пытались реализоваться. Вот что говорит Гинзбург об этом противоречии:
Люди 20-х годов в стихах и прозе, в дневниках, в письмах наговорили много несогласуемого. Но не ищите здесь непременно ложь, а разгадывайте великую чересполосицу — инстинкта самосохранения и интеллигентских привычек, научно-исторического мышления и страха (Гинзбург, с. 283)и.
51 «Тип, развившийся потом в попутчика», — отмечает она (Гинзбург, с. 281).
52 Об этом же — из другой исторический перспективы — говорит и Александр Пятигорский в статье о философии доктора Живаго (Пятигорский, с. 213-230).
191
ModernitE в избранных сюжетах
Люди 30-х годов53 отличались от людей 20-х тем, что эту «точку совместимости» им искать уже не было нужно; она была задана как единственно возможное условие существования, физического существования. Все остальные ценности ставились в зависимость от этого пункта; эта новая энергетическая система оставила без энергии прочие побудительные мотивы деятельности. Чтобы делать что-то помимо предписанного и предусмотренного, человеку тридцатых приходилось в одиночку (в отличие от людей двадцатых, получивших от предыдущего поколения коллективный пафос модернизма) с нуля конструировать (точнее — реконструировать) ценности, даже совсем простые. В этом смысле (и во многих других смыслах) люди тридцатых есть первые настоящие «люди XX века».
Но вернемся к людям 20-х годов. Лидия Гинзбург подводит итог под их историей: люди двадцатых имели «созидающий ум и историческую глупость» (Гинзбург, с. 284). На первый взгляд, она устраняется от оценок, довольствуясь выявлением и демонстрацией закономерностей исторического поведения людей своего исторического склада, да и «революционной интеллигенции» вообще. Однако не исключено, что в ее глазах историческая закономерность явления служит его оправданием. Человек 20-х годов прав, так как был порожден своей эпохой и действовал в соответствии с ней. Такова была его миссия. Над всей этой конструкцией мерещится кто-то, раздающий такие миссии.
53 Здесь речь идет о людях советских 30-х годов.
192
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
ВТОРАЯ ПРИПИСКА. ДНЕВНИК ДЕТАЛИ
С.А.Л.
«Всякий имеет право на труд», — сказано в Конституции. Это так же верно, как то, что всякий имеет право дышать. Но каждый ли имеет право на заработок? Есть люди, имеющие право на дары, независимо от труда (таковы, напр. [имер], те, кто получают безвозвратные ссуды Литфонда). И наряду с ними есть люди, с трудом находящие заработок (а порою и не находящие его). За последние месяцы мой заработок неуклонно падает. Предложения, которые я делаю издательствам, — казалось бы, явно интересные, нужные, встречающие сочувствие редакторов, — фатально срываются, не попадают в план. На что мои знания, мое желание и умение работать, если не к чему приложить свои силы?
Дневник X., декабрь 1937 г.
«В основном жизнь пройдена, остались только детали», — сказал умирающий Кузмин и отослал из больницы Юркуна. Этот великий человек подразумевал собственную жизнь, приведенную, нет, стянутую фактом грядущей смерти в некий пучок, имеющий значение не только персональное, но и историческое. Кончилась эпоха Кузмина; не «серебряный век», или там «кларизм», кончилось время, когда Кузмин с его алмазным эстетизмом мог быть не только возможен, но и важен. За пестрым сором интересов Кузмина, за его мелким горохом увлечений, за страстью к вещичкам, маленьким актрискам (эстетической, конечно, страстью, не иной), жилеткам и опереткам скрывался тонкий и сильный костяк, схема жизни, тип сознания. Точно так же, как «время» (назовем его так для простоты) создало Кузмина, Кузмин — будучи человеком вежливым — создал свое время. Из этого времени вырос почти весь Ленинград двадцатых и отчасти тридцатых, круг людей, достойных напряженного о них думанья. Вагинов, обернуты, Егунов, Гор. Исключение составляет разве что Лидия Гинзбург; впрочем, и здесь без Кузмина не обошлось — эссе «Мысль, описавшая круг» начинается с фразы «Умер Кузмин». Следующая смерть (Натальи Рыковой) в этом тексте Гинзбург из
193
ModernitE в избранных сюжетах
события внешнего превращается во внутреннее (учитывая близкие отношения Н.В. и Л.Я.) — оставаясь в то же время внешним в качестве объекта. Безупречное мужество Кузмина-эстета превращается в безупречное мужество Гинзбург-аналитика.
Кузмин умирает, детали остаются. Это люди-детали, вроде Юркуна или Гильдебрандт-Арбениной, много кто еще. После того как механизм великого кузмин-ского эстетизма остановился, люди-детали оказались никому не нужны, большинство погибло, немногие выжили, став деталями в почти мистическом механизме передачи памяти о странных и прекрасных годах нашему времени («нашим» я называю постсталинское время, оно еще не кончилось, увы). В прощальной фразе Кузмина выделяют внешний смысл, тот, что сразу бросается в глаза, мол, жизнь кончена, осталось дотяну ть/доду мать самую мелочь, несколько часов/дней, несколько мыслей/воспоминаний, в общем, детали. Но если взять в рассуждение обстоятельства ее произнесения (больница, Юркун у одра) и отсылающий жест, то фраза эта прочитывается по-иному: «Я, главный, умираю, детали остаются жить, иди, Юрочка, и живи». Жить Юркуну оставалось чуть больше двух лет, остальным деталям — по-разному.
Несокрушимый каркас Кузмина-эстета — это не просто «что-то такое декадентское». Главный принцип его устройства — отсутствие столь важной части, как «психология», — или того, что в эпоху, когда Чехов казался современным писателем, считали таковой. У Кузмина, как и у всех людей, была «психика», но «психология» — система, часть механизма мышления и поведения — отсутствовала начисто. Не равнодушие, не эмоциональная тупость, не покушение на пошлую роль белокурой бестии, а просто отсутствие, и точка. То есть ее не было оттого, что она вообще там не была предусмотрена; в этом пункте сама личность М.А. совпадала со своим веком, с эпохой модернизма. Не было никакой психологии у Джойса, Пруста,
194
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
Кафки (да-да, Кафки!), Беккета, Генри Миллера персонально. В сочинениях некоторые из них создавали мощные психологические системы (в «Дублинцах», к примеру, или в «Утраченном времени»), но смотрели они на психологию со стороны, анализировали вчуже, использовали в качестве художественного объекта, который можно превратить во что-то иное (как у Пруста). Оттого они, включая Кузмина, и называются «титанами модернизма»: не просто большие (тогда бы звались «исполинами»), а титановые, непробиваемые, не поддающиеся ржавчине.
Детали же изготовлялись из обычного металла; впрочем, кое-какие — из дерева, картона и иного недолговечного материала. Но нас интересуют здесь металлические, чугунные, свинцовые, медные. Их отличали по восхитительной форме; каждый из титанов окружал себя взводом таких фигурок, которые рядом с ним казались той же природы и того же происхождения. Детали большой картины модернизма. Но рано или поздно они давали сбой, теряли форму, приобретали другую, некоторые вообще ломались и рассыпались в прах. Собственно, вагиновские чудаки — лучший пример таких деталей, все эти коллекционеры, писателишки, гурманы и просто культурные девушки. То, что Свистонов проделывал с этими житейскими персонажами в своей книге, советская история проделала с ними в жизни. Трансформация Тептелкина в книге, как и восхитительное преобразование возвышенного литературоведа Пумпянского в марксиста в так называемой «реальной жизни», — что может быть нагляднее. Это не перековка, это переплавка и новая формовка. Из одних деталей в другие.
И вот уцелевшие превращаются из деталей «широкой картины модернизма» в детали другого типа, в работающие детали государственно-идеологического механизма. Времена «попутчиков» прошли; все-таки само слово «попутчик» предполагает некое (хотя бы относительное) равенство того, кто идет, с тем, с кем
195
ModernitE в избранных сюжетах
ему временно по пути. Чувствуется некая даже уважительная дистанция. Или вот «буржуазный спец». За ним признается отдельность, пусть несколько враждебная, но все же. Мы сами по себе, он сам по себе, мы — субъект, и он — субъект, отчего обе стороны могут вступить во взаимовыгодные отношения. Но уже с тридцатых — ничего подобного; есть один только огромный механизм, оттого либо на помойку, либо welcome to the machine (но и последнее не отменяет помойки — телеология смерти играет здесь не меньшую роль, нежели идеологический футуризм). И вот наши детали (повторю — уцелевшие; повторю — металлические, а не деревянные или картонные) отливаются в иные формы, тачаются на станках тоталитарной индустриализации так называемой «культуры»; и вот, смотрите-ка, бодро крутятся, вертятся, маховик ходит, поршенек бегает. Для них и рабрта находится: авангард двадцатых сменяется ампирным классицизмом тридцатых (на иной, конечно, основе, но все же), а значит, нужны кадры — Пушкина славить, Некрасова переиздавать, вообще мумифицировать «высокую культуру». А уж что-то, но мумифицировать, вообще возиться с мертвыми вещами, мертвыми смыслами наши герои горазды: они и коллекционеры, и конно-сьеры локального масштаба, и, как им кажется, озарены прощальным светом великой культуры. Так что сомнений не остается; наша миссия — донести до грянувшего хама Онегина с Рудиным (а по возможности, и Фета с Блоком протащить). Деталь идеально прилегает к положенному ей месту, работает даже бодро, с огоньком, жалуясь, разве что, на несправедливость при распределении путевок Литфонда и маленькие гонорары. Включается психология, запрятанная глубоко во времена модернистских оргий и менажей а труа, она вылезает и все сильнее требует денег, жилплощади и здорового секса. Или беспокоится о собственных детях. Вообразите себе обремененных детьми Блока или Белого. Сологуба. Не можете? Именно.
196
«Человек двадцатых годов». Случай Лидии Гинзбург
А теперь представим себе X. Он ухватил еще остаток туманного, велеречивого русского символизма, он, юный, обменивался эпистоляриями со знаменитым знатоком полового вопроса, он, одаренный, быстро научился определенному типу искусствоведческой премудрости. Он написал прекрасную культурную книгу о Царском Селе, причем в то самое время, когда прошлое представлялось в лучшем случае барахлом, в худшем — опасным барахлом, о Царском Селе, которое будто бы в издевку переименовали в Детское (вообще, надо сказать, смену идеолого-психологического климата в СССР в двадцатые-тридцатые проще всего проследить по смене названий этого населенного пункта. Внешне нейтральное «Детское» — впрочем, с многозначительным намеком на молодость социалистической страны — меняется на уже вполне охранительно-имперское «Пушкин»), То есть все на месте, все хорошо. В меру несвоевременный, но не так, чтобы серьезно опасаться посадки. Известный коллекционер. Эстет. Все это в двадцатые не входило в опись нужных для власти качеств; оттого РАППов-цы глумились, гонорары усыхали, машина тоталитарного государства, еще не достроенная, разводила пары где-то там, вдалеке от галерей, библиотек и барахолок. В лучшем случае, от людей типа X. она требовала попутничества или специального буржуазного профессионального знания, что совсем не мешало им оставаться деталями еще живой, еще впечатляющей картины модернизма. Потом наступают тридцатые; в начале десятилетия по ленинградскому модернизму проходится метла уже иной по сути власти, но и эта метла пока только причесывает, но не сметает навсегда. X. (как Хармс, как Введенский, как многие иные) арестован, но не посажен, даже не выслан в какой-нибудь Курск. Будучи отпущен, X. через год-два оказывается совсем уже в ином времени: государственная машина окончательно становится всеобщей, она ведает всем, она строит заводы, сгоняет крестьян в колхо
197
ModernitE в избранных сюжетах
зы, пускает полярников гулять по льду, расстреливает и сажает в лагеря в невиданных доселе масштабах, издает Пушкина, ставит «Онегина», всё-всё-всё. И вот тут выясняется дьявольская мудрость этой новой власти, не ленинской, не революционной, а тотальной власти, которой идеология нужна примерно так же, как и Пушкин, — в роли инструмента, скрепы, но не в качестве содержания. Это, при всем ужасе террора, создает для людей типа X. новые возможности (и даже дарует маленькие удовольствия); к примеру, убраны из литературной жизни (и вообще из жизни, по большей части) те, кто так пугал и досаждал еще несколько лет назад, всяческие пролетарские поэты, РАППовцы и иные малокультурные хамы. Власть страшна, но ощущение справедливости при виде падения некогда всемогущих литпогромщиков делает страх (пока) выносимым. Опять же, возвращается «история»; власть принимает постановление о необходимости вернуть преподавание оной в школах и университетах; прошлым теперь можно «заниматься», страшно, но (пока) можно — а значит, этим кормятся. Не следует недооценивать: в сталинские тридцатые «прошлым», «историей», «культурой» (которая этими людьми понимается исключительно как «культурное наследие») можно кормиться, не теряя остатков уважения к себе. Это очень важно. Одно дело, когда ты читаешь Пушкина в свое удовольствие, а вокруг ходят революционные хулиганы и жлобы, крича, что А.С.П. есть представитель загнивающего дворянства. Другое дело, когда удовольствие превращается в работу, за которую платят; ты уже не вольный стрелок, не какой-то там «попутчик», ты — деталь, к примеру, механизма по празднованию столетнего юбилея пушкинской гибели (некрофильский характер сталинской власти нашел, в частности, отражение в том, что в 1937 году всенародно праздновали юбилей смерти). Ты встроен в конвейер распространения «высокой культуры» среди пролетарских и крестьянских масс. У тебя просветительская миссия
198
«ЧЕЛОВЕК ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ». СЛУЧАЙ ЛИДИИ ГИНЗБУРГ
русского интеллигента, в конце концов. Это создает иллюзию общественной нужности; именно отсюда возникает, к примеру, у Лидии Гинзбург знаменитый сюжет «творчество vs. творческая работа vs. профессиональная работа vs. халтура». Рассуждение Гинзбург о различии и связи этих четырех «возможных форм культурной деятельности» имеет прямое отношение к ее собственной судьбе в тридцатые-сороковые, к судьбе Х„ к судьбе всевозможных Y., Z. и проч. История культуры и филология, «прошлое» в широком смысле этого слова есть то, что объединяет все выделенные Л.Я. четыре возможные формы культурной деятельности. К примеру, стихи Пушкина могут стать материалом и для «творчества» (написать о них новаторское исследование, пусть даже «в стол»), и для «творческой работы» (написать о них хорошее «публикабельное» исследование и издать), и для «профессиональной работы» (сделать хорошую текстологическую работу или надежный историко-литературный комментарий), и для «халтуры» (съездить на станкостроительный завод с лекцией «Пушкин — борец с самодержавием»). В 20-е годы все было не так.
Оттого ужас тридцатых становится переносимым и дает возможность людям типа X. отливаться в иные социокультурные формы. Появляется странное заблуждение о возможности (как сказала бы Гинзбург) «великой проверки на нужность»; пусть власть ужасна, пусть жизнь чудовищна, пусть один за другим исчезают из жизни родные и друзья, зато я занимаюсь тем, что мне интересно и что нужно людям. Это еще одна постоянная тема записей Гинзбург (вместе с анализом различных уровней культурной деятельности) — и тема эта появляется в тридцатые, не раньше. Разница между Л.Я. и людьми типа X. в том, что она, нащупав в нечеловеческие времена эти темы, посвятила себя их анализу и рефлексии себя как социокультурного типа. Люди же типа X. в лучшем случае реагировали на происходящее на уровне той самой «психологии», кото
199
MODERNITfi В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
рую вместе с «историей» «разрешил» Сталин. Оттого их дневники и есть дневники деталей.
Напоследок, еще одна цитата из того же дневника X., зато какая. Все, что только что обсуждалось на нескольких страницах, оттиснуто здесь коротко и невероятно убедительно (только вот сам автор, кажется, не понимал, что именно он лицезрел и зафиксировал):
Юркун восторженно описывал Ярославль, где он побывал в конце лета. Потом сообщил, что он уже целый месяц разрабатывает проект Музея социализма, небывалого и грандиозного. «Оказывается, я всю жизнь шел к этому, но только теперь овладел своей идеей до конца».
Спрашиваю: «Что же, вы говорили с кем-нибудь об этом?»
«Нет, я решил обратиться прямо в самую высокую инстанцию. Иначе — начнется волокита, бюрократическая канитель».
О.Н. [Гильдебрандт] говорит: «Я так мечтала голосовать за Буденного, это такой замечательный человек, настоящий военный, и вдруг, представьте, оказывается, что в нашем районе делегатом в Верховный Совет выдвинут Угаров, а я даже не знаю, чем он заведует. Скажите, он хороший человек?»
Я вспомнил о том, что Угарова хвалил однажды Митрохин.
«Ах, Дм.[итрий] Исид.[орович] считает его хорошим? Ну, это приятно. Главное, чтобы в Верховном Совете были хорошие люди. Вот Корчагина-Александровская — неплохая, но ведь она ужасно глупа, — что она там будет делать?» (ноябрь 1937 года).
Прорыв блокадного круга
Любопытно — к чему бы привело применение в современной русской литературе системы, комбинирующей методы Толстого, Пруста и Шкловского...
Лидия Гинзбург'
Нижеследующий текст не посвящен, собственно, истории блокады Ленинграда. Автор, хотя и историк по образованию и склонностям, постарался исключить традиционную историческую сторону вопроса; исключены в основном и историко-литературная, и филологические стороны. Речь пойдет об анализе — анализе текстов Лидии Гинзбург, посвященных блокаде и опубликованных при ее жизни2, об анализе сознания, стоявшего за этими текстами. Особенность такого анализа заключается в том, что его объектом станет не только «сознание блокадного человека Лидии Гинзбург», но и анализ этого сознания, сделанный самой Гинзбург. Таким образом, «блокадное сознание» рассматривается как нечто отдельное и особое, став-
1 Из неопубликованной записной книжки Л.Я. Гинзбург 1927-1928 годов. Цит. по: Савицкий С. Спор с учителем: Начало литературного/исследовательского проекта Л. Гинзбург // Новое литературное обозрение. 2006. № 82. С. 129-155.
2 Я только отчасти использую прекрасное издание: Гинзбург Л. Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека / сост., подгот. текста, примеч. и ст. Э. Ван Баскирк, А. Зорина. М.: Новое издательство, 2011. В мою задачу входит анализ именно того, что сама Гйнзбург пропустила сквозь фильтр необходимого и возможного для советской (пусть даже позднесоветской) печати; как известно, она высоко ценила проверку на нужность, которой с ее точки зрения была официальная публикация. Соотношение оставшегося «в столе» и опубликованного из блокадных записок Лидии Гинзбург — тема для особого рассмотрения.
201
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
шее объектом как внешней рефлексии, так и авторефлексии, которая совершалась во время блокады и долгие годы после нее. Только в этом смысле мы можем здесь говорить об «истории» — как об «истории сознания». Не следует забывать, что сам тип сознания Лидии Гинзбург жестко детерминирован исторически и поколенчески; это тип сознания человека 20-х годов в его, быть может, самом окончательном, логически доведенном до конца и максимально отрефлексиро-ванном проявлении.
В центре внимания нижеследующего текста — еще одна (помимо «истории сознания») история — история создания, развития и кризиса ежедневных приватных ритуалов «блокадного человека». Эти ритуалы призваны были поддерживать биологическую жизнь блокадника, но, по сути своей, эти ритуалы — социальны. Для психики и сознания «блокадного человека» они сыграли не меньшую роль, нежели для физического выживания. Скажем точнее: ритуалы, превращавшиеся в рутину блокадной жизни, в социальный и бытовой автоматизм, «снимали» индивидуальное, «свое» физическое страдание (остроту этого страдания); «социальное», «культурное» (в широком смысле) вытесняло, заменяло «биологическое» в жизни человека, происходило, как пишет (по другому поводу) сама Гинзбург, «переключение физиологических ценностей в социальные» (с. 721 )3. И здесь Лидия Гинзбург выступает во всем могуществе своего аналитического ума, ведь подобное «вытеснение», «замена» и есть то, что с таким вниманием изучала она в своей эссеистике.
«Блокадные тексты» Лидии Гинзбург будут здесь прочитаны сквозь призму «Войны и мира» Толстого. В этом нет ничего удивительного — «Записки блокадного человека» открываются фразой:
3 Все ссылки на «Записки блокадного человека» и «Вокруг “Записок блокадного человека”» приводятся (в скобках) по изданию: Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство-СПБ, 2002.
202
Прорыв блокадного круга
В те годы люди жадно читали «Войну и мир», — чтобы проверить себя (не Толстого, в чьей адекватности жизни никто не сомневался). И читающий говорил себе: так, значит я чувствую правильно. Значит, так оно и есть. Кто был в силах читать, жадно читал «Войну и мир» в блокадном Ленинграде (с. 611).
Что же это за «правильное» толстовское чувствование, которому старался соответствовать «блокадный человек»? Предположим, что речь прежде всего идет о чувстве границы страданий, чувстве бесконечного отодвигания этой границы, том самом, о котором размышляет Пьер Безухов во французском плену:
...он узнал еще одну утешительную истину — он узнал, что на свете нет ничего страшного. Он узнал, что так как нет положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, так и нет положения, в котором бы он был бы несчастлив и несвободен4.
«Блокадный человек» находится в положении экстремального несчастья и несвободы, но, тем не менее, он не считает, что это положение является окончательным, крайним; он инстинктивно отодвигает эту границу ценой неимоверных физических и — главное — моральных усилий, создавая систему повторяющихся действий, которая выводит его из-под действия «биологии», «физиологии» в сферу «социального». Выводит и тем самым спасает, ибо смерть имеет прямое отношение именно к биологии и физиологии. При этом, конечно, не следует забывать, что область «социального» не является областью «свободы»; «блокадный человек» реализует свою свободу только в одном — в том, что он выживает, а не умирает. Результат же этого усилия — выживание — тут же апроприируется «социальным»: если блокадник выживал, он тем самым делал вклад в победу над Гитлером. И это другая важнейшая толстовская тема «блокадной прозы» Лидии Гинзбург.
4 Толстой Л.Н. Война и мир. Т. 3-4. М., 1964. С. 491.
203
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
Тему эту можно обозначить примерно таким образом. У Толстого «народная война», «патриотический подъем» редуцируются к огромному количеству отдельных поведенческих феноменов, так или иначе вписанных в разного рода сословные, профессиональные, гендерные модели, представляющие собой налаженную систему социальных ритуалов. Именно на таком фоне поведение Пьера Безухова выглядит особенным, странным, невиданным доселе. Пьер ведет войну с Наполеоном один на один, в отличие, например, от Николая Ростова, который, даже отправившись за лошадями в мирную провинцию и развлекаясь там на балу, все-таки тем самым участвует в общем изгнании французов. Ростов не рефлексирует по этому поводу, он знает, что это так. Толстой настаивает на этом:
Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью5.
Именно последнюю фразу Толстого и пытается опровергнуть своими «Записками» Лидия Гинзбург — и здесь толстовскую проблематику сменяет прустов-ская.
У Толстого все предопределено. Есть множество мелких причин, породивших, с его точки зрения, общее и неизбежное следствие — изгнание Наполеона из России. Механизм работы этой причинно-следственной связи у Толстого не совсем ясен; более того, в нем видится даже что-то буддийское: мир, состоящий из огромного, неисчислимого количества дхарм (говоря языком буддологии, «обусловленных» и «необусловленных»), существующих в одно и то же мгновение; дхарм, в которых только сознание созерцателя ретроспективно увидит «кармический эффект». Причинно-следственная концепция Толстого отдаленно напоминает то, как ряд буддийских школ понимают
5 Толстой Л.Н. Указ. соч. С. 367.
204
Прорыв блокадного круга
карму. У Толстого получается так, что следствие предшествует причинам, является их условием; точнее — условием того, что мы определяем некие события (ретроспективно определяем, как определяется и карма) в качестве «причин».
Лидия Гинзбург расходится с Толстым именно в этом пункте. Она тоже редуцирует «народную войну», «подвиг блокадников» к совокупности поступков отдельных людей, занятых выживанием. Привод, который заставляет эти колесики вертеться так, как надо для функционирования военно-государственной машины, — «социальный ритуал». Создавая (порой воссоздавая в измененном виде довоенный) этот и другие ритуалы, выполняя их, доводя свое участие в них до автоматизма — вытесняя тем самым «биологическое», — блокадники побеждают Гитлера. В этой картине не хватает рефлексирующего субъекта, который, объективировав, анализирует себя, свое поведение в качестве «социального типа». Повествователь, говоря о себе в третьем лице, повествует, лишь пока жив его герой, то есть он сам. Умрет герой-повестватель, умрет и повествование. Пока повествователь жив, он пишет, анализирует. Пока существую — анализирую. Но это уже следующий уровень свободы «блокадного человека», доступный лишь единицам. Наличие этих рефлексирующих «единиц» и составляет огромную разницу между подходами Толстого и Гинзбург и, быть может, огромную разницу между XIX веком и XX.
Другая, скрытая, кажется даже намеренно спрятанная, тема «Записок блокадного человека» — «остранение»6 *. «Остранение» по Виктору Шкловскому выводит вещь из привычного ряда, чтобы пережить ее «делание», пережить ее саму как нечто новое. Переживание чего-либо как «нового» для «блокадного челове
6 Которое Эмили Ван Баскирк трактует как прием «само-
остранения»: Ван Баскирк Э. «Самоотстранение» как этический и эстетический принцип в прозе Л.Я. Гинзбург // Новое литературное обозрение. 2006. № 81. С. 261-282.
205
MODERNITE В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
ка» — самое страшное, ибо оно губит его яркостью и свежестью страдания. Война, блокада вывела практически все вещи из привычных рядов, и они вышли из повиновения сознанию человека. «Блокадный человек» вынужден переживать каждую некогда привычную вещь. Этот апогей остранения ведет к гибели — и тела (из-за бесконечных лишних усилий, приводящих к истощению и без того истощенного дистрофией тела), и сознания (которое неспособно контролировать мир, состоящий из по-новому переживаемых старых вещей). Чтобы избежать гибели, «блокадный человек» максимально «ритуализирует», а потом (и тем самым) «рутинизирует»7 всю свою жизнь. Либо вещи возвращаются в свои привычные ряды, либо из них создаются новые; «блокадный человек» может выжить, лишь одолев остранение. И тут мы на мгновение возвращаемся к теме «истории», истории культуры, истории литературы. Создавать «Записки блокадного человека» через призму Толстого — который в «Войне и мире» дал главный литературный материал для «теории остранения» — есть еще и жест внутреннего диалога и полемики со Шкловским. Диалога и полемики, которую Лидия Гйнзбург не прекращала с начала 30-х годов. Но история этого вопроса останется за рамками наших рассуждений8.
«ОБЩЕЕ ДЕЛО» VS. «ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВОЙНА» В самом начале «Записок блокадного человека» Гинзбург пишет:
7 «Ритуализация» здесь есть главный способ «рутиниза-ции».
8 См. содержательные статьи Дениса Устинова и Станислава Савицкого: Устинов Д. Формализм и младоформалисты. Статья первая: постановка проблемы // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 296-312; Савицкий С. Спор с учителем: Начало литературного/исследовательского проекта Л. Гинзбург...
206
Прорыв блокадного круга
Толстой раз навсегда сказал о мужестве, о человеке, делающем общее дело народной войны. Он сказал и о том, что захваченные этим общим делом продолжают его даже непроизвольно, когда они, казалось бы, заняты решением своих собственных жизненных задач. Люди осажденного Ленинграда работали (пока могли) и спасали, если могли, от голодной гибели себя и своих близких (с. 611).
При декларируемой опоре «Записок» на «Войну и мир» Гинзбург интерпретирует толстовскую концепцию «народной войны» так, как ей это нужно для разворачивания собственного повествования о блокаде. Строго говоря, Толстой не писал о том, что люди, «захваченные этим общим делом, продолжают его даже непроизвольно, когда они, казалось бы, заняты решением своих собственных жизненных задач». Гинзбург приписывает здесь Толстому собственное гегельянство. У Толстого «общее дело», его направление и течение образуется из совокупности, некоего «общего направления», которое принимает совокупный результат мириада частных действий. Каждое из этих действий представляет собой выполнение некоего набора социальных, бытовых ритуалов. Толстой как раз занимается скрупулезным изучением и анализом механизма превращения мириада частных ритуализированных действий в «общее дело». Оттого важным инструментом этого анализа становится в «Войне и мире» остра-нение — оно «вскрывает», «разритуализирует» ритуал, иначе анализ невозможен. «Записки блокадного человека» решают этот вопрос по-другому. Прежде всего Гинзбург ставит себе совершенно иную задачу; «Записки» — принципиальное «кое-что»9, и уже этим они противопоставляются книге, которая хочет объять «всё», книге, которая называется «Война и мир». «Записки блокадного человека» описывают только ритуалы частной (и далеко не всегда социальной) жизни блокадника, благодаря которым он (конкретный «он»,
9 «Об этом кое-что здесь рассказано» (с. 611).
207
MODERNITfi В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
«Эн») остался в живых. Связь с «общим делом» здесь проста — враг хочет убить всех ленинградцев, в том числе и его. Он не умирает — значит, вносит вклад в победу над врагом: «И в конечном счете это тоже нужно было делу войны, потому что наперекор врагу жил город, который враг хотел убить» (с. 611).
Такой подход вполне соответствует изменившемуся в XX веке характеру самой войны и отношению человека этого столетия к войне. Толстой не пишет, что главной целью Наполеона и его армии в 1812 году было «убить русских», или даже «убить всех русских». Точно так же идея «народной войны», замысел Кутузова был не «убить всех неприятелей», а «выгнать», «изгнать» их. Об истреблении французов говорит только Андрей Болконский: «Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть ... я не брал бы пленных... Не брать пленных... это одно изменило бы войну ... Не брать пленных, а убивать и идти на смерть!»10. Здесь Толстой предвидит «тотальные войны» XX столетия и реакцию на них интеллигента; реакцию, образец которой дал Эренбург с «Убей его!». Становясь тотальной, захватывая в свой ход всех и вся, война прошлого столетия меняет и отношение человека к себе. Это отношение редуцируется от религиозных или политических мотивов, от высот стратегии и «военного искусства» к простому «убить и не быть убитому самому». «Тотальная война», так же как тоталитарный режим, атомизирует человека, безжалостно разрушает привычные социальные связи и конвенции и требует от каждого участника самого простого — убить врага и как можно дольше самому избежать гибели. Несмотря на гигантские военные, политические, социальные и экономические конструкции, в которые вовлечен участник «тотальной войны», он, по сути дела, изолирован, отчужден от хода Большой Войны. В той точке, где находится он, нет ни стратегии, ни политики; есть
10 Толстой Л.Н. Указ. соч. С. 187-188.
208
Прорыв блокадного круга
только смерть, от которой следует защищаться, насылая ее на врага. Лидия Гинзбург войну воспринимает однозначно — как попытку убить ее лично и ее близких. Оставаясь в живых, ее герой выигрывает войну:
Портниха ламентирует, заказчица занята построением собственного образа, обе с вожделением говорят о дамах в ротондах, которым не нужны были руки. А все же нет у них несогласия с происходящим. Они лично могут жаловаться и уклоняться, но их критерии и оценки исторически правильны. Они знают, что надо так, потому что нельзя иначе. Их критерий: Гитлер — мерзавец, немец враг и его нужно уничтожить (с. 644).
Это рассуждение, в том или ином виде, повторяется и в тексте «Вокруг “Записок блокадного человека”»:
Конкретные носители величайшего зла, взявшие на себя его теоретическое обоснование, — стоят у ворот. Мы все хотим их убить; мы хотим убивать как можно больше, отнюдь не вдаваясь в подробности их человеческого существования (с. 727).
«Тотальная война» рождает «персональную войну», войну, так сказать, «один на один». Именно так хотел воевать с Наполеоном Пьер Безухов, но в начале XIX века это выглядело нелепостью, даже безумием — как, впрочем, и рассуждения Андрея Болконского. Интересно, что в XX веке этот крайний индивидуализм появляется в разгар двух самых страшных европейских коллективистских проектов — коммунизма и нацизма. Не исключено, что он есть не только порождение этих проектов, он — реакция на них.
ПРИВАТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
И БОЛЬШАЯ ВОЙНА
«Записки блокадного человека» начинаются фактически с описания того, как война, известие о войне вторгается в мирную жизнь и мгновенно обессмысливает все ее ритуалы и автоматизм. В «Войне и мире» война
209
ModernitE в избранных сюжетах
не мешает обычной жизни — до тех пор, пока люди не сталкиваются с ней непосредственно. Толстой посвящает этому целый пассаж:
В числе бесчисленных подразделений, которые можно сделать в явлениях жизни, можно подразделить их все на такие, в которых преобладает содержание, другие — в которых преобладает форма. К числу таковых, в противоположность деревенской, земской, губернской, даже московской жизни, можно отнести жизнь петербургскую, в особенности салонную. Эта жизнь неизменна11.
Петербургская, салонная жизнь не затронута войной, впрочем, точно так же не затронута ею и московская жизнь — до тех пор, пока неприятель не подходит слишком близко. Более того, Толстой противоречит себе сам, описывая позже жизнь провинции, в которую окунается Николай Ростов, приехавший в Воронеж в командировку:
Губернская жизнь в 1812 году была точно такая же, как и всегда, только с тою разницею, что в городе было оживленнее по случаю прибытия многих богатых семей из Москвы»12.
В XX веке одним из инструментов тотального проникновения войны и разрушения мирного уклада жизни даже в тех местах, которые отделены от фронта сотнями километров, становится современная техника. Как я уже отмечал в главе «Настоящий август Франца Кафки», еще до того как немецкие самолеты начали бомбить Ленинград, война пришла к ленинградцам (равно как и к горьковчанам, свердловчанам и владивостокцам) через репродуктор радиоприемника: «Образовалась новая действительность, небывалая, но и похожая на прежнюю в большей мере, чем это казалось возможным» (с. 613). Трамваи еще ходят, гонорары — выдают, а действительность — новая. И эта
11 Толстой Л.Н. Указ. соч. С. 114.
12 Там же. С. 369.
210
Прорыв блокадного круга
действительность — действительность сознания, которая уже потом, с началом бомбежек и голода, становится физической действительностью непосредственной близости смерти. Война, придя из репродуктора, обессмысливает ритуалы мирной жизни, а затем — вторично придя уже бомбами и физическими муками недоедания — легко разрушает их. «Враждебный мир смерти» приближается вплотную, и «блокадный человек», став таковым, ведет борьбу с этим миром на площадке своей частной жизни. Гинзбург посвящает свою книгу анализу механизмов этой борьбы и приводов, связывающих эти приватные механизмы с миром Большой Войны.
Прежде всего Лидия Гинзбург набрасывает очерк механизма «социальной поруки», которая связывала отдельных людей и общее дело войны, а затем — подробно рассматривает, как этот механизм работает в рамках семьи, в быту. Именно семья, быт стали площадкой столкновения человека с «враждебным миром», с хаосом, с биологическим уровнем жизни, чреватым смертью; впрочем, этот враг проникает и дальше: «Враждебный мир, наступая, выдвигает аванпосты. Ближайшим его аванпостом оказалось вдруг собственное тело» (с. 614). Фокус наводится здесь до одной точки, и точкой этой становится тело «блокадного человека». Но прежде чем начать анализировать, что происходит с телом, которое становится аванпостом «враждебного мира», попытаемся установить, кто же является тем самым главным врагом, с которым ведет тяжкую битву «блокадный человек».
Формально враг — немцы, но «блокадный человек» не видит их в лицо, он только сталкивается с последствиями их деятельности. Враг не персонифицирован; более того, враг, блокируя Ленинград, создает враждебный мир, аванпостом которого становится собственное тело блокадника. И вот уже на этом уровне все выглядит по-иному: враг — это смерть, являющаяся то в виде прилетевшей бомбы или снаряда, то — и это
211
MODERNITY В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
ужаснее — в виде отсутствия и исчезновения привычных сил, вещей и людей. Враг — истощение: собственного тела и всей окружающей жизни. Именно в ситуации истощения, исчезновения, дефицита возникает система новых защитных ритуалов, направленных, с одной стороны, на экономию и рационализацию того, что еще есть, а с другой — на заполнение той пустоты, которая возникает от этого истощения, оскудевания жизни, от ее редукции к простейшим функциям. Отсюда двойственность этих ритуалов: они усложняют, ибо не должны допустить фатального упрощения, редукции жизни к биологическому уровню (а значит, к смерти), в то же время они способствуют экономии средств поддержания жизни и сил. Ничего лишнего. Это усложнение с помощью бритвы Оккама. В этом смысле очень показателен пассаж в «Записках» о том, как Эн, увидев после страшной зимы 1942 года, что в городе пустили трамваи, никак не мог решиться на них ездить: «окостеневшее бытие выталкивало новый элемент» (с. 640). Но, сделав над собой усилие, он тут же превратился в горячего приверженца передвижения на трамваях:
В его рационализатарских размышлениях о быте это определялось как наименьшая затрата физических сил. На самом деле важнее было другое — так противно представить себе пространство, отделяющее от цели и которое шаг за шагом, терзаясь торопливостью, придется одолевать всем телом. Легче было ждать... Поездка в трамвае — один из лучших, подъемных моментов дня. Это человек перехитрил враждебный хаос (с. 640-641).
Конечно, враждебный хаос перехитрил не просто «человек», а его разум. Точно так же в первые, самые чудовищные месяцы блокады чаще выживали не опытные домохозяйки, которые, казалось бы, профессионально знали устройство быта, а интеллигенты, пытавшиеся тотально рационализировать стремительно оскудевавшую жизнь: «...особенно те самые интеллигенты, которые всю жизнь боялись прикоснуться к венику
212
Прорыв блокадного круга
или кастрюле, считая, что это поставит под сомнение их мужские качества» (с. 655). «В период наибольшего истощения стало ясно: сознание на себе тащит тело» (с. 615). И вот здесь начинается разговор о том, с чем именно сталкивается это героическое сознание «блокадного человека».
Главным оружием «истощения» является исчезновение автоматизма, то .есть ритуализированных движений, ощущений, мыслей: «Автоматизм движения, его рефлекторность, его исконная корреляция с психическим импульсом — всего этого больше не было» (Там же). Блокадный человек оказывался в ситуации остранения — и крайнее истощение было результатом страшной реализации теории Шкловского в жизни. Соответственно, «выжить» значило вернуть автоматизм; и сделать это можно лишь посредством ритуализации. Конечно, остранение страшно не как художественный прием, страшно остранение в жизни. Социальные механизмы, ритуалы, рутина отвлекают человека от смерти во всех ее проявлениях. Для «блокадного человека» вещественное бытие своего еще живого, истощенного тела было значительно острее, чем идея небытия, которая из «невозможной» превратилась практически в неизбежную.
Главное остранение, которое происходит в жизни «блокадного человека», — остранение, отчуждение собственного тела: «В отчужденном теле совершается ряд гнусных процессов — перерождения, усыхания, распухания, непохожих на старую добрую болезнь, потому что совершающихся как бы над мертвой материей» (Там же). Тело — «мертвая материя», ибо оно отчуждено от сознания и предоставлено самому себе. Предоставленное самому себе, оно страшно удивляет, поражает, шокирует человека, сведенного к одному сознанию. Сознание видит его «как впервые» и совершенно не понимает происходящих с телом метаморфоз: «Люди долго не знали, пухнут ли они, или поправляются» (Там же). Невыносимый вид от
213
ModernitE в избранных сюжетах
чужденного, незнакомого, непонятного собственного тела порождает у «блокадного человека» панику: «Вдруг человек начинает понимать, что у него опухают десны. Он с ужасом трогает их языком, ощупывает пальцем. Особенно ночью он подолгу не может от них оторваться. Лежит и сосредоточенно чувствует что-то одеревенелое и осклизлое, особенно страшное своей безболезненностью: слой неживой материи у себя во рту» (с. 615). Именно здесь, на этом уровне начинается разрушение психики, ведущее к разрушению сознания. Распад автоматизма, являющийся следствием ситуации истощения, приводит к остра-нению тела от сознания, интенсивному переживанию сознанием тела с катастрофическими последствиями для них обоих.
Тело «исчезает» из вида сознания, чтобы, внезапно вернувшись, заявить о своей катастрофе. Метафорой этого процесса в «Записках» становится зимнее спанье «блокадного человека» в одежде:
Месяцами люди ... спали не раздеваясь. Они потеряли из виду свое тело. Оно ушло в глубину, замурованное одеждой, и там, в глубине, изменялось, перерождалось. Человек знал, что оно становится страшным... Самые жизнеспособные иногда мылись, меняли белье. Тогда уже нельзя было избежать встречи с телом. Человек присматривался к нему со злобным любопытством, одолевающим желание не знать. Оно было незнакомое, всякий раз с новыми провалами и углами, пятнистое и шершавое (с. 616).
Так перед «блокадным человеком» являлся аванпост враждебного мира, хаоса, в виде его собственного тела.
КОНЕЦ АВТОМАТИЗМА. ИСТОЩЕНИЕ
Точно так же, как и тело, от сознания остранились и вещи прошлой, мирной жизни. Они выпали как из социального ритуала, так и из бытового автоматизма, и полностью потеряли всякий смысл: «Зимой, в рас
214
ПРОРЫВ БЛОКАДНОГО КРУГА
поясавшемся хаосе казалось, что ваза и даже книжные полки — нечто вроде Поганкиных палат или развалин Колизея, что они уже никогда не будут иметь практического значения (вот почему не жалко было ломать и рубить)» (с. 616). И это неудивительно: смысл вещей в их включенности в жизнь, упорядоченную сознанием, то есть в ту, частью которой сознание является. Социальный ритуал и порожденный им автоматизм, рутина — единственный в человеческом обществе социокультурный инструмент упорядочивания жизни, состоящей из бесконечного количества разнообразных феноменов (или, как сказал бы буддийский философ, «дхарм»). Он отличается от условных и безусловных рефлексов у животных тем, что порожден сознанием, которое как бы «запускает» его механизм, чтобы освободить себя от бесконечного (и изнурительного) узнавания новых и новых вещей и действий. Сознание присутствует даже в максимально автоматизированной, рутинизированной деятельности — в качестве контролера. Именно туда поступает сигнал в том случае, если что-то происходит не так, если происходит остранение и некая вещь выбивается из назначенного ей ряда. Отпадение, остранение вещей и тела от сознания в результате распада ритуала, рутины, автоматизма приводит к тому, что человек редуцируется до животного, биологического уровня; до уровня тела, функционирующего как бы «само по себе», «естественно». Сознание меж тем гибнет, чувствуя себя окруженным новыми для него, неожиданными, страшными вещами и процессами. Сознание «не узнает» то, с чем соседствовало и чем управляло раньше. Поэтому истощение «блокадного человека» не имеет ничего общего с практикой «умерщвления плоти» в некоторых религиях. В последнем случае не происходит распада механизма, объединяющего тело и сознание, наоборот — истощение тела происходит под полным контролем сознания; более того, само по себе «умерщвление плоти» представляет собой риту
215
ModernitE в избранных сюжетах
ал, превращающий истощенное тело в знак чего-то большего, нежели само это тело и само это сознание. В случае «блокадного человека» никаких новых смыслов, конечно, не возникает.
Вследствие исчезновения автоматизма и распада связи сознания и тела у «блокадного человека» невероятно возрастает роль мускульного усилия. Чем меньше автоматизма, тем больше усилий, чем больше усилий, тем сильнее истощение:
Покоя той зимой не было никогда. Даже ночью. Казалось бы, ночью тело должно было успокоиться. Но, в сущности, даже во сне продолжалась борьба за тепло. Не то, чтобы людям непременно было холодно — для этого они наваливали на себя слишком много вещей. Но именно поэтому тело продолжало бороться. Наваленные вещи тяжко давили, и — хуже того — они скользили и расползались. Чтобы удержать эту кучу, нужны были какие-то малозаметные, но в конечном счете утомительные мускульные усилия (с. 617).
Постоянное усилие ведет к исчезновению покоя, тело и сознание постоянно «включены»: «То есть тело и нервы полностью никогда не отдыхали» (Там же). Блокада была пыткой еще и потому, что вечное напряжение тела, сознания и отсутствие отдыха приводили к еще большему истощению и упадку сил, чем мог вызвать обычный голод (пусть даже очень сильный). «Блокадный человек» тратил больше сил, нежели человек в обычной жизни, который, благодаря включенности в автоматизм бытовой рутины и социальные ритуалы, эти силы берег (и, конечно же, отдыхал).
ВОЗВРАЩЕНИЕ РИТУАЛОВ
Мир блокады — мир распадающихся и распавшихся связей. Чтобы остановить этот чудовищный процесс распада, уничтожения сознания и редукции тела к биологическому, «блокадный человек» создает (частично воссоздает) свои собственные ритуалы, воз
216
ПРОРЫВ БЛОКАДНОГО КРУГА
вращая устраненное тело и остраненные вещи под свой контроль:
Автоматический жест, которым Эн заводил на ночь часы и осторожно клал их на стул около дивана (зимой часы не шли — замерз механизм), был совсем из той жизни... обязательно, встав с постели, подойди к окну. Многолетний, неизменный жест утреннего возобновления связи с миром... В час утреннего возобновления отношений мир явственно представал в своей двойной функции — враждебной и защитной» (с. 616-617).
«Мир отношений», мир социального ритуала, закономерности, автоматизма — мир нормальной человеческой жизни. Утренний взгляд в открытое окно, возвращение ритуала мирной жизни, произошло весной 1942 года, после пережитой зимы (самой страшной зимы ленинградской блокады). Но зиму удалось пережить лишь тем, кто в самых нечеловеческих условиях смог создать новые ритуалы. Этих ритуалов множество, их можно разделить на важные и неважные, но они в своей совокупности спасали жизнь «блокадному человеку». Любое обстоятельство блокадной жизни, самое ужасное и отвратительное, становилось местом возникновения ритуала, например, спуск в бомбоубежище при воздушной тревоге:
В ритуальной повторяемости процедуры было уже нечто успокоительное. В последовательность ее элементов входило нервное тиканье репродуктора, поиски калош в темноте, дремотная сырость подвала, самокрутка, выкуренная у входа, медленное возвращение домой (чем медленнее — тем лучше, на случай повторения сигнала) (с. 627-628).
Были ритуалы и совсем уже невыносимые, об этом Лидия Гинзбург говорит в другом тексте, написанном в годы блокады, — в «Рассказе о жалости и жестокости»13.
13 Впервые опубликование: Гинзбург Л. Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека...
217
ModernitE в избранных сюжетах
Очень важный ритуал, восстанавливающий не только связь сознания с телом и вещей — с человеком, но и социальную связь человека с другими людьми, с государством, с общим делом войны, — выход на работу, например, предъявление пропуска при входе на службу:
Выход из дома на работу имеет свою прелесть. Несмотря на маленькие победы и достижения, дом — это все же хаос и изоляция. С утра, пока усталость не одолела, хочется вырваться в мир... Здесь, с пропуска, начинается переживание своей социальной ответственности (с. 660).
Социальная ответственность не только встраивает «блокадного человека» в некую априорно существующую систему связей (с которой не может ничего поделать даже блокада, даже смерть), она еще и заменяет многие другие распавшиеся связи, служит им своего рода заменителем, протезом.
Но все-таки главными ритуалами «блокадного человека», пораженного дистрофией, были ритуалы, связанные с едой. Железная блокадная система распределения продуктов питания и возникающие вокруг нее ритуалы воспринимаются героем «Записок блокадного человека» крайней положительно — и не только потому, что благодаря этой системе он поддерживает свое физическое существование. Эта система функционирует, она сродни механизму, она работает безлично, автоматически, значит, на нее можно положиться. Она существует объективно, помимо наших представлений о ней. Ведь ад блокады — это еще и ад субъективности, выматывающий ад бесконечных, бесконтрольных открытий знакомых прежде вещей, тихий бунт этих вещей против порядка, частью которого они еще недавно были. Именно поэтому Гинзбург пишет:
Все же люди с нетерпением ждали — даже не утра, потому что утро (свет) наступало гораздо позже, — они ждали повода встать, приближаясь к началу нового дня, то есть
218
Прорыв блокадного круга
к шести часам, когда открываются магазины и булочные. Это не значит, что человек к шести часам уже всегда отправлялся в булочную. Напротив того, многие старались оттянуть (сколько хватало сил) момент получения хлеба. Но шесть часов — это успокоительный рубеж, приносивший сознание новых возможностей (с. 618).
«Успокоительный» — не только потому, что «новые возможности», но и потому, что «рубеж».
ЛЕДЯНОЙ ХАОС ВОССТАВШИХ ВЕЩЕЙ
Лидия Гинзбург подробно описывает типичный зимний день «блокадного человека», с его механикой ежедневного выживания. Это — описание нового (по сравнение с довоенной жизнью) механизма с его новыми ритуалами. День открывается рубкой дров и походом в подвал за водой:
Типичный блокадный день начинался с того, что человек выходил на кухню или на темную лестницу, чтобы наколоть дневной запас щепок и мелких дров для времянки... Потом еще нужно принести воду из замерзшего подвала (с. 618).
Это мучительные процедуры — не только физически, но и психологически:
Сопротивление каждой вещи нужно было одолевать собственной волей и телом, без промежуточных технических приспособлений (Там же).
Здесь опять вспоминаются формалисты с их «сопротивлением материала». Именно они утверждали, что художественная форма произведения возникает как следствие преодоления сопротивления материала; здесь, в условиях блокады, форма жизни (социальная форма в том числе) разрушается от этого сопротивления: люди на карачках спускаются в подвал за водой:
Ледяной настил покрыл ступеньки домовой прачечной, и по этому скату люди спускались, приседая на корточки. И поднимались обратно, обеими руками переставляя
219
ModernitE в избранных сюжетах
перед собой полное ведро, отыскивая для ведра выбоины (с. 618).
Гинзбург демонстрирует, что искусство противоположно жизни и устроено по совершенно иным законам. Совершенно неожиданно, из внутренней полемики с формализмом, в «Записках блокадного человека» находит подтверждение формалистская идея об «имманентности литературы».
Сопротивление вещей иссушает, истощает и порождает тоску:
С пустыми ведрами человек спускался по лестнице, и в разбитом окне перед ним лежало суживающееся пространство двора, которое предстоит одолеть с пустыми ведрами. Внезапная ощутимость пространства, его физическая реальность возбуждала тоску (Там же).
Это тоска по предыдущему миру, миру порядка, по потерянному раю «блокадного человека», где бесперебойно работали механизмы и машины, где вещи были связаны в систему: «Водопровод — человеческая мысль, связь вещей, победившая хаос, священная организация, централизация» (с. 619). Этого мира больше нет, вещи ушли из-под контроля разума, связь уничтожена, и их приходится переживать заново. Человек со страхом «открывает» привычные некогда вещи — это страх остранения:
Закинув голову, человек мерит предстоящую ему высоту. В далекой глубине потолок с какой-то алебастровой нашлепкой... Оказывается, лестницы действительно висят в воздухе (если вглядеться — очень страшно), удерживаемые невидимой внутренней связью с домом (Там же).
Самое главное в этом пассаже находится в скобках: «если вглядеться — очень страшно». Вглядываясь, вычленяешь, вырываешь вещь из привычных связей, «не узнаешь» ее; каждая вещь, самая незначительная, таит в себе ужас. То, чего, по мнению Шкловского, можно достичь в литературе «остранением», в блокадной жизни достигалось разрушением — не только
220
Прорыв блокадного круга
разрушением связей, но и просто физическим разрушением — тела, домов, города:
Каждодневные маршруты проходят мимо домов, разбомбленных по-разному. Есть разрезы домов, назойливо напоминающие мейерхольдовскую конструкцию... Разрезы домов демонстрируют систему этажей, тонкие прослойки пола и потолка. Человек с удивлением начинает понимать, что, сидя у себя в комнате, он висит в воздухе, что у него над головой, у него под ногами так же висят другие люди... Невнимательные люди увидели вдруг, из чего состоит их город (с. 624-625).
«Блокадного человека» окружает хаос отдельных вещей, мир феноменов, дхарм. Буддийский созерцатель, йог может путем медитации увидеть их иллюзорность, пустоту. Человек западной рационалистической традиции пытается связать эти вещи системой, заклясть этот хаос новым порядком, ритуалами, автоматизмом. У Лидии Гинзбург автоматизм предстает как вершина рациональных способностей западного человека:
...практически речь идет о том, чтобы рационализировать домашние дела. Вместо судорожных движений найти автоматику движения. Автоматика — правильно решенная задача, и точность решения переживается мускульно и интеллектуально (с. 623)14.
14 Борясь с хаосом биологического, хаосом смерти, «блокадный человек» пытался наложить на него рациональную систему. Когда эта система — через механизмы ритуалов — выводила человека из ситуации остранения вещей и собственного тела, человек побеждал. Он выздоравливал к социальной жизни. Но следует различать рациональную систему, базирующуюся на системе ритуалов, переходящих в рутину и автоматизм, и просто попытки максимально рационально обустроить блокадный быт. Во втором случае человек не мог подчинить себе вещи, так как он напряженно рефлексировал над каждой из них, пытаясь загнать ее в наиболее рациональную связь с другими. Это напряжение — само по себе забиравшее множество сил — нередко приводило к паранойе, к дистрофической мании: «Рационализацией особенно увлекались интеллектуалы, заполнявшие новым материалом пустующий умственный аппарат. Т., чистокров
221
MODERNITfi в избранных сюжетах
И следующая ступень — уже социальная. Это социальная связь вещей и людей. Так происходит весной 1942 года, после самой, как потом оказалось, страшной блокадной зимы:
Хорошо, правильно, что город гордится подметенной улицей, когда по сторонам ее стоят разбомбленные дома; это продолжается и возвращается социальная связь вещей (с. 624).
БЛОКАДНОЕ ВРЕМЯ
И БЛОКАДНАЯ КУЛИНАРИЯ
Создание новых ритуалов происходит в координатах времени и пространства «блокадного человека», которые принципиально отличаются от мирного времени. Прежде всего тем, что «пространство», судя по всему, почти полностью заменяет у него время. Между походом за водой в замерзший подвал, походом в булочную за пайком, походом в столовую — не время, а пространство, которое с трудом преодолевает «блокадный человек»:
В течение дня предстоит еще много разных пространств. Основное — то, которое отделяет от обеда... Самый обед — это тоже преодоление пространств; малых пространств, мучительно сгущенных очередями (с. 619).
А время, кажется, исчезает; в блокированном, отрезанном от Большой Земли городе оно будто выкачано, ленинградцы испытывают временной вакуум15. Даже
ный ученый, принципиально не умевший налить себе стакан чаю, теперь часами сидел, погруженный в расчет и распределение талонов... Блокадная мания кулинарии овладела самыми неподходящими людьми... Чем скуднее был материал, тем больше это походило на манию» (с. 655).
15 Именно поэтому «выздоровление» «блокадного человека» прямо связано с возвращением времени в его жизнь: «Чувство потерянного времени — начало выздоровления. Начало выздоровления — это когда в первый раз покажется:
222
Прорыв блокадного круга
там, где, казалось бы, уж точно есть время — в очереди за хлебом, — оно тоже превращается в пространство. Время перемещает человека в пространственных координатах очереди, превращаясь в само это пространство:
Но тут же он думал, что даже если этому предстоит продолжаться еще пять, шесть или семь часов, то все-таки время всегда идет и непременно пройдут эти пять или шесть часов — какой бы мучительной неподвижностью они не наполнялись для человека, — что, значит, время само донесет его до цели (с. 632).
Персональное время человека превращается в общее время очереди, которое исчисляется не часами, а метрами до прилавка, где раздают хлеб. В результате время, исчисляемое пространственными мерами, становится «пустым», и человек, двигаясь в очереди, выталкивает эту пустоту, как поршень в цилиндре. Именно так возникает еще один вакуум «блокадного человека» (помимо временного вакуума) — психологический. Из-за него, например, невозможно читать в очереди:
В психологии очереди заложено нервозное, томящее стремление к концу, к внутреннему проталкиванию пустующего времени; томление разряжает все, что могло бы его разрядить. Психическое состояние человека, стоящего в долгой очереди, обычно непригодно для других занятий (с. 634).
Единственное занятие, на которое у «блокадного человека» остаются силы, чтобы заполнить этот вакуум, — разговор: «Человек не выносит вакуума. Немедленное заполнение вакуума, — одно из основных назначений слова» (с. 635). И вот разговор в очереди становится еще одним — полностью социальным — ритуалом «блокадного человека». Именно здесь не только реализуются его экзистенциальные, психологические и
слишком долго стоять в очереди сорок минут за кофейной бурдой с сахарином» (с. 623).
223
ModernitE в избранных сюжетах
социальные потребности (прежде всего самоутверждение), но и происходит процесс «всплывания» довоенного социального опыта, привычек и связей. Лидия Гинзбург подробно анализирует разговоры в очереди, отделяя в них «блокадное» от «довоенного», прослеживая, как переплетаются эти два уровня. Но следует помнить одно очень важное обстоятельство — такой разговор отличается от прочих ритуалов «блокадного человека» тем, что он является вдвойне вынужденным (сознательно и бессознательно), так как возникает «сам собой» во временном и психологическом вакууме очереди за хлебом.
Если графически представить себе день «блокадного человека», то неровные, вялые линии преодоления им пространства ведут к краткому мигу «включения времени» в процессе обеда или ужина. Ведь именно голод является главным инструментом, «отключившим» время для «блокадного человека»:
...голод перманентен, невыключаем. Он присутствовал неотступно и сказывался всегда (не обязательно желанием есть); мучительнее, тоскливее всего во время еды, когда еда с ужасающей быстротой приближалась к концу, не принося насыщения (с. 632).
Важен именно момент еды (издевательски короткий), за который «блокадный человек», собственно, и ведет битву. Этот момент он пытается растянуть всеми возможными ухищрениями, прежде всего — превращением торопливого поглощения пищи в ритуал. Ведь главной особенностью ритуала является то, что он «создает» собственное время. Любой ритуал в человеческом обществе — от религиозного до бытового — погружает своих участников в «другое время», иначе это не ритуал. Дальнейшие фазы автоматизации ритуала и превращения его в рутину трансформируют это его особое время, и оно постепенно улетучивается из него. Автоматизм призван «убить» время, предназначенное на какое-либо дело, вывести это дело из
224
Прорыв блокадного круга
поля сознания, а значит, и времени. Остранение, по Шкловскому, выводит вещь из ее автоматически воспринимающегося ряда, затормаживает внимание на ней и тем самым возвращает в «мир времени». Единственная в мире «блокадного человека» вещь, на которой стоит тормозить внимание, растягивать время его совершения, — это приготовление и поглощение пищи. Истощающему пустому пространству блокады он противопоставляет время создаваемых им кулинарных ритуалов — отсюда, отчасти, та одержимость «блокадной кулинарией», которой посвящены многие страницы «Записок».
Самые эмоциональные места этой аналитической книги — именно о манипуляциях с едой16. Обедая, «блокадный человек» как бы «включает время» и питает им себя — точно так же как и мизерной своей порцией. Он пытается отгрызть свое время, время убогого и изощренного гастрономического ритуала у перманентности и без-временности голода: «...съесть просто так — это слишком просто, даже бесследно. Блокадная кулинария — подобно искусству — сообщала вещам ощутимость» (с. 655). Именно здесь Лидия Гинзбург вновь сходится со Шкловским: в жизни, в блокадной жизни остранение губительно (в отличие от искусства), но это не значит, что искусство (вместе с остранением) полностью исключено из нее. Существует момент, когда включаются все главные возможности искусства, и оно выступает в «Записках» в виде искусства блокадной кулинарии. Блокадная кулинария призвана сделать то, что делает любое дру
16 Речь здесь идет, конечно же, о домашних манипуляциях с приготовлением пищи, начиная с растопки огня во времянке. Этот ритуал, включающий разогревание принесенной из столовой пищи, приготовление новых блюд и т.д., — оттягивал и сам момент поглощения еды; причем если в столовой человека отделяло от еды пространство очереди, которое нужно было преодолевать, то дома отодвигание обеда или ужина было растягиванием именно времени.
225
MODERNITfc В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
гое искусство (по Шкловскому): остановить момент восприятия, затормозить его, сделать вещь — вещью, остановить мгновение:
Элементарные материалы превращались в блюдо. Мотивировались кулинарные затеи тем, что так сытнее и вкуснее. А дело было не в этом, но в наслаждении от возни, в обогащении, в торможении и растягивании процесса... (с. 655).
Смысл блокадной кулинарии — «продукт должен перестать быть собой» (Там же), что же до кулинарной изобретательности «блокадного человека», то она неистощима: тюлька, пропущенная через машинку «с маслицем» (с. 637), щи из лебеды и крапивы (Там же), каша из хлеба, хлеб из каши, лепешки и каша из зелени, котлеты из селедки, тушеные листья салата и т.д. и т.п.
Чем больше усилий вкладывает «блокадный человек» в приготовление пищи, тем сильнее его разочарование: остановить мгновение не удается, гастрономические манипуляции с эрзацами оказываются лишь эрзацем искусства:
После всего, что Эн с минуты пробуждения делал для этого завтрака, после того как с некоторой торжественностью он садился за стол, предварительно обтерев его тряпкой, он съедал все рассеянно и быстро, хотя знал, что теперь еда должна быть осознанной и ощутимой. Он хотел и не мог сказать мгновению: «Verweile doch! Du bist so schon!» (c. 657).
Но то, что не получалось день за днем в роли искусства, в качестве ритуала способствовало главной победе Эн — он выжил.
ПРОРВАТЬ КРУГ
Разочарование, которое постигает Эн, когда он торопливо и невнимательно съедает тщательно приготовленную им еду, ставит следующий вопрос — о целях
226
Прорыв блокадного круга
«блокадного человека», о непрерывности этих целей, о телеологии. И вот здесь мы снова возвращаемся к толстовской проблематике, к тому, как из совокупности разнообразных действий и поступков возникает некое единое движение — в случае «Записок блокадного человека» даже не движение «народа», а отдельного человека. Как совокупность бесчисленных побуждений и действий вычерчивает общий вектор и как определяется направление этого вектора? И — если в случае «блокадного человека» действительно можно говорить о целеполагании — как происходит движение от одной точки к другой, от одной цели к следующей?
В ЗО-е годы Лидия Гинзбург писала о проблеме «непрерывности научных интересов», теперь же речь идет о проблеме непрерывности интереса к поддержанию жизни, непрерывности перехода от одного тяжкого усилия к другому. Интересно, что промежутки между этими усилиями можно было бы назвать «пустотами» (термин, кстати говоря, пространственный), однако, как мы помним, Гинзбург говорит именно о «непрерывности этих усилий» об «отсутствии покоя даже во сне»». Самажизнь «блокадного человека» определяется ею как «возобновляемое достижение вечно разрушающихся целей» (с. 620)17. Разрушенный механизм жизни заменяется суммой последовательных изолированных усилий. Точно так же как «блокадный человек» потерял связь с миром вещей, его действия мало связаны между собой. Но, как это ни странно для истощенного человека, сами усилия по возобновлению действий не так уж велики. Прежде всего, каждое из них, сколь бы оно ни было тяжким, «вытесняет страдание»:
Это вытеснение страдания страданием, эта безумная целеустремленность несчастных, которая объясняет.., почему люди могут жить в одиночке, на каторге, на последних ступенях нищеты, унижения, тогда как их сочеловеки в
17 Что очень точно иллюстрируется разочарованием от не-состоявшейся кульминации блокадного кулинарного ритуала.
227
ModernitE в избранных сюжетах
удобных коттеджах пускают себе пулю в лоб без видимых причин (с. 620).
Тут важно, что вытесняемое страдание — физическое, биологическое, а вытесняющие (усилие, работа воли, поход за водой, очередь в столовой и т.д.) носят максимально ритуализированный и социализированный характер. И вот здесь, в этой точке возвращения старых (видоизмененных) ритуалов и создания новых, блокадных, происходит формирование нового, социально обусловленного механизма жизни, вытесняющего хаос биологического, формирование механизма, защищающего от зла18 * и в конечном счете способствующего выживанию «блокадного человека» и Победе:
Цели, интересы, импульсы страдания порождают ряды закрепившихся действий, все возобновляемых и уже не обременительных для воли. Но воля бессильна разорвать этот ряд, чтобы ввести в него новый, не закрепленный страданием жест (Там же).
Ограниченность этой системы (назовем ее вслед за Лидией Гинзбург «режимом») коренится в источнике ее происхождения (и, соответственно, в источнике ее силы): она отвергает все лишнее, любые элементы, не обусловленные страданием. Собственно говоря, ритуал «блокадного человека» превращается в рутину, в автоматизм для того, чтобы по возможности исключить волю из процесса поддержания жизни.
«Так сложился круг блокадного зимнего дня. И среди передышки это движение, вращательное и нерасторжимое, еще продолжается, постепенно затухая. Люди несут в себе это движение как травму» (Там же). Гинзбург называет этот блокадный режим — «кругом»; скорее даже наоборот — «бег по кругу» «бло
18 В начале войны он вытеснял ожидание: «Среди неустояв-
шейся тоски этих первых дней, когда новые формы жизни еще не определились, это механическое занятие (наклейки бумажных полос на окна. — К. К.) успокаивало, отвлекало от пустоты ожидания» (с. 626).
228
Прорыв блокадного круга
кадного человека» она называет «режимом»: «Бег по кругу приобретает отчасти характер режима» (Там же). Обусловленность страданием, необходимость вытеснить биологическое, физическое страдание повторяющимся ритуалом (а затем и автоматизмом), установить новый тип связей между собой и вещами (и между самим вещами) — вот что создает «режим», о котором так безнадежно мечтал герой «Записок» в мирное время19. И вот на этой стадии рассуждения термин «режим» приобретает отчетливые больничные коннотации. Можно было бы даже попытаться рассмотреть блокаду как страшную болезнь, поразившую Ленинград и его жителей, а «режим» — как набор мер, призванный справиться с ней, выздороветь20. Однако тут есть важное отличие. Обычному больному врачи предписывают готовый режим, а блокадный человек во многом создает его себе сам. Создание режима и следование его правилам утомительно для истощенного человека — как утомительно для него любое действие, — и он уже начинает мечтать об освобождении, о настоящей, «нормальной», «доблокадной» болезни. И эта мечта — тоже симптом той болезни, во власти которой находится герой, симптом блокады: «Я был болен особой, блокадной болезнью воли. И единственно вожделенным, разрешающим выходом мечтался выход из нее в обыкновенную, прежнюю человеческую болезнь» (с. 738).
19 «Для многих режим, рабочий порядок всегда был недостижимой мечтой. Не давалось усилие, расчищающее жизнь. Теперь жизнь расчистило от всяческой болтовни, от разных заменителей и мистификаций, от любовных неувязок или требований вторых или третьих профессий, от томящего тщеславия... Мы, потерявшие столько времени, — вдруг получили время, пустое, но не свободное» (с. 620-621).
20 Отсюда и неожиданное, казалось бы, сравнение магазина, где выдают хлебный паек, с амбулаторией: «...это как-то похоже на жестокую прибранность амбулаторий; охраняя человека... возбуждают в нем злобу и страх неумолимостью своего механизма» (с. 632).
229
MODERNITt В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
«Режим» позволял «блокадному человеку» выжить и тем самым приобщиться к делу Победы. Вновь и вновь Гинзбург обнажает работу проанализированного Толстым механизма сочетания общей цели и частной жизни. Но постепенно толстовская проблематика начинает заменяться прустовской; высшим оправданием «режима» и выживания становится задача свидетельствовать, отрефлексировать, описать:
Режим существует для чего-то. Эн не чужд дистрофической идее восстановления сил, мотивировавшей всякую всячину, и в особенности тотальное подчинение времени трем этапам еды. Но он уже спрашивает: для чего восстанавливать силы? ...Тяжким усилием воли, привыкшей к однообразной серии жестов, нужно где-то, в каком-то месте раздвинуть круг и втиснуть в него поступок. Если человек умеет писать, то не должен ли он написать об этом и о предшествовавшем. Где-то, скажем, после домашних дел полтора-два часа.., чтобы писать. Тогда оживут и потянутся к этому часу все другие частицы дня, располагаясь вокруг него иерархически (с. 621-622).
Телеология предстает здесь как оправдание низшего высшим, что является одним из самых важных принципов философии Лидии Гинзбург. И это при том, что созданный «блокадным человеком» механизм жизни, противостоящий хаосу, смерти, распаду, был, в силу непосредственной близости этого самого хаоса и смерти, обнажен: «Теперь же причинно-следственная связь импульсов и поступков была грубо обнажена и завинчена» (с. 621)21. Прием обнажен, вновь как
21 Из этой обнаженной, наглядной системы импульсов и следствий были исключены многие вещи. Например, «воображение», ведь чтобы бояться смерти, надо ее (недоступную опыту вещь) вообразить: «Чтобы конкретно мыслить мгновенный переход от комнаты и человека к хаосу кирпича, железа и мяса, а главное, к несуществованию, — нужна работа воображения, превышающая возможности многих» (с. 629). И здесь социальный механизм работает на вытеснение биологического, эмоционального страха смерти: «Легче иногда,
230
Прорыв блокадного круга
у Шкловского, как у формалистов, но и в этом случае есть существенная разница: «обнажение приема» не тормозит повествование, не остраняет вещь, чтобы заново пережить ее делание (а то и пересоздать ее), а создает условия, чтобы не рефлексировать, не переживать автоматизм выполнения ритуалов поддержания жизни. Рефлексия предназначена для другого — для поступка.
Рефлексия (как и фиксация происходящего) в условиях блокадного «режима» уже есть поступок, который тяжело поместить в железную последовательность обусловленных страданием ежедневных действий, так как он, хотя и обусловлен, но обусловлен по-иному и иным. Именно поэтому он задает новую иерархию блокадного дня, подтверждает существование общих связей, восстанавливает связь с внеличностным и тем самым — что вполне в русле мысли Лидии Гинзбург — дарует свободу «блокадному человеку»:
Круг — блокадная символика замкнутого в себе сознания... Пишущие, хочешь не хочешь, вступают в разговор с внеличностным. Потому что написавшие умирают, а написанное, не спросись их, остается... написавшие умирают, а написанное остается. Написать о круге — прорвать круг. Как-никак поступок. В бездне потерянного времени — найденное (с. 658-659).
Первая часть «Записок блокадного человека», начинаясь с Толстого, заканчиваются Прустом. «Блокадный человек» сделал то, что от него требовало общее дело войны, — он выжил, создав и автоматически выполняя ритуалы ежедневной жизни, вытеснив физическое страдание, хаос биологического, смерть. Он создал «режим» с его жесточайшей дисциплиной, причинно-следственной обусловленностью, с его целеполаганием и постоянно возобновляющимися усилиями воли,
идя на смертельную опасность, не думать о смертельной опасности, нежели идти на службу и не думать о полученном выговоре в приказе» (Там же).
231
MODERNITY В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
он создал круг. И — испытав разочарование в факте «выживания»22 — он прорвал это круг новым усилием воли и мысли. «Блокадный человек» отрефлексировал свой страшный опыт. Он победил.
22 «Круг должен замкнуться... Ход вещей определяет усталость, исчерпанность ритуальных жестов дня... Круг печально стремится к своему несуществующему концу» (с. 743).
232
Kobrin, К.
Modernite in Selected Cases [Text] / K. Kobrin; National Research University Higher School of Economics. — Moscow: HSE Publishing House, 2015. — 240 p. — (Cultural Studies). — 1000 copies. — ISBN 978-5-7598-1250-0 (hardcover).
“Modernity in Selected Cases” is dealing with a few subjects but there is only one main topic in the book. This topic is modernity “modernity”, Modern times, a historical period which transformed the world more seriously and deeply than any other changes from the early years of Christianity. In the Russian common language “modern” cannot be differed from “contemporary”; in this context “modern” opposes “past” and “history”. But in English and French the terms “modern” and “modernity” have their own chronological limits and their own content.
That is why this book focuses on modernity — modernity as the term introduced by Charles Baudelaire and as the historical period of industrial revolutions, market economy, mass production, mass society and mass ideologies. Kirill Kobrin tries to investigate the types and structure of historical consciousness of some of those who either participated in the making of modernity or opposed it.
This book is written for the readers who have a taste for historical deliberations.
Научное издание
Серия «Исследования культуры»
КИРИЛЛ КОБРИН
MODERNITE
В ИЗБРАННЫХ СЮЖЕТАХ
НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАИ ЧАСТНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ XIX-XX ВЕКОВ
Главный редактор
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Заведующая книжной редакцией
ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА
Художник
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ
Верстка
ОЛЬГА БЫСТРОВА
Корректор
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
Тел./факс: (499) 611-15-52
Подписано в печать 12.12.2014. Формат 84x108/32
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 10,7
Тираж юоо экз. Изд. №1836. Заказ №7034
Отпечатано способом ролевой струйной печати в ОАО «Первая Образцовая типография» Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, т/ф. 8(496)726-54-10