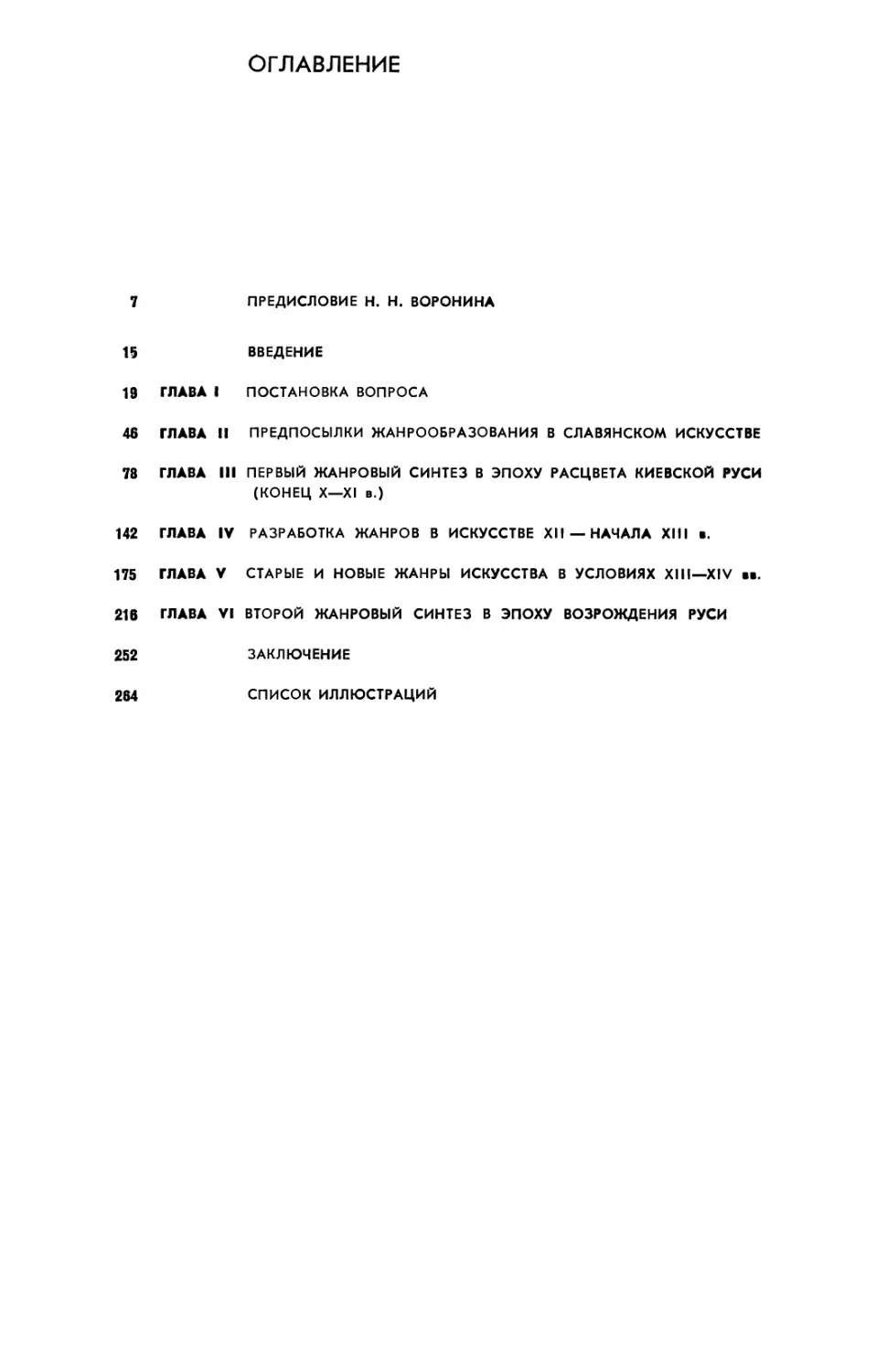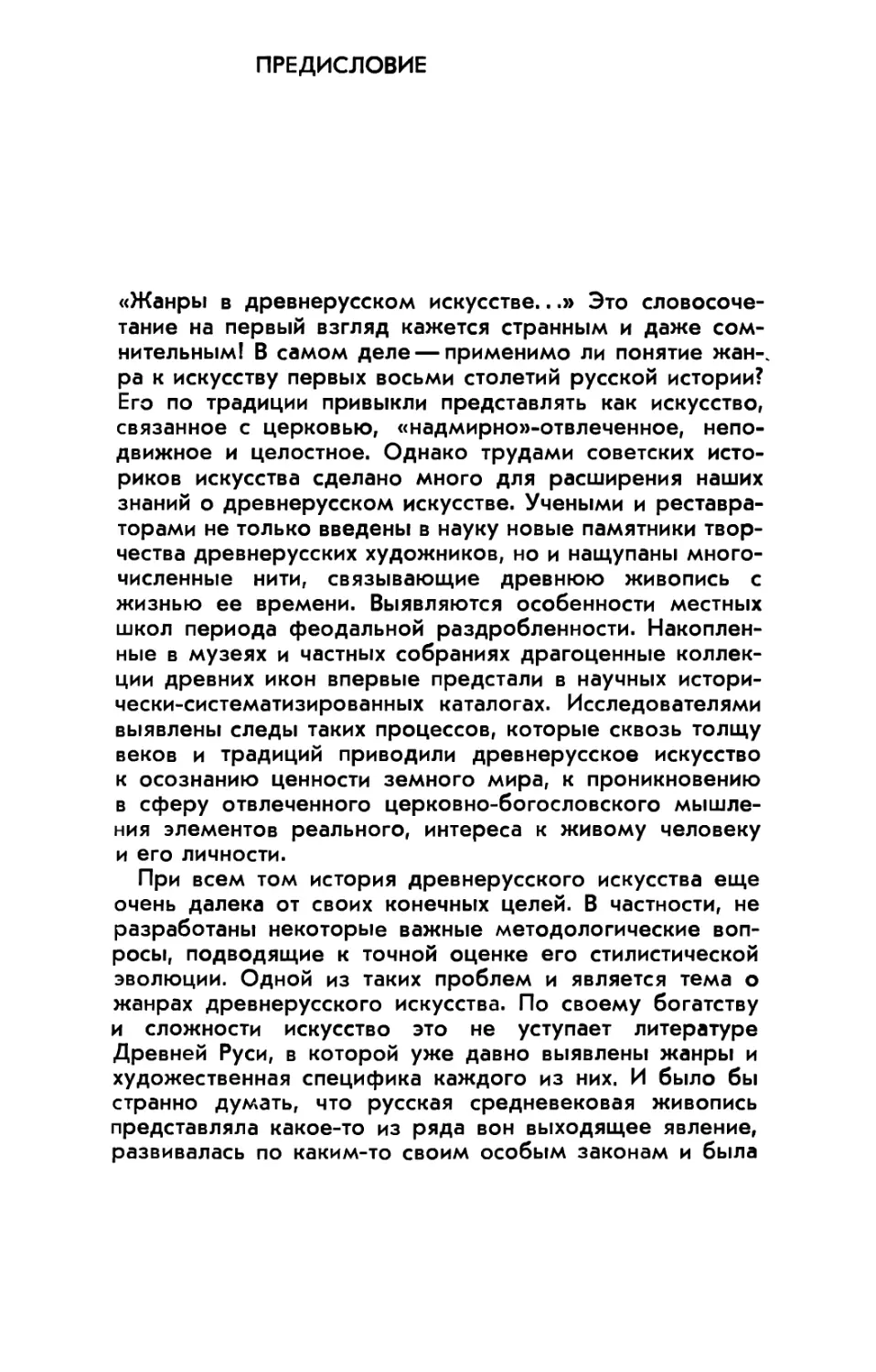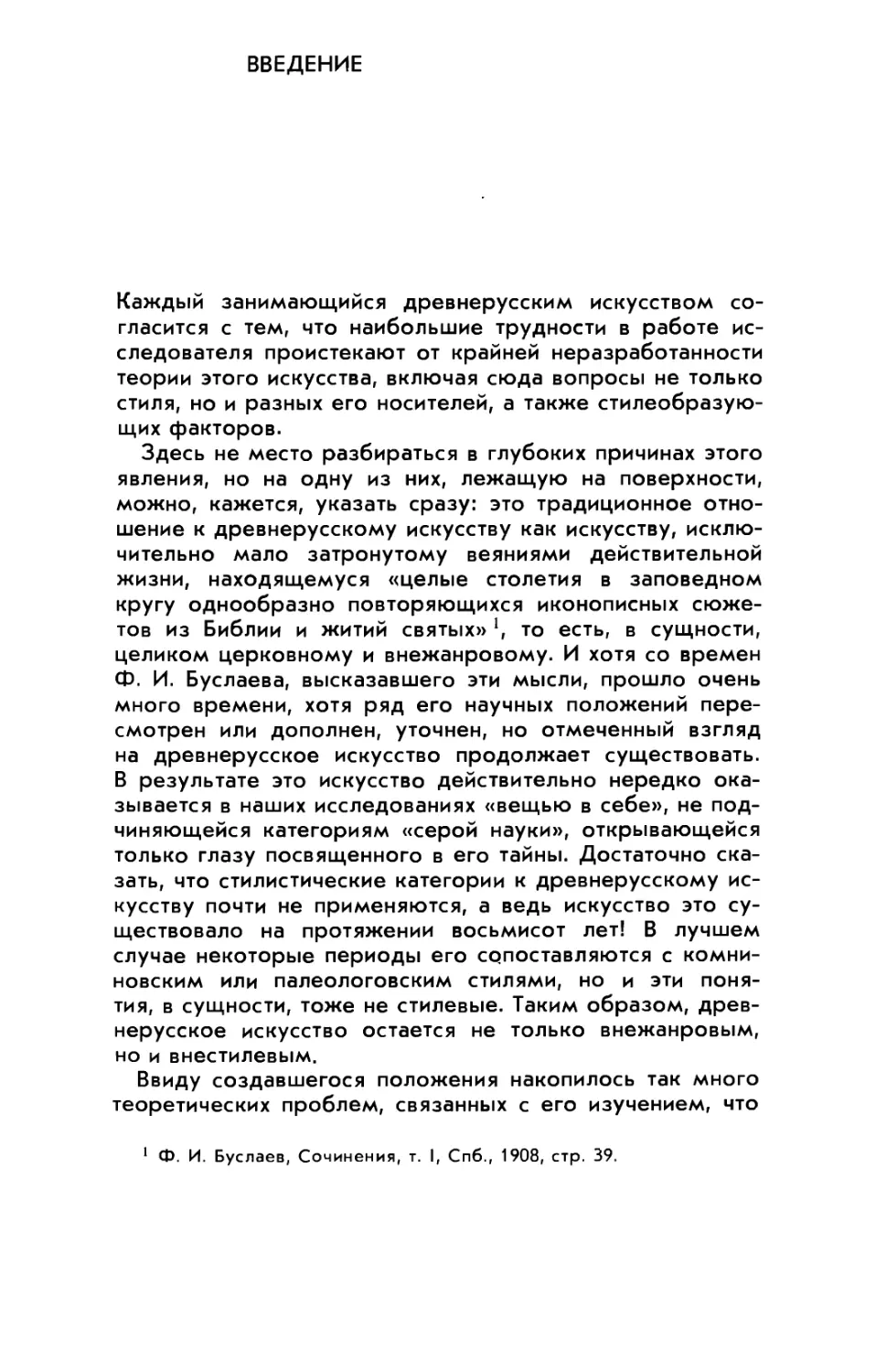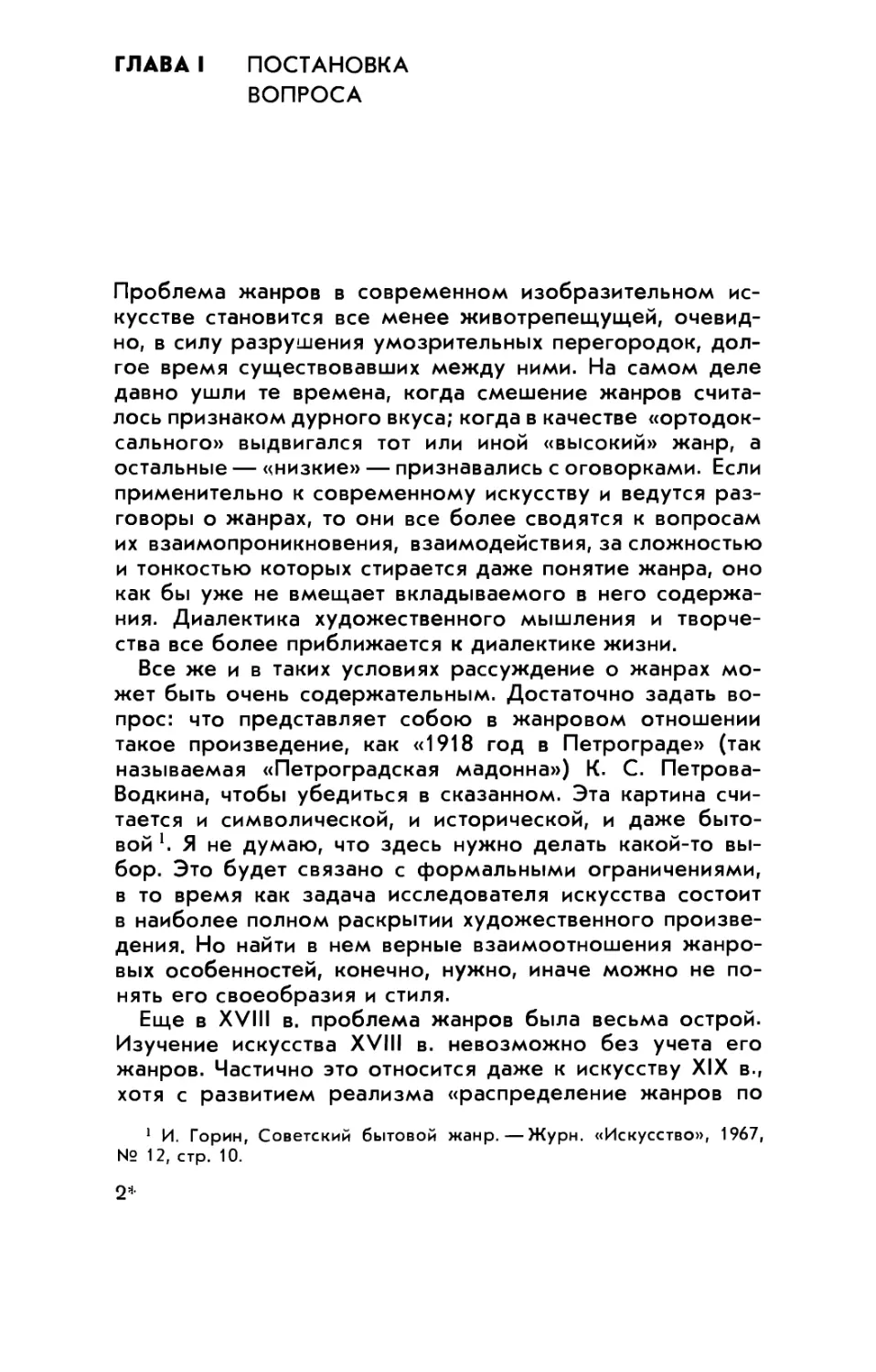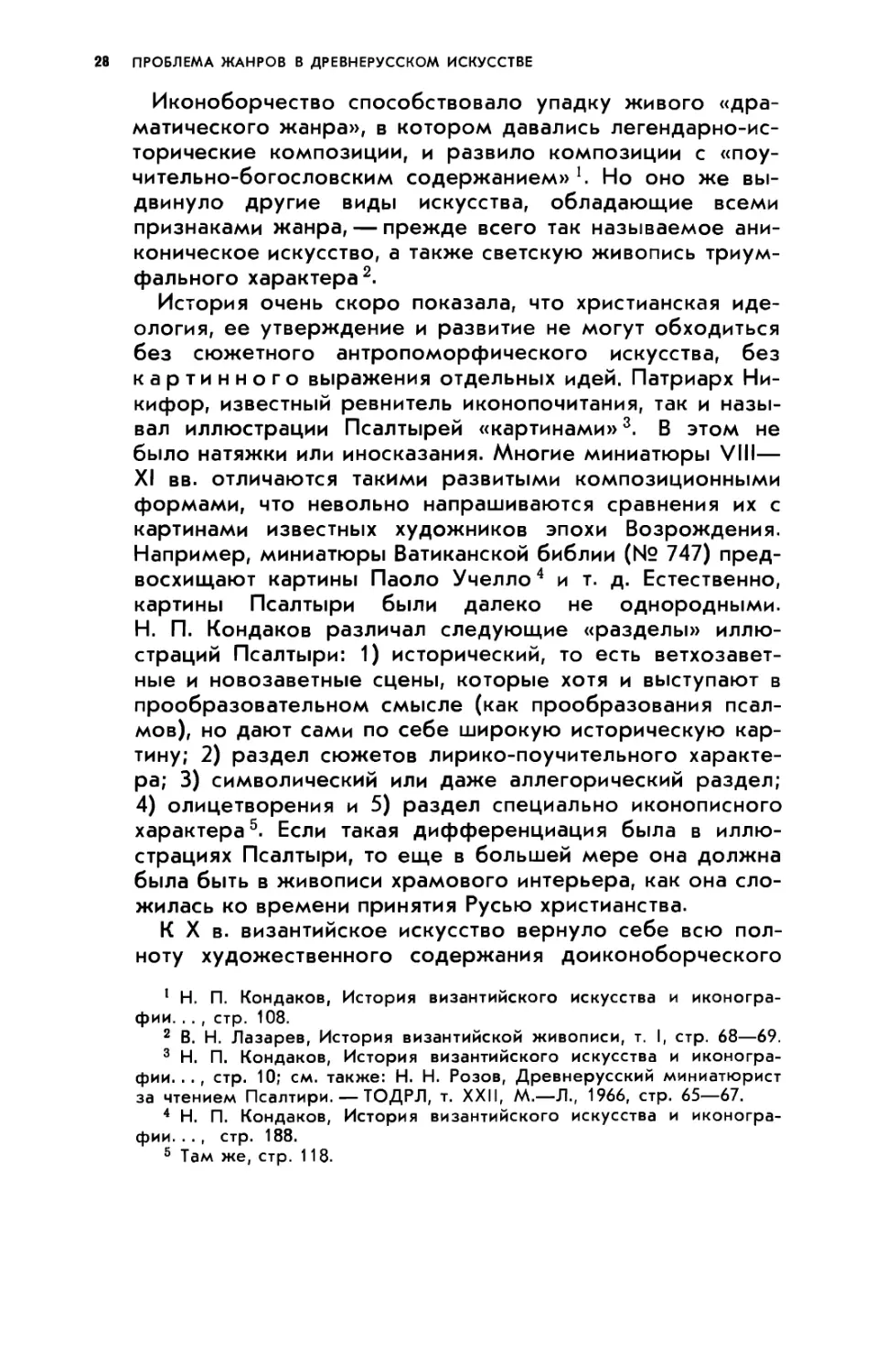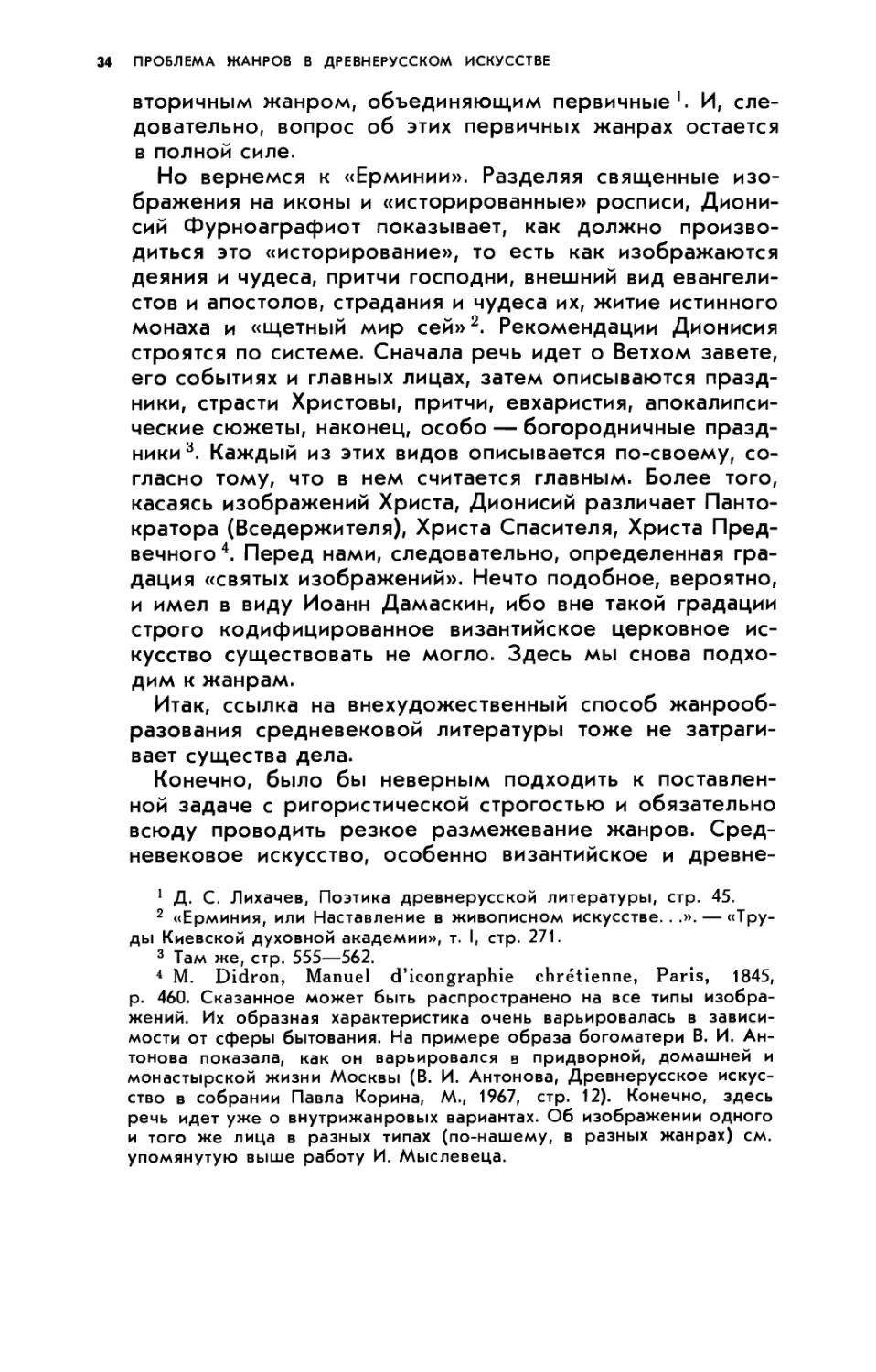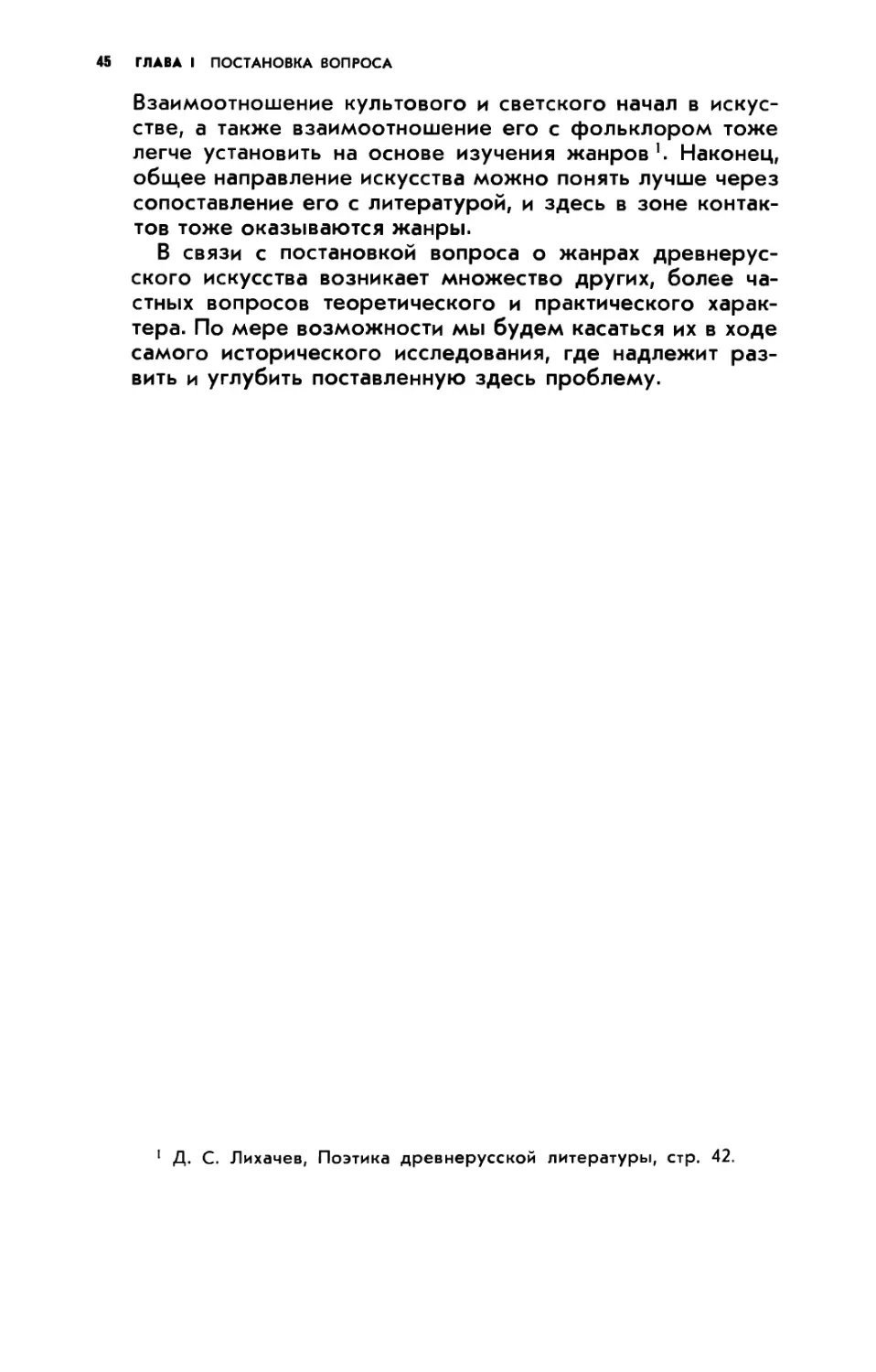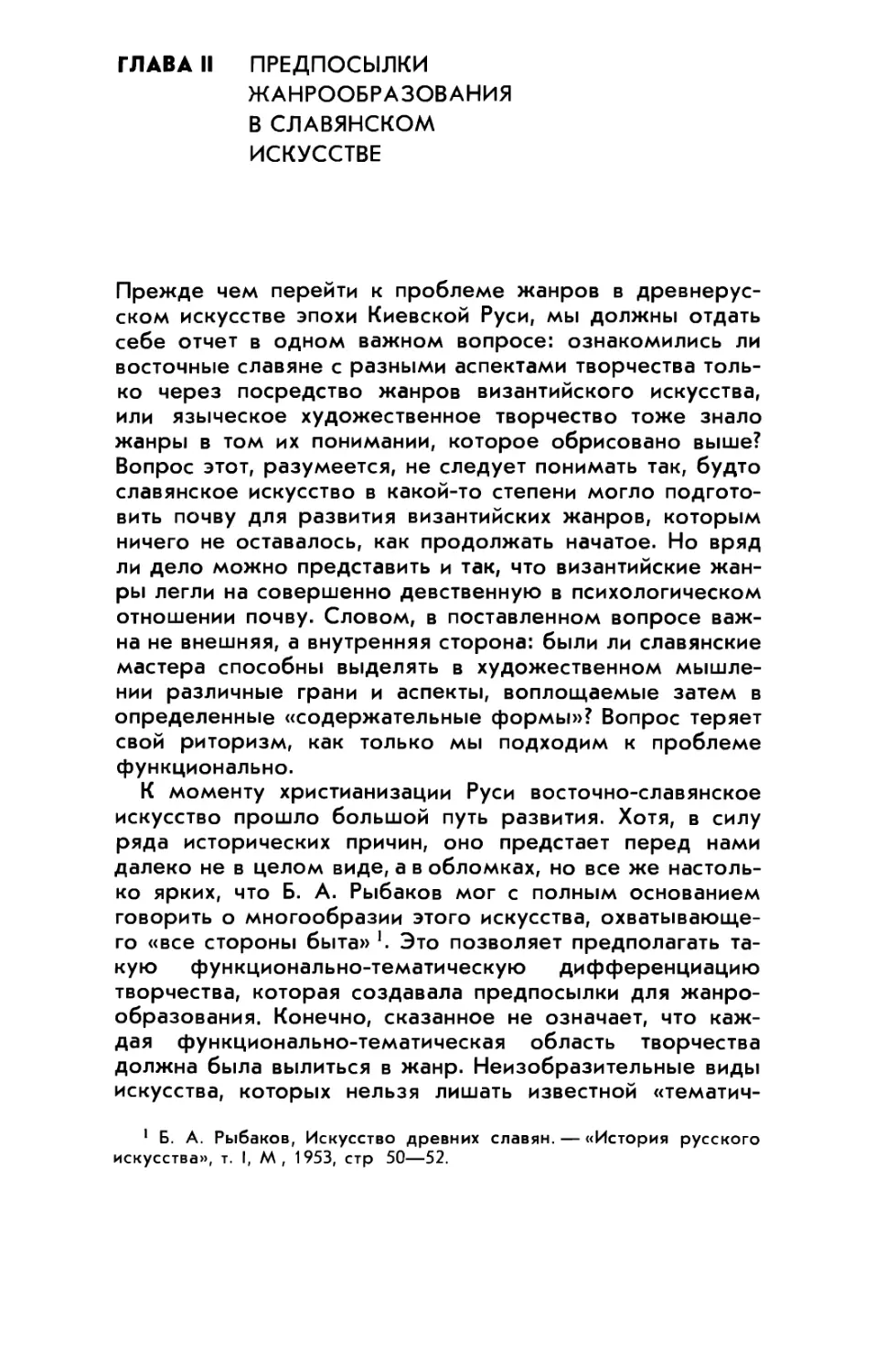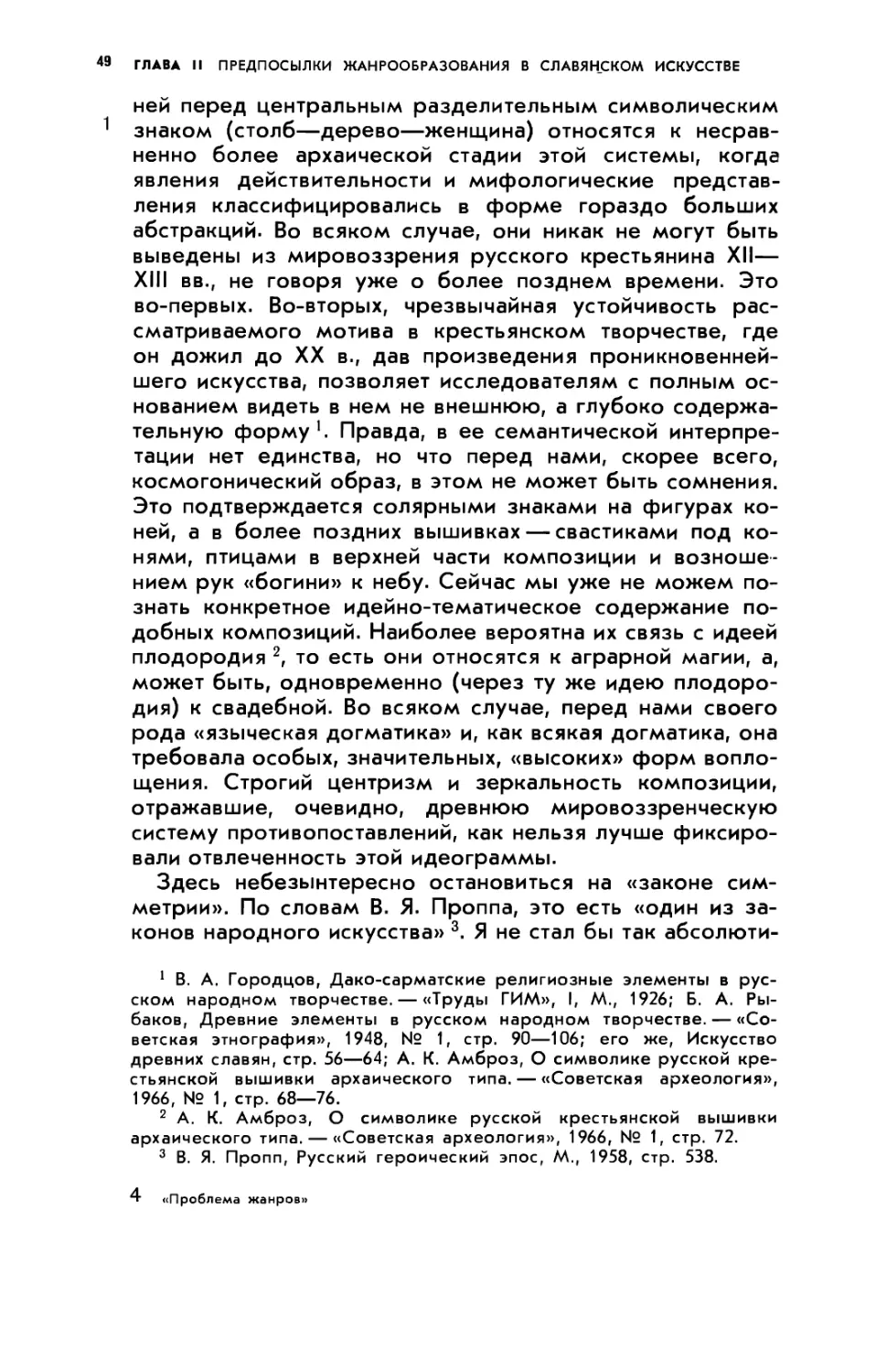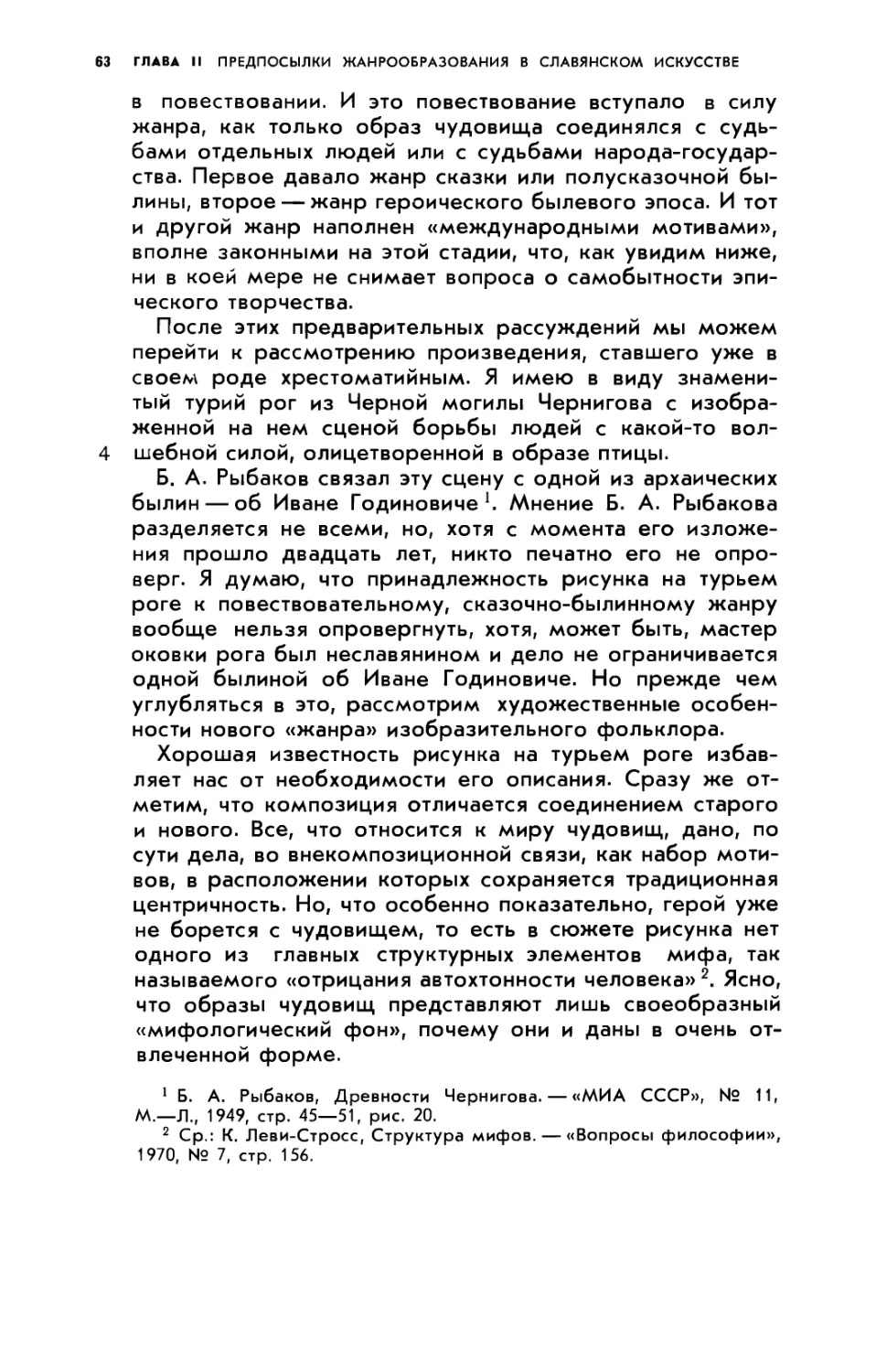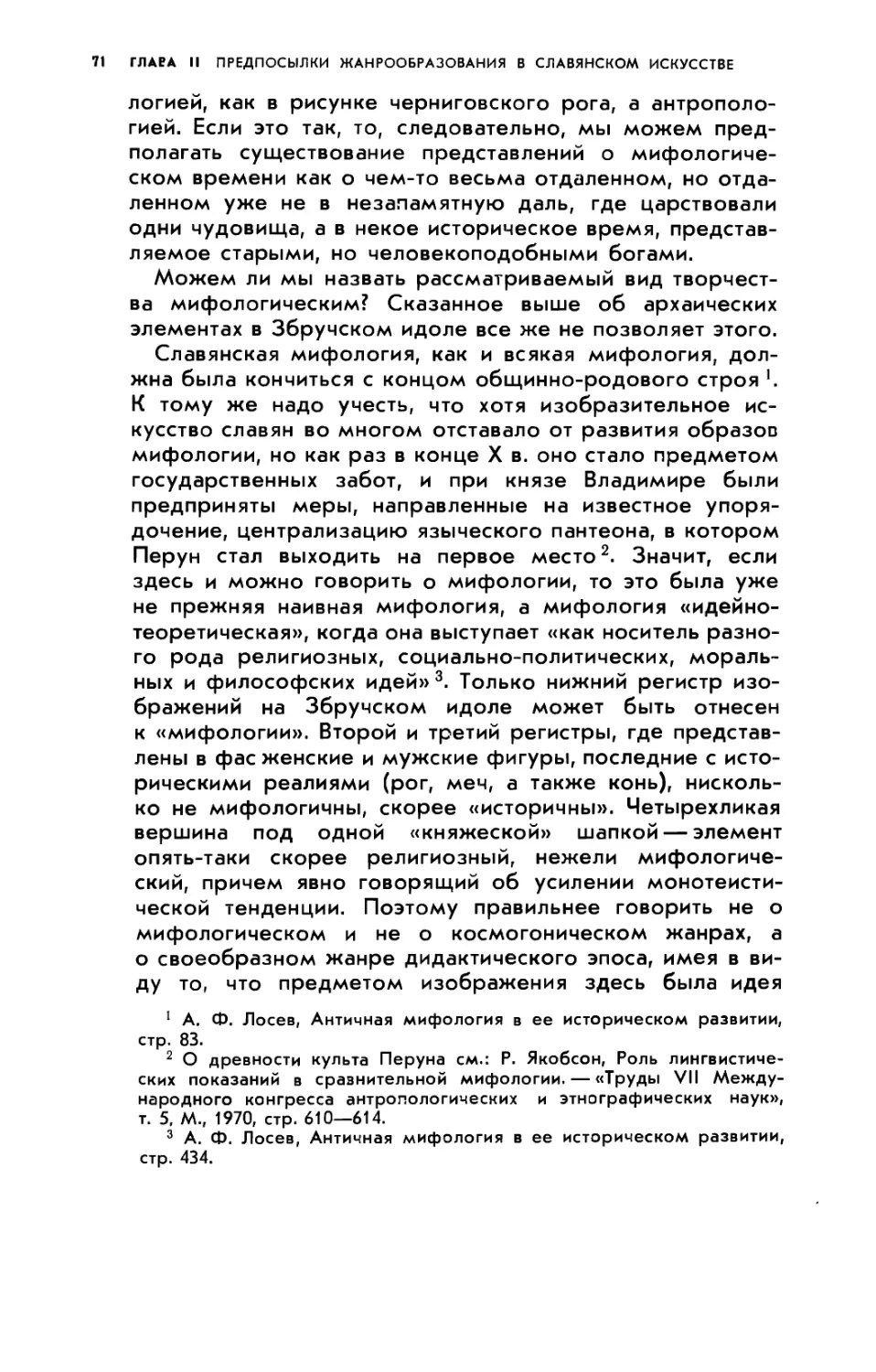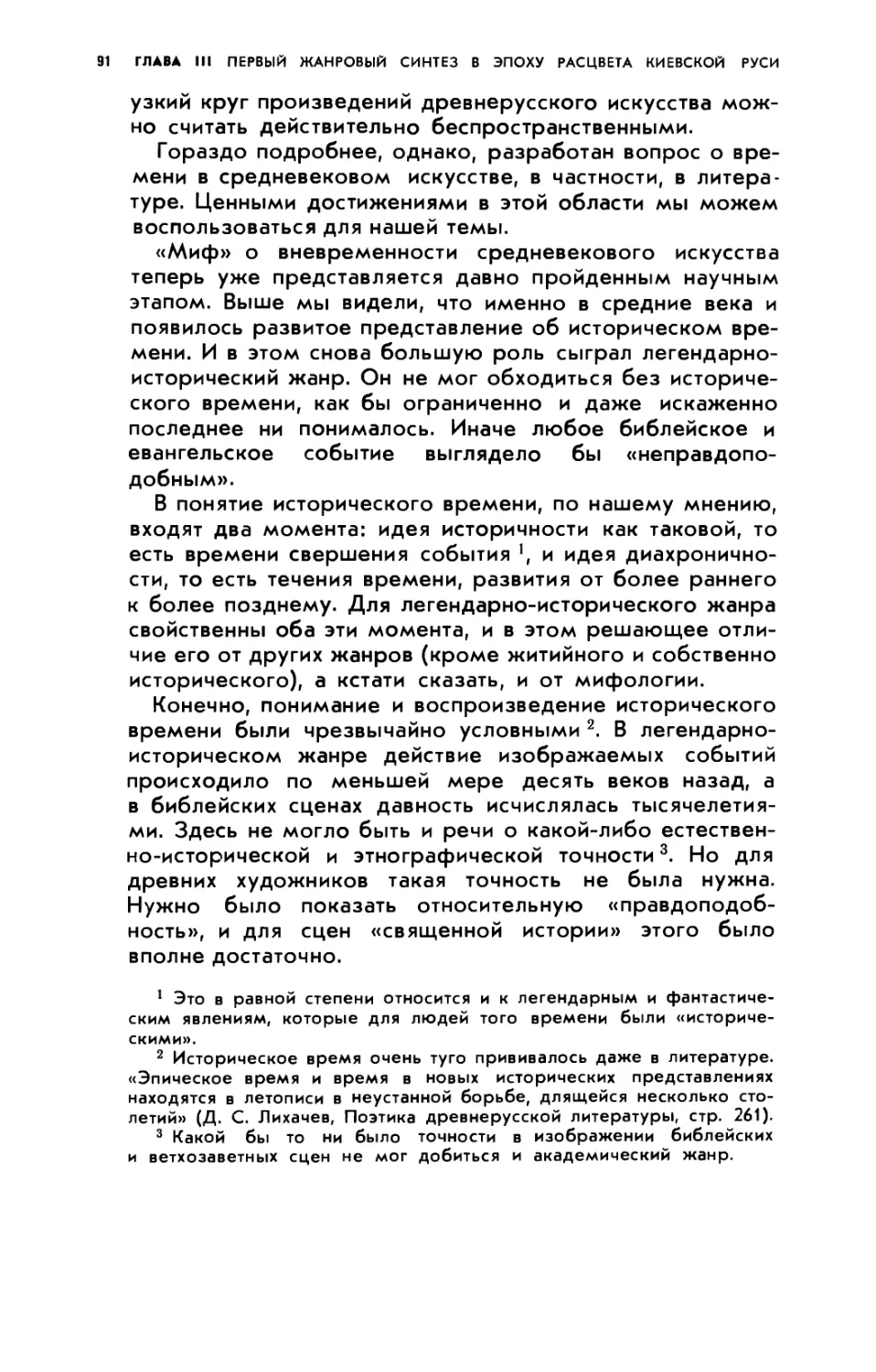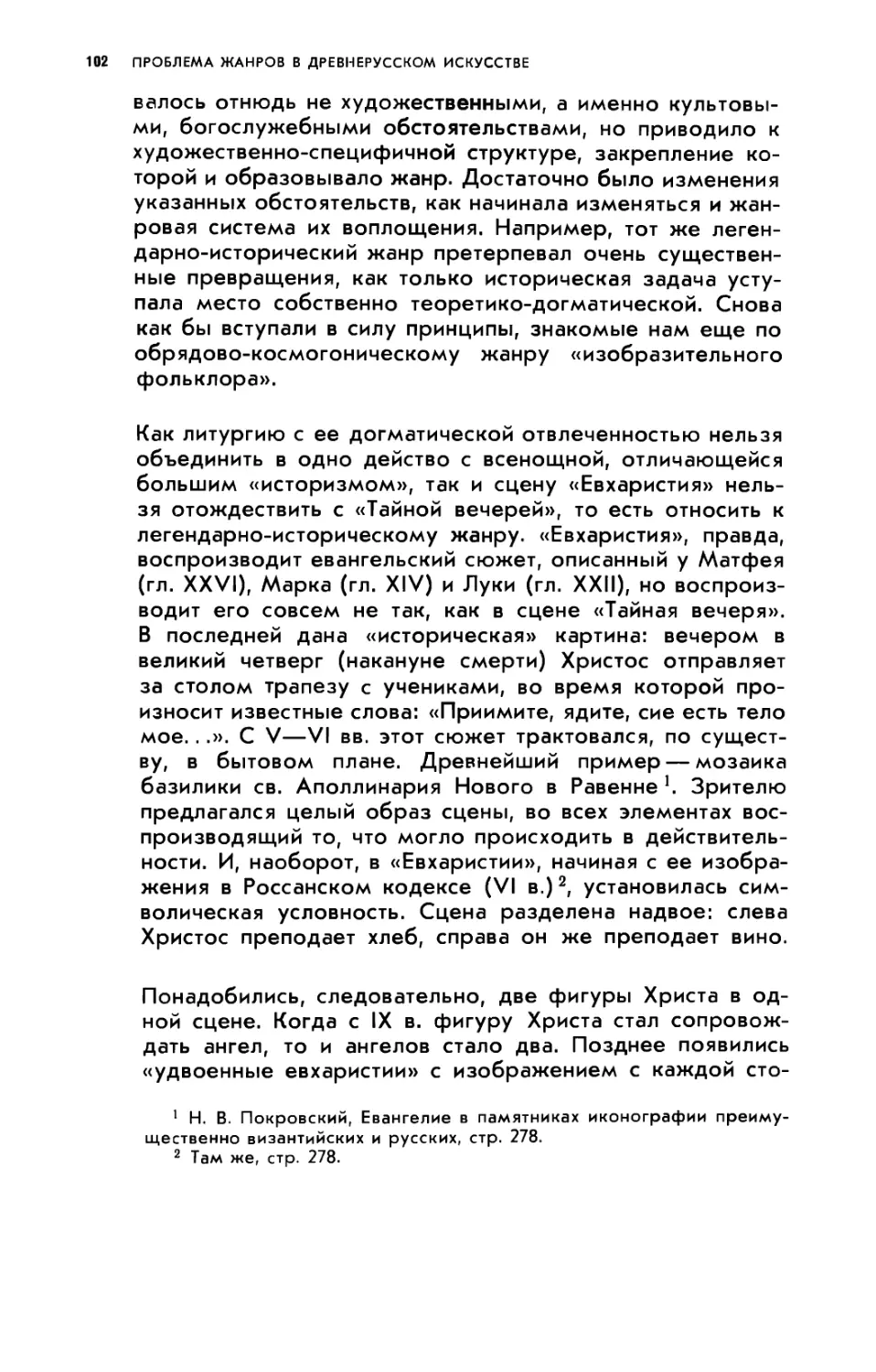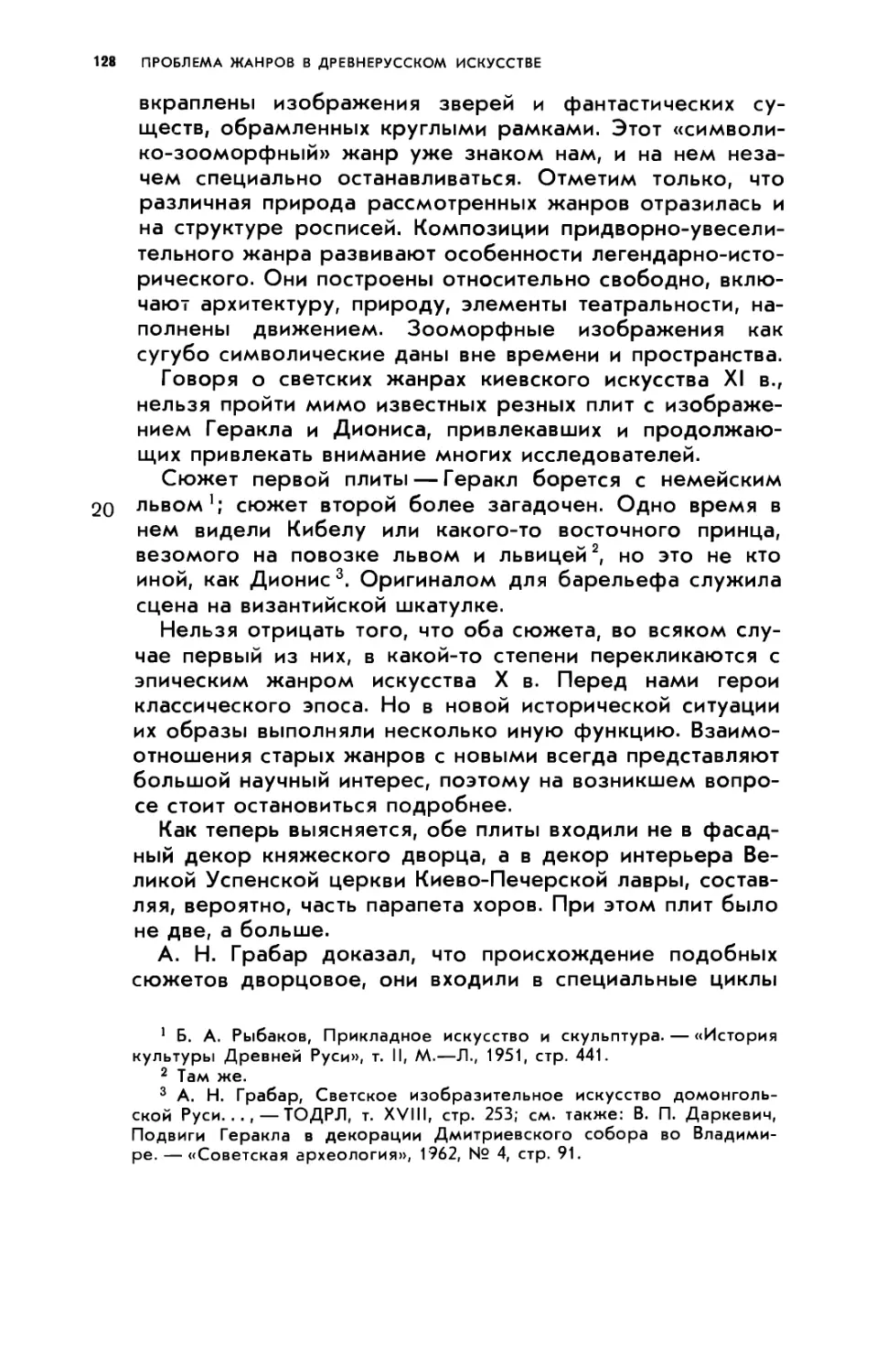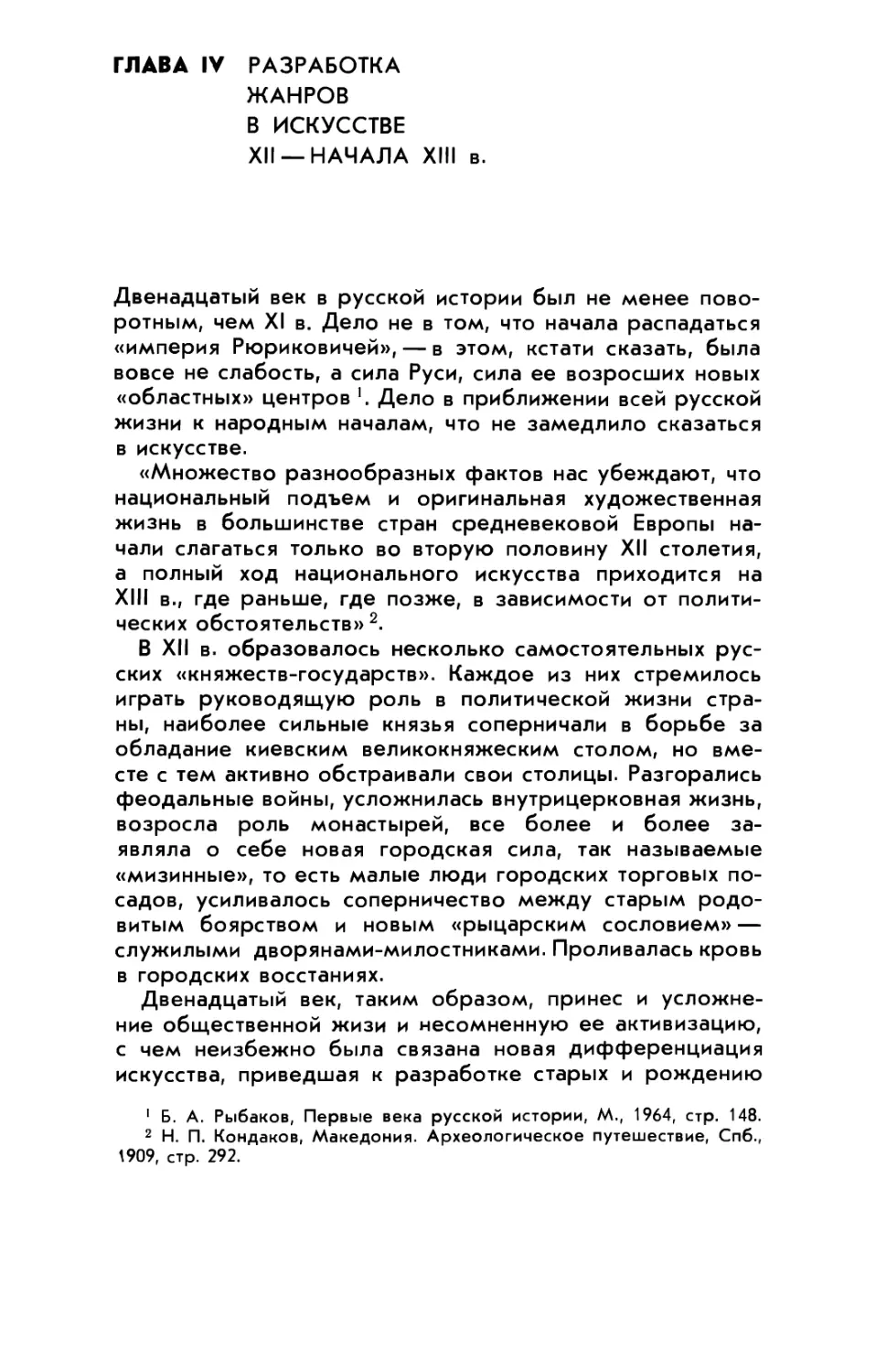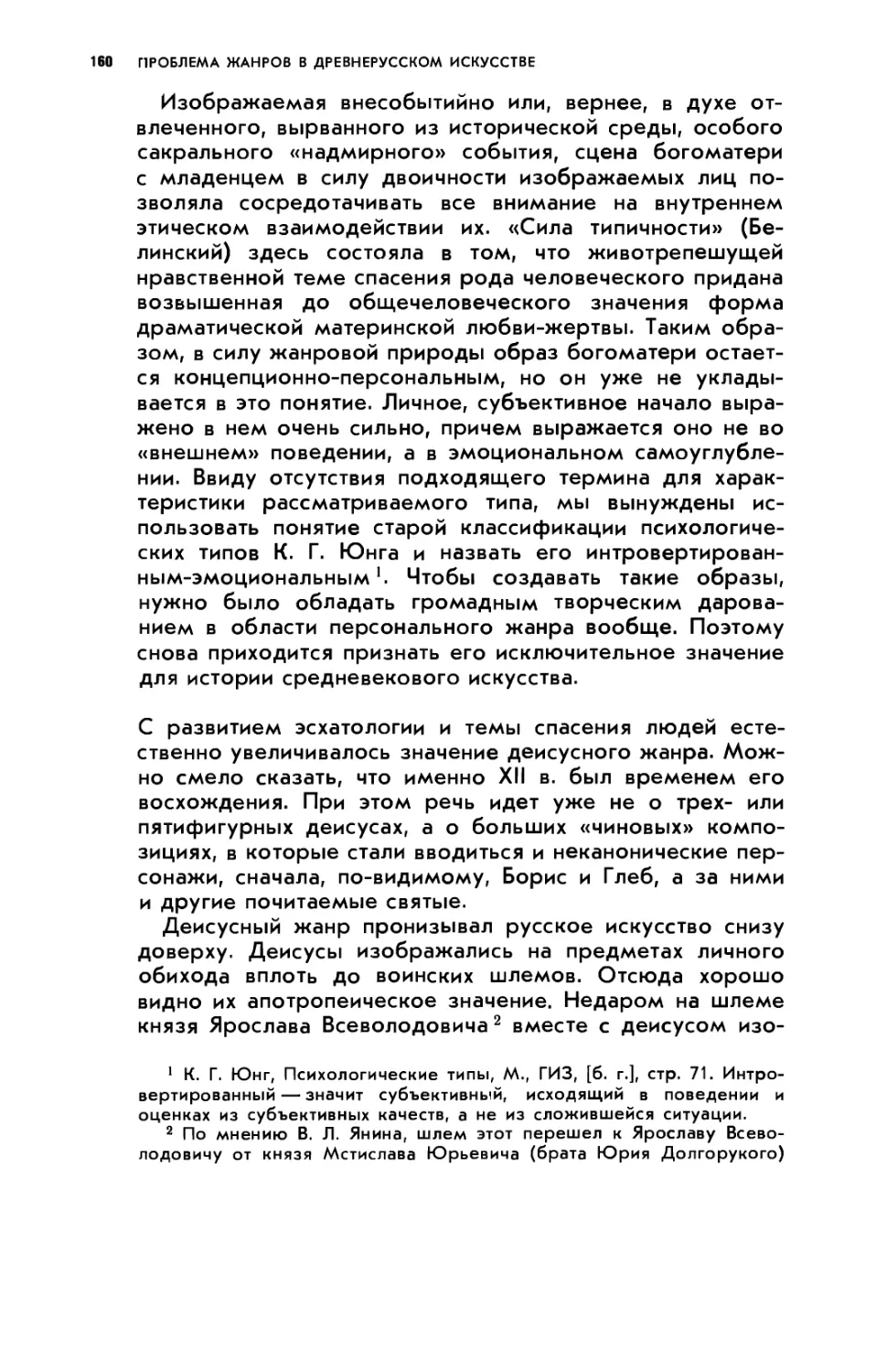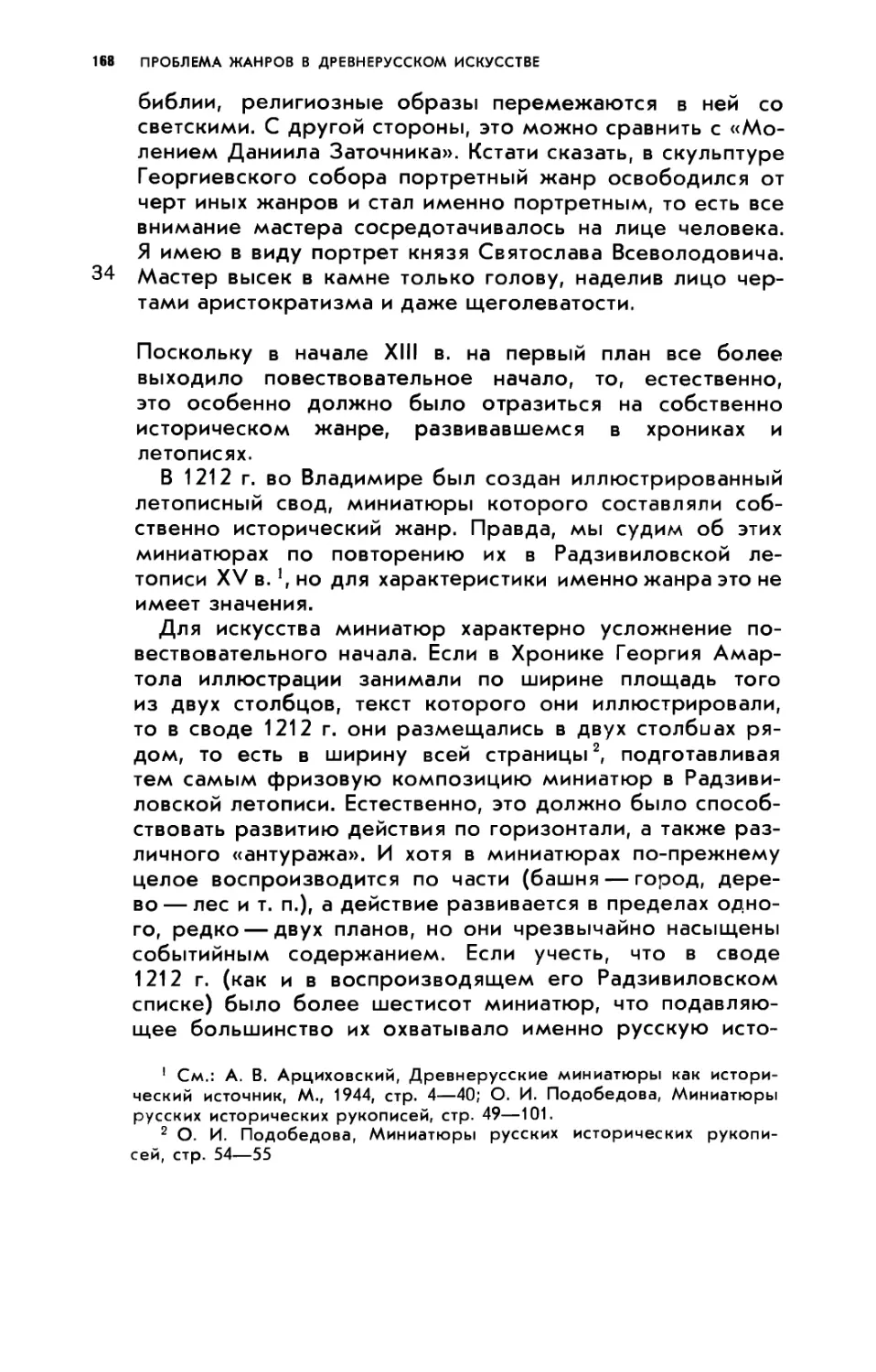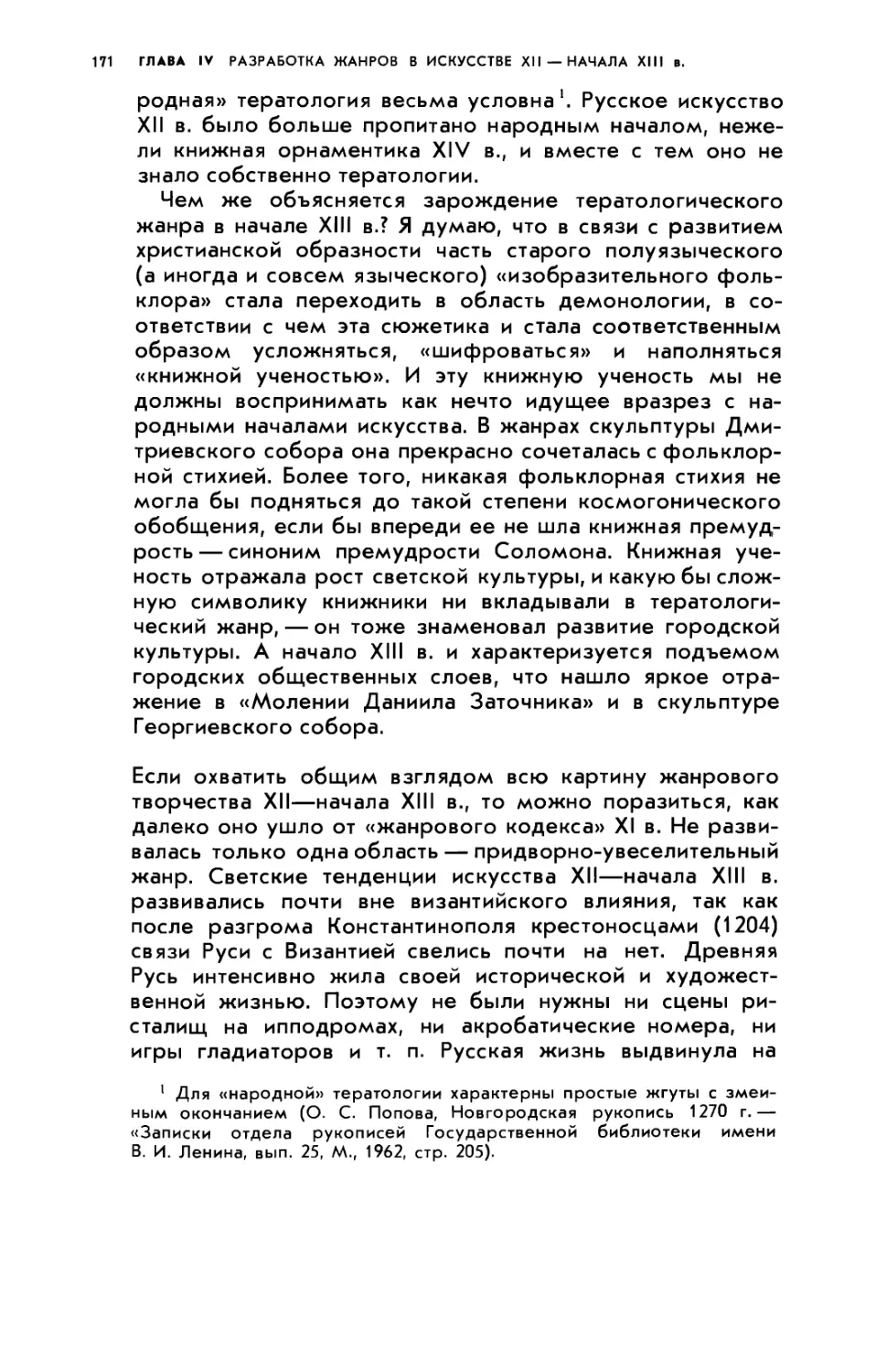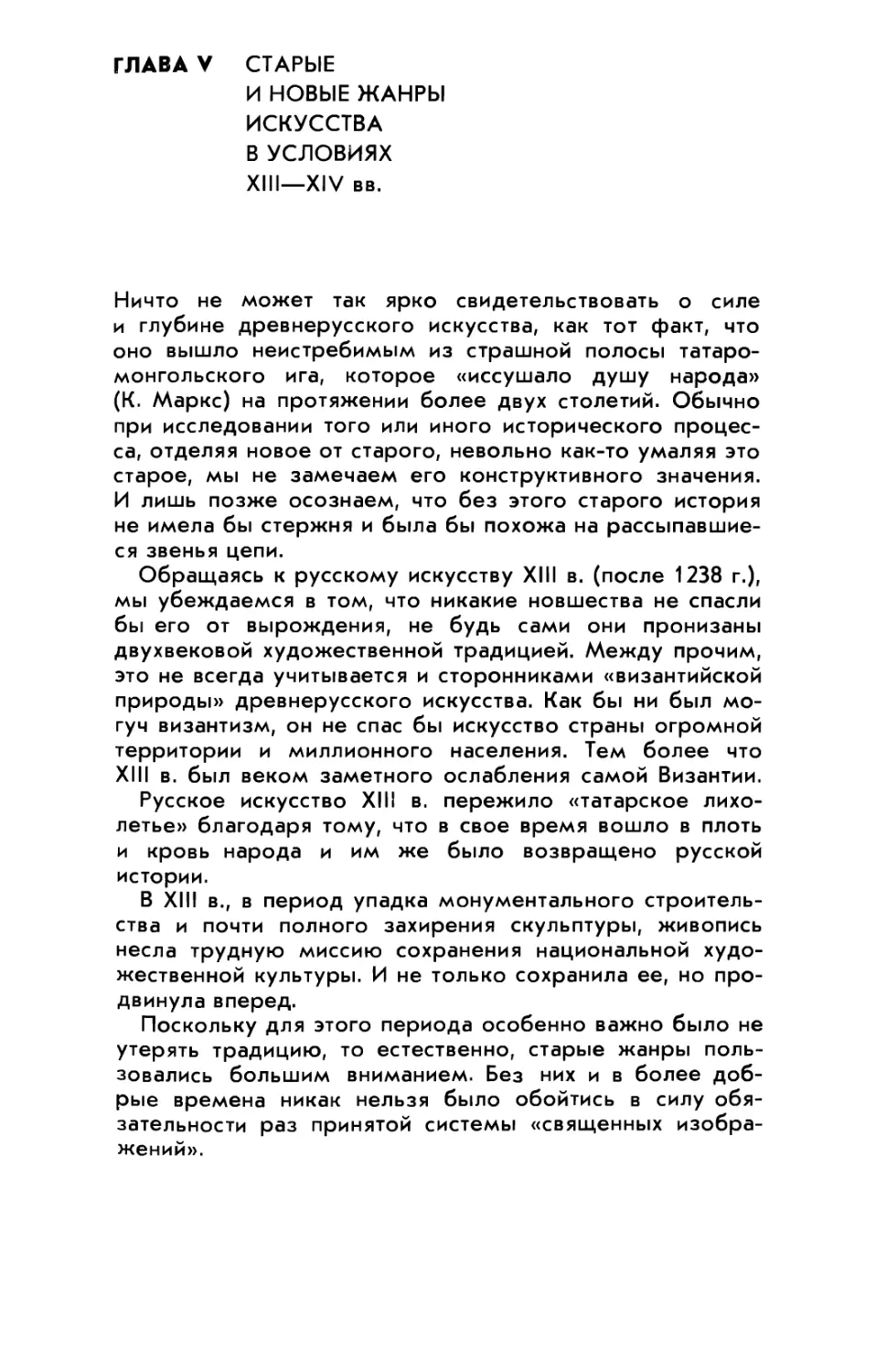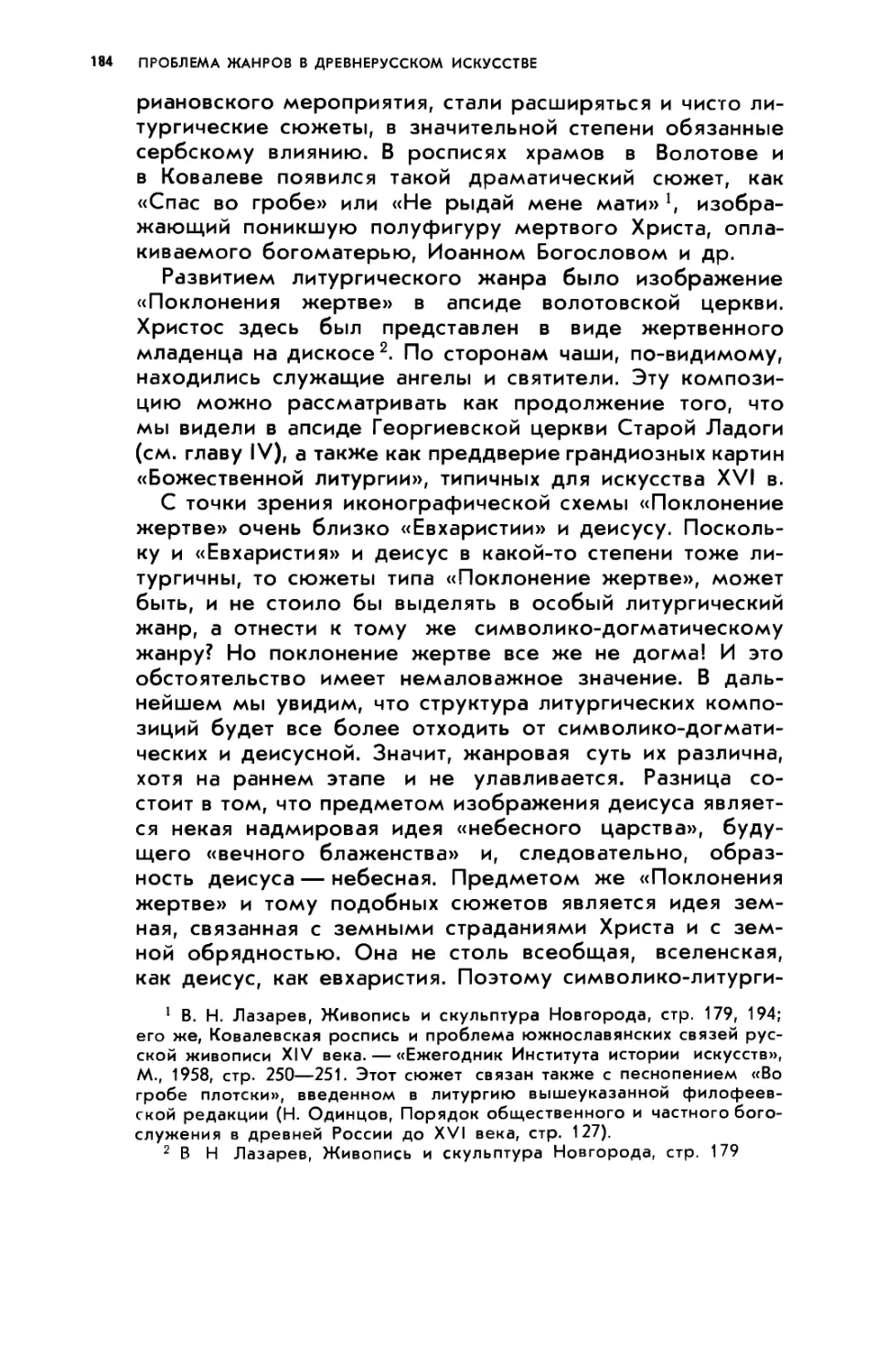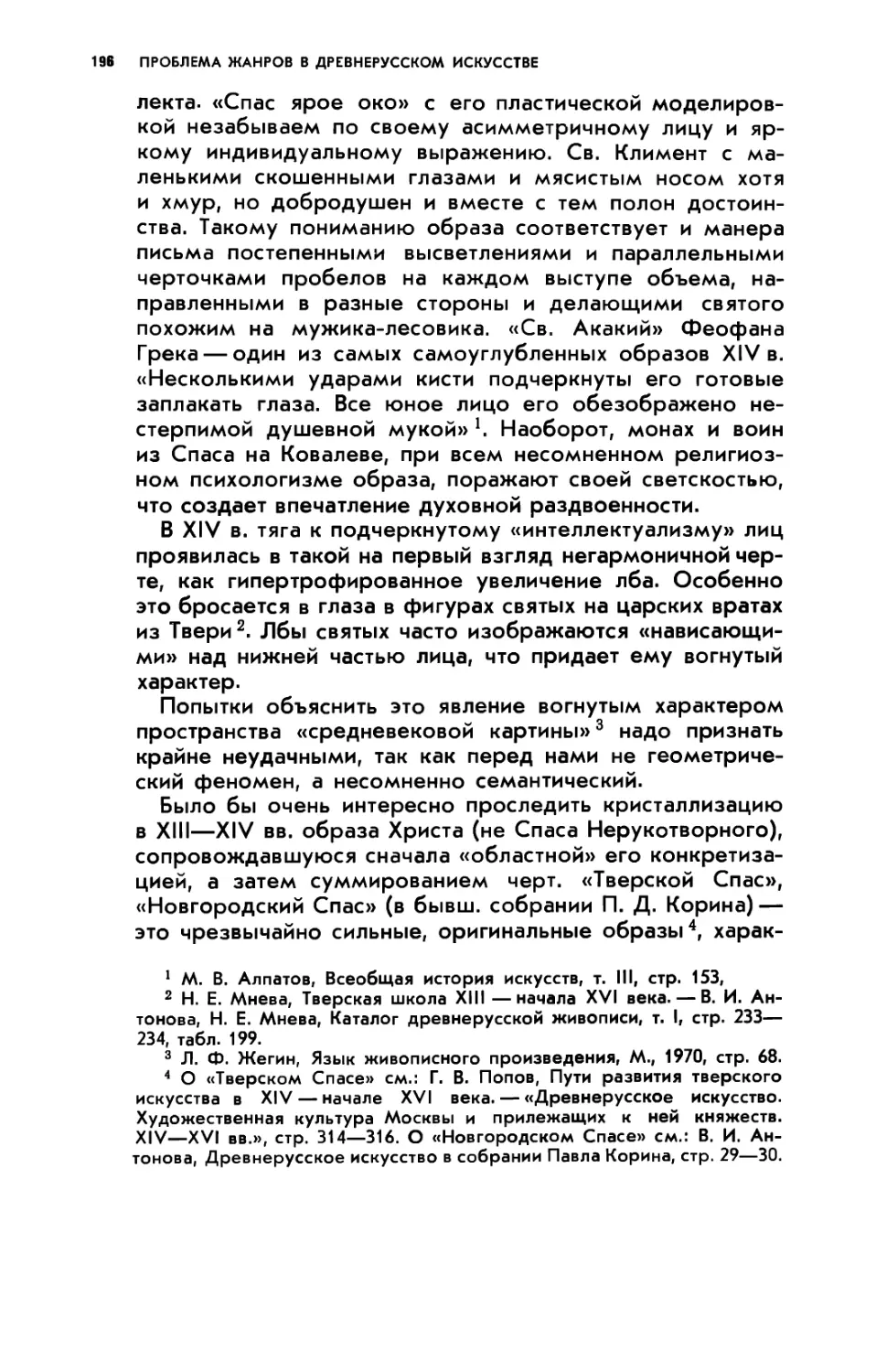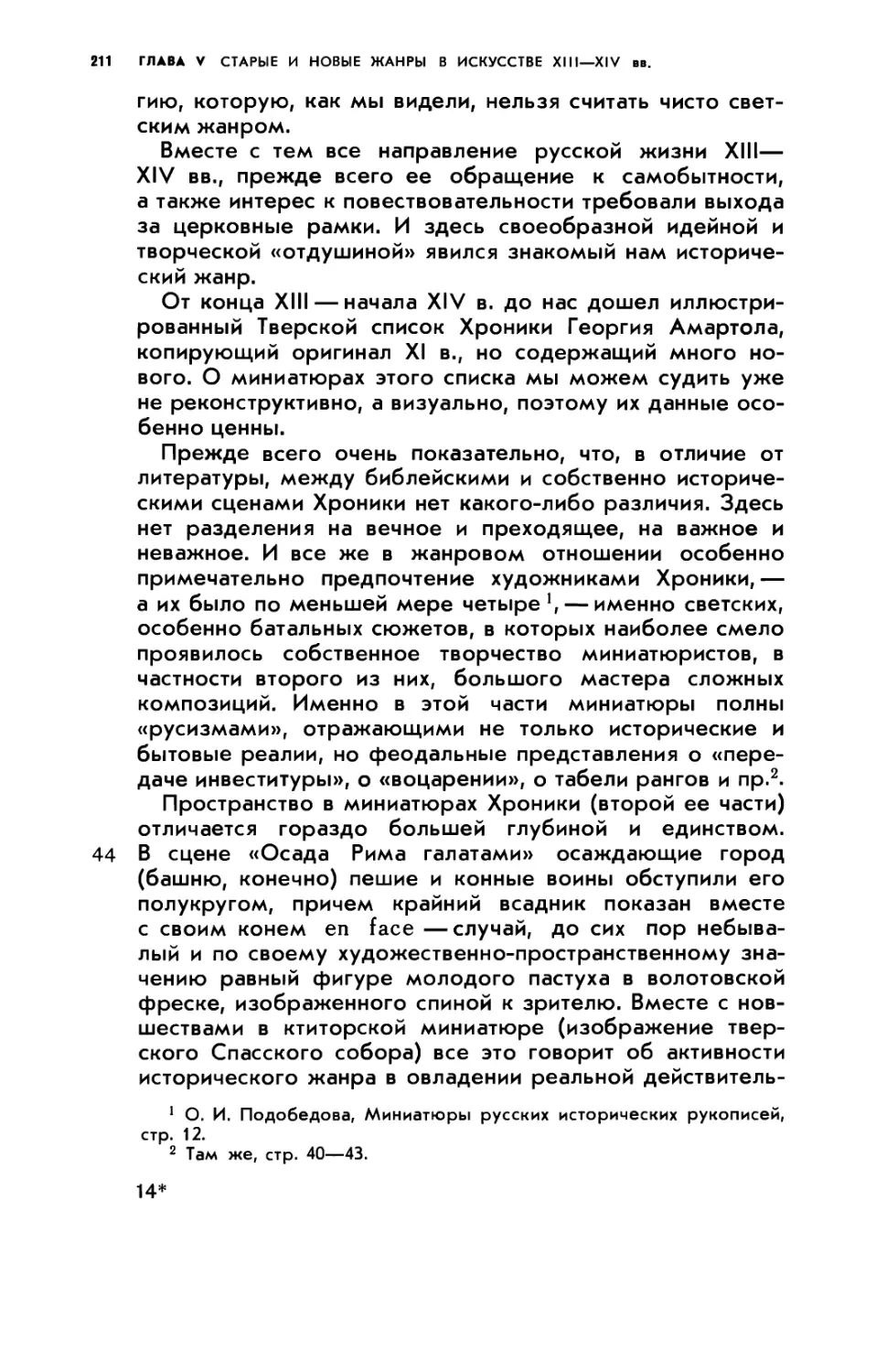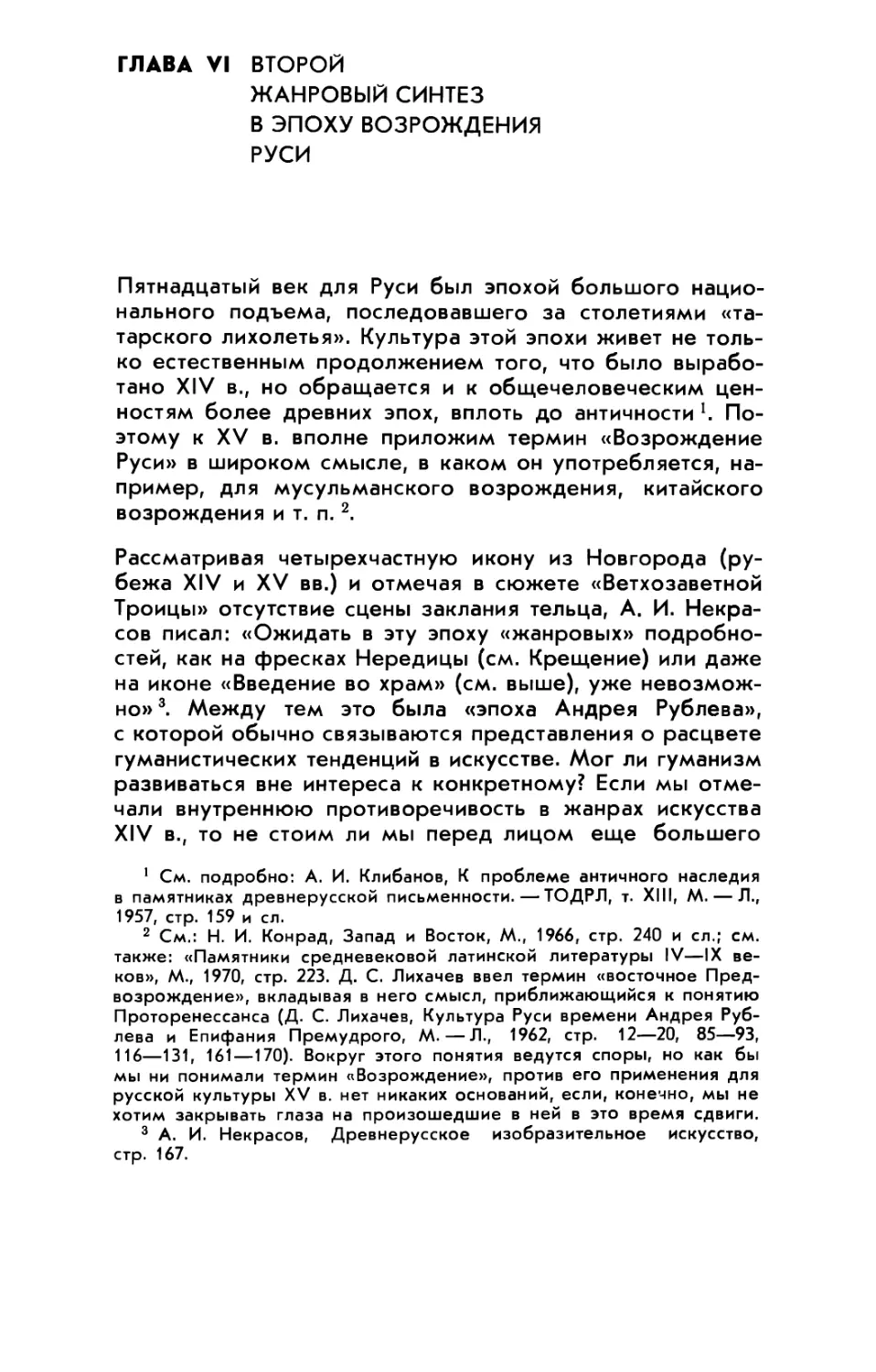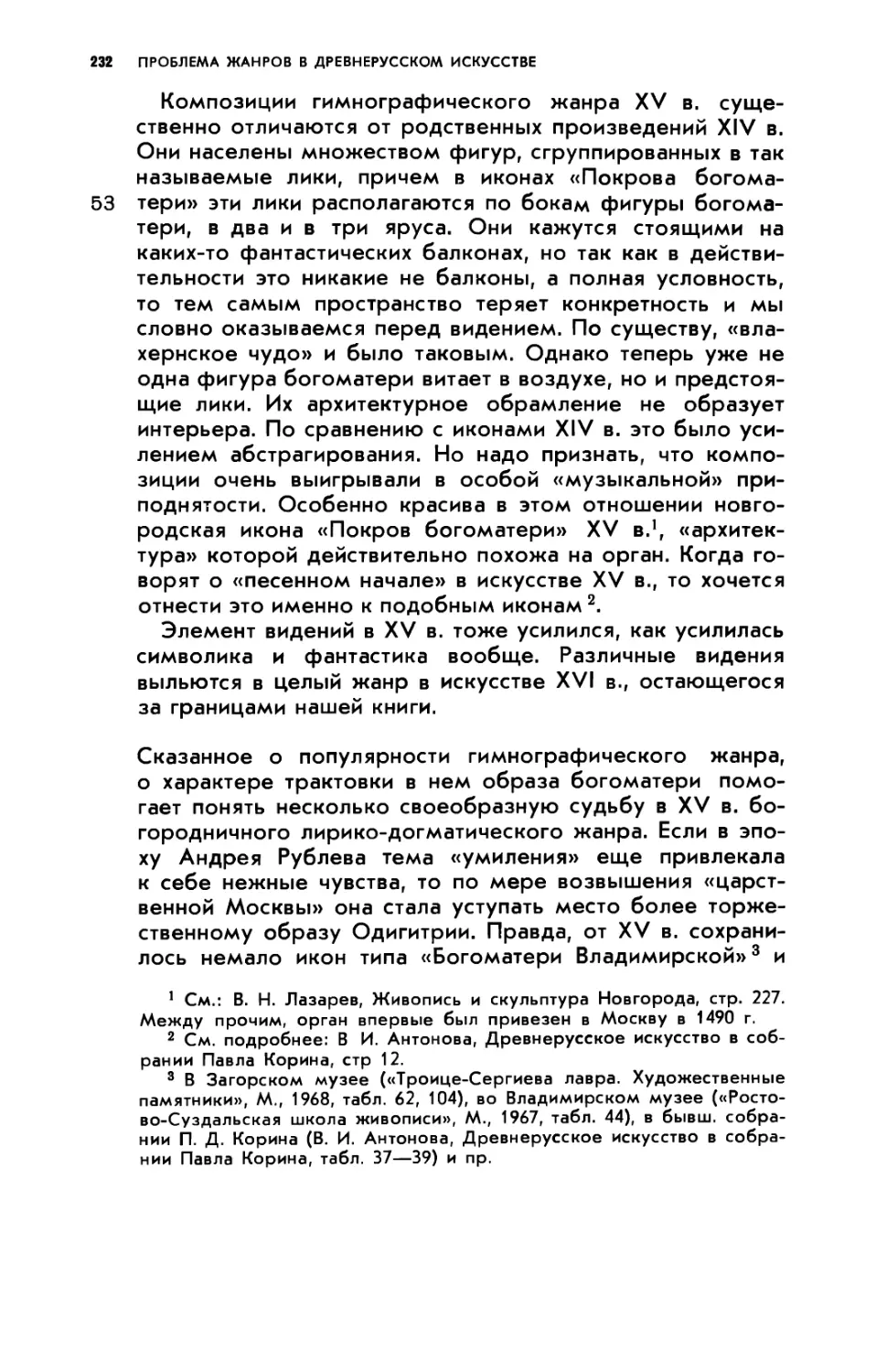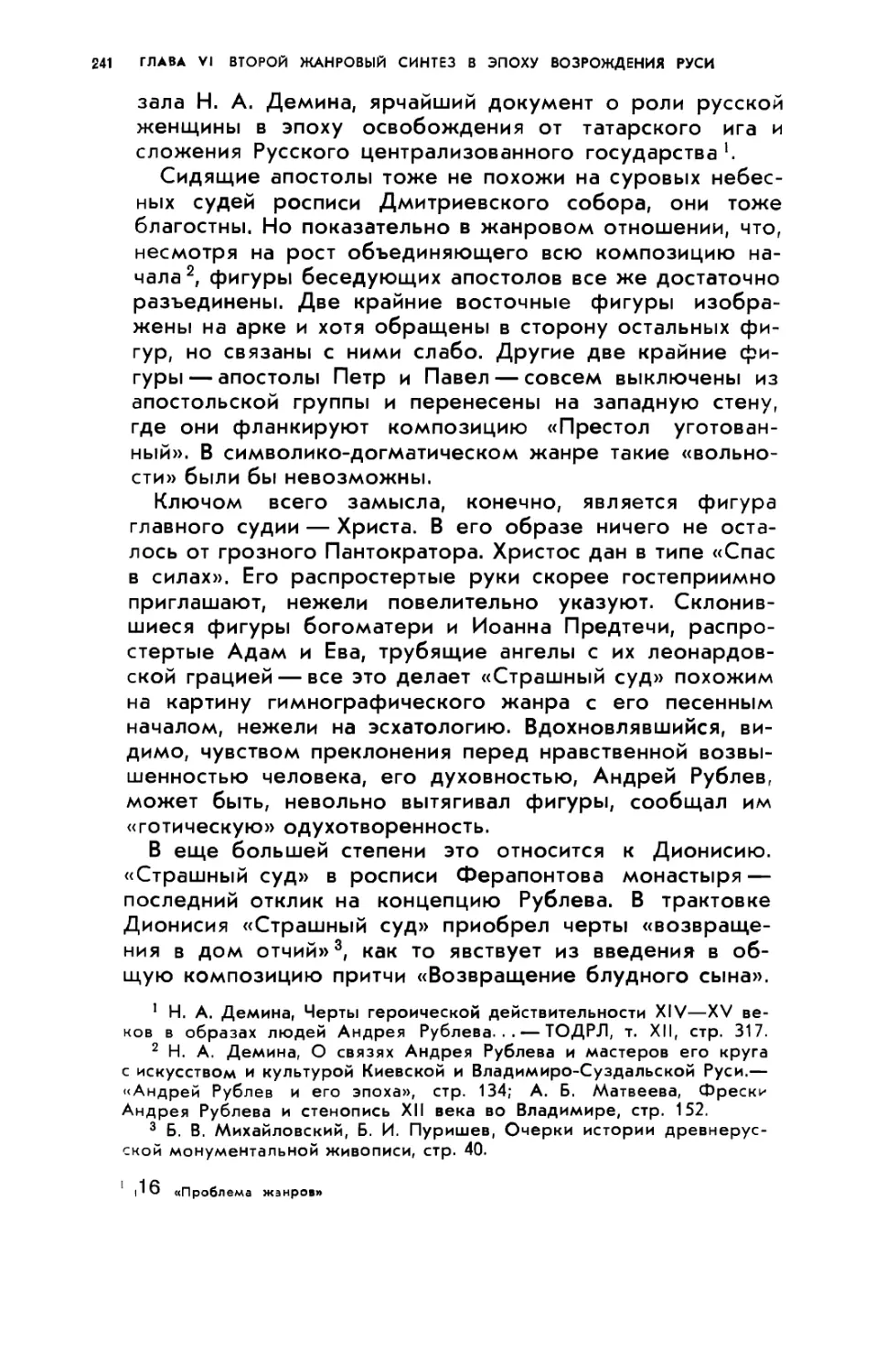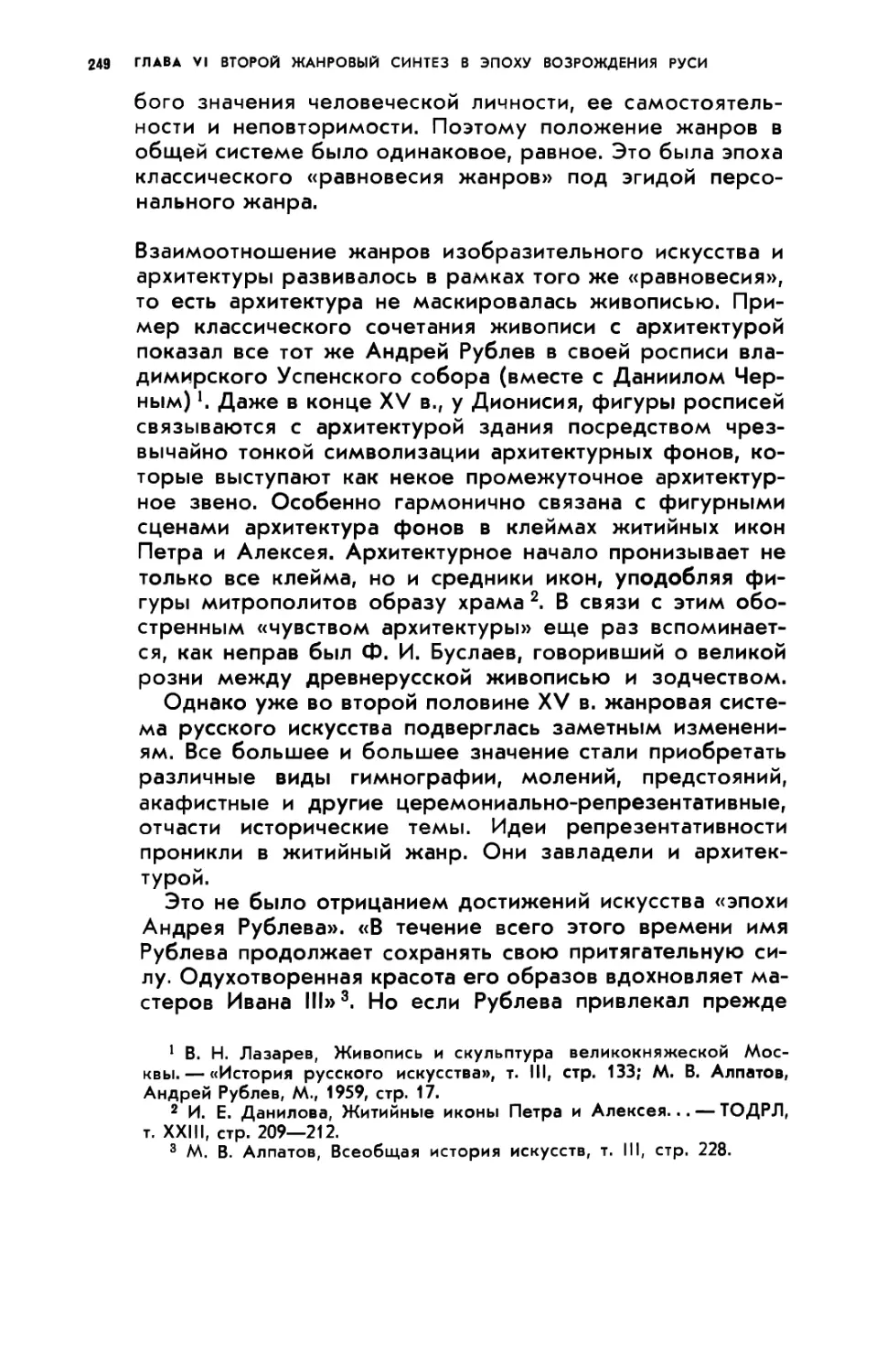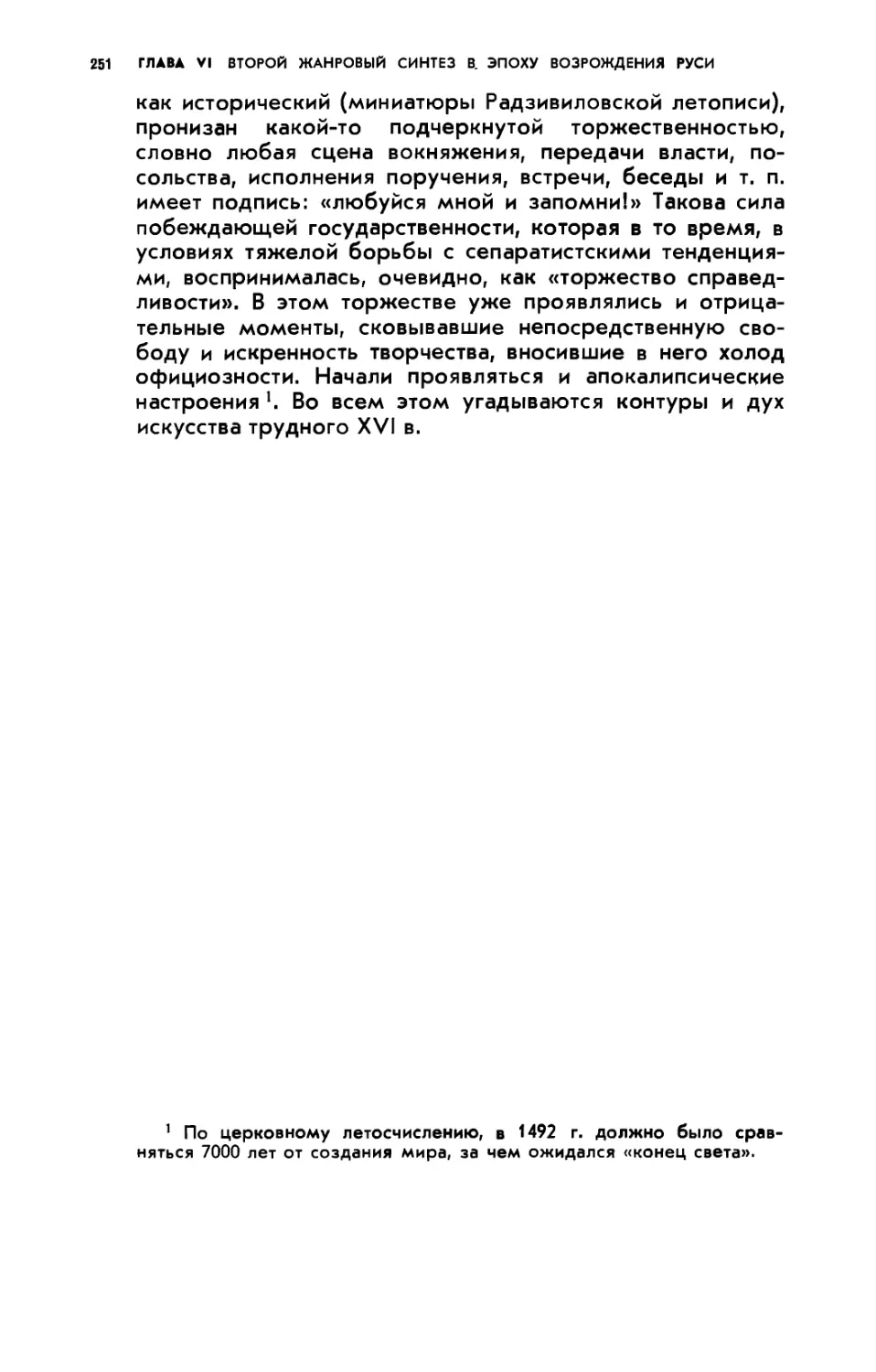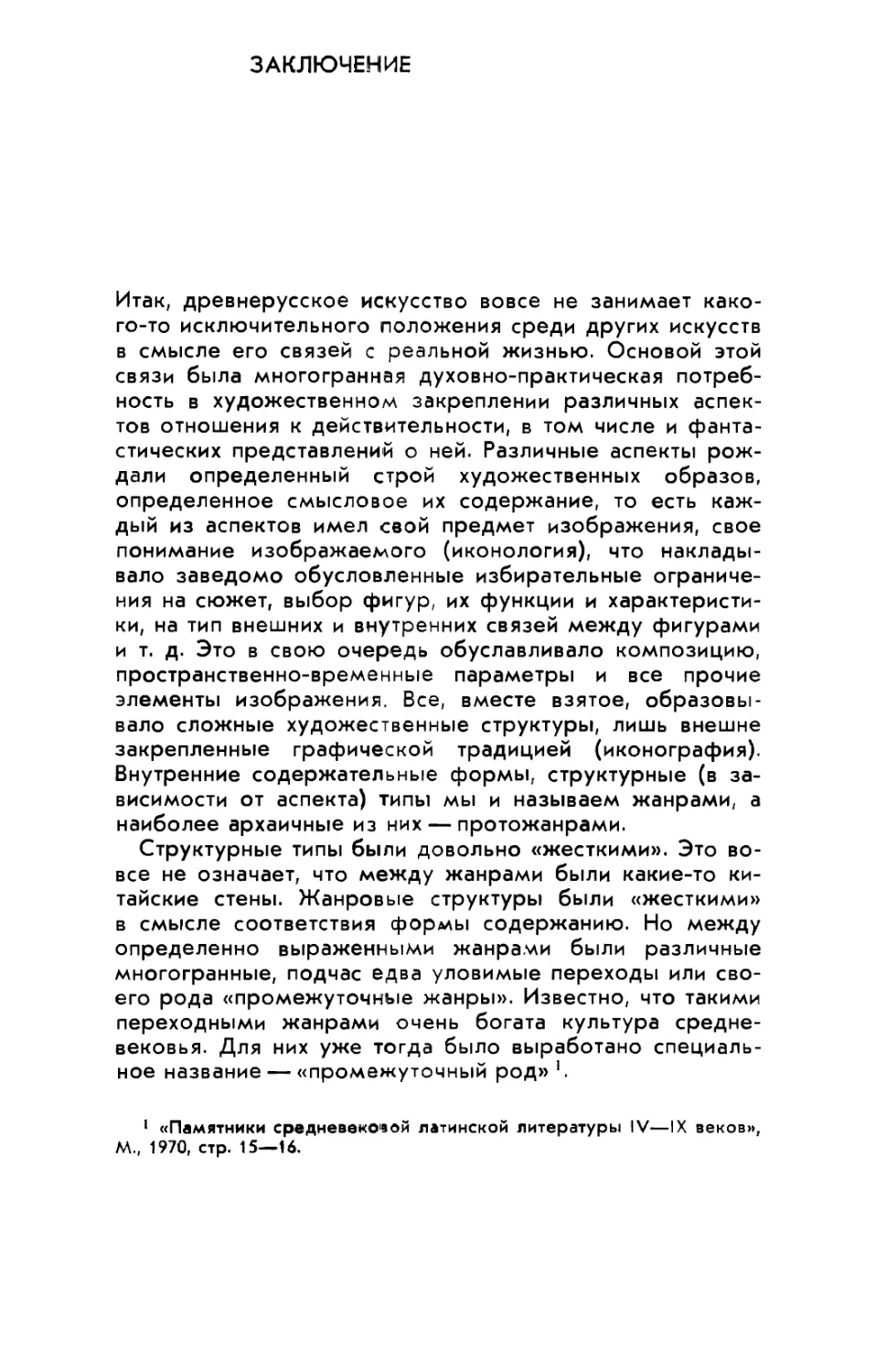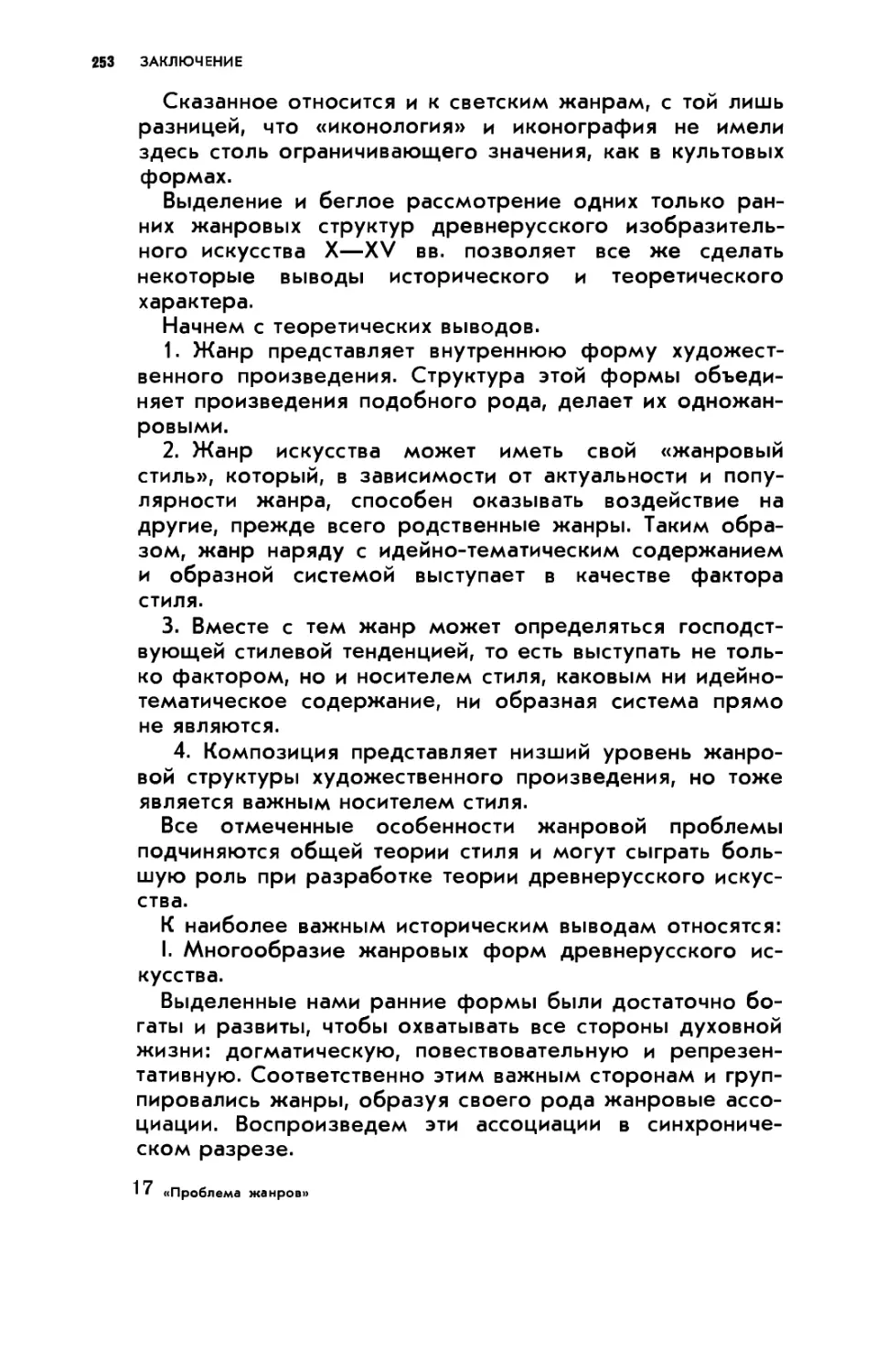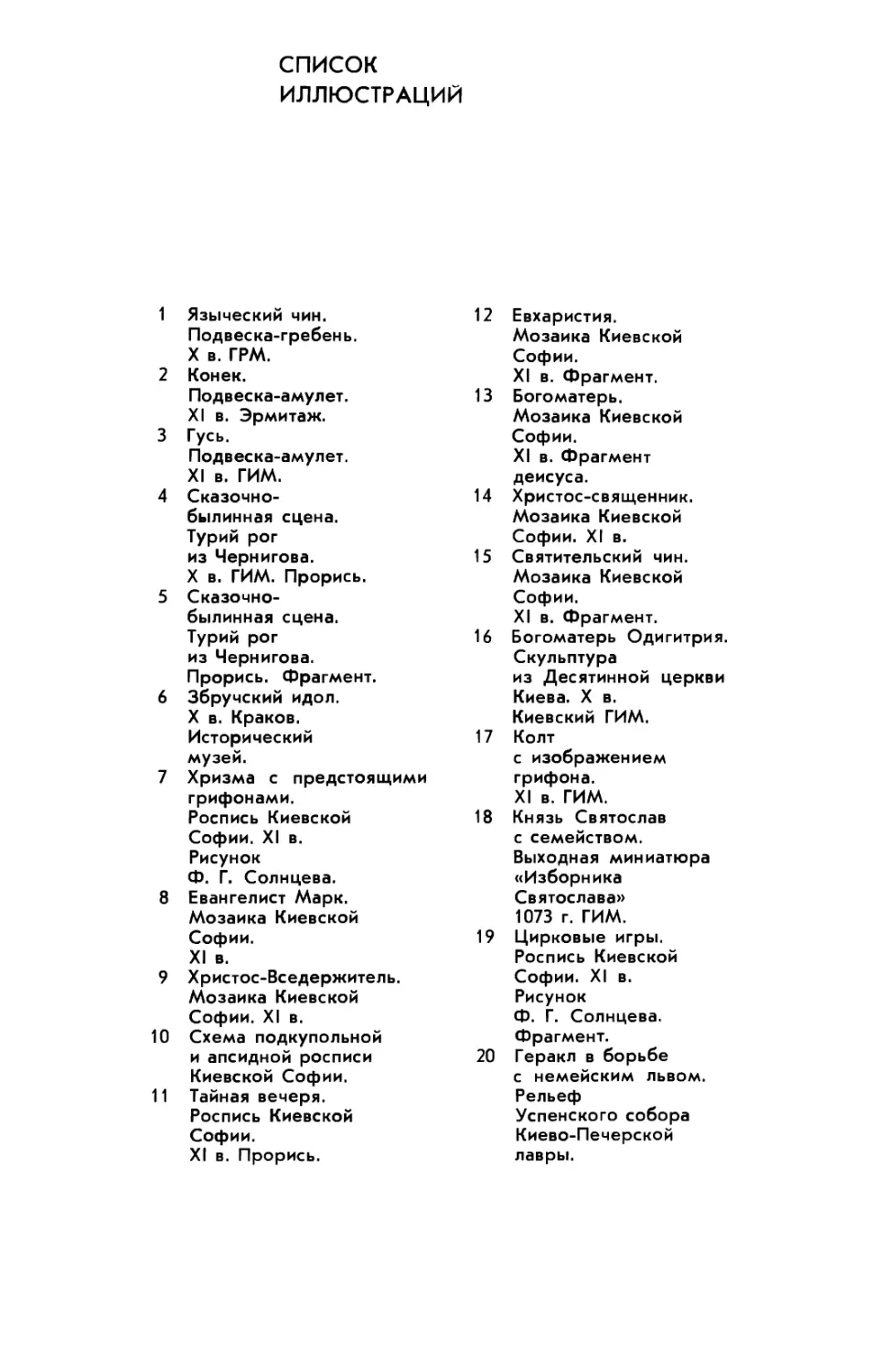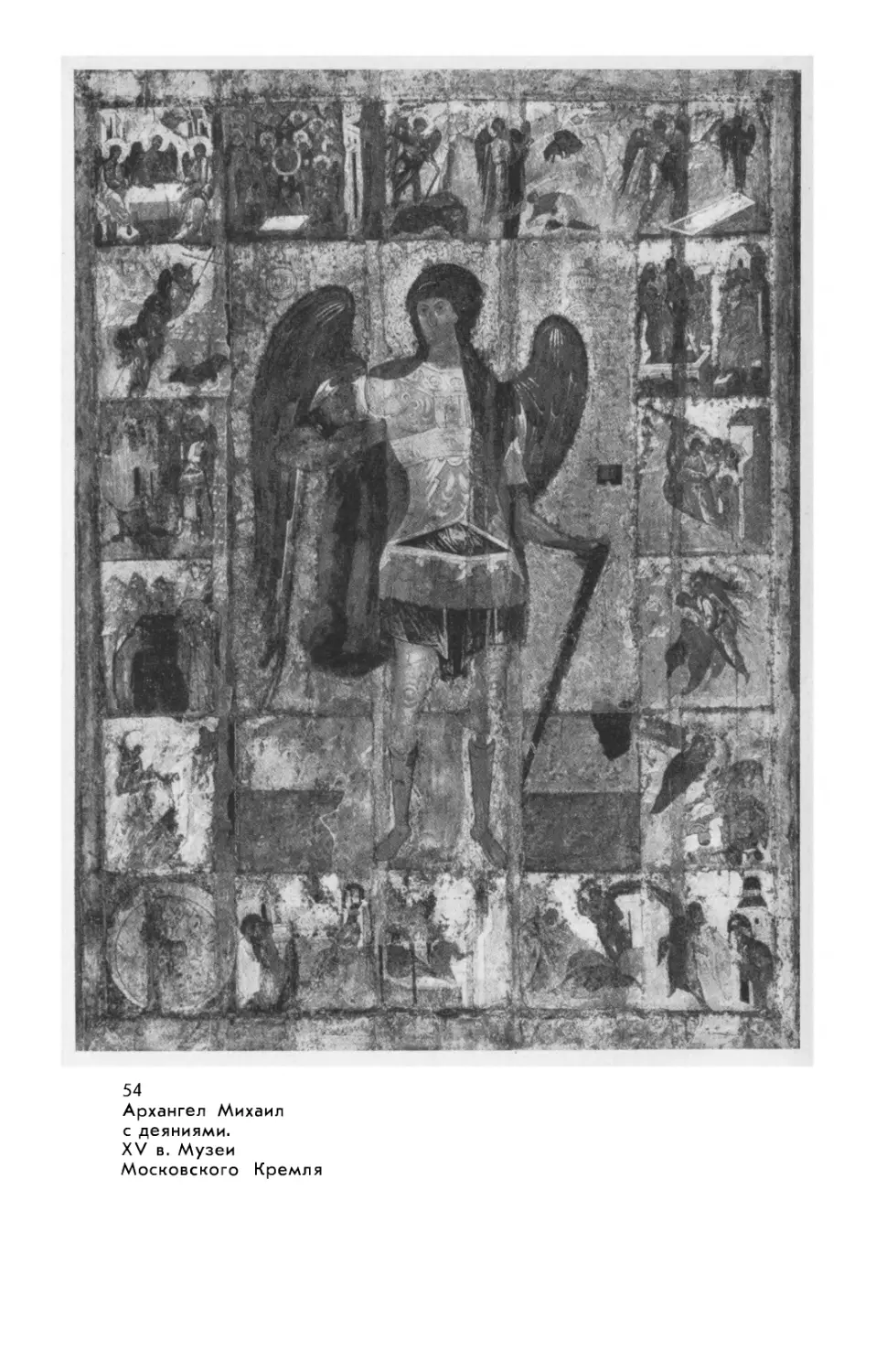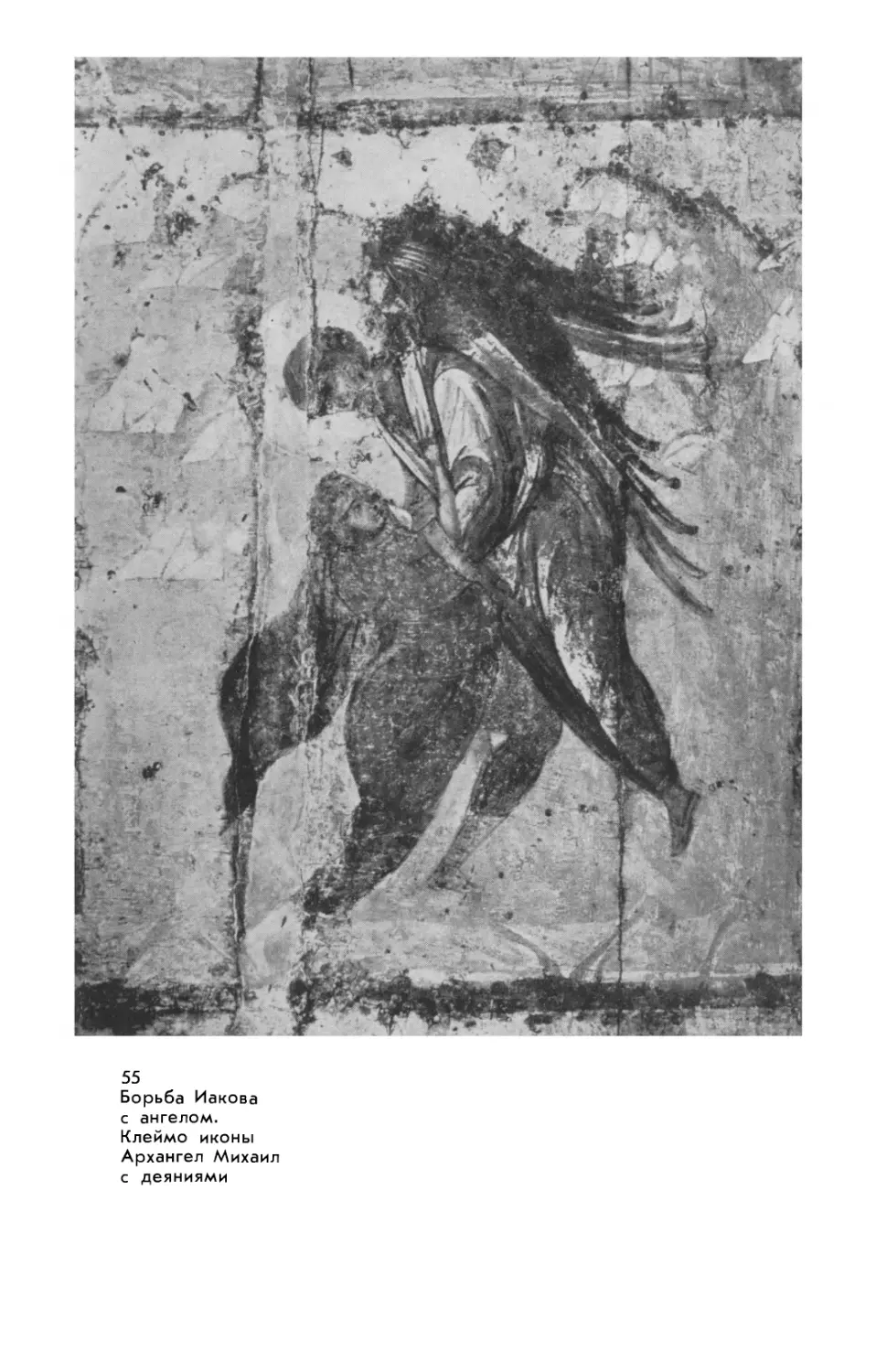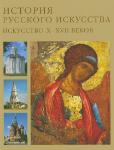Текст
I Г.К.ВАГНЕР l ПРОБЛЕМА
I ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Г. К. ВАГНЕР
ПРОБЛЕМА
ЖАНРОВ
В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Г. К. ВАГНЕР ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
МОСКВА
«ИСКУССТВО»
1974
7С1 В12
80101-089
206-73
В
025(01)74
Издательство «Искусство», 1974 г.
7
15
19
46
78
142
175
216
252
264
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ Н. Н. ВОРОНИНА ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ (КОНЕЦ X—XI в.)
ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII—НАЧАЛА XIII в.
ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ XIII—XIV шш. ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
СОКРАЩЕНИЯ
БАН
БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ НАУК СССР
ГБЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА СССР имени В. И. ЛЕНИНА.
ГИМ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
ГРМ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ
ЖМНП
ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ИА
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ АН СССР.
ИОРЯС
ИЗВЕСТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ МОСКОВСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.
КСИА
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ О ДОКЛАДАХ И ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ АН СССР.
ксиимк
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ О ДОКЛАДАХ И ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ АН СССР.
ЛГУ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.
МИА
МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АРХЕОЛОГИИ СССР.
ПСРЛ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ
ТОДРЛ
ТРУДЫ ОТДЕЛА ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АН СССР.
ЦГАДА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ДРЕВНИХ АКТОВ
ЧОИДР
ЧТЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Жанры в древнерусском искусстве...» Это словосочетание на первый взгляд кажется странным и даже сомнительным! В самом деле — применимо ли понятие жан-. ра к искусству первых восьми столетий русской истории? Его по традиции привыкли представлять как искусство, связанное с церковью, «надмирно»-отвлеченное, неподвижное и целостное. Однако трудами советских историков искусства сделано много для расширения наших знаний о древнерусском искусстве. Учеными и реставраторами не только введены в науку новые памятники творчества древнерусских художников, но и нащупаны многочисленные нити, связывающие древнюю живопись с жизнью ее времени. Выявляются особенности местных школ периода феодальной раздробленности. Накопленные в музеях и частных собраниях драгоценные коллекции древних икон впервые предстали в научных истори- чески-систематизированных каталогах. Исследователями выявлены следы таких процессов, которые сквозь толщу веков и традиций приводили древнерусское искусство к осознанию ценности земного мира, к проникновению в сферу отвлеченного церковно-богословского мышления элементов реального, интереса к живому человеку и его личности.
При всем том история древнерусского искусства еще очень далека от своих конечных целей. В частности, не разработаны некоторые важные методологические вопросы, подводящие к точной оценке его стилистической эволюции. Одной из таких проблем и является тема о жанрах древнерусского искусства. По своему богатству и сложности искусство это не уступает литературе Древней Руси, в которой уже давно выявлены жанры и художественная специфика каждого из них. И было бы странно думать, что русская средневековая живопись представляла какое-то из ряда вон выходящее явление, развивалась по каким-то своим особым законам и была
8 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
лишена жанрового разнообразия. Этой новой и сложной теме и посвящена предлагаемая книга Г. К. Вагнера.
Не следует удивляться, что ее написал ученый, известный не как историк живописи, а как историк владимиросуздальской пластики XII—XIII вв. Освоение новых тем часто происходит «со стороны». Мне довелось вплотную наблюдать, как работал Г. К. Вагнер, как он вырастал в крупного ученого, видеть, как слагались его книги, и, пожалуй, я могу с полным основанием сказать, что именно опыт работы в области владимирской пластики и сделал закономерным обращение автора к теме о жанрах. В решении сложнейшего вопроса о первоначальной системе резного убранства Георгиевского собора в Юрьеве- Польском автор приобрел большой опыт в деле анализа и систематики. Чтобы восстановить начальный облик декора Юрьевского собора («Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Юрьев-Польской», М., 1964), пришлось вплотную заниматься семантикой разрозненных резных камней, выявлением их семантических рядов и оригинальных композиций. Отсюда было рукой подать до проблемы жанров, и не случайно, что она была впервые затронута автором в его второй капитальной монографии «Скульптура Древней Руси. XII век. Владимир, Боголюбове» (М., 1969), где также исследовательский интерес был сосредоточен на анализе и семантической систематике рельефов. С этого времени Г. К. Вагнер последовательно расширял круг своих наблюдений на памятники древнерусской живописи XI—XV вв., итогом чего и явилась предлагаемая книга. Как увидит читатель, изложенный в ней материал приводит к весьма серьезному и убедительному выводу, что понятие жанра с полным правом может быть применено к древнерусскому изобразительному искусству наряду с такими установившимися понятиями, как «стиль», «композиция», «образная система».
Очень существенно, что это по преимуществу аналитическое и систематизирующее исследование проведено с постоянной ориентировкой на историческое развитие древнерусской живописи и культуры. Автору посчастливилось вести свою работу в коллективе Института археологии АН СССР, коллективе творчески смелых историков древности и средневековья. Ему и обязан автор неуклонным историзмом своих статей и книг, что во многом обеспечивает прочность и убедительность его выводов.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Большой интерес представляет вводная глава книги, в которой аргументируется правомерность постановки вопроса о жанрах применительно к «церковному» древнерусскому искусству. Здесь показано, что богословская мысль самой Византии совершенно отчетливо различала «виды» искусств. В особенности показателен анализ взглядов на этот вопрос крупнейшего византийского богослова и философа Иоанна Дамаскина. Вводная глава убедительно снимает сомнения в правомерности темы о жанрах в древнерусском искусстве.
Далее, в главе второй, рассматривается вопрос о пред -, посылках образования жанров или «протожанров» в искусстве восточных славян. Это, пожалуй, наиболее спорная глава всей книги. Однако она необходима, так как без нее осталось бы непонятным быстрое освоение русскими мастерами и развитие сложной системы жанров искусства Византии.
Большой основополагающий третий раздел и посвящен эпохе древнерусского государства конца X—XI в., когда Русь вошла в соприкосновение с большим искусством Византии и системой его жанров. Здесь в центре внимания автора анализ живописного ансамбля Киевской Софии. Автор удачно сопоставляет жанры в изобразительном искусстве этой поры с жанрами переводной литературы.
В следующей, четвертой главе интересно освещена разработка жанров в искусстве XII—XIII вв., когда на почве расцвета городской культуры и роста политической активности горожан в искусстве происходят знаменательные сдвиги — нарастает интерес к исторической теме, к портретности и психологизму; жанр чудес оказывается очень емким и прогрессивным, поскольку он вбирает в себя много черт народного мировоззрения и художественных вкусов, выразившихся, в частности, в живой образности и радостном колорите.
В двух последних главах рассматривается судьба старых и появление новых жанров в трудную пору монгольского ига XIII—XIV вв. и жанровый синтез в искусстве «эпохи Возрождения Руси» в XV столетии.
Скажем несколько слов об очень стройной и логической системе выявленных в книге жанров.
Новое культовое искусство, в зависимости от нужд богослужения, разделялось на жанры «догматизирующие»,
10 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
«повествовательные» и промежуточные между ними. В круг догматизирующих жанров входили жанры деисус- ный, литургический и гимнографический. К повествовательным жанрам относились жанры легендарно-исторический (библейские и евангельские циклы), житийный, прйточный и жанр чудес. Особый жанр составляли изображения фигур отдельных святых и деятелей церкви (сюда же относится символико-богородичный жанр, тяготеющий к догматическому). Светское искусство знало жанры придворно-увеселительный, патронально-ктитор- ский и собственно исторический.
Существенно заключение, что каждый жанр создал свой язык форм и условия художественного развития, определяя его богатство и сложность, сдерживая или, напротив, убыстряя его темп. Так, для художественного строя догматизирующих жанров типичны абстрагирование, симметрия, статика, отрешенность от времени и пространственной среды. Напротив, для строя повествовательных жанров характерны черты конкретизации, живой асимметрии, некоторой динамики, а также определенные признаки пространства и времени; при этом действующие лица изображались во взаимодействии друг с другом в зависимости от содержания сюжета. Повествовательные жанры способствовали проявлению «элементов реалистичности» и намечали путь к будущей картине. Жанр единоличных изображений сочетал абстрагирование с конкретизацией; он сосредоточивал внимание художника на выявлении индивидуальных черт того или иного персонажа. Здесь создавались особо благоприятные условия для зарождения реалистических тенденций, что сказалось, в частности, в особой психологической выразительности изображений богоматери с младенцем Христом.
Таким образом, автор очень убедительно показывает, что каждый жанр требовал и вызывал к жизни свои особые художественные приемы, способствовал сложению тех или иных образных концепций. Иконография же была лишь графической фиксацией этих жанровых «законов». Учет жанров в древнерусском искусстве позволяет точнее и конкретнее понять диалектику движения его стиля.
Создав эту стройную научную конструкцию, автор отнюдь не схематизирует реального процесса, но пока¬
11 ПРЕДИСЛОВИЕ
зывает историческую неизбежность сложного взаимоотношения и взаимопроникновения различных жанров, наличие «многожанровых» концепций, что чрезвычайно обогащало конкретный путь художественного развития, свидетельствуя о богатстве и разнообразии художественных норм творчества древнерусского художника.
При этом автор и здесь подчеркивает, что эта градация приемов и аспектов определялась не личными творческими импульсами мастера, но мотивами внехудоже- ственными, историческими.
Это исторически-последовательное изложение темы^ могло бы быть представлено в виде двух графиков. Первый— с вертикалями столетий и горизонталями жанров— показал бы их историческое движение, затухание одних и появление других или возрождение прежних в новой форме. Второй график напоминал бы схемы генеалогии и развития древнерусского летописания, где нашло бы отражение сложное и в высшей степени интересное взаимоотношение жанров, их взаимовлияние или слияние в ходе исторической эволюции древнерусского искусства. Книга Г. К. Вагнера и показывает историю искусства XI— XV вв. в плане эволюции его жанров.
Выявление живой и исторически закономерной динамики жанров еще раз с новой стороны убедительно опровергает упомянутое выше живучее примитивное представление об извечной неподвижности древнерусского искусства, якобы замкнутого в жестких рамках церковно-богословской идеологии и зависящего лишь от ее изменений.
В этой связи автор неоднократно подчеркивает недостаточность толкования древнерусской живописи с позиций богословия и различных течений богословской мысли. В частности, протестуя против преувеличения роли исихазма в развитии русского искусства XIV—XV столетий, исследователь заключает: «... вряд ли можно выводить особенности русского искусства из какой-либо богословской «теории» вообще. Они обуславливались прежде всего внутренней жизнью, в которой рушилась прежняя строгая иерархичность, все большее значение приобретали личные качества человека, следовательно,— его внутренний мир... Не богословие, а жизнь заставляла вырабатывать новые художественные и даже иконографические формы».
12 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Вместе с этим исследование Г. К. Вагнера еще раз дает отпор тем представлениям о древнерусском искусстве, которые трактуют его лишь как простую разновидность церковной, мифической идеологии. Тем не менее эти взгляды еще имеют хождение и мешают развитию науки об истории древнерусского искусства, изучению и охране его памятников. Как я пытался подчеркнуть, книга о жанрах русской живописи XI—XV вв. на новом материале показывает, сколь нелепы эти представления. Древнерусское искусство — искусство живое, его развитие теснейшим образом связано с жизнью и историей народа, породившего и выдающихся мастеров, создавших поистине гениальные творения, вошедшие в сокровищницу мировой художественной культуры.
Таково в самых общих чертах содержание и научно- практическое значение исследования Г. К. Вагнера. Оно является смелым и новаторским по своей задаче и очень продуманным и систематичным по выполнению. Но вполне естественно, что, поставив перед собой новую и сложную задачу, автор не мог разрешить ее целиком с полной бесспорностью во всей ее многогранности и исторической конкретности. Он и сам неоднократно подчеркивает, что его книга — лишь начало разработки этой проблемы, не имеющее значения «истины в последней инстанции». Его труд — это разведка неизведанной зоны, первая попытка выделения и определения жанров в русском искусстве XI—XV вв. И нужно признать, что путь к исследованию этой темы проложен автором верно и удачно. Литература о древнерусском искусстве пополнилась свежей по мысли, интересной книгой. Вокруг нее, несомненно, завяжутся споры и дискуссии, а это залог продвижения нашей науки вперед.
Н. Н. Воронин
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
АНДРЕЯ ИЛЬИЧА ФЕСЕНКО
«Историк искусства, памятующий, что в свое время от иконы произошла картина, должен усиленно всматриваться в художественный тип, представляемый русскими иконами, дабы понять исторические традиции, заложенные в картину и в ней доселе присутствующие».
Н. П. Кондаков,
Русская икона, ч. I.
Прага, 1931, стр. 3.
«Будем доискиваться, находить, исследовать, пробовать».
Иоанн Дамаскин, Диалектика, М., 1861, стр. 8.
ВВЕДЕНИЕ
Каждый занимающийся древнерусским искусством согласится с тем, что наибольшие трудности в работе исследователя проистекают от крайней неразработанности теории этого искусства, включая сюда вопросы не только стиля, но и разных его носителей, а также стилеобразующих факторов.
Здесь не место разбираться в глубоких причинах этого явления, но на одну из них, лежащую на поверхности, можно, кажется, указать сразу: это традиционное отношение к древнерусскому искусству как искусству, исключительно мало затронутому веяниями действительной жизни, находящемуся «целые столетия в заповедном кругу однообразно повторяющихся иконописных сюжетов из Библии и житий святых» *, то есть, в сущности, целиком церковному и внежанровому. И хотя со времен Ф. И. Буслаева, высказавшего эти мысли, прошло очень много времени, хотя ряд его научных положений пересмотрен или дополнен, уточнен, но отмеченный взгляд на древнерусское искусство продолжает существовать. В результате это искусство действительно нередко оказывается в наших исследованиях «вещью в себе», не подчиняющейся категориям «серой науки», открывающейся только глазу посвященного в его тайны. Достаточно сказать, что стилистические категории к древнерусскому искусству почти не применяются, а ведь искусство это существовало на протяжении восьмисот лет! В лучшем случае некоторые периоды его сопоставляются с комни- новским или палеологовским стилями, но и эти понятия, в сущности, тоже не стилевые. Таким образом, древнерусское искусство остается не только внежанровым, но и внестилевым.
Ввиду создавшегося положения накопилось так много теоретических проблем, связанных с его изучением, что
1 Ф. И. Буслаев, Сочинения, т. I, Спб., 1908, стр. 39.
16 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
систематическое изложение их, приведение в теорию, представляется делом невероятной трудности. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что желание заняться таким трудом потребовало бы от любого из наших самых крупных исследователей древнерусского искусства полного отказа от всех текущих исторических исследований на несколько лет вперед — перспектива явно не заманчивая.
Между тем и без теории работать дальше нельзя. Было бы целесообразно распределить научные силы так, чтобы разные стороны теории древнерусского искусства разрабатывались в меру интересов и возможностей каждого исследователя, так сказать, параллельно. Но мы даже не имеем договоренности относительно того, какие вопросы должны входить в эту теорию. Во время подготовки научной конференции по древнерусскому искусству 1968 г. М. В. Алпатов предложил примерную программу-минимум, которую можно было бы считать основой теоретической разработки, но, к сожалению, его почин не был подхвачен.
В предлагаемой небольшой книге я пытаюсь поставить и рассмотреть вопрос о возможности применения к древнерусскому искусству понятия жанра (конечно, не в бытовом, а в структурном смысле), считая, что этот вопрос лежит на подступах к более сложным. Мне думается, что если удастся выявить в древнерусском искусстве, наряду с традиционной иконографией, существование некоторого более конкретного содержательного формообразования, то к вопросам стиля подход будет облегчен. Как бы то ни было, нет никаких оснований отрывать науку о древнерусском искусстве от тех принципов, которыми успешно руководствуются теория древнерусской литературы и фольклористика, где изучение жанров давно поставлено во главу угла.
Однако ввиду отмеченной отсталости теоретического искусствоведения сейчас не может быть и речи о какой- либо классификации жанров. Всякая классификация является итогом науки, мы же стоим где-то недалеко от ее начала. Поэтому самое большее, что можно себе позволить,— это, как я уже сказал, попытаться установить наличие в древнерусском искусстве жанров или таких формообразований, которые можно отождествить с жанрами, а также выделить их основные группы, отложив детализацию проблемы на будущее.
17 ВВЕДЕНИЕ
Для решения поставленной задачи необходимо уяснить, что такое жанр. Те, кто думает, что это легко сделать до начала работы, глубоко ошибаются. Исчерпывающего общепризнанного определения жанра нет ни в литературоведении, ни в фольклористике. Более того. Создавшиеся трудности привели однажды к предложению совсем отказаться от категории жанра, но оказалось, что научная практика не может обойтись без этого конструктивного понятия, и разработке его было посвящено несколько международных совещаний1. К сожалению, они совсем не касались проблематики изобразительного искусства. Поэтому предварительное определение жанра мы можем дать только в процессе постановки вопроса, чему и посвящена вся первая глава книги. Конечно, для начала нам пришлось сделать ряд ограничений. Так, вопросы взаимоотношения жанров друг с другом, со стилем и другими стилеобразующими факторами рассматриваются мною только попутно. Не рассматривается проблема жанров в архитектуре, хотя она вполне правомерна. Предлагаемая работа ограничивается и во времени. В ней идет речь о древнерусском искусстве X—XV вв., то есть о периоде, когда можно ожидать сложения ранних жанровых форм. В XVI и особенно XVII в. процесс жанрообразования протекал уже в усложненной форме, рассматривать его в общей предварительной работе было бы преждевременным. Эта тема достойна самостоятельного исследования1 2.
В ходе рассуждений мне пришлось заимствовать некоторые понятия и термины из других дисциплин, что может создать впечатление искусственной наукообразности. Но дело совсем не в этом, а в очень плохой разработанности искусствоведческой терминологии. Она большей частью описательна. Между тем «даже и сегодня введение в обиход нового слова или термина имеет опреде-
1 См.: M. Верли, Общее литературоведение, М., 1957, стр. 98 и сл.; «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы», M., 1964, стр. 91 и сл; «Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук», т. 6, М., 1969, стр. 365 и сл.
2 Когда настоящая работа находилась в печати, вышла книга О. И. Подобедовой «Московская школа живописи при Иване Грозном» (М., «Наука», 1972). В ней затрагиваются вопросы жанрообразования в русском искусстве, начиная примерно с того времени, до которого доведено наше исследование.
«Проблема жанров»
II ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
ленное методологическое значение. Раз появился термин, значит возникла необходимость привлечь внимание к какому-то явлению; это явление стало важным для какой-то области человеческой деятельности — политики, науки, искусства» !.
В заключение хочется сказать еще одно. Возможно, что в ряде случаев читателю, знакомому с древнерусским искусством, покажется, что под видом жанров в книге говорится о давно известных вещах. Тем лучше. Значит, надо отбросить предрассудки и назвать вещи своими именами.
Снегири, лето 1970 г. 11 В. Н. Тростников, Человек и информация, М., 1970, стр. 12.
ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
Проблема жанров в современном изобразительном искусстве становится все менее животрепещущей, очевидно, в силу разрушения умозрительных перегородок, долгое время существовавших между ними. На самом деле давно ушли те времена, когда смешение жанров считалось признаком дурного вкуса; когда в качестве «ортодоксального» выдвигался тот или иной «высокий» жанр, а остальные — «низкие» — признавались с оговорками. Если применительно к современному искусству и ведутся разговоры о жанрах, то они все более сводятся к вопросам их взаимопроникновения, взаимодействия, за сложностью и тонкостью которых стирается даже понятие жанра, оно как бы уже не вмещает вкладываемого в него содержания. Диалектика художественного мышления и творчества все более приближается к диалектике жизни.
Все же и в таких условиях рассуждение о жанрах может быть очень содержательным. Достаточно задать вопрос: что представляет собою в жанровом отношении такое произведение, как «1918 год в Петрограде» (так называемая «Петроградская мадонна») К. С. Петрова- Водкина, чтобы убедиться в сказанном. Эта картина считается и символической, и исторической, и даже бытовой 1. Я не думаю, что здесь нужно делать какой-то выбор. Это будет связано с формальными ограничениями, в то время как задача исследователя искусства состоит в наиболее полном раскрытии художественного произведения. Но найти в нем верные взаимоотношения жанровых особенностей, конечно, нужно, иначе можно не понять его своеобразия и стиля.
Еще в XVIII в. проблема жанров была весьма острой. Изучение искусства XVIII в. невозможно без учета его жанров. Частично это относится даже к искусству XIX в., хотя с развитием реализма «распределение жанров по 11 И. Горин, Советский бытовой жанр.—Журн. «Искусство», 1967, № 12, стр. 10.
20 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
стилям или стилей по жанрам было отменено» '. По отношению же к древним периодам истории искусства вопросы жанра приобретают гораздо больший интерес и значение. Можно сказать, что «вся наличная система родов, видов и жанров завещана нам древностью»2. И это касается не только литературы. Жанры признаются в искусстве древнего мира3, а также в средневековом искусстве, в котором исследователи выделяют не только аллегорический жанр, но и бытовой. В готике уже делается различие между «высоким» и «низким» жанрами 4. И только византийское, а вслед за ним и древнерусское искусство до сих пор предстают перед нами в жанрово не- расчлененном виде, как некие монолитные глыбы...
Между тем еще задолго до Ф. И. Буслаева, поставившего древнерусское искусство вне реальной действительности и вне жанров, в литературе были высказаны мнения совершенно иного характера. Так, например, зачинатель науки о русском иконописании И. П. Сахаров писал: «Значение византийского иконописания чрезвычайно обширно и обнимает собою все христианское учение. . . Оно олицетворяло догматы для укрепления веры, изображало заветные предания православной церкви для отклонения раскола и ересей, живописало священные символы для научения верующих, вносило знамения и деяния для воспоминания о великих и чудесных событиях церкви... Оно приняло от церкви первообразы для изображения Спасителя, Божьей Матери, апостолов и святых мужей и жен. . .»5.
Показательно, что И. П. Сахаров не только определяет разделы искусства, но и указывает, для чего каждый из них нужен. Тем самым он выявлял, конечно, бессознательно, основы такой структуры византийского искусства, которую, согласно современному научному взгляду, можно рассматривать как почву для образования средневековых жанров изобразительного искусства. Я имею в виду функциональный подход.
1 А. Н. Соколов, Теория стиля, М., 1968, стр. 120.
2 «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, характер», кн. I, М., 1962, стр. 194.
3 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. I, М.—Л., 1948, стр. 162, 201.
4 Там же, стр. 339, 345.
5 И. П. Сахаров, Исследования о русском иконописании, кн I, Спб.„ 1849, стр. 16.
21 ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
Известный любитель русской старины, новгородский архимандрит Макарий пошел еще дальше. Он прямо писал: «... что касается до самих изображений, то иконы, при всем их разнообразии и множестве, могут быть подведены к четырем родам: на одних изображались лица, на других история, на третьих олицетворения библейских текстов и церковных песней, на четвертых олицетворения благочестивых мыслей художника» 1.
В примечаниях к цитированному тексту Макарий уточняет, что к истории относятся «деяния святых и изображения двенадцати господских праздников. В сем отношении,— добавляет он, — и самое иконописание называется бытейским или историческим»1 2. К олицетворениям библейских текстов и церковных песней Макарий относил иконы, которые «имеют названия самих текстов, например, Верую во единого бога; Достойно есть яко воистину; О Тебе радуется обрадованная; Премудрость созда себе дом; Хвалите господа с небес; Величит душа моя господа; В седмый день почи господь от дел своих и т. п.». Эти иконы он называл «олицетворительными» 3. Наконец, к «олицетворениям благочестивых мыслей художника» Макарий относил такие сюжеты, как «изображение Божьей Матери всех скорбящих радости, Неопалимая купина», которые он называл «символическими»4.
После столь определенных высказываний уже нельзя было игнорировать вопросы жанра в иконописи. Можно было игнорировать сам этот термин, для старых исследователей непривычный, но не скрывающееся за ним содержание.
Тот же Ф. И. Буслаев, несмотря на приведенное выше негативное высказывание о жанрах, часто употреблял понятия: «символические сцены», «исторические сюжеты» и т. п.
Более того, он подробно обосновал, превосходя в этом Макария, какие именно сюжеты относятся к символическому разделу, какие — к историческому разделу, а какие — к олицетворительному5. Буслаевские
1 Макарий, архимандрит, Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях, ч. II, M., 1860, стр. 35—36.
2 Там же, стр. 35
3 Там же.
4 Там же.
5 Ф И. Бусла .в, Сочинения, т. I, стр. 136—142,
22 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
«разделы», как увидим ниже, — это, в сущности, объединительные жанры.
Иконы символического характера специально выделил и исследовал Г. Филимонов *.
Н. П. Кондаков, кажется, первым употребил слово «жанр» применительно к византийскому искусству, но он пользовался им не в теоретическом, а в беллетристическом смысле. Рассматривая византийские миниатюры, он говорил о «крохотном» жанре, «грациозном» жанре, об «особом жанре» зооморфических букв2 и т. д. Но когда современные исследователи пишут об исторических или репрезентативных циклах византийского и древнерусского искусства, о догматических или символико-аллегорических, житийных и портретных изображениях3, или, наконец, о репрезентативном, житийном, символическом и историческом типе одного и того же персонажа4, то здесь, в сущности, речь идет о жанрах как таковых. Б. И. Пуришев прямо пользовался определениями «символико-догматический жанр», «жанр видений»5, и эти определения, как будет видно ниже, приложимы к более широкому кругу явлений, то есть они могут быть научными терминами.
Относительно древнерусских миниатюр проблема жанров четко определена О. И. Подобедовой 6.
Очень большой интерес для нашей темы представляет талантливая работа Д. С. Лихачева «Поэтика древнерусской литературы»7, в которой автор вплотную подошел
1 Г. Филимонов, Очерки русской христианской иконографии. —
«Вестник Общества древнерусского искусства», М., 1874, № 1—3,
стр. 1—20.
2 Н. П. Кондаков, История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей, Одесса, 1876, стр. 10, 31, 136, 152.
3 М. Дворжак, Очерки по искусству средневековья, М., 1934, стр. 68—71.
4 Например, св. Георгия
(I. Myslivec, Svatý Jiří ve vychodokrestans- kém uměni. — „Byzantinoslavica“, V, Praha, 1933—1934, stř. 304—375).
5 Б. И. Пуришев, Эпоха образования феодально-абсолютистского государства. Живопись середины XVI — начала XVII века. — в кн.: Б. В. Михайловский, Б. И. Пуришев, Очерки истории древнерусской монументальной живописи, М.-Л., 1941, стр. 60, 65.
6 О. И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, М., 1965, стр. 7 и сл.
7 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, Л., 1967, стр. 24 и сл., особенно стр. 53. Проблеме стиля и жанра был посвящен доклад О. И. Подобедовой на конференции в Москве (1968).
ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
к вопросу о жанровости древнерусского искусства. Книга Д. С. Лихачева начинается такими словами: «Автор был бы рад, если бы читатель-специалист нашел в этой книге темы для своих собственных работ по поэтике литературы и фольклора». Но, оказывается, читатель-специалист может найти в ней темы и для своеобразной поэтики изобразительного искусства. Я не хочу сказать, что проблема жанров древнерусского искусства это и есть его «поэтика». Как раз, может быть, это наименее поэтическая его область. Но что она входит в понятие теории искусства, в этом вряд ли можно сомневаться. Для выяснения интересующей нас проблемы в целом основополагающее значение имеют высказывания тех византийских богословов, которые, в сущности, и аргументировали христианское учение об иконах. Как хорошо показал Г. А. Острогорский, это было сделано еще до иконоборческого Собора 754 г. в трудах Иоанна Фессалоникийского, патриарха Германа, Иоанна Дамаскина и Георгия Киприянина. Именно против последних трех и анафематствовал иконоборческий Собор1.
Аргументация учения об иконах тесно связана с догматом о воплощении Христа. Поскольку этот главнейший догмат обуславливал иконное изображение Христа, то вместе с этим принималось как совершенно непреложное и все то, что приводит на память «его житие во плоти, страдание, спасительную смерть и происшедшее отсюда искупление мира»1 2. Так сказано уже в 82-м правиле пято-шестого Вселенского Собора.
Патриарх Герман, Иоанн Дамаскин и Георгий Киприя- нин последовательно развивали этот тезис. Имея в виду евангельский цикл, Иоанн Дамаскин писал: «... так как не все знают грамоту и могут заниматься чтением, то отцы рассудили, чтобы все это, подобно тому как некоторые славные подвиги, было рисуемо на иконах для краткого напоминания»3. К этой же теме Иоанн Дамаскин
1 Г. А. Острогорский, Соединение вопроса о св. иконах с христо- логической догматикой в сочинениях православных апологетов раннего периода иконоборчества. — „Seminarium Kondakovianum“, I, Prague, 1927, стр. 35 и сл.
2 «Деяния Вселенских Соборов, изданные в русском переводе при Казанской духовной академии», изд. 2, т. VII, Казань, 1891, стр. 129.
3 «Полное собрание творений Иоанна Дамаскина», т. I, Спб., 1913, стр. 321.
24 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
возвращается в Первом защитительном слове об иконах: «Начертай неизреченное его снисхождение, рождение от девы, крещение во Иордане, преображение на Фаворе, страдания, доставляющие бесстрастие, смерть, чудеса — символы его божественной природы, совершаемые божественным действием через действие плоти, спасительный крест, гроб, воскресение, вознесение на небеса; — все пиши — и словом и красками. Не бойся, не страшись. Я знаю различие поклонения» 1.
Последнее замечание дает основание предполагать, что Иоанн Дамаскин видел определенное различие между изображениями. Ему принадлежат слова: «Если к тебе придет один из язычников, говоря: покажи мне твою веру..., ты отведешь его в церковь и поставишь перед разными видами святых изображений»1 2 (разрядка моя. — Г. В.).
Что же это за разные виды святых изображений?
В нашем распоряжении есть два рода высказываний Иоанна Дамаскина, из которых можно почерпнуть ответ на этот вопрос.
В своей «Диалектике» Иоанн Дамаскин изложил понятие вида. В защитительных словах об иконах он дал обоснование различию образов и различию поклонений. И то и другое имеет непосредственное отношение к нашей теме. Рассмотрим оба высказывания поочередно.
По мнению Иоанна, существует восемь способов разделения: 1) род делится на виды. Существующее — это род (человек, лошадь, бык), но каждое по отдельности есть вид. Но вид означает многих. Поэтому: 2) вид делится на неделимые единицы, 3) делимые части бывают подобными и различными; 4) деление бывает на целое и на части; 5) на существенное и случайное и т. д.3.
Из перечисленных способов деления для нас наиболее интересен первый — разделение рода на виды. По Иоанну Дамаскину, это деление тоже может быть двояко:
1) род делится на виды, которые сами не имеют видов;
2) род делится на виды, которые в свою очередь делятся на виды. В таких случаях виды становятся родами «низших» видов. Такие роды и виды называются подчиненны¬
1 «Полное собрание творений Иоанна Дамаскина», т. I, стр. 351.
2 Цит. по кн.: В. Н. Лазарев, История византийской живописи, т. I, М., 1947, стр. 18.
3 Иоанн Дамаскин, Диалектика, М., 1864, стр. 23—24,
25 ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
ми. Те же виды, которые уже не делятся на виды, называются маетнейшими или ипостасями 1.
Из приведенных рассуждений, однако, еще не видно, что же Иоанн Дамаскин понимает под «видом святых изображений». Для этого важно то место «Диалектики», где говорится об определении явлений, в том числе и искусства. «Определение берется из материи и формы; так статуя есть то, что делается из меди, и представляющая изображение мужа: ибо медь есть материя, и представляющая изображение мужа есть форма статуи. Материя же соответствует роду, форма — различию»1 2. Следовательно, разделение искусства на виды производится не по материалу, а по различию формы. Все виды живописи — это род искусства, объединяемый единством материи. Сами же виды различаются по форме изображения, то есть по изображенному.
Мне думается, что рассуждений Иоанна Дамаскина вполне достаточно для прочного обоснования того положения, что виды священных изображений надо усматривать не во фресках, мозаиках, иконах, миниатюрах и т. п. (см. выше), а в различии фигурных изображений каждого из этих родов искусства. Но если «виды святых изображений»— это фигурно разные изображения, то в чем же разница фигур? Напрашивается естественный ответ: в разном содержании и осмыслении фигур, не говоря уже о том, что кроме человеческих фигур могло быть изображено и что-то другое (природа, символические животные, архитектура).
Иоанн Дамаскин не просто различает виды изображений, но и дает своеобразную классификацию образов. «Какое различие образов?» — спрашивает он. И отвечает: «...различие образов таково: первый образ — естественный. В каждой же вещи должно быть, во-первых, то, что по природе: и затем то, что по положению и подражанию. Так, человек необходимо существует, во-первых, по своей природе и потом по положению через подражание. Первый естественный и неизменный образ неви¬
1 Иоанн Дамаскин, Диалектика, стр. 37—39. Ср. у Федора Студита: «Видом называется и то, что отличается от рода, как, например, человек вообще; видом же называется и образ каждого, которого мы отличаем друг от друга» («Творения преподобного Федора Студита в русском переводе», т. I, Спб., 1907, стр. 190).
2 Иоанн Дамаскин, Диалектика, стр. 26.
26 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
димого бога есть сын отцаг показывающий в себе отца... И сын каждого отца есть естественный образ. И это будет первый вид образа — естественный» К
Второй вид образа есть мысль в боге, «предопределения бога» 1 2.
«Третий вид образа есть созданный богом по подражанию, то есть человек» 3.
«Четвертый вид образа бывает тогда, когда на картине представлены виды и формы, и очертания невидимого и бестелесного, изображенные телесно ради слабости нашего понимания как бога, так и ангелов, так как мы не можем созерцать бестелесное без соответствующих нам образов. . .» 4.
«Пятым видом образа считается предизображающий и предначертывающий будущее, как купина и роса на руне, и жезл и стамна — Деву и богородицу; и как змий — того, который уничтожил через крест укушение зла — змия; или море, вода и облако — дух крещения»5.
«Шестой вид образа — тот, который служит для воспоминания о прошедшем: или чуда, или добродетели, к прославлению, почитанию и обозначению победивших и отличившихся в добродетели; или зла к позору и стыду порочнейших мужей и, наконец, к пользе смотрящих, чтобы мы избегали зла, ревновали же о добродетелях... Таким образом и ныне мы с любовью пишем изображения поживших добродетельно мужей к соревнованию и воспоминанию о них с нашей стороны»6.
В изложенной концепции нетрудно видеть то самое учение о первообразах и образах, которое лежало в основе христианского иконопочитания. Первый и второй виды образов Иоанна Дамаскина — это, в сущности, первообразы. Начиная с третьего вида образов — человека— начинается мир образов, то есть подобий. Как видно, этот мир образов помимо изображений самого человека включает основные разделы византийского искусства: догматический (бог и ангелы), символический (купина и пр.) и легендарно-исторический, объединяющий у Иоан¬
1 «Полное собрание творений Иоанна Дамаскина», т. I, стр. 400.
2 Там же, стр. 401.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же, стр. 402.
6 Там же.
27 ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
на Дамаскина и сцены чудес, и жития подвижников, и «священную историю», и изображения всех святых. В свою систему Иоанн Дамаскин не включил образы светского искусства, но они занимали в его рассуждениях немалое место. Так, он неоднократно возвращается к изображениям царей, а также военных подвигов, для чего даже использует цитату из Василия Великого: «И военные подвиги часто изображают и историки и живописцы,— одни, украшая словом; другие же, начертывая на досках: и те и другие многих возбудили к мужеству» К
Таким образом, различение видов живописи у Иоанна Дамаскина — очень дифференцированное. Для нас важно, что такое разделение, по существу, не отличается и от ныне принятого, согласно которому тот или иной род живописи «включает в себя разновидности данной родовой формы или жанры, которые далее могут разделяться на более мелкие жанровые разновидности»2. Следовательно, «виды» Иоанна Дамаскина, условно, в рабочем порядке, мы можем называть жанрами.
Если, исходя из рассмотренных выше принципов «видообразовательного разделения» Иоанна Дамаскина, бросить самый беглый взгляд на историю различных видов византийской живописи, то мы найдем полное подтверждение сказанному.
Художественное движение в области выработки новых христианских изобразительных «типов и идеалов» началось с символов и атрибутов. Но очень скоро преобладание получили сцены легендарно-исторические. Лишь с X в. начинается их аллегорически-моральное осознание. Интерес к символическим сюжетам проявился несколько раньше, с VII в.3.
То же самое было и в больших формах искусства. Ранние символические образы постепенно уступали место историческим, но с усложнением религиозно-философской мысли историзм стал подчиняться вторичному символизму4. Этот сложный процесс протекал далеко не гладко5.
1 «Полное собрание творений Иоанна Дамаскина», т. I, стр. 365.
2 БСЭ, изд. 2, т. 15, стр. 589.
3 Н. П. Кондаков, История византийского искусства и иконографии. .. , стр. 43—45.
4 М. Дворжак, Очерки по искусству средневековья, стр. 68—71.
5 Н. П. Кондаков, История византийского искусства и иконографии. . . , стр. 83.
28 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Иконоборчество способствовало упадку живого «драматического жанра», в котором давались легендарно-исторические композиции, и развило композиции с «поучительно-богословским содержанием» 1. Но оно же выдвинуло другие виды искусства, обладающие всеми признаками жанра, — прежде всего так называемое ани- коническое искусство, а также светскую живопись триумфального характера1 2.
История очень скоро показала, что христианская идеология, ее утверждение и развитие не могут обходиться без сюжетного антропоморфического искусства, без картинного выражения отдельных идей. Патриарх Никифор, известный ревнитель иконопочитания, так и называл иллюстрации Псалтырей «картинами»3. В этом не было натяжки или иносказания. Многие миниатюры VIII— XI вв. отличаются такими развитыми композиционными формами, что невольно напрашиваются сравнения их с картинами известных художников эпохи Возрождения. Например, миниатюры Ватиканской библии (№ 747) предвосхищают картины Паоло Учелло4 и т. д. Естественно, картины Псалтыри были далеко не однородными. Н. П. Кондаков различал следующие «разделы» иллюстраций Псалтыри: 1) исторический, то есть ветхозаветные и новозаветные сцены, которые хотя и выступают в преобразовательном смысле (как прообразования псалмов), но дают сами по себе широкую историческую картину; 2) раздел сюжетов лирико-поучительного характера; 3) символический или даже аллегорический раздел; 4) олицетворения и 5) раздел специально иконописного характера5. Если такая дифференциация была в иллюстрациях Псалтыри, то еще в большей мере она должна была быть в живописи храмового интерьера, как она сложилась ко времени принятия Русью христианства.
К X в. византийское искусство вернуло себе всю полноту художественного содержания доиконоборческого
1 Н. П. Кондаков, История византийского искусства и иконографии. . . , стр. 108.
2 В. Н. Лазарев, История византийской живописи, т. I, стр. 68—69.
3 Н. П. Кондаков, История византийского искусства и иконографии. .. , стр. 10; см. также: Н. Н. Розов, Древнерусский миниатюрист за чтением Псалтири. — ТОДРЛ, т. XXII, M.—Л., 1966, стр. 65—67.
4 Н. П. Кондаков, История византийского искусства и иконографии. . . , стр. 188.
5 Там же, стр. 118.
ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
времени. Известно, что у посланных в Царьград «Умных и славных мужей» князя Владимира не нашлось слов для описания виданной ими «церковной красоты». Они чувствовали себя, словно на небе. Но все же отметили, что «пребывает там бог с людьми» 1. Это можно понимать и фигурально, как указание на единение молящихся с божеством, и в прямом смысле, как изображение Христа среди сонма святых, праведников, мучеников и других столпов христианства.
Так как службу для русских послов совершал патриарх, то, следовательно, она происходила в храме св. Софии. К концу X в. храм св. Софии содержал довольно развитый цикл изображений. Кроме тех сюжетов догматического характера, которыми св. Софию украсил еще Юстин II (565—578)1 2, здесь были сюжеты благовещение, рождество Христово, крещение, преображение, чудеса Христа, распятие, воскресение, вознесение, а также восседающий на троне, в образе судии мира Христос и Троица3. Как видим, догматические сюжеты соединялись с «историческими». К сожалению, неизвестно, как они взаимосвязывались. При Василии I (867—886) к мозаикам св. Софии были добавлены фигуры отцов церкви и медальоны с богоматерью и Христом посреди апостолов Петра и Павла4. Остальные мозаики относятся уже к более позднему времени.
К мозаичным изображениям нужно прибавить темперные, украшавшие алтарную преграду. Здесь на архитраве темплона были размещены фигуры пророков, чередующиеся с праздничными сюжетами5. Наконец, в росписи интерьера св. Софии большое место занимал орнамент.
Суммируя сказанное, можно прийти к заключению, что в росписи св. Софии Константинопольской было не менее четырех «видов святых изображений», как их называл
1 «Художественная проза Киевской Руси XI—XIII веков», М., 1957, стр. 56.
2 По словам поэта Кориппа, юстиновский цикл посвящался темам триединства божества и двуединства природы Христа (см.: В. Н. Лазарев, История византийской живописи, т. I, стр. 52).
3 В. Н. Лазарев, История византийской живописи, т. I, стр. 52.
4 Там же, стр. 77.
5 В. Н. Лазарев, Три фрагмента расписных эпистилиев и византийский темплон. — «Византийский временник», т. XXVII, М., 1967, стр 171.
30 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Иоанн Дамаскин: исторический, догматический, персональный 1 и орнаментальный.
Таким образом, «оправдание» внежанровости древнерусского искусства ссылками на такой же характер искусства византийского несостоятельно. Мне думается, что гораздо более тормозящей является мысль П. П. Муратова о некоей внеисторичности древнерусской живописи. Ведь и сейчас еще можно слышать высказывания о совершенно замкнутом в себе мире русской иконописи. Нет никаких оснований заподозрить тех, кто их делает, в неискренности, но высказывания эти идут больше от словесности, нежели от проникновения в суть вещей. Между тем если пользоваться той же словесностью, то пафосом отечественной науки о древнерусском искусстве как раз и было тончайшее и неопровержимое раскрытие его множественных связей с духовным миром человека, а следовательно, и с тем, что определяет этот мир. Замкнутой в себе могла быть отдельно взятая икона, но не иконопись в целом. Иначе в живописи не было бы никакого развития.
Посмотрим, какие еще могут быть возражения против применения к древнерусскому искусству понятия жанра. Одно из них, и довольно существенное, можно видеть в том, что сама природа жанра со всеми его признаками в средневековом искусстве еще не сложилась.
Действительно, жанры древнерусской литературы — это, собственно, не жанры в современном смысле слова, то есть они определяются не столько литературными, сколько внелитературными признаками, в первую очередь предметом повествования1 2. То же самое относится и к фольклору. При этом тот или иной жанр может делиться на поджанры в зависимости от конкретного назначения произведения. Например, житийный жанр делится на поджанры житий минейных, житий проложных3 и т. д.
Но как раз такое функциональное образование жанров в высшей степени приложимо и к изобразительному
1 Так я называю единоличные изображения, имеющие репрезентативный характер.
2 И. П. Еремин, Новейшие исследования художественной формы древнерусских литературных произведений. — ТОДРЛ, т. XII, M.—Л., 1956, стр. 285; Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 40 и сл.
3 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 49.
31 ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
искусству Византии, а вместе с ней и Древней Руси. Не выходя пока за границы церковного искусства, отметим, что не какие-нибудь особые художественные причины, а именно практическая культовая богослужебная необходимость способствовала выработке и сложению определенной системы «видов святых изображений», отвечающих содержанию и духу богослужения. Ф. И. Буслаев глубоко ошибался, когда писал о «невозмутимом однообразии иконописных сюжетов, соответствующем однообразию молитвы» 1. Молитвы, то есть служба, а следовательно, и сюжеты изображений вовсе не были однообразными. Для вечернего богослужения, символизировавшего спасение человеческое в Ветхом завете, нужны были картины «исторические», ветхозаветные, заканчивавшиеся «Благовещением». Литургия требовала страстного цикла и особых догматико-литургических изображений вроде «Евхаристии» и т. п. Я привел только самое общее «разграничение функций», на самом деле литературная основа богослужения была более дифференцированной (многожанровой)1 2, и это вызывало такую же дифференциацию в голосовом исполнении службы и в «святых изображениях».
А. В. Преображенскому принадлежат замечательные слова: «... поэтический материал неизбежно облекался немедленно же, если не под пером одного и того же автора, в форму музыкально-певческую, ибо это было «песнопение», гимнография... Такой характер творчества в конце концов приводил к тому, что в основе музыкального изложения лежала та же самая форма, какая была положена в основу словесного. Поэтому, например, лежавший в основе конструкции псалмов словесный параллелизм целиком отражался и в музыкальной форме, так должно было быть и в христианских стихирах»3. Слова эти важны для нас тем, что теоретически оправдывают взгляд на богослужение как на многожанровое явление.
1 Ф. И. Буслаев, Сочинения, т. I, стр. 41.
2 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 40, 49. Мы не касаемся здесь того, как слагалась эта «литературная основа». Конечно, она сложилась не в один прием, но от домонгольского времени сохранились служебники, из которых явствует, что литургия имела сравнительно общую, единую редакцию (Е. Голубинский, История русской церкви, т. II, 2-й полутом, М., 1917, стр. 406).
3 А. В. Преображенский, Культовая музыка в России, М., 1924, стр. 10.
32 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
О древнерусской культовой музыке написано немало исследований \ но, к сожалению, как раз проблема музыкальных жанров в них не затронута. Только у Н. Успенского мы находим указания на то, что, например, тропари и кондаки, составляющие особые поэтические жанры, исполнялись в различных формах: первые нараспев, вторые — мелодично и с драматической разработкой2. Тут уместно напомнить, что древнее богослужение (в частности, домонгольской эпохи) было гораздо более речитативным. Пелись в основном священные песни и стихи, молитвы же читались. Замена чтения пением совершалась постепенно, процесс этот сопровождался острыми дискуссиями, вынесенными на церковный Собор 1551 г. (Стоглав), причем инициатором соборного обсуждения и вообще сторонником песенных жанров выступил Иван Грозный. При этом музыкальные формы усложнялись, особенно с появлением так называемого демест- венного, а потом и партесного пения. В конце концов музыкальная ткань богослужения и стала многожанровой. Один из первых древнерусских теоретиков музыки Николай Дилецкий писал в конце XVII в.: «.. .по фантазии мусикия есть тричисленная: веселая, ужасная, умилительная и смешанная. Веселая сия есть, как ушеса человеческая и сердца возбуждает к веселию. К ней все веселые церковные и мирские пения надлежат. Ужасная сия есть, как ушеса человеческая возбуждает к жалости: яко же плачь и надгробная пения. Смешанная сия есть, как ушеса человеческая единого возбуждает к веселию, вто- рицею к печали. . .»3.
Сказанное никоим образом не противоречит цельности богослужения как такового. Его цельность имела разный состав 4, как разный состав имели многие литератур-
1 Поскольку этот вопрос не является темой нашего исследования, то отсылаем читателя к интересной книге Н. Успенского (Н. Успенский, Древнерусское певческое искусство, М., 1965).
2 Н. Успенский, Древнерусское певческое искусство, стр. 25.
3 Цит. по кн.: И. Сахаров, Исследования о русском церковном песнопении. — ЖМНП, 1849, февраль, Спб., стр. 181.
4 Можно, конечно, говорить о едином (объединительном) литургическом жанре, тогда отдельные его части выступят в качестве поджанров. Но, как увидим ниже, для изобразительного искусства такая классификация не применима. В изобразительном искусстве литургические сюжеты составляли особый частный жанр, выступающий наравне с другими, которые было бы неправильно считать литургическими. О первичных и объединительных жанрах см. ниже.
33 ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
ные произведения, например патерики, палеи, хронографы, «Вертоград», «Виноград», «Цветослов», «Пчела» и др. *.
Ьстественно, что церковная живопись (не говоря уже о нецерковной), в зависимости от конкретного предназначения, от той части в богослужении, которой она идейно соответствовала, должна была быть предметно и структурно различной, что и вело к сложению определенных «типов». Эти «типы» в конце концов и были закреплены в Подлинниках.
В «Ерминии» Дионисия Фурноаграфиота различаются «святые иконы», написанные знаменитым Панселином, и «исторированные знаменитые храмы», то есть росписи, созданные тем же Панселином 2.
На обособленность этих явлений (икон и росписей) обратил внимание еще Н. П. Кондаков3. Хотя указанные «виды» и объединяются в храмовом интерьере, но выполняют в нем разные функции и размещаются в разных местах. Наконец, и происхождение этих категорий живописи различное. Не случайно греки терминологически отличали собственно икону от настенного письма, в чем русская старина следовала традиции 4.
В литературе уже были попытки видеть в этих «типах» живописи некие жанры. Ю. Н. Дмитриев, например, говорил об иконописи как об одном из жанров древнерусского искусства5. Много раньше Н. П. Кондаков писал о жанре миниатюры6. Такие разделения, конечно, вполне естественны, но эти разделения отнюдь не жанровые, а родовые, что хорошо понимал еще Иоанн Дамаскин (см. выше). Если даже мы согласимся считать жанром только такие цельные комплексы, как, например, роспись церковного интерьера, то и в данном случае вопрос сводится лишь к количественной, а не к качественной стороне. Перед нами будет то, что в литературе называется
1 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 45—46.
2 «Ерминия, или Наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом». — «Труды Киевской духовной академии», т. I, Киев, 1868, стр. 271.
3 Н. П. Кондаков, Русская икона, ч. I, стр. 16—17, 21.
4 Там же, стр. 20—21.
5 Ю. Н. Дмитриев, Об истолковании древнерусского искусства. — ТОДРЛ, т. XIII, М.—Л., 1957, стр. 354.
6 Н. П. Кондаков, История византийского искусства и иконографии. . . , стр. 10, 31.
3
(Проблема жанров!
34 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
вторичным жанром, объединяющим первичные1. И, следовательно, вопрос об этих первичных жанрах остается в полной силе.
Но вернемся к «Ерминии». Разделяя священные изображения на иконы и «исторированные» росписи, Дионисий Фурноаграфиот показывает, как должно производиться это «историрование», то есть как изображаются деяния и чудеса, притчи господни, внешний вид евангелистов и апостолов, страдания и чудеса их, житие истинного монаха и «щетный мир сей»2. Рекомендации Дионисия строятся по системе. Сначала речь идет о Ветхом завете, его событиях и главных лицах, затем описываются праздники, страсти Христовы, притчи, евхаристия, апокалипсические сюжеты, наконец, особо — богородничные праздники3. Каждый из этих видов описывается по-своему, согласно тому, что в нем считается главным. Более того, касаясь изображений Христа, Дионисий различает Панто- кратора (Вседержителя), Христа Спасителя, Христа Предвечного4. Перед нами, следовательно, определенная градация «святых изображений». Нечто подобное, вероятно, и имел в виду Иоанн Дамаскин, ибо вне такой градации строго кодифицированное византийское церковное искусство существовать не могло. Здесь мы снова подходим к жанрам.
Итак, ссылка на внехудожественный способ жанрооб- разования средневековой литературы тоже не затрагивает существа дела.
Конечно, было бы неверным подходить к поставленной задаче с ригористической строгостью и обязательно всюду проводить резкое размежевание жанров. Средневековое искусство, особенно византийское и древне-
1 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 45.
2 «Ерминия, или Наставление в живописном искусстве...». — «Труды Киевской духовной академии», т. I, стр. 271.
3 Там же, стр. 555—562.
4 M. Didron, Manuel d’icongraphie chrétienne, Paris, 1845, p. 460.
Сказанное может быть распространено на все типы изображений. Их образная характеристика очень варьировалась в зависимости от сферы бытования. На примере образа богоматери В. И. Антонова показала, как он варьировался в придворной, домашней и монастырской жизни Москвы (В. И. Антонова, Древнерусское искусство в собрании Павла Корина, М., 1967, стр. 12). Конечно, здесь речь идет уже о внутрижанровых вариантах. Об изображении одного и того же лица в разных типах (по-нашему, в разных жанрах) см. упомянутую выше работу И. Мыслевеца.
35 ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
русское, отличалось поразительной синтетичностью, взаимопроникновением всех частей. Однако отказ от расчленения может повести к неверному пониманию сути указанного синтеза. Если почти во всех разделах византийского и древнерусского искусства выступают одни и те же образы, то это не значит, что они одноипостасны.
Единственное, что, с нашей точки зрения, затрудняет постановку проблемы жанров древнерусского искусства, это непривычность и неразвитость такого подхода к нему со стороны современников. Для русских людей XI— XVII вв. было как бы само собою разумеющимся, что в области литературного творчества существуют «слова», «похвалы», «жития», «поучения», «хождения», «повести», «хронографы», «летописцы» и т. п., в то время как в изобразительном искусстве таких названий было намного меньше. Но, думается, что здесь все дело в различных способах соприкосновения читателя и зрителя с произведениями древнерусской литературы и искусства. Д. С. Лихачев очень хорошо показал, что поскольку литературное произведение XI—XVII вв. не раскрывалось читателю сразу в своем «художественном ключе», то читателя нужно было психологически подготовить к этому, для чего в заглавии сразу выставлялось жанровое определение произведения: «повесть преславна», «сказание дивное» 1 и т. п. Вследствие этого до нас дошло около ста жанровых определений литературных произведений 1 2.
Памятники изобразительного искусства не нуждались в таком «предупреждении», зритель сразу видел, с чем он имеет дело3, применялись иногда лишь надписи, обозначающие конкретный сюжет, но не «жанр». В этом отношении очень показательно, что когда сюжет стал отклоняться от «правил» и на этой почве возникли различные недоразумения, то церковный Собор 1554 г. позаботился о том, чтобы разделить живопись на «бытей- ское письмо» и на «притчи». Под «бытейским письмом» понимались «исторические явления», а под «притчами» — нечто от художественного вымысла. При этом, определяя «исторические явления», Собор ссылался на Иоанна Да- маскина. Сильвестр в своем объяснении для Собора раз¬
1 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 62.
2 Там же, стр. 49.
3 О различии словесного и изобразительного образов см : Н. Дмитриева, Изображение и слово, М., 1962, стр. 11—68.
3‘
36 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
деляет иконопись даже на более дробные области: «честные иконы», «бытийские деяния» и «иные многие притчи» '. Довольно рано образовалось различение икон темплонных, поклонных, настенных и т. п.1 2.
Вероятно, в XVI в. устное хождение имели и другие определения видов иконописи, имевшие значение жанров в нашем смысле слова, но они остались нам неизвестными. Разделение живописи на «личное» и «доличное», «травное», «палатное», «парсунное» письмо дополняет этот процесс дифференциации.
Итак, перед нами вовсе не монолитная глыба искусства, а очень развитая система, состоящая из отдельных частей, находящихся друг с другом в определенной связи, в историческом единстве. Историки древнерусского искусства хорошо знают, что любая из этих частей обладает своими художественными признаками, не только иконографическими, но и, так сказать, «этикетными»3, и всегда эти признаки изучают. От соотношения этих признаков с общим целым зависит оценка степени оригинальности произведения, совпадения его с общим уровнем и направлением искусства или отклонения от него в ту или иную сторону.
Древние византийские и русские художники тоже знали, что далеко не все приемы были пригодны для той или иной части «святых изображений»: именно они-то и были хранителями указанного «этикета». Правда, этот «этикет» не совсем идентичен литературному, — в частности, живопись XI в. не знала такого «разноязычия», как литература, каждое произведение выполнялось на одном определенном изобразительном языке, но в зависимости от предмета изображения и в этой области имелись свои требования и возможности. Конечно, все специалисты по древнерусскому искусству знают это, но понадобился введенный Лихачевым термин «этикет», чтобы проблема осветилась по-новому, теоретически принципиально.
1 См. «Жалобницу благовещенского попа Сильвестра» в кн.: «Московские соборы на еретиков XVI века в царствование Иоанна Васильевича Грозного». — ЧОИДР, год 3-й, № 3, М., 1847, стр. 21.
2 Е. Голубинский, История русской церкви, т. I, 2-й полутом, М., 1881, стр. 179—184. Как увидим ниже, здесь налицо один из жанровых признаков — функциональный, но сам по себе, без предметного содержания, он не определяет жанра.
3 О литературном этикете см. подробно: Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 84—108.
37 ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
Здесь мы приближаемся к сути жанровых различий. Например, в какой-либо событийной сцене фигуры изображались относительно «реально», преимущественно в трехчетвертном повороте, иногда даже в профиль, со свойственной им характеристикой поведения. Немалое внимание уделялось стаффажу. Но стоило только возникнуть задаче символико-догматического характера, как фигуры абстрагировались, разворачивались в фас либо композиция строилась строго симметрически, зеркально, причем внепространственно, с обильным применением символов *. В следующих главах эти вопросы жанрообра- зования будут рассмотрены подробно. Пока же, в предварительном порядке, остановимся на одной теме преображения.
Известная алтарная мозаика церкви св. Аполлинария во Флоте (Равенна, VI в.)1 2 и не менее известная роспись церкви св. Екатерины в Синае (VI в.)3 являются почти синхронными памятниками. В равеннской мозаике преображение дано символически или символико-догматически 4. Христос не изображен. Его символизирует четырехконечный крест в круге, на фоне звезд. Нет также и апостолов, присутствие их показано тоже символически в виде трех агнцев. Илья и Моисей, правда, изображены, но весьма фантастически: их полуфигуры (слева и справа от креста) как бы выглядывают из «прорезей» неба. Разумеется, никаких намеков на гору Фавор нет. Этот символизм распространяется и на нижележащий регистр, где представлен сам Аполлинарий, а по сторонам его по шесть белых агнцев, означающих учеников Христа.
В росписи церкви св. Екатерины имеем ту «историческую» концепцию преображения, которая затем станет канонической. Христос, Илья, Моисей стоят на горках, причем Илья и Моисей повернулись почти в профиль
1 Отмечая такую же разницу между ветхозаветными и новозаветными сценами в миниатюрах Киевской Псалтыри 1397 r.f Н. И. Розов объясняет это связью ветхозаветных миниатюр с фресковыми циклами, а новозаветных — с иконами (Н. Н. Розов, Древнерусский миниатюрист за чтением Псалтири, стр. 74).
2 Н. В. Покровский, Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. — «Труды VIII археологического съезда», т. I, Спб., 1892, рис. 88.
3 Там же, рис. 89.
4 В. Н. Лазарев говорит об «абстрактной редакции» (В. Н. Лазарев, История византийской живописи, т. I, стр. 59).
ЗВ ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
к Христу. Внизу, у подошвы горы Фавор, представлены в разных динамических позах апостолы Петр, Иоанн и Иаков. Поскольку их фигуры надо было показать в состоянии предельного изумления и даже страха, то уже с этого раннего времени им стали придавать весьма смелые ракурсные положения. Иоанн изображен даже упавшим ниц.
Таким образом, перед нами одна тема, но предметы изображения разные. В первом примере это отвлеченная догма. Во втором — ее конкретное воплощение. Из сказанного видно, что предмет изображения — это не тема, не сюжет, даже не объекты сами по себе, а тот взгляд на объект (аспект), в рамках которого реализуется изображение. Предмет изображения — это в какой-то мере и смысл. Но тот или иной смысл не может существовать без одновременного отложения в виде известной структуры, которая представляет как бы морфологическую сторону смысла 1. Разные аспекты, разные смыслы только тогда воспринимаются как действительно разные, когда они выступают в разных структурах2. Таким образом образующиеся структуры относятся и к содержанию и к форме, поэтому их можно назвать «содержательными формами», что, в сущности, и равнозначно жанрам3.
Мы приходим к признанию того, что те изобразительные циклы, которые выделяли в древнерусском искусстве еще дореволюционные ученые, по существу, можно считать основами жанров.
Итак, под жанрами мы будем понимать исторически сложившиеся изобразительные структуры, имманентно наделенные определенным смыслом, то есть выражающие определенный аспект мысли (содержания).
Ничто, видимо, не препятствует тому, чтобы выявить составные элементы жанровых структур, в роли которых, очевидно, должны выступать отдельные образы, способы сцепления образов в группы, принципы соединения их с вещами, приемы пространственно-временной характеристики и т. п., что должно образовать связи первого, второго и последующих порядков. Но для такого подхода наука о древнерусском искусстве, к сожалению, еще не
! См. подробно: О Фрейденберг, Поэтика сюжета и жанра, Л , 1936, стр. 118.
2 Ср.: Л. С. Выготский, Психология искусства, M., 1968, стр. 54.
3 Ср.: А. Н. Соколов, Теория стиля, стр. 118 и сл.
39 ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
подготовлена. Поэтому следует пока использовать традиционные искусствоведческие понятия, по возможности приблизив их к задачам структурных характеристик. Учитывая это, мы условимся, что в образование жанровой структуры («содержательной формы») входит: а) выбор действующих лиц и особого характера действия как выразителя аспекта; б) особая характеристика действующих лиц и их взаимоотношений как носителей взятого аспекта; в) отбор материальных вещей (аксессуаров); г) особое включение (или выключение) действующих лиц в пространство и время. Последнее, конечно, следует представлять не как заведомо поставленную и разрешаемую задачу, а как непосредственно данное в самом художественном мышлении, которое, как увидим ниже, для разных аспектов смысла было различным. Таким образом, жанр является проблемой и психологической 1.
Как видим, перечисленные стороны «содержательной формы» действительно характеризуют и семантику и форму произведения. Поэтому жанром можно считать определенную «систему смысла», имеющую определенную структуру, в которой этот смысл и может быть выражен. Суть же проблемы жанра можно свести к установлению единства между семантикой и морфологией1 2.
Применение категории жанра к древнерусскому искусству не должно казаться какой-то модернизацией. В конце концов, ведь это рабочая искусствоведческая терминология. Такие понятия-термины, как стиль, гармония, образная система, идейно-тематическое содержание и т. п., древнерусскими художниками тоже не употреблялись, однако без них не обходится ни одно исследование древнерусского искусства, они составляют его метаязык.
Сложнее другой вопрос: какие же все-таки жанры можно выделить в древнерусском искусстве? На этот вопрос и должно ответить все наше последующее исследование, которое строится исторически. Задача облегчается тем, что, как уже сказано выше, различные виды изображений определялись конкретным практическим (культовым или мирским) предназначением. Правда, пока мы исходим в признании этого тезиса больше из практики изучения литературных жанров. Но, как бы литература
1 Л. С. Выготский, Психология искусства, стр. 182.
2 О. Фрейденберг, Поэтика сюжета и жанра, стр. 9—11.
40 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
и изобразительное искусство ни отличались своими специфическими средствами, закономерности их функционирования в средневековом обществе были однородными К Различия здесь могли быть главным образом по количественной линии. Практические функции литературы были, конечно, несравненно разностороннее, поскольку литература удовлетворяла не только культовым, но и разнообразным светским потребностям. Как увидим ниже, светские формы изобразительного искусства тоже были не столь уж узкими, но большое искусство, в основном культовое, строже регламентировалось строем христианского учения. Поэтому такого обилия жанров, как в литературе, здесь ожидать нельзя, что для начала тоже облегчает задачу.
Теперь, после предварительного выяснения понятия жанра, необходимо определить, в каком отношении жанры находятся с иконографией. Не дублируем ли мы в своих рассуждениях вопросы иконографии?
Это сомнение можно полностью отвергнуть. Иконография, как бы широко мы ее ни понимали, все же не идет дальше канонизации внешней стороны (формы) явлений. Для иконографии совершенно безразлично, касается ли дело исторического, литургического, догматического или какого-либо иного предмета изображения, лишь бы все было так, как это утверждено и освещено церковной традицией. Иконография совершенно не определяет характера произведения, поскольку сама она не имеет никакой структуры. Поэтому иконография, как внешняя форма, не может быть и стилеобразующим фактором. Ее кажущееся громадное и определяющее значение в истории средневекового искусства есть не что иное, как следствие крайне одностороннего изучения. Поскольку иконография, иконографические признаки лежат на поверхности, поскольку, с другой стороны, в средневековой практике они прежде всего были предметом различных поправок, то и создалось впечатление о всемогуществе иконографии. Между тем собственно творческий процесс лежал за иконографией, за ее внешностью, так как он сосредотачивался в таких элементах структуры художественного произведения, какие были либо носителями, либо факторами стиля, либо тем и другим одно- 11 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 32.
41 ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
временно. Жанр относится к этого рода элементам1. В своем исследовании мы будем не раз иметь возможность сталкиваться с произведениями, выполненными примерно в родственной иконографической схеме, но относящимися все же к разным жанрам. Таковы, например, «Деисус» и «Евхаристия» или «Евхаристия» и «Великий вход» и т. п.
Сложное на первый взгляд взаимоотношение жанра с иконографией станет понятнее, если перевести рассуждение в жизненный практический план. Приступая к созданию того или иного произведения, древнерусский художник уже знал, для чего оно предназначается. Более того, он знал, где, в какой части храмового интерьера это произведение должно быть. Уже этим самым обуславливался предмет изображения, а вместе с этим и его «содержательная форма», то есть жанр. Только после этого художник мог обратиться к соответствующей иконографической традиции. Здесь он тоже руководствовался предметом изображения и его жанром. Если это была какая-либо библейская или евангельская, то есть историческая, в его представлениях, сцена, то художник не обращался к иконографии, свойственной символико-догматическим предметам.
Можно, конечно, считать, что жанровые особенности в сознании древнерусского художника настолько слились, отождествились с иконографией, что выступали на сцену одновременно и именно в иконографическом обличье. Но в психологическом, историческом и научном отношении это будет упрощением. За внешней формой мы можем проглядеть внутреннюю, то есть то, что связано с предметом изображения. Опасность однобокого увлечения иконографическим методом исследования и состоит в том, что внутренняя форма при этом игнорируется1 2. «Подобный подход к искусству, — пишет В. Н. Лазарев,— не мог не породить оппозицию, и так родилась иконология Панофского» 3.
1 См. подробнее: А. Н. Соколов, Теория стиля, стр. 63 и сл.
2 В. Н. Лазарев, О некоторых проблемах изучения древнерусского искусства. — В кн.: В. Н. Лазарев, Русская средневековая живопись, M., 1970, стр. 303.
3 В. Н. Лазарев, О некоторых проблемах изучения древнерусского искусства. — В кн.: В. Н. Лазарев, Русская средневековая живопись, стр. 304.
42 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Иконология Панофского возвращает средневековому искусству всю полноту и глубину его содержания1. В какой-то степени ее можно сопоставить с такими важными элементами структуры художественного произведения, как идейно-тематическое содержание, образная система, что вплотную подводит нас и к предмету изображения. Как известно, идейно-тематическое содержание, образная система являются стилеобразующими факторами, но они не являются носителями стиля2. С другой стороны, иконография, как мы видели, не является ни стилеобразующим фактором, ни носителем стиля. Стилеобразова- ние повисло бы в воздухе, если бы в структуру художественного произведения не входил такой элемент, как жанр, одной своей стороной обращенный к содержанию, а другой — к форме. Недаром он и получил определение «содержательной формы». И здесь мы возвращаемся к сказанному во введении: стилевая проблематика древнерусского искусства потому не получила развития в нашей науке, что ее никогда не интересовала проблема жанров.
Интерес и значение проблемы жанров древнерусского искусства состоит не только в том, что жанры были и стилеобразующими факторами и носителями стиля, но и в обратном явлении — в том, что новые стилевые потребности неизбежно рождали новые жанровые формы3. Отсюда и возникает проблема «второго порядка» — соотношение жанров со стилем, ради которой и следует заниматься изучением жанров.
В литературоведении давно признано, что разные жанры могут иметь свои «жанровые стили»4. Если учесть, что из «жанровых стилей» могут складываться «направления», а из «направлений» — стили эпохи, то стилеобразующая роль жанров оказывается трехступенчатой.
Соотношение жанра со стилем — слишком большая проблема, чтобы мы могли здесь уделить ей достойное внимание. Но в плане только что высказанных соображений о соотношении жанра (жанров) с иконографией следует сказать, что подключение сюда категории стиля все
1 E. Panofsky, Il siqnificato nelle arti visive, Torino, 1962, pp. 20, 22, 31, 36, 37, 44.
2 А. Н. Соколов, Теория стиля, стр. 86—116.
3 Там же, стр. 115.
4 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 57.
43 ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
ставит на свое место. Произведения одного и того же жанра и одинаковой иконографии могут быть стилистически тождественными и весьма различными. Если в первом случае мы, в сущности, не можем четко установить ни роли жанра, ни роли иконографии в стилеобразова- нии 1, то во втором случае становится совершенно явным, что иконография не принимала никакого участия в изменении стиля, а жанр мог принять участие, так как, оставаясь в своих рамках, он обладает различными стимулами и эти стимулы при соответствующих условиях действуют очень активно.
Постановка проблемы жанров древнерусского искусства представляется еще более правомерной, как только мы вспомним, что помимо культового существовало и весьма развитое искусство светское. Конечно, это в равной степени относится и к Византии. Посвященные последней теме работы А. Н. Грабара и В. П. Даркевича показали, какое яркое и разнообразное это было искусство2 и как мало в этом отношении Киевская Русь уступала Царь- граду3. Здесь были и чисто светские повествовательные циклы типа иллюстраций к хроникам, и циклы монархосимволические (триумфальные), и придворно-увеселительные, наконец, просто декоративные. К некоторым из них А. Н. Грабар применяет понятие жанра.
От исторических и триумфальных циклов, к сожалению, почти ничего не сохранилось ни в Константинополе, ни в Киеве. Но и сохранившегося достаточно, чтобы убедиться в многожанровости светского искусства. Особенно интересны увеселительный и зооморфно-декоративный циклы-жанры, развернутые в росписях лестничных башен Киевской Софии. Если к этому добавить разножанровые миниатюры рукописей, обрядово-бытовые сцены на предметах прикладного искусства, наконец, своеобразный мир тератологии, то нельзя не почувствовать разнообразие этого внецерковного искусства,
1 Можно априорно считать, что характер жанра известным образом отразился на стиле.
2 A. Grabar, L’Empereur dans l’art byzantin, Paris, 1936;
В. П. Даркевич, Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе.
3 А. Н. Грабар, Светское изобразительное искусство домонгольской Руси и «Слово о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. XVIII, М.—Л., 1962, стр. 233—271.
44 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
разнообразия, в частности, структурного, то есть жанрового.
Некоторые из отмеченных видов изображений в свою очередь разделяются на более узкие, первичные жанры. Например, иллюстрации к хроникам были многожанровые. Они включали (помимо библейских сцен) немало из окружающей исторической действительности, даже пейзаж К Разнообразной была и придворная музыка, знавшая инструментальные и певческие жанры1 2.
Все сказанное, как нам кажется, позволяет ставить проблему жанров древнерусского искусства как вполне реальную проблему. Мы, конечно, все время должны учитывать, что имеем дело не с современными жанровыми структурами, обросшими сложными художественными признаками, а с жанрами средневековыми, очень много обязанными самому предмету повествования3. Но именно это и заставляет исследователя с особым вниманием следить за тем, как внехудожественные признаки жанров постепенно превращаются в художественные, как жанры приобретают собственно жанровые признаки, как, наконец, эти признаки нарушаются, стимулируя развитие искусства. В этом тоже состоит одна из целей изучения жанров. Как хорошо сказал М. В. Алпатов, «для того, чтобы по достоинству оценить нарушения, должна быть познана норма»4.
Изучение жанров имеет и другие важные стороны. Если жанры представляют «поперечный разрез сквозь толщу художественных явлений»5 то, естественно, чем точнее будет общая картина жанров, тем этот разрез будет полнее выражать художественный кругозор эпохи и познавательно-философский потенциал искусства. На такой базе можно более успешно сравнивать древнерусское искусство с искусством других стран. Можно будет видеть, какой жанр (жанры) был наиболее благоприятным для развития реалистических тенденций, каких именно и какие стороны этих тенденций были ведущими.
1 О. И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, стр. 9.
2 Н. Финдейзен, Очерки по истории музыки в России, т. I, вып. 1, M., 1928, стр. 56.
3 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 42 и сл.
4 M. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. I, стр. 22.
5 Там же, стр. 22.
45 ГЛАВА I ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
Взаимоотношение культового и светского начал в искусстве, а также взаимоотношение его с фольклором тоже легче установить на основе изучения жанров Наконец, общее направление искусства можно понять лучше через сопоставление его с литературой, и здесь в зоне контактов тоже оказываются жанры.
В связи с постановкой вопроса о жанрах древнерусского искусства возникает множество других, более частных вопросов теоретического и практического характера. По мере возможности мы будем касаться их в ходе самого исторического исследования, где надлежит развить и углубить поставленную здесь проблему. 11 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 42.
ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ
ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
Прежде чем перейти к проблеме жанров в древнерусском искусстве эпохи Киевской Руси, мы должны отдать себе отчет в одном важном вопросе: ознакомились ли восточные славяне с разными аспектами творчества только через посредство жанров византийского искусства, или языческое художественное творчество тоже знало жанры в том их понимании, которое обрисовано выше? Вопрос этот, разумеется, не следует понимать так, будто славянское искусство в какой-то степени могло подготовить почву для развития византийских жанров, которым ничего не оставалось, как продолжать начатое. Но вряд ли дело можно представить и так, что византийские жанры легли на совершенно девственную в психологическом отношении почву. Словом, в поставленном вопросе важна не внешняя, а внутренняя сторона: были ли славянские мастера способны выделять в художественном мышлении различные грани и аспекты, воплощаемые затем в определенные «содержательные формы»? Вопрос теряет свой риторизм, как только мы подходим к проблеме функционально.
К моменту христианизации Руси восточно-славянское искусство прошло большой путь развития. Хотя, в силу ряда исторических причин, оно предстает перед нами далеко не в целом виде, а в обломках, но все же настолько ярких, что Б. А. Рыбаков мог с полным основанием говорить о многообразии этого искусства, охватывающего «все стороны быта» 1. Это позволяет предполагать такую функционально-тематическую дифференциацию творчества, которая создавала предпосылки для жанро- образования. Конечно, сказанное не означает, что каждая функционально-тематическая область творчества должна была вылиться в жанр. Неизобразительные виды искусства, которых нельзя лишать известной «тематич- 11 Б. А. Рыбаков, Искусство древних славян. — «История русского искусства», т. I, M , 1953, стр 50—52.
47 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
ности», мы пока не рискуем отождествлять с жанрами 1 и поэтому здесь рассматривать не будем.
Что касается изобразительных видов, то при знакомстве с ними мы сталкиваемся с довольно неожиданным явлением. Оказывается, что те яркие области образотворче- ства, с которыми в нашем представлении обычно связывается глубочайшая поэтичность славянского искусства — различные зооморфные обереги и симметричные композиции из двух коней с деревом или женской фигурой посередине1 2, — относятся не к глубокой языческой древности, а идут примерно с X—XI вв.3, когда язычество оказалось «в изгнании». Должны ли мы рассматривать эти виды творчества как явления поздние? Я думаю, что такой обнаженно-хронологический подход здесь недопустим. Надо учитывать, что восточные славяне уже в период «военной демократии» прошли ту стадию, которая характеризуется развитием мифотворчества4. Сохранившиеся обрывки сказаний того времени почти не содержат развитой мифологической тематики5. В виде «низшей мифологии» она могла сохраниться на окраинах славянского мира, и недаром так называемые «коньки» находят в курганах северной зоны, где славяне тесно соприкасались с финно-уграми и балтами.
То же самое можно сказать и о столь популярных в крестьянской вышивке архаического типа композициях из двух коней с деревом или богиней в центре. Славянских произведений до X в., в сущности, нет. Правда, А. К. Амброз высказал очень резонное соображение, что
1 Принципиально против этого, впрочем, нельзя выставить возражений, но истолкование орнамента как жанра требует более подробного обоснования.
2 В дальнейшем мы будем называть их, как принято, антитетическими.
3 В. В. Седов, Амулеты-коньки из древнерусских курганов. — «Славяне и Русь», М., 1968, стр. 151—155; А. К. Амброз, О символике русской крестьянской вышивки архаического типа. — «Советская археология», М., 1966, № 1, стр. 73.
4 Поэтому мы совершенно не рассматриваем в своей работе вопросы мифообразования, захлестнувшие, как известно, чуть ли не всю современную западноевропейскую этнологию и антропологию. См. подробно: Р. Вайманн, Литературоведение и мифология. — «Вопросы философии», 1969, № 3, См. также: К. Леви-Стросс, Структура мифов. — «Вопросы философии», 1970, № 7.
5 Б. А. Рыбаков, Древняя Русь. Сказания. Былины. Летопись, М., 1963, стр. 12.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
в раннюю пору подобные композиции, как тесно связанные с обрядностью, могли выполняться на обрядовых же предметах из мягкого материала и поэтому просто не сохранились 1. Однако у финно-угров такие композиции известны и в твердых материалах1 2. Значит ли, что славяне не знали таких композиций до своего соприкосновения с финно-уграми? И на этот вопрос следует ответить отрицательно. Финно-угорские произведения могли только воскресить у славян давно пройденный этап мифологического творчества, вернее, оживить уже затухающую или оборванную христианизацией линию творчества3. Это было возможно в силу того, что в орбите внимания оказались типологические образы, отражавшие существенные стороны народного мировоззрения.
Этнографы давно обратили внимание на то, что мифология чуть ли не всех племен земного шара строится на принципе бинарного противопоставления, в чем усматриваются следы некогда существовавшей у них дуальной организации4. У восточных славян тоже реконструируется такая семантическая система, охватывающая разные аспекты положительного и отрицательного в мире: религиозные, этические, биологические, пространственные, временные, социальные и т. д.5. Исследованная в основном для языкового уровня, система эта пока не изучена на уровне изобразительного искусства. Но, будучи включенным в общую систему, изобразительный материал должен подчиняться общей закономерности системы. Об этом позволяет думать отражение более низких языческих представлений в системе официального славянского пантеона, где Перуну противопоставлен Велес, Стрибогу — Даждьбог, Мокоши — Симаргл и т. д.6. Но бинарные или антитетические композиции типа двух ко-
1 А. К. Амброз, О символике русской крестьянской вышивки архаического типа. — «Советская археология», 1966, № 1, стр. 73.
2 Л. А. Голубева, Археологические памятники веси на Белом озере. — «Советская археология», 1962, № 3, стр. 60—70.
3 Недоучет этого обстоятельства может привести к весьма искаженной реконструкции славянской культуры.
4 А. М. Золотарев, Родовой строй и первобытная мифология, M., 1964, стр. 88 и сл.
5 Там же, стр. 281 и сл. Подробно см. в работе: Вяч. Бс. Иванов, В. Н. Топоров, Славянские языковые моделирующие семиотические системы, М., 1965, стр. 192 и сл.
6 Там же, стр. 21—25
49 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
ней перед центральным разделительным символическим 1 знаком (столб—дерево—женщина) относятся к несравненно более архаической стадии этой системы, когда явления действительности и мифологические представления классифицировались в форме гораздо больших абстракций. Во всяком случае, они никак не могут быть выведены из мировоззрения русского крестьянина XII— XIII вв., не говоря уже о более позднем времени. Это во-первых. Во-вторых, чрезвычайная устойчивость рассматриваемого мотива в крестьянском творчестве, где он дожил до XX в., дав произведения проникновеннейшего искусства, позволяет исследователям с полным основанием видеть в нем не внешнюю, а глубоко содержательную форму1. Правда, в ее семантической интерпретации нет единства, но что перед нами, скорее всего, космогонический образ, в этом не может быть сомнения. Это подтверждается солярными знаками на фигурах коней, а в более поздних вышивках — свастиками под конями, птицами в верхней части композиции и возношением рук «богини» к небу. Сейчас мы уже не можем познать конкретное идейно-тематическое содержание подобных композиций. Наиболее вероятна их связь с идеей плодородия 1 2, то есть они относятся к аграрной магии, а, может быть, одновременно (через ту же идею плодородия) к свадебной. Во всяком случае, перед нами своего рода «языческая догматика» и, как всякая догматика, она требовала особых, значительных, «высоких» форм воплощения. Строгий центризм и зеркальность композиции, отражавшие, очевидно, древнюю мировоззренческую систему противопоставлений, как нельзя лучше фиксировали отвлеченность этой идеограммы.
Здесь небезынтересно остановиться на «законе симметрии». По словам В. Я. Проппа, это есть «один из законов народного искусства» 3. Я не стал бы так абсолюти¬
1 В. А. Городцов, Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве. — «Труды Г ИМ», I, М., 1926; Б. А. Рыбаков, Древние элементы в русском народном творчестве. — «Советская этнография», 1948, № 1, стр. 90—106; его же, Искусство древних славян, стр. 56—64; А. К. Амброз, О символике русской крестьянской вышивки архаического типа. — «Советская археология», 1966, № 1, стр. 68—76.
2 А. К. Амброз, О символике русской крестьянской вышивки архаического типа. — «Советская археология», 1966, № 1, стр. 72.
3 В. Я. Пропп, Русский героический эпос, M., 1958, стр. 538.
4 «Проблема жанров!
50 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
зировать этот закон, — как увидим ниже, он совершенно не обязателен для мира оберегов, но для вышивок он очень характерен. И не только для них, но и вообще для композиций «догматического» характера. С этим мы уже столкнулись при кратком ознакомлении с композицией преображения, и столкнемся еще не один раз.
Симметризм — это не столько архаика, сколько элемент «бинарной логики». Не архаика, а именно бинарность определяла его. И при нашем созерцании таких вышивок затрагиваются, приводятся в волнение не столько извечные, врожденные чувства симметризма, сколько чувства извечного порядка мироздания, живущие в народном сознании и самым поразительным образом предвосхищающие современные физико-математические и философские теории сохранения и симметрии 1.
Изучение «гносеологических» основ симметрии в древнем искусстве несомненно сулит очень интересные результаты, которые будут выходить за рамки собственно искусства и иметь общетеоретическое, философское значение. Мы здесь можем коснуться этого большого вопроса только с той его стороны, которая может быть связана с рассматриваемыми антитетическими композициями. Суть их антитетизма (симметрии) можно объяснить именно как изобразительную фиксацию чувства постоянства, вечности, что в современной физике и философии носит название закона сохранения.
Изменение явлений природы, конечно, было хорошо знакомо древним земледельцам. Но для земледельца гораздо большее значение имело не изменение, а постоянство, проявляющееся в повторяемости времен года, то есть в циклизме. Представление о циклическом вращении времени по кругу идет от первобытности1 2. Изменение было интересно с практической точки зрения (виды на урожай). Постоянство имело мировоззренческое значение. Вероятно, именно чувства постоянства, вернее желания постоянства, извечного порядка вещей 3 и под¬
1 См.: Н. Ф. Овчинников, Принципы сохранения, M., 1966, стр. 144 и сл.; В. Н. Тростников, Человек и информация, стр. 179.
2 А. Я. Гуревич, Время как проблема истории культуры. — «Вопросы философии», 1969, № 3, стр. 107 и сл.
3 Л. Б. Переверзев, Степень избыточности сообщения как показатель стилевых особенностей изобразительного искусства первобытной эпохи. — «Труды по знаковым системам», II, Тарту, 1965, стр. 218.
51 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
водили к рождению представлений о симметрии как о знаке, идеограмме вечности. Древний земледелец мог чувствовать в симметрии только порядок, распространяемый на всю природу, на вселенную, ибо «бинарные оппозиции прежде всего упорядочивают и концептуализируют данные элементарно-чувственного процесса» Скорее всего, подобными чувствами-представлениями и можно объяснить большое распространение принципа симметрии в народном искусстве.
Итак, с симметрией связано представление о вечности, то есть вневременности, что для рассматриваемых композиций мы должны считать одним из «жанровых» признаков. Но уже сама космогоничность композиций подводит нас к другой проблеме — проблеме пространства. Конечно, она не ставилась и не решалась древними мастерами, но поскольку антитетические композиции отражали «языческую догматику», то идея пространства не могла не материализоваться в них непосредственным образом.
Антитетические композиции нельзя назвать целиком внепространственными. Об известной пространственной ориентации говорит хотя бы линия основания, вероятно, означающая землю, из которой и произрастает символ Жизни — дерево или его знак. Расположение по его сторонам коней с солярными знаками тоже предполагает некое пространство, поскольку с этим связывались противопоставления «слева — справа», возможно, расширяющиеся и до более широких противопоставлений2. Здесь небезынтересно отметить, что в буддийской иконографии изображения, расположенные по горизонтальной оси, имеют не мифологический, а ритуальный характер3.
Но отраженная в антитетических композициях «картина» пространства сказанным не исчерпывается. Присутствие в ряде композиций солярных знаков указывает не только на космогонизм семантики, но и конкретно на
1 Е. М. Мелетинский, Клод Леви-Стросс и структурная типология мифа. — «Вопросы философии», 1970, № 7, стр. 170.
2 Например, «счастье — несчастье» и т. п. (см.: Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Славянские языковые моделирующие семиотические системы, стр. 91).
3 В. Н. Топоров, Заметки о буддийском изобразительном искусстве в связи с вопросом о семиотике космогонических представлений — «Труды по знаковым системам», II, стр 224.
4*
52 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
«верх» и «низ», на «небо» и «землю». В итоге перед нами некий макрокосм, пока еще без микрокосма, а поэтому довольно отвлеченный. Иначе говоря, пространство предстает в таком же абстрактном виде, как и время, это какое-то «подразумеваемое» пространство, что мы тоже должны считать в данном случае «жанровым» признаком.
Естественно, столь отвлеченный аспект творчества не мог не отразиться на художественных приемах, на стиле, если здесь вообще позволимо применение этой категории. Антитетические композиции как в целом, так и в отдельных частях отличаются обобщенностью и схематичностью. В образах коней, например, мы никогда не увидим тех черт живой натуры, которые будут поражать нас при рассмотрении коньков-амулетов. Их выразительность состоит не в «реализме», а именно в абстрактной схеме. Они полностью статичны (внешне и внутренне) и как бы дематериализуются в своем сакральном предстоянии. Конечно, это объясняется не какими-либо технологическими особенностями, например техникой вышивки, а именно предметом, аспектом изображения. В рассматриваемом виде творчества на первом плане было выражение не конкретного образа, а большого «догматического» представления.
Трудно сказать, чего здесь было больше: мифологии или уже религии. Исследования Б. А. Рыбакова и А. К. Ам- броза показывают, что древнейшие мифологические представления о Великой Матери у восточных славян- земледельцев постепенно приводят к оттеснению этого божества на второй план !, почему уже к концу X в. посвященные ему композиции приобретают реликтовую форму и сохраняются главным образом в деревне. Одновременно происходит появление представлений о «небесной земле», дублирующей земные явления. Поэтому, хотя трсечастные композиции конца X в. и XI—XII вв. носили обрядовый характер, соответствующий аналогичному жанру фольклора, но суть их, по-видимому, не столько в обрядовости, сколько в семантическом узле «Зем- 11 Б. А. Рыбаков, Религия и миропонимание первых земледельцев Юго-Восточной Европы. — «VII Международный конгресс доистори- ков и протоисториков. Доклады и сообщения археологов СССР», М., 1966, стр. 120; А. К. Амброз, О символике русской крестьянской вышивки архаического типа —«Советская археология», 1966, № 1,
стр. 72.
53 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
ля — дерево — женщина — жизнь», то есть опять-таки в космогонии.
Понимая всю условность сопоставлений одного рода искусства с другим, я все же решаюсь, для доказательства своей мысли, провести параллель между рассмотренными выше космогоническими композициями и некоторыми обрядовыми хороводными песнями 1, прежде всего теми из них, которые отличаются не только мелодикой, но и строго симметричной, так называемой «квадратной» структурой1 2. Приведу здесь заимствованный из «Истории русской музыки» напев хороводной «А мы просо сеяли», воспроизведенный Римским-Корсаковым в своей опере «Снегурочка».
1-й хор
^-3 0 0
ft g 1» ■
Ь д
ч
А мы
2-й хор
се - чу чи - cl
и-ли, чи - сти-ли,
ой Дид Ла - до, чи - сти-ли( чи - сти - ли
А мы па - шню па - ха - ли, па - ха - ли, ой Дид Ла - до, па - ха - ли, па - ха - ли
Песня поется двумя «ликами» или полухориями с поочередным приближением одного к другому как к своего рода «оси симметрии». Каждый из ликов поет две строго ритмизованные фразы, поэтому симметрия их и образует «квадратность»3. Песни подобного вида определяются как обрядово-календарные. В какой-то степени и наши антитетические композиции являются обрядово-календарными. Для проблемы жанров вопросы их названий, конечно, играют большую роль. Правильнее всего исходить в жанровых определениях из исторически сложившейся терминологии 4, но для искусства рассматриваемой эпохи об этом не может быть и речи. Оговаривая условность употребляемой нами терминологии,
1 Здесь уместно напомнить слова О. Фрейденберг, что понять становление жанров без изучения содержания фольклора невозможно (О. Фрейденберг, Поэтика сюжета и жанра, стр. 99).
2 Т. Ливанова, M. Пекелис, Т. Попова, История русской музыки, т. I, M.—Л., 1940, стр. 21, 34—35.
3 Там же, стр. 34—35. Считаю своим долгом выразить здесь благодарность Т. Ф. Владышевской за напев приводимых мною песенных примеров во время доклада на заседании славяно-русского сектора Института археологии АН СССР.
4 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 42.
54 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
мы назовем рассмотренный вид славянского «изобразительного фольклора» календарно-космогоническим. Архаизм его семантики и повествовательная ограниченность вели к затуханию этого вида творчества. Он ушел в деревню, где, как уже сказано, и просуществовал чуть ли не до XX в.
С существенно иной картиной мы сталкиваемся при переходе к славянским зооморфным амулетам. Они тоже представляют типологическое явление, поэтому их никак нельзя рассматривать как продукт народного творчества XII—XIII вв., хотя курганные находки относятся главным образом к этому времени 1.
Для нашей темы, как уже не раз отмечалось, определяющее значение имеет практическая функция произведений. В оберегах-амулетах она ясна без излишних слов. Ясно также, что для выражения средствами изобразительного искусства общего взгляда на мир, на его устройство, на действующие в нем благостные силы и на те же конкретные (добрые и злые) силы, от которых зависело течение жизни отдельного человека, не могло быть одинаковым ни в сюжетном, ни тем более в структурном планах. Для предохранения себя от какого-либо конкретного зла достаточно было воспроизвести и держать при себе изобразительную «модель» доброго «духа». Многочисленные амулеты-обереги, прямо и непосредственно, через себя, через свою конкретную изобразительность и выполняли апотропеическую функцию.
С логической точки зрения представляется допустимым, что, чем точнее, правдоподобнее амулет выражал свой «первообраз», тем выше оценивались его сберегательные свойства. Отсюда, видимо, и проистекает их конкретный художественный язык, с которым связана самозамкнутость. При этом дело может ограничиваться только частью целого, например, головой, лапой зверя. Целое восстанавливалось по части, но само целое тоже представляло только отдельную часть. Амулет-оберег
1 Вопрос об отнесении зооморфных амулетов к тому или иному периоду восточно-славянского изобразительного искусства должен решаться с учетом не столько археологической стратиграфии, сколько стратиграфии мифологической. Надо сказать, что до сих пор он не стал предметом специального внимания, почему в интерпретации зооморфных амулетов нет установившейся точки зрения.
55 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
сводится сам к себе. Он понимался вне какой бы то ни было концепции, но лишь как некая «присвоенная» кон- 2 кретным человеком сакральная вещь. Фигуры коньков могут нести на себе солярные знаки, нанесенные либо графически, либо добавленные пластически, среди оберегов нередки солярно-лунарные подвески, но все это говорит только о былой причастности их к космогоническим представлениям, сами же они развернутых представлений не выражают, если даже и соединены в своего рода «чины».
Любой оберег овеществлен вне всякого пространства. Он не имеет ни фона, ни какого-либо «соседа» по системе, с каким его можно пространственно соотнести. Даже солярно-лунарные обереги, которые, казалось бы, так удобно было дать в какой-либо пространственной схеме, никогда такой композиции не образуют. Более того. Лунницы, как известно, подвешивались рогами вниз \ что никак не передавало видимого положения месяца на небе. В зооморфных амулетах лунница могла занимать противоположное положение, рожками вверх1 2, но тогда она ассоциировалась с рогами животного, опять же не с небесным светилом. Поэтому вряд ли здесь можно усматривать пережиток мифа о Зевсе-быке3, хотя надо отметить, что зооморфные обереги финно-угорского происхождения более «мифологичны», нежели славянские. Но внепространственное понимание оберегов отнюдь не означало их вневременности. Будучи обрядо- во-заклинательными произведениями, амулеты жили настоящим временем, то есть временем, связанным с самим обрядом.
На первый взгляд это кажется противоречащим природе оберега. Амулеты, вероятно, носились долго, может быть всю жизнь, и передавались по наследству. На охлупне избяной крыши конь нес свою охранительную службу до тех пор, пока изба не сгнивала. И в таких случаях князевые бревна с резными оберегами нередко
1 В. П. Даркевич, Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси. — «Советская археология», 1960, № 4, рис. 1 (43—48).
2 Ср. «коня» с месяцем во лбу из курганов Приладожья XI—XII вв. (В. M. Василенко, Славянское язычество. — «Декоративное искусство», 1968, № 2, стр. 19, рис. 6).
3 А. Ф. Лосев, Античная мифология в ее историческом развитии, М., 1957, стр. 191.
56 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
сохранялись и переносились на новую избу. Но все же никакой идеи вневременности, «вечности» обереги не содержали. Вся их функция была связана с настоящим временем, которое оставалось настоящим и завтра, и через год, и через много лет, так как заклинательная обрядность имеет только настоящее время1. «Требования к природе заклинательных песен, — пишет Д. С. Лихачев,— были требованиями данного момента. Они вызывались насущными нуждами данного конкретного человеческого коллектива. В них говорилось о приплоде скота, о приросте семьи, о богатстве, достатке, семейном счастье, в которых была нужда сейчас, в данный момент или в недалеком будущем. Это были требования определенных людей»1 2.
С отмеченной особенностью связана такая важная черта творчества, как импровизационность: «Как бы ни были традиционны формы заклинаний-песен, каждое новое их исполнение было своего рода импровизацией, даже если в тексте ничего не менялось. Импровизация заключалась в применении старого текста к новым, вполне конкретным и единичным обстоятельствам настоящего»3.
Из сказанного отнюдь не должно вытекать, что в оберегах овеществлялось так называемое «исполнительское время», характерное для обрядового жанра фольклора4. Исполнительское время проявлялось не только в том, что обрядовая песня воспринималась через исполнителя, каковым мог выступать и слушатель, но она и функционировала в процессе исполнения. В оберегах — иное.
Конечно, можно допустить, что ряд оберегов функционировал тоже в процессе исполнения например какие- либо магические знаки, действие которых могло считаться реальным в самом процессе их нанесения. Но для массы оберегов это не характерно, они рассчитывались на ношение, на любование в законченном виде.
Выраженное в них настоящее время было не столько исполнительским, сколько «временем зрителя».
В искусствоведческой литературе можно встретиться с высказываниями, что «время зрителя» впервые в ми¬
1 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 247 и сл.
2 Там же, стр. 251.
3 Там же.
4 Там же, стр. 224 и сл,
57 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
ровой истории искусства было запрограммировано модернистским, точнее, абстрактным искусством1. Поскольку в искусстве абстракционизма нет никакого повествовательного момента, то нет и никакого сюжетного времени и единственным временем здесь выступает время, необходимое зрителю для восприятия абстрактного произведения.
Но такое функционирование характерно для всякого бессюжетного искусства, не обязательно абстрактного. Рассматриваемые нами обереги представляют, в сущности, бессюжетное искусство, и содержащееся в них настоящее время было именно «временем их восприятия», то есть «временем зрителя».
Мы вынуждены были коснуться этих довольно отвлеченных вопросов, так как здесь и заложена основа образной природы оберегов.
Почти все, кто писал о зооморфных оберегах, отмечают, во-первых, их «мирный» характер, а во-вторых, совершенность силуэтных форм, предельно лаконичную и вместе с тем жизненную выразительность1 2. Первая особенность, несомненно, связана с тем, что не только славяне, но и их соседи финно-угры к X—XI вв. давно изжили у себя стадию хтонической мифологии, образы которой для оберегов вообще были чуждыми. «Низшая мифология», наоборот, еще хранила пережиточные образы земледельческих культов, представлявшие, в основном, добрых духов.
Вторая особенность связана с функцией оберегов.
Зооморфный оберег в соответствии со своим закли- нательным настоящим временем («временем зрителя») не только допускал, но, вероятно, и предполагал «магию зрительного воздействия», а это вело к определенной структуре художественного образа.
В. М. Василенко, в своей интересной статье уделивший зооморфным амулетам специальное внимание и привлекший, наряду со славянским, финно-угорский материал, отмечает неповторимость их образной выразительности 3.
1 Ср.: О. Семенов, Категория времени и пространства в кубизме и абстракционизме. — «Искусство», 1969, № 9, стр. 41.
2 Ср.: В. M. Василенко, Славянское язычество. — «Декоративное искусство», 1968, № 2, стр. 21.
3 Там же, стр. 21.
58 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Конечно, такое разнообразие отчасти обуславливалось технологией литья в пластичной форме, которую всякий раз приходилось воссоздавать заново. Но это-то и примечательно. Значит, заново создаваемая форма отнюдь не мыслилась как нечто обязательно восходящее к старому. Художественный образ амулета не был строго «узаконен» традицией, последняя состояла прежде всего в любви к данному образу, в его почитании. Поскольку же амулет был обращен в настоящее время, образ его не только допускал, но сам собою рождал импровизацию. Именно вековая импровизация в рамках конкретной художественной традиции обеспечивала воссоздаваемым образам неумирающую жизненность, не давала законсервироваться им в схему, хотя сами по себе зооморфные фигурки довольно схематичны.
Здесь мы подходим к другой особенности зооморфных амулетов — к их «внутренней динамичности». Она хорошо выражена в поделках из курганов Прила- дожья.
Фигурки коней, особенно птиц, строго говоря, внешне статичны. Редко встречается бегущий зверь. Чаще всего 3 кони, птицы стоят, гордо выпятив мощную грудь \ словно именно она-то и гарантировала защиту. Напомним, что в скифских апотропеях таким главным «защитительным» элементом были клюв или акцентированные когти зверя или птицы.
«Внутренняя динамичность» большинства сберегательных зооморфных образов состоит в таком построении силуэтов, когда контур в своем сильном и плавном течении, минуя всякие второстепенные детали (выступы и углубления), вдруг образует сильную выпуклость в главном «защитительном» месте, энергично акцентирует эту часть, а затем «затухает». Тем самым фигурка оберега не только сразу охватывалась зрительно, но воспринималась с соответствующей «семантической эмоцией», производила нужное впечатление своей повелительностью, в чем нельзя не видеть отзвука искусства неолитических охотников. Содержалось ли здесь нечто от магии, или это превратилось уже в чисто художественное качество? Не отрицая частичной возможности последнего, все 11 В. M. Василенко, Славянское язычество. — «Декоративное искусство», 1968, № 2, стр. 19, рис. 4—6; стр. 20, рис. 7, 9, 10, 11.
59 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
же надо попытаться дать менее субъективный ответ. Это и позволяет сделать сказанное выше о «времени зрителя».
Особенностью художественного творчества, основанного на исполнительском времени или на «времени зрителя», является предельное сближение позиции художника с позицией слушателя и зрителя. Последние как бы вовлекаются в творчество, наделяются как волей исполнителя, так и «волей» исполняемого произведения. Естественно, это предполагает «однотипность сознания» !, что и до сих пор хорошо проявляется в народном хоровом пении. В создании древних оберегов, по-видимому, действовал тот же принцип. Творческая воля мастера-изготовителя и обладателя (зрителя) оберега не противостояли друг другу, а как бы сливались. Конечно, это не более как рабочая гипотеза. Но императивность остается императивностью, и, думается, она составляет не субъективную, а «объективную» особенность оберегов.
Она находит подтверждение и в характере словесномузыкального построения заклинаний, реконструируемого специалистами на основе этнографических данных.
Заклинательные песни отличаются призывными восклицательными интонациями и возгласами. Напевы их «основаны на коротких, предельно обобщенных и лаконичных интонационных формулах, многократно повторяющихся»1 2. Авторы «Истории русской музыки» приводят в качестве примера широко известную «заклинательную» песенку, ставшую достоянием детей:
«Дождик, дождик, пуще, дадим тебе гущи»3.
Да - дим те- бе лож - ку, Хле - бай по - не - множ - ку
Ее полуречитативная мелодия построена на трех тонах: ля, соль и ми, которые образуют взлет на первых словах
1 О. Семенов, Категория времени и пространства в кубизме и абстракционизме. — «Искусство», 1969, № 9, стр. 43.
2 Т. Ливанова, M. Пекелис, Т. Попова, История русской музыки, т. I, стр. 26.
3 Там же.
60 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
каждой строки, повторяющийся на первом слоге последних слов. Оба взлета (ля) разделяются понижением на один тон (соль), а заканчиваются понижением на четыре тона (ми). Получается несимметричный (квартовый) музыкальный «зигзаг», с акцентами на ля и с затуханием на миг в некотором отношении родственный акцентированным лаконичным силуэтам оберегов. Во всяком случае, из всех обрядовых песен заклинательные «квартовые восклицания» ближе всего к рассматриваемому нами материалу. Думается, что помимо сказанного выше об исторических причинах умирания искусства зооморфных оберегов этому в немалой степени способствовали и их внеповествовательность, ориентация на «время зрителя», которое тоже изживало себя, поскольку развитие шло в сторону не «массовидности» сознания, а как раз наоборот, в сторону его индивидуализации.
Возникает вопрос: являются ли отмеченные особенности оберегов историко-стилевыми, или они какой-то другой природы? Если бы они были историко-стилевыми, то распространялись бы и на другие виды искусства того же времени. Между тем как раз этого-то мы и не наблюдаем. Обереги стилистически очень отличаются от рассмотренных выше антитетических календарно-космогонических композиций.
Для нашей темы особенно важно, что и тот и другой вид творчества бытовал в одной и той же народной среде. Следовательно, художественное различие их вовсе не случайное, оно имеет свою природу. Мы определяем его как различие «жанровое», предпочитая пока давать его в кавычках, впредь до более полного выяснения проблемы. Для этого нужно убедиться в существовании еще и других видов, среди которых наибольший интерес представляют повествовательные формы.
Повествовательные жанры фольклора зарождаются, как известно, еще в недрах мифологии, но эпические формы их развиваются лишь в процессе преодоления, высвобождения из нее1. При этом «мифологический арсенал» проходит последовательные этапы демифологизации, начиная с олицетворений всего старого в образах чудо¬
1 Е. М. Мелетинский, Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники, М., 1963, стр. 13—14, 23 и сл.
61 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
вищ и кончая перерождением его в художественные символы и метафоры. Такую же закономерность мы должны предполагать и в развитии «изобразительного фольклора».
В археологии известна определенная группа вещей IX—X вв., по сопровождающим их сюжетам как будто перекликающаяся с «жанром» зооморфных оберегов, но на самом деле глубоко отличная от него. Это главным образом предметы дружинного снаряжения, а также и городского быта, украшенные изображениями фантастических существ, преимущественно драконов 1. По инерции все эти художественные образы нередко трактуются как пережиточно-мифологические, откуда перебрасывается мостик к их апотропеизму. Если бы это было так, то перед нами был тот же самый «жанр» оберегов, о котором говорилось выше, но в несколько ином сюжетном варианте. На деле все обстоит сложнее.
Отголоски славянской мифологии, несомненно, долго еще жили и в фольклоре и в изобразительном искусстве, но надо учитывать, что сама мифология давно приобрела антропоморфный характер и хтоническим образам в ней отводилось более чем второстепенное место. Обрывки древнейших легенд о змееборцах1 2—лучшее тому подтверждение. Таким образом, перед нами вовсе не старый «жанр» оберегов, а элементы формирующегося нового «жанра», соответствующего эпическому жанру фольклора.
Для ранних форм эпического жанра характерна насыщенность его мифологическим элементом, но этот мифологический арсенал представляет не мифологию как таковую, а коренное переосмысление ее, причем само мифологическое прошлое и олицетворяется в образах различных чудовищ3. Последние выступают теперь в роли не мифов, а только символов. И эта новая символика
1 Б. А. Рыбаков, Прикладное искусство Киевской Руси IX—XI веков и южнорусских княжеств XII—XIII веков. — «История русского искусства» т. I, стр. 262; Б. А. Колчин, Топография, стратиграфия и хронология Неревского раскопа. — «МИА СССР», № 55, М., 1956, стр. 106, рис. 39.
2 Б. А. Рыбаков, Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи, стр. 13.
3 В. Я Пропп, Русский героический эпос, стр. 33—35 и сл. Отсюда видно, как грубо ошибаемся мы, когда трактуем подобные чудовища как мифологические персонажи.
62 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
все более и более расширяется, обогащается, но не за счет самой себя (у нее не было своей структуры), а за счет новых сюжетных ситуаций, с которыми она связывается. Образ чудовища мог означать и неразумное прошлое, и зло, с которым вступает в борьбу герой, и символ самого геройства, откуда действительно был один шаг до новой апотропеической символики, когда от зла предохраняет сам злой дух. Перед нами не что иное, как вторичный, так называемый «созидательный» хтонизм, выполняющий также и художественную функцию1. В конце этого ряда находятся поэтические метафоры и олицетворения 1 2.
Новая «жанровая» семантика обусловила и новую структуру художественных образов. Там, в оберегах, мы видели образы, замкнутые в себе (своего рода «вещи в себе»), здесь же — стремящиеся разорвать эту замкнутость, вступающие в борьбу друг с другом, а подчас и с самими собой, то есть предполагающие некое событие во времени, повествование о нем. Относительно общей с оберегами остается «внутренняя динамичность», но и она все более превращается в динамичность внешнюю. Звери не защищают (магически) своей грудью, а как бы самозащищаются, что опять-таки содержит повествовательный элемент. Все это ведет к эпике.
Но перед нами еще не эпический жанр, а только его подготовка. Как в устном творчестве эпический жанр вырастал и развивался из кратких картин-эпизодов3, так и в «изобразительном фольклоре» в начале повествова- тельности стояли повествовательно обогащенные мотивы. Как в устном творчестве образ чудовища содержал в себе черты старого (например, Змей предлагает побратимство Добрыне)4, так и в «изобразительном фольклоре» он мог восприниматься не только как символ зла, но и как побежденный злой дух, превратившийся в атрибут геройства, в конечном счете в новый апотропей. Конкретное осмысление образ чудовища получал только
1 Ср.: А. А. Тахо-Годи, Хтоническая мифология в эпоху эллинизма и ее стилистическая функция. — «IV конференция по классической филологии». Тезисы докладов, Тбилиси, 1969, стр. 47—48.
2 Б. А. Рыбаков, Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи, стр. 10.
3 Э. С. Липец, Эпос и Древняя Русь, М., 1969, стр. 124.
4 Там же, стр. 86.
63 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
в повествовании. И это повествование вступало в силу жанра, как только образ чудовища соединялся с судьбами отдельных людей или с судьбами народа-государства. Первое давало жанр сказки или полусказочной былины, второе — жанр героического былевого эпоса. И тот и другой жанр наполнен «международными мотивами», вполне законными на этой стадии, что, как увидим ниже, ни в коей мере не снимает вопроса о самобытности эпического творчества.
После этих предварительных рассуждений мы можем перейти к рассмотрению произведения, ставшего уже в своем роде хрестоматийным. Я имею в виду знаменитый турий рог из Черной могилы Чернигова с изображенной на нем сценой борьбы людей с какой-то вол- 4 шебной силой, олицетворенной в образе птицы.
Б. А. Рыбаков связал эту сцену с одной из архаических былин — об Иване Годиновиче1. Мнение Б. А. Рыбакова разделяется не всеми, но, хотя с момента его изложения прошло двадцать лет, никто печатно его не опроверг. Я думаю, что принадлежность рисунка на турьем роге к повествовательному, сказочно-былинному жанру вообще нельзя опровергнуть, хотя, может быть, мастер оковки рога был неславянином и дело не ограничивается одной былиной об Иване Годиновиче. Но прежде чем углубляться в это, рассмотрим художественные особенности нового «жанра» изобразительного фольклора.
Хорошая известность рисунка на турьем роге избавляет нас от необходимости его описания. Сразу же отметим, что композиция отличается соединением старого и нового. Все, что относится к миру чудовищ, дано, по сути дела, во внекомпозиционной связи, как набор мотивов, в расположении которых сохраняется традиционная центричность. Но, что особенно показательно, герой уже не борется с чудовищем, то есть в сюжете рисунка нет одного из главных структурных элементов мифа, так называемого «отрицания автохтонности человека»1 2. Ясно, что образы чудовищ представляют лишь своеобразный «мифологический фон», почему они и даны в очень отвлеченной форме.
1 Б. А. Рыбаков, Древности Чернигова. — «МИА СССР», № 11, М.—Л., 1949, стр. 45—51, рис. 20.
2 Ср.: К. Леви-Стросс, Структура мифов. — «Вопросы философии», 1970, № 7, стр. 156.
64 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Более конкретны образы петуха и волка. Волк — символ зла — обращен к человеческим фигурам. Петух — охранитель от злых сил — преграждает ему путь. Здесь уже намечена известная сюжетная связь. Но в основном сюжетная линия представлена человеческими фигурами и птицей, в которую были пущены три стрелы. Вещий характер этой птицы и заговорность стрел хорошо показаны Б. А. Рыбаковым.
В пользу мнения Б. А. Рыбакова о связи рисунка с архаической эпикой говорит такой до сих пор никем не отмеченный факт, как изображение вооруженной луком героини лицом не к зрителю, а в противоположную 5 сторону1.
Для X в. это композиционное новшество поразительно, так как свидетельствует о весьма свободном понимании пространства. Но не следует переоценивать художественно-техническую сторону этого явления. Думается, что суть его в другом, — в очень точном следовании семантике. Ведь героиня, в качестве которой в былинах о сватовстве выступает чужеземная невеста, обычно рисуется как «змея-изменница», колдунья и оборотень. На это обратил внимание еще В. Г. Белинский. Отношение сказителей к этому персонажу сугубо отрицательное, недаром героиня величается Лиходеевной. Чаще всего она пребывает в окружении зверей, подобно бабе-яге2. Но как в условиях IX—X вв., когда ни о каком психологизме не могло быть и речи, можно было изобразить столь отрицательный персонаж? Известно, что еще в искусстве палеолита изображение человека в маске сообщало ему иное качество3. Но в эпосе Лиходеевна не имеет маски, ее «маска» состоит в оборотничестве.
Мне думается, что образу невесты-оборотня лучше всего и соответствовало изображение ее с отвернувшимся лицом. Эта особенность рисунка на турьем роге требует всестороннего исследования, так как выпадает из художественной эволюции и, как уже сказано, может
1 Лицо женщины совершенно не улавливается, на его месте хорошо видно основание косы, как бы перехваченной лентой. Положение плеч и рук фигуры таково, как это может быть только при повороте ее спиной к зрителю.
2 В. Я. Пропп, Русский героический эпос, стр. 130.
3 А. А. Формозов, Образ человека в памятниках первобытного искусства на территории СССР. — «Вестник истории мировой культуры», 1961, № 6, стр. 106.
ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
быть объяснена скорее семантически, нежели стилистически.
Остальные звериные и «тератологические» мотивы черниговского рога представляют, очевидно, тот «колдовской аксессуар», который в раннем эпосе передавался посредством фантастических образов, характеризующих старое мифологическое наследие1. В связи с этим, может быть, правильнее считать источником рассматриваемого сюжета не только былину, но и тот круг «богатырских сказок», который типичен для дого- сударственного эпоса и в которых подвиг героя носит не государственный, а индивидуальный характер2.
Рассмотрим с этой стороны, как понимается в черниговском рисунке время. Это поможет определению жанра.
Пожалуй, впервые в восточнославянском искусстве на турьем роге из Чернигова показано течение действия во времени. Здесь использованы два способа: контрастное противопоставление и динамика. Противопоставление динамической сцены с лучниками неподвижным геральдическим группам чудовищ как будто указывает на настоящее и на прошедшее, то есть на испытания, которые участникам событий пришлось пройти. Различное положение стрел тоже говорит о том, что событие протекает во времени, достаточном для того, чтобы выпустить три стрелы. Но доминирует не настоящее, а именно прошлое. Мир чудовищ решительно преобладает, а он, как мы знаем, и составлял в эпосе старый мир, причем не эпический, а мифологический. Никаких признаков эпического времени былин в рисунке нет. Поэтому содержание его ближе к сказке, чем к былине3.
Напомним, что и в былине об Иване Годиновиче и в родственных ей былинах о Михайле Потыке и Дунае очень много черт догосударственного эпоса. Приурочение их к Киеву или Чернигову4 нисколько этому не
1 Е. М. Мелетинский, Происхождение героического эпоса. . . , стр. 13—14.
2 Там же, стр. 152.
3 О времени сказки и былины см.: Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 236.
4 О приуроченности рисунка на турьем роге к Чернигову говорит геральдическая птица, связанная с ранней княжеско-черниговской эмблематикой (Б. А. Рыбаков, Древности Чернигова, стр. 50—51; С. С. Ширинский, Ременные бляшки со знаками Рюриковичей из Бирки и Гнездова. — Сб. «Славяне и Русь», стр. 20, рис. 2). 55 «Проблема жанров»
66 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
противоречит. Таким образом, рисунок на черниговском турьем роге вовсе не отрывается от повествовательного жанра IX—X вв. Только он ближе скорее полу- сказочной былине, нежели былине собственно героического типа.
Конечно, сказочно-мифологический аксессуар черниговского рисунка не стоит заглублять. Как уже сказано, фантастические существа и именно в геральдических композициях встречаются на вещах металлического убора X в., например, в Гнездове1. Что это: пережиточная мифология или что-то иное? Учитывая дружинный характер археологических комплексов, в которых содержатся подобные изделия, а также и тот факт, что для деревенских археологических комплексов подобные образы не типичны, следует допустить начало переосмысления архаических мотивов в новом духе, например, в качестве своеобразных символов воинской храбрости1 2, откуда было недалеко и до феодальной эмблематики. Не исключено, что и в сцене на черниговском роге геральдические чудовища изображены не только в «эпическом», но и в эмблематическом смысле. Недаром на крыле одного из чудовищ прочерчен тамгообразный знак3.
Но может быть, рисунок на турьем роге действительно не славянское произведение и все сказанное нами повисает в воздухе? Здесь мы возвращаемся к вопросу о «международных мотивах».
Бесспорно, что такие фольклорные мотивы, как сватовство, измена жены-чужеземки, оборотничество, змееборство— международны. Но А. Н. Робинсон хорошо показал, что наличие в эпосе «международных мотивов» нисколько не снимает с повестки дня вопроса о национальных его чертах. Типологические мотивы и сюжеты лишь обогащали национальный эпос, органически входя в его ткань, становясь вместе с тем народным достоянием4. Поэтому, если даже окажется, что рисунок на черни¬
1 В. И. Сизов, Смоленские курганы, Спб., 1902, табл. IV, рис. 1.
2 Борьба зверей друг с другом символизировала поединок со смертью (см.: О. Фрейденберг, Поэтика сюжета и жанра, стр. 228).
3 Б. А. Рыбаков, Древности Чернигова. — МИА СССР, № 11,
стр. 47.
4 А. И. Робинсон, Эпос Киевской Руси в соотношении с эпосом Востока и Запада. — «V конгресс международной ассоциации по сравнительному литературоведению. Доклады советской делегации», M., 1967, стр. 217, 221, 222, 224 и сл.
67 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
говском турьем роге юго-восточного происхождения, он, в силу типологического единства с образами древнерусского эпоса X в., может и должен рассматриваться как показатель формирования в нем нового, повествовательного жанра.
Иное дело, что перед нами, собственно, не крестьянское, а городское творчество. В X в. оно, конечно, несколько обособлялось от деревенского, но все же не настолько, чтобы не быть пропитанным народным духом. Демократические черты предшествующей эпохи еще сохранялись и при дворе Владимира Красное солнышко, без чего был бы совсем непонятен киевский цикл былин. Может быть, правильнее говорить не о городском, а о дружинном творчестве, чертами которого пронизаны и былины ].
Так или иначе, но рисунок на турьем роге представляет самый передовой «жанр» восточнославянского искусства накануне его «отступления» перед Византией. Как таковой он находит прекрасную параллель в том новом, что нес в себе песенный былинный жанр. Благодаря замечательной работе В. М. Беляева по реставрации песенных записей «Сборника Кирши Данилова» мы можем теперь получить представление не только о песенном исполнении былин вообще, но и о том, как исполнялись те или иные конкретные былины. Конечно, при этом должно учитываться, что записи Кирши Данилова отразили городской фольклор XVIII в., но тем не менее сохранили много от древней традиции.
Оказывается, былины исполнялись далеко не одинаково. Не вдаваясь здесь в подробности, отметим только, что именно та группа былин, в которую входит былина о Потыке Михайле Ивановиче, родственная былине об Иване Годиновиче, исполнялась не на куплетный, а именно на былинный напев2, отличающийся повествовательно-декламационным стилем3.
Для этого стиля характерна различная величина мелодичных разделов, то есть как раз то, что противоречит симметричной «квадратности» многих обрядовых песен и создает движение напева.
1 Э. С. Липец, Эпос и Древняя Русь, стр. 54 и сл.
2 В. М. Беляев, Сборник Кирши Данилова. Опыт реставрации песен, М., 1969, стр. 25.
3 Там же, стр. 10.
Б*
68 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Достаточно прослушать напев былины о Михайле По- тыке:
«В стольном городе во Киеве У ласкова князя Владимера» —
чтобы почувствовать принципиальное метрически и мелодически композиционное родство его с несимметричной, контрастной композицией рисунка на турьем роге из Чернигова.
Повествовательный жанр не терпит статики, а следовательно, и симметрии. Элементы симметрии черниговского рисунка глядят в прошлое, в обрядово-космогонический «жанр». Они воскреснут несколько позднее, в искусстве Киевской Руси, когда станут перерождаться в элементы геральдизма. Что же касается элементов динамики, то как раз они-то и являются самыми активными носителями нового. Правда, и на пути их развития встретятся препятствия, причем в том же X в. И на этот раз реакция будет исходить не откуда-нибудь, а из того же «дружинного» искусства.
Здесь сказывалась «историческая трагедия» славянского изобразительного искусства. Развитие повествова- тельности в нем не получило поддержки, так как по ходу общественного развития на смену «военной демократии» шла не полисная демократия и даже не «дружинный строй», а феодализм.
Несомненно, особый вид восточнославянского искусства «довеликокняжеской поры» составляли идолы. Находки близ села Иванковцы в Приднестровье1 2 показывают, что
1 В. М. Беляев, Сборник Кирши Данилова. Опыт реставрации песен, стр. 116.
2 В. И. Довженок, Древнеславянские языческие идолы в Приднестровье.— КСИА, вып. XLVIII, М., 1952, стр. 136 и сл.
69 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
об идолах можно говорить, и довольно развернуто, уже с середины 1-го тысячелетия, что согласуется с данными Прокопия о славянском боге-громовержце 1.
К концу 1-го тысячелетия пантеон славянских божеств представлял довольно сложную картину. Антропоморфические образы его различались не только функционально, но, кажется, и генетически.
К сожалению, облик идолов, которыми князь Владимир обставил «киевский Олимп», документально не может быть восстановлен и мы вынуждены судить о типе славянского божества по широко известному Збручско- 6 му изваянию. Подобного типа произведения, как и мону- ментализированные идолы вообще, мы ни при каких обстоятельствах не можем причислить ни к аграрно-обрядовому, ни к сказочно-былинному видам творчества, не говоря уже об амулетах.
Прежде всего это произведения не индивидуального и даже не общественного (народного), а государственного значения. Сейчас мы увидим, что в конечном счете они вобрали в себя и амулеты, и обрядовые, и эпические черты славянского искусства, но, как это принято говорить, вобрали их «в снятом виде», что и обусловило специфику нового вида искусства.
Сказанное относится к идолам вообще, но на рядовых примерах нам потребовалось бы рассматривать это в довольно усложненной форме, между тем как задачей настоящей книги является не исследование неизведанных тайн искусства, а приведение в систему уже известного материала. Збручский идол в этом отношении гораздо нагляднее, изобразительный язык его достаточно полно выражает содержание. К тому же произведение это имеет уже немалую литературу1 2.
Самое новое в Збручском идоле то, что это одновременно и макрокосм и микрокосм, языческий, конечно. Если в рассмотренных выше аграрно-магических композициях тоже заключался некий макрокосм, то никакого микрокосма там не было, человек растворялся в косми¬
1 Прокопий из Кесарии, Война с готами, М., 1950, стр. 297 (VII, 14, 23).
2 Литература приведена в работе: Ф. Д. Гуревич, Збручский идол. — «МИА СССР», № 6, М.—Л.( 1941, стр. 279—289; см. также: Б. А. Рыбаков, Прикладное искусство и скульптура. — «История культуры Древней Руси», т. II, стр. 414—416.
70 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
ческих символах. Для произведений, подобных Збруч- скому идолу, очень показательно преодоление и вневре- менности аграрно-космогонических композиций и «опрокинутого» в прошлое настоящего времени полусказочных былин. Впервые, в сущности, появилась не сказочно-былинная, а в некотором роде «философская» связь времен, данная в последовательном нанизывании друг на друга картин «подземного мира», «мира людей» и «мира богов»Здесь, впрочем, тоже необходимо уточнение или оговорка.
Как известно, трехчленная структура мироздания родилась в древности из взаимодействия двух традиционных противопоставлений «небо — земля» и «земля — преисподняя»2, причем нижний ярус таких тернарных структур вовсе не обязательно обозначал мир смерти или нечисти. Он мог обозначать мир предков вообще, то есть некий «план прошлого». С другой стороны, следует учитывать, что столб, столпообразная символическая конструкция издревле ассоциировалась с древом жизни, троечастное деление которого по вертикали означало землю, воду и небо3. Наконец, часто встречающееся в древних мифологиях деление богов на атмосферных и земных или мужских и женских оставляет третье место формулы для мира людей. Учитывая все это, а также то, что, по древним представлениям, внизу изображалось произошедшее раньше, нижний ярус Збручского идола можно интерпретировать как мир прошлого, то есть некий мифологический мир, мир старых богов, своего рода «титанов». Недаром две из нижних фигур Збручского изваяния стоят на коленях и поддерживают руками все находящееся выше, напоминая урартское божество Шивини4. Следовательно, они являются участниками рассказа, действующими лицами, но не тенями или мертвецами. Таким образом, прошлое представлено уже не терато-
1 Б. А. Рыбаков, Искусство древних славян. — История русского искусства», т. I, стр. 78.
2 Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Славянские языковые моделирующие семиотические системы, стр. 100 и сл. Подробно о тернарных структурах см.:
C. Lévi-Strauss, Les organisations dualistes exi- stent-elles? — „Bijadraqen tot de taal —, land-en volkenkunde41, Deel 112,2 afl., 1956.
3 Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Славянские языковые моделирующие семиотические системы, стр. 81—82.
4 Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, М., 1956, стр. 227, рис. 70.
71 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
логией, как в рисунке черниговского рога, а антропологией. Если это так, то, следовательно, мы можем предполагать существование представлений о мифологическом времени как о чем-то весьма отдаленном, но отдаленном уже не в незапамятную даль, где царствовали одни чудовища, а в некое историческое время, представляемое старыми, но человекоподобными богами.
Можем ли мы назвать рассматриваемый вид творчества мифологическим? Сказанное выше об архаических элементах в Збручском идоле все же не позволяет этого.
Славянская мифология, как и всякая мифология, должна была кончиться с концом общинно-родового строя 1. К тому же надо учесть, что хотя изобразительное искусство славян во многом отставало от развития образов мифологии, но как раз в конце X в. оно стало предметом государственных забот, и при князе Владимире были предприняты меры, направленные на известное упорядочение, централизацию языческого пантеона, в котором Перун стал выходить на первое место2. Значит, если здесь и можно говорить о мифологии, то это была уже не прежняя наивная мифология, а мифология «идейнотеоретическая», когда она выступает «как носитель разного рода религиозных, социально-политических, моральных и философских идей»3. Только нижний регистр изображений на Збручском идоле может быть отнесен к «мифологии». Второй и третий регистры, где представлены в фас женские и мужские фигуры, последние с историческими реалиями (рог, меч, а также конь), нисколько не мифологичны, скорее «историчны». Четырехликая вершина под одной «княжеской» шапкой — элемент опять-таки скорее религиозный, нежели мифологический, причем явно говорящий об усилении монотеистической тенденции. Поэтому правильнее говорить не о мифологическом и не о космогоническом жанрах, а о своеобразном жанре дидактического эпоса, имея в виду то, что предметом изображения здесь была идея
1 А. Ф. Лосев, Античная мифология в ее историческом развитии, стр. 83.
2 О древности культа Перуна см.: Р. Якобсон, Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии. — «Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук», т. 5. M., 1970, стр. 610—614.
3 А. Ф. Лосев, Античная мифология в ее историческом развитии, стр. 434.
72 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
подчинения прошедшего и настоящего миров новому бо- гу-князю, а следовательно, и идея его священного происхождения.
Конечно, в этом проявляется новый «языческий догматизм», который отразился и на структуре «жанра». Догматические идеи, как и космогонические вообще, тоже требовали абстракции, статики, подчеркивающих их «вечность», «надмирность». Для подобного рода представлений очень подходила ярусная система. Как хорошо пишет Д. С. Лихачев, «во времени каждое событие исчезает, уходит из настоящего, вставленное же в пространственную композицию «лествицы», — оно занимает там прочное и, главное, неизменное место» К Такие представления считаются характерными для христианского средневековья, но, оказывается, они были подготовлены еще в язычестве. Здесь, в сущности, продолжалось то, что было закреплено уже в обрядово-космогоническом жанре («аграрная магия»). Культово-художественная концепция слагалась по принципу наслаивания более важного на менее важное, господствующего на подчиненное, причем космические силы постепенно замещались общественными. Естественно, что симметрия построения играла здесь очень важную роль. Она, со своей стороны, тоже подводила к центризму в структуре образа, что сливалось с идеей монотеизма. В таком духе и выполнены верхние части изображений на Збручском идоле. Их можно рассматривать как «предтеч» христианской Троицы, в языческом понимании, конечно. Наоборот, в нижнем («мифологическом») ярусе отмеченные выше особенности выражены не столь строго, здесь имелась в виду не «догма», а прошедшая история. Таким образом, свою специфику имели даже «внутрижанровые» области славянского языческого искусства.
Немаловажной особенностью рассматриваемого «жанра» является дальнейшее развитие тех пространственных представлений, которые схематически выражались в обрядово-аграрных композициях. Если там мы видели только «землю» и «небо», то здесь кроме нижнего, среднего и верхнего миров появляются «четыре стороны света», на которые и ориентирована вся система. Произведения типа Збручского идола утверждали князя-бога в центре 11 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 289.
73 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
пространства. Как бы ни была отвлеченна эта «догматическая» идея, но она одновременно была воплощена в нечто антропоцентрическое. Микрокосм неотделим от макрокосма. Таким образом, перед нами действительно некая жанровая особенность, несомненно влияющая на стиль.
Поскольку обращение идола на четыре страны света выражает идею охраны «со всех четырех сторон», то можно говорить о вхождении в новый монументализи- рованный жанр функций «жанра» оберегов, но уже не в индивидуальном и даже не в племенном, а почти в государственном значении.
Поскольку идол вбирал в себя космогоническую идею, то он принимал на себя функции и этого архаичного «жанра», но тоже в новом, антропоморфно-общественном и теократическом аспекте.
Наконец, поскольку антропоморфизация славянской религии проходила стадию героизма \ то в эпико-дидактическом жанре отразились и образы героев-богов (или богов-героев), наделенных атрибутами героизма (конь, меч).
Конечно, никакой жанр заклинаний или обрядовых песен и даже былин для сравнения здесь не подходит. В музыкальном оформлении действа вокруг идолов, подобных Збручскому, чудится грозный рев рогов и труб, на смену которому придет вдохновенный звон струн вещего Бояна, «рокотавших» князьям славу.
Перед нами прошло несколько ранних примеров того, как разные пласты и уровни представлений, разные предметы изображений образуют различные художественные структуры или «содержательные формы». Все это постепенно вело к «жанровому» размежеванию и несомненно способствовало развитию искусства, хотя далеко не равномерно во всех направлениях.
Рассмотренные здесь виды славянского художественного творчества мало чем отличаются от видов славянского фольклора. Если последние давно принято называть жанрами1 2, то нет никаких оснований отказывать
1 А. К. Амброз, О символике русской крестьянской вышивки архаического типа. — «Советская археология», 1966, № 1, стр. 72.
2 А. Н. Робинсон, Фольклор. — «История культуры Древней Руси», т. II, стр. 140 и сл.
74 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
в этом «изобразительному фольклору», употребляя понятие «жанра» пока в кавычках.
Конечно, «жанры» славянского искусства были гораздо богаче, но для начала мы ограничимся сказанным1. Так легче выявить и соотношение жанра со стилем. Я имею в виду не общий стиль славянского искусства, никем еще не определенный, а художественные особенности различных видов творчества, складывающиеся в результате того или иного «жанрового» подхода к предмету изображения. Не вдаваясь в детали, их можно разделить на два «класса»: идеализирующий и натурализирующий. Я употребляю эти понятия не в современном философском смысле, а как приблизительно, в самом общем смысле характеризующие происходящие творческие процессы. К особенностям идеализирующего характера относятся все приемы древней систематизации явлений действительности и мифологии (религии) по принципу противопоставления, закреплявшего, очевидно, иллюзии постоянства и вечности. Они характерны для отвлеченных «жанров». Натурализирующие особенности, естественно, связаны с принципами разрушения этой древней системы, с переносом интереса на явления настоящего. В первых господствовало умозрение, во вторых — элемент чувственного восприятия. В соответствии с этим происходило увеличение художественной функции наших «жанров». Можно сказать, что увеличение это происходило обратно пропорционально ослаблению магической и вообще «догматической» функции искусства1 2.
С христианизацией Руси жанровая система славяно-русского искусства очень усложнилась. После неудачной
1 Иногда приходится слышать, что столь дифференцированное (жанровое) рассмотрение славянского искусства представляет искусственное навязывание древнему мышлению современных мыслительных форм, то есть что такой подход чисто субъективен и даже модернистичен. Это глубокое заблуждение. В свете новых работ по изучению древнего мышления последнее отличалось очень сложной логикой и было способно к обобщениям, классификации и анализу в той же мере, как и современное. См.: К. Леви-Стросс, Структура мифов. — «Вопросы философии», 1970, № 7, стр. 164; Е. М. Мелетин- ский, Клод Леви-Стросс и структурная типология мифа (там же, стр. 169).
2 Так же происходил и процесс становления художественной литературы (см.: M. И. Стеблин-Каменский, Заметки о становлении литературы. — «Проблемы сравнительной филологии», М. — Л, 1964
75 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
попытки князя Владимира образовать пантеон языческих богов и придать ему всенародное значение, эпико-дидактический жанр первым вышел из употребления, просто говоря, был запрещен. Зооморфные обереги, обрядовые изображения оставались, конечно, предметом постоянного практического и художественного интереса, но эти виды творчества все более отходили в область собственно крестьянского искусства. К ним можно с полным основанием применить уже не раз употреблявшееся нами название «изобразительного фольклора». Жанры его непрерывно обогащались и, как увидим ниже, живо взаимодействовали с городским искусством.
Искусство языческой поры славянства, по-видимому, хорошо и полно выражало духовные и практические запросы общества и могло бы развиться в большие формы типа тех, какие были у ближайших южных соседей славян— народов Северного Причерноморья. Когда мы говорим о творческих импульсах извне, о восприятии Русью византийского искусства, то должны аргументировать это не примитивностью славянского языческого творчества, будто бы отстающего от жизни, а особенностями в историческом развитии Руси. Особенности эти, как известно, состояли в том, что от первобытнообщинного строя восточные славяне стали переходить не к рабовладельческому, а к феодальному. Еще до принятия Русью христианства это стало отражаться на искусстве, способствуя появлению более сложных жанров, например, эпико-дидактического. Он отмечен несомненными чертами репрезентативности. Но в конце X — начале XI в., когда христианизация Руси стала совершившимся фактом, обнаружилось, что ни один из функционирующих видов («жанров») славянского искусства не был способен выразить ни идею единобожия, без которой не мог быть закреплен феодальный порядок, ни учения о ценности человеческой личности и духовном усовершенствовании человека и т. д. Ни один из «жанров» славянского искусства не мог также выразить тему триумфа великого князя, тему небесного покровительства ему, тему народного единения под главенством князя и т. п. !. Для всего этого 11 Интересно, что даже такой жанр, как эпический, не получил никакого развития, ограничившись упомянутым выше изображением на турьем роге из Чернигова. И это в то время, когда в фольклоре уже во весь могучий голос заявили о себе былины. Видимо, именно
76 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
нужно было не только свободное владение формами антропоморфического искусства, но и совсем отличное от античности понимание антропоморфизма.
Художник-язычник мог создать статую Перуна, но образ Перуна не мог религиозно объединить всех восточных славян. Эту функцию не мог выполнить и пантеон языческих богов, созданный в Киеве князем Владимиром. Даже если бы славянские мастера могли воплотить образ Перуна в совершенные формы фидиевского Зевса, результат был бы тот же. Зевс уже в сознании греков был смертен, с этим связывалось представление о его первопреступности. Отсюда — ограниченность его религии даже в эпоху расцвета. Религии Деметры, Диониса, Аполлона уже не были всеобщими, абсолютными, а главное, они были преимущественно аристократическими. В конце концов в X в. таким стал и культ Перуна, недаром называемый «княжеско-дружинным» *. Между тем смерд эпохи феодализма был человеком, а не рабом, и всякое игнорирование его как человека было бы равносильно разрушению всей жизненной основы феодалов. Это хорошо понимал Владимир Мономах, вопрошавший своих дружинников о лошадях смердов: «.. .лошади вам жаль, а самого смерда не жаль ли?»2. Правда, в виде уступки старым традициям еще в XII в. создавались произведения, по содержанию христианские, но по форме мало чем отличающиеся от Збручского идола («богородичный столп» в Боголюбове)3. Но это был анахронизм. Дороги в будущее ему не было. Новые идеи уже нельзя было выразить средствами античного антропоморфического искусства, как нельзя было выражать сложные религиозные чувства жанрами старой музыки —
последние и восполняли потребность в изобразительном эпическом творчестве. Д. С. Лихачев показал, что отсутствие ряда жанров в древнерусской литературе объясняется именно тем, что функцию их выполняли жанры фольклора (Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 64—65). Сказанное наводит на мысль, что отсутствие соответствующих памятников изобразительного искусства не обязательно объясняется их материальным разрушением или гибелью.
1 Н. Ф. Лавров, Религия и церковь. — «История культуры Древней Руси», т. II, стр. 70.
2 «Художественная проза Киевской Руси XI—XIII веков», М., 1957, стр. 70.
3 Г. К. Вагнер, Четырехликая капитель из Боголюбова. — Сб. «Славяне и Русь», М., 1968, стр. 385—393.
77 ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
скоморошьей, эпической, военной и т. п.1. Нужно было искусство, способное «уводить верующего из мира реального в мир сверхчувственный»1 2. Эта философская установка, как известно, претерпела немалые драматические перипетии (иконоборчество), пока не вылилась в Византии в формы своеобразного «антропоморфического спиритуализма» или «спиритуалистического антропоморфизма», где образ человека, его фигура представляли очень важное, идущее от античности начало. Антропоморфический характер нового искусства обеспечил ему большую жизненную силу, в конце концов победившую спиритуализм.
1 Об этих жанрах см.: Т. Ливанова, М. Пекелис, Т. Попова, История русской музыки, т. I, стр. 15 и сл., 68 и сл.
2 В. Н. Лазарев, История византийской живописи, т. I, стр. 13.
ГЛАВА III ПЕРВЫЙ
ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ (КОНЕЦ X—XI в.)
Отвечая требованиям новой жизни, искусство Киевской Руси, естественно, восприняло церковные и светские формы византийского искусства, выступившие в своеобразной роли «переводных жанров» литературы. Ниже мы увидим, что такая параллелизация довольно условна, но для предварительной общей картины ею воспользоваться можно. Церковные формы, естественно, группировались при храмах, светские — при княжеском дворе, но они активно взаимопроникали, поэтому было бы неправильным их противопоставлять, тем более обобщать каждый из них без всякого анализа и оговорок.
Главной «задачей» нового искусства было приобщение русских людей к христианской обрядности и догматике и, кроме того, к феодальному этикету, для чего нужны были символико-атрибутивные, «персональные», исторические, символико-догматические и многие другие изображения.
Вряд ли они появились в жанровом комплексе сразу, так как принятие христианства княгиней Ольгой заставляет предполагать, что отдельные произведения византийского искусства начали проникать в Киев уже в середине X в., а может быть, и раньше. Но в распоряжении истории искусства таких произведений нет, неизвестно поэтому, к какому виду они принадлежали. Даже оформление Десятинной церкви (989—996) нам полностью неизвестно. Судя по тому, что в ней была такая пластически развитая скульптура, как рельеф богоматери Одиги- трии 1, можно думать, что и живопись храма отличалась разнообразием форм.
В Софии Киевской изобразительные циклы выступают уже в развитом виде. Именно они и дают представление о всем том новом, что получило искусство Руси при Владимире и Ярославе Мудром.
1 Н. В. Холостенко, Памятник древнерусской пластики. — «Искусство», 1969, № 5, стр. 49—51, рис. на стр. 50.
79 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
Кроме купольного Пантократора в окружении архангелов, апсидной Оранты, евхаристии и святительского чина роспись Софийского собора включает изображения апостолов (в барабане), евангелистов (на парусах), мучеников севастийских (на подкупольных арках), деисус (на триумфальной арке), цикл евангельских сюжетов (на сводах и в люнетах), ветхозаветные сюжеты (на хорах), а также отдельные изображения пророков и ветхозаветных царей (на стенах вимы). На предалтарных столбах выделено «Благовещение». На подкупольных столбах изображены мученики, патриархи, столпники и др. Особые тематические циклы развертывались в диаконнике, жертвеннике и приделах К
Церковное искусство Киевской Софии выступило в содружестве со светским (роспись лестничных башен)2 и с полуцерковным (изображение князя Ярослава Мудрого с семейством перед Христом)3. Наконец, в росписи Киевской Софии немало зооморфно-символических образов, выступающих самостоятельно или в сочетании с христианскими символами (грифоны по бокам хризмы и т. п.).
Как видим, это действительно был целый комплекс «разножанровых» изображений, и в этой системе должна была существовать своя субординация, своя «жанровая семантика», поскольку каждая из частей росписи выполняла определенное назначение. Можно думать, что не все в этом жанровом комплексе было для русских людей абсолютно новым. И здесь имелись точки соприкосновения со старым славянским наследием. Исследователи отмечают, например, особую популярность, какую в русском искусстве XI в. (прежде всего киевском) получил образ Оранты4. Ее фигура, сопровождаемая иногда
1 В. Н. Лазарев, Мозаики Софии Киевской, M., 1960, стр. 26—49.
2 Н. П. Кондаков, О фресках лестниц Киево-Софийского собора.— «Записки имп. Русского археологического общества», т. Ill, Новая серия, Спб., 1888, стр. 187—306.
3 М. К. Каргер, Портреты Ярослава Мудрого и его семьи в Киевской Софии. — «Ученые записки ЛГУ, серия исторических наук», вып. 20, № 160, 1954, стр. 143—189; В. Н. Лазарев, Новые данные о мозаиках и фресках Софии Киевской. Групповой портрет семейства Ярослава. — «Византийский временник», т. XV, М., 1959, стр. 148—169.
4 Б А. Рыбаков, Искусство древних славян, стр. 56, 92; В. Н. Лазарев, Мозаики Софии Киевской, стр. 30. По мнению Д. В. Айналова, Оранта была изображена уже в апсиде Десятинной церкви, что, однако, вызывает большое сомнение.
80 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
архангелами, ее выразительная поза столь живо перекликались с образом великой богини Земли, что вряд ли можно сомневаться во внутренней связи между этими явлениями. Напомним, что и в раннехристианском искусстве Оранта сначала означала не богоматерь, а просто молитву, моление о душе умершего1. Далее известны ранние памятники, на которых по сторонам Оранты изображены два дерева2. Лишь постепенно византийское искусство подошло к осмыслению Оранты как символа Земной церкви. Но и здесь связь ее со старой символикой довольно тесная. Все это позволяет высказать предположение, что в зоне соприкосновения старого и нового искусства находились именно символико-догматические изображения, занимающие в системе образов Иоанна Дамаскина одно из первых мест.
Но была еще другая область, пожалуй, более пронизанная пережитками языческой образности, а именно — изображения символико-атрибутивного характера, составлявшие своего рода «подсобный» жанр. Я имею в виду изображения креста, хризмы, различных сил небесных— херувимов, серафимов, — крылатость которых перекликалась с излюбленной символикой птиц. Часть этих христианских символов могла быть усвоена русским искусством и до X в.3. Напомним, что и в византийском искусстве на заре его истории наиболее легко усвояемыми оказались те виды, которые чем-то перекликались с природой предшествующего античного искусства.
В символико-атрибутивном «жанре» имелись сюжеты, которые при всей своей отвлеченности людям XI в. казались, видимо, более близкими и понятными, чем нам.
Очень интересна в этом отношении такая композиция, 7 как грифоны по сторонам хризмы (в росписи Киевской Софии)4. Грифон в славянском искусстве, вероятно, вы-
1 Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, т. I, Спб., 1914, стр. 64—66.
2 Там же, стр. 96—97.
3 См.: Н. Н. Белецкая, Древние надмогильные сооружения восточных славян. Доклад на секторе славяно-русской археологии Института археологии АН СССР в 1968 г.; ее же, Аграрно-магическая основа и драматизация в традиционных святочных играх Македонии. —
«Реферати XIII Конгресса Савеза фольклориста Іугослави]е у Доі- рану 1966 године», Скоїте, 1968, стр. 108.
4 «Древности Российского государства. Киево-Софиискии собор», вып. 1—3, Спб., 1871, табл. 32.
81 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
ступал как художественный эквивалент Симаргла1. В христианской же иконографии он считался священным существом и даже символом Христа2. Соединение хризмы (солнца) с грифонами (Христом) дало сложный образ, переходный от языческого искусства к христианскому3. Нельзя не вспомнить здесь обрядово-космогонические композиции с богиней или древом Жизни и спутниками- охранителями. Но в данном случае перед нами уже не обрядовый жанр и не космогония, а нечто более «подсобное» по отношению к «большим» жанрам искусства.
Изображения символико-атрибутивного характера во времена иконоборчества были главным «видом святых изображений». К XI в. Византия прошла этот довольно пустоцветный этап истории своего искусства, и Киевская Русь, естественно, не могла удовлетвориться бледной полуизобразительной символикой. Поэтому символикоатрибутивный «жанр» в искусстве XI в. оказался далеко не полным, как бы усеченным. В нем не было таких образов, как агнец с крестом, райские реки и т. п. Время, история требовали развитой изобразительности, более того — изобразительности антропоморфической со всеми ее новыми качествами и прежде всего возвышенностью образа божества и святых.
Православное богослужение (повседневное, седмич- ное и годовое) включало в себя символическое изображение спасения человеческого в Ветхом завете (вечерня, всенощная), напоминание о явлении Христа в мир и его воскресении (утреня) и воспоминание о проповедническом служении и искупительной смерти Христа (литургия)4. Поэтому изобразительные циклы должны были содержать: ветхозаветные сцены, догмат о Троице, благовещение, так называемый «Богородичный догматик»,
1 Б. А. Рыбаков, Прикладное искусство Киевской Руси IX—XI веков и южнорусских княжеств XII—XIII веков, стр. 284.
6
(Проблема жанров»
2 L. Reau, Iconographie de l’art Chrétien, vol. I, Pans, 1955, pp. 84, 88, 116.
3 Г. К. Вагнер, Грифон во владимиро-суздальской фасадной скульптуре. — «Советская археология», 1962, № 3, стр. 87. Вспомним, что такой же синкретичностью семантики наделен образ грифона в «Божественной комедии» Данте.
4 В первой главе мы отмечали, что литературная основа богослужения Киевской Руси приняла уже достаточно единую форму. Она, конечно, не оставалась неизменной, детали ее изменялись, но догматический план оставался стабильным.
82 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
христологический цикл (и, соответственно, праздничные выносные иконы) и пантеон святых и зависимости от идеи храмовой росписи и посвящения самого храма. Примерно все это и было в Киевской Софии. Задача, следовательно, заключается в том, чтобы выявить особенности каждого из видов изображений в зависимости от их предмета и от конкретного назначения, то есть определить структурную специфичность этих видов и возможность идентификации их с жанром (жанрами).
Как уже отмечалось выше, в конце концов все виды «святых изображений» взаимопроникали, в них содержались и конкретно-исторические и догматические идеи, все они были направлены к одной цели. Но факт остается фактом: каждый из видов выполнял определенную функцию, а это не могло не определить их структурную особенность.
Возьмем такой определенный цикл, как ветхозаветные и новозаветные исторические сцены. Хорошо известно, что они рассматривались (по крайней мере в лицевых Псалтырях) как уподобления и параллели к пророчествам. Но суть их и состоит в том, что они давали историческую картину христианского вероучения (с усилением догматического начала в евангельском цикле). Стремление к историзму заставляло всячески разрабатывать эти циклы при помощи апокрифов. Поэтому и протоеван- гельский цикл входит в этот же раздел.
Иногда рассматриваемый раздел называют христианской мифологией, откуда и цикл следовало бы назвать христианско-мифологическим. Однако такой подход совершенно неверен. Понятие мифологического к данному виду еще менее приложимо, чем к произведениям типа Збручского идола.
Я не собираюсь давать здесь определение мифа, пожалуй это и невозможно, так как их существует до пятисот. Но все же надо помнить самое главное, что мифология— это дотеистическая форма сознания1, которое (сознание) К. Маркс и Ф. Энгельс называли «племенным»2. Его отличительная черта в том, что человек не отделяет себя от природы, не говоря уже о сверхъестественном в природе, каковое для него просто не
1 P. Wirz, Beitrage zur Ethnologie Ergebnisse der Central Guinea Expedition 1921—22.—„Nova-Guinea“, XVI. 60.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 3, стр. 30.
83 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
существует. Мифология позднее в переосмысленном виде входит в состав религий (остатки ее долго живут в искусстве), но религия никоим образом не сводится к мифологии, христианская тем более. Можно лишь в условном смысле говорить о новом «средневековом мифологизме», характеризующемся тем, что подчинение и формирование сил природы в воображении теперь включало в себя и мир сверхъестественного. Но ведь суть мифа как раз не в этом. И вообще дело не в том, что религия не может обходиться без мифа, а в совершенно новом чувстве историзма, которое активно перерабатывает унаследованный от древности мифологизм мышления и волей-неволей вытесняет его. Известно, что в Ветхом и Новом завете немало исторического. Легендарному, фантастическому тоже придавался «исторический» характер, во всяком случае, в это верили, как в реально историческое1, что усложнялось еще идеей символического прообразования. Библейские сюжеты прообразовывали основные евангельские положения христианства, составляли единую историческую нить. Поэтому все, что в искусстве относится к Библии, Протоевангелию и отчасти к Евангелию, правильнее называть не мифологическим и не историческим, а легендарноисторическим жанром1 2. Учитывая старую терминологию, мы назвали этот жанр в другой своей работе (см. «Вопросы истории», 1972, № 10) легендарно-бытийным. К легендарно-историческому жанру непосредственно примыкает тематика церковно-исторического характера, которая, например, в сценах иконоборчества является вполне исторической. Таким образом, далеко не всегда обязательно слово исторический брать в кавычки.
Пожалуй, именно в силу историзма нового «средневекового мифологизма» и стало возможным, что событийные сюжеты, как ранее чисто мифологические, стали наиболее всеобъемлющим «арсеналом» христианского
1 Ю. Н. Дмитриев. Об истолковании древнерусского искусства. — ТОДРЛ, т. XIII, стр. 353.
2 Я потому заостряю этот вопрос, что понятие мифа в последнее Еремя приобрело спекулятивный характер. Мифом называют все выдуманное. Политику тоже стали приравнивать к мифу. Мифами, мифологизированием оправдывается подчас самое реакционное. Произвольнорасширенное понимание мифа делает невозможным постижение специфики христианского искусства вообще, не говоря уже о легендарно-историческом жанре.
6»
84 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
искусства1. Это относится целиком к древнерусскому искусству.
Как Библия была для русской церкви основным «корпусом» христианского вероучения, сыгравшим также огромную роль в приобщении русских людей к истории, философской лирике, лирическим песнопениям1 2, так и картины на темы «священной истории» давали русскому искусству XI в. грандиозный образный и формальноизобразительный аппарат. В частности, мифолого-культовые концепции типа Збручского идола несомненно способствовали развитию «системного» мышления, способного ставить явления в последовательную связь, давать им объяснение при помощи сверхъестественного. Не меньшую роль сыграло и то, что многоликие изображения, как писал Ф. И. Буслаев, лучше передают богословские идеи, являясь своего рода «дидактическими поэмами» 3. Действительно, повествовательность более доступна, нежели любая абстракция. К тому же легендарноисторический жанр был тесно связан с литературой, не только «священной», но и собственно исторической, а также и апокрифической. Недаром именно легендарноисторический жанр стал прибежищем для апокрифических мотивов. Они появились уже в росписи Киевской Софии в виде «Благовещения у колодца» и других про- тоевангельских сцен из жизни Марии и ее родителей Иоакима и Анны4. Источником их было «Протоевангелие Псевдоматфея». Апокрифические детали проникли даже в предалтарную мозаику — «Благовещение» 5.
В легендарно-исторических сценах на первом плане стояла не «портретная», а событийная, повествовательная задача: архангел Гавриил возвещает деве Марии о рождении у нее сына; рождается Христос; развертываются сцены его учительства и страстей; изображается вознесение его на небо и т. д. Евангельскому циклу предшествует протоевангельский, уходящий корнями в ветхо¬
1 «Евангельские образы и события, — писал Н. П. Кондаков, — останутся, помимо всяких догматов, главным содержанием веры, и главными темами христианского искусства» (Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, т. I, стр. 16).
2 Д. С. Лихачев, Возникновение древнерусской литературы, М.—Л., 1952, стр. 133.
3 Ф. И. Буслаев, Сочинения, т. I, стр. 14.
4 В. Н. Лазарев, Мозаики Софии Киевской, стр. 51.
5 Там же, стр. 36.
85 ГЛАВА
ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
заветный. Христологический цикл постепенно развивается в сцены мучений христианских подвижников, в жития святых, их чудеса и т. д. Перед нами огромная область творчества, в которой легенда наслаивается на легенду. Но правильнее назвать этот жанр легендарно-историческим, так как для христиан это была священная история. Напомним, что библейские циклы входили в исторические хроники, образуя своеобразную предысторию их.
В качестве прообразования Нового завета библейские сцены сосредотачивались в росписях западных притворов (в Киевской Софии они расположены на хорах). Они соответствовали «исторической» части богослужения, символически воспроизводившейся в вечерне (см. выше). Как последняя заканчивалась пением «Богородице Дево, радуйся», так «историческая» часть святых изображений отделялась от историко-догматической композицией «Благовещение», которая в древности располагалась на предалтарных столбах. Таким образом, «историческая» часть святых изображений развертывалась по горизонтали, от входа до предалтарного пространства.
Далее, в утренних службах, особенно в литургии, воспроизводилась не столько «историческая», сколько историко-догматическая сторона христианского вероучения (см. выше), и соответствующий этому «страстной цикл», а также «Евхаристия» располагались в подкупольном пространстве и в апсиде. В апсиде и куполе изображались и остальные догматические образы.
Перед нами, следовательно, не только богословская концепция, но и определенная философия времени. Последнее приобрело в христианстве исторический характер К Более того. История разделилась на ветхозаветную и новозаветную, и в центре истории «находится решающий сакраментальный факт, определяющий ее ход, придающий ей новый смысл и предрешающий все последующее ее развитие — пришествие и смерть Христа» 1 2. Вот почему на предалтарных столбах и размещалось «Благовещение». Таким образом, христианская концепция времени вовсе не ограничивалась неподвижной вертикалью. Время, течение исторического времени приобрело и горизонтальную протяженность.
1 А. Я. Гуревич, Время как проблема истории культуры, стр. 110.
2 Там же, стр. 110.
86 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Обо всем этом нам придется еще не раз говорить. Пока же важно отметить, что легендарно-исторические изображения были, собственно говоря, не моленными в прямом смысле слова, а, скорее, «образовательными», они направляли мысль присутствующих на восприятие главной идеи богослужения, создавали своего рода религиозно-художественный фон. Сказанное относится в известной мере и к односюжетным иконам.
Естественно напрашивается мысль, что структура произведений легендарно-исторического жанра обладала своими жанровыми особенностями.
Характер их нам предстоит выявить.
Здесь целесообразнее обратить внимание именно на те черты, которые обычно растворяются при характеристике византийского и древнерусского искусства. Стало традицией отмечать, например, условность, абстрактность, фронтальную статуарность византийской и древнерусской живописи 1. Все это вещи достаточно общеизвестные. Для проблемы жанров они только в том случае имеют значение, если внутри общей условности и ста- туарности возникает особая, специфическая условность и статуарность. Но как раз именно под таким углом зрения ни византийское, ни тем более древнерусское искусство не анализировалось. Посмотрим, что дает в этом отношении легендарно-исторический жанр древнерусской живописи.
Произведения этого жанра характеризуются не столько количеством фигур (их может быть и две и даже одна), сколько относительной свободой их расположения. Правда, чисто профильных изображений древнерусские (как и византийские) художники старались избегать, но если такие фигуры и появлялись, то обуславливалось это вовсе не их семантической второстепенностью 1 2, а именно жанром. Профильные, трехчетвертные и тому подобные фигуры персонажей допускались прежде всего в легендарно-историческом жанре, и это могли быть очень важные фигуры. Для византийского искусства укажем на превосходную равеннскую мозаику с изображением апо¬
1 Кажется, последним об этих чертах писал Л. Ф. Жегин (Л. Ф. Жегин, Язык живописного произведения. Условность древнего искусства, М., 1970, стр. 100, 107—109).
2 Ср.: Б. А. Успенский, К системе передачи изображений в русской иконописи — «Труды по знаковым системам»», II, стр. 250.
ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
стола Петра, относящуюся еще к V в.1. В древнерусском искусстве киевской поры с ней можно сопоставить сцену единоборства Иакова с архангелом Михаилом (в росписи Софии Киевской), в которой Иаков изображен в профиль и притом в чрезвычайно динамичной позе2. Конечно, это не так уж много, но важен не количественный, а качественный момент: византийское и древнерусское искусство вовсе не были носителями исключительного и неукоснительного правила предстояния изображаемых лиц перед лицом молящихся. Принцип предстояния был характерен далеко не для всех жанров, и прежде всего он не был характерен для легендарно-исторического жанра. В последнем действие чаще всего развертывалось в духе того «сюжетного диалога», который считается нововведением проторенессансного искусства, в частности, Джотто3. И эта особенность легендарноисторического жанра настолько отлична от пресловутой «византийской фронтальности», что должна быть отмечена как его «привилегия». Она отличает также собственно исторический жанр, о чем будет речь ниже.
Таким образом, приступая к выявлению жанров древнерусского искусства, мы уже с самого начала ощущаем преимущества изложенных выше методологических предпосылок. В дальнейшем нам не раз представится возможность убедиться в этом.
Вернемся, однако, к легендарно-историческому жанру. При построении мизансцен параллельно «картинной плоскости» строгий центризм отнюдь не был обязательным. Мы нередко сталкиваемся даже с отсутствием центральной фигуры, как, например, в «Благовещении». Строгой симметрии предпочиталось живое равновесие. Правда, действия персонажей, их жесты и взгляды образуют собой как бы самостоятельный замкнутый в себе круг и обращены внутрь круга, а не к зрителю. Но внутри своего круга действующие лица обращены всем своим поведением в окружающую их среду, но не в себя. Персонажи ведут себя в соответствии с «объективной» обстановкой, проявляют себя согласно внешним требованиям сюжетной ситуации, они, в сущности, событийны.
1 Anna Maria Cetto, Mosaiken von Ravenna, Bern und Stuttgart,
1965, Taf. 2.
2 См. «Историю русского искусства», т. 1( М., 1958, стр. 181.
3 И. Данилова, Джотто, M., 1970, стр. 3.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
С точки зрения жанрового этикета позы, движения и жесты фигур выступают в легендарно-историческом жанре с полной человеческой естественностью, даже простотой, что при общей поэтической одухотворенности и драматизме содержания дает картины величайшей проникновенности. Однако душевный мир действующих лиц выступает не в индивидуализированном, а, скорее, в топологизированном виде, то есть он раскрывается через то определенное место (положение), которое тот или иной персонаж занимает в сюжетной ситуации. Все же и при таком ограничении легендарно-исторический жанр был пронизан захватывающим этическим началом. Отмеченные особенности настолько свойственны рассматриваемому жанру, что им подчиняются даже двухфигурные сцены. Например, благовещение и стоящие рядом фигуры апостолов Петра и Павла — это совсем разные жанры. Для выполнения таких «сюжетов» нужна была различная художественная настроенность, поскольку надо было выразить свое понимание жанрового этикета, в одном случае требующего сокровеннейшей благостности, а в другом — репрезентативной строгости. Забегая вперед, скажем, что в святительском чине Киевской Софии все сделано для того, чтобы подчеркнуть его незыблемость, так сказать, столпообразность (святители — столпы церкви), почти все линии падают вертикально, святители смотрят «глаза в глаза» на молящегося, как бы переливаются в него. Их фигуры совсем не связаны друг с другом, даны на абстрактном фоне, они вневре- менны. В «Благовещении» все в одухотворенном движении, в мягком и сложном течении линий, но сцена замкнута в самой себе, она смотрится как нечто исторически самостоятельное, как воспроизведение некогда свершившегося. Даже в такой сцене, как «Вход в Иерусалим», при всей ее церемониальности, восходящей к церемониалу византийского императорского двора, обращает внимание естественная живость действия, свобода от схемы.
Излишне говорить, что преувеличение одних и уменьшение других фигур, согласно их «чину», для легендарноисторического жанра XI в. не характерно.
В сценах легендарно-исторического жанра действие происходит если не в реальной, то в реально-мыслимой обстановке, что предполагает не абстрактный фон, а некую временно-пространственную среду.
ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
Правда, к XI в. эта «историческая среда» достаточно абстрагировалась, многие элементы ее утеряли свой смысл, но важно, что развитие шло именно от конкретного. В ранних памятниках легендарно-исторического жанра пространственные «ориентиры» были настолько детальны, что исследователи изучают по ним, например, исчезнувшую архитектуру раннехристианского Иерусалима 1. Да и в X—XI вв. конкретность исторической обстановки еще не совсем выпала из поля зрения. В «Благовещении» архитектура напоминает Назарет. В «Ветхозаветной троице» обращалось внимание не только на мамврийский дуб, но и на жилище Авраама и Сарры, причем Сарра изображалась не прислуживающей вестникам, а выглядывающей (подслушивающей) из окна дома на самом заднем плане. В «Распятии» тоже сохранялось историческое приурочение в виде иерусалимской стены, на фоне которой развертывалась драма1 2.
Чрезвычайно показательно, что даже в таком отвлеченном сюжете, как «Воскресение», акцент делался не на догматической схематичности, а на «исторической» событийности. Христос изображался сходящим в ад, попирающим его врата и выводящим из ада людей. Надо полагать, что такая жанровая практика находилась в связи с тем, что тема воскресения Христа входила именно в исторический круг богослужения, завершая собою утреню.
Таким образом, пространство при всей его условности («обратная перспектива») все же мыслилось как реально существующее, поэтому неверно утверждение, что древнерусская (и византийская) живопись принципиально плоскостная3. Как увидим ниже, плоскостность,
1 Д. В. Анналов, Детали палестинской архитектуры и иконографии на памятниках христианского искусства. — «Сообщения императорского православного палестинского общества», т. VI, Спб., 1896.
2 Об исторических реалиях в сценах распятия см.: Н. В. Покровский, Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. — «Труды VIII археологического съезда», т. I, стр. 39.
3 Ср.: Л. Ф. Жегин, Язык живописного произведения. Условность древнего искусства. В своей работе Л. Ф. Жегин абсолютизировал проблему уплощенного пространства, распространив ее на всю «древнюю» живопись, что противоречит исторической действительности. См. подробно: Г. К. Вагнер, Об изучении языка живописного произведения. — «Искусство», 1972, № 3. Реально-информационную, а не символико-теологическую функцию «перспективных» концеп-
90 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
беспространственность характерны только для догматизирующих жанров, в легендарно-историческом же жанре пространственная проблема была предметом живейшего интереса художников. Другое дело, что она вылилась в форму «обратной перспективы». Здесь уже действовали различные исторические факторы. При таком подходе к вопросам обратной перспективы выясняется, что она вовсе не выражала некоего безличного, «народно-религиозного» взгляда на мир, а, наоборот, была своего рода первыми проблесками личного взгляда, осложненного господством геоцентрического, антропоцентрического мировоззрения. По-видимому, здесь еще надо учитывать и влияние неоплатонической философии, учившей, что не душа, а сами предметы являются местом формирования впечатлений. Эту мысль интересно разработал А. Н. Грабар 1. Теперь становится понятным, почему в системе обратной перспективы точка зрения находится не перед «картиной», а как бы «внутри» ее, на что давно было обращено внимание О. Вульфом 2. Но где бы точка зрения ни находилась, пространство в произведениях легендарно-исторического жанра остается конкретным. Отмечаемая исследователями его «микро- космичность» отнюдь не означает абстрактности, так как этот «микрокосм» уживался с «ящичной» системой вселенной Козьмы Индикоплова 3. Может быть, отчасти этим следует объяснять тот факт, что при всей своей трехмерной реальности пространство произведений легендарно-исторического жанра все же остается безатмо- сферным. Оно замыкается не небом, а нейтральным «фоном», как бы играющим роль «стен» в концепции Козьмы Индикоплова. Но если «стены» есть границы вселенной, то и здесь, следовательно, проблема пространства остается в силе. Ниже мы увидим, что только очень
ций древнерусской живописи в последнее время отметила В. Д. Лихачева (В. Д. Лихачева, Д. С. Лихачев, Художественное наследие древней Руси и современность, Л., 1971, стр. 25).
1 A. Grabar, Plotin et les origines de l’esthétique médiéval. — «Cahiers Archaéologiques44, fasc. 1, Paris, 1945.
2 O. Wulff, Die umgekehrte Perspektive und die Niedersicnt.— „Kunstwissenschaftliche Beiträge A. Schmarsow gewidmet“, Leipzig,
1907. См. также: П. А. Флоренский, Обратная перспектива. — «Труды по знаковым системам», 3, Тарту, 1967, стр. 381 и сл.
3 Е. К. Редин, Христианская топография Козьмы Индикоплова, М., 1916.
91 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
узкий круг произведений древнерусского искусства можно считать действительно беспространственными.
Гораздо подробнее, однако, разработан вопрос о времени в средневековом искусстве, в частности, в литературе. Ценными достижениями в этой области мы можем воспользоваться для нашей темы.
«Миф» о вневременности средневекового искусства теперь уже представляется давно пройденным научным этапом. Выше мы видели, что именно в средние века и появилось развитое представление об историческом времени. И в этом снова большую роль сыграл легендарноисторический жанр. Он не мог обходиться без исторического времени, как бы ограниченно и даже искаженно последнее ни понималось. Иначе любое библейское и евангельское событие выглядело бы «неправдоподобным».
В понятие исторического времени, по нашему мнению, входят два момента: идея историчности как таковой, то есть времени свершения события !, и идея диахронично- сти, то есть течения времени, развития от более раннего к более позднему. Для легендарно-исторического жанра свойственны оба эти момента, и в этом решающее отличие его от других жанров (кроме житийного и собственно исторического), а кстати сказать, и от мифологии.
Конечно, понимание и воспроизведение исторического времени были чрезвычайно условными 1 2. В легендарноисторическом жанре действие изображаемых событий происходило по меньшей мере десять веков назад, а в библейских сценах давность исчислялась тысячелетиями. Здесь не могло быть и речи о какой-либо естественно-исторической и этнографической точности3. Но для древних художников такая точность не была нужна. Нужно было показать относительную «правдоподобность», и для сцен «священной истории» этого было вполне достаточно.
1 Это в равной степени относится и к легендарным и фантастическим явлениям, которые для людей того времени были «историческими».
2 Историческое время очень туго прививалось даже в литературе. «Эпическое время и время в новых исторических представлениях находятся в летописи в неустанной борьбе, длящейся несколько столетий» (Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 261).
3 Какой бы то ни было точности в изображении библейских и ветхозаветных сцен не мог добиться и академический жанр.
92 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Эта первая задача — «историчность» произошедшего — осуществлялась, насколько было возможно, посредством типажа лиц, их орната и архитектурного стаффажа.
Как уже говорилось в первой главе, византийское искусство различало «исторический» тип лиц и собственно догматический, идеальный. Это распространялось даже на образ Христа. Один из ранних и лучших примеров дают мозаики церкви св. Аполлинария в Равенне, в которых Христос в сценах земной жизни изображен юношей, а начиная с тайной вечери — в виде молодого человека с усами и легкой бородой. Только в сценах страстей он представлен в зрелом возрасте К Трудно лучше придумать пример понимания исторического (диахронического) времени в средневековом искусстве.
В легендарно-историческом жанре необычно увидеть «ветхозаветного» Христа. Разумеется, историчность типажа была весьма условной, но все же она предполагалась. В орнате священных лиц византийское искусство, вслед за раннехристианским, наследовало античную обрядность. Древнерусское же искусство наследовало византийскую традицию. В известной степени это относится и к архитектурному стаффажу, особенно в тех сюжетах, которые приурочены к историческому пункту.
Исследователи не раз отмечали эллинистический характер портиков и велюмов, столь излюбленных в фонах икон. Как ни условны эти исторические признаки, но все же они свойственны именно легендарно-историческому жанру, а не какому-либо иному.
Однако попытки видеть в архитектурных фонах непременные реалии восточной античности тоже неправомерны 2. Дело не в том, что византийские и древнерусские художники плохо знали эти реалии или не умели их передавать, а в относительной ценности этих временных реалий. Д. С. Лихачев хорошо показал, что историческое время в древнерусской религиозной литературе имело
1 Н. П. Кондаков, История византийского искусства и иконографии. . ., стр. 74—75. Примерно то же самое видим в Евангелии Ра- булы.
2 Надо сказать, что с этой стороны легендарно-исторический жанр еще очень плохо изучен. Исследователи либо преувеличивают, либо преуменьшают значение архитектурных фонов. Между тем здесь была своя историческая символика, которая и придавала этим произведениям их истинное пространственно-временное звучание.
93 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
обратной стороной медали «вечность» 1. «Задача» заключалась не только в том, чтобы показать историчность священного события, но и в том, чтобы «освятить» его вечность, вневременность. Эта дилемма и накладывала свою печать на понимание исторического времени.
В произведениях легендарно-исторического жанра все сцены развиваются и во времени и вневременно, участвующие персонажи двигаются в особом замедленном и плавном ритме, нередко они кажутся замершими. Они словно вечны, принадлежат не только прошлому, но и настоящему, и в этом была их истинная культовая ценность. Поэтому отмеченные выше в фонах икон легендарно-исторического жанра исторические реалии весьма относительны. Но и в этой относительности они понимались как реалии, в связи с чем легендарно-исторический жанр приобретал свое историческое время.
Здесь мы подходим ко второй стороне временной характеристики, к идее развития. Она осуществлялась более последовательно, выражаясь во временной последовательности сюжетов, что в росписи, например, Софии Киевской было выдержано довольно строго, образовав три регистра, развертывающихся сверху вниз и слева направо 1 2.
Хотя сценам легендарно-исторического жанра нередко придавалось как бы «остановившееся в веках» бытие (сравни библейское: «Солнце, остановись!»), все же предполагалось, что действие протекает в границах нормального жизненного земного времени, то есть можно говорить о подчинении его обычному среднему временному модулю, охватывающему время от нескольких минут до одних суток3. В исторических циклах, подобных тому, который развернут на стенах Софии Киевской, общее время укладывается в пределы человеческой жизни
1 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 255 и сл. Эта «задача» могла не познаваться прагматически, но возникала опять-таки в силу жанровой специфики. В неисторических (догматизирующих) жанрах эта особенность проявлялась особенно ярко (см. ниже).
2 В. Н. Лазарев, Мозаики Софии Киевской, стр. 39 и сл. Возможно, что именно такое историческое построение, связавшее легендарноисторические сцены в одну цепь, позволило ослабить исторические реалии в каждой из них.
3 Н. К. Серов, О диахронической структуре процессов. — «Вопросы философии», 1970, № 7, стр. 74.
94 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
(«страстной» цикл, например). Но это не значит, что все сюжеты должны укладываться в такие же рамки. Включение библейских сюжетов раздвигало временные рамки до нескольких веков и даже тысячелетий, что позволяет говорить уже о сверхкрупном модуле. Но временные границы раздвигались за счет интервалов между событиями. Сами же события изображались в свойственных земным событиям временных рамках.
Поскольку, однако, идея исторического времени, исторического развития в средневековом искусстве имела обратной своей стороной идею вечности, то в легендарно-историческом жанре эта антиномия находила интересное воплощение в замыкании исторически построенных циклов, примером чего и является роспись Софии Киевской 1. Замыкание исторических циклов по кругу как бы возвращает нас к античному, то есть языческому, пониманию времени, но в данном случае эта архаическая черта «работает» на новую христианскую идею вечности.
Вернемся, однако, к проблеме пространства. Понимание события «священной истории» и как исторического и как вечного, конечно, создавало известную неопределенность. Византийские и древнерусские художники как бы все время балансировали между двумя полюсами — конкретизацией (история) и абстрагированием (вечность). Давая намек на реалии, они тут же соединяли их с признаками вневременности и кажущейся внепространствен- ности. Но эта внепространственность — особая. Мы уже отмечали, что в Киевской Софии круговое расположение сцен евангельского цикла сообщало им характер бесконечности, иначе говоря — вечности. Но тем самым утверждалась их всеобщая вселенская пространствен- ность, отвечающая вселенскому пространству архитектуры. Последняя идея в интерьере Киевской Софии была выражена весьма определенно2, так что развернутый в нем легендарно-исторический цикл сам становился про-
1 Когда Джотто в своей росписи падуанской капеллы дель Арена располагал таким же образом евангельский цикл (см.: И. Е. Данилова, Итальянская монументальная живопись, М., 1970, стр. 87), то он следовал веками сложившейся традиции. Но в западноевропейских базиликальных храмах «продольное» течение времени было выражено, конечно, гораздо определеннее. См.: О. Demus, Byzantine mosaic decoration. London, 1947, p. 16.
2 В. H. Лазарев, Мозаики Софии Киевской, стр. 62.
95 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
низанным величайшей пространственной идеей — идеей всемирности.
Таким образом, мы снова приходим к мысли, что кажущаяся плоскостность произведений легендарно-исторического жанра есть результат особого, очень тонкого понимания пространства, что и создает известное противоречие, если каждую сцену рассматривать изолированно. Сцены надо рассматривать в ансамбле, в соответствии с ансамблевым характером древнерусского искусства \ в данном случае в ансамбле легендарно-исторического жанра.
Чтобы оттенить особенности легендарно-исторического жанра, коснемся кратко судьбы тех сюжетов, в которых историческое начало ослаблено под действием начала догматического. В преображении, вознесении и тому подобных сценах композиция тоже строится по «принципу диалога», но главные фигуры разворачиваются строго в фас, чего нет даже в распятии. Вместе с этим композиция пронизывается симметризмом. Показательно, что появляется и нереальная разномасштабность фигур. Абстрагирующее начало увеличивается. И это вполне понятно, так как в данном случае предметом изображения является не только факт чуда, сам по себе для людей средневековья вполне исторический, но и сложная христианская догма о божественности природы Христа. Не случайно сцены преображения и вознесения очень рано получили доступ в апсидные росписи. . .
Конечно, данная нами характеристика проблемы пространства и времени в легендарно-историческом жанре охватывает только некоторые наиболее существенные стороны, но для нашей задачи и этого достаточно. К тому же легендарно-исторический жанр в XI в. проявил далеко не все свои возможности, и с многими его особенностями мы познакомимся в дальнейшем изложении.
Все сказанное о легендарно-историческом жанре относится и к тем повествовательным циклам, которые в Киевской Софии группировались вокруг изображений апостола Петра (в жертвеннике), Иоакима и Анны (в диаконнике), великомученика Георгия и архангела Михаила (в двух крайних приделах), как бы предвещая особый 11 Д. С. Лихачев, Принцип ансамбля в древнерусской эстетике. — «Культура Древней Руси», M., 1966, стр. 118 и сл.
96 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
житийный жанр. В какой-то мере, конечно, они его подготавливали и тем самым содержали особые признаки этого жанра. К числу их относится, например, соединение ряда отдельных эпизодов с центральной фигурой святого, повторение его фигуры в этих эпизодах и т. д. Но в Киевской Софии эти новые признаки еще растворены в более общих признаках и закономерностях легендарноисторического жанра, поэтому рассматривать их отдельно нет смысла.
Иное дело — сюжеты, которые как будто не подпадают под категорию легендарно-исторического жанра, но тем не менее относятся именно к нему. Я имею в виду такие композиции, как сцены с евангелистами, пишущими свои священные книги. Здесь предметом изображения являются не евангелисты, а именно сцены создания Евангелий, — события, совершаемые хотя и одним лицом, но в конкретной ситуации и обстановке. Именно так были изображены евангелисты на парусах Киевской Софии, о чем можно судить по сохранившейся фигуре 8 Марка 1. Впрочем, Иоанн часто изображался не один, а со своим учеником Прохором, которому он диктует свои изречения1 2. Нередко рядом с евангелистами изображались вдохновляющие их символические персонажи (анге- лы-«музы» или София), но и в этом случае сцены не выпадают из легендарно-исторического жанра. Даже тогда, когда признаком события (писания Евангелия) является только книга, мы не в праве выделять рассматриваемые композиции в какой-либо иной жанр. Сцена, правда, предельно сжимается, но остается сценой, а не абстрактным ликом. Но в том случае, когда перед нами действительно только лик евангелиста с книгой, а не сцена, не событие, следует говорить о другом жанре. Изображения евангелистов с символическим ангелом, тельцом, львом и орлом тоже относятся к несколько иному жанру.
На первый взгляд такие разграничения кажутся неоправданными и даже искусственными. Но от жанра зависела трактовка образа.
1 В. Н. Лазарев, Мозаики Софии Киевской, стр. 50 и сл.
2 Встречаются даже изображения Иоанна с апостолом Павлом (см.: Г. И. Вздорнов, Миниатюра из Евангелия попа Домки и черты восточнохристианского искусства в новгородской живописи XI—XII веков. — «Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода», М., 1968, стр. 206 и сл., рис. на стр. 203).
97 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
В легендарно-историческом жанре на первом плане был не лик, а сцена писания Евангелия 1. Это позволяло более картинно трактовать фигуру и обстановку, причем архитектурные фоны должны были изображать Иерусалим1 2. Даже при отсутствии обстановки фигуре придавалось некое «рабочее» положение, она оставалась событийной. По положению фигуры взгляд зрителя направлялся на процесс создания Евангелия. Любопытно, что нередко евангелист Лука, как создатель наиболее объемистого Евангелия, изображался пишущим быстро3— новый пример конкретного понимания исторического времени. Недаром рассматриваемые композиции присоединялись к легендарно-историческим циклам. Если последние развертывались в люнетах арок, то сцены с евангелистами обычно размещались на парусах, то есть на весьма «служебных» местах. Они тоже не были моленными иконами в узком смысле. Их назначение состояло в ином: дать общее представление о христианском вероучении, его вселенском характере, его «столпах» (в символике христианского храма столбы, несущие паруса, осмыслялись как «столпы евангельского учения»4). В таких случаях отсутствие фона нельзя понимать как внепространственность, так как пространство парусов в силу своей функциональности, автономности и иерархичности 5 было глубоко семантичным, а не иррациональным. Естественно, что в подобных изображениях мысль и чувство художника обращались больше к экспрессивной стороне образа, нежели к спиритуалистической. Спиритуализация как общее византийское наследие, конечно, была неизбежна, но не всюду в одинаковой степени. Ниже мы увидим, что даже в единоличных, то есть более изолированных и автономных изображениях, она имела относительный характер. В легендарно-историческом жанре при всей его средневековой абстраги-
1 Д. Айналов и Е. Редин, Киево-Софийский собор, Спб., 1889, стр. 45—46.
2 Н. П. Кондаков, История византийского искусства и иконографии. . . , стр. 249.
3 Там же.
4 В. Н. Лазарев, Мозаики Софии Киевской, стр. 33—34.
5 Л. В. Бетин, Об архитектурной композиции древнерусских высоких иконостасов. — «Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV—XVI вв.», М., 1970, стр. 48.
7
«Проблема жанров»
98 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
рованности на первом плане была все же не абстракция, а «историрование» (выражение Дионисия Фурноагра- фиота). Именно в этом жанре сохранялось все то, что противостояло средневековому геральдизму1, благодаря чему геральдизм воспринимается как частный, а не всеобщий принцип домонгольского искусства.
В тех же случаях, когда предметом изображения была не сцена писания Евангелия (хотя бы только с одной книгой, над которой склонился евангелист), а сам лик евангелиста с книгой-атрибутом в руке, художественная задача менялась. Она менялась более или менее сильно в зависимости от назначения изображения. Если оно по- прежнему предназначалось для парусов храма, то есть для включения в «христианский макрокосм» в качестве одного из важных его элементов («евангельских столпов церкви»), то экспрессивная, действенная сторона образа преобладала. Если же образ евангелиста получал назначение моленной иконы, то здесь вступали в действие иные художественные силы и средства.
Я думаю, что разобранные здесь примеры достаточно подтверждают сказанное выше (см. главу I) о различии между жанром и иконографией. Произведения примерно одной и той же иконографической категории могут быть совершенно разножанровыми, поскольку предметом изображения являются разные аспекты, разные ситуации и состояния «действительности», хотя бы только мыслимой в фантазии.
Легендарно-исторический жанр был колыбелью многих других жанров. В нем впервые русский человек увидел, как изобразительными средствами можно передать самые различные человеческие чувства: удивление
(«Воскрешение Лазаря»), благостная любовь («Благовещение»), благоговение («Симеон-богоприимец»), родительская любовь, супружеская нежность и др. Правда, как правильно заметил Д. С. Лихачев, эти душевные состояния обращены не вовнутрь, а к другим персонажам2, но и это было великим завоеванием искусства. Человеческие фигуры в легендарно-историческом жанре предстали в положениях, неизмеримо более сложных, нежели на турьем роге из Чернигова. Это был целый мир че-
1 О средневековом геральдизме см подробно: Д. С. Лихачев, Человек в литературе древней Руси, М., 1970, стр. 30 и сл.
2 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр 137
ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
ловеческой жизни от рождения до смерти, со всеми драматическими коллизиями, борьбой добра и зла, почему исследователи и считают возможным говорить о драматизации и психологизации времени в христианстве К
Таким образом, несмотря на свою неизбежную изобразительную условность, легендарно-исторический жанр резко расширил исторический и этический кругозор людей. Поэтому переоценить его значение невозможно.
Итак, иконография не была чем-то извне данным, она складывалась вместе с жанром и именно последним обуславливался характер иконографии. Поскольку для легендарно-исторического жанра было типично событийное пространственно-временное понимание изображаемого, то иконография закрепляла за сюжетами данного жанра, за всеми входящими в них мотивами, аксессуарами и стаффажем известные элементы реалистичности. Последние свободнее проявлялись при трактовке «низких» сцен и «низких» лиц, таких, например, как разделение одежд Христа, предательство Иуды, избиение младенцев и т. п. С элементами реалистичности было связано и более свободное отношение к иконографии, в легендарно-историческом жанре она носила относительно «либеральный» характер. Здесь чаще замечались различные отступления от канона, почему даже представители иконографического метода не отрицали за иконографией известного творческого начала1 2. Но направление этого творчества определялось жанром.
Выше говорилось, что в тех случаях, когда в сюжете исторический момент как бы отходил на второй план, уступая место требованиям абстрагирующей догмы, система образности очень заметно менялась. Между фигурами ослабевала, а иной раз и совсем терялась событийная связь, появлялся условный схематизм в расположении, абстрагировался фон, абстрагировались даже пропорции и т. д. В известной степени это заметно уже в композиции «Преображение», которую выше (см. главу I) мы разбирали в качестве примера легендарно-исто¬
1 А. Я. Гуревич, Время как проблема истории культуры, стр. 111 — 112.
2 Н. В. Покровский, Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. — «Труды VIII археологического съезда», т. I, стр. 77.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
рического жанра. Именно верхняя ее часть, наиболее догматичная, почти всецело выпадает из «законов» этого жанра, она явно тяготеет к иному жанру. Мы еще будем говорить о нем, но сначала рассмотрим еще раз, с этой точки зрения, композицию «Вознесение».
В восточнохристианском искусстве эта композиция нередко изображалась в куполе в «историческом» своем варианте. Но постепенно она стала принимать иной вид. В плафоне купола остался Христос, но уже не полнофигурный, возносящийся, а погрудный (как бы уже вознесшийся), с раскрытой книгой в руке и с благословляющей (или указующей) десницей. Вокруг него размещались архангелы, обычно четыре (по числу стран света). В трибуне между окнами изображались апостолы, а на парусах— четыре евангелиста. Фигура богоматери «спустилась» в конху апсиды !. Сцена легендарно-исторического жанра перешла в другой жанр — символико-догматический. Купольный Христос — не Спаситель мира, а Вседержитель (Пантократор, объединяющий в себе и бога-отца: «Я и отец одно». — Евангелие от Иоанна, X, 30) 1 2. Архангелы— это не просто силы, поднимавшие в вознесении глорию с Христом, но апокалипсические ангелы, «стоящие на четырех углах земли»3. Апостолы — не столько ученики Христа, сколько проповедники Евангелия «до края земли»4. Наконец, Оранта в апсиде не просто богоматерь, а заступница за людей перед Христом, символ Земной церкви. Она уподоблена небесному граду, из которого вышел Христос, о чем и говорит соответствующая надпись 5.
Таким образом, вознесение превратилось в грандиозную картину единства церкви Небесной с церковью Земной, картину в высшей степени символическую, даже догматическую, поскольку Пантократор олицетворяет идею Троицы6. И не случайно, что вся система изображений теперь строится не горизонтально, а вертикально. Мало того. Распределенные по вертикали, друг над дру-
1 В. Н. Лазарев, История византийской живописи, т. I, стр. 77 и сл.
2 Д. Айналов и Е. Редин, Киево-Софийский собор, стр. 21.
3 Там же, стр. 33.
4 Там же, стр. 28.
5 В. Н. Лазарев, Мозаики Софии Киевской, стр. 29—30.
6 Д. Айналов и Е. Редин, Киево-Софийский собор, сто. 17 и сл.
101 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
гом, то есть так, как это не может быть в реальной действительности, отдельные фигуры уже не образуют ни «диалогов», ни каких-либо других форм кинетической связи. Они сопоставлены в мысленную лествицу. Воздетые руки Оранты, правда, обращены к небу, к Христу, но и это только мыслится, не создает никакой сюжетной ситуации. Перед нами структура, отличающаяся сугубо умозрительной природой. От жанра легендарно-исторических сцен она отличается так же, как эпико-дидактические концепции язычества отличались от сцен собственно эпического жанра. Жанровые основы догматизирующей картины Небесной и Земной церкви, в сущности, весьма родственны тому, что отмечалось при рассмотрении нами Збручского идола. Таким образом, даже в этой области древнерусское искусство XI в. не всем было обязано Византии.
Сказанное не означает, что все элементы, из которых складывалась рассмотренная догматизирующая концепция, тоже относятся к символико-догматическому жанру. Сами по себе они достаточно самостоятельны и могут быть отнесены к персональному жанру, о котором речь будет ниже. Но включение их в догматическую композицию придало им определенный жанровый оттенок. Пан- тократор, например, дан в ветхозаветном образе1. Это не евангельский (исторический) Богочеловек-Спаситель, 9 а догматический триединый бог и демиург. Таков же образный строй Оранты, Фигура ее необычайно монументальна, лицо очень строго, с «ушедшим внутрь себя взглядом» 2. Это действительно «Нерушимая стена», как ее называли, стена, защищающая божий град. О материнской ипостаси богоматери и, следовательно, о теме воплощения, здесь нет и намека. Это Пречистая дева, а не богоматерь3. Подобные образы уже нельзя назвать событийными, это персонально-догматизирующие образы, обособленные от внешней ситуации.
Приведенные примеры еще раз показывают, что предметом изображения в жанре является не столько сюжет, не фигуры сами по себе, а их понимание, толкование, связанное с определенным назначением. О таком «видообразовании» и писал Иоанн Дамаскин. Оно дикто-
1 Д. Айналов и Е. Редин, Киево-Софийский собор, стр. 22 и сл.
2 Там же, стр. 44.
3 Там же, стр. 40.
102 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
валось отнюдь не художественными, а именно культовыми, богослужебными обстоятельствами, но приводило к художественно-специфичной структуре, закрепление которой и образовывало жанр. Достаточно было изменения указанных обстоятельств, как начинала изменяться и жанровая система их воплощения. Например, тот же легендарно-исторический жанр претерпевал очень существенные превращения, как только историческая задача уступала место собственно теоретико-догматической. Снова как бы вступали в силу принципы, знакомые нам еще по обрядово-космогоническому жанру «изобразительного фольклора».
Как литургию с ее догматической отвлеченностью нельзя объединить в одно действо с всенощной, отличающейся большим «историзмом», так и сцену «Евхаристия» нельзя отождествить с «Тайной вечерей», то есть относить к легендарно-историческому жанру. «Евхаристия», правда, воспроизводит евангельский сюжет, описанный у Матфея (гл. XXVI), Марка (гл. XIV) и Луки (гл. XXII), но воспроизводит его совсем не так, как в сцене «Тайная вечеря». В последней дана «историческая» картина: вечером в великий четверг (накануне смерти) Христос отправляет за столом трапезу с учениками, во время которой произносит известные слова: «Приимите, ядите, сие есть тело мое...». С V—VI вв. этот сюжет трактовался, по существу, в бытовом плане. Древнейший пример — мозаика базилики св. Аполлинария Нового в Равенне 1. Зрителю предлагался целый образ сцены, во всех элементах воспроизводящий то, что могло происходить в действительности. И, наоборот, в «Евхаристии», начиная с ее изображения в Россанском кодексе (VI в.)1 2, установилась символическая условность. Сцена разделена надвое: слева Христос преподает хлеб, справа он же преподает вино.
Понадобились, следовательно, две фигуры Христа в одной сцене. Когда с IX в. фигуру Христа стал сопровождать ангел, то и ангелов стало два. Позднее появились «удвоенные евхаристии» с изображением с каждой сто¬
1 Н. В. Покровский, Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских, стр. 278.
2 Там же, стр. 278.
103 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
роны двенадцати апостолов! 1 Не только такую, но и композицию с двумя фигурами Христа при двенадцати апостолах мы не можем считать легендарно-исторической. Изображение, элементы которого сохраняют реальную образность, но в целом не адекватны реальной действительности, выражает на условном языке нечто большее, что стоит за ним, поэтому оно должно быть отнесено к классу символических или символизирующих.
Мы знаем, что в росписи Киевской Софии изображе-
11 ны и «Тайная вечеря»1 2 и «Евхаристия»3. Оба произведе-
12 ния созданы, по-видимому, почти одновременно, около 30-х годов XI в. Главные действующие лица в том и другом произведении одни и те же: Христос и двенадцать его учеников. Правда, в «Евхаристии» к ним прибавлены служащие Христу два ангела. И это прибавление уже меняет всю концепцию. Два ангела были бы совершенно немыслимы в «Тайной вечере», ибо «Тайная вечеря» преподнесена как историческая сцена, даже с оттенком бытовизма. Апостолы сидят за полукруглым столом, а Христос возлежит слева. И хотя в этом произведении еще очень много символического, интерьер сведен к минимуму, а убранство стола — к трем символическим чашам, хотя позы апостолов довольно скованны, но все же перед нами достаточно реальная сцена, именно сцена. В таком духе она развивалась в искусстве вплоть до картины Н. Н. Ге.
Совсем иное в «Евхаристии». И это иное тем более существенно, что оно в данном случае преподано в фигурах довольно живых, даже более живых, чем в «Тайной вечере». Никакой сцены, тем более исторической, здесь нет. Есть идеальная символическая схема, формула, которой лишь придана известная «картинность». И дело даже не столько в том, что композиция построена строго симметрично, сколько в том, что она иррациональна. Вместо одной перед нами две «зеркальные» фигуры Христа: слева преподающего хлеб шести апостолам во
1 См.: Асен Василев, Бачковската Костица, София, 1965, рис. 31 — 34; Л. А. Шервашидзе, Монументальная средневековая живопись на территории Абхазии (докторская диссертация), Сухуми, 1970, стр. 169 и сл.
2 «Древности Российского государства, Киевский Софийский со- бср'», вып. I—3, Спб., 1871—1887, рис. 51.
3 Там же, табл. V.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
главе с Петром, а справа — преподающего вино другой группе апостолов во главе с Павлом. Каждую фигуру Христа сопровождает ангел. Подобную раздвоенность композиции можно было бы понять в случае, если бы она, например, строилась на двух смежных участках стены, разделенных каким-либо выступом или проемом. Но ни того, ни другого нет. Центр композиции занят киворием. Он вносит реалистический элемент, но зеркальные фигуры Христа крайне этому противоречат. Кроме того, вся композиция развернута на совершенно отвлеченном фоне.
Конечно, в данном случае не играет никакой роли, что «Тайная вечеря» — это фреска, а «Евхаристия» — мозаика. Техники можно было бы поменять, но все осталось бы по-старому. Все дело в разных предметах изображения. В «Тайной вечере» предметом изображения является прощание Христа с учениками, а в «Евхаристии» — таинство претворения хлеба и вина в тело и кровь Христову, то есть, в конце концов, крестная жертва Христа за спасение людей. Недаром рассматриваемые композиции и расположены в разных местах: символико-догматическая «Евхаристия» в апсиде, а историческая «Тайная вечеря» на хорах К
«Евхаристия» иллюстрировала один из основных христианских догматов. И хотя в ней тоже немало исторических моментов, но здесь в полную меру проявилось символическое иносказание. Последнее нисколько не противоречило сознанию русских людей, так как иносказание издавна было в обиходе славянской поэтики. Не случайно тема пира и вина, как символ битвы «храбрых русичей»1 2, не раз повторяется в «Слове о полку Игоре- ве»3. О подготовленности русского искусства XI в. к сложному иносказанию, даже аллегории, говорит текст Георгия Хировоска «Об образах» в «Изборнике Святослава 1073 г.».
Но дело, в сущности, не в этом, а в том, что сцена «Евхаристия» в рассматриваемом жанре предназначалась в основном для литургического воспроизведения
1 «Древности Российского государства, Киевский Софийский собор», стр. 45—46.
2 Н. А. Демина, «Троица» Андрея Рублева, М., 1963, стр. 52.
3 «Слово о полку Игореве» (поэтический перевод В. И. Стеллец- кого), М., 1955, стр. 55.
ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
догмата. Недаром она размещалась в глубине алтаря, над фигурами святителей, разработавших службы и церемонию литургии. Особый торжественный ритуал литургии, вложенное в нее таинство причащения, сопровождающее антифонное пение псалмов (на двух клиросах), наконец, центральное расположение перед престолом, царскими вратами и солеей — все это требовало изображения «Евхаристии» не в конкретизирующем легендарно-историческом, а в абстрагирующем, вневременном и внепространственном, символико-догматическом жанре.
Жанровая специфика «Евхаристии» состоит в том, что сцена, оставаясь многофигурной, строится уже не на ситуативной связи, которая всегда чувственно-конкретна, а на связи богословско-символической. Для символизирующей богословской мысли все действующие фигуры остаются историческими, но поскольку они превращаются в своего рода элементы богословской формулы, то и сцена строится по законам формулы. Никакой исторический фон для нее не обязателен.
В изображении апостолов еще сохраняется известная естественность, фигуры их образуют довольно натуральные группы \ но догматическая необходимость показать равнозначно преподание хлеба и преподание вина заставляет нарушить естественность и строить всю сцену условно-зеркально. Зеркальность лучше всего соответствовала назначению произведения: возвысить торжественность литургии. Как хорошо сказал в свое время Н. М. Щекотов, «симметричное расположение фигур относительно одного центра в искусстве, как в образах религии или светских церемониях, воплощает идею торжества»1 2. Правда, это сказано относительно икон XV в., но «идея торжества» всеобща. В языческих антитетических композициях «догматического» характера она имела, в сущности, ту же природу. Разница состоит в том, что в славянском искусстве симметрия выступала в значительной степени интуитивно, как некое «фундаментальное врожденное сведение» о свойствах пространства3.
1 Этими качествами особенно отличается мозаичная «Евхаристия» бывш. Михайловского монастыря в Киеве (М. В. Алпатов, О мозаиках Михайловского монастыря. — ТОДРЛ, т. XXIV, Л., 1969, стр. 80—84).
2 Н. М. Щекотов, Некоторые черты стиля русских икон XV века. — «Старые годы», 1913, июль-сентябрь.
3 Ср/ В. Н. Тростников, Человек и информация, стр. 179
106 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Теперь же интуиция получила «философское» оформление, симметрия была осознана как закономерность, чудесно упорядочивающая хаос видимого, поэтому и как некий божественный промысел, следовательно, как некая догма.
Антифонное (попеременно на двух клиросах) пение во время литургии тоже было пронизано идеей торжества. Недаром антифоны полагались в большие праздники.
Можем ли мы назвать типы персонажей в «Евхаристии» событийными? Только в весьма относительной степени. Их позы и жесты, не говоря уже о ликах, не определяются местом расположения в композиции. Фигуры можно переставить (кроме апостолов Петра и Павла), от этого характер действия и его семантика не изменятся. Взаимодействие фигур здесь не внутреннее, идет не от реального, а от абстрактного, от идеального, то есть от догмы. Такое взаимодействие можно назвать концепционным1, что определяет «поведение» и типаж действующих лиц. Их образ определяется, следовательно, не местоположением в ситуации, а концепцией, которая как бы проецируется на индивидуальные образы-типы, остающиеся все же в подчиненном положении. Поэтому правильнее охарактеризовать тип действующих лиц рассматриваемого жанра как концепционный. На первом месте в нем находится идеальное, а не реальное.
Конечно, под кистью особо талантливого художника может получиться так, что общая образная характеристика типажа данного жанра выйдет за границы «идеального», в ней проступят яркие реалистические черты. Но это не правило, а исключение. Чтобы познать исключение, и нужно учитывать жанровую «норму».
Следующую ступень идейно-художественного абстрагирования представляют такие композиции, в которых связь между действующими лицами не столько изображается, сколько мыслится, предполагается. При этом действующие лица могут и не сосуществовать исторически, а соединяться только теоретически, умозрительно. Я имею в виду прежде всего деисус. В смысле общей иконографической схемы деисус очень родствен «Евха-
1 О концепционных связях художественных элементов см.: Г К. Вагнер, Скульптура Древней Руси. Владимир. Боголюбэво, М., 1969, стр. 57.
107 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
ристии». Центром той и другой композиции является образ Христа. В обеих композициях к Христу обращены слева и справа ряды склоненных фигур. Такие родственные по иконографической схеме построения представляют особый интерес для вопроса о взаимоотношении жанра и иконографии, поэтому жанровые особенности деи- сусных композиций стоит рассмотреть подробнее.
В деисусе демонстрировалась та же тема спасения «рода человеческого», которая в скрытом виде присутствует и в «Евхаристии». Если евхаристия символизировала участие каждого члена общины в происходящем богослужении 1, то деисус, то есть моление богоматери 13 и Иоанна Предтечи перед Христом за «род христианский», «втягивал» находящихся в храме в этот акт самым непосредственным образом. Недаром обе композиции и размещались в Киевской Софии субординированно: «Евхаристия» в апсиде, а деисус — на триумфальной арке, то есть над и перед «Евхаристией». В дальнейшелл деисус перейдет на алтарную преграду, станет еще ближе к находящимся в храме людям2.
Напомним, что деисус — это намек на грядущий страшный суд — конечный акт Христа по спасению людей, начатому очеловечением и продолженному крестной жертвой. Поэтому деисус как таковой, включал и литургическое и догматическое назначение, представлял, собственно говоря, своеобразный «юридический» жанр, в котором соединялись идеи суда и заступничества, церемония моления и надежда на спасение. Установлено происхождение рассматриваемой композиции от церемонии византийского двора, когда придворные лица становились в позе адорации по сторонам императора3. Церемония эта называлась деисус (моление), поэтому самое лучшее называть рассматриваемый жанр по предмету изображения, то есть деисусным.
Символико-догматический и деисусный жанры XI в. заключали в себе ценнейший материал для творческой разработки.
1 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 50.
2 О внутренней связи иконостасного деисуса с алтарной «Евхаристией» см.: М. А. Ильин, Иконостас Успенского собора во Владимире Андрея Рублева. — «Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV—XVI вв.», стр. 35.
3 Д Айналов и Е Редин, Киево-Софийский собор, стр 50
108 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Правда, к XI в. христианские догмы были вполне выработаны, православие вообще не допускало их развития, речь могла идти лишь о тех или иных богословских мнениях. Но, например, по вопросу о существе евхаристии споры церквей распространились чуть ли не на все средневековье.
В. Н. Лазарев считает, что особое внимание, уделенное в росписи Софии Киевской «Евхаристии», а также апокри- 14 фическому образу Христа-иерея (над восточной аркой), могло быть вызвано распространением ереси, отрицавшей священничество Христа К Таким образом, художественному творчеству представлялось довольно широкое поле деятельности, даже с обращением к апокрифам. Но главное заключалось не в широте, а в глубине творческой мысли. И деисус и евхаристия — темы, философски довольно сложные, между тем они были претворены в изобразительные формы высокого стиля. Если в трактовку евхаристии мало что можно было прибавить, то тема деисуса именно в древнерусском искусстве получила большое и плодотворное развитие. С ней связывалась животрепещущая идея заступничества: «Средневековые крестьяне и горожане, страдавшие от феодального гнета, связывали с образами богоматери и Предтечи упования на то, что они выступят перед всесильным божеством ходатаями за их нужды и горести»1 2. Таким образом, тема «спасения людей» Христом расширялась до «религиозной утопии, вбиравшей в себя социальные чаяния широких масс»3.
Русское искусство XI в. знало не только трехчастный деисус, какой, например, украшал триумфальную арку Киевской Софии, но и деисус с архангелами, то есть пятичастный 4.
Л. В. Бетин называет его пятифигурным5, но мы точно не знаем, был ли он ростовым или только оглавным. Не исключено даже, что искусство XI в. знало и семичастный деисус, так как с XII в. он встречается в при¬
1 В. Н. Лазарев, Мозаики Софии Киевской, стр. 31—32.
2 Там же, стр. 30.
3 Там же, стр. 31.
4 См.: Д. Абрамович, Киево-Печерский патерик, Спб., 1911,
стр 123.
5 Л. В. Бетин, Об архитектурной композиции древнерусских высоких иконостасов, стр. 44, прим. 16.
ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
кладном искусстве. Но будем пока говорить о деисусах малого состава.
В отличие от «Евхаристии», где все действующие лица изображены хотя и в условной композиции, в условном пространстве, но все же в относительном «топографическом» единстве, деисус Киевской Софии пространственно совершенно расчленен. Каждый из ликов заключен в круг, они изолированы друг от друга. Пространственная автономия достигла здесь своей кульминации, следовательно, усилился элемент иносказания, символизма. Это очень существенная деталь жанра. Вместе с тем и время приобрело иной характер. Это не прошедшее время легендарно-исторического жанра и не вечное время жанра символико-догматического, а некое будущее время, время Страшного суда. Но будущее время абстрактно, к тому же оно соотнесено с небесным пространством, поэтому никак не конкретизировано. Да и как его конкретизировать? Правда, позднее при изображении деисусных фигур в рост появится «позем», но и он будет означать не землю, а некую «твердь».
Пространственная изоляция фигур деисуса, а также акцент на моменте моления, с чем связано состояние самоуглубленности, вели к гораздо большей «психологической» разработке и драматизации образов, чем в «Евхаристии» и даже в сюжетах легендарно-исторического жанра. Там большая роль отводилась выразительности самих фигур и композиции в целом. Здесь же сложное этическое содержание должен был выразить лик, в лучшем случае отдельно взятая фигура (полуфи- гура), что, естественно, заставляло всячески интенсифицировать ее художественно. Но широта, возвышенность идеи удерживали от индивидуализации. В итоге персонологический характер участников деисуса остается достаточно отвлеченным, концепционным, с тенденцией к типизации образов. Деисус Киевской Софии стоит в начале этого процесса, высшей точкой его будет так называемый Звенигородский чин Андрея Рублева.
Как видим, деисусный жанр уже в своем простейшем виде существенно отличается от символико-догматического, хотя точки соприкосновения между ними, несомненно, имеются. Деисусный жанр ближе к обрядовокосмогоническому жанру языческого искусства, поскольку и тот и другой основаны на отвлеченной идее вселен¬
110 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
ской гармонии. Возможно, этим и объясняется тот факт, что именно на Руси деисусный жанр получил необычайную популярность и сложную семантическую разработку.
Хорошо известно, что христианский монотеизм был номинальным, на деле же христианину преподносились сложнейшие учения о воплощении, о триединстве божества, о воскресении, развертываемые на фоне целого сонма небожителей и святых. Нужно было приобщать недавних язычников не только к новым догматам, но и к самому этому пантеону, причем не так, как в легендарно-историческом жанре, то есть событийно, «образовательно», а более сокровенно, моленно.
Богослужение включало прославление Иисуса Христа, богоматери и всех девяти чинов святых. Оно должно было прославлять и великого киевского князя, если не в самом обряде богослужения, то в сопровождающей его проповеди, памятником чего осталось знаменитое «Слово» о законе и благодати пресвитера Илариона. Все это вызывало особую значимость отдельных (единоличных, персональных) изображений, составлявших, как сейчас увидим, вполне определенный жанр. Его нельзя назвать портретным, хотя Н. П. Кондаков показал, что именно «идея портретности» и лежала в его основе1. Н. П. Кондаков пользовался термином «иконное» изображение, имея в виду его не событийный, не повествовательный, а единолично-моленный характер2. При этом он относил сюда не только собственно иконы, написанные на досках, но и их переводы в настенные росписи. Термином Н. П. Кондакова можно было бы пользоваться, если бы не его ограниченность и даже двусмысленность. На самом деле, можно ли назвать изображение Панто- кратора в куполе или Оранты в апсиде иконными? Их функции более широкие, нежели просто моленные.
В названии жанра надо исходить из его специфики. Наиболее же специфичным в произведениях искусства, к которым мы переходим, было то, что в них давался
1 Н. П. Кондаков, Русская икона, т. I, стр. 43. «Портретность» как свидетельство реальности святых утвердилась в византийском искусстве с VI Собора (Е. Голубинский, История русской церкви, т. II, 1-й полутом, М., 1918, стр. 359).
2 Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, т. I, стр. 35—36, 39, 196, 223 и др.
ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
идеальный лик божества или святого. Не портрет, поскольку для ряда персонажей он вообще неустановим а именно лик, взятый вне всякого действия, вне времени и пространства. Отсюда характерная особенность жанра: преимущественная фронтальность фигур, развертывание их на абстрактном фоне, предельная иератичность образов1 2 и связанный с этим геральдизм. Недаром подобные изображения называют репрезентативными.
В отличие от трактовки образа человека (святого) в легендарно-историческом и символико-догматическом жанрах фигуры святых в рассматриваемом жанре замкнуты в себе. Конечно, обращенные фронтально к зрителю, к молящемуся, они предстают («являются») перед ним и требуют от него такого же предстояния. Но внутренне, психологически они совершенно не связаны с какой бы то ни было ситуацией или концепцией, они полностью отрешены от всего, кроме своего «я», поэтому к подобным произведениям полностью приложимо понятие персонального образа-типа, в соответствии с чем и жанр следует называть персональным.
Конечно, все сказанное далеко не исчерпывает содержания персональных образов, так как они могут быть психологически довольно разными, например экспрессивными, интимными и т. п. В дальнейшем нам придется сталкиваться с этим обстоятельством и в характеристики образов будут вноситься уточнения.
На материале персонального жанра очень хорошо видна та однобокость в стилистических определениях византийского и древнерусского искусства, о которой говорилось выше. В частности, фронтальность фигур обуславливалась вовсе не их семантической значимостью, а именно жанром. Можно привести множество примеров того, как очень важные в семантическом плане фигуры (например, апостолы, а нередко и Христос) изображались не фронтально и, наоборот, фигуры далеко не первосте¬
1 На том основании, что предметом многих христианских изображений являются не реальные, а выдуманные персонажи, их считают не образами, а символами (ср.: Л. В. Уваров, Образ, символ, знак. Анализ современного гносеологического символизма, Минск, 1967, стр. 11). Однако символы бывают разные, в данном случае символ имеет реально-образную природу и мы рассматриваем его как образ.
2 Н. Г. Порфиридов, О путях развития художественных образов в древнерусском искусстве. — ТОДРЛ, т. XVI, стр. 38.
112 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
пенные (святые воины, например) иконографически закреплялись именно во фронтальной позиции. Первая особенность, как мы уже знаем, характерна для легендарно-исторического жанра, вторая — для жанра персонального.
Фронтальность в изображении фигур и сопровождающие ее внепространственность и вневременность составляют этикетную основу персонального жанра. Они свойственны ему более, чем какому-либо иному. Можно было бы назвать этот жанр лицевым, но со словом «лицевой» прочно связано представление об иллюстрированных рукописях. Поэтому лучше оставить за рассматриваемым жанром принятое нами выше название *.
Следует оговорить, что понятие «персональный жанр» 15 в полной мере относится и к тем случаям, когда рядом изображено несколько персонажей, не связанных никаким действием, например святительский чин.
Персональный жанр давал основное представление о духовной возвышенности, надчеловечности, спиритуали- стичности христианского божества. Вместе с тем при оценке произведений персонального жанра нельзя забывать, что догмат о воплощении Христа ставил образ человека чрезвычайно высоко. «Ощущением обретенного тварным миром и человеческой плотью освящения через соприкосновение в лице Богочеловека с божеством дышит каждая строчка посланий Дамаскина о святых иконах. Естество человеческое, по Дамаскину, даже выше естества ангельского, потому что «не сделался Бог ангелом, но сделался Бог естественным и истинным человеком»2. Поэтому, несмотря на все проповеди аскетизма, «чувственный образ» был главным средством возвышения к божественному содержанию. Идеи, лежащие в основе всех жизненных явлений, в том числе и образ человека, считались творческой мыслью бога3. Отсюда их высокоэтический характер, вносивший известную гармо-
1 Термин «персональное изображение» употреблял Ю. Н. Дмитриев (Ю. Н. Дмитриев, Об истолковании древнерусского искусства. — ТОДРЛ, т. XIII стр. 357).
2 Г. А. Острогорский, Соединение вопроса о св. иконах с христо- логической догматикой в сочинениях православных апологетов раннего периода иконоборчества. — „Seminarium Kondakovianum“, I, Prague, 1927, стр. 42.
3 В. Н. Лазарев, История византийской живописи, т. I, стр. 28—29.
113 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
нию в дуализм души и тела1. Здесь и кроются основы того парадоксального явления, что идеальные типы святых оказываются поразительно жизненными.
Само собою разумеется, что персональный жанр требовал очень высокого профессионализма, поскольку дело заключалось не столько в иконографии (эту сторону дела облегчали прориси), сколько в возвышенности идеальных образов. Проводниками этого жанра были в первую очередь византийские, частично балканские художники, русские мастера могли им помогать, скорее всего, в «доличном». По-видимому, так было не только в оформлении Десятинной церкви, но и в росписях Софии Киевской2. Наличие в мозаиках Софии народных черт должно объясняться тем, что византийские или балканские мастера представляли собой не столичное (константинопольское) искусство, а искусство «периферийное», более близкое Руси. Кроме того, они, конечно, в известной степени «акклиматизировались» в Киеве, испытали влияние местной культуры, русских художественных идеалов 3.
Персональный жанр составлял художественную базу всего искусства больших форм. Именно здесь образ человека был разработан с наибольшей глубиной, и это обогащало изобразительные средства мастеров в области других жанров. Глубина разработки образа человека (Богочеловека-Спасителя, богоматери, святых и т. д.) обуславливалась не только возвышенностью идеи, но и назначением произведений персонального жанра. Как уже сказано, это были либо моленные иконы, либо персонально-догматические изображения, занимавшие ключевые места в интерьере храма: Спаситель в куполе, евангелисты на парусах, святые на столбах и т. д.
Время и пространство в этом жанре отражались совершенно иначе, нежели в сюжетах легендарно-исторических. В сущности, в произведениях персонального жанра
1 А. П. Каждан ввел очень интересное определение христианства как религии «снятого дуализма» (А. П. Каждан, Византийская культура, М., 1968, стр. 110 и сл.). К сожалению, я познакомился с работой А. П. Каждана уже после написания настоящей книги и не смог всесторонне использовать его мысль. Но материал древнерусского искусства невольно подводит к такому же заключению, в чем мне не раз пришлось убедиться.
2 В. Н. Лазарев, Мозаики Софии Киевской, стр. 154—157.
3 Там же.
8
■Проблема жанров»
114 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
не было ни времени, ни пространства, чем отчасти и достигалась «спиритуалистичность» образов, дополняемая невещественностью и безмерностью иррационального золотого фона 1. В этом отношении персональный жанр шел гораздо дальше, чем деисусный. Он был пределом выключенности изображений из реальной среды и какого бы то ни было времени. Казалось бы, что с этим должна была усиливаться концепционность образов, но, как увидим ниже, дело обстояло сложнее.
Конечно, сами по себе единоличные изображения жан- рово варьировались, так как предназначались они для разных конкретных целей: одни — для догматических, другие — для «образовательно-исторических», третьи — для моленных и т. д. Одно дело — изображение Панто- кратора в куполе или Оранты в конхе апсиды, где они выступают в качестве олицетворений церкви (Небесной и Земной), объединяют целые системы росписи и несут основную догматическую нагрузку, почему подобные изображения правильнее называть персонально-догматическими. Другое дело — настенная или настолпная икона, предназначенная в первую очередь для моления и располагавшаяся поэтому низко. В ней превалирует собственно персональное (личностное) начало. Кондаковский термин «иконное изображение» скорее всего приложим именно к подобным произведениям.
В первом случае художник должен был пользоваться в гораздо большей степени обобщением, с чем невольно связана и большая степень «метафизичности» образа. Во втором случае предоставлялась возможность такой образной конкретизации, которая делала воспроизводимым идеал человека данной эпохи или идеал человека данного типа. Последняя тенденция свободнее проявлялась в таких персональных изображениях, которые тяготели к историзму. Здесь стоит вернуться к изображениям апостолов и евангелистов, отмеченных чертами некоей событийности.
Прекрасный материал, иллюстрирующий нашу мысль, дает хорошо известная икона Петра и Павла из Софийского собора в Новгороде. Апостолы представлены не
1 О понимании золота в византийском искусстве см. подробно: В. Н. Лазарев, История византийской живописи, т. I, стр. 30, 83, 85, 104, 207; см. также: И. Е. Данилова, Итальянская монументальная живопись, стр. 18.
115 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
репрезентативно, а во внутренней взаимосвязи, как «со- други». Они напоминают ораторов и очень живы как человеческие типы. У Павла подчеркнут его высокий «влыз- лый» лоб, лицо Петра, опушенное светлыми кудрями волос, привлекает своей добротой и даже мечтательностью выражения. Свободной постановкой фигур композиция иконы предвосхищает произведения XIII—XIV вв.
Но персональный жанр наиболее полно проявлялся в изображениях внесобытийных, внеситуативных, то есть таких, в которых предметом изображения был лик \ над- мирный образ божества или святого.
Из сказанного нетрудно заметить, что в области персонального жанра, как бы ни был он связан с идеей спи- ритуализации образа, гораздо глубже отражалась диалектика реального и фантастического, индивидуального и типического, жизненного и богословского, а в конечном счете — конкретного и абстрактного.
При характеристике легендарно-исторического жанра отмечалось, что он легче находил доступ к восприятию «невегласей» в силу своей картинности и бытийности. Сцена, как бы она ни была нова в познавательном отношении, воспринимается легче, чем замкнутый в себе отвлеченный образ-лик. В сцене — жизнь, кусок жизни, конкретные исторические или житейские отношения людей, переведенные в «божественный план». Вторичный перевод такой сцены на символический язык догматики тоже нетруден в силу привычки к иносказанию, к парал- лелизации.
В образе-лике, поскольку он не портрет, а именно идеальный лик, — уже не жизнь, а предельное отвлечение и вместе с тем синтезирование жизни, символическое единство микрокосма и макрокосма. Таким образом, лик является гораздо шире и содержательнее самого себя. Возможно, что именно это жанровое ограничение и вело к интенсификации творчества. С подобным явлением мы столкнулись при рассмотрении образов де- исусного жанра. Но там оно вело к концепционности образа, диктуемой широкой философской идеей деисуса. Здесь же образ мыслился как замкнутый в самом себе, 11 В древнерусском обиходе ликом называлась группа фигур одного и того же «чина». Хор певчих тоже назывался ликом. Отсюда понятие лика в нашем употреблении тоже предполагает нечто над- индивидуальное, хоровое.
8*
116 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
в своем лике. Творческий акт воссоздания такого образа- лика требовал гораздо большей напряженности всех духовных и душевных сил. Это напряжение и могло захватывать в свой «невод» одновременно «спиритуалистическое» и земное, богословское и житейское, отражающее в совокупности некий жизненный идеал. Ярчайший в этом отношении пример — лик Иоанна Златоуста из святительского чина Киевской Софии.
Поэтому, отдавая должное значению византийского наследия в рассматриваемом жанре, нельзя вместе с тем не признать, что при такого рода творческом процессе художник более непосредственным (и даже бессознательным) образом мог выразить себя, всю сложность, а подчас и противоречивость своего внутреннего мира. Значит, здесь открывалась дорога самостоятельному творчеству, во-первых, и «элементам реалистичности» \ во-вторых.
Особую группу внутри персонального жанра составляли такие произведения, в которых как бы слились все три начала — историческое, догматическое и персональное. Я имею в виду проникновеннейшую тему богоматери с младенцем на руках или коленях, во всех ее изводах, кроме типа «Великой Панагии». Н. П. Кондаков показал, как из исторического цикла эта тема выделилась в особый тип, который он назвал иконным. Термин этот не очень удачен, так как характеризует не столько предмет изображения, сколько его форму. Изображения богоматери с реальным младенцем на коленях и с его «образом» в круглом медальоне (тип «Панагии») оказались у Н. П. Кондакова одинаковыми. Между тем они очень различны.
Тема богоматери с реальным младенцем сближается с легендарно-историческим жанром известной событийностью: перед нами мать, занимающаяся со своим божественным сыном. Это не абстрактный лик, а все же сцена, хотя и очень абстрагированная. По мнению Н. П. Кондакова, она произошла от «исторического сюжета» «По- 11 Термин В. П. Адриановой-Перетц, введенный ею вместо понятия «реализм» (В. П. Андрианова-Перетц, Об основах художественного метода древнерусской литературы. — «Русская литература», 1958, № 4, стр. 62); см. также- Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 123 и сл.
117 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
клонение волхвов» *. Между фигурами всегда показывается взаимодействие, внутреннее взаимоотношение, которое может быть меньшим или большим в зависимости от влагаемого в него смысла.
С собственно персональным жанром рассматриваемый сюжет тоже не совсем совпадает, вернее, не охватывается этим понятием. Он шире его, так как представляет не только божественный лик (лики), но и содержит глубочайшую догматическую тему воплощения от богоматери Иисуса Христа, а также тему жертвенности божественным сыном ради спасения людей, причем показывает ее не отвлеченно-символически, как в образе Панагии, а, скорее, исторически.
В богослужении прославление богоматери завершает собою вечерню или всенощную, изображающую, как уже сказано, спасение человеческое в Ветхом завете, причем поется стихира, называемая «Богородичным догматиком». В нем и раскрывается мысль о воплощении от богоматери Христа Спасителя.
Таким образом, и с богослужебной точки зрения тема богоматери с младенцем является, с одной стороны, исторической, а с другой — догматической. Это, несомненно, отразилось на сложении особого типа изображений, не входивших ни в легендарно-исторические циклы (там был свой сюжет — «Поклонение волхвов»), ни в символико-догматические (там тоже был свой сюжет — Оранта или богоматерь — «Великая Панагия»). Рассматриваемые изображения занимали особые места в храме, доступные для личного обращения к богоматери1 2. Поэтому есть основания рассматривать тему богоматери с реальным (не в медальоне) младенцем как особый «синкретичный» жанр, который вслед за литературой можно назвать богородичным лирико-догматическим.
Мне представляется не совсем верным довольно часто встречающееся утверждение, что культ богоматери очень рано и глубоко укоренился в сознании христианизированных славян. Чаще всего это утверждается на основании распространенности в древнерусской архитектуре XI в. храмов, посвященных успению богоматери. Таких храмов действительно немало, но это не значит, что
1 Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, т. I, стр. 163—164.
2 Там же, стр. 157—158.
118 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
они обязаны популярности культа богоматери как такового. Богоматерь почиталась как женское божество вообще. С этим представлением и сливался образ Оранты. Но для того, чтобы из этого синкретизма выкристаллизовался культ богоматери, нужно было время.
Показательно, что для XI в. мы не можем указать «любимой» иконы богоматери. С XII в. это будет «Елеуса», с XIV—XV вв. — «Одигитрия». Но в XI в. какого-то предпочтения определенному образу богоматери (не считая Оранты — символа Земной церкви) скорее всего не было.
К концу X в. относится погрудный рельеф богоматери 16 Одигитрии Десятинной церкви, отличающийся еще такими архаичными чертами, как полулежачее положение младенца. Но показательно, что Десятинная церковь посвящалась богоматери вообще. Конкретного освящения ее к определенному празднику или событию из жизни богоматери неизвестно 1. Изображение богоматери Одигитрии в скульптуре дает основание полагать, что в XI в. этот образ в живописи был достаточно распространен. По-видимомуг он был в тмутараканской церкви князя Мстислава2, в одном из храмов Старой Рязани, а также в Смоленске.
Но этого недостаточно для того, чтобы мы могли сделать определенный вывод о характере богородичного лирико-догматического жанра в искусстве XI в. Он находился еще в стадии формирования. Поэтому подробное рассмотрение его мы начнем со следующей главы.
Все виды персонального жанра, а также богородичный лирико-догматический жанр сыграли громадную роль в развитии самобытных начал древнерусского искусства.
Мне думается, что хотя в произведении легендарноисторического жанра, может быть, легче заметить причастность кисти русского мастера, так как в массе дета-
1 Этот сложный вопрос наиболее полно освещен А. В. Поппэ. См.:
A. Poppe, Państwo i kościol na Rusi w IX wieku. Warszawa, 1968, str. 49—50;
см. также рецензию В. Д. Королюка на указанную книгу в «Византийском временнике», т. 31, М., 1971, стр. 204.
2 В рязанском Успенском соборе в свое время была икона «Богоматери Редединской», очевидно восходящая к иконе тмутара- канского храма князя Мстислава, победившего в единоборстве ко- сожского вождя Редедю. Речь, вероятно, должна идти об иконе, перенесенной в XIII—XIV вв. из Старой Рязани, которая была связана с Тмутараканью.
119 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
лей всегда может проскользнуть неповторимо-русская деталь, но образ-лик способен дать гораздо больше в смысле самовыражения художника, следовательно, этот жанр был более потенциален. Недаром в персональном жанре уже в первой половине XI в. произошло заметное отступление от византийского типа Пантократора. Образ Вседержителя в куполе Киевской Софии отличается, по словам В. Н. Лазарева, чисто крестьянской силой1. В дальнейшем эти элементы «своеземности» увеличиваются, и, например, св. Георгий на иконе из Успенского собора предстает перед нами во всей красоте идеала русских людей эпохи расцвета Киевской Руси 1 2.
Надо заметить, что в образах святых воинов вообще сильно выражено светское начало. В некотором отношении они родственны образам героического эпоса3 и представляют собой «мостик» к светским жанрам. В частности, фигурам воинов была свойственна такая сугубо этикетная особенность, как упор на одну ногу при слегка согнутом положении другой, а также едва заметное кон- трапосто. Это сообщает фигурам известную внутреннюю раскованность, являющуюся, в сущности, выражением внутренней силы и свободы. Отсюда начинается путь к преодолению геральдизма.
Но со светскостью не обязательно связано нарастание «элементов реалистичности». Выше говорилось, что идеальные типы святых нередко отличались поразительной жизненностью. Это наблюдение теперь можно развить: образы святых передавались с гораздо большей индивидуализацией и даже экспрессией, нежели «портреты» живых современников4. Достаточно сравнить, например, лик Иоанна Златоуста в апсидной мозаике Киевской Софии с изображением князя Святослава в Изборнике его имени, чтобы убедиться в этом.
1 В. Н. Лазарев, Мозаики Софии Киевской, стр. 79.
2 Н. А. Демина, Отражение поэтической образности в древнерусской живописи. — «Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси», М., 1971, стр. 7—24.
3 Конечно, это чисто приблизительное сходство, так как эпические образы структурно совсем иные, им абсолютно не свойственна статика.
4 На это было обращено внимание Ю. Н. Дмитриевым и Д. С. Лихачевым (Ю. Н. Дмитриев, Об истолковании древнерусского искусства, стр. 357; Д. С. Лихачев, Человек в литературе Древней Руси, стр. 8).
120 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Здесь мы сталкиваемся с интереснейшим вопросом — как это могло получиться? Ведь облик Иоанна Златоуста мог быть известен только по иконографической традиции, лицо же киевского князя было знакомо художнику в натуре! 1 Может быть, значение имел размер? Как пишет Б. Христиансен, «неодушевленность состоит во внутренней связи с пространственными размерами... Портретисты знают по опыту, что более крупная голова легче говорит»1 2. Но ведь перед нами еще не портрет. К тому же персонально-догматические образы-лики типа Пантократора еще более крупны, но про них не скажешь, что они очень индивидуализированы. Наоборот, мы отмечали их «объективность».
Ответ на поставленный вопрос дал Д. С. Лихачев. Он пишет: «... интерес к человеческой психологии диктовался теми особыми целями, которые ставила перед собой проповедническая и житийная литература. Громадный опыт изучения человеческой психологии не применялся к светским героям русской истории»3. Так было и в Византии.
Процесс типизации в персональном жанре включал, конечно, «элементы реализма». «Художник не выдумывает и не изображает типы, он не может создать типический, собирательный образ, элементов которого не было в действительности» 4. Но, по-видимому, в рассматриваемом случае, и вообще в средневековом персональном жанре, действовало и другое — степень «вживания» изображаемого персонажа в общенародное сознание. Это вживание могло происходить и, вероятно, происходило посредством не только изобразительного искусства, но и литературы, апокрифов, даже фольклора5. В таких условиях типизация из визуально-графического процесса превращалась во всеобъемлющее творчество, суммирующее массу жизненных впечатлений. Последние (а не данные наблюдения) и были проводником «элементов
1 А. И. Некрасов даже считал, что портрет Святослава писался с натуры (А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, M., 1937, стр. 80).
2 Б. Христиансен, Философия искусства, Спб., 1911, стр. 283.
3 Д. С. Лихачев, Человек в литературе Древней Руси, стр. 8.
4 В. А. Разумный, Проблема типического в эстетике, M., 1955, стр. 58.
5 Н. Г. Порфиридов, О путях развития художественных образов. ..—ТОДРЛ, т. XVI, стр. 42—43.
121 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
реалистичности». К этому как нельзя лучше относятся замечательные слова В. Г. Белинского, что общечеловеческое действительно реальное содержание может быть с большой силой типичности выражено в форме фантастической.
Любопытно, что не только живые современники художников XI в., например те же киевские князья, но даже и умершие, причисленные к рангу святых, светские царственные персоны оставались в искусстве такими же бледными в портретном смысле. Яркий тому пример — хорошо известная фреска на южной стене Новгородской Софии с Константином и Еленой. Как бы ни было выразительно лицо Елены 1, оно поражает не реалистическими, а, скорее, спиритуалистическими чертами, экстатич- ностью глаз, бесплотностью лика1 2. Перед нами снова лик, а не лицо. Это окончательно убеждает нас в том, что лик святого суммировал гораздо больше творческих импульсов, нежели облик живого или умершего светского персонажа.
Конечно, причина здесь не в разной степени старания художников, а в самом творческом методе. Суть последнего состояла в типизировании «в глубину веков», а не в ширину реальной действительности. При этом в типизировании «в глубину веков» участвовали все впечатления и ассоциации, а не только зрительные.
Что персональные изображения составляют определенный жанр, видно и из их стилистического родства, подчас преодолевающего большую разницу в материале воплощения.
Упомянутая икона св. Георгия (из Успенского собора Московского Кремля), относимая Н. А. Деминой к киевской живописи конца XI — начала XII в., по монументальности и вместе с тем чувственной полнозвучности образа святого очень близка к мозаичным изображениям севастийских мучеников Киевской Софии и к единоличным изображениям в мозаиках бывшего Михайловского монастыря. Ни в каком другом жанре нельзя было достигнуть такой степени глубины в передаче физической и духовной красоты человека-героя, что как бы
1 В. Н Лазарев, Живопись и скульптура Новгорода. — «История русского искусства», т. II, М , 1954, стр. 74, рис на стр. 73.
2 M. К. Каргер, Живопись. — «История культуры Древней Руси», т. II, стр. 367.
122 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
возвращает нас к принципу античной калокагатии \ И на этом же сравнении произведения «станковой» темперной живописи с настенными мозаиками хорошо видно, что материал и техника для характеристики жанра имеют далеко не первостепенное значение. Гораздо большее значение имело то, что мозаики предназначались для всеобщего обозрения и назидания, а иконы — для более интимного общения с божеством или святым. Отсюда и внутрижанровые модификации, способствующие, в частности, более свободному развитию художественного образа в иконе.
Итак, древнерусское изобразительное искусство XI в. получило в свое распоряжение не только развитую христианскую иконографию, но, что гораздо важнее, оно стало обладателем различных подходов к объективизации явлений действительности, включая, конечно, и фантастические отражения их в голове. Различные подходы к миру были знакомы и языческому искусству, но теперь все это было обогащено и углублено на антропоморфном материале, ставшем главным предметом творчества. Теперь стало возможным представить человеческий образ не только в разных ярусах («мирах»), не только в разных позах, но и в разных внутренних состояниях, в разных аспектах, то есть жанрах. И это было тем более ценным, что достигалось, в сущности, при одинаковых внешних признаках, при одинаковой иконографии. Следовательно, обогатился арсенал не столько внешних средств, сколько средств внутренних, не средств изобразительной фиксации, а средств художественной интерпретации, отражающей, конечно, интерпретацию семантическую. Интерпретация в средневековом искусстве вообще играла большую роль, поскольку о коренном изменении христианских догматов не могло быть и речи1 2. Но в данном случае речь идет об интерпретации не того или иного сюжета, темы, догмы, а всей действительности
1 Об античной калокагатии см.: А. Лосев, Классическая калокага- тия и ее типы. — «Вопросы эстетики», вып. 3, М., 1960, стр. 471. Понятие калокагатии будет иметь большое значение при интерпретации искусства XV в. (см. ниже).
2 Л. В. Бетин, Об архитектурной композиции древнерусских высоких иконостасов, стр. 41. Тут же приведена литература вопроса.
123 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
(внешней и внутренней). Стало возможным показать ее в одном внешнем (иконографическом) обличье, но в разных преломлениях, гранях, характеристиках. Понимание человеческого образа приобрело многогранность.
Прежде чем перейти к нецерковным жанрам искусства XI в., отметим такую общую для всех рассмотренных жанров черту, как последовательно выдержанную изо- кефалию. В XI в. не допускалось, чтобы главная фигура была большой, а второстепенные — маленькими. Конечно, речь идет о рядом стоящих фигурах. Когда больших размеров изображается Пантократор или Оранта, то это не выглядит как иерархизм. Такова их роль в богословско-художественной системе росписей. Недаром фигура Оранты поднята над регистром со святителями и «Евхаристией». Иное дело, если бы, включенная в их ряд, она оставалась столь же гигантской. Мы можем говорить, следовательно, о том, что при всем возвышении образа божества, в том числе и масштабном возвышении, в искусстве XI в. сохранялось античное понимание изокефа- лии *. В XII в. этот принцип начнет нарушаться, а в XIII в. художники будут свободно рисовать большую фигуру рядом с вдвое меньшей.
Общественно-политические отношения и духовная жизнь Киевской Руси XI в. были настолько развиты и сложны, что перечисленными церковными жанрами искусство ограничиться не могло. Жизнь выдвигала много таких задач, которые нельзя было выполнить посредством исключительно религиозных образов. Если светское начало мощно вторгалось в легендарно-исторический и даже персонально-лицевой жанр (например, изображения святых воинов), то еще сильнее оно звучало тогда, когда искусство привлекалось к оформлению светского быта. Здесь была сложная градация задач: патрональных, кти- торских, эмблематических, династических, апологетических и т. д., вплоть до единодержавных. 11 Обычно изокефалия (равноголовие) понимается буквально как прием изображения фигур в одном уровне, как будто все они уравнены линейкой. Это — частное явление чисто композиционного характера. Я понимаю изокефалию как одномасштабность, когда фигуры в разном композиционном положении выдержаны в естественных пропорциях по отношению друг к другу. В таком понимании изокефалия из архаичного приема превращается в элемент реалистичности.
124 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Рассмотрение светских жанров лучше всего начать с переходных к ним, то есть промежуточных между церковным и светским искусством. На первом месте здесь должен быть поставлен ктиторский жанр.
Развитие сильной княжеской власти при Ярославе Мудром как будто создало все условия для появления в искусстве портрета. Однако, как мы видели выше, для портрета еще не было выработано такого жанрового этикета, который мог бы возвысить портретируемого до его равноапостольского значения. Поэтому были использованы формы наиболее близких жанров — персонального и деисусного. Уже говорилось о том, что под видом святых патронов могли изображаться и сами князья. Во всяком случае, можно допустить, что их облик подразумевался, накладывая печать на патрональное изображение. Например, М. К. Каргер считает, что в образе Дмитрия Солунского (мозаика Михайловского монастыря) отразились портретные черты князя, патроном которого был этот святой воин1. Жанрово это подчеркнуто, может быть, тем, что Дмитрий Солунский дан в типе «итальянского кондотьера», как выразился А. И. Некрасов 2. Однако расположение мозаики в апсиде затушевывало ее патрональный характер. Таких произведений было немало, и в жанровом отношении они не оригинальны 3.
Иное дело, когда изображался сам князь. Чтобы сделать такое изображение наиболее торжественным, следовало придать ему особые черты. И вот киевляне увидели, как Ярослав Мудрый стоит перед Христом. За Ярославом стоят его сыновья. По другую сторону Христа предстоят жена Ярослава и его дочери4. Трудно было
1 М. К. Каргер, Живопись. — «История культуры Древней Руси», т. II, стр. 354.
2 А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, стр. 40.
3 Историкам искусства, впрочем, стоит задуматься над совпадением отмеченных черт в образе Дмитрия Солунского с «портретными» тенденциями в изяславовой линии киевского летописания. См.: А. Г. Кузьмин, Древнерусские исторические традиции и идейные течения XI века. — «Вопросы истории», 1971, № 10, стр. 69—70.
4 Ссылки на работы М. К. Каргера и В. Н. Лазарева, посвященные данной росписи, см. на стр. 84. Из последних работ о групповом портрете Ярослава надо упомянуть:
A. Poppe, Kompozycja fundacyjna układu pierwotnego. — „Biuletyn
Sofii Kijowskiej w poszukiwaniu historii sztuki**, R. XXX (1968), NR 1.
А. Поппэ считает, что изоб-
125 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
более возвысить князя и его семейство, как поставить их перед Христом. Это было равносильно вознесению всех их живыми на небо.
С другой стороны, киевский князь уравнивался здесь с византийским императором, изображавшимся в таком же виде. Строго говоря, рассмотренный вид произведений не является ктиторским, так как Ярослав изображен без модели храма в руках, которую он, по установившейся художественной традиции, должен преподносить Христу. Но это — малосущественная деталь. Ярослав изображен в росписи храма, им построенного, следовательно, идея ктиторства здесь налицо.
Фреска Софии Киевской не одинока. По такой же художественной системе построено изображение князя Ярополка с женой в миниатюре Трирской Псалтыри1. Сидящий в центре Христос накладывает на них венцы. Легко заметить, что здесь использованы «законы» символико-догматического жанра, в частности «Евхаристии». Отсюда церемониальность композиции, ее абстрагирующие черты и неизбежная схематичность. Но все же и такая форма давала возможность портретирования. По всей вероятности, рассмотренными изображениями круг их не ограничивался, «агитационные» свойства их были очень ярки и велики. К символико-догматическому жанру они, конечно, не относятся, хотя в чем-то и родственны ему. И это не случайно. Они тоже предназначались для выражения своего рода «догмы» о равноапостольности князя,, то есть некой иерархической мысли, а идеи иерар- хизма можно было перелагать в наглядно-изобразительные формы иерархическим же способом, то есть, «чино- вым», как в деисусе.
Средневековый человек был приучен к такого типа мышлению издавна. Основы же символико-догматического жанра родственны обрядово-космогоническому жанру «изобразительного фольклора» (см. выше).
И все же в рассматриваемом жанре религиозный момент был слабее. Слишком велико было значение выра-
ражения сыновей и дочерей Ярослава строго не разделялись. См. также: С. О. Висоцький. Про портрет родини Ярослава Мудрого у
Софійському соборі у Киіві.— «Вісник Київського університету», Київ, 1967.
1 Н. П. Кондаков, Изображение русской княжеской семьи на миниатюрах XI века, Спб., 1906, табл. IV.
126 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
жаемой в нем политической идеи, от которой древнерусское искусство нередко хотят освободить, превращая его в «искусство только для религии». Фигуры ктитора и его семейства, например, не столько молят Христа, сколько просто предстоят. Элемент репрезентативности преобладает над элементом эмоциональным. Короче говоря, предметом изображения является не моление за «род человеческий», а нечто более личное, хотя оно и могло содержать государственное. Последнее же вело к светскости, а вместе с этим и к секуляризации жанра.
Ослабление религиозного начала в описываемом жанре подводило его к жанру собственно портретному. Но правильнее называть его ктиторско-патрональным, оговорив условность этого названия. Тип человека в этом жанре остается концепционным, но личностное начало в нем несколько ослаблено.
Следующий шаг к портретному жанру был сделан в известной миниатюре «Изборника Святослава» (1073), 18 изображающей Святослава с семейством1. И здесь группа изображена перед Христом, но совсем иначе. Во-первых, фигура Христа дана сбоку на правой половине листа, благодаря чему композиция стала асимметричной. Этим ослабилась ее церемониальность и даже «догматичность». Группа княжеского семейства обособилась, приобрела большую самостоятельность, Святослав, его жена и дети изображены слитно. Во-вторых, все они обращены не столько к Христу, сколько к зрителю. И все же портретным жанром и эту сцену назвать нельзя. В ней нет характеров.
Нельзя считать портретным жанром и хорошо известные рельефные группы Михайловского монастыря, на одной из которых представлен на коне князь Ярослав Мудрый со своим патроном св. Георгием (тоже на коне), а на другой, в таком же изводе, князь Изяслав со св. Дмитрием Солунским 2. Портретность этих скульптур после исследования А. И. Некрасова3 вряд ли подлежит сомнению, но жанр этот не портретный, а тот же патро-
1 См. «Изборник великого князя Святослава 1073 г.», выходную миниатюру.
2 См. о них ниже.
3 А. И. Некрасов, Рельєфні портрети X століття. — «Науковий сбірник, Украиньска Академія наук», т. XX, Киів, 1925, стр. 16—40.
127 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
нальный с оттенком героизма. Мы вернемся к нему ниже.
Групповой «портрет» князя Ярослава показывает, что светские жанры проникали и в церковный интерьер,— лучшее доказательство того, что сам церковный интерьер— вернее, его роспись — являлся своего рода объединительным жанром. Еще убедительнее об этом говорят росписи лестничных башен Софии Киевской.
По вопросу о содержании и смысле этих росписей существует целая литература, но здесь не место входить в ее анализ. Ясно одно: роспись эта всецело светского характера, причем она разножанровая. На стенах лестничных башен, следуя подъему винтовой лестницы, расположены сцены, изображающие конские ристания на византийском ипподроме в присутствии императора; акробатические игры, охоту; эпизоды борьбы охотников-актеров, 19 театральные сценки; музыкантов, конскую погоню, верблюда с поводырем и, возможно, даже самого великого князя верхом на коне и в нимбе1. Связь росписей с придворными циклами византийского светского искусства не подлежит сомнению, но в ряде сюжетов наблюдается и местная художественная инициатива1 2. К сожалению, сохранность росписи такова, что общая композиция ее, а следовательно, и семантика, неуловимы. А. Н. Грабар даже писал о возможном «смешении жанров», но тут же отметил, что подобное впечатление лишь кажущееся, на самом же деле перед нами довольно твердая традиция. Поскольку, однако, применительно к фресковому циклу Софии она еще слабо изучена, лучше не разделять этот цикл на первичные жанры, а охарактеризовать его как объединительный придворно-увеселительный жанр. Специальное изучение росписи в смысле ее жанрового состава сулит, конечно, много возможностей. Здесь исследователей ждут интересные находки.
Иным характером отличалась роспись сводов башен, заполненная растительным орнаментом, в который
1 Н. П. Кондаков, О фресках лестниц Киевско-Софийского собора, стр. 187—306; А. Н. Грабар, Светское изобразительное искусство домонгольской Руси и «Слово о полку Игореве».—ТОДРЛ, т. XVIII, стр. 239—248.
2 А. Н. Грабар, Светское изобразительное искусство домонгольской Руси. . . — ТОДРЛ, т. XVIII, стр. 245 и сл.
128 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
вкраплены изображения зверей и фантастических существ, обрамленных круглыми рамками. Этот «символико-зооморфный» жанр уже знаком нам, и на нем незачем специально останавливаться. Отметим только, что различная природа рассмотренных жанров отразилась и на структуре росписей. Композиции придворно-увеселительного жанра развивают особенности легендарно-исторического. Они построены относительно свободно, включают архитектуру, природу, элементы театральности, наполнены движением. Зооморфные изображения как сугубо символические даны вне времени и пространства.
Говоря о светских жанрах киевского искусства XI в., нельзя пройти мимо известных резных плит с изображением Геракла и Диониса, привлекавших и продолжающих привлекать внимание многих исследователей.
Сюжет первой плиты — Геракл борется с немейским 2о львом1; сюжет второй более загадочен. Одно время в нем видели Кибелу или какого-то восточного принца, везомого на повозке львом и львицей1 2, но это не кто иной, как Дионис3. Оригиналом для барельефа служила сцена на византийской шкатулке.
Нельзя отрицать того, что оба сюжета, во всяком случае первый из них, в какой-то степени перекликаются с эпическим жанром искусства X в. Перед нами герои классического эпоса. Но в новой исторической ситуации их образы выполняли несколько иную функцию. Взаимоотношения старых жанров с новыми всегда представляют большой научный интерес, поэтому на возникшем вопросе стоит остановиться подробнее.
Как теперь выясняется, обе плиты входили не в фасадный декор княжеского дворца, а в декор интерьера Великой Успенской церкви Киево-Печерской лавры, составляя, вероятно, часть парапета хоров. При этом плит было не две, а больше.
А. Н. Грабар доказал, что происхождение подобных сюжетов дворцовое, они входили в специальные циклы
1 Б. А. Рыбаков, Прикладное искусство и скульптура. — «История культуры Древней Руси», т. II, М.—Л., 1951, стр. 441.
2 Там же.
3 А. Н. Грабар, Светское изобразительное искусство домонгольской Руси...,—ТОДРЛ, т. XVIII, стр. 253; см. также: В. П. Даркевич, Подвиги Геракла в декорации Дмитриевского собора во Владимире.— «Советская археология», 1962, № 4, стр. 91.
ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
героическо-эпического характера, прославлявшие подвиги византийских императоров 1 и самым ближайшим образом предвосхищающие чуть ли не за триста лет аналогичные циклы в росписях итальянских палаццо.
Применение интересующих нас резных плит в декоре хоров, на которых во время службы находился князь, героико-эпический характер их сюжетов сохраняют за ними то же значение, какое подобные сюжеты имели при константинопольском дворце. Можем ли мы назвать рассматриваемый жанр героико-эпическим? Все зависит от того, понимался ли Геракл как эпический герой или он выступал как средневековый символ Христа?2 На эти вопросы нельзя дать сразу точный ответ, нужно принять во внимание разные привходящие обстоятельства.
Очень существенно, что рельефы с Гераклом и Дионисом были не изолированными, а входили в некий цикл. Это явствует из того, что при археологических раскопках на территории Киево-Печерской лавры найдены фрагменты резных плит с идентичной профилировкой бортов. Судя по фрагментам, это были плиты со сценами, близкими «подвигам Геракла» (борьба с птицей-гарпией), а также змееборческим циклам (всадник борется с драконом)3. Последний сюжет прямо отсылает нас к упомянутым выше резным плитам бывш. Михайловского монастыря в Киеве с изображением князей Ярослава Мудрого4 и Изяслава5 со своими патронами.
Не исключено, что и эти две плиты — только сохранившаяся часть развернутой композиции, в которую входили героические сцены борьбы человека с сильными зверями. Об этом позволяет думать фрагмент резной плиты с изображением борьбы героя со львом, относящийся к декору храма на Владимирской улице в Киеве6. Перед
1 А. Н. Грабар, Светское изобразительное искусство домонгольской Руси. . . —ТОДРЛ, т. XVIII, стр. 238.
9 «Проблема жанров»
2 Z. Kępiński, Symbolika Drzwi Gnieźnieńskich. — „Drzwi Gnieźnieńskie44, II Wrozlaw, 1959, str. 109—110.
3 Н. В. Холостенко, Исследование руин Успенского собора. — «Культура и искусство Древней Руси», стр. 64—65.
4 А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, стр. 66—67. Рельеф находится в Киевском Софийском архитектурноисторическом заповеднике.
5 Там же. Рельеф находится в Государственной Третьяковской галерее.
6 Н. Н. Воронин, Историко-архитектурные заметки. — «Советская археология», 1957, N2 2, стр. 258—260.
130 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
нами, следовательно, обрывки очень интересных циклов, содержащих не только мифологические мотивы, но и княжеские изображения, а также изображения княжеских патронов. Этого уже достаточно, чтобы сказать, что Геракл понимался здесь не как мифологический персонаж и не как символ Христа, а как знаменитый герой, с которым сравнивались и киевские князья Последние следовали в этом отношении за византийскими василев- сами, культивировавшими при дворе светское искусство, в частности, различные мотивы эпоса и мифологии, перенося их героизм на себя1 2.
Наряду с мифологическими персонажами культивировались герои христианских легенд. Особенный культ приобрел св. Георгий-воин, покровитель императора и его воинства. Резная плита Михайловского монастыря с Георгием и Ярославом прямо относится к этому циклу. Хотя Георгий выступает здесь как патрон Ярослава (христианское имя Ярослава было Георгий), а на второй плите Дмитрий как патрон Изяслава, все же перед нами первичный патрональный жанр, входящий в более широкий героический, вернее, символико-героический. Он исполнял в феодальной среде ту же функцию, какую в народе выполнял героический эпос. Мы можем, следовательно, говорить о своеобразном феодальном эпосе XI в. В какой-то степени оба эти жанра, вероятно, взаимодействовали, так как они как нельзя лучше выражали дух эпохи, названной Б. Д. Грековым «героическим периодом» русской истории. При этом герои одного жанра могли переходить в другой. Связующим элементом, вероятно, выступала та полуцерковная-полународная поэтическая стихия, в которой слагались духовные стихи. Св. Егорий — любимый герой духовных стихов. Но это взаимопроникновение произошло позднее, вряд ли ранее XII в. В XI в. героический жанр городского искусства питался такими источниками, как «Иудейская война» Иосифа Флавия, Хроника Георгия Амартола, в которой, кстати сказать, фигурирует и Геракл. «Это был преимущественно материал нравоучительный, дидактический, в большей или меньшей мере проникнутый религиозной тенденцией да-
1 В. П. Даркевич, Подвиги Геракла в декорации Дмитриевского собора, стр. 97—104.
2 В. П. Даркевич, Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе X—XIII вв.
131 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
же в тех случаях, когда речь шла о жизни светского героя, об его воинских подвигах и приключениях» 1. Но в изобразительном искусстве религиозно-нравоучительная тенденция отступала на второй план, так как героические образы воздействовали на зрителя более непосредственным путем, чем в литературе.
Чтобы отличить все же рассматриваемый жанр от героического эпоса, лучше называть его символико-героическим. Именно элемент символичности и наложил свою «жанровую печать» на рассмотренные скульптуры. Будь они чисто эпико-героическими (или придворно-увеселительными), сцены строились бы иначе, менее условно, с большим количеством реалий, в определенной среде и т. д. «Законы жанра» играли большую функциональную роль. В этом состоит один из аргументов существования жанров в древнерусском искусстве.
Поскольку в формировании символико-героического жанра XI в. известную роль играли мотивы эпического жанра, следует кратко коснуться их судьбы в рассматриваемую эпоху. Она была довольно сложной. В отличие от фольклора эпический жанр изобразительного искусства в XI в. как бы оборвался. Ничего подобного рисунку на турьем роге из Чернигова в это время мы не знаем. Эпический жанр существовал лишь в обрывках, в отдельных мотивах, которые, как мы только что видели, входили в новые светские циклы феодального характера. Это относится не только к сценам, подобным единоборству Геракла, но и к чисто зооморфным мотивам. В искусстве XI в. появились изображения дранонов, грифонов и т. п., то есть образы, по существу, эпические, но применялись они не в повествовательных композициях, а, скорее, в эмблематических. В связи с изменением функции произошло изменение и жанровой структуры. Амулеты-обереги, как мы видели, представляли миниатюрную «модель» того явления, в которое влагался магический смысл. Сама модель и содержала магизм, который в модели овеществлялся целиком, без остатка.
В различных колтах и тому подобных вещах XI в. с изо- 17 бражением грифонов и иных существ нет никакой маги-
1 Н. К. Гудзий, История древней русской литературы, М., 1945, стр. 61.
9*
132 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
ческой «модели», это прежде всего предметы быта, украшения, зооморфные мотивы на которых выступают не самостоятельно, а в виде «прикладного» искусства. Семантика этих мотивов подбиралась, конечно, с определенной целью, она должна была быть покровительственной, благожелательной, но и она, по-видимому, воспринималась не непосредственно, а через саму вещь. Отсюда рождалось новое качество образа, его плоскостность, статичность, дематериализация, что отвечало символичности изображения и вело к эмблематизму. Все это было далеко от эпики.
Причина увядания эпического жанра состояла, по-видимому, в том, что его функции успешно выполнял, в том числе и в феодальной среде, героический эпос фольклора. Былины пелись и при княжеском двореК Происходило то, что характеризует «неполноценность» литературных жанров, не знавших до XVII в. любовной лирики, так как ее функции выполнял тот же фольклор1 2.
Уход эпического жанра изобразительного искусства на задний план был вынужденным. Но это не привело к его вырождению. Как только гегемония византийских «переводных» жанров ослабнет, эпические мотивы снова выйдут на поверхность и дадут в XII в. жизнь яркому и многообразному эпико-обрядовому жанру.
Может быть, итогом всех творческих исканий и жанровых новшеств XI в. следует считать собственно исторический жанр. Он развивался уже в недрах легендарноисторического жанра, особенно в тех его частях, которые живописали о жизни Давида, о подвигах Иисуса Навина и т. п. Однако местом применения исторического жанра был не столько церковный интерьер, сколько рукописные хроники. Я имею в виду их миниатюры.
Уже упомянутая выше переводная Хроника Георгия Амартола содержала миниатюры, выполненные по византийскому оригиналу, скорее всего, киевскими же миниатюристами 3. Кроме обычных «вводных» библейских сцен хроника имела миниатюры чисто светского содержания,
1 Б. А. Рыбаков, Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи, стр. 77.
2 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 64 и сл,
3 О. И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, стр. 22—25.
133 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
как, например, «Осада Рима галатами», «Правление Юлия Цезаря», «Царствование Константина» и т. д. Рукопись обрывается на Пятом соборе К
Так как о художественных качествах русской копии XI в. мы судить не можем, то жанровые признаки миниатюр, менее подвергнутые эволюции, приобретают особый интерес.
Судя по воспроизведению миниатюр XI в. в Тверском списке Хроники Георгия Амартола (между 1305 и 1318 гг.), для исторического жанра типично почти все то, что было сказано выше относительно легендарно-исторического жанра. Природа их родственна. Единственное, что следует оговорить (частично об этом уже сказано выше), — это сугубую «практичность» миниатюр, распространение на них своего рода юридических и дипломатических функций, в связи с чем в них гораздо большее внимание обращалось на фактически-событийную сторону дела, нежели на психологическую и этическую. В этом отношении они не могли идти ни в какое сравнение с легендарно-историческим жанром. Но поскольку в исторических миниатюрах связь с окружающей действительностью гораздо теснее, то, естественно, уже в XI в. в эту область проникли «русизмы», отмечаемые О. И. Подобедовой, главным образом применительно к Хронике Тверского списка.
Этими «русизмами», конечно, гораздо богаче были те лицевые летописи XI в., которые захватывали и русскую историю. Существование их доказывается многочисленными архаизмами в начальной части миниатюр знаменитой Радзивиловской летописи2. Кроме того, миниатюры Радзивиловской летописи свидетельствуют о существовании в XI в. и внелетописных иллюстрированных рукописей житийного характера, миниатюры которых относятся, по существу, тоже к историческому жанру3. Так или иначе, но именно в этих миниатюрах впервые отразились интереснейшие страницы русской истории — поход на
1 О. И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, стр. 48.
2 Там же, стр. 60.
3 Д. В. Айналов считал, что в XI в. существовали лицевые жития Владимира, Бориса и Глеба, Ольги (Д. В. Айналов, О некоторых сериях миниатюр Радзивиловской летописи. — «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», т. XIII, кн. 2, Спб., 1908, стр. 307—323).
134 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Корсунь, «Ладожская легенда», сцены принесения дани, курганное погребение, убийство Бориса и Глеба, похороны в санях и многое другое. И хотя сцены, как и в легендарно-историческом жанре, развертываются преимущественно в одной плоскости, а обстановка события указывается по принципу изображения целого по части (дерево— лес, башня — город, группа воинов — войско и т. п.)!, но это был целый мир русской жизни, для показа различных сторон которого уже вырабатывались определенные приемы, схемы, этикетные формулы и жестикуляция. Важно также отметить, что, обозначая обстановку события посредством сокращения целого по части, художники миниатюр конкретизировали пространство, насколько это было возможно в XI в.
Мы несколько задержались на вопросах дифференциации русского искусства киевской поры не случайно. «Истоки основных художественных типов и средств выражения древнерусского искусства лежат, — по словам М. В. Алпатова, — в киевском искусстве XI века»1 2. В это время сложились такие важные «виды священных изображений», как атрибутивно-символические, персональные (единоличные), легендарно-исторические, символикодогматические и др. Но, как мы видели, они далеко не охватывали всех сторон общественной жизни. Необходимы были (и немедленно возникли) ктиторско-портретные изображения, придворные сцены, сюжеты назидательногероического характера и т. д. Поэтому более чем удивительно, что такой знаток древнерусского искусства, как Ф. И. Буслаев, мог писать о бедности древнерусской живописи сюжетами3. Правда, жанровая система искусства, как и в древнерусской литературе, была весьма неполной, но она неуклонно пополнялась.
Перечисленные виды искусства образовали вполне конкретные (предметно и функционально) группы (особ- ности), которые вполне можно назвать жанрами4. Они отличались друг от друга определенным характером
1 О. И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, стр. 55.
2 M. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 63.
3 Ср.: Ф. И. Буслаев, Сочинения, т. I, стр. 38.
4 Это не значит, что жанры легко размежевывались Взаимосвязь их была очень сложной (см. ниже).
135 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
изображений, то есть не только содержательно, но и художественно. Образ божества или святого в персональном жанре был далеко не тот, что в легендарно-историческом. В первом он наделялся чертами трансцендентности или спиритуалистичности, во втором — всемерным «историзмом», бытовыми реалиями.
Композиции легендарно-исторического жанра отличались от символико-догматических. Последние строились по принципу абстрагирования, симметричной схематизации, чем сближались с обрядово-космогоническим жанром «изобразительного фольклора».
Я думаю, что поскольку выделенные жанры искусства обуславливались прежде всего определенной функцией, то есть, в конце концов, практическим назначением, то их вполне можно сопоставлять с жанрами древнерусской литературы. Это следует понимать не в буквальном смысле, а относительно. Ни символико-атрибутивному, ни даже персонально-лицевому жанру мы не найдем параллелей в литературе XI в. Не было в литературе ни кти- торского, ни портретного жанров. Да и деисусный жанр связан больше с изобразительными, нежели с литературными традициями. Но остальные — легендарно-исторический, символико-догматический и символико-героический— очень тесно переплетаются с литературными жанрами. Правильнее говорить не о зависимости жанров изобразительного искусства от литературных, а о параллелизме процесса жанрообразования, который, конечно, не только не исключает, но даже предполагает творческую взаимозависимость. Параллелизм выражается, в частности, в том, что как в литературе \ так и в изобразительном искусстве жанровая дифференциация была весьма многоступенчатой, между отдельными жанрами были переходные, многие произведения характеризовались многожанровостью. Особенностями по меньшей мере двух жанров обладают символико-догматические композиции. Конечно, мы должны быть подготовлены и к таким случаям, когда жанровая природа произведения как бы неуловима вследствие своей «текучести», а вернее, нашей неспособности выявить ее жанровые признаки. Однако все это не умаляет значения проблемы 11 Ср.: Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 44
и сл.
13В ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
жанров, а говорит лишь о том, что в решении ее очень много сложностей.
Выше мимоходом была высказана мысль, что жанры «большого» антропоморфического искусства XI в. можно сопоставить с переводной литературой. Действительно, подобно Библии, легендарно-исторический жанр искусства (вместе с «поджанрами») знакомил русских людей с основным изобразительным корпусом христианского вероучения. Символико-догматический жанр выполнял функцию, сходную с функцией сочинений отцов церкви, то есть был в основном направлен на литургию. Придворно-увеселительный и символико-героический жанры перекликались с сочинениями светского характера — хрониками и т. п.
Но переводную литературу и «византийско-русские» жанры искусства XI в. можно именно сопоставлять, но не отождествлять. Начать с того, что в XI в. в основном переводились сочинения не XI и даже не X в., а труды отцов церкви необходимые для отправления богослужения. Как основополагающие в богословском и обрядовом смысле, они переводились «буква в букву» 1 2, поэтому произведения IV—VI вв. жанрово и стилистически оставались продуктами своего времени. В сущности говоря, сказанное относится и к переводам Библии и к другим сочинениям, переводившимся в литургических целях. Переведенные, они все же несли с собой литературную культуру не XI в., а более древнего времени.
Иное дело — легендарно-исторический или символикодогматический жанры искусства. Если сами они и не относятся к XI в., то перешли в киевское искусство в той форме, в какой сложились именно к этому времени, а
1 См. подробно: И. П. Еремин, О византийском влиянии в болгарской и древнерусской литературах IX—XII вв. — «Славянская литература. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», M., 1963, стр. 6—12. Н. А. Мещерский поправил мнение И. П. Еремина, указав, что последний не учел памятники церковноюридические и литургико-гимнологические, а также и некоторые жития и хроники (Н. А. Мещерский, К вопросу о ранних славяновизантийских литературных связях. — «Седьмая всесоюзная конференция византинистов в Тбилиси», Тбилиси, 1965, стр 108). Но остается фактом, что переводы в Киевской Руси в XI в. носили «избирательный характер» и избирались сочинения более простые по форме (там же, стр. 108—109).
2 Н. А. Мещерский, Искусство перевода Киевской Руси. — ТОДРЛ, т. XI, М. — Л., 1958, стр. 59.
137 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
вовсе не ко временам отцов церкви. Они несли, следовательно, более «современную» художественную культуру, с меньшими остатками античности, но зато оснащенную всеми тонкостями средневекового иносказания.
Мало того, в произведениях изобразительного искусства, даже исполнявшихся не русскими, а приезжавшими в Киев греческими мастерами, очень скоро, во всяком случае уже в XI в., появился местный художественный оттенок *. Дело в том, что литературный перевод представляет все же более механическое дело, нежели выполнение живописного произведения по заданной прориси или живописному образцу. Какими бы средствами копирования художники ни пользовались, это все же относилось скорее к рисунку, композиции, но не к произведению в целом. Правда, никакая местная художественная интерпретация не могла изменить жанра, но внутри жанра она могла развивать разные его стороны по-разному.
Прежде всего это коснулось легендарно-исторического жанра, в котором уже в XI в. широко отразились апокрифы.
Как видим, жанры изобразительного искусства были более гибкими нежели переводная литература. Особенно ярко их активность проявилась в XII в., но, прежде чем перейти к вопросу о судьбах жанров искусства XII в., остановимся еще на двух сторонах изучаемой проблемы: каково было взаимоотношение жанров в искусстве XI в. и как жанры изобразительного искусства соотносились с жанрами архитектуры.
В XI в. господствовали, конечно, жанры религиозные, церковные, заимствованные у византийского искусства, а среди них — символико-догматический и легендарноисторический. Уже в росписи Софии Киевской можно видеть тенденцию в сторону догматики, что требовалось условиями времени (христианизация Руси). Но надо тут же сказать, что этот догматизм носил очень «жизненный», я сказал бы — общественно-активный характер. Недаром А. И. Некрасов писал: «Замечательна тематика рассмотренной живописи. Это — мудрецы, старцы, воины, цари; это — повествовательные легенды и чудесные сцены; это — празднества и увеселения, шествия, игры и 11 Ф. И. Буслаев говорил об искажении византийского стиля в смысле его порчи (Ф. И. Буслаев, Сочинения, т. I, стр. 4), но с этим вряд ли можно согласиться.
138 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
охоты. Неизбежные в христианстве мотивы страданий и покаяний не доминируют» *.
Взаимоотношение жанров не было произвольным. Оно определялось (как и в литературе) суммой практических потребностей — наглядно воспроизводить основы христианского вероучения, сопровождать богослужение, представлять в образах-ликах христианский пантеон, оформлять княжеский быт, а «малыми формами» пронизывало и быт широких слоев древнерусского общества. При этом светские жанры проникали в храмы, а церковные— в светский быт.
Наиболее жесткую систему представляли жанры, участвующие в создании монументальных комплексов, то есть храмов. Уже отмечалось, что своды, люнеты и паруса отводились сценам легендарно-исторического жанра, символико-догматический жанр «обслуживал» в основном пространство трибуна главы и алтаря; персональные изображения занимали арки, а также нижние части стен и столбов, а в западной части храма допускались светские, ктиторские и символико-героические изображения. В храмовых комплексах участвовали и «декоративные жанры» — вегетативный и зооморфный. Первые три жанра были совершенно обязательными. Из них наиболее стабильным сначала являлся легендарно-исторический жанр, дававший канву «священной истории», а путем ее символизации и догматику. Но соотношение жанров было не однозначным. С этим вопросом мы подходим к проблеме первичных и объединительных жанров.
Можно ли церковные жанры, входившие в монументальный комплекс, охарактеризовать одним объединительным жанром, подобно тому, как это имело место в древнерусской литературе? Там в роли объединительных жанров выступали патерики, четьи-минеи, хронографы, прологи, торжественники, цветники, азбуковники и т. д., которые можно рассматривать тоже как жанры2. Ниже мы увидим, что нечто подобное было во владимиросуздальской скульптуре.
Жанры, участвующие в создании художественного ансамбля храмового интерьера, объединялись идеей, от-
1 А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, стр. 42.
2 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 45.
139 ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
нюдь не унифицированной, вернее, не до конца унифицированной и оставляющей место конкретизации ее в том или ином духе. Здесь наблюдается большая самостоятельность, поскольку выбор диктовался замыслом, последний же обусловливался конкретной исторической ситуацией. В. Н. Лазарев справедливо пишет, что содержание росписей «не оставалось неизменным, и каждый раз в него привносились индивидуальные оттенки» В зависимости от этого общий характер росписи должен был меняться. Например, характер росписи Киевской Софии совсем иной, нежели Успенского собора Кирилло-Бело- зерского монастыря. Я нарочно взял такой поздний пример, чтобы контраст выглядел сильнее. Следовательно, все росписи храма нельзя объединить одним жанром, они, как и в литературе, тоже «разножанровые», причем не только в смысле первичных жанров, но и в смысле общего характера их сочетания. Выявление этого общего характера и должно лечь в основу определения всеобъ- единяющего «метажанра». Но такой «метажанр» уже выходит за рамки жанра как такового. Правильнее, может быть, называть его «общим жанровым духом» искусства или «духом жанровой системы», понимая под этим некую равнодействующую всех жанров эпохи, окрашиваемую не столько господствующим жанром, сколько господствующей жанровой тенденцией. «Дух жанровой системы» должен подводить нас к пониманию и общего стилистического направления искусства эпохи. Мне думается, что такой подход весьма облегчил бы истолкование не только идейного замысла, но и стиля росписей, внес бы в эту задачу гораздо большую объективность. Поскольку в этом направлении системы росписей еще не изучены, то мы воздерживаемся от общих оценок. Это предмет будущего исследования. К тому же и монументально-живописных комплексов от XI в. сохранилось только два: София Киевская и София Новгородская. Выше говорилось, что в Софии Киевской объединяющей идеей росписи была евхаристическая жертвенность Христа, его воскресение и апостольская проповедь. В этом заметен догматический уклон богословской мысли. Он проявлялся и в характере выбора ветхозаветных и новозаветных сюжетов и особенно в теме Земной и Небесной церкви. 11 В. Н. Лазарев, Мозаики Софии Киевской, стр. 24
140 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Но все же примечательно, что догматизм выступил здесь в строго исторической форме. Никаких аллегорических сюжетов в росписи Киевской Софии не было К Если понадобилось бы дать определение тому «жанровому духу», который объединял все частные жанры Киевской Софии, то его все же можно было бы назвать догматико-историческим.
В рамках всеобъединяющего «жанрового духа» было деление на менее крупные, но тоже объединяющие жанры. Например, скульптурный цикл Михайловского монастыря, объединенный символико-героическим жанром, по существу состоит из патронального и символическо- эпического жанров, выступающих в роли первичных. Я думаю, что и придворно-увеселительный жанр росписей лестничных башен Софии тоже можно разбить на первичные жанры — например, собственно придворнобытовой и зрелищно-цирковой. Несколько первичных жанров включал в себя персональный жанр, а именно персонально-догматический, собственно персональный (иконный) и догматико-исторический. Наконец, и внутри легендарно-исторического и символико-догматического жанров были свои «поджанры».
Когда мысленно охватываешь эту систему со всеми ее переходными звеньями, то древнерусское искусство (как и византийское) воссоздается в том великом монументальном синтезе, дифференциацию которого не допускают противники выделения жанров. Конечно, этот жанровый синтез чрезвычайно сложен и наш анализ рисует только приблизительную картину. Может быть, он столь же многожанров, как и древнерусская литература. Для углубления и уточнения его открыта широкая дорога всем непредубежденным исследователям. 11 Предположение, что в это время в Киевской Софии была икона со сложным аллегорическим изводом Софии Премудрости (С. Кры- жановский, Киевские мозаики. — «Записки императорского археологического общества», т. VIII, Спб., 1856, стр. 255), остается не более, как предположением. Иное дело — понимание Оранты как Софии Премудрости, прекрасное исследование о чем принадлежит С. С. Аверинцеву (С. С. Аверинцев, К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской. — «Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси», М.( 1972, стр. 25—49). Но и в данном случае речь идет не об аллегории, а только о сложной символике. Символизм пронизывал все церковные жанры и даже часть нецерковных.
ГЛАВА III ПЕРВЫЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ
Вопрос о взаимоотношении жанров изобразительного искусства и архитектурных жанров очень сложен. Ф. И. Буслаев писал, что на Руси было великое разобщение между живописью и архитектурой1. Такое заявление маститого ученого настораживает. Но есть, во всяком случае, область, относительно которой можно сказать, что Ф. И. Буслаев очень ошибался. Речь идет о смысловом соответствии живописи архитектуре. Его наличие неоспоримо, и исходить нужно отсюда. Ни один храм, большой или малый, не мог обойтись без легендарно-исторических, символико-догматических и персонально-лицевых изображений, для которых были строго обусловлены «свои» места. Особенно тесную зависимость от архитектуры испытывал легендарно-исторический жанр. В домонгольское время, когда еще не сложились многоярусные иконостасы, прибежищем легендарно-исторического жанра были своды и верхние части стен монументальных храмов. Чем больше здесь было площади, тем шире развертывались циклы «священной истории». Таким образом, и в этой части Ф. И. Буслаев был глубоко неправ. В столичных пятинефных соборах шире применялись светские жанры — зрелищный, символико-героический и ктиторский. И это тоже вполне соответствовало жанру архитектуры. Поскольку пятинефные соборы характеризуют подъем Киевской «империи Рюриковичей», то связь с их большим жанром большого религиозно-светского жанрового комплекса вполне закономерна. Жанровая связь росписей (и икон) пронизана столь органическим единством, что всю систему жанров XI в. можно уподобить монументальному сооружению, в котором первичные жанры — это колонны, объединяющие жанры — своды, а «метажанр» — купол. Поэтому система жанров XI в. выступает отчасти и как большая стилистическая категория. Именно она обуславливает тот синтетический монументализм, который характерен для русского искусства киевского времени. 11 Ф. И. Буслаев, Сочинения, т. I, стр. 28.
ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII —НАЧАЛА XIII в.
Двенадцатый век в русской истории был не менее поворотным, чем XI в. Дело не в том, что начала распадаться «империя Рюриковичей», — в этом, кстати сказать, была вовсе не слабость, а сила Руси, сила ее возросших новых «областных» центров \ Дело в приближении всей русской жизни к народным началам, что не замедлило сказаться в искусстве.
«Множество разнообразных фактов нас убеждают, что национальный подъем и оригинальная художественная жизнь в большинстве стран средневековой Европы начали слагаться только во вторую половину XII столетия, а полный ход национального искусства приходится на XIII в., где раньше, где позже, в зависимости от политических обстоятельств»1 2.
В XII в. образовалось несколько самостоятельных русских «княжеств-государств». Каждое из них стремилось играть руководящую роль в политической жизни страны, наиболее сильные князья соперничали в борьбе за обладание киевским великокняжеским столом, но вместе с тем активно обстраивали свои столицы. Разгорались феодальные войны, усложнилась внутрицерковная жизнь, возросла роль монастырей, все более и более заявляла о себе новая городская сила, так называемые «мизинные», то есть малые люди городских торговых посадов, усиливалось соперничество между старым родовитым боярством и новым «рыцарским сословием» — служилыми дворянами-милостниками. Проливалась кровь в городских восстаниях.
Двенадцатый век, таким образом, принес и усложнение общественной жизи и несомненную ее активизацию, с чем неизбежно была связана новая дифференциация искусства, приведшая к разработке старых и рождению
1 Б. А. Рыбаков, Первые века русской истории, М., 1964, стр. 148.
2 И. П. Кондаков, Македония. Археологическое путешествие, Спб., 1909, стр. 292.
143 ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII — НАЧАЛА XIII в
новых его жанров. Вместе с живописью в монументальных комплексах полным голосом заговорила скульптура, выведенная из интерьеров на фасады зданий и ставшая достоянием широких городских масс.
Прежде всего бросается в глаза своеобразное «возрождение» жанров малых форм искусства, временно оттесненных на задний план мощным потоком «переводных жанров». XII в. — это век расцвета русского художественного ремесла, изделия которого Б. А. Рыбаков удачно назвал «серебряным фольклором»
Нельзя сказать, что в XII в. «возродились» все те жанры, какие были в русском искусстве X в. Эпический жанр, представленный сказочно-былинной сценой на черниговском турьем роге, так и не развился в изобразительном искусстве, очевидно, всецело замещаемый устным былинным творчеством (см. выше). Не получил развития на Руси и тот лирико-героический жанр, который расцвел пышным цветом в светском искусстве Византии1 2. Русский «серебряный фольклор» не знал ни поединков всадников, ни картин царственного пира, ни акробатических циклов, ни любовных сцен и т. п. Лишь некоторые обрывки этого придворно-увеселительного жанра, отразившегося в росписях Киевской Софии, встречаются на серебряных браслетах XII в. Правильнее, однако, считать их не обрывками большого жанра византийского искусства, а самостоятельным обрядово-бытовым жанром, частично восходящим к язычеству, но существенно трансформировавшимся под влиянием новых городских вкусов.
Простейшим видом его по-прежнему оставались зооморфные мотивы, но наряду с византийскими (в конечном счете — античными) образами снова появились фольклорные, причем все они стали приобретать несколько тератологические черты. Под тератологией здесь понимаются не изображения чудовищ вообще (они были и раньше, в X в.), а соединение зооморфных образов с ленточно-растительным плетением, в котором все большую роль играет фантастика, сливающая воедино звериные, птичьи и даже человеческие черты.
1 Б. А. Рыбаков, Русалии и бог Симаргл-Переплут. — «Советская археология», 1967, № 2, стр. 113.
2 В. П. Даркевич, Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе.
144 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Наряду с зооморфными мотивами «возродились» и антропоморфные эпические же мотивы, но теперь это были не чародеи и оборотни, а гусляры, пляшущие и пью- 21 щие персонажи, то есть образы бытовые. Появились даже изображения танцующих воинов. Б. А. Рыбаков связал наиболее распространенные сюжеты этого «серебряного фольклора» с русальной обрядностью \ поэтому название жанра обрядовым вполне закономерно. Не случайно ни один из изобразительных циклов «серебряного фольклора» не представляет единой повествовательной композиции.
Но нельзя не обратить внимания на то, что структура рассматриваемых образов иная, нежели в собственно обрядовом жанре, не говоря уже об оберегах. Там мы видели замкнутые статичные, самодовлеющие формулы- заклинания, здесь — образы сопоставляются друг с другом, фигуры даны в разных движениях, образуют, по-видимому, смысловые ряды или регистры «клейм», причем верхний регистр занимают фигурные изображения, а нижний отводится под орнамент2. В этом отношении произведения обрядового жанра более повествовательны, нежели, например, колты с грифонами XI в. Не исключено, что тематика серебряных наручей отражает не только русальную обрядность, но и эпические пиры, с которыми можно связать и скомороший образ гусляра3, и пляшущего воина с мечом 4, и персонажи с чарами в руках, и фантастические существа, и, наконец, само расположение фигур в арочках, как будто намекающих на гридницу в продольном разрезе. Может быть, правильнее назвать рассматриваемый жанр обрядово-бытовым или обрядово-эпическим?
Тот факт, что в обрядовом жанре сохранялись языческие мотивы, вовсе не означает, что здесь нашли приют мифологические пережитки. Мифологизм как таковой давно ушел в прошлое, различные зооморфные существа превратились в поэтических носителей старой обрядно-
1 Б. А. Рыбаков, Русалии и бог Симаргл-Переплут, стр. 94.
2 Б. А. Рыбаков, Прикладное искусство Киевской Руси IX—XI веков и южнорусских княжеств XII—XIII веков, стр. 266.
3 Р. С. Липец, Эпос и Древняя Русь, стр. 284.
4 Впрочем, воин с мечом может быть связан и с русальной обрядностью. См.: И. И. Белецкая, Аграрно-магическая основа. . . , — «Реферати XIII Конгресса Савеза фолклориста 1угослави$е у До]- рану 1966. године», стр. 108 и сл.
145 ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII—НАЧАЛА XIII в.
сти, в различные иносказания, может быть, даже не всегда обрядового характера, но и апотропеического. Все зависело от конкретного назначения вещей, в том числе и социального. В зависимости от того и другого, обрядово-бытовой жанр может быть разделен на поджанры 1, но для нашей темы такая детализация не нужна. Обрядово-бытовой жанр XII в. занимает среднее положение между эпическим жанром X в. и символико-героическим XI в. В нем возросло народное начало, но вместе с тем и укрепилась связь с «феодальным эпосом». Не случайно этот жанр будет использован во второй половине XII в. в монументально-декоративной скульптуре и прежде всего там, где идеи противоборства феодальному дроблению Руси сочетаются с подъемом городских ремесленных слоев. Вместе с тем общая народная направленность обрядово-бытового жанра, насыщенность его светскими образами широкого социального диапазона оказывали немалое воздействие на русификацию византийских «переводных» жанров, вносили в них элементы свободы, что предохраняло их от обескровливания под влиянием усилившейся монашеской аскезы.
Многие из тех сдвигов, которые произошли в русском искусстве XII в., связаны с популяризацией и массовым распространением произведений обрядового жанра, чрезвычайно органично соединившего в себе элементы разных форм фольклора и светского быта. Светские черты в обрядовом жанре были столь сильны и ощутимы, что с ними могло соперничать только византийское искусство 1 2.
Обращаясь к живописи XII в., прежде всего замечаем расширение в ней роли персонального жанра. Единоличные изображения стали захватывать все более и более широкие площади стен храмовых интерьеров3, причем очень возрос интерес к воинским образам. В XII в. происходила своеобразная «военизация» и византийского искусства, но дело отнюдь не сводится к влияниям. Выше говорилось, что Русь вступила в полосу феодальных войн. XII в. был веком городских восстаний, ожесточен¬
1 Б. А. Рыбаков, Русалии и бог Симаргл-Переплут, стр. 94.
2 А. Н. Грабар, Светское изобразительное искусство домонгольской Руси. . . —ТОДРЛ, т. XVIII, стр. 234.
3 M. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 104.
10 «Проблема жанров»
146 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
ной борьбы с половцами. Возросло значение военных дружин, военизировался класс служилого дворянства.
В росписи церкви Кирилловского монастыря в Киеве (1140) все нижние ярусы стен и столбов заняты когортой мужественных воинов х. И это не случайно. Кирилловская церковь была храмом князя Всеволода Ольговича, своего рода «идеологическим плацдармом» Всеволода в его притязаниях на великокняжеский киевский стол 1 2. Вероятно, в связи с этим здесь появились изображения князей Бориса и Глеба, культ которых именно в XII в. оказался знаменем борьбы князей за «свои права» 3. Во Владимиро-Суздальской Руси он стал орудием в руках Юрия Долгорукого, при котором на стенах Борисоглебской церкви в Кидекше тоже возникли изображения конных Бориса и Глеба4. Одновременно усилилось внимание к образам святых воинов — патронов русских князей. Среди них видное место заняло изображение Дмитрия Со- лунского — патрона князя Всеволода III, известное по иконе из Дмитрова 5 и по сходной с ней фресковой росписи в Мартирьевской паперти Новгородской Софии 6.
Пристальное внимание к изображениям святых воинов несомненно способствовало эволюции персонального жанра в сторону известной светскости образов. Но в XII в. это носило уже иной характер, нежели в XI в. Замечается как бы раздвоение отмеченного процесса на диалектические противоположности. С одной стороны, выявление героизма требовало известной репрезентативности, что в условиях персонального жанра невольно
1 В. Н. Лазарев, Живопись и скульптура Киевской Руси. — «История русского искусства», т. I, стр. 220.
2 Там же.
3 Н. Н. Воронин, Анонимное сказание о Борисе и Глебе, его время, стиль и автор. — ТОДРЛ, т. XIII, М. — Л., 1957, стр. 44—45.
4 Т. В. Николаева, Произведения мелкой пластики XIII—XVII веков в собрании Загорского музея, Загорск, 1960, стр. 21, прим. 68; см. также: Э. С. Смирнова, В. Н. Лазарев, Фрески Старой Ладоги (рецензия). — «Византийский временник», т. XXIV, М., 1954, стр. 221. Строго говоря, изображение конных Бориса и Глеба должно быть отнесено не к персональному, а к историческому жанру (см. ниже).
5 В. И. Антонова, Историческое значение изображения Дмитрия Солунского XII в. из г. Дмитрова. — КСИИМК, вып. XLI, М., 1951, стр. 85 и сл.
6 В. Г. Брюсова, К истории стенописи Софийского собора Новгорода. — «Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода», М., 1968, стр. 110, 123—124.
147 ГЛАВА !V РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII —НАЧАЛА XIII в.
усиливало абстракцию и даже геральдизм. С другой стороны, тенденция эпохи вела к большей простоте образа, известной демократизации Для первого направления характерна упомянутая икона Дмитрия Солунского из Дмитрова. Для второго — новгородская икона с изображением апостола Петра и Натальи. Эти противоположности при равновесии их не могли не тормозить развития жанра. Но было одно направление, в котором противоположности теряли равновесие, что вело к эволюции жанра. Этим направлением был «портретизм».
Портретные тенденции зародились в персональном жанре в связи с историчностью ряда лиц и большой художественной традицией в их типизации. Но к портрету, как мы видели, невольно подводила и идея патроната, когда небесный патрон мысленно отождествлялся с патронируемым, особенно если это был князь. Недаром в упомянутом Дмитрии Солунском некоторые исследователи допускают своего рода «портрет» владимирского князя Всеволода Большое Гнездо1 2 3. Как бы то ни было, но отсюда был один шаг до собственно портретных изображений, и они действительно появились, причем не только в живописи, но и в скульптуре. Я имею в виду семейный портрет Всеволода Большое Гнездо в фасадной пластике Дмитриевского собора во Владимире
(1194_1197)з.
Изображение жены Юрия Долгорукого в росписи Борисоглебской церкви в Кидекше (1152) нельзя считать портретом, так как здесь представлена сцена в раю4. Зато скорее всего княжеский портрет можно видеть в одном фрагменте росписи Мартирьевской паперти Новгородской Софии5. Все это свидетельствует о развитии интереса к портретному жанру. Можно даже отметить
1 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 105—108.
2 В. И. Антонова, Историческое значение изображения Дмитрия Солунского.—КСИИМК, вып. XU, М., 1951, стр. 96—98.
3 Н. Н. Воронин, Скульптурный портрет Всеволода III. — КСИИМК, вып. XXXIX, М. —Л., 1951, стр. 137—139. рис. 43.
4 Н. П. Сычев, Предполагаемое изображение жены Юрия Долгорукого.— «Сообщения Института истории искусств», вып. I. М. — Л., 1951, стр. 54—59.
5 А. Л. Монгайт, Раскопки в Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде. — КСИИМК, вып. XXIV, М. — Л., 1949, стр. 95, рис. 24; В. Н. Лазарев, О росписи Софии Новгородской. — «Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода», стр. 60—62, рис. на стр. 59.
10*
148 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
и успехи в этой области. Так, портрет неизвестного лица княжеского достоинства в Мартирьевской росписи гораздо более содержателен и формально и психологически, нежели изображение Святослава в «Изборнике» 1073 г. или Ярослава с Изяславом в михайловских рельефах. В портретной скульптуре вообще «элементы реалистичности» развивались медленнее. Облик Всеволодам! в фасадной пластике Дмитриевского собора очень схематичен. Но существенно, что фигура его дана не геральдически, а в трехчетвертном повороте и даже с сыном на коленях. Об изображении Христа нет и помину.
Развитие светских тенденций в русском искусстве XII в. было столь заметным, что мы даже забежали вперед, к портретному жанру, между тем как в том же персональном жанре эволюция вовсе не ограничивалась сказанным.
Интереснейшей особенностью этой эволюции было осложнение лика святого добавочными маленькими фигурками святых, размещаемыми кругом него на полях. Такие фигурки появляются на монументальной иконе «Никола» из Ново-Девичьего монастыря 1.
Это явление очень примечательное. Оно говорит одновременно и о расширении интереса к образу святого, об интересе не только к его лику, но и к тому, что за ним скрывается; и вместе с тем об известной утере антропоморфических ценностей искусства XI в., того античного изокефализма, который не допускал изображать рядом с большой фигурой маленькую. Обе новые тенденции отразились на жанрах искусства XII—XIII вв. Первая привела если не к возникновению, то к более легкому усвоению житийного жанра, вторая — к такому усложнению символики, что в ней стала теряться строгость и легендарно-исторического и символико-догматического жанров. Последнее же открыло в эти жанры более широкий доступ одновременно и фантастики и бытовых реалий. Посмотрим, как это произошло.
1 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 109. В. Н. Лазарев датирует икону XIII в. (В. Н. Лазарев, Живопись и скульптура Новгорода. — «История русского искусства», т. II, стр. 124, рис. на стр. 125). В. И. Антонова считает, что в начале XIII в. были написаны только фигурки святых на полях (В. И. Антонова, Произ- ведения домонгольского периода XI — начала XIII века. — В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, стр. 69—71).
ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII—НАЧАЛА XIII в.
Исследователи всегда отмечают насыщение реалистическими чертами новгородской живописи XII в. В «Крещении» (роспись Спаса Нередицы) изображены люди, бросающиеся в Иордан или снимающие одежды, готовясь окунуться в воду. Обратим внимание на то, как дано соотношение всех фигур в композиции. Христос изображен самым крупным размером. Иоанн Креститель и ангелы— немного поменьше, а простые люди показаны лилипутами. Следовательно, ни о каком реализме не может быть и речи. Речь действительно может идти только об «элементах реалистичности», согласно терминологии В. П. Андриановой-Перетц1. Мышление художника насквозь проникнуто иерархизмом, какого не было в киевском искусстве XI в. Совершенно теми же представлениями пронизана и фреска «Явление Христа двум Мариям» в росписи собора Мирожского монастыря. Фигура стоящего в центре Христа настолько иератична по сравнению с двумя маленькими, припавшими к его ногам Мариями, что Алпатов счел возможным говорить о возрождении языческого представления об идоле1 2.
Иную, но тоже символизирующую тенденцию видим в знаменитом «Устюжском Благовещении». В фигурах и особенно в ликах архангела и Марии чувствуется огромное движение искусства вперед, к психологизации и тончайшей моделировке. Недаром лик Марии из этой иконы сопоставляют с «Богоматерью Владимирской». Предполагается также, что ангел первоначально был изображен без крыльев, добавленных в XVI в.3. Но каким антиреа- листическим сознанием нужно было обладать, чтобы изобразить на груди Марии миниатюрную и довольно натурально выполненную фигурку младенца (как бы просвечивающую сквозь тело и одежду), выражающую догмат о воплощении!
1 Примечательно при этом, что не центральные фигуры, а именно сопровождающие их и были в первую очередь носителями жанровых сдвигов, воспреемниками и передатчиками «элементов реалистичности». И это понятно, так как центральные фигуры являлись носителями не только «исторического» действия, но и догмы, в то время как сопроводительные фигуры к догме имели более чем косвенное отношение.
2 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 105.
3 В И. Антонова, Произведения домонгольского периода XI— начала XIII века. — В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, стр. 55—56.
150 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
В таких условиях, конечно, строгая догматика не могла сохраняться, она невольно стала приобретать самые прихотливые формы. В росписях новгородских храмов, по существу, нет определенной системы, а если и есть, то уловить ее крайне трудно. Создается впечатление, что возрос большой интерес к историческому, нежели к собственно догматическому. Например, в куполах собора Спасо-Мирожского монастыря, церкви Спаса Нередицы и храма св. Георгия в Старой Ладоге вместо догматизирующего Пантократора изображено «Вознесение» в его «исторической» редакции *. Конечно, вся роспись приобрела совсем иной оттенок, менее догматический. Но означает ли это усиление историзма? Вряд ли такой вывод будет правильным. Анализ сцены «Крещение» показывает, что об историзме, об интересе к историзму говорить нельзя. Можно говорить об усилении интереса к наивному натурализму, к бытовизму, но в условиях нового вида символической абстракции и иерархизма, в чем как бы воскресли традиции языческого искусства. Это давало пищу и новым легендам и новым видам догматических образов, в которых вместе с героическими чертами появилась совершенно антирационалистическая фантастика.
Развитие легендарно-исторического жанра в сторону легендарности дало своеобразный жанр чудес. Обычно чудесами наполнены житийные циклы. Появление житийных икон в русском искусстве относят к XII в., может быть, они были уже в XI в.1 2, но об их внешнем виде мы точно ничего не знаем3. Кроме того, такие легенды, как легенда о Егорие Храбром, существовали, по-видимому, и вне житий. Так или иначе, но в XII в. «Чудо св. Георгия о змие» уже появилось в монументальной форме в ста- 22 роладожской росписи.
С текстом того места Жития св. Георгия, в котором говорится о победе Георгия над драконом посредством
1 В. Н. Лазарев, Фрески Старой Ладоги, М., I960, стр. 38—39.
2 Д. В. Айналов, Очерки и заметки по истории древнерусского искусства. IV. Миниатюры «Сказания» о св. Борисе и Глебе Сильве- стровского сборника. — ИОРЯС, т. XV, кн. 3, Спб., 1910, стр. 14—17.
3 Если согласиться с мыслью Д. В. Айналова, что миниатюры «Сказания» о Борисе и Глебе были воспроизведением сцен их житийной иконы, то надо допустить, что последняя состояла из обычного средника и клейм вокруг него.
151 ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII—НАЧАЛА XIII в.
крестного знамения, староладожская фреска «не имеет ничего общего»1. Почти все исследователи отмечают рыцарственный образ Георгия и домашний облик укрощенного чудовища, которое царевна Елизавета ведет за собой на веревочке. Конь Георгия передан столь цельными и плавными линиями, он так одухотворен, что, пользуясь словами В. Г. Белинского, его можно считать «народным апотеозом коня»1 2. Искусство XI в. знало совсем иные, более репрезентативные и геральдические образы конных воинов (см. выше).
Не следует ли допустить, что, раз появившись в монументальной форме, эти легендарные сцены стали потом обрастать житийными «клеймами», подобно тому, как это было и в персональном жанре?
Жанр чудес, конечно, структурно очень родствен легендарно-историческому, поскольку и в последнем немало чудес. Но его следует выделить в особый жанр или поджанр хотя бы потому, что он основывался не на «священной истории», не на догматике, а именно на легендах, в которых было гораздо больше апокрифического и народного. Кроме того, он тесно соприкасается с жанром духовных стихов, а также и с героическим эпосом. Наконец, и предназначался он не для «исторического» образования или знакомства со «священной историей», а для назидательных целей, в лучшем случае для «христианской героизации». Все это не могло не наложить отпечатка на композиции рассматриваемого жанра. В них гораздо больше свободы, нежели в сюжетах легендарноисторического жанра, а вместе с этой свободой в живопись проникали народно-эпические черты, живая образность и свежий, радостный колорит.
Вернемся теперь к судьбам символико-догматического жанра. На первый взгляд кажется, что в XII в. произошло усиление догматизма со всеми вытекающими отсюда опасными для живого творчества последствиями. Но как из предшествующего обзора, так и из того, к чему мы сейчас перейдем, видно, что дело заключается не столько в усилении догматизма, сколько в приобретении им
1 M. В. Алпатов, Образ Георгия-воина в искусстве Византии и древней Руси. — ТОДРЛ, т. XII, стр. 302, прим. 4.
2 В. Белинский, Полное собрание сочинений в 13-ти томах, т. V, стр. 274.
152 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
более умозрительного характера. И в Византии и на Руси стали появляться образы, очень далекие от античного антропоморфизма. Это, правда, не относится к образу Спаса Еммануила, хорошо известному по памятникам VI в., когда античный антропоморфизм был еще очень крепок. Но интересно, что в русском искусстве он появился не в XI в., а именно в XII в. Возможно, что в этом нашли свое отражение оживления эсхатологических настроений.
Ожидания конца света, второго пришествия и Страшного суда в XII в. были очень сильны. Спас Еммануил понимался как символ второго пришествия во славе и обновления земли К
Но в жанровом отношении более интересно изобра- 23 жение Спаса Еммануила в медальоне на груди богоматери Оранты. Этот иконографический извод, как известно, получил название «Великой Панагии», а на Руси — «Богоматери Знамение», точнее — «Богоматери Воплощение»2. Нетрудно видеть, что догматическая идея воплощения Христа выражена здесь гораздо более отвлеченным образом, нежели в лирико-догматическом жанре. Нет никаких признаков семейной сцены, нет взаимодействия фигур. Более того, воздетые руки богоматери как бы отрешают ее от лика Спаса Еммануила. Последний изображался либо благословляющим обеими руками, либо с апокалипсическим свитком в руке, что вносит новое усложнение в художественно-догматическую концепцию, а вместе с этим и в жанр.
Н. П. Кондаков склонен был производить образ Спаса Еммануила в медальоне от обычая изображать в таком виде портреты императоров или от идеи торжества ико- нопочитания3. Возможно, так оно и есть4. Но концепция
1 Е. К. Редин, Мозаики равеннских церквей, Спб., 1896, стр. 11 и сл.
2 Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, т. II, Пг., 1915, стр. 103, 114; В. И. Антонова, Произведения домонгольского периода XI — начала XIII века. — В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, стр. 52.
3 Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, т. II, стр. 108.
4 Существуют и другие, более сложные теории. По мнению одних, круговой щиток символизирует модель вселенной (см.:
W. Felicet-
ti — Liebenfels, Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei, Olten— Lousanne, 1956, S. 92);
по мнению других, это небесные круги (Н. П Лихачев, Историческое значение итало-греческой иконописи, Спб., 1911, стр. 42).
ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII —НАЧАЛА XIII в.
от этого не становится менее символичной. Н. П. Кондаков называл ее даже мистико-догматической что почти совпадает с принятым нами наименованием жанра как символико-догматического.
Я не берусь объяснить, в чем именно Н. П. Кондаков усматривал мистический элемент, символический же состоит в том, что с реальным образом богоматери соединяется нечто далеко не реальное. Как бы ни был образ Еммануила реалистичен по трактовке, но помещенный в загадочном круге и не поддерживаемый руками богоматери, а словно держащийся перед ее грудью сам по себе, невидимой силой, он, конечно, не производит впечатления реального младенца.
Соединение в одно целое разнородных элементов — это структурный признак. Он соответствует природе символизирующих, а не историзирующих жанров. Отсюда фронтальность, симметризм, беспространственность и вневременность изображения, то есть все те признаки, которыми характеризуется символико - догматический жанр. И если все же образ «Богоматери Знамение» в XII в. знал такие прекрасные живописные воплощения, как «Ярославская Оранта» 1 2 или икона из бывш. собрания П. Корина3, то рассматриваемый нами символико-догматический жанр всецело обязан этим персональному жанру.
Почти все сказанное относительно «Богоматери Знамение» может быть отнесено и к такому важному сюжету символико-догматического жанра, как Спас Нерукотворный. Самое раннее его изображение в древнерусском искусстве представляет большая икона XII в. (со сценой Поклонения кресту на обороте) из Успенского собора Кремля 4.
Спас Нерукотворный — это и абстракция и «портрет». Абстракция — поскольку с ним связывалась отвлеченная идея вочеловечения, без которого нет смерти и воскресения Христа, а следовательно, и спасения людей5.
1 Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, т. II, стр. 110.
2 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 84—85.
3 В. И. Антонова, Древнерусское искусство в собрании Павла Корина, стр. 25—26, илл. 1.
4 В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, илл. 26.
5 А. Н. Грабар, Нерукотворный Спас Ланского собора, Прага, 1930, стр. 24.
154 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
«Портрет» — поскольку данный образ понимался как непосредственный отпечаток лика Христа на плате (уб- русе).
Надо сказать, что на иконе Успенского собора это соединение абстракции с конкретностью удерживалось в строгих «исторических» формах. Плат с ликом Христа не имеет складок, он мыслился наложенным на керамическую плиту («Спас на чрепии» или Керамида). Следовательно, художники абстрагировали в рамках «реальности» определяемой известной легендой об Авгаре.
Особенно догматичными считались изображения Спаса Нерукотворного, помещаемые на подкупольных арках, так как это место означало переход церкви Небесной к церкви Земной. Таков Спас в росписи Спаса Нередицы. Но тут же дан и другой Спас, рядом с Иоакимом и Анной. А. Н. Грабар тонко подметил, что изображение Спаса рядом со своими «дедами» подчеркивало его человеческую природу1 2. Для XII в. это надо признать очень характерным.
Хорошо известно, что эдесская легенда придала изображению Спаса Нерукотворного большую общественную, даже общегосударственную (для Византии) значимость. Он чтился как «победительный» образ3, что перешло и на Русь. Особенно развилось это почитание «победительного Спаса» во Владимиро-Суздальской Руси. Подобно византийскому императору Мануилу Комнену, Андрей Боголюбский брал его в воинские походы4 как своего рода княжеский «штандарт». Возможно, что такие функции выполняла и упомянутая икона из Успенского собора5. Лик Спаса хотя и достаточно отвлечен, но все же в нем нельзя не признать «наиболее раннее, из известных нам, воспроизведение русского типа Христа»6.
Итак, можно констатировать, что обращение в XII в. к более сложной, фантастической форме выражения догматики не только привело к новому символизму, но име¬
1 А. Н. Грабар, Нерукотворный Спас Ланского собора, стр. 16.
2 Там же, стр. 26.
3 Там же, стр. 23.
4 В. И. Антонова, Памятники живописи Ростова-Великого. Кандидатская диссертация, 1947, ГБЛ, стр. 65—66.
5 Н. Н. Воронин, О некоторых рельефах Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. — «Советская археология», 1962, № 1, стр. 142.
6 А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, стр. 74.
155 ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII —НАЧАЛА XIII в.
ло и другую сторону — большую общественную активность жанра, выход из помещения алтаря за пределы храма, проникновение даже в воинский обиход и т. д. Конечно, все это способствовало постепенному распаду монументального синтеза, во всяком случае, ослаблению его строгости, результатом чего было более свободное развитие различных конкретизирующих тенденций внутри жанров.
Здесь стоит остановиться на таком интересном явлении, как известное «обрусение» ликов. Оно захватило даже символико-догматический и деисусный жанры. Конечно, художники XII в. не ставили это себе специальной задачей, но явление тем и значительно, что проявлялось спонтанно.
Интересно, например, сопоставить лицо ярославской 27 «Великой Панагии» с византийским типом. Последний, по классической традиции, отличался низким лбом и тя- 26 желым чувственным подбородком. Таков он и у богоматери Владимирской. Даже в Подлинниках XVI в. рекомендовалось делить лицо на три равные части: подбородок, нос и лоб. Между тем в ряде памятников XII в., связанных преимущественно с Северо-Восточной Русью, голова имеет совсем иные пропорции. У «Ярославской богоматери» подбородок очень маленький, благодаря чему лицо выглядит менее энергичным, девичьим. Между прочим так построены лица фасадных «женских масок» церкви Покрова на Нерли. Наконец, сходное лицо и у «Богоматери Боголюбской» К Эта новая особенность достаточно еще не изучена. Во всяком случае, она не южная — не византийская, не классическая. Создается такое впечатление, что, подобно романскому искусству, здесь проявился самобытный вкус.
В связи с эволюцией символико-догматического жанра следует рассматривать и появление такого сложного сюжета, как «Поклонение жертве», впервые зафиксированного в росписи апсиды церкви св. Георгия в Старой Ладоге1 2.
Сюжет «Поклонение жертве» позднее развился в развернутую композицию «Божественная литургия» или «Агнец Божий». Его суть — прославление творцами литургии
1 Доклад автора на конференции по древнерусскому искусству в Гос. Третьяковской галерее в 1968 г.
2 В. Н. Лазарев, Фрески Старой Ладоги, стр. 23.
1* ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
литургической жертвы1, то есть перед нами дополнение, расширение «Евхаристии». Естественно, что композиция «Поклонение жертве» (как и последующие) строилась по всем законам символико-догматического жанра — строго центрично, симметрично, вневременно и внепространственно.
Драматические контрасты XII в., отразившие в себе глубочайшие противоречия русской жизни, нашли свое логическое (не историческое) завершение в двух жанрах, которые тоже имеют тесную связь с символико-догматическим жанром. Я имею в виду эсхатологический жанр (тема Страшного суда) и его антитезу — тему спасения людей богоматерью через жертву божественным сыном. Для последнего жанра мы предложили название лирикодогматический. Именно в XII в. он пережил свой первый подъем.
Остановимся сначала на эсхатологическом жанре. Пелена с изображением «Страшного суда» впервые была привезена на Русь в конце X в. греческим философом с целью склонить князя Владимира в христианство1 2. Изображение, несомненно, выставлялось философом в качестве одного из догматов христианства. И не без основания, так как намек о Страшном суде имеется в Символе веры. Но назначение этой темы было, скорее, дидактическим.
О. И. Подобедова полагает, что на привезенной греческим философом пелене было изображение собственно не Страшного суда, а деисуса3, составлявшего, как известно, центральную часть этой композиции. Но летописец явно говорит об изображении на пелене («запоне») праведников и грешников4, то есть речь идет именно о картине «судилища». Так или иначе, но только с XII в. развернутая композиция «Страшного суда» стала усиленно внедряться в сознание русских людей в целях назидания, почему и жанр этот правильнее назвать назидательно-эсхатологическим. Расположение сцен «Страшного суда» в церковном интерьере тоже не совпадало
1 В. Н. Лазарев, Фрески Старой Ладоги, стр. 24.
2 ПСРЛ, т. I, Л., 1926, стлб. 106.
3 О. И Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, стр. 56.
4 ПСРЛ, т I, стлб. 106
157 ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII—НАЧАЛА XIII в
с основными догматическими сюжетами. «Страшный суд» изображался на западной стене, был не перед глазами, а в памяти людей. Поскольку все же тема Страшного суда в XII в. очень тесно соприкасалась с символикодогматическим жанром, то композиция ее в основном строилась по его законам, то есть симметрично, вплоть до зеркальности, сближаясь с деисусом (в центральной части), с персонально-лицевым жанром (в боковых частях) и с легендарно-историческим жанром (в крайних частях).
За исключением фигур центрального звена — деисуса, а также самых крайних сцен («Шествие в рай» и т. д.), — персонажи «Страшного суда», собственно, не действуют, а поэтому и не связаны событийно, они замкнуты в себе, 25 точно так же, как в грандиозной концепции церкви Земной и Небесной. Они больше подчиняются законам персонального жанра, нежели легендарно-исторического. И это давало возможность переносить в сцену «Страшного суда» все те художественные завоевания, какие имелись в персональном жанре. Дело, конечно, заключается не во фронтальном изображении фигур, эта черта, скорее, была тормозящей; во всяком случае, она мало что давала для прогресса искусства. Но сосредоточение в связи с этим особого внимания на ликах дало много такого, что сделало сцены «Страшного суда» исключительно яркими и выразительными. Достаточно напомнить о ликах апостолов «Страшного суда» в росписи Дмитриевского собора во Владимире, чтобы убедиться в справедливости сказанного. Даже в таких окаменелых фигурах, как апостолы в «Страшном суде» церкви Спаса на Нередице, поражает сила внутреннего горения. Ничего подобного в Киеве не было. Надо сказать, что и картины с грешниками полны поразительной остроты и даже сатирического обличения. Именно здесь, то есть в крайних частях композиции, фигуры вступали во взаимодействие («Шествие в рай» и т. п.). Таким образом, хотя эсхатологические композиции иконографически очень близки деисусным и символико-догматическим, но структурно (жанрово) отличаются от них существенными признаками. Они допускают соединение внутри себя разноаспектных, разнопространственных, разновременных картин и, следовательно, образуют жанровую систему как бы второго порядка, более широкую и емкую.
158 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Интересно сравнить в этом плане трактовку лиц апостолов в среднике и в боковых частях. Возьмем для примера образ апостола Петра в «Страшном суде» Дмитриевского собора во Владимире. Как член «небесного синедриона», он строг и замкнут в себе, ничто не связывает его с окружающим. Более того. Изображенный крайним справа, он дан в полуповороте не к соседней фигуре, а именно к краю композиции, что еще больше изолирует его1. Событийная сторона явно не интересовала художника. Наоборот, в сцене «Шествие праведников в рай» 1 2 Петр весь в движении. «В осанке его, в нахмуренных бровях и даже в беспокойно волнистых прядях волос и усов чувствуется мучительное напряжение» 3. И эта разница в образах тем более интересна, что исполнителем первого был греческий художник, а второго, по- видимому, — русский мастер4. Такова сила жанра.
Как бы ответом на все внутренние противоречия, наполнявшие и жизнь и отражавшие ее жанры искусства, явился лирико-догматический жанр, ставший с XII в. своеобразным этическим стержнем всего древнерусского искусства. Обострение условий жизни было столь велико, что в XII в. ожидали конца света, в связи с чем и стала злободневной в искусстве тема Страшного суда. Естественно, в таких условиях идея спасения, носительницей которой был образ богоматери с младенцем Спасителем, должна была получить широчайшую популярность. Не случайно наряду со строгим изображением богоматери Одигит- рии в это время в русском искусстве распространяется самый лирический извод — богоматерь Елеуса (милующая), — представленный не только знаменитой византийской иконой, но и такими произведениями, как «Богома- 28 терь Белозерская» 5 и «Умиление» из Успенского собора 6.
1 См.: М. К. Каргер, Древнерусская монументальная живопись. XI—XIV вв. М. — Л., 1965, илл. 33.
2 См. «Историю русского искусства», т. I, стр. 464.
3 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 82.
4 В. Н. Лазарев, Живопись Владимиро-Суздальской Руси. — «История русского искусства», т. I, стр. 175.
5 В. Н. Лазарев датирует икону серединой XIII в. (В. Н. Лазарев, Живопись и скульптура Новгорода, стр. 134).
6 О. В. Зонова, «Богоматерь Умиление» XII века из Успенского собора Московского Кремля. — «Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси», стр. 270—282.
159 ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII — НАЧАЛА XIII в.
Жанровая сущность, то есть предмет изображения богоматери с младенцем, состоит не в историчности рождения Христа и не в портретности ликов, а именно в идее материнской жертвы божественным сыном за спасение людейОт легендарно-исторического жанра эта тема отличается внесобытийностью, замкнутостью в себе. Достаточно сравнить ее с сюжетом «Рождества Христова», чтобы понять всю разницу жанров. Но богоматерь с младенцем— это гораздо большее, нежели два лика. Существенной особенностью данного жанра было то, что образы понимались гораздо шире и вместе с тем как бы более концентрированно, чем в собственно персональном жанре. Однако расширение и концентрация содержания образа производились отнюдь не за счет «исто- ризации» (как при изображении евангелистов), или внешней событийности (картинности), или даже психологизации (единоличные изображения могут быть не менее психологичны), а за счет богатейших внутренних символических связей между богоматерью и младенцем. Это— жанр смежный с персональным, он существенно тяготеет к символико-догматическому.
Жанровая особенность и здесь во многом обусловила строй художественного образа. Абстрактным фоном подчеркивалась надисторичность группы, но перед нами далеко не отвлеченный образ. Абстрагированный, он не имел бы успеха. Тесная внутренняя связь фигуры (чаще— полуфигуры) богоматери с фигурой младенца предопределяла изображение их без строгой фронтальности, в поворотах друг к другу. Этим открывалась возможность передавать богатую гамму чувств, в чем древнерусские художники мало чем уступали безымянному гениальному византийцу — автору «Богоматери Владимирской». Таким образом, перед нами не просто группа, но некая «сцена». Но это не историческая сцена, а большое художественно-философское обобщение, образ величайшего догматического содержания, отличающийся от образа «Богоматери Знамение» тем, что в нем на первом месте была идея не воплощения, а будущей спасительной жертвенности и матери и ее сына. 11 Раскрывая содержание иконы «Богоматерь Белозерская», В. И. Антонова говорит о будущей жертве Христа, предвидимой скорбной матерью (В. И. Антонова, Памятники живописи Ростова- Великого. Кандидатская диссертация, 1947, ГБЛ, стр. 41).
160 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Изображаемая внесобытийно или, вернее, в духе отвлеченного, вырванного из исторической среды, особого сакрального «надмирного» события, сцена богоматери с младенцем в силу двоичности изображаемых лиц позволяла сосредотачивать все внимание на внутреннем этическом взаимодействии их. «Сила типичности» (Белинский) здесь состояла в том, что животрепещущей нравственной теме спасения рода человеческого придана возвышенная до общечеловеческого значения форма драматической материнской любви-жертвы. Таким образом, в силу жанровой природы образ богоматери остается концепционно-персональным, но он уже не укладывается в это понятие. Личное, субъективное начало выражено в нем очень сильно, причем выражается оно не во «внешнем» поведении, а в эмоциональном самоуглублении. Ввиду отсутствия подходящего термина для характеристики рассматриваемого типа, мы вынуждены использовать понятие старой классификации психологических типов К. Г. Юнга и назвать его интровертирован- ным-эмоциональным1. Чтобы создавать такие образы, нужно было обладать громадным творческим дарованием в области персонального жанра вообще. Поэтому снова приходится признать его исключительное значение для истории средневекового искусства.
С развитием эсхатологии и темы спасения людей естественно увеличивалось значение деисусного жанра. Можно смело сказать, что именно XII в. был временем его восхождения. При этом речь идет уже не о трех- или пятифигурных деисусах, а о больших «чиновых» композициях, в которые стали вводиться и неканонические персонажи, сначала, по-видимому, Борис и Глеб, а за ними и другие почитаемые святые.
Деисусный жанр пронизывал русское искусство снизу доверху. Деисусы изображались на предметах личного обихода вплоть до воинских шлемов. Отсюда хорошо видно их апотропеическое значение. Недаром на шлеме князя Ярослава Всеволодовича 1 2 вместе с деисусом изо-
1 К. Г. Юнг, Психологические типы, М., ГИЗ, [б. г.], стр. 71. Интро- вертированный — значит субъективный, исходящий в поведении и оценках из субъективных качеств, а не из сложившейся ситуации.
2 По мнению В. Л. Янина, шлем этот перешел к Ярославу Всеволодовичу от князя Мстислава Юрьевича (брата Юрия Долгорукого)
161 ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII—НАЧАЛА XIII в.
бражены и старые дохристианские апотропеи — орлы и грифоны. Для деисусных композиций характерно, что только центральная их часть строилась согласно церковному канону. В боковые же части вводились такие фигуры, какие считал нужным заказчик. Это были патроны заказчика, его отца, а иногда и деда. Это могли быть святые, в честь которых сооружен храм или вышита пелена и т. п. Борис и Глеб занимали здесь среднее положение, отчасти «каноническое», отчасти злободневно-политическое. В XII в. многие князья прибегали к их культу в поисках подтверждения своих феодальных «прав».
К концу XII в. деисусный жанр приобрел настолько привычные формы, что в его духе стали изображаться и другие родственные темы. Интересна апсидная роспись церкви Спаса Нередицы, где к центральной фигуре Оран- ты слева и справа подходят процессии святых жен, возглавляемые Борисом и Глебом. Н. П. Сычев различает 29 среди святых жен св. Анну — патронессу матери Бориса и Глеба1. Следовательно, заключает Н. П. Сычев, в изображениях святых жен в апсиде Нередицы можно видеть отражение киевской традиции, представленной сценой «Семейство Ярослава Мудрого» в росписи Софии.
Но стоит обратить внимание на другое: как дано взаимоотношение фигур. От «равноголовия» XI в. здесь остался слабый след только в боковых крыльях композиции. Оранта хотя и включена в общий ряд, но вырывается из него значительно большим масштабом. Конечно, это можно объяснить необходимостью созерцания Оранты из всех точек храма, но такое нарушение изо- кефалии стало возможным только с усилением символизма, и если мы видели такое явление уже в легендарно-историческом жанре, то в неисторических жанрах оно имело все основания для более свободного развития.
Когда в искусстве происходят такие концепционные смещения, то надо ожидать их отражения на всех жанрах, даже на всей их системе. Так оно и было на самом деле. Недаром мы назвали XII в. «поворотным».
(В. Л. Янин, О первоначальной принадлежности так называемого шлема Ярослава Всеволодовича. — «Советская археология», 1958, N2 3, стр. 60, рис. между стр. 54 и 55).
11
'Проблема жанров)
1 N. P. Sycev, Sur l’histoire de l’église du Sauveur a Neredicy près Novgorod. — „L’art byzantin chez les slaves'4, Prémier partie, Paris, 1932, pp. 82—83.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
В жанрах искусства XII в. замечается гораздо большее взаимопроникновение, осложнение черт одного жанра за счет других. Главным стимулом этого процесса было стремление «теоретического» и художественного мышления как можно полнее охватить все запросы духовной, идеологической и практической жизни не только вглубь, но на этот раз и вширь. При этом значение светских тенденций все более и более увеличивалось. Особенно это заметно в скульптуре, гораздо менее связанной иконографическими предписаниями и жанровыми рамками, поскольку последние для скульптуры находились только в стадии сложения.
И действительно, скульпторы XII в. оказались в весьма двойственном положении. Византийская система над ними не довлела. Романская инонография могла дать только отдельные мотивы, но не сюжеты, так как последние определялись конкретностью заказа. Мастера, конечно, были знакомы с тем, что в XI в. выработала киевская скульптура, но и киевский опыт мало годился, поскольку в Киеве скульптура, видимо, не пошла дальше оформления хоров.
В Чернигове дело ограничилось перенесением зооморфных мотивов эпического жанра малых форм в декоративно-монументальную скульптуру. Иное дело во Владимире.
Строительство Андреем Боголюбским церкви Покрова на Нерли (1165), сочинение специальных Слова и Службы на Покров требовали, чтобы и задуманная фасадная скульптура здания жанрово соответствовала замыслу. Для этого не годились ни эпический жанр, ни легендарноисторический, ни тем более символико-догматический. Но в каждом из них содержалось что-то такое, что подходило к идее Покрова если не прямо, то косвенно. Образ певца-гусляра был хорошо знаком по обрядовому «изобразительному фольклору», знавшему и образы львов, птиц и т. п. Исторически он конкретизировался через образ Давида в Книгах царств. Много мотивов «крова крылу» было в Псалтыри. Они получили разработку в Слове и Службе Покрову1. Сам автор псалмов— Давид понимался как пророк богоматери. И вот
1 Е. С. Медведева, Древнерусская иконография Покрова, ч. 2. Архив ИА, разряд 2, № 728.
163 ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII —НАЧАЛА XIII в.
была создана скульптура нового жанра, который, относясь, по классификации Н. П. Кондакова, к разделу ли- 30 рико-поучительному, может быть назван (по предмету изображения) и более конкретно, как символико-похвальный жанр, родственный жанру Похвальных слов Через образ псалмопевца Давида и сопровождающие его символические образы грифонов, львов, женских ликов воздается похвала богоматери — покровительнице Владимиро-Суздальской Руси и, одновременно, князю Андрею Боголюбскому, поскольку царь Давид «прообразовывал», видимо, и его1 2. В похвальном жанре отразилась структура литературных Слов с их зачином, самим Словом и исходом3. Отразилась также фольклорная образность с использованием старого эпического жанра, несколько измененного. Более свободное, чем в чисто церковных жанрах, творчество позволило сообщить похвальному жанру широкую поэтическую метафоричность, благодаря чему скульптура Покрова на Нерли до сих пор кажется художественно-неисчерпаемой.
Любопытно, что символико-похвальный жанр как целиком «творческий», то есть не излагающий уже известные легендарно-исторические сцены, использует условные композиционные формы символико-догматического жанра и вместе с ними восходит к обрядовому жанру «изобразительного фольклора». Так, соединение фигуры Да- вида-псалмопевца с птицами и зверями, находящимися по бокам его трона, целиком воспроизводит древние обрядовые композиционные схемы. Мы снова узнаем здесь тот прием «воплощения идеи торжества», о котором применительно к живописи XV в. говорил Н. М. Щекотов. Отразилась, вероятно, здесь и идея гармонии мира, то есть идея порядка.
Новый путь жанрообразования оказался очень плодотворным, так как позволял адаптировать все новые и новые жанровые циклы, в результате чего в скульптуре образовалась сложная система первичных жанров, объединенных вторичным жанром. Такую систему представ¬
1 См. подробно: Г. К. Вагнер, Скульптура Древней Руси. Владимир, Боголюбово (XII в.), M., 1969, стр. 199 и сл.
2 Г. К. Вагнер и Е. Ф. Желоховцева, Скульптура храма Покрова на Нерли. — «Искусство», 1965, № 10, стр. 62.
3 Г. К Вагнер, Скульптура Древней Руси. Владимир. Боголюбово (XII в.), стр. 201—202.
11*
164 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
ляет скульптура Дмитриевского собора во Владимире (1194—1197).
Ее ключевой фигурой тоже является пророк-музыкант, 31 на этот раз не Давид, а Соломон 1. Но сонм развертывающихся рядом с ним и под ним зооморфных, антропоморфных и полиморфных образов столь обилен, что жанр скульптуры далеко перерос жанр Похвальных слов, его даже трудно определить, точно так же как трудно определить жанр «Слова о полку Игореве». Исходным и здесь должно быть назначение художественного произведения.
Дмитриевский собор — придворный храм Всеволода III, который немало пекся о том, чтобы распространить свой авторитет чуть ли не на всю Русь, подчинить своей власти чуть ли не все ее земли. Отражением этого в скульптуре дворцового храма и была идея мудрого царя, устроителя вселенной — Соломона. Она предопределила соединение в одну космогоническую картину мира святых — носителей идей христианства (скульптура аркатурного фриза) — и мира природы с ее флорой и фауной, понимаемых символически, олицетворявших идеи добра и зла. Таким образом, в скульптуре использованы жанры: персональный, легендарно-исторический, символико-героический, эпический и некоторые их «поджанры».
Заметную роль в скульптурных жанрах сыграла литература (сказания и апокрифы). Объединяющий жанр скульптуры можно назвать торжественным, похвальнокосмогоническим. Идея упорядоченной (поэтому и восхваляемой) вселенной в нем заметно конкретизировалась пространственно. Еще в скульптуре церкви Покрова пространство имело «центр» (фигуру Давида), здесь же помимо общего «центра» (фигура Соломона) появились и вспомогательные «центры», как бы центры второго порядка — фигуры Александра Македонского, Всеволода III и др. Они придают идее пространства иерархический характер, что говорит о большей системности всей пространственной концепции, остающейся, впрочем, двухмерной. Последнее свойство является определяю¬
1 И. Толстой и Н. Кондаков, Русские древности в памятниках искусства, вып. VI, Спб., 1899, стр. 31. Мнение это оспаривается, но безосновательно. См подробно: Г. К. Вагнер, Скульптура Древней Руси. Владимир. Боголюбово (XII в.), стр. 250 и сл.
165 ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII—НАЧАЛА XIII в.
щим жанровым признаком. Поэтому когда без учета этого признака говорят о плоскостности скульптуры Дмитриевского собора, то не раскрывают существа стиля. Таким образом, и тут на подступах к пониманию стиля лежит жанр.
В похвально-космогоническом жанре скульптуры Дмитриевского собора гораздо сложнее выражено и время. Сопоставление фигур Соломона с Александром Македонским и с Всеволодом III явно «историзирует» всю картину, поэтому похвально-космогонический жанр сделал возможным включение в скульптуру цикла скачущих святых воинов. Разновременное сливается с одновременным, в чем, с одной стороны, можно видеть возрождение мифологизирующего мышления1, а с другой — приближение к принципам легендарно-исторического жанра. Не случайно жанр скульптуры Дмитриевского собора близок к жанру духовных стихов1 2, но сохраняет связь и с былинами и с «феодальным эпосом». С былинами его роднит «зооморфный фон», мотивы богатырского единоборства с чудовищами. С «феодальным эпосом» он смыкается своей «геральдической» стороной, эмблематичностью зооморфных образов, а также и «христианизацией» последних.
По мере истечения первой трети XIII в. обнаруживалось, какие плодотворные результаты дало искусство XII в. Без достижений XII в. дальнейшее развитие не могло бы пойти так быстро, как это оказалось на самом деле. Как будто русские люди знали, что после 1238 г. наступит иноземное иго и «свободе» их творчества будет положен конец. За тридцать восемь лет XIII в. в искусстве ими были созданы такие ценности, которые позволяют ставить вопрос о начале «русского дученто». Богословская отвлеченность все более ослаблялась, приближалось время страстных споров о рае. Повествовательное начало в искусстве становилось особенно привлекательным, поскольку через него можно было нагляднее выразить волнующую тему человека. Все это стимулировало расширение жанровых рамок.
1 Ср.: К. Леви-Стросс, Структура мифов. — «Вопросы философии», 1970, № 7, стр. 153.
2 Г. К. Вагнер, Скульптура Древней Руси Владимир. Боголюбово (XII в.), стр. 388 и сл.
166 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Особенно заметно эволюционировали скульптурные жанры. В богатейшей пластике Георгиевского собора Юрьева-Польского (1230—1234) самым поразительным образом соединились два объединяющих (!) жанра — похвально-космогонический (жанр скульптуры Дмитриев-
32 ского собора) и «христианско-топографический» (жанр «христианской топографии» Козьмы Индикоплова). Каждый из этих жанров включал первичные жанры. В похвально-космогонический входили рельефы зооморфнополиморфного жанра; в «христианско-топографический»— резьба растительно-орнаментального («вегетативного») жанра, рельефы символико-атрибутивного, персонального, легендарно-исторического, деисусного и символико-догматического жанров.
Жанр всей скульптуры Георгиевского собора определить еще труднее, чем жанр скульптуры Дмитриевского собора. Поскольку он охватывал и языческую космогонию и «христианскую топографию», давая тому и другому цельное монистическое истолкование, его можно назвать символико-философским К Надо полагать, что при таком подходе к выбору сюжетов последние тоже должны были получить соответствующую интерпретацию.
Для легендарно-исторического жанра скульптуры Георгиевского собора характерна архаизация иконографии, явное предпочтение не византийских, а восточнохристианских (и вообще раннехристианских) изводов. «Благовещение» дано с ангелом справа, в «Вознесении» изображена стоящая фигура Христа, «Семь спящих отроков эфесских» расположены в виде венка, «Три отрока в пещи огненной» стоят во весь рост и т. д. Это вносило большую свободу в общую художественную трактовку. Однако «философский» характер всего жанра скульптуры удерживал все свободные художественные проявления в рамках известной абстракции, подчинял композицию определенным жанровым «нормам» — центрич- ности, симметрии и т. п. Деисусный жанр в XII—начале XIII в. нигде не был так развит, как именно в скульптуре Георгиевского собора. Деисус достиг здесь шестидесяти фигур, включив в себя много изображений святых вои-
33 нов. Впервые в деисусе изображен апостол Андрей. 11 Г. К. Вагнер, Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Юрьев- Польской, М., 1964, стр. 158.
167 ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII —НАЧАЛА XIII в.
Именно на материале деисусного чина Георгиевского собора хорошо видна церемониально-молебная природа этого жанра. В «деисусном» характере выражены и многие другие композиции, например «Оранта с предстоящими святыми воинами», причем и здесь Оранта масштабно превышает фигуры предстоящих.
В символико-атрибутивном жанре чрезвычайно акцентирована тема небесных сил — херувимов и серафимов. Наряду с образами птиц это создает впечатление особой «крылатости» скульптуры, наполняет ее древней поэтической метафоричностью. Совершенно исключительная роль отведена мастерами «вегетативному» (орнаментально-растительному) жанру. Он слил воедино все части резьбы, составив вместе с тем ее основу в качестве картины цветущей Земли. Тем самым идея пространства из сугубо архаической (подземный мир — земной мир — небесный мир) при сохранении прежней трехчленности (мир земли — мир людей — мир богов) была переведена в менее эсхатологический план.
На материале скульптуры Георгиевского собора хорошо видно, как расширение жанровых рамок облегчает чисто художественное творчество, ведет к обогащению образности. Догматическую по своей сути идею воскресения— второго пришествия Христа во славе1 — оказалось возможным преподнести в чрезвычайно поэтическом виде. Картины земли, мира людей и даже мира божества приобрели более эстетическое содержание. Усилилась формальная разработка орнамента1 2, пластики человеческих фигур и даже их «психологии», в которой земное начало преобладает над спиритуалистическим. Поэтому глубоко ошибаются те, кто видит в скульптуре Георгиевского собора только усиление церковности.
Многожанровость скульптуры Георгиевского собора можно сравнить с многожанровостью Библии. Как и в
1 См. подробнее: Г. К. Вагнер, Древние черты во владимиросуздальской скульптуре XIII века как элементы нового стиля.— «Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси», М., 1972, стр. 162—197.
2 Развертывание на нижней части стен Георгиевского собора коврового растительного орнамента предвосхищает принцип декора интерьеров итальянских палаццо XIV в. (см.: И. Е. Данилова, Итальянская монументальная живопись, стр. 57) и восходит к росписям византийских дворцов XII в. (см.: А. Н. Грабар, Светское изобразительное искусство домонгольской Руси. . . — ТОДРЛ, т. XVIII стр. 240).
168 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
библии, религиозные образы перемежаются в ней со светскими. С другой стороны, это можно сравнить с «Молением Даниила Заточника». Кстати сказать, в скульптуре Георгиевского собора портретный жанр освободился от черт иных жанров и стал именно портретным, то есть все внимание мастера сосредотачивалось на лице человека. Я имею в виду портрет князя Святослава Всеволодовича.
34 Мастер высек в камне только голову, наделив лицо чертами аристократизма и даже щеголеватости.
Поскольку в начале XIII в. на первый план все более выходило повествовательное начало, то, естественно, это особенно должно было отразиться на собственно историческом жанре, развивавшемся в хрониках и летописях.
В 1212 г. во Владимире был создан иллюстрированный летописный свод, миниатюры которого составляли собственно исторический жанр. Правда, мы судим об этих миниатюрах по повторению их в Радзивиловской летописи XV в. \ но для характеристики именно жанра это не имеет значения.
Для искусства миниатюр характерно усложнение повествовательного начала. Если в Хронике Георгия Амар- тола иллюстрации занимали по ширине площадь того из двух столбцов, текст которого они иллюстрировали, то в своде 1212 г. они размещались в двух столбиах рядом, то есть в ширину всей страницы1 2, подготавливая тем самым фризовую композицию миниатюр в Радзивиловской летописи. Естественно, это должно было способствовать развитию действия по горизонтали, а также различного «антуража». И хотя в миниатюрах по-прежнему целое воспроизводится по части (башня — город, дерево— лес и т. п.), а действие развивается в пределах одного, редко — двух планов, но они чрезвычайно насыщены событийным содержанием. Если учесть, что в своде 1212 г. (как и в воспроизводящем его Радзивиловском списке) было более шестисот миниатюр, что подавляющее большинство их охватывало именно русскую исто¬
1 См.: А. В. Арциховский, Древнерусские миниатюры как исторический источник, М., 1944, стр. 4—40; О. И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, стр. 49—101.
2 О. И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, стр. 54—55
169 ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII —НАЧАЛА XIII в.
рию, то огромное значение исторического жанра станет само собой ясным.
В жанровом отношении особенно интересны две группы миниатюр — сцены убийства Андрея Боголюбского и картины похода новгород-северского князя Игоря Святославовича на половцев. Первая группа миниатюр обнаруживает доскональное знание подробностей заговора против владимирского князя, участие в нем его жены- болгарыни, отсечение у Андрея левой руки и т. п. К Вторая группа свидетельствует о знании «Слова о полку Игореве», так как в миниатюрах, иллюстрирующих битву русичей со степняками, есть такие подробности, каких нет в соответствующем тексте Ипатьевской летописи1 2.
Помимо лицевого свода 1212 г. в Северо-Восточной Руси существовали и другие исторические лицевые рукописи, следовательно, исторический жанр имел гораздо большее распространение, нежели это представляется на первый взгляд.
Наряду со старыми жанрами искусства первая треть XIII в. положила начало новому — тератологии.
Тератологический жанр — очень сложное явление, до сих пор еще мало объясненное. В XIV в. он захватит всю книжную орнаментику, в чудовищных образах которой, кажется, потонул весь реальный мир. Но как раз именно начальная фаза этого жанра, падающая на первую треть XIII в. и уходящая корнями даже в XII в., может многое дать в понимании его природы.
Что тератологию следует отличать от зооморфного жанра — это хорошо известно. Но так как понятие «тератологический» нередко применяется к зооморфной сю- жетике, то на этом надо остановиться.
Дело в том, что уже с X в. некоторые зооморфные сюжеты в русском искусстве даются не в натуральном, а в стилизованном виде. Вспомним переплетшихся чудищ на турьем роге Чернигова. В XII в. на предметах «серебряного фольклора» встречается немало различных зооморфных существ, хвосты которых переходят в ленту,
1 О. И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, стр. 82.
2 Б. А. Рыбаков, Просвещение. — «Очерки русской культуры XIII—XV веков», ч. 2, M., 1970, стр. 174; его же, «Слово о полку Игореве» и его современники, M., 1971, стр. 11—23.
170 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
заплетающуюся самым прихотливым образом !. Возможно, что этим явлением русское искусство обязано болгарской тератологии1 2.
Но если взять, например, аналогичное явление в скульптуре (черниговские рельефы XII в.), то им не находится аналогий в болгарской пластике, пути ведут, скорее, в романский мир Западной Европы. Следовательно, явление это действительно сложное.
Владимирская скульптура XII в. почти не знает зооморфных образов, которые переходили бы в ленточное плетение. В ней есть очень фантастические существа, и только в этом отношении можно говорить об элементах «тератологии».
Но в золотой росписи врат суздальского собора (1222— 1225) снова встречаются изображения зверей и чудищ, переходящих в ленточное или в растительное плетение3.
Таким образом, тератология слагалась в процессе слияния зооморфных (эпических) образов с ленточным плетением. Тератология победила, когда эпический звериный образ растворился в этом плетении, в результате чего образовался художественный конгломерат, трудно даже расчленимый («клубок змей»!).
В начале XIII в. сложились предпосылки и основы этого жанра. Но в XIII в., видимо, еще слишком велико было обаяние как собственно эпико-зооморфной, так и растительно-ленточной жанровой стихии. Они соприкасались, но не сливались. Тератологический жанр, таким образом, двуедин по своей жанровой природе. Он исчезает, как только один из его элементов вытесняет другой.
Оба эти элемента, в сущности, были одинаково свойственны народному искусству, хотя, несомненно, выступали уже в качестве «большого искусства».
Но тератология как таковая не имеет глубоких корней в народном искусстве, хотя исследователи различают «народную» и «ученую» (техническую) тератологию. «На¬
1 Б. А. Рыбаков, Прикладное искусство Киевской Руси. . . , стр. 283—284, рис. на стр. 273.
2 Г. К. Вагнер, Скульптура Древней Руси. Владимир, Боголюбово (XII в.), стр. 392—396. Вопрос этот нуждается в специальном исследовании.
3 Этому вопросу мною посвящается особая работа, находящаяся в издательстве.
171 ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII —НАЧАЛА XIII в.
родная» тератология весьма условна1. Русское искусство XII в. было больше пропитано народным началом, нежели книжная орнаментика XIV в., и вместе с тем оно не знало собственно тератологии.
Чем же объясняется зарождение тератологического жанра в начале XIII в.? Я думаю, что в связи с развитием христианской образности часть старого полуязыческого (а иногда и совсем языческого) «изобразительного фольклора» стала переходить в область демонологии, в соответствии с чем эта сюжетика и стала соответственным образом усложняться, «шифроваться» и наполняться «книжной ученостью». И эту книжную ученость мы не должны воспринимать как нечто идущее вразрез с народными началами искусства. В жанрах скульптуры Дмитриевского собора она прекрасно сочеталась с фольклорной стихией. Более того, никакая фольклорная стихия не могла бы подняться до такой степени космогонического обобщения, если бы впереди ее не шла книжная премудрость— синоним премудрости Соломона. Книжная ученость отражала рост светской культуры, и какую бы сложную символику книжники ни вкладывали в тератологический жанр, — он тоже знаменовал развитие городской культуры. А начало XIII в. и характеризуется подъемом городских общественных слоев, что нашло яркое отражение в «Молении Даниила Заточника» и в скульптуре Георгиевского собора.
Если охватить общим взглядом всю картину жанрового творчества XII—начала XIII в., то можно поразиться, как далеко оно ушло от «жанрового кодекса» XI в. Не развивалась только одна область — придворно-увеселительный жанр. Светские тенденции искусства XII—начала XIII в. развивались почти вне византийского влияния, так как после разгрома Константинополя крестоносцами (1204) связи Руси с Византией свелись почти на нет. Древняя Русь интенсивно жила своей исторической и художественной жизнью. Поэтому не были нужны ни сцены ристалищ на ипподромах, ни акробатические номера, ни игры гладиаторов и т. п. Русская жизнь выдвинула на
1 Для «народной» тератологии характерны простые жгуты с змеиным окончанием (О. С. Попова, Новгородская рукопись 1270 г.— «Записки отдела рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, вып. 25, M., 1962, стр. 205).
172 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
первый план массу злободневных проблем, для решения которых были привлечены совершенно новые жанры искусства.
В связи с изменениями в общественной жизни произошли изменения и во взаимоотношении жанров.
Функции символико-догматического и деисусного жанров стали сливаться с общественной жизнью. Местом их применения была не только церковь, но и внецерковный быт, даже воинские походы. Поэтому появились более подвижные формы этого жанра. Легендарно-исторический жанр все более наполнялся легендарными и бытовыми элементами. Развился собственно исторический жанр, а также похвальный, похвально-космогонический и «символико-философский» жанры. В условиях такого подъема нецерковных жанров началось расшатывание традиционной византийской иконографии и стиля. На первых порах это вызвало обращение к раннехристианской и восточнохристианской традиции, чем объясняются элементы архаизма в искусстве XII — начала XIII в., но этот архаизм вел не назад, а вперед, к самостоятельности творчества!. Такие жанры, как похвально-космогонический или «символико-философский», пожалуй, не имеют прецедента в европейском искусстве.
Особо следует задуматься над отмеченными явлениями иерархизма (нарушения изокефалии) в искусстве XII — начала XIII в. Было ли это художественным движением вспять? Так можно было бы считать, если подходить к произведениям искусства (и даже к жанрам) изолированно. Но стоит только принять во внимание, какие творческие последствия сулил этот прием, как положение меняется. Свободное обращение с масштабом, разрушающее строгий историзм и усиливающее символизм, в сущности, было плодом развивающегося стремления к наиболее многостороннему выражению мысли. В XIII— XIV вв. это приведет к особому символическому жанру в больших формах искусства, в котором творческой мысли предоставится широчайшее поле деятельности.
Русское искусство XII—начала XIII в. нельзя определять ни византийским, ни романским стилем, хотя элементы 11 См. подробно: Г. К. Вагнер, Древние черты во владимиросуздальской скульптуре XIII века как элементы нового стиля, стр. 162—197. Аналогичное явление было в романской, грузинской скульптуре и др.
173 ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ XII—НАЧАЛА XIII в.
того и другого были достаточно сильны и плодотворны. Заметно вперед «вырвались» жанры скульптуры, в которых религиозная сторона получила очень оригинальное полуфольклорное-полукнижное «народно-философское» поэтическое оформление.
Здесь следовало бы добавить, что и в области музыки произошло своеобразное «обрусение»: «Только с XII века наступает пора становления русского певческого искусства, вырабатывающего свои особые самостоятельные черты на основе тесных связей с народным творчеством» *.
Если снова вернуться к образным сравнениям, то все здание жанров XII—начала XIII в. будет похоже, скорее, на живописные хоромы или палаты с множеством ходов и переходов, с еще импозантным фасадом, но довольно иррациональным внутренним устройством. Жанровый синтез еще сохранялся, но в нем наметились «сепаратистские» тенденции. Живописные жанры, например, стали вести себя более независимо от архитектуры. Да и между собой они стали переплетаться подчас весьма произвольно. Усилилась роль исполнителя. Общий «дух жанровой системы» искусства XII—начала XIII в. можно было бы охарактеризовать как первый протест против визан- тизирующего «догматического историзма», сопровождающийся усилением земного, мирского начала в жанрах. Казалось бы, это должно было привести к существенным изменениям в типаже лиц во всех жанрах, но ожидание такого сдвига неправомерно. Во-первых, новые жанры (символико-похвальный, похвально-космогонический, символико-философский) пользовались в основном материалом старых жанров — символико-догматического, деисусного, ктиторского, даже обрядово-космогонического жанра «изобразительного фольклора». Для всех этих жанров характерен концептуально-персо- нологизирующий тип с некоторым уклоном в ситуатив- ность. Во-вторых, эволюцию искусства не следует видеть в обязательной смене типов лиц, их ведь не так уж много. Эволюция состояла в расширении образного содержания старых типов, что мы и отметили для лирико-догматического жанра. Персональный тип приобрел здесь эмоциональную природу. 11 Н. Успенский, Древнерусское певческое искусство, стр. 53.
174 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Естественно, новая жанровая ситуация не могла обеспечить того синтетического монументализма, который столь характерен для искусства XI в. Искусство XII—начала XIII в. более конкретно, многоэлементно, внутренне противоречиво и вместе с тем потенциально. Оно характеризуется сложением «национальных основ» стиля, как бы мы его номенклатурно ни определяли. Все это подводило русское искусство к порогу своеобразного «дучен- то». Но полнокровный творческий процесс был в 1238 г. резко оборван.
ГЛАВА У СТАРЫЕ
И НОВЫЕ ЖАНРЫ ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ XIII—XIV вв.
Ничто не может так ярко свидетельствовать о силе и глубине древнерусского искусства, как тот факт, что оно вышло неистребимым из страшной полосы татаро- монгольского ига, которое «иссушало душу народа» (К. Маркс) на протяжении более двух столетий. Обычно при исследовании того или иного исторического процесса, отделяя новое от старого, невольно как-то умаляя это старое, мы не замечаем его конструктивного значения. И лишь позже осознаем, что без этого старого история не имела бы стержня и была бы похожа на рассыпавшиеся звенья цепи.
Обращаясь к русскому искусству XIII в. (после 1238 г.), мы убеждаемся в том, что никакие новшества не спасли бы его от вырождения, не будь сами они пронизаны двухвековой художественной традицией. Между прочим, это не всегда учитывается и сторонниками «византийской природы» древнерусского искусства. Как бы ни был могуч византизм, он не спас бы искусство страны огромной территории и миллионного населения. Тем более что XIII в. был веком заметного ослабления самой Византии.
Русское искусство XIII в. пережило «татарское лихолетье» благодаря тому, что в свое время вошло в плоть и кровь народа и им же было возвращено русской истории.
В XIII в., в период упадка монументального строительства и почти полного захирения скульптуры, живопись несла трудную миссию сохранения национальной художественной культуры. И не только сохранила ее, но продвинула вперед.
Поскольку для этого периода особенно важно было не утерять традицию, то естественно, старые жанры пользовались большим вниманием. Без них и в более добрые времена никак нельзя было обойтись в силу обязательности раз принятой системы «священных изображений».
176 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Правда, в связи с резким сокращением монументального строительства и, следовательно, площадей для фресок, легендарно-исторический жанр не мог развиваться так свободно, как раньше. Деревянные церкви вряд ли содержали развернутые исторические циклы, тем более что праздничные ярусы иконостасов еще не сложились, как не сложились и сами иконостасы. Развитию персонального жанра отмеченное обстоятельство, конечно, не мешало. Но к XIV в. монументальное строительство наладилось. Этот век дал блестящие легендарно-исторические фресковые циклы, а также иконы, в жанровой природе которых появилось много нового.
Прежде всего продолжалось ослабление строгого «историзма» византийского догматизма.
В иконе «Рождество богородицы» (XIII в.) между большой фигурой Анны и окружающими ее фигурками видим такое же масштабное несоответствие, как и в нере- дицком «Крещении». Черта эта отнюдь не избранная, ею отмечен ряд композиций вплоть до «Ветхозаветной Троицы» Феофана Грека (в росписи Спаса Преображения в Новгороде) и знаменитого «Успения богоматери» (на обороте иконы «Донская богоматерь»), приписывавшегося кисти того же Феофана1. Жанровые «вольности» стали появляться и в сюжетных ситуациях. Особенно интересна икона «Введение во храм богородицы» (XIV в.) из села Кривого. Действие, вместо того чтобы развиваться на фоне иерусалимской архитектуры, происходит перед русским деревянным многошатровым храмом (!), причем в сцену введена фигура Иосифа.
Подобные вольности, расшатывая строгий византийский историзм, открывали доступ в легендарно-исторический жанр и простым человеческим чувствам, «бытей- ному» письму и различным символическим усложнениям, а подчас и просто фантастике1 2. Теперь можно встретить
1 Игорь Грабарь, О древнерусском искусстве, М., 1966, стр. 95, 101.
2 Очень показательна в этом отношении иконка XIII в. «Жены Мироносицы у Гроба Господня», изданная О. И. Подобедовой (О. И. Подобедова, К вопросу о поэтике древнерусского изобразительного искусства. — «Старинар», Нова cepnjfl, Книга XX, Београд, 1969, стр. 311). Сцена воскресения соединена в ней с рождением Христа, поклонением волхвов и славословием ангелов, причем все это дано в слабом пространственно-временном расчленении. Иконка уже на грани нового символико-похвального жанра (см. ниже).
177 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв
евангелистов, сидящих за своими книгами вдвоем, напротив друг друга, но вовсе не в геральдической композиции, а в свободной, в разный планах, позах и поворотах, что создает настроение интимности, пространственной камерности.
Болотовские фрески пронизаны невиданным ранее динамизмом. «В передаче этого действия художник, видимо, находил особенное удовлетворение» 1. Движение пронизывает даже архитектуру и скалистые горки. «Оно дает о себе знать и в порывах ветра. Интерес к движению порождает в волотовских фресках новое понимание пространства: на наших глазах раздвигаются рамки
площадки, на которой происходит действие, одни предметы отступают на второй план, другие выступают вперед. . .»2. Замечательно, что в сцене «Иосиф и пастух» молодой пастух обращен спиной к зрителю. Он смотрит на пасущихся на заднем плане овец, давая тем самым ощутить всю глубину пространства. Случай в древнерусской живописи небывалый!3 Это было не чем иным, как выходом из довольно-таки условного пространственного мира легендарно-исторического жанра и предвосхищением будущей картины, в какой бы форме мы ее ни понимали.
Между тем считается, что новгородские фрески второй половины XIV в. отражают мистические искания эпохи, для мистических же умонастроений характерно равнодушие к пространству. Как объяснить эту явную аберрацию? Может быть, приведенные примеры случайны? Нет, это далеко не так. Ведь ни в каком ином из знакомых нам жанров, за исключением собственно исторического, подобные явления невозможны. Они были возможны именно в историко-событийных концепциях. Отсюда не следует, что все темы и сюжеты легендарноисторического жанра должны были отличаться теми же чертами. Такого единства, вернее, однообразия в процессе становления жанра быть не может. Вспомним, что даже в историческом и бытовом жанрах искусства XIX в. такого единообразия не было. Важно, что отмеченные нами кинетические и пространственные явления возникли
1 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 156.
2 Там же, стр. 156—157.
3 Единственный предшественник этому явлению — рисунок женской фигуры на турьем роге из Чернигова (см. главу II).
12
[Проблема жанров»
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
именно в легендарно-историческом жанре 1. Недаром патриарх Никифор еще в VIII в. называл произведения этого жанра «картинами» (см. выше).
Стремление к повышенной выразительности проявлялось не только внешне, но также и внутренне, эмоционально.
Сцены легендарно-исторического жанра XIV в. предельно насыщены внутренним волнением, достигающим иной раз большого драматизма, причем это внутреннее волнение стремится во что бы то ни стало вырваться наружу 2. Событийность типажа становится излюбленной. Она приобретает формы экспрессии, то есть сугубо внешнего, обращенного вовне проявления реакций, что усиливает общее состояние взволнованности. Например, картина преображения Христа становится похожей на какую-то катастрофу. Апостолы, ослепленные Фаворским светом, падают на спину, закрывают глаза руками. Фигура Христа вырисовывается на фоне символических зигзагообразных «молний»3. Трагизмом овеяна также сцена успения богоматери и др. Подчас бывает трудно отдать себе отчет, имеем ли мы дело с религиозной живописью или это некий мировой драматический жанр, живописующий трагические судьбы человечества. Во всяком случае, новое жанровое понимание легендарно-исторических сюжетов способствовало накоплению иллюзионистических приемов живописи, помогло ей освободиться из плена линейного начала.
И в области трактовки лиц легендарно-исторический жанр XIV в. сделал существенный вклад в древнерусское искусство. Пожалуй, впервые лица современников (например, новгородских епископов), еще не причисленных к лику святых, даны столь живо и портретно, а главное, не в фас, а в три четверти. Правда, в них нет особого психологизма, но нет замкнутости и отрешенности от всего окружающего. Они естественны. Для характеристики не библейских, не евангельских лиц это было уже
1 Строго говоря, особенности эти возникли в эпическом жанре славянского искусства (см. главу II).
2 Ср.: Л. И. Лифшиц, Икона «Донской богоматери». — «Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV—XVI вв.», стр. 101.
3 И. Чемеги, Социально-исторический фон переславль-залесской иконы «Преображение». —
Budapest, 1968.
„Acta históriáé artium“, t. XIV, fasc. 1—2,
179 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
большим шагом вперед. Что же касается лиц «священной истории», то отмеченная выше событийность типажа проявилась в легендарно-историческом жанре главным образом в большей обобщенности, в придании образам неких «типических» психологических состояний (страдальчески сдвинутые брови и т. п.), позволяющих говорить даже о «психологических схемах» 1. Таким образом произошел заметный подступ к художественной типизации высшего порядка. Психологизм же индивидуального характера продолжал развиваться в основном в персональном жанре.
Прежде чем перейти к рассмотрению дальнейшего материала, отметим, что ряд особенностей произведений легендарно-исторического жанра XIV в. должен объясняться влияниями других жанров. Особенно большую роль здесь играли разнообразные прйточные сюжеты.
В живописи второй половины XIV в. можно видеть, как Христос является на боярский пир в образе нищего (Волотово), что обусловило далеко не центральное положение его фигуры. Центральное место стали занимать второстепенные лица. Это очень существенное новшество даже для такого «либерального» жанра, как легендарно-исторический. Оно постепенно вело к структурному переоформлению этого жанра и возникновению самостоятельного приточного (паремийного) жанра, почти смыкающегося со светскими жанрами.
Художественные завоевания в области легендарно-исторического жанра вели к тому, что некоторые сюжеты освобождались от иконописного начала и превращались, 37 в сущности, в нечто подобное исторической картине. Таковы известные московская и новгородская иконы с изображением конных Бориса и Глеба. Изображенные едущими параллельно «картинной плоскости», они, по существу, не могут быть объектом проникновенного моления, хотя лица святых обращены к зрителю. Картинная поступь коней, пейзаж, поднятые копья, воинский наряд, сам «выезд» братьев (с целью защиты Руси, конечно) — все это относит иконы к легендарно-историческому жанру. Но недаром новгородская икона трактована столь
1 Л. И. Лифшиц, Икона «Донской богоматери», стр. 101—102.
12*
180 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
объемно и выглядит как «. . . прославление материального мира, как поэтизация роскоши, богатства и драгоценностей. . .» ]. Логика форм была следствием логики содержания.
Если одна линия развития легендарно-исторического жанра XIII—XIV вв. расчищала путь для будущей картины, то другая, наоборот, через сведение к нулю всякого историзма и усиление символики способствовала развитию собственно символического жанра.
Хорошо известно, и об этом достаточно говорилось выше, что средневековое искусство в высшей степени символично, а в некоторых своих направлениях даже аллегорично. Этим вопросам посвящена большая специальная литература. Мы ни в коей мере не собираемся разбирать этой стороны вопроса, она не является предметом нашего интереса. Нас здесь интересует другое: наряду с уже рассмотренными жанрами, в конце концов тоже символическими, стали формироваться художественные концепции, ориентированные явно не на удовлетворение интереса к «священной истории», к догматике и т. п. Когда, например, изображены Христос на горе, которую обступили «волы свирепые» и человеческие фигуры «в хламиде знатного вельможи, но с рогами»; или воины с песьими головами, окружившие Христа; или единорог, ставящий свою ногу на лоно Девы; или тот же единорог, преследующий человека, который взбирается на дерево, подтачиваемое двумя мышами, то никакой истории здесь нет, нет и догматики, а налицо символическое иносказание, даже аллегория на широкие назидательные темы. Без них христианство не могло обходиться. «Это была та могущественная античная форма, развитием которой жило его искусство; под оболочкою символа приучилось оно постигать все идеи христианства» 1 2.
Как уже сказано, все христианское искусство пронизано символизмом, любая ветхозаветная сцена симво- лична хотя бы потому, что она прообразовывала ту или иную сторону Нового завета. Но внутри самой себя она была «исторической». Даже архангел Гавриил в «Благо¬
1 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 162.
2 Н. П. Кондаков, История византийского искусства и иконографии. . ., стр. 122.
ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
вещении» понимался как «историческая» фигура, чего никак нельзя сказать ни про единорога, ни даже про человека в вышеуказанных сценах. Перед нами, как и перед создавшими подобное искусство людьми, символика особого рода, символика заведомая, смыкающаяся с аллегорией. К этому разделу относятся все притчи и «картины», их изображающие. Здесь не место их перечислять *, гораздо существеннее выявить и зафиксировать жанровые особенности рассматриваемых изображений и проследить место и значение их в древнерусском искусстве.
Самой главной жанровой особенностью символических изображений является любовь к олицетворениям1 2. Райские реки в виде человеческих фигур с урнами; ветер в образе юноши, дующего в трубу; истина — человеческая фигурка, возносящаяся к Христу из уст «двух человеков»; душа человека, стремящегося к богу в виде оленя у источника, — все это во многом носит еще античный характер. Олицетворения проникают даже в настенную живопись. Например, в росписях церкви Рождества богородицы Снетогорского монастыря (1313) видим образ Земли в виде женщины с ромбовидным нимбом и такой же образ Моря, но в виде старца3.
Второй жанровой особенностью, имеющей уже художественное значение, является крайне любопытное соединение конкретного с абстрактным. Символические сцены строятся, в сущности, как и легендарно-исторические, то есть по принципу событийности, следовательно, с динамикой, взаимодействием персонажей, даже с реалистическими деталями. Но соединение всех элементов в единую композицию в еще большей степени подчинено принципу абстрагирования, нежели мы видели это хотя бы в «Евхаристии». Теперь уже нет никаких реальных связей между фигурами, все диктуется символизирующей мыслью. Единорог с Девой — это совсем иной ход художественной мысли, нежели то, что изображается
1 См. подробно: Н. Н. Розов, Древнерусский миниатюрист за чтением Псалтири, стр. 76 и сл.
2 Н. П. Кондаков, История византийского искусства и иконографии. . . , стр. 121. Н. Н. Розов, Древнерусский миниатюрист за чтением Псалтири, стр. 77.
3 В. Н. Лазарев, Снетогорские росписи. — «Сообщения Института истории искусств», вып. 8, 1957, стр. 100, рис. на стр. 102.
182 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
в «Благовещении». Поэтому в символическом жанре, хотя он включает вполне реальные элементы, нет никакой необходимости в пространственно-временной конкретизации. Даже в тех случаях, когда, казалось бы, именно пространство и время являются предметом изображения, все дело ограничивается намеком. Реки текут по белому полю листа сверху вниз. Время может быть исчислено только мысленным путем. Причем это, конечно, не какое-либо определенное время, а «вечное» или, наоборот, «быстротечное» время, которому уподобляется жизнь человеческая. Само собою разумеется, что все происходит на совершенно абстрактном фоне. Несмотря на кажущуюся ситуативность действующих лиц, никакой ситуативности в них нет. Она появляется лишь там, где символика рядится в одежды легендарно-исторического жанра.
Произведения символического жанра предназначались не для богослужебных целей и даже не для «христианского просвещения», а главным образом для углубления благочестия и богословского размышления. Поэтому этот жанр развивался не в церковных росписях и не в иконах, а в миниатюрах заказных Псалтырей, из которых наилучшей является Киевская 1397 г.1.
Сказанное, конечно, не означает, что символический жанр появился в XIV в., истоки его уходят глубоко. В частности, свод миниатюр типа Киевской Псалтыри 1397 г. бытовал на Руси гораздо раньше XIV в.1 2. Но вряд ли случайно и то обстоятельство, что именно с XIV в. сюжеты сложного символического характера завоевывают все большее внимание, постепенно складываются в самостоятельный жанр.
Можно ли видеть в символическом жанре некое ослабление древнерусского искусства? Такой вопрос может возникнуть, если подходить к символике недифференцированно, да еще с некритическим использованием «установок» современного гносеологического символизма, оценивающего символ как весьма условную форму познания3. Между тем символы чаще всего выступают в
1 Н. Н. Розов, Древнерусский миниатюрист за чтением Псалтири, стр. 65, 81 .
2 Там же, стр. 80—81.
3 Л. В. Уваров, Образ, символ, знак. Анализ современного гносеологического символизма, стр. 55 и сл.
183 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
конкретно-образной форме. «Элементы символики, которыми оперирует наше мышление, выступают как могучее средство более точного воспроизведения определенной области окружающего мира, ибо, упрощая и схематизируя познаваемые явления, символика тем самым помогает освободиться от случайных, несущественных и побочных процессов в выделении основных существенных процессов или явлений. . .» К Большое значение символика имеет и в искусстве, если, конечно, символ сохраняет правдиво-изобразительную природу, то есть когда функции символа выполняет образ1 2. Именно такова в основном природа символизма в средневековом искусстве, в частности в рассматриваемом символическом жанре.
Символические миниатюры Псалтырей участвовали в разработке новых форм искусства. Они подготавливали для будущей иконописи большой запас символических изображений и, что особенно важно, вырабатывали очень гибкий художественный язык, в котором реальность сочеталась с фантазией совсем не так, как в легендарноисторическом жанре, а, если можно так выразиться, более творческим образом3. Это давало возможность выражать мысли большого философского обобщения, что было нужно не только для христианской догматики, но и для дидактических целей. Символические иконы характерны для сербской живописи, где они известны уже с XIII в. Вероятно, под сербским влиянием они появились и на Руси, прежде всего, кажется, в Новгороде.
Усиление символизма заметно отразилось прежде всего на символико-литургическом жанре. Надо заметить, что в чинопоследовании литургии в XIV в. произошли некоторые изменения. В конце XIV в. митрополит Кип- риан ввел в русское богослужение новую, так называемую филофеевскую редакцию литургии, в которой увеличивалось число молитв, расширялось песнопение и т. д.4. Одновременно, а в ряде случаев еще и ранее кип-
1 Л. В. Уваров, Образ, символ, знак. Анализ современного гносеологического символизма, стр. 90.
2 Там же, стр. 94.
3 Н. Н. Розов, Древнерусский миниатюрист за чтением Псалтири, стр. 81.
4 Н. Одинцов, Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI века. Спб., 1881, стр. 105 и сл.
184 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
риановского мероприятия, стали расширяться и чисто литургические сюжеты, в значительной степени обязанные сербскому влиянию. В росписях храмов в Болотове и в Ковалеве появился такой драматический сюжет, как «Спас во гробе» или «Не рыдай мене мати» \ изображающий поникшую полуфигуру мертвого Христа, оплакиваемого богоматерью, Иоанном Богословом и др.
Развитием литургического жанра было изображение «Поклонения жертве» в апсиде волотовской церкви. Христос здесь был представлен в виде жертвенного младенца на дискосе2. По сторонам чаши, по-видимому, находились служащие ангелы и святители. Эту композицию можно рассматривать как продолжение того, что мы видели в апсиде Георгиевской церкви Старой Ладоги (см. главу IV), а также как преддверие грандиозных картин «Божественной литургии», типичных для искусства XVI в.
С точки зрения иконографической схемы «Поклонение жертве» очень близко «Евхаристии» и деисусу. Поскольку и «Евхаристия» и деисус в какой-то степени тоже ли- тургичны, то сюжеты типа «Поклонение жертве», может быть, и не стоило бы выделять в особый литургический жанр, а отнести к тому же символико-догматическому жанру? Но поклонение жертве все же не догма! И это обстоятельство имеет немаловажное значение. В дальнейшем мы увидим, что структура литургических композиций будет все более отходить от символико-догматических и деисусной. Значит, жанровая суть их различна, хотя на раннем этапе и не улавливается. Разница состоит в том, что предметом изображения деисуса является некая надмировая идея «небесного царства», будущего «вечного блаженства» и, следовательно, образность деисуса — небесная. Предметом же «Поклонения жертве» и тому подобных сюжетов является идея земная, связанная с земными страданиями Христа и с земной обрядностью. Она не столь всеобщая, вселенская, как деисус, как евхаристия. Поэтому символико-литурги-
1 В. Н. Лазарев, Живопись и скульптура Новгорода, стр. 179, 194; его же, Ковалевская роспись и проблема южнославянских связей русской живописи XIV века. — «Ежегодник Института истории искусств», М., 1958, стр. 250—251. Этот сюжет связан также с песнопением «Во гробе плотски», введенном в литургию вышеуказанной филофеев- ской редакции (Н. Одинцов, Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI века, стр. 127).
2 В Н Лазарев, Живопись и скульптура Новгорода, стр. 179
185 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
ческий жанр XIV в., сохраняя особенности символикодогматического жанра, то есть вневременность и внепро- странственность действия, центризм композиции, подчеркнутую сакральную торжественность, допускал вместе с усиливающимся драматизмом проникновение в него и «элементов реалистичности» и элементов символики. Изображения, например, агнца на дискосе или мертвого тела Христа с пронзенным ребром и с поникшей головой в сочетании с гробом, из которого оно выступает до пояса, немыслимы в деисусе. С новым аспектом связана особая драматизация, а с драматизацией в символиколитургический жанр проникало более свободное отношение к образности и к самим средствам изобразительности. Особенно ярко все это выражено в сербской иконе «Царь Славы» из Кривецкого погоста. В дальнейшем «элементы реалистичности» приведут к существенным структурным изменениям символико-литургического жанра.
Другим плодом все усиливающейся символики был гимнографический жанр.
Несомненно, большую роль и здесь сыграло южно- славянское, в первую очередь сербское, влияние. В Сербии уже в XIV в. сложился акафистный цикл и развиваются иконы на темы литургических гимнов *. На Русь это направление (духовное влияние) могло быть занесено сначала в виде отдельных икон. В виде отдельных произведений оно выразилось и в русской иконописи XIV в.2. Показательно, что в XIV в. в богослужении все большее место занимает пение, заменяющее чтение молитв, — так называемое «песенное последование», связанное тоже с сербским влиянием 3.
35 Известная псковская икона XIV в. «Собор богоматери», несомненно, символична 4, в нее введены олицетворения
1 J. Myslivec, Iconografie acathistu panny Marie. — „Seminarium Kondakovianum“, V, Prague, 1932, pp. 97—127.
2 J. Myslivec, Liturgické hymny jako náměty ruských icon.—„Byzan- tinoslavica“, t, III, v. 2, Praha, 1931.
3 Н. Одинцов, Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI века, стр. 111.
4 Анализу этого интереснейшего памятника живописи был посвящен доклад И. Б. Кишилова в Институте истории искусств Министерства культуры СССР 26 марта 1968 г. Воспроизведение см. в кн.: В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, табл. 101—103.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Земли и Пустыни. Но жанровая суть сюжета заключается в ином. В одну композицию соединены разновременные явления — рождество Христа, богоматерь на троне, хор певцов и пр. Предметом изображения является прославление богоматери. Отчасти это напоминает символикопохвальный жанр, знакомый нам по скульптуре храма Покрова на Нерли, но целиком антропоморфизирован- ный, следовательно, уже менее символический. Акцент здесь сделан не на символику, а на выражение песенной похвалы, на гимнографию.
Гимнографический жанр не требовал соблюдения «исторической» обстановки, не говоря уже об историчности персонажей. Но надо отметить, что, в отличие от символико-догматического жанра, гимнографический жанр в иконописи выступает в более «картинной» форме. В иконе «Собор богоматери» композиция мыслится многоплановой. На первом плане — хористы, далее олицетворения Земли и Пустыни, за которыми размещены трон с богоматерью, вертеп с яслями, а на заднем плане — ангелы и пастухи. Эта картинность, несомненно, обязана влиянию легендарно-исторического жанра, откуда взяты и многие элементы композиции (сцена Рождества Христова, например). Но если мы будем изучать икону «Собор богоматери» как произведение легендарно-исторического жанра, то недооценим многие ее стороны.
Во-первых, как уже сказано, многоплановая композиция не синхронна, а диахронна. При этом диахронический модуль здесь очень подвижен. В основе фоновой части иконы лежат и средний модуль (рождение Христа) и крупный модуль (поклонение ангелов, произошедшее через несколько дней). Но от центрального изображения богоматери на троне с младенцем Еммануилом и от певцов первого плана «фоновые» события отделяет уже сверхкрупный модуль, поскольку и богоматерь на троне и восхваляющие ее певцы относятся уже к явлениям вневременным.
Таким образом, для структуры гимнографического жанра специфично не только соединение фигур по принципу иносказания, введение олицетворений, симметрия, а вместе с тем и абстракция целого, но именно такое абстрагирование, которое было направлено на развитие лирического, песенно-поэтического начала в живописи.
187 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII— XIV вв.
Суть символизма в гимнографическом жанре и сводилась к тому, что догма или богословская мысль выражались в форме воспевания. Об этом говорят уже одни названия новых икон: «Похвала богоматери» («О тебе радуется») и т. п.
Иконы на тему Покрова богоматери тоже относятся к области гимнографического жанра. Каждую из участвующих во «влахернском чуде» фигур — Андрея Юродивого, ученика его Епифания и т. д. — можно считать исторической (в кавычках и без кавычек), но принцип соединения их в композицию совершенно неисторический. Во-первых, к фигурам действующих лиц «влахерн- ского чуда» — Андрею и Епифанию—прибавлены изображения Романа Сладкопевца и Иоанна Крестителя, прямого отношения к «чуду» не имеющих. Роман Сладкопевец введен явно в гимнографических целях1, он даже изображен поющим. Во-вторых, фигура витающей над ними богоматери масштабно очень увеличена. При этом она изображается теперь не в профиль, как на Суздальских вратах, a en face, как это требуется догматизирующим началом жанра. В соответствии с этим и реющий над богоматерью мафорий заменяется символическим покровом в воздетых руках.
Из всего сказанного видно, что гимнографический жанр все более отходил от принципов жанра легендарно-исторического. Он не чуждался конкретного пространства. В ранних иконах «Покрова богоматери» угадывается владимиро-суздальская архитектура1 2, которая, таким образом, противопоставляется Влахернскому храму Константинополя, где богоматерь «явилась» Андрею Юродивому. Такова замечательная икона XIV в. из суздальского Покровского монастыря 3. Но смысл и этой конкретности все же полон абстракции, поскольку перед владимирскими храмами оказываются и Андрей Юродивый и Роман Сладкопевец. Смешение отдельных конкретностей в нечто фантастическое — характерная черта гимнографического жанра. Но именно эта работа творческой фантазии существенно отличала положение художника в гимнографическом жанре от его стесненно¬
1 Е. С. Медведева, Древнерусская иконография Покрова. Диссертация, ч. II, стр. 278. (Архив ИА, раздел 2, № 1728).
2 Там же, стр. 281—282.
3 См. «Историю русского искусства», т. Ill, стр. 11.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
сти во многих других жанрах. Конечно, при этом увеличивалась роль литературы. Иконы на тему Покрова богоматери могли быть созданы после того, как появились соответствующие литературные и богослужебные оформления этого праздника. Но литература, давая канву для живописи, отнюдь не довлела над творческой мыслью художников. Наоборот, будучи пронизанной фольклором, она открывала широчайший доступ ему и в живопись, что самым поэтическим образом отразилось уже в знаменитой сцене «Покрова богоматери» на Суздальских вратах *.
Гимнографический жанр удовлетворял жажде чудесного, возвышенно-поэтического, он в гораздо большей степени, чем другие жанры, был наполнен музыкальным, хоровым началом. И не только потому, что на иконах изображались поэты и певцы, но весь композиционный строй гимнографических произведений был пронизан устремленностью вверх, вертикальными ритмами, вызывающими ассоциации с органным строем. Этим замечательным художественным элементам предстояло очень интересное развитие в XV—XVI вв.
Краткий обзор легендарно-исторического и гимнографического жанров искусства XIII—XIV вв. показал, что, потеряв в догматической строгости и в историзме как таковом, они конкретизировались в составных частях, в понимании образов божеств, святых и в элементах лиризма.
Казалось бы, что это должно было сразу отразиться на персональном жанре, но развитие и здесь шло не по прямой, а через борьбу противоположностей. Вместо конкретизации и лиризма XIII в. принес такие абстракции, как, например, широкоизвестную краснофонную икону «Еван» с Георгием и Власием. Похожие на большого и малых идолов 1 2, ее фигуры говорят, если не об утере, то о предельном ослаблении чувства античного изокефализма, начавшемся, как мы видели, уже в конце предмонгольского времени. Впрочем, в фигурках Георгия и Власия можно видеть патронов заказчика3, и тогда
1 Е. С. Медведева, Древнерусская иконография Покрова, ч. II, стр. 57 и сл.
2 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 126.
3 Э. С. Смирнова, Живопись Обонежья, М., 1967, стр. 33.
189 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
их малый масштаб вполне объясним. Икона «Еван» не была для XIII в. исключением. Когда мастер Алекса Петров изображал по бокам нимба Николы Липненского (1294) маленькие фигурки Христа и богоматери, то он руководствовался тем же взглядом на вещи.
Но было бы глубоко ошибочным видеть в этом только областной архаизм. Богословско-художественная мысль была занята поисками новых образов и прежде всего таких, какие, не выходя из рамок персонального жанра, отличались бы большей назидательностью, что выдвигало на первый план повествовательное начало. Это вело к развитию житийного жанра, а также к такой эволюции персонального жанра, при которой между отдельными фигурами достигалась внутренняя связь.
Мы уже видели, как расширение интереса к образу святого в искусстве XII в. привело к изображению маленьких фигурок святых на полях. В XIII в. этот процесс продолжался 1.
В иконе «Спас на троне» маленькие фигурки святых на боковых полях перемежаются с полуфигурами (вверху) и даже оплечными изображениями (внизу). Это почти вплотную подводит нас к идее средника и клейм, составляющей суть житийной иконы. Я далек от мысли, что житийный жанр в древнерусском искусстве и родился именно таким образом. В данном случае фигурки на полях никоим образом не житийные, смысл их совсем иной. Но формально это все же подводило к композиции житийных икон, во всяком случае, было связано с их художественной природой. Надо учитывать, что XI—XII вв. были временем усиленного интереса к житиям святых в византийской литературе, а затем и в древнерусской. Древнейший византийский житийный кодекс — Менологий Василия II — важен помимо всего прочего тем, что исполнен несколькими художниками, так сказать, параллельно. Перенесение этого приема на иконы — а М. В. Алпатов отмечает его уже в иконе «Николы» из Ново-Девичьего монастыря (XII в.)1 2 — должно было сообщить житийному жанру черты известной художественной центробежно- сти, преодоление которой, то есть соблюдение художе¬
1 Напомним, что, по мнению В. И. Антоновой, фигурки святых на полях иконы Николы из Ново-Девичьего монастыря появились в начале XIII в. (см. выше главу IV).
2 M. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 125—126.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
ственного единства, выдвигалось, таким образом, как неизбежная творческая задача.
Второе, что должно быть отмечено в Менологии, это последовательное подчинение всех его «картин» принципам легендарно-исторического (или церковно-исторического) жанра. Именно в таком виде сцены жития святых и стали изображаться в иллюстрированных житиях XII—XIII вв. (ср. Житие Бориса и Глеба, как оно реконструируется по миниатюрам XIV в.)1, а также и в клеймах житийных икон. Как мы видели выше, в росписях приделов Киевской Софии сцены жития уже соединялись с крупной фигурой святого.
Совмещение многих «картинок» легендарно- или церковно-исторического жанра вокруг фигуры средника чрезвычайно расширило художественное время произведения. Оно не ограничивалось смертью святого, так как в клеймах изображались и посмертные его чудеса, причем даже такие, какие якобы совершились во время создания жития и иконы. Уже при первом переводе Жития Николая Мирликийского (XI в.) в него были добавлены четыре новых чуда, два чисто местных, киевских — о младенце, утонувшем в Днепре, и о половчине пленном2. Первое из них («Чудо об отрочати») включено в систему клейм московской иконы рубежа XIII—XIV вв., которая, вероятно, восходит к рязано-зарайскому оригиналу 1225 г.3. Известны ранние памятники и ростово-суздальского круга. Таким образом, мыслилось, что св. Николай продолжал осуществлять свое покровительство людям в течение по крайней мере семисот-восьмисот лет. Этот диапазон времени («мегамодуль») и охватывается житием. Конечно, это можно понимать как сложение реального жизненного пути Николая с бессмертием, то есть как отрицание историзма, и в этом отношении житийный жанр выглядит менее историчным, чем легендарно-исторический. Недаром В. О. Ключевский писал, что житие святого — это «не биография, а назидательный панеги-
1 Д. В. Айналов, Очерки и заметки по истории древнерусского искусства. IV. Миниатюры «Сказания о св. Борисе и Глебе» Сильве- стровского сборника. — ИОРЯС, т. XV, кн. 3, стр. 1—128, рис. 1—41.
2 Леонид, архимандрит, Посмертные чудеса святителя Николая.— «Памятники древней письменности», LXXII [б. м.], стр. VI.
3 В. И. Антонова, Московская икона начала XIV в. из Киева и «Повесть о Николе Зарайском». — ТОДРЛ, т. XIII, М.—Л., 1957; стр. 378, рис. 1.
191 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
рик» К В житиях действительно возросла жажда чудесного, жажда самоутешения, а также надежда на помощь и заступничество в условиях усилившегося драматизма жизни.
Но вряд ли популярность житийного жанра — а в XIV в. житийные иконы стали излюбленными 2 — можно объяснить только этим. Интерес к повествовательности возрастал очень быстро. Мы видели, что почти во все жанры проникал элемент назидательности. Житийный жанр находился в средоточии этого процесса. В нем явно наметились две линии: одна более традиционная, с преобладанием этической назидательности; другая с уклоном в историзм, даже в «политику». Первая линия представлена такими темами, как «Георгий в житии», «Никола в житии» и т. п.; вторая — житийными иконами Бориса и Глеба.
Естественно, что второе «направление» было самым непосредственным образом связано с русской агиографией, которая в свою очередь взаимодействовала с летописями, а то и другое многими нитями связывалось с тенденциями общественной жизни. Это сообщало художественному творчеству в области житийных циклов определенную направленность и активность. Э. С. Смирнова и А. В. Поппэ показали на анализе житийной иконы 36 Бориса и Глеба XIV в., что художник далеко не пунктуально придерживался литературной и лицевой основ жития, но составлял из всех возможных источников свой цикл сюжетов, пронизанный определенной мыслью3.
Для проблемы жанров не менее важно и другое. Небольшие по размерам, клейма требовали особо ясного и четкого художественного языка, способного не только передать действие, но и убедить в его реальности, произвести назидательное впечатление. Специальным исследованием доказано, что для этого существовали определенные каноны, заимствованные из легендарно-исторического жанра. Они действовали и для исторической
1 В. О. Ключевский, Курс русской истории, ч. II, М., 1937,
СТр. 314—315.
2 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 130.
3 Э. С. Смирнова, Отражение литературных произведений о Борисе и Глебе в древнерусской станковой живописи. — ТОДРЛ, т. XV, М.—Л., 1958, стр. 313 и сл.; А. В. Поппэ, О роли иконографических изображений в изучении литературных произведений о Борисе и Глебе. — ТОДРЛ, т. XXII, стр. 40.
192 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
миниатюры1. Была выработана целая система приемов, в которой далеко не последнее место занимали бытовые реалии; значение их полностью обнаружится позднее, в иконах XV—XVI вв.
Наконец, клейма житийных окон XIV в. ценны своей выразительностью. Четко построенные композиционно, чрезвычайно «семантичные» колористически, они отличаются иной раз настоящим монументализмом, через который доносилась большая глубина этического содержания. В соответствии со всем духом искусства XIV в., в клеймах на первом плане было не только внешнее, но и внутреннее, будь это мученичество героя или его деяния. Выражение чувств любви, дружбы, умиления, скорби, молитвенности, тихой сосредоточенности1 2 передавалось в них с не меньшей силой, нежели в легендарноисторическом жанре.
До сих пор мы говорили о клеймах. Явились ли они чисто механическим соединением с персональным жанром средника? Я думаю, что при всей очевидной разнотипности клейм и средника так ставить вопрос все же нельзя. Житийную икону можно признать двужанровым произведением, но художественно она едина. Дело в том, что в процессе возникновения житийного жанра художественная идея средника не могла не трансформироваться под воздействием клейм. Это особенно касается тех произведений, которые выполнялись одним мастером. Художественное воздействие клейм на средник проявлялось двояко. Либо средник выполнялся в духе легендарно-исторического жанра (или жанра чудес), либо фигура средника наполнялась такой внутренней жизнью, в которой заметно отражалась жизнь клейм.
Для первого случая очень характерна икона XIII в.
38 «Илья-пророк» из села Выбуты. Правда, это очень редкий пример3, но в XIV в. они увеличиваются за счет икон с изображением всадника Георгия с житием, Федора Тирона с житием и т. п. Средник и клейма живут здесь, по существу, одним художественным временем, они оди-
1 О. И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, стр. 250 и сл.
2 Ср.: Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 137.
3 Н. Е. Мнева, Тверская школа XIII—начала XVI века. — В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, стр. 183, табл. 91.
193 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
наково событийны, средник представляет собой не более как увеличенное клеймо. Но имеем ли мы право распространить такое суждение и на фронтальные фигуры?
Оказывается, и фронтально стоящие фигуры — конечно, не все, а те, к которым прикоснулась рука настоящего художника, — вовсе не изолированы от клейм, а многими невидимыми нитями связаны с ними. Стоит вернуться к упомянутой иконе «Борис и Глеб» из Коломны *, на ней фигуры братьев только внешне статичны, внутренне же они чрезвычайно активны. Их «духовная динамика» проявляется в едва заметных поворотах голов друг к другу, причем у Глеба голова написана так, что он как будто слушает старшего брата, взор же его обращен к зрителю. Таким образом, прежде чем «обратиться взором к зрителю», фигура Г леба должна была совершить два полуповорота, сначала к Борису, затем в пространство перед «картинной плоскостью». Художник изобразил оба эти момента, что дает почувствовать беседу, ее протяженность, то есть опять же духовную динамику.
Если перевести изображенное в клеймах и в среднике иконы «Борис и Глеб» время в уже знакомое нам понятие диахронического модуля, то окажется, что оно (время) измеряется одним и тем же модулем, в данном случае, очевидно, средним модулем, укладывающимся в пределах от нескольких минут до одних суток. Этого было достаточно, чтобы «догматическая» фронтальность «дала трещину» и в изображение фигур проникло дуновение реальной жизни. Оставаясь персональными, типы фигур средника порывают с отвлеченностью, они становятся активными носителями действенного начала.
Лишь в наиболее архаичных произведениях образ святого в среднике действительно «надмирен». Степень художественной конкретизации средника помимо всего прочего, очевидно, зависела еще и от того, кто изображался. Образ Николая Мирликийского, как мы видели, позволял истолковывать его в пределах тысячелетия. Этого нельзя было сделать с образами Бориса и Глеба. Они невольно «сжимались» не только тем, что их отдаляло от людей XIII—XIV вв. всего два-три столетия, но и
1 В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, табл. 155.
13 «Проблема жанров»
194 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
своей политической значительностью, особенно возросшей в XII—XIII вв.1, а также существованием «портретной» традиции1 2. Это, конечно, по-разному отражалось на характеристике лиц и всего облика святых. Николай Чудотворец, при всей его обруселости, все же оставался «добрым старичком» вообще. Борис и Глеб хотя и не наделялись крестьянскими чертами, но весьма конкретно представляли тип русского человека. Особенно замечательна в этом отношении упомянутая житийная икона XIV в. из Коломны, на которой князь Борис по характеру открытого мужественного лица напоминает образ сева- стократора Калояна в знаменитой боянской росписи (1256) и вместе с ним заставляет вспомнить позднеготические и даже возрожденческие портреты3. Слова В. О. Ключевского: «Образ в житии — не портрет, а икона» 4— в данном случае, пожалуй, не совсем справедливы. Так или иначе, но в XIII—XIV вв. в области житийного жанра наметились тенденции, явно свидетельствующие об углублении внутреннего содержания образа-лика, о желании показать в нем одновременно частное и всеобщее, вневременное (святое) и жизненное, человеческое, даже героическое. Это не могло не захватить и персональный жанр.
Как бы ни были житийные иконы близки к теме человека и человеческих судеб, как бы ни были их средники индивидуализированы и даже типизированы, но, в силу определенной жанровой ограниченности и конкретности, представленные на них образы святых и подвижников не поднимались выше их «бытейского» или, лучше сказать, исторического значения. Для более высокого обобщения, для воплощения в иконном лике всей суммы жизненных представлений, а также представлений о святости, через которую средневековый человек надеялся получить спасение, по-прежнему оставался персональный жанр, в сфере которого формировался идеал совершенства, и
1 Н. Н. Воронин, Анонимное сказание о Борисе и Глебе, его время, стиль и автор, стр. 44—45.
2 О портретности ранних изображений Бориса и Глеба см.: Н. Г. Порфиридов, О путях развития художественных образов, стр. 44.
3 Г. К. Вагнер, У истоков портрета в древнеболгарском искусстве.— «Искусство», 1968, № 12, стр. 54.
4 В. О. Ключевский, Курс русской истории, ч. II, стр. 314—315.
195 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
все более сближающиеся с ним персональные изображения символико-догматического жанра.
Начав с довольно примитивных произведений типа идо- лоподобного «Евана», персональный жанр в XIII—XIV вв. значительно расширил свой художественный репертуар и дал образы величайшей силы. Конечно, было бы неправильным представлять себе поиски нового художественно-этического идеала в виде непрерывно восходящей прямой. Было несколько линий развития, из которых нас интересуют две. Первая из них связана больше с местными традициями и с вкусами, усиленно формировавшимися в обстановке национальной борьбы за освобождение от татаро-монгольского ига. В начале ее можно поставить такой замечательный памятник, как «Спас» из Ярославского музея (середина XIII в.). В отношении его В. И. Антонова сказала: «... родилось русское искусство» 1. Это «направление» вело к Андрею Рублеву.
Второе «направление» носило более международный характер. Оно связано с идейно-художественными воздействиями южнославянского мира и Византии.
Тема нашей работы не позволяет рассматривать эти линии развития подробно, но их надо все время иметь в виду. Впрочем, была одна черта, которая их объединяла, — неуклонный рост интереса к скрытой внутренней силе персональных образов.
Поразительна быстрота, с какой эволюционировал персональный жанр в пределах одного только XIV в. Нарушим строгий этикет, выстроим мысленно в один ряд такие произведения, как «Святитель» из росписи Снетогор- ского монастыря (1313), «Спас ярое око» из Успенского собора Москвы (20-е гг. XIV в.), «Св. Климент» из росписи волотовской церкви (1363), «Св. Акакий» кисти Феофана Грека в росписи новгородского Спасо-Преображенского собора (1378), монах и воин из росписи церкви Спаса на Ковалеве (1380), — и мы должны будем признать, что по интенсивности в выявлении человеческой индивидуальности перед нами нечто напоминающее «треченто». Снето- горский «Святитель» отличается мягкостью лепки, покатостью узких плеч, но в его удлиненном лике с большим лбом и маленькими глазами чувствуется горение интел¬
1 В. И, Антонова, Памятники живописи Ростова-Великого. Кандидатская диссертация, 1947, ГБ Л, стр. 103.
13*
196 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
лекта. «Спас ярое око» с его пластической моделировкой незабываем по своему асимметричному лицу и яркому индивидуальному выражению. Св. Климент с маленькими скошенными глазами и мясистым носом хотя и хмур, но добродушен и вместе с тем полон достоинства. Такому пониманию образа соответствует и манера письма постепенными высветлениями и параллельными черточками пробелов на каждом выступе объема, направленными в разные стороны и делающими святого похожим на мужика-лесовика. «Св. Акакий» Феофана Грека — один из самых самоуглубленных образов XIV в. «Несколькими ударами кисти подчеркнуты его готовые заплакать глаза. Все юное лицо его обезображено нестерпимой душевной мукой» 1. Наоборот, монах и воин из Спаса на Ковалеве, при всем несомненном религиозном психологизме образа, поражают своей светскостью, что создает впечатление духовной раздвоенности.
В XIV в. тяга к подчеркнутому «интеллектуализму» лиц проявилась в такой на первый взгляд негармоничной черте, как гипертрофированное увеличение лба. Особенно это бросается в глаза в фигурах святых на царских вратах из Твери1 2. Лбы святых часто изображаются «нависающими» над нижней частью лица, что придает ему вогнутый характер.
Попытки объяснить это явление вогнутым характером пространства «средневековой картины»3 надо признать крайне неудачными, так как перед нами не геометрический феномен, а несомненно семантический.
Было бы очень интересно проследить кристаллизацию в XIII—XIV вв. образа Христа (не Спаса Нерукотворного), сопровождавшуюся сначала «областной» его конкретизацией, а затем суммированием черт. «Тверской Спас», «Новгородский Спас» (в бывш. собрании П. Д. Корина) — это чрезвычайно сильные, оригинальные образы4, харак¬
1 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 153,
2 Н. Е. Мнева, Тверская школа XIII —начала XVI века. — В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, стр. 233— 234, табл. 199.
3 Л. Ф. Жегин, Язык живописного произведения, М., 1970, стр. 68.
4 О «Тверском Спасе» см.: Г. В. Попов, Пути развития тверского искусства в XIV — начале XVI века. — «Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV—XVI вв.», стр. 314—316. О «Новгородском Спасе» см.: В. И. Антонова, Древнерусское искусство в собрании Павла Корина, стр. 29—30.
197 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
теризующие интенсивную работу по формированию русского идеала Христа.
Конечно, в отмеченной разнохарактерности образов проявились разные художественные традиции г, не только русские, но наша цель отметить не это, а именно художественное обогащение персонального жанра, преодоление в нем идей спиритуализма, наделение образов святых и божества чертами «смертной» (увы!) психологии, подчас даже гипертрофированной, как у Феофана Грека1 2. Святые Феофана — это вконец исстрадавшиеся люди, выражение их страдания и муки столь велико, что снова уводит нас в абстракцию, мы как будто стоим на грани «отрицания отрицания». Но такая абстракция в условиях XIV в. была, очевидно, необходима для художественной типизации высшего порядка (см. выше), когда персонализирование усложнилось типологизированием, но еще не развилось в индивидуализирование.
Поскольку внутренняя содержательность образов раскрывалась в форме «ухода в себя», то мы имеем здесь, пожалуй, наивысшее выражение персонального образа- типа. Но в жанровом отношении это уже не просто персональный тип. К образам персонального жанра XIV в., в первую очередь Феофановым, вполне можно применить более дифференцированное понятие самосозерца- тельного интуитивного типа, мышление которого характерно для мистического мечтателя и ясновидца, для фантаста. По словам К. Г. Юнга, субъективность этого типа мешает его аргументам приобрести доказующую силу, «он — голос проповедника в пустыне» 3. Отсюда, скорее всего, и происходит тот «абстрактный психологизм», который характерен для изображения человека не только в
1 В ряде случаев какие-нибудь яркие художественные черты того или иного жанра могут быть отнесены не только за счет данного жанра, но и за счет особенностей художественной школы, к которой принадлежит произведение — носитель этих черт. Но ни при каких обстоятельствах принадлежность произведения к той или иной школе не может определить собственно жанровых черт. Жанровые признаки складываются независимо от школы. Поэтому вопросов школ мы здесь не затрагиваем.
2 Д. С. Лихачев отмечает, что живопись XIV в. в этом отношении далеко опережала литературу (Д. С. Лихачев, Человек в литературе Древней Руси, стр. 90). Даже в XV в. Епифаний Премудрый оказался бессильным в изображении духовного мира Сергия Радонежского (Г. П. Федотов, Святые древней Руси, New York, 1959, стр. 131).
3 К. Г. Юнг, Психологические типы, стр. 84—85.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
литературе конца XIV в.1, но, как мы видели, и для легендарно-исторического жанра изобразительного искусства.
Попытки связать образы Феофана Грека с идеями исихазма1 2 не лишены некоторого основания, но, конечно, не в прямом догматическом смысле, а в смысле созвучности поэтическим образам высшего духовного озарения. Последние же, как хорошо показал М. В. Алпатов, Феофан черпал вовсе не из богословских споров XIV в., а из древней исихии — исконного явления религиозной жизни христианского Востока3. Это переводит сложную проблематику творчества Феофана Грека в более высокий и вместе с тем конкретный историко-художественный план. В частности, приобретает особую остроту довольно старый вопрос: почему на Руси Феофан Грек нашел столь плодотворную почву для своего углубленно-психологического творчества? Ведь «русские пользовались результатами исихастских споров, входить же во все философско-богословские тонкости и нюансы было, очевидно, и трудно еще для них и незачем» 4. Поэтому вряд ли можно выводить особенности русской живописи конца XIV в. из какой-либо богословской «теории» вообще. Они обуславливались прежде всего внутренней жизнью, в которой рушилась прежняя строгая иерархичность, все большее значение приобретали личные качества человека, следовательно, его внутренний мир. Здесь не место рассматривать это явление во всей его сложности. Частично к нему придется вернуться в связи с творчеством Андрея Рублева.
Остановимся кратко на судьбах символико-догматического жанра, который, как можно видеть из изложенного, переживал некий «кризис». Догмы, правда, не подлежали пересмотру, поэтому выражавшие их композиции были устойчивы. Но это касается только внешней их иконографии. Малейшее изменение в понимании образа свя¬
1 Д. С. Лихачев, Человек в литературе Древней Руси, стр. 72.
2 Н. К. Голейзовский, Заметки о Феофане Греке. — «Византийский временник», т. XXIV, М., 1964; его же: Исихазм и русская живопись XIV—XV вв., — «Византийский временник», т. XXIX, М., 1968.
3 М. В. Алпатов, Новгородские фрески Феофана Грека и учение исихастов. — Доклад, прочитанный 18 апреля 1972 г. на заседании секции древнерусской культуры Совета мировой культуры АН СССР.
4 Г. М. Прохоров, Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в. — ТОДРЛ, т. XXIII, Л., 1968, стр. 108.
199 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
того и здесь вносило много такого, что не укладывалось в старые рамки. Не богословие, а жизнь заставляла вырабатывать новые художественные и даже иконографические формы. Но это совершалось через жанр.
Громадным достижением специалистов по древнерусскому искусству последних лет было открытие ряда замечательных икон XIII—XIV вв., ярко и совсем по-новому осветивших русскую культуру этой драматической эпохи. Ставший знаменитым «Спас Нерукотворный» из 41 села Нового 1 интересен уже тем, что происходит из глухого Пошехонья и, следовательно, по нему можно судить о степени проникновения образов древнерусского искусства в самую толщу русской жизни.
Исследователи достигли большой тонкости анализа в установлении всех точек соприкосновения живописи «Спаса» с византийским и южнославянским миром, отметив, правда, ее местный характер2.
Но посмотрим, как художник понимал суть своего произведения. Вероятно, он знал легенду, рассказывающую о передаче убруса с отпечатком лика Христа царю Авга- рю. Однако «историческая» сторона мало привлекала его. Он не задумывался о том, как плат мог быть натянут на «керамиду», как мог выглядеть при этом убрус. Как все «это было» — художника не интересовало. Его интересовал только идеальный образ Христа. И он вложил в него всю силу своего понимания красоты и добра, достигнув действительно необычайной жизненности и проникновенности образа. При этом художника не смущало, что лик Христа неестественно лежит поверх многочисленных складок убруса, что догматика при таком равнодушии к «историзму», в сущности, пропадает. Конкретизация лика Спаса происходила при полном абстрагировании от «истории». Но тем самым и догматический жанр в корне подтачивался. Теряя «историзм», он переходил, с одной стороны, в персональный жанр, а с другой стороны, открывал путь такой идеализации образа, которая характерна для живописи XV в.
Конечно, не нужно представлять себе дело так, что будто бы все попытки воспроизвести идеальный образ Спаса Нерукотворного в XIV в. приводили к столь гар-
1 Находится в ГТГ. Реставрирован Н. Б. Кишиловым.
2 См.: М. А. Реформатская, О древнерусской иконе «Спас» из села Нового. — «Искусство», 1969, № 2, стр. 58—62.
200 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
моничному результату. «Спас» из села Нового представляет собой наиболее лирическую линию. Искусство XIV в. знало и очень мужественные образы, как, например, «Спас» из Ростова-Великого 1 или «Спас» в собрании Музея имени Андрея Рублева. Последний уже отмечен чертами психологической напряженности, заставляющими сравнивать его с образами Феофана Грека.
В XIV в. в связи с развитием ересей, в частности, ереси антитринитариев, вопросы догматики снова приобрели остроту, и церкви пришлось обратиться к силе изобразительного воздействия, чтобы отстоять догмат о Троице. Появилась новая для Руси сложная догматическая композиция. Теперь идея триединства божества выражалась не в «исторической» форме гостеприимства Авраама и не в слишком отвлеченном образе Пантократора, а через соединение в одну композицию фигур бога-отца, Христа и святого духа (так называемое «Отечество»). Конечно, такое соединение казалось естественным для человека Древней Руси, мы же видим в этом отказ от естественности «исторической Троицы». Любопытно, что даже Феофан Грек, с его любовью к мудрствованию, не пошел дальше акцентировки центральной фигуры ангела. Новгородская икона «Отечество» (XIV в.) представляет собой чрезвычайно смелую по художественной произвольности композицию. В частности, в ней впервые изображен бог-отец2.
В этом новом варианте символико-догматического жанра оказалось совместимым несовместимое. Конечно, ни на время, ни на пространство здесь нет и намека. Бог восседает на троне, который мыслился стоящим на небесной тверди. Между тем он стоит на поземе, а о небесной тверди намекают лишь символические окрыленные кольца под троном. Кроме того, рядом изображен апостол Фома. Столпники на своих столпах должны были быть изображенными на поземе, но они как бы витают в воздухе.
1 В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, табл. 114.
2 В. Н. Лазарев, Об одной новгородской иконе и ереси антитринитариев.— «Культура Древней Руси'>, стр. 101—111. Таким образом, утверждение, что до XVI в. в русском искусстве изображение Саваофа было неизвестно (Н. Е. Андреев, О «деле дьяка Вискова- того».— „Seminarium Kondakovianum“, V, Prague, 1932, стр. 232— 233), не соответствует действительности.
201 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
Такими внутренними противоречиями полно искусство XIII—XIV вв. Натуральные детали уживались в нем с абстракцией высшей степени. В противопоставлении этих начал, напоминающем искусство экспрессионизма, в столкновении реального с идеальным рождалось искусство громадной внутренней силы.
Деисусный жанр в XIII—XIV вв. приобрел особое значение в связи с формированием иконостаса. Известно, что самый ранний из дошедших до нас иконостасов, выполненный Феофаном Греком, Прохором с Городца и Андреем Рублевым для Благовещенского собора Кремля, датируется 1405 г. Но он имеет столь развитую форму, что несомненна его подготовка на протяжении по крайней мере XIV в., а может быть, и конца XIII в. Трудно представить себе, чтобы храмы Ивана Калиты ограничивались только традиционными византийскими темплона- ми. Так называемый Высоцкий чин, датируемый 80-ми гг. XIV в., предназначался, конечно, для иконостаса, причем довольно большого. Деисусный чин занимал в иконостасе главное место.
Очень интересно, что деисусный жанр в XIV в. соединяется с другими жанрами, например, символико-догматическим и даже ктиторским *. Примером первого может служить композиция на шитой пелене Марии Тверской (1389), где центром деисуса является образ Спаса Нерукотворного. Примером второго является рисунок на гра- 42 моте рязанского князя Олега Ивановича (1373) Ольго- ву монастырю. Здесь сбоку шестифигурного (!) (с апостолом Павлом) деисуса изображен игумен Арсений. И то и другое вело к усложнению. Для нашей темы особенно интересно второе явление, с которым связано расширение состава деисуса сначала до семифигурного1 2, а затем и больше.
Рассматриваемая рязанская миниатюра говорит о том, что фигуры апостолов Петра и Павла вошли в деисус по крайней мере во второй трети XIV в., а может быть, и
1 Новшеством XIV в. было и тог что в центре деисуса иногда изображался не Христос, а Никола (!). См. икону новгородского письма в собрании ГТГ (В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, стр. 97).
2 Л. В. Бетин, Об архитектурной композиции древнерусских высоких иконостасов, стр. 44—45.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
еще раньше1. В рязанской миниатюре Павел изображен уже во весь рост. Ктиторская фигура Арсения тоже говорит о многом. Она позволяет предполагать, что уже в конце XIV в. могли существовать деисусы, содержащие более чем семь фигур, в пользу чего свидетельствует и большой деисусный чин Георгиевского собора в Юрьеве- Польском, а также большая деисусная икона «Митрополит Петр» из Твери1 2. Если это так, то знаменитый деисусный чин московского Благовещенского собора, созданный в 1405 г. Феофаном Греком, Прохором с Городца и Андреем Рублевым, был не первым в этом отношении. Мало того. Фигуры дофеофановских деисусных чинов помимо выражения общей идеи искупления и Страшного суда могли содержать и более конкретные мысли о покровительстве того или иного «члена» деисуса его заказчику или заказчику храма, а также членам его семьи, что впервые в развернутой форме было выражено в упомянутом деисусном чине Георгиевского собора.
Деисусный чин Благовещенского собора дает весьма сложную картину патронального деисуса, но содержащего уже не родовую, а династическую идею3.
Особенностью больших деисусов XIV в. следует считать сохранение иерархического принципа построения, при котором центральное пяти- или семифигурное ядро деисуса развертывается между восточной парой подкупольных столбов, а остальные фигуры (начиная с апостолов Петра и Павла) заходят за столбы, отчленяясь от центральных фигур этими столбами. По-видимому, так было в деисусе Благовещенского собора4 и даже в деи- сусе Успенского собора во Владимире5. Хотя расчлененные деисусы характеризуются меньшей внутренней (идейной и психологической) слитностью, но зато составляющие их фигуры можно было исполнять с большей индивидуализацией, углубленнее и, так сказать, «субъекти-
1 Г. И. Вздорнов, Живопись. — «Очерки истории русской культуры XIII—XV веков», ч. 2, стр. 320. В рязанской миниатюре фигура Петра замещена Арсением.
2 Г. В. Попов, Пути развития тверского искусства в XIV — начале XVI в., стр. 336—338.
3 Л. В. Бетин, Об архитектурной композиции древнерусских высоких иконостасов, стр. 63—65.
4 Там же, стр. 51.
5 M. А. Ильин, Иконостас Успенского собора во Владимире Андрея Рублева, стр. 30.
203 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
вированнее», что соответствовало духу времени и что замечается уже в деисусе Благовещенского собора1.
Таким образом, можно заключить, что деисусный жанр к концу XIV—началу XV в. проделал громадный путь развития от сравнительно простого рядоположения фигур до образования фигурных групп большой силы психологического единства, но еще не слитых в высшее единство (единство второго порядка). Последнее было осуществлено в 1425 г. Андреем Рублевым.
Можно смело сказать, что иконография в рассматриваемом процессе не играла определяющей роли. Мы вообще не могли бы понять художественных достижений в деисусном жанре XIV в. без учета их жанровой природы, состоящей, между прочим, и в аспекте корпоративности, что найдет наивысшее выражение в деисусе владимирского Успенского собора2. Но и деисусы XIV в. в этом отношении дали очень много. И именно деисусы, то есть деисусный жанр. Ибо аналогичные композиции символико-литургического жанра, в силу своей иной жанровой природы, не содержали столь общечеловеческих идей и эмоций, они были гораздо уже, книжнее, риту- алистичнее.
Если деисусы оказались очень удобным вместилищем мирских забот и интересов, то не удивительно, что картина Страшного суда человеку XIII—XIV вв. рисовалась совсем не так отвлеченно, как в XII в.
В XIII—XIV вв. эсхатологический жанр приобрел ту по- вествовательность, какой ему недоставало в искусстве предыдущей эпохи, даже во фреске Спаса Нередицы.
«Страшный суд» в росписи Снетогорского монастыря (1313) открывает новую страницу в древнерусском искусстве.
Лучшее описание его принадлежит М. В. Алпатову: «Страшный суд разбит на отдельные пояса: наверху можно видеть летящих ангелов с трубами, ниже идет пояс с апокалиптическими зверями, светлыми, выразительными силуэтами выступающими на темном фоне; мертвые в белых саванах встают из гробов; вавилонская блудница в усыпанном камнями наряде восседает на
1 Л. В. Бетин, Об архитектурной композиции древнерусских высоких иконостасов, стр. 51.
2 Там же, стр. 50.
204 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
звере. Совсем внизу тщедушный черт вызывающе протягивает огонь грузному голому старцу-богачу. Особенно выразителен седобородый сатана на двухголовом драконе, с младенцем на руках. Слово «Святополк», написанное псковским мастером, указывает на то, что он старался связать традиционный образ ада с воспоминанием о ненавистном убийце Бориса и Глеба. Видно, эти церковные темы были обогащены и оживлены народной фантазией, отсюда смелость образов, почти гротескная выразительность отдельных фигур» К
Если сравнить эту яркую картину с художественной концепцией «Страшного суда» в росписи Дмитриевского собора, то разница будет почти такая, как между архитектурой зданий, которые их вмещают. В отличие от торжественности архитектурного образа Дмитриевского собора храм Снетогорского монастыря поражает своей «почвенностью», свободным взаимоотношением частей, нерегулярностью. Любителям строгой архитектуры это может показаться движением вспять. Но подумаем о том, что в XVI в. именно этими принципами будет руководствоваться Барма-Посник — строитель храма Василия Блаженного. При неизменном следовании классическим традициям владимиро-суздальской архитектуры путь к новому направлению был бы закрыт.
Суть жанровых новшеств в области эсхатологии в том и состояла, что здесь тоже стали предпочитать известную «картинность», идущую все от того же легендарно-исторического жанра, а также от связанных с ним именно этой чертой символических жанров. Но картинность в применении к «Страшному суду» неизбежно должна была вносить элементы не только символики, фантастики, но и некоей конкретизации. Если в нередицком «Страшном суде» сцена «богач и черт» не идет дальше общесредневековых представлений о загробном возмездии, то одно слово «Святополк» на месте ада в снетогорской росписи свидетельствует о живом и страстном восприятии русской истории и даже о преломлении через нее самой эсхатологии. Несомненно, это ослабляло ее апока- липсичность, которой, однако, суждено было вспыхнуть с новой силой, но уже значительно позднее, во времена царствования Ивана Грозного. 11 M. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 147.
205 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
Казалось, трудно было бы достигнуть большей человеческой проникновенности образа богоматери, нежели это было сделано в знаменитой «Владимирской» и в близких к ней русских произведениях. Но и здесь лирико-догматический жанр XIV в. принес новое. Скорбные глаза Владимирской богоматери и родственных ей образов смотрят не на младенца, а куда-то мимо него, они заставляют больше думать о жертвенности божественным сыном во имя спасения рода человеческого, то есть, в конце концов, о догматической сущности образа.
В таком же духе (хотя и в других иконографических изводах!) писались иконы и в XIV в., как, например, «Богоматерь Петровская» 1 или «Богоматерь Перивлепта» из Троице-Сергиевой лавры1 2, наконец, знаменитая «Оди- гитрия Смоленская» (в собрании Третьяковской галереи). Но уже в иконе «Богоматерь Донская» мать смотрит на сына, любуется им, «песнь материнства» (слова Игоря Грабаря о «Богоматери Владимирской») в ней выражена гораздо более непосредственным образом. Следует, однако, учитывать, что по сюжету перед нами не просто любование, а молитва. Это позволило Л. И. Лифшицу говорить об отражении в знаменитой иконе деисусного и даже литургического момента 3. Если это так, то сказанное выше о деисусном жанре в известной степени должно быть распространено и на богородичный лирико-догматический жанр XIV в., то есть мы стоим перед лицом более общего художественного единства. Не углубляясь в этот вопрос, отметим, что даже родственный жанр способен придать специфический оттенок произведению, испытавшему его влияние. Это ведет к усилению «генеральной» линии жанра, а через нее активно влияет на стиль. В рассматриваемом случае речь идет об усилении не столько лиризма вообще, сколько земного, человеческого начала. Мы узнаем здесь общую тенденцию искусства XIII—XIV вв. к выражению мира человеческой души, расчищающую путь для гармонического искусства «эпохи Андрея Рублева».
1 В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, табл. 57.
2 В. И. Антонова, Иконографический тип Перивлепты и русские иконы богоматери в XIV веке. — «Из истории русского и западноевропейского искусства», стр. 105 и сл.
3 Л. И. Лифшиц, Икона «Донской богоматери», стр. 88, 113—114.
206 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Начало этому было положено произведениями еще первых десятилетий XIV в., а может быть, еще XIII в. «Богоматерь Толгская» (на троне) поражает сложностью внутреннего содержания, сплавом разных художественных традиций. Независимо от того, является ли эта икона русским или грузинским произведением, она намечает некоторый перелом в жанровом понимании темы. Нельзя согласиться с А. И. Некрасовым, что «в выражении лица нет интимной мягкости» 1. Так кажется, может быть, потому, что для лица богоматери избран южный тип. Но во взгляде ее гораздо больше внутренней связи с сыном. По словам В. Н. Лазарева, «это, пожалуй, одна из самых эмоциональных русских икон XIII в.» 1 2.
Отмеченную черту развивают поясные повторения «Богоматери Толгской» — так называемые «Толгская 2-я» и «Толгская 3-я», относящиеся к самому началу и первой половине XIV в. «Любятовская богоматерь» 3 и «Богоматерь Мати молебница»4 относятся сюда же. Последняя икона, представляя русскую разработку темы Перивлеп- ты, как бы замыкает круг исканий русских художников, стремящихся к выражению «песни материнства» в границах данного иконографического извода 5. Руки матери и сына сомкнулись, голова богоматери склонена к младенцу до предела, причем глаза ее обращены все же к нему, а не вперед, что роднит этот поэтичнейший образ с «Донской».
Новое понимание образа сопровождалось и живописнопластической его разработкой. Особенными живописными качествами отличается «Толгская 2-я». Ее темноватые благородные красочные созвучия (темно-вишневый, темно-синий, изумрудно-зеленый тона) вместе с мягкими пробелами и бликами создают впечатление большой психологической углубленности и эмоциональной силы. Кажется, что догматическая идея почти полностью растворилась в мире интимных чувств. Но это кажется нам,
1 А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, стр. 193.
2 В. Н. Лазарев, Живопись Владимиро-Суздальской Руси, стр. 492.
3 См.: А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, рис. 122.
4 См.: В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, табл. 152.
5 В. И. Антонова, Иконографический тип Перивлепты и русские иконы богоматери в XIV веке, стр. 116—117.
207 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
людям XX в.г не видящим в образе богоматери ничего, кроме ее материнской природы. Люди XIV в. смотрели на нее по-другому. Но все же остается фактом, что догматизм ослаб, искусство стало более близким к жизни. Недаром XIV в. был веком расцвета житийного жанра. Его отголоски чувствуются даже здесь.
Ктиторский жанр в XIII—XIV вв. пользовался большим вниманием, так как заказчики становились все более многочисленными и, главное, честолюбивыми. Каждый князь в своем уделе считал себя потенциальным великим князем. Игумены и епископы прибегали к тем же средствам укрепления своего авторитета. Видеть себя (или своего отца, деда) изображенным рядом с Христом или рядом с богоматерью считалось своего рода «заявкой» на особые права или роль в жизни и исторической деятельности.
Изображение князя Ярослава Всеволодовича (1259), 40 включенное в роспись Спаса Нередицы, пожалуй, можно считать одним из ранних. Перед нами классическая кти- торская композиция: Ярослав подносит Христу модель храма. Лицо Ярослава более портретно, нежели пластические изображения его отца и брата Святослава (см. выше). Оно дано почти в профиль. На корзне князя впервые видим изображение орлов.
В Тверском списке Хроники Амартола (1305—1318) по сторонам Христа изображены тверской князь Михаил и его мать Оксинья. О портретности Оксиньи судить трудно ввиду плохой сохранности красочного слоя, но в лице Михаила Ярославича исследователи отмечают портретное сходство, в пользу чего говорит «необычность строения лица с тупым, почти квадратным подбородком, едва опушенным бородкой (не забыта даже ямочка под нижней губой!), с короткими усами, мясистым носом, выпуклыми, широко расставленными глазами и короткими волосами» !. Интересно и другое: ктиторы и Христос изображены как бы внутри Спасского собора Твери 2. Такая важная реалия в ктиторском жанре появляется впервые, и ее трудно оторвать от аналогичных явлений в легендарноисторическом жарне. Вспомним икону «Введение во храм
1 О. И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, стр. 35.
2 Там же.
208 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
богородицы» из села Кривого с ее деревянным многошатровым храмом.
Очень интересна икона «Свенской богоматери» (XIII в.) с предстоящими Феодосием и Антонием. Симметричность построения легко склоняла к зеркальности и абстракции, но художник преодолел и то и другое. Образы монахов совершенно различны, повороты их голов не одинаковы, взгляды устремлены, в соответствии с характером и возрастом, у левого (средовека) прямо перед собой, у правого (старца) к небу. Видимо, мы вправе говорить о чертах портретности К Почти для всех произведений ктиторского жанра XIII—XIV вв. характерно освобождение от того иерархизма, которым были отмечены многие произведения легендарно-исторического и отчасти персонального жанров. Фигуры ктиторов не меньше Христа и богоматери. В иконе «Свенской богоматери» они даже кажутся более вытянутыми. А. И. Некрасов видел в этом проявление чувства единства пространства1 2. Не отрицая этого, отметим, что более существенным было чувство возросшего личностного самосознания.
Как уже сказано выше, ктиторский жанр по-прежнему сохранял большое структурное родство с деисусным. Но природа их все же была различной. В деисусном жанре четко проводилась идея «социального равноправия» предстоящих, иерархический принцип в их расположении был, скорее, вынужденным. В ктиторском жанре дистанция между Христом и предстоящими была гораздо больше, подчас это вынуждало художников изображать ктитора не в одном регистре с божеством, а ниже, что мы видим в упоминавшейся выше миниатюре рязанской грамоты князя Олега. В силу отмеченного обстоятельства ктиторский жанр был «свободнее» деисусного и заметно эволюционировал в сторону «обмирщения».
Нам осталось рассмотреть некоторые жанры искусства малых форм, чтобы перейти к светским жанрам.
Хорошо известно, что XIV в. был эпохой расцвета книжной тератологии, зародившейся, как мы видели, еще в
1 В. И. Антонова, Киевская школа XIII — начала XIV века.— В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, стр. 76.
2 А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, стр. 188—189.
ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
XIII в., а частично и в XII в. Явление это настолько ярко и цельно, что к нему давно уже применяется понятие жанра К
Зародившись в светской области искусства и уходя некоторыми элементами в народное творчество, тератология в XIV в. сконцентрировалась в книжном деле, которое по условиям того времени носило церковный характер. Однако не следует забывать, что церковные книги предназначались не только для богослужебного, но и для светского, придворного обихода. Наиболее богатые тератологическим орнаментом книги были выполнены для новгородских архиепископов, а в Москве — для Ивана Калиты и Симеона Гордого. Следовательно, тератологический жанр был вхож и в клерикальную и в княжескую среду. Поэтому определить непосредственно функции тератологического жанра довольно трудно. До сих пор никто этого не сделал1 2.
В чем же специфика тератологии как жанра? Каковы ее жанровые признаки?
Какому бы заказчику книги с тератологическим орнаментом ни предназначались, они все же остаются в рамках церковных жанров: Евангелие, Псалтырь, Апостол. В иллюстрациях хроник и летописей тератологический жанр не встречается. Не встречается он и в житиях. С этими фактами надо серьезно считаться. Можно думать, что в основном тератология XIV в. носила все же не мирской характер. Но в орнаментике храмовых росписей тоже нет тератологии! Самое большее, куда она допускалась,— это в роспись врат и резьбу порталов, что мы и видели выше. Это наводит на мысль о ее демонологическом характере, но не в том смысле, что демоно-
1 См.: А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, стр. 212; А. Н. Грабар, Светское изобразительное искусство домонгольской Руси... — ТОДРЛ, т. XVIII, стр. 268, 270. Существует, правда, и понятие «тератологического стиля». Но стоит произвести самую элементарную классификацию, как в одной рубрике окажутся такие понятия, как орнаменты растительный, геометрический, тератологический, а в другой — понятия: живописный, линейный, декоративный и т. п. Ясно, что первая рубрика включает предметы изображений, то есть жанры, а вторая — способы или принципы художественной трактовки, то есть стили. Стиль, конечно, может называться и по жанру, но жанр от этого не перестает оставаться жанром.
2 В настоящее время готовится к изданию работа Т. Б. Уховой о русском орнаменте XIV—XV вв., где вопросы тератологии нашли очень интересное освещение.
14 «Проблема жанров!
210 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
логия была ее содержанием (в таком случае тератологический орнамент был бы немыслим в церковных книгах), а в смысле апотропеическом1. Тератологический жанр представляется нам орнаментально-символизированной картиной того мира различных искушений, с каким постоянно, и днем и ночью, и при чтении книг должен бороться истинный христианин. Отсюда, от этой символической абстракции проистекают и знакомые нам для всяких обрядовых и магических жанров симметрия, 43 зеркальная композиция, условность, полное равнодушие к вопросам времени и пространства, то есть все то, что преграждает в эти жанры дорогу «элементам реалистичности», повествовательности.
Не следует думать, что все сказанное о тератологическом жанре составляло предмет особых размышлений миниатюристов XIV в. Весьма даже вероятно, что многое в их работе делалось так потому, что это «было принято». Но именно потому, что так «было принято», мы и видим в этих условиях жанровый признак. Ничто в средневековом искусстве напрасно не обуславливалось.
Положение светских жанров в искусстве XIII—XIV вв. было довольно сложным. Символико-героический жанр с его придворной направленностью и любовью к эпическим мотивам исчез вместе с тем «рыцарским» укладом жизни, который начал формироваться на Руси в XII в.1 2. В условиях XIII—XIV бв. трудно представить, например, Всеволода III, созывающего к себе самых разных мастеров, диктующего им обширнейшую программу, благосклонно принимающего цикл подвигов Геракла, а также сравнения себя с Александром Македонским, с Соломоном.
Фольклорная подоснова искусства, проводником которой ранее было художественное ремесло, значительно сузилась вместе с сокращением самого ремесла. Для искусства XIII—XIV вв. мы не можем назвать жанр, равнозначный, например, обрядово-бытовому жанру XII в. Зооморфная тематика ушла в книжную тератоло¬
1 Известно, что различного рода узлы и ленточная плетенка носили магический характер. См.: И. Чемеги, Социально-исторический фон переславль-залесской иконы «Преображение». — „Acta histo- riae artium“, t XIV, fas. 1—2, o. 53 и сл.
2 Б. А. Рыбаков, Первые века русской истории, стр. 155.
211 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
гию, которую, как мы видели, нельзя считать чисто светским жанром.
Вместе с тем все направление русской жизни XIII— XIV вв., прежде всего ее обращение к самобытности, а также интерес к повествовательности требовали выхода за церковные рамки. И здесь своеобразной идейной и творческой «отдушиной» явился знакомый нам исторический жанр.
От конца XIII — начала XIV в. до нас дошел иллюстрированный Тверской список Хроники Георгия Амартола, копирующий оригинал XI в., но содержащий много нового. О миниатюрах этого списка мы можем судить уже не реконструктивно, а визуально, поэтому их данные особенно ценны.
Прежде всего очень показательно, что, в отличие от литературы, между библейскими и собственно историческими сценами Хроники нет какого-либо различия. Здесь нет разделения на вечное и преходящее, на важное и неважное. И все же в жанровом отношении особенно примечательно предпочтение художниками Хроники,— а их было по меньшей мере четыре1, — именно светских, особенно батальных сюжетов, в которых наиболее смело проявилось собственное творчество миниатюристов, в частности второго из них, большого мастера сложных композиций. Именно в этой части миниатюры полны «русизмами», отражающими не только исторические и бытовые реалии, но феодальные представления о «передаче инвеституры», о «воцарении», о табели рангов и пр.2.
Пространство в миниатюрах Хроники (второй ее части) отличается гораздо большей глубиной и единством.
44 В сцене «Осада Рима галатами» осаждающие город (башню, конечно) пешие и конные воины обступили его полукругом, причем крайний всадник показан вместе с своим конем en face —случай, до сих пор небывалый и по своему художественно-пространственному значению равный фигуре молодого пастуха в волотовской фреске, изображенного спиной к зрителю. Вместе с новшествами в ктиторской миниатюре (изображение тверского Спасского собора) все это говорит об активности исторического жанра в овладении реальной действитель-
1 О. И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, стр. 12.
2 Там же, стр. 40—43.
14*
212 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
ностью, в конкретизации места, а иногда и времени событий. Активность исторического жанра измеряется еще и тем, что он значительно укрепил свои позиции в составе Псалтырей. Исторические, в частности, батальные сцены великолепно разработаны в Киевской Псалтыри 1397 г. Увлечение «батализмом» у миниатюриста дошло до того, что он снабдил батальными сценами даже те места псалмов, где говорится только о каре божией К
Конечно, светские жанры не исчерпывались одними историческими миниатюрами. Пришло время выйти им на широкое поприще, и они действительно вышли на стены княжеских дворцов, о чем имеются документальные данные. Так, Феофан Грек расписал терем великого князя Василия Дмитриевича «невиданною (раньше) и необычайной росписью»1 2, а на стенах палат князя Владимира Андреевича Серпуховского изобразил вид города Москвы. Ни в византийском, ни в древнерусском искусстве аналогий этому не имеется 3, что говорит о смелости исканий нового. Следовательно, можно было бы ожидать от светского искусства XIV в. гораздо большего разнообразия, тем более что не одни князья могли выступать в роли меценатов новых светских жанров искусства. К сожалению, об этого рода творчестве XIV в. история русского искусства не располагает никакими фактическими данными. Судить же о нем ретроспективно по иконо- графическим пережиткам в исторических и житийных миниатюрах, пожалуй, слишком рискованно в силу не- установившейся традиции.
Если относительно системы жанров искусства XII — начала XIII в. мы говорили, что она похожа на хоромы с довольно импозантным фасадом, но иррациональным внутренним устройством, то охарактеризовать систему жанров XIII—XIV вв. еще труднее. Она никоим образом не была логическим развитием предшествующей (домонгольской) системы. Татаро-монгольское иго затормозило развитие светских жанров. Даже через триста пятьдесят
1 Н. Н. Розов, Древнерусский миниатюрист за чтением Псалтири, СТр. 72—73.
2 В. И. Лазарев, Феофан Грек, М., 1961, стр. 9.
3 А. Н. Грабар, Несколько заметок об искусстве Феофана Грека.— ТОДРЛ, т. XXII, стр. 85.
213] ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
лет после появления на стенах Киевской Софии росписей придворно-увеселительного содержания фреска Феофана Грека с изображением города Москвы казалась чем-то поразительным! Иллюстраторы исторических рукописей копировали киевские образцы. В самом легендарноисторическом жанре историзм как таковой ценился гораздо меньше, чем в домонгольское время. Но это не значит, что ослаб интерес к повествовательности. Наоборот, он очень возрос. Но теперь он проявлялся не столько в исторической области, сколько в житийно-бытовой, а также в разного рода символике, в лирико-акафистных темах, в более свободной трактовке догматики, в «искусстве переживания» вообще1. Повествовательность в искусстве переживания чрезвычайно расширяла и обогащала нравственно-этические функции и возможности искусства, а вместе с этим рождала неизбежную дидактику. Отсюда интенсивное развитие житийного жанра, возникновение притч, а с другой стороны — развитие глубочайшего лиризма и драматизма, в чем изобразительное искусство даже опережало литературу, захваченную теми же тенденциями1 2. Показательно, что и в области песенного творчества это время (XIII—XIV вв.) было периодом, когда древняя псалмодия усиленно и плодотворно обогащалась мелодическими распевами3.
Если общий «дух жанровой системы» искусства XII— начала XIII в. отличался повышением интереса к земному, мирскому, но еще не был отмечен печатью личностного рефлексирующего начала, то «жанровый дух» искусства XIV в. характеризуется именно этим. Его можно условно назвать религиозно-этическим, рефлексирующим. Он включает поучительное и драматическое начала в искусстве XIV в. Даже символико-догматический жанр находился под его воздействием. Объединяющая роль религиозно-этического рефлексирующего «жанрового духа» была в искусстве XIV в. очень важной. Остановимся на этом несколько подробнее.
Казалось бы, что противоречивые тенденции искусства XIV в. должны были привести к распаду монументального жанрового синтеза, в котором уже в XII в. образова¬
1 Б. В. Михайловский, Б. И. Пуришев, Очерки истории древнерусской монументальной живописи, стр. 22.
2 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 75.
3 Н. Успенский, Древнерусское певческое искусство, стр. 84.
214 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
лись трещины. Однако тот порыв к постижению человеческого, который захватил собою искусство XIV в., оказался чрезвычайно цементирующим. Дело даже не столько в самом этом порыве, сколько в его психолого-мировоззренческой подоснове. Человек XIV в. воспринимал жизненные явления и отражал их в образах искусства не так изолированно, как раньше. Во-первых, объединяющим началом выступала развившаяся эмоциональность, пронизывающая собою все жанры. Во-вторых, хорошо известно, что символизация, если она охватывает смежные области, тоже способствует их объединению, хотя бы на началах абстрагирования. Пожалуй, без этих двух условий (помимо прочих) не было бы возможно рождение иконостаса, а что он сформировался в XIV в., а не в начале XV в. — это несомненно.
Для рождения иконостаса требовалось, чтобы художественная мысль была способна одновременно и конкретизировать в превосходной степени и столь же сильно абстрагировать, так как без абстракции не могло бы возникнуть это большое символическое целое.
Как выглядел бы иконостас, если бы искусство персонального жанра не развилось настолько, чтобы обеспечить создание больших деисусных образов необходимой силы воздействия? И как выглядел бы тот же иконостас, если бы, создав отдельные сильные деисусные образы, художник не был в силах облечь их в еще более высокое единство? Говоря о принципе абстрагирования символизирующего и психологизирующего искусства XIV в., мы не должны ни на минуту забывать, что это было совсем не то абстрагирование, которого мы касались при характеристике догматизирующих жанров. Абстрагирование в разных условиях различно К В условиях эмоционально-экспрессивного искусства XIV в. абстрагирование означало скорее общечеловечески-этическое, нежели спиритуалистическое или догматическое. Психологическое абстрагирование в искусстве XIV в. немыслимо без этической конкретизации. Вот это диалектическое единство противоположностей и было условием сохранения целостности монументального синтеза. Росписи не только Феофана Грека, но и других художников XIV в. гораздо более едины идейно, композиционно и колористически, 11 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 121.
215 ГЛАВА V СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ XIII—XIV вв.
нежели «ковровые» росписи Нередицы или Мирожа, даже Спаса на Ковалеве. Они вместе с тем гораздо лучше связаны с архитектурой. Особенно хорошо это видно в церкви Болотова. «Фрески Болотовского храма превосходно включены в его архитектурное пространство. Все многочисленное «население» храма так размещено на его стенах, на сводах, на столбах и в простенках между окнами, что границы между фресками соответствуют членениям здания. В отличие от Нередицы, в Болотове фрески не стелются по стенам, но более органично связаны с архитектурой храма и составляют с ней неразрывное целое»1. Правда, некоторые исследователи отмечают, что фрески XIV в. «не проникают» в структуру архитектуры, между ними существует не гармония, а «состояние внутреннего борения»1 2. Это верно. Но сказанное не исключает понятия единства росписей и архитектуры. Ведь никакое жанровое единство не могло бы дать результатов, подобных росписи Болотова или Спаса Преображения, если бы жанры искусства в свою очередь не пронизывались силой творческого переживания художника. К каким бы формам абстрагирования он ни прибегал, это было глубоко личностное переживание. Естественно, что в общей этической жанровой направленности рефлексирующего искусства XIV в. оно в первую очередь захватывало те жанры, в которых человек, человеческие эмоции, то есть, в конце концов, личностная сфера, были главным предметом творчества. Отсюда столь интенсивное и плодотворное развитие персонального жанра, достижениями которого питались другие жанры, даже символико-догматический. Именно в области персонального жанра, как мы видели выше, были созданы образы, находящиеся на уровне высших достижений мирового искусства.
1 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 157.
2 А. Б. Матвеева, Фрески Андрея Рублева и стенопись XII века во Владимире. — Сб. «Андрей Рублев и его эхопа», М., 1971, стр. 144.
ГЛАВА VI ВТОРОЙ
ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
Пятнадцатый век для Руси был эпохой большого национального подъема, последовавшего за столетиями «татарского лихолетья». Культура этой эпохи живет не только естественным продолжением того, что было выработано XIV в., но обращается и к общечеловеческим ценностям более древних эпох, вплоть до античности 1. Поэтому к XV в. вполне приложим термин «Возрождение Руси» в широком смысле, в каком он употребляется, например, для мусульманского возрождения, китайского возрождения и т. п.1 2.
Рассматривая четырехчастную икону из Новгорода (рубежа XIV и XV вв.) и отмечая в сюжете «Ветхозаветной Троицы» отсутствие сцены заклания тельца, А. И. Некрасов писал: «Ожидать в эту эпоху «жанровых» подробностей, как на фресках Нередицы (см. Крещение) или даже на иконе «Введение во храм» (см. выше), уже невозможно» 3. Между тем это была «эпоха Андрея Рублева», с которой обычно связываются представления о расцвете гуманистических тенденций в искусстве. Мог ли гуманизм развиваться вне интереса к конкретному? Если мы отмечали внутреннюю противоречивость в жанрах искусства XIV в., то не стоим ли мы перед лицом еще большего
1 См. подробно: А. И. Клибанов, К проблеме античного наследия в памятниках древнерусской письменности.—ТОДРЛ, т. XIII, М. — Л., 1957, стр. 159 и сл.
2 См.: Н. И. Конрад, Запад и Восток, М., 1966, стр. 240 и сл.; см. также: «Памятники средневековой латинской литературы IV—IX веков», М., 1970, стр. 223. Д. С. Лихачев ввел термин «восточное Пред- возрождение», вкладывая в него смысл, приближающийся к понятию Проторенессанса (Д. С. Лихачев, Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого, М.—Л., 1962, стр. 12—20, 85—93, 116—131, 161—170). Вокруг этого понятия ведутся споры, но как бы мы ни понимали термин «Возрождение», против его применения для русской культуры XV в. нет никаких оснований, если, конечно, мы не хотим закрывать глаза на произошедшие в ней в это время сдвиги.
3 А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, стр. 167.
217 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
противоречия, большего потому, что в нем чувствуется уход в сферу идеального.
Прежде чем дать ответ на этот очень ответственный вопрос, рассмотрим основные жанровые тенденции искусства XV в.
Замечено, что в области сюжетов, относимых нами к легендарно-историческому жанру, интерес к исторической конкретности действительно продолжал ослабляться. В сценах вознесения, например, изображались все 45 двенадцать апостолов, то есть не только с Иудой, но и с Павлом, который, согласно Евангелию, при вознесении не присутствовал. На первый взгляд кажется, что это ослабление историзма было обратной стороной усиления догматизма. Иконы «Вознесения» с Павлом принадлежат преимущественно московскому искусству, новгородское больше держалось предания1. Слов нет, «Вознесение» в полном составе апостолов, дающее возможность строить композицию более симметрично, выглядит торжественнее, представительнее. Такими же тенденциями были захвачены и некоторые другие сюжеты легендарно-исторического жанра.
Во второй половине XV в. появляется изображение Иоанна Предтечи в виде Ангела пустыни, с крыльями, со второй («усекновенной») головой, лежащей у его ног в чаше, и с другими символико-аллегорическими подробностями (древо, секира и пр.)1 2. Все это, казалось бы, должно было вести к художественной абстракции.
Но обратим внимание на то, какими средствами достигается эта абстракция. Апостолы в «Вознесении» соединены в довольно оживленные группы, многие из них даны в полный профиль, за сто лет предвосхищая профильные фигуры таких икон, как «Вход в Иерусалим» (60-е гг. XVI в.), которую А. И. Некрасов считал образцом отказа от традиционной репрезентативности3. При этом профильные фигуры выдвинуты на передний план и сохранена их индивидуальная характеристика, не столько
1 А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, стр. 172.
2 См.: В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, стр. 331. Этот сюжет будет очень распространен в искусстве XVI в.
3 А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, стр. 296.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
иконографическими, сколько живописно-пластическими средствами.
Еще интереснее в этом отношении икона «Омовение ног» из иконостаса Троицкого собора. Здесь ближние фигуры тоже изображены в профиль, а все вместе взятые они показывают человеческое лицо во всех поворотах на 180°. Это говорит о весьма пространственном понимании всей сцены, которая к тому же имеет не менее трех архитектурных планов. Временная последовательность действия здесь выражена тоже очень ярко.
Таким образом, «идеализация» имеет своим условием конкретизацию. Теперь невозможно себе представить, чтобы фигура Христа изображалась в полтора-два раза превосходящей остальные фигуры. А ведь совсем недавно такое можно было видеть в известной иконе «Успение богоматери», которую долгое время приписывали кисти самого Феофана Грека. В начале XV века мерой всего становилось нормально-человеческое, но не просто человеческое, а возвышенно-человеческое, идеально-человеческое. Отсюда и впечатление некоторой новой абстрагированности искусства.
Самый разительный в этом отношении пример, ставший уже хрестоматийным, — это новая концепция Троицы, нашедшая поистине классическое выражение в знаменитой «Троице» Андрея Рублева. В нашу задачу не входит рассмотрение того, как слагалась эта концепция. У Андрея Рублева она выступает не только вполне завершенной, но, очевидно, всецело признанной. Следовательно. ей предшествовала немалая подготовительная работа равнодушия к этой теме до XV в. вовсе не было.
Основное отличие «Троицы» Андрея Рублева от так называемой «Ветхозаветной Троицы» («Гостеприимства Авраама») состоит в том, что в ней акцентирована не «историческая», а символико-догматическая сторона. С Троицей у Андрея Рублева произошло примерно то же самое, что в свое время произошло с «исторической»
1 См. подробно:
M. Alpatov, La „Trinité“ dans Part byzantin et Pécole de Roublev.—..Echos d’Orient44, 1927, N 146;
Н. Малицкий,
К истории композиции ветхозаветной Троицы.—„Seminarium Konda- kovianum“, II, Prague, 1928; Г. И. Вздорнов, Новооткрытая икона «Троицы» из Троице-Сергиевой лавры и «Троица» Андрея Рублева. — «Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV—XVI вв.». М., 1970.
219 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
редакцией вознесения. От «исторической» обстановки и вообще от повествовательной части в «Троице» оставлены только мамврийский дуб и палаты Авраама. В сущности, и они до предела сокращены. Полностью устранено и убранство стола. Оно заменено одной символической (евхаристической) чашей. Три ангела за столом не вкушают угощение, а как бы воплощают мистическую суть триединства божества. И хотя эти три ангела относят «Троицу» все еще к типу ветхозаветной, хотя беседа их событийна и происходит в довольно-таки определенном пространстве !, но перед нами совершенно новое, более сложное понимание и художественное воплощение догмата1 2, по существу, выводящее «Троицу» из легендарноисторического жанра.
Насколько отмеченное явление характерно для XV в.?
Конечно, и в XV в. и даже позднее появлялось немало «Троиц», выдержанных в традиционном типе. Более того, в «Троице» из бывш. остроуховского и морозовского собраний архаизмы столь велики, что перед нами как будто произведения XII—XIII вв.3. С другой стороны, обильные бытовые детали (морозовская «Троица») предвосхищают искусство XVII в. Однако и то и другое находится вне главного русла искусства XV в.
При характеристике живописи «эпохи Андрея Рублева» очень большое внимание обращается на ее гуманистические тенденции, на высвобождение из догматики элементов собственно эстетического, даже на мистико-еретические искания, а в последнее время — на исихазм 4. Все это, безусловно, характерно для XV в. и частично уже для второй половины XIV в. Но представим себе на минуту, что Андрей Рублев ценил бы в человеке только земное,
1 О понимании Андреем Рублевым пространства в «Троице» см.: Н. А. Демина, «Троица» Андрея Рублева, стр. 62 и сл.
2 M. Alpatov, La „Trinite“ dans l’art Byzantin et 1 école de Roub- lev.—„Echos d’Orient“, 1927, N2 146, pp. 150—180.
3 Я не могу согласиться с предположением, что в остроуховской «Троице» изображение ангелов строго в фас якобы подразумевает (семантически) расположение их по полукругу, как в «Троице» Андрея Рублева (ср.: Б. А. Успенский, К системе передачи изображения в русской иконописи. — «Труды по знаковым системам», II, стр. 252). Семантикой предусматривалось именно фасное расположение, поскольку это диктовалось догматизирующим жанром, к тому же архаизирующим.
4 См., А. И. Клибанов, К характеристике мировоззрения Андрея Рублева. — Сб. «Андрей Рублев и его эпоха», стр. 62—102.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
реальное, не верил бы в догмат Троицы, был бы настроен против обрядового таинства, исповедовал бы аскетический обет полного «ухода в себя». . . Можно смело сказать, что его «Троицы» не было бы.
Я хочу этим сказать, что некоторая «догматизация» легендарно-исторического жанра «эпохи Андрея Рублева» вовсе не была движением вспять. Да и правильно ли говорить о «догматизации», хотя бы и в кавычках? 1 На этом сложном явлении надо остановиться подробнее.
Изучая «Троицу» Андрея Рублева, Н. А. Демина высказала очень интересную мысль, что символика Троицы была «многозначительной для народных движений, направленных к национальному объединению»2. Первая половина XV в. в истории Руси была временем, когда завоевания на Куликовом поле, казалось бы, готовы были погибнуть в хаосе новой кровавой феодальной розни. Поэтому, какими бы богословско-догматическими намерениями ни диктовалось создание «Троицы» Андрея Рублева3, оно было окутано настроением мира и любви, охватывавшим передовых людей эпохи, в том числе и самого создателя «Троицы»4. Небезынтересно отметить, что в новом Иерусалимском уставе, введенном в XV в. в русское богослужение, появляется такая чисто русская литургическая особенность, как возгласы «Мир всем», присоединяемые к возгласам священника на великой и малой ектениях5. Старые авторы видели в этом результат невежества русского писца6, переписывавшего устав, но не правильнее ли усматривать здесь проявления «духа эпохи»? Так или иначе, но «глубокое философское содержание «Троицы» получило столь гармоническое и ясное художественное воплощение потому, что у Рублева страх перед смертью, страданием и одиночеством души
1 Андрей Рублев, насколько мне известно, не проявил интереса к такому догматическому сюжету, как образ Спаса Еммануила.
2 Н. А. Демина, «Троица» Андрея Рублева, стр. 40.
3 Считается, что «Троица» была создана в целях борьбы с анти- тринитарными движениями века (Г. И. Вздорнов, Живопись. — «Очерки русской культуры XIII—XV веков», ч. 2, стр. 344 и сл.).
4 Общественно-идеологическое значение «Троицы» Андрея Рублева интересно вскрыто А. И. Клибановым (А. И. Клибанов, К характеристике мировоззрения Андрея Рублева. — Сб. «Андрей Рублев и его эпоха», стр. 99 и сл.).
5 Н. Одинцов, Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI века, стр. 189.
6 Там же.
221 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
оказался преодоленным всепоглощающим чувством доверия к закону жизни, понятому как любовь» 1.
Конечно, сказанное не означает ослабления догматики, но догматика переставала быть чем-то умственным, книжным, она входила в эмоциональную сферу2, в художественное переживание, в мечту об идеальном. Вместо философии чистого духа, враждующего с телом, приходила философия гармонического единства в человеке его духовного и телесного начал.
Таким образом, характерное для московского искусства XV в. философствование имело своим предметом не космогонию (вспомним скульптуру Георгиевского собора), а человека, его нравственную, этическую сторону. И поскольку эта нравственная сторона рисовалась в возвышенной степени, как нечто идеальное, то, естественно, ее нельзя было выразить посредством тех бытовых деталей, которые столь часты в искусстве XIII—XIV вв. и даже XII в. Отсюда особый интерес к символике3, символика же, в силу своей природы, невольно сообщала новым возвышенным, идеальным образам известную отвлеченность, что и сближает ее с «догматикой». Следовательно, правильнее говорить не о догматизации искусства, а о новой форме философско-этического символизма, настолько пронизанного новой образностью, что он, в сущности, перерастал в эстетическую категорию.
К сожалению, мы не знаем, как Андрей Рублев относился к спорам о рае. Но весь возвышенный строй его «Троицы» ближе к воззрениям Федора Доброго, нежели Василия Калики. Известно, что Федор Добрый понимал рай как внутреннее духовное состояние человека, тогда как Василий Калика верил в рай, который видели новгородцы где-то «на краю земли». Недаром высокие гуманистические взгляды Федора находили поддержку в Москве4. Исихатская природа творчества Андрея Руб-
1 Н. А. Демина. «Троица» Андрея Рублева, стр. 82.
2 K. Onasch, Andrej Rublev. Byzantinisches Erbe in russischer Gestalt.—„Aktes des XI. Internationalen Byzantinischen Kongresses. München, 1958“, München, 1960, S. 428—429.
3 Об увеличении символики в творчестве Андрея Рублева см.: С. С. Чураков, Отражение рублевского плана росписи в стенописи XVII в. Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. — Сб. «Андрей Рублев и его эпоха», стр. 211.
4 A. M. Сахаров, Религия и церковь. — «Очерки русской культуры XIII—XV веков», ч. 2, М., 1969, стр. 74.
222 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
лева, в частности его «Троицы», очень сомнительна уже по одному тому, что сам Сергий Радонежский довольно скоро совершил эволюцию «от мистики до политики» \ и в программе прославляющей его «Троицы», по словам М. В. Алпатова, «идеал дружеской беседы, поэтическое подобие кеновии, общежития, которого чуждались исихасты», не оставляет никакого места идее «ухода в себя».
Произведения символико-догматического жанра XV в. отличаются от своих жанровых предшественников большей отвлеченностью. Теперь лик Христа (Спаса Нерукотворного) совершенно спокойно пишется поверх складок убруса, он мыслится как отпечаток на плате, но существует сам собою, как нечто идеальное, внеисторическое. Соответственно такому пониманию и в трактовке лика появились черты, казавшиеся, вероятно, людям XV в. наипрекраснейшими, а с этим невольно входила «современность». Так абстрагирование снова приводило к конкретизации. Продолжилось то, что наметилось в иконах Спаса Нерукотворного XIII—XIV вв. Но там конкретизация не могла идти дальше того идеала, который рисовался русским людям во времена татарского ига. Этот идеал был по-человечески очень привлекателен своей интимностью и даже известной народностью, но он носил, скорее, местный характер. После победы на Куликовом поле, после возвышения Москвы, после нового прилива на Русь византийских и южнославянских икон, а главное, после стремительного подъема национальной общерусской культуры художественная образность во всех сферах искусства, и прежде всего в персональном жанре, очень расширилась. Образ Спаса Нерукотворного, осенявший, как известно, русское войско в битве с Мамаем, не мог свестись к типу пошехонского Спаса, он мыслился и воображался несравненно более всеобъемлющим, но вместе с тем и близким. В условиях такой «абстрактной конкретизации» и стали появляться произведения вроде «Спаса» из Смоленского музея. По сравнению с новгородским «Спасом» в бывш. собрании П. Д. Корина он может казаться менее императивным, даже менее психологичным, но в нем обойдены «острые углы» первого образа, чертам придана большая объек- 11 Г. П. Федотов, Святые древней Руси, стр. 140.
223 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
тивность, общезначимость. Можно ли это назвать усилением догмата вочеловечения? У нас нет никаких данных, говорящих об усилении богословской разработки этой темы {и Разработка происходила не в богословии, а в психологии и мировоззрении людей. Но, может быть, ереси XV в. и способствовали тому, что тема Спаса Нерукотворного вызывала к себе повышенное внимание. Так или иначе, но произведения XV в. на эту тему представляются более идеальными в том смысле, что идеал прекрасного стал расширенным, объединяющим в себе большую сумму конкретных черт. Такая идеализация, как видим, нисколько не означает догматизации. Более того, она не означает и чистой абстракции, так как абстрагирование производилось в рамках возросшего интереса к реальному и даже национальному.
Конечно, сказанное нельзя распространять на все произведения символико-догматического жанра. В XV в. стали появляться и очень умозрительные композиции, как, например, «Богоматерь Знамение с архангелами и избранными святыми» 1 2. Перед парящей в полукруге богоматерью стоят гигантские архангелы, между которыми (под изображением богоматери) помещены в два ряда две пары полуфигур святых. Икона относится к «северным письмам» 3 и может представлять плод местной иконографической мысли, полностью находящейся во власти абстракции. Но икона должна быть отмечена как элемент противоречия, заложенного в искусстве XV в., это в скором будущем и приведет к усилению символики и даже аллегории.
Все сказанное может быть распространено и на другие символизирующие жанры, но так как залогом художественных успехов во всех областях были достижения в персональном жанре, то следует прервать изложение и остановиться на нем.
В искусстве XV в. не было единоличных изображений, равных по силе драматизма произведениям Феофана
1 Можно отметить даже ослабление символизации этого догмата в XV в. Так, например, замечено, что в новгородской живописи богоматерь Знамение стала изображаться с младенцем без медальона (Э. С. Смирнова, Живопись Обонежья, стр. 52). Но ослабление символизации здесь не означало иконографического упрощения.
2 См.: В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, табл. 239.
3 Там же, стр. 364.
224 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Грека. И хотя Феофан уже с 1395 г. работал в Москве, создав (вместе с Прохором из Городца и Андреем Рублевым) иконостас Благовещенского собора (1405), его понимание образа человека и божества не привилось в русском искусстве. Более того, из-под кисти самого Феофана Грека уже не выходило ничего подобного образам Спаса Преображения. Принадлежащие кисти Феофана Грека фигуры и лики деисусного чина Благовещенского собора гораздо спокойнее новгородских образов. XV в. вообще принес новые идеалы, новое понимание идеального образа и человека и божества. Стала больше цениться гармония духа и тела, нравственная цельность 1 и проистекающая отсюда красота («лепота»). Все это предвещает новую эстетику Иосифа Волоцкого, которую Г. П. Федотов очень удачно определил как некую московскую «калокагатию» 2.
Уже в конце XIV в., копируя икону «Владимирская богоматерь», Андрей Рублев создал совсем новое произведение, в котором нет и следа «мировой скорби». Его богоматерь своей успокоенностью, своим круглящимся силуэтом3 напоминает итальянских мадонн. В лице ее ничто не наводит на мысль о предстоящей жертве. И вместе с тем все это отнюдь не было снижением образа, как может показаться нашему рефлексирующему сознанию. «Надмирное» приведено в нем в равновесие с земным, причем земное понято и истолковано с гораздо большей степенью обобщения, чем в образах XIV в. Про богоматерь Андрея Рублева нельзя сказать, что это местный
1 Н. А. Демина, Черты героической действительности XIV—XV веков в образах людей Андрея Рублева... — ТОДРЛ, т. XII, стр. 318—319.
2 Г. П. Федотов, Святые древней Руси, стр. 174. Разработка вопросов эстетики Иосифа Волоцкого, обычно освещаемого в нашей литературе как поборника стяжательства, является настоятельной задачей искусствоведения. Без этого вряд ли может быть правильно понято творчество Андрея Рублева, слишком односторонне связываемое с воззрениями Нила Сорского. При этом нас не должно смущать, что деятельность Иосифа Волоцкого (как, впрочем, и Нила Сорского!) развивалась в то время, когда Андрея Рублева уже не было в живых. Ведь мы знаем, что живопись намного опережала литературу.
3 В. И. Антонова, Раннее произведение Андрея Рублева в Московском Кремле. — «Культура Древней Руси», стр. 22, рис. между стр. 22 и 23. Почти идентичное произведение имеется во Владимирском музее. Некоторые исследователи считают именно эту икону работой Рублева.
225 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
идеал женственности — владимиро-суздальский, новгородский или псковский. Он русский вообще.
В еще большей степени это относится к произведениям собственно персонального жанра. Изображение Сергия
46 Радонежского на шитой пелене — это и портрет и общерусский образ мудреца и подвижника К Психологическая углубленность и сосредоточенность — а портрет Сергия несомненно отличается этим — достигаются не страдальчески вскинутыми бровями, не полузакрытыми глазами- щелями, не схематическими ударами кисти вообще, а линией сугубо индивидуализированной, не боящейся асимметрии, даже анатомической неправильности. От образов Феофана Грека портрет Сергия отделяют как будто не десятилетия, а столетия! Спрашивается, кто же из мастеров больше обязан исихазму?
Рассмотрим с этой точки зрения изображения Христа, именно в персональном жанре.
От XV в. дошло немного таких икон — «Спас» в собрании Государственной Третьяковской галереи2, «Спас» из
47 бывш. собрания П. Д. Корина3, — но они могут служить «эталоном» новых художественных идеалов. Самое характерное в них — это возвышение конкретного, реального до идеального и наделение идеального чертами конкретно-реального. Путь к этому был проложен некоторыми произведениями XIV в., вершиной же достижения стал деисусный «Спас» Андрея Рублева из Звенигородского чина-
Н. А. Демина дала столь совершенную характеристику человечности звенигородского «Спаса»4, что мы не решаемся пускаться здесь в какие-либо рассуждения. Но одно хотелось бы добавить. Именно в звенигородском «Спасе» наиболее полно и ярко проявилась та новая «московская калокагатия», которая находит объяснение
1 См. подробно: М. А. Ильин, Мировидение XIV в. и его связи с искусством Московской Руси. — «Вестник Московского университета», № 5, 1968, стр. 53—54. Воспроизведение см.' М. A. Ilyin, Zagorsk. Trinity-Sergius Monnastery, M., 1967, p. 48.
2 См.: В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, табл. 198.
3 См.: В. И. Антонова, Древнерусское искусство в собрании Павла Корина, табл. 43.
4 См.: Н. А. Демина, Черты героической действительности XIV— XV веков в образах людей Андрея Рублева... — ТОДРЛ, т. XII, стр. 319.
15 «Проблема жанров»
226 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
не в аскетических воззрениях Нила Сорского, а, скорее, в полных чувства гармонии и меры (между духовным богатством и физической красотой) высказываниях Иосифа Волоцкого1. Хорошо известно, что Иосиф Волоц- кий очень высоко ценил произведения Андрея Рублева и Дионисия и, конечно, не за элементы мистицизма в них. В свете этого мы лучше понимаем, почему сами художники так любили подолгу созерцать свои творения. На фоне всех этих ярких признаков рождения новой эстетики, которую, пользуясь удачным выражением Г. П. Федотова, можно было бы назвать эстетикой московской калокагатии, попытки вывести искусство Андрея Рублева из мистического учения Сергия Радонежского выглядят неубедительными. Ведь само это учение было весьма исторически ограниченно1 2.
Было бы неправильным, сравнивая высшие достижения в области персонального жанра XIV в. с идеалами XV в., ставить одно выше другого. Образы Феофана Грека были вершиной драматизма, образы Андрея Рублева — идеалом гармонии. Перед нами извечное диалектическое единство противоположностей, нечто напоминающее Микеланджело и Леонардо (или Рафаэля).
Нельзя, впрочем, не отметить одного примечательного обстоятельства, — Феофан Грек достиг высшей силы экспрессивности в единоличных образах, но они воспринимаются скорее как типы, а не индивидуальности. У Андрея Рублева идеальный человек раскрывается во всех своих качествах в соединении с другими людьми. Я не знаю ни одного рублевского образа, замкнутого в самом себе, как феофановский Акакий или Макарий Египетский. Взятые по отдельности, они бледнеют3. Наоборот, включенные в тему широкого человеческого звучания («Троица», Звенигородский чин и т. п.), они пленяют ум и сердце. С точки зрения психологического типажа все это образы, конечно, субъективированные, но внутри этой категории они отличаются больше чертами эмоциональности, нежели интуитивности. Субъективно-эмоциональный тип характеризуется ведь совсем не бурностью эмоций, а наоборот: «.. . отношение к объекту по воз-
1 Г. П. Федотов, Святые древней Руси, стр. 174.
2 Там же, стр. 140 и сл.
3 Сравни аналогичное наблюдение в работе: А. Б. Матвеева, Фрески Андрея Рублева и стенопись XII века во Владимире, стр. 155.
227 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
можности сохраняется в спокойном и безопасном среднем состоянии эмоций, между упорным сдерживанием страсти и ее безграничностью.. . Эмоции хотя не экстенсивны, но интенсивны. Они развиваются в глубину»1. Конечно, эта характеристика может варьироваться для мужских и женских образов. Не углубляясь в этот сложный вопрос, можно условно назвать мужские образы рассматриваемого типа эмоционально-философскими.
В таком направлении работал не только Андрей Рублев, но и художники его круга. Напомню, что в это время русское певческое искусство обогащается именно канти- ленной разработкой старых роспевов, причем в этой разработке очень тонко применяется звуковой символический параллелизм изобразительным картинам2.
Вернемся в связи с этим к символизирующим видам искусства. Из них с новой силой расцвел деисусный жанр и связанные с ним темы моления и предстояния. Иконостасы Благовещенского собора Кремля и Успенского собора во Владимире дали высочайшие образцы деисус- ных чинов и как раз на их сравнении можно хорошо почувствовать то новое, что нес с собой деисусный жанр XV в. Как уже отмечалось, деисус придворного Благовещенского собора был династически-патрональным, акцент в нем сделан на психологической индивидуализации фигур, формально еще недостаточно объединенных3. В деисусе владимирского Успенского собора, собора «общерусского» предпочтение отдано более широкой и в известном смысле демократической идее единства всех добрых сил4. Андрей Рублев и Даниил Черный глубоко переосмыслили чиновые фигуры своего деисуса, не только увеличив их количественно, но сплотив их по силуэту, по ритму линий, по цветовым пятнам, в результате чего деисус стал выглядеть как грандиозная «нерушимая стена». Еще большее сплочение фигур произведено Андреем Рублевым в деисусе Троицкого собора Троице-
1 К. Г. Юнг, Психологические типы, стр. 72.
2 Н. Успенский, Древнерусское певческое искусство, стр. 177—178.
3 Л. В. Бетин, Исторические основы древнерусского высокого иконостаса. — «Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV—XVI вв.», стр. 66.
4 M. А. Ильин, Иконостас Успенского собора во Владимире Андрея Рублева, стр. 38; Л. В. Бетин, Исторические основы древнерусского высокого иконостаса, стр. 69.
16*
228 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Сергиевой лавры, где впервые были уничтожены разрывы, приходящиеся на алтарные столбы, то есть весь деи- сус, а с ним и весь иконостас, оказался сомкнутым 1 и чиновые фигуры образовали непрерывный ряд. Все это прекрасно выражало главные идеи эпохи: идею подза- щитности человека, идею равенства в общем предстоя- нии и идею централизации.
Так как высота деисусных икон доходила до трех метров1 2, то грандиозная вереница таких фигур должна была производить захватывающее впечатление.
Большие деисусные чины, рассчитанные на обозрение со всех точек храмового интерьера, стимулировали поиски силуэтного, ритмического и колористического единства композиции, в которой к концу XV в. стала все больше цениться торжественность. Возможно, что в связи с последним, а вернее, в связи с начавшимся «апофеозом Московского государства», центральный образ деи- сусного жанра — Спас — приобретает в высшей степени императивные формы. К началу XV в. складывается ико-
48 нография так называемого «Спаса в силах», призванного дать представление «о величии верховного божества, о его господстве над небом и землей» 3.
Изображаемый восседающим на престоле-троне, Спас дается на фоне пересекающихся разноцветных геометрических фигур — зеленого овала (небо), огненного ромба (божественная слава) и пламенного четырехугольника (земля). Символическая усложненность образа «Спаса в силах» ставит его на грань перехода в символико-аллегорический жанр и предвосхищает искусство XVI в.
Вместе с тем в XV в. деисусный жанр распространился на гораздо большее количество сюжетов, чем мы это видели в искусстве XIV в. В деисусном жанре стали
49 изображаться донаторские сюжеты («Молящиеся новгородцы», 1467) и даже сцены чудес («чудо о Флоре и Лавре»), Если для донаторских сюжетов деисусная композиция вполне уместна, то для жанра чудес она далеко не обязательна. Даже наоборот: сцена чуда по природе
1 Л. В. Бетин, Исторические основы древнерусского высокого иконостаса, стр. 50.
2 Там же.
3 В. И. Антонова, Ростово-Суздальская школа XIII — начала XVI века. — В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, стр. 229.
ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
своей повествовательна, она требует горизонтально развернутого действия, то есть таких средств, какими располагает легендарно-исторический жанр. В сцене «Чудо о Флоре и Лавре» мы видим полный отказ от принципов легендарно-исторического жанра. Классическим образцом этого сюжета является знаменитая новгородская икона, в которой все построено по законам символической симметрии: вверху архангел Михаил с Флором и Лавром по сторонам, ниже— пара коней, которых архангел держит за поводья. И только нижний регистр композиции с легендарными коневодами представлен «бытей- ски»: коневоды мчатся, гоня перед собой табун разномастных лошадей.
Неудачи с объяснением происхождения сюжета «Чудо о Флоре и Лавре» являются лишним доказательством того, насколько важно подходить к произведениям древнерусской живописи с учетом их жанровой природы. Н. П. Малицкий пытался свести рассматриваемую композицию к балканскому культу Диоскуров *, а в последнее время к этому привлечены даже иранские митраистские троечастные концепции1 2. Между тем материал для сюжета «Чудо о Флоре и Лавре» давно имелся в древнерусской живописи и все дело заключалось в том, чтобы придать ему деисусную жанровую трактовку. В этом приняли участие и популярные на Руси изображения Бориса и Глеба всадниками, и их же изображения, но пешими и с архангелом Михаилом в центре. Немалую роль здесь сыграла и народная традиция, восходящая к древним представлениям типа богини с всадниками (см. главу II). Но для того чтобы из всего этого образовалась рассматриваемая нами композиция, нужна была помимо имеющихся элементов потребность в возвышенной, торжественно-деисусной, то есть в конечном счете символизирующей и поэтому очень широкой и емкой картине, каковой и является замечательная новгородская икона — плоть от плоти русского творчества.
1 См.: Н. П. Малицкий, Древнерусские культы сельскохозяйственных святых по памятникам искусства. — «Известия Государственной академии истории материальной культуры», т. XI, вып. 10, 1932, стр. 22.
2 См.: Л. А. Лелеков, О некоторых иранских элементах в искусстве древней Руси. — «Тезисы докладов Всесоюзной конференции по искусству и археологии Ирана», М., 1969, стр. 16—17.
233 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Любопытно, что даже в этих условиях сохранился интерес не только к бытовым мотивам, но и к природе с ее флорой и фауной, причем, как и в житийном жанре, эти бытовые реалии и были в первую очередь носителями «элементов реалистичности». Бытовые фрагменты икон с «предстательством» не подчинялись деисусной композиции, они следовали своим жанровым законам (законам легендарно-исторического или житийного жанра), благодаря чему такие композиции превращались в двужанровые и даже трехжанровые. Казалось бы, такая «комплексность» должна была приводить к нарушению художественной целостности, но наблюдается обратное: произведение кажется более многоплановым, более полно выражающим мысль и чувства, а поэтому и более жизненным 1.
Таким образом, и в жанре предстояний, являющемся вариантом деисусного жанра, абстрагирование сопровождалось конкретизацией, небесное сводилось на землю, но не с тем, чтобы утратить свою одухотворенность, а для «благословения всего земного» 1 2. Все это не похоже на эстетику исихазма.
Но усложняющаяся жизнь, централизаторская государственная политика, выход Московской Руси на международную арену требовали и других художественных концепций, в которых закреплялась бы идеология централизма. Уже в XIV в. в росписях новгородского храма Спаса на Ковалеве появился заимствованный из Сербии (или Византии?) сюжет «Царь царем» (или «Предста царица одесную тебе»), в котором сидящему на троне Христу и предстоящей ему богоматери придан царский облик3. Здесь земное вознесено на небо. В XV в. этот сюжет перешел в иконопись. Икона в собрании Государственной Третьяковской галереи4 показывает, в каком направлении развивался деисусный жанр и какие художественные потери при этом произошли. Хотя сидящий
1 Ср.: М. В. Алпатов, Вопросы изучения и истолкования древнерусского искусства. — «Искусство», 1967, № 1, стр. 69—70.
2 М. В. Алпатов, Вопросы изучения и истолкования древнерусского искусства. — «Искусство», 1967, № 1, стр. 69.
3 В. Н. Лазарев, Ковалевская роспись и проблема южнославянских связей в русской живописи XIV века. — «Ежегодник Института истории искусств», М., 1958, стр. 254 и сл.
4 В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, табл. 74.
231 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
на троне Христос-царь-архиерей (у него крестчатый омофор) многим близок к образу «Спаса в силах», но официозность царственного вида заслонила в нем человечность — главное завоевание искусства XV в.
Гораздо плодотворнее идеи и настроения торжества развивались в гимнографическом жанре, в который в первую очередь входят акафистные темы, а также связанные с идеей прославления сюжеты «Покров богоматери», «Похвала богоматери», «О тебе радуется», «Достойно есть» и т. п. Особенно излюбленными эти гимнические темы стали к концу века, в творчестве Дионисия !.
Гимнографический жанр был настолько всепроникающим, что его можно приравнять к объединительному «метажанру», определяющему характер всей храмовой росписи, как это мы видим в соборе Ферапонтова монастыря1 2. Это не исключает, а предполагает, что в роспись входили и другие жанры, на правах первичных. В росписи собора Ферапонтова монастыря в таком положении оказались церковно-исторический («вселенские соборы») и паремийный (притчи) жанры.
Гимнографический жанр, как мы уже знаем, отличался примерно теми же чертами, что и символико-догматический и другие символизирующие жанры. Изображалось не действие (событие), а состояние, в данном случае состояние молитвенного или похвального предстояния. В росписи храма Ферапонтова монастыря почти все сцены с богоматерью трактованы не как житийные, а как похвальные3. В центре находится объект похвалы, остальные фигуры располагаются зеркально. Любопытно, что этот принцип захватил собой и сцены «вселенских соборов», а также акафистные сцены, которые «не были обязаны» подчиняться симметричной статике. Здесь полностью господствует та «идея торжества», о которой в отношении искусства XV в. писал Н. М. Щекотов (см. выше).
1 Б. В. Михайловский, Б. И. Пуришев, Очерки истории древнерусской монументальной живописи, стр. 40 и сл.
2 См.: И. Е. Данилова, Иконографический состав фресок Рождественской церкви Ферапонтова монастыря. — «Из истории русского и западноевропейского искусства», стр. 121.
3 См. там же, стр. 120 и сл. Показательно, что художники не изобразили в росписи сцены успения богоматери, в чем В. Н. Лазарев видит сознательный отказ от драматической ноты (В. Н. Лазарев, Дионисий и его школа. — «История русского искусства», т. Ill, стр. 516).
232 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Композиции гимнографического жанра XV в. существенно отличаются от родственных произведений XIV в. Они населены множеством фигур, сгруппированных в так называемые лики, причем в иконах «Покрова богома- 53 тери» эти лики располагаются по бокам фигуры богоматери, в два и в три яруса. Они кажутся стоящими на каких-то фантастических балконах, но так как в действительности это никакие не балконы, а полная условность, то тем самым пространство теряет конкретность и мы словно оказываемся перед видением. По существу, «вла- хернское чудо» и было таковым. Однако теперь уже не одна фигура богоматери витает в воздухе, но и предстоящие лики. Их архитектурное обрамление не образует интерьера. По сравнению с иконами XIV в. это было усилением абстрагирования. Но надо признать, что композиции очень выигрывали в особой «музыкальной» приподнятости. Особенно красива в этом отношении новгородская икона «Покров богоматери» XV в.1, «архитектура» которой действительно похожа на орган. Когда говорят о «песенном начале» в искусстве XV в., то хочется отнести это именно к подобным иконам 1 2.
Элемент видений в XV в. тоже усилился, как усилилась символика и фантастика вообще. Различные видения выльются в целый жанр в искусстве XVI в., остающегося за границами нашей книги.
Сказанное о популярности гимнографического жанра, о характере трактовки в нем образа богоматери помогает понять несколько своеобразную судьбу в XV в. бо- городничного лирико-догматического жанра. Если в эпоху Андрея Рублева тема «умиления» еще привлекала к себе нежные чувства, то по мере возвышения «царственной Москвы» она стала уступать место более торжественному образу Одигитрии. Правда, от XV в. сохранилось немало икон типа «Богоматери Владимирской»3 и
1 См.: В. Н. Лазарев, Живопись и скульптура Новгорода, стр. 227. Между прочим, орган впервые был привезен в Москву в 1490 г.
2 См. подробнее: В И. Антонова, Древнерусское искусство в собрании Павла Корина, стр 12.
3 В Загорском музее («Троице-Сергиева лавра. Художественные памятники», М., 1968, табл. 62, 104), во Владимирском музее («Ростово-Суздальская школа живописи», М., 1967, табл. 44), в бывш. собрании П. Д. Корина (В. И. Антонова, Древнерусское искусство в собрании Павла Корина, табл. 37—39) и пр.
233 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
«Донской», но Одигитрия стала излюбленной !, ее образы решительно преобладают. Их даже трудно перечислить. «Богоматерь Одигитрия» кисти Дионисия2 была далеко не ранним произведением, скорее она замыкает эту тему в искусстве XV в., давая образец величавости и спокойствия, столь импонирующих вкусам времени Ивана III. Ее образ можно сопоставить с архитектурой Успенского собора. В скульптуре он представлен известным рельефом Василия Ермолина (1462), который А. И. Некрасов назвал «мадонной Ермолина», сравнив улыбку богоматери с Джокондой Леонардо да Винчи3. Подобные строгие образы имеют прототипом знаменитую икону «Богоматери Смоленской»4. Для произведений XV в., лучшее из которых находится в Музее древнерусского искусства 51 имени Андрея Рублева5, характерна очень гармоничная композиция, красивый овал лица богоматери с большими миндалевидными глазами, тонкие кисти рук с изящными пальцами 6—словом, тот артистизм, который пришел на смену интимности образов предшествующей эпохи.
Я далек от мысли, что лирико-догматический богородичный жанр утерял какие-то ценности. Образ Одигит- рии в живописи XV в., по крайней мере в лучших ее произведениях, представляется более широким и емким. Тема материнской жертвенности божественным сыном в нем ослаблена, а подчас и не чувствуется совсем. На первый план выдвинулась тема, скорее, историческая.
Еще в Византии икона Одигитрии особо чтилась императорами. Они брали ее в свои походы. Считалось, что
1 Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, т. II, стр. 152. Так было, между прочим, и в Византии.
О том, какое большое значение в XV в. придавалось образу Одигитрии, говорят такие факты, как «пленение» (в 30-х гг.) московским воеводой Юргой смоленской иконы. В середине XV в., в разгар феодальной войны, митрополит Иона взял под свое покровительство перед иконой Одигитрии сыновей Василия Темного, скрывавшихся в то время в Муроме (ПСРЛ, т. XXV, М. — Л., 1949, стр. 226).
2 См.: В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской
живописи, т. I, табл. 214.
3 А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, стр. 245—246.
4 См. о ней: Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, т. II, стр. 198—199.
5 И. А. Иванова, Музей имени Андрея Рублева, М., 1968, табл. 28.
6 И. А. Иванова, Икона Тихвинской богоматери и ее связь со «Сказанием о чудесах иконы Тихвинской богоматери». — ТОДРЛ, т. XXII, стр. 421.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
именно в образе Одигитрии переданы «исторические» чёрты богоматери. Постепенно она стала «эмблемою Византии»1. Естественно, что с падением Константинополя в его «преемнике» — Москве должно было особо возвыситься почитание этого образа и именно в наиболее торжественном («римском») его варианте, хотя уже не во весь рост и даже не поколенно, а по пояс. К этому времени образ Одигитрии приобрел те классические, идеальные черты, которые позволили Н. П. Кондакову сравнивать его с Афиной-Минервой1 2. Конечно, это относится в первую очередь к иконе римской церкви Марии Мад- жиоре, но и в идущих от нее списках сохранилось нечто от античности, что в эпоху Возрождения должно было быть особенно созвучным «духу разума».
Так или иначе, но в русских произведениях XV в. образ Одигитрии получил столь глубокое и возвышенное воплощение. что его действительно можно называть мадонной. Далеко не во всех памятниках богоматерь изображена строго вертикально, как у Дионисия. В XV в. очень любили варианты Одигитрии, получившие название Иерусалимской3 и Тихвинской4, в которых богоматерь склоняет голову к сыну, как бы возвращая нас к теме Елеусы. Собственно говоря, эта особенность идет издревле. В XV в. она сосуществовала с более репрезентативным образом «выпрямленной» Одигитрии. Надо сказать, что эти лирические варианты давали больше возможностей для поэтической разработки образа, что мы и видим в иконе Музея имени Андрея Рублева.
Артистизм ее исполнения — это не формальный артистизм, а артистизм духа, вернее, души, поскольку суть иконы вовсе не в спиритуализации образа, а в его благородстве. Перед нами та же «рублевская» этическая тема, но как бы приподнятая до вершин классики. В связи с этим живописная сторона несколько утрачивала в мяг¬
1 Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, стр. 154. Михаил Палеолог вошел в отвоеванный у латынян Константинополь не ранее, чем туда была внесена икона Одигитрии.
2 Там же, стр. 172. В развернутой форме это сравнение дано П. А. Флоренским.
3 Н. Е. Мнева, Новгородская школа XIII—начала XVI века.— В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской иконописи, т. I, стр. 110—111.
4 И. А. Иванова, Икона Тихвинской богоматери. — ТОДРЛ, т. XXII, стр. 420—421.
235 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
кости письма, но зато приобретала в четкости, ясности и своеобразной цветовой пластичности. Сравнения произведений древнерусской живописи с работами художников эпохи Возрождения всегда условны и содержат элемент натяжки. Но если А. И. Некрасов сравнивал улыбку «мадонны Ермолина» с Джокондой Леонардо, а М. В. Алпатов сопоставляет поэтическую образность сцены единоборства Федора Стратилата (XV в.) с картинами итальянских мастеров того же времени !, то применительно к таким произведениям, как Одигитрия Музея имени Андрея Рублева, можно говорить о «классическом начале» в московской живописи XV в.
Главное же состоит в том, что лирико-догматический жанр в условиях XV в. открыл дорогу к всестороннему раскрытию образа богоматери. Это не только мать, скорбящая о будущей жертве или упоенная материнским счастьем; это и героическая, мудрая женщина («Афина- Минерва»), которая может быть и соправительницей и создателем больших духовных ценностей.
Казалось бы, перед нами разновидность персонального субъективированного типа, а именно мыслительный, а не эмоциональный тип. Но это не так. Для мыслительного типа рассматриваемый образ слишком внутренне целен, не рефлексирован. Это уже знакомый нам эмоциональный тип, но сохраняющий, внутренне и внешне, равновесие, откуда и его «классичность», т. е. вышеупомянутая «московская калокагатия».
Наконец, это действительно красивая, нравственно возвышенная женщина, про образ которой в народе было сложено немало песен и сказаний.
Но XV в. и здесь положил начало новой абстракции. Появляется такой извод, как богоматерь «Гора неруко- сечная»2, связанный с текстом Книги пророка Даниила (толкование Даниилом сна царя Навуходоносора): «. . . аз видех гору, от нея же отсечеся камень нерукосечный». Правда, в иконе XV в. элементы символики в виде маленькой горки и лесенки в правой руке богоматери введены очень скромно, в крохотном масштабе, но путь к новому был открыт. В XVI в. новая тема выльется в развернутые композиции.
1 М. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 214.
2 В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи, т. I, стр. 364.
236 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Казалось бы, что в увлечении символикой, фантастикой и торжественностью замыслов художники XV в. способны были потерять ощущение непосредственной жизненности образов. Но, во-первых, символика, фантастика и торжественность являлись не самоцелью, а средством выражения особо волнующего содержания. Мы видели, какую большую и возвышенную роль сыграла символика в «Троице» Андрея Рублева. Такую же роль, но в жанре чудес, играла фантастика. Изумительные по сказочности, даже эпичности, иконы «Чудо Федора Тирона», «Чудо св. Георгия» и т. п. все более и более подводили искусство иконописи к картине. В первую очередь это относится, конечно, к клеймам, в которых композиция строилась динамично, пространство по возможности конкретизировалось, в действие включались жанровые фигуры и бытовые детали. Во-вторых, отмеченные тенденции захватывали далеко не все искусство. Житийный жанр, хотя он, конечно, тоже включал фантастику, крепко связывал искусство с людьми, с их повседневными чаяниями.
Житийный жанр в XV в. приобрел героический харак-
54 тер, начало чему было положено иконой «Архангела Михаила с деяниями» из Архангельского собора Кремля. Может быть, она относится еще к XIV в.? 1 Ее клейма полны самых императивных сцен. Особенно выделяется
55 клеймо, где изображено единоборство Иакова с ангелом. Большую героизацию человека, чем это выражено в фигуре Иакова, трудно себе представить. Иаков изображен не только не уступающим в силе ангелу, но, пожалуй, даже превосходящим его. В этом угадывается античное понимание сцены единоборства.
В том же героизированном, отнюдь не иератическом образе представлен в среднике и архангел Михаил. Его атлетическая фигура с мечом на плече полна внутреннего напряжения.
Правда, рассматриваемая икона, строго говоря, не житийная и в средниках икон развитого XV в. уже нет таких «эпических» фигур, их изображения более «аристокра- тизированные». Чем ближе к концу XV в., тем более они делаются «щеголеватыми», как, например, Федор Стратилат на иконе новгородского происхождения,
1 К. Г. Тихомирова, Героическое сказание в древнерусской живописи. — «Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV—XVI вв.»г стр. 22—24.
237 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
что в какой-то степени можно сопоставить с формированием демественного стиля в музыке, отличавшегося светской приукрашенностью. Но нигде так не воспевались подвиги героев в борьбе с силами зла, как именно в житийных иконах. Клеймо упомянутой иконы «Федор Стра- тилат», в котором представлен конный Федор, поражающий дракона, может служить своеобразным фронтисписом ко всему героическому XV в. Недаром М. В. Алпатов сравнивает это изображение с картинами художников эпохи Возрождения.
Здесь мы снова должны вернуться к вопросу о взаимоотношении клейм и средника. Оно развивалось в духе, намеченном в XIV в. Средник далеко не всегда противопоставлялся клеймам в смысле разного состояния «героев». Г. К. Тихомировой принадлежит очень тонкая мысль: «Взаимодействие клейм и средника, как всегда, выявляет особенности замысла» К Она показала это на упомянутой выше иконе «Архангел Михаил», в которой клейма связаны со средником (и средник с клеймами) не только «в графической конструкции, ритмическом строении, пространственном решении», но и психологически, путем обращения, например, одного из отроков (в сцене «Три отрока в пещи огненной») к крылатому архангелу средника: «Отрок видит архангела, для него крылатый воин — реальность, видимая только в мгновение высочайшего вдохновения»2.
Средники так называемых воинских икон тоже никогда не замкнуты в себе. Даже в тех случаях, когда фигура святого воина изображена фронтально, она многими нитями связана с жизнью клейм. Показательна в этом отношении икона «Св. Георгий с житием» в собрании Музея 52 имени Андрея Рублева (XV в., из г. Дмитрова). Хотя в клеймах изображены преимущественно сцены мучений, но воин снабжен таким набором оружия (копье, меч, лук со стрелами, щит) и вся его фигура с этим вооружением столь насыщена готовностью действия, что об изолированности ее говорить не приходится.
Гораздо изолированнее святительские фигуры, сан которых требовал выражения спокойствия и даже известной отрешенности. По отношению к ним справедливы
1 К. Г. Тихомирова, Героическое сказание в древнерусской живописи, стр. 21.
2 Там же.
23В ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
слова Д. С. Лихачева, что такие фигуры «надмирны» 1. Это относится даже к столь популярным святым, как москов- 57 ские митрополиты Петр и Алексей. Но достойно внимания, что средник не отделен от клейм рамой, он как бы непосредственно сливается с клеймами2, образуя вместе с ними единое светлое колористическое целое. Устранены также вертикальные членения между клеймами, фигуры которых значительно укрупнены и как бы приближены к фигуре средника3. Мы стоим здесь, в сущности, перед рождением нового отношения к многособытийному разновременному действию, которое начинает рассматриваться как бы синхронно. Достаточно будет в дальнейшем расположить сюжеты более свободно, и перед нами появится так называемая симультаническая «картина», типичная для искусства XVI в. Зарождение этого приема мы наблюдали в гимнографическом жанре еще в XIV в. Не под его ли влиянием происходила эволюция житийных икон? Ведь тема прославления, похвалы святого была в них главной.
Сами клейма содержат чрезвычайно интересные композиции, представляющие богатую пищу для искусствоведов и историков. При этом клейма обеих икон, составлявших некогда пару, строятся не по единой схеме, а с таким расчетом, что одна серия является как бы продолжением другой4. Таким образом, как и в XIV в., мы видим, что живописцы не были простыми иллюстраторами литературных житий. Последние давали некую канву и материал для творчества. Но художественное творчество было вполне самостоятельным.
Связанный тесно с житийным жанром, жанр чудес в начале XV в. отмечен теми же эпико-героическими чертами, которые к концу века эволюционируют в сторону рыцарской элегантности.
Тема «Чудо св. Георгия о змие» в XV в. была одной из самых любимых. Особенно поэтические образы были
1 Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, стр. 137.
2 И. Е. Данилова, Житийные иконы Петра и Алексея из Успенского собора в Кремле в связи с русской агиографией. — ТОДРЛ, т. XXIII, стр. 213.
3 Г. И. Вздорнов, Живопись. — «Очерки русской культуры XIII — XV веков», ч. 2, стр. 369.
4 И. Е. Данилова, Житийные иконы Петра и Алексея. — ТОДРЛ, т. XXIII, стр. 205—206.
239 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
созданы в новгородской живописи. По сравнению с иконами XIV в.г теперь главное внимание обращается не на мужество героя в претерпеваемых мучениях, а на его всенародный подвиг. Обогащение образа, многогранное его понимание привело к очень интересной трактовке самого чуда. Изображается не краткий эпизод единоборства и не нечто вневременное, как раньше, а такое состояние, которое «стоит на грани между единовременным событием и вневременным состоянием» \ то есть налицо то самое взаимопроникновение клейм и средника, о котором мы говорили выше.
Как это проявляется в данном случае? М. В. Алпатов, анализируя знаменитую икону «Чудо св. Георгия о змие» (из бывш. остроуховского собрания), отмечает протяженность борьбы героя с чудовищем, благодаря чему можно воспринимать «различные психологические оттенки борьбы» 2. Всадник изображен уже проскочившим змея, но 56 обернувшимся и всаживающим копье в его пасть как бы с опозданием. Таким образом, хорошо ощущается временная протяженность схватки. Это ощущение тут же усиливается, так как возникает мысль: а может быть, всадник делает уже не первый «заход» на чудовище, может быть, за изображенным действием потребуются новые «заходы». Тем самым подчеркивается смелость, героизм воина, расширяется его этический облик. Ему сообщается многогранность, развитие во времени (в процессе борьбы). Элемент времени (развитие подвига и образа во времени) в жанровом отношении очень важен. Он разрушает изолированность изображения, приближая его к картине.
Любопытно, что в московской живописи образ Георгия- змееборца не был столь популярен, как в Новгороде. Тем не менее он оказался воссозданным в круглой пластике, украсив Фроловскую башню Кремля. Немало скульптурных изображений на эту тему возникло в «провинции».
Для жанра чудес рассматриваемого периода характерно не только усложнение времени действия, измерение его временем «переживания героя», но и особо приподнятое отношение к изображаемому подвигу, возведение
1 М. В. Алпатов, Образ Георгия-воина в искусстве Византии и древней Руси. — ТОДРЛ, т. XII, стр. 307.
2 Там же.
240 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
его в степень похвалы Мы снова наблюдаем здесь отмеченное выше проникновение гимнографического начала в другие сферы искусства.
После всего сказанного о жанрах искусства XV в. не понадобится много слов, чтобы охарактеризовать эсхатологический жанр. Он тоже отмечен гимнографией.
Стало общим местом, что во владимирской росписи Андрея Рублева «Страшный суд» выглядит совсем не устрашающим, а, скорее, даже обнадеживающим. Стоит только всмотреться в открытое доброе лицо апостола Петра, идущего с праведниками в рай, как возникает мысль: ничего страшного не должно случиться. На самом деле, конечно, и рублевский «Страшный суд» очень драматичен 1 2, но драматизм этот все же не внешний, не экспрессивный, он переведен в высшую философско-этическую сферу.
Мы видели выше (см. главу III), что тема «спасения людей» Христом расширялась на Руси до религиозной утопии, вбиравшей в себя социальные чаяния широких масс. В эпоху Рублева это нашло наиболее яркое выражение. Л. В. Бетин считает, что под влиянием того направления в русской эсхатологии, которое «мыслило Страшный суд как событие, должное установить царство добра и справедливости, царство без иерархических различий», произошло такое важное явление, как смыкание древнерусского иконостаса в единую общую картину, уже не расчлененную алтарными столбами (см. выше).
По сравнению с деисусом в картине Страшного суда людские судьбы отражены более непосредственным образом, а в произведении Андрея Рублева они преломлены не столько через будущее, сколько через настоящее. Во фреске Успенского собора г. Владимира особенной проникновенностью и жизненностью отличается трактовка женских образов — носителей «интровертиро- ванного эмоционального» типа, созданного не фантазией, а продиктованного эпохой Возрождения Руси. Рублевские образы «праведных жен» — это, как хорошо ска-
1 М. В. Алпатов, Образ Георгия-воина в искусстве Византии и древней Руси. — ТОДРЛ, т. XII, стр. 307.
2 Силу драматизма рублевского «Страшного суда» лучше всего понял и раскрыл А. И. Зотов (А. И. Зотов, Русское искусство с древних времен до начала XX века, М., 1971, стр. 45—50).
241 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
зала Н. А. Демина, ярчайший документ о роли русской женщины в эпоху освобождения от татарского ига и сложения Русского централизованного государства *.
Сидящие апостолы тоже не похожи на суровых небесных судей росписи Дмитриевского собора, они тоже благостны. Но показательно в жанровом отношении, что, несмотря на рост объединяющего всю композицию начала2, фигуры беседующих апостолов все же достаточно разъединены. Две крайние восточные фигуры изображены на арке и хотя обращены в сторону остальных фигур, но связаны с ними слабо. Другие две крайние фигуры— апостолы Петр и Павел — совсем выключены из апостольской группы и перенесены на западную стену, где они фланкируют композицию «Престол уготованный». В символико-догматическом жанре такие «вольности» были бы невозможны.
Ключом всего замысла, конечно, является фигура главного судии — Христа. В его образе ничего не осталось от грозного Пантократора. Христос дан в типе «Спас в силах». Его распростертые руки скорее гостеприимно приглашают, нежели повелительно указуют. Склонившиеся фигуры богоматери и Иоанна Предтечи, распростертые Адам и Ева, трубящие ангелы с их леонардов- ской грацией — все это делает «Страшный суд» похожим на картину гимнографического жанра с его песенным началом, нежели на эсхатологию. Вдохновлявшийся, видимо, чувством преклонения перед нравственной возвышенностью человека, его духовностью, Андрей Рублев, может быть, невольно вытягивал фигуры, сообщал им «готическую» одухотворенность.
В еще большей степени это относится к Дионисию. «Страшный суд» в росписи Ферапонтова монастыря — последний отклик на концепцию Рублева. В трактовке Дионисия «Страшный суд» приобрел черты «возвращения в дом отчий»3, как то явствует из введения в общую композицию притчи «Возвращение блудного сына».
1 Н. А. Демина, Черты героической действительности XIV—XV веков в образах людей Андрея Рублева... — ТОДРЛ, т. XII, стр. 317.
2 Н. А. Демина, О связях Андрея Рублева и мастеров его круга с искусством и культурой Киевской и Владимиро-Суздальской Руси.— «Андрей Рублев и его эпоха», стр. 134; А. Б. Матвеева, Фрески Андрея Рублева и стенопись XII века во Владимире, стр. 152.
3 Б. В. Михайловский, Б. И. Пуришев, Очерки истории древнерусской монументальной живописи, стр. 40.
16
«Проблема жанров»
242 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Особенно возвышенным строем и одухотворенностью отличаются группы шествующих в рай праведников.
К концу XV в. в эсхатологический жанр проникают и драматические апокалипсические черты. Вероятно, в этом проявился спад общественной жизни, усилившиеся противоречия внутри феодального общества и даже внутри церкви. В притесняемых кругах на исходе XV в. снова ждали «конца света».
Так или иначе, но большая икона «Апокалипсис» Успен- 58 ского собора Кремля дает совсем иную картину. Впервые эсхатологическая сцена представлена без четкого разделения на ярусы, без строгой симметрии, как некое смещение всех начал, как страшная катастрофа1. Повествование осложнено такими сюжетами, какие в предшествующем искусстве не встречались. Само повествование ведется чрезвычайно извилистым путем, совсем не так, как в «Страшном суде» Снетогорского монастыря. Для прочтения иконы «Апокалипсис» требовалась литературная подготовка, что, однако, не снижает ее живописных достоинств, так как перед нами не умозрительная конструкция, а художественный образ.
Вместе с тем наглядность, семантическая выпуклость всех образов и сцен, прекрасное владение мастера формами человеческого тела, движением, ритмом, колоритом придают иконе «Апокалипсис» характер смешанного жанра, в котором слились воедино черты и легендарноисторического, и житийного, и гимнографического жанров, и жанра чудес и видений. Это говорит о творческой свободе исполнителя «Апокалипсиса», о выходе его за традиционные жанровые рамки, о таком охвате явления, в котором предвосхищаются особенности монументального творчества XVII в. и даже нового времени.
Трудно сказать, какому из «синкретизированных» жанров принадлежала ведущая роль в отмеченном процессе. Легендарно-исторический жанр вносил событийность, житийный — цикличность, гимнографический — возвышенность («хоровое начало»), жанр чудес и видений — фантасмагоричность. Это было очень плодотворное жанровое содружество. Оно станет необходимым условием развития эсхатологического жанра в XVI—XVII вв.
1 М. В. Алпатов, Памятник древнерусской живописи конца XV века, М., 1964, стр. 47 и сл.
243 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
В искусстве XV в. впервые появились такие сюжеты, которые, оставаясь в рамках иконописи, по существу относятся к области светских жанров. Правда, и в XIV в., в сценах на темы притч, светский элемент был очень значителен. В XV в. он даже расширился, включив в себя такие мотивы, какие в церковных жанрах вообще считались недопустимыми. Я имею в виду ставшую широко известной фреску церкви в Мелетове (1465)!, выполненную на тему рассказа «О некоем скомрасе, хулившем пречистую богороди-
62 цу» 2. На ней изображен скоморох Анн, под игру которого совершается пляска. Правда, как и в паремийных сценах XIV в., рассказ о скоморохе продиктован религиозной, в данном случае богородичной темой, он развивает сюжет, действующим лицом которого выступает богоматерь, здесь же и изображенная. Но чтобы поместить в центре композиции скомороха, да еще изобразить его торжественно восседающим, во фронтальной позе, — все это очень необычно. Никакого сравнения с росписями Софии Киевской быть не может. Мелетовская фреска является завоеванием паремийного (приточного) жанра XV в.
Нечто аналогичное происходило и в иконописи. В XIV в. мы видели иконы с изображением едущих на конях Бориса и Глеба, которые уже трудно считать иконами, настолько они «картинны». Лишь нимбы вокруг голов братьев напоминают о том, что перед нами все же нечто священное.
61 В новгородской иконе «Битва новгородцев с суздаль- цами» только шесть фигур с нимбами — а их целые сонмы,— остальные представляют простых людей и войско. Очень интересно, что повествование, развертываясь в трех регистрах, начинается не снизу, а сверху (перенос иконы «Знамение»). В среднем ярусе представлена встреча послов и обстрел иконы суздальцами. Внизу показана сама битва, конное войско суздальцев изображено частью в наступлении, частью в бегстве.
1 См.: Ю. Н. Дмитриев, Мелетовские фрески и их значение для истории древнерусской литературы. — ТОДРЛ, т. VIII, М. — Л., 1951, стр. 406—410.
2 Д. С. Лихачев, Древнейшее русское изображение скомороха
и его значение для истории скоморошества. — «Проблемы сравнительной филологии»», М. — Л., 1964, стр. 463—464; Н. Н. Розов, Еще раз об изображении скомороха на фреске в Мелетове. — «Древнерусское искусство. Художественная культура Пскова», М., 1968,
стр. 85 и сл.
V2I6 «Проблема жанров»
244 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Развитие повествования сверху вниз, а не снизу вверх представляет собой отказ от очень древней традиции, причину которого следует видеть в самом жанре. Перед нами не космология, а история. Если в символизирующих и догматизирующих жанрах развитие снизу вверх диктовалось необходимостью расположить наверху наиболее сакральное, то в историзирующих жанрах такая структура привела бы к отрыву конечной фазы повествования от зрителя, что противоречило бы главной тенденции — представить главные события ближе к зрителю. Это и привело к «опрокидыванию» старой системы, к новому пониманию пространства1. Так будут строиться в дальнейшем многочисленные и многоэпизодные сюжеты в миниатюрах XVI в.
В симметричности композиции, в изображении войска традиционной «горкой» много условного, условен сам фон. Но нельзя не обратить внимания на две особенности: развитие действия во времени (перенос иконы — переговоры— битва) и «приостановку» этого времени, что создает впечатление вечности. Как будто дело заключается не в показе одержанной победы (одномоментное, преходящее событие), а в демонстрации того, что эта победа постоянна «во веки веков». Таким образом, элемент известной «догматики» здесь сохранен.
Тема иконы была в XV в. очень популярной, так как известно несколько произведений, очень похожих друг на друга.
А. И. Некрасов считал, что перед нами «не реальное историческое произведение, а иносказание»2, но непонятно, в чем же это иносказание заключается. Разве только в том, что икона создана уже после присоединения Новгорода к Москве?
Но, во-первых, это неверно. Новгород потерял свою самостоятельность в 1478 г., первая же икона «Битва новгородцев с суздальцами» появилась вслед за соответствующим литературным произведением 1448 г.3.
1 Таким образом, неправы те исследователи, которые считают, что в произведениях древнерусской живописи низ изображения всегда предшествует верху. Это — черта древнего искусства, но она вовсе не была неизменной.
2 А. И. Некрасов, Древнерусское изобразительное искусство, стр. 175.
3 Н. Г. Порфиридов, Два сюжета древнерусской живописи в их отношении к литературной основе. — ТОДРЛ, т. XXII, стр. 113.
245 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
Во-вторых, если бы это было и так, то историзм тем самым ничуть не устраняется. Изображенное на иконе событие произошло в 1170 г. Ю. Н. Дмитриев назвал рассматриваемую икону (а их известно несколько) «первой исторической картиной» \ а Н. Г. Порфиридов исчерпывающе показал, что мастер иконы пошел гораздо дальше в смысле исторической конкретизации, нежели Пахомий Серб — автор литературного произведения о «Чуде от иконы Знамение»2.
Проникновение конкретно-исторической темы в иконопись свидетельствует о том, что исторический жанр уже не ограничивался миниатюрой. И все же именно в области книжной миниатюры он дал в XV в. замечательный образец, каким являются иллюстрации Радзивилов- ской летописи.
Миниатюрами Радзивиловской летописи открывается область светских жанров искусства XV в.
Исторический жанр миниатюр обслуживал конкретные потребности. «На летописи опирались, как на один из важнейших документов при решении спорных вопросов внешней и внутренней политики сначала отдельных княжеств, а затем и централизованного государства» 3. Миниатюры же являлись «наглядной передачей содержания летописного текста» 4.
Радзивиловский список был выполнен, по мнению О. И. Подобедовой, в связи с централизаторскими мероприятиями московского правительства и придворной борьбой за престолонаследие. Отсюда интерес к владимирскому лицевому летописанию, в частности к истории убийства Андрея Боголюбского. Участие в создании Радзи- виловского списка клирошанина Ивана Черного, члена московского еретического кружка, объясняет малое количество церковных сюжетов в миниатюрах.
Однако и без этого миниатюры Радзивиловской летописи представляют собой очень цельное явление как обра-
1 Ю. Н. Дмитриев, Об истолковании древнерусского искусства, стр. 360.
2 Н. Г. Порфиридов, Два сюжета древнерусской живописи. — ТОДРЛ, т. XXII, стр. 114—115.
3 О И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, стр. 8.
4 Там же.
V216*
246 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
зец исторического жанра. Поскольку главное назначение миниатюр состояло в наглядной передаче летописного текста, то на миниатюры перешла и фактологичность последнего. Рисунки дают не развернутые, переходящие одно в другое действия, а как бы выхваченные из общего потока «мизансцены». В этом отношении художники XV в., очевидно, повторяли миниатюры-оригиналы 1212 г., которые, в свою очередь, хранили киевскую традицию.
Что же приходится на долю мастеров XV в.? Оказывается, довольно многое.
Во-первых, миниатюристы XV в. (их было не меньше двух) превратили одноколончатые рисунки оригинала в двухколончатые, то есть во фризовые 1 .Это позволило развертывать композиции по горизонтали, делать их более повествовательными. Но надо заметить, что мастер XV в., прибегнувший к этому приему, поступал весьма произвольно. Он не столько превращал одноколончатые рисунки в двухколончатые, сколько механически соединял двухколончатые рисунки, причем нередко соединял рисунки с разновременными событиями1 2. Таким образом, в творческий актив его можно записать только те композиции, которые он действительно «расширял» по сравнению с оригиналом (листы 19, 32, 34 об. верх, 39 низ, 40 об. верх, 83 низ, 79 об. и др.)3. Но и это уже существенно. Смотря на эти миниатюры, мы понимаем характер художественного мышления автора иконы «Битва новгородцев с суздальцами». Он отправлялся от такого же принципа фризовой композиции. Все сказанное относится к работе первого мастера Радзивиловского списка, более близкого в своем творчестве к оригиналу.
Второй мастер, работавший «по следам» первого, ввел более совершенные фризовые композиции, но главное его новшество состояло в том, что он исторически конкретизировал все фигуры посредством одежд и головных уборов, четко соблюдая «табель о рангах»4. Он обнаружил немалые этнографические познания, а также знакомство со спецификой жизни русских княжеств. Ему же принадлежат различные западные элементы, сопро¬
1 О. И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей, стр. 54—55.
2 Там же, стр. 54—55.
3 Там же, стр. 56.
4 Там же, стр. 64.
247 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
вождающие преимущественно миниатюры владимиросуздальского цикла.
В миниатюрах Радзивиловской летописи пространство воспроизводится в более развитом чувственно-осязаемом виде, нежели в Хронике Георгия Амартола. Хотя
59 целое все еще воспроизводится по части, но эти части
60 вырастают подчас до картины площади, показанной к тому же в перспективе. Впервые мы ощущаем городское пространство как некое художественное явление.
Если к сказанному прибавить элементы природы и при- рисовку к миниатюрам различных аллегорий, то исторический жанр рисунков Радзивиловского списка выглядит несравненно более развитым именно исторически, нежели миниатюры Хроники Георгия Амартола.
На миниатюрах Радзивиловской летописи можно видеть, как общие достижения искусства XV в., прежде всего в области персонального жанра, способствовали совершенству рисунка человеческих фигур и даже типажа лиц. Это относится к работе второго мастера, исправлявшего рисунки первого. Стоит отметить его пристрастие к округлым контурам голов с небольшой и окладистой бородой, чем-то напоминающим рисунок голов у Рублева. Исторический жанр, с своей стороны, развивал наблюдательность, прививал «вкус с реалиям». Соприкосновение сферы иконописи с миниатюрой несомненно ускоряло развитие «элементов реалистичности» в больших формах искусства. Исторический жанр играл здесь ту же роль, какую в житийном жанре играли бытийные сцены в клеймах.
Система жанров искусства эпохи Андрея Рублева и Дионисия обусловливалась развитием двух начал: индивидуального и государственного.
В начале XV в., во времена Рублева, индивидуальное начало преобладало. В это время строятся храмы-мавзолеи, с которыми связывалась память об определенной выдающейся исторической личности. В живописи — в житийном, персональном, деисусном, даже в эсхатологическом жанре — всюду акцентируется тема нравственной возвышенности человека, предполагающей свободу личной воли. Это было время наиболее разноаспектных характеристик образа человека в искусстве, сопровождавшихся реалистическими наблюдениями, свободной
248 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
композицией. В иконах довольно часты профильные изображения действующих лиц, причем не второстепенных, а заглавных, как, например, апостолов в «Вознесении» или «Омовении ног» и т. п. Это заставляет вспомнить фрески Джотто. В Звенигородском чине Андрей Рублев достиг высшего предела тонкости и проникновенности индивидуальной характеристики в рамках вполне земного идеала, так что о какой-либо спиритуализации говорить уже не приходится.
Здесь нужно отметить, что в жанрах искусства XV в. произошла своеобразная нивелировка психологических типов. Но не в том смысле, что они стали «массовыми», как в легендарно-историческом жанре XIV в. Нет. Речь идет о широком внедрении почти во все жанры субъективированного типа с эмоционально-философским оттенком. Господство его в персональном жанре вполне понятно. Но он стал характерным и для других жанров, даже для легендарно-исторического. Таким образом, правильнее говорить не о нивелировке типажа, а о расширении одного главного типа — субъективированного эмоционально-философского. Разработанное Д. С. Лихачевым применительно к характеристике человека в литературе Руси XV в. понятие «психологической умиротворенности» 1 очень подходит к определению рассматриваемого типа, особенно если понимать эту психологическую умиротворенность в свете «московской калокагатии», предполагающей, конечно, не «ослабу» (Нил Сорский), а внутреннюю собранность.
Я думаю, что в рамках выявленного типа можно было бы наметить интересную дифференциацию на собственно философский, мыслительный и эмоциональный типы в зависимости опять-таки от жанров (и поджанров), но это — задача будущего.
Следует обратить внимание на то, что мы ничего не говорили о тератологическом жанре. Он очень быстро сошел на нет. Конечно, «рецидивы» его еще имели место, они будут встречаться еще и в XVI в., но прежде всего в окраинных областях русского искусства (например, в Рязани). Но именно в силу исчезновения тератологии мы имеем основания сказать, что все жанры искусства примерно до середины XV в. были подчинены идее осо¬
1 Д. С. Лихачев, Человек в литературе Древней Руси, стр. 93 и сл.
249 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
бого значения человеческой личности, ее самостоятельности и неповторимости. Поэтому положение жанров в общей системе было одинаковое, равное. Это была эпоха классического «равновесия жанров» под эгидой персонального жанра.
Взаимоотношение жанров изобразительного искусства и архитектуры развивалось в рамках того же «равновесия», то есть архитектура не маскировалась живописью. Пример классического сочетания живописи с архитектурой показал все тот же Андрей Рублев в своей росписи владимирского Успенского собора (вместе с Даниилом Черным) Даже в конце XV в., у Дионисия, фигуры росписей связываются с архитектурой здания посредством чрезвычайно тонкой символизации архитектурных фонов, которые выступают как некое промежуточное архитектурное звено. Особенно гармонично связана с фигурными сценами архитектура фонов в клеймах житийных икон Петра и Алексея. Архитектурное начало пронизывает не только все клейма, но и средники икон, уподобляя фигуры митрополитов образу храма 1 2. В связи с этим обостренным «чувством архитектуры» еще раз вспоминается, как неправ был Ф. И. Буслаев, говоривший о великой розни между древнерусской живописью и зодчеством.
Однако уже во второй половине XV в. жанровая система русского искусства подверглась заметным изменениям. Все большее и большее значение стали приобретать различные виды гимнографии, молений, предстояний, акафистные и другие церемониально-репрезентативные, отчасти исторические темы. Идеи репрезентативности проникли в житийный жанр. Они завладели и архитектурой.
Это не было отрицанием достижений искусства «эпохи Андрея Рублева». «В течение всего этого времени имя Рублева продолжает сохранять свою притягательную силу. Одухотворенная красота его образов вдохновляет мастеров Ивана III»3. Но если Рублева привлекал прежде
1 В. Н. Лазарев, Живопись и скульптура великокняжеской Москвы.— «История русского искусства», т. Ill, стр. 133; М. В. Алпатов, Андрей Рублев, M., 1959, стр. 17.
2 И. Е. Данилова, Житийные иконы Петра и Алексея... — ТОДРЛ, т. XXIII, стр. 209—212.
3 M. В. Алпатов, Всеобщая история искусств, т. Ill, стр. 228.
250 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
всего образ человека с его нравственным миром, то теперь художники едва успевают создавать многофигурные композиции, которые мощным хором возносят славу и похвалу божеству, а через него — молодому, но сильному Московскому государству. Физическая динамика сменилась «динамикой музыкальной». Предстояния, шествия многочисленных фигур, еще более удлиненных, чем у Андрея Рублева, как бы парящих в воздухе и сливающихся с вертикалями столбов и оконных проемов, вызывают ощущение намеренной «протяженности образа», в известной степени напоминающей ту самую протяженность гласных звуков в церковном пении, которая заменила собою полугласные и образовала так называемое хомовое пение х.
Последнее обычно квалифицируют как нечто вырожденческое1 2. В XVI—XVII вв. так оно и было. Но вряд ли будет правильным давать подобную оценку всему явлению, особенно тому этапу, когда протяженностью гласных стремились выразить настроение приподнятости. Всякое начинание можно исказить, не обладая чувством меры. Были и художники, которые удлиняли фигуры еще более, чем Дионисий. Мы не собираемся оправдывать их. Здесь происходило то же самое, что в хомовом пении. Но в лучших произведениях века этот своеобразный «готицизм» был не формальной, а глубоко мировоззренческой чертой. Он ставил человека над бытом, как бы открывал ему путь во вселенную.
Такое отношение к изображаемому должно было расширить понимание пространства, и у Дионисия оно действительно отличается свободой, особенно в многофигурных сценах. При этом конкретность вовсе не утрачивается, как это можно было бы предполагать, исходя из стиля. Она даже увеличивается. Можно отметить попытки перспективных построений, в частности у арок показывается внутренняя кривая поверхность.
Гимнографический жанр прекрасно синтезировал возвышенное с земным. По-видимому, этот синтез был характерен для всего искусства XV в. Даже такой жанр,
1 Н. Финдейзен, Очерки по истории музыки в России, т. I, вып. 1, стр. 91—92.
2 А. Преображенский, Культовая музыка в России, стр. 31 и сл.; Т. Ливанова, Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры, М., 1938. стр. 46—47.
251 ГЛАВА VI ВТОРОЙ ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В. ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
как исторический (миниатюры Радзивиловской летописи), пронизан какой-то подчеркнутой торжественностью, словно любая сцена вокняжения, передачи власти, посольства, исполнения поручения, встречи, беседы и т. п. имеет подпись: «любуйся мной и запомни!» Такова сила побеждающей государственности, которая в то время, в условиях тяжелой борьбы с сепаратистскими тенденциями, воспринималась, очевидно, как «торжество справедливости». В этом торжестве уже проявлялись и отрицательные моменты, сковывавшие непосредственную свободу и искренность творчества, вносившие в него холод официозности. Начали проявляться и апокалипсические настроения К Во всем этом угадываются контуры и дух искусства трудного XVI в. 11 По церковному летосчислению, в 1492 г. должно было сравняться 7000 лет от создания мира, за чем ожидался «конец света».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, древнерусское искусство вовсе не занимает какого-то исключительного положения среди других искусств в смысле его связей с реальной жизнью. Основой этой связи была многогранная духовно-практическая потребность в художественном закреплении различных аспектов отношения к действительности, в том числе и фантастических представлений о ней. Различные аспекты рождали определенный строй художественных образов, определенное смысловое их содержание, то есть каждый из аспектов имел свой предмет изображения, свое понимание изображаемого (иконология), что накладывало заведомо обусловленные избирательные ограничения на сюжет, выбор фигур, их функции и характеристики, на тип внешних и внутренних связей между фигурами и т. д. Это в свою очередь обуславливало композицию, пространственно-временные параметры и все прочие элементы изображения. Все, вместе взятое, образовывало сложные художественные структуры, лишь внешне закрепленные графической традицией (иконография). Внутренние содержательные формы, структурные (в зависимости от аспекта) типы мы и называем жанрами, а наиболее архаичные из них — протожанрами.
Структурные типы были довольно «жесткими». Это вовсе не означает, что между жанрами были какие-то китайские стены. Жанровые структуры были «жесткими» в смысле соответствия формы содержанию. Но между определенно выраженными жанрами были различные многогранные, подчас едва уловимые переходы или своего рода «промежуточные жанры». Известно, что такими переходными жанрами очень богата культура средневековья. Для них уже тогда было выработано специальное название — «промежуточный род»1. 11 «Памятники средневековой латинской литературы IV—IX веков», М., 1970, стр. 15—16.
253 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сказанное относится и к светским жанрам, с той лишь разницей, что «иконология» и иконография не имели здесь столь ограничивающего значения, как в культовых формах.
Выделение и беглое рассмотрение одних только ранних жанровых структур древнерусского изобразительного искусства X—XV вв. позволяет все же сделать некоторые выводы исторического и теоретического характера.
Начнем с теоретических выводов.
1. Жанр представляет внутреннюю форму художественного произведения. Структура этой формы объединяет произведения подобного рода, делает их одножанровыми.
2. Жанр искусства может иметь свой «жанровый стиль», который, в зависимости от актуальности и популярности жанра, способен оказывать воздействие на другие, прежде всего родственные жанры. Таким образом, жанр наряду с идейно-тематическим содержанием и образной системой выступает в качестве фактора стиля.
3. Вместе с тем жанр может определяться господствующей стилевой тенденцией, то есть выступать не только фактором, но и носителем стиля, каковым ни идейнотематическое содержание, ни образная система прямо не являются.
4. Композиция представляет низший уровень жанровой структуры художественного произведения, но тоже является важным носителем стиля.
Все отмеченные особенности жанровой проблемы подчиняются общей теории стиля и могут сыграть большую роль при разработке теории древнерусского искусства.
К наиболее важным историческим выводам относятся:
I. Многообразие жанровых форм древнерусского искусства.
Выделенные нами ранние формы были достаточно богаты и развиты, чтобы охватывать все стороны духовной жизни: догматическую, повествовательную и репрезентативную. Соответственно этим важным сторонам и группировались жанры, образуя своего рода жанровые ассоциации. Воспроизведем эти ассоциации в синхроническом разрезе.
17
[Проблема жанров)
254 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
A. Жанры символико-догматизирующие.
Сюда входят: обрядово-космогонический и эпико-дидактический жанры славянского искусства; символикодогматический, лирико-догматический, а также символико-похвальный, похвально-космогонический, символикофилософский, деисусный, собственно символический, символико-литургический, эсхатологический и гимнографический жанры искусства XI—XV вв.
Б. Жанры повествовательные.
Они включают: сказочно-эпический жанр славянского искусства; легендарно-исторический (с поджанром чудес), исторический, приточный (паремийный), символикогероический, придворно-увеселительный, обрядово-бытовой и житийный жанры.
B. Жанры репрезентативные.
Здесь объединяются: персональный (с переходом в портретный), ктиторско-патрональный.
Вне жанровых групп остались жанры атрибутивный, тератологический и т. п. При детальной разработке классификации и они, конечно, найдут свое место. Сейчас это не представляет большой важности.
II. Специфичность пространственно-временных представлений.
Последние вовсе не были «эпохальными», как думают некоторые исследователи, но находились в тесной зависимости от жанра. Для символико-догматизирующих жанров, а также для персонального жанра характерны вневременные и внепространственные представления как выражение «вечности». В области повествовательных жанров пространственно-временные представления тяготели к историзму, как бы он ни был условен и ограничен.
По всей вероятности, пространственно-временные представления уже в рассматриваемое время были более дифференцированными, но для утверждения этого нужна специальная исследовательская работа.
Конечно, пространственно-временные концепции развивались исторически, причем влияли друг на друга (опять-таки в зависимости от жанра!), но поступательное движение состояло не в смене одной концепции другой, а в постепенной конкретизации всех их.
III. Для каждой жанровой группы свойствен свой тип человеческого образа (образа святого, божества). Поскольку такая типология применительно к древнерусско-
255 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
му искусству совершенно не разработана и, следовательно, не существует необходимой терминологии, то я прибегал в некоторых случаях к психологическим характеристикам К. Г. Юнга, что, естественно, не удовлетворяет требованиям строгости. Здесь есть неизбежные натяжки, но важно положить начало жанрово-аналитическому подходу и в этой сложной области В дальнейшем здесь необходимы уточнения.
Все же и сейчас мы можем сказать, что:
а) Для символико-догматизирующих жанров характерен в основном концепционный, а не событийный тип человека (образа), все более отходящий в сторону собственно персонального по мере выключения его из сюжетных связей. Субъективное и объективное в нем находится в сложном взаимоотношении. Про такие образы, как Пантократор в куполе Киевской Софии или Оранта в апсиде того же храма, нельзя сказать, что они субъективированы. Но они и не целиком растворены во внешнем. Развитие здесь шло в сторону субъективизации, и, например, звенигородский «Спас» Андрея Рублева гораздо больше субъективирован, нежели объективирован.
б) Для повествовательных жанров характерен преимущественно событийный тип, выражающий себя главным образом вовне, во взаимоотношении с окружающими объектами.
в) Наконец, репрезентативные жанры характеризуются господством персонального типа, психологически наиболее самоуглубленного и субъективированного.
Для более наглядного доказательства того, что выделенные нами жанровые образы-типы действительно являются жанровыми, рассмотрим их кратко на материале одного образа, например апостола Петра.
Иконографические признаки апостола Петра хорошо известны. Но как по-разному трактован его облик в рассмотренных нами жанрах! В легендарно-историческом 63 жанре, например, в «Преображении», он выступает как одно из активно действующих лиц, лучше сказать — 11 Возможно, что очень полезной окажется персонологическая классификация А. М. Пятигорского и Б. А. Успенского (А. М. Пятигорский и Б. А. Успенский, Персонологическая классификация как семиотическая проблема. — «Труды по знаковым системам», 3, стр. 7—29), но для этого нужно, чтобы она была не столь схематично изложена.
17
256
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
фигур, так как все внимание художников обращалось именно на трактовку фигуры, ее позу, жестикуляцию и т. п. Фигура Петра отмечена большой естественностью. При этом, как мы видели, в легендарно-историческом жанре были возможны и профильные изображения Петра.
В символико-догматическом жанре («Евхаристия») естественность позы уменьшается, увеличиваются черты церемониальности: движения и жесты приобретают характер величайшей благоговейности. Они соотносятся с движениями и жестами соседних фигур уже не по событийному, а по концепционному признаку. Профильное положение фигур еще принципиально возможно, но изображение ее в падении, как в «Преображении», совершенно недопустимо. Ведь в символико-догматическом жанре изображалось нечто вечное...
В деисусном жанре апостол Петр — один из самых важных ходатаев за спасение людей. Он тоже склонен, как и в «Евхаристии», но в этом склонении нет растворения личности, апостол сохраняет свое высокое достоинство. Проявление внутренних чувств достигается не столько согбением всей фигуры, сколько сосредоточенным склонением головы. В выражении лица все увеличиваются черты индивидуальной духовной и душевной жизни.
Наконец, в персональном жанре в лике Петра слилось и всеобщее и конкретное. Это и «столп христианства», и «камень веры», и проповедник, и мученик, и даже — просто человек, однажды отрекшийся от Христа. Отсюда богатство психологических характеристик, репрезентативность, «портретность» и... фронтальность.
Конечно, это весьма огрубленная картина жанровых образов-типов. Надо учитывать, что разделение жанров и образов-типов на три группы сделано только для упрощения задачи. На самом деле, как уже говорилось, между жанрами были тонкие и даже тончайшие переходы. Эти переходные жанры и жанровые типы подчас составляли довольно яркие явления, которые можно было бы выделить в самостоятельные жанры. Например, такие жанры, как лирико-догматический, символико-похвальный, похвально-космогонический, гимнографический— скорее промежуточные. Лирико-догматический находится между символико-догматическим и персональным, а другие тяготеют к символике. Промежуточными
257 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
являются эсхатологический, ктиторско-патрональный, а также символико-героический. В соответствии со сказанным чрезвычайно усложняется типаж.
Наконец, нельзя забывать и о том, что некоторые жанры древнерусского искусства являются, по существу, двужанровыми, а иногда и многожанровыми. Двужанровыми можно считать житийный и эсхатологический жанры. В них очень сильны легендарно-исторический и персональный компоненты. Символико-философский, похвально-космогонический и придворно-увеселительный жанры явно многожанровые. Их правильнее считать объединительными жанрами с весьма разнообразным типом лиц.
IV. Предлагаемая нами группировка жанров отнюдь не претендует на какое-либо классификационное значение. Такие попытки, как известно, имели место в поэтике и снискали себе «дурную славу» К Значение нашей группировки главным образом рабочее. Поскольку каждый из жанров данной группы обладает своей спецификой, специфической структурой, то, наложенные друг на друга, они образуют своего рода «типовые структуры», учет которых, как нам думается, будет очень полезен при переходе исследования к стилистической проблематике, несомненно самой важной и самой сложной.
Ряд самых общих вопросов стилистического характера возможно было наметить уже в ходе нашего предварительного рассмотрения жанров. Те понятия «фронтальности», «иератичности», «спиритуалистичности», «внепро- странственности» и т. п., которыми часто характеризуются особенности византийского и древнерусского искусства, оказываются вовсе не общезначимыми, а свойственными только некоторым жанрам. Следовательно, применять их для общей характеристики древнерусского искусства нельзя, что уже сейчас заставляет работать исследовательскую мысль в поисках более точных, адекватных искусствоведческих категорий.
Нельзя применять для общей характеристики древнерусской живописи и понятие строгой иконописности. Недавно по этому вопросу высказался Г. И. Вздорнов, правильно отметив, что традиционное понятие строгой иконописности разрушается уже такими произведениями, 11 М. Верли, Общее литературоведение, стр. 100.
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
как знаменитая псковская икона XIV в. «Собор богоматери» !, кратко проанализированная нами в пятой главе. Исходя из жанровой проблематики, аргументацию Г. И. Вздорнова можно уточнить. Иконописность не была свойственна прежде всего повествовательным жанрам.
V. В результате рассмотрения жанров древнерусского искусства выявилась неравномерность, точнее, несин- хронность их возникновения и развития. Мы видели, что система жанров XI в. обходилась без эпического, житийного и гимнографического жанров. Последние два начали развиваться в XIV в., причем раньше стал набирать силу житийный жанр. Эпический жанр возродился в малых формах искусства в XII—начале XIII в., но позднее снова угас.
После татаро-монгольского нашествия сошли на нет символико-похвальный, похвально-космогонический и символико-философский жанры, зато родился и получил развитие тератологический жанр. В XV в. и он угас, но расцвела гимнография.
Если представить все жанры в виде нескольких параллельных линий, мы увидим, что одни линии на определенном участке обрываются, в то время как другие имеют продолжение. Некоторые линии берут начало позднее других. Генеральными можно признать лишь символико-догматический, легендарно-исторический и персональный жанры (с промежуточным лирико-догматическим), причем историческое начало постепенно стало возобладать над легендарным, а в персональном жанре лирическое оттеснило на второй план импульсивное, абстрактно-драматическое.
VI. Намеченная картина, как нам думается, способна стать отправной для анализа стилистической эволюции древнерусского искусства. Во всяком случае, при переводе анализа из синхронического плана в диахронический обнаруживается, что мы не можем назвать ни одной такой черты древнерусского искусства, которая могла бы исчерпывающим образом определить его стиль. Следовательно, стиль этот не был единым.
VII. Поскольку в установлении жанровых систем гораздо больше объективности, нежели в различных сти- 11 Г. И. Вздорнов, Живопись. — «Очерки истории русской культуры XIII—XV веков», ч. 2, стр. 279.
259 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
листических характеристиках, применяемых без учета жанров и поэтому в известной степени «априорных», то, отправляясь от жанровой ситуации рассматриваемой эпохи в развитии искусства, мы получаем возможность приблизиться и к определению стиля если не во всех его категориях, то хотя бы в преобладающем характере.
Выше уже указывалось, что каждый из жанров образовывал как бы свой «жанровый стиль», соответственно тому как это было и в средневековой литературе. Исследователи, например, употребляют понятия «символический стиль», «житийный стиль» и т. п. Поскольку сумма жанров каждой исторической эпохи обладала общим «жанровым духом», то это означает не что иное, как преобладание какого-либо одного из «жанровых стилей», который так или иначе сказывался и на других жанрах. Таким образом, жанровые стили как некое первичное полужанровое-полустилевое явление через своеобразную трансформацию переходили в явление высшего художественного порядка, образуя преобладающий стиль. Следовательно, для понимания преобладающего стиля далеко не безразлично, каков был «общий жанровый дух» эпохи. К сожалению, мы не можем здесь углубляться в вопросы стиля, так как для этого требуется особая работа.
VIII. Значение жанров для проблемы стиля имеет и более конкретную сторону, если мы будем рассматривать жанровую эволюцию не суммарно, а дифференцированно. Конечно, наибольшей внутренней динамичностью отличались повествовательные жанры, они были главными носителями «элементов реалистичности», больше всего сделали для приближения иконы (или религиозной фрески) к будущей картине. Именно здесь разрабатывались художественные идеи пространства, драматического действия, эмоционального взаимоотношения персонажей и т. д. Отсюда со временем выйдут батальный и бытовой жанр, а также пейзаж и даже натюрморт. Немало вложил в этот процесс и персональный жанр, без субъективированного типажа которого был бы немыслим переход к портрету. В указанных жанрах развивались и некоторые эпические черты — лирико-героические образы змееборцев, олицетворения, поэтическая метафоричность вообще. Пронизанность всей древне¬
280 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
русской живописи «эпическим началом» 1 жанровой проблематикой не подтверждается. По-видимому, эпичность надо понимать более конкретно.
IX. Значение жанров особенно ощутимо при изучении отдельных произведений. Нередко мы применяем к тому или иному памятнику критерии, которые в жанровом отношении к нему совершенно не подходят и не могут подходить. Это относится не только к таким крупным категориям, как пространство, время, но и к более узким, как, например, типаж лиц. Анализируется, к примеру, икона легендарно-исторического жанра, а к типажу лиц применяются «мерки», приложимые для персонального жанра. В качестве наиболее разительного случая можно привести атрибуцию иконы «Успение богоматери» (на обороте «Донской»), которую приписывали кисти Феофана Грека главным образом на основании «сходства» лиц апостолов с феофановскими образами. Л. И. Лиф- шиц убедительно доказал, что как раз этого сходства и нет 1 2. Его и не могло быть, так как лица иконы — произведения легендарно-исторического жанра, для которого характерен не персональный, а событийный типаж,— сравниваются с сугубо субъектированными образами персонального жанра. Внимательный анализ показал, что, в отличие от Феофановых индивидуальностей (типов- характеров), в иконе «Успение богоматери» господствует «психологическая схема». И это вовсе не потому только, что мастер иконы был слабее Феофана, но в силу именно жанрового закона, в данном случае закона легендарноисторического жанра.
Отмеченное обстоятельство может сыграть немаловажную роль, если еще раз вернуться к рассматриваемой иконе и проанализировать ее стиль под углом зрения возможной жанровой трансформации его тем же Феофаном. Но для этого надо привлечь родственные в жанровом отношении произведения великого художника.
В заключение коснемся некоторых методологических вопросов. Поставленные в нашей работе и частично освещенные проблемы жанрообразования в древнерусском
1 См.: М. В. Щепкина, Эпическое начало в древнерусской живописи. — «Состояние и задачи изучения древнерусского искусства» (тезисы докладов научной конференции), М., 1968, стр. 33.
2 Л. И. Лифшиц, Икона «Донской богоматери», стр. 101 и сл.
261 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
искусстве, конечно, далеко не исчерпывают этой сложной области. Здесь предстоит очень большая работа, направленная не столько на выявление жанров, сколько на выяснение их структуры. В процессе этой работы картина выявленных нами жанров, несомненно, изменится, какие- то жанры объединятся в один жанр, другие, может быть, разъединятся. Это уже не принципиальные вопросы, и возможные разногласия здесь не могут поколебать существования самой жанровой проблематики. Главные трудности лежат не на этом пути, а на пути применения все более точных формулировок и конструктивных высказываний, снова и снова подводящих нас к вопросам объективной «морфологии» искусства. Сейчас мы можем выделить только такие элементы структуры жанров, как выбор фигур, характер их типажа, поведения и взаимоотношений, развертываемых в той или иной пространственно-временной среде. Но этого явно недостаточно. Необходимо введение в исследование достаточно объективных и однозначных понятийных категорий, гарантирующих от все еще разъедающей нашу науку субъективности выводов. Я имею в виду вовсе не так называемую «формализацию языка» древнерусской живописи, хотя кодифицированность средневекового творчества представляет в этом отношении большой соблазн для сторонников семиотического подхода к искусству. Но «язык» живописи, даже средневековой, — не знаковый язык. Более того. В нем нет таких смысловых единиц со строго фиксированным значением, каковыми в естественном языке являются слова. Но раз нет смысловых единиц, то нет и так называемого «синтаксиса» живописного «языка». «Грамматика» живописи несравненно сложнее грамматики обычного языка, и всякие «синтаксические» построения в этой области просто наивны.
Но и не прибегая к этим «увлечениям века», можно попытаться применить в исследовании древнерусской живописи, например, такое понятие, как функция. Функция образов древнерусской живописи — элемент довольно постоянный и однозначный для всех жанров, то есть, как говорят, инвариантный. Поэтому, хотя функция различается согласно жанрам, ее можно считать своего рода «законом». Можно говорить о функции взаимоотношения (легендарно-исторический жанр), о функции явления (символико-догматический жанр), о функции
262 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
репрезентации (персональный жанр), предстояния (де- исусный жанр) и т. д. Часть функций поддается дифференциации. Например, предстояние бывает сакральноабстрактным (деисус), соединенным с действием (гимно- графия) или с подношением (ктиторский жанр). Здесь бегло намечены лишь те функции, о которых прямо или косвенно шла речь в нашем исследовании. Но несомненно, что эта сторона вопроса может быть разработана более точным образом.
Конечно, понятие точности тоже относительно. Наметившиеся в последнее время стремления к всемерному «уточнению» уже имеют свою отрицательную сторону. Не следует забывать, что сами точные науки далеко не так точны, как кажется нам, представителям гуманитарии. «Математика и теоретическая физика точны в том смысле, что всякое положение этих наук неизбежно и единственным образом вытекает из некоторых предыдущих положений. Но это вовсе не значит, что эти науки рисуют картину, абсолютно точно соответствующую реальности. Больше того, ни одна математическая концепция не отражает реальной действительности абсолютно точно»г. Что же после этого сказать об искусствоведении? Только одно: дело заключается не в количественной, цифровой точности, следовательно, не в пресловутой «математизации», а в точности логической, с чем связана точность и морфологическая.
Само собою разумеется, что единственным критерием здесь может быть материал самих художественных систем и структур, специфика этого материала, которая для изобразительного искусства всегда будет заключаться в образности. Все попытки заменить сложное понятие образа простым понятием знака ничего не дают и не дадут искусствоведению, кроме модной фразеологии 1 2, по одному тому хотя бы, что «когда речь идет о знаке как таковом, то собственное содержание созерцания и то, коего оно является знаком, не имеют между собой ничего общего»3. Это положение великого диалектика никто еще не оспорил. Замена понятия знака
1 В. Н. Тростников, Человек и информация, стр. 60.
2 Ср.: А. С. Бушмин, Методологические вопросы литературоведческих исследований, Л., 1969, стр. 78.
3 Гегель, Энциклопедия философских наук, т. Ill, М., 1965,
стр. 265—266.
263 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
понятием «изобразительный знак» тоже лишь обедняет понятие образа. Сказанное относится и к символу.
Как уже говорилось в своем месте (см. главу V), понятие символа гораздо полнее, нежели понятие знака. Символы чаще всего имеют изобразительную природу, но и они не адекватны понятию образа, уже него. К тому же не все образы древнерусского искусства символичны. Поэтому и символы нельзя брать за основу формализации.
Опыт некоторых семиотических штудий показывает, что наряду с разработкой очень ценных частных вопросов стремление во что бы то ни стало формализовать живой процесс истории искусства и гипертрофирование различных схем и формул не только искажают исследуемый процесс, но подчас подчиняют его математическим абстракциям, как это имело место и в структурной лингвистике !. Структура — это все же не вся система. Изучая структуру, мы овладеваем каким-то определенным «срезом» системы, которая к тому же развивается, следовательно, меняет свою структуру. В этом свете изучение жанров древнерусского искусства может явиться гарантией от отождествления упрощенной структуры с живой системой, поскольку жанры и являются конкретным выражением и структуры и системы искусства одновременно.
Перед исследователями жанровой структуры и системы древнерусского искусства открываются очень широкие перспективы, и нет сомнения в том, что уже в ближайшее время здесь будут сделаны важные и интересные открытия. Вместе с этим и наука о древнерусском искусстве станет подлинно современной наукой.
1 Г. П. Мельников, Азбука математической логики, М., 1967, стр. 96—98.
список
ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1 Языческий чин. Подвеска-гребень.
X в. ГРМ.
2 Конек.
Подвеска-амулет.
XI в. Эрмитаж.
3 Гусь.
Подвеска-амулет.
XI в. ГИМ.
4 Сказочнобылинная сцена.
Турий рог
из Чернигова.
X в. ГИМ. Прорись.
5 Сказочнобылинная сцена.
Турий рог
из Чернигова.
Прорись. Фрагмент.
6 Збручский идол.
X в. Краков.
Исторический
музей.
7 Хризма с предстоящими грифонами.
Роспись Киевской Софии. XI в.
Рисунок
Ф. Г. Солнцева.
8 Евангелист Марк.
Мозаика Киевской Софии.
XI в.
9 Христос-Вседержитель. Мозаика Киевской Софии. XI в.
10 Схема подкупольной и апсидной росписи Киевской Софии.
11 Тайная вечеря.
Роспись Киевской Софии.
XI в. Прорись.
12 Евхаристия.
Мозаика Киевской Софии.
XI в. Фрагмент.
13 Богоматерь.
Мозаика Киевской Софии.
XI в. Фрагмент деисуса.
14 Христос-священник. Мозаика Киевской Софии. XI в.
15 Святительский чин. Мозаика Киевской Софии.
XI в. Фрагмент.
16 Богоматерь Одигитрия. Скульптура
из Десятинной церкви Киева. X в.
Киевский ГИМ.
17 Колт
с изображением грифона.
XI в. ГИМ.
18 Князь Святослав с семейством.
Выходная миниатюра
«Изборника
Святослава»
1073 г. ГИМ.
19 Цирковые игры. Роспись Киевской Софии. XI в.
Рисунок
Ф. Г. Солнцева. Фрагмент.
20 Геракл в борьбе
с немейским львом. Рельеф
Успенского собора
Киево-Печерской
лавры.
265 СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
XI в. Музей- заповедник «Киево-Печерская лавра»
21 Браслет
со сценами русалий.
XII в. ГИМ.
22 Чудо св. Георгия о змие.
Роспись церкви св. Георгия в Старой Ладоге.
XII в.
23 Богоматерь великая Панагия.
XII в. ГТГ.
24 Спас Нерукотворный. XII в. ГТГ.
25 Страшный суд.
Роспись Дмитриевского собора во Владимире. XII в. Фрагмент.
26 Богоматерь Владимирская.
XII в. ГТГ.
Фрагмент.
27 Богоматерь Великая Панагия.
XII в. ГТГ.
Фрагмент.
28 Богоматерь Умиление. XII в. Музей Московского Кремля.
29 Богоматерь Оранта с предстоящими. Роспись церкви Спаса Нередицы
в Новгороде.
XII в. Фрагмент и общая схема.
30 Царь Давид
среди зверей и птиц. Скульптура церкви Покрова на Нерли.
XII в.
31 Царь Соломон среди зверей и птиц. Скульптура
Дмитриевского собора во Владимире. XII в.
32 Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Начало XIII в.
Западный фасад. Реконструкция автора.
33 Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Скульптура западного притвора. Реконструкция автора.
34 Князь Святослав Всеволодович. Скульптура Георгиевского собора в Юрьеве-Польском.
35 Собор богоматери.
XIV в. ГТГ.
36 Борис и Глеб с житием. XIV в. ГТГ.
37 Борис и Глеб на конях. XIV в.
Новгородский
историко¬
художественный
музей-заповедник.
38 Илья с житием.
XIV в. ГТГ. Фрагмент.
39 Феофан Грек. Макарий Египетский. Роспись церкви Спаса-Преображения в Новгороде. XIV в.
40 Князь
Ярослав Всеволодович. Роспись церкви Спаса Нередицы в Новгороде. XIII в.
41 Спас Нерукотворный. XIII—XIV вв. ГТГ.
42 Деисус.
Миниатюра грамоты князя Олега.
XIV в. ЦГАДА.
43 Заставка Псалтыри.
XIV в. ГБЛ.
44 Осада Рима галатами. Миниатюра Тверского списка хроники Георгия Амартола.
XIV в. ГБЛ.
45 Вознесение Христа.
XV в. ГТГ.
46 Сергий Радонежский. Шитый покров.
XV в. Загорский
266 ПРОБЛЕМА ЖАНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
историко¬
художественный
музей-заповедник.
Фрагмент.
47 Спас.
XV в. ГТГ.
48 Спас в силах.
XV в. ГТГ.
49 Молящиеся новгородцы. XV в. ГТГ.
50 Чудо о Флоре и Лавре. XV в. ГТГ.
51 Богоматерь Одигитрия. XV в. Музей древнерусского искусства
имени Андрея Рублева.
52 Св. Георгий с житием. XV в. Музей древнерусского искусства
имени Андрея Рублева.
53 Покров богоматери.
XV в. ГТГ.
54 Архангел Михаил с деяниями.
XV в. Музей Московского Кремля.
55 Борьба Иакова с ангелом.
Клеймо иконы Архангел Михаил с деяниями.
56 Чудо св. Георгия о змие.
XV в. ГТГ.
57 Алексей-митрополит.
XV в. ГТГ.
58 Апокалипсис.
XV в. Музей Московского Кремля. Фрагмент.
59 Город Владимир. Миниатюра Радзивиловской летописи.
XV в. БАН.
60 Князь
Святослав Киевский созывает в поход князей.
Миниатюра Радзивиловской летописи. БАН.
61 Битва новгородцев с суздальцами.
XV в. Новгородский историкохудожественный музей-заповедник.
62 Скоморох, хулящий богоматерь. Роспись Успенской церкви в Мелетове.
XV в. Фрагмент.
63 Преображение.
XV в. ГТГ. Фрагмент.
64 Причащение апостолов. XV в. ГТГ. Фрагмент.
65 Апостол Петр.
Деталь деисусного чина.
XV в. Троицкий собор
Троице-Сергиевой
лавры.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ГЛАВА II ПРЕДПОСЫЛКИ
ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ ИСКУССТВЕ
1
Языческий чин. Подвеска-гребень. X в. ГРМ
18
2
Конек.
Подвеска-амулет. XI в. Эрмитаж
3
Гусь.
Подвеска-амулет. XI в. ГИМ
18
5
Сказочнобылинная сцена. Турий рог из Чернигова. Прорись. Фрагмент
4
Сказочнобылинная сцена. Турий рог из Чернигова.
X в. ГИМ. Прорись
6
Збручский идол.
X в. Краков. Исторический музей
ГЛАВА III ПЕРВЫЙ
ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА КИЕВСКОЙ РУСИ (КОНЕЦ X—XI в.)
7
Хризма с предстоящими грифонами.
Роспись Киевской Софии. XI в. Рисунок Ф. Г. Солнцева
8
Евангелист Марк. Мозаика
Киевской Софии. XI в.
9
Христос-Вседержитель.
Мозаика
Киевской Софии.
XI в.
10
Схема подкупольной и апсидной росписи Киевской Софии.
11
Тайная вечеря.
Роспись Киевской Софии. XI в. Прорись
12
Евхаристия.
Мозаика
Киевской Софии. XI в. Фрагмент
13
Богоматерь.
Мозаика
Киевской Софии.
XI в. Фрагмент деисуса
14
Христос-священник.
Мозаика
Киевской Софии.
XI в.
15
Святительский чин. Мозаика
Киевской Софии.
XI в. Фрагмент
16
Богоматерь Одигитрия. Скульптура
из Десятинной церкви Киева.
X в. Киевский ГИМ
17
Колт
с изображением грифона.
XI в. ГИМ
18
Князь Святослав с семейством.
Выходная миниатюра «Изборника Святослава» 1073 г. ГИМ
19
19
Цирковые игры.
Роспись Киевской Софии.
XI в. Рисунок
Ф. Г. Солнцева. Фрагмент
20
Геракл в борьбе с немейским львом. Рельеф
Успенского собора Киево-Печерской лавры, XI в. Музей-заповедник «Киево-Печерская лавра»
ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА ЖАНРОВ В ИСКУССТВЕ Х|| _ НАЧАЛА XIII в.
21
Браслет
со сценами русалий. XII в. ГИМ
22
Чудо св. Георгия о змие.
Роспись церкви св. Георгия в Старой Ладоге. XII в.
23
Богоматерь Великая Панагия. XII в. ГТГ
24
Спас Нерукотворный. XII в. ГТГ
25
Страшный суд.
Роспись Дмитриевского собора во Владимире. XII в. Фрагмент
26
Богоматерь Владимирская. XII в. ГТГ. Фрагмент.
27
Богоматерь Великая Панагия. XII в. ГТГ. Фрагмент.
28
Богоматерь Умиление. XII в. Музеи Московского Кремля
29
Богоматерь Оранта с предстоящими. Роспись церкви Спаса Нередицы в Новгороде.
XII в. Фрагмент и общая схема
30
Царь Давид среди зверей и птиц. Скульптура церкви Покрова на Нерли. XII в.
31
Царь Соломон
среди зверей и птиц.
Скульптура
Дмитриевского собора во Владимире.
XII в.
32
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Начало XIII в. Западный фасад. Реконструкция автора
33
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Скульптура западного притвора. Реконструкция автора
34
Князь
Святослав Всеволодович. Скульптура
Георгиевского собора в Юрьеве-Польском.
ГЛАВА V СТАРЫЕ
И НОВЫЕ ЖАНРЫ ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ XIII—XIV вв.
35
Собор богоматери. XIV в. ГТГ
36
Борис и Глеб с житием. XIV в. ГТГ
37
Борис и Глеб на конях. XIV в. Новгородский историкохудожественный музей-заповедник
20
38
Илья с житием.
XIV в ГТГ. Фрагмент.
39
Феофан Грек. Макарий Египетский. Роспись церкви Спаса-Преображения в Новгороде.
XIV в. Фрагмент
40
Князь
Ярослав Всеволодович. Роспись церкви Спаса Нередицы в Новгороде.
XIII в.
41
Спас Нерукотворный. XIII—XIV вв. ГТГ
42
Деисус.
Миниатюра грамоты князя Олега.
XIV в. ЦГАДА
43
Заставка Псалтыри. XIV в. ГБЛ
44
Осада Рима галатами. Миниатюра Тверского списка хроники Георгия Амартола.
XIV в. ГБЛ
ГЛАВА VI ВТОРОЙ
ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ
45
Вознесение Христа. XV в. ГТГ
46
Сергий Радонежский. Шитый покров.
XV в. Загорский историкохудожественный музей-заповедник. Фрагмент
47
Спас.
XV в. ГТГ
48
Спас в силах. XV в. ГТГ
49
Молящиеся новгородцы. XV в. ГТГ
50
Чудо о Флоре и Лавре. XV в. ГТГ
51
Богоматерь Одигитрия. XV в- Музей древнерусского искусства
имени Андрея Рублева
ът
52
Св. Георгий с житием. XV в. Музей древнерусского искусства
имени Андрея Рублева
53
Покров богоматери. XV в. ГТГ
21
54
Архангел Михаил с деяниями.
XV в. Музеи Московского Кремля
55
Борьба Иакова с ангелом. Клеймо иконы Архангел Михаил с деяниями
56
Чудо св. Георгия о змие.
XV в. ГТГ
57
Алексей-митрополит. XV в. ГТГ
58
Апокалипсис.
XV в. Музеи Московского Кремля. Фрагмент
59
Город Владимир. Миниатюра Радзивиловской летописи.
XV в БАН
60
Князь
Святослав Киевский созывает в поход князей.
Миниатюра
Радзивиловской
летописи.
БАН
61
Битва новгородцев с суздальцами.
XV в.
Новгородский историкохудожественный музей-заповеди и к.
62
Скоморох,
хулящий богоматерь. Роспись Успенской церкви в Мелетове. XV в. Фрагмент
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
63
Преображение. XV в. ГТГ. Фрагмент
64
Причащение апостолов. XV в. ГТГ.
Фрагмент
65
Апостол Петр.
Деталь деисусного чина. XV в. Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры
Вагнер Г. К.
В 12 Проблема жанров в древнерусском искусстве. М.# «Искусство», 1974.
268 с.; 32 л. ил.
Данная работа является серьезной попыткой поставить и рассмотреть вопрос о значении жанрообразования в древнерусском искусстве. Автор анализирует малоизученные проблемы весьма важной темы понимания истоков русского искусства Широта ассоциаций, глубокое знание памятников древнерусского искусства, средневековой русской литературы, народных традиций, а также современных исследований в области проблем древнерусского искусства позволяет автору разносторонне осветить зарождение ранних форм жанров в русском искусстве и показать особенности их развития вплоть до XV века.
В
80101-089
025(01)74
206-73
7CI
Георгий ПРОБЛЕМА
Карлович ЖАНРОВ Вагнер в ДРЕВНЕ¬
РУССКОМ ИСКУССТВЕ
Редактор Т. Н. Гуковская Художник М. Ю. Бурджелян Художественный редактор М. Г. Жуков Художественно-технический редактор А. А. Сидорова Корректор Т. В. Кудрявцева
Сдано в наб 21/VI 1972 г Подп. в печ. 20/VI 1973 г. А 10882. Форм бум 84 X Ю8'/з2. Бум на текст тип. № 1 Бум на илл. мелованная. Уел печ л. 17,43 Уч.-изд л 18,028. Издательский № 20427 Тираж 10 000 экз
Заказ 6388 Цена 2 р 12 коп Издательство «Искусство», Москва, К-51, Ценной бульвар, 25. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 3 им. Ивана Федорова «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Ленинград, 196126, Звенигородская, 11.
2 р. 12 к.
*
I
i
I
1
\
I
I
АНРОВ В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ